Иван Сотников ДУНАЙ В ОГНЕ Роман
ДУНАЙ В ОГНЕ
Глава первая КРОВНЫЕ БРАТЬЯ
1
Растянувшись в нитку, разведчики больше часу брели чистым буковым лесом. Сквозь сетчатые ветви над ними голубело бездонное небо. Гладкие светло-серые стволы как бы торопились навстречу, и от них рябило в глазах. Золотые реснитчатые листья просто звенели под ногами. Можно подумать, ни войны, ни опасности. А вышли из лесу — все переменилось. Просторное нагорье сплошь усеяно огромными валунами, густо поросшими мхом. Отчаявшись выбраться из опасного лабиринта, тропа нежданно-негаданно бросилась на кручу, взмывшую к самому небу.
Максим Якорев озабоченно огляделся вокруг. Ну, и Гуцульские Альпы! Горы и горы — нет им конца и краю. То встают стеною, то разверзаются пропастью, и из-за каждого уступа того и жди кинжального огня противника.
До крови исцарапав руки, Максим первым, следом за дозором, взобрался на скалу. Залег у обрыва под буком, чтобы видеть, как, выбиваясь из сил, люди цепочкой карабкаются вверх. За буковым лесом отсюда хорошо видны румынские селения. За гребнем же, который бойцы берут штурмом, их ожидает Рахов, Тисса, вся Гуцульщина.
Еще вчера, напутствуя разведчиков, замполит Березин много рассказывал о Закарпатье, и в пути через горы Максим немало размышлял об этом. Родной же, насильно отторженный край. Здесь все в легендах: и тысячелетний подвиг, и тысячелетняя трагедия. Что их ожидает там и что предстоит свершить за тем гребнем? Нет, его одолевало не праздное любопытство. Просто хотелось, чтоб и в боях за горами все отличились геройски, чтоб и туда принесли они свободу и счастье.
Редакция фронтовой газеты заказала Максиму новый очерк. О чем и о ком написать его? Вон как возмужал Глеб Соколов. Бесстрашный воин. А ведь было, как и Максим, боялся голову из окопа высунуть. Было. Теперь же из него стоящий командир выйдет. Или вон Зубчик, неугомонная голова, за ним карабкается. Вроде щупл и ростом не вышел, а семерых стоит. Мал золотник да дорог. По очеркам Якорева Зубца в армии знают. Вон и башкир Акрам Закиров. Такого сапера не скоро сыщешь. Виртуоз хоть куда. Ярослава Бедового Максим проводил особенно долгим взглядом. Вырос новичок. Теперь он не станет плясать под пулями на бруствере окопа, как было в Румынии. Упорный белорус. Только в душе у него еще немало темных пятен, и выводить их ему, Максиму. А Тарас Голев! Старой закалки солдат: и парторг толковый, и бронебойщик что надо. Все герои, и о любом хоть роман пиши, не то что очерк. Да вот беда — о каждом из них все уже написано.
За Голевым карабкалась Оля Седова. До чего у нее большие ласковые глаза! Оля долго пролежала в госпитале и лишь на днях возвратилась в полк. Максим мало знал девушку и всю дорогу присматривался к радистке, невольно сравнивая ее с Верой и Таней. Ни на одну из них Оля не похожа. Вера строга и неприступна, Таня задумчива и сердечна. А у Оли веселый и задорный нрав. У разведчиков сразу глаза разгорелись, и они наперебой ухаживают за нею. Просто проходу не дают. Ну, в обиду себя Оля не даст. Сама кого хочешь обидит. Истинно, птичка-востричка, как ее давно прозвали в полку. Хохочет без умолку. С такой не заскучаешь. А отчаянная какая! Разве о ней написать? Впрочем, тоже не годится. Сейчас всех интересует не вчерашний, а сегодняшний день войны. А что о ней напишешь про сегодня?
Разведчики брали последнюю кручу. По-прежнему ни выстрела. Но стоило их дозорам продвинуться ближе к перевалу, как сверху резанул пулемет. Его оглушительный треск, подхваченный гулким горным эхом, раскололся на тысячи звуков, и, казалось, не один, а сотни пулеметов рвут и режут воздух. Мгновенно забыв про свои раздумья, Максим подавал команду за командой. Однако скоротечный бой затих также внезапно, как и начался.
Сбив немецкий заслон, бойцы вымахнули на самый гребень.
— Говерла! — донесся до Якорева обрадованный возглас проводника-гуцула.
Ничего подобного Максим нигде не видел. Присев у порога ветхой колибы, как зовут тут хижины-землянки гуцульских пастухов, он залюбовался чудесным ландшафтом. Вдали высились три гребня: один над другим, и последний — под облака. Вот они, хмурые Черногоры, и посреди их суровых вершин — величавая Говерла. А вокруг нее гребни окаменелых волн, над которыми нависли сизые тучи, слегка позолоченные косым солнцем. Подпирая их плечами, Поп Иван словно опасался, как бы они не осели на зеленые полонины лугов и серебряные нити горных рек.
— Какой край! — сказал Максим проводнику.
— Ой, як мила Гуцульщина! — отозвался тот, не оборачиваясь, и добавил: — Дуже красна ридна Гуцульщина.
Проводника-партизана бойцы любовно и ласково называют дядя Петро. Максим вскинул глаза и пригляделся к гуцулу. Добрый старикан! Сейчас он стоял в гордой позе, опираясь на свой диковинный самопал, сохранившийся едва ли не со времен опришков Олексы Довбуша, карпатская вольница которого еще два с лишним века назад долго приводила в трепет своих угнетателей. Большой и кряжистый, дядя Петро чем-то напоминал эти горы, что громоздились вокруг. На нем широченный в две ладони кожаный пояс. На крутое плечо небрежно накинут нарядный кожух. На голове обычная шляпа с пером, как это принято в здешних местах. Ридну армаду он встречал, одетый по-праздничному.
— Ты бывал на Говерле? — спросил Максим гуцула.
— Ни.
— А правда, с нее Дунай виден?
— Ни, а Москву, кажут, бачили.
— Москву?.. — изумился Максим.
Старик не ответил. Как можно сомневаться, раз кажут люди.
Солнце нехотя скатилось за кручи скал, и сразу, как бывает только в горах, померк день. На дальнем хребте потухло последнее дерево, только что горевшее в багрянце заката. Дозоры ушли вперед, а разведчики остались с головной заставой, закрепившейся на самом перевале.
Внизу на склонах запылали костры, и на их огонь заявились гуцульские партизаны. Большинство из них просто с палками и ножами, а некоторые и с огнестрельным оружием: или с самопалами, как у дяди Петро, или с мадьярскими и немецкими винтовками. На склонах дальних гор тоже стали вспыхивать костры, вначале немного, потом все больше и больше.
— То партизаны Олексы, то гуцулы, — убежденно произнес дядя Петро. — То огни привета Червоной Армаде.
Олексу Борканюка знает все Закарпатье. И как не знать! Он родился в самом центре Гуцульщины, в большом местечке Ясина, что за хребтом, недалеко от Рахова. Сюда, в родную Верховину, он вернулся в страшные годы хортистской оккупации, чтоб поднять людей на борьбу, и героически погиб здесь, выданный предателем. Героя гор знали и видели тысячи людей. Они читали его листовки и вместе с ним били врага. Им хорошо памятны его предсмертные слова, гордо брошенные в лицо палачам, слова о том, что все равно свет придет с востока.
— Ведал он, оттам, у тий сторони Москва! — объяснял гуцул, указывая за горы. — Ведал, даст она нам життя як свято.
У ближнего костра вдруг зазвучала песня, тихая и мелодичная:
Говерла, Говерла, гора изобилья, Ты первой, Говерла, солнце встречаешь, С ветрами всегда говоришь ты, И думки тебе людские известны.Это песня о сказочной Говерле, о горе-великанше, которую ни обойти, ни объехать; о горе несметных богатств, где пастбища немереные, стада несчитанные, виноградники нетронутые. На горе той сила и счастье людское, только не пускают к нему руки хозяев-чужеземцев, никак не пускают.
Ладная песня слово за словом раскрывала легенду.
— Чуете, колокол? — встрепенувшись, кивнул дядя Петро в сторону гор.
Максим прислушался. В бескрайней тишине, померкшей и неповторимой, отдаленно-отдаленно звучал колокол. То были не редкие удары церковного благовеста и не торжественный перезвон, как сказывают тут, святого праздника. То был тревожный и призывный звук набата, идущий прямо в сердце и заставлявший биться его настороженно и жарко, как бывает перед боем. И не понять, откуда он: то ли из Рахова, что затих внизу у Тиссы, то ли из Ясины, с родины Олексы Борканюка, то ли еще откуда.
— То колокол Говерлы, — убежденно сказал старый гуцул. — Почему звонит, спрашиваете? О том лишь Говерла ведает, да память людская… Чуете, гудит як?
За словами старика чувствовалась красивая легенда, в которой ум и сердце этих гор, и всем захотелось узнать ее.
Проводник-гуцул говорит тихо и торжественно, как о тайне, дорогой и сокровенной. Как знать, было ль то, иль народное сказанье обросло мудрой небылью, а Максиму верилось, было именно так, не иначе.
…Кто знает, когда то было: всякий счет годам потерян. Лишь память гор хранит дивну сказанку про горьку беду. Был на Говерле утес-дыбун: глаз не поднять, головы не запрокинуть. А в городе за ним — замок белокаменный, где жил мудрый русский князь. В мире и дружбе жил он с соседями, на чужую землю не зарился. Сыскались однако лиходеи-ненавистники, до чужого добра большие охотники. На Говерлу стали жадно посматривать. Призадумался князь, самолучших мастеров созвал и повелел им башню-великаншу воздвигнуть, чтоб с нее все Карпаты обозреть можно. Прослышал о том князь стольно-киевский, — серебряный колокол в горы послал. Послал, чтоб по всей краине его призывный звон раздавался. Пуще прежнего раззарились чужеземцы на добро горных людей и, захотев покорить их, с оружием двинулись на Говерлу. Долго и славно бились ее защитники, пока чужеземцы не сожгли города. Огонь проник в башню. Злодеи-пришельцы взревели от радости. Только не стихли еще ликующие клики захватчиков, как грянул гром, и эхо разнесло его по горам и долам. На месте рухнувшей башни взвился столб земли и дыму, выше неба взвился, и никакого колокола враги не нашли — его поглотила своя земля. Но и там у него сохранился голос. В дни больших тягот и бед народных колокол опять звонит по всем Карпатам.
— Чуете, вин знова кличе! — закончил старик. — Ишь, гудит як.
И в самом деле, отдаленно-отдаленно гудели набатные удары колокола. Может, то гуцульские партизаны сзывали своих товарищей для последней решающей схватки; может, они предупреждали об опасности соседние села и горные селения; может, призывно обращались за помощью к армии-освободительнице, идущей из-за гор, — кто знает!
2
Много их на фронте, необычных встреч.
Продвигаясь поутру с дозором, Максим увидел странную процессию горных всадников, спускавшихся крутой тропкой. Впереди ехал священник, за ним молодой гуцул с крестом, потом следовал гроб, именуемый здесь деревищем. Он подвешен на шесте, концы которого привязаны к седлам двух лошадей, идущих друг за другом. Затем гуськом тянулись, вероятно, родные и друзья покойного.
Дозорные вышли к тропе, и все трое молча взяли пол козырек. Ритуальная процессия застыла на месте.
— Слава Исусу! — опомнился первым священник.
— Русские, русские! — пронеслось из конца в конец.
Вместе с гуцулами разведчики вышли к небольшому горному кладбищу. Дорогой выяснилось, хоронили партизана, убитого в горах хортистами. Его сын Павло Орлай скорбно стоит у гроба, словно отрешенный от всего, что здесь происходит.
У Максима защемило сердце. Мигом вспомнился страшный день из давнего, давнего детства. В их дом ворвались тогда белые. Схватили отца, выволокли его во двор к высокому дереву и истерзанного повесили вниз головой. Максим же, перепуганный маленький мальчонка, упал на порог и, бессильный даже кричать, с ужасом глядел, как умирал отец. «Запомни, сынку!» — крикнул ом перед тем, как ему срубили голову. Да разве забыть такое! Оттого ему так и близки горестные чувства юноши-гуцула у гроба отца.
После похорон Павло Орлай подошел к Якореву.
— Возьми с собою, — попросил он. — Отец наказывал: придут русские — будь с ними.
Максим привел его в полк. Гуцул говорит по-русски, знает мадьярский, и его оставили проводником-переводчиком.
Двадцатидвухлетний Павло высок и статен, темноволос. Он лет на пять моложе Максима. Когда рассказывает о своей жизни, его кулаки крепко стиснуты, а в светло-голубых глазах, похожих на чистое верховинское небо, то и дело вспыхивают огоньки, злые и негодующие.
Отец Павло имел крошечное поле в сорок сягов; а сяг — мера небогатая — меньше четырех квадратных метров. Как прожить на такой земле!
— Ось погодите, привезу грошей — будет життя як свято! — подбадривал он жену с сыном, собираясь за океан.
Отцу повезло. Приехал, поправил семью, и снова подался в Америку. Павло подрос, и три зимы бегал в школу. Читал и писал лучше всех. Поощряя способного ученика, учитель устроил его в гимназию. А вскоре отец потерял работу и заболел, перестал слать гроши. Семье пришлось туго, и чтоб учиться, Павло был лесорубом и шахтером, собирал виноград и косил траву, натирал полы в мадьярских особняках.
Словесность в гимназии преподавал суровый с впалыми щеками чех, за строгой наружностью которого скрывалось однако доброе сердце. Мальчиков-украинцев насчитывались единицы. Он по-отцовски любил их и нередко рассказывал им о русской революции. Ничего подобного в учебниках не было. Оказывается, еще в 1918 году в Ясине был создан Гуцульский совет, и он пытался воссоединить Закарпатье с советской Украиной. Помешали англо-саксонские и французские правители. У юных гуцулов вспыхивали глаза. Живое слово учителя будило в них веру в светлые дни. А раз он прочитал им коротенькую выдержку из письма одного крестьянина-украинца, присланного тем в ужгородское отделение чешского департамента земледелия. В нем говорилось: «Дорогой департамент! Дорога принадлежит государству, воздух господу богу, а леса и поля — графу Шенборну; что же я должен делать?»
— Не решать с детьми социальных проблем: это не их дело! — услышали все скрипучий голос отца иерея, бесшумно прокравшегося в аудиторию. Словесник спокойно закрыл книгу.
— Дети должны знать правду! — возразил он иезуиту и, гордо поклонившись, вышел.
Холеное лицо иерея змеилось злорадной усмешкой. Он готовился читать буллу святого отца, и по классу пронесся глухой ропот. Духовный наставник давно изводил гимназистов папскими посланиями, и Павло Орлай, поднявшись с места, не без иронии сказал, как их удивляет такой интерес отца иерея к папским буллам.
— Nil admirari[1], сын мой! — закатывая глаза, ответил иерей.
— Omne nimium nocet[2]! — усмехнувшись, отпарировал юноша.
— Вы попомните мне, негодный! — рассвирепел униат и начал читать буллу Пия XI, призывавшую верующих к крестовому походу против русских.
Схоластическая латынь римского папы вызвала отвращение, и к подготовке уроков никто не притронулся.
— Ужо погодите, — грозил расходившийся служитель церкви, — всем попомню!..
А когда на улицах закарпатских городов стали хозяйничать хортисты, наступили еще более черные дни Закарпатья. Хортисты-мадьяроны, как тут окрестили венгерских реакционеров, вовсе запрещали все родное, национальное.
Вольнолюбивые гимназисты-украинцы собирались небольшими группами и тайно читали Шевченко и Пушкина, Горького и Маяковского, с жадностью ловили каждое слово, напоминавшее о России. На одном из таких собраний Павло с пафосом продекламировал стихотворение, вычитанное им в одном из старых мукачевских журналов:
Я карпатский руснак, Стародавний казак, Сторожил я века наши горы От монгол, янычар, Немчуры и мадьяр, Изнывая без братской опоры. Чуть не тысячу лет Мы страдали от бед, На скалах Прометеем распяты, Но таили огонь, И, сжимая ладонь, Сохраняли для Руси Карпаты.Едва прозвучали последние слова, как распахнулась дверь. На пороге стоял иерей и, потирая, будто намыливая руки, злорадно усмехался:
— En flagran delit![3] — произнес он по-французски свою излюбленную фразу.
Павло Орлая арестовали в тот же день, и для него потекли томительные дни заточения.
Хортистские жандармы день и ночь истязали заключенных. Вместо рассказа об этом Павло молча поднял рубаху, и все увидели красно-лиловую роспись рубцов и ссадин по всему телу.
Через год юношу судили. А в день суда в город ворвались партизаны и вызволили заключенных. Так Павло очутился на свободе. В партизанском отряде его поджидала новая радость: вернулся отец. Он тоже в партизанах. Дома еще не был — в селе жандармский пост, да и далеко до дому. Но в горах уже гудели русские пушки — значит, скоро освобождение, скоро домой. Этим жили все. Да вот отец не дожил до светлого дня и погиб за день до прихода русских.
— Не горюй, Павло, — мягко взял его за руку Максим, — не горюй, дорогой товарищ! Закончим войну, — и дома будешь, и никакой иезуит не помешает тебе учиться. Верь, не помешает!
3
Разбив противника, полк вошел в Рахов. Как и всем, Якореву понравилась гуцульская столица. Здесь все необычно: и торговые ряды с бедной церквушкой на взгорье; и главная улица вдоль реки, где множество лавчонок и магазинов; и журчанье неумолчной Тиссы, что без устали гремит под боком; и горы из любого окна, обступившие Рахов со всех сторон и продвинувшиеся в самый город, улицы которого горбятся на их каменных перекатах. Но особо замечательны люди, родные и близкие. Они обступают каждого солдата, радушно зазывают в мазаные хаты; предлагают молоко и сыр, добры парадички[4] и истекающие соком черницы[5], потчуют всем, что есть лучшего, и никак не понимают, как можно солдату отказаться от стаканчика доброй палинки или сливовицы.
На просторной площадке, неподалеку от базара, большой круг. Акрам Закиров вынес свою красномехую волшебницу и играет пляску за пляской. Пляшут гуцулы с душой, в них много благородного вкуса и темперамента, буйного и неудержимого.
Максим увидел вдруг комбата Николу Думбадзе.
— А ну, мою любимую! — озорно вступил тот в круг, и в глазах его блеснула удаль, которая, хочешь не хочешь, сама собой расправляет твои плечи, выше поднимает голову.
Акрам заиграл лезгинку. Вскинув руки, Никола мелким и плавным поскоком пошел по кругу. Потом осторожно зачастил, ускоряя темп. Еще минута и, казалось, захваченный вихрем искрометного танца, он уже нисколько не располагал собою и весь был во власти неистовой мелодии, что как ветер волну несет его, куда и как ей только хочется.
Молодые гуцулы переглянулись, восхищенно прищелкнув языком, а девушки-горянки невольно подались вперед, и, хоть у каждой из них по-своему екнуло сердце, у всех одинаково ярко запылали щеки. Максим сначала редко через такт, потом чаще и чаще начал подхлопывать в ладоши. Его мигом поддержали десятки бойцов, рассеянных по кругу, а через минуту-другую и весь круг, расцвеченный пестрядью гуцульских вышивок. Когда же Максим вскрикнул «асса», удары рук стали чаще и жарче; «асса», «асса», «асса», — повторяли теперь сотни голосов, накалявшихся все более и более. Сам Никола, если б далее захотел, не мог бы теперь остановить вихревой музыки, стремительно несшей его по кругу. Он весь принадлежал этим людям, так же, как и они, всей душой слитые с ним, тоже не могли б остановить ни рук, ни голоса, ни сердца, если б не волшебник, которому все подвластно и послушно. Он разом оборвал мелодию.
Весь круг неистово зааплодировал, потом будто по команде устремился к центру и, стиснув Николу, поднял его на воздух.
С базара Максим завернул к мазаной хате дяди Петро, где обосновались разведчики. В комнате полно бокорашей, как зовут здесь лесосплавщиков. Они обступили старика Голева, возле которого чинно восседал сам дядя Петро и запросто без прикрас рассказывал о своей жизни. Примостившись на низкой скамейке, Максим оглядел комнату. Как и всюду, стены расписаны поверху вишнями и за потолочные балки заткнуты оранжевые неувядающие купчаки.
— Дякую вам, добре, — благодарил хозяин солдат за махорку и снова продолжал рассказывать.
Еще мальчишкой ушел он из родных мест «долю по свету глядаты». Копал солотвинскую соль, батрачил у венгерских помещиков, был грузчиком в Амстердаме. Много раз его сманивали в пенсильванские шахты, да не поехал: жена померла, с кем Оленку оставить, а везти ее на чужбину боязно. Потому чуть не задарма и пошел в лесорубы к Шенборну.
— Це дуже погано! — беспокойно почесывал хозяин за ухом.
— А пашня е у тебе? — допытывался уралец Голев.
— Е, сорок сягов.
— Тесно живете.
— Ой, дуже тисно, як в деревище, — сокрушался старик.
— Теперь сам будешь хозяином, — сказал Голев. — Не затем пришли мы, чтоб оставить у вас на шее разбойника Шенборна.
— Розумию, друже, розумию.
Шумно распахнулась дверь, и у порога на минуту приостановилась красавица-горянка в ярком праздничном костюме.
— Тату!
Дядя Петро, широко расставив руки, пошел навстречу.
— Оленка! — обнял он молодую женщину и долго не выпускал из рук.
— Я до тебе, тату: пидемо на Тиссу к партизанам на свято. Пидемо, тату! — и только тут Олена увидела вдруг Якорева. — Так то же Максим, тату, Максим, — повернулась она к отцу. — Коли б не пришов вин своечасно, не жити б тоди твоий Олене. Дякуй его, тату. Ну, дякуй же!
Шагнув навстречу, изумленный Якорев весело улыбался. Нет, он никак не представлял, что эта Оленка — дочь дяди Петро.
4
К командиру полка Павло привел Михайло Бабича. Это пожилой гуцул, степенный рабочий с солекопален. Командир отряда ранен, а Бабич его заместитель. Он пришел пригласить офицеров на берег Тиссы пообедать с партизанами.
Андрей Жаров с интересом присматривался к гуцулу. Он худощав, малоподвижен, зато разговорчив. Речь у него живая, то очень степенная, то слишком стремительная, смотря по тому, о чем разговор. Сейчас всю дорогу он рассказывал о партизанах.
Людям до сих пор памятны дни сорок первого года Захлебываясь, хортисты кричали о гибели Москвы. От черных вестей у всякого гуцула холодела душа. Но однажды из-за гор вынырнул краснозвездный посланец. Синие листовки, как голуби, закружились в воздухе. Они принесли самое главное: правду и надежду. Жива большая Родина! И тогда не по дням, а по часам стала расти закарпатская вольница грозных мстителей. И что только не предпринималось, чтоб уничтожить партизанские силы. А они, что трава, росли и росли — на всяком клочке земли появлялись, и громить их отряды карателей не раз поднимались в горы.
Вот и недавно хортисты появились вдруг на Верховине, у гражды[6] Матвея Козаря. Хозяин вовремя заметил карателей, и партизаны скрылись. Хортисты все же арестовали Матвея и его жену Оленку.
— Где партизаны? — пристали они к гуцулу.
— Никаких партизан не знаю, — отнекивался Козарь.
— А кто ж был тут?
— Пастухи-гуцулы, вас испугались.
Большеголовый толстяк махнул рукой, и Оленку привязали к тонкому ясеню, вывернув ей руки за спину. Женщина повисла в полуметре над землею. Матвея, рванувшегося к ней на помощь, отхлестали плетью.
— Не надо, Матвей, не надо, — останавливала его Олена.
— Где партизаны? — подступали к ней каратели.
— Не розумию, ироды.
— Говори, загубим!.. — грозили ей снова.
Большеголовый толстяк с оплывшим лицом, подскочил к ней и, взмахнув клюшкой, зацепил за ворот платья.
— Говори!
Она зло плюнула ему в лицо.
— Ах, так! Вот тебе, вот! — свирепел офицер, срывая с нее остатки платья. — Вот, вот!
У Козаря зашлось сердце, и он зубами вцепился в плечо хортиста. Матвея оторвали и снова иссекли плетью.
— Любишь жену — говори ты! — подступал к нему офицер.
Гуцул молчал.
— Говори.
Матвея секли еще и еще, но он лишь молча извивался под плетью. Сначала боль обжигала его, но скоро тело совсем отупело, он чувствовал только, как в груди глухо отдаются удары. Перед глазами поплыли огненные круги, и он перестал видеть.
Очнулся от холодной воды, которая заливала рот, нос, уши.
— Говори.
Он только посмотрел на свою Олену, все также висевшую на молодом ясене, и у него еще больше сжалось сердце.
— Оленка! — выдохнул он.
Почти нагая, она совсем уронила на грудь голову и висела беспомощная и растерзанная, а на слова Матвея лишь слабо подняла глаза. Каратели ожесточились. Схватив Козаря, они и его подвесили ко второму ясеню против Олены. Затем начали таскать хворост, сваливая его у комлей под ногами своих жертв. «Жечь станут», — мелькнула догадка, и Матвей почувствовал, как холодные капли пота скатываются со лба на щеку, потом на обнаженную грудь. Он взглянул на жинку — и у нее тоже. Она с трудом подняла взгляд, тихо вымолвила:
— Молчи, Матвей! — и голова ее измученно свисла на грудь.
В Олену запустили чуркой, и по лицу женщины заструилась кровь. Каратели подпалили хворост. Большеголовый толстяк подошел к Матвею, под которым уже змеилось пламя, и снова потребовал:
— Говори.
Матвей обвел взглядом горы, и какими особенно дорогими они показались ему теперь. Ведь тут прошла его жизнь. Тут еще мальчишкой, как заведено, отец ставил его лицом к восходу солнца и говорил: — Оттам Россия, Москва; оттам счастье! Сам он не дождался его. В эту землю Матвей закопал отца и мать. Тут он полюбил потом Оленку, первую красавицу на всю Верховину. Сколько побатрачил он, чтоб справить их свадьбу. Вот у них и гражда своя, и кусок поля есть, и свое небольшое стадо. Что еще надо сердцу гуцула! А много ему надо. И пошел Матвей в партизаны, пошел биться за свое счастье. Да вот оно и близко. По всем Карпатам гудят русские пушки. А вот, подишь ты, сгорит Матвей, и пройдет мимо него это жаркое счастье.
Языки пламени вдруг коснулись ног. Вот она, мучительница-смерть! Еще немного, и не увидит Матвей своих гор, голубого верховинского неба, Оленки своей. Он взглянул на нее и увидел, как и под ее деревом подпаливают хворост.
— Оленка, ридна Оленка!
— Прощай, прощай, друже!
Он благодарно посмотрел на жену. Нет, силы нашей им не сжечь. Но откуда, откуда эта сила? — допрашивал он самого себя. От них, оттуда, — мысленно решил Матвей, снова услышав далекие раскаты советской артиллерии. И вдруг ощутил нестерпимую боль в ногах; его постолы начинало лизать раздуваемое ветром пламя.
— Говори, не поздно еще! — требовал начальник карателей.
— Вот они, тут, в горах мои партизаны! — грозно закричал гуцул. — Тут они! Умру я, они бить вас будут, бить. Чуете, гудит як! То Красная Армия идет через горы! Конец вам, конец!
И в ту же минуту грянул выстрел. И не выстрел, а залп. И не залп, а тысяча залпов. Но сознание Матвея уже бессильно справиться со случившимся…
На берегу Тиссы офицеров обступили партизаны и партизанки, и каждому захотелось обнять их, пожать руки, сказать доброе слово. Несколько простых столов выставлены прямо на лужайке. Весь обед, очень простой и скромный, проходит в самой оживленной беседе. За обедом Бабич и досказал всю историю про Матвея и Олену.
…Первое, что пробилось в сознание гуцула, было потрескивание сухих горящих сучьев. Открыв глаза, он увидел над собою небо, и два молодых ясеня. Сильное пламя, раздутое у комлей, высоко вздымалось вверх и на одном из деревьев обнимало человеческую фигуру, корчившуюся на стволе ясеня.
— Оленка, Олена! — в отчаянии вскрикнул Козарь, порываясь с земли к горящему дереву. — Что ж они наделали с тобой! — и с страшной болью во всем теле упал на землю. Но прежде чем упал он, взгляд его поймал дорогой образ женщины, лежавшей рядом: — Оленка!.. — только выдохнул он и снова впал в беспамятство.
А когда очнулся, обгоревший труп хортиста еще висел на ясене. «Палачу и смерть палаческая! — расслышал он гневный голос Бабича. — Они сами ее придумали, и не нам стыдиться этого», — словно оправдывал тот партизан, казнивших главаря карателей на том же ясене, с которого Зубец и Якорев только что сняли Олену.
Разведчики поспели вовремя.
Оживленный разговор за столами идет своим чередом, и к рассказу Бабича прислушиваются немногие.
— А где ж они теперь? — спросил Жаров.
— Кто? — не сразу догадался командир отряда, о ком речь.
— Да кто — Матвей, Олена…
— Да вот он, в отряде, — указал Бабич на совсем молодого партизана.
Матвей Козарь представлялся рослым богатырем с плечами в косую сажень, и воображение теперь отказывалось представить этого стройного хрупкого юношу с красивым обветренным лицом на пламенеющем дереве и взывающим к родным горам о мести и справедливости.
— А вот и Олена, — добавил Бабич, указывая на женщину, вставшую из-за стола. — Я о тебе тут рассказывал, — пояснил он и, усмехнувшись, добавил: — Как на ясене горела, да не сгорела…
— Да годи вам! — отмахнулась женщина. — Чи ж цикаво це слухаты. Про иньших крашче скажите.
Бабич, знать, ничуть не преувеличивал, когда говорил, что это первая красавица на Верховине. Гибкая, как лоза, она казалась необыкновенно живой и подвижной. Яркий платок небрежно откинут с головы на плечи. На сорочке искусно расцвечен ошеек, и на нем узкое монисто из коралликов, широко вышиты грудь и дудики, как зовут здесь рукавчики. Костюм обычен, весь Рахов одет почти одинаково. Тем не менее, молодая женщина необыкновенно привлекательна. Щеки в румянце, большие лучистые глаза искрятся из-под черных-пречерных бровей и смотрят игриво и ласково, как смотрит нашаливший ребенок, зная, что его не накажут. Маленький, резко очерченный рот, чуть лукав, а заостренный и немного выдающийся вперед подбородок говорит об упрямстве и твердости. Во взгляде, в жесте, в слове — во всем чувствуется самостоятельность и сила, привлекающая и покоряющая. Ее почему-то легко представить на пламенеющем ясене — такая сгорит и ничего не скажет.
Матвей полуобернулся и с гордостью окинул взглядом свою Оленку и, видать, остался довольным: посмотрите, дескать, какая умница и какая красавица, разве сыскать еще такую.
— Вы про себя расскажите, — просто сказала Олена, обращаясь к заместителю командира отряда, — от е що послухаты!
Но о себе он не стал рассказывать. Жизнь тут, як болото: куда ни ступишь, грузнешь и только. — А из него выберешься, все одно крутишься, как отара на объеденной полонине: ухватиться не за что. Что тут рассказывать.
Помолчав, стали обсуждать самые насущные вопросы:
— Яку власть строить? Як ее строить? — допытывался Бабич.
— Народную власть, — разъяснял Жаров, — свою, народную.
— Так и думаем, люди в ридну семью хочут, в ридну советску Украину хочут. Как заказать сердцу.
— Пусть и решат сами люди, — говорил Жаров, — выберут свою власть и решат. Они не ошибутся.
— Я и думаю: одни партизаны должны жизнь по-новому строить, другим еще воевать надо, — уже горячо продолжал Бабич. — Вместе с вами воевать станем. За мир воевать, щоб крашче булы життя и праця! — обвел он взглядом всех партизан. — Щоб кращим стало майбутне! — заключил он опять по-украински, хоть и сносно говорит по-русски.
Неподалеку вспыхнула песня-коломыйка, звучная спиванка, как ее называют тут. Она весела и задорна, под такую можно и плясать в присядку и идти маршем в бои и походы.
Козари вы, козари, Козари — герои…5
Жизнь неслась горным потоком: бурно и стремительно. В душе ежечасно пробуждалось что-то новое, необычное, что восхищало и тревожило, заставляя думать. Выше всех чувств Максим чтил верность. Он знал ее вдохновляющую силу и красоту. И вот его верность никому не нужна. Лариса молчит три года. Оттого и любовь к ней давно померкла. Вера Высоцкая здесь, рядом. Она могла бы наградить его настоящим счастьем. Но сердце ее принадлежит другому. Что ж, добиваться ее любви? Или мучиться и терзаться, отдавшись отчаянию? Максим горько усмехнулся. Так это было нелепо и ненужно. Нет, в мученики он не годится. Каленым железом выжечь все, что мешает жить, воевать. Выжечь! Настоящая любовь не может, не должна терзать и мучить. Так ему казалось. Но он не мог и сознаться себе, что ему еще грустно и больно от этих утрат. В душе стало пусто и тускло. Мысли невольно обращались к прошлому, искали всяческих оправданий его Ларисе. Порой ему даже казалось, он по-прежнему любит ее, веселую и немножко взбалмошную, которая нередко дразнила его своими капризами. Неужели любит? Нет, лучше совсем избавиться от всей проклятой лирики!
Как бы стряхнув с себя эти раздумья, Максим сел за стол и снова принялся за очерк для фронтовой газеты. Писал он о гуцулах. Материал просто давил его и не вмещался ни в какие рамки. Это видно оттого, что в один очерк он пытался вместить невместимое, и события, сами по себе интересные и важные, заслоняли людей.
Максим заново просмотрел все написанное и решил написать не один, а два очерка: один про Павло Орлая, другой — про Матвея и Олену Козарь. Работа спорилась, и он писал час за часом. Но едва он закончил первый очерк, как пришла сама Олена и, смущаясь, заговорила с Максимом. Пришла не одна, а с девушками-горянками. У бойцов еще дневка, и все свободны. Они сразу обступили девушек. Гости пришли правду шукать, и им захотелось поговорить хоть с одной из военных девушек. Кого же позвать им? Веру Высоцкую? Нет, лучше всех трех, решил Якорев, — и Веру, и Таню, и Олю.
— Можно сбегаю? — сорвался с места Ярослав Бедовой.
— Зови всем экипажем, — взмахнул Максим рукою.
Горянки, окружив советских девушек, радостно расшумелись. Потом расселись в тени на лужайке. Олена пристроилась рядом с Верой. Матвей Козарь уходит в армию, а Олену не берут. Почему? Ведь она давно воюет, партизанка. Вера объяснила. Нет, почему? — настаивала Олена, и своевольные губы ее складывались огорченно, хотя женское очарование по-прежнему проглядывает и в улыбке, и в блеске лучистых глаз, и в мягком певучем голосе. Зубцу вспомнилось, как еще сегодня утром она плясала с ним на площади. Вся огонь. Даже Ярослав, такой скупой на похвалы, и то обронил тогда: «Такую не забудешь». Да и все девушки в своих вышиванках с монистами на ошейках сорочек, румянощекие, с милым задором в слове, в шутке, во взгляде — все очень славные и хорошие, на русские березки похожие. В глаза им не заглядывай — море глубоченное, не выберешься.
Максим с болью посматривал на полковых девушек, посматривал и сравнивал. Сними с них гимнастерки и солдатские сапоги, одень их во все легкое, девичье, и они ни в чем не уступят этим горянкам-красавицам. Вон Вера, сколько в ней благородной чистоты. Или Таня, как покоряюще прелестна ее строгая сдержанность. Да и Оля с ее живым задором ни в чем никому не уступит.
А горянки меж тем без устали расспрашивали русских девушек:
— А чи вирно, що у вас жинки фермами управляють?
— А чи вирно, що воны бувають головиише чоловикив?
— А чи вирно… — и они перечисляли множество дел и профессий, обычных и повседневных в советском быту и столь удивительных всем закарпатским жителям.
Потом гуцулки долго пели свои песни. Бойцы пели свои. Под конец Семен еще сплясал с Оленой. «Вот пара!» — подумал Максим.
Стемнело, и девушки стали собираться.
— Чого ж вы йдете, — засмеялся Зубец, — по-нашему расцелуваться полагается…
— В горах нас шукайте, оттам и расцелуемся, — отшучивались горянки. А Олена подошла вдруг и сказала Зубцу:
— Ну, цилуй крипше.
Семен растерялся, а бойцы с девушками в хохот.
— От бачишь, не вмиешь ще, — засмеялась Олена.
Провожать семерых ушли чуть не взводом.
Максим остался у калитки и, облокотившись на изгородь, долго смотрел вслед. Девушки громко смеялись, и Максим ясно различал звонкий голос Веры. Обернется она или нет? Вера не обернулась. Обернулась Оля и помахала Максиму рукой. Якорев тоже поднял руку. Славная веселая девушка, подумал он об Оле. А глядел на Веру, и хотел того Максим или не хотел, а сердце у него щемило.
Глава вторая НИКОГДА И НИКОМУ
1
За кряжистым уступом, поросшим серебристым от росы кустарником, высился старый кедр. Оля так и прильнула к его шершавой коре, дивясь чудесному осеннему утру. Просто не верилось, что сотню-другую лет кедр простоял тут, не двигаясь с места. Скорее, казалось, он только что вышел поразмять застуженные в зиму кости и внезапно остановился среди соплеменников, почтительно расступившихся перед своим патриархом.
Запрокинув голову, Оля с удивлением взглянула на распростертые над ней могучие ветви. Зачем он такой величаво степенный? Пусть бы отечески взял ее и, прижав к груди, шагал бы себе по зеленым склонам, ниспадающим прямо с неба, и нес бы ее с кручи на кручу, к самому солнцу, что невидимо поднималось за гребнем, опороченным косматым лесом. Сизый вдали, он на глазах становился радужным и веселым.
Оля ненасытно глядела на дальний лес, что сбегал вниз с горных полонии, на чистое небо, до блеска промытое ночным ветром, и ей хотелось уже бежать, карабкаться вверх, жадно вдыхать густой прозрачный воздух, терпко настоенный на пряных травах, подержаться за край лохматого облака, бессильного оторваться от бурой скалы, без конца слушать немолчный щебет и гомон давно проснувшихся птиц, просто обнять все и всем существом своим ощутить пульс этого леса, этих гор, этой ясной и свежей чистоты, что с такой силой пробуждала в душе любовь ко всему живому.
А кругом все нарастал и нарастал ровный протяжный шум пробуждающегося утра. Оля вдруг встрепенулась, прислушиваясь. Что такое? Песня, хорошая песня! Она лилась откуда-то из лесу и словно просилась в любящее сердце:
В тумане скрылась милая Одесса — Золотые огоньки. Не горюйте, ненаглядные невесты, В сине море вышли моряки.Оля обрадовалась. Он, Максим. Как он похож на Пашина. Такой же красивый и гордый. И поет, как Пашин.
В свое время Оля не очень боялась прослыть нескромной. Могла кому угодно вскружить голову, легко и бездумно отдаваясь увлечениям. Так было до Пашина. А он ей всю душу перевернул, и кто знает, может, навсегда отучил от легких забав. Не люблю, говорил, которые непостоянны, которые цены себе не знают. Как она полюбила тогда Пашина! Тот умел во всю силу жить и ее обещал научить. Не успел только. После его гибели Оле никто не нравился. Никто не мог сравниться с ее Пашиным. И вот Максим. С ним очень хорошо, и она всей душой потянулась к нему. Только вот беда — у него уже есть девушка. Оля все равно не отступит. Где она, та девушка? Даже не пишет. Нет, Максима Оля никому не уступит. Никому! Она будет такой, какой ее хотел видеть Пашин, и тогда она не может не понравиться Максиму. Сейчас же, завидев Якорева, она сказала нарочито громко и поспешно прикрыла рот рукою, готовая прыснуть со смеху:
— А я думаю, кто такой распевает, морская пехота.
— А, резвушка-хохотушка, — засмеялся Максим, только что выбравшийся из-за кустов, — так вот же тебе, насмешнице, и наказание, — и он схватил ее, легко вскинул на руки, взмахнул вверх над головой. Девушка успела только вскрикнуть и замерла в страхе. А он, закружившись на месте и держа ее высоко над собою, как ни в чем не бывало, продолжал песню:
Недаром в наш веселый шумный кубрик Старшина гармонь принес. И поет про замечательные кудри Черноморский удалой матрос.— Как там, разбойница, на верхней палубе, а? — захохотал он, останавливаясь, не выпуская, однако, девушки. — Ты готова в поход?
— Ой, пусти! — заболтала она ногами. — Конечно, готова.
— Знаешь, Оленька, — не обращая внимания на ее просьбы, продолжал Максим, — не люби я своей Ларисы — ни на кого б тебя не сменял.
— Боже борони, как говорят гуцулки, — засмеялась Оля. — Так я и пошла за такого медведя.
— Ах, не пошла б… Берегись тогда, — и он бешено закружил ее над собою.
— Ох, Максим, Максим, — остановившись, покачал головой Жаров, — она теперь и ходить не сможет.
Оторопев, Якорев чуть не уронил девушку.
— Виноват, товарищ подполковник, — и озорно вытянулся в струнку.
Сильный и ловкий, он походил на вышколенного спортсмена, избалованного успехами и победами. Говорил чистым басом, приятным и звонким, чем еще более располагал к себе.
Но Оля вдруг рассердилась. Похвалил бы сейчас ее Пашин за эту карусель! Автоматически одернув гимнастерку, она метнула на Максима сердитый взгляд и молчком ушла прочь.
Жаров одобрительно поглядел на девушку, потом перевел взгляд на Якорева.
— А тебя ждут уже.
— У меня все готово, и, как приказано, выступаем в срок.
— Хорошо изучил маршрут?
— Курс ясен, товарищ подполковник, — можно и отчаливать.
— Так иди завтракай — и ко мне.
Максим зашагал размашисто, продолжая песню:
Напрасно девушки о нас гадают Вечерком в родном краю. Моряки своих подруг не забывают, Как отчизну милую свою…Полку предстоял путь через высокогорное село, и Максим с большой группой разведчиков ушел вперед. Роты внизу ждали радиосигнала сверху. Войдя в село, разведчики немало подивились — кругом пусто и безлюдно: ни человека, ни приветливого дымка, ни журавлиного скрипа у колодца. В какую хату ни войдут — все на месте, и нигде — никого. Наконец, им удалось разыскать древнего старца, похожего на схимника или отшельника, покинувшего свет. Он даже разговаривал с трудом и почти не передвигался, а сраженный радостным изумлением, и вовсе потерял дар речи.
— Где же люди, отец? — спросил Максим.
— Люди на землю сошли, — наконец опомнившись, ответил он так, словно сам обитал на небе. — Ось туды пишлы, — указывал старик в сторону долины, — Червону армаду шукать пишлы. Туточки тилько мы с Ганной.
— Кто такая, почему осталась? — подивился Якорев.
— Вона у нас сама по соби, — уклончиво ответил старик.
Оля передала радиосигнал, что путь свободен, и разведчики, поджидая отделение, которое Павло Орлай повел другой дорогой, захотели поближе познакомиться с женщиной, столь равнодушной ко всему на свете.
Ее муж Василь давно уехал в Америку, оставив в горах молодую жену. Ему на редкость повезло. Через несколько лет он вернулся домой, привез денег, построил просторную хату. Он был красивый и сильный, ее Василь, Ганна не могла налюбоваться мужем. Деньги соблазняли, и он снова уехал, оставив ее с сыном. Ожидая мужа, Ганна устраивала хозяйство. Она не сидела сложа руки и много работала. Вышила себе новые рубашки, купила чудесную кровать, завалила ее горой подушек. Заботливо растила родившуюся без него дочь, которую в честь мужа назвала Василинкой, а сына, когда подрос, послала учиться в город. Василь велел. А сам не ехал и не ехал. Ожидала сперва терпеливо, потом с беспокойством, все более горьким и омрачающим. Мучительно долго бежали годы. Началась война. Женщина состарилась: поблекли глаза, поседели волосы, на гладком лице пролегли морщины. Горькое беспокойство сменилось тупым равнодушием. Так минуло семнадцать лет. Сын попал в тюрьму. Была одна радость — красавица дочь. Но пришли каратели и неизвестно куда угнали ее Василинку. И кто знает, жива ли?
— Погоди, Ганна, придет срок — и Василинку найдем, — успокаивал Якорев. — Ее мужу не надо будет ехать за счастьем в Америку: оно само придет сюда в горы.
— Дай, боже! — вздыхала женщина.
Но ни в голосе, ни в глазах ее, будто отрешенных от жизни, нет веры и убежденности. Максим невольно ужаснулся. Разве можно жить без надежды на лучшее.
Рассевшись на чисто вымытом полу, разведчики молча сочувствовали горю матери. Вдруг с силой распахнулась дверь, и на пороге появился Павло Орлай, запыхавшийся и раскрасневшийся. Почуяв что-то недоброе, разведчики вмиг повскакали с полу и бросились навстречу. А он, не обращая ни на кого внимания, раздвинул их руками и шагнул к женщине:
— Мамо!
— Сынку, Павло! — вскочила Ганна, бросившись к нему. — Ридны мий! — разрыдалась она у него на груди: — Нема бильше нашей Василинки, угнали каины.
— Знаю, мамо, людей повстречал, сказали.
Разведчики молча вышли из комнаты.
2
Передний край немцев вдруг вспыхнул выстрелами, и все увидели, как человек, выскочивший из вражеской траншеи, стремительно понесся к советским окопам. Несколько раз он валился на землю, отстреливался, вскакивал и бежал снова. По нему били из пулеметов и автоматов, но ему удалось все же проскочить узкую открытую полоску и скрыться в высоких травах на «ничейной земле». Немцы били теперь наугад, и все с нетерпением ждали появления перебежчика.
Прошло немного времени, он выполз и окровавленный свалился в траншею прямо на руки Максима Якорева. Но собравшись с силами, тут же встрепенулся и, бросившись к брустверу, застрочил из своего автомата в сторону противника. Минуту спустя он с сожалением посмотрел на пустой магазин и огорченно покачал головой.
— Шкипетар!.. Шкипетар!.. — были его первые слова.
Что это значит? Как понять этот чужой незнакомый язык.
— Шкипери… Шкипери… — твердил он в отчаянии и, ударяя себя в грудь, вновь повторял: — Шкипетар, шкипетар.
— Ох, ты, шкипер мой, — горестно вздыхал Якорев, — дай хоть перевяжу тебя.
— Шкипери, шкипери… — подумав, что его понимают, опять повторял перебежчик.
Это молодой солдат, с живыми острыми глазами, гордой головой, очень подвижный и беспокойный. Со лба у него струйками стекала кровь. Красным пятном взмокло плечо. Но лицо его светилось от радостного ощущения успеха.
Его перенесли на медпункт, перевязали. Он всем понравился, и каждый старался сделать ему что-нибудь приятное. Несмотря на недовольные взгляды полкового врача, разведчики наперебой предлагали раненому то закурить, то воды, то что-нибудь из съестного. Своего автомата черноволосый солдат не выпускал из рук. Как ни уговаривали и ни просили его, он не отдавал оружия. Увидев на стене карту, он как бы вспыхнул от радости. Карту сняли и поднесли раненому. Он восторженно по казал на Албанию и почти закричал:
— Шкипери!.. Шкипери!..
Наконец его поняли: он албанец.
— Энвер Ходжа, — обрадованно повторял он. — Шум мир[7].
Вот он кто: партизан Энвера Ходжа.
Али Крайя, так звали албанца, лечили в медсанбате дивизии. Он оказался на редкость смышленым парнем и за короткий срок сносно научился объясняться по-русски. Он сражался в горах Албании в одном из партизанских отрядов. Потом попал в плен, оказался в обозе немецкой части в глубоком тылу Германии. А когда эта часть отправилась на фронт, его поставили в строй. Чуть не в первом же бою горячий по натуре молодой албанец бросился к русским друзьям.
3
На легком ветру костер разгорался все ярче и ярче. Пригревшись, бойцы притихли и слегка загрустили. Голев обнял свои колени и положил на них голову. Якорев улегся на скрещенные под головою руки, и его взгляд блуждал где-то очень далеко, на Млечном пути. Зубец уставился на огонь и тоже задумался. А Закиров, опершись щекою на гармонь, молча перебирал лады и тихо выводил: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!..»
Спой, Максим, — попросил вдруг Голев. — Повесели душу.
Якорев не шевельнулся, но упрашивать его не к чему.
Вниз по матушке по Волге, По широкому раздолью, По широкому раздолью Поднималась бурь-погода.Услышишь русскую песню и просторами чистых полей, свежестью родных берегов и далью неведомых дорог повеет на тебя от ее дивной музыки. А Максим умел спеть. Запоет, и он командир твоему сердцу: оно послушно ему, как дисциплинированный солдат, готовый замереть с руками по швам, или отдыхать и веселиться, если дано время, или же, сжимая в руках оружие, стремительно нестись в атаку. Ибо, как никто, умел он вывести хватающие за душу слова, нужно — вспорхнуть на невозможную высоту и, постепенно стихая, замереть, как ветерок на море, падающий в штиль. Слушаешь, и холодок бежит к сердцу…
Когда смолк Якорев, никто не шевельнулся.
— Возьми любую песню — все о жизни, — сказал наконец Голев, блуждая взглядом в бездонной синеве звездного неба.
Да что песня, вставая, подумал Максим, каждый шаг твой, каждый выстрел, любое слово, что принес ты сюда на горы и за горы — все песнь о жизни…
У штаба Максим столкнулся с Олей, и неожиданная встреча как-то смутила его. Потупившись, недоверчиво взглянула на него и девушка.
— Помочь? — участливо спросил он, указывая на рацию.
— Донесу: не в первой же… — небрежно отмахнулась она.
Разговор казался оконченным. Но Максим удивился. Что с нею? Пока Оля поправляла упаковку, он присел на ту же скамейку у окна, где расположилась девушка. Однако она демонстративно отодвинулась, и Максим обидчиво встал.
— Не дыми! — сказала она повелительно и чуть усмехнулась, увидев, как Максим замахал руками, разгоняя дым.
— Не строжись, Оля, — тихо сказал он. — Чего ты?
Оля искоса посмотрела на него и сдержанно улыбнулась. Максим сразу оживился. Как она обаятельна вот такой своей девичьей строгостью.
— И к чему хмуришься? Теперь бы в лес за грибами — одно удовольствие. А ты ссору затеваешь.
Оля метнула сердитый взгляд и снова нахмурилась.
— Дай папиросу.
Якорев поспешно полез в карман.
— Нет, ту, что куришь.
Он послушно уступил ей. Девушка внезапно наклонилась к нему, как бы пытаясь прижечь папиросой лоб. Максим даже отпрянул.
— Ты что?
— Не нравится? — усмехнулась Оля, еще не совсем веря, что он испугался всерьез.
— Сумасшедшая.
— Вот видишь, и мне не нравится, когда меня ночью в лес зовут, за грибами… — и, забрав рацию, зашагала прочь.
— Оля, так я ж… — зачастил было Максим, шагнув за нею, но тут столкнулся вдруг с парторгом Голевым, взявшимся нивесть откуда.
— Ты что, батенька, к девушке пристаешь, а? уставился на него Тарас Григорьевич. — Мне смотри, чтоб никакой дурости, понял?
— Да я…
— Не оправдывайся, а слушай, что парторг говорит, — рассердился старик, покручивая ус. — А то, ей-бо, по-своему расправлюсь.
Максим только руками развел.
А несколько дней спустя он повстречался с нею у горной речушки. Девушка сидела на берегу и любовалась золотыми рыбками.
— Это что, форель? — тоже склонился Максим над водою.
— Хочешь, подарю, не простую, золотую?.. — с задором ответила она на вопрос вопросом.
— Как в пушкинской сказке? — переспросил Максим.
— И то, как в сказке.
Усевшись рядом, Максим закурил. Оля радостно поглядела на задумчивый лес, на бездонное небо, опрокинутое в реке, и солнце, расплескавшееся в чистой воде, и развеселилась еще больше. А правда, хорошо? А прав да, у каждого свое счастье? А правда?.. Максим не успевал отвечать. Пашин говорил, счастье — это жить во всю силу. Правда, хорошо? Ведь если каждый станет все делать в два-три раза лучше и быстрее, что получится? Вместо одной две-три жизни прожить можно. Правда, замечательно? А что, хорошая дружба поможет человеку жить лучше, красивее. Правда? А у нас с тобой может быть хорошая дружба? Нет, не такая, как у тебя с Ларисой, а просто дружба? По-твоему, может. Тогда давай дружить так? Хорошо. Только будем много требовать друг от друга. Согласен? Ладно, и Оля хитро улыбнулась.
— Я начну теперь же, — сказала она. — Дай папиросу.
— Ты что?
— Дай, говорю.
Он несмело протянул ей дымящуюся папиросу и вроде даже наклонился, будто готовый теперь принять незаслуженное наказание. Оля чуть не рассмеялась: «Он же подумал, я и впрямь лоб ему жечь стану, вот дурной!» Сейчас она взяла и бросила папиросу в сторону..
— Больше не курить чтоб!
— Да ты что? — оторопел Максим.
— Закуришь — не подходи!..
С чего начинается истинная любовь, с прав или с обязанностей? И кто знает, в чем они состоят, эти права и обязанности? Только одно можно сказать, чем сложнее и интереснее они, тем сильнее любовь. Максим же, молча шагая с Олей, еще никак не мог осознать ни своих прав, ни тем более своих обязанностей. Но и избегать их ему не хотелось.
А вечером был бой. Черный фашистский танк проскочил взводную цепь и помчался на окоп Максима. Оля как раз находилась у рации неподалеку сзади. Не помня себя, она чуть не выползла на бруствер траншеи, и мускулы лица ее свело от ужаса. На виду у всех Максим приподнялся из окопа и метнул в танк гранату. Ударившись о лобовую броню, она взорвалась оглушительно, но не остановила машины, мчавшейся прямо на него. Оля вскрикнула и, инстинктивно сорвав с себя наушники, бросилась туда, в бой, под огонь. Жаров, находившийся тут же, не успел опомниться, как она уже мчалась по полю. Ясно, это один из порывов души, который ничем не остановить. Задыхаясь, Оля бессознательно летела на танк, и, когда он проскочил над окопом Максима, у нее разом подкосились ноги, и тупая боль пронизала все тело. Превозмогая себя, Оля не останавливалась. Но прежде чем она добежала, артиллеристы двумя выстрелами в упор покончили с танком, и трое бойцов, оказавшихся поблизости, были у окопа, в котором засыпало их командира. Когда Оля подбежала, они успели уже откопать Максима. На счастье, грунт оказался твердым, и это спасло Якорева. Помятый и поцарапанный, он выбрался из-под земли живым и даже способным продолжать бой. Оли он не заметил.
К себе в траншею, на полковой наблюдательный пункт, она возвратилась совсем обессилевшая, но радостно возбужденная и счастливая. Казалось, любое наказание, какое бесспорно ожидает ее за этот побег от рации, было сейчас бессильным испортить ей настроение. У рации она застала Жарова и сразу остолбенела. Подполковник разговаривал с Черезовым. Ох, и получит она сейчас на всю катушку.
— Ну, жив наш Якорев? — снимая наушники и протягивая их девушке, мирно спросил Жаров.
У Оли сразу запылали щеки.
— Помяло его, а жив, товарищ подполковник, совсем жив.
— Вот и хорошо, а бегать все же не к чему…
— Простите, товарищ подполковник, больше не буду…
— Смотри, не то привязывать стану, — пошутил Жаров. — Вызывай Думбадзе.
4
В Солотвине у Павло Орлая много друзей и знакомых. Здесь он не раз бывал у Михайло Бабича, которого называл своим старым другом и учителем.
— Ну, який же я вчитель, — приседая, застеснялся пожилой рабочий. — Мыни самому треба вчитесь, — и так смущенно посмотрел на всех, что взгляд его говорил как бы, скажут же такое про простого человека. Он невысок ростом, худощав, морщинистое лицо измождено и устало, а глаза полны задору и праздничной бодрости.
— Нет, учитель, — упорствовал Павло. — Кто меня просвещал политически? Тут ведь до двадцати разных партий было. Разберись попробуй. А он просто разъяснял: эти, мол, пыль в глаза — и только. Обведут вокруг твоего же дома, а скажут: ого, куда ушли. А вот коммунистическая — той доверяй: она самая правильная. Говорил ведь?
Ну, и говорив, що ж с цього, це ж правда.
— Да разве тебя переубедишь, — засмеялся Орлай, — тебя одна жинка убедить может.
— Ох, уж и жинку приплив, — опять приседая, развел руками Бабич.
— А знаете, кто ему «образование» дал? — обратился Павло к разведчикам. — Сам граф Шенборн. Чего ты плечами пожимаешь? — повернулся он к рабочему. — Сколько он платил тебе раньше?
— Четыре пенга на день.
— А вот теперь?
— До останнего дня — по два пенга.
— Это два фунта плохой кукурузной муки, — перевел Павло дневной заработок на его товарную стоимость. — А плати он тебе тысячу пенгов — разве ты воевал бы с ним?
— Тысячу… — ухмыльнулся Бабич, хлопая себя по коленям и чуть приседая, — та добав вин хоть пять пенгов на день — и то давно б лопнул вид жадности. А то тысячу!..
От Шенборна Бабичу пришлось уйти в Солотвино, на разработки каменной соли. Ее копали тут еще в бронзовом веке, добывали в римские времена, а позже для защиты солекопален построили Хустский замок. Но время потом стерло из памяти людей даже место, где добывалась в те поры соль. Нынешние шахты сравнительно молоды: их заложили лет полтораста тому назад.
Бабич пригласил Максима и его разведчиков осмотреть соляные копи.
Спуск недолог, и они на глубине в двести метров. Идут узким коридором, и вдруг перед глазами громаднейший зал, похожий на рисунки из детских хрестоматий. Где-то вверху Максим не увидел, а скорее угадал недосягаемые карнизы, еле различимые своды арок, тонущих в клубящемся мраке. Солотвинские разработки похожи на пещеры и коридоры, а порою на сказочные хоромы с колоннадами, выломанными внутри земли. Все искрится в мерцающем свете фонарей, хотя общий колорит этих хором скорее серый и тускло-желтый. Михайло Бабич рассказывал, как добывается соль. Тяжелый и упорный труд, от которого меркнет сказочный блеск первых впечатлений. Взрывчатка не применяется, и соль выкапывается вручную большими семитонными призмами.
— Эх, — вздохнул Бабич, — сюда б витбийный молоток, або врубовку з ваших шахт! У нас тут здорозо про них наслухались.
— Станете хозяевами — и отбойники, и моторы — все будет, — сказал Максим.
Среди рабочих солекопален немало румын и мадьяр. Некоторые из них тоже спустились в шахту, но держатся они более робко и несколько отчужденно, особенно венгры. Один из них споткнулся и упал, и кто-то озорно наподдал его ногою. Со стороны послышался недобрый смешок. Даже Павло Орлай, что более всего удивило Максима, как-то нехорошо ухмыльнулся.
— Чого путаешься тут? — набросился на венгра один из рабочих. — На чужое добро не надывывся?
— Он кто? — обратился Максим к гуцулу, указывая на венгра, юркнувшего в сторону.
— Та робитник, рокив три як силь тут рубае.
— Что ж, враг он?
— Який ворог, робитник просто, — вздернул плечами рабочий.
— А раз трудится вместе с вами — друг он, и национальность тут не при чем, — и Максим повел речь о дружбе народов, о рабочей солидарности. — А работы всем достанет, — закончил командир, — и не след обижать румын с мадьярами: зла вам они не хотят.
— Та мы тилько бояр, баронов терпите не можемо, — сказал Бабич, — а мадьярьские иль румыньские робитники — наши братья, хиба нам их давать в обиду.
— От це добре! — по-украински отозвался Максим. — Файно сказано. Чи так?
— Айно, айно! — откликнулись все разом.
— По-стахановски будемо працювать! — убежденно сказал Бабич, тоже обращаясь к рабочим. — Це мы от ваших партизанив знаемо — довго повоювалы вмести, — расставаясь, пояснил Михайло Бабич.
5
Еще с утра Голев увидел конический холм, еле различимый в сизо-фиолетовой дали.
— То Хустский палакок, — сказал Павло Орлай, и всю дорогу рассказывал про Хуст.
Он стоит на остроконечной горе, на самой грани Закарпатья, Трансильвании и коренной Венгрии, и его легендам о битвах за вольность несть числа. Сказывают тут о богатырях, каждый из которых под стать Микуле Селяниновичу или Илье Муромцу. Бойницы замка видели татар, которые безуспешно штурмовали его стены. Были тут турки и венгры, поляки и немцы, не раз дотла разорявшие горно-долинное Закарпатье. И кто знает, как бы сложилась судьба края, если б двести с лишним лет назад паланок не сгорел от молнии, ударившей в его пороховую башню. А сейчас маленькие белые домики Хуста, сбившиеся у руин замка, Голеву напоминали овечью отару вокруг пастуха на Верховине.
На коротком привале бойцов окружили высоченные хустичане с вислыми усами, в смушковых шапках и широченных шароварах, скроенных из белого полотна, шириною с Тиссу.
Окружив Голева, хустичане расспрашивали его о Москве и мичуринцах, о челябинских тракторах. А зашла речь об урожаях — Тарас рассказал про Амосова и его ленинку, достал вещевой мешок Фомича и показал пшеницу. Они без конца пересыпали ее с ладони на ладонь.
— Сам-сорок дае, а! — изумленно посматривали они друг на друга. — А на горбах у нас сам-два, а то и сам-на-сам.
Заговорили о посевах, и Голев отсыпал людям несколько пригоршен фомичевской ленинки.
— Пусть и тут растет на память о воине-герое.
Павло Орлай поспешил рассказать усачам о самом Голеве, и их богатая фантазия в тысячу раз превознесла все заслуги рядового воина. Как же, семь танков одолел. Москва ему Золотую Звезду прислала, и каждому из них захотелось своими руками потрогать звезду героя.
Смущенный неожиданным осмотром, Голев быстро оправился и, чтоб покончить с их интересом к его персоне, стал рассказывать о своем Урале.
— Эх, як побачиты це? — размечтался пожилой хустичанин.
— Ступай, кто остановит! — подзадоривал Голев.
— А можлыво це?
— В родной семье все можно.
— 3 вашею пидмогою мы и тут ище Урал зробимо: копны це горы — тут и нефть, и зализо, и вугиль найдутся — всего богацко. На тысячу рокив хватить.
— И то на тысячу, — согласился Тарас.
Дальше полк двигался уже по равнинной земле, где лишь местами одиноко возвышались круглоголовые горы. Эти невысокие горы-одиночки недалеко убежали от строгих родителей и, как малыши в семье, день и ночь остаются под их присмотром.
Шагая обочиной дороги вместе с Павло, Ярослав с любопытством прислушивался к его забавным рассказам.
— Много бедных крестьян жило на горе Капун, — повествовал молодой гуцул. — Красна гора и всем богата, а нет удобной земли. Судили-рядили, как быть, — потешно развел ом руками, так что Ярослав улыбнулся. — И к черту обратились. — Бери, говорят, — наши души, дай только землю, и чтоб тут вот, на том же месте. — Черт жаден был и согласился, конечно. Взвалил гору на плечи — и к Тиссе! А гора-то тяжела была. Чуешь почему? Слезами бедняков пропитана. Придавила она черта, и погиб он. Но место однако ж высвободил. И возникло на том месте село, спокон веков Русским полем зовется. Только захватчики все его «Урмезово» называли — панское поле, значит. Но, может, то и правильнее было: все земли-то вокруг в самом деле панам принадлежали.
— Ой, нет! — откликнулся Голев. — Что б ни было украдено, вору то не принадлежит. Нет, не принадлежит!..
Разведчики вошли в большое Закарпатское село с традиционными тополями на въезде и белыми выкрашенными по окна голубой краской домиками. На улице черные свиные туши: животных в бессильной ярости перебили гитлеровцы. И тут же еще перепуганные сородичи перебитых. Они покрыты черной курчавой шерстью.
— Их стригут здесь, как баранов, — пояснил Орлай.
— Свиней! — удивился Бедовой.
Весь следующий день бои с венгро-немецкими заслонами шли вдоль широкого и прекрасного шоссе, обсаженного черешнями и абрикосами. Всюду чудесная природа, чем-то напоминающая Южный Крым. Нет только моря, его бескрайних просторов, неугомонного прибоя волн. Впрочем, бурунная Тисса и здесь еще по-своему неумолчна.
Мукачевский паланок Голев увидел за много километров. Он возвышался над плоской равниной с сиреневыми горами вдали. Высокий холм, на котором построен замок, говорят, народ насыпал чуть ли не шапками, и Голев с интересом всматривался в древний закарпатский город, бившийся еще с ордами Батыя. Сейчас он шумен и многолюден. Красные флаги, как символ только что обретенной свободы, гордо реют над зданием ратуши. Всюду праздник. Самый большой и радостный. Приветственные возгласы. Над толпами жителей тучи листовок. На любой из улиц, по которым, не останавливаясь, проходят колонны, — льются звучные песни-коломыйки, родившиеся тут же в ликующем сердце:
Славься довична, дружба священна, Скриплена кровью в жорстких боях!Голев поглядел на солдат. Их лица торжественны и просветлены, а сердца полны гордости за этот радостный праздник великой дружбы народов, который они принесли сюда вместе с собою. И они знают, никому и никогда не разрушить этой дружбы. Никому и никогда.
6
С каждым днем Максиму все больше нравилось Закарпатье. Дивная земля, дивный народ. Истинно кровные братья! Полк с утра на суточном отдыхе, и есть время поразмыслить о виденном и пережитом.
В доме, где разместились разведчики, живут полировщики по дереву. Искусные мастера! Их изделия отполированы до зеркального блеска. А труд сам по себе утомительно однообразен, и весь процесс полировки весьма несложен. Дорогой шеллак наливают на комочек мягкого волоса. Обернув его чистой тряпочкой, без устали протирают поверхность бука или тиса. Медлительные движения рук заученны и размеренны. Кусок древесины, впитавший первую порцию шеллака, сохнет сутки. Потом все повторяется раз за разом, пока в дверце шкафа или в спинке кровати не покажется ясный отсвет дня.
Отдавая должное искусству мастера, Максим невольно подумал, а как же возвышен труд, порождающий такой отсвет в душе человека! Труд агитатора, коммуниста, любого советского воина, ежечасно воздействующего на душу здешнего жителя. Дорогой шеллак их слов и дел впитывается навечно, и в человеческих душах он порождает золотой отблеск нового времени.
В полдень Максим уселся за радиоприемник и настроился на Москву. Как вдруг прибежала Оля, запыхавшаяся и раскрасневшаяся.
— Максим, хочешь в Ужгород? — выпалила она прямо с порога. Мы едем с Таней за трофейными приемниками. Березин за тобой послал и велел Павло Орлая захватить.
Максим не заставил себя ждать. Ужгород! Разве можно упустить такой случай. Когда они прибежали, машина стояла наготове. Березин устроился в кабине, рядом с шофером, а Максим с Павло и Оля с Таней разместились в кузове, и полковой газик быстро помчал их в сторону гор. Присматриваясь к незнакомой местности, Максим старался как можно больше вспомнить о закарпатской столице.
Чужеземцы не раз сжигали Ужгород, и часто проходили столетия, пока он снова не вставал из пепла. Его разоряли мадьярские орды, жгли татары, потом разрушали кальвинисты, душили Габсбурги. Черные лихолетья завершились хортистской оккупацией.
На крутой сопке близ Ужгорода Павло указал на развалины Невицкого замка и напомнил предание, порожденное горем народа. Ужгородский паланок строила турецкая царевна, прозванная людьми «Поганой девой». Она вызвала в стране страшный голод, приказав гасить известь для стен замка молоком и белками яиц.
Они долго бродили по городу, почти не тронутому войной. Хортисты успели разрушить лишь мосты через реку и несколько зданий. В центре это чистенький уютный городок с красивой набережной вдоль реки Ужи, обсаженной кустами роз и пышнолиственными каштанами, уже сильно позолотевшими под октябрьским солнцем.
Старое и новое здесь еще запросто уживаются рядом.
На стенах зданий расклеены печатные приказы военного коменданта, декларирующие жителям о всех демократических вольностях, и тут же ярко расписанный плакат о матче двух старейших футбольных команд «холостяков» и «женатых». Из окон ресторана доносится буйный чардаш, и звучат песни, рожденные легендарной Одессой. По улице невозмутимо шествуют тщетно понукаемые волы, и их обгоняют автомашины горьковского завода, груженные боеприпасами. Они мчат их к фронту, который слышно, как гремит у Чопа.
— Вот застенок, устроенный хортистами, — показал Павло на здание гимназии, — и отсюда редко кто выбирался живым. Если б не партизаны, каюк бы мне в этом застенке. А теперь слышал, тут университет планируется, понимаете — у-ни-вер-си-тет! — проскандировал он. — Отвоююсь — приеду учиться.
— Счастливого пути в науку! — пожал Максим руку будущему студенту.
В двух шагах отсюда мрачное здание недавней резиденции униатского епископа, запрятанное за непомерно высоким забором. Два дня в неделю закарпатские крестьяне работали на попов-униатов. И, конечно, сюда, в черные сейфы наместника римского папы, стекались доходы этой церковной повинности, именуемой в горах коблиной.
— А знаешь, Павло, — сказал Максим, — уверен, что иерей-иезуит, выдавший тебя охранке, все инструкции получал за этими вот стенами. Тут его поучали, как выжигать в душах гимназистов все живое и прогрессивное.
— Дьяволово племя! — скрипнул зубами Павло.
Березин взглянул на часы и заторопился. Не опоздать бы на склад. Захватив с собою Олю с Павло, он оставил Максима с Таней, дав им возможность еще побродить по городу. Оля с нескрываемой завистью взглянула на подругу. Вот счастливица! Как бы ей самой хотелось сейчас остаться с Максимом. Но смолчала. Таня — не радистка, и ей не заменить Оли. Максим в свою очередь перехватил взгляд девушки и сочувственно пожал плечами. Ничего не поделаешь.
Пока Березин занимался делами, Максим и Таня с час осматривали город, расспрашивали о нем жителей и с интересом слушали их рассказы. Захватчики веками пытались вытравить всякое напоминание о русском. Они ввели в школах «рутенский язык» — злую издевку над языком закарпатских украинцев. Они исковеркали его словарь, грамматику, ввели уродливые мадьяроподобные слова, так что получалась мерзостная карикатура на оба языка.
— Ну, а мы читали Шевченко и Пушкина, — с гордостью сказал молодой гуцул, — и не забывали ни родной речи, ни русской, ни украинской.
«Рутенами» именовали захватчики закарпатских украинцев. Потом и это показалось опасным, и «рутенов» вычеркнули, называя жителей края «мадьярами грекокатолического исповедания»…
Час — не большое время, и пора торопиться. Максим с Таней повернули к зданию гимназии, где условились о встрече с Березиным. На одной из улиц девушка-украинка, выскочив из дому, наградила Максима пышным букетом поздних цветов. Он смутился. Как-то неудобно солдату идти по городу с букетом. А девушки и след простыл. Но едва он сделал десять шагов и оглянулся, как увидел ту же картину: она уже новый букет вручает другому солдату, тоже проходившему мимо ее дома.
— Вот тебе, Таня, от Ужгорода! — рассмеялся Максим, передавая ей букет. — Видишь, украинки и тут предпочитают парней девушкам.
— Какой чудесный! — залюбовалась Таня цветами. — Тебя, Максим, прямо расцеловать за них можно.
— Это за что? — раздался рядом знакомый голос, подскочившей к ним Оли.
Таня шутливо объяснила суть дела.
— Дай сюда! — почти вырвала цветы Оля. — Пусть тебе Леон дарит…
— Оля, ты что?.. — смутился Максим. — Ведь шутка же…
— Ну, и пусть шуткует со своим Леоном и пусть целует его, сколько ей захочется, — выпалила Оля.
А Таня не стерпела и вдруг подзадорила.
— А вот возьму и расцелую Максима, ведь ты целовалась же с Леоном… помнишь, за Днепром еще, когда меня раненую несли.
Оля мигом побледнела и чуть не потеряла дар речи.
— Не шути, Таня… ты же знаешь уже, у нас ничего не было тогда… Баловство просто… и я не знала про вашу любовь…
— А ты понимай шутки и не наскакивай. Я не злопамятна.
— Ой, прости, — улыбнувшись сквозь слезы, бросилась Оля к Тане.
Через минуту все трое, несколько умиротворенные и еще смущенные, зашагали к машине.
— Ты в самом деле разбойница, — шепнул Максим Оле, сжав ей руку повыше локтя.
Она молча подняла на него еще влажные глаза и, потупившись, улыбнулась.
Снова ехали через весь город. На улицах красные полотнища с лозунгами привета армии-освободительнице и ее воинам — все на украинском и русском языках. На одном из полотнищ по-русски пословица, которую все часто слышали еще в горах: «От Ужгорода до Кремля — русская земля!»
— У нас еще говорят, — добавил Павло, — что весь край — капля русского моря за Карпатами.
Выехали за город. Навстречу летит белое полотно дороги, мелькают виноградники, домики в острых треуголках черепичных крыш. Но не они привлекали сейчас, не экзотика загорного края, не пряный запах айланта, красивого перистого дерева юга, а люди древнерусской земли, так и непокорившиеся врагу: верили они в свою большую родину, знали, придет время, и она протянет через горы сильную братскую руку, придут ридны браття из светлого советского мира — принесут им свободу и счастье.
7
Война по-своему любит людей знающих и умелых. А с офицера у нее спрос особый. Командуя полком, Жаров не терпел частых смен командиров, потому и подбирал их тщательно и требовал с них круто. Он давно присматривался к снайперу Соколову. Энергичный волевой сержант. На такого можно положиться в любом бою. В батальоне Черезова как раз высвободилось место командира взвода, и Андрей решил назначить туда Соколова. Вызвал его к себе, поговорил.
— Взвод — не полк, справлюсь, товарищ подполковник, — сразу согласился Глеб.
Однако такая самоуверенность не очень понравилась Жарову, и он сказал, что предпочел бы, скорее, осмотрительность и большую трезвость в оценке своих сил и возможностей.
— Учту, товарищ подполковник. Знаю, справлюсь.
И вот уж с месяц Соколов командует взводом.
Полк сегодня на дневке, и Жаров собрал всех взводных и многих других командиров, чтобы объявить полученный приказ о присвоении офицерских званий. Он зачитал приказ перед строем и вновь произведенным вручил офицерские погоны. Максим Якорев получил лейтенанта, Глеб Соколов — младшего лейтенанта. Яков Румянцев и Леон Самохин стали капитанами. После торжественной церемонии в помещичьем саду состоялся праздничный обед.
К столу пригласили всех девушек. Стало совсем оживленно и весело. Говорили без умолку, спорили и острили. Оля с гордостью посматривала на Максима, и хоть их отношения еще далеко не определились, на душе у нее было светло и тихо. Таня сидела между Яковом и Леоном. Офицеры много смеялись и чувствовали себя непринужденно. Впрочем, Леон временами задумывался. Что с Таней? Почему душа ее как бы взаперти? Разлюбить вроде не разлюбила, а близости, какой бы хотелось Леону, все не было. Чего она ждет от него? И разве любовь так уж зависит от того, чем и как занят человек? Леон перевел взгляд на Веру с Думбадзе. Никола ухаживал за ней тонко и галантно. Но она нисколько не выделяла его, много шутила со всеми и была в центре внимания. Максим, в свою очередь, нередко поглядывал то на Веру, то на Олю и невольно сравнивал. Оля нравилась ему. Очень хороша. И все же она уступала Вере. В той больше душевной силы. Может, это потому, что та женщина, у нее столько пережито, а эта лишь девочка? В своих чувствах к Оле он еще терялся. Да и она стала какой-то странной. То будто влюблена, а то просто не подступись. Что с нею? Уж не влюблена ли в кого другого? А сам он? Но что можно сказать о себе, если сердце еще не утихомирилось от пережитого.
Глеб тихонько подтолкнул Максима в бок и налил в стаканы вина.
— Солнечный напиток, повторим-ка, еще за первые звездочки, чтоб не потускнели, а?
Максим охотно согласился, но за столом вдруг встал Жаров, и молодые офицеры невольно поставили стаканы.
— Друзья мои, — тихо начал подполковник, — все вы славные боевые командиры, и если вам все же нередко достается за промахи, знайте одно: я хочу, чтоб и дальше каждый из вас воевал искусно, напористо, во всю силу, чтоб из ваших солдат воспитывались воины-герои. Ведь все от вас зависит. Знаю, порой думают, взвод не велик — в нем не развернешься. Неверно это. В умелых руках и взвод — сила. Недооцени ее, и ты подведешь всех. Оцени правильно — выручишь многих.
Глеб отодвинул стакан и не сводил глаз с командира полка.
— Вы знаете, война богата примерами, — после короткой паузы продолжал Жаров. — Немало их и в нашей дивизии. Мне хочется напомнить, как в боях за Москву осталась за нами высота «207». Самая вершинка, маковка ее, очень напоминала шапку. Бойцы и прозвали ее «Егоркой в шапке». Высота была узкая и длинная. На правом скате — рота, на левом тоже. А на самой маковке взвод сидел. Закопались бойцы мелко, патронами не запаслись. Командир же не проверил вовремя, и сверху не доглядели. А немцы — в атаку! Ну, первую отбили. Не успели опомниться — опять атака. А гранаты вышли, и патроны на исходе. В рукопашной взвод бился геройски — все видели, и все же был сброшен. А тут наступление готовилось, и высоту приказали взять во что б ни стало. Ударили ротой — не вышло. Попытались батальоном. Опять неудача. Немцы засели, не подступись. Пришлось пустить по батальону с флангов и третьим — с фронта, то есть полк бросили. Все напрасно. Затем уж вся дивизия взялась. Бои разгорелись на широком фронте. Конечно, потом взяли все-таки, и то через неделю. А во что обошлась высота? В сотни убитых и раненых. В сотни!
— Мало разжаловать того комвзвода, — не сдержался Самохин и под пристальным взглядом командира полка невольно опустил глаза, ибо взгляд этот как бы говорил ему: «А я вот не разжаловал тебя, помнишь, высоту на Днепре потерял?»
— Возможно, — не стал спорить Жаров, — к счастью, комдив оказался бывалым и видавшим виды человеком и знал, расправиться с подчиненным не хитро, а вот поднять и направить его — это куда труднее.
Самохин заерзал на стуле, кусая губы.
— Да, в сотни убитых и раненых, — вернулся Жаров к рассказу. — А удержи взвод ту высоту — эти сотни потерял бы противник. Правда, потом так и было. Посадили на вершину усиленный взвод. Закопались бойцы глубоко. За ночь мины поставили, проволоку натянули. Ни подойти! А с утра немцы в атаку за атакой. День бьются, другой. Целую неделю. Так и не взяли «Егорку в шапке». Наш взвод семерых потерял, а немцы сотни. Вот вам и командир взвода!
— А кто им командовал? — не утерпел Глеб.
— Да все тот же командир…
— Кто? — не отступал Соколов.
— К несчастью, я сам, — неожиданно сознался Жаров. — На всю жизнь урок, и мне и многим.
— Вы? — даже привскочил с места Самохин.
— Садитесь, товарищ капитан, — понимающе улыбнулся Жаров. — А сейчас, — обвел он взглядом собравшихся, — предлагаю тост за командиров-героев, за всех вас, товарищи!
Тост приняли шумно.
Жаров с интересом поглядел на возбужденные лица командиров и с огорчением подумал. Многих не стало, очень многих. А полк жив, полк наступает. Война изо дня в день требует жертв, и нужно смелее выдвигать и растить людей. На кого ни взгляни сейчас, любой командир — сын полка. Кто еще недавно пришел сюда из военных училищ и уже командует ротами, как Румянцев, или руководит полковой разведкой, как Самохин; кто пришел из запаса и теперь возглавляет батальон, как Костров и Черезов, кто вырос из ополченцев, как Березин и Думбадзе, а кто просто проявил себя в сержантах и уже получил офицерские звания, как Соколов и Якорев, — все сыны полка, все его воспитанники, боевая семья героев. Правда, к каждому из них у него свои претензии. Без этого не обойтись. И все же он любит этих людей и ценит их мужество.
Откинувшись на спинку стула, Андрей все более и более присматривался к офицерам. Ему нравилось их оживление, их задор. Сколько в них силы, энергии. И как лучше управлять этими людьми, чтоб не пропали их силы? И как научить их любить и ценить свой полк?
Да, фронтовой полк! Изо дня в день, всю войну он требует от тебя непомерных сил и неустанного напряжения. Ни отдыху тебе, ни покоя. Опасности на каждом шагу. И все же ты любишь его, свой полк, ибо здесь колыбель твоей славы, искусство твоей зрелости.
Ты пришел сюда с ковыльным пушком на щеках, еще без знания жизни, без должной выучки. Вспомни-ка первые бои. Какими жуткими казались они тогда! Ты был слаб, неумел, и как ты уверен в себе теперь! А ведь бои и бои. Ты стоишь в них насмерть, либо наперекор огню, но удержим в атаке. И тебя ничто не останавливает — ни огонь, ни кровь друзей, ни их смерть. Кипучая энергия и жестокая целеустремленность, решимость и острая бдительность, привычка к ответственности перед товарищами по оружию и перед командиром — все твои большие крылья, твоя честь и слава.
Пройдет время — наступят мирные дни. И где б ты ни был тогда, в армейском ли строю, в трудовом ли коллективе, — опыт военных лет всюду станет тебе верным оружием и мудрым советчиком. Пусть не все сохранит память, и время немало повыветрит из пережитого, однако дни войны навечно останутся в сердце. И ты будешь рассказывать о них всем, и молодым и старым, и никто из них никогда не останется равнодушным к этой борьбе за свою отчизну. Никто и никогда!
Жаров порывисто встал и, подняв тост, вслух повторил свои раздумья:
— За наш фронтовой полк, товарищи!
Тост приняли еще более шумно.
Глава третья ДЕТИ ЗЕМЛИ
1
Вон она, и Венгрия! Полк готовится форсировать Тиссу, которая здесь отделяет Закарпатскую Украину от коренной Венгрии.
Еще до солнца Максим вышел к берегу, чтоб проводить дозор на ту сторону. Небо чисто и ясно, будто вымыто ночным ветром. Кругом тишина, в которой ни ветра, ни выстрела. Эх, не греметь бы тут пушками и не ходить в атаки, а пахать бы и строить на этой земле, растить бы сады и возводить чудесные здания!
Синее небо делает реку бездонной и строгой, будто недовольной отсутствием солнца. Но светлеет горизонт — преображается и река. Она тихо полощется у своих берегов, лукаво искрясь и нежась, манит к себе, обещая покой и ласку.
Тисса, красавица Тисса! Дальние горы, загородившие полгоризонта, — ее родина. С незапамятных времен стоят те горы, бежит река. Она начиналась там живым родничком, робко и незаметно, как начинается человеческая жизнь. Набираясь сил, она напоминала потом резвую девчурку-плясунью, шумную озорницу, звонкий голосок которой пленил и радовал путника. Но чем дальше, тем заметнее набирала она красоту и силу и, извиваясь меж теснин, походила теперь на беззаботную девушку, прелесть которой уже неотразима. Играя и забавляясь каждым камешком, она бурлила и пенилась, щедро дарила радостным смехом и лаской. А еще дальше, растекаясь в горной долине, она напоминала уже молодую женщину-мать и шла величаво и плавно, наливаясь соками и успокаиваясь. Ее нельзя не любить, Тиссу-красавицу!
Вслед за дозором переправились и разведчики. На рассвете им первым приходится ступить на венгерскую землю. Еще граница, еще страна. Теперь венгры. На большом пути от Волги Максим не раз встречался с ними. Жесткие люди, и воюют крепко. Уступать не любят. Видать, здорово замутили им душу. И вот их земля, их дом. Здесь их отцы и матери, их жены и сестры, дети. Каковы же они тут, дома? И враги, и друзья. Да, и друзья. Они есть и будут. И как сильны еще враги? А простые люди, как скоро поймут они, не враждовать пришли мы, и нечего бояться нас, кто больше всех хочет им добра и счастья. Чужого нам не надо.
И все же, война. У истории свои законы, и нужно силой оружия восстановить справедливость.
Выслав дозоры, Максим замаскировался на высоком холму. Куда ни глянь, всюду поля и перелески, селения с острокрышими домиками в фруктовых садах. За ними еще враг, его пушки и танки, его солдаты. Надо увидеть их и узнать, где они, сколько их, что замышляют. Павло Орлай и Матвей Козарь вместе с Максимом вглядываются в эту чужую землю, с которой к ним не раз приходила беда. Бойцы разместились тут же в низкорослом кустарнике.
— Венгрия! — сквозь зубы процедил Павло. — Земля мадьяронов. Ух, и покажу им!
— Кому, мадьярам или мадьяронам? — повернулся к нему Максим.
— Какая разница, всем.
— Смотри, Павло, мы не разбойники. Мы — советские воины, и по тебе станут судить о других. Ты и сделай, чтоб правильно судили. Врага не щади, а простой человек, да еще обманутый, — пусть мирно живет. Жизни ему не ломай. Ошибся он, поверил клевете — пусть опомнится.
— Значит, что ж, они нас гнуть, они нас в застенки, в тюрьмы, они убивать, а мы — мирись. Нет, не за тем пошел я воевать.
— Ты, Павло, одно запомни, — уже строже взглянул на него Максим, — мы не против народов воюем, нам жить с ними, а против захватчиков, что шли разорять нашу землю, против их армий. Вот их уничтожать — то святое дело.
— А с теми, что грабили и сейчас не в армии, с ними как? Как Матвей? — повернулся он к Козарю.
— Я, как Максим, как все…
— Они тебя живьем жарили, а ты их уговаривать? Не деритесь, мол, мы хорошие. Да после того Оленка домой на порог тебя не пустит.
— Перестань, Орлай! — повысил Максим голос. — Всем приказываю, — оглядел он разведчиков, — врага бить нещадно, а мирных жителей вовсе не трогать.
— Простить им отца, простить Василинку? Ну, нет! — загорячился Павло.
Не вмешиваясь, Зубец молча прислушивался к разговору. С венграми он встречался не раз, и вояки они злые. Чего жалеть их в самом деле? Дюже они жалели нас под Сталинградом? Оттого и не противореча командиру, в душе он был на стороне гуцула.
— Павло! — грозно привстал Якорев, — слышал приказ. Думай лучше. Месть — дело святое. Громить их армию, их фашистское государство — вот месть! А народу — народу свети, чтоб видел лучше.
Видя, как побледнел и притих Павло, Голев от души ему посочувствовал. Конечно, Тарас одобрял Якорева, но понимал и чувства гуцула. Венгры и несправедливость — для него одно и то же. А ему говорят, будь справедлив. Не так-то легко ему разобраться и не только ему. А Максим горячится, да еще говорит как-то по-газетному. Конечно, он командир, и сейчас ему некогда рассусоливать. А тут подушевнее надо, поглубже.
— Иди-ка сюда, сынок, — запросто окликнул он Павло, — и не хмурься, — взял он гуцула под локоть, когда тот подле него опустился на траву: — Командира и понимать, и слушать надо.
— Я не против командира — против мадьяр.
— Ну, ну!
— Я им все припомню, — сжал кулаки вспыльчивый гуцул.
— Эх, сынок, сынок, — с сожалением произнес Голев, — голова у тебя горячая, а сердце холодное.
— Это как понять?
— Теперь все изменилось, Павло, — убежденно продолжал уралец. — Ты уж не просто гуцул — сын маленького героического народа. Ты сын великой страны. Понимаешь, родной сын. У тебя большая мать-родина. Первая в мире советская держава! Первая! И ты ее воин. Это же понять надо. Куда б ты ни пришел теперь, в тебе видят советского солдата, значит — самого честного и справедливого. А ты убивать!
В душу Павло проникла смутная тревога, там все смешалось: и жажда мести, и гордость за все советское, что стало близко и дорого; и боль за отца, убитого мадьяронами, и гнев за сестру, угнанную немцами. Много мыслей и чувств атаковали его душу, то бессильную защищаться, то яростно возмущенную и готовую к любой борьбе. А Тарас Григорьевич все говорил и говорил, и слова его еще больше разжигали эту борьбу в душе.
— И еще пойми, — убеждал Голев, — вот в руках у тебя автомат, новенький, самый лучший. Знаешь ли, кто его сделал тебе?
— Ну, рабочие на заводе… — неуверенно сказал Павло.
— Не только они, — вздохнул Голев. — Летчики облетали всю Сибирь, пока не нашли белую тайгу. Ведь береза нужна. Лесорубы отправились за тысячи верст, жили в снегах, заготовляя лес. Уральские горняки добывали руду, металлурги переплавляли ее в отменную сталь. А сколько дел у конструкторов, у технологов. Оружейники дни и ночи вытачивали и штамповали детали, собирали их, пока не получился вот такой автомат. Понимаешь, заняты сотни, тысячи людей. А возьми пулемет, пушку, танк с самолетом. Там еще сложнее. А хлеб, а мясо, а сахар, что получаешь ты. Этим тоже заняты тысячи, чего там, тысячи, миллионы людей. А зачем? Неужели, чтоб убивать всех подряд? Нет, сынок, защищать свою страну. Защищать в мире все высокое и честное. Делать, чего никто никогда не делал. Понимаешь, что за оружие в твоих руках. Оружие чести! Им даже мстить нужно честно, справедливо.
Павло не сводил глаз с Голева и хорошо понимал, это большая правда. Но вокруг была чужая земля, с которой к нему в дом пришел жестокий и вероломный враг. Сколько несчастий принес он закарпатским украинцам. Это тоже правда. И как же примирить ему эти две правды?
Дозоры дали сигнал, и разведчики тронулись дальше.
2
Слово «мадьяр» можно перевести на русский как «дитя земли». Мадьяры — дети земли. Трудно сказать, как объяснить происхождение слова исторически, но смысл его ясен.
Свыше тысячи лет назад пришли сюда венгры-кочевники. С ними слились населявшие страну авары, некоторые славянские и другие племена. Пришлые кочевники постепенно перешли к оседлости и создали обширное государство. На них сильно сказалось влияние славян, распространилось христианство. Затем наступили века турецкого ига, сменившегося порабощением австрийскими Габсбургами. Ни восстание Ракоци[8], ни знаменитая венгерская революция[9] не принесли народу освобождения.
Революция была расстреляна интервенцией, в которой участвовали и царские николаевские полки. Передовая же Россия, ее властители дум, Чернышевский, Белинский и Герцен сердцем и словом своим одобряли и поддерживали пылающую Венгрию. Даже в русской армии были люди, понимавшие, как дорога им молодая мадьярская свобода. Русский офицер Алексей Гусев на тайных сборищах обсуждал со своими единомышленниками способы помощи венгерским повстанцам. Но он был схвачен и вместе с шестью товарищами повешен в Минске. Мировая война до основания потрясла и разрушила двуединую австро-венгерскую монархию. Пламя Октября перекинулось через горы, и в марте 1919 года здесь было образовано советское правительство. Казалось, вот она, долгожданная свобода и независимость! Но перепуганная Антанта задушила венгерскую советскую республику. Тем не менее, память о своей власти, веру и надежду народа на лучшие времена не смог убить и кровавый режим Миклоша Хорти. Это он впряг венгров в военную машину Гитлера. Это по его вине сотни тысяч мадьяр зарыты в могилы на тысячекилометровом пути от Волги до Дуная. Это тот самый Хорти, который испугавшись близкого разгрома, пытался на днях вымолить у союзников перемирие, но сраженный новым ставленником Гитлера, «уступил» бразды правления Салаши.
Однако среди многих памятных дат тысячелетней, полной всяких превратностей, венгерской истории, не сыскать дней хоть сколько-нибудь похожих на эти дни великого освобождения. Простые люди Венгрии лицом к лицу увидели самую могучую армию загадочной страны, которую неумные буржуа столько лет рядили в дикого зверя, постоянно жаждущего крови. Не этим ли объясняется и суровая настороженность мадьяр в первые дни великого исторического знакомства. Но они очень скоро увидели, что пришли богатыри, беспощадные в рукопашной схватке, зато бескорыстные и прямодушные в дружбе, благородные воины и труженики, ничуть не страшные тем, кто не держит другого за горло.
Только увидев мадьяр ближе, бойцы поняли, что они вовсе не дети земли, а ее пасынки, ее рабы. Половина жителей деревни не имеет земли совсем. Не потому ли два миллиона американских венгро-эмигрантов многие годы обитают за океаном. Не матерью, злой мачехой явилась для них родная земля плодороднейшей в мире долины.
Запыхавшийся Зубец бессилен вымолвить хоть слово.
— Ну-ну, что там, говори! — обеспокоенно требовал Березин.
— Мадьяры Павло Орлая задушили.
Березин вздрогнул от неожиданности.
— Да говори же толком, где, что произошло?
— Шли мы по улице, — отпив глоток воды, рассказывал замполиту еще неостывший Зубец, — с Павло шли, он и вздумал зайти попить в избу. Я у ворот присел. Жду его, нет и нет! За ним. Только открыл дверь, а на нем мадьяр толстучий сидит и за горло душит. Я как дам очередь для острастки — он вскочил аж, к стене прижался, волком смотрит, глаза кровью налились. «Вставай, Павло!» — кричу, а он хоть бы двинулся. Сердце у меня зашлось. Думаю, прикончу гада, только смотрю, дверь — настежь, и еще группа мадьяр. Глянули они, — и к хозяину — раз, да во двор его. Я к Павло, двое из мадьяр помогают мне. Смотрим, дышит; мы на шинель его и в санчасть. Вышли — смотрю, батюшки, хозяина-то венгры уж повесили. Один из них, который по-русски балакает, и говорит мне. Дескать, салашист это. Он всю жизнь покою селу не давал…
Чуть погодя небольшая группа мадьяр подошла к штабу. Они не салашисты, они не хотят зла Красной Армии и будут помогать ей, чем могут. А салашиста сами убили.
Березин долго разъяснял им о недопустимости самовольных расправ: преступника надо было судить.
— Судить? — развел руками старый мадьяр с острой белой бородкой. — Да его сколько раз судили, все суды оправдывали. Нет, сами верней сделали. Все село спасибо скажет.
Убедить их трудно, потому что с понятием суда у них связано повседневное представление о несправедливости.
Старика с острой белой бородкой зовут Миклош Ференчик.
С малых лет закабалил его помещик Видязо Ференц, богатющий магнат — по кличке «палач». Его поместье в селе Абонь, под Будапештом. Сам, как король, жил. Огромный парк. Особняк с точеными мраморными колоннами. С министрами знался. Если пир — любил шикнуть перед гостями. А с батраками и крестьянами — зверя зверее. Без плети его никто не видел, и бил нещадно. Во дворе у него посейчас поролка стоит. Что такое поролка? Да машина такая, на визгливых кубастых колесах, вроде станка с обручами для шеи и поясницы. Самого Миклоша дважды укладывали на эту поролку, и потом, бессильный шевельнуться, он подолгу отлеживался в своей конуре.
Мировая война на короткое время избавила его от тирании, но он сам вернулся сюда. Как это случилось? А так. Русская революция удивила его, поразила все воображение. Он видел истинно раскрепощенных людей, жил с ними, говорил, ел один хлеб, чего там — воевал вместе с ними против мировой гидры. Как воевал? Очень просто. Его пригласил сам Ленин. Да, сам Ленин. Миклош все хорошо помнит. Шел митинг венгерских военнопленных. Как вдруг приехал Ленин и сказал, каждый, кто пожелает, может вступить в Красную Армию. В таком случае, как и русские крестьяне, он получит землю. А кто домой хочет, пусть идет. Советская власть мешать не будет. Так сказал Ленин. Как мог Миклош отказать вождю мировой революции, и он пошел бить белых. В Царицыне был. Ворошилова видел. А повоевал с год — докатилась весть о революции в Венгрии, и потянуло домой. Ведь там своя Красная Армия должна быть. Своя советская власть. Попросился — отпустили. Только добрался до дому, в село Абонь опять, где семья оставалась, а советскую республику Антанта уже придушила. Видязо Ференц в подвале своего особняка расстреливал венгерских красногвардейцев. И до Миклоша добрался. Услышал, что из России прибыл, и на поролку. С год отлеживался после порки. Спасибо, жена отходила. Сыновей растил. С трудом из батраков выбился. Купил два хольда земли, пусть очень мало, ему и на полгода не хватает хлеба: все же — хозяин. Плохо вот, неграмотным остался. Начал его по-русски один красноармеец грамоте обучать, хорошо было пошло, уж буквы складывал, да не успел. А дома кому обучать. Работал, болел. Не до грамоты. Но в деревне он самым известным стал. Придут парни тайком и просят, расскажи дядя Миклош о Ленине. Зайдут люди в годах уже, и те просят, а расскажи, как Ворошилов воевал. Тысячи раз рассказывал. Сидят, головами покачивают только: нам бы, говорят, такую революцию!
— Как же теперь? — допытывался Миклош. — Будет земля?
— Вся ваша, — отвечал Голев.
— Раздавать будете или как?
— Наше дело гитлеровцев с салашистами побить, — разъяснял Тарас, — руки вам развязать, а земля — ваше родное, чисто венгерское дело. Сами по душе жизнь устраивайте.
Миклошу хотелось бы получить землю теперь, но раз нельзя, он готов ждать, только бы старая жизнь не вернулась.
— Старому конец, — твердо отрубил Голев, — кто захочет в петлю!
— А вы берите наших хлопцев в армию, — предложил вдруг Ференчик, — пусть привыкают. Должна быть у нас своя Красная Армия.
— Не можем, — как мог объяснял Голев, — у нас своя, у вас — своя. Вон она еще против нас воюет.
— Да то салашистская, нам бы народную теперь, как Ленин создавал. Чтоб за новую жизнь постоять могла.
Случай с Павло просто потряс Максима. Уж не он ли сам обезоружил разведчика? Тогда у Тиссы Максим все упирал на снисходительность к мирным жителям, на беспощадность к вооруженному врагу, и ни слова о бдительности. Ясно, вольно иль невольно, а он подставил солдата под удар. Командир тоже!
К приходу Якорева Орлай уже оправился и собирался домой, в подразделение.
— Ну, как, Павло? — прямо с порога начал Максим вопросом.
— Просто придушил малость, — весело ответил разведчик, — все прошло уж, и позвонки целы.
Они присели на скамью у изгороди.
— Первая попытка перевоспитать окончилась довольно сносно, — ощупывая свою шею, усмехнулся Павло, — боюсь, вторая закончится плачевно.
— Ладно тебе иронизировать, — подсел ближе Максим, — расскажи, как было?
— А как, зашел попить, а он волком смотрит подлец. Я так и сяк — молчит и все. Говорю, мирно говорю, чего хмуришься, теперь тебе лучше будет, Красная Армия освободит — живи, как хочешь. Только отвернулся я кружку поставить, он разом ко мне — и за горло сзади. Захрипел я, а не выбьюсь. Спасибо, Семен заскочил. Каюк бы мне сегодня… А теперь как? Тоже перевоспитывать?
— Мы должны быть бдительны и справедливы.
— Ну, нет!
— А по-твоему, уничтожать? Всех подряд? Что ты городишь.
— Чтоб я добром, а он меня за горло.
— А ты присмотрись, — сдержанно убеждал Максим. — Один на тебя, а другие за тебя же.
— Березин говорит, тут почти миллион хортистов, каждый десятый. А ты — один!
Максим на минуту смешался. В самом деле, у Хорти сотни тысяч приверженцев. Двести тысяч отъявленных головорезов он послал под Сталинград. Ну, обманутые, те опомнятся, поймут. А остальные? Нет, тут не так просто. Уж не перегибает ли он в своем заступничестве за простых венгров. Конечно, не увлекаться, но и не пересолить. Но справедливость прежде всего. И разве она исключает борьбу с врагом, если вся их война — самая справедливая на свете.
— Я и учу — с разбором надо. С врагом по-вражески, а с остальными — по-дружески. Поверь простые люди, они все скоро друзьями станут. Сам увидишь. И разве я учу тебя всепрощению? Нет, справедливости. Тебе, Павло, дали сильное оружие. Им легко убивать. Смотри, не оскверни его. Я не про бой говорю, ты, понимаешь.
Прибежал Матвей Козарь. Якорева вызывают к замполиту Березину. Максим пристально взглянул Орлаю в глаза и, ничего не сказав больше, ушел в штаб. Матвей позвал Павло к Миклошу Ференчику, и они отправились к нему вместе.
— Скажи, угомонился? — заговорил Матвей дорогой.
— Дай мне волю, всех передушил бы.
— Ну, и дурак. Тут разобраться треба. Максим не станет учить дурному?
— Я не против Максима, — не отступал Павло. — Я против мадьяр. Раз они воюют — значит враги.
— Остынь, Павло, тогда лучше увидишь. Остынь.
— А ты, вижу, готов уж мириться с ними.
— Сказал же, как все. Подумай, Павло, люди сколько лет по-новому жили. Тыщи километров с боями прошли. Они учились, сколько знают. Вот я и смотрю, как они говорят, как думают, что делают. Вижу, хорошо, и сам также. Знаю, Оленка мне спасибо скажет.
— Ты думаешь, я не присматриваюсь? Я тоже. А душа-то горит. Мать, может, все глаза протерла, вздыхая по Василинке. У отца, гляди, все косточки в гробу переворачиваются. А я мирись?
— Видишь, сердце кипит — остановись. Зло — плохой советчик, Павло. Остынь — тогда и суди. А лучше на других смотри — они больше нас сделали, больше и знают.
Дом Миклоши Ференчика, венгра-красноармейца, воевавшего в Царицыне, был полон народа. Павло обезоружила сердечность, с какой его встретил хозяин и его соседи, пришедшие сюда послушать русских. Они сердечно пожимали ему руки, любовно заглядывали в глаза, желали доброго здоровья. Они говорили, венгры понимают русских и никогда не хотели им зла. Все дело испортил Хорти, сдружившийся с немцами. Каждый из них, чем может, готов помогать русским. У Ференчика сын в Пеште, на заводе, есть знакомые. В русском штабе его просили быть переводчиком, и он обещал отправиться с русскими в Пешт и Буду.
Вскоре всех увлекли расспросы о советской жизни. Разведчики давно привыкли к этому, и их мало удивляли теперь даже самые курьезные вопросы, с какими обращались к ним мадьяры. А верно, земля у крестьян навечно отобрана колхозами? А верно, в России нельзя быть богатым? А верно, что всех заставляют жениться в семнадцать лет? Ответы их изумляли. Все не так.
— Много на свете хорошего, ой много, — вздыхал старый мадьяр. — Да разве увидишь все.
— Еще сколько увидишь, дед, — ахнешь только, — сказал Миклошу Демжай Гареев. — Лет через десять родной земли не узнаешь.
— Жизнь мала, сынок, мне б еще сто лет — и то мало.
— Можно жить, что и за свою много сделаешь, — возразил Демжай. — Вот у нас в Средней Азии предание есть.
Старик заинтересованно уставился на молодого казаха.
— Был, говорят, вечный скиталец Кидца, мудрый дервиш, как сказывают у нас.
— А как перевести им дервиш? — перебил Демжая Павло.
— Да как — переведи, чтоб поняли, — мудрый старик, нищий — скиталец, — пояснил Гареев, и снова продолжал рассказ. — Возраста, сказывают, не имел: вечно жил. Раз в незапамятные времена шел он по улицам многолюдного города и спросил прохожего, давно ли город основан. — Давно, — ответил ему прохожий, — давно, с тех пор, как люди живут на земле. — Лет через пятьсот Кидца снова забрел в те места. Видит, степь кругом и не следа от людского поселения. — Кем же разрушен город? — спросил он пастуха. — Да здесь всегда была степь! — сказал удивленный пастух. Еще с полтысячи лет прошло, и Кидца опять в тех местах оказался. А уж там беспокойное море синело, и на его берегу рыбаки сети снаряжали. Он и спросил их, давно ли пришло сюда море. — Да разве ходит море! — рассмеялись рыбаки. — Море всегда здесь было.
— А ведь верно сказано, — встрепенулся старый мадьяр, — коротка наша жизнь.
— Может, тогда и верно было, а теперь нет, — возразил Демжай. — У нас вон пески были, а провели воду — хлопок, сады кругом. А все помнят — в три года сделали. Волгу на Москву повернули. Где она текла! Захотели — через Москву пошла. Беломорский канал какой построили. Ай-я-яй! Если б не война — теперь уж и Дон бы с Волгой породнили. А ты говоришь, жизнь коротка. Дерзай только.
— Горе мешает, горе, сынок, — вздохнул Ференчик.
— За счастье бороться надо, тогда и горю конец.
— А пойди, найди его, счастье, — раздумчиво продолжал старый мадьяр. — У нас так сказывают: родились у старухи Жизни две дочери: Счастье и Горе. И хоть близнецы они, отличка друг от друга большая. Одна добра и, как ясный день, пригожа, а другая зла и, как ночь, черна. Выросли дочери — пустила их мать по свету на людей посмотреть, себя показать. Много стран исходили сестры, много морей переплыли, леса и горы прошли, пока не вышли на венгерскую землю. Идут — на людей посматривают. Счастье взглянет на кого, тот, как ясный день, расцветет, сил набирается, в жизни всякую удачу имеет. А Горе взглянет на кого, тот темнее ночи становится, силы и здоровье теряет, в жизни ему неудачи только. Пройдет Счастье — там смех и веселье, жизнь ключом. Куда Горе ступит, — там голод и смерть, мор с болезнями.
Узнали люди про сестер, пуще прежнего Счастье привечать стали, а от Горя хорониться начали. Счастье в дом пускают, за стол усаживают, а перед Горем двери с окнами на замок. Горе и возненавидела сестру. Ночью связала ее и живою закопала в землю. Закопала и ослепла разом: ее родная мать прокляла. И бродит с тех пор Горе по венгерской земле, смерть и болезни сеет, голод и нужду на людей накликает. А люди ищут-поищут — не могут найти счастья: не знают, где закопано.
— Ээ… старик, и искать не надо, — перебил Миклоша Акрам Закиров. — У этой сказки и другой конец есть.
— Какой другой?
— А вот какой: поймать Горе, в землю закопать, и конец ему. Тогда и Счастью легче на свет выбраться. Ясно?
— Добрый конец, ой добрый.
— Вот теперь и давай Горе закапывать, чем можем, поможем. У себя мы так и сделали.
Улыбаясь, старый Ференчик согласно кивал головою.
4
Поздно вечером в полк приехал заместитель командира дивизии полковник Забруцкий. Был он в настроении, что случалось с ним не часто, и, заявившись к Жарову, сам напросился на ужин.
За столом полковник крякнул от удовольствия:
— Страсть люблю, грешник, закусить и выпить, — наливая стакан токайского, сказал он Жарову, — особенно, если стол изыскан. Как это называется, гурман, что ли? Жена, грешница, избаловала.
Он начитан, любит блеснуть своей эрудицией, и как собеседник довольно приятен. Но сейчас весь разговор он свернул на армейские новости: кто и где снят, куда переведен, кем назначен. Жаров невольно усмехнулся. Охотник посмаковать! Его не интересует, кто продвинут, кто награжден. Нет, только, кто снят или кто отстранен. Это его стихия. Лицо у него, как налитое, раскрасневшееся, так и пышет здоровьем.
Опорожнив стакан с вином, Забруцкий самодовольно откинулся на спинку стула. Не вино, а чистое золото. Тонкий букет! И настроение создает. Душа становится мягче, добрее.
Это у кого как, возразил Жаров. Есть же дебоширы и самодуры. Стоит им изрядно выпить, и все нипочем. Сам он не терпим к таким любителям спиртного.
Полковник развеселился окончательно. Сыпал анекдотами и все доказывал, он любит людей покладистых, сговорчивых и больше всего не терпит ежистых. Слово старшего — закон, и перечить ему не след.
Жаров и Березин непроизвольно переглянулись. Ясно, это лишь подготовка атаки. Что же последует дальше? Григорий обронил, впрочем, не всяко слово — закон.
После второго стакана Забруцкий отяжелел, и лицо его сделалось угрюмым. Прищурив глаза, он предупредил вдруг, разговор будет строго конфиденциальным. Кем бы из комбатов смог пожертвовать Жаров? Командир уйдет в другой полк.
Что за загадки? Надо же знать, ради чего «жертва». Если перевод, то куда, а продвижение, — на какую должность. Что, нужен боевой офицер, чтоб умел держать в руках полк. Вот оно что. Ранен Щербинин, и подбирается кандидатура.
Андрей расстроился. И батя! Сколько прослужил он у него комбатом. Славный старикан.
Забруцкому захотелось направить разговор в нужном направлении. Может, Думбадзе? Ему только что дали майора. Энергичен, и дело знает.
Нет, у Жарова иные соображения.
Можно выдвинуть любого из трех: каждый достоин по-своему и с полком справится. А если выбирать, то Кострова. У него больше шансов. Березин не против? Значит, мнение едино.
Глубоко затянувшись, Забруцкий закашлялся и замахал руками, разгоняя дым. Кострова он не поддержит. Слишком честолюбив и дисциплины не знает. Конечно, можно понять Жарова — есть повод избавиться от неугодного офицера. На, тебе боже, что негоже. Но так нельзя. Нет, лучше Думбадзе.
Жарова передернуло. Пожелай он свести счеты, давно убрал бы Кострова. И если в прошлом он нажимал на командира, было за что. Но Костров энергичен, целеустремлен, вполне подготовлен. У него лучшие командирские качества. Этого не отнять. А что командир порою резок и неуживчив, так, может от того, что засиделся на батальоне. Всему есть предел. Нет, только Костров!
Березин поддержал командира полка, и Забруцкий вовсе нахмурился. Еще недавно он сам думал также и во всем поддерживал Кострова. Они немало послужили вместе, немало и покуролесили. Костров тоже умеет гульнуть, но и дело знает, чертяка. Он любит жить, чтобы все через край. Силы в нем неуемные. А в ком нет таких сил, тому не управлять людьми, не знать успеха. Все это Забруцкий ценил в Кострове и давно решил вытянуть его на полк. Но после событий на перевале Борго в Карпатах он не хотел мириться с комбатом. Был такой случай свалить Жарова и заменить Костровым.
Забруцкий тогда остался за Виногорова. Жаров допустил медлительность, и был отстранен Забруцким. Кострову бы и вожжи в руки, а он, черт строптивый, заупрямился. Да и командарм потом поддержал Жарова, и тот остался на месте. Может, потому он и продвигает теперь Кострова. Услуга за услугу. Нет, этого не будет.
Лучше Думбадзе. Придется ему все-таки расстаться со своей кралей. Ей предлагалась спокойная должность в штабе дивизии. Не захотела разлучаться с красавчиком тогда, придется разлучиться теперь. Но как не сердился он на Высоцкую за холодность, ее обаяние оставалось всесильным. Может, без Думбадзе к ней легче будет подступиться? Все возможно.
— Так как же? — сказал он вслух.
— Только Кострова! — подтвердил Жаров.
— Значит, услуга за услугу? И не притворяйтесь, что не понимаете, — хватил он кулаком по столу. — Он за вас на Борго, вы за него тут, так, что ли?
Вспыхнув, Жаров встал из-за стола. Да, Костров умел дурить, и с ним повозились немало. Но сейчас Костров — командир что надо. А что касается — «услуги за услугу», он, Жаров, ничего не знает, в чем его поддержал на Борго Костров. Ни сам Костров, ни полковник Забруцкий, никогда не обмолвились ни словом. Если же командование спрашивает его, Жарова, мнение, оно за Кострова!
— Мальчишка вы, а не командир полка, — рассвирепев, вскочил Забруцкий. — Как смеете дерзить и перечить. За начальника не признаете. На Борго вам повезло просто, не обольщайтесь, и еще узнаете, где раки зимуют.
Забруцкий долго не мог успокоиться. Грубя и оскорбляя, он с четверть часа разносил офицеров. Он еще покажет им свою власть. Подумаешь, возомнили, большими начальниками стали. Дисциплина есть дисциплина, и он не допустит нарушения субординации. Не дело подчиненных перечить начальнику, а беспрекословно выполнять его указания. Вот дисциплина!
— Обосновать свое мнение, — с трудом сдерживаясь, сказал Жаров, — считаю сейчас невозможным, и доложу комдиву письменно.
Схватив шинель и папаху и не одеваясь, полковник сердито покинул комнату. Ни Жаров, ни Березин его не провожали.
Андрей долго не мог остыть и молча шагал по комнате из угла в угол. Потом остановился у телефона и взял трубку.
— Виногорова! — и когда тот оказался на проводе, коротко доложил ему свое мнение, ничего не сказав однако о стычке с Забруцким.
— Очень хорошо, — сразу согласился комдив, — ваше мнение сходно с моим.
Немало подивившись этому, Жаров сразу повеселел.
— Вам написать или как?
— Ничего не надо, присылайте Кострова немедленно, — приказал генерал.
— Вот видишь, — обернулся Андрей к Березину и коротко пересказал разговор с командиром дивизии.
— Тогда зови Кострова и поужинаем вместе, — обрадовался Березин. — А то я голоден, как волк.
5
Костров не заставил себя ждать. Ничего не подозревая, он доложил о прибытии и с любопытством поглядел на празднично сервированный стол. Жаров не охотник до банкетов, а тут белая скатерть, вина, закуски на тарелках — все не по-фронтовому.
— Вы, Костров, много раз просились в другой полк, — просто сказал Жаров, слегка интригуя комбата, — ваше желание наконец исполнится.
— Я давно уже не прошусь, товарищ подполковник, — еще не понимая, в чем дело, возразил Костров.
— И тем не менее, — продолжал Жаров, — настала пора расставаться. — Садись к столу, — перешел он вдруг на «ты», — садись, садись!
Наконец все выяснилось. Пойдет ли комбат на полк?
— Пойти, пойду, — тихо ответил Костров, — и думаю, сил хватит. Но если быть откровенным, я уже прирос тут сердцем и уйду не без сожаления.
Андрей встал и поднял рюмку:
— Что бы ни было там, высоко держи честь командира, возьми отсюда все лучшее и не повтори ошибок, что случались здесь с каждым из нас. За тебя, Костров, за твои успехи!
— А я, не смея сегодня выпить второй, — взволнованно ответил комбат, — я пью за вас, товарищи. Спасибо за науку, за дружбу спасибо. Спасибо, что крепко спрашивали с меня — иначе не быть бы мне командиром. А что было неладно и плохо, просто перечеркнем. За братскую дружбу!
Все трое тепло обнялись и, поужинав, сердечно расстались.
Возвратившись к столу, Жаров налил себе чаю.
— Что за сила в дружбе! — тихо заговорил он. — Ведь крови попортил он нам немало! Чего там, все было: и приказы, и нагоняи. А люблю его, есть в нем талант, есть!
— В чем же, по-твоему, его талант? — тоже наливая себе чаю, спросил Березин.
— Умеет все делать с блеском, загораясь сам и увлекая других.
— Все это верно, — согласился Григорий, — верно и хорошо. Но одного таланта командиру мало. Мало, Андрей, и нашему Кострову порой недостает целеустремленности, и главное — такта. А такт, имей в виду, выше таланта.
— Пожалуй, верно, только чего ж ты не сказал ему самому?
— Поговорили уже и поспорили немало. Похоже, согласился.
— Трудный был орешек, а стоющий, не то что Забруцкий, — сказал Андрей, переводя разговор на другое. — Тот из людей, кто вечно всем недоволен, всем пренебрегает, портит всем настроение. Скажи, откуда у нас такие люди, да еще в звании полковников и генералов.
— У этого зла тысячелетняя история, — раздумчиво заговорил Березин. — Все веками по капле впитывалось в наших дедов и прадедов, пока не дошло до нас. А теперь вот попробуй выдави этот яд. Он так перемешался со всем нашим, чем живем и дышим, что порой и отделить не так просто.
— А ведь вся гниль на виду, — возразил Жаров. — Один на сотню заведется такой, и всем плохо. Думают, он строг, сумеет потребовать, создать напряжение в работе, придать ей размах и темп. А что получается? Дело не цветет — не вянет. А ведь он убежден, что стоит нажать, накричать, настращать, и все пойдет, как по маслу. Значит, бойся и исполняй — вся его «философия»!
— Знаешь, Андрей, я сам не терплю таких самодуров. Сколько хороших сил гибнет под их началом. Знал я в тылу одного генерала: без разносов и жить не мог. Оскорбить, запугать, наказать подчиненного — для него высшее наслаждение, чего там — все содержание жизни. А попал он на фронт — провал за провалом. Сейчас с самого две звездочки срезали. И поделом! Мне кажется, вся их «философия», что соль. Да, да обычная соль. Возьмешь ее в рот, и сразу выплевывай, как отраву. А ведь вдуматься, соль всюду: и в воде, и в пище, и без нее даже плохо. Значит, всему мера.
— Ты хочешь сказать, и такие полезны, если их немного?
— Нет, конечно. Только их пороки есть и в каждом из нас, в разной степени, но есть. Чего ты так смотришь! Возьми себя, к примеру. Ты очень крут. Жмешь и жмешь. Хмырова, например. Мы уже говорили с тобой об этом. Не маши рукой, было! Не думай, что всегда и все на пользу. Когда в меру, хорошо. А случается, не обходится и без пересолу. Чем тогда не похож ты, не на настоящего, а скажем на маленького Забруцкого. Ты не сердись. Я не считаю тебя самодуром и понимаю, все в интересах дела. Или меня возьми. За Хмырова я вступился тогда. А ты знаешь куда он попер было. Такой крик поднял в роте, прямо содом и гоморра. И веришь не веришь, а пришлось нажать и припугнуть. Не смейся, в самом деле, припугнуть! И представь, подействовало. Имей в виду, жать мы все любим. Порой без этого и не обойтись. Вот и кажется часто, толкать куда сподручней, нежели убеждать и показывать. А ты так веди дело, чтобы человек сам шел, не задерживаясь и не спотыкаясь. Люби, цени его, направляй, как надо.
— Значит, по-твоему, все дело в том, чтобы любить и уважать подчиненного.
— Не только! Чтобы командовать, надо и вести за собой, вести к цели, к успеху. Командование — дело творческое, и оно требует большого такта, чуткости, выдержки, умения владеть собою.
— Значит, не пересаливай! — подытожил Андрей. — В этом суть твоей философии. Что ж, учту. Видишь, и начальник умеет ценить критику.
— Нет, нет, еще мало этого. Раз ты начальник, в каждом сумей найти лучшее, покажи его, верно оцени, и сумей создать такое настроение, чтоб у человека крылья за спиной вырастали, чтоб он видел лучше и дальше, разбуди в нем силы, о которых он сам не подозревал. Умеешь так — и власть тебе в руки, не умеешь — уходи к чертям с дороги, пусть другие командуют.
— Знаешь, Григорий, ты много обидного наговорил мне сегодня, — встал Андрей из-за стола. — Кое с чем я не согласен. По-моему, не все верно в твоей «соляной философии». Но и дельного ты сказал много, очень много, дружище. Замечательный ты человек, и я тебя очень люблю. Дай обниму на прощанье, и пойдем спать.
Они от души рассмеялись и, обнявшись, пошли отдыхать.
Глава четвертая ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
1
Из окон Королевского дворца виден чуть не весь миллионный город. Миклош Хорти долго, мучительно долго не сводил с него глаз, и все же ничего не видел.
Власть и слава! К этому он привык, как привыкают к силе собственных рук или к ласке женщины. Но отчаяние! Оно просто сжигает его давно заледеневшую душу, лишая всяких сил и надежд. За все двадцать пять лет регентства с ним не случалось ничего подобного. Власть изо дня в день множила славу, слава распаляла власть. Теперь же все прахом.
Город казался ему серым и тусклым, даже парламент, будто воткнувший в небо шпили своих башен, обычно радовавших его извечным блеском и строгим величием. Низкие облака спускались чуть не к самому куполу, вздымавшемуся над залом заседаний палаты депутатов.
Может, лучше заручиться их решением? Он даже усмехнулся: их решением! Как и всегда, решать он будет сам. Его «демократия» в том и состоит, что он никогда не связывал себе рук, связывая их всем остальным.
Еще молодым морским офицером, будучи флигель-адъютантом у Франца Иосифа, он на всю жизнь поверил Ницше. Великие люди — вот цель истории. А массы и все их жалкие апостолы — только средство в достижении этой цели. Сам он чтит лишь высшую касту, ее власть, ее славу. Все остальное — достояние рабов, серой массы. Нет, он помнит, как говорит Заратустра. Главное — он сам, и какое ему дело до всех остальных. Власть! Разве есть большее наслаждение в жизни! Сколько он помнит себя за минувшие семьдесят шесть лет, он никогда еще не поступился своей властью.
Было, он признавал лишь Франца Иосифа. Все остальное трепетало перед ним, Миклошем Хорти, флигель-адъютантом императора. После его смерти он стал командующим флотом с титулом адмирала. Подавив тогда восстание в Каттаро, он впервые познал оргию власти. А получив командование над контрреволюционной венгерской армией, он нетерпеливо ждал своего «восемнадцатого брюмера». Этот час пробил в девятнадцатом году. Заняв Будапешт, он обрушил на город кровавый террор. После этого уже ничего не стоило стать регентом и заполучить монархическую власть. С тех пор он не расставался с белым террором. Он мнил себя «сверхчеловеком», которому все позволено. Он завоевал власть, какой никто не знал в Венгрии. И вот всему конец.
А все русские. С Карпат тучей свисает их Четвертый Украинский. Из Румынии грозно надвигается Малиновский. Венгрию с юга обходит Толбухин. Пали первые венгерские города, и русские широким фронтом устремились к Тиссе.
Выход один — порвать с фюрером. Но русские, русские! Это же знамена свободы, демократии, с которой он воевал всю жизнь. Как мириться с этим. Он уже пробовал связаться с англосаксами. Их ставка под Неаполем. И он еще в сентябре посылал к ним своего генерала Надаи. Ничего не вышло. Им очень далеко, и не успеть — ни из Италии, ни из Греции.
Значит, с русскими. Главное, сохранить власть. Никакие другие жертвы ему не страшны. Не стали же они оккупировать Финляндию. Даже Маннергейм, поддержанный социал-демократами удержался у власти. Правда, Румынию они оккупировали. Но Михая тоже не тронули. Почему бы русским не сохранить и Хорти? Перемирие им не менее выгодно и в Венгрии. Но фюрер! Разве он примирится с капитуляцией своего последнего союзника?
Хотел того Хорти или не хотел, но ему пришлось послать делегацию в Москву. Что ж, он подобрал ее из надежных людей — граф, жандарм, дипломат.
Переговоры начались первого октября. В числе прочих условий Хорти особо настаивал на главном: прекращение военных действий, участие англичан и американцев в оккупации Венгрии, беспрепятственный отход немцев. С ними он ссориться не хотел.
Но Москва выдвинула свои требования: она гарантировала независимость Венгрии и настаивала на немедленном повороте венгерского оружия против немецких войск.
Пришлось согласиться. Делегация из Москвы уже возвратилась. Теперь остается осуществить предварительную договоренность с русскими. Для этого нужно открыть им фронт и объявить войну Германии. Но у него нет сил ни уступить русским, ни остаться с Гитлером. Его страшит стихия масс, могущая захлестнуть всю Венгрию. Где же тогда выход?
Ему казалось, выход подскажут другие, если он соберет, нет, не парламент, а хотя бы Коронный совет. И не затем, чтобы считаться с другими, а затем, чтобы переложить на них всю ответственность. Решать же все равно он будет сам. Только сам!
2
Коронный совет был собран в резиденции Миклоша Хорти. Министры и генералы чинно уселись за тяжелый старинный стол. Живописные с пышной позолотой плафоны создавали иллюзию разверзшихся сводов, и словно громовержец занес над ними свою карающую руку.
Лица у всех натянуты и настороженны. Строго почтительные взгляды присутствующих устремлены на регента, занявшего председательское место. Насупленный Хорти чем-то очень походил на встрепанного нахохлившегося коршуна. Нет, все на нем гладко отутюжено, и костюм в полном порядке. Просто ему недостает душевной собранности, сосредоточенности, веры в себя, обычно характерных для его облика. Они привыкли, что он всегда и во всем повелевает. Сегодня в нем явно ощутима растерянность. Хорти и растерянность! Что ж, каждый из них тоже растерян по-своему. Ураган событий никого не оставляет равнодушным. Пала Румыния и Болгария. Капитулировала Италия. Сложила оружие Финляндия. Из сателлитов фюрера еще держится лишь Венгрия. Зачем их сегодня собрал Хорти? Ни начальник генерального штаба Вереш, ни министры, ни сам премьер Лакатош — никто точно не знал, что же предпримет их регент, их бог и демон Миклош Хорти.
Но едва заговорил он, как все вздрогнули и сразу съежились, как-то сжались, упрятав головы в плечи. Что он говорит такое? Крах Германии неизбежен. Выход один — просить перемирия. Он, Хорти, располагает сведениями, что условия капитуляции будут приемлемыми. Им сохранят самостоятельность. Вместе с русскими или сразу же вслед за ними придут англичане и американцы. Главное, как избежать немецких репрессалий. Им придется быть готовыми к жестокому насилию. Просто так немцы не сдадут Венгрии.
Министры заерзали в креслах. Ясно, напрашивался вывод — противопоставить силу насилию, оградить правительство, столицу, весь народ от неизбежных репрессалий. Но регент ни слова не сказал об этом. Как же он думает капитулировать? Уж не подставляет ли он и их головы, сохраняя одну свою? Нет, черт связал их одним концом, и им не избежать ответственности за все содеянное, если у них не станет власти. Но как удержать и уберечь эту власть, если русские пушки уже гремят над Венгрией, а немецкие эсэсовцы с пистолетом у виска стоят в Будапеште? Истинно, чертов круг, и им надо разорвать его сегодня же, решиться на такое, чтобы и в этот суровый час остаться в выигрыше.
Хорти сел, угрюмо уставившись на министров. Вереша он слушал рассеянно и безучастно. Венгерские армии отошли за Тиссу и Бодрог. Их положение катастрофично. Была попытка — часть сил отозвать в Будапешт, но немцы воспротивились. А сегодня утром начальник генерального штаба фюрера Гудериан прислал ультиматум. Немцы требуют в течение двенадцати часов передать им командование над всеми венгерскими частями.
Премьер-министр Лакатош говорил нудно и бессвязно. Дебрецен зажат в тиски. Подойдут русские к Будапешту — все проиграно. Поэтому хорошо бы запросить мнение палаты депутатов и верхней палаты. Хотя немцы о всем уже поставлены в известность, но лучше спросить и их.
Ясно, он снимал ответственность с правительства за разрыв с Германией.
Опять заговорил Хорти. Немцы разграбили Венгрию. Им отдано все, что они требовали. Отступая, они опустошают венгерские города и села, забирают все ценности, взрывают здания, предприятия. Так поступают лишь злодеи и бесчестные партнеры.
Члены совета изумлены. Что говорит их регент! А сколько он сам пролил венгерской крови, скольких отправил в тюрьмы? Жег, разорял, грабил? На Дону он загубил целую венгерскую армию. Шестьсот тысяч солдат он отдал Гитлеру. А в Будапеште у него нет и дивизии, чтоб защитить столицу. Правда, каждый из них тоже причастен к этому. Сейчас поздно обвинять друг друга, и нужно действовать, действовать, не подставляя своих голов. Ах, Хорти не хочет нанести немцам удара в спину. Тогда на что же он рассчитывает? И чего хочет от Коронного совета?
Салаши глядел на них и в душе посмеивался. Слова и слова. Ничего больше у них нет. Жалкие политические гангстеры. Завтра им суд, и их страшит возмездие. С Гитлером они хотели бы, но уже не могут, с народом они боятся. А середины нет. Оттого они бессильны и жалки. Что стоит теперь их безвластная воля! Сила лишь у него, и сегодня пробил его час. Его ничто не остановит — ни кровь, ни смерть, ни ужасы разрушений. Он пожертвует всем, и фюрер это оценит. А народ был и останется быдлом.
Министр земледелия Юрчек горячо ратовал не спешить. Лучше остаться с немцами до конца. Когда же он заговорил об угрозе коммунизма, Хорти спесиво заявил, что у них достанет сил пресечь любые притязания демократии.
После новой речи ему удалось наконец склонить совет к согласию на разрыв с немцами. Он тут же прервал заседание и выступил по радио с заявлением, в котором просил у союзных держав перемирия.
Министры переполошились. Что же будет теперь? Поймут ли их немцы? Или они сразу же обрушат на них свои репрессалии? Много спорили и обсуждали, как быть, но никто из них и не подумал, чтобы повернуть оружие против немцев, чтобы открыть фронт советским армиям и честно выполнить уже согласованные условия перемирия. Никто! Их пугал страх перед своим народом, которому Советская Армия несла освобождение от всего фашистского и подъяремного.
Неожиданно заявился германский посол. С ним прибыл также только что прилетевший из Берлина особо уполномоченный Гитлера, посол Ран, выразивший желание переговорить с регентом с глазу на глаз.
В кабинете Хорти Ран заговорил сухо и требовательно. Фюрер не простит измены и Венгрии не сдаст. Командование венгерскими частями немцы немедленно берут на себя. Фюрер требует беспрекословного подчинения. Что бы ни произошло сегодня, ничему не противиться. Господин Хорти сам вывел себя из игры, и он будет вывезен в Германию. Жизнь ему будет гарантирована. Все!
Кусая губы, Хорти путанно объяснял ситуацию. Он же не ударил немцам в спину, он…
Его бесцеремонно перебил Ран. К чему объяснения. Власть уже не принадлежит Миклошу Хорти. А безвластный регент… что он фюреру! Продолжать заседание Коронного совета уже бессмысленно.
Они молча возвратились в зал. Послы фюрера распрощались церемонно и холодно. Министров же сразу охватила паника.
— Что ж, мы сделали прыжок в неизвестность! — обреченно сказал Лакатош.
— Прыжок в могилу! — уточняя, взвизгнул Юрчек. — Они сегодня же создадут новое правительство, но уже без нас.
Мрачный Хорти молча стоял у окна и глядел на Дунай. Нетерпимый к покою, он все так же спешит к морю и несет туда свои силы, энергию. А куда и на что затратил свои силы он, Хорти, мнивший себя сверхчеловеком, новым Заратустрой, готовым удивить мир? Он всю жизнь пытался сдержать бег времени. Безумец! Время же так всесильно. Как и Дунай, оно несет свои дни и годы в вечность. И видно, нет сил противостоять законам времени. Во всяком случае время его кончилось, и кончилось бесславно. Но если б ему пришлось начинать сначала, он, видно повторил бы тоже самое. Он бы никогда не смог примириться ни с какой демократией. Уже неважно, понимает он или нет, но в этом его трагедия и его позор. Пройдет время, и в целой стране, которой он управлял четверть века, не останется никого, кто бы помянул его хоть одним добрым словом. Ни одного человека!
В тот же день немецкие эсэсовцы и их нилашистские наемники совершили путч. Они захватили радиостанцию и телеграф, заняли вокзалы, все министерства, здание генерального штаба и Королевский дворец. Низложенный Хорти подписал отречение в пользу главаря нилашистов Салаши.
3
Из года в год у Имре Храбеца все шло хорошо. Как инженер-дорожник, связанный с военным ведомством, он пользовался известной свободой даже в условиях осложнившейся военной обстановки, что позволяло ему бывать в любом из районов страны, куда доступ другим крайне затруднен.
Несчастье же свалилось нежданно-негаданно. Вот уже сколько дней его неотступно преследует тайный агент, избавиться от которого никак не удается. Конечно, легче всего было бы просто уехать, но партийные дела требуют, чтобы он был именно здесь, в Будапеште, А злополучный шпик чуть не каждый день бродит за ним по пятам. Неужели Имре выслежен?
Сегодня как раз назначено конспиративное собрание. Впервые после длительного перерыва соберутся все семеро коммунистов их организации. Больше года они работали разобщенно. Коммунистическая партия была распущена, и каждый из них на свой риск и страх воевал против хортистов и немцев. И вот партия восстановлена. Она живет и действует. Снова есть свой центр, связи, есть своя газета. Значит, работа закипит вовсю.
Но как попасть на собрание? Не может же он привести за собой шпика и выдать всех семерых. Остается перехитрить. Из дому Имре вышел задолго до срока. Без конца кружил по дворам и переулкам. За ним никого. Неужели избавился? Но у самой конспиративной квартиры он встретился с ним лицом к лицу и от неожиданности даже оторопел. Перехитрил, называется.
Смутился на этот раз и шпик. Он застенчиво чуть не вплотную приблизился к Имре и заискивающе робко сказал:
— Я напугал вас, простите.
— Нет, что вы. Чего мне пугаться?
— Вы не бойтесь. Я давно слежу за вами.
Имре изумился такой откровенности.
— Я знаю вас… — наклонился к нему агент, продолжая полушепотом, — со дня взрыва Гембеша[10].
«Выследил, подлец», — вздрогнул Имре и холодно сказал:
— Вы ошиблись, я никогда там не был.
— Нет, были, еще с сумкой, помните?
— Повторяю, ошибаетесь.
— Вы не бойтесь, я никому не скажу. Меня Йожефом зовут, из Мария-Валерия телеп[11] я. Работал на кондитерской фабрике, а заболел — меня и выбросили. Мне хочется вам помогать. Вы не бойтесь, выложил он все сразу.
Имре глядел на него сначала сухо и настороженно, а потом невольно заулыбался. Вот-те и шпик!
— Ладно, Йожеф, будем знакомы, — протянул он руку юноше. — Только никакой помощи мне не нужно. Вот, может, помочь тебе, на работу устроиться?.. — и он в упор поглядел на парня.
Лицо у него бледное, глаза радостные и лихорадочные, рука сухая и холодная. Юношеское прямодушие и взволнованная непосредственность, даже боязнь, что его не поймут и могут оттолкнуть, — все в нем вызывало доверие и сочувствие.
— Поверьте мне, очень прошу… — молил он тихим голосом.
— И все же, Йожеф, ходить за мной не надо, — сказал Имре мягко. — Если хочешь, приходи завтра… — и они условились, где и как встретиться.
Йожеф оказался довольно смышленым расторопным парнем, и Имре пристроил его в одну из дорожных команд, находившихся в его подчинении. А прошло время, и они сдружились. Имре стал привлекать его к работе. Посылал расклеивать листовки, распространять нелегальную газету, приучал к конспирации. Несколько позже он решил включить его и в группу подрывников. Йожефу удалось подорвать одну из немецких машин с боеприпасами. Потом он участвовал в подрыве железнодорожного участка западнее Буды. В свою организацию Имре его не включал, и Йожеф оставался беспартийным партизаном.
Эти дни Храбец готовил крупную диверсию с товарищами из Уйпешта. Его помощи попросил старый боевой друг Тибор Бан. Когда-то они вместе учились. Потом жизнь развела их на некоторое время и снова свела на пути борьбы за новую Венгрию. Каждый из них к этому пришел по-своему. Имре прочитал однажды коммунистическую листовку, и захваченный призывом, выучил ее наизусть. Потом переписал листовку в нескольких экземплярах и сам расклеил по городу. У него просто захватывало дух. Еще бы, он революционер! Но этого революционера никто не знал, ни с кем он не был связан, что его весьма огорчало. Расклеивая однажды свои листовки, он нарвался на нилашистов. Погоня была ужасной, и Имре чуть не схватили. Спасли его рабочие. Выяснив, в чем дело, они свели его к своему товарищу, которым оказался его старый друг Тибор Бан. Так он спознался с коммунистами. Тибор перебрался потом в Уйпешт. Вот он и звал теперь Храбеца на помощь. Они затеяли там взорвать штаб нилашистов. План дерзкий и опасный, и Имре согласился.
Он отправился туда на несколько дней, собираясь по окончании немедленно уехать в Сегед для связи с партийным центром. Помогал уйпештским товарищам готовить взрывчатку, разрабатывать весь план операции. Потом назначили день и час. Тибор настоял, чтобы Имре участвовал теперь лишь в охране. Ему дан пост. Смотри и наблюдай, все по инструкции. Взрыв же поручен другим.
Какая это мука ждать и бездействовать. Имре не находил себе места. Но пришел час, отсчитаны последние минуты — и взрыв! Теперь домой и на вокзал. Будут помнить нилашисты свой штаб.
После памятника Гембешу, взорванного совсем недавно, этот взрыв прозвучал с особой силой. Все понимали, вооруженная борьба против нилашистов начинает все расширяться и расширяться. Правда, ее масштабы еще не велики. Они не идут ни в какое сравнение ни с борьбой чехов и словаков, ни тем более с размахом борьбы русских партизан. Тем не менее, все же борьба с оружием в руках, за которую все с большим энтузиазмом берутся венгерские патриоты, и в этой борьбе будут постепенно выковываться первые кадры будущей венгерской народной армии.
Довольный успехом операции, Имре направился на вокзал. Он уже сел в вагон, как заявился еще один из участников только что состоявшегося взрыва. Оказывается, трагически погиб Тибор Бан. Имре покинул Будапешт, убитый горем.
Значит, и Тибор! Как же чудовищно несправедлива судьба! Но выход для революционера будет один — работать теперь за двоих.
4
С прибытием Имре Храбеца в Сегед вся обстановка резко обострилась. Даже инженеру-дорожнику, в качестве которого он официально прибыл в город, нелегко было выехать обратно, тем более с серьезным грузом политической литературы. Пришлось задержаться.
Красная Армия стремительно продвигалась к Дунаю. С часу на час ожидалось се вступление в Сегед, и Имре охватило нетерпение. Какие они, русские? Как отнесутся к венграм? В своем воззвании они обещают им свободу и независимость. Неужели придут дни, когда не будет ни Хорти, ни Салаши, ни немецких фашистов? Какое это счастье, свобода!
Имре не сидел без дела. Партия развертывала гигантскую работу. Она поднимала массы на борьбу за новую Венгрию и собирала под эти знамена всех патриотов. В партийном центре такая уйма работы и так еще мало сил. Храбец составлял листовки и печатал их в тайной типографии, писал статьи в нелегальную газету. Сколачивал группы подрывников, направляя их на пути отхода немцев.
Встреча советских войск вылилась в грандиозный праздник. Все ликовало. Русские вовсе не грабят и не убивают. Они так великодушны и так дружественны. На улицах многотысячные толпы мадьяр, которых изо дня в день пугали «красным варваром». Как же можно так оболгать целую страну.
Пал Хорти, и бразды правления с помощью эсэсовцев захватил Салаши. Имре отлично понимал, что дни нилашистского лихолетья уже сочтены. Подумать только, русские в Сегеде! Они заняли Дебрецен, Байю. Двинулись на Будапешт. Они уже пробились к озеру Балатон и штурмуют линию «Маргит»[12]. Идет гигантская битва за Венгрию, и весь Дунай в огне. Пусть сгорает все старое и отжившее. Скоро, скоро кончатся черные фашистские годы!
Работы теперь стало втрое. На освобожденной территории всюду открыто создавались партийные организации. Образован Центральный Комитет Коммунистической партии. Затем возник Венгерский фронт национальной независимости. Все более и более ширилось демократическое движение. В Сегеде сразу же появился национальный комитет. А скоро национальные комитеты стали возникать повсюду. Сражаясь с врагом, русские ни во что не вмешивались, и венгры самостоятельно строили органы своей власти.
Имре просто изумлялся. В истории не было примера, чтобы страна получала независимость из рук народа, против которого она только что вела и еще продолжала вести преступную жестокую войну.
Фронт независимости объединил все национальные силы, хоть в какой-то степени способные на борьбу за новую демократическую Венгрию. Его боевая программа ясна и конкретна. Изгнание немцев. Помощь Красной Армии. Немедленное вступление в войну против фашистской Германии. Привлечение к ответу изменников родины. Обеспечение политических свобод народу. Широкая земельная реформа. Восьмичасовой рабочий день. Борьба за новую демократическую Венгрию.
Вместе с другими Имре изо дня в день разъяснял эту программу на массовых митингах и собраниях и отлично видел, как близка она всем людям.
В эти же дни на всей освобожденной территории шли многолюдные митинги, и на них избирались депутаты во Временное национальное собрание. На одном из таких митингов была выдвинута и кандидатура самого Имре Храбеца, что для него явилось большой неожиданностью.
Значит, и ему придется ехать в Дебрецен, где в ближайшие дни собирается национальное собрание. С высокой трибуны Имре смотрел на тысячные массы людей, и его невольно охватывала гордость за все, что переживает сейчас страна. Еще вчера за любое участие в таком митинге их судили жестоким неправым судом и отправляли в тюрьму или на виселицу. А сегодня они избирают своих депутатов, чтобы раз и навсегда покончить с черными законами хортистского лихолетья и утвердить свои истинно народные законы. Пусть будет трудно, даже очень трудно. Они вынесут невыносимое и станут хозяевами своей судьбы. Он глядел на радостно возбужденные лица людей и знал, этим людям, избравшим его в верховный орган государства, он отдаст все силы, всю энергию, а понадобится и саму жизнь, как не щадил ее он и раньше, в дни сурового подполья.
6
Дебрецен! Шумный свободный Дебрецен! Всего два месяца назад степенно строгий и словно отрешенный от всего живого, казалось, он безропотно сидел в наручниках за хортистской решеткой. Сегодня он бурлит от радости, встречая избранников освобожденного народа.
Имре Храбец с раннего утра бродил по городу, как и все, возбужденный и радостный. Там, за линией фронта, он по мере своих сил разрушал черный хортистский строй. Здесь ему предстоит создавать новый мир, ради которого принесено столько жертв.
У старого Кафедрального собора с двумя четырехугольными башнями, увенчанными шатровыми куполами, и у Кальвинистской академии, расположенной сразу же за собором, с раннего утра не стихал людской гул. Имре с трудом выбрался из многотысячной толпы и направился к шестиколонному порталу академии, особенно широко известной еще со времен Кошута. Почти сто лет назад здесь заседали депутаты эвакуированного из Пешта парламента и по предложению Кошута возвестили тогда о низложении династии Габсбургов и провозгласили республику.
Что ж, в эти знаменательные дни народные избранники отдадут дань уважения славным традициям борьбы за национальную независимость. Собравшись здесь же, они пойдут много дальше, примут воззвание к народу, создадут временное правительство, и заложат основы истинно народной государственности.
Сегодня 21 декабря[13]. Венгры запомнят его на всю жизнь, как день рождения нового венгерского государства, демократического строя, становления новой народной власти.
На виду у всех депутаты степенно поднимались на ступени и через массивные двери входили в зал, осторожно продвигались меж скамьями, за которыми из века в век люди многих поколений слушали здесь молебны и смиренно молились о ниспослании божьей благодати, и, занимая депутатские места, раскрывали перед собой не библии в тисненных переплетах с притчами из ветхого завета, а воззвание Фронта независимости, с программой которого им предстоит выступать с трибуны Национального собрания.
Место Имре Храбеца оказалось близко к постаменту, на котором возвышался стол президиума и трибуна. За нею — кафедра, с которой в свое время выступал Кошут. На одной из стен крупно выделялась надпись из священного писания: «Молись и работай». Ниже виднелись картины о событиях венгерской революции, попранной затем монархистами и больше всего Миклошем Хорти. Справа ниже висела мемориальная доска из черного мрамора с золотыми буквами в честь заседавшего здесь Государственного собрания 1849 года[14].
В зале все дышало историей, которую предстояло теперь делать заново.
После открытия Национального собрания один за другим выступали депутаты. У них разные лица и разный темперамент. Очень разны и программы их политических партий, которые они здесь представляют. Но сегодня все они поддерживают программу Фронта независимости, разработанную коалицией партий. Как будет потом, трудно сказать. Многие из них, возможно, и отшатнутся от этой программы и начнут петлять в дебрях политической казуистики. Но сейчас за стенами академии стоит народ, и он ждет твердых и ясных решений. И кто не хочет потерять его доверия, а без этого как заниматься политикой в освобожденной стране, волей иль неволей должен ратовать за эту программу, в которую коммунисты вложили максимум сил и энергии, чтобы она действительно отвечала чаяниям масс.
Имре обвел взглядом весь зал заседаний. Здесь все воодушевлено и ничто не равнодушно. Даже боги и их апостолы, казалось, с изумлением глядели со стен и сводов зала, словно дивясь каждому слову и каждому лицу. Ни привычной музыки органа, ни тягучих песнопений, ни смиренных молитв, искусно усыплявших человеческую волю, — все дышит революционной страстью, политическим лозунгом, верой в скорую победу правого дела.
Там в столице пал мрачный Хорти, последние дни доживает исступленный Салаши и еще сопротивляются обреченные эсэсовцы — здесь звучит им последняя похоронная и уже рождаются демократические институты.
В первый же день заседания единогласно принято воззвание к народу. Смысл его прост и ясен — разбить врага и возродить Венгрию. Имре вслушивался в каждое слово и понимал, что все воззвание — боевая программа действий, от которой нельзя отступать. Временное национальное собрание как носитель венгерского суверенитета, брало в свои руки управление страной, оставшейся без руководства.
На другой день было избрано Временное правительство. Его главою назначен генерал Миклош Бела. Два месяца назад он перешел на сторону Советской Армии, бросив на произвол свои войска. Почему он не повернул их против немцев? Весь состав правительства вызывал на размышление. Граф Телеки, вечно находившийся в плену у католиков, получил пост министра просвещения и культов. Жандармский генерал Фараго стал министром снабжения. Правда, оба они были членами делегации, ездившей в Москву на переговоры как представители Хорти. Но что из того. Этого мало еще, чтобы проникнуться интересами народа. И вот у одного пища духовная, у другого — материальная. Но хватит ли у них духу наладить это дело. Надо же бить в набат! Бывший начальник генерального штаба Вереш возглавит Министерство обороны. Три бывших хортистских генерала и один граф — разве не естественно недоверие к ним? Это чувствовал не один Имре Храбец.
В состав правительства вошли по два представителя от партии мелких сельских хозяев и социал-демократов, один от национально-крестьянской и трое — от коммунистической. Перебирая имена, Имре раздумывал об этих людях. Не все ему правилось. Но своего рода союз классов, коалиция партий требовали уступок. На сколько крепок будет этот союз? Ясно, борьба неизбежна. Сейчас они все за демократию. Но за какую? В самом деле, какой будет новая демократия? Будет ли она буржуазной, защищающей главным образом имущие классы? Тогда возврат к старому почти неизбежен. Или она станет истинно народной, чтобы расчистить путь к социализму? Тогда будут оправданы все жертвы, вся борьба. Об этом Имре только что писал в своей газете. Все зависит оттого, какие силы, какие партии и в какой мере внесут свой вклад в дело спасения и возрождения страны.
Как-то меж заседаниями Имре познакомился с уже немолодым журналистом Бенчем. Щуплый, сухой, он был старым волком буржуазной прессы и, видимо, давно усвоил ее нравы. Засунув руки в карманы заметно укороченных брюк, он самодовольно рассуждал о событиях и перспективах. Имре просто удивил пессимизм и голый нигилизм его суждений. Он ни во что не верил — ни в народный фронт, ни в воззвание, ни в правительство. Это же конгломерат, говорил Бенч, все передерутся. Имущие классы ни в чем не уступят низам. В конце концов они приберут власть к рукам и все повернут на старое. За ними опыт, капитал, вся казуистика испытанной дипломатии. Он не скрывал своих одобрений в адрес этих сил. Его отец крупный буржуа. Его магазины по всему Будапешту. Разве он примирится с демократией нищих. Что не говорите, любому человеку дорог каждый свой пенг[15], миллион пенгов еще дороже. Кто не согласится с такой философией? Потом и война еще не кончена. А история любит каверзы.
Имре заспорил. А воля народа, а его гнев! Нет, к старому возврата не будет. Воззвание принято единогласно, и силы левых будут расти не по дням, а по часам. От этого не уйти. Пусть за Дунаем и в столице еще бушует война и свирепствует немецко-салашистский террор, а новая Венгрия уже родилась, и она будет расти и крепнуть.
28 декабря Дебреценское правительство сделало первый решительный шаг — оно объявило войну фашистской Германии. Как и все, Имре настороженно присматривался к действиям правительства. Ему понравилась его программа. Это программа Фронта независимости. С чувством удовлетворения он встретил и объявление войны Германии. Но его удивило, что почему-то не были приняты законы, по которым немедленно формировалась бы новая венгерская демократическая армия. Видно, нужно время, решил про себя Храбец, готовясь к возвращению в Будапешт. Нет, он не мог еще знать, что бывший хортистский генерал, вынужденно порвавший с венгро-фашистами, станет из месяца в месяц саботировать формирование новой армии и ее участие в освободительной войне против гитлеровцев. И жандармский генерал Фараго не захочет организовать снабжение, и жителям венгерских городов придется пережить дни жуткого голода, пока их не спасет советская помощь. Все еще будет — и саботаж, и провокация, и открытая борьба, и все ляжет на плечи народа, пока он не победит окончательно.
Поглощенный повседневной работой, Имре не сразу поймет и разгадает гнусные происки врага, но вместе с теми, кто останется верным народу, он переживет и радость возмездия!
Глава пятая ТИССА
1
Леон давно горел стремлением отличиться, и все не мог. Чего недостает ему опередить всех? Желания? Или умения? А может, просто случая? Горько сознаться, но все было, и все есть — нет блеску. А было гремел ведь, было. Правда, службу и сейчас он несет не хуже многих. А «не хуже» — честь не велика.
Яков сочувственно подталкивает его. Они спорят, ссорятся, и дружба не ладится. Таня, в свою очередь, требует, покажи ей, на что ты способен, и вместо любви одна канитель. Да и с Березиным столкновение за столкновением.
Последнее время Леон немало завидовал Якореву и Румянцеву, всем комбатам. Им легче. В штабе совсем не то. Да у него и душа не штабиста. Ему бы вести и приказывать. Ясно, он не на месте. Жаров давно обещал послать в строй, дать подразделение, да все медлит. А что, не слишком ли многое хотел Леон делать в одиночку? Эта мысль точила душу, отравляла сознание и вольно иль невольно, а заставляла мучительно искать серьезных решений. Как же научиться глубже понимать людей, ценить их, быть душою вместе с ними. Как?
Эти раздумья в какой-то мере и подготовили Леона к новому назначению. Тяжело ранило командира роты автоматчиков, и на его место Жаров поставил Самохина. Роту он принял в бою и сразу почувствовал себя как-то увереннее, сильнее. Да и Таня рядом. Ее только что перевели сюда санинструктором. Значит, опять вместе. Судьба.
— Ты рада моему назначению? — спросил он ее вечером.
В сыром окопе было тесно и неуютно, но ни сам Леон, ни Таня вовсе не замечали этого.
— Конечно, рада.
— И будешь любить, по-настоящему?
— Как заслужишь…
— Ох, и характер!
— Ты как-то сказал мне: или — или, — мягко улыбнулась девушка. — Я тоже скажу: или — или. По-твоему любить — уступать, а по-моему — это требовать. Чего ты хочешь?
— Требовать, Танечка, и уступать. Этого не разделишь…
Слова говорились обычные и даже немножко сухие, а тихий голос Тани был нежен и ласков, он пьянил. Она казалась сейчас такой родной и близкой, какой он не видел ее с самого Днепра.
— Пусть так, дай расцелую, — протянул он к ней горячие руки.
Она вскинула на него большие удивительно ласковые глаза, и не отступила. Леон чуть не задохнулся.
— Ну, перестань, не надо, перестань же…
— Да разве могу я…
— Только помни, Леон, — тихо сказала Таня, — я не отступлюсь, и буду много требовать.
— Мне ничего не страшно, лишь бы знать, что любишь.
Таня доверчиво прижалась к его груди. «Вот дурной, разве я пугаю».
Весь вечер Леон был в радостном возбуждении. К себе в окоп он возвратился поздно ночью. Достал фляжку и налил с полстакана токайского вина. Зачем-то поглядел на ясное небо и инстинктивно отыскал Полярную звезду. Поднял перед собою стакан, словно чокаясь с нею, и выпил залпом. Он прилег на постель и долго лежал с открытыми глазами. Как она дорога ему, Таня, ее зовущие глаза, влажные чуть упрямые губы, сильные ласковые руки. А главное — ее душа, светлая и непокорная. И чем он заслужил такое счастье? Нет, сегодня, как никогда, он знает ему цену. А забывался, и его одолевал сон — к нему сама приходила Таня, тихо садилась рядом, смотрела на него горящими глазами и, ласково обнимая, целовала в щеки. Он порывисто искал ее губы и… просыпался. Таня исчезала. Тогда он снова подолгу лежал, запрокинув руки за голову, и смотрел на звезды. Но звезды, слишком привыкшие к глазам влюбленных, оставались равнодушными и загадочно далекими.
2
Наутро Самохина вызвали к Жарову. Окруженный немецкий полк яростно сопротивлялся, и вместе с румынами предстоял серьезный бой на уничтожение окруженных. Автоматчики засиделись в резерве, и по дороге к Жарову Леон уже настроился на этот бой. Вот только куда поставят его роту? Какова будет ее задача? Но сколько ни думал он, все обернулось совсем иначе. Ну, может же так не везти с первого боя в новой должности! Полк, оказывается, снимают и спешно перебрасывают на Тиссу. А пока придет смена, Леону предстоит возглавить передовой отряд и выступить туда немедленно. Немцев, по слухам, там нет. Задача — стремительно выдвинуться за реку и подготовить полку плацдарм для переправы.
— Тисса, что Днепр, — напомнил Жаров. — Смотри в оба.
Леон поморщился, но смолчал. Он по-своему понял слова командира, как намек на ту ошибку, под Киевом. Там он действительно промахнул, потерял ключевую высоту и осложнил борьбу за плацдарм. Ему и досталось тогда крепко. Роту пришлось передать Румянцеву, а самому снова взяться за взвод. Яков Румянцев, Жаров с Березиным и многие другие отличились при форсировании Днепра, а он, Самохин, не получил даже ордена. Много тогда пережито, много перечувствовано. Нет, Днепра больше не будет. Он не позволит себе увлечься. Да и задача — не из сложных. Подумаешь, форсировать без противника.
Роту на машинах выбросили к венгерской Тиссе ниже Чопа. Противника, в самом деле, не оказалось. Леон сноровисто организовал переправу и быстро закрепился на правом берегу. Ну, и река. Сколько раз ее можно форсировать. У Рахова — раз. За Мукачевым — два. И вот сегодня. Дай бог, последний.
Рота окопалась и спокойно поджидала полк. Впереди расстилалась ровная пойма правобережной Тиссы. В километре виднелась полудугой изогнутая дамба, и Леон долго присматривался к ней. Позиция, что надо. Разве занять? Тогда полку еще легче преодолеть Тиссу. Конечно, занять.
За дамбой открылся мелкий кустарник, и за ним домики в садах. Снова окопались. Теперь совсем хорошо. Можно спокойно поджидать полк. Противника не оказалось и за дамбой. Однако к полудню в кустарнике заурчали немецкие танки. Леон насторожился. Через минуту — другую семь танков двинулись на дамбу. Бронебойщики подпустили их как можно ближе и ударили в упор. Две из машин поволокли за собой длинные хвосты дыму, и танки отпрянули. Леон понимал, это не надолго.
Минут через десять немцы решили обойти роту справа. Пришлось загнуть фланг. Тогда немцы двинулись в обход слева. Ясно, берут в клещи. Пришлось загнуться и слева. Двадцать танков. Это кулак. А роте приходится отражать его удары растопыренными пальцами. Своего кулака у Леона нет. Остается беспокойно поглядывать назад. Как бы не обошли.
Теперь уже атака за атакой. За танками показалась пехота. Одну из машин подожгли бронебойщики. Еще две запылали от огнеметов. Горящие танки заметались по полю, бросились в кустарник, безуспешно пытаясь сбить пламя. Затем затихли и одна за другой оглушительно взорвались. Когда немцы повторили удар слева, там уже не было огнеметов, и новый натиск, можно сказать, врукопашную истребители отбивали гранатами. Но где их набраться, противотанковых гранат! Леон машинально вытер рукою мокрый лоб. Опять сжались, потеснились к реке: дамбу не удержишь, а потеряешь реку, как высаживаться полку? Еще потеснились.
Таня измучилась, вытаскивая раненых. С помощью санитаров она собирала их к берегу, а отсюда одно из отделений Якорева переправляло их обратно за Тиссу. Река пенилась гейзерами взрывов.
Вот-те и легкая задача! — сжимал кулаки Самохин.
После седьмой атаки пришлось отойти к реке. Да, силы не равны. Однако Леон не отчаивался. Таня присматривалась к нему и была довольна. Голос твердый, и решимость командира инстинктивно передается бойцам. Только под разрывами шестиствольных минометов у Тани невольно сжималось сердце. После каждого залпа она испуганно искала Леона глазами и, отыскав, успокаивалась до следующего залпа.
Меж дамбой и Тиссой горели восемь танков, и немцы стали осторожнее. Якорева Леон оставил на левом берегу. Он готовил переправочные средства и обеспечивал оттуда фланги Самохина. Так приказал Жаров. В минуту затишья Леон с горечью оглядел роту. Очень, очень поредели ряды ее бойцов. Успеет ли подойти Жаров? И что ожидает их в схватках, которые начнутся с минуты на минуту?
Одиннадцатая атака была особенно яростной. Леон ползал от окопа к окопу, подбадривая бойцов. Кто-то сказал, умрем, а не сдвинемся. Нет, сейчас этого мало. Выстоять во что б ни стало! У окопа Демжая он лег за невысокий пень. Прямо на них мчался танк. Солдат подобрался, сжав в руке противотанковую гранату.
— Давай пропустим, и в зад! — громко сказал Самохин.
Гареев молча кивнул головою и привстал на четвереньки. Леон машинально сделал тоже самое, и, когда танк оказался совсем близко, они разом отскочили в сторону. Танк проскочил. Демжай приподнялся и с силой метнул гранату. Послышался оглушительный взрыв, и на Гареева с Самохиным, прильнувших к земле, пахнуло горячим ветром. Когда Леон приподнял голову, немецкая машина с развороченным задом беспомощно уткнулась носом в землю.
— Вы ранены, товарищ капитан! — донесся до него встревоженный голос Демжая.
Леон недоуменно взглянул на солдата.
— У вас кровь на руке…
Видимо, осколком Самохина легко ранило в руку, и Гареев сноровисто обмотал ее бинтом.
Леон пополз дальше. Все тело его было напряжено, чуть прищуренные глаза горели огнем решимости. Он видел, как мало осталось у него людей. А бой разгорался все больше и больше. Над головою свистели тысячи пуль. От частых разрывов мин и снарядов звенело в ушах. Черные чудища танков, ощетинившихся покачивающимися хоботами орудий, надвигались справа и слева. В небе вдруг послышался гул мотора, и Леон взглянул вверх. Над Тиссой кружил самолет-разведчик. Чего он высматривает? Леон обвел небо тревожным взглядом.
Ему показалось вдруг, прямо на роту в линейном строю один за другим идут пикировщики. Леон с тоскою оглядел распластанных на берегу бойцов. Ой, как мало их осталось в живых, и скольким еще придется умереть сейчас под бомбами самолетов. Он снова зло и настороженно поглядел вверх. Но что такое? С минуту он изумленно таращил глаза в небо и вдруг рассмеялся. Что за дьявольщина. Правду говорят, у страха глаза велики. В чистом небе высоко плыли длинношеие лебеди, и казалось, они охвачены одним стремлением, лишь бы вырваться из этого нестерпимого скопления огня и человеческих страстей, бушевавших над Тиссой. Леон облегченно вздохнул и тронулся дальше. Сейчас он не думал ни об отличиях, ни о блеске, и ни о том, как бы показать себя и опередить других. Только бы выстоять! И чтобы выстоять и никого не смущать никакими соблазнами, обе лодки он отправил на тот берег.
3
Наблюдательный пункт Якорева искусно замаскирован у самой реки. Максим чуть шире раздвинул ветви жимолости, и ему открылось все некрутое лукоречье. Ветер заметно крепчал, и зловеще багровый закат, опрокинутый в расходившуюся Тиссу, накалил ее волны, сделав их похожими на бесчисленные языки вспыхнувшего пламени. На узкой песчаной отмели виднелась редкая цепь самохинской роты. Река поминутно вскипала от взрывов, и пенные гейзеры мешали наблюдению. «Вот он, и весь плацдарм!» — еще и еще огорчался Максим, глядя за реку. Зоркий глаз командира выискивал пути-дороги, по которым легче пробиться вперед, угадывал рубежи, откуда возможна контратака, намечал позиции, удержание которых закрепит общий успех, и для него яснее вырисовывался план завтрашнего боя. Сначала шквал огня. Дымовая завеса. Переправа и высадка. Ее и начнут разведчики. Следом пойдет Думбадзе. А прорвут — им обоим вон на ту дамбу. Румянцев же и Черезов станут наступать в стороны, чтобы смять противника на ослабленных флангах. Поддержав их огнем, Самохин останется в резерве. Да с него и хватит. Не повезло нынче Леону. Думал, пустяковая задача, — и в такой переплет!
Со стороны Чопа доносился немолчный шум боя, и сердце Максима невольно полнилось тревогой. Звуки орудийной канонады вроде усиливались и нарастали, как громы и молнии большой приближающейся грозы, готовой хозяйничать на земле и в небе.
У самого берега Максим вдруг разглядел в воде простую солдатскую пилотку. Густо пропитанная кровью у самой звездочки, она плыла, тихо покачиваясь на прибрежных волнах. Максим даже вздрогнул. Это оттуда, из-под Чопа, где грозно гремит бой. За первой пилоткой появилась вторая, затем еще и еще. Сердце командира как-то сжалось, подкатившись к самому горлу. Теперь уже плыло много-много пилоток. Что же сталось с людьми, на ком еще час — другой назад были эти пилотки? Плыли ли они через реку, и вдруг попали под убийственный огонь снарядов? Или их скосил пулемет, притаившийся в прибрежном кустарнике, когда они только что спустились в воду? И что, ранены ли они или убиты? Удалось ли спасти их, или их поглотила алчная Тисса, как страшную дань ее неведомым богам — кто знает?
По щекам Максима скатывалась слеза за слезою. Сухими губами безмолвно ловил он их соленую влагу и бессильный отвести глаза, все глядел и глядел на эти пилотки как последние вести безвестной солдатской судьбы.
Ох, река, река! Не дождями полнишься ты сегодня. Не от таянья снегов наливаешься соками. Кровью людскою окрашены твои струи. Кровью!
Он ближе продвинулся к Тиссе в низкорослый можжевельник и разговаривал с нею. Уже невидящими глазами глядел он на воду, бегучие струи которой, журча и переливаясь, будто твердили: «Время все залечит, все залечит!»
Оставив наблюдателя, Максим отправился к разведчикам. В канун октябрьского праздника у всех приподнятое настроение. Как все чудесно было в мирные дни. Свет, музыка, праздничный стол. Золотое времечко. А ты вот форсируй теперь, наступай, хорони убитых, если хочешь торжествовать победу. Да, сурова и завидна судьба поколения.
На исходном рубеже Максим застал среди бойцов Березина. Здесь всюду деревянные и надувные лодки, наскоро сколоченные плоты и множество самых различных приспособлений из того, что именуют подручными средствами: щиты и пловучие мостики, сбитые из кольев, неизвестно где добытые спасательные круги и пробковые пояса, простые бревна. Бедовой смолил лодку. Сбив из досок просторную раму, Зубец примеривал ее к двум бочонкам.
— Ты что мастеришь, Семен? — остановился около него Березин.
— Да вот кораблик, — ответил разведчик, — а мотора нет.
— На своем пару придется, — под общий смех подшутил Акрам.
— Слабоват твой кораблик, — осмотрев его, оценил Березин.
— Доплывем, товарищ майор, а малость покупаемся — не страшно: из ста рек пили, не беда, коль испробуем и тисской.
Собрав разведчиков и саперов, Березин ознакомил их с последней сводкой. Советские дивизии наступают по всему фронту. У Чопа ожесточенные бои. Город то и дело переходит из рук в руки. Ясно почему — за Тиссой открывается путь на Будапешт, и враг сопротивляется отчаянно.
— Силен противник, товарищ майор, дюже силен, — заговорил Ярослав, едва заметно покачивая русой головой. — Пушек у него: лупит и лупит.
За день Ярослав насмотрелся на бой за рекою, и что-то в душе у него дрогнуло. Перехватив сейчас укоризненный взгляд Максима, он сразу смутился.
— Вот и разбить его тут, — сказал Березин, — дальше легче будет. Тем более, на подмогу нам сорок батарей ставят.
— Так-то оно так, а нелегко под огнем такую реку перемахнуть.
— Да вы что, боитесь? — в упор посмотрел он на разведчика.
— Нет, что вы! — вспыхнул Ярослав, опуская взгляд.
— По глазам вижу, боитесь, — настаивал замполит. — Кто еще боится, товарищи? Помалкивая, бойцы со смехом поглядывали на Бедового.
— Да всем, думаю, малость боязно, — смягчая общую неловкость за товарища, тихо заговорил Голев. — А долг свой все сполнят. Так я сказал? — поглядел он на разведчиков.
— Так, так! — зашумели вокруг.
— Двум смертям не бывать, одной не страшно, — с задором воскликнул Глеб Соколов, — где ей сыскать каждого в такой массе.
— Да тебя она по острому языку распознает, — подшутил Максим.
Улыбаясь, Березин поднял руку.
— Помните, друзья, завтра самый большой праздник, и мы ознаменуем его новой победой.
Березин заговорил о времени, когда никого из разведчиков еще не было на свете. Лишь немногие из них родились в гражданскую войну. Их отцы тоже воевали, и им было труднее. Голод. Разруха. Кровопролитные бои.
Максим слушал, и все давно известное еще из учебников сейчас воспринималось и осмысливалось совсем иначе. Им, простым комсомольцам, еще ближе и понятнее подвиг отцов, все их дело жизни, которое надо отстоять и упрочить.
Закончив беседу, Березин подошел к Ярославу:
— Вы на какой лодке едете?
— На третьей, товарищ майор.
— Я тоже с вами, место найдется?
— Найдется, найдется! — обрадованно зашумели вокруг.
— Ну, и славно, а теперь — за работу!
Отойдя в сторону, Максим поманил за собой Ярослава, взял его за руку повыше локтя и тихо зашагал рядом.
— Ты что?
Разведчик потупил голову и ответил не сразу:
— Понимаешь, Максим, на земле привык, а как на воду, — жуть одолевает, и я сам не свой.
Максим чуть крепче сжал руку товарища и с минуту шел молча. Что сказать ему сейчас? О воинском долге и присяге? О мужестве? Сколько говорено и переговорено об этом еще в Румынии. А душа у бойца опять не на месте. О чем же напомнить ему, чем подбодрить?
— Ну, ладно, — заговорил он, приостановившись, — пули ты боишься, а позора? Ты почему тогда в Румынии выскочил плясать на бруствер, боялся засмеют? А если засмеют теперь? Этого ты не боишься?
— Хуже смерти, — прошептал Ярослав.
— Крепись, дружок, стисни зубы и крепись, делай, что надо. Сам увидишь, страх исчезнет…
Слова были просты и не новы, но в том, как их сказал Максим, было много дружеской теплоты и сердечности. Ярослав доверчиво прижался к плечу Максима, и они молча пошли дальше…
Вечером в тесной землянке, где установлен радиоприемник, полно бойцов и офицеров. Говорит Москва! Всех радуют итоги десяти ударов и особо привлекают слова Сталина о сражении украинских фронтов меж Тиссой и Дунаем, слова о самоотверженной борьбе советских людей, спасших цивилизацию Европы.
— Вот, Зубчик, дети и внуки твои гордиться будут, что ты человечество спасал, — хлопнул его по плечу кто-то из разведчиков. — Понимаешь, че-ло-ве-че-ство!
— До погодь ты, — добродушно отмахнулся Семен, примостившийся со своим блокнотом на спине Максима Якорева.
Максим, в свою очередь, записывал в блокнот на спине у Голева.
Но вот диктор умолк, и Березин встал из-за стола:
— Задача ясна, товарищи, — сказал он, радостно всматриваясь в возбужденные лица агитаторов, — партия призывает нас довершить дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы! Об этом должен знать каждый.
4
Первые залпы вздыбили землю у самого берега. Над Тиссой встало черное облако, и ветер не спеша покатил его в сторону дамбы. Предрассветные сумерки растаяли в огне немецких ракет, феерический отблеск которых в Тиссе будто поджигает ее с глубокого дна. Тысячи трассирующих пуль расцвечиваю! воду. А потом река вдруг и в самом деле вспыхивает узкой полоской пламени: немцы, видимо, спустили в воду много нефти или бензина, и метущееся пламя с метр вышиною создает все удлиняющийся огневой барьер.
— Начали! — возвестили две красных ракеты: одна в небе, другая в воде, и разведчики первыми заспешили к реке. Минометчики забросали противоположный берег дымовыми минами, так что белесое облако совершенно закрыло его, и одновременно артиллерийский вал откатился дальше за реку, к насыпи. Огневой барьер полыхающей Тиссы оказался разорванным на части, но большие огневые круги все еще плывут по реке и острыми языками пламени клонятся вверх по течению, как бы стараясь уцепиться за воду и остановиться в своем движении. Лодки разведчиков как раз на подходе к огневой завесе.
— А пройдут ли лодки, не вспыхнут ли? — забеспокоился Ярослав, крепче уцепившись свободной рукою за сиденье. Все свое тело казалось ему свинцово тяжелым — не сдвинешь с места.
— Взбалтывай воду веслами! — громко вскрикнул Березин, едва лодка коснулась пламени. Впрочем, сила огня оказалась слабее, чем представлялось издали, потому что отражение удваивало величину пламени. От взмахов весел оно качнулось в стороны, освободив лодке чернеющий проход, и снова сомкнулось за ее кормой. В ту же минуту густая трасса искрящихся пуль прошла низко над головами, и все инстинктивно пригнулись. Березин тесно прижался к Бедовому, заслонив его собою, и Ярославу сделалось не по себе. Сколько слышал он о войсковом товариществе, о выручке в бою, о бойцах, принимавших смерть, защищая командира. А тут сам командир заслонил бойца. В душе у него разом смешались все чувства — и признательности за участие и заботу, и стыда за нестерпимое малодушие. Исполненный решимости стряхнуть с себя эти проклятые страхи, он рывком привстал с сиденья, устремив злой взгляд на ощетинившийся огнем берег.
— Вперед, друзья! — первым прыгнул с лодки Березин.
Ярослав, не задумываясь, бросился следом, и уже с берега он на миг оглянулся назад. Черным строем приближались лодки Думбадзе, за ними шли плоты с танками. Их обгонял легкий паром с орудиями. А пушку Руднева бойцы уже вытаскивали на песчаную отмель. Раскатистое «ура» словно подтолкнуло Ярослава, и он вместе со всеми побежал вперед. Треск, грохот, огневые вспышки, призрачные сполохи ракет, свист пуль, крики людей — все невообразимо смешалось и слилось уже в нераздельную картину боя. Ярославу показалось, что он ничтожная песчинка, подхваченная неведомой бурей.
Перескочив с маху траншею, он споткнулся и упал возле убитого немца с иссеченным в крови лицом. Ярослав ощутил вдруг, как на него снова обрушились неподвластные ему страхи и с силой прижали его к земле. «Делай, что надо!», «Делай, что надо!» — звучали в ушах слова Максима, и Бедовой с злым упорством вскакивал и бежал вместе со всеми, стреляя на ходу из автомата, падал, снова вскакивал и снова бежал, нередко забывая про все на свете, кроме необходимости бежать и стрелять.
Огонь с дамбы усилился, и цепь залегла. Максим с лету упал возле Ярослава. Шел второй час боя, и огневое лукоречье Тиссы чуть потускнело: передний край борьбы все более и более удалялся от берега. В кустарнике справа усилились перебежки. Минуту спустя Максим заметил, как оттуда вдруг поднялись мадьярские цепи. Он узнал их по зеленовато-желтым шинелям, которые на солнце кажутся чуть ли не оранжевыми. Контратаку мадьяр бойцы встретили огнем пулеметов. Мадьяры залегли, но тут же короткими перебежками пошли на сближение. Упорны однако. Тем хуже для них. Когда они вышли на рубеж заградительного огня, Максим дал зеленую ракету. Минута, и залп за залпом. Желтые кусты, через которые пробивались мадьяры, вмиг почернели.
Ярослав помог артиллеристам продвинуть пушку. Только установили ее, как навстречу выскочили три «пантеры». Одна из них летела с бешеной скоростью. Кажись, секунда, и она сомнет пушку. Ярослав в испуге отполз в сторону, приготовив гранату. Наводчик же плотнее припал к прицелу. Разлетевшись, «пантера» была уж готова прыгнуть на орудие. Но прежде чем она сделала это, раздался выстрел в упор. Хищница задрала бронированный нос, словно привстав на задние лапы, и застыла на месте с развороченным рылом.
— Эх, мать честная, — рассердился Руднев, вытирая рукою взмокший лоб, — весь сектор обстрела испортила. Меняй позицию!
Слова сержанта оборвал грохнувший вблизи шестизвездный разрыв, шесть черных гейзеров взвились в воздух.
— Эге, нас уж присмотрели! — понимающе оценил обстановку командир орудия. — А ну, быстрее влево!
Ярослав переместился вместе с артиллеристами, а только что оставленная позиция уже дымилась от нового залпа.
— Каюк бы нам, задержись мы на том месте, — оглянулся Руднев.
Однако Максима сейчас не интересовал тыл, и он с напряжением всматривался вперед. Из кустов выскочили семь танков и мчались прямо на разведчиков. Максим не запоздал выдвинуть навстречу истребителей. Сжимая в правой руке гранаты, поползли Зубец, Орлай, Козарь, Бедовой. Семен заскользил, как пловец, повернув голову в сторону. Первый из танков летит прямо на него. Боец привстал на четвереньки и отполз вправо. Что он, испугался? Нет, нет. Пропустив машину, он метнул вслед гранату. Взрыв, и стальная махина в пламени. Ай, да Зубчик! Второму танку Ярослав угодил в борт и без передыху бросил еще две гранаты. Эх, загорячился. Следующего ему ударить уже нечем. Еще две машины подбили артиллеристы. Остальные танки повернули вспять.
— За мной, на дамбу! — прокричал Максим и вместе с бойцами, вырвался к земляному валу. — Что за черт, мины! — зло выругался он, разглядев их у самой насыпи. Из-под земли торчали высокие рукоятки, опутанные тонкой проволокой. Зацепись, и сразу на воздух. Нет, только не залегать, тогда все пропало, сразу решился Максим на дерзкий бросок:
— По гранате на мины, по две — по насыпи, за мной! — и он вместе с Ярославом первым вылетел на дамбу. Сзади раздался взрыв, и двое из бойцов упали на землю.
У Максима больно защемило сердце. Вот цена его решимости. Но кто знает, какой бы страшной ценой заплатил он сегодня, не прояви этой решимости.
Противник бросил навстречу спешенную роту венгерских гусар в синих коротких куртках. Но подоспели «тридцатьчетверки», и гусары рассеялись. Бойцы Якорева ворвались в венгерское село уже за насыпью. За крайними домиками с высокими черепичными крышами в саду полно трупов. Синие куртки в крови, и лица убитых перекошены и обезображены. Венгерских гусар за неудачу с контратакой расстреляли немцы.
— Вот те и дружба! — сказал кто-то.
— Долго они вместе не навоюют, — добавил Якорев.
5
К полночи стихла семнадцатая контратака. Дугообразная насыпь осталась за Жаровым. Однако Андрей тревожно прислушивался к шуму боя, гремевшего слева. Там полк Кострова отбивал ожесточенный натиск немцев. Переправы разбиты, и у него острый недостаток боеприпасов. У Жарова их тоже мало. Тем не менее, что мог, он послал туда. Комдив мобилизовал все уцелевшие переправочные средства, чтоб помочь Кострову и перебросить за Тиссу третий полк. К часу мочи саперам удалось наладить небольшой паром, но он еще не в силах обеспечить полк Кострова, а у того все сильнее и сильнее разгорающийся бой.
Конечно, рука у Кострова твердая, и сил у него достанет. Но что проку в этих силах, если нечем стрелять. Андрей и Борис вроде примирились, ни споров, ни столкновений у них давно не было, не было однако и сердечности. И все же Андрей пристально следил за бывшим своим командиром, по-своему переживал его неудачи и промахи. Когда они случались, и всегда готов был помочь ему в трудную минуту. Только Костров и не думал просить помощи. Что это? Обида или самонадеянность? Или же просто мстительное пренебрежение к своему недавнему начальнику? Андрей ценил в нем кипучую энергию, волю, командирскую выучку и в то же время знал, Кострову еще недостает собранности и целеустремленности. Он часто способен размениваться на мелочи. Оттого Андрей и не оставался к нему равнодушным, тем более, что в какой-то мере считал его своим выучеником, которого он рекомендовал на командира полка.
В минуты этих раздумий как раз и заявился Моисеев, радостный и возбужденный. Он давно стал увереннее и самостоятельнее, и Жаров высоко ценил в нем настоящий талант организатора и руководителя полкового тыла. Андрей меньше нажимал на него, хотя Моисееву все еще нередко доставалось за отдельные промахи. Сейчас он привез три подводы с патронами и гранатами. Выдав свой обоз за подводы Кострова, начальник тыла пробился к переправе, проник на паром и ухарски подлетел к дамбе, зная, как дорог тут каждый патрон. Начальник штаба готов уже распределить боеприпасы среди комбатов, которым они очень необходимы.
— По подводе? — обратился он к Жарову.
— Отставить! — остановил тот начальника штаба. — Моисеев нарушил приказ комдива, и у нас один способ выполнить его — немедленно отправить подводы Кострову.
Начальник тыла смешался:
— Как отправить?
— И немедленно, — повторил Жаров.
— Так у нас у самих ничего нет…
— Собьют Кострова, и нам никакие боеприпасы не понадобятся. Да и Виногорову виднее, раз он все гонит туда.
Моисеев нехотя и с досадой взобрался на переднюю повозку. Никогда не знаешь, как поступит этот Жаров.
— Но, каурая!.. — хлестнул он нерасторопную лошадь. — Но же… но.
6
Когда стих бой, к Леону пришла Таня. Села рядом, молча прильнула к плечу, и у обоих сразу потеплело на душе. Они столько выстрадали вчера и стольких похоронили сегодня. Сердце невольно требовало тепла, внимания, заботы. Да и новые неудачи Леона как-то смягчили Таню. Конечно, он был тогда виноват и сделал ей очень больно. Но ведь год прошел, и Леон сто раз доказал ей свою преданность. Чего же хотела она еще? Да, она хотела, чтоб он стал энергичнее, упорнее и превзошел самого себя. Однако не безответная ли к ней любовь мешала ему быть таким? А потом и вчера и сегодня в бою Леон был необычайно прост и человечен, он изумлял всех своим упорством, стойкостью, уменьем направить людей, и разве его вина, что противник подавлял силой. Нет, он стал ей роднее и ближе.
— Я тебя очень люблю, — тихо сказала Таня.
Леон и обрадовался и насторожился. Что с нею? Сочувствие или жалость из-за его неудач? Только сомнения были бессильны отравить ему радость, и его охватила необычайная нежность к ней, готовность ко всему, чего бы не потребовала Таня. Он тихо обнял ее и осторожно расцеловал. А потом долго-долго сидел молча, пытаясь разобраться в ее чувствах. Зачем она столько мучила его? Вот и недавно, вроде примирилась с ним, даже расцеловала, а сердечной близости все же не было. И какова она будет, их любовь, теперь?
Не зажигая света, он уложил Таню в землянке, заботливо укрыл своей шинелью и отправился в роту. А когда вернулся, Таня спала. Он присел у порога, глядя на звезды. Как смешно все-таки устроена жизнь, и как много искушений на пути человека. Как же преодолеть их и сделать самое главное, к чему ты призван в жизни? И как надо любить, чтобы любовь помогала жить? И судьба ли ему выжить, коль всюду столько страданий, крови, смертей? Он так пристально глядел на Большую Медведицу, словно искал у нее ответов, но она, опустив голову, все также безмолвно глядела вниз, бессильная ответить на его вопросы.
А на утро Самохина вызвали к командиру, полка. Опять проборка, что ли? — гадал он дорогой. — А за что? За дамбу? За потери? Или за все сразу? Пускай бы он сам повоевал против стольких танков. Сначала семь. Затем двадцать. А под конец все пятьдесят. Чуть не по танку на бойца. Они по тебе из орудий, а ты из автоматов. Сдержи попробуй. Будь бы хоть гранат вволю. Правда, бронебойщики. Но это же не артиллеристы. Ведь врукопашную приходилось. Так и скажу, врукопашную. Только где доказать! — морщился Самохин, предчувствуя невозможность противостоять командирской логике, у которой подчиненный всегда виновен.
Жаров встретил его как-то сдержанно и, как показалось Леону, хитро посматривая исподлобья. Поздоровался, а сесть не пригласил, что было недобрым предзнаменованием.
— Ну что, Самохин?
— Товарищ подполковник, — чувствуя, что вопрос поставлен прямо в лоб, встрепенулся Леон, — невозможно было стоять.
— А стояли…
— Пятились, конечно, иначе отрезали б…
— А не поддались.
— К самому берегу прижали…
— А не сбросили.
Леон никак не мог понять, в чем тут ирония, и чего в конце концов хочет от него Жаров?
— Поздравляю, — протянул Андрей руку, — от души поздравляю! На, сам читай, — подал ему радиограмму.
Леон оторопело взглянул на командира и нерешительно взят листок из рук Жарова. Неужели орден? Вот чудо. А сам уже развертывал загадочный листок. Что такое? Не может быть! Он метнул взгляд на Жарова, опять взглянул на листок. Неужели? Он даже инстинктивно протер глаза.
— Товарищ подполковник!
— От души поздравляю… — повторил тот, прекрасно понимая состояние офицера… — с высоким званием Героя Советского Союза.
— Товарищ подполковник… служу Союзу… Советскому Союзу служу… не могу… — махнул он рукою, окончательно запутавшись.
— Все по заслугам. Геройски получилось. Без вас бы еще труднее пришлось форсировать Тиссу. А смотри, сколько танков набили. Ведь врукопашную, можно сказать. Так и писал комдиву, а тот командарму. Видишь, вчера послали, сегодня награда. Москва нисколечко не задержала.
— Я просто оглушен, — улыбнулся, наконец, Самохин. — Думал, проборка, всю дорогу объяснения обдумывал. А тут — Героя дали.
— А теперь садись, сейчас придет Березин, и будем завтракать.
7
На ночевках в пути к Будапешту Максим не прекращал занятий с Ярославом. Его увлекло желание вырастить человека, сильного и знающего, способного потом добиться высшего образования. Однако времени для занятий у них оставалось все же мало. Ярослав понимал, как трудно и хлопотно с ним Максиму. Ему бы в пору справиться с своими делами, а тут еще эти занятия. Приходится многое объяснять, помогать. Ведь сколько формул, правил, законов. Без Максима в них не разобраться. Но Ярослава охватило какое-то горячечное стремление все узнать и все постичь. Сам он не жалел на это ни сил, ни времени.
Сегодня Максим учил его конспектировать, точно схватывать главную мысль и кратко выражать ее письменно. А сноровки у Ярослава еще мало, и он часто теряется. Занимались долго, оба устали. Конечно, Ярослав готов просидеть и еще бог знает сколько. Максиму же давно пора на отдых. Зная, что тот не уступит, Ярослав начал хитрить:
— Хватит на сегодня, смотри, светает…
— Пиши! — улыбнулся Максим.
— Тебе же спать будет некогда.
— Пиши.
— Рука занемела.
— Пиши.
Они, было, снова склонились над книгой, как влетел запыхавшийся Зубец.
— Али Крайя ушел, — бухнул он прямо с порога.
— Как ушел? — вскочил Якорев.
— Кажись, в Албанию подался.
— Эх, карусель-голова! — поспешно одеваясь, выругался командир.
— Ну, что за затея! — возмущался Максим, выскочив на улицу и направляясь к разведчикам. — Ведь обещал, обожди, похлопочу. Нет же, сорвался. До Албании отсюда ойеей сколько. Глаза вылупишь. А то и к немцам угодит, черт горячий. А ты отвечай за него. Жаров теперь со свету сживет. Ну, и ЧП!..
Вылечился Али довольно быстро. Молодой организм легко справился с легкими ранами, хоть их и было немало. Из медсанбата он возвратился в полк и запросто, будто отлучался на день — на два, заявил:
— Ту нят ета — здравствуйте! Али Крайя пришел.
Разыскав затем Якорева, которого Али считал своим старшим братом, он объявил вдруг, видно, считая, что иначе и быть не может:
— Вот начальник Али Крайя.
Было в нем что-то дерзкое, самобытное, что привлекало и радовало. Максим больше всех привязался к Али, часто навещал его еще в медсанбате, и не без его стараний Али оказался в полковой разведке. А вскоре в руки Максима попала небольшая книжечка о далекой Албании. На одном из рисунков в ней был изображен величественный полет орла, который высоко парит в небе над вершинами Динарских гор. Орел — символ силы и свободы этой страны. Шкиперией — страною орлов зовут албанцы свою родину; шкипетарами — сынами орла — называют они самих себя.
Али сразу прозвали орленком, и песня «Орленок, орленок, мой верный товарищ» сделалась вдруг самой модной и любимой.
Воевал Али дерзко и отважно, и его крепко полюбили за мужество, за чистую светлую душу, за буйно веселый нрав, в котором сказывался неистовый темперамент юга. Он ни в чем не знал удержу: ни в атаке, ни в песне, ни в пляске. Петь он готов был днем и ночью. Разведчикам полюбились албанские песни, которых он знал великое множество. Чаще всего Али пел про родник и глаза. Родник был чудесен. Он свеж и чист. Юноши, склоняясь над ним, черпали в нем вдохновение; девушки, заглядывая в него, превращались в красавиц. А «Глаза» нравились еще больше. Каждому вспоминались ласковые глаза любимой, оставленной далеко-далеко на родной земле. Максим перевел песню на русский, и бойцы увлеченно распевали ее вместе с Али:
Твои черные глаза Мне как солнце светят, А милее солнца нет Ничего на свете.А недавно Али обратился к Максиму с просьбой:
— Али хочет командовать отделением.
— Зачем тебе? — удивился Максим. — Ты же не сумеешь.
— Али сумеет. Али будет командиром своей народной армии. Боевой устав для Али Зубец день и ночь читает. Али все знает, и команды знает.
Максим уступил. Али в самом деле знал много. У него восприимчивый ум, цепкая память. Он был очень смышлен, Али Крайя. За любое дело брался охотно, изучал его с огоньком. Что ж, пусть привыкает, пусть растет молодой командир албанской народной армии.
Однако Али не только радовался, он и страдал. У него все время было как бы две жизни, вернее, две ее половинки, каждой из которых он отдавал все силы, всю страсть своей молодости. Здесь он воевал, постигал настоящую дружбу. Это была большая жизнь, которая поднимала его необыкновенно высоко, пробуждая в нем лучшее. Но эта жизнь звала его туда, в Албанию, звала настойчиво и властно. Там семья, родной дом, любимая девушка, черные глаза которой неотступно следят за ним с Динарских гор. Там родина, гордая страна орлов, там друзья, которые бьются с врагом, и Али хотел, страстно хотел воевать там, в общем родном строю. И в этих стремлениях домой была его вторая жизнь. Так Али и воевал, радуясь и страдая. Радовался он на виду у всех, страдал молча и гордо. Но долго так не могло продолжаться, и Али снова удивил Максима своими замыслами.
— Али уйдет скоро.
— Как уйдет, куда? — ахнул Максим.
— В Албанию уйдет. Тут недалеко.
— Что ты еще придумал? Это же дезертирство.
— Али — не дезертир, — убежденно объяснял он, — Али уйдет за свою Албанию биться.
— Слушай, Али, так нельзя, — доказывал Максим. — Так не поступают воины. Ты подумай только, что станет, если все начнут уходить…
— Али один уйдет, все останутся.
— И одному нельзя. Я запрещаю. Надо просить генерала, он отправит тебя. Только не время еще.
— А отпустят?
— Непременно отпустят.
— А если нет?
— Тогда подождешь, не сейчас — потом отпустят.
— Албания не может ждать. Там воевать надо. Али уйдет…
И вот он ушел. Сколько ни искали его, как сквозь землю провалился. Максиму крепко досталось от Жарова. Лишь много позже, уже в Чехословакии в полк пришло письмо из-за Динарских гор. Да, Али дошел. Он давно уже воюет, он командир. А тихими вечерами, когда стихают бои, он и его албанские друзья поют русскую песню: «Орленок, орленок, мой верный товарищ…»
Да, он был истинным сыном орлиного народа, и, несмотря на его необузданную горячность, когда чувства не раз одолевали разум, Максим все прощал ему, своему орленку, что не захотел остаться в гнезде, а полетел сам пробовать свои крылья. И верилось, крылья эти выдержат любые испытания.
Глава шестая БЕССМЕРТИЕ ПРАВДЫ
1
От сорока батарей к берегу Бодрога бегут бесчисленные нити проводов, и каждый из них мчит команду за командой. Штормовой огонь уже с час бушует за рекою.
Железнодорожная насыпь, из-за которой только что били немецкие гаубицы, рассечена надвое, и рельсы ее торчком уставились в небо. Густая роща, откуда целые сутки завывали шестиствольные минометы, сметена с лица земли. На месте кирпичного здания с панцирной крышей, где из слухового окна маячила стереотруба наблюдателя, — одни развалины. Низколобые неприступные доты, изрыгавшие смерть, разворочены и чуть не до колен выковорены из почвы. Ровные зигзаги траншей, укрывавших пехоту, превращены в ухабы и рытвины. Все приторное займище, за которым в смертельной тоске притих большой город, залп за залпом вздымается на воздух и обрушивается обратно, образуя жидкое месиво венгерского чернозема.
Шаторальяуйхей скучился у подножия приземистых гор, что нависают над ним сзади. Полк Жарова наступает на южную окраину, куда подходит железная дорога из Будапешта. Правее гремят другие полки. Немцы уже оттеснены к самому городу, но им удалось стянуть значительные резервы, и продвижение дивизии замедлилось по всему фронту.
Огонь вплотную приблизился к городу, и Андрею ясно, еще команда, и артиллерийские залпы сметут Шаторальяуйхей… А без этого не пробиться на его улицы. Остается одно — либо разрушать город, либо искать успеха иным способом. Как же все-таки вытеснить отсюда противника? Конечно, только угрозой с тыла, с тех гор, что нависли над городом. Он тщательно обдумал решение, подготовил маневр. Как раз позвонил Виногоров. Он не хочет мириться ни с какой задержкой. Ломать и ломать! Даром противник не отдаст окружного центра.
Жаров доложил суть замысла.
— Кто ударит?
— Хмыров, он в резерве.
Виногоров недовольно хмыкнул.
— Хороший замысел и ненадежный исполнитель. Он же не раз подводил уже, и не ему бы доверять такую задачу.
— Всякая замена вызовет задержку, — счел нужным пояснить Жаров. — Потом с ротой Хмырова немало поработали, особенно Березин. Да еще усиление.
— Ну, смотрите…
Жаров вызвал Хмырова. Окинул его долгим взглядом и как-то заколебался. Не лучше ли все-таки заменить? Куда надежнее послать Самохина или Румянцева. Но время, время! А потом, что за дело, как сложная задача, так подавай лишь лучших. Сегодня один, завтра другой, а послезавтра? Война же день за днем. И зачем тогда держать командира, если в нужную минуту ему нельзя доверять? Ведь не шутки шутим.
Хмыров ожидал молча. Долговязый и немного сутулый, с узким сухим лицом и длинными руками, чем-то он не располагал к себе. Но чем? — не сводил с него глаз Жаров. Упрямая голова! Возни с ним было немало. Тянули и подталкивали, учили и помогали, случалось, и наказывали, а заслуживал — и награждали. Ни от чего не отказывались. Только пошло ли все ему впрок? Правда, стал сдержаннее. Черезова уже не изводит. Пожалуй, и крику меньше и порядка больше. Во всем чувствуется рука Березина.
— Вы готовы, Хмыров?
— Так точно…
— И сможете действовать отлично?
— Изо всех сил.
Ответ Жарову понравился.
— Тогда смотрите. Видите высоту, вон ту с часовней в ограде? Да, да, над центром города. Это ваш объект. Обойдите город слева, — указал он на местности, — и выйдете к подножию высоты. По сигналу дадим налет реактивными. Ваша задача — занять и закрепиться, угрожая противнику с тыла… — и подробно уточнил порядок действий роты, ее усиление.
— Разрешите идти?
Лицо командира твердо и решительно. Чего, однако, недостает ему? Разве воодушевления?
— Высота, Хмыров, — ключ к городу, — сжав его локоть, напомнил Жаров.
— Возьмем, товарищ подполковник.
— От вас будет зависеть успех остальных.
— Не подведем, — загорелся Хмыров.
— Тогда с честью!
Пока выдвигалась рота, сражение успело перекинуться в самый город. Разгорелись уличные бои. Но продвижение очень медленно. Где нет немцев, венгры охотно сдаются в плен: режим салашистов их не устраивает. А где немцы и засилье салашистов, мадьяры не складывают еще оружия: их удерживает угроза расстрела. И все же число пленных возрастает всюду.
Направляя роты, Андрей с нетерпением ждал условленного сигнала у горы с часовней. Как дорога сейчас каждая минута!
— Красная ракета! — радостно воскликнул наблюдатель.
Ага, Хмыров! На сигнал тут же ответили залпы «катюш». Синие молнии блеснули на склонах высоты. Путь теперь расчищен. В бинокль хорошо видно, как по склону карабкаются вверх бойцы Хмырова. Успел все-таки. Сейчас общий натиск, и немцам деваться некуда.
2
Поздно вечером Жарову позвонил начподив.
— Слышал приказ?
— Никак нет, товарищ полковник, только с передовой.
— Всем благодарность, салют, и в приказе твоя фамилия…
— Очень рад, товарищ полковник, гордимся за полк, за всю дивизию! — так и вспыхнул Жаров, чувствуя, что сознание еще не в силах вобрать в себя радостную весть.
Андрей долго не мог опомниться. Только что на всю страну прозвучал новый победный приказ. Люди услышали салют Москвы. Это благодарность родины. В душе ничем неизмеримый вихрь чувств, самых чистых и высоких. Это вера партии, ее знамени, с которым каждый день в бою. Он знает, все силы души, все силы этих рук — они принадлежат ей сегодня, завтра, всегда!
Поддерживая раненую руку, вошел Березин. Его подбили уже в городе. Ограничившись перевязкой, он остался в строю. С легкими ранами из строя не уходят даже солдаты.
— Ты что такой сияющий, иль командарм звонил? — Уставился Григорий на Жарова.
— Что ты.
— Ай, еще звездочку дали?
— Да нет же…
— Наградили, значит?
— Есть приказ Москвы. Сейчас пришлют.
И Андрей пересказал свой разговор с начподивом.
— Тогда поздравляю! — обрадовался и Березин.
— И тебя поздравляю! — обнял его Жаров. — Сегодня у всех большой праздник. Твой Хмыров молодец, с блеском справился с задачей.
— Почему же мой?
— Ладно, не скромничай. Не поддержи его ты еще в Румынии, я бы снял его с роты…
— И считал бы себя правым?
— Конечно. Как бы я узнал, что он способен на большее.
— А командиру положено все знать, все предвидеть.
— Все это так, Григорий, и все не так. Тоже диалектика! Время, обстоятельства, вольная иль невольная слепота — что только не мешает нам делать положенное. Тебе вот тоже положено в медсанбате отлеживаться, а ты тут. А должен бы иметь и замену, подготовленную и воспитанную заранее. Нет, скажешь? Тоже диалектика! И кто знает, примиряясь со всем этим, мы с тобой укрепляем порядок и организованность или нарушаем? Верь не верь, а я, право, не знаю порой, как в таком случае провести грань меж добром и злом.
— Когда ты стремишься к лучшему, эта грань всегда пройдет там, где нужно…
Березин спешно собрал взводных агитаторов и зачитал им полученный приказ. Прослышав об этом, к замполиту пришли и бойцы из резервной роты, связные подразделений — все, кто не занят сейчас на передовой. Лица солдат воодушевлены, и в них — сознание своей силы, воинского достоинства и подвига, высоко оцененного в приказе.
— Надо, чтобы каждый понял, — говорил Березин собравшимся, — это ему, за его ратный труд, за подвиги в бою объявлена благодарность, ему гремел московский салют, его успехам радуются люди, Москва. О героях своей роты с огоньком расскажите, пусть все знают.
— Героев кругом полно — бой-то какой! — первым откликнулся Голев. — Есть о чем рассказать.
— Вот и хорошо, — одобрил майор, — а как бы, к примеру, вы сам рассказали, а? — приблизился он к парторгу.
Тарас чуть не растерялся от неожиданности, но быстро взял себя в руки.
— Да как было, так и сказал бы: ведь каждый человек на виду.
— Вот и расскажите, как, — не отступал Березин. — Пусть агитаторы послушают.
— Можно, конечно…
— Смелее, смелее, Тарас Григорьевич… — подбодрил его Максим.
— Да хоть Закирова взять — герой! Сапер наш, — пояснил Голев. — Богатырь — богатырем. Пушку везли на плоту сегодня. Бац снаряд рядом. Плот на дыбки. Если б не Закиров, быть бы пушечке на дне. Из своей бронебойки три пулемета подбил, танк подпалил. Потом двух раненых из-под огня вынес. Разве не герой!
— А пленных привел, — напомнил Максим. — Заскочил в бункер, видит — полно. Припер их и кричит в окно по-венгерски: «Сдавайсь, не то всем капут!» Они белый платок высовывают. Выпустил по одному и всех семнадцать привел.
— Герой и есть наш Закиров, — заключил Березин. — Так вот и о каждом рассказать надо. Пусть все знают.
3
Всю ночь Жаров просидел за наградными листами. Сколько отличившихся! Читая, он заново переживал весь штурм города.
«Рядовой Орлай — отважный воин, — читал он в представлении. — В бою за Бодрогом снял трех наблюдателей, выбил расчет орудия. Одним из первых ворвался в город. Представляется к ордену „Красной звезды“».
Вот тебе и новичок. Не написали только, как забравшись на колокольню, он вместе с Козарем всю улицу держал под огнем. Потом, сколько пленных привели. А танк поджег. Как умолчать об этом! Нет, пусть перепишут реляцию. Да и «Красной звездочки» ему мало. К «Отечественной войне» первой степени надо.
«Рядовой Демжай Гареев, — читал он дальше, — первым ворвался в немецкую траншею. В рукопашной схватке убил четырех и семерых взял в плен, в том числе одного офицера-эсэсовца. Представляется к ордену „Отечественной войны“ второй степени».
Жарову мгновенно вспомнилось, как привел Демжай свою семерку. Немцы понурые, перепуганные, наверно уж тысячу раз с жизнью простились, а он орла орлее. Да, этот казах не раз показал себя. Огневой солдат! Что ж, о нем мало, а хорошо написали. Пусть так и останется.
Андрей принялся за новую пачку.
Скупые реляции Черезова не удовлетворили Жарова, и он вызвал комбата.
— Как вам нравятся эти реляции?
— Есть и слабоватые… — потупился Черезов и заерзал на стуле.
— Так зачем же подписывали их?
Отвечать ему нечего.
— Видите, как нехорошо получается. Давайте-ка посмотрим вместе, садитесь ближе.
Черезов уселся рядом.
— «Сержант Руднев, — читал Жаров вслух, — со своим орудием был впереди всех. Подбил танк и самоходку противника. Потеряв в бою орудие, отличился в атаке и захватил немецкую пушку. Представляется к ордену „Отечественной войны“ первой степени». Хорошо, а неполно, — поднял глаза Жаров, — и живых примеров нет.
— Коротко же требуется… — оправдывался комбат.
— Эх, Черезов, Черезов, — встал из-за стола подполковник, — слышал, дорогой мой, как вы беседуете с солдатами о том же самом. Живая картина прямо, сразу чувствуется, подвиг человек совершил. Ведь и писать так же надо. Вспомним-ка, что сделал наш Руднев… Немецкий танк летел, как бешеный. Промахнулся один, второй. А Руднев первым выстрелом угодил. Не останови он того танка — тот бы к реке вырвался, а там рота высаживалась. Дальше, помните, немецкие пулеметы распластали Самохина. Кто подавил их? Руднев. А как захватил немецкую пушку, как ее, на тележных колесах — семидесятипятку, сколько он подбил из нее огневых точек?
— Много…
— Обо всем и напишите: он «Красного Знамени» достоин.
Черезов смущен.
— Посмотрим еще, — и Жаров зачитал несколько представлений, подписанных комбатом. — Ну, как?
Черезов пожал плечами, не зная, как оценить свои реляции.
— Сухо, правда? Живого дела и человека не видно.
— Н-да… — протянул Черезов, — говорил же командирам рот, пишите полнее. Нет, вот…
— Говорили — хорошо, — а не проверили — плохо. Не только скажи, и потребуй. Вот тогда командир. Так ведь?
— Так точно.
— Вот и перепишите-ка свои реляции. Люди хорошо повоевали — хорошо и напишите о них.
— Сделаем, товарищ подполковник.
Принесли чай, и завязался непринужденный разговор. Оказывается, у комбата вовсе нет времени ни на газету, ни на книгу, ни на нормальный отдых. Как же так? Нету и все. Заедают текущие дела. Вот уже с месяц читает лишь сводки. Жаров изумился. Но у других ведь не так. Как он не научил Черезова ценить время и находить его на все нужды. А ведь нетерпимый к медлительности, Жаров часто бывал недоволен комбатом. Жестко обрушивался на его нерасторопность. Бывало, он все запаздывает, о многом забывает, хоть и работает не покладая рук. Не хватало ему сноровки, темпа, умения на лету схватывать необходимое. Может, это потому, что в армию Черезов пришел из большого колхоза, где был председателем. Он привык там подолгу обдумывать всякое дело. Но там один темп жизни, на фронте — совсем другой. Конечно, Черезов постиг многое. Но темп, темп! Комбат просто не успевает. «А я все гну и гну, хоть он потом обливается». Правда, с Березиным был разговор об этом, Андрей стал лучше присматриваться к комбату и не мог не заметить, что всякое слово поощрения и одобрения на него действует крепче, чем самый назидательный и строгий выговор.
Во время штурма города комбат проявил много энергии и упорства, и Жаров не мог не отметить его достоинств. Что ж, это не значит забывать про его недостатки и промахи, но они почему-то показались сейчас редкими сорняками в необъятном море хлебов, где каждый колосок — его достоинства. Что ж, можно и любоваться хлебным полем, но рачительному хозяину нельзя забывать о сорняках. Без них и поле чище, и сорт зерна выше. А раз за хлебом нельзя не видеть сорняков, то и за сорняками нельзя не видеть тучных хлебов.
— Вы и сами сегодня действовали отлично, — сказал Жаров комбату, — и сами достойны высокой награды.
Черезов смутился и встал.
Жаров проводил его долгим и добрым взглядом.
4
За низким окном полуподвального этажа чуть брезжил рассвет, слышалась перестрелка, которая то напряженно вспыхивала, то почти смолкала. Выпив еще стакан крепкого чаю, Жаров придвинул к себе новую стопку наградных листов.
«Лейтенант Хмыров, — читал он реляцию, — смело вел роту на штурм города. Скрытно обойдя его с юго-запада, он пробился к ключевой высоте и стремительным ударом овладел ею, водрузив на ней Красное знамя. В бою за город действовал умело, решительно и отважно, что облегчило успех атаки с фронта. Представляется к ордену „Красного знамени“».
Андрей непроизвольно перевернул карандаш и неочиненным концом тихо застучал по столу. Вот все верно, и ордена этого он достоин, и лист его будет подписан, а нет к нему доверия. Конечно, тут не личная неприязнь. Просто неприглядно еще лицо командира, его назойливое «ячество». Как чуть — «я» и «я» или «я взял», «я продвинулся», а случится задержка — «я сам пойду». Оттого и промахи его слишком заметны, а успехи, даже нередкие успехи не находят в душе теплого отклика, как это бывает в отношении всех остальных. Слишком уж привержен ко всему «своему» в противовес общим интересам, ценить которых командир не умеет.
Сегодня во всяком случае он действовал отлично: должное — должному, и Жаров размашистым росчерком подписал его лист. Едва он отложил его в сторону, как на пороге появился сам Хмыров. В лице — ни кровинки, в глазах лихорадочный блеск. Плечи обвисли, а сжатые в кулаках руки лишены всяких сил. Весь он вроде осовелый, хоть в судорожно сведенном лице ощутимо неизъяснимое напряжение: будто он хочет закричать — и не может.
Жаров инстинктивно вскочил с места.
— Что случилось, Хмыров?
— Немцы… на высоте…
— Немцы? Вы что!..
— Захватили они… — с трудом выдавил командир.
В мертвой тишине Жаров расслышал только, как хрустнули пальцы его рук, и он изо всех сил стиснул зубы, чтоб не раскричаться. Он даже согнулся, готовый броситься на виновника.
— Рассказывайте толком! — потребовал он, выпрямляясь, и, не расслабляя рук, остался в напряжении: все в нем еще бурлило и клокотало: — Рассказывайте!
— С вечера все как по маслу… — с дрожью в голосе заговорил Хмыров. — Засели, окопались. Огонь как огонь. Раз обошел взводы, другой… Все на месте — у меня два по скатам, а третий — на самой вершине. С рассветом еще собрался. Только двинулся — вдруг артналет, и бой наверху сумасшедший. С маху туда. Подлетаю, а мои обратно — без патронов уже. Собрал людей, и наверх! А там не подступись! От взвода с этой маковки лишь семеро уцелели: все полегли. Как саранча на них набросились, товарищ подполковник…
Срывающийся голос офицера глух и накален.
Как выяснилось, наконец, противник захватил у него лишь самую вершину. Но с нее весь город как в пригоршне. Установи он орудия и минометы — ни пройти, ни проехать. Ясно — выбивать немедленно. Только трудно придется, ой, трудно. Хоть позиции Хмырова и в ста метрах от вершины, ее не возьмешь сейчас и батальоном.
Такой штурм, салют Москвы — и такая беда! «Эх, Хмыров, Хмыров! Дорого обойдется тебе высота с часовней, очень дорого!»
— Значит, бросили роту, и ко мне…
— Никак нет, там комбат остался, он сам послал меня…
Ясно, нужно докладывать комдиву. Как после салюта Москвы сказать ему, что ключевая высота у противника.
— Вы что, Жаров? — услышал он голос Забруцкого. — Что вы там противника распустили — палит и палит.
Комдив отдыхает, и приходится докладывать его заместителю. Опять Забруцкий! Начнет сейчас метать громы и молнии. Однако в прятки играть нечего, и время не терпит.
— Высота с часовней… — бухнул Андрей напрямки… — опять у противника, он и бьет оттуда. Будем сбивать.
— Вы что! — опешил Забруцкий. — С ума посходили! Как смели отдать? Почему молчите до сих пор? Почему бездействуете? Да вас под трибунал за это — мало! Немедленно захватить обратно! Слышите, немедленно! Лично отвечаете.
— Будет исполнено, — тяжело вздохнул Жаров, словно нехотя опуская трубку.
Но Забруцкий, видно, опомнившись, тут же позвонил сам и сердито потребовал объяснений.
Жаров доложил.
— Виновники, виновники кто? — горячился Забруцкий.
— Взвод бился героически, и погиб почти полностью. Службу несли хорошо. Считаю, командира роты судить не за что. Да, Хмыров. Нет, и отстранять не следует…
— Высоту взять! — подтвердил свой приказ Забруцкий.
Окончив разговор, Жаров обернулся к Хмырову. Тот стоял теперь весь красный и взмокший. На лбу у него выступили крупные капли пота. Руки, лицо, вся вдруг сгорбившаяся фигура выражали смятение чувств. Его одолевали боль, горечь, обида.
— Не трибунал страшен, товарищ подполковник. Об одном прошу — разрешите в бою искупить вину.
— Идите, Хмыров, идите… я верю вам. Сейчас об одном думать нужно — о высоте. Взять ее надо сегодня же, Идите.
— За доверие спасибо, товарищ подполковник. Этого никогда не забуду… — и голос его вдруг дрогнул и сорвался. Хмыров еще говорил что-то, губы его шевелились, а голосу не было. Только по щекам одна за другой скатились две большие слезы.
Жаров порывисто шагнул к офицеру и взял его за руки повыше локтя.
— Эх, командир, командир! — прижав его к груди, сказал он с сочувствием и вместе с тем с той твердостью, которая не обещает снисходительности. — Это не детская игра, а война. И тут все возможно. Не думайте только, что успокаиваю. Я требую, безоговорочно требую, чтоб все обязанности исполнялись с удесятеренной энергией. Слышите, Хмыров!
Вернувшись к столу, Жаров снова взял уже подписанный наградной лист. «Представляется к ордену Красное знамя», — прочитал он последнюю фразу. Нет, уже не представляется. К сожалению, нет! Но и в обиду его не давать, не то Забруцкий как коршун налетит… Как ни странно именно сегодня Андрей впервые подумал о Хмырове с сочувствием и участием. Кому ж больше его защищать теперь, как не ему.
В роту Хмырова Жаров отправился вместе с Березиным. Собрал оставшихся в живых бойцов взвода, поговорил с ними в окопчике, выдолбленном в каменном грунте каверзной высоты. Затем вызвал офицеров.
— Так как же? — взглянул он на Хмырова.
— Костьми ляжем, а возьмем, — решительно заявил командир роты. — Я сам пойду первым…
— Я сам, я сам! — передразнил его Жаров, потеряв терпение. — «Я сам!» — может мальчишка болтать. А у командира свое место и свои обязанности — бить кулаком всей роты, а не трещать — я сам, я сам! Запомните, и чтоб больше никогда мне не слышать этого.
Замполит с упреком взглянул на Хмырова: опять сорвался.
Часа через два план удара был готов окончательно. Костров будет пробивать справа, Жаров — слева. Они возьмут высоту с часовней в большие клещи. Тогда либо бежать, либо погибнуть: другого выхода у немцев не останется.
Незадолго до начала действий заявился Забруцкий. Вид у него, как у прокурора, только что изобличившего преступника. Виновность доказана, и остается лишь определить меру наказания. Потирая руки, полковник вышагивал из угла в угол, странно пружинясь и напоминая дикую кошку, готовую прыгнуть на свою жертву.
— Ну, что с Хмыровым решили, разжаловать или как?
Андрея так и передернуло. Конечно, вина у командира немалая, ответ ему держать придется. Нельзя же, однако, быть столь несправедливым. Москва салютовала двадцатью залпами из ста двадцати четырех орудий, и не одно из них било за подвиг Хмырова. А тут — «разжаловать или как?»
Ладно, будь что будет!
— Вот! — взял он со стола и протянул Забруцкому наградной лист. — Прошу орден «Красного знамени».
— Что, что? — вытаращив глаза, даже приостановился Забруцкий. — Орден, Хмырову? Этому разгильдяю и трусу?
— Герою Шаторальяуйхей, товарищ полковник.
— Вы что, смеетесь или всерьез?
— Там все написано, — указал Жаров на лист, который заместитель командира дивизии с пренебрежением вертел в руках.
— Ну, это вам не пройдет так, — вдруг ощетинился он, грозно хмуря брови. — Думаете, помянули вас в приказе, так теперь все можно. Не пройдет!
— Значит, вы против?
— Вот мой ответ, вот! — рассвирепел полковник, разрывая на части наградной лист. — Вот!
— Если только не представить его к ордену, — тихо проговорил Жаров, — одно это — уже очень суровое наказание. Командир становится на ноги, и незачем его мордовать.
— Устав требует строго наказывать… — чуть не скандируя, затянул Забруцкий.
— И ценить все лучшее, что есть в подчиненном… — подхватил Жаров.
Голоса офицеров накалились, и они умолкли. Немного поостыв, Жаров заговорил, ни к кому не обращаясь и рассуждая как бы сам с собою:
— Разве не помог бы ты человеку в беде?..
Забруцкий даже взбеленился. Что за фамильярность!
— Это не вас я спросил сегодня — себя, — закончил мысль Жаров. — А Хмыров в беде. Пожертвовать им не хитро, и каюк офицеру! А кому нужно это?
— Не вы решаете, — опять взъерепенился полковник.
— Но я представляю… — Жаров взглянул вдруг на часы и, указывая на них пальцем, уже другим тоном проговорил: — Разрешите начинать?
Сигнал передали по телефону, и сразу же загремела артиллерия. Забруцкий уехал недовольным и рассерженным.
Начатое наступление развивалось успешно. Черезов пробил брешь. Огрызаясь огнем, немцы спешно откатывались. Теперь бы бить их и бить, но в прорыв введены другие части. Жаров же получил приказ — вывести полк из боя.
Дивизия Виногорова направлялась на Будапешт.
5
Поздним вечером последний привал под Пештом: завтра опять в бой, все разрастающийся на подступах к венгерской столице.
Миклош Ференчик привел в корчму местного учителя без левой руки, которую он потерял в девятнадцатом году в боях за советскую Венгрию, и группу крестьян. Они окружили Березина и с интересом слушают его рассказ о последних событиях.
— Палача на палача поменяли! — гневно сказал учитель, едва зашла речь о Салаши — преемнике Хорти.
— На собаке шерсть сменили! — по-своему оценил события старый мадьяр с толстой палкой в руках.
Затем крестьяне вначале робко, а потом все смелее и смелее расспрашивали солдат и офицеров. Естественно, их изумляют самые обычные вещи из советской жизни, удивляет все, чем богат ее далекий неведомый мир. В течение многих лет его заливали здесь помоями несусветной чепухи, проклинали со всех амвонов. А он — мир этот — светил и светил загадочным светом, манил в неведомое и лучшее. И вот, наконец-то, они знают правду, которая ярче и сильнее любых догадок. А тут еще и живой свидетель из их же среды — Миклош Ференчик, много видевший своими глазами. Ленина слушал, в Красной Армии воевал, бил белых.
Сейчас он добровольно сопровождал полк и служил за переводчика.
— Нет, никому не убить правды, — сказал старый мадьяр. — Тыщу лет ее извести хотят, а жив народ — жива и правда. А сколько о ней песен и сказок сложено, про правду!
— А ты расскажи, дядя Миклош, — попросил Глеб.
— Как рассказать про все, — развел руками старик, — и ночи не хватит.
— Зачем про все, хоть что-нибудь расскажи, — зашумели бойцы, упрашивая Ференчика.
Как не рассказать тут! Слов у него мало, и порой не все понятно, но смысл ясен. Древняя легенда всем растревожила сердце, и никого не оставила равнодушным. Глеб ближе подсел к Ференчику. Оля не сводила с него заблестевших глаз. Зубец невольно расстегнул ворот гимнастерки, а Матвей Козарь до боли стиснул в кулаки пальцы. Даже Павло Орлай, еще не примирившийся ни с чем мадьярским, и тот впервые с такой силой ощутил в душе сочувствие к людям в страшной беде.
Когда и с кем это было, заговорил старый мадьяр, трудно вспомнить. Может, еще раньше, чем с прапрадедами тех прадедов, про которых уже забыли их внуки. Короче сказать, очень, очень давно. Страной в те поры грозный Антал правил со своими тиранами. Стоял тогда на Дунае город, и время не оставило от него камня на камне. А в городе том сидел тиран, прозванный Аспидом, потому что как змея жалил. Всем худо было. А тут случись еще жгучие суховеи, земля истрескалась и закаменела, мор разразился. Люди разум теряли. А тиран тучнел, и его закрома ломились от хлеба.
Жил там и мастеровой по имени Лайош. Видел и знал он больше всех. Сердцем был тверже всех. А правдой — сильнее всех. По слову Лайоша люди поднялись на тирана. Как река в разливе, их восстание грозило смести всех богачей провинции.
Разгневанный Антал приказал укротить людей и грозил смертью самому тирану. Перепуганный Аспид вызвал одного из своих подручных, человека с сердцем, чернее сажи, и велел поймать Лайоша. Заговорщики проникли в лагерь восставших и выкрали их вождя.
Допрашивал его сам Аспид.
— Кто ты и откуда?
— Я из народа.
— Чем же он дорог тебе?
— Ненавистью к мучителям.
— У меня сила, служи мне.
— Сила в правде, а правда у нас.
— Я прикажу убить тебя.
— Разве можно убить правду, — усмехнулся Лайош, — она сама уничтожит тебя.
И сколько ни рвали ему тело, ни крушили кости, сколько ни жгли его на огне, он ни в чем не уступил им, ибо душой был тверже алмаза. Тогда, чтоб сломить, Аспид живым зарыл его в землю, оставив на поверхности лишь одну голову.
Как море без ветра, затихло восстание.
Аспид ликовал. Решив устрашить непокорных, он вызвал мастера-искусника и велел отлить колокол, чтоб голос его был сильнее грома, а не то — смерть отливщику. Приуныл мастер, призадумался. Чем придать колоколу невиданную силу? И сказал он Аспиду, нужна кровь человека, сильнее сильного, как народ, когда он свободен, и честнее честного, каким он остается всегда.
«Вот и пригодится Лайош», — подумал тиран и велел готовить плавку. Откопали и привели узника. Он высох и потемнел. Только глаза его еще жарче пылали ненавистью. Ввели его на помост, под которым уже бурлил расплавленный металл, и Лайош понял замысел палача.
— Что, испугался? — торжествовал Аспид.
— Правда всегда бесстрашна! — гордо ответил Лайош.
— Все равно умрешь.
— Правда не умирает!
Подвесив осужденного за ноги, палач отсек ему голову, и алая кровь потоком хлынула в кипящий котел, смешиваясь с металлом.
Скоро и колокол отлили, на черную башню подняли. А созрел урожай — велел Аспид бить в колокол, чтоб несли ему хлеб и долги. Громовой голос колокола, чистый и властный, несся от села к селу и от города к городу, сзывая жителей придунайского края. Но что за чудо! Как по сигналу вспыхнуло вдруг восстание, и снова запылали усадьбы богачей. Аспида живым сожгли на площади, и черный пепел его развеяли по ветру.
Немало прошло лет, пока удалось Анталу погасить восстание. Он приказал утопить в Дунае злополучный колокол и никогда не вспоминать о нем. С тех пор и не знают люди, где тот диковинный колокол с голосом правды. А кто ищет его, те кровью и жизнью расплачиваются за свою смелость. Только все равно ищут!
Затих Миклош Ференчик, и бойцы затихли.
«Трудно, ой, трудно найти правду!» — вглядываясь в лицо мадьяр, с горечью подумал Павло Орлай, и в душе его заискрилось вдруг желание помочь этим людям в поисках их правды.
Дунайский колокол! Разве не сродни он колоколу Говерлы!
6
Оказывается, корчма, в которой находились бойцы, довольно знаменита: лет сто назад в ней выступал Шандор Петефи.
Напомнив о великом поэте, учитель сел за рояль и заиграл бравурный марш.
— Что за музыка? — шепнул Соколов, наклонившись к Орлаю.
— Гимн революции — «Национальная песнь» поэта.
— Скажи ты, — удивился и обрадовался Глеб, — знаю наизусть, а музыки не слышал.
С «Гимном революции» солдат познакомила армейская газета, и Глеб сказал Павло:
— Прочтем, пусть послушают! — и он первым прочитал по-русски:
Встань мадьяр! Зовет отчизна! Выбирай, пока не поздно, — Примириться с рабской долей Или быть на вольной воле? Богом венгров поклянемся Навсегда, Никогда не быть рабами, Никогда!..Павло следом же повторил по-венгерски:
— Тплра мадьяр!..
Венгры аплодировали неистово, и их глаза заискрились огнем восхищенного дружелюбия. Еще бы! Русские пришли к ним с лучшими стихами их любимого поэта, имя которого было впервые признано не в литературных салонах Пешта и Буды, а в лачугах бедняков, в убогих тогда придунайских селах и даже здесь вот, в этой маленькой корчме.
Учитель напомнил, где и как впервые прозвучали огневые слова поэта.
…Однажды с шумом распахнулась дверь, и в зал кофейни «Пильвакс», где в те поры собиралась революционная молодежь венгерской столицы, ворвался запыхавшийся юноша.
— В Вене революция! Пал Меттерних! Народ воздвиг баррикады! — прокричал он, вскочив на стол, и слова его прозвучали как взрыв бомбы. — Ужель мы будем колебаться, когда гудит ураган революции? Нет, мы будем действовать!
Это был Шандор Петефи, сподвижник легендарного Кошута, двадцатишестилетний поэт, вождь революционной молодежи. Он отверг предложение пойти к королю с петицией, заявив, что к трону пора подходить не с бумагой, а с саблей в руке.
На другой день Петефи поднял молодежь и, возглавив ее, захватил типографию, в которой и была напечатана «Национальная песнь». Она стала боевым гимном революционного народа.
— Нет, каков гимн! — восхищался Зубец.
— Любо-дорого слушать, — одобрил Голев. — За такие стихи золотой бы памятник ему!
— Лучшим памятником поэту, — сказал Березин, — будет освобожденная Венгрия.
Учитель читал и про Тиссу, разлившуюся в бурном половодье и будто сорвавшую с себя цепи; и про тучи, набухшие могучей грозой; и про ветер, разрастающийся в ревущий ураган.
— А это вот и про тебя, старина, — обратился он к старику-мадьяру с толстой палкой в руках:
Он своей землей назвать не может Даже ту, где гроб его положат.Сжав губы, старик закачал головою.
— Он всю жизнь вечный батрак, — пояснил учитель. — Первую полжизни «бейрош» — значит работал на помещика круглый год и полуголодал каждый день, а вторую половину — «напсамош» — значит поденщик без кола и двора, тогда уж голодает ежедневно.
Старик все также горестно качал головою в такт словам учителя.
— Его сын — партизан! — с уважением сказал учитель.
Последним было прочитано стихотворение «К нации», так и дышащее страстным призывом к борьбе за свободу. Мадьяры бурно зааплодировали своему учителю, когда он произнес слова поэта:
Нация, отечество, народ мой! Дружно, быстро — приготовься к бою!— Смотри, его стихи и сейчас воюют, — выслушав перевод Павло, обрадовался Голев.
— Он и считал себя командиром, — напомнил Березин, — а свои стихи — отрядом, в котором слова и рифмы — его солдаты.
— Добрые солдаты! — похвалил Голев. — Их прямо в бой!
— Они тут сто лет в бою, да враг-то какой! Где им одним справиться. А кроме нас им помочь некому. Сам Петефи говорил, победа и счастье придут не из рук вымогателя, а из «святых рук, сеющих мир и свободу».
В эту ночь Голев долго не мог уснуть: едва удавалось ему смежить глаза, как заявлялся Шандор Петефи и будил его своими стихами.
Не спалось и старому Ференчику. Старик заново переживал свою молодость. Гимн революции он впервые услышал в донских степях на русской земле и на всю жизнь запомнил пламенные слова.
Он долго метался на горячей подушке, бессильный забыться в спокойном сне. Как живой перед ним стоял Шандор Петефи и все твердил:
Тплра мадьяр! Зовет отчизна! Выбирай, пока не поздно, — Примириться с рабской долей Или быть на вольной воле?Миклош Ференчик давно выбрал, но жизнь смяла, задавила. Он всей душой принадлежал этой воле, а палачи, и свои и чужие, душили ее каждый день. Но пришли русские, и загорелась душа. У мадьяр теперь достанет сил оторвать руки палача от их воли. Снова загудит тот дунайский колокол и поднимет их на борьбу против всех аспидов родной земли. Миклош первым встанет в ряды борющихся. А приходил сон, и на стол в комнате вскакивал Шандор Петефи и снова будил Миклоша огневыми словами, от которых захватывало дух:
Богом венгров поклянемся Навсегда, Никогда не быть рабами, Никогда…Что ж, видно пробил час освобождения его отчизны, и теперь не до сна!
7
Граф Эстергази! Семен Зубец познакомился с ним с первых же дней как ступил на венгерскую землю. Правда, заочно. Даже без переписки. Просто в ответ на любой из вопросов, чей лес, чья земля, чье поместье, ему чаще всего называли одно и то же имя — графа Эстергази. Богатства земельного магната казались необъятными. Чем только не владел он в Венгрии!
Самое же удивительное, о чем Зубец не мог и помышлять, его собственное счастье ни с того ни с сего тоже оказалось в руках сиятельного графа. Вышло это вот как.
Дозор Семена Зубца настиг немецкий обоз в имении графа. Охрана сдалась без выстрела. Все одиннадцать подвод оказались загруженными обувью, готовым платьем, тканями и галантереей. Похоже, вывозился целый магазин. Но Зубца заинтересовали не трофеи, а лагерь молодых невольниц в огромном бараке за колючей проволокой. Как выяснилось, по приказу Эстергази, ему выискивали сильных и здоровых работниц и насильно угоняли с гор в графские поместья, раскинувшиеся по всей Венгрии.
Охрана разбежалась, и, сбив запоры, разведчики ворвались в низкое помещение с двухэтажными нарами и узким проходом посредине.
— Ридны браття, россияны! — раздались радостные вскрики полонянок, бросившихся к солдатам.
Поскольку впереди всех оказался Зубец, ему и достались первые объятия и поцелуи.
— Ридны, други!
Обнимая солдат, девушки и женщины плакали и смеялись от радости.
— Не вси же разом, ни вси, — озоруя, шутил Зубец, — куды мине скилькы, мине одну бы, саму красну.
— Бери яку бажаешь, тилькы чур, на высилля всих клыкать.
— Бачите, якый я парубок, — бравировал Семен своей выправкой, — мени и невисту треба саму гарну. Ось цю беру! — потянул он за руку сразу приглянувшуюся ему дивчину.
Но ногах у нее постолы из грубой кожи. Ноги обмотаны тряпьем. Пышная короткая юбка местами продырявлена. Пестрая ситцевая кофточка ладно облегала ее стройную гибкую фигуру. На бледном истощенном лице вспыхнул легкий румянец, а огромные голубые глаза с длиннющими ресницами, еще влажными от слез, брызнувших от радостного волнения, смотрели ласково и доверчиво.
Матвей Козарь громко засмеялся:
— Дывись, яку файну дивку выбрав!
Хотя Семен и шутил, но горянка понравилась ему не на шутку. Редкая красавица! А необыкновенно одухотворенное лицо ее такой душевной чистоты, что безотчетно влекло к себе с первого взгляду.
— Тебе як клычут? — не выпуская ее руки, заглянул он девушке в глаза.
— Линкой.
— А видкиля ты?
— 3 Верховины, с Угорщины.
— Батько е у тебе?
— Ни.
— А маты? — все расспрашивал Зубец.
— Е, дома осталась.
— И жених е? — не унимался Семен.
— Ни, ни!.. — в тон отвечала горянка.
— От це добре! Тоди пидемо з нами, бери с собой подружку.
Девушкам-полонянкам объявили, что они свободны и могут хоть теперь же ехать домой. Пусть берут со склада любую одежду, обувь. Они ее заработали. Им отдали треть из трофейных повозок, только что отбитых у немцев.
— Поедете на графских конях аж до самой Верховины, — пообещал Зубец. — Сейчас подойдут наши части, и будет окончательное распоряжение. А пока снаряжайтесь до дому.
Лину с подружкой он привел в одну из изб и, оставив их на попечение Матвея Козаря, наказал до его, Зубца, возвращения никого не пускать к девушкам. А сам направился к трофейным повозкам с одеждой и обувью. Выбрал, как ему показалось, два подходящих пальто, два плаща, несколько пар ботинок и платьев, отложил по теплому платку и, набив мешок, заспешил обратно. Пусть приоденутся. За время неволи они не такое заработали.
Сгибаясь под тяжестью мешка, Семен вдруг услышал голос Жарова:
— Что за груз такой?
Разведчик оторопел даже и долго не мог вымолвить ни слова. Значит, и штаб уж прибыл.
— Что, спрашиваю? — повысил голос командир полка. — А ну, развяжи мешок.
Зубец скинул его с плеч и стал молча развязывать. Влип, все-таки.
— Барахольщик несчастный! — рассердился командир, заглянув в мешок. — Эх, Зубец, Зубец, не думал, что ты такой. На что тебе эта дрянь?
— Я же не себе, товарищ подполковник, ей-же-ей, не себе, — обретя голос, зачастил Зубец, чтоб разъяснить суть дела. — Мы горянок тут вызволили, угнаны с Верховины. Им и несу. Совсем голые. Как по морозу поедут.
— Смотри, проверю! — пригрозил Жаров. — Чести полка, чтоб не марать мне, понял? — и отпустил разведчика.
Обрадованный Зубец со всех ног бросился домой. Но едва он переступил порог избы, где оставил своих горянок, как сразу же выронил из рук мешок. Что за наваждение! Его Липку, бессчетно осыпая поцелуями, обнимал Павло Орлай. А Матвей Козарь сидел в стороне и посмеивался от удовольствия.
— Ты що, очумив? — взорвавшись, бросился Семен на Павло. — Сказал, моя, никому не уступлю.
Не понимая, в чем дело, Павло сквозь смех вырывался из цепких рук товарища.
— Стой, Зубчик, стой, шо ты, як божевильный. Сестра же, Василинка, ты слышишь, сама Василинка, жива и здорова! А ты, чертяка, душишь.
Зубца бросило в жар.
— Василинка?
— Кажу же, сестренка!
— Ни, ни, моя и моя! — оттаскивая Павло, теперь уже радостно озоровал Семен.
— Ось, дурний! — уступил ему Павло. — Ну, що ты, кипишь?
— Най дурний, най, — расшумелся Зубец. — Ни одной дивкы не дають. В полку не подступись, все нарасхват. Одну с дерева снял, с огня, можно сказать. А у ней муж, оказывается. Вон он сидит, Матвей Козарь. Эту из плена спас, опять отбирают. Нет, дудки. Никому не отдам. Ни брату, ни самому черту.
Василинка даже зарделась. Все еще озоруя, Семен полуобнял девушку за талию. Смутившись, она легко и ласково высвободилась:
— Ну, як божевильный[16]! Вин же жартуе… — тихо сказала она Павло.
— Який там жарт, то правда, — запротестовал Зубец.
Заинтригованные разведчики валом повалили в избу глядеть Семенову невесту.
— Моя, не прикасаться! — не умолкал Семен. — Чего на нее глаза пялите, — теснил он их к порогу. — Она давно не бачила красивых хлопцев, не кружите ей голову.
Нашалившись досыта, он вручил девушкам мешок и уже сказал почти серьезно:
— Вот что, Павло, как брату только, уступаю на час. Айда, хлопцы, пусть одни побудут. А то мы набедовали тут, слова родного сказать не даем. Айда.
Полк получал в селе пополнение и задержался на сутки. Бойцы наперебой ухаживали за горянками, снаряжая их в дорогу. Переодетые в доброе платье, они все казались красавицами. Семен убеждал Василинку, что у нее теперь два брата — Павло и Семен и что последний любит ее несравненно больше. Не привыкшая к ласке и такому вниманию, да еще на глазах у всех, Василинка выглядела растерянной, что вовсе однако ее не портило.
На следующий день Семен прощался с девушкой. Полк уходил на Будапешт, горянки возвращались домой. Он долго стоял с нею возле повозки, потеряв дар речи и соображения. Что же сказать ей все-таки? Как расстаться?
— За шутки прости, Василинка, люблю жарт, — заговорил он, мешая русскую речь с украинской. — Тилькы знай, е на свити Семен Зубец, плясун и забияка, якый любит тебя бильше всих. Дюже любит! Буду жив — обовьязково прииду до тебе на Верховину. Будешь ждать?
Она поглядела на парня, и вся зарделась. Времени на долгое объяснение у них не было.
— Буду, Сеник! — вымолвила едва слышно, припав к плечу.
Загоревшись, Семен ласково взял ее обеими руками за голову, заглянул в огромные голубые глаза, похожие на верховинское небо, и, несмело прильнув к ее полураскрытым губам, вдруг оторвался и побежал догонять своих. И сколько раз ни оглядывался назад, Василинка все стояла на том же месте, провожая его ласковым взмахом руки, пока не тронулась и ее повозка.
Догнав своих, Зубец тоже вскочил на телегу, и так они долго-долго ехали в прямо противоположные стороны и все же, как это ни странно, навстречу друг другу.
Он глядел и глядел на девушку, уже едва различимую в степной дали, и мысленно напевал слова песни:
Кто сказал, что сердце губит Злой огонь в бою? Воин всех вернее любит Милую свою.А когда Василинка скрылась из виду, Семен глядел на сизый горизонт, и он казался ему таким родным и близким. Как бы ни было горько и тяжко, жизнь идет по-своему, и ее не остановишь. Человек никогда не остается в бездействии, ибо сама жизнь — не что иное, как деяние человека, и хочет он того или не хочет, а она делает его лучше, богаче, счастливее.
Семен перевел взгляд на своих друзей. Сколько ими пройдено к сколько пережито. Дороги и дороги, бои и бои. Они требуют от тебя всех сил, всей жизни. Вон они, твои побратимы. И где бы ни был ты, ты всегда с ними, они твои сверстники и твои друзья: ты ешь с ними один хлеб, пьешь одну воду, ходишь вместе в атаки, строчишь из пулемета, стоишь у орудия или мчишься на танке — с ними везде и всюду всем сердцем, всеми помыслами, и без них нет тебе никакой жизни.
И Семен снова мысленно напевал ту же песню:
Кто придумал, что грубеют На войне сердца? Только здесь хранить умеют Дружбу до конца.Ему вдруг так ясно показалось, что по дороге бежит Василинка, догоняя его повозку, что он невольно зажмурился. А она догнала, молча расцеловала и снова бросилась обратно раньше, чем он успел схватить ее руками.
Раскрыв глаза, Семен только рассмеялся…
Воин всех вернее любит Милую свою…Глава седьмая БИТВА ЗА БУДАПЕШТ
1
Дни и ночи бои и бои.
Мертвое здание с черными глазницами окон остановило наступающих. Бойцы залегли в кюветы у дороги, укрылись за стенами небольших домиков, какими богат восточный пригород Пешта. В атаку только что ходили танки и за ними рота Румянцева. Но пулеметный огонь убийственно плотен, и фаустники бьют в упор. От их взрывов долго звенит в ушах.
— Разбить бы — и дело с концом, — предложил Соколов.
— Разбить не хитро, — возразил Черезов, — дом погубим, а он и венграм пригодится, и нам послужит: с него весь Будапешт виден.
— Беречь каждый дом — шагу не сделаешь.
— Зачем же крайности, — отмахнулся Черезов. — Ты знаешь, на него, черта, сколько снарядов надо! — повысил он голос, указывая на высокое здание, и взял телефонную трубку? — Привезли дымовые? Есть, тогда давай-ка прикрой эту «коробочку».
Минометчики сноровисто окольцевали здание разрывами дымовых мин. Бойцы тронулись ползком и короткими перебежками. Бесприцельный огонь не столь опасен. Легкий ветерок покачал клубы белесого дыма на месте, потом мешая их один с другим, не торопясь покатил в сторону, оттесняя все дальше и дальше.
Пробившись за ворота, Глеб Соколов разглядел лестницу из железных скоб, заделанных в кирпичную стену. Лесенка убегала вверх под самый карниз. «Для пожарников», — мелькнула догадка, и решение пришло само собой, смелое и дерзкое.
— За мной! — скомандовал Глеб и бросился вверх, перебирая руками ступеньку за ступенькой. С шестого этажа оглянулся вниз: весь его взвод живой гирляндой висел на углу каменного дома. У седьмого этажа оказалась узкая площадка, а с нее более удобная лесенка через карниз на крышу. Оттуда проникли на чердак. Эх бы, сюда всю роту! Но тужить не время. Вот он и седьмой этаж. На площадке — три двери — одна направо, две налево. Разбились по отделениям, рванули двери и с гранатами в руках ворвались в комнаты. Немцы и венгры, побросав оружие, как закаменели с поднятыми руками. Эге, человек сорок с лишним!
В окна выставили белые и красные флажки и, оставив Зубца с одним из разведчиков охранять пленных, спустились на шестой этаж. Здесь оказалось всего трое венгров, сдавшихся беспрекословно. На пятом этаже взяли еще пятерых: все фаустники.
Пока разведчики очищали этаж за этажом, Зубец заинтересовался фаустпатронами: он видел их впервые. Осмотрел трубу, похожую на самоварную, но чуть подлиннее; заряд, чем-то напоминающий удлиненную гранату. Подозвал фаустника-немца. Жестом спросил, как стрелять. Тот, не задумываясь, взял трубу, вложил заряд и, не целясь, выпустил его в окно в сторону своих войск. «Не хитрая штука!», — подумал разведчик и тут же повторил, выстрелив раз, потом другой, третий. Из окна была видна немецкая пушка. Сначала большой перелет, потом опять перелет. С седьмого выстрела фауст разорвался рядом, и пушка разбита.
Соколов меж тем был уже на третьем этаже. В одной из комнат немцы отбивались ожесточенно. У них полно патронов и гранат. Головы не просунуть. У Глеба мелькнула мысль, от которой сразу захолонуло сердце. Кончались патроны, и многие разведчики, оставив свои автоматы, вели бой уже из немецких, к которым уйма патронов. Как быть? Можно блокировать и ждать. Но это не в характере Глеба: слишком пассивно. Оттого командирское раздумье вновь и вновь возвращает его к мысли, от которой почему-то холодит в груди. Еще несколько минут колебаний, и он решился.
— Гареев, за меня будешь! — бросил он властно.
— Да куда ж ты? — вскинул тот изумленный взгляд.
— К бабушке на блины, — сердито оборвал Глеб. — Смотри и действуй! — И, взяв в обе руки по противотанковой гранате, он пошел к двери, прошел по узкому коридорчику. Дальше за стеною справа гитлеровцы и салашисты. Они бьют в упор, простреливая проход: их нельзя ни обстрелять, ни забросить к ним гранату. Соколов молниеносным прыжком бросился за стену и, взметнув над головою обе гранаты, прогремел одним выдохом:
— Хэндэ хох! — застыл он в угрожающей позе.
Его появление было столь внезапным, что никто не успел сделать даже выстрела, да и позади смельчака уже стояли его солдаты с выставленными перед собой автоматами.
— Все, господа, все! — торопил Гареев, выходя вперед. — Прошу, — и указал на выход.
Только вывели пленных, как за стеной послышался сильный взрыв, и в комнате посыпалась штукатурка. Еще взрыв, и обнажилось небольшое отверстие в соседнюю комнату, откуда полоснули длинной очередью из автомата!
— Клади оружие, не то всех перебьем! — донесся голос Бедового.
— Не видишь, черт, по своим лупишь! — закричал Гареев.
— Демжай! — ужаснулся Ярослав, — чуть не угрохал вас, — добавил он, испуганно просовывая голову в отверстие: — Ведь помочь хотел.
— Ладно уж, — вытирая мокрый лоб, усмехнулся Гареев, — смотри только не помоги по пути на тот свет.
В отместку за разгром своего гарнизона в каменном семиэтажном здании немцы открыли сильный огонь и разрушили все северное крыло дома. Здание зияло теперь провалами окон и стен, и все его семь этажей на одном конце дома лежали в руинах.
— Вот берегли, а немцы разбили, — сокрушался Черезов.
— Уберегли, называется… — добродушно сыронизировал Соколов.
— Дом не уберегли — честь сохранили! — кольнул командира Черезов, не отрываясь от плана венгерской столицы, развернутого на коленях. Куда теперь повернут его батальон, полк в целом?
Наконец стихли немецкие залпы, и к Черезову заявился Жаров. Они вместе поднялись на седьмой этаж. Задача ясна и конкретна — изо дня в день штурмовать Пешт. Но город огромен, и не так просто разобраться в сложном лабиринте его улиц.
Уточнив комбату задачу, Андрей долго не отрывал от глаз бинокля. Сквозь мглистое утро он угадывал знакомые по плану контуры улиц, исторических зданий, парков и кварталов столицы.
За Дунаем вздыбилась холмистая Буда. Ее горы вплотную подступают к реке. Скученные внизу, городские постройки, горбясь, в поисках пристанища карабкаются на их крутые склоны. За островом Маргит маячат изломы Розовой горы, у подножья которой раскинулись водолечебницы. Вдоль Дуная — гранитная набережная, и над ней мрачно высится Королевский дворец. Где-то за ним еще дымят одинокие паровозы южного вокзала. У моста Франца Иосифа начинаются чуть не отвесные скалы горы Геллерт с развалинами старинной крепости. Когда-то там стояли австрийские пушки, нацеленные на Пешт. Сейчас оттуда бьют немецкие гаубицы.
На равнинном левобережье, у ног аристократической Буды, как больной в жару, разметался плоский Пешт. Он открывался глазу бесчисленными улицами и площадями, бульварами и парками, фабриками и заводами. Это самая населенная часть столицы, принявшей здесь концентрическую форму с тремя полукружьями бульваров и лучами улиц, стремительно разбегающихся от прибрежного центра.
В бинокль нетрудно разглядеть парламент, университет, биржу. Справа дымится западный вокзал. Бросаются в глаза парки с большими прудами посередине. Несколько южнее виднеется восточный вокзал, потом Керепешское кладбище, «народный» суд. Очень многочисленны предприятия девятого промышленного квартала столицы. Впрочем, лес фабричных и заводских труб виден всюду. Они и в самом деле напоминают горелый лес, горестно ощетинившийся черными стволами в хмурое декабрьское небо.
Дни и ночи Андрей усердно изучал план венгерской столицы, ее историю. И вот он перед ним, миллионный Будапешт. С пригородами в нем проживает шестая часть населения страны. Здесь две трети венгерской промышленности. С этим почти двухтысячелетним городом связана история венгерского государства, а сейчас и судьба фашистской Германии. Недаром Гитлер снимал дивизии с западного и итальянского фронтов, где его не очень пугают еще робкие операции англо-саксов и французов.
Любой ценой, даже ценой полного уничтожения древнего города, немецкие и венгерские фашисты пытаются сдержать и остановить советское наступление. День и ночь гремит будапештский фронт, грозно полыхает залпами батарей и пламенем пожарищ, грохочет орудийной канонадой, зловеще заволакивает горизонт дымами. Яростные схватки не прекращаются ни на минуту. Гигантская подкова советского фронта неумолимо сжималась день за днем. Наконец огневые концы ее сомкнулись мертвой хваткой, и на весь мир прозвучал салют Москвы.
Андрей глядел и думал. Чужой город. Сейчас все смешалось, и близкое и далекое. Отсюда тоже начиналась война, и тысячи мадьяр с оружием в руках прошли от Дуная до Волги и от Волги до Дуная. За их спиной осталась земля, обильно политая кровью, и бесчисленные могилы. Стоило ходить, чтобы привести за собой войну в самое сердце Венгрии! Бесславные усилия, жестокий урок. Ясно, возмездие неотвратимо. А все могло бы быть иначе — мир и дружба. Андрей с гордостью подумал о своих людях, что пришли сюда от самой Волги. Им штурмовать этот город, и их ничто не остановит. Может, и не сразу, но и тут узнают, не враждовать пришли они под стены Будапешта, а восстановить справедливость. Это их оружие чести, и еще никакая армия не приходила сюда с таким оружием.
Он глядел и глядел на город, охваченный разраставшимся пламенем войны. Земля корчилась, кричала, металась в огне, и, казалось, она рожала, в муках рожала новый день!
2
Все готово, и все в напряжении. Давно заряжены ракетницы, и остается лишь дать сигнал. Андрей в нетерпении поглядывает на часы. Но их стрелки, неизменно равнодушные ко всему на свете, движутся, как всегда, независимо от человеческих желаний.
И вдруг… связист протягивает командиру телефонную трубку. Что такое? Как отменяется? Ах, быть наготове.
Жаров обертывается к сигналистам:
— Убрать ракетницы!
Сам он в недоумении. Что же случилось? Тщательно подготовленная атака отменена по всему фронту. Может, капитуляция? Нет, с позиций противника все такой же яростный огонь.
Оказывается, будет ультиматум. У окруженных один выход: либо капитулировать, либо погибнуть. Но враг упорствует. Он поставил на карту чужой ему миллионный город. Он ничего не щадит в нем и совершает злодеяние за злодеянием.
Прибыли офицеры из штаба армии и развернули лихорадочную деятельность. Слева от позиции Жарова проходит магистральное шоссе. Это прямой путь на Будапешт. С наступлением темноты были развернуты мощные звуковещательные станции. Они всю ночь и утро следующего дня передавали извещение о высылке советских парламентеров для вручения ультиматума. Летчики засыпали город листовками.
Офицер 2 Украинского фронта и будет направлен этим шоссе. Парламентер 3 Украинского появится с задунайской стороны — тоже в одиннадцать часов утра. Огонь затих.
Андрей с зари выдвинулся в первую траншею, откуда все как на ладони. Вот также было под Корсунем. Его батальон стоял тогда против Стеблева. Тоже был ультиматум. Были переговоры. А возвратились парламентеры — немцы ответили огнем. Что же будет теперь? Примут или не примут?
Мглистое утро было тревожным. Как решится сегодня судьба армий, противостоящих здесь друг другу, судьба венгерской столицы? Советский ультиматум весь проникнут духом гуманизма. Его цель пряма и ясна — сохранить древний город, избежать напрасного кровопролития, вынудить врага, виновника всех бедствий войны, капитулировать здесь, где он обречен на разгром, сложить оружие. Каждому солдату и офицеру гарантировалась жизнь, медицинская помощь раненым, нормальное питание, а венграм, кроме того, после допроса — роспуск по домам.
Стрелки часов приближались к одиннадцати. Что сейчас будет? Ему отчетливо видно широкое шоссе. Его лента убегает к восточной окраине Кишпешта. С обеих сторон ни выстрела. Фронт замер в настороженном ожидании.
Ровно в одиннадцать на шоссе показывается легковая машина с большим белым флагом, ясно различимым издалека. В ней советский парламентер. Машина движется тихо, и отсюда кажется, бесшумно. Андрей не отрывает от нее глаз. Тогда на Стеблев парламентеры шли пешком, здесь — на машинах. Там встретили их на середине нейтральной полосы. Где и как встретят здесь? Андрей мимолетно взглянул на людей, что были поблизости. У Березина лицо бледно и холодно. У Зубца туго сведены челюсти, и синие глаза кажутся совсем темными. У Якорева все в напряжении. У самого Андрея оно просто в огне. Еще минута, и решится все. Машина медленно в зловещей тишине докатилась наконец до середины нейтральной полосы, а на вражеских позициях все также мертво, и с их стороны никакого движения.
Сдерживая ход, машина с парламентером покатилась дальше. Выйдут или не выйдут? Чего они медлят? Стало слышно, как чаще застучало сердце. Лоб сделался влажным, и Андрей инстинктивно провел по нему тыльной стороной руки. Ему казалось, он сам сидит в той машине, изо всех сил упираясь ногами в передок. Все не выходят… Машина прошла еще пять-семь метров и вдруг, как ножом по сердцу, треск пулемета, и сразу же частый ружейный огонь и выстрелы орудий. Что они делают, изверги! Хотелось кричать, рвать и метать, подавать команду за командой. Но Андрей только сильнее сжал челюсти и закаменел, вглядываясь в даль роковой дороги. Машина замерла, и видно, как внутри ее сникли головы людей.
Подвиг и злодеяние! Они свершились тут, на глазах тысяч людей, и ни одно сердце не мирилось с злодейским убийством.
А скоро еще пришла роковая весть. Второго парламентера на той стороне Дуная немцы все же встретили, провели к себе в штаб, где и заявили ему об отказе вести переговоры. А когда парламентер возвращался, его убили выстрелом в спину.
Двойное злодейство!..
Андрей не помнил, как пришла команда, как он дал ее своим подразделениям и как началась атака. Но весь фронт вспыхнул громовым ударом мощной артиллерии, запылал из десятков тысяч стволов, и войска бросились на яростный штурм будапештских укреплений.
Вопреки всему Андрей вместе с людьми выпрыгнул из траншеи и в первой цепи ворвался на улицы Кишпешта.
3
На месте убийства советских парламентеров ныне возвышается величественный монумент. На пьедестале из серого гранита бронзовые фигуры двух советских воинов, обращенные лицом к Будапешту. Собрав последние силы, умирающий офицер приподнялся с земли. Его слабеющая рука еще сжимает древко парламентерского флага. Рядом солдат, сопровождающий офицера. Правой рукой он поддерживает парламентера, а левую гневно поднял вверх, как бы требуя прекращения огня.
«Здесь покоится прах советских парламентеров, погибших от рук немецких захватчиков 29 декабря 1944 года, — гласит надпись на памятнике, сделанная на венгерском и русском языках. — Слава героям, погибшим за независимость и свободу народов, за демократию во всем мире!»
Добрая и вечная слава!
4
Батальоны Кострова продвигались вдоль пештского ипподрома в направлении к водонапорной башне. А полк Жарова вдоль Керепеши шоссе, тоже мимо ипподрома, только он оставался у него справа, у Кострова — слева.
Пристанционные пути разбиты вдребезги, и вся местность изрыта воронками. Многие здания объяты пламенем. Свинцовые трассы пуль секут воздух. Разрывы мин и снарядов вспыхивают часто и неожиданно.
У вокзала Черезов нарвался на густое минное поле. Саперы Закирова быстро проделали проходы, и роты выбрались на рубеж атаки по ту сторону мин. Им удалось пробиться мимо вокзала и выйти к улице Ракоци, конец которой здесь упирается в большой рабочий квартал, примыкающий к вокзалу с северо-востока.
К комбату заявился молодой венгр, по виду рабочий. Бледный, с худыми впалыми щеками, он хотел что-то сказать, но вдруг сильно закашлялся и долго не мог остановиться. Черезов кивнул ординарцу, и тот протянул фляжку.
— Не надо: я туберкулезный, — отказался мадьяр и рассказал, в парке, за газовым заводом, много немецких танков.
Черезов доложил в штаб полка, и оттуда галопом пригнали две батареи. Усиление подоспело вовремя, и немецкая атака захлебнулась.
Молодой венгр из квартала «Мария-Валерия телеп», как называется тут городок бедноты. У рабочих там ни денег, ни работы, ни здоровья. Это трущоба, рабочее гетто, здесь черта изгнания, предел нищеты. Йожефу двадцать три года. Работал он на кондитерской фабрике, а вот заболел и его выбросили.
— Я пришел помочь вам, — просто объяснил он цель своего появления, — если смогу только.
Его поблагодарили и пригласили отобедать.
— Что вы, что вы, — смутился молодой венгр, — я не затем.
— Садись, Йожеф, — строго сказал Березин, — садись: — у русских принято угощать друзей, — и он легонько подтолкнул его к столу.
— Нет, нет, — все еще упрямился венгр.
Глаза его лихорадочно горели, говорил он порывисто и весь дышал каким-то благородством простого человека.
За стол его усадили с трудом.
— Вы коммунист? — спросил Березин.
Он отрицательно покачал головой.
Йожеф хорошо знал столицу, и его оставили при штабе в качестве проводника по городу.
Миклош Ференчик отпущен на розыски сына, и в качестве переводчика для разговора с Йожефом был вызван Павло Орлай, который настороженно приглядывался к венгру. Верить ему или не верить? Сознание гуцула еще никак не мирилось с возможностью на кого бы то ни было полагаться б этом хортистско-салашистском гнезде, каким представлялся ему штурмуемый Пешт. Когда же заявился, наконец, старый Миклош, Павло очень обрадовался: теперь можно возвратиться к разведчикам.
— Отыскал сына, дядя Миклош? — с участием спросил он мадьяра, к которому у него уже не было недоверия.
Но Ференчик даже не ответил, и вроде остолбенел от изумления. А затем, широко расставив руки, он бросился к молодому венгру:
— Йожеф, ты! Мой Йожеф! — твердил он, сжимая его в объятиях. — Вот он, сын мой, живым отыскался!
Павло изумился еще больше: значит, уже два Ференчика. Что ж, этим он будет верить.
5
Незадолго до полуночи Жаров позвонил Кострову:
— Ты где теперь?
— Да вот парки какие-то, а примет мало — не разберешь, — ответил Борис. — Одни музеи вокруг: коммунальный, промышленный, сельскохозяйственный, а там бани, цирк, большие пруды.
— Хозяйство занятное.
— Еще какое, — рассмеялся майор, — говорят, немцы зоосад распустили, а он близко тут. Будто львов уж видели. Зайцы с перепугу к немцам бросились, а цари зверей к нам подались.
— Наговорил.
— Нет, мне-то каково, — не унимался Костров, — душа горит. Такой случай — на львов поохотиться.
— Одну минутку… — оторвался Жаров.
Вошел Йожеф и рассказал, что в соседнем доме в новогоднюю ночь родила женщина, сегодня у нее крестины, и она просит кого-нибудь из офицеров зайти и на счастье хоть чуть-чуть подержать на руках ее новорожденного.
— Тут у нас тоже история, — возобновил Андрей разговор с Костровым, — на крестины зовут, как откажешься.
Пойти вызвался Березин.
— Что ж он ушел так, эка беда, — опомнившись, обернулся Жаров к ординарцу, — ведь крестному отцу, кажись, с подарком полагается.
— Не знаю, товарищ подполковник.
— А вот полагается! Беги-ка в санчасть. Пусть соберут белья — ну, простыни, наволочки, полотенца, одеяло пусть положат. Да корзиночку продуктов матери. Понял?
— Так точно.
— Скажи, от солдат и офицеров полка, — наставлял Жаров. — Скажи, весь полк крестным отцом будет. Скажи, мол, счастья и здоровья желают. Пусть, как надо, сына растит. Понял? Дуй.
С крестин Березин возвратился не скоро.
— Мать и обрадовалась, и расплакалась, — рассказывал он Жарову. — А народу в подвале полно. Ординарца качали, меня качали, малыша качали. Мать перепугалась даже. «Эльен Москва!»[17] — тысячу раз кричали. В общем здорово получилось.
— Назвали-то как?
— Виктором, пусть, говорят, будет победителем новой жизни над старой. Виктором!
— Значит, самый юный новосел освобождаемого Пешта.
— Вас к аппарату, — протянул трубку телефонист.
— Товарищ подполковник, — негодовал Думбадзе, — вот звери, а!..
— Да не тяни ты, говори… — торопил его Жаров.
— Мальчишку лет четырех из окна с третьего этажа на мостовую вытолкали. Я не удержался и прямо из батареи по ним в окна.
— Бей, Никола!..
После двухдневных боев полк Жарова вышел к проспекту Андраши. Прямая стрела магистрали пересекает почти весь Пешт, а внизу под землею здесь пролегает метро.
— Это лучший проспект столицы, — сказал молодой Ференчик. — Но здесь не живет ни один рабочий.
— Теперь, Йожеф, — ответил Жаров, — ваш Пешт. Рабочие строили этот проспект, им и жить тут.
— А знаете, я еще вылечусь и поработаю на свою власть. Надо — я и воевать пойду за нее.
Поздно вечером Жаров заглянул в подвал разведчиков. Они только что поужинали и шумно беседовали за еще не прибранным столом.
— Да у вас гость тут, — рассмотрел Андрей венгра в гражданском.
— Поговорить зашел, — свой человек, инженером на машиностроительном будет, коммунист, — сразу выложил все Голев.
Со стула встал невысокий мадьяр, с чисто выбритым лицом, на котором маленькие, чуть заметные усики. Он степенно поклонился и с достоинством произнес:
— Имре Храбец.
Жаров пожал руку, и они разговорились.
— Если б не ваши солдаты, Будапешт умер бы с голоду, — переводил Орлай слова Имре, когда заговорили о жителях столицы. — Немцы вывезли все, а что не вывезли, уничтожили.
— У советских людей доброе сердце.
— Нам ли не знать!
— Вы состоите в партийной организации? — сменил Жаров тему.
— Да, у себя на заводе.
— Чем же сейчас занимаются коммунисты?
— Готовят к пуску завод, они убеждают жителей не медлить и восстанавливать все разрушенное. Они берут на учет остатки продовольствия и помогают местным органам наладить снабжение. Ваша армия все трофеи отдает жителям, и они хоть что-нибудь получают. Знаете, как никогда, дел много.
Он увлеченно рассказывал о жизни военного Пешта. Только на передовой, под самым огнем население отсиживается в подвалах. А чуть сзади, где потише, оно давно на улице, на заводах, в мастерских. Весь трудовой Пешт всем сердцем торопит Советскую Армию и, чем может, помогает ей.
Жарову невольно вспомнился сегодняшний случай. Роты ушли вперед. Пушки отстали. Им невозможно пробиться сквозь горы кирпича, битое стекло, спутанную проволоку, вывороченные рельсы трамвая. Березин спустился в подвалы двух-трех зданий и попросил помочь. Ему даже не пришлось агитировать. Все взрослые и масса ребятишек поднялись наверх. Нет, они явились не из страха, им никто не угрожал, не приказывал даже. Они пришли по зову своей совести.
Но Имре рассказал и про других. Вот тут близко в подвале отсиживается банкир Пискер. Уехать он не успел. Этот день и ночь об акциях хнычет, ценные бумаги оплакивает. Или еще — один промышленник Кислингер. У него макаронная фабрика. Так он и не хочет пускать ее. Видите ли, какие деньги будут, не знает:
— А ну, разыскать! — приказал Жаров Якореву.
— Зато многие, — продолжал инженер, — просто воспрянули духом.
— Смотрите только за пискерами да кислингерами: эти оружия не сложат, — предостерегал Березин.
Подвал, в котором отсиживался фабрикант, оказался рядом, и Максим быстро доставил его к Жарову.
— Бела Кислингер, — угодливо кланяясь, снял он шляпу.
— Почему не работает фабрика? — в упор спросил командир полка.
— Война же! — развел тот руками, отступая шаг назад.
— А вы видите, люди голодают, видите? — наступал на него Жаров.
— Да, но…
— Фабрика разбита?
— Да нет, то есть, крыша только… — путаясь, заметался Бела.
— Так вот, завтра приказываю пустить фабрику! Продукцию сами реализуйте, чтоб жителям поступала. Слышите, чтоб вся поступала. Как сделать, со своими властями согласуйте.
— Пустим… согласуем… — кланялся он, пятясь к двери.
— Не пустите — отберем фабрику, сами пустим, пригрозил Жаров.
По дороге в штаб Андрей поднялся на верхний этаж, где размещен наблюдательный пункт.
Угрюм и мрачен вечерний Пешт. Огненной дугой стоит над ним пламя пожарищ. Бесконечны руины зданий, еще не остывших от взрывов. Хмуро смотрят провалы искалеченных стен и мертвые глазницы окон. Несмолкаемо гудят бомбардировщики, и мощные удары бомб сотрясают землю и воздух. Зябко пушит январская поземка. Всюду беспрестанный треск пулеметов и автоматов и несмолкаемый гром артиллерийской пальбы в том самом темпе, по которому фронтовой человек безошибочно узнает идущее наступление. Взглянешь на город сверху — живой вулкан огня и дыма.
Немцы сопротивляются с отчаянием смертников. Они подрывают памятники, уничтожают скверы и парки, рушат громады зданий, предавая их огню. Дай им время — они камня на камне не оставят в городе. Его израненные и покалеченные кварталы, объятые дымом и пламенем, — подлое дело их рук, ничего не щадивших в миллионном городе чужой им страны, ненавистного км народа.
6
Агитаторов полка Березин собрал за фасадом высокого здания. Он напомнил волнующие сводки последних дней, ликующие салюты Москвы. Весь Дунай в огне невиданных сражений. Возрождается освобождаемая Венгрия. В Дебрецене уже собралось венгерское национальное собрание. Оно приняло закон, ликвидирующий латифундии, и всю землю передало крестьянам. Венгрия объявила войну фашистской Германии. Все это — прямой результат великой миссии, с которой идет по зарубежным странам могучая армия-освободительница. Пусть об этом знает каждый солдат. Пусть наши успехи вселят в него еще большую уверенность и бодрость. Девятый удар неизбежно закончится полным освобождением всей Венгрии.
Максиму и Павло Березин поручил провести политическую информацию среди жителей квартала, в котором шел бой. Сам он отправился с другим переводчиком.
Вблизи передовой жители дни и ночи отсиживаются в бункерах. Агитаторы и отправились к «бункерянам», как шутя называл их Павло. Но едва спустились они вниз, сразу услышали бурные рукоплескания. В просторном подвальном помещении собралось до сотни человек. Люди скучились на койках и нарах, стояли в проходах и увлеченно слушали молодого венгра, выступавшего с табурета. Неизвестным агитатором оказался Имре Храбец.
— О чем он? — тихо спросил Максим у Павло.
— О национальном собрании в Дебрецене.
Имре говорил с огоньком, и ему часто аплодировали.
— Венгерское правительство объявило войну Германии! — произнес Имре Храбец, и ему зааплодировали еще с большей силой.
На табурет взобрался пожилой мадьяр.
— Смотри, Миклош Ференчик, — прошептал Максим, подтолкнув в бок Павло.
— Мы приветствуем новое правительство, — говорил меж тем Миклош, — и рады, что оно начинает с демократии для народа. Гитлеровская Германия — злейший враг Венгрии, и весть о войне с ней обрадует всех. У нас будет своя Красная народная армия. Вот сын, — указал он на Йожефа, стоявшего рядом, — мы вместе пойдем добровольцами против немцев, как только начнут создавать такую армию. А коммунистам, — повернулся он к агитатору, — коммунистам прямо скажи — весь простой народ душою с ними!
Бункер долго аплодировал.
— Товарищи, — сказал Имре Храбец, — будьте готовы к борьбе против гитлеровской Германии. Боритесь с разрухой. Коммунистическая партия призывает вас к делу и бросает клич: — Венгрия принадлежит вам, стройте ее собственными руками, укрепляйте, не жалея сил! Коммунисты везде и всюду будут на страже ваших интересов.
Агитатор смолк на минуту, прислушиваясь к гулу одобрения. Кругом небогато одетые люди с умными, понимающими и гордыми глазами, и в них ярко вспыхнувшие надежды горят уже верой в большой день, которым начинает жить их родина.
— Поклянемся же, товарищи, быть верными народу, — продолжил с табурета агитатор, — работать для народа, поддерживать только истинно народное правительство!
— Эшкюсюнк![18]
— Эш-кю-сюнк! — отзывался стоголосый бункер.
— Эльен мадьяр демокрация![19]
— Эльен Мадьярорсак![20]
— Эльен Москва!
— Мос-ква! Мос-ква! — долго скандировал бункер.
— Смотри, Павло, — тихо шепнул Максим, — чем не друзья! А ты расправы с ними жаждал.
— Этих зачем трогать! — растерялся молодой гуцул. В душе у него вспыхнуло вдруг доверие к этим людям. А он хотел уничтожать их. Вот дурной! Нет, эти не стали б мешать Павло жить и учиться, эти не стали б убивать его отца, угонять его Василинку. Не стали бы! Этим он верил.
Максим и Павло отправились в соседний бункер. В нем также тесно и многолюдно, и их заметили не сразу. Молодой венгр с бесцветным сонно невыразительным лицом и в долгополом одеянии, похожий на монастырского служку, слащаво и нараспев читал какую-то книгу. Его покровительственно слушали флегматичные джентльмены в манишках и их млеющие дородные супруги в пестрых халатах. Повыше, на нарах, размещался простой люд, а на самом верху хозяйничала бойкая детвора. Заунывно молитвенную обстановку нарушил вдруг шустрый мальчонка: забравшись под потолок и свесив с нар свою курчавую голову, он уставился на грузных аристократов и стал вызывающе напевать Петефи, положив стихи поэта на им самим, мальчишкой, придуманную музыку:
Как здоровье ваше, баре господа? Шею вам не трет ли галстук иногда? Мы для вас готовим галстучек другой! Правда, он не пестрый, но зато тугой!— Смотри, Максим, — тихо сказал Павло, толкая офицера в бок, — он готов, шельмец, вешать этих господ.
На мальчонку цыкнули, и он примолк было, но вдруг снова озорно выкрикнул, сопровождая слова свои уморительными жестами:
— Правда, он не пестрый, но зато тугой! Ой, тугой!
Внизу негодующе запротестовали. Когда стихло, служка продолжил чтение. О чем, он, кивнул Максим в его сторону. Об ангелах? Ах, о том, чем они питаются. Ну и ну! По мнению «эрудированного» богослова, им нипочем любая пища, и все ангелы глотают ее так же, как и люди. Впрочем, осваивать не могут: пища не расстраивает им желудки и не становится частью их божественного тела. Умора просто. А чуть погодя Павло переводил дальше: ангелы, оказывается, и целуются, только… без страсти, без огня, так сказать, совсем не женятся и замуж не выходят… Максим и Павло захохотали, не сдерживаясь.
— Откуда ж ангелята берутся? — не стерпев, созорничал Павло, направившись в сторону респектабельных джентльменов.
— Богохульствующий да будет наказан! — встал со скамьи высокий монах в черной сутане и с постной миной на желтом лице. Тонкие губы его широкого рта зло вздрагивали. — Книгу эту написал я сам, и в ней святая истина! — сказал и попятился, ибо только теперь разглядел, что его противник, так чисто говоривший по-венгерски, оказывается, советский солдат.
— Пане капеллане, вы! — ахнул Павло, сраженный такой неожиданной встречей. — Вот где привелось свидеться. — Так это ж, Максим, наш иерей-иезуит, помнишь? — обернулся Орлай к Якореву.
— Это какой тебя выдал хортистам?
— Он самый.
Человек в сутане протестующе поднял руку.
— Кто вы такой? Я не знаю вас.
— Nil admirari — ничему не следует удивляться, — напомнил Павло иезуиту его излюбленную латинскую фразу. — Неужели не узнаете, капеллане? Павло Орлай, собственной персоной, да-да, тот самый, которого вы запрятали в хортистский застенок.
Иерей отшатнулся, и желтое лицо его мгновенно побелело.
— Это обманщик, товарищи, злобный хортист! — возвысил Павло голос, обращаясь к трехэтажному бункеру. — Это папский прихвостень, жандармский соглядатай, выдававший старым властям честных людей. — Голос солдата накалялся все больше и больше. — Может, скажете, выдумка все? А вот смотрите, — и Павло мигом скинул шинель, гимнастерку, обнажив грудь и спину в лиловых рубцах и еще не выцветших кровоподтеках. — Это его роспись, это он разрисовал меня руками хортистских палачей. Видите, какой он ангелист, расписывающий ангельское смирение. Взгляните только на его душу, она чернее, чем у самого злого демона. Ты думаешь, я простил тебя? У-у, ты!.. — шагнул он к капеллану, замахнувшись автоматом.
— Остынь, Павло, — схватил его за руку Якорев, — остынь, дорогой товарищ: ты же советский воин!
— У-у, змея! — опуская автомат, прохрипел Павло.
— Эти руки, — поддерживая его за локти, заговорил Максим снова, — честно работали и честно воюют, и их незачем марать, Павло. Переводи, пусть все слушают.
Нахлобучив шапку, гуцул кольнул иерея из-под мохнатых бровей злым взглядом, упрямо поджал губы.
— Долой, долой! Судить его! — загудел стоголосый бункер, и слова эти еще больше перепугали иезуита в черной сутане. Он весь как-то съежился, чуть не присев на пол, и поднял над головой руки, словно защищаясь от ударов.
— Vox populi — vox dei — глас народа — глас божий! — громко сказал Павло. Но мораль его Максиму показалась неубедительной, и захотелось скорее заговорить о людях, о всем, что им близко и дорого. Легонько отстранив Павло, он повел рассказ о войне, о победах советской армии, о свободе, которую обретает обновляемая Венгрия, о первых декретах дебреценского правительства. Берите эту свободу, укрепляйте ее, стройте по своему нраву. Советские люди поддержат любое честное начинание. Весь бункер гудел от аплодисментов, и чувствовалось, люди здесь думали не об ангелах и совсем не о том, чем они питаются и как целуются.
В самый разгар беседы наверху грохнул снаряд, и все содрогнулось, с потолка и стен посыпалась штукатурка.
— Вот он, Vox dei! — прошипел иезуит. — Глас божий, карающий нечестивцев! — повторил он по-венгерски. Но слова его заглушил новый взрыв, сразу погас свет и содрогнулась земля. Послышались крики детей и плач женщин. Кое-кого поранило. Когда зажгли свет, у развороченной стены, опрокинувшись навзничь, лежал человек в черной сутане. Он был мертв.
— Выход завалило! — истошно завопил грузный мужчина в высоком котелке. — Заживо погребены.
Кажется, не было силы, которая смогла бы заглушить вой и визг, вспыхнувший в бункере…
Угодив в угол дома, немецкая бомба пробила перекрытия всех пяти этажей. Разорвалась она над бункером, и в каменном мешке осталось много мадьяр. Сквозь гору битого кирпича и камня снизу глухо доносились истошные вопли детей и женщин. Голев собрал бойцов и поставил их на раскопки. Вопли заживо погребенных несколько притихли. Когда же образовалось отверстие, достаточное, чтоб через него пробрался человек, жители по одному начали выбираться наружу.
— Детей сначала, детей, — торопил Голев.
Вдруг внизу снова послышались детские вскрики и визг женщин.
— Куда! — закричал Тарас, — марш обратно! — Пака не вытащу всех детей, никто не вылезет, — и он обратно затолкал строптивого нарушителя, не обращая внимания ни на какие его попытки объясниться из-под котелка, побелевшего от известковой пыли.
За женщинами и детьми первым выкарабкался сухопарый человек в котелке, с бледным и длинным лицом и с глазами, в которых еще не остыло выражение: успеть бы! Вынув из кармана чистый батистовый платок, он долго вытирал гладкое лицо и лысый череп, покрытый крупными каплями пота. Солдаты сразу окрестили его «джентльменом».
Приведя себя в порядок, он решительно шагнул к Голеву.
— Пауль Швальхиль, американский делец! — представился он, чуть приподымая котелок. Господин из Нью-Йорка самоуверен, и в правильных чертах его лица с быстрыми серыми глазами есть даже что-то привлекательное, а приглядишься — оно исчезает: в мимике, в его манерах все вылощено и высокомерно до такой степени, какая характеризует людей, не сделавших в жизни ни одного доброго дела.
Все заинтересовались неожиданным «союзничком». Действительно, американец. Опять агент крупного концерна. Сколько они оставили их в порабощенных гитлеровцами странах. Он представитель и акционер американской фирмы «Стандарт-ойл». Хороша акула! На этот раз не только приказчик, но и хозяин.
Давно ли он здесь? Очень давно — свыше десяти лет. Он специалист по нефти, и благодаря ему ее добыча намного выросла. Что, он работал на гитлеровцев? Да нет, господа офицеры, видно, шутят. Он просто занимался делами фирмы, добывал нефть, поставляя ее другим фирмам. Обычная торговля. Отличный бизнес. Нет, это не помощь врагу. Но война не может остановить деловой жизни. Нет-нет, он истый демократ, как и все американцы. Ведь самый высокий закон демократии — не трогать того, что принадлежит другому.
— Это закон империалистического разбоя! — оценил Максим его «демократию». — По такому «высокому» закону отданные венгерским крестьянам земли надо опять отдать земельным магнатам, а всем банкирам и фабрикантам дать полную свободу выжимать из народа последние соки. Хороша свобода!
— Дудки, не выйдет! — выслушав перевод Орлая, не сдержался Голев. — Поворота к старому тут не будет.
Пауль что-то бормочет о космополитическом демократизме, о долге союзников быть терпимыми к другим взглядам. Якорев без обиняков объяснил ему, что «союзником» его считать никто не может и не хочет и что его просто судить надо, судить как военного преступника.
— О, господин офицер просто шутит, — расшаркался американец. — В таком случае весь Уолл-стрит судить надо: его капиталы живут и действуют во всех воюющих странах «оси».
Но он тут же убедился, что с ним не шутят, вобрал голову в плечи и стал нервно вытирать батистовым платком мокрую лысину.
Уже потом выяснилось, что он с задунайских нефтепромыслов и приехал, чтоб за бесценок скупить акции, которыми еще владели некоторые дельцы капиталистической Венгрии. Но Советская Армия наступает столь быстро, что ему не удалось обделать выгодное дельце. Он так и выговорил «дельце». Помешали, оказывается.
— Ну, и «демократ»! — качал головою Голев.
— Чего ты хочешь, — иронизировал Соколов, — только в фамилию вдумайся: шваль и хиль!
— Американец тоже! — даже разозлился Матвей Козарь.
— Какой он американец! — запротестовал Максим. — Настоящие американцы либо куют оружие, либо штурмуют сейчас линию Зигфрида. С теми и я заодно. А таких…
— А таких, — перебив, заключил Глеб, — таких я зубами рвал бы. Думаю, настоящие американцы на меня не обиделись бы даже.
7
Йожеф изумлен. За пятнадцать лет он вдоль и поперек исколесил весь город. Но как мало все изменилось. А пришли русские, и столько перемен. Что стало с людьми? Еще вчера казалось, они покорно принимали жизнь обездоленных. Сегодня они богачи, и у них уже право — говорить, требовать, решать. У них сила.
С семи лет отец привез его сюда в ученики. Йожеф изо дня в день видел этих людей. Он ел с ними, пил, спал. Знал все их тайны. Сначала страшно было. Потом привык. В квартале «Мария-Валерия телеп» ко всему привыкают быстро. Чего он только не видел тут! И мать, бросившую ребенка в колодец; и сына, задушившего больного отца; и умирающих детей, которым по неделе не давали есть и пить. Видел глаза, потухшие и смирившиеся со всем на свете, и глаза, обжигающие ненавистью и не прощающие ничего и никому. Все видел. Жизнь здесь каждого ожесточала по-своему.
Ведь как было. Вот богатые — у них все. А вот бедные — у них ничего. Их много, их очень много, и их некому сосчитать. А ведь как просто сосчитать. Бедные создают — богатые владеют. По какому праву? Пусть бы каждому свое. Ты сработал — ты и получай. Вот справедливость! А кругом ложь и обман. Как же мириться с этим? И Йожеф жил ожиданием, надеждой. Ведь должно же быть иначе. В нем никогда не засыпал чистый голос против любой несправедливости. Почему же со всем мирятся взрослые? Почему? Сколько лет эти мысли бились в его измученном мозгу. Только потом он понял: у них отняли силу, отняли право. А казалось, так просто подняться и разом уничтожить всех, кто мешает жить. Ведь это так просто. Стоит лишь решиться. Было же, люди решились и победили, стали хозяевами. Только у них недостало сил отстоять свою власть, и советская Венгрия погибла, Йожефа тогда еще не было на свете. А пришли русские, и люди снова решились. Они теперь, как хозяева. У них сила.
Лишь недавно Йожеф нашел людей, каких не знал раньше. Судьба свела его с Имре Храбецом и его людьми. Он слышал про них и раньше, сочувствовал им, а не встречался, не знал. Теперь он нашел и не потеряет. Он навсегда с ними, с коммунистами. Его отец Ленина видел. Жаль, отцу не пришлось бороться — задавила жизнь. Йожеф будет бороться. Он станет народным солдатом.
Но вот настали и дни, когда молодая еще неокрепшая Венгрия начинала создавать свою демократическую армию. По всей стране вдруг появились синие листовки с призывом — добровольно вступать в ее ряды. И Йожеф решился, не раздумывая. Он будет воевать за новую Венгрию. Он еще не знал, какой будет она, та Венгрия, но верил, будет народной, справедливой.
Старый Миклош по-своему переживал эти дни. Откуда только взялись силы, энергия. Будто вернулась молодость, и Ленин снова звал его на борьбу с мировой гидрой, на борьбу за свою землю, за свою честь, за свое счастье. Он сразу бросился к русским, чтоб показать им удивительную листовку.
— Видали, — шумел Ференчик среди разведчиков, — будет и у нас своя народная армия. Мой Йожеф тоже идет, чтобы воевать бок о бок с вами. Возьмут — и я пойду.
Истые венгры с энтузиазмом шли в эту армию, посылали в нее своих сыновей и братьев, своих отцов и мужей. На многолюдных митингах коммунисты разъясняли, что их партия всеми силами поддерживает создание новой армии. Она посылает в нее верных борцов народа, испытанных партизан, лучших людей. У каждого добровольца коммунисты лишь спрашивали, любит ли он родину, ненавидит ли гитлеровцев, может ли храбро и умело сражаться за демократию.
Даже старый Миклош загорелся стать солдатом этой народной армии.
8
Осматривая только что отбитый у немцев и еще дымивший с угла большой дом, в одной из комнат разведчики наткнулись на ребенка. Лет семи девочка забилась в пустой угол и страшными глазами глядела на чужих солдат, стоявших у двери с оружием наперевес. Опустив автомат, Максим взял девочку на руки. Все ее хрупкое тельце трепетало мелкой дрожью, и она не ответила ни на один вопрос, заданный Павло по-венгерски.
Максим спустился в подвал, куда сбились жители дома и без труда отыскал ее мать. Обезумев от горя, женщина с час металась по дому в поисках ребенка. Сейчас она не знала, как отблагодарить русских солдат, спасших ей дочь.
А часом позже эту венгерскую девочку, всю в крови, Максим принес в санчасть. Бойцы только что видели мужчину в шляпе и макинтоше, выбежавшего из горящего здания с девочкой на руках. Мужчину пытались задержать, а он, бросив ребенка, неожиданно оказал сопротивление. Переодетого гитлеровца убили, но отстреливаясь, он поранил и девочку, похищенную им для маскировки Истекая кровью, она потеряла сознание.
— Ей кровь нужна, — заявил доктор, — и немедля, а у нас нет сейчас.
— Да сколько ей нужно, у меня возьмите, — и Максим с готовностью засучил рукав.
— Погоди, неугомон, группа-то у тебя какая?
— Третья у меня.
— А ей какая нужна? — обернулся он к сестре, заканчивавшей проверку на стеклышках.
— У ней первая.
— Ну, вот и не годится твоя, — обернулся врач к Якореву.
— Так сейчас найдем, подумаешь, много ей надо…
Максим, запыхавшись, прибежал к разведчикам.
— Товарищи, — обратился к ним одессит, — нужен стакан-другой крови — девочка умирает, а у меня группа не подходит.
— Да ты толком расскажи… — крикнул кто-то.
— Бери мою, — выслушав Максима, первым предложил Зубец, — всю жизнь помнить будет.
— Да зачем ей от такого лядащего — пошутил Демжай, — у меня лучше, и группа хорошая.
Охотников хоть отбавляй, но никто из них не подходит по группе крови.
— А у тебя какая, Павло? — обратился к нему Максим.
— Первая у меня, — на миг растерялся гуцул.
— Так давай же! — не сводил с него глаз Якорев.
Орлай нерешительно потоптался на месте. Ладно, убивать их он не станет. Тоже люди. Теперь он даже делится с ними хлебом, пайком. Детишки так голодны. Но кровь?..
— Ты что, боишься или не хочешь? — взял его Максим за локоть.
— Чего тут бояться — дело простое. Думаю, стоит ли еще им и кровь давать. Так поправится.
— Нет, ты поди посмотри на нее, — потащил его Максим к девочке. — Не дашь — она умрет сегодня же. И тебе легко убить ее? Убить ребенка? Да тебя отец проклял бы за это.
— Ладно, пусть берут, — скидывая шинель, решился Павло.
Врачу помогала Таня. Взяв прибор, она привычно ввела в вену иглу, и у Павло непроизвольно повлажнел лоб, а лицо побледнело. Максим, стоявший подле койки, на которую уложили гуцула, дружески пожал ему свободную руку. Орлай сразу раскраснелся. Ему не видно склянки, по стенам которой струится его кровь. А Максим как завороженный глядел на эту кровь и мысленно торопил Таню, словно от нее зависело ускорить дело.
Белое личико девочки порождало тревогу. Оно словно взывало к этим людям о помощи, о спасении.
Кровь, живая человеческая кровь! Сколько ее нужно раненым, и скольких спасла она от неминуемой смерти. Когда-то Березин дал кровь воину-башкиру и спас ему жизнь. Акрам Закиров побратался кровью с румынским партизаном. Янку Фулей теперь его кровный брат. И вот Павло Орлай! Еще недавно готовый без разбору убивать мадьяр, дает сейчас кровь их ребенку, попавшему в беду. Такова, видно, жизнь: в ней всегда торжествует справедливость.
Девочка всем понравилась: хрупкая, белокурая, с огромными глазами, синими-синими, как васильки. Когда ей стало лучше, каждому захотелось хоть что-нибудь подарить ей. Кто вынул чистый носовой платок, кто расческу, кто перочинный нож. А Голев вмиг смастерил такую потешную куклу, что девчушка обняла ее, прижала к себе и не выпускала из рук.
— Вот бы удочерить ее! — предложил Тарас.
— А куда она денется! — засмеялся Максим. — Хочет не хочет, а теперь дочь полка. Вырастет — так и будет писать в анкетах.
Нежелание Павло и его согласие дать кровь венгерской девчушке Голеву казалось естественным и понятным. Доброе в человеке всегда побеждает. После переливания он позвал гуцула с собой и отвел его в теплый подвал, уложил в кровать.
— Не храбрись, сынок, — сказал он заупрямившемуся было Павло, — отдохни, собери силы.
У Павло в самом деле кружилась голова и как-то ослабли руки и ноги. Видно, сказывались бессонные ночи и невероятное напряжение последних дней. Тарас согрел чаю, напоил гуцула. Девушка-мадьярка сбегала к соседям, принесла живой комнатный цветок и, смущаясь, вручила Павло. Обитатели подвала скучились у кровати и во все глаза разглядывали солдата. Как же русский — и дал кровь! А когда Голев рассказал им, как хортисты пытали гуцула, как угнали его сестру, убили отца, их изумлению не было границ.
— Душа у него добрая, советская, — сказал Тарас, заботливо поправляя одеяло. — Не все же венгры — палачи и убийцы, не все с Хорти и Салаши, далеко не все. Было, многие из венгров и за Советскую власть бились, и нам помогали против белых. Миклош, скажем…
Старый мадьяр даже вздрогнул. Он слово за словом переводил Голева и вдруг запнулся, словно поперхнувшись.
— Что значит один Миклош!.. — заспорил Павло. — А сколько за одно с Хорти?
— Дай срок — подсчитают, сколько. Но уверен, больше тех, что против. Да и Миклош не один. Венгров и я с гражданской знаю. Помню, попал тогда в Томск, а пленных там видимо-невидимо — и венгры, и чехи, и немцы, кого только не было. А как попал? Вспыхнуло в Томске восстание бывших царских офицеров. Меньшевики да эсеры постарались. Нас и послали навести порядок. Только приехали, а мятеж подавлен уже. Кто думаете подавил? Оказывается, партийная дружина, ее большевики создали, и помогали им пленные, главным образом, венгры. Они свой батальон имели, интернационалистов. А знаете, кто их распропагандировал, кто заронил им в душу революционную искру? Сам Бела Кун. Да, да, тот, что создавал потом коммунистическую партию Венгрии и возглавлял тут первую советскую республику. Он тоже закалялся в огне русской революции.
— А что же потом было, что потом? — послышались голоса мадьяр.
— Бела Кун вскорости уехал оттуда, а интернационалисты отбыли в Забайкалье, на борьбу против атамана Семенова. Тогда из пленных сколотили новый отряд. А когда белочехи захватили чуть не всю сибирскую магистраль, в Томске стало совсем тяжело. Город оказался отрезанным. А тут белые офицеры, их тысячи три было, снова мятеж подняли. Без интернационалистов с ними не справиться бы. Но путь на Томск остался открытым, защищать его некем, а здесь много оружия, большой золотой запас. Ревком и решил тогда эвакуировать город. Был одобрен план мадьяра Ференца Мюнниха[21] пробиваться за Урал, на соединение с Красной Армией. Дорогой не один бой приняли, и в окружении были, пока не пробились под Пермь.
— А дальше, дальше? — не утерпел Павло.
— Влили нас в Красную Армию, и на Колчака! А Ференц Мюнних стал командовать боевым участком; где геройски воевали и русские, и венгры с немцами, и китайские добровольцы. Как братья по революции воевали. Многие и головы сложили тогда, в одной могиле остались, а многие и выжили.
— А наш Мюнних? — заинтересовались мадьяры, которым Миклош переводил рассказ Голева.
— Мюнних жив был и воевал геройски, — ответил бронебойщик. — А пришла весть о революции в Венгрии — он и поспешил домой, свою советскую республику строить. Где он теперь, — право, не знаю.
Голев помолчал немного и, глядя на Павло, продолжил:
— Видишь, не один Миклош, а тысячи венгров защищали Советскую власть. Как же не помочь им теперь, в их беде? Так-то, сынок. Знай и помни!
— Да-а… — протянул Павло. — Видно, везде есть люди, что на верной дороге, и их нельзя не ценить.
Оставив гуцула, Голев вернулся в санчасть.
Еще до того, как нашлась мать девочки, она уже лежала осмелевшая и с розовыми щечками, со всех сторон обставленная солдатскими подарками. Хоть она и обрадовалась матери, но ей, маленькой Аги, вовсе не хотелось уходить отсюда, где так много хороших и добрых солдат в серых русских шинелях.
Глава восьмая БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
1
Пала биржа. Тысячетонная громада, как зачервивевшая туша неведомого зверя, кишела гитлеровцами и салашистами, все выползавшими и выползавшими из всех ее щелей. Брели они понурые, обвязанные платками и шарфами, облаченные в пальто и макинтоши, ободранные и грязные. Березину просто не верилось, что вся эта масса, растленная и обезображенная, уже ничем не похожая на войско, только что исступленно отбивалась в каменных катакомбах разгромленной цитадели.
Григорий с любопытством разглядывал пленных. Нет, не удалось им выиграть время и продержаться хоть до вечера, чтоб, используя сумрак, укрыться за Дунаем. На всех лицах испуг с изумлением: почему не убивают?
Жесток и упорен был бой за биржу. Рассказы солдат и офицеров, виденное и пережитое им самим порождали картину за картиной, и мысль Березина неотступно искала определений, схватывающих самую суть событий жаркого дня.
С раннего утра солнце посматривало на город с недоверием, вприщур сквозь облака. Его скупая ласка как-то настораживала и тревожила, всем недоставало тепла и света, и в душе просто холодело от жуткого посвиста пуль над головой.
Истребители Якорева тронулись ползком. Им удалось заглушить окна, сеющие смерть, и ворваться в нижний этаж. За ними рывком пробились роты Черезова.
Высоко заломив шапку, белокурый вихрастый паренек кинул в дверь тяжелую гранату и вслед за разрывом молнией влетел туда сам. Воздух рассекли густые струи пуль, они рикошетили от каменных стен, и солдат на бегу упал на пол.
— Ты жив, Михась? — крикнул из-за стены Зубец.
— Сам не знаю, давай сюда!
Семен ползком пробрался в комнату. Вскоре к ним присоединился и Акрам Закиров. Молодой башкир тяжело дышал: он только что с трудом расправился с грузным эсэсовцем. В соседней комнате они в упор расстреляли пятерых гитлеровцев, не захотевших поднять рук. Едва разведчики тронулись дальше широким коридором, как сразу же ввязались в новую схватку. На них напали семеро. Правда, двое из тех упали еще раньше, чем сцепились врукопашную, но силы все равно неравные. Толстозадый немец в черной куртке зажал Михасю голову. Юркий разведчик завертелся вьюном. Изловчившись, он зубами вцепился в толстую мясистую руку, сильно рванул голову, и его чуть не стошнило от чужой соленой крови. Взвыв, немец ослабил мертвую хватку. Михась рванулся еще и в какую-то долю секунды разрядил автомат в своего противника. Немец грохнулся, скрипя зубами и поддерживая пухлый живот. Михась расстрелял еще одного эсэсовца. Третьего прикончил Зубец. Остальные двое, насевшие на Акрама, подняли руки. Башкиру пришлось вести их на сборный пункт военнопленных. Но в первой же пустой комнате один из них бросился на сапера, и все трое покатились по полу в одном клубке. Распутал его Якорев, выручивший Закирова.
— Ах, гады, в плен не хотите! — зло закричал Акрам. — Так вот же вам, вот! Издыхайте по-собачьи!
Оставив Акрама, Максим бросился вверх по лестнице. В одной из комнат он наскочил на эсэсовского офицера.
— Хэндэ ауф! — требовал Максим, тесня его к нише окна. — Сдавайсь!
Якорев прижал его к стене, заталкивая в развороченную снарядом нишу. Немец озлобился и упорствовал. Сильным ударом Максим опрокинул его вниз.
В другой комнате рыжий толстяк загнал Ярослава в угол, пытаясь размозжить ему голову о стену. Выручил Гареев. Схватив толстяка за ногу, он опрокинул немца. Сквозь закрытую дверь грохнула очередь. Демжай растерянно взглянул на Якорева. Все магазины у обоих давно расстреляны. Казах сбоку стволом автомата открыл дверь и бросил в нее две гранаты. Оттуда понеслись истошные крики по-русски: «Мы плен, плен!»
Зубец с группой комсомольцев очищал комнату за комнатой с таким порывом, что все с трудом переводили дух.
В поисках Зубца Акрам нагнал Голева. Одну из комнат они забросали гранатами, и оттуда как из брандспойта брызнула белая струя пуха, от которого сразу сделалась совершенно темно. Он залеплял глаза, прилипал к губам, попадал в горло, лез в нос.
— Вот, дьяволы! — чихая, ругался Тарас. — Сколько пуховиков натащили. Видно, надолго устраивались.
Глеб Соколов со своим взводом пробился выше всех, вынуждая салашистов к капитуляции.
Пока роты Черезова очищали верхние этажи, немцы контратаковали и снова заняли нижний этаж. Жаров ввел в бой первый батальон. Им теперь командовал Леон Самохин. Его подразделения быстро оттеснили противника на второй этаж, биржа стала походить уже на слоеный пирог: внизу Самохин, над ним немцы, еще выше Черезов, над которым снова эсэсовцы и салашисты. Но черная туша биржи уже вся утыкана белыми флагами.
Пленные сбивались кучами, ожидая отправки.
— Капут Салаши, капут! — без конца твердили они избитую фразу.
— Он давно плут, раньше бы раскапутить! — смеялись бойцы.
Березин остался в нижнем этаже биржи, куда стягивались роты Черезова и Самохина. Думбадзе уже наступал за биржей. В одной из комнат вдруг послышалась песня:
Пусть ярость благородная Вскипает как волна. Идет война народная, Священная война.Березин даже рассмеялся, и у него вроде полегчало на душе. Как же он не догадался сам. Ярость! Именно, ярость! — вот чем был пронизан весь бой за биржу.
2
Мертвое здание биржи осталось позади. Батальоны Кострова повернули к парламенту, полк Жарова взял левее, в сторону площади Франца Иосифа. Просто удивительно, как долго венгерская аристократия пресмыкалась даже перед тенью австрийского императора, этого — «фазана в эполетах».
Роты Самохина штурмовали здания возле Академии наук. Но их сдерживал убийственный огонь из подвалов и окон главного полицейского управления.
— Бей по ним! — требовал Леон от Руднева, — Кроши проклятущих!
Про себя он подумал: «В здешних катакомбах ни одну тысячу людей сгубили». Стены содрогались от взрывов. Немецкие фаустники били из проломов окон, косили наступающих из пулеметов. Но все их попытки тщетны. Прикрываясь броней танков, бойцы пробивались к самому фасаду здания и в нижних этажах завязывали гранатный бой.
Дóроги, очень дóроги последние метры. Всюду трупы солдат в серых шинелях. У Ярослава повязана левая рука. Голев забинтовал раненую ногу. Окровавлена щека у Матвея Козаря. С дороги ползет раненый, оставляя на снегу красный след. На носилках пронесли умирающего офицера, попавшего под разрыв фауста. Пушка Руднева опрокинута, и его наводчик убит.
Ярость боя нарастает с каждым часом. Бойцы очищают дом за домом. Остатки гитлеровцев и салашистов сбились в здании Академии наук. Все чаще появляются группы пленных. Слово «плен» вдруг сделалось модным и универсальным: его отлично понимают и по-немецки, и по-венгерски.
— Мы плен, плен!.. Куда плен?.. — слышится всюду.
Нет, враг еще не сложил оружия. На площадь вдруг вымахнули три «тигра» и несколько «фердинандов» и загремели выстрелами. Но в одного из них пушкари угодили снарядом в гусеницу, и, сползая, она потянулась вдоль дороги. Другой «тигр» запламенел под кленами, и металл горит лучше сухих дров. Высокое пламя перекинулось на каштаны, сучья которых словно корчатся от палящего зноя.
А тут из переулка выскочили видавшие виды «тридцатьчетверки». На одной из них захватывающая надпись: «Мы сталинградцы!» Она с гулом и грохотом мчится прямо на машину, пытавшуюся забуксировать обезноженный «тигр», и с ходу делает три выстрела один за другим. Синие языки пламени скользнули по «тигру», а «Мы сталинградцы!» проскочили мимо. Из-за домов вылетают новые «тридцатьчетверки» и, разбегаясь по улицам, оцепляют последний квартал Пешта.
А над головами наступающих на Буду молнией пронеслись краснозвездные штурмовики.
Савва Черезов вздохнул с облегчением. Как вовремя подмога на земле и в небе. За мощью боевых машин люди станут чувствовать себя увереннее. Бойцы пробились уже к самому зданию Академии наук, одной из своих сторон обращенной к площади Франца Иосифа.
— Не бей по Академии! — крикнул Черезов батарейцам, хотя они и не сделали по ней ни одного выстрела.
«Сохраним ее венгерским ученым, — опять подумал он про себя, — если окружим, все равно капитулируют».
Бойцы ворвались в нижние окна.
— Сдавайсь! — неслись их крики, и руки раскормленных эсэсовцев нехотя тянулись вверх.
— Занимай соседние здания, окружай! — требовал комбат, направляя туда взвод за взводом.
И вдруг — ослепительная вспышка и оглушительный грохот. Залповые разрывы, треск пулеметов и автоматов, урчание танков, звучный язык «карманной артиллерии» — все слилось в грозную симфонию штурма. Только Черезов ничего уже не видел и не слышал. Раскинув руки, он без сознания был распластан на мостовой.
Сквозь дым и огонь Таня весь день вытаскивала раненых. Казалось, иссякли последние силы, и она уже не сможет сделать и шагу. Но стиснув зубы, девушка ползла снова, накладывала на раны повязки, укладывала бойцов на плащ-палатку и тащила их одного за другим в тыл, в безопасную зону.
Раненый, которого она тащила сейчас, безостановочно стонал. Он весь в крови. Хоть бы вытащить его за стены ближайшего здания, а там помогут. Но раненый вдруг умолк. Таня поспешно склонилась над ним и ужаснулась: умер! В отчаянии она высвободила плащ-палатку, чтобы возвратиться за новым раненым, как заметила на мостовой офицера. Он уткнулся лицом в землю, раскинув руки и словно собираясь ползти. Но был недвижим. Таня подползла к командиру, и сердце ее дрогнуло. Майор. Кто же это такой? Не помня себя, она склонилась над ним, повернула голову. Черезов! Но что такое? Ни капли крови. Неужели оглушен? Она осмотрела его всего — никакой раны.
Перевернув контуженного на плащ-палатку, она тронулась с ним на медпункт.
Командование батальоном Черезова Жаров передал Румянцеву. Шли последние минуты боя, и здание за зданием капитулировали всюду.
Лишь темно-коричневый парламент с высоким куполом в центре еще не подпускал к себе ни с какой стороны. Явно обреченные на гибель, гитлеровцы решили погубить и этот красивейший дворец, взметнувший ввысь огромные острые шпили своих башен.
С высокого этажа только что отбитого у немцев здания Голеву открылась панорама сражения. Оно неистово гремело вдоль дунайской набережной. Мутный и помрачневший Дунай беспрестанно дыбился от взрывов, будто вырываясь из гранитных набережных, в которые закованы его берега. Чудесные мосты, о которых он столько читал, взорваны немцами, и покалеченные фермы вызывают чувство едкой горечи. Задунайская Буда террасами ниспадает к реке и из сотен орудий бьет по Пешту. Но и Буда не в силах поддержать обреченных: их крах неотвратим.
Тарас спустился на площадь и вместе со всеми устремился к реке. Всюду стихали последние выстрелы, и цепи атакующих выходили на берег.
Так вот он, голубой Дунай! И не голубой вовсе, а хмурый и черный, злобно пенящийся и негодующий, подернутый чадом и дымом, местами даже вроде раскаленный опрокинутым в мрачной и бездонной глубине его багровым заревом пожарищ. Злобный и протестующий! Что ж, все понимают его чувства, понимают и разделяют их! В беспощадном огне, каким охвачен весь Дунай, догорают остатки старой Венгрии.
А на гранитном постаменте у набережной возвышается пламенный Петефи. С гордой курчавой головой, стоит он в иссеченной одежде с рукой, вскинутой вверх и вытянутой в сторону Буды и как бы указывающей на виновников злодеяний и разорителей его родины. Взывая к соотечественникам и их освободителям, он зовет их, зовет и торопит к отмщению!
3
Пешт свободен. У врага лишь небольшая часть «королевской» Буды. Но всем ясно, и с нею будет то же!
Полк Жарова уходит вверх по Дунаю, на переправу. Вместе со всеми ему предстоит штурм Буды, где ни на минуту не стихает бой.
Перед уходом из Пешта Андрею захотелось осмотреть венгерский парламент, и он направил Максима с Павло за Имре Храбецом. У того есть старый знакомый Дьюла Балаш — один из простых служителей национального дворца.
Разведчики разыскали Имре на заводе. Они зашли за Дьюла Балашем, и все четверо отправились в полк. На улицах всюду разбирают кирпич, чинят мостовые, даже начинают ремонт разрушенных зданий. А Максиму даже не верилось, что это тот самый Пешт, через который до самого Дуная они прошли с боями. Правда, здесь по-прежнему обгорелые деревья, сожженные здания, черные провалы окон, развороченные стены. Еще не убраны разбитые повозки, пушки, танки. И все же не узнать улиц трудового и торгового Пешта. Уже ни огня, ни дыма, и кругом полно людей. Мужчины в простой обуви с подошвой толще танковой брони и в зеленых плащах с погончиками и с капюшонами, защищающими от дождя и ветра. Женщины в пестрых жакетах и коротких пальто, почему-то в очень узких клетчатых юбках с преобладанием желтого цвета с оттенком горчицы.
Чувствуется, люди заняты своим делом и работают с энтузиазмом.
Всю дорогу Храбец и Балаш рассказывали про свой город. Они любили его и гордились им. Но сейчас их увлекало не прошлое, а будущее, завтрашний день венгерской столицы.
— Жаль, не видели вы весеннего Дуная, — говорил Имре. — Вольный и сильный, как раскованный Прометей, он свободно и неудержимо несет свои воды. Сдержи попробуй!
Мадьяр с гордостью взглянул на Максима.
— Венгрия тоже с места стронулась, — закончил свою мысль Имре, — скоро ее не узнаешь, не остановишь.
Они шли вдоль большой улицы, где первые этажи зданий были заняты под магазины и мастерские. Указывая на них, Имре говорил:
— Весь уличный партер торговал с утра до ночи, он одевал и обувал, кормил и поил миллионный город. А сейчас видите, все мертво. Но придет срок, и тут все закипит, все забурлит новой жизнью, и наш свободный Будапешт станет еще краше и богаче. У него теперь новый хозяин — сам народ.
Дьюла напоминал про житейские мелочи, милые сердцу удовольствия мирных дней. Оказывается, тут прямо на тротуарах продавали кукурицу, как называют у них кукурузу. Бывало, стоит небольшой столик, и на нем квадратный самовар с трубой, из которой вьется дымок. Прохожий получает еще теплый початок, к его услугам и солонка с перечницей, и можно сколь угодно лакомиться душистой кукурицей, словно проигрывая на губной гармошке незабываемый мотив. А в закусочных самым изысканным блюдом был венгерский гуляш, приправленный динамитным перцем — вездесущей у них паприкой. Здесь все к твоим услугам, конечно, если ты прилично зарабатываешь. К сожалению, слишком многие оставались без работы или имели столь низкий оклад, что им не до лакомств.
— А все Хорти! — возмущался Имре. — Он разорил венгров, он погнал их против русских. Он, змея ядовитая!
— Что змея, — кипел Дьюла, — он змеи змеее!
Максим слушал и думал. Как трагично может сложиться судьба народа, если им правит мрачный Хорти или исступленный Салаши. И вот страшная цена их правления — разрушенный Будапешт и тысячи мадьярских могил на пути от Волги до Дуная! Чем они рассчитаются за это с народом, и как народ рассчитается с своими палачами! И еще — здесь люди, что разоряли твою землю, пролили кровь твоих родных и близких. Их бы тоже жечь, убивать, казнить — вот справедливость! А он им сочувствует, даже больше — он уже дружит с ними. Истинно, обманутым не мстят. И все же нелегко быть справедливым. Нелегко, а нужно!
Пройдут годы, и лишь в дружбе, высокой и благородной, будет лучше обретен смысл усилий, смысл войны. Все станет проще и яснее. Он глядел на отвоеванные у врага улицы и площади, на освобожденных людей, которым развязаны руки, и как бы говорил себе: «Смотри, огонь и огонь, кровь и муки, смерть! Сколько усилий и каков их смысл! Все за мир для добра. Поймут ли нас тут и оценят ли понесенные жертвы? Поймут и оценят. Будет мир и дружба. Истинно братская рука никогда не забывается! Пусть желание очень сладко. Еще слаще свершение!».
— Все подымем из пепла, — сказал Имре, все, Максим! И подвига русских нам не забыть.
— Верю, — ответил Максим, — воля людская — волна морская, говорят у нас моряки. А воля у вас есть, и сила тоже. Мы три месяца присматривались к венграм. Добрый народ! Есть у мадьяр и спокойная скромность, и огневая страстность, стремительность, и даже удаль. Такие умеют терпеть и отчаянно биться. А теперь мы с вами и товарищи по оружию: у нас трудная и большая военная дорога.
— Спасибо за доброе слово, — тихо сказал Имре. — Спасибо, Максим. Я рад, что тоже иду в демократическую армию. Мы все сделаем, чтоб стала она истинно народной.
Так за разговором они и пересекли чуть не весь Пешт.
4
Дьюла Балаш — отличный проводник. У него сухощавое лицо с мушкетерской бородкой. В поношенном макинтоше и смушковой шапке он похож на тысячи других, каких бойцы встречали на всем пути от Тиссы до Дуная. Но в нем есть и черта, какой нет у многих. Это льстивая изысканность. За десять лет службы в хортистском парламенте он привык прислуживать «сильным мира», и оттого как-то подвижен и сдержан одновременно. Он успевает каждому объяснить и ответить на любой вопрос. И вместе с тем — уже независимость. В нем просыпается своя гордость — гордость хозяина, которому теперь принадлежит все.
Он уверенно увлекает за собой солдат и офицеров, все дальше продвигаясь с ними в глубину огромного здания. Его залы и лестницы еще в баррикадах. Их соорудили тут немцы и салашисты. Ими же заминировано и все здание, подготовленное для взрыва. Не успели! Мины сейчас снимают саперы.
Приходится идти через сотни комнат и зал, облицованных лучшими сортами дорогого дерева. Глаз привлекают искуснейшие орнаменты и огромные фрески, покалеченные варварами, чудесная цветная мозаика широченных окон, многие из которых выбиты и выломаны.
— Приемный зал! — объяснил Дьюла, указывая на бронзу статуй, розовый мрамор колонн и стен, на красное дерево изящной мебели, покрытой сейчас серой известковой пылью.
— Сколько тут бывало волков в дипломатических фраках! — сказал Андрей, обращаясь к Березину.
— Всех мастей и пород, — согласился Григорий.
Снова пустые коридоры и комнаты, захламленные гитлеровцами. Они в них спали и обедали, использовали под склады и хранилища, устраивали стеллажи для оружия. Бойцы уже теряли счет этим комнатам и коридорам с их бесчисленными поворотами и лестницами. Но вот Балаш ввел их в огромный холодный зал. Бледный купол слабо подсвечен светом январского утра. Оно проглядывает сюда сквозь рваную брешь, только что пробитую снарядом из Буды. Это зал заседаний парламента, пустой и мрачный. Снизу вверх веером расходятся безмолвные скамьи депутатов.
— Ну, и цирк! — удивился Глеб.
— Цирк и есть, — повторил Голев, — тут такие давались представления, уму непостижимо.
— Почему? — возразил Якорев. — Их уж не так трудно объяснить: обман народа — и только.
— Известно, их парламент, — согласился с ним Березин, — маска и ширма. Политикой все равно командовал Хорти.
Все, что когда-то читалось и изучалось, весь этот неустроенный мир капиталистической действительности, его политические учреждения вместе с их главой — парламентом за эти дни предстали вдруг живым подтверждением ленинизма.
Дьюла Балаш направился к круглому столу под зеленым сукном посреди зала и нажал там кнопку звонка.
— Это вежливый звонок председателя, — пояснил Имре.
«Зачем он, эка невидаль!» — подумал Максим.
— А это вот… — продолжил Храбец, делая Балашу знак рукою.
Дьюла нажал на целую батарею кнопок, расположенных в несколько рядов, и на всех обрушилось что-то чудовищно оглушающее и страшное. В сонмище звуков — и свист, и рев, и хрип, и грохот. Хочешь не хочешь, а затыкай уши или беги отсюда вовсе.
— Ну и какофония! — изумился Березин.
— Прямо концерт ведьм! — определил Соколов.
— Это придумано… — закончил Имре, когда Дьюла снял руки с кнопок, — чтобы заглушить оппозицию, любой голос из народа, если он послышится с трибуны парламента.
— Ну и техника! — покачал головой Голев.
— Вот и лицо венгерской демократии в стенах парламента, — сказал Березин.
— А вне стен, — добавил Имре, — тем же занимались суды, полиция, тюрьмы — весь государственный аппарат. Но теперь мы будем строить власть по-вашему — все для народа!
Сквозь широченную нишу окна из кулуаров парламента хорошо видна нагорная Буда. Общий фон ее серый, серо-голубой. Голубизна от Дуная и неба. На крутом берегу хмурый, покалеченный немцами королевский дворец, до которого отсюда едва ли больше километра. Но бинокль сокращает расстояние до ста метров. На бойцов смотрят мертвые глазницы окон. На железных воротах обвисают черные орлы габсбургской династии. Недобрая память австро-венгерской монархии витает над его руинами. А в дворцовых садах беспрестанно вспыхивают белые дымки орудийных выстрелов.
— В королевском дворце, — рассказывал Храбец, — совсем недавно Салаши присягал перед короной святого Стефана. Вся церемония транслировалась по радио. И вдруг, — не сдерживаясь, рассмеялся Имре, — в самый торжественный момент из эфира раздался голос, который разнесся по всей Венгрии: «Мадьяры, вспомните, как Салаши в 1918 году стоял перед судом!»
— Вот здорово! — больше всех обрадовался Зубец.
— Салаши — преступник! — разъясняли коммунисты мадьярам.
«Все они преступники, — подумал про себя Андрей, и Хорти с Салаши, и граф Эстергази, и кардинал Миндсенти, и все-все, кто повинен в трагедии Венгрии. Рано или поздно, всем им отвечать за свои злодеяния».
5
Весть о падении Пешта в «Орлиное гнездо»[22] пришла очень поздно и не застала Гитлера. Она всю ночь гналась за ним через грохочущую Германию и лишь на рассвете настигла уже в Имперской канцелярии.
Несколькими минутами позже позвонил сам Фризнер, командующий немецкими и венгерскими силами на будапештском направлении. В другое время весть из Венгрии привела бы Гитлера в ярость. Сейчас он воспринял ее стоически, почти равнодушно. Нет, не потому, что он смирился с горечью утрат, следовавших одна за другою, и не потому, что недооценивал случившегося на берегах Дуная, — просто сердце слишком накалено, и ему нечем дышать. Он беспомощно облизал сухие губы, перехватил трубку из одной вялой руки в другую и, даже не повышая голоса, сказал Фризнеру:
— Я дал вам силы, дал время, власть — действуйте же, черт побери! — он так и сказал: «Himmeldonnerwetter!» Оттесните Толбухина. Оградите Буду от всяких катастроф. Остановите наконец Малиновского. Дунай — последняя черта. Вы головой ответите за фронт по Дунаю. Слышите, головой!
— Да, мой фюрер… — еле пролепетал Фризнер и долго еще держал в руках мертвую трубку, не смея опустить ее на место. Наконец, собравшись с духом, он несмело добавил: — Только наличных сил тут не хватит…
Ему никто не ответил.
Оборвав разговор, Гитлер уставился в невидимую точку. Он словно проваливался в транс, безотчетно отдаваясь истерии молча. Его бредовый взгляд был пронзителен и страшен. Будь тут свидетели, кабинет сразу огласился бы исступленными воплями, так характерными для его, если так можно выразиться, пафосной истерии.
К сожалению, в жизни немало мелких и крупных крикунов-истериков, малых и больших фюреров, не способных понять, как пуста и никчемна, даже вредна и опасна такая трата бешеной энергии. Лишенные трезвого расчета и благородного воодушевления, они, как машина на холостом ходу, напрасно убивают силы. Пробуждая в себе неугомонного беса или, как полагал Гитлер, даймона, способного подогреть их слабые силы и вялую волю, они часто и не подозревают, что сами убивают цель, к которой стремятся. Мужественных все это лишь возмущает или озлобляет, слабых деморализует, отвращая от любого дела, а трусливых вовсе обескураживает или убивает, делая их неспособными ни думать, ни действовать.
Гитлер прошел к карте у стены и уставился на нее воспаленными глазами. Карта вопила. Иссеченная красными стрелами, походившими на рубцы свежих кровоточащих ран, она взывала о помощи и спасении. Рассекая границы Пруссии, красные стрелы просто вонзались в ее тело. Из своей «вольфшанце»[23] под Растенбургом он давно уже слышал отдаленный гул русской канонады. Другие стрелы прямо через Варшаву тянулись в Польшу, подступая чуть не к сердцу самого Vaterland’a[24]. Горные хребты Карпат вдоль и поперек иссечены русскими стрелами. Из Югославии они протянулись на север, пересекли рубеж «Маргит», подступали к Вене. А стрелы Малиновского дугой охватили задунайщину, угрожая Чехословакии и тоже нацеливались на Германию с юга. Mein gott![25] Как несправедлива к нему судьба! А ведь было же, слава его гремела по всему миру. Он был властелином пространства и времени. Казалось, еще немного, и осуществились бы все его замыслы, все устремления. Он всюду наводил страх и ужас, и перед ним покорно склонялись страны и народы. Вот слава! А что теперь? Пусть бы она хоть походила на солнце. Тогда с зари до зари она светила бы ему, а скрывшись за горизонтом, наутро снова вставала бы над его измученной головой. Нет же, судьба послала ему год тяжких терзаний. Целый роковой год!
Если б можно было избавиться от неугодного времени, он бы, не колеблясь, вычеркнул из календаря весь сорок четвертый год. Он потерял Прибалтику, Белоруссию, всю Украину. Лишился Румынии и Болгарии. Эвакуировал Грецию и на произвол судьбы бросил гарнизоны на многих ее островах. Его теснят из Югославии и Венгрии. Утрачена вся Франция, и англосаксы уже пробуют на зуб его линию Зигфрида.
Нет, он не сидел сложа руки. Стиснув зубы, он шел на любую борьбу. Он не жалел ни сил, ни крови всей Германии. Венгрия вопит о помощи. Разве он не дал туда лучшие эсэсовские части? Разве не слал туда дивизию за дивизией из Австрии и Италии, разве не снимал их с Западного фронта? Все было, и все потеряно. Все сгорает в чудовищном огне войны.
Нет, он и тогда не опустил рук. Он пошел на большее. Можно сказать, на невозможное. На Арденны! Он рискнул чуть не всем — и вот награда!
Скажут, он пошел на дерзость против природы вещей, посягнул на святое святых. Пусть. Говорил же Клаузевиц, что на войне у смелости особые привилегии. Его замыслы и были рассчитаны на такую смелость. Но судьба, судьба! Разве она ценит подвиг духа!
Нет, что же все-таки случилось?
Малиновский и Толбухин атаковали его в Югославии и Венгрии. Их натиск был неотразим. В центре и на севере еще царило затишье. Но тучи собирались и там. Армии Эйзенхауэра на западе вроде выдохлись. А начнут русские новое наступление, заторопятся и англосаксы. Борьбы на два фронта Германии не выдержать. Значит, что же? Выход один — чтобы выиграть время, надо было разбить их поодиночке. Он и решился на Арденны. Тогда казалось, это последний шанс повернуть ход событий.
Оставив карту, Гитлер прошел к столу. Вяло опустился в мягкое кресло. Сквозь высокие узкие окна с серыми портьерами пробивался тусклый свет январского утра. Месяц назад, здесь, в кабинете, он проводил последнее совещание. Казалось, все было взвешено и рассчитано. Он собрал кулак в тридцать дивизий, выставил три армии, их возглавляли лучшие из генералов, преданные ему душой и телом. Он создал лихой батальон из головорезов, отлично говоривших по-английски, одел их в американскую форму, вооружил американским оружием. Эту тысячу он бросил на тылы англосаксов, на их коммуникации, чтобы посеять панику. Он рассчитал верную цель — выйти на Маас, пробиться на Антверпен. Рассечь армии Эйзенхауэра, разгромить его главные силы, поставить перед катастрофой. Что ж, его расчеты имели свой смысл. Опрокинув англосаксов, он погнал их к морю. Западная печать до сих пор вопит от ужаса. Ей мерещится второй Дюнкерк[26]. Нет, Антверпен был бы похлеще Дюнкерка. Почти месяц трепал он дивизии англичан и американцев. Но ему недостало сил покончить с ними. В начале января американцы контратаковали его целой армией, и безуспешно. Ему требовалось немного времени, чтобы перегруппировать силы, выдвинуть резервы, и он добил бы англосаксов. Видит бог, добил бы! А тогда бы все на восток против русских. Он выиграл бы главное — время. И кто знает, не пересмотрел ли бы Запад свою политику. Но русские, русские! Все разрушив, они помешали ему выравнять чаши весов, чтобы потом пересилить их силу.
Ах, эти Арденны, убитая надежда! Нужно все решать заново.
Малиновский и Толбухин очистили чуть не весь венгерский Дунай, заняли Пешт, штурмуют Буду. Венгры создали новое правительство и из Дебрецена объявили ему войну. Все в самый разгар борьбы в Арденнах. Сколько дивизий поглотила одна Венгрия. Хорошо еще, с ним Салаши. Но что у него за силы! Живой призрак.
А теперь еще хуже. 12 января[27] русские нанесли яростный удар по всему фронту от Балтики до Карпат. Сейчас нет участка, где бы они не наступали. Ясно, рвутся в Берлин. Он невольно поднял глаза на карту. С ее листа вся Германия по-прежнему вопила о спасении и помощи.
Ему пришлось спешно покинуть «Орлиное гнездо» и всю ночь мчаться сюда, в Берлин. Как горный обвал, на него обрушилось время тяжких решений.
Он позвонил и вызвал Гудериана. Что ему сейчас доложит начальник генерального штаба? Не дожидаясь, пока войдет Гудериан, он позвонил снова и приказал вызвать с Рейна Хассо Мантейфеля и Зеппа Дитриха.
Решать, так решать сразу!
6
В тот же день Мантейфель и Дитрих прибыли в Берлин. Их принял сам Гитлер. Еще не остывший от пережитого, он сдержанно пригласил их к столу и с минуту молчал, не зная, с чего начать.
Вот они его генералы, его любимцы, на которых он полагался всегда и во всем. Вместе с ними и многими другими он начинал эту войну. За ними стояла вся Германия, вся Европа. Где же их победы? Где их слава? Ни у него, ни у них ответа не было.
Генералы ждали и настороженно глядели на своего фюрера. Зачем он вызвал их? Не выдержав взгляда рейхсканцлера, Мантейфель первым отвел глаза, обвел ими стены кабинета. Всего месяц назад он присутствовал тут на совещании. За этим же столом сидел он вместе с Дитрихом и Брандербергером. Каждому из них Гитлер дал по армии, нацелил в Арденны. Напротив сидел сам фюрер, а по обе стороны от него фельдмаршалы Модель и Рундштедт, один из которых отвечал за Арденнскую операцию, другой за Западный фронт в целом. Что ж, операцию они провели, а весь германский фронт трещит по швам, вернее, трещит, как раздираемый заживо.
Как и тогда, у Гитлера сутулая фигура с бледным одутловатым лицом, сгорбившаяся в кресле. Руки у него дрожат еще более, а левая то и дело судорожно подергивается, что он всячески старается скрыть, то поддерживая ее за локоть, то незаметно массируя от кисти до локтя. Это явно больной человек, сильно подавленный бременем забот и обрушившихся на него неудач.
А было, фюрер гремел, мог зажигать. Теперь же, истощенный духовно и физически, он болен и озлоблен на все на свете.
Наконец Гитлер заговорил. Голос у него тихий, нетвердый. Месяц назад за этим же столом он требовал одного: движения вперед без оглядки, вперед, не взирая на фланги. Сейчас он говорит о роковых жертвах, о превратности судьбы, требует стойкости на Рейне.
Генералы не сразу уразумели самую суть. Оказывается, армия фон Дитриха целиком уходит в Венгрию. Фон Мантейфель же растягивается в нитку, и ему вместе с другими защищать линию Зигфрида, запереть англосаксам все пути в Германию. Все это лишь малая часть плана, изложенного им, фюрером, Гудериану. Главное сейчас — остановить бешеный натиск русских, и Гитлер назвал силы, перебрасываемые на восток. Десятки дивизий.
Мантейфель ужаснулся. Осуществить такую переброску войск с запада на восток — все равно что открыть фронт армиям Эйзенхауэра. Сдерживать их будет нечем.
Видя смущение генералов, Гитлер стал бравировать своими козырями. Опасность лучше мобилизует всю Германию. Наступают дни острых схваток, и у него еще достанет сил взять реванш за недавние неудачи. У него сильные козыри. Выигрыш времени. Секретное оружие. Неизбежная ссора союзников.
Конечно, он понимает Мантейфеля и тех, с кем тот останется на Рейне. Борьба будет нелегкой. Но самое трудное и… — он даже запнулся — и страшное сейчас на востоке — в Пруссии, в Польше, в Венгрии.
Излагая свои требования, фюрер не сводил глаз с Зеппа Дитриха. Он присоединился к национал-социалистам еще в двадцать третьем году, будучи молодым офицером, когда Гитлер призывал на помощь дух короля Фридриха. Своей клятвой у его могилы быть верным принципам «великого монарха» он повернул тогда к себе многих военных, в том числе и Зеппа. Одних из них он сделал потом генералами, другим срубил головы. Каждому свое. Но главное он дал им войну, и всех их пристегнул к своей колеснице. На Дитриха он полагался, потому и отправлял в Венгрию, запереть ворота южной Германии.
Глава девятая ЗА ДУНАЕМ
1
Два месяца с лишним Салаши просто упивался своей властью. С больших и малых портретов, появившихся в бесчисленном количестве, он строго глядел на венгров, важный, пышный, торжественный. С трибун же он виделся им выхоленным барином, которого укусила бешеная собака. Его исступленные речи всем напоминали выступления Гитлера тридцатых годов.
Как живой призрак он часами бродил по залам Королевского замка. Его походка становилась тогда особенно церемонной, в голосе появлялось нечто от металла, и все силы души сосредотачивались на внимании к своему франу. Регент же, черт побери! Глава государства! Фюрер нации! Газеты изо дня в день напоминали об этом, словно боясь, что мадьяры могут вдруг усомниться в существовании Салаши, в его чинах и власти, обретенной им после путча 15 октября и после церемонии присяги перед короной святого Стефана.
Пышные лестницы, массивные колонны, монаршьи портреты и скульптуры, золоченые карнизы залов, бесшумные ковры и бесценные гобелены, царственная тишина королевских покоев — все радовало глаз, напоминало о власти, какой никто, кроме него, не имеет в Венгрии. Он самодовольно надувал щеки, пружинил в коленях ноги, чопорно поджимал губы и на все глядел ненасытными горящими глазами. Подолгу стоял у парадных окон, свысока глядя, как ему казалось, на покорный Будапешт. Еще бы, фюрер нации!
Всюду усилились грабежи, аресты, террор нилашистов. Выбор наказаний для непокорных и подозреваемых был невелик: тюрьма и расстрел! Он поощрял любой террор. Устрашать — значит властвовать! Это один из его любимых девизов.
Салаши презирал всех и все и на равной ноге держался лишь с командующим Будапештским гарнизоном генерал-полковником Пфеффер-Вильденбруком. Заносчивый генерал-эсэсовец с ним считался, и все же постоянно подчеркивал, что настоящим хозяином венгерской столицы он считает себя одного. Правда, есть еще Фризнер, командующий всей группой немецких и венгерских войск на будапештском направлении, но Фризнер далеко, а он, Пфеффер-Вильденбрук, здесь, в городе, в самом сердце охваченной огнем Венгрии.
Но ураган событий стремительно приближался к Будапешту. Гул русской канонады слышала вся столица. У Салаши невольно подгибались колени, и его походка становилась нервной, какой-то прыгающей, точно он только что бросил костыли. Грабежи немцев и нилашистов сделались невыносимыми. Нарастало массовое озлобление мадьяр. Выход населения на оборонные работы стал срываться изо дня в день. Мадьяры молча бойкотировали распоряжения властей. Рабочие Чепеля открыто воспротивились эвакуации, и ее пришлось отменить. Сил подавлять массовые протесты уже не было. Их не хватало на фронте. Салаши нервно ломал руки, грозил, скрипел зубами, но ничего не мог поделать. Фронт стремительно приближался к Будапешту.
Вместе с Пфеффером-Вильденбруком они подолгу просиживали над диспозицией войск, придумывая наиболее выгодные решения, но дело от этого не менялось. Тиски сжимались все туже и туже. Падением Эстергома завершилось окружение будапештской группировки немецко-венгерских войск.
У Салаши появилась одышка.
Командующий рвал и метал, чтобы упрочить кольцевой фронт, еще надеясь на скорую выручку. Но в сознании маячили Сталинград, Корсунь, Яссы и Кишинев. Сколько раз русские устраивали им злополучные канны. Неужели и на этот раз они снова в смертельной ловушке.
29 декабря был днем безумия. Русские радиостанции час за часом твердили о парламентерах, о капитуляции. Нельзя не признать, их условия заманчивы. У солдат и многих офицеров вспыхнула надежда. Капитуляция для них — это покой и отдых, спасение, а для венгров и роспуск по домам. Кому не вскружит голову такая перспектива. И вот в одиннадцать часов к немецким позициям направятся их парламентеры.
Командующий гарнизоном доложил о всем Фризнеру. Пусть решает. Положение в самом деле тяжкое. Что касается самого Пфеффера-Вильденбрука он готов сопротивляться до конца. Русский плен его не устраивает. Не устраивает он и Салаши.
Фризнер взбеленился. Никаких переговоров, никакой капитуляции. Фюрер с каждого снимет голову, кто лишь заикнется об уступке русским. Голос Фризнера накален, резок, сам он неистов в упрямстве стоять насмерть. Нужно отрезать все пути к разговорам о капитуляции. Как Сталинград у русских, Будапешт должен стать Гитлербургом нацистской Германии. Слышите, Пфеффер, Гитлербургом!
Немного помолчав, точно раздумывая, Фризнер заговорил снова, но в его голосе появились теперь особенно мрачные нотки. Запомните, никаких переговоров. Парламентеров расстрелять. Убить у войск всякую надежду на прекращение борьбы. Пусть все знают, за убитых парламентеров никому не будет пощады. А кому нет пощады, тот дерется с мужеством отчаянных. В этом соль! Запомните, в век страха нельзя не устрашать. Что касается помощи, помощь будет. Ни Фризнер, ни фюрер не оставят Будапешта.
Опустив трубку, Пфеффер вытер взмокший лоб. Значит, отчаяние обреченных! Гитлербург! Двести тысяч солдат и офицеров заплатят жизнью за этот приказ. Что ж, он солдат, и приказ будет выполнен. Но ужасаясь приказу, он не насиловал своей воли в готовности его выполнить. На месте Фризнера он решил бы точно так же!
Советских парламентеров пришлось расстрелять на глазах войск. Русские вознегодовали. Их атаки стали особенно яростны и неистовы. Только расчеты Фризнера не оправдались. Убийство парламентеров не подняло духа обреченных войск.
Фризнер трижды попытался спасти Будапешт, выручить окруженных.
Первый раз он восемью дивизиями ударил из района юго-восточнее Комарно на Бичке и Будапешт. Ему даже удалось возвратить Эстергом. Но Толбухин стойко отбил натиск, а Малиновский нанес контрудар вдоль северного берега Дуная на Комарно.
Второй раз Фризнер пытался пробиться в Будапешт из района северо-западнее Секешфехервар через Замоль. К середине января провалилась и эта попытка.
Малиновский же стремительно очищал Пешт. 18 января войска пробились к Дунаю и заняли весь Пешт. Паника была ужасной. Все бежало в Буду: немецко-салашистские войска, нилашисты-чиновники, часть запуганных жителей. Все мосты были уже взорваны. Уцелел всего один — самый северный мост Маргит. На левом берегу еще оставалось двадцать тысяч солдат и офицеров. По мосту двигался сплошной поток войск, жителей с узлами и тележками, трамваи и машины, переполненные женщинами и детьми.
Пфеффер-Вильденбрук и Салаши, поощряя один другого, разрешили команду на взрыв, лишь бы не успели русские захватить мост. На глазах десятков тысяч людей мост был взорван, и люди, живым густым потоком двигавшиеся по мосту, вместе с его обломками рухнули в ледяные воды Дуная.
В тот же день Фризнер начал самый сильный удар, чтобы спасти окруженных, теперь уже из района юго-западнее Секешфехервар. Он бросил пять танковых дивизий, сосредоточив до 330 танков на узком участке фронта. Им удалось глубоко вклиниться в расположение войск 3-го Украинского фронта и даже выйти к Дунаю северо-восточнее озера Балатон. Но к Будапешту они не пробились. Десять дней шли упорные бои. Затем войска Толбухина нанесли контрудар и отбросили немцев на те же позиции, с которых они начали это наступление.
Фризнер рассвирепел. К нему на усиление шла дивизия за дивизией, а успеха все нет. Русские упорны и неуязвимы. Правда, к нему мчится отборная танковая армия фон Дитриха. Фюрер снял ее из Бельгии и курьерскими поездами мчит в Венгрию. Но что за силы у этого мясника[28]. Не везет ли он говядину для русской мясорубки? Но что бы не вез он, его эсэсовские дивизии придется поставить на юг, против линии «Маргит». Фюрер настаивает на восстановлении фронта по Дунаю и не жалеет на это сил.
После неудачи выручить окруженных в третий раз Фризнер махнул на них рукою. Пусть создают кулак и пробиваются сами. Сил у него больше нет.
Но Салаши и Пфеффер-Вильденбрук знали, что сил нет и у них. Теперь их ничто не выручит. Тиски сжимаются неумолимо и безжалостно. Судьба им уготовила жестокое возмездие.
2
К вечеру несколько стих гул сражения в Буде. В низкие окна подвала разрушенного здания, где разместился штаб батальона, пробивались багровые отсветы городских пожарищ. Николе Думбадзе видно, как покачиваются тени обгорелых деревьев, фонарных столбов, руин покалеченных зданий, скелеты которых мрачно маячат в сумерках.
Вся дивизия ушла в Четвертый Украинский. Закаленная в горной войне, она снова переведена в Карпаты. В Буде застрял лишь батальон Думбадзе и небольшая группа разведчиков во главе с Якоревым. Они первыми переправились через Дунай выше взорванного моста Маргит, и когда поступил приказ о направлении дивизии в Карпаты, их оставили тут во временном подчинении другого полка.
Думбадзе был огорчен и обрадован. Огорчен тем, что пришлось надолго расстаться с родным полком, там его друзья-товарищи, там Вера. Он просил Забруцкого оставить ее с ним, в Буде, но тот категорично воспротивился. Обрадован же он тем, что получил возможность участвовать в окончательном освобождении венгерской столицы. Грандиозная операция близилась к концу, и каждый день все множил и множил число героев Будапешта.
За три недели боев в Буде они продвинулись чуть не до дворца, наступая вдоль набережной Дуная. Бои были упорны и ожесточенны, и роты сильно поредели. Каждый день атаки и атаки.
Сегодня Николе особенно взгрустнулось. Достал фотокарточку Веры и долго вглядывался в дорогие милые черты. Забруцкий теперь злорадствует: разлучил все-таки. Пусть разлучил, не навсегда же. Но тайная ревность невольно проникала в сердце и, как червь, точила его изнутри. Он верил ей всегда и во всем, и тем не менее никого не терпел рядом с нею. А этот жуир, с сердцем подумал он о полковнике, теперь изливает ей свои чувства.
Но мысли постепенно обращались к другому. Сегодня они штурмовали высоту Шваб, против дворца. В штурме участвовал и венгерский батальон, наскоро сколоченный здесь же, в Буде. До пятисот мадьяр добровольно сдались в плен и не захотели сложить оружия. Они настойчиво просили разрешить им сражаться за свой Будапешт. Пока не создана их новая демократическая армия, они готовы воевать в рядах советских частей. Они хотят хоть в какой-то мере смыть позор венгерского оружия, отданного Хорти и Салаши внаймы немецким фашистам.
Им разрешили. Мадьяры упорны и организованны. Их атака была неистовой. Своей кровью они полили сегодня склоны этой высоты и кровью побратались с воина ми-освободителями из советской страны, которой их пугали тут изо дня в день. Они теперь кровные братья, братья по оружию. Придет время — будет и у них своя народная армия, и не их вина, что так задерживается ее формирование.
Одну из рот батальона добровольцев получил Имре Храбец. Рядовым в его роту ушел Йожеф, сын Миклоша Ференчика. Сам Миклош тоже просился вместе с сыном, но его не взяли по возрасту. Имре и Йожеф давно вступили добровольцами в новую армию, но все еще не получали назначения. Им и помог счастливый случай. Стихийно сложившийся батальон позволил им включиться в бой за свой Будапешт.
В подвал заявился Имре Храбец, радостный и возбужденный, особенно ладный и красивый в офицерской форме. Он охотно принял предложение поужинать вместе с комбатом. Ужин был скудным. Кружка чаю, немного хлеба и маленькая банка консервов на пятерых. Половину пайка солдаты и офицеры добровольно отдают жителям столицы, главным образом детям и женщинам. Под угрозой расстрела немцы и салашисты отбирали тут все, до последнего грамма крупы и хлеба.
За скудным столом уселись Думбадзе, Хмыров, Якорев, Храбец и старый Миклош Ференчик. После жаркого утомительного дня и такой ужин казался пиршеством, тем более, что сегодня получили наконец законные «сто грамм» («граммов» не говорил никто).
Активнее всех за столом был Имре. Он еще не остыл от возбуждения в первом бою. Будучи военным инженером, он впервые водил в бой пехоту. Впрочем, как пехоту. В его роте были и артиллеристы, и танкисты, и саперы. Но все они действовали в составе пехотной роты и воевали честно, самоотверженно. Их воодушевлял дух революционных событий, дух новой Венгрии, рождавшейся на их глазах. Не все еще в ней так, как они хотели бы, но придет срок, и все изменится. Потому им и дорого оружие в руках, в нем их сила, и против такого оружия беспомощна любая реакция, если даже она и сидит еще в министерских креслах.
После ужина заявились Дьюла Балаш и Йожеф Ференчик, оба расстроенные и недовольные. С делегацией национального комитета они только что были в Министерстве обороны. Какие там флегматики, и как они заморозили самое живое дело! Формирование венгерских частей идет так медленно, что вызывает уже протесты венгерской общественности. Нет, Министерство обороны просто саботирует создание демократической армии. Чем и как иначе объяснить все эти проволочки?
Опять заговорил Имре. Венгерские патриоты не хотят медлить. По данным национальных комитетов Будапешта многие из воинских подразделений, роты, взвода и отделения самостоятельно переходят на сторону советских частей и добровольно сражаются в их рядах. Уже свыше двух тысяч солдат и офицеров участвуют в освобождении Будапешта. Сегодня в одной братской могиле вместе с русскими они похоронили свыше сорока мадьяр-добровольцев, сражавшихся за новую Венгрию. Сейчас многие из венгерских солдат, сдаваясь в плен, не хотят ждать долгого формирования частей демократической армии, а сразу идут в бой. Простые солдаты лучше понимают свой долг перед возрождаемой Венгрией, чем се министр обороны. Что ж, потом они станут надежным костяком демократической армии освобожденной Венгрии. Обязательно станут!
Как и все, Никола разделял горечи и радости мадьяр. В самом деле, чего медлит министерство. Люди есть, оружие есть, советские власти отпустили двадцать тысяч пленных мадьяр, изъявивших желание добровольно вступить в свою новую армию. В чем же дело? Такого патриотического подъема, какой переживает страна, Венгрия никогда не знала. Народ способен горы своротить, а ему столько рогаток на пути к делу, к борьбе за свою демократию. Видно, нужно еще время, пока люди сами возьмут все в свои руки, рабочие, трудящиеся люди.
После чаю Максим тихо запел:
Далеко, далеко, за Дунаем За холодной чужою водой, Мы сегодня с тобой наступаем, Мой товарищ, мой друг молодой!Новая песня, близкая сердцу, сразу стала любимой и популярной, ее подхватили все.
Мы прошли по карпатским отрогам, По суворовским тропам прошли, По седым трансильванским дорогам Наши пушки катились в пыли.Никола слушал и невольно вспоминал весь путь от Волги до Дуная. Ни тяготы, ни кровь и смерть — ничто не остановило их на этом пути. Шли они в чужие страны, в ненавистные им города, откуда начиналась эта жестокая война. А нашли здесь друзей и братьев по оружию. Если бы не ложь, не обман, не насилия, разве эти люди взяли бы в руки оружие против страны Советов. Никогда!
Пусть теперь поднимается выше Наша слава в жестоком бою. Пусть дунайские волны услышат Песню пушек и песню твою.«Да, — думал Никола, — песню пушек, и песню твою, ибо за ними песня победы!»
И как бы в унисон его мыслям Максим заканчивал последнюю строфу. Жаль нет с ним Оли, ей бы так понравилась эта песня:
За отчизну родную мы знаем С честью кончим великий поход… Далеко, далеко, за Дунаем, Солнце нашей победы встает.Максим умолк. Оля! Жива ли она и здорова. Ни одного письма. Где полк, дивизия? На каких отрогах Карпат ведут они бои за Чехословакию? Но близок час победы в Буде и, значит, скоро в свой полк!
3
Максим осторожно вел мотоцикл. Позади него сидел Павло, а в коляске Матвей Козарь. Возвращаясь из штаба дивизии, они везли с собой «Правду». Ее на рассвете отпечатали в Москве, а к обеду самолеты примчали в Будапешт. От Балтики до Карпат и от Карпат до Альп гремит советское наступление. Гроза возмездия стремительно надвигается на саму Германию. Страшная очистительная гроза. Теперь уже неважно, как и когда будут наступать союзники. Не от них зависит успех победы. Там, на Рейне, опять действия патрулей. Случается, они занимают и деревню. Что ж, Арденны хоть и горький, а хороший урок англосаксам. Они лучше поняли, что такое советское наступление и что такое оборона. Сколько десятков дивизий восток оттянул с запада. Интересно, почему ни одной дивизии немцы не снимают с востока на запад. Будущим историкам это будет лучшим аргументом в пользу должной оценки подвига советских войск, решавших главные задачи всей войны.
Пришло, наконец, письмо от Оли. Ласковое, теплое, хорошее. В нем столько задору, девичьей непосредственности, что без улыбки читать нельзя. Ждет не дождется. А тут еще пристает этот полковник, Забруцкий, то к Вере, то к ней. Больно нужны им его ухаживания. Какой-то он пересоленный! Они в Чехословакии и снова в Карпатах. Каждый день яростные схватки с немцами. Все с нетерпением ждут окончательного освобождения Буды, всей Венгрии. Как ни тяжелы тут бои, настроение у всех приподнятое. Еще бы, победа за победой!
Павло тоже получил письмо из дому. Воссоединенное с Украиной, все Закарпатье зажило новой жизнью. Как же благостна свобода, которой там не было сотни лет. Вместе со всеми мать особенно рада всем переменам. Все готовятся пахать, садить сады, начинают строить. Горе ее поутихло, а счастье безмерно. Вернулась Василинка. Ее берут в техникум, будет агрономом. Как ни горько расставание, мать не хочет становиться поперек ее дороги. Пусть учится, пусть все будет по-другому. Старое так исковеркало ей жизнь. У ней теперь одна забота — вернулся бы только Павло. Она и его отпустит учиться. Сейчас столько появилось школ, курсов, создаются институты, университет. Со всех гор люди едут учиться. Это в войну. Что же будет, когда наступит мир. «Ох, Павло, — писала мать, — видел бы ты, что творится теперь на Верховине».
Перечитывая письмо, Павло радовался за мать, за Василинку, вызволенную им из лагеря, за весь свой край.
Оленка прислала письмо Матвею. У нее родился сын, и она назвала его Семеном, в честь того синеглазого хлопца, что вместе с Максимом снимал ее с горящего дерева. Он еще плясал с Оленкой на площади в Рахове… Пусть будет крестным отцом. Павло подшучивал над другом, и Козарь улыбался. Сын! Вот отпустят его до дому, а сын будет уж бегать по Верховине. «Чуешь, Павло, бегать, а!»
Шла война, не останавливалась и жизнь. Все шло своим чередом. Одни умирали — рождались другие. Одни жгли и убивали, другие растили сады и строили. Одни творили насилия и сеяли смерть — другие освобождали и несли с собою счастье и дружбу. Прямо схватка миров: мира насилия и мира свободы. Говорят, смерть начинается жизнью, а жизнь кончается смертью. Неправда! Пусть так думают казуистики. Жизнь всегда побеждает смерть, всегда!
Матвей Козарь повез «Правду» в полк, а Максим с Павло задержались у гражданской кухни, у самой набережной. Где-то наверху еще гремит бой, а здесь организован питательный пункт — для женщин и детей.
Максим знал уже, что по инициативе венгерских коммунистов всюду создаются организации Демократического союза молодежи и Демократического союза женщин. С их помощью налаживается жизнь, снабжение населения хлебом, обедами. Жители, имевшие муку, обязаны выпекать из нее хлеб и распределять его по сто граммов в день среди нуждавшихся жильцов своего дома.
Здесь, на набережной, организация национальной помощи создала народную столовую, где до трехсот детей ежедневно получали по стакану супу и по пятьдесят граммов хлеба, на питательном пункте грудным детям выдавалось по стакану молока. Многих детей и женщин местные органы отправляли в провинцию.
Столице, разграбленной и сожженной немцами, грозит страшный голод. У солдатских кухонь ежедневно очереди женщин и детей. Сколько бы из них пришлось похоронить без этой братской помощи.
Максим и Павло долго глядели на детскую очередь, быстро продвигавшуюся к котлу. Ни сутолоки, ни беспорядков, лишь детское нетерпение и страх, что ничего не достанется. У Максима сжалось сердце. Что перечувствовали их матери, что пережили они сами!
У котла вдруг возник шум, в очереди поднялся плач. Все кончилось, и котел пуст. Человек пятьдесят детей остались без супа и хлеба. Надо было видеть их глаза, полные слез, их стиснутые губы, их тонкие исхудавшие ручонки, чтобы понять, что такое голод.
— Скажи им, Павло, пусть идут за нами. Получат хлеб и суп.
Орлай перевел, и дети, как по команде, тонкой цепочкой двинулись за Максимом.
Он привел их на кухню как раз к обеду. Связные из рот уже получили термоса с супом и кашей и собирались в подразделения. Максим даже вздрогнул. Вот если б опоздал.
Он объяснил положение. Оказывается, пол-обеда уже отдано женщинам и детям. Тем не менее никто не спорил. Развязали термоса, и всем детям налили по стакану супу. Каждый из детей получил граммов по двести хлеба.
Какой они подняли визг, шум. Просили на память звездочки. Они срывали с себя пуговицы от пальто и с детской непосредственностью предлагали их солдатам в обмен. Дети есть всюду дети!
Максим глядел на них с горечью и с радостью. Ой, не скоро, не скоро еще наладится тут жизнь. Видно, их жандармский министр снабжения не очень заботится о жителях. В Венгрии есть хлеб, есть продукты, но все в деревне. Надо же организовать. Разве можно допустить, чтобы дети умирали с голоду? Кем они вырастут? И запомнят ли эти дни? Лет через десять-пятнадцать они будут студентами, станут техниками, инженерами, учителями. Кого воспитают из них, друзей или врагов? Неужели и их погонят когда-нибудь на Дон и Волгу, чтобы убивать русских? И может, Максиму или его детям придется убивать их как врагов, их, которых сейчас он спасает от голодной смерти. Нет, не может того быть! Не может!! Не будет!!! История — добрый учитель, и память народа всегда чиста и благородна. Память не допустит нового преступления!
4
Так бывает после грома перед самым дождем. Мертвая тишина! Потом легкий шорох ветра в замершей было листве, робкий и глухой крап капель, и свежий живительный ливень вдруг заполонит все небо, воздух и землю.
Так и сегодня. Отгремели последние залпы, и все кончено. Точно замер весь Будапешт, и нигде ни выстрела.
Штурмом взята цитадель, и с крепостных бастионов высокой горы измученно разметавшийся внизу город кажется притихшим и непривычно покойным. Огонь и дым, кровь и смерть — вся война, которая только что буйствовала здесь, вдруг ушла далеко, далеко. А всюду кругом, нет, не мертвая, живая тишина, когда каждый звук отзывается звоном. Голоса людей, как живительный дождь, заполнят сейчас все улицы и площади, оживут в уцелевших домах и кварталах, и каждый день над этим поистине выстрадавшим свое счастье городом будет всходить ясное солнце и с утра до вечера светить людям, радующимся жизни.
Центром немецкой обороны Буды были две крепости: Королевский дворец, занятый вчера, и цитадель на скале Геллерт, штурмом взятая сегодня. Засевших тут опричников Салаши и эсэсовцев Пфеффера-Вильденбрука не спасли ни старинные форты, ни исступленный огонь обреченных защитников. Под угрозой полного и беспощадного уничтожения их остатки подняли белый флаг.
Тысячи и тысячи пленных. Полтора месяца назад им великодушно предложили капитуляцию. А они, убив советских парламентеров, совершили тягчайшее злодейство. По всем законам войны вероломный, несдавшийся противник должен быть уничтожен, полностью и беспощадно. Но разбитый и парализованный враг бросил оружие. К чему бессмысленная жестокость!
И вот финал великой битвы. Историки напишут о ней тома и тома. А сами участники едва ли сейчас способны осмыслить все величие и всю трагедию случившегося. Одни из них, еще не остывшие от огня и схваток, стоят на самой вершине, суровые и гневные, другие безмолвно лежат на холодной морозной земле, не успевавшей впитывать их на глазах застывавшую кровь. А третьи все бредут и бредут, испуганные и понурые, бредут, низко опустив головы и не смея взглянуть ни на живых, ни на мертвых, убитых из рук, только что бросивших оружие.
Мимо Максима и Тараса, мимо Павло и Козаря — мимо всех шли под конвоем пленные, только что выбитые из этих каменных и железобетонных катакомб и крепостных бастионов.
Бойцы глядели на них с ненавистью и презрением. Сколько из-за них пролито крови и вырыто могил! Скольких оставили они без крова, без родных и близких! Две трети Будапешта по их вине лежит в руинах. Чем рассчитаются они перед семьями погибших, перед этим миллионным городом? Пройдут годы, десятилетия, а черная слава будет неотступно следовать за каждым, повинным в злодеяниях на этой земле.
Среди пленных регент-самозванец Салаши, командующий гарнизоном окруженных немецкий генерал Пфеффер-Вильденбрук и все офицеры его штаба, главари нилашистов, военные преступники, искавшие защиты у немецкого оружия — все они идут разбитые, беспомощные, обесславленные.
Салаши глубоко упрятал голову в плечи; бледный и пугливо озирающийся по сторонам, он семенит за своими, с кем вершил преступления. Глаза его лихорадочны и опустошенны, в них ничего, кроме животного страха перед неизбежной смертью.
Немецкий командующий еще пытается сохранить достоинство. Но жесты его рук торопливы и беспомощны, глаза бегают из стороны в сторону, как у загнанного зверя, по которому осталось сделать последний выстрел.
Офицеры штаба и их солдаты тоже растеряны и напуганы, но в их лицах есть хоть осмысленное выражение покорного ожидания, что же будет.
Когда увели пленных, Думбадзе собрал поредевшие роты и направился с ними к отелю у подножия горы, где осталась батальонная кухня. Завтра ему догонять свой полк, свою дивизию.
Следуя за батальоном, Максим Якорев остановился у спуска и поглядел на освобожденный Будапешт.
Иссеченный стрелами и дугами своих улиц и проспектов, он разметался внизу, как больной в постели, изнемогший и притихший, но безмолвно радостный и довольный, так как кризис миновал, и жизнь его уже вне опасности.
Ветер разогнал последние облака. Небо ясно и чисто. Синее, синее, оно будто заново вычищено в честь большого праздника. Сразу повеселевший Дунай искрится и плещется у гранитных набережных из тесаных плит. Но под скелетами обрушенных в воду мостов река мрачнеет и хмурится. Дворец парламента чем-то походит теперь на сказочного богатыря в высоком шлеме купола, а черные башни его — на воинов с копьями. Что ж, им пора в поход за правое дело, не то их опередит легендарный Чепель, что чернеет на острове справа.
Чепель ему напоминал живое сердце столицы.
Максим еще и еще окинул взглядом весь город. Здесь каждая пядь взята с бою и полита их кровью. Каждая пядь!
Он помрачнел вдруг и заспешил за батальоном. Роты приближались к отелю. Стены его в проломах и исклеваны пулями. Окна замурованы и превращены в амбразуры. Вчера тут засели опричники Салаши и эсэсовцы Пфеффера-Вильденбрука, и выкурить их было нелегко. Максим с болью в душе поглядел на камни набережной, еще не высохшие от крови убитых и раненых.
После обеда он вышел на веранду отеля, где уже находились Голев, Имре Храбец и Павло Орлай.
Будапештская битва окончена. Она унесла тысячи и тысячи жертв. Она принесла свободу и радость победы. Недаром весь мир, затаив дыхание, ждет сейчас салюта Москвы.
Имре Храбец рассказывал про мадьяр, сражавшихся за Будапешт. Одни кровью искупают позор венгерского оружия, обесчещенного Хорти и Салаши, другие готовы перегрызть горло тем, кто стоит за новое.
— Помните Пискера, что закрыл было макаронную фабрику. Такой активный теперь. В партии сельских хозяев подвизается.
— Туда что, и таких акул принимают? — удивился Голев.
— У него же поместье, земля, вот и пристроился. Дождешься от таких земельной реформы. О демократии кричит. Глядишь, и в национальное собрание проскочит.
— Вот шкура! — не удержался Павло, переводивший весь разговор.
— А банкира помните? Тоже выплыл. Перед долларом готов на брюхе ползать. А американца, еще из подвала вытащили? О газете хлопочет. Этот разведет демократию. Пенча в редакторы прочит. Это хортистский журналист. Я в Дебрецене с ним познакомился. Так и лезут из всех щелей. Только и наши силы не по дням, по часам растут. Коммунистов больше тридцати тысяч стало. Но эти Пискеры, Швальхили и Пенчи подымают вой и мутят воду.
— А что ты хочешь, — заговорил Голев. — Борьба за новую Венгрию — это ж революция. А революция, что плавка металла. Знаешь, какой огонь бушует в печи, как кипит жидкая масса. Кажется, бери и разливай. А пробьют летку, и стремительно вырывается пламенная струя, фейерверком брызжет. Но шлак! Лишь потом, очистившись от него, могучим потоком пойдет настоящий металл.
— Вот здорово! — обрадовался Имре.
— А эти Пискеры, Пенчи, все Швальхили — просто легковесный шлак.
На веранду отеля доносился заметно нараставший гул уже мирного города, только что распрощавшегося с войной; и гул его Голеву чем-то напоминал отдаленный гул мартенов. Еще трудно было сказать, из каких сплавов, но верилось, здесь в самом деле, варилась добрая сталь.
Конечно, они понимали, в жизни все сложнее, чем обычная плавка. Пройдут годы, и их победа будет упрочена. Но как знать, сколько и каких испытаний пошлет им судьба. Как было знать, что, скопив силы, враг еще сбросит забрало и станет в открытую биться за свою власть. Одиннадцать лет спустя снова будет огонь и дым, кровь и смерть — все будет, и сын Голева, сраженный мятежниками, будет распластан на мостовой, когда-то политой кровью отца. Только освобожденная и возрожденная Венгрия все равно восторжествует!
5
Давно лег Голев, а нет сна: как-то ослабло все тело, закружилась голова: то ли от раны, то ли от усталости и нечеловеческого напряжения последних дней. Отгремевший бой все еще длится в дремотном сознании, калейдоскопически повторяя пережитое. Потом память находит дочь, по которой, не переставая, ноет отцовское сердце. Он видит ее то за чужим плугом, то с метлой во дворе, то просто растерзанной на фронтовой дороге. Где она теперь в германском краю? Жива ли, здорова? Думы с трудом оставляют ее безвестную судьбу и обращаются к дому. Отсчитывая в цеху патроны, жена обертывается к мужу, тепло улыбается ему и радостно говорит: «Это тебе, Тарасушка, бей проклятущих!» Потом видится другое. Завод-гигант и вагранки в строю, как чудо-орудия на позиции. Мелькают обожженные и почерневшие лица людей, и в родном цеху пламенеет отменная сталь. «Крепка ли?» — пробует Голев, помешивая еще кипящий металл. — «Наша уральская! — отвечают с гордостью: — Самолучшая!» Память снова меняет событие за событием из близкого пережитого вчера и сегодня. Перед глазами в берегах из обтесанного камня стелется Дунай, и над ним бронзовый Петефи, как-то по-особому близко затронувший солдатское сердце. Стоит он, будто живой, обращается к тысячным толпам людей: «Тлпра, мадьяр! Зовет отчизна! Выбирай, пока не поздно, — примириться ль с рабской долей или быть на вольной воле?»
Здесь, у его цоколя, еще в Пеште, Имре Храбец рассказывал ему о трагической гибели поэта.
В сражении за венгерскую революцию он бился до последнего, и его схоронили в общей могиле. Нашелся очевидец, слышавший, как Петефи негромко воскликнул, когда немец-саксонец поволок его к яме:
— Не хороните меня, я живой… Я Петефи!
— Ну и сдохни! — ответил саксонец и забросал могилу известью…
Голев беспокойно заворочался, вспоминая рассказ Имре.
— Максим, ты спишь? — стряхнув с себя дремоту, повернулся он к Якореву и легонько подтолкнул его в бок.
— Ты что, а? — даже привстал тот.
— Слышь-ко, не спится что-то.
— Тьфу ты, не добра дитына, — добродушно пробурчал Максим, однако, повертываясь к Голеву. — Чем же я-то помогу?
— Тыщи километров лезут и лезут в голову, — оправдывался Тарас. — Просто спокою нет. Все душу бередит!
Голев закурил. Помолчали. И прошло немало времени, пока их обоих не одолел сон…
— Вставай, Тарас, вставай, дружище! — будил его на утро Якорев. — Смотри день-то какой!
Голев порывисто протер глаза. Над Пештом, как и над всей Венгрией, в самом деле вставал ясный, золотой день.
— Знаешь, сны, — свертывая папиросу, сказал Голев, — никогда их не вижу, а тут одолели просто. Вижу, будто волосатый верзила с длиннющими-предлиннющими руками обхватил и тащит женщину, приглядную такую, к яме, к большущей могиле тащит. А женщина, в крови вся, отбиться не может и уж едва твердит только: «Не хорони меня, я живая!..» — «Ну и сдохни!» — ответил ей верзила-эсэсовец и начал в могилу закапывать. Сердце у меня ужас зашлось как. Бросился к нему, отбил женщину, на свет из земли приподнял, а он гад, хоть пораненный, отполз и волком на меня, готов зубом хватить. А женщина та чуть привстала да как глянет на него недобрым взглядом. «У, думаю, эта теперь постоит за себя!» И вижу будто издалека-издалека смотрит на меня мать, с гордостью так смотрит и говорит мне:
— Любый мой, какой ты сильный у меня, сильный и хороший!..
6
На трехсотметровой скале Геллерт после войны сооружен величественный памятник советским воинам, павшим в боях за свою родину и за освобождение венгерской столицы.
На высоком постаменте молодая женщина, олицетворение страны, подняла над головой бронзовую миртовую ветвь, чтобы увенчать огромного, во весь его истинный рост, нашего солдата за его бессмертный подвиг. Суровое лицо воина устремлено прямо на юг, куда катятся синие дунайские волны. Его взору доступна вся Венгрия, великое дело ее людей. Им, живым, он принес сюда самое дорогое и заветное — свободу и счастье!
И, как прежде, на другом берегу стоит гордый Петефи, приветственно протянувший через Дунай руку освободителям своей отчизны.
ПРАГА ЗОВЕТ
Глава десятая НА СЛАВЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ
1
Вот она, древняя славянская земля! Как чудовищно несправедлива к ней история, слишком часто вверявшая судьбу ее народов тирании чужеземных завоевателей.
Южную границу Чехословакии полк Жарова пересек на рассвете, и машины весь день мчались по узкому заснеженному шоссе. Андрей час за часом присматривался к жителям придорожных селений, восторженно встречавшим армию-освободительницу.
— А где Чехословенско войско? — все допытывались они на коротких привалах. — А нам можно туда? А возьмут?
Их радовало, что чехословацкий корпус очень близко: действуя в составе Четвертого Украинского фронта, он шел через Карпаты с севера. Андрей знал, у людей не праздное любопытство. То же было и в Румынии, и в Венгрии. Все жаждут оружия. Им осточертела старая жизнь, и они готовы биться за новую. Будут из них добрые солдаты. А как они воюют, Андрей видел у Днепра, знал по делам партизан, много наслышан про словацкое восстание. Они все герои, и в душе к ним росло и крепло братское чувство.
Бои в Словакии были еще более тяжелые и изнурительные, чем в Венгрии. Немцы ожесточились и сопротивлялись исступленно. Андрей просто терялся в догадках. Что это — отчаяние обреченных или стойкость, все еще рассчитанная на успех? С каждым днем росли потери. Все также приходилось рыть могилы, направлять в медсанбат раненых, принимать новое пополнение. Живым вручались ордена, погибшие награждались посмертно. Сколько их, тяжелых и суровых дней выпадало каждому.
Израненного в Пеште Черезова пришлось отправить в глубокий тыл. Его батальон возглавил теперь Яков Румянцев. Как меняет человека степень ответственности! Недаром у Румянцева более заметны теперь твердость и решительность, ощутимее воодушевляющий людей порыв, которого порой так не доставало командиру.
Более доволен Андрей и Леоном Самохиным. В роли комбата в нем полнее раскрылись его способности. Главное, Леон стал понимать, как необходим офицеру такт, развитое чувство меры, как важно всегда дорожить честью командира.
Никола Думбадзе все еще в Буде, где идут завершающие бои. Без его батальона полк — не полк, и Андрей с нетерпением ждал возвращения комбата. Только не оставили бы там совсем.
А сегодня Андрей не раз вспоминал Николу. Полк получил сложную задачу, и не то что батальон, каждый взвод был особенно дорог. Полк с ходу вступил в бой за Кошице и первым ворвался в город. Разбитый противник отступал по дороге, огибающей горный массив с северо-востока. Задача преследовать его выпала другим. А Жаров вдруг получил приказ — создать облегченный отряд и наступать через горы прямо на запад, чтобы упредить противника и перерезать его коммуникации. Свернув с дороги, отряд в тот же день углубился в горы. Следуя в голове колонны, Андрей еще не мог представить себе всех трудностей, что подстерегали бойцов в пути через эти леса и кручи, скованные злыми морозами и утопавшие в глубоких изнурявших снегах. Облегченный батальон Самохина отправлен еще раньше, и его лыжня — самый ясный путеуказчик. Андрей оглянулся. Роты растянулись длинной ниткой, напоминающей елочный серпантин. Кони скользили и спотыкались, на брюхе сползали вниз. Бойцы подолгу отлеживались на снегу.
— Эх, и здорова! — вздохнул Семен Зубец, всматриваясь в отвесные кручи, маячившие впереди. — Ну что ж, и не такое брали, — взглянув на Жарова, смягчил он свои сомнения.
— Неужели на нее? — гадал Ярослав Бедовой.
Все выяснилось тут же: лыжня Самохина зазмеилась в гору.
— Мать честная! — ахнул разведчик. — И впрямь на нее.
Бойцы упрямо карабкались вверх.
На привале связисты развернули рацию, и Оля Седова долго, томительно долго упрашивала «Алтай» откликнуться «Уралу». Никакого ответа. А ведь точное время назначенной связи. Почему же молчит Самохин? Жаров махнул рукою, и снова в гору. Начавшаяся поземка обещала метель.
Свернув рацию, Оля заспешила в колонну. Поравнялась с Высоцкой и пошла рядом. У них с Верой свое горе. Никола и Максим все еще в Будапеште. А там такие бои. Сердце просто щемит от боли. Конечно, и здесь нелегче. Но почему-то казалось, что главные опасности там. Даже напряженные дни боев здесь выглядели однообразными, скучными. А тут еще зачастил к ним Забруцкий и осаждает то одну, то другую. Мало того, запугивает их с Верой: дескать, потери в Буде ужасные, и уцелеть там нелегко. Вот раскаркался черный ворон. Этим он еще более опротивел девушкам. Правда, внешне полковник корректен, вежлив, разговорится — не остановишь, и должное должному — поговорить умеет. Но порой назойлив, как жирная муха в комнате — жужжит, мечась из угла в угол, и никак от нее не избавишься.
— Как в Буде? — тихо спросила Вера.
— Вроде к концу идет, — ответила Оля, — сводку слышала.
— Хоть бы скорее наши вернулись…
Но идти рядом трудно, и разговор не клеился: то глубокий снег, то крутые склоны, по которым приходится карабкаться вверх.
Наконец, перевал. Бойцы еле переводят дух: высок проклятый! Но что это? Все широкое пространство перевала вдоль и поперек изборождено лыжными следами. Самохин? Нет. Его лыжня пошла прямо. Так кто же?
— Пришлось снова развернуть рацию.
— Алтай, Алтай, Алтай, я Урал, я Урал!.. — надрывалась Оля.
— Есть? — не терпелось Жарову.
— Молчит, товарищ полковник, — сокрушалась девушка, — ну, просто мертво в эфире.
Жаров изучал следы. Они много раз перерезали лыжню Самохина. Значит, кто-то прошел позднее. На деревьях видны надрезы в форме стрел-указок. Ну, кто же, кто? Сколько ни спрашивай, ответ невозможен. Вперед! Утроенная бдительность — теперь самое верное оружие командира и солдата.
Метель разыгралась не на шутку, и вскоре — никаких следов. С отрядом через горы следовал и заместитель командира дивизии полковник Забруцкий. В самом начале он попытался было возвратиться в штаб, но Виногоров приказал ему остаться у Жарова. Скрепя сердце, пришлось смириться. Всю дорогу Забруцкий оставался возле командира полка. Ни во что не вмешиваясь, он тащился километр за километром, внешне равнодушный ко всему на свете. Но в душе он томился неизвестностью предстоящего. А началась метель — его тревогам не стало конца. Лес и горы, снег и мороз. Тут не хитро и погибнуть. Не лучше ли, пока близко лес, укрыться в шалашах и развести костер? А стихнет — будет видно, что делать.
Выслушав Забруцкого, Жаров задумался. Сейчас у каждого сотни предположений. Душу солдата и офицера одолевают трудности и опасности поистине тяжкого пути. У каждого готовый совет. Не прислушиваться к этому нельзя, но и полагаться на все, что приходит на ум его людям, тоже невозможно. Может, в самом деле, остановиться? Закопаться до утра в снег? Нет, только вперед! Это одно из тысяч возможных решений. Остановись, — и кто знает, сколько на утро будет замерзших и обмороженных. Потом, где Самохин? Не попал ли комбат в беду и не нужна ли ему помощь?
Еще гора, потом расщелина с крутым спуском. Ею можно выйти к горному селению, помеченному на карте. Ветер в расщелине хоть и потише, но свистит, как в трубе. Кругом белая тьма. Остановившись, Зубец натирает снегом лицо Ярославу. На повороте поскользнулась вьючная лошадь и с громом полетела в пропасть. Завечерело — наверху слабо мелькнул огонек и вроде послышался человеческий голос. Все замерли, прислушиваясь. Но вьюга-завируха мешает видеть и слышать. Снова взбираться, чтоб проверить, что наверху? Невозможно. Вперед!
Круто сбегая вниз, лощина вывела, наконец, к горному селению. Мелькнули огоньки крайних домиков. Но кто в них? Немцы или наши? Искать ответ уходят разведчики. Каждая минута ожидания кажется долгим часом.
— Наши, наши! — донеслись с окраины крики дозорных, и у всех облегченный вздох.
Заслуженный отдых сладок и приятен.
Как и следовало, Самохин вышел сюда засветло. На улице мертвая тишина. Значит, немцы, решил комбат. Когда осмотрелись, обнаружился и противник. Вон торчат стволы его пулеметов. Вон стрелки. Даже пушка. Леон начал сближение. Почему ни выстрела? И когда совсем уже собрались в атаку, из-за крыльца выскочили двое с автоматами.
— Наши, советские! — закричали они во весь голос: — Товарищи!.. братья!.. Пришли, наконец! — захлебываясь от радости, бросались они на шею каждому. — А мы ведь немцев ждали и чуть не перестрелялись с вами, — твердили словацкие партизаны.
Сколько их, встреч с людьми, взявшимися за оружие!
Ранним утром опять в путь. Горная глухомань. Леса и горы, горы и леса, да хмурое небо! Лишь к вечеру отряд вышел к селению в узкой долине, которую со всех сторон обступили горы. Койшов! Снег по пояс. Жгучий мороз, перехватывающий дыхание. В горных расщелинах уйма перебежчиков из местных жителей. Из их рассказов известно все: пьянка, грабежи, насилия. Эсэсовский полк с минометами и пушками третий день разбойничает в Койшове.
Оценив обстановку и обдумав решение, Жаров собрал комбатов. У каждого из них с собою лишь облегченный отряд с усиленную роту, не больше.
— Будем атаковать, товарищи! — твердо сказал им Андрей, и вдруг увидел, чего никогда не было, все они нерешительно замялись. Юров молча глядел в сторону. Самохин опустил глаза. Румянцев невольно развел руками: дескать, что же поделать.
— Не наступать нельзя, и наступать невозможно, — огорченно уронил Яков. — Постреляешь с час, а потом дерись одними кулаками.
Заговорил и Забруцкий. Трудная задача. Ввязаться в бой нехитро. А осложнится, — кто выручит? Любая авантюра грозит гибелью всего отряда.
Выражая свою точку зрения, он поглядывал то на Жарова, то на офицеров, в тревоге ловивших каждое слово замкомдива.
Жаров в недоумении глядел на Забруцкого. Чего же он хочет? Но полковник уклонился от всяких решений. Он за то, чтобы лучше обдумать положение.
— Значит, не наступать? — в упор спросил его Жаров.
— Во всяком случае, не спешить. Немцы втрое сильнее, и выбить их из Койшова не просто. А куда тогда раненых? Где у вас силы, чтоб вывезти их отсюда? Выходит, переморозить.
Андрею стало не по себе. Сколько ни обсуждай и сколько ни раздумывай, сомнениям и колебаниям не будет конца. Не так легко решиться тут на этот бой.
— Значит, не наступать? — переспросил он снова, глядя теперь на своих комбатов.
Румянцев и Самохин промолчали. Жаров посмотрел сначала на них, потом взглянул на Юрова и почувствовал, дрогнуло сердце его командиров. Прикажи им — все пойдут куда угодно. Но что проку идти без веры: успеха не будет. Конечно, их страшит не смерть. Они каждый день встречаются с нею на каждом шагу. Тогда что же? Осмотрительность и осторожность? Трезвое благоразумие? Или еще что? Андрей знал, любое из подобных достоинств порою не стоит расчетливого риска, продиктованного обстановкой.
— Только наступать! — повторил он еще более убежденно.
— Что ж, действуйте на свой страх и риск, — отступил Забруцкий. — Я умываю руки. Задачу комдив ставил не мне, а вам. Но знаю, он предупреждал — не ввязываться в тяжелые и бесперспективные бои. Помните, не ввязываться!
Жаров помнил. Но Виногоров не только предупреждал: им дан и срок перехода. Тогда что значит такое предупреждение? Пусть даже приказ. «Доверяй не только приказу, и себе, — учил Виногоров своих командиров. — Ты ближе, и тебе виднее, как поступить, чтобы лучше выполнить задачу». В самом деле, как он, комдив, сможет решать сейчас, находясь отсюда за десятки километров? Решать ему, Жарову, одному ему. И решать сейчас же, на виду у всех. Да и времени ему дано очень мало, может, всего мгновение, от которого зависит жизнь и честь этих людей, весь успех порученного им дела.
Невозвратимое мгновение! Это судьба командира. У одних оно вызывает радость, воодушевление. У других — страх и ужас перед ответственностью. Нет выше чести, как точно исполнить приказ. Но случится — сумей и ослушаться, поверить в себя, в людей, подчиненных тебе. Поверить больше, чем требует приказ.
Нет, только наступать!
— Да, у них полк, — начал перечислять командирам Жаров, — да две батареи, горы боеприпасов. Да, их втрое больше. Что остается? Уйти — худшего позора не сыскать. Медлить — всех переморозить. Сами видите, остается одно — наступать! А ведь сталинградцы не такое брали. Так, Яков! — тронул Андрей комбата за локоть. — Чего ж тогда киснуть? У нас тоже преимуществ немало. Главное — внезапность. Потом, противнику не узнать, сколько же нас. И наконец, — честь, долг: они не позволят ни медлить, ни уйти. Ну, так что ли, черт возьми! А? — и Жаров увидел, лица комбатов чуть посветлели, и в их глазах блеснула решимость. — А раз так, за дело, друзья, за работу. Смотрите-ка сюда, — подвел он их к снежному брустверу наспех приготовленного наблюдательного пункта. — Посмотришь на Койшов — трудный орешек. А подумаешь — ловушка, для них ловушка. Вот идея удара. А теперь обдумаем. — Ты, Марк, с ротой автоматчиков пойдешь справа, вон через тот лес. Одно из отделений оставь на опушке, чтоб не обошли потом. Ясно, говоришь, хорошо. Ты, Леон, — повернулся он к Самохину, — слева начнешь, вон из той рощи. Тоже оставь там одно-два отделения. Тебя, Яков, пустим с фронта. Что получается? Остается им узенький выход. Но туда весь наш огонь. А на батареи я нацелю потом разведчиков. Чем не ловушка, а? — вглядывался Жаров в повеселевшие лица комбатов.
— Не выпустим, товарищ полковник! — первым отозвался Самохин.
— Вот это мне нравится! А теперь за работу!
Замысел удара оправдал все надежды, и Койшов очищен. Больше часу длилось побоище. Много убитых и пленных немцев. Но многим все же удалось пробиться по дороге в горы, где на обширной площадке установлены их батареи.
Жаров приказал комбатам вывести бойцов за окраину местечка. Мера, которая сначала казалась чересчур крайней, была своевременной: противник начал бомбардировку Койшова из орудий и минометов. Откуда у него столько снарядов и мин? Огонь убийственно плотен. Затем, видно, рискуя замерзнуть, немцы трижды ходили в контратаку, и всех разорили патронами. Но бойцы быстро перевооружились: отбивались из трофейных пулеметов и автоматов, к которым есть большие запасы патронов. Но и в этих условиях — еще две-три контратаки — и все выдохнутся. Нечем будет стрелять.
Командный пункт, размещенный вблизи окраины, оказался в зоне сплошного огня. Снарядом разворотило угол соседней комнаты. Взрывная волна разнесла окна. Все офицеры работают полулежа на полу. Уже не один осколок, влетевший через окно, врезался в кирпичную стену.
— Моисеев, ужин! — с озорством напомнил Жаров, — говорят, хорошо поесть неплохо и перед смертью, а нам еще жить и жить.
Он только что вошел, Моисеев, вернее не вошел, а вполз.
— Есть и впрямь охота, — подтвердил он, — я распорядился уже.
— А бойцам?
— Знаю, знаю, товарищ полковник, — заспешил объяснить майор, — всем послал и хлеба, и сала, и кипятку в ведрах. Сам проверил.
— Ну что за молодец наш начальник тыла! — не скрыл Андрей радостного чувства.
Новый снаряд угодил в соседнее здание, и оно загорелось.
— Хлопцы, гасить! — крикнул Моисеев и первым выскочил наружу.
Тяжела борьба. После утомительного горного марша на тридцатиградусном морозе — многочасовой бой. Роты лежат в снегу под прицельным огнем. Но чтобы ослабить обстановку, надо решиться на большее. Сделать это нелегко, а отказаться невозможно. У противника горы снарядов. Он будет бить до утра. Разнесет Койшов, и сколько еще погибнет в пассивном ожидании!
— Леон, — поднял Жаров трубку, — готовь атаку!
— Атаку? — только переспросил Самохин.
— Да, атаку.
Что теперь думает комбат? Перед ним высоченная круча. Там наверху немецкие орудия, минометы. А у него на исходе боеприпасы. Распорядившись, чтоб все командиры половину гранат и патронов отправили Самохину, Жаров ушел за околицу. С трудом собрали по два диска на автомат и по гранате на солдата. Пришлось довольствоваться и этим, хотя в любом наступлении требуется гораздо больше.
Никакой огонь не ослабляет натиска: трассирующие пули идут поверху, расцвечивая темь над головами. «Ура» все выше и выше. Бойцы озлобились. Они еще далеко не добрались до немецких орудий, как те прекратили огонь.
— Сматываются! — сказал Леон.
— Успеют ли?
— А что? — обернулся он к Жарову: КП у них общий.
— Видел изгиб дороги справа?
— Засветло видел…
— Так вот молодой словак повел туда разведчиков.
Вперед и вперед! Огонь эсэсовцев сильно ослаб. И тем не менее, выбившись наверх, бойцы застали там еще высокие штабеля нерастрелянных снарядов.
— Фью… иу! — присвистнул Юров. — Это все бы нам на головы.
— Вперед, товарищи! Только вперед! — торопил солдат Самохин. Но они не прошли и сотни метров вдоль дороги, как в километре впереди вспыхнула сильная перестрелка. Разведчики успели!
Стих бой. На дороге восемь немецких орудий, минометы. Чернеют туши перебитых лошадей. Пораненные кони бьются в постромках. Много убитых немцев. Оставшиеся в живых ударились в горы.
Роты спустились вниз. Заслуженный отдых! Но девиз Жарова — действовать и действовать! И как ни тяжело, а Самохин, не возвращаясь в Койшов, уходит в ночную темь, чтоб захватить село по ту сторону перевала. Бойцы устали и изнурены, им нельзя не посочувствовать, и в сердце не раз шевельнется желание оставить их тут до утра — пусть отдохнут. Однако сочувствие это опасно: за то, что сегодня им удастся взять без боя, завтра придется расплачиваться большой кровью, а то и жизнью. Пусть идут сегодня!
2
Не выспавшийся, но радостный и бодрый, Андрей сделал гимнастику, выпил кружку горячего чая и, взглянув на часы, заспешил на улицу.
Утро выдалось ясное, морозное. Сверкая зимним убором, гребнистые горы со всех сторон обступили израненный Койшов, мирно задымивший сейчас из своих труб. Больше всего Жарова радовало чистое небо. Значит, ничто не помешает прилететь самолету. Еще вчера полковник связался с Виногоровым. Поздравляя с успехом, комдив обещал боеприпасы и продовольствие сбросить на парашютах, и Жаров по коду договорился о месте и сигналах.
В назначенный час появился краснозвездный самолет. Он сделал большой круг и по условленному сигналу ракетами выбросил несколько парашютов. Они раскрылись и плавно пошли вниз.
— Человек, человек! — закричали вдруг бойцы. — Парашютист!
В самом деле: на всех парашютах тюки, а на одном ясно различимая человеческая фигура. Кто же это такой? Кто? Несколько томительных минут ожидания, и всем ясно кто, ибо он смеется и стоит в кругу возбужденных бойцов. Максим Якорев! Они обнимают его и долго не выпускают из рук.
Оля так и обомлела. Подумать только, Максим! Растолкав солдат и пробившись к офицеру, она бросилась ему на шею. Пусть думают, что угодно, а она и не скрывает, что безмерно рада и счастлива. Ее не смущают даже добродушные смешки бойцов, чуть присоленные их незлобивой завистью. Пусть! Пересилив свои желания, она с трудом выпустила его из рук и вместе с ним зашагала к Жарову. Максима как-то смущали ее восхищенные глаза. Но он ясно видел в них и ласку, и нежность, и преданность, и верность, и безмерную любовь, готовую на что угодно. В душе у него будто оттаяло что-то и потеплело. В глазах появился азарт и нежность одновременно. Как никогда ему стало ясно, ее чувства не безответны.
Максим привез приказ комдива. Отряду Жарова предстояло выйти в тыл немецкой дивизии, отрезать ей пути отхода. Привез он и приказ по армии о наградах, и Жаров тут же, на улице Койшова, построил отряд и, поздравляя отличившихся в сражении за Кошице, одному за другим вручал ордена и медали.
3
Стих бой, и все неузнаваемо преобразилось: и немцы, и лес, и горы. Пылкий Никола с изумлением глядел вокруг и долго не мог утихомирить расходившееся сердце. Крепко рванули сегодня, очень крепко. Побросав оружие и сбившись в кучи, перепуганные немцы, только что остервенело бившиеся врукопашную, тянули вверх белые флажки. Лес на склонах казался теперь гуще, а горы ниже и ровнее. Низкое солнце скупо освещало их холодным красноватым светом. А искрящийся снег, без конца слепивший им глаза и бесцеремонно набивавшийся за воротники полушубков и до колен в валенки, с трудом таявший на обмерзших щеках и подбородках, стал сейчас бледно-фиолетовым на солнце и тускло-синеватым в тени.
Весь день они мерзли в снегу. К немцам подбирались ползком по канавам, прячась в воронках от снарядов. Незадолго до атаки Никола под огнем сделал перекличку, чтобы хоть примерно определить потери. Люди не видели друг друга, не могли поднять голов, но узнавали своих по голосам. Сколько они проползли за всю войну! А ведь будет время — люди пойдут на борьбу за мир во весь рост, и они одолеют все.
На тылы немецкой дивизии Жаров обрушился в точно назначенный срок и отрезал ей все пути-дороги. А он, Думбадзе, ударил с фронта. Немцам ничего не оставалось, как капитулировать или погибнуть. На этот раз победил здравый смысл, и вот они стоят с белыми флажками в руках, хмурые и испуганные.
Разместив роты в горном селении и оставив их на попечение начальника штаба, Думбадзе заспешил к Жарову. Но отыскать его в сутолоке после такого боя не так просто. Выручил случай, и они повстречались на окраине среди солдат полка, готовившихся к обеду.
Приняв рапорт, Андрей по-братски обнял Николу, тепло поздравил с возвращением, с успехами в боях за Буду и пригласил его к себе на обед.
Никола направился в штаб полка, обосновавшийся с одной из рот в охотничьей вилле какого-то словацкого министра из правительства Тисо[29]. Вилла походила на небольшой старинный замок на высоком каменном фундаменте с двумя башнями по краям.
На просторном резном крыльце Никола увидел Олю, возившуюся с одним из отводов антенны, поднятой над высокой башней. Узнав комбата, девушка со всех ног бросилась вниз, порывисто сжала его локти и с силой прильнула щекой к груди офицера. Потом, схватив его за руку, потащила к крыльцу. А правда, было трудно, правда, их не хотели отпустить? Они с Верой просто извелись ожидаючи. Ей, Оле, так и не удалось еще поговорить с Максимом: то бои, то марши. А сейчас опять куда-то вызвали.
— Как Вера? — с трудом прервал он поток Олиных фраз.
— Сама сейчас расскажет, услышишь… — и вдруг запнулась.
— Тут она?
— Тут, тут, только знаешь у нее… — Оля опять запнулась, не зная, как объяснить, — Забруцкий у нее.
— Чего ему нужно еще? — закипая, сжал кулаки Никола.
— Нет, не буду, пусть сама расскажет.
У Николы так и защемило сердце. В чем дело наконец? Оля провела его наверх и, указав на нужную дверь, остановилась.
— Я не пойду, не хочу вам мешать.
С смешанным чувством раздражения и недоумения Никола открыл дверь и в тот же миг остолбенел у порога.
Ни Вера, ни Забруцкий даже не обернулись. Он взял ее под локти, видно, собираясь притянуть к себе. Она, откинувшись, противилась его поползновению. Впрочем, полковник, наверное, расслышал едва различимый скрип двери и, не глядя на вошедшего, высвободил одну из рук и махнул ею по-за спиною.
Николу как обожгло. Задохнувшись, он лишился всяких сил и не мог вымолвить хоть слово.
А Вера, отступив, между тем, от Забруцкого, сказала ему решительно и твердо:
— Нет, нет!
— Но почему? — упорствовал полковник. — Вам же лучше. Знаю, лучше. Вы привыкнете ко мне и тогда…
Никола шагнул за порог и громко прикрыл за собою дверь. Не успел он произнести и слова, как Вера бросилась к нему с громким и радостным криком:
— Никола! Ника, ты! — и не стесняясь Забруцкого, притянула к себе Думбадзе и горячей щекой с силой прижалась к его обмерзшему небритому лицу.
В душу Николы прокралось вдруг недоверие и подозрение. Что за встреча? Что за объяснения? Зачем она подпускает к себе этого паука-сластолюбца? Огонь, запылавший в сердце, застилал все, лишал возможности верно видеть и соображать. Зачем?!! Но порывистость Веры, ее горячая ласка, ее дыхание как-то непроизвольно смирили его гнев, и офицер сдержался. Ей он все простит, все, все. Но ему… ему ни в коем случае.
Осторожно отстранив Веру, он сделал еще шаг и подчеркнуто официально сказал Забруцкому:
— Товарищ полковник, только что звонил комдив, и вам приказано прибыть в штаб. Прибыть немедленно! — добавил он, глядя ему в глаза.
— Что, сам генерал? Вот как!.. — с виноватинкой в голосе зачастил Забруцкий. — Что ж, придется… — он беспомощно и обиженно заметался по комнате в поисках бекеши, папахи, рукавиц.
— До свидания, Вера, — сказал он тихо и сдержанно.
— Прощайте, товарищ полковник, не обижайтесь. Поверьте, этим планам никогда не осуществиться.
И не обращая больше внимания на Забруцкого, она потащила Николу в комнату, стала торопливо снимать с него перчатки, шапку, расстегивать ремень на полушубке. А растерянный и сбитый с толку всем происшедшим, он неумело помогал ей стягивать с себя полушубок.
Забруцкий завистливо и зло поглядел на обоих, крякнул с досады и, громко топая, пошел к двери.
Не смея заикнуться о случившемся, Никола осознал наконец свою вину и с минуту метался по комнате, растерянный и нахмуренный. Что же теперь делать? Может, догнать Забруцкого и объясниться сейчас же? Ну его к черту, пусть летит! Лучше доложить все Жарову. Комбат схватил полушубок, быстро оделся и, ничего толком не объяснив Вере, помчался к командиру полка. Лишь у порога он мирно сказал Высоцкой:
— Погоди, я быстро вернусь…
— Что случилось? — всполошилась Вера. — Что ты затеял?
— Слово даю, головы не потеряю. Обожди.
Он оставил ее в недоумении.
Вера кликнула Олю и все пересказала подруге.
— Зря отпустила, — расстроилась и Оля. — Ты же знаешь, какой он динамитный.
Пришлось обоим отправиться на розыски. Но едва они спустились с крыльца, как их громко окликнул смеющийся Никола. Он стоял наверху и торопил их обратно.
— Куда вы помчались?
— Куда, — усмехнулась Вера, — за тобою. Оля говорит, ты такой динамитный… Вот и боялись взорвешься.
— Эх, вы, сороки пуганые, — ласково засмеялся он, протягивая им руки. — У нас как: шашлык едим — горит, девушек ласкаем — тоже горит, танки бьем — совсем хорошо горит.
— Ладно, ладно, расхваливать свой темперамент, — не сердясь, упрекнула Вера. — Меня сегодня совсем заморозил.
— А станем думать, — не возражая ей, продолжал Думбадзе, — мороз по коже…
— Полковник всех нас приглашает обедать, прошу, — взял он обеих за руки.
— Забруцкий? Ни за что! — рассердилась Вера, настойчиво высвободив свою руку.
— Дался вам этот Забруцкий, — с досадой отмахнулся Думбадзе. — Мало у нас других полковников…
Выскочив за несколько минут до этого от Веры, Никола бросился к Жарову. Его штаб размещался в первом этаже виллы. Командир полка, только что возвратившийся из подразделений, сразу же потащил комбата в одну из соседних комнат, где уже накрыт стол. Там оказался Березин, а также и Самохин с Румянцевым. Но Думбадзе взмолился обождать и выслушать его сейчас же, так как дело не терпит никаких отлагательств. Вняв его мольбам, Андрей выслушал комбата, еще никак не понимая, чем же в конце концов он взволнован. Вера и Забруцкий? Ерунда. Ах, не в том дело. В чем же тогда? Что, комдив не вызывал Забруцкого, а Никола все выдумал? Ах, Отелло несчастный! С ума сошел.
— Ты знаешь, — загорячился Жаров, — Виногоров не терпит мальчишеских выходок и со стороны командира взвода. А ты что сгородил, чучело ревнивое?
Комбат молчал, потупив голову. «В самом деле чучело Отелло», — честил он самого себя. Жаров задумался и тоже молчал. Каждый из них слышал дыхание другого.
— Ладно, будь что будет, — заговорил, наконец, Андрей. — Возьму все на себя. Скажем, напутали, и генерал побушует, а поймет. Только смотри мне, горе-Отелло, станешь дурить — отберу Веру. До конца войны не увидишь.
«Не наказывать же в самом деле комбата после стольких дней разлуки».
Никола засмеялся.
— Клянусь, не буду.
— А теперь иди к ней. Стой, стой! — закричал Андрей, видя, как комбат сорвался с места. — Не к ней, а за ней: обедать будем вместе.
Думбадзе бросился к Жарову и стиснул его в своих объятиях. Потом все также молча кинулся к порогу и скрылся за дверью.
— Чем не Отелло! — улыбнулся Жаров, завидуя мальчишескому озорству, на которое, казалось ему, сам он не был способен ни сейчас, ни пять лет назад, когда ему было столько же сколько Николе теперь.
Глава одиннадцатая ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ВОЙСКО
1
Полк ночевал в большом словацком селении у Высоких Татр. С утра предстоял большой марш, и Жаров тщательно обдумывал задачу. Один из его батальонов направится через Татры по горным тропам, два других пойдут дорогой через перевал. Изучая маршрут, Андрей и углубился в карту.
— Я прошу, доложите, — вдруг донесся до него голос за дверью.
— Командир полка занят, и здесь все забито, — уговаривал дежурный офицер. — А рядом село совсем свободно.
— Мне приказано здесь.
— Кто там? — крикнул Жаров через дверь дежурному. — Впустите.
Вошел невысокий офицер в форме чехословацкой армии.
— Поручик Гайный! — и полковник заспешил навстречу.
— Капитан… простите, полковник Жаров! — сорвалось у чеха радостное восклицание, и оба крепко жали друг другу руки. — Я с авангардом и имею приказ ночевать здесь, — объяснился поручик, — иначе меня не найдут утром.
Андрей залюбовался статной фигурой молодого офицера с энергичным лицом, которое еще не отошло с морозу. Чех приятно взволнован, но держится независимо и корректно, хотя черные, как уголь, проницательные глаза его полны мальчишеской влюбленности.
— Хорошо, поручик, ради таких соседей потеснимся, — и отдал распоряжение дежурному. — Разместитесь — ужинать к нам.
— Очень благодарен. Разрешите идти?
Поручик Гайный! Действительно встреча!
…Зимой сорок четвертого года Андрей верхом с двумя офицерами возвращался от Виногорова. Ночь была темной и погожей. Вдруг видит, лошадь в седле, а поодаль в кювете барахтаются трое. Окликнули. Двое бросились наутек, а третий встал и представился:
— Подпоручик Вилем Гайный!
Юров с солдатами бросились за беглецами и, настигнув, привели их. Немцы. Отбившись от своих, они пытались обезоружить одинокого кавалериста и забрать его лошадь. Жаров уже слышал о чехословацких частях, действовавших в составе Советской Армии, и его нисколько не удивило ни имя, ни воинское звание спасенного офицера. За Белой Церковью дивизия Виногорова действовала рядом с чехословаками, и Гайный послан для увязки действий на флангах. Ехал он вдвоем, да лошадь его ординарца сломала ногу, так что он оставил его сзади. Андрей проводил офицера в штаб дивизии. Пока готовили схему, подпоручик поужинал с Жаровым и начал было рассказывать о себе, как доложили, что все документы готовы.
— До другого разу, — проговорил он поднимаясь.
— Вы ранены? — забеспокоился Андрей, увидев у стула кровь.
— Пустяки, — отмахнулся Вилем, — небольшая ножевая рана.
От перевязки было отказывался, но Жаров настоял и в обратную дорогу дал провожатых. С тех пор они не виделись.
На ужин Вилем Гайный заявился с двумя офицерами. С ним пришли ротмистр Вацлав Конта, плотный крепыш с широченными плечами и красным лицом, и подпоручик Евжен Траян, среднего роста, светловолосый, хрупкого сложения.
Жаров вызвал Березина с Юровым, и весь ужин прошел в оживленной дружеской беседе.
— Наш корпус, — рассказывал Гайный, — наступал через Дуклинский перевал. Немцы, как засели, не сдвинешь. Их опрокинули с гор. Русские и украинцы, как орлы бились. Это счастье, что мы шли с ними. Лишь видя их в бою, мы по-настоящему поняли, что такое стойкость, если нужно обороняться, и что такое напор, если дан приказ наступать.
— А как вышли на горный перевал, — подхватил Траян, и глаза его заискрились золотинками, — у каждого душа в огне. Посмотришь вперед — сердце гудит: родина перед тобой, земля, где родился и вырос, где впервые полюбил. А назад обернешься — сердце щемит: ведь покидаешь большую духовную родину. Она дала тебе силу, мужество, честь. Чем бы ты был без нее? Рабом Гитлера или пеплом в печи Майданека.
— То правда, — продолжил и Конта, — святая правда. Вышли на Дуклю — еще раз кровью скрепили свою дружбу с вами и вместе ринулись с перевала на освобождение Чехословакии.
— Дукля нам вдвойне памятна, — снова заговорил Вилем. — Еще в первую мировую войну наши отцы, служившие тогда в войсках австрийского императора, отказались воевать против русских, и целый чешский полк[30] перешел на их сторону.
Жаров и Березин невольно обменялись понимающими взглядами. Их радовало искреннее восхищение чехов всем советским, их вера в торжество справедливости, их дружеская преданность, даже их живой задор и какой-то пламенный азарт, беспрестанно требующий действий, борьбы.
— Настоящий дифирамб советской родине! — улыбнулся Березин.
— Она заслужила еще большего, — откликнулся Евжен Траян, — она возродила нашу армию, заживо загубленную мюнхенцами.
— Скорее помогла заново создать ее, — поправил Григорий, — создать новую армию, какой еще не знала Чехословакия, — и он подошел к столику, взяв томик Ленина. — Хоть чехословацкая армия и была более демократичной, по сравнению со многими из европейских, — продолжал Березин, листая книгу в красном переплете, — тем не менее она все же была буржуазной. А такая армия, говорит Ленин, есть «самый закостенелый инструмент поддержки старого строй, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины, поддержки господства капитала, сохранения и воспитания рабской покорности и подчинения ему трудящихся». — Так разве у вас сейчас такая армия!
— Ну, нет, нет, нет, нет! — даже привстал Гайный, — и духу нет той армии. Все заново. Теперь это родная сестра советскому войску. И мы хотим, чтоб она была достойной младшей сестрой.
— Успеха вам и победы! — засмеялся Березин.
Чехи стали упрашивать его хоть коротко рассказать о себе.
— Это нелегко, — начал Григорий, — жизнь так проста, что порою не знаешь, как рассказать о ней, и вместе с тем так сложна и значительна, что не всегда сможешь оценить ее по отрывочным событиям.
— Вы философ, — сказал Вилем, — не скромничайте: мы с интересом послушаем вас.
— Он и есть философ, — пояснил Юров.
— Чем гордиться? — таких у нас тысячи, — сразу же приступил Березин к рассказу. — Было время, отец овцы не имел, и всю жизнь помещичий скот пас. Хмурый такой, взглянет исподлобья, слова не добьешься. А нас семеро — кормить надо. Только пятеро умерли еще до Советской власти. Пришел отец с гражданской — землю получил, скот заимел. Как вол ворочал, а все, чтоб детей выучить. Колхозы начали строить — он горой за них. А тут кулаки все хозяйство ему спалили. Опять гол, как сокол. В колхозе председателем выбрали. Таким хозяином заделался — в три года не узнать деревни. А к началу войны к нему на Волгу экскурсии ездили. Понятно, выучил нас. Старшая сестра давно уже доктор биологических наук. А я… что ж, какая у меня еще биография, — развел он руками. — Окончил среднюю школу — в университет. Философия — вещь очень важная, война еще важнее. Как ни уговаривали, оставил все — и на фронт! Ранили под Москвой. А поправился — на формирование. И вот ранним утром мы на Красной площади. Парады бывало только в кино видел, а тут сам стою, и когда — 7 ноября сорок первого! Стою и ног под собой не чую. Сам Сталин говорит. Говорит — ленинским знаменем осеняет. Говорит — душу зажигает. Все думают, смерть нам, конец. Многие буржуазные писаки живьем нас в могилу закапывают. А он о победе говорит, о жизни, о великой миссии, с какой по зову родины и партии идти нам по своим и чужим землям, чтоб радость людям нести, свободу и счастье. А с парада — на фронт! И сразу в бой. Кто из немцев выжил в том бою, тот на всю жизнь запомнит, что такое страх, что такое ненависть и что такое любовь!
Березин помолчал немного, помолчали и все.
— Так от Москвы и пошли, и пошли, и вот где встретились, — рассмеялся Григорий, спускаясь с пафосного тона на обычный и простой. — Я книгу пишу про войну, — чуть погодя сказал он, — о силе духа войск. Еще Ленин учил, без учета морального фактора нет военной науки. Это оружие посильнее пушек и бомб: оно разрушает и строит одновременно.
2
Снова разговорились о боях и походах. Теперь все слушали чехов. Они были солдатами и офицерами сильной чехословацкой армии. Пятьдесят ее дивизий стояли на неприступных укреплениях в приграничных горах. За спиною армии — отличная военная промышленность, весь народ, готовый на любую борьбу. Его поддерживает Советский Союз, верный своим международным обязательствам. Помнят они отравленные дни гитлеровских угроз, дни дипломатического разбоя и политического шантажа. Однако простых людей ничто не устрашило. Разве забыть, как единодушно поднялись они, готовясь к отражению гитлеровцев, как в два дня, вместо пяти по плану, прошла мобилизация. И вдруг — Мюнхен! Чехословакия брошена и предана. Министрам Англии и Франции и их американским вдохновителям навеки не смыть позора этого предательства.
Вилем встал и взволнованно прошелся по комнате.
— И вот пять лет минуло, — рассказывал он, — и у нас опять в руках оружие, у чехословаков опять целое войско. Увидите завтра, какие это полки и бригады!
— Ваше войско мы видели у Белой Церкви, — напомнил Жаров.
— Теперь вы его не узнаете, — повернулся к нему поручик. — Нет, нет, не узнаете. Нам и самим трудно поверить, что все началось с одного батальона. Обучали его ваши офицеры-фронтовики. Их прислали к нам в далекий заволжский город, где шло формирование. Мы учились у них советской обороне и советскому наступлению. Ваша тактика маневрирования прямо поразила нас. Это легко понять, если вспомнить, что мы воспитывались на осторожной тактике французов, которая до небес превозносила оборону. Позже мы наслышались и про немецкую тактику, которая, наоборот, плевала на оборону и до небес превозносила наступление как движение без оглядки вперед. А тут замечательный комплекс. Подивились. Овладели. Настало время испытать силы. Это в сорок третьем было, под Харьковом… Чехословацкие роты удерживали село Соколово, а рядом в Тарановке советские роты стали. У нас вначале тихо было, а Тарановка, видим и слышим, из рук в руки переходит. От огня и дыма там ничего не видно. Потом как стали ваши — и не сошли. Немцы все перепахали снарядами, а люди стоят. Самолеты их засыпают бомбами, а они стоят. Огнеметные танки на них пустили. Люди живыми сгорают, а ни с места.
— Кто видел советских в бою, у того у самого душа крепче стала, — чуть выждав, продолжил поручик. — Смотрим, враг отпрянул. Ну, и решил он попытать счастья на Соколово. Понимаете наше состояние: первый бой, и какой бой! На глазах у самых дорогих друзей, и можно без преувеличения сказать, на глазах и всей Чехословакии. Мы хорошо понимали, что это экзамен на право создавать свое войско. И мы бились, чтоб выдержать этот экзамен. Бились вместе с советскими артиллеристами, пушки которых стояли в наших боевых порядках. Нас тоже засыпали снарядами и бомбами, палили из огнеметных танков, давили гусеницами. Многие взводы дрались в окружении, во многих осталось по пять-семь человек, а они все бились и бились. Помню, у меня шестеро осталось. Подполз к нам командир роты, обнял меня и говорит так: — Брат мой, Вилем, знаю, трудно, а приказываю — стоять: на нас Чехословакия смотрит! — Сказал и сник тут же, сраженный пулей. Я роту принял, а в ней уж и взвода нет. Но держимся, как надо, держимся.
Они выстояли тогда, победили. Выдержали экзамен. И Вилем рассказывал уже, как в батальон пришли новые сотни чехословаков-антифашистов, и его развернули в бригаду, а позже и в корпус.
Вилем Гайный охотно согласился на просьбы рассказать о себе, о своей жизни, и все с интересом выслушали его скупое повествование, богатое, однако, драматическими событиями.
Родился он в Праге. Любит ее нежно и пламенно. «Милая прекрасная Чехия!» — то и дело говорил он, вспоминая Прагу, потому что Злата Прага — ее сердце, чуткое и сильное, боевое сердце народа. Шестнадцатилетним юношей Вилем убежал из дому защищать Испанию. Он сражался в Мадриде. Он видел его героических защитников. Он сам был одним из многих героев интернациональной бригады. Но об этом можно догадываться: сам он говорил мало и скромно. После трагической развязки, подготовленной самым черным предательством англофранцузских и американских правителей, он вернулся домой. Снова учился. Поступил в Пражский университет. Нужно было видеть, как негодовало студенчество в ответ на наглые происки гитлеровцев. Настал год призыва. Вилем имел право на отсрочку. Он отказался от нее. Нет, он будет защищать республику! Он не пустит сюда чернорубашечников. Но за него решили мюнхенские миротворцы, которые еще недавно загубили испанскую демократию.
Вилему до сих пор помнится, как их уговаривали сложить оружие, особенно социал-демократы. Ослепленные философией примиренчества, они выступали против всякой борьбы, ратовали за любую уступку.
Один из них, Йозеф Вайда, был давним другом их семьи, и ему доверяли как старому рабочему. Во имя мира, во имя нации он с пеной у рта уговаривал Вилема и его друзей сложить оружие. С трудом внимая его доводам, они уступили. Со слезами на глазах отдали свои винтовки. Так сила стала бессильной. Обезоруженные воины теряли голову. Что же теперь! Неужели на колени перед немецким ефрейтором? Нет, никогда! И голос Вилема громче всех на студенческих митингах. Тогда он не был еще коммунистом, хоть и понимал, что правы только они. Скрывался. Бежал во Францию, чтобы сражаться против фашизма. Видел позор французской армии, преданной своим правительством и своими генералами. Понял, что его выбор поля боя ошибочен. Вернулся домой и был схвачен гитлеровцами. Они увезли его в концлагерь. Его не успели там затравить овчарками, расстрелять, не успели сжечь в печах Освенцима, не успели загубить в газовых душегубках: он сбежал. Скрывшись в горы, пробился в Советский Союз. И вот он воюет. Он уже пережил счастье первых встреч на родной земле, познал гордость воина-освободителя. Но его еще сильнее манит родная Злата Прага.
— Она ждет, она зовет нас! — заключил Вилем.
А наутро все увидели чехословацкое войско на марше. Жаров стоял на перекрестке двух больших дорог и подтягивал свои растянувшиеся колонны. А мимо проходили мощные московские зисы, которыми советские заводы в изобилии снабдили чехословацкие части. На одной из машин солдаты проехали с развернутым знаменем. И Андрей успел на его полотнище прочитать знаменательные слова, с которыми чехословаки каждый день в бою: «Правда победит!» «Будем верны!». Затем мчались орудия и минометы. За ними гремели танки, грозные тридцатьчетверки, которые также состоят на вооружении и у чехословаков. Бойцы с интересом всматривались в имена прославленных машин: «Злата Прага»… «Лидице»… «Соколово»… «Яна Жижка»… Сколько их, дорогих сердцу имен! Над башней «Ян Жижки» реяло красное знамя киевлян, врученное экипажу танка жителями древнего славянского города. Это знамя было впервые развернуто на Дуклинском перевале — на границе родной земли.
А вскоре по другой дороге пошли советские колонны. И тоже были танки, и тоже с историческими именами: «Александр Суворов», «Михаил Кутузов», «Николай Гастелло»… «Паникако»… «Одесса»… «Москва»… «Сталинград»…
Вот она, история давних и близких лет! Воины-богатыри движут ее дорогами новых сражений. И полководцы минувших времен, постоявшие за мать-отчизну, и их потомки, уже теперь павшие смертью храбрых, и города-герои, послужившие Родине своим легендарным подвигом, — все они верные сыны большой бранной славы, всегда возвышенной и благородной!
Глава двенадцатая ВЫСОКИЕ ТАТРЫ
1
Разведчики Якорева первыми выбрались на обледенелый гребень. Вытерев рукавом взмокший лоб, Максим обернулся. Круто проклятое нагорье. Очень круто. Высекая во льду зазубрины, бойцы Самохина карабкаются в трехстах метрах следом.
Передохнув, молча тронулись дальше. Крутизна временно спала, но снег по пояс. Он мягкий и рыхлый, легко проваливается до самой породы. Хуже льда! Потом и снег позади. Отвесная каменная стена искусно выложена из кристаллических сланцев. Скалу огибает узкий горизонтальный уступ, именуемый террасой. Здесь и летом редко ступает нога человека. Зимой — никогда! Внизу — глубокий провал, ощеренный острыми каменными зубьями. Бойцы, как альпинисты, обвязаны у пояса, и все прикреплены к веревке. Предосторожность не напрасна. В одном месте уступ сильно размыт горным потоком. Как всегда, все несчастья валятся на Зубца. Он шел последним на конце веревки и первым повис над пропастью. Максим, шедший рядом, едва выдержал рывок. Вытянутый на площадку, Зубец не сразу пришел в себя. На побледневшем лбу крупные капли пота. Нижняя губа часто вздрагивает. Якорев вспыхнул: он не хочет простить виновнику неверного шага, однако, увидев лицо разведчика, сразу смягчился:
— Иди в середину!
Терраса обрывается, отрезанная скалой с крутыми, почти отвесными стенами. Бойцы лезут с камня на камень, с уступа на уступ, опять карабкаются по обледенелым скатам, цепляются за редкие кусты и карликовые деревья, именуемые тут пигмеями; подолгу лежат, чтобы отдышаться и собраться с силами, снова ползут. Горы все выше и выше. Воздух становится чище, свежее; пронзительный ветер — обжигающе порывистым. В неустойчивом равновесии он сразу валит на снег.
На седловине привал…
Вот они, Высокие Татры! Их называют «прекраснейшей диадемой Словакии». Это и в самом деле одно из ценнейших ее украшений. Горы щедро воспеты поэтами. Композиторы сложили о них самые волнующие мелодии. «Татра» — наиболее массовая марка самых различных изделий. Легковая машина — «татра», папиросы — «татра», шоколад и конфеты — «татра».
День голубой и солнечный. Обзор на сто верст вокруг. Куда ни взглянешь — небо да горы! И выше всех величественная Герлаховка, взметнувшаяся ввысь на 2663 метра. Даже тысячеметровая красавица Матра, виднеющаяся вдали в виде синеватого конуса, по сравнению с Герлаховкой кажется горой-ребенком. Но Самохин и не глядел туда. Расстелив на снегу карту, он тщательно выверял маршрут. Далеко впереди у подножия северных склонов, — небольшой уголок южной Польши с живописным курортным городком Закопане. Туда лишь один путь через Яворинский перевал, по которому и отходит разбитый противник, уверенный, что Татры — самое надежное прикрытие. Он минирует дорогу, устраивает лесные завалы, подрывает полотно и скалистые кручи над ним, создает смертельные зоны артиллерийского огня. По шоссе на Закопане полк и преследует противника основными силами. Батальон же Самохина идет прямым путем через Высокие Татры, чтобы отрезать врагу пути отхода. За проводника у Леона словачка-партизанка Мария Янчина. Молодая женщина в легкой шубке, опороченной мехом, и в теплом шерстяном платке, из-под которого выбиваются пряди русых волос. Невысокая и стройная, она чем-то напоминает горную серну, чуткую и стремительную. Бойцы не сводят глаз с ее румяного лица, заглядывают в синие бездонные глаза с большими черными зрачками, прислушиваются к звонкому голосу, каким не разговаривать, а петь бы самые задушевные песни.
По ту сторону гор действует партизанский отряд, которым командует ее брат Стефан Янчин. Как связная отряда, Мария не раз ходила через Татры и хорошо знает дорогу.
Часовой отдых на высоте в две тысячи метров. У бойцов термоса с горячим чаем. Здесь он кажется необыкновенной роскошью. За скромным завтраком оживленный разговор. Мария молчалива, но на вопросы отвечает просто, быстро, не задумываясь. Да, она воевала. Да, знает оружие. Снайпер. Сколько у ней на счету? Много, засмеялась словачка, очень много стреляла.
— А ну, дочка, проверим, проверим, — заулыбался Голев, подсаживаясь к женщине. — Видишь, дубок.
— Ну, вижу…
— Смотри на сучок внизу, — и Тарас, приложившись, сразу выстрелил. Сук обломился, оставив небольшой выступ. — Сможешь?
— Давай, испробую, — и протянула руку. Целилась старательно и долго. А раздался выстрел, и остаток сучка свалился на снег.
— Ох, молодец! Умеешь. Дайко-сь я тебя поцелую за это, — и наклонившись, Голев звонко чмокнул ее в щеку, так что женщина засмущалась, раскрасневшись.
— Что за хитрый старик, — засмеялся Соколов, — всех обошел. Захотелось поцеловаться — вот и придумал испытание. Хитер!
— Да перестань ты, балагур, — упрашивал Тарас, тоже невольно смущаясь под добродушные смешки солдат.
— Нет, теперь и я испытание сделаю, — разбаловался Глеб. Можно, — обратился он к словачке.
— Да ну, вас! — шутливо отмахнулась рукою женщина.
С севера незаметно выползла снежная туча.
Осматривая в бинокль горный рельеф, Голев все выспрашивал у Янчиной, только что заявившей, что хорошо знает Карпаты:
— А на Герлаховке была?
— Была.
— А там? — вытянул он руку в сторону фешенебельных санаториев, раскинувшихся позади внизу.
— Там ни, вратник и на порог не пустит.
— А Морское око бачила?
— Не раз бачила, — улыбнулась Мария и стала рассказывать о высокогорных татранских озерах. Когда нет льда, в их зеркальной поверхности отражаются высокие пики и синее небо. Среди этих озер Морское око — самое удивительное и красивое. В зеркальную поверхность его синих вод смотрятся скалистые вершины. Снежные поля горных склонов резко контрастируют с темною зеленью хвои, окаймляющей озеро, как рамкой. Сразу после заката, когда горные вершины еще залиты пурпурными лучами солнца, уже спустившегося за горизонт, озеро становится не синим, а багряно-красным. Это от крови, говорит Мария.
— Как от крови? — заинтересовался Голев.
— А так Бог сливает туда всю кровь бедняков, выпитую за день богачами.
— Ишь, как придумано! — удивился бронебойщик.
Начался спуск. Опять отвесные скалы, потом глубокие снега, крутые обледенелые нагорья.
— Смотрите, смотрите! — вскинув руку, вдруг вскрикнул Зубец, — смотрите же!
Могучие татранские хребты выше туч взметнули к небу свои каменные скалы, и одна из них выше и отвеснее всех. А на самом верху ее отчетливо виден вытесанный на сером камне родной образ.
— Смотрите, Ленин! — так и застыл с вытянутой рукой разведчик.
Остановившись, Самохин с изумлением вглядывался вверх, откуда на бойцов словно живой смотрел сам Ленин. С холодных каменных скал неожиданно повеяло чем-то родным и близким и по всему телу прошел горячий живительный ток. Еще вчера, провожая отряд в горы, замполит напомнил Леону про Поронин. Это местечко неподалеку от Закопане, где незадолго до революции некоторое время жил и работал Ленин. «Не забудь, своди туда бойцов», — наказывал замполит. Как можно забыть об этом! Выбив противника из ленинских мест, они завтра же осмотрят Поронин. А сегодня Ильич их сам встречает и с гордостью смотрит на них, что живут и воюют под знаменами его великой партии.
Леона охватило раздумье. Чьи руки высекли тут родной образ? Чье искусство и чье мужество запечатлено на камне? Сделал ли это безвестный словацкий партизан или польский гураль?
— Его за сто верст видно, — с гордостью произнесла Мария. — И кругом не мало скал, где вырублено его имя: оно тут у каждого в сердце! — и вместе с бойцами долго всматривалась в дорогой образ, навеки высеченный в камне.
За лесом пошли татранские хребты, изрезанные ущельями. Партизанка вывела отряд к узкому каньону. Дунаец сдавлен здесь отвесными скалами и ревет и бушует, как дикий зверь, только что пойманный и заключенный в клетку. Люди перестали слышать друг друга. В ряде мест ущелье несколько расширяется. Воды бешеного Дунайца источили скалы и превратили их в изваяния каких-то птиц и великанов, в башни и замки самых причудливых очертаний. Но бойцы ничего не замечали. Оглядываясь назад, они дотемна видели, как им вслед смотрел Ленин.
2
С выходом в долину быстро сгустились сумерки, и к ночи Мария вывела отряд прямо к немецкой заставе на краковском шоссе, которое предстояло перерезать. На южной окраине польской деревеньки одинокий домик. Рядом шлагбаум. Разведчики Якорева без шума сняли часового. Скрученный прямо в тулупе, он с платком во рту оставлен тут же в кювете. К домику! Дверь не заперта. Максим рывком открыл ее и с группой разведчиков проник за порог. Никого. Слабо мерцает керосиновая лампа. Лишь в соседней комнате, безмятежно раскинувшись на польских пуховиках и укрывшись такими же сверху, спят трое.
— Ауфштеен! — негромко скомандовал командир.
Где там! Хоть из пушки пали! В такие минуты солдата охватывает озорство.
— Ваше благородие, извольте вставать, — и Зубец тронул за плечо толстого немца, — нам, право, некогда.
Толстяк вздрогнул, и его выпученные глаза безумно уставились на синеглазого паренька с автоматом. На одних локтях, не переворачиваясь на живот, он пополз к стене и сразу придавил второго.
— Вот видите, и его перепугали! — закачал головой разведчик.
Еще минута, и все трое в белых подштанниках и длинных до колен рубахах стоят у кроватей. Челюсти у них не попадают зуб на зуб.
— Живые привидения! — не сдерживаясь, захохотали разведчики.
В Закопане полк. Один из его батальонов уже в пути на новый рубеж. Его роты с артиллерией пройдут примерно через час. Второй батальон пойдет следом, а третьему приказано держать горные проходы еще несколько суток.
План действий готов сам собою. Максима, который чисто говорит по-немецки, Леон поставил на пост у шлагбаума, а вдоль шоссе организовал несколько сильных засад автоматчиков с гранатами.
Вскоре и первая машина «оппель-капитан» сердито засигнализировала у закрытого шлагбаума. Максим нехотя махнул рукой в сторону заставы и что-то пробормотал по-немецки. Дверца раскрылась, и юркий офицер заспешил к домику. Едва он скрылся, как машину окружили разведчики. В ней еще трое автоматчиков. Офицер из штаба немецкого полка с папкой документов. «Оппеля» отогнали в сторону.
Не прошло и несколько минут — сразу три грузовых машины. Этих окружили одновременно и тоже взяли без выстрела. Из кузова каждой машины вылезли сонные немцы, похожие на живых кукол из детского театра: так неестественны их движения и действия. Одна из машин с разным саперным имуществом, а две других с противотанковыми и противопехотными минами. Командир саперного взвода, низкий одутловатый гитлеровец, дрожит с перепугу. Не успели задать ему и одного вопроса, как он начал рассказывать все сам. Они ехали подготовить к минированию назначенные участки дороги. За ними следует танковая рота из семи танков, а чуть дальше — две роты пехоты.
Как быть? Ударить по танкам — уйдет пехота. Заминировать дорогу — танки станут подрываться, а пехота успеет изготовиться к бою. Вот что, решил Леон: пропустить немецкие танки. Да, да — пропустить! — подтвердил он, почувствовав вопросительный взгляд Якорева. Дальше по шоссе есть узкое дефиле, которое собирались минировать немцы. Что ж, не успели они, надо успеть нам. И туда на машинах умчались саперы с противотанкистами-истребителями, которые добьют танки, если те не успеют подорваться на минах.
Полк, с которым прямая радиосвязь, ведет ночной бой в горах на шоссе у самого Закопане, и там уже знают всю обстановку.
Немецкие танки подошли с приглушенными фарами. Чтобы не задерживать их, Максим предупредительно открыл шлагбаум. Высунувшись из открытого люка, немецкий офицер что-то крикнул часовому в тулупе, а тот махнул ему рукой, дескать, катись дальше, не задерживайся: там вас ждут не дождутся! Вскоре появилась и пехота. Она вся на повозках. Высокие колеса поскрипывали на снегу. Тяжелые битюги с удовольствием остановились у шлагбаума, нетерпеливо помахивая головами: «распрягайте, чего медлите!» На повозках спят или дремлют: очень тихо, лишь кое-где кто-то ворчит с досады.
— Командиров к начальнику! — потребовал Максим по-немецки.
Офицеры где-то далеко. Впрочем, один уже виден. Он медленно тащится в голову обоза. А бой с танками все не начинается! Тихо. Первый офицер скрылся в домике, и его там вмиг обезоружили. Да, идут две роты, и меж ними батареи — восемь орудий. Затем приплелся второй офицер, за ним третий. Теперь подразделения без командиров.
Как же лучше обезоружить их? Пусть офицеры прикажут им сдаться без боя. Что, могут не послушать? Все же придется попробовать. Но если что, расстрел на месте!
С дрожью в голосе, сначала один, потом другой немецкие офицеры объясняют, что роты окружены целым полком русских, и просят сложить оружие. По обозу — как ток по цепи. Ужасный переполох! Но стрельбы нет. Крики из конца в конец колонны.
— Молчать! — раздался голос Якорева. — Клади оружие! Руки вверх!
В это время издалека донесся первый взрыв. За ним второй, третий… и там у саперов закипел бой. Началось! А здесь, бросая оружие, немцы сбивались в кучи и ждали. Но это только перед заставой. Там, дальше, вдруг резанул немецкий автомат и, как сигнал, он вызвал залпы других, а в ответ грянул огонь засады. Бойцы притаились у дороги за густыми деревьями, которые тесно обступают ее с обеих сторон. Бой начался с такой силой и с такой яростью, будто и в самом деле здесь не облегченный отряд, в котором всего две сотни бойцов, а по крайней мере целый полк, бросившийся в атаку. Немецкие офицеры с отчаянием зажали уши.
Сдавшихся в плен разведчики оттянули к заставе, а на остальных повели наступление, вынуждая их к сдаче и уничтожая упорствующих. Мелкие группы гитлеровцев, отстреливаясь, скрылись за деревьями. Тяжелые туши битюгов или лежали недвижно, или бешено бились в постромкам, а некоторые бросились через кювет, просунулись меж деревьев и застряли в них с повозками. На заснеженной дороге всюду чернели убитые и раненые.
Саперам удалось подорвать пять танков: два на минах и три гранатами истребителей. Одна из машин ушла по боковой дороге в сторону, а еще одна помчалась назад в Закопане и налетела на мину, предусмотрительно поставленную саперами у самой заставы. Она разута на обе гусеницы, и ее экипаж захвачен.
Еще во время боя в домике у заставы оглушительно затрещал телефон, на который вначале никто не обратил внимания. К нему подскочила было Янчина, но Голев строго цикнул, и Мария передала ему трубку. В нее что-то кричали, чем-то грозили и требовали ответа. Чувствовалось, самообладание начальства уже на пределе. Понимая, что молчание невозможно, Тарас упорно повторял одну и ту же фразу:
— Айн момент! Айн момент! — он повторял ее так взволнованно и с таким напряжением, что еще более раскалял темперамент начальства, которое уже хрипело в трубку. — Айн момент! — продолжал твердить Голев, пока шустрый Зубец разыскивал Самохина.
К телефону комбат послал Якорева. Решив атаковать немцев и психически, он наспех сказал ему, что и как объяснить нетерпеливому немецкому начальству.
— Да что у вас там, будете вы говорить, наконец, черви б вас живыми пожрали! — бешенствовал кто-то у трубки в Закопане.
— Кто говорит? — строго по-немецки спросил Якорев.
Оказалось, сам майор Хайбах.
— Ах, Хайбах! — разыгрывал Максим удивление, точно всю жизнь знал господина Хайбаха и сейчас очень рад поговорить с ним. — Так у нас все в порядке, все как надо. А почему выстрелы? Так громили противника… Да, да… теперь противник разбит. Много убитых, ими усеяна вся дорога, а больше сотни взято в плен. Что я выдумываю? Какой противник? Откуда? — повторял Максим вопросы штабного офицера из Закопане и тут же пояснил под хохот присутствующих. — Все истинная правда… да-да, клянусь самим господом богом, все разбито: и танки, и артиллерия, и пехота. Все, что вы послали из Закопане, все разбито. Кто я? Офицер советской дивизии.
— Ооххх!.. — на всю комнату вздохнула трубка.
— Складывайте оружие немедленно: советская дивизия уже вступает в Закопане. Приказываю прекратить сопротивление. За всякое промедление — расстрел! — теперь уже Максим говорил властно и твердо, нисколько не шутя и не усмехаясь.
Трубка замерла.
— На Закопане! — повернулся Якорев к разведчикам.
Нет, не легок, очень не легок был этот ночной бой за приграничный польский город.
3
От Закопане рукою подать до Поронина, и взводные агитаторы двинулись туда пешком. Шагая во главе колонны, Березин с интересом оглядывал незнакомые места. Горное утро выдалось ослепительно белым. Искристый снег невольно заставлял жмуриться. Тишина казалась загадочной и торжественной, и душа почему-то томилась ожиданием чего-то необычного и праздничного.
Григорий все пытался представить, как много лет назад вот по этой же дороге ездил в Поронино Ленин. Как он выглядел тогда? О чем мечтал и думал? Как поднимал людей на революцию? И сколько их было тогда, большевиков? Теперь их миллионы. На них с надеждой смотрит весь мир. На них, что с ленинскими знаменами идут по землям порабощенной Европы! И все Ленин!
Наконец, и Поронино. У самого берега стремительной горной речки Григорий сразу разглядел двухэтажный дом с большой верандой. Своими окнами он смотрит прямо на бойцов, смотрит удивленно и радостно, как радушный хозяин.
Как и все, Григорий с волнением глядел и глядел на этот высокий дом, срубленный из добротных бревен и затейливо украшенный резьбой. По всем приметам, о которых им говорили в Закопане, он самый. Здесь еще до революции жил и работал Ленин. Тридцать три года назад он приехал сюда из Парижа, чтобы вернее направить могучий революционный подъем народных масс России. Здесь, в тогдашней Галиции, он провел известное Поронинское совещание Центрального Комитета РСДРП с местными работниками партии.
Дом увенчан мансардами и построен в характерном «подгалянском» стиле. Островерхая крыша из дранки с широким резным карнизом напоминала старую австрийскую каску. Едва агитаторы приблизились к дому, как на узорчатое крыльцо его высыпали польские горцы гурали, коренные и давние жители этих мест. Одеты они по-горски празднично: в расшитые безрукавки, узкие штаны из белого домотканного сукна с черными лампасами, и все в черных шляпах с бусами и орлиными перьями.
Горцы наперебой предлагают свои услуги в качестве провожатых.
Бойцы с волнением переступили порог дома. Из восьми его комнат их более всего заинтересовали три. В одной из них жили Ленин и Крупская. Здесь простой деревянный стол, четыре стула гуральской работы с высокими резными спинками, самодельный шкаф для одежды и две кровати, покрытые домотканными крестьянскими одеялами. Так ли было тогда или иначе? Ясно, история восстановит весь облик тех дней. Люди помнят, чтут Ильича. Он люб им и дорог как вождь и учитель. Пройдет немного времени, и они создадут здесь музей. Тысячи, сотни тысяч людей потекут к этому дому, где жил и работал Ленин.
В соседних двух комнатах происходило совещание. Отсюда он руководил нараставшим революционным движением, направлял всю работу партии.
Бойцы принесли сюда не только венок из свежей татранской хвои, они трепетно склонили и обветренное в боях и походах красное ленинское знамя, несущее жизнь и веру в победу всем порабощенным, укрепляющее в сердцах миллионов мужество и силу и зовущее на бой и подвиг ради живого ленинского дела.
Местные жители хорошо помнили те давние дни, когда здесь жил Ульянов. Но кем он был, они узнали лишь по портретам после Октябрьской революции.
Покидая комнаты, Березин с удивлением увидел, как взволнованы все агитаторы. Их лица торжественны и просветленны, словно они только что повстречались с самим Лениным. От этих чужих и незнакомых комнат на них повеяло вдруг чем-то родным и близким, самым дорогим на свете.
С крыльца Березину открылась диковинная панорама, которой, наверное, не раз любовался отсюда Ленин. Картинные домики гуралей на склонах Березину казались сейчас обездоленными беженцами, у которых нет пристанища. Белоснежные шапки татранских вершин походили на разведчиков в белых маскхалатах, зорко следивших за врагом. А заснеженные нагорья, поросшие прямоствольным лесом, чем-то напоминали могучую армию, двинувшуюся в атаку на огромном фронте. Как воспринимал все это Ленин? Не хотел ли он силу и величие этих гор видеть в людях, которым посвятил всю борьбу свою, всю жизнь!
Народная память навечно сохранила для истории чуть ли не каждый шаг великого человека. Гурали с увлечением и наперебой рассказывали обо всем, что видели и слышали, знали об Ильиче.
Вот тут, на берегу безумолчной речки Поронец он любил работать с книгой в руках. Вон по той стежке он совершал прогулки в короткие часы досуга. Вон с той горки, они указывают на Налицкую Грапу, он любовался вершинами Татр. А вот в той деревне — Бялы Дунаец, что примыкает к Поронину, часто останавливались Ульяновы.
Березин взглянул на часы. Как быстро бежит время. И все же надо успеть побывать и в Бялы Дунаец, где в доме крестьянки Терезы Скупень жили тогда Ульяновы.
Дом невелик и тоже украшен резьбой. Ленин и Крупская занимали комнаты нижнего этажа, и здесь, как уверяют жители, сохранилась почти та же обстановка, какая была в те дни: крестьянской работы стулья, простые столы, простые кровати, и под потолком большая керосиновая лампа с канделябрами. Все просто и непритязательно.
Бойцы взволнованы. Сняв шапки и приспустив полковое знамя, примолкшие и торжественные, стоят они в комнате, где на благо человечества неустанно трудился Ильич, стоят, исполненные гордости за все, что он делал и сделал, гениальный стратег величайшего наступления коммунизма.
Глава тринадцатая ВИТАНОВСКАЯ ЭПОПЕЯ
1
К утру ночная метель замела все пути-дороги, и их придется прокладывать заново. Ветер разбойно кидался из стороны в сторону, подолгу кружил на месте, засмерчивая сухой снег, и куда попало гнал вихревой столб. Белая тьма застилала горы: она буйствовала под ногами, в голых ветвях бука и тиса — во всем небе. Будто перепились все боги этих пустынных гор и лишенные здравого смысла безумствуют нагло и безнаказанно.
Пряча голову в воротник полушубка, Максим с трудом пробился к землянке с полковой рацией. Сугробы вокруг прямо по пояс. Просто чудо, что не заблудился обоз Моисеева. Преодолев хребет, он прошел за ночь свыше десяти километров и ранним утром заявился в полк. Значит, будет и завтрак с обедом, и сухие валенки, и соломенные маты, без которых хоть замерзай в окопах и землянках. Но мысли Максима заняты сейчас другим. Моисеев привез почту, и письма из родных мест согревают солдат лучше горячего чаю и дымящегося борща. Письмо же, полученное сегодня Максимом, и обрадовало его, и расстроило. Решительный по натуре, он вдруг растерялся, не зная, как поступить.
Весь заснеженный и с обмерзшим лицом, он ввалился через низкую дверь и, тепло поздоровавшись, молча уселся на тисовый обрубок, заменявший Оле табурет.
Они давно не были наедине, и девушка несказанно обрадовалась. Дни бегут и бегут, а им и поговорить некогда и негде. Она бросилась ему навстречу, но, разглядев расстроенное лицо Максима, так и обомлела. Что с ним? Болен, что ли? Или кого убило из друзей? Что, что, что?! Даже раздеться не хочет. У нее же тепло. Маленькая чугунка в углу дышала жаром. А Максим все молчал, и девушка терзалась еще более. Куда девались ее смех, шутки, беспечная веселость — весь задор, каким постоянно светится ее взгляд и звенит ласковый голос.
Заговорил Максим тихо и расстроенно. Пришло письмо из редакции фронтовой газеты с интересным и заманчивым предложением, не приказом, а предложением. Стоит ему согласиться, и его назначат разъездным корреспондентом. Официальный отзыв послан командиру полка, так как со штабом дивизии вопрос уже согласован. Березин рад и считает, нужно ехать, не раздумывая. Говорит, это не то, что видеть события глазами роты и даже полка, а глазами фронта, всех его армий, видеть на огромном пространстве. Говорит, придется обращаться не к взводу и роте, а к солдатам и офицерам всего фронта. Подумать только, всего фронта!
У Оли сразу подкосились ноги, и она бессильно опустилась на угол земляного уступа, заменявшего ей кровать. Вот и конец их недолгой еще невысказанной любви. Конец счастью, которого еще не было. А может, и конец всему. Кто знает, как сложится их фронтовая судьба? С кем сведет и разлучит? Чем порадует и убьет? Что-то вдруг сдавило ей горло, мешая говорить и даже дышать, и глаза ее набухли слепящей горючей слезой.
А Максим так же тихо и глухо говорил и говорил ей о планах, безжалостно ломавших все, что было ценно и дорого. Как оставить друзей, взвод, полк? Как оставить ее, Олю, которой он так и не сказал еще самого главного.
Бессильная молчать и сдерживать свои чувства, она бросилась к Максиму и пылкой щекой прижалась к его щеке. Ей ничего не нужно, кроме его любви. Нет у нее ничего дороже, кроме Максима, и она никому его не уступит. Она никуда его не отпустит. Расстаться теперь, когда он сказал, что любит ее, — просто безумие. Нет, нет, никуда!
У Максима сразу отлегло от сердца, и он даже успокоился. Оля сделалась такой нежной и ласковой и такой пылкой, какой он не видел ее и не знал вовсе. Ясно, он никуда не уедет. В конце концов, остаться тут — не менее почетно, и его никто не осудит.
Скрипнула дверь, и в землянку дохнуло морозным метельным утром. Заявился Жаров и долго говорил по рации с Виногоровым. Максим собрался было уйти, командир же полка, перехватив полный отчаяния взгляд девушки, жестом усадил его на место. Как никто знал он, что значит расставанье. Зачем же портить им последние минуты.
Кончив разговор с комдивом о празднике (завтра 23 февраля), Жаров сказал Максиму, что отпускает его неохотно, а задерживать считает преступлением. Пусть молодой журналист-газетчик испробует свои силы на новом поприще, пусть из него вырастет знающий и опытный военный журналист.
Максим даже вспыхнул. Слова Жарова льстили его самолюбию и пугали его. Они опять возвращали его к состоянию мучительной нерешительности, от которой его только что избавила Оля.
— А я еще раздумывал, как быть.
— Нечего и раздумывать, ехать, и ехать немедленно. Все документы ему подготовят сегодня же. А взвод свой он оставит достойному преемнику — Глебу Соколову. Приказ уже отдан.
Едва Жаров вышел, как лицо Максима сделалось белее снега. Он взглянул на Олю, и у нее тоже. Нет, он никуда не поедет, он останется с нею.
А она, прильнув к его груди, и не слышит Максима. У нее так и звенят в ушах слова полковника: «Нечего раздумывать, ехать, и ехать немедленно!» А что если все счастье Максима в том, чтобы ехать? А что если она стоит поперек дороги этому счастью? А что если?.. Ах, что за мука эта любовь! Таня говорит, любить — это требовать. Чего же нужно потребовать ей, Оле? Да, в чем уступить и чего потребовать? Разве в силах она отказаться от самого дорогого, от Максима? И кому нужен такой отказ? Но вправе ли она мешать ему?
Только теперь Оля вдруг осмыслила его слова о работе в газете. Видеть события не глазами взвода и роты, а глазами фронта. А случись тут какое несчастье с Максимом, разве она простит себе, что помешала ему уехать? А случись какое несчастье там, что оправдает ее уступку? Как все сложно и путанно. Где тут разобраться. А ведь нужно не только понять, и решить. Нет, мешая ему, она думала не о нем, о себе. И это сознание безвинной вины как-то прибавило ей сил и помогло обрести тяжкую решимость. Только глаза ее снова набухли горючей слепящей слезой, и ей нечем стало дышать.
— Нет, Максим, ты поедешь все-таки…
— Ты что?..
— Я не прощу себе, если стану мешать. Никогда не прощу.
— Никуда я не поеду.
— Если любишь, поедешь, Максим. Увидишь, я не буду плакать, у меня достанет сил и на разлуку. Ты же любишь меня? Ты не забудешь? Мы не расстанемся насовсем? Нет, ведь, нет же, скажи?
Он притянул ее к себе и стал целовать, не давая передохнуть. В горячей ласке его она ощутила и благодарность, и признательность, и силу пьянящего чувства, и верность, порождающую в сердце покой и гордость.
Нет, она не отпустит его так. Их любви не должно быть преград, и Оля хочет принадлежать ему, одному ему, принадлежать сегодня же, сейчас. Пусть он не противится, она вовсе не потеряла голову. Просто очень любит, давно, сильно, всегда. Она станет его женою, самой верной и достойной. Он не должен в ней сомневаться. Станет сейчас же.
Максима охватила буря чувств. Как снежные вихри за дверью, они застилали свет. Этим чувствам уже не хватало слов, и они просто загорались от Олиных глаз и рук, от ее горячих губ, ее дыхания, от ее близости. Не было сил ни просить, ни противиться. Его любовь чиста и возвышенна. Ее тоже. А такая любовь разрешает все.
Его поцелуй был бесконечно долгим и ненасытным. Как ласковы и пьянящи ее губы. Все пошло вдруг кругом, и чтоб не упасть, он закрыл глаза. А Оля, ничему не противясь, словно тянула его в какую-то бездну, над которой все тело теряет над собой власть, безвольно отдаваясь одному всепоглощающему чувству.
2
На карте Оравица голубой жилкой сбегает с татранских хребтов и узкой долиной вьется меж лесистых нагорий, пока где-то внизу не вырывается на равнинные земли. А на местности ее не разглядишь сейчас ни в какую погоду: все под глубоким снегом. Но с обеих сторон над нею возвышаются крутые склоны, чуть не сплошь заросшие лесом. На правом берегу закрепились полки Виногорова, на левом — немцы. Но сплошной линии фронта еще нет.
Снежный ураган приутих. Низкие же тучи по-прежнему ползут и ползут с севера, задевая макушки деревьев, Моисеев поспешно снарядил свой обоз и с трудом пробился в Витаново, где и решил заночевать, так как кони и люди вконец обессилили.
Завтра, 23 февраля, и Виногоров вызвал к себе человек сорок из отличившихся в последних боях, чтобы лично вручить им награды. «Генеральские гости», как их окрестили в полку, прибыли с обозом Моисеева и расположились в крестьянских избах в Витаново, оборону которого держит полк Кострова. Село расположено в низине, на берегу Оравицы. Прямо над ним — крутая гора, занимаемая вверху противником, который обстреливает село чуть ли не с птичьего полету. Впрочем, до немцев «далеко», с полкилометра, а то и больше. Позади Витаново, за правобережной горой, раскинулась Гладовка, или, как ее называют в шутку, «столица Кострова». Там же размещены и все тылы Моисеева, так как позади своего полка им нет места. А здесь, в Витаново, у него промежуточная база, через которую идет все снабжение жаровского полка, воюющего в самой глуши татранских гор, где ни одного селения поблизости.
К генералу солдаты всегда ездили с интересом, хотя чаще он сам приезжал в полк, вручая награды прямо на позициях. А тут большой традиционный праздник, да и полк днюет и ночует в татранских снегах. Сам немало послуживший солдатом, знающий, что ему любо-дорого, генерал и вызвал их к себе, чтобы дать хоть немного отдохнуть да поразвлечься в спокойной обстановке. Говорили, он пригласил артистов, и будет концерт, потом кино, ужин у генерала, а кто-то пустил слух, что будет и по пачке настоящего «Казбека». Солдатская разведка знала обо всем.
Старшим команды Жаров направил Самохина, только что ставшего майором. Ему также получать орден за бои в Татрах. Разместив людей и выставив караул, Леон заглянул в избу, где разместилась Таня. Хотелось побыть с нею, поговорить. Они давно не виделись. Но Таня не одна: с нею ее подруга Надя Орлова, хозяева дома. Какой тут разговор.
За ужином Леон приглядывался к девушкам и невольно сравнивал. Невысокие ростом, черноволосые, черноглазые, порывистые — они многим походили друг на друга, и в то же время оставались совершенно разными. Таня упорна и настойчива, она во всем — само постоянство. Надя легко уступает самой себе и другим. Таня не терпит флирта. А Надя без него жить не может. Таня рискнет лишь в крайнем случае. Надя — когда угодно. Она смела и отчаянна, порой безрассудна и вместе с тем находчива и инициативна.
В полку Надя совсем недавно. Правда, она служила тут и раньше, но будучи раненой долго лечилась. Назначенная санинструктором в роту Хмырова, она не чуралась опасных рейдов с разведчиками и не раз оказывалась в чрезвычайном положении. Во вражеском тылу с ней был, например, такой случай. Раз застал ее врасплох ефрейтор. Поймал, повел. Смелая девушка притворилась довольной, разыгрывая из себя простушку, которой очень понравился неповоротливый немец. Тот самодовольно заулыбался и поощрительно похлопал ее по плечу. Улучив момент, девушка-спортсменка сильным ударом сбила его с ног и, обезоружив, сама привела к разведчикам.
Замечательная девушка. Ей очень нравится Румянцев. Но того трудно соблазнить. Или он так уж любит Таню и, несмотря ни на что, хочет остаться верным своему чувству. Но каков смысл? Яков чист душою, и Леон знает, он не нарушит даже дружеской верности. Он просто любит и молчит, переживает и глушит все проявления своих чувств. Чего бы ему не полюбить эту девушку. А может, она и нравится ему, и Леон ничего не знает? Упустит — потом поздно будет. С нее многие глаз не сводят. Такая одна не останется. Разве настроить Таню, чтоб посодействовала? Нет, не захочет. Скажет, любовь — не утеха. Но может, у них, у Нади с Яковом, сложится настоящая любовь? Кто знает.
За ужином Надя без удержу смеялась и шутила. Чувствовалось, сдержанность Румянцева ее интриговала и вроде подталкивала. Но шутки ее полны и намеков на что-то такое, чего никто другой не знает. Леон даже пожалел, почему нет с ними Румянцева. Как бы он держался с Надей?
В противоположность подруге Таня больше молчала. Она как-то ушла в себя и счастливо улыбалась. Лицо ее словно светилось, но в глазах ощущалась непонятная настороженность. Как ни приглядывался к ней Леон, ему все не удавалось понять, что же случилось с девушкой. Но такая она нравилась ему еще больше. Нет, он ни на кого ее не сменял бы. Ни на кого. Даже на Надю!
Долго и сложно складывалась их любовь, очень долго. Зато теперь она напоминала ему самый крепкий и самый ценный сплав, в котором все ее и его стало чем-то единым и нераздельным.
После ужина Таня, не одеваясь, вышла за порог проводить Леона. Но ее сразу обдало холодным воздухом. Леон распахнул полушубок и согрел ее своим теплом. Таня нежно приласкалась к нему и долго простояла молча, прильнув щекою к его груди.
Нет, она не просто прильнула, а так, что он ощущал ее всю, живую, трепетную, горячую, покорную его любому желанию. Ему всегда удивительно хорошо с нею. Сегодня же еще лучше, хотя она даже не целует его, а просто стоит и ластится, как никогда.
— Я тебя очень люблю, — тихо сказал он, все теснее прижимая ее к себе, — и что бы ни случилось с тобою, знай и помни, очень, очень люблю.
— А ты знаешь…
Она запнулась и умолкла.
— Что знаешь?..
— Боюсь…
— Ну, чего ты боишься?
— Боюсь сказать.
— Все равно скажи.
— У нас бу-дет ре-бе-нок… — выдыхала Таня жарким шепотом.
Леон чуть не задохнулся и с минуту не мог вымолвить хоть слово. По по тому, как он прижал ее к себе, как молча искал ее губы, как: дышал, как билось его сердце, она разгадала все его чувства, все мысли, и ей не нужно было слов.
— Я знаю, мы будем счастливы, — заговорил, наконец, Леон, — я немедленно отправлю тебя к себе домой.
— Вот дурной, не скоро же еще… месяцев через семь-восемь…
— Все равно отправлю. Завтра же утром доложу генералу.
— Право, сумасшедший! — счастливо засмеялась Таня, довольная его горячностью.
— Нет, нет, иди, спи, отдыхай, — заторопил ее Леон, — а то простужу еще, ты не смеешь теперь рисковать, слышишь, не смеешь.
Она прильнула к нему губами и, с трудом оторвавшись, скрылась за дверью.
Леон пошел к Моисееву и всю дорогу улыбался, радостный и счастливый.
3
Переглянувшись, Максим и Оля, как им казалось, незаметно выскользнули за дверь. Они тесно прижались друг к другу, безмолвно вглядываясь в белесую муть февральской ночи. Стало очень тепло, и редкие снежинки, порхавшие в воздухе, попав на лицо, мгновенно таяли на пылавшей щеке и ласково освежали. Было так чудесно и радостно, что сердце будто переполнено от сил, которым нет выхода.
— Оленька, взять бы тебя на руки да нести бы родную, нести и нести! — горячо зашептал Максим.
— Ну, куда ты понесешь, куда!.. — прижимаясь к нему, отвечала Оля, чувствуя, как сладко замирает в груди сердце.
— А хоть куда, хоть в гору, только б нести и нести…
Девушка мечтательно заулыбалась, представляя, как бы это выглядело. Разве знала она, что через несколько часов он и в самом деле понесет ее на руках, понесет через эту дорогу, в гору… понесет, оставляя на снегу кровавый след.
Старик Голев, услышав разговор, только крякнул от приятного удивления и не захотел мешать.
— Ну, воркуйте, воркуйте, птенцы, — ласково произнес он и направился в избу, где обосновались на ночь разведчики.
Тихие слова его грянули громом средь ясного неба.
— Ах, батька, батька! — только и выговорил Максим.
Войдя в избу, Тарас Григорьевич сел за стол, и Акрам предупредительно налил ему кружку чаю.
— Видел наших, — добродушно кивнул он в сторону двери.
— Видел, — вздохнул Голев. — Славная девка — на Людку мою похожа: такая ж самостоятельная, с характером. Только моя построже, как Таня.
Молча выпили по чашке чаю.
— Эх, дети, дети, — разохался вдруг Тарас, — любо с ними, да тяжко порою. Растишь вот, растишь, а тут война… ищи, собирай их. Поверишь, Акрам, прямо клубок спутанных волос, — покачал головою старый бронебойщик, — прилипли к незажившей ране: тронешь — и кровоточит.
— Чего там, известно, — посочувствовал молодой башкир.
— А где она? Жива ли, нет ли? Поверишь, ночи не сплю — все о ней и о ней, — заговорил Голев. — Эх, Людка, Людка, найду ли ее только!
— Найдешь, Тарас Григорьевич, верю, найдешь; не может того быть, чтоб не найти, — зачастил Акрам.
Продолжая разговор, они вроде и не замечали молодежи, расшумевшейся за тонкой перегородкой. Оттуда неслись шутки и громкий говор, слышалась песня, но, вспыхнув, неожиданно гасла, заглушаемая неудержимым смехом и спором.
Теперь бы домой на месячишко завернуть, — размечтался Голев, — вот переполох бы, а?
— И то переполох. Там к весне, чай, готовятся… Пишут, руки у баб горят, и хоть трудно, а получается знатно.
— Я бы тоже у вагранки потоптался, думаю, сварил бы им добрую сталь…
Гармонь за перегородкой заиграла гопак.
— Национальный танец Семена Зубца, — торжественно объявил Соколов, и все захлопали в ладоши. — Перестань ты читать, ученый человек, — повернулся Глеб к разведчику, уткнувшемуся в книгу, — право, Вася Теркин нисколько не обидится, если отложишь его в сторону и малость попляшешь.
— Что ты смешки корчишь, — привстал Зубец, — ты знаешь, какая это книга! Может, я жить без нее не могу.
— Браво, Семик, браво! — закричал Максим, уже возвратившийся с улицы. — Поддерживаю, как говорится, на всех парусах: книга в жизни, что компас в море, без него никакой корабль не может курсировать.
— Зубчик — такой кораблик, пройдет и без компаса, — отшучивался Глеб.
— Сеня, Сенек, — подскочила к нему Оля, — давай спляшем, я прошу, — и затормошила его за плечи.
Зубец положил книгу, оправил гимнастерку и молнией метнулся по комнате: его естественно и просто увлекла за собою бурная мелодия украинской пляски. Маленький и верткий, он выделывал такие коленца, что казалось удивительным, как это держится он в воздухе и почему не грохается наземь.
— Видал, не хуже Васи Теркина, а? — подмигнул Максим Глебу.
— Талант, ничего не скажешь, только руками разведешь, — произнес Глеб, не спуская с разведчика восхищенных глаз.
После бешеной мельницы Зубец в один миг застыл на месте в той молодцеватой позе, которая покоряет всякого.
Оля сделала гармонисту незаметный знак рукой, и он стал играть в чуть замедленном темпе. Ее движения — сама грация: плавные, ласкающие и зовущие, глаз не оторвешь. Вот она прошлась по кругу, часто перебирая ножками, грациозно заламывая руки за голову; вот выскочила на середину, закружилась, раскинув руки в стороны; вот собрала их, скрестив на груди, и лебедем поплыла по кругу. Она как бы жила в музыке, перевоплощая ее чудесные ритмы в удивительно красивые движения рук, ног, всего своего прекрасного и молодого тела, такого сильного и послушного, невольно вызывающего восхищение и зависть.
Казалось, ее движения, жесты, улыбки, взгляд ласковых глаз — все сходилось в одном фокусе, у места, где стоял партнер, Семен Зубец. Но так только казалось. На самом деле все было адресовано другому, который стоял тут же позади Зубца, сильный и широкоплечий, с улыбающимся обветренным лицом. И каждым своим движением, жестом, каждым взглядом своих огневых глаз девушка как бы говорила ему: а вот посмотри, какая я есть, а вот видел это, а вот хочешь буду такой, или такой! Хочешь загрущу! Хочешь развеселюсь, не остановишь! Ну, смотри же, смотри!..
В бешеном темпе она пошла последний круг, наклоняясь то вправо, то влево, улыбаясь всем и особо ему одному, своему Максиму, выделывая столь виртуозные па, что никак не запомнить ни одного отдельного движения, потом выскочила на середину круга и замерла в немой и грациозной неподвижности…
И сразу оглушительный взрыв!
И не взрыв даже, а десятки одновременно, и не десятки, а сотни, тысячи взрывов. Мигом повылетали из окон стекла, сильная волна погасила свет, отбросив всех к противоположной от окон стене.
— Ложись! — крикнул Якорев, — ложись!
— Не иначе, артподготовка! — определил Голев.
— Максим, что же будет, а? — шепнула Оля.
— Ничего, сестренка, буря кончится, и море утихнет.
Десять… пятнадцать минут гремел артиллерийский гром, все вздымавший на воздух. Скорее по привычке, чем по необходимости, все ощупали автоматы с дисками и к поясу прицепили гранаты, хоть мало кто верил в возможность боя: ведь впереди еще позиции целой роты Кострова.
Разрывы снарядов прекратились за окном также внезапно, как и вспыхнули. Все разом выскочили на улицу. Что это? В воздухе очень ощутим прогорклый дым пожарищ, к которому за время войны так привыкли, что узнавали сразу. Многие из домиков объяты пламенем. Над кручей — тысячный фейерверк, заискрившийся мгновенно и столь же мгновенно угасший. А на склонах туча гитлеровцев: пригнувшись, они с воем и визгом неслись на лыжах вниз, в Витаново. Послышались нечастые вспышки костровских пулеметов и автоматов. Они свалили на снег очень немногих — все остальные со страшной скоростью мчались вниз, вздымая за собою вихри снега. Черная саранча!
4
Как ни странно, не гром разрывов (его Леон расслышал не сразу), а резкий звон разбитого стекла разбудил Самохина. На улицу он выскочил в распахнутом кителе и неодетым, с шинелью в одной руке и автоматом — в другой.
— Леон, Леон! — надрывался с соседнего крыльца Моисеев. — Давай сюда, здесь подвал.
Самохин же ничего не слышал. Оглушенный разрывами снарядов, ослепленный сотнями ракет, заполыхавшими в иссеченном огневыми трассами небе, он на какое-то мгновение, достаточное, чтобы оценить обстановку, застыл на месте.
— К бою, товарищи! К бою! — крикнул Леон и бросился к разведчикам, на ходу застегивая поспешно натянутую на себя шинель.
— Сеня, Сенек! — донесся до него отчаянный голос Оли. — Рация! — и комбат разглядел Зубца, кинувшегося ей на помощь.
Рацию Оля везла с собою на проверку.
— К бою, за мной! — повторял Леон, увлекая людей к большому двухэтажному зданию, видневшемуся за дорогой.
На ходу он успел заскочить за Таней и Надей. Дом же, где вчера остались девушки, был пуст, и один из углов его разворочен снарядом. Нет, убитых не было. Тем не менее, Леона так и обдало холодом. Что же с ними? Где теперь искать их? Раздумывать и гадать, однако, некогда, и нужно действовать и действовать, принимая молниеносные решения. Витаново в огне. С горы с визгом несется орава осатаневших немцев. Хочешь не хочешь, а начинай этот дикий неравный бой.
Поручив поиски девушек Павло Орлаю и Матвею Козарю, сам он заспешил за разведчиками и бойцами своей команды. Двухэтажный дом пуст и мертв. Еще отступая, немцы разорили и разгромили его квартиры. Стекла выбиты, мебель поломана, и все внутри заметено снегом. Бойцы инстинктивно заняли места у окон и дверей.
На улице брезжил блеклый рассвет, и все увидели, как у дальних зданий заметались жители, спешившие укрыться в подвалах и ямах, как с позиций Кострова, на другом конце села, снова зачастили из минометов. С переднего края доносилась редкая стрельба. А вскоре всюду зашумела пьяная орава гитлеровцев. В легкой мышиного цвета форме, они неистово кричали, ругались и беспорядочно палили из автоматов. Они заскакивали в избы, вытаскивая наружу женщин. Одну из них, тут же раздев догола, пустили по улице, улюлюкая ей вслед. Потом один из них вскинул автомат, чтобы срезать убегавшую женщину, и вдруг сник и свалился на снег. Одновременно Леон услышал одиночный выстрел у соседнего окна: там стоял Голев. На минуту смешавшись, эсэсовцы резанули в сторону дома Самохина из своих автоматов. Потом вытащили наружу несколько пуховиков и, вспоров их, выпустили на волю все содержимое. Тучи пушинок взвились вверх, разлетелись в стороны и поплыли по улице. Не будь этой стрельбы, можно б подумать, прямо пора тополиного цветения, когда зеленый красавец теряет пух.
— Огонь! — скомандовал Леон бойцам, примостившимся у окон.
Эсэсовцы отпрянули и скрылись за домиками, оставив на снегу пятерых убитыми.
Снизу вбежал запыхавшийся Ярослав Бедовой.
— Товарищ майор! — обрадованно выпалил он. — Там подвал в несколько отсеков… Большущий подвал.
— Подвал? — машинально переспросил Леон. — Хорошо. Надо воду спустить туда, чтоб сохранилась… Ну и что? — посмотрел он на Ярослава, видя, как тот уставился на него, не решаясь досказать начатое.
— Схорониться б, ни один леший не найдет… А ночью выберемся.
— Ах, вон что!.. Товарищи, — громко обратился ко всем Самохин, — есть подвал… большущий, хороший, с отсеками. Кто хочет схорониться и переждать, — направо, а кто — в бой, — налево. Ну, разом! — торопил он солдат.
Все двинулись влево. Потоптавшись секунду, другую на месте, туда, ко всем, шагнул и Ярослав.
— Вот и отлично, — усмехнулся Леон, — я так и думал. Трусов нет, и все к бою готовы. А теперь уточним боевой расчет… — и он каждому определил место и задачу, назначил сигналы…
Ясно, командиру нечего голосовать: его дело приказывать. Тем не менее Леон не удержался, чтобы и бойцы сами сделали выбор. Что ж, они не ошиблись.
Олю с рацией он поместил в подвале. Но мыслимо ли усидеть внизу, откуда ничего не видно. Поднимаясь беспрестанно наверх, она металась от окна к окну. Леон лучше других понимал ее смятение. Боль у них одинаковая: у нее Максим, у него Таня, и обоих их все нет и нет.
— Вон они, вон! — вскрикнула вдруг Оля, чуть не до пояса высунувшись из окна, и первой бросилась вниз к двери.
Леона даже в жар бросило. Прямо из переулка выскочил Павло Орлай, за ним появился Матвей Козарь и Акрам Закиров, потом еще двое разведчиков. Все они, отстреливаясь, бежали через дорогу. Только ни Тани, ни Нади с ними не было. У Леона погасла последняя надежда, и его сразу обдало холодом. Неужели погибли?
— Сюда, сюда! — закричали бойцы из окон, прикрывая огнем бегущих.
Оля просто обомлела: она сама видела, как бежал Максим, а спустилась вниз — Максима нет и не было. Его даже не видели.
Запыхавшись, Павло первым влетел на второй этаж.
— Товарищ майор, — выдохнул он разом, — нигде не нашли. Прямо как в воду канули.
Оказывается, Акрам видел обеих девушек у базы Моисеева. Матвей и Павло пробились туда, но там пусто. Где девушки, куда девался Моисеев, выяснить не удалось. Может, они также засели в оборону с какой-либо группой?
Убитый горем, Леон не знал, что и думать. Стиснув зубы, он глядел и глядел в окно, уже ни на что не надеясь.
Оценить обстановку теперь не представляло большой трудности: враг давил десятикратным превосходством. Обрушив чуть не полк против роты Кострова, растянутой в нитку, немцы уже хозяйничали в Витанове. Очаги сопротивления, еще сохранившиеся в селении, оказались разрозненными и изолированными. Полк Жарова отрезан от снабжения. Смысл эсэсовской атаки ясен: омрачить день традиционного праздника.
Взяв из каждого полка по батальону, комдив усилил их танками и артиллерией. Сводный отряд он поручил Кострову. Приехав к нему в полк, генерал поставил задачу — контратаковать и уничтожить эсэсовский отряд, вломившийся в Витаново.
— Чем не мышеловка? — указывал Виногоров на низину, напоминавшую узкое корыто. — Никого не выпустить оттуда! Наказать, беспощадно наказать провокаторов.
Пока Костров собирал и готовил силы, события развивались с потрясающей быстротой. Черная масса эсэсовцев, затопившая Витаново и выплеснувшаяся чуть не к гребню гладовской горы, чем-то напоминала бурную пучину, коловерть взбешенной реки, готовой захватить и поглотить все живое. Вражеские атаки вспыхивали поминутно, сопровождаясь оглушительной перестрелкой.
До двух взводов эсэсовцев ринулись в атаку на дом Самохина. Отбили ее с большим трудом, и на треть уменьшились запасы патронов. Еще две таких атаки, и возьмут голыми руками. С автоматического перешли на одиночный огонь. Защелкали снайперы, и врагу не подступиться. Короткая передышка. У самого дома много убитых немецких автоматчиков. Зубец с Закировым вынесли четыре автомата со снаряженными магазинами.
Комсорг обошел всех комсомольцев.
— Стоять! — убеждал он. — Во что б ни стало стоять!
— Стоять не хитро — бить нечем, — обронил Ярослав, примостившись у окна и постреливая из немецкого автомата.
— Какой тебя червячок точит, — повернулся к нему Тарас, — вырви ты его из души. Не то он насквозь проест ее.
— Я умереть не побоюсь… — загордился Ярослав.
— Когда в бой иду, о жизни думаю, и тебе, сынок, тоже советую, и сил больше станет, и сердце крепче.
Приучая Ярослава к трудностям, Якорев и Голев еще с Тиссы все чаще и чаще посылали его в опасные задания. Жизнь сурово учила солдата действовать самостоятельно, подталкивала, когда приостанавливался, мешала киснуть и омрачаться, требуя решимости и инициативы. Он стал заметнее в роте. За смелость в разведке Жаров только что наградил его орденом. Однако у Ярослава нет еще твердой веры в свои силы, в свое уменье, и все трудное иногда по-прежнему порождает у него сомнение, о котором он не в силах молчать.
— Есть связь, есть! — изо всех сил закричала снизу Оля.
— Ты кричишь, как оглашенная, — весело сказал Леон, спускаясь к рации. Он доложил обстановку и, получив данные, немедленно связался с рацией Кострова. Они не одиноки, за их спиной свои родные силы, и с ними надежная связь. Теперь любая борьба станет легче.
5
Витаново кишело эсэсовцами. Леон глядел на их толпы у дальних домов и все изумлялся превратностям военной судьбы. Его внимание привлекли вдруг сильные крики.
— Чего они гогочут там? Ах, вот что! — вскинул он бинокль. — Да это ж… Таня с Надей! — выдохнул комбат, чувствуя, как лоб его, шея, руки сразу сделались влажными.
— Они и есть… — громким шепотом откликнулся Зубец, весь как-то вытягиваясь. — Что они наделали с ними. У, гады!..
Обе девушки почти совсем раздеты: на их болтались лишь разорванные сорочки.
Леона сковал ледяной ужас. Таня, Надя! Девочки родные! Танюша! Ребенок! Что же будет теперь? Как помочь, как выручить их? Огонь же, огонь! Нет, и огонь, никакой огонь уже не поможет. Глаза его набухли слезой, застилавшей весь свет.
Комбат чуть не переломал себе пальцы, искусал губы. Проклятое бессилие!
— А тот, третий, кто? — донесся чей-то шепот.
— Да кто — Моисеев, — первым догадался Зубец. — И его раздели, а китель смотри, сами несут, вишь, как торжественно, думают, генерала схватили: у него ведь вся грудь в орденах.
Голев вскинул винтовку и выстрелил раз за разом.
— Промахнулся, старый леший, — выругал он самого себя.
Эсэсовцы достигли своей траншеи и спустились в нее. А перед спуском девушки обернулись и замахали руками. «Стреляйте, стреляйте же!» — словно говорили их жесты. Но выстрелов не было. Далеко ли уж стало, или руки солдат были бессильны вскинуть винтовку — только выстрелов не было, и все смотрели, скрипя зубами. Что могли они предпринять для их спасения?
Самохин даже не сразу заметил начало новой атаки. Автоматная стрельба и взрывы гранат длились с полчаса. Оставив много трупов, немцы опять попрятались за дома. А эсэсовский конвой меж тем вывел пленных к горе и, выбравшись из траншеи, повел их открытой тропкой. Снова послышались выстрелы снайперов. Но теперь было еще дальше. Все же, одна из пуль задела кого-то из конвойных. Схватившись за руку, он тут же бросился на пленниц и начал исступленно избивать их прикладом. Девушки упали в снег.
— Ах, гады, гады! А!..
— Ах, изверги!..
— Ну погодьте только! — негодовал Глеб, тщательно и долго целясь.
Раздался выстрел, и гитлеровец, измывавшийся над девушками, взмахнул руками и рухнул наземь. Конвойные снова соскочили в ход сообщения и на несколько минут скрылись из глаз. На самом гребне витановской горы, по которой вели пленных, стояло одинокое дерево. К нему, снова выбравшись наружу, и повернули эсэсовцы. Никто еще не успел подумать зачем, как они схватили одну из девушек и на глазах у всех вздернули ее на дерево. Бойцы содрогнулись, но никто не проронил ни слова. Только все они вскинули винтовки, ударив разом, и среди конвойных началась паника. Сначала упали трое, потом еще один, а пока остальные бежали к ходу сообщения, снайперские пули свалили и их. Поблизости никого не оказалось. Сдернув с одного из убитых шинель и схватив свой китель и автомат, брошенный одним конвойным, Моисеев с девушкой, оставшейся в живых, бросились к лесу.
Леона трясло, как в лихорадке. Немыслимые терзания проникли в самую душу и жгли ее, беспощадно жгли на жарком огне.
Моисеев и его спутница скрылись за деревьями. Но что их ждет там? Нагонят ли их немцы на лыжах и вернут обратно, чтоб загубить на пытках в фашистском застенке? Или их прикончит в татранских сугробах злючий февральский мороз? Или судьба улыбнется им и хоть закоченевших, но еще живых выведет к своим? Что?..
Таню знали все, и ее слава была дорога каждому. Надю знали меньше, подчас иронизировали над ее легкомыслием. Только никто не осуждал девушку. Не без влияния Тани Надя полюбила радио и мечтала стать радисткой. Рацию она изучила досконально. Умела даже работать на ключе. Юров выхлопотал ей одно место на армейские курсы, и сегодня у комдива должна была решиться ее судьба. Но вот она решилась по-другому. А как?.. Еще никто не знает.
Девушку любили. Веселая, неуемная в песне и пляске, она умела затронуть солдатское сердце. Если где привал или гармонь, Надя непременно там. С полчаса побудет, а столько напоет, столько напляшет, насмешит, что у всех голова кругом от удовольствия. Природный талант! Еще в школе она занималась в балетном кружке, выступала в художественной самодеятельности и не раз брала первые призы на смотрах. Надя была так весела и жизнерадостна, столько в ней было сил и заразительной бодрости, что даже Черезов, которого не без основания многие считали ипохондриком, и тот без улыбки не любовался девушкой, если она даже запросто обращалась к нему.
Таковы были подруги, одна из которых — какая сейчас не узнать — уже мертва и перед глазами сотен людей висит на одиноком дереве, взывая к возмездию, а другая, преследуемая палачами, может выбивается из последних сил, коченея на февральской стуже.
У Моисеева своя слава. То, что делал он, было в высшей степени буднично, но необходимо и даже героично. Полк дни и ночи лежал в снегу, ползал по снегу, ходил по глубоким сугробам, и начальник тыла ежедневно по две роты переодевал и переобувал во все сухое, привозил бойцам соломенные маты, изготовленные по его инициативе, и в снежном окопе от них было теплее, уютнее. Привозил он и сотни химических грелок, которые где-то раскопал на армейском складе. Добавишь в нее немного обычной холодной воды, и от химической реакции грелка становится горячей. В метельные или морозные дни и ночи грелки эти выручали бойцов, согревая их окоченевшее тело. Будничная и простая, вроде незаметная работа, а без нее девять из каждого десятка лежали бы в госпитале, а то, закоченев, и вовсе погибли бы.
Молодцеватый вид полка, поддерживаемый всеми офицерами, сильно потускнел бы, не будь Моисеев таким рачительным и заботливым. Не дай бог, увидит он солдата в порванных шароварах или в гимнастерке хоть без одной пуговицы. Беда виновнику. И починить заставит, и выстирать, и проутюжить, и пуговку пришить. Выпустит от себя, как из «ателье мод». Да притом отчитает так, что всю душу перевернет. Скажет, вот не берег шинель, срока не выносил, куда годится? Ну что шинель, скажет солдат, ведь ползаешь, по горам лазишь, разве убережешься. А то, возразит Моисеев, сегодня один, завтра десять не уберегут обмундирования, а там тысяча… миллион… Понимаешь, мил-ли-он! Сколько твоим матерям и сестрам работать нужно, чтобы изготовить этот миллион? А!.. И солдат уходит, понимая, что за его шинелью стоит огромная фабрика, тысячи людей, которым придется работать вдвое, если он будет таким неаккуратным. А раз, еще в Будапеште, поймал Моисеев как-то Зубца без пуговицы на рукаве: ее отгрыз ему немец в схватке, и пошел отчитывать. Зубец, дескать, не я, товарищ майор, немец вчера отгрыз, а он свое. Это же вчера было, почему не пришил ночью? Почему тысяча человек и все с пуговицами, почему один Зубец хуже всех? Ведь идешь — на тебя весь Будапешт смотрит. «Нет, этот ничего не спустит!» — говорили про него бойцы. Зато уж, что ни положено солдату, все получает в срок.
Однако любили и ценили его не только за это. К тому имелись и другие весьма важные причины: был Моисеев храбр и отважен.
— Они его сонного взяли, не иначе! — искали бойцы объяснений, как мог их майор оказаться в плену. — Да и девушек они врасплох застали, так они не дались бы!
А гладовская гора отбивала уже седьмую атаку. И хоть эсэсовская тысяча сильно поредела, ее напор был еще сильным и опасным.
Дом Самохина, как заноза, очень тревожил гитлеровцев, и они выкатили второе орудие. Первое, не сделав выстрела, было разбито артиллеристами Кострова. Новое орудие появилось внезапно, и первым же снарядом поранило троих. Глеб мигом снял наводчика. Потом еще одного из немецких артиллеристов.
— Вниз, в подвал! — скомандовал Самохин.
У окон нижнего этажа остались дежурные: снайперы и автоматчики. Им удалось вывести из строя весь расчет орудия, но пока случилось это, второй этаж был сильно разбит. Он зиял проломами стен, и углы его совсем обрушились. Потеряв второе орудие, немцы повторили наскок на осажденных, но снова безрезультатно. Вокруг дома они оставили много трупов. Пока противник не опомнился, Зубец с Якоревым выскочили наружу и еще раз пополнили запасы гранат, патронов, автоматов. Эсэсовцы рассвирепели. Они выкатили еще орудие и начали бить с дальней дистанции.
— Совсем осатанели, — ожесточился Павло, — у них верно и стволы накалились.
Но вот смолкли пушки, и опять атака. Она длилась минут тридцать. Положение в доме Самохина сильно осложнилось. Из двадцати семи человек — трое убитых, много раненых. Четверо очень тяжело и лежат при смерти. А тут еще застрочил крупнокалиберный пулемет. Укрылись в подвал. Но что это? Дым и пламя. Значит бьют зажигательными. В дыму весь второй деревянный этаж. Даже в подвале воздух стал горячим и удушливым. Все затянуто дымом, и нечем дышать.
6
Дым. Огонь. Кровь. Грохот пальбы из орудий.
Очередная атака отбита с трудом. Еще поредели ряды защитников разбитого дома. Всех погибших сложили внизу. Они только что стреляли, разговаривали, надеялись. Теперь им ничто не нужно. Лица их бледны, глаза неподвижны. Усилились стоны раненых. У молодого разведчика разворочен живот, и солдат умоляет товарищей пристрелить его сейчас же. Он все равно умрет. Но чья рука поднимет автомат! Чей палец нажмет на спусковой крючок! У многих по две раны. У всех обгорели шинели, обожжены руки и лица. Зубец легко ранен в шею, Голев — в ногу. Ярослав стоял у окна с перевязанной рукой. Самохину осколком зацепило за ухо.
Наконец, самая большая атака. Гитлеровцы осторожны: они атакуют ползком. Свыше сотни эсэсовцев ползут к дому с расстояния в двести метров и, медленно приближаясь, все туже стягивают смертельное кольцо. Связи нет: сгорела антенна. Зубец сквозь дым и огонь пробрался на второй этаж, чтобы из пролома стены спустить запасную антенну.
— Есть, есть связь! — радостно закричала Оля.
— Молодец, Оленька, похвалил Леон, — передавай: подготовить огонь на меня… подготовить огонь на меня… сигнал по рации… дублирующий — красная ракета… дать не менее ста снарядов… слышите, ста снарядов… ста…
Там слышали… там все поняли… там у каждого от командира полка до правúльного у орудия морозом охватило сердце…
А кольцо все туже и туже… Разорвался свой снаряд … другой, ударила мина … Контрольная пристрелка.
— Павло, спустись, передай, хорошо. Пусть будут готовы.
Орлай спустился к Оле:
— Так держать! Ждите сигнала. А не будет — все равно бейте минут через пятнадцать, значит, некому сигнализировать…
Сто метров … С обеих сторон ни выстрела.
— Вызывать? — и Павло поднял глаза на Самохина.
— Обожди.
Восемьдесят метров … Семьдесят …
Ну, когда же сигнал? Когда?!! — спрашивали молчаливые взгляды бойцов, пока не услышали строгой команды Леона:
— В подвал! Все до одного в подвал!
Сам он задержался одну-другую секунду.
— Связь исчезла! Нет связи! — донесся отчаянный голос Оли.
— Ракету!
Зубец, которому оставалось только нажать спусковой крючок ракетницы, выстрелил мгновенно, и красная ракета невысоко взвилась в воздух.
Залп! Другой!! Третий!!!
Что-то ухнуло разом, и бойцы перестали слышать и видеть друг друга. Они забились по углам, задыхаясь от пыли, поднимаемой разрывами. Несколько минут, показавшихся вечностью, бушевал огненный шквал, не оставляя на месте ничего живого.
— Молодцы, артиллеристы! — громко крикнул Голев. — Дали им прикурить. — Но в ответ он не услышал ни звука. — Что такое? Жив кто?..
Разрывы смолкли…
— Живы товарищи? — воскликнул Леон, с трудом выбираясь из-под обломков.
Продираясь сквозь удушающий дым и пыль, живые потянулись наверх. Лишь тяжело раненые были бессильны двигаться самостоятельно. Оля без сознания лежала у разбитой рации. Когда девушку вынесли, губы ее еще вздрагивали и тряслись. Несколько снарядов угодило в дом, и два из них, пробив перекрытия, разорвались в подвале. А вокруг на почерневшем снегу — ни одного живого эсэсовца. Обе пушки перевернуты вверх колесами. И мертвая тишина.
7
Витановская трагедия потрясла Максима, и он весь день не находил себе места. Он был там вместе со всеми. Вместе со всеми попал в беду. Но собирая команду и разыскивая Таню с Надей, он оказался отрезанным от своих и с небольшой группой разведчиков пробился к Румянцеву. Комбат получил задачу — ударить вдоль Оравицы, и ему потребовалось немало времени стянуть свои роты и вывести их в исходное положение.
С командного пункта видна и витановская гора. Все случилось на глазах Максима и Якова. Вон роковое дерево, на котором висит труп их девушки. Но кто висит там, Таня или Надя? Вон лес, укрывший Моисеева с другой девушкой. А вон в деревне где-то высится дом Самохина, вызвавшего огонь на себя. Жутко подумать, что сохранилось у них под разрывами снарядов. С гладовской горы передают, там мертвая тишина. Погибли эсэсовцы, не слышно никого и своих. Как же ужасно томительны часы ожидания.
Контратака началась перед вечером.
Два батальона охватили Витановку с флангов и стремительным ударом затянули смертельную петлю. Третий батальон обрушился на немцев с гладовской горы. Истребление окруженных было беспощадным.
Максим с разведчиками первым пробился к развалинам дома Самохина. Здесь все обгорело и разрушено, всюду крошево кирпича и камня. С трудом пробравшись в один из отсеков подвала, Максим крикнул громко:
— Товарищи, свои пришли! Есть тут живые?
— Есть, есть!..
Максим обрадованно бросился на слабый голос.
— Жив, Тарас Григорьевич!
— Жив, сынок, жив, родной! — заторопился бронебойщик. — Малость поранен только.
— Дай помогу!
— Не надо, сам управлюсь, — остановил он Максима, — вон Олю бери, поранили сестренку, дюже поранили, в санчасть ее скорее.
Максим шагнул раз-другой и почувствовал, как у него остановилось сердце, а руки и ноги сделались необыкновенно тяжелыми: он увидел ее на пыльном каменном полу с раскинутыми руками и окровавленным лицом. Офицер бережно взял девушку, поднял на руки и понес через дорогу, в гору, как мечтал вчера, только Оля лежала не радостной и смеющейся, а лишенной сознания, и он нес ее, оставляя на почерневшем снегу красные кровавые следы…
Одного за другим разведчики выносили раненых и убитых. Выбравшись наружу, Леон тяжко вздохнул полной грудью и вдруг с болью ощутил, нет у него больше сил ни стрелять, ни говорить, ни просто двигаться. Слезы, мужские слезы сами собой катились из глаз и, обжигая щеки, солеными каплями таяли на губах. Даже нечем дышать.
Витановское побоище длилось с час. Враг сокрушен и истреблен беспощадно. Пленных не было. Хотели не хотели немцы, а катастрофа, которую они готовили, превратилась в эпопею.
Глава четырнадцатая БЫЛИ И ЛЕГЕНДЫ
1
— Перерезали ему пояс, — тут вся сила Яношикова и пропала. Связали они его и стали пытать. Потом за ребро на крюк повесили… — Голос у Марии певуч и мелодичен, былинный строй речи полон грусти и вместе с тем той возвышенной силы и героики, чем всегда богаты истинно народные легенды. — Провисел Яношик день, два, а на третий указ ему: ежели хочет Яношик жить, пусть королю послужит. Да не согласился Яношик: «Коли сварили меня, говорит им, так и лопайте!» — и женщина обвела солдат лучистым взглядом, дескать, вон он какой, наш Яношик. — А на казнь шел — над палачами своими смеялся; виселицу завидел — песню запел, — и женщина, скрестив на коленях руки, вдруг сама запела на былинно-героический лад:
Кабы знал я, кабы ведал, Что висеть на ней придется, Расписать ее велел бы, Златом-серебром украсить…— И повесили Яношика за то, — глубоко вздохнула рассказчица, — что бедных защищал и что товарищей своих не выдал.
— Богатырь ваш Яношик, истинный богатырь! — за всех сказал Голев.
Полк наступал местами, где третью сотню лет живут чудесные словацкие легенды о храбром Яношике, сражавшемся с феодалами. Слушая горянку-словачку, Максим невольно всматривался в поросшую лесом заснеженную гору, вид на которую открывался из окон домика, приютившего бойцов на коротком привале. Гора эта носит имя легендарного героя, горного пастуха Яношика, верного друга бедных и угнетенных. Посмотрел Максим на стройные молодые деревца, что сбегают по склонам вниз, и перед ним, будто живые, яношиковы хлопцы в зеленых рубахах с кушаками, серых портах и невысоких остроконечных шапках, все с самострелами и топорами в руках.
Хороши и красивы словацкие легенды, но еще краше ее героические были. Вершину яношиковой горы, густо поросшей лесом, венчает небольшое плато. После войны на нем воздвигнут высокий лучистый обелиск, хорошо видный теперь в ясный, погожий день за десятки верст. А под обелиском — просторный склеп, и в дубовом гробу, что установлен здесь, — обгорелые кости. Это останки советского солдата-парашютиста, руководившего здесь словацким отрядом. Крепко полюбился партизанам смелый командир, раненым оставшийся во вражеском тылу. Не раз водил он их на гитлеровцев, и всегда с победой. Женщины-горянки вышили отряду алое шелковое знамя, и оно стало святыней, которой дорожили больше жизни. Слава об отряде облетела горы, и к партизанам все шли и шли люди: плечом к плечу с словаками воевали чехи и русские, поляки и венгры, румыны и болгары. Долго охотились фашистские каратели за партизанами и никак не могли обнаружить их: велики и обширны горы, трудно сыскать в них отряд, если каждое селение ему родной дом. Наконец, карателям удалось все же выследить группу партизан отряда, среди которых был и их командир. Окружив их на вершине яношиковой горы, они обрушили на партизан огонь своей артиллерии и начали штурм. Долго бились партизаны, пока не кончились у них патроны. Командир приказал отступить под покровом тумана, вынести все оружие и раненых. Сам же он остался на вершине в каменном блиндаже у пулемета и прикрывал отход товарищей, пока в ленте не осталось ни одного патрона. Однако и тогда он отказался сдаться в плен, отстреливаясь из пистолета. Долго бились каратели и ничего не могли поделать. Отчаявшись взять его живым, фашисты облили блиндаж бензином и подожгли… А кто он, тот парашютист, и откуда, никто не знает.
А чуть позже Якорев показал Марии Янчиной живого «Яношика». Он стоял под развесистым ясенем, и из его открытого люка весело посматривал вокруг красивый чернобровый четарж — молоденький подофицер из танкового взвода Вацлава Конты. На башне машины отчетливо красовалась надпись «Яношик». Как и в легенде, он не раз погибал и возрождался. Первая машина с его именем, объятая дымом и пламенем, погибла в бою. Но пришла другая, и за нею сохранилось имя легендарного героя. Сгорела вторая — появилась третья.
— Наш «Яношик» бессмертен! — смеялся молодой танкист.
Мария любовно осмотрела машину, и несколько раз обошла ее вокруг. «Яношик» зачаровал ее.
— Теперь он навечно живой наш «Яношик», — с гордостью произнесла женщина. — И о нем сложат новые песни и легенды.
Перед вечером был бой. Машины Вацлава Конты действовали рядом с ротой Румянцева. «Яношик» первым прошел через мины. Немецкие снаряды не раз попадали в его броню, но они скользили и рикошетили, с визгом улетали в сторону, высекая лишь ослепительные искры, голубые, как молнии. Немецкая пушка ударила почти в упор, но «Яношик» словно пригнулся — он с ходу попал в глубокую выемку, — и выпущенный сгоряча снаряд прошел над его башней. Машина всей тяжестью навалилась на орудие, не успевшее сделать следующего выстрела, и смяла его, вдавив в землю. Потом повернула влево и на всей скорости пошла вдоль двухсотметровой немецкой траншеи, засыпая живых и мертвых. Гитлеровцы в панике выскакивали из нее и сразу попадали под огонь автоматчиков Румянцева. Немецкая самоходка выскочила было из кустов и уже начала поворачивать хобот орудия в сторону «Яношика», как Руднев с первого же выстрела разворотил ей борт. «Яношик» увидел два пулемета, строчивших из дзотов и мешавших пехоте. Он наскочил сбоку, смял амбразуру приземистого дзота, а к высокому зашел с фронта и в упор сделал два выстрела. Дзот задымил и умолк.
А вечером чехи и словаки одобрительно похлопывали по еще неостывшей броне, восхищаясь своим «Яношиком». Возрожденный на русской земле, он пришел на свою еще более сильным и могущественным, пришел вместе с советскими товарищами по оружию сделать самое главное, чего он не смог триста лет назад, — дать простым людям силу, свободу, счастье!..
2
Партизанский отряд Стефана Янчина пробился к Жарову и несколько дней уже действует вместе с его полком. Партизаны отряда — люди смелые, боевые, и их нисколько не манит возвращение домой, пока на родной земле остается враг. Направляясь в чехословацкое войско, они жаждут дела, борьбы, ибо в борьбе с врагом видят честь и совесть народа, которому служат беззаветно, не щадя жизни.
Жарову полюбился их боевой командир, в разговоре с которым он проводит долгие февральские вечера. На вид Янчин, пожалуй, ничем не примечателен: средний рост, молодое сильное тело, мускулистая шея; смотрит чуть исподлобья, как и многие жители гор; одетый в теплую меховую куртку и туго подпоясанный, он чем-то напоминает хорошо снаряженного и опытного охотника, знающего цену экипировке. А присмотришься — увидишь, лицо его дышит энергией, взгляд твердый и упорный, проникающий в душу. Он сразу нравится и прямотой, и неподдельной твердостью, с которой хорошо уживается веселое добродушие, и отсутствие начальственного зазнайства, нередко встречаемого у партизанских командиров, избалованных властью.
Сын простого моравского крестьянина, Янчин работал на одной из крупных обувных фабрик в Батеване. Стал коммунистом. А началась война — он сколотил из рабочих небольшой партизанский отряд, очень скоро ставший хозяином обширного района. Партизаны казнили предателей и изменников, уничтожали учреждения ренегата Тисо, наносили сильные удары по тыловым частям немцев. Не по дням, а по часам росла смелая армия народных мстителей, организуемая чехословацкими коммунистами. Выражением ее силы, можно сказать, явилось и словацкое восстание, прогремевшее на весь мир.
Восстание словацкого народа и части словацкой армии началось осенью сорок четвертого года. Повстанцы освободили обширную территорию, очистив ее от немецких захватчиков. В Банской Бистрице возникло революционное правительство национального совета.
Гитлеровцы всполошились и бросили против восставших семь дивизий с танками и артиллерией. Два месяца шли упорные бои. Героические повстанцы сражались стойко и мужественно, удивляя мир своими подвигами. Но им недоставало сил удержать освобожденные районы. Оккупантам, однако, не пришлось торжествовать победу. Повстанцы не были разбиты: они ушли в горы. А с продвижением советских частей они всемерно помогали им в освобождении родной земли. Десять тысяч словаков ушло в ряды чехословацкого войска, которое продвигалось вместе с советской армией. Многие тысячи партизан остались в отрядах и продолжали борьбу в тылу врага. Их по-прежнему возглавляли чехословацкие коммунисты, организовавшие могучий народный фронт. Из своих неудач и ошибок они извлекли серьезные уроки.
Эти уроки весьма поучительны. Известно, если восстание вспыхнуло, необходимо действовать с наибольшей решимостью и непременно вести наступление, заставая врага врасплох, нанося удары по самым уязвимым его местам, ежедневно добиваясь новых и новых, пусть даже небольших успехов, удерживая за собою моральное преимущество, которое дало уже первый успех повстанческого движения: оборона — смерть всякого вооруженного восстания. Так учит ленинизм. А между тем, органы, руководившие восстанием, ограничились оборонными боями, защитой освобожденной территории и не вели наступления. Это ослабило военную ударную силу освободительной борьбы и привело потом к потере занятой территории.
Когда вспыхнуло восстание, в отряде батеванцев насчитывалось свыше пятисот партизан. Помимо винтовок и автоматов, партизаны имели уже немало немецких пулеметов и даже орудия и минометы. Отряд Янчина входил тогда в группу, ставшую как бы гвардией восстания. Много раз немцы окружали «хлапцов с батевана», как их любовно окрестила народная молва, но всякий раз отряд пробивал кольцо окружения и уходил в другие районы гор. Хорошо экипированные отряды батеванцев были грозою немцев. Меж отрядами существовала постоянная радиосвязь, и они наносили сильные согласованные удары по врагу.
Где они научились этому? Боже правый! У них одни учителя. Батеванцы с первых дней изучали опыт советских партизан, у них учились мастерству, смелой тактике, по их примеру наносили массированные удары крупными силами. Имея радио, они были связаны с Москвой, а однажды даже с Лондоном. Да, и Лондоном. По какому случаю?
Ярослав Янчин нахмурился. Посуровели и лица партизан. Оказывается, они просили Лондон оказать им помощь, поддержку. Удивляетесь? Думаете, не в правилах черчиллевского Лондона оказывать партизанам помощь? Да, они горько убедились в этом.
— Каким образом, — допытывался Жаров.
— Как же захватили мы в одно время нефтеочистительный завод, — пояснил Янчин, заломив рукою шапку. — Во время восстания он должен был снабжать партизанские части. Ну, на всякий случай и Лондон предупредили, чтоб английские летчики не бомбили это предприятие, хоть, правда, пока оно было у немцев, англичане ни разу не бомбили его. Так что же вы думаете? — и в глазах Янчина вспыхнули злые огоньки. — Несмотря на предупреждение, англичане разбомбили завод буквально за несколько дней до начала восстания. В общем, помогли.
— Союзнички! — возмущались солдаты.
3
— Был колодец в городе, все воду брали там, — рассказывал солдатам усач Франтишек Буржик — пожилой партизан Янчина. — Да, дорого та вода обходилась. В пещере у самого города поселился двенадцатиглавый дракон, и каждый день ему живую девушку на растерзание подавать нужно. А не отдашь — он воды не дает, тогда всем конец.
Буржик обвел солдат долгим пристальным взглядом.
Скажете, сказка, чего болтает старый, — продолжал он снова, — ан нет: вся жизнь такая, и кто ни пойдет против того дракона в одиночку — гибнет и только.
— У нас свой был дракой такой же, — заговорил Тарас, — а голов-то, может, и побольше было, да все поотрубали. И девушки живы, и вода наша, и город наш.
— То вовсе славно, — зачастил Буржик, — кто же теперь не знает о том и кто не хочет того же… Поглядите-ка вокруг, сколько партизан у нас, больше, чем деревьев вон в том лесу, — указал он на высокие нагорья, сплошь покрытые лесом, — и все они, партизаны то есть, на того дракона поднялись, да сил у нас маловато. А пришли вы — и конец тому дракону. Все знают — конец.
Буржику около пятидесяти, но выглядит он старше.
Половину жизни он провел, можно сказать, в роскоши: он отделывал богатые квартиры. Но роскошь была чужая, и благ ее он не вкусил ни разу. Сам он, впрочем, и не задумывался над этим: так уж было заведено — одни работают и ничего не имеют, другие ничего не делают, а всем владеют. Но вот услышал он о советской стране. Много тут грязных помоев выливали на эту страну, но Буржик усвоил одно: там все наоборот — кто ничего не делает, ничего и не получает, а рабочий — хозяин жизни. На сердце у Франтишека сделалось неспокойно. Вот командует им подрядчик, выжимает из него все соки, забирает часть его получки. А что делать? Воевать? И он долго не находил ответа. С каким бы удовольствием схватил он подрядчика за шиворот и отхлестал его по морде! Ну, хорошо, а дальше что? Да, дальше? Посадят его в тюрьму или, что самое меньшее, выкинут на улицу. Кто семью кормить будет? Франтишек сжимал зубы и беззвучно ругался, колотил по стене кулаком. Так бы его, мерзавца, так! Ах, если б не жена и не дети погибшего сына! Буржик давал волю воображению. Первым делом он схватил бы подрядчика, потом хозяина и с каким бы наслаждением стиснул им глотки, прижал бы к стене, и раз, раз, раз!.. А потом, потом тюрьма, голод семьи, может, смерть. Нет, думал, надо терпеть: жизни не изменишь. Так он буйствовал и смирялся, пока его не сманил к себе Батя. Может, еще есть счастье? А что если удастся разбогатеть? Есть же примеры. Да, упорство и смирение! Смирение! Но когда пришли гитлеровцы, и Батя, разорив его, выбросил на улицу, а семья еще больше натерпелась от голоду, он всем призрачным достоинствам терпения предпочел открытую ненависть. Так ушел он к партизанам Стефана Янчина.
Снарядом выворотило молодой граб, и лежит он, как воин, павший в бою.
— Айяя-яяй! — качал головой сухонький грибообразный старичок, присаживаясь у израненного комля погибшего граба. — И деревам жизнь не в жизнь, и их из земли с корнем.
Это — отец Франтишека. Он словоохотлив и с удовольствием рассказывает о своей жизни. Ярко горит вечерний костер, весело потрескивают в нем сучья, и беспокойные белые язычки пламени старательно лижут их, превращая в багрово-красный жар древесного угля. Бойцы с интересом слушают старика-словака, то и дело поглядывая на красавицу Марию, частую гостью у их вечерних костров.
Правда — нет ли, трудно сказать, но ему далеко за сто, хоть сомневаться в том едва ли есть причина: у него все высохло: и кожа на лице сморщенная, как у перепеченного яблока, и шея, столь тонкая, что удивительно, как держится на ней его седая голова, и руки, такие маленькие и плоские, будто их, как рыбу много лет вялили на солнце. Да и весь он так мал, сух, тонок, что кажется, как может еще теплиться жизнь в этом слабом и хилом теле. А меж тем, старик крепок: он помногу ходит, ездит верхом, а то и часами лежит на позиции и постреливает себе по немцам. Глаз у него еще остер и меток.
Отец его маляр-отходник, был завсегдатаем будапештских особняков, отделывая их своей кистью под все цвета радуги. А сам жил в маленькой мазанке в далекой-предалекой горной словацкой деревушке с поэтическим названием Бистричка. Подростка-сынишку он часто брал с собой в отход свет посмотреть, к делу обвыкнуть. Он, Стефаник, видел и знал больше отца, которому некогда было расхаживать по улицам венгерской столицы. А Стефаник слушал Петефи и Кошута, его чуть не задавили на большой площади, где шумели, как никогда, и все радовались какой-то революции. Потом подросший Стефан Буржик разобрался в этих вещах. Много он видел на своем веку разного рабочего люда, много стачек и забастовок в Чикаго и в Канаде, в Вене и в Париже, в Антверпене и Амстердаме. Немало судов бороздит моря и океаны, тех самых судов, на которых он работал со своей кистью. Сколько денег осело в чужие карманы при помощи его, Буржика, а он так и вернулся лет пятьдесят тому назад в свою нищую Бистричку, не скопив ни доллара, ни франка, ни гульдена, ни форинта, ни марки, ни пенга. Много видел Стефан рабочего люда, однако, никогда не видел, чтобы он был хозяином своей судьбы. Правда, вместе с антверпенскими рабочими он плясал от радости, когда услышал про Парижскую Коммуну. Но и ее удушили. И на кого он только не работал: и на Франца-Иосифа, и на бельгийского короля, и на голландскую королеву, и на Вильгельма, и на своего Батю. Пришлось бы и на Гитлера, да чаша уж переполнилась, переполнилась и пролилась. Никто не захотел покориться Гитлеру и его сподручным из шайки Тисо. Вся деревня подалась в партизаны. Только девки да бабы с ребятишками остались дома, но и они не сидели сложа руки, а кормили и одевали партизан.
А тут каратели. Переловили они всех баб с детьми, да на круг. Партизан требуют, грозят деревню сжечь. Только молчит деревня. Один дом подпалили с краю, второй подпалили. Вскрикнули бабы и замерли, оцепенели. А каратели с факелами стоят, окаянные, выдачи партизан требуют. Еще два дома запалили. Молчит деревня. Еще! Кричат, все спалим и вас всех в том огне пережарим: говорите, где партизаны! Сердце заледенело просто. Молчим однако. Вот и вся деревня полымем объята. Чего ж теперь взять с них? Они все отдали им, душегубам. Не все одначе. Вытащили меня, говорят, стар ты, убеди их, не то всем конец, пожалей матерей с детьми. Молчу я, прижимаю к себе внучат и молчу. А они, изверги, вырывают их, да за ноженки на дерево. Не скажешь, детей попалим живыми. Ахнули матери, визг — не передать. А они из автоматов рраз… рраз… Угомонили. Костер под детьми развели. Женщины глаза руками заслонили. Стоят, не шелохнутся. А дети кричат, душу переворачивают. Говори, старик, требуют. А как я скажу, как выговорю, рядом вот тут партизаны, близко совсем, нет у них еще оружия. Как скажу, сорок человек тут близехонько, всего час-другой ходьбы. Ведь вы их всех загубите, а в них вся совесть людская. Как скажу! Они же, мерзавцы, большой огонь распалили уж. Чую, конец моим хлопцам. Бабы, кричу им, что же стоим мы, они, ироды, всех тут погубят, души их, бабы! Ахнули, и пошла свалка. Пальба, гитлеровцы их прикладами крушат, они кольями, чем попало отбиваются. Да силы не равны. В лес бросились… Много полегло наших баб и девок, много детишек осталось там.
— То так было человече! — закончил старик, почему-то обращаясь лишь к Голеву, будто ему одному и рассказывал.
— Ой, как же тяжело! — вздохнул Тарас. — Как тяжело тут людям, и как понятно их теперешнее ожесточение. Что ж, и гитлеровцы, и тисовцы еще попомнят ту Бистричку. Пройдем вот, и попомнят!
4
Жаркий костер собрал большой круг партизан и солдат. Было очень тихо, и сладковатый буковый дым низко стлался по земле. Григорий Березин молча уставился на огонь и без конца раздумывал над тем, о чем весь вечер говорили партизаны с солдатами. Его словно гипнотизировало манящее пламя, хмелил пряный дым, радовали голоса людей. Все было близко и дорого, все связано с делом, которому они служат ревностно и самоотверженно, и которому отдано столько сил, крови, жизней. А как иначе? Не губить же самое лучшее, чего достиг человек?
Ох, люди, люди! Видно, не так просто постигнуть им смысл жизни. Сколько еще страданий, крови, смерти. Неужели нельзя без этого? Без Бабьего Яра и без Орадура, без Лидице и без Освенцима, без Бистрички? Сотни, тысячи лет живут люди. Они создали культуру, цивилизацию, которая могла бы стать их счастьем, гордостью. Они построили чудесные города, создали железные дороги, огромные пароходы, быстролетные аэропланы. Они построили храмы и дворцы, радующие глаз. Написали полотна картин, напечатали миллионы умнейших книг. Их фабрики и заводы могут создавать блага, достойные их упорного труда, их дерзновенной мысли, их горячего сердца. А кругом нужда и голод, кровь и смерть. Не за тем же, чтобы убивать, в поте лица трудилось поколение за поколением! И что же это за мир, который не живет без угнетения, без голода, без войн! И не оттого ли им так дорог свой советский мир, без которого нет на земле настоящей и достойной жизни. Не они начали эту войну. Ее привел к ним тот чужой мир, полный чудовищных насилий, с которым не может мириться человеческая совесть и разве не святой долг, не долг чести разрушать такой мир и строить другой, где человек человеку друг, товарищ, помощник!
У костра долго царило молчание, словно каждый задумался вдруг о своем, близком и далеком, что дороже всего на свете. Против Березина сидела Мария Янчина и тоже не сводила глаз с угасавшего пламени. О чем задумалась она? И чем заняты сейчас ее мысли и чувства? Молодая словачка с первой же встречи понравилась Березину. Красивая, умная, с огоньком в душе, она никого не оставляла равнодушным, и Григорию хотелось глядеть и глядеть на ее удивительно ясные лучистые глаза, слушать и слушать ее звонкий грудной голос и просто быть вместе, рядом, лишь бы ощущать ее присутствие. Уж не влюблен ли он в эту партизанку? За всю войну его не привлекла ни одна женщина. А сколько их было и красивых, и умных, и тоже с огоньком в душе! Увлеченность делом, страсть борьбы заполняли его жизнь, и в ней не было места ничему другому. Не потому, что он какой-то сухарь, ему не чуждо ничто человеческое: ни дружба, ни товарищество, ни сама любовь. Но дело осталось делом, и ему Григорий не изменил ни в чем. И вдруг Мария! Это живой огонек в его душе, яркий, горячий, даже обжигающий. Нет, она ничего не говорила ему про свои чувства, ничем не обнаруживала их, с ее стороны не было и намека. Она больше и чаще с другими, чем с ним, и у Григория порою нет-нет да и шевельнется в груди тоскливо-ревнивое чувство. Но какие же все-таки у него чувства к ней? Пройдет несколько дней, и они расстанутся, расстанутся навсегда. Мыслима ли в таком случае какая любовь? Пусть и немыслима, а его безотчетно влечет к этой женщине и — что удивительно — он готов во многом, если не во всем, уступить своим чувствам.
Хоть бы взглянула на него, что ли, хоть бы услышать ее диковинно чистый и звонкий голос. А не попросить ли ее спеть что-либо? Сдерживая свои чувства, он сказал непринужденно:
— Мария, спой еще про свое, словацкое?
— Спой, молодица, спой, — добавил старик, — повесели людиям душу. Вельме, добра молодица, — кивнул он в ее сторону, — вельме добра!
Мария запела. Голос у нее мягкий и звучный, он чарующе приятен и ласков. Чем-то милым, близким и домашним повеяло на солдат, что-то дрогнуло в душе и больно заныло. Каждый вспомнил и семью, и славное мирное время, и песни тех дней.
Ах, война, война, далеко ты завела солдата! Не скоро еще увидит он дом свой, родную землю. Ан нет вот! Скоро уж, возражает он самому себе. Скоро! Скоро! Недолго осталось шагать по военным дорогам, лежать под огнем на позиции, слушать грозную музыку смертного боя… Недолго!
А Мария пела дивную словацкую песню-легенду, и звучала в той песне и горечь жизни ее народа, и надежда на богатырей, которые придут на эту вот землю и освободят ее от насильников и палачей.
На одной из Шавницких гор, говорилось в песне, на вершине Ситна-горы живут заколдованные врагом солдаты, живут и не могут биться за свой народ. Враг-чародей заворожил их руки, заслепил их глаза, усыпил их буйную душу. Но придет время, — приди скорей желанное! — и те солдаты по мановению богатыря из-за гор должны воспрянуть и вместе с ним освободить свой народ от вековечной беды.
— Гей, человече! То так было, — сказал старик, — так было! — и он оглядел всех, скучившихся у костра, и снова обратился к Голеву: — И вот, человече, все так сполнилось, как народ молвил, и пришел он, тот богатырь-освободитель, расколдовал наших солдат, и вот сидят они вместе с вами, и вместе с вами против общего ворога бьются…
5
Дышать стало нечем, и Таня упала, уткнувшись в снег. Неужели все? Занемевшее тело стало бессильным и безвольным, уже неспособным ни к какому сопротивлению. Ею овладела вдруг необыкновенная жажда покоя. Казалось, легче умереть, чем двинуться дальше. Только ужасы пережитого, все эти часы погони, неотступно следовавшей за нею, мучительно жгли мозг: и веселье предпраздничной ночи, и смертный огонь, и нежданный плен, и побег с погоней. Бедная Надя. Как ужасна ее смерть! Уже лишенная сил бороться иначе, она кусалась и царапалась, когда ее вешали немцы, не сдаваясь до последней минуты. Мгновенное воспоминание вдруг придало Тане новые силы. «Нет, и я не дамся. Ни за что не дамся», — мысленно твердила она, снова упрямо карабкаясь в снежную гору с решимостью во что б ни стало уйти от погони. Но скоро силы ее иссякли вовсе, и она опять уткнулась в снег, жадно хватая ртом воздух.
— Дыши носом, слышишь, носом, — упав рядом с нею, заботливо напоминал Моисеев. — Легкие обморозишь.
Девушка не смогла ответить, но инстинктивно стиснула зубы. Над головами просвистела автоматная очередь. Трудно уйти, ой, трудно. Только ни ей, ни Моисееву и в голову не приходила мысль поднять руки. Ни за что! Майор молча осмотрел автомат. Последний магазин. А там хоть голыми руками бери. Нет, надо рискнуть. Иначе снова плен и неизбежная гибель.
— Беги, Танюша, кустарником, — тяжело задышал Моисеев. — А выбежишь в горку, обожди.
— Товарищ майор!
— Беги, говорю.
— С вами хочу…
Моисеев грозно нахмурил брови.
— Не перечь и беги, я знаю, что говорю.
Таня метнулась в гору, и по ней застрочили из автоматов. Моисеев с болью глядел вслед: проскочит иль не проскочит? Ох, как же трудно посылать человека на смерть. Не легче и оставаться. Однако пора, и он метнулся следом за девушкой. Добежав до кустов, он круто свернул в сторону и залег. Выждав, пока Таня выбралась в гору, Моисеев насторожился. Как он и думал, немцы продолжили погоню. Сейчас или смерть, или… Он не успел закончить мысли. Из пятерых осталось трое. Одного из преследователей он уложил в самом начале и сгоряча расстрелял целый магазин. Час спустя удалось подбить второго. Немцы легко ранили его в руку, пробили пулей ухо. Липкая густая кровь все еще сочится и, стекая по шее, мокрой холодящей массой липнет к плечу. Что ж, и трое против одного (Таня безоружна) — это немало. Двое из них ближе, третий отстал и движется сзади. Упорны однако. Пять часов безостановочной гонки в конец измотали преследуемых.
Из низины крадучись поднимались горные сумерки. В темноте легче уйти, скрыться. Впрочем, утешение невелико. Беспощадный татранский мороз страшнее гитлеровцев. Нужен иной выход, и Моисеев замер за кустом. Немцы приближались. Сейчас должно, наконец, решиться все. Вот до них уже и сто метров. Вот еще ближе. Он прицелился… дал очередь… потом еще и еще. Двое из преследователей уткнулись в снег. Третий схоронился за кустами. Моисеев с сожалением посмотрел на автомат. Магазин пуст. Но что это? Далеко-далеко, видно, в Витаново загорелся вдруг бой. Даже отсюда слышно, жаркий бой. Моисеев воспрянул духом. Приподняв из-за веток голову он с радостью увидел, как последний из трех его преследователей, бросив своих и прячась за кусты, ударился в бегство. Наконец-то! Моисеев начал осторожно спускаться вниз. Убил он их или не убил? Оба лежали не шевелясь. Он дважды скомандовал — «хэндэ хох», но ответа не было.
Тогда он смелее начал сближение, выставив перед собою уже незаряженный автомат. Однако стоило ему приблизиться ближе, как один из немцев быстро поднял голову и вскинул свой автомат. Трудно сказать, что помешало ему, только выстрелить он не успел. Моисеев в два прыжка оказался рядом и, выбив из его рук оружие, насел на противника.
— Таня, сюда! — успел он крикнуть, уже барахтаясь в снегу.
Схватка была ожесточенной. Немец вцепился рукою в лицо, расцарапал глаза, чуть не разорвал рот. Укусив его за руку, Моисеев ощутил вдруг тошнотворный привкус чужой крови и невольно чуть ослабил руки. Немец мигом воспользовался этим и опрокинул его навзничь. Насев на него, он надсадно бил кулаками в грудь, в шею, в лицо. Моисеев задыхался от боли и от злого бессилия справиться с немцем.
— Хэндэ хох! — вдруг раздался охрипший голос над ухом Моисеева и, остолбенев, он решил, что теперь все кончено. Видно, и второй немец тоже не был убит, и Моисеев, стремясь обмануть преследователей, сам попал в ловушку.
Озверевший толстяк замахнулся и со всей силой ударил его в лицо. Сразу вспыхнули огневые круги, и Моисеев перестал видеть, слышать, чувствовать…
6
Выстрел грохнул совсем близко, и слышно, побежал кто-то. Дозорные переглянулись: разведчики сзади, а выстрелы впереди. Так кто же и в кого стреляет? Затаились. Опять тихо. Осторожно продвинулись чуть вперед. Ух ты, смотри! В ста шагах закачались ветки молоденьких елок. Кто-то есть. Зубец вскинул, было, автомат, но Михась опустил на него руку. Тсс…
Из-за елок выглянул немец.
— Хэндэ хох! Ауфштеен! — крикнул Зубец.
— Выходи, стрелять будем! — щелкнул затвором Бровка.
Двое немцев потянули вверх руки.
— Михась, мы, не стреляй!..
Бойцы вздрогнули, и у них перехватило дыхание.
— Таня! Товарищ майор, вы!.. — рванулся Зубец на знакомый девичий голос. Но сердце его сразу же перевернулось в груди. Оба они — и Таня, и Моисеев едва держались на ногах. Их посиневшие и обмороженные лица сплошь в кровоподтеках, изодраны и исцарапаны, в лихорадочном блеске провалившиеся глаза.
Бойцы мигом скинули шинели, чтоб быстрее согреть окоченевших. Подошли разведчики и, смастерив носилки, обоих понесли в полк.
После витановских событий Жаров выслал в горы не один дозор, и бойцы сутками кружили по сугробам нагорий, пока сегодня не набрели, наконец, на Таню и Моисеева, чуть не закоченевших в татранских снегах.
В последней схватке Моисеев не рассчитал своих сил, и, если б не Таня, конец бы им обоим. На голос майора девушка бросилась вниз, молниеносно схватила автомат убитого немца и в упор расстреляла того, что насел на Моисеева.
Оставив Таню в санчасти, Зубец заспешил на пункт связи, но полк снова в движении, и позвонить Самохину невозможно. Правда, радист обещал разыскать его по рации, и пока он вызывал комбата, Семен успел просмотреть письма. Ему тоже есть. Полный нетерпения он разорвал конверт. Ну, конечно, от нее, от Василинки. Девушка писала с Верховины о лесах и горах, о людях, о своей учебе. Нет, она не останется в стороне от новой жизни. Пусть помнит Семен, у него верная и любящая подруга, которой он дороже всего на свете. Зубец так и загорелся ответить немедленно, сейчас же. Но связаться с Самохиным не удалось. Разве мыслимо, чтобы он не свиделся с Таней! Нет, нет и нет. Выпросив у помощника Моисеева верховую лошадь, он быстро заседлал ее и помчался вдогонку за комбатом.
Нагнал его он на узкой лесной дороге. К счастью, Леон оказался не в голове колонны, а в самом конце.
— Товарищ майор, — подскочил запыхавшийся Зубец, — товарищ майор — и склонившись к Самохину, так и обдал его горячим шепотом: — Таня, Таня жива… Только что нашли с Моисеевым:
— Где, где она? — чуть не задохнулся Леон.
— Езжайте скорее в санчасть, не то увезут ее в медсанбат. Берите мою конягу и летите туда.
Оставив за себя заместителя и взяв разрешение у Жарова, Леон помчался той же дорогой, по которой только что его догонял Зубец. Но как ни спешил он и как ни гнал лошади, Тани он не застал. Сменив коня, он помчался дальше. Застать бы хоть в медсанбате.
Женщина-врач категорически воспротивилась свиданию. Никаких волнений, абсолютный покой! Леон потерял всякое самообладание. Сказать бы хоть слово, только б взглянуть. Но доктор неумолима. Что за сердце у этих врачей! Леон знал, одно его прикосновение, один взгляд сейчас целебнее всяких лекарств. После всего пережитого Таня больше взволнована его отсутствием. Ей покажется бог знает что, если она не увидит Леона. Подумает, что ранен, что убит. Нет, свидеться во что б ни стало.
Не обращая внимания ни на какие запреты, уговоры и протесты, расталкивая сестер и санитарок, пытавшихся остановить его, не помня себя, он прорвался прямо в палату, с помощью раненых, видно, понявших его состояние, разыскал Таню и, не разглядев ее лица, молча упал ей на грудь.
Таня вспыхнула, загорелась, страшно обрадовалась и тут же испугалась, увидев, как налетели на Леона медсестры.
— Девушки, не надо, — тихо молила она, — прошу одну минуту, он уйдет сейчас.
Самая разъяренная из них вздернула плечами, чуть сердито хмыкнула и, сделав знак остальным, отступила. Другая, видимо, более сердобольная, молча скинула свой халат и, набросив его на плечи Самохина, последовала за подругами.
Таня молча ерошила черные густые волосы Леона и лежала, радостная и счастливая, с глазами, полными слез, сквозь которые уже ничего не различала вокруг.
— Хороший мой, как рада, что приехал! — тихо вымолвила девушка, с волнением ощущая, как Леон вздрагивает всем телом.
Наконец он с трудом поднял голову и ужаснулся. Таня и не Таня! Опухшее лицо исцарапано и иссечено, расчерчено зеленкой. Провалившиеся глаза полны и безмерной муки, и огромного счастья. Шея забинтована, в бинтах и руки. Бог мой, что они наделали с нею? Казалось, ни живинки в ее лице, всегда таком живом и одухотворенном. Но вглядевшись, он рассмотрел и самое родное, дорогое, ее взгляд — теплый, ласковый, любящий, он по-прежнему полон сил, уверенности превозмочь все что бы ни случилось.
— Помни, Танюша, где бы ни была ты, как бы ни сложилось все дальнейшее, ты одна у меня, одна на всем свете, и я разыщу тебя. А поправишься — езжай к моим родным, вот адрес, — вложил он ей в руку бумажку, — тебя как свою примут, я напишу…
— Никуда не поеду, в полк вернусь, к тебе… слышишь, к тебе…
Подошла женщина-врач. Молча постояла с минуту, улыбаясь и разводя руками, потом сказала умиротворенно:
— Ты что же, обманщик, просился взглянуть только, а теперь и уходить не хочешь.
— Простите его, доктор, он себя не помнит, — тихо заговорила Таня.
— Простите, доктор, не буду, большое спасибо, — встал и Леон. — Вылечите ее скорее.
— Ишь ты, вылечите ему скорее, — засмеялась женщина. — Беречь, голубчик надо, беречь лучше. Ладно, ступай. Будет жива и здорова твоя Таня. Будет, говорю. Вылечим скоро. Серьезных ран у нее нет. А что пообмерзла, не страшно. Все залечим, и следов не останется.
— До свидания, Танюша! До свидания, родная! Я еще приеду к тебе.
Радость встречи и горечь разлуки смешались у Тани и снова застилали ей глаза. Но и сквозь слезы она видела как уходил Леон. Слабый, точно больной, в коротком халате, неуклюжий и нерасторопный, каким никогда не был, и такой дорогой и любимый. Как же больно, когда вот так уходит родной человек, и куда уходит, — навстречу огню, где каждый день кровь и смерть. Нет, очень и и очень тяжко.
Глава пятнадцатая ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ
1
Задание редакции на этот раз оказалось просто сенсационным, и обрадованный Максим долго не мог опомниться. Он сегодня же летит во Францию. Подумать только, во Францию!
За несколько недель пребывания в газете Максим объездил чуть не весь фронт. В редакции он не засиживался и все время находился в войсках. Сколько же их, простых тружеников войны, людей смелых и отважных, давно уже ставших славой и гордостью своих полков и дивизий. Он видел их в бою и на марше, на солдатских привалах и в окопах на отдыхе — везде и всюду. Это были солдаты и офицеры, пехотинцы и танкисты, артиллеристы и минометчики, саперы и связисты — люди всех профессий и званий, молодые и старые, люди суровые и добродушные, шумные и тихие — всех характеров и темпераментов, и о каждом из них у него было что сказать в своих статьях и очерках.
Максиму уже не сиделось на месте, и его беспрестанно тянуло в войска, и больше всего в свою дивизию, с которой столько пройдено в эту войну. Как там воюют его друзья-товарищи? Как Оля? Ее письма очень тревожны. Раны заживают плохо и медленно. Но духом она не падает. Ее почему-то особенно беспокоят опасности, с какими встречается он, Максим. Вот чудачка! Как бы выбрать время и хоть на часок заскочить к ней в госпиталь. Что ж, многое зависит от того, что скажет ему сейчас редактор. Но едва Максим переступил порог его кабинета, как понял, задача будет необычная. Полковник молча уставился на молодого газетчика, словно ожидая от него ответа на какой-то еще не высказанный вопрос. Максим даже смутился. Уж не допустил ли он серьезной оплошности?
Наконец, редактор заговорил. Усадив Максима за стол, он начал не спеша прояснять суть дела, Не хочет ли Максим во Францию, в Париж? Нет, он не шутит, в самом деле, в Париж. Почему именно Максим, а не кто-либо другой, постарше и поопытнее? Какой тут секрет. У Максима зоркий глаз и острое перо. Затем он знает по-французски и по-английски. А помимо всего, он не был в Париже, и почему бы его не послать туда. Газету интересует все, что происходит во Франции. Ее люди, не покорившиеся гитлеровцам. Союзные войска, их второй фронт в действии.
Задачу редактор объяснил обстоятельно.
Нет, не романтика полета взволновала Якорева. А ответственность за порученное дело. Ему нужно увидеть и понять тот мир и правдиво рассказать о нем со страниц своей газеты.
С аэродрома, откуда совершались так называемые челночные операции, за Максимом прибыл молодой французский летчик Поль Сабо, свободно говоривший по-русски. Всю дорогу он увлеченно рассказывал о перелетах. Отбомбившись над военными объектами фашистского рейха, французы не возвращались обратно, а перелетая линию фронта, приземлялись на советских аэродромах. Получив здесь бомбовый запас, они снова летели на бомбежку.
Темпераментный француз сразу же понравился Максиму, и они сдружились. Он очень красив, Поль Сабо. Невысокого роста, очень подвижный и возбудимый, Поль горячо реагирует на каждое слово, на любое замечание. У него густые черные волосы, веселое худощавое лицо с живыми смеющимися глазами, неугомонные руки, чуть не каждое слово дополняющие выразительным жестом, и голос с каким-то особым тембром, вызывающим симпатию и доверие.
Самолеты эскадрильи стояли уже наготове. Едва Максим и Поль поднялись по трапу, как сразу же загудели моторы, а прошло еще немного времени, и машины легли на курс.
Только теперь Максим подумал вдруг об опасности, и у него как-то защемило сердце. На земле он привык ко всему и ничего не боялся. Там мог выручить каждый бугорок, каждая ямка, любая складка местности. Вода настораживала. На реке ему было тревожно: весь на виду. Но и здесь близость земли по-своему успокаивала. А вот в воздухе Максим почувствовал себя совершенно беззащитным и открытым любому огню. Казалось, то мотор работает с перебоями, то слышится свист пуль и осколков, то гул чужого самолета, похожий на изнуряющий звук пикирующего «мессера». Но небо было чистым и ясным, мотор гудел ровно и никаких пуль и осколков пока не было. Он провел рукою по лбу и перепугался еще более: весь лоб был мокрым. Он вытер его прямо рукавом. Хорошо не видел Поль: просто позор бы. Перепугался!
Взяв себя в руки, он стал следить за землею. Она стелилась глубоко внизу, вся в шрамах траншей, в оспинах черных воронок и в бинтах дорог. Поль сказал, что они перелетают линию фронта. Почти одновременно в воздухе появились белые дымки, то ниже, то выше самолета. Максим не сразу понял, что это разрывы зенитных снарядов, а когда догадался, разрывы остались уже позади. Первую линию огня прошли без потерь.
Справа виден самолет, слева тоже. Сзади на некотором расстоянии еще звенья, одно за другим. Тоже и впереди. Они растянулись длинной цепочкой. Так и бомбить будут — звено за звеном. Каждое из них станет обрушивать на цель свою порцию бомб.
Все более сгущались сумерки. Тем лучше. Ночь сейчас — самая лучшая защитница.
— Выходим на цель! — вдруг сказал Поль.
Первые звенья уже отбомбились, и в чернеющей темноте где-то глубоко внизу замелькали огневые вспышки, взметнулось багровое пламя. Значит, цель накрыта. На земле горели военные заводы. Только теперь Максим разглядел звездные разрывы вокруг самолета, и вблизи, и вдалеке. У него опять засосало под сердцем. Самолет, идущий справа, вдруг вспыхнул и охваченный пламенем, стал стремительно проваливаться вниз. Максим до боли стиснул челюсти и, следуя примеру Поля, тоже снял шапку и уже не заметил, как самолеты вышли из зоны огня. Но прожектора еще долго метались по всему небу.
Далее всю ночь летели молча. На рассвете пересекли французскую границу. Значит, Франция! А несколько позже Поль сказал, что справа Париж. Но сколько ни вглядывался Максим, города он не разглядел: все затянуто сизой дымкой.
На французском аэродроме оказалось полно журналистов. Они с таким азартом атаковали летчиков, что казалось невозможно отбиться от их бесконечных интервью. Зная повадки газетчиков, стремившихся во чтоб ни стало выудить хоть что-нибудь сенсационное, Поль схватил Максима за руку и настойчиво потащил за собою в штаб. За ними все же увязался один из журналистов в форме офицера чехословацкой армии.
— Друже капитан, — по-русски обратился он к Якореву, — перед вами скромный газетчик и воин Ян Ярош.
Максим братски обнял чеха. Он высок ростом, очень худ, с добрым открытым лицом и чисто голубыми глазами, которые поблескивали из-под очков в красивой коричневой оправе. Им обоим показалось, будто они давно знают друг друга. В Париж они едут, конечно, вместе. У Поля Сабо двухдневный отпуск, и он охотно согласился разделить компанию молодых журналистов. Сам Ярош тоже полетит в Советский Союз, чтобы закончить войну в рядах чехословацкого войска, которое уже сражается на родной земле.
2
У Яна с собой трофейный «оппель», так что нет нужды заботиться о транспорте, и они через час тронулись в путь.
Рассказав коротко о себе, Максим заинтересовался чехом, его судьбою. Он был офицером чехословацкой армии. В дни Мюнхена их уговорили сложить оружие. Немцы все попрали. С их приходом Яну пришлось скрываться. А началась война — он перебрался во Францию и тут влился в движение Сопротивления. Стал партизаном, участвовал в парижском восстании. В их отряде под одним знаменем сражались французы и русские, итальянцы и чехи, арабы и немцы. Да, и немцы-антифашисты, ненавидящие нацизм. Они тоже славные ребята, и их любили в отряде.
Ян был очень близок с одним из немцев, даже дружил с ним. Это старый металлист Зейферт. Он бежал из Германии и вместе с французскими патриотами сражался против гитлеровцев, сгубивших его сына в концлагере. Рудольф прислал отцу предсмертное письмо, о котором знали все партизаны. «Будь твердым, отец! — говорилось в письме. — Побори боль. Знай, я умру борцом. Запомни, за каждую слабость мы платим кровью. Война обязательно кончится, и придет наше время. А нацистские палачи погибнут еще более страшной смертью.
Будь стойким! Докажи, что ты истый сын своего класса, своей партии. Твоя жизнь должна принадлежать борьбе, движению. В минуту слабости помни этот последний завет своего сына…»
Максим задумался. Пусть бы все немцы жили этим. Тогда бы никакой войны, никакой крови.
За Лиможем верткий «оппель» спустился в зеленую долину речушки Глан, петлявшей среди кудрявых холмов. Максим не сводил глаз с живописных французских деревень, острокрышие домики которых пестрели среди ранней весенней зелени. Но за мостом он увидел вдруг необычное селение: ни дымка, ни запаха свежего хлеба, ни скрипа колеса. Мертвая тишина.
— Это Орадур! — тихо сказал Ярош, снимая фуражку.
Они вышли из машины и тихим скорбным шагом прошли вдоль домов. Менее года назад здесь стряслась страшная беда, с которой на деревню обрушилась злодейская орда эсэсовской дивизии «Рейх». Вон разрушенные с морщинистыми выбоинами от пуль дома, вон место, где расстреляны около двухсот мужчин, вон скелет церкви, где заживо сожжены сотни детей и женщин, вон тихое пустынное кладбище, где похоронены жертвы фашистского злодейства.
Внутри церкви высится серая куча, и надпись на положенной здесь дощечке гласит: «Человеческий пепел. Склонитесь над ним».
Максим вспомнил Бабий Яр, Лысую гору, шандеровскую церковь. И здесь тоже самое.
— Франция никогда не забудет Орадура! — гневно проговорил Поль. — Мы беспощадно накажем нацистских преступников, и им не уйти от суда!
Максим с силой стиснул его руку.
Милый, дорогой Поль. Разве знал он тогда, что случится потом. Дивизия «Рейх» целиком сдастся американцам, ее командир генерал Ламмердинг, которого для проформы приговорят к смерти, останется вовсе безнаказанным. Так же осудят и непосредственных участников трагедии, и французский суд приговорит их к смертной казни. Но президент Коти помилует преступников.
Сейчас же все трое с болью в сердце глядели на пепел и камни, вопиющие о мести и бессильно сжимали кулаки.
К церкви подкатила еще машина, и у паперти шумно хлопнула дверца. Приехавшими оказались американцы в форме армейских офицеров — Крис Уилби, с выхоленным лицом и холодными глазами, и Френк Монти, очень живой и подвижный, чем-то похожий на Поля Сабо, но более развязный.
Познакомившись, Френк всем восторгался и все осуждал. Уилби лишь слушал и молча глядел на пепел, собранный в кучу.
— Как ужасно и бессмысленно! — покидая церковь, сказал он сквозь зубы.
— Бедная Франция! — вдруг расчувствовался Френк.
— Нет, она не простит такого варварства, — горячо сказал Якорев. — Не простит!
Уилби цинично усмехнулся.
— Куча не велика, — процедил он снова, — и кто знает, надолго ли хватит ее французским министрам, чтобы посыпать пеплом голову.
Максима покоробило даже:
— Этого пепла надолго хватит всей Франции, и истые французы никогда не забудут Орадура.
3
После завтрака в скромном кафе легкий «оппель» Яроша долго кружил по улицам Парижа, и Максим лишь глядел и слушал. Ян и Поль наперебой старались как можно больше рассказать про свой Париж, где один из них провел всю жизнь, а другой — всю войну, сражаясь с немцами.
Ярош рассказывал про советских людей. Тут все гордились их мужеством и отвагой в борьбе за Париж, за Францию. Бежав из плена или концентрационных лагерей, они вливались в партизанские отряды и клялись не складывать оружие.
«Выполняя долг перед Советской родиной, — гласила их клятва, — я одновременно обязуюсь честно и верно служить интересам французского народа, на чьей земле я защищаю интересы своей родины. Всеми силами я буду поддерживать моих братьев-французов в борьбе против общего врага — немецких оккупантов».
Сколько их, бесчисленных героев, павших в освободительных боях.
Один из них Иван Силаев — простой русский воин, беспощадно уничтожавший тут нацистов. Погиб он в одном из селений под Парижем, спасая французских детей из подожженного немцами дома. Они схватили его вместе с детьми, вынесенными им из огня, и расстреляли на глазах у толпы.
Другой Василий Борик — отважный украинец. Он погиб незадолго до освобождения Парижа, попав в гестаповскую засаду. О подвигах партизана напоминает доска, прибитая к стене крепости Аррас, где более всего известно имя героя.
Третий Мисак Манушян — армянский поэт. Будучи во главе группы франтиреров и партизан разных национальностей, он многие месяцы бесстрашно сражался в самом сердце Парижа. Мисака тоже расстреляли гестаповцы. Его именем, ставшим тут легендарным, названа теперь одна из улиц французской столицы.
В разгар парижского восстания группа бывших советских военнопленных прорвалась через мост Альма и направилась на бульвар Сен-Жермен. На улице Гренелль русские попали под обстрел из пушек. Их ничто не остановило. Пробившись к зданию советского посольства, они взломали дверь и водрузили над входом красное знамя. А когда, выстроившись под знаменем, они запели свой гимн, им с восторгом аплодировали французы из всех окон ближайших домов.
Несколько дней спустя радостные толпы парижан устремились к ратуше, где генерал де Голль собирался приветствовать героических борцов Сопротивления, освободивших столицу. Советские партизаны, выйдя с улицы Галльера, где находился их штаб, двинулись по проспекту Елисейских полей. Партизаны несли транспарант с приветствием де Голлю, и их восторженно встречали на всех улицах. Они уже пересекли площадь Согласия и приближались к статуе Жанны д’Арк, как раздались залпы. По ним стреляли с крыш гитлеровцы и вишисты, которых один вид красного знамени поверг в ярость.
«Оппель» Яроша как раз остановился у знаменитой статуи.
— Это здесь было! — тихо сказал Ян, и все трое молча сняли головные уборы.
Сколько читал Максим про эту страну. Он с детства полюбил ее веселый и гордый, свободолюбивый народ. Сейчас же он заново постигал Францию. Известное и знакомое, о чем когда-то читал в книгах и что изучал по учебникам, сейчас осмысливалось по-новому. Ведь история не останавливается ни на день, ни на час, ни на минуту. И что такое история, как не время, чтобы созидать. А эти люди, о мужестве которых слышит Максим, созидали самое главное — мир! Недаром и чтут их за подвиг, за жизнь, отданную за мир на земле. Прошлое как бы перекликалось с настоящим, взывало к будущему. Дружите, люди, и любите мир. Это высшее счастье, ради которого стоит жить, вести борьбу, одерживать победы!
Вот и знаменитая Триумфальная арка. Ее воздвигли в честь Наполеона. Сто низких колонн, похожих на сваи, поставлены вокруг арки в память о ста днях второго владычества Бонапарта, после его самовольного возвращения с Эльбы. На высоком барельефе его триумф. На своде — имена генералов, погибших во время его походов. А на щитах — победы. Поль перечислял их одну за другой. Ни одного поражения. Даже гибельный поход на Москву и его позорный крах занесен в число побед. Так делалась история. Только над такой историей наверное смеется сама земля, на которой воздвигнута Триумфальная арка, ибо на этой самой земле, здесь же, на Елисейских полях, бивуаком стояли русские казаки, пришедшие сюда по страшному кровавому следу наполеоновской армии, разбитой Кутузовым.
Максим не спорил, Наполеон — великий полководец. Пусть его именуют «гигантом сражений». Но суровая точность истории дороже фальшивой позолоты.
Впрочем, подлинно живой Париж не кривит душой. Не слава Наполеона влечет сюда сотни тысяч людей. Нет, живые цветы своих чувств они несут не памяти завоевателя, а памяти Неизвестного солдата, над могилой которого под Триумфальной аркой горит негасимый огонь. Париж чтит простого солдата как символ борьбы за все родное, свое, французское, как напоминание о бедах войны и ее бесчисленных жертвах. Помни, француз, и твой сын, твой брат, твой отец могут быть зарыты в такую же безвестную могилу! Береги мир!
4
Ярош привез Максима к Дворцу инвалидов, где покоится прах Наполеона. Он укрыт тут за семью гробами, последний из которых представляет собою саркофаг из темно-красного порфира, привезенного сюда из далекой России по кровавому следу разгромленной армии.
В углублении, где помещен саркофаг, возле стен скорбно застыли двенадцать статуй женщин, олицетворяющих собой побежденные страны. Однако весь мир знает, их скорбь и их покорность — никчемная выдумка. Опять раззолоченная ложь!
Нет, как ее пышно ни украшай, тирания бессильна восславить даже самую высокую власть.
Ярош направил свой «оппель» в сторону Булонского леса. На каждом шагу новая и новая трагедия Франции. Изгоняя жителей из своих квартир, немцы занимали улицу за улицей. Нагло грабили, увозили горы добра, ценнейшие картины, гобелены, скульптуры, лучшие произведения искусства.
Безжалостно разрушали замечательные памятники. Машина как раз вынеслась на простор большой площади. В свое время здесь высился Виктор Гюго — знаменитый памятник Родена был гордостью Франции. Немцы переплавили статую на снаряды и расстреливали ими города Европы. Но и разрывы этих снарядов были бессильны заглушить слова писателя о том, что будущее за книгой, а не за мечом, будущее за жизнью, а не за смертью.
Немцам был страшен и бронзовый Гюго. Его голос не умолкал и теперь, в дни войны с нацистами:
«Восстаньте же!.. — призывал он своих французов. — Ни отдыха, ни покоя, ни сна! Деспотизм наступает на свободу… Организуйте грозную борьбу за родину. Защищайте Францию героически, с отчаянием, с нежностью. Будьте грозны, о, патриоты!»
Пламенные слова! Они и теперь поднимали Францию на борьбу против нацистского варварства.
Весь Париж дышит историей. Здесь сражались на баррикадах. Здесь штурмовали Бастилию. Здесь казнили короля. Здесь жил и работал Ленин.
Ярош привез Максима на кладбище Пер-Лашез, где покоится прах Бальзака, Анри Барбюса, Вайян-Кутюрье. Здесь погребены парижские коммунары.
На этой возвышенности, удобной для обороны, был их последний оплот. Сражаясь до последней капли крови, они пали тут смертью храбрых.
Ограда из серого камня похожа на крепостную стену. За нею высятся старые каштаны — свидетели трагедии коммунаров, их беспримерного мужества. У этой стены двести героев отважно бились против трех тысяч версальцев.
Германские милитаристы помогли Тьеру создать многотысячную армию, чтобы угрожать Парижу, и в борьбе за Коммуну рабочий Париж потерял тогда сто тысяч своих героических сынов. Но дух героев не был сломлен. Спустя всего неделю после кровавого побоища один из уцелевших коммунаров Эжен Потье сложил пламенный гимн, а деревообделочник Пьер Дегейтер написал к нему музыку, и как живой наказ поколениям на весь мир прозвучали слова незабываемого гимна: «Вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо!» Слова гимна, как набат, разбудили и подняли миллионы. Они и сейчас воюют против немцев, отстаивая благородное дело Коммуны.
У стены, исщербленной пулями версальцев, гитлеровцы расстреливали героев Сопротивления, и Максим долго не сводил с нее глаз. Она навечно останется школой мужества для всех, кто будет склонять свою голову перед памятью коммунаров.
Ночевал Максим у Яна Яроша, проживавшего в гостинице, на набережной Анатоля Франса в «Палаце д’Орсей». После ужина он вышел на набережную подышать свежим вечерним воздухом. На другом берегу Сены высился Лувр. Дворец великолепен. Строгий, величественный, он давно стал национальной гордостью и славой Франции. В нем собраны ценнейшие произведения искусства многих стран и народов. Приведется ли когда побывать тут, чтобы в натуре увидеть мировые шедевры живописи и скульптуры?
Максим вспомнил, что за стенами Лувра стоит статуя крылатой победы — Ники Самофракийской. У нее нет лица и рук, они отсечены и не сохранились. Максим помнит ее по гравюрам: стройная, изящная и сильная, одетая в легкий словно прозрачный хитон, вся ее фигура устремлена вперед, навстречу ветру. Как ощутима глубина человеческой мысли, человеческого достоинства, торжество победы. Какое это волнующее слово, победа! Поистине, «еще не видно ее лица, но слышен плеск ее крыл».
Вспомнилась Максиму и «Джиоконда». Когда-то ее похитил итальянский художник Перуджио и два года молился на «Монну Лизу», пока ее не разыскали и не возвратили обратно.
Максим невольно сравнивал. Нацисты посягали на большее. Они пытались похитить все сокровище мира, и не затем, чтобы молиться на них. Нет, чтобы погубить и уничтожить. Не вышло!
5
На другой день Ярош пригласил Максима в бар, чтобы взглянуть на «не воюющую Америку». Это одно из многих пристанищ, где дни и ночи гуляли офицеры тыловых штабов американских и английских войск. Почему не взглянуть! — и Максим согласился.
Но как ни готовился он увидеть сколь угодно несуразное, все его представления оказались бледной тенью действительности.
Максим и Ян с трудом разыскали свободный столик. В зале страшно накурено и душно. Шум и гам отчаянный. Крики, азартные споры, даже ругань. Страшная какофония звуков из оркестра на низкой эстраде. Костюмы певиц настолько экстравагантны, что вызывают вой и визг у всех офицеров. Молодой капитан, весь красный и сильно возбужденный, протиснулся к сцене и, схватив за руку одну из танцовщиц, потащил ее за собою. Впрочем, она хохотала и, нисколько не упираясь, шла через зал, сверкая стеклярусом очень короткой юбочки. Он усадил ее за свой стол, и вся компания, с которой он развлекался, стала шумно приставать к танцовщице. Уговаривать ее не пришлось слишком долго. Она вскочила вдруг на стул, а с него вспрыгнула на стол. Загремела разбитая посуда, и под восторженные крики пьяной оравы начался танец, весь извращенный и вызывающий.
Не успел Максим опомниться, как женщина оказалась вовсе нагой, и в таком виде продолжала танец, вызывая у присутствующих еще больший визг и вой. Максиму стало не по себе, и он совсем собрался было уйти, как к ним подсели двое. Оказывается, уже знакомые американские офицеры, с которыми они повстречались в церкви Орадура: майор Крис Уилби и лейтенант Френк Монти. Первый все также самоуверен, но сдержан, второй очень шумен и отчаянно фамильярен. Как закончился танец, Максим и Ян не видели. Они догадались об этом по шумным аплодисментам и исступленным крикам «бис!» «браво!»
Кивнув на танцовщицу, на виду у всех застегивавшую юбку из стекляруса, Крис Уилби сказал Максиму:
— Видите, купленная Европа.
— Бесстыжая Европа! — уточнил Якорев.
— И такую освобождать! — воскликнул Френк.
— Есть и другая, настоящая. Она либо в концлагере, либо, не щадя крови, с оружием в руках сражается против фашизма. Вот Европа!
Опрокинув виски, Уилби расфилософствовался. По его мнению, жизнь — не что иное, как ярмарка, где все продается и все покупается.
— А гитлеровцы?.. — в упор спросил Ярош.
— Это корсары, и их тоже покупают, чтобы нападать на конкурентов.
— Нет, их просто уничтожают, — возразил Максим.
— А по-моему, все же товар. Сегодня на него нет спросу, но кто знает, какую цену ему назначат завтра.
Максим возмутился и заспорил. Это же цинизм, философия торговцев смертью. Но Монти надоела вся политика и философия, и он, бесцеремонно перебив заспоривших, вдруг стал по сходной цене предлагать дамские подвязки, иголки, трикотаж — любой из товаров. Если угодно, можно осмотреть сейчас же. Максим и Ян расхохотались даже. Ну и ну!
Расстались американцы холодно.
Ярош был на линии фронта и видел англичан и американцев. Там они не такие, и среди них немало славных ребят, готовых крепко всыпать немцам. Максим ничему не удивлялся. Он и раньше знал, Америка богата контрастами.
Расплатившись, офицеры покинули бар.
У Яроша есть знакомый художник-портретист. Скромный труженик искусства, он не создал еще больших полотен, способных изумлять мир. Но в годы войны им написаны десятки портретов героев Сопротивления. На высоком чердаке, где размещалась его мансарда, он писал их дни и ночи. Будучи связан с подпольем, он предоставил свою мансарду в распоряжение франтиреров, которым негде было преклонить голову. Жан Ферри и укрывал их под видом натурщиков.
Сейчас их портреты он выставляет прямо на бульваре возле Версальского дворца, и тысячи парижан часами стоят у крошечных полотен, размером в тетрадный листок, с которых на них смотрят живые лица людей. Одни из них ушли на фронт добивать нацистов, другие давно погибли и зарыты в бесчисленных могилах по всей стране. Свою выставку он назвал очень просто и вместе с тем исключительно метко: «Живая честь Франции», и к каждому портрету художник сам дает пояснения.
Кто он и откуда, Жан Ферри, Ярош не знал. Сколько ни пытался Максим расспросить самого художника, тот просто отмалчивался. Зато о своих героях он может рассказывать без конца.
Что он больше всего любит? Бог мой, конечно, искусство. Нет, далеко не все. Но самое любимое — вот здесь, в альбоме. Максим с интересом перелистал диковинный альбом. В нем собраны гравюры с лучших произведений искусства всех стран. Неужели все это могло быть уничтожено? Нет, не мыслимо, не возможно. Ферри особо ценит произведения, что возбуждают в душе любовь ко всему высокому и ненависть ко всему низменному.
На первой странице его альбома гравюра с картины Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады». Женщина, обнаженная чуть не до пояса с трехцветным знаменем в правой руке и с винтовкой в левой, подняла вооруженных людей на приступ. Вся фигура полунагой женщины полна изумительного целомудрия и высокого вдохновения, готового на любую борьбу.
— Чтобы сильнее любить, я глядел на эту картину и на портреты моих партизан, а чтобы сильнее ненавидеть, я глядел вот на эту, — указал он на последнюю страницу альбома.
Максим даже вздрогнул. Перед ним была гравюра с картины Холарека «Возвращение ослепленных болгар из византийского плена». Она распаляла ненависть против любой тирании. Император Василий Второй приказал ослепить пятнадцать тысяч пленных болгар. Каждой сотне он дал в провожатые старика, которому оставил один глаз. На картине страшная сотня слепцов, которую ведет одноглазый старик. Они идут сквозь вьюгу, и над ними уже кружат черные вороны.
Максим содрогнулся, его просто затрясло. Как все это далеко и как близко. Гитлеровцы пытались ослепить весь мир. Но палаческие руки будут отсечены. Будут!
— Знаете, — сказал Жан Ферри, — за окном моей мансарды виднелась длинная улица. Ее бомбили немцы. И черные глазницы ее мертвых окон мне до сих пор напоминают выколотые глаза. Тогда казалось, они могут выколоть их всему миру, ослепить весь свет. А прогремел Сталинград — я вздохнул с облегчением. Нет, глаз миру выколоть невозможно!
6
Ставка генерала Эйзенхауэра располагалась в Реймсе[31], в замке короля шампанских вин, которыми издавна славилась здешняя земля.
Сегодня к ленчу[32] ожидался приезд английского премьера, на встречу с которым приглашены маршал авиации Теддер, генералы Бредли, Паттон, Риджуэй и другие. Оставив гостей за непринужденной беседой, главнокомандующий прошел к себе в кабинет. В ожидании высокого гостя ему хотелось просмотреть последнюю почту. Усевшись за рабочий стол, над которым висел хрустальный канделябр, Эйзенхауэр развернул папку с донесениями из армий. Вести были радужными. Как и все дни, войска союзников успешно продвигались по всему фронту, встречая очень слабое сопротивление немцев. Русский фронт, на весь мир гремевший от Альп до Балтики, поглощал последние резервы Гитлера и сковывал все его главные силы.
Просмотрев почту, Эйзенхауэр возвратился в гостиную. Черчилль приехал незадолго до ленча, и генералы шумно приветствовали высокого гостя, впервые заявившегося в форме пехотного полковника, ибо до сих пор он предпочитал авиационное обмундирование.
Сэр Уинстон грузно опустился в кресло, вынул массивный портсигар и закурил сигару, шумно восторгаясь быстрым продвижением армии, из которой он только что прибыл. Затем, не дожидаясь, пока подадут на стол, он бесцеремонно принялся за брэнди с содой.
За ленчем гостей потчевали Чесапикскими устрицами. Говорили о войне, о технике, о политике. Черчиллю казалось, что нация, разбитая в этой войне, получит серьезные преимущества в будущем: она раньше других создаст новые виды вооружения. Английского премьера поддержал Теддер, восхвалявший беспилотную авиацию будущего. Поморщившись при упоминании немецких фау-снарядов, Черчилль утверждал, однако, что со временем Англия станет огромной базукой, нацеленной на Европу. Кто посмеет тогда начать войну. Эйзенхауэр усмехнулся. Британские острова ему представились вдруг самой уязвимой мишенью, и уж если кому господствовать в мире, так не Англии, а Соединенным Штатам. Большевиков история отбросит на десятилетия назад, и им не угнаться за американцами. Подлеченную же Германию, смотря по необходимости, легко превратить либо в щит, либо в меч против русских.
Генерал Брэдли заговорил о событиях в Руре и стал самодовольно перечислять трофеи. По числу пленных Рур превосходит Сталинград. Это покоробило даже Черчилля. Должное — должному! Сталинград потряс всю Германию, весь мир. Там битва — здесь тихая операция. Не желая спорить, Брэдли увлекся деталями. Риджуэй подарил ему «Мерседес-бенц», принадлежавший, по слухам, самому Моделю[33].
Не склонный восторгаться американскими успехами, сэр Уинстон начал рассказывать о немецких лагерях смерти. Чего он только не видел там! Его поразили иссохшие пленники, больные и изможденные, — живые мертвецы. Всюду трупы и трупы. Их не успевали ни закапывать, ни сжигать. Просто кости, обтянутые желтой кожей, к на ней тучами вши. Как муравейник! Вся земля там в пятнах запекшейся крови. И в воздухе удушающее зловоние.
Подавляя тошноту, Эйзенхауэр встал из-за стола. Риджуэй лишь ухмыльнулся.
— Дикость, кошмар! — возмущался главнокомандующий. — Нет, наши солдаты никогда не способны на что-либо подобное.
— Никогда! — потирая руки, машинально повторил Риджуэй.
Кто знает, мог ли он думать тогда, на какие злодеяния будут способны его солдаты на корейской земле.
Осуждая зверства немцев, Черчилль стал вдруг отстаивать право на силу во имя политических идеалов. Нет, в таком случае он не станет сидеть сложа руки, доказывал сэр Уинстон, защищая свою политику в Греции. Английские войска поддержали там монархистов против народно-освободительной армии, где, по его мнению, преобладали коммунисты. Нет, он не верит в возрождение коммунистической угрозы традициям Запада, но и не допустит их активности. Не допустит, повторил он, сравнивая себя с носорогом. Его не запугают никакой критикой, и как бы ни была утыкана стрелами его толстая шкура, острый рог его всегда направлен против врага.
Разгорячившись, он снова принялся за брэнди с содой. Старинные часы пробили шесть раз, и Черчилль заспешил в отель, где сегодня назначена пресс-конференция с журналистами, буквально заполонившими весь Реймс.
7
В холле отеля, где назначена пресс-конференция Уинстона Черчилля, собралось до двухсот журналистов, представлявших чуть не все страны мира. Максим Якорев с любопытством разглядывал «разбойников пера», какими многие из них оставались и в дни войны, извращая на страницах буржуазных газет ее смысл и характер. Впрочем, победы советских войск в какой-то мере отрезвляли даже самых ретивых, и в их корреспонденциях стало больше правды о советской жизни. Тем не менее, здесь немало деятелей буржуазной прессы, все еще отравленных духом антисоветской пропаганды. Ярош указал Максиму на очкастого журналиста с желтым сухим лицом, похожим на марсианина из бойких книжонок о путешествиях по вселенной. Опять Крис Уилби. Как выяснилось только теперь, он из американского журнала «Ридерс дайджест», который и сейчас открыто предсказывает неизбежность очень близкой войны между СССР и США. Провокационные пророчества журнала доктор Геббельс дословно перепечатывает в немецких газетах, а в листовках на английском языке распространяет их среди солдат-англосаксов по всему фронту.
Марсианин особо заинтересовал Якорева. Значит, и «Ридерс дайджест»! Вот он, один из рупоров черных сил, что тормозили второй фронт, стремясь подорвать и русских, как выражались они, и немцев. Поглядеть бы на этих марсиан с автоматом в руках в окопах Сталинграда или в дни штурма Будапешта, — они, как черт от ладана, бежали б от всякой войны. А пусть бы на воздух их небоскребы, их фабрики и заводы, пусть бы на крест их жен и детей, — как бы заговорили они о войне и мире? Огонь и кровь — жестокие наставники и судьи.
В ожидании Черчилля холл гудел от споров и сенсаций. Одни утверждали, русские выдохлись, и им не под силу новые удары. Другие доказывали, мир не раз еще будет изумлен подвигом русских. Страсти разгорались. Всех интересовало, кто же все-таки раньше окажется в Берлине. Американцам казалось, пальма первенства будет принадлежать им. Французы больше полагались на русских, а англичане на своего Монтгомери. Марсианин с пеной у рта доказывал, что Гитлер не сдаст Берлина русским. Ярош горячо заспорил. Русские не посчитаются ни с желаниями Гитлера, ни с кем другим. Они сами возьмут Берлин. Марсианин утверждал, русских нельзя было пускать в Европу. Черные тучи коммунизма сейчас опаснее всего. Это гром и молнии над головами буржуа, без которых якобы немыслим никакой мир. Ярош горячо доказывал, русские тучи — это спасение. Пусть льет живительный дождь, пробуждающий все живое.
Марсианин опять заспорил. Ему тягостно думать о массах. Это стихия, страшная сила. Узда и кнут — вот панацея от всех бед. В мире нужен один хозяин. Тогда не станет войн — воевать будет не с кем. Ярош запротестовал. У римских рабов был свой хозяин. Были узда и кнут. Но был и Спартак. Человечество никогда не примирится ни с каким рабством. Нет, люди сами должны управлять собою. А кто лучше коммунистов знает, как! Вот его друг Максим Якорев. Он только что с советского фронта. Он гремит от Альп до Балтики, и сейчас нет сил, что сдержали бы русских. Они пришли в Европу не затем, чтобы искать себе нового хозяина. Не затем!
Максима и Яроша плотным кольцом окружила большая группа французских и американских журналистов. Максим весь напружинился и насторожился. Ему хотелось быть во всем точным и правдивым, чтоб его поняли правильно. Но как найти самые верные и убедительные примеры? Ведь начни перечислять — им конца не будет. Он рассказывал о битве за Днепр, за Карпаты, за Будапешт. Немцы всюду ожесточены, упорны, и все же их бьют и бьют на каждом фронте. Советское наступление стремительно и неудержимо. Он приводил факты, примеры.
Марсианин спросил, а что движет русскими в их борьбе с нацистами, каковы их главные помыслы.
Якорев ответил, не задумываясь. Они думают не о себе, о победе.
Скептически скривив губы, Марсианин спросил все же, не сможет ли советский офицер привести самый сильный пример из фронтовой жизни.
Максим мог бы рассказать про Гастелло, про Матросова, про Зою и про тысячи других. Но ему нужен всего один случай, один подвиг. Что же выбрать все-таки? Но Марсианин сам уточнил что. Пусть будет рассказано о том, что виделось своими глазами. Виденное и описанное другими всегда преувеличено.
Можно и про все виденное своими глазами. Он видел столько, что не перечислишь ни в какой книге. Максим знал, как изумил всех Сталинград. Не лучше ли и пример взять из битвы за легендарный город? Но о ком же все-таки рассказать? Ну, конечно же про Михаила Паникак. Они воевали бок о бок, хорошо знали друг друга, не раз плечом к плечу ходили в атаки. Рассказал Максим сжато, ярко, убедительно. Его друг один на один бросился на танк, чтобы поджечь его бутылкой с зажигательной смесью. Но пуля задела стекло, и горячая смесь, вспыхнув, с головы до ног облила моряка огнем. Заживо горящий матрос не упал, не стал кататься по земле, сбивая с себя пламя, он на себе понес его прямо на вражеский танк, бросился на него и сгорел вместе с машиной.
Вот так же бесстрашно воюют все.
Видел ли Максим самого Паулюса? Да, видел, как из подвала сталинградского универмага выполз и их фельдмаршал. Низко надвинув каску, он выбрался из закопченной норы и, сорвав с себя кортик, положил его к ногам советских воинов. Что оставалось фельдмаршалу? Те, кто упорствовал, те зарыты в бесчисленных могилах и уже никогда не станут воевать ни против русских, ни против французов с американцами. Оттого союзным армиям и легче продвигаться по германской земле, что слишком многие немцы остались в могилах на всем пути от Волги до Одера.
Сбитый с толку, Марсианин пребольно прикусил губу. Он приготовился уже к новому вопросу, но часы пробили шесть тридцать, и в точно назначенное время заявился Черчилль. Он поднялся на небольшое возвышение, напоминавшее амвон перед «царскими вратами» православных храмов, и, вскинув правую руку, привычно приветствовал собравшихся, перед многими из которых он, видимо, выступал неоднократно.
Максим так и впился в него глазами. Подумать только, живой, всамделишный Черчилль. Злокозненный бес английских империалистов. Человек, ничего не жалевший, чтобы задушить молодую советскую республику. Тонкий политикан, всю жизнь хваставший тем, что это он, старый империалистический волк в министерском фраке, организовал «нашествие четырнадцати государств», чтобы покончить с коммунистической Россией. Он же, все он вместе с другими подталкивал Гитлера на войну с Востоком, а получил войну на Западе. Сам Черчилль, вынужденный пойти на поклон к Москве, чтобы остепенить бесноватого фюрера, справиться с которым оказалась бессильной вся Европа и Америка.
Москва, Советская страна, и никто другой не смог остановить фашистские полчища, разбить их, загнать зверя в логово, чтобы прикончить там раз и навсегда. Москва, с которой он враждовал всю жизнь! Как зло посмеялась история над гордой царицей морей, над кичливой Британией, вернее, над магом ее обанкротившейся политики.
Толстый, неуклюжий, с огромной головой и широким оплывшим лицом, он походил сейчас на мирного бегемота. Монотонно зачитал заявление, в котором перечислялись уже известные события на фронтах великой войны. Черчилль обещал скорую победу, заверял о верности союзническому долгу и, конечно, умалчивал о своих распоряжениях бережно собирать немецкое оружие и держать его наготове, на случай, если приведется снова возвратить его немцам для борьбы с русскими.
Нет, сейчас он выглядел каким-то обкатанным, гладким, лояльным, и Максим удивлялся. «Смотри, и Черчилли меняются».
Наконец посыпались вопросы.
Французские журналисты спрашивали, зачем он навез в Грецию монархистов и почему он душит там героев Сопротивления. Марсианин все выспрашивал, что предпримут Черчилль и Эйзенхауэр, если русские двинут свои силы в Европу, уже занятую англосаксами. Правда ли, что неизбежно столкновение с русскими? Успеет ли Эйзенхауэр первым попасть в Берлин? Как силен дух Ялты? В самом ли деле будет покончено с германским милитаризмом? Тогда какими гирями его заменят на весах большой политики?
Черчилль отвечал кратко, немало юлил, изворачивался. Ратовал за демократию, еще клялся в верности Ялте, обещал скорую победу. Он не мог не признать, что главные силы и решающие сражения — на восточном фронте, но явно переоценивал и результаты борьбы на западе. Прошлое, по его мнению, уже уходит в историю, настоящее завтра же станет прошлым, и всю цену сейчас имеет лишь будущее. Союзы нелегко создаются и гораздо легче расторгаются. Нет, он не пророчит ссоры с русскими. Он просто хочет провидеть будущее, прояснить его контуры, ибо что такое союз, как не средство борьбы за свои интересы, которые совпадают с общей выгодой.
Максим слушал и удивлялся. Что за дипломатический туман? Чего хочет, чего добивается старый империалистический волк?
На вопрос Марсианина о трофеях, о судьбе выбитого из рук врага оружия Черчилль отвечал уклончиво. Сейчас все быстро теряет цену и все столь важно, что трудно игнорировать сущее. Однако в будущей войне ничто из этого оружия уже не пригодится. Когда возможна будущая война? Все в руках провидения. Об этом не скажет никакой оракул.
Максиму стало не по себе. Еще не кончена идущая война — они гадают о новой. Бред это или злоумышление? И против кого будет та война, о которой намекает сейчас английский премьер? Выходит, Черчилль остается Черчиллем. А что будет завтра? После победы? Не придется ли сэру Уинстону искать мира там, где всю жизнь он искал войну?
На пути в Реймс Максим с Ярошем попали в один из лагерей военнопленных, которых немцы не успели вывезти. Построив узников на плацу у лагеря, американский офицер вдруг приказал им опуститься на колени. Но советские воины запротестовали столь решительно, что американец заколебался. «Я же думал, им тяжко стоять, и хотел облегчить их положение», — объяснил он свой приказ и разрешил просто сесть всем, кто хочет. Максим возмутился. Как возможна такая циничность! Он вплотную приблизился к американскому офицеру и гневно осудил его поступок. «Советские люди ни перед кем не станут на колени!» — сказал он, сжимая кулаки.
Слушая Черчилля, Якорев невольно вспомнил этот случай. Да уж не хотят ли они весь мир поставить на колени? Не ради же этого столько выстрадано и столько пролито крови. Нет и нет! Никакой черный талант не поможет Черчиллю обмануть людей, переживших эту войну. Они слишком много видели и слишком многое узнали. Они прозрели, и волю народов сломить не просто.
Как выяснилось после пресс-конференции, очередной челночный полет французских самолетов несколько задерживается. Их бросили на бомбежку немецких городов с возвратом на французские аэродромы. Активность советских войск возрастала с каждым днем. Теперь уже никто не сомневался, за кем останется Берлин. А тут еще сенсация — войска союзников сошлись на Эльбе. Максим ликовал. Здесь, в чужом, незнакомом мире, он по-новому ощущал, что значит любая победа на советском фронте и как воспринимает ее капиталистическая Европа. Ее окончательное спасение шло оттуда, с востока, шло с громом советского оружия, и гром его никого не пугал тут, а радовал и восхищал. Разве лишь хозяева бизнеса, кто своими капиталами вскармливал германский фашизм, с опаской и неприязнью встречали любое напоминание о продвижении русских армий по землям Европы. Но что им делать, если ни мириться, ни воевать с этим они не в силах?
Максима осенила вдруг мысль. А что если не лететь домой, а ехать? До Эльбы не так далеко, и что теперь стоит перебраться за линию фронта. Не сегодня-завтра они уже будут среди родных советских людей.
Сказано — сделано. Они сели с Ярошем в машину и вместе с тучей корреспондентов помчались на Эльбу.
Перед отъездом они ужинали в небольшом кафе, оккупированном американскими офицерами. Прошел теплый весенний дождь, и улицы заблестели в потоках мутной воды. У входа в кафе Максим заметил вдруг молодого пьяного офицера, лицо которого ему показалось очень знакомым. Максим попробовал поднять его из небольшой лужи, в которую, потеряв равновесие, плюхнулся американец. Да это же Френк Монти, тот самый, что в парижском баре предлагал ему партию дамских подвязок. Ах, Монти, Монти! Максим поднял его, но он не в силах был устоять на ногах и снова плюхнулся в ту же лужу.
— Брось его, — рассердился Ярош, — не то сам перепачкаешься. Пусть протрезвится, тыловая крыса. Терпеть не могу пьяниц!
Максим все же вытащил американца из лужи и усадил его на скамью у низкого парапета. Монти бессвязно бормотал слова благодарности, все еще не в силах справиться с собою.
Как и в Париже, в кафе полно американцев. Пьяные и шумные офицеры, азартные споры и бесконечные тосты — все тоже. Только очень много и цивильных мужчин, тоже пьяных и тоже с женщинами.
— Разве этих спасали мы от фашистских изуверов? — глядя на разгульную публику, возмущался Ярош. — Ради них я не сделал бы и выстрела.
Нет, Максим думал иначе:
— Их мир погряз в тине, и его нужно вытаскивать из крови и грязи. Весь мир! И тех, что нам дороги, и тех, что не нужны. Должно же быть все по-другому!
— Они все равно не поймут нашего подвига.
— Придет время — поймут, — опять возразил Якорев. — Без нас они стали бы пеплом в лагерях смерти, заживо сгнили бы в фашистской неволе. Кроме нас, некому бороться, и своей борьбой, какой бы ни была она, мы и их вытаскиваем из грязи. Если ты человек, настоящий человек, ты не можешь стоять сложа руки, не можешь валяться в грязной луже, заниматься наживой. Нет, будешь бороться!
8
Вот и Эльба! Она разделяет две армии и сближает их до дружеских объятий, до заздравного тоста. Апрельский день удивительно хорош. Американские солдаты, преодолевшие океан и Ламанш, пришедшие сюда через всю Францию и Германию, очень добродушны, задорны, просты. Они настоящие друзья, и, как дети, они радуются непосредственно, от всего сердца.
После некоторых формальностей корреспондентов пустили, наконец, на русский берег. Максим по-особому переживал эту переправу — с того берега на свой. Здесь солдаты Первого Украинского фронта. Вместе с ними он сражался за Днепр, за Корсунь, за Киев. Они двинулись потом прямо на запад, а дивизия Виногорова, в которой служил Максим, повернула на юг, в Румынию. Преодолев Карпаты и пройдя через Венгрию, южную Польшу и частично Германию, она сражается сейчас где-то в Судетах, на пражском направлении.
И вот встреча!
Немецкий город Торгау на правом берегу Эльбы сильно разрушен. Кавалькаду американских генералов и офицеров, за которыми следовали корреспонденты, в Торгау встретили советские офицеры. Их лица строги и просветлены. В их глазах нескрываемое сознание своей силы, гордости. Держатся они с достоинством, как хозяева. Максиму так и хотелось спрыгнуть с машины и броситься им на шею. Сдержался он с трудом.
На берегу реки через дорогу вывешены красные полотнища с приветственными лозунгами. Высокое здание справа украшено портретами Рузвельта, Черчилля, Сталина. Фронтовые девушки-регулировщицы красивым взмахом флажков пропускают машину за машиной. В каждой из этих девушек с веселыми улыбчивыми лицами Максиму мерещилась Оля. Жива ли, здорова? Где она сейчас, милая славная подруга?
Оказывается американских гостей везли прямо в ставку маршала Конева. Он самолично встретил их у ворот строгой немецкой виллы, где размещался его штаб. Максим вспомнил, как повстречался с Коневым на корсунском поле, когда везли мертвого Штеммермана. Конев был тогда еще генералом. И вот снова встреча. Маршал вроде раздался. Могучего телосложения, с огромной лысой головой (тогда он был в летном шлеме), он выглядел сейчас празднично и хозяйственно властно, как и подобает крупному военачальнику, пришедшему сюда с мировой победой. Вместе с тем он держался просто и приветливо, как радушный хозяин, который и гостям рад, и себе знает цену.
За столом было шумно и весело. Заздравные тосты беспрестанно провозглашались с обеих сторон, тосты дружбы и привета, тосты добрых обещаний и пожеланий.
Дух дружбы был столь силен, что казалось, его никому не разрушить. Но что покажет время? Укрепится ли эта великая дружба товарищей по оружию, по страданиям, по крови, или ее разрушат те, кому старое дороже мира и человечности?
После обеда в честь гостей был дан концерт. Хор советских солдат исполнил американский национальный гимн. Они выучили текст гимна, ни слова не зная по-английски. Затем выступила балетная группа. У американцев разгорелись глаза. Девушки были очень изящны, их движения женственны, грациозны, пьянящи.
— Это балерины? — спросил Ярош, восхищенный их танцем.
— Нет, просто девушки-воины, — пояснил Максим, успевший уже познакомиться с исполнительницами.
Вечером гости прощались. Конев подарил американскому генералу Брэдли коня, рысака-красавца под седлом. Брэдли в ответ подарил свой джип.
Американцы уехали — Максим и Ярош остались. Чех доставил Максима в редакцию фронтовой газеты, а сам поехал догонять части чехословацкого корпуса, который вместе с советскими войсками стремительно продвигался по чешской земле.
Глава шестнадцатая ТЮРЬМА БЕЗ РЕШЕТКИ
1
День за днем война гремит и грохочет в горах Словакии.
Подобревшие апрельские дни стали радужнее и просторнее. Будто выше поднялось небо и шире раздвинулся горизонт. Звончее зашумели горные потоки, и только что почерневшие крутые нагорья вдруг засветились еще робкой прозеленью с первыми цветами. Синий воздух как бы загустел, и по утрам хоть пей его: так он свеж, чист и живителен. Под лучами потеплевшего солнца покраснели обветренные лица бойцов, громче зазвучали их голоса, шире и тверже сделался шаг. И с каждым днем все ощутимей дыхание весны, дыхание победы!
На пути к Моравской Остраве полк занял горное селение, возле которого был только что создан концентрационный лагерь. Заключенных привезли строить укрепления. Выскочив к лагерю, солдаты на миг застыли, пораженные открывшейся картиной. Сотни людей облепили колючий забор и повисли на проволоке, вцепившись в нее руками. Широко раскрытые глаза их выражали смесь самых противоречивых чувств: оцепенение и порыв, еще неугасший испуг и бьющую ключом радость. Секунда-другая, и мертвую тишину взрывают крики разноязычной тысячеустой толпы:
— Ура, русские!
— Вивио совет!
— Эльен демокрация!
— Салют Москва!
— Ать жие Руда Армада!
— Сенкью, русские!
— Траяска Совет!
— Родные, спасители, герои, ура!..
А когда солдаты бросились на проволоку и стали рубить ее, вся эта разноплеменная масса кинулась навстречу своим освободителям.
Пожилой исхудалый француз с совсем седой головой, схватив за руки Павло Орлая, долго не выпускал их:
— О, Совет! Сталинград! Же ву при! О, спасибо!..
— Ничего, папаша, ничего, живи себе, будь здоров. Помни только, за счастье бороться надо.
— О, да, да! — кивал тот головой в такт каждому слову солдата, хоть едва ли понимал весь смысл их. Но он уверен, русский не может, ничего не может сказать ему нехорошего и неверного, раз он дает ему самое главное и дорогое — свободу и жизнь.
Тонкий маленький итальянец никак не хотел выпустить из объятий Веру Высоцкую, которая так терпеливо слушала его скоропалительную речь. Черный как смоль грек завладел Демжаем Гареевым и уж в который раз обнимал молодого казаха.
— О, друг, большой друг!.. — твердил он по-русски, видимо, единственно известные ему слова, беспрестанно мешая их с греческими и латинскими словами: виктория, победа, салют, о, аргус!
Матвея Козаря остановил бывший польский солдат:
— Естем жолнежэм, естем жолнежэм, — повторял он, расспрашивая, можно ли ему теперь возвратиться в новую польскую армию.
Березина поймал высокий сухопарый англичанин. Он очень рад, что советский офицер понимает по-английски, и все объяснял ему свою судьбу. Он простой лондонский рабочий-металлист. Его ждут жена и две дочери. Сам он сражался в Дюнкерке. Черчилль отвел все дивизии, а три оставил на съедение немцам, чтоб была видимость борьбы за Францию.
— Мое сердце навеки с вами, — повиснув на шее у Румянцева, все твердил ему по-немецки молодой голландец. — Советский Союз — свет, люмен, солнце! Советская армия — армия геркулес.
Русские девушки окружили Голева и без конца расспрашивали, можно ли им идти домой, не надо ли каких документов. Старый уралец долго ходил от группы к группе, все высматривая свою Людку.
Березин встал на повозку и с импровизированной трибуны обратился к тысячной толпе, вызволенной из фашистской неволи. Он заговорил сначала по-русски, затем по-английски, и его слушали, затаив дыхание. Слово правды, которая так редко прорывалась за колючую проволоку, теперь звучало пламенно и открыто, обещая людям жизнь, мир, счастье, и в ответ подолгу не смолкало штормовое «ура» и без конца повторялись слова привета и благодарности: салют, эльен, вивио, ать жие, наздар, рот фронт, виват, ура!
Всю дорогу только и разговору, что об освобожденных, об их судьбе и их будущем.
— Всем тяжела неволя и всем нелегко, а вашим людям всех труднее, — говорил Березину Стефан Янчин. Его партизанские роты все еще следуют с полком и на пути в район действия чехословацкого войска на деле постигают советскую тактику современной войны.
— Почему труднее? — переспросил Григорий, шагая рядом.
Мысль Янчина не сложна. Люди из капиталистических стран не знают истинной свободы. Они и на «свободе», что в тюрьме без решетки, тогда как советские люди немало пожили по-настоящему свободно, и им труднее за решеткой. Может, и труднее, согласился Березин, однако у них крепче закалка, они сильнее духом, а раз так, они и вынесут большее, вынесут невыносимое, чего не выносит никто. Затем речь о другом — о буржуазных свободах. Их было немало в довоенной Чехословакии.
— А жизнь — тюрьма без решетки! — повторял Григорий слова Янчина.
— Да, все же тюрьма, и нам это было виднее всего, — подтверждал словацкий партизан. — Я вот не был ни в концлагере, ни в канадах и америках, я не голодал даже, меня никто не арестовывал, не бил, не пытал. Я просто жил дома, но и дом — неволя. А пришли гитлеровцы — началась война, — поверите, быстрее понял: лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе.
На привале к Янчину с Березиным подсел уралец Голев.
— Молодежь у нас не знала неволи, — заговорил он, скручивая папиросу, — а мы вот, кто постарше, досель ее помним, ей-бо, помним. Слушаю вас, — повернулся Тарас к Янчину, — будто свой вчерашний день вижу, дооктябрьский, конечно. Живешь, вроде вольный человек, а душа взаперти. Свобода, она как воздух: нет ее — задыхаешься, а есть — не замечаешь, будто так и надо. Только чувствуешь, живешь.
— Учитель у нас одни, и дорога одна — ленинская, — раздумчиво говорил Янчин. — Другим веры не будет.
2
На привал партизаны и солдаты расположились у перекрестка двух дорог, возле синего щита с помпезной рекламой. Березин подсел к Янчину.
— Видите, — указал на нее Стефан, — это Батя. Что там написано? Чепуха, бахвальство миллионера. Будто обувь его самая прочная и самая дешевая; безработному золотые горы сулит, рай на земле. Хотите знать, что такое Батя, их спросите, — кивнул Стефан в сторону своих людей, — они почти все из батиного «рая». Это ж ядовитый паук на золотой паутине. Попал в нее, хоть и золотая, а не выпустит, пока он из тебя все соки не вытянет. Живосос проклятый! — зло сплюнул Янчин.
Назойливые рекламы Бати со свастикой из перекрещенных сапог попадаются всюду, и они примелькались. Но рассказы Янчина и его партизан заставили по-новому взглянуть на одного из спасителей капитализма и лучше разглядеть весь затхлый мир «свободной» Чехословакии, яснее понять ее падение, ее трагическую судьбу.
Батя слыл новатором и почти пророком, он настойчиво проповедывал вечный мир между капиталистами и рабочими. Требуя от них рабской покорности, он сделал их вроде акционеров своих предприятий. Он имел свои газеты, своих писателей, свою заводскую тайную полицию, своих депутатов в парламенте. Обувного короля пражские буржуа почтительно именовали «чешским фордом», а его город Злин «уголком чехословацкой Америки». Впрочем, как смотреть: Злин был поистине местом зла, где воедино собраны все пороки капитализма.
— К нашему счастью, — продолжал Янчин, — нашелся у нас писатель, которому лично привелось поработать в Злине, пожить там и самому увидеть ту тюрьму без решетки. Это был Святопулк Турек. Он бежал из батиного «рая» и написал о нем книгу «Ботострой». Но утром книга вышла — вечером была изъята. Сотни полицейских охотились за книгой, собирая ее по магазинам. Двенадцать юристов выступали потом на суде, чтобы опорочить автора. Шантажируя писателя, Батя предложил ему миллион марок, чтобы он отказался от книги. Книга так и пропала б, если б не коммунист-защитник, потребовавший прочитать книгу на суде и внести ее в протокол. Я знаю эту книгу, в ней истинная правда о Бате, только среди рабочих писатель не показал настоящих борцов, а их было немало, — и командир с гордостью посмотрел на своих партизан, дескать, вот они, все оттуда!
— Был у нас рабочий один, Франтишек Буржик, — продолжал Янчин. Рабочий, как рабочий, но захотелось ему денег, богатства. А Батя в таких души не чаял, умел им разжечь душу. Премии ему, долю прибылей, и на счет все, на руки — ни-ни! Тот из кожи вон. На дом уж скопил, а деньгам не хозяин. Год проходит, другой, третий идет. Пустил Батя недоброкачественный материал — нынче брак, завтра брак. У рабочего волосы дыбом: все за его счет. Наш Франтишек ахнуть не успел, а счет опустел. Этот не повесился, как другие, не сошел с ума: он заболел и просто вылетел на улицу, а сейчас вот он — партизанит. Помните его рассказ? Но Батя хитер, и человек сорок из разбогатевших рабочих держал постоянно — другим приманка. Это считал он, как мясо, швырнул голодным собакам один единственный кусок, а приманил целую сотню. Они перегрызутся друг с другом, аж шерсть клочьями.
Янчин закурил и продолжал:
— Человек у него ничто, чем бессловеснее, тем лучше, а подымет человек голову — бац по ней, и все! «Кулак — вот сила!» — развращая рабочего и разжигая в нем зверя, говорил Батя, и прав Турек, работа у него никому не мила, кругом бич и окрик, а люди кусаются и грызутся, топят друг друга, чтоб удержаться самому. — Лишь в одном молодец, Батя, — оживился вдруг Янчин, — он по-настоящему научил нас ненавидеть капитализм. Слышали о делах «хлапцов с Батевана» о сотнях партизанских отрядов, ведь половина их командиров — с батиных предприятий. Добрая наука!..
3
К партизанам приехал чехословацкий журналист Мартин Ярош. Некоторое время ему привелось побыть при американских войсках в Европе, а сейчас он возвращался в свое войско и следовал из Москвы. Его с интересом слушали как партизаны, так и солдаты с офицерами.
— Стою на Красной площади, и душа горит, — рассказывал Ярош. — Впервые ее многобашенный Кремль вижу. А ведь там решаются теперь судьбы мира. Стою и чувствую, там и моя судьба, мой мир, мое счастье. Разве передать волнение, которое проникает в душу, хоть и знаю, уверен, там решат правильно. Московский Кремль не ошибется.
Молодой чех долго говорил о своих чувствах.
— Весь мир видит, победу делают русские, хоть американские бизнесмены прямо из кожи вон лезут, раздувая свои заслуги. Их черная душа вся обернута вот этой листовкой, — достал Ярош коричневую бумажку из сумки, протянув ее Березину. — Хотите почитать?
Григорий перевел ее с английского, и все с омерзением узнали о самой гнусной провокации. Грязная бумажонка предсказывала скорую неизбежную войну между СССР и США.
— Вас, конечно, интересует, откуда это? — поморщился журналист. — Из американского журнала «Ридерс дайджест». Да-да, от союзничков. Геббельс ее во всех немецких газетах перепечатал, а его радио разнесло статью на весь мир. Американский журнал открыто печатает такую гнусь, распространяет ее за границей, и Геббельсу не нужно лучшего помощника. Видите, какая циничность! А знаете, откуда у меня эта листовка? В марте я находился в 805 американском батальоне истребителей танков, воюющем в Западной Германии. Немцы немало удивляли янки своей уступчивостью и без боя сдавали им город за городом. А тут удивили еще больше. Смотрим, немецкие стопятимиллиметровые снаряды, не взрываясь, глухо шлепаются в грязь. Все объяснилось очень просто: они были начинены не взрывчаткой, а перепечатками статей из американского журнала. Вот этими самыми, — указал Ярош на листовку в руках Березина.
Как раз утром разведчики привели пленного немца. Среднего роста, пузан, с рыжими усиками щеточкой и осовелыми глазами из-под косматых бровей, он был в меру сер, будничен, и обычен, как и все тысячи «тотальников», ежедневно попадавших в плен. В сумке у него были обнаружены немецкие газеты вот с теми же самыми статьями из американского журнала «Ридерс дайджест», так что содержимое листовки ни для кого не явилось уже неожиданностью, но ее происхождение и способ распространения подивили немало.
— Все они одинаковы, что американские, что английские империалисты: одного поля ягода, — зло заговорил Юров. — Взять хотя бы Черчилля. Все читали в газетах, что он в Греции делает. Он же стаю бешеных волков спустил на людей, которые все годы войны с немцами бились. Для чего он монархистов понавез в Афины? Да чтоб демократов убрать с дороги, к управлению страной не допустить их. Вот и весь Черчилль как облупленный. Да чего там, — махнул он рукой, — черного кобеля не отмыть добела!
Все засмеялись.
— Только не бывать по-ихнему, дудки! — разошелся Юров. — Слышали старую шутку про незадачливых корабельщиков? — обратился он ко всем сразу. — Говорят, большущий кит похож на остров. Корабельщики пристают к нему и, вбив колья, привязывают к ним корабли. Чудовище — терпеливо, не шевелится даже. А разведут на его хребте огонь — оно тотчас вместе с обманутыми пловцами — нырк в пучину. Вот дельцы из «Ридерс дайджест» мне и напоминают тех корабельщиков. Подпалят еще раз — в пучину их, и крышка! Пусть тогда на себя пеняют!
4
Время близилось к полночи, и Андрей прилег вздремнуть. Тяжка горная война. Она безжалостно выматывает все силы души и тела. А с рассветом снова марш через горные кручи. За окном тихо, тихо. Только тишина фронтовой ночи тревожна и настороженна. Она чем-то похожа на туго натянутый барабан или струну: стоит едва прикоснуться — и все звенит, будя ночной покой. Так и сейчас — то голос часового «стой, кто идет», то дальний выстрел, то гулкий разрыв. И все же тихо.
За стеной вдруг вспыхнул звенящий тоскливый звук. Будто взял кто аккорд и сразу оборвал его. Андрей прислушался. Еще и еще. Аккорды напоминали звуки лютни, но были мягче и певучее. Они сами собой просились в душу. Опять аккорд, сильный и смелый. Затем недолгая щемящая пауза и за ней певучая мелодия неизбывной тоски и отчаяния.
Андреем сразу овладело непонятное чувство. Мысли точно остановились и перешли в тихую грусть без образов, без дум. А мелодия лилась и лилась все более волнуя душу. Почему так близка эта музыка? В чем ее властная сила?
Тихая грусть чьей-то души выливалась в печаль по-детски дискантовых струн. Когда же печаль переходила в безысходную тоску, на их жалобы еще страстнее отвечали будто сдерживаемые ропотом басы. Теперь уже звучали не только жалобы, а прорывался и гнев отчаявшихся. Затем нежная мелодия сменилась вдруг бурными и гневно протестующими аккордами. Ясно, в этой душе нет уже места кротким жалобам, и она готова к отчаянной попытке добыть себе счастье.
Что это? Судьба одинокой души, в чем-то изверившейся и теперь пробудившейся, или судьба народа, сменившего смирение на борьбу за счастье?
Андрея всегда волновал многозначный язык музыки. Он любил се чудесные дисциплинирующие ритмы, умел понимать ее страстные призывы и ценить ее умиротворяющую силу в тяжкие дни испытаний и ее вдохновляющую власть, способную порождать неиссякаемую энергию.
Едва затих последний уже грозно торжествующий аккорд, как сразу же послышался шумный всплеск аплодисментов. Ах, вон оно что, только теперь вспомнил Андрей. Партизанский концерт. В отряде Янчина есть свой самодеятельный оркестр, возглавляемый Франтишеком Буржиком. Его оркестранты уж не раз выступали в подразделениях полка, и их музыка неизменно пользовалась большим успехов. Но Андрей слышал их впервые, и, как ни устал он сейчас, ему захотелось взглянуть на партизанских музыкантов, иначе вовсе не услышишь: завтра их роты уходят в свое войско. Он встал и прошел в соседнее помещение, сплошь забитое ротой автоматчиков и разведчиками, для которых играли чехословаки. Бойцы без сутолоки освободили командиру табурет, и Андрей огляделся. На импровизированной сцене размещалась небольшая группа музыкантов. Перед каждым из них стоял легкий складной пюпитр с нотами и тускло мерцали уже догоравшие свечи.
Франтишек Буржик обернулся к слушателям и попросил их погасить свет. Зачем это? — удивился было Андрей. Ах, вон что! Они хотят исполнить «На разлучение» — знаменитую симфонию Гайдна, и дирижер коротко объяснил историю ее возникновения. Одни считают, комическая пьеса написана с целью посмеяться над строгими педантами, нетерпевшими никаких отступлений от музыкальных канонов. Другие утверждают, будто патрон композитора князь Эстергази решил уволить всех оркестрантов за исключением самого Гайдна, и последний остроумно изобразил скорбное чувство расставания с друзьями. Третьи полагают, что сиятельный меценат до изнеможения доводил музыкантов, и Гайдну захотелось «подсказать» князю, что оркестранты тоже нуждаются в отдыхе. В этих целях, как указано в партитуре, все оркестранты поочередно тушат свои свечи и вместе с инструментом исчезают со сцены, и в конце играет лишь первая скрипка, чтоб закончить финальную мелодию, постепенно сводимую на нет.
Так было задумано. Но случилось непредвиденное — музыкальная шутка переросла замысел композитора, возвысившись до пафоса драмы. Когда-то Андрей не раз читал об этом. Как же прозвучит это теперь, в канун расставания с партизанами?
Едва погас в «зале» свет, как полились чудесные звуки. В них постепенно нарастает тревога, слышится просьба, ожидание, снова беспокойство и смирение, нежная мягкая мольба. Затем врывается бурный неукротимый вихрь, и льется музыка, полная смятения и скорбного негодования. Проходит спокойное адажио, потом легкий менуэт. Похоже, симфония вышла, наконец, в привычное русло и уже течет тихо и величаво, и кажется, вот-вот начнется веселый финал. Ничего подобного. Еще стремительнее несется поток волнующих чувств. Только Андрей и не услышал в них голоса уставших или изможденных оркестрантов. Покоряющая сила музыки оказалась глубже, значительнее, она окрыляла душу, заставляя ее взмывать на недосягаемую высоту и, подрезав там крылья, вдруг бросала ее в жуткую черную пучину.
Вот умолк первый из исполнителей, и погасла его свеча. Мелодия не стала слабее, и свет вроде все такой же. Удалился второй музыкант, и смолк еще инструмент, погасла новая свечка. Исчез со сцены третий, за ним четвертый, пятый… Одна за другой гаснут свечи, замирая, стихают мелодии, и все глуше и глуше оркестр, все мрачнее на сцене.
У Андрея жутко защемило сердце, стиснуло грудь, перехватило дыхание. Что такое? Отчего и почему повлажнели вдруг глаза? Он взглянул на людей справа и слева. У них безмолвно неподвижные лица, и при свете последних свечей видно, как по щекам скатывается слеза за слезой. Какая же сила исторгла эти слезы? А оркестр уж совсем обеднел. Поднялись последние музыканты, потухли последние свечи, истаяла мелодия, и кругом щемящая темная тишина. Лишь тускло тлеет свеча дирижера, и когда он прощается с бойцами, беспомощным жестом указывая на опустевший оркестр, не раздается ни одного голоса, ни одного хлопка.
Покоренный музыкой, «зал» затих и замер. И лишь минуту спустя вспыхнули неудержимые аплодисменты, в которых нельзя не чувствовать, как велика радость и боль души от такой музыки.
Что же это? Уж не дни ли нашей жизни, вычеркиваемые неумолимым временем? Или товарищи по оружию, бессильные против жестоких законов войны и один за другим покидающие наши ряды? Или скорее осуждение любого индивидуализма, ибо жизнь — великое общее дело, и им бессмысленно не заниматься сообща? А может, и величие человеческого духа, гимн подвигу, когда и один вершит славу многих?
Что бы ни было, музыка все равно потрясает, собирая силы души на борьбу за все светлое и доброе.
5
Чуть брезжил апрельский рассвет, постепенно открывая взору богатейший край моравских земель. Все яснее и яснее вырисовывались длинные и закопченные корпуса железнодорожных депо, сотни вагонов с рудой и углем, застывших на путях, за ними окутанные дымом шахтные отвалы, черные и красные стволы заводских труб, среди которых легко терялись шпили редких костелов; шахтные вышки прямо на городских улицах, густо опутанных черными удавами труб.
Перед дивизиями — Моравска Острава, и Голев не сводил с нее глаз.
— Весь бассейн — гигантская каторга! — говорил ему Ян Бодя, проработавший здесь с четверть века. Это высокий чех с сутулой спиной, весь прокопченный угольной пылью. У него впалые глаза, впалые щеки, впалый живот, жилистые высохшие руки. Истинно с каторги.
Но вот залп за залпом следуют удары артиллерии и минометов. Огневой смерч вздымается над линиями укреплений врага, которыми он семь-восемь раз опоясал Остраву. Час за часом стоит непередаваемый грохот, и советская сталь сокрушает железные вериги на теле рабочего города. Стихнув на мгновение, огонь с новой силой вспыхивает дальше, за первыми линиями укреплений. А к тому месту, где только что полыхали разрывы тысяч снарядов, устремляются лавины танков, прикрывавших своей броней грудь пехоты. Воздух гудит моторами штурмовой авиации.
Враг жесток и упорен, и в смертном бою он отстаивал каждый шаг. Но все напрасно. Голев видит, как радостно возбуждены обветренные лица бойцов. Их шапки высоко заломлены, и обнажены мокрые лбы. Солдаты еще не отдышались от бега и беспрестанных схваток, но ощущение крупной победы снимает всякую усталость. Родина получает первомайский подарок — чешскую Моравскую Остраву, освобожденную войсками Четвертого Украинского, и Москва салютует их доблести и мужеству.
Ликует и сама рабочая Острава, восторженно приветствуя своих освободителей. Город и красен только людьми, а вид у него запущенный и унылый. Закопченные улицы зажаты меж цехами, придавлены сверху трубопроводами, от заводов отгорожены серыми заборами или каменными оградами. Правда, к чести Остравы, нет в ней крылатых мадонн и благообразных старцев, повсюду встречаемых на пути наступления, и скульптуры мужественных горняков и металлургов более к лицу рабочему городу.
Ян Бодя перезнакомил Голева со многими металлургами и вместе с ними повел уральца посмотреть заводы. Они мало, очень мало изменились за эти четверть века, пока он работал в их цехах.
— А кто готовит кадры, есть ли специалисты из рабочих?
Ответ Голеву не понравился. Острава, в которой многотысячная армия шахтеров и металлургов, не имеет, оказывается, ни серьезных курсов, ни высшей технической школы.
— Э-э… у нас не так, — покачал головой Тарас Григорьевич, — разве дело это. Помню, Магнитогорск у нас создавали. Домны кладут, и металлургический институт одновременно строят.
Вошли в доменный цех. Увидев литейный двор, Голев сказал, что на советских металлургических заводах он давно исчез. Ян Бодя удивленно взглянул на уральца из-под брезентовой шляпы. Спустились вниз, где у них работают катали. Оказывается, руду здесь подвозят еще на ручных тележках и высыпают ее в клеть. Узнав, что и профессия каталей на советских заводах тоже давно исчезла, Ян Бодя произнес успокоительно:
— Ваш опыт — наша школа, будем учиться. Придет время, и мы пойдем в мастера, а руду машины гнать будут, как и у вас. Придет время!
— Уверен, мы еще порадуемся вашим успехам, — пообещал Голев. — Найдем чему и у вас поучиться.
— Наша Острава будет хорошей сестрой Уралу, — сказал чех и засмеялся, довольный удачным сравнением. — Приезжайте к нам в Витковицы годочка через три после войны. Ничего не узнаете.
— А вы на Урал заглядывайте, желанными гостями будете.
— Кто нам помешает — обязательно приедем.
Осмотрели прокатные цехи. Они низкие, с тесно и неудобно расставленным оборудованием, нуждающимся в обновлении. И это ничуть не удивительно: цену земли в Остраве хозяева вздули до десяти тысяч крон за квадратный метр. Ян Бодя проворно прыгал через валки, лавировал меж мощных станин и охотно все объяснял и показывал. А старый уралец увлеченно рассказывал об уральских заводах, об их новейшем и совершеннейшем оборудовании, о жизни рабочих, о стахановцах-новаторах, и остравские металлурги с интересом прислушивались к словам советского мастера и мысленно прикидывали, что из этого можно вводить уже сейчас или в скором будущем.
— Теперь все ваше, свое, — говорил Голев, — ничего не выпускайте из своих рук, и дело у вас пойдет!
В городе полк задержался совсем недолго, и в тот же день, погрузившись на машины, он снова ушел в глубь гор.
Острава, говорят, — стальное сердце республики.
Что ж, пусть оно бьется спокойно!
Поздно вечером Березин слушал Москву.
К двенадцати часам ночи она подводит итог каждому боевому дню и сообщает миру, сколько сотен и тысяч чужедальних сел и деревень, местечек и городов вызволено из фашистской неволи и возвращено их истинным владельцам — народам исстрадавшейся Европы.
А сегодня особо исторический день: пал Берлин.
Вот оно, святое возмездие!
Враг низвергнут, сокрушен, уничтожен. Над Берлином гордо реет величественное Ленинское знамя! Славное знамя победы!
Березин порывисто обнял Жарова, и они с минуту простояли молча. Юров, как ребенок, бросался на шею каждому солдату и офицеру. Самохин изо всех сил хлопал в ладоши. Даже Черезов, только что возвратившийся из госпиталя, забыв про всякую ипохондрию, барабанил кулаками по столу.
— Берлин взяли, Берлин!..
Неописуемый азарт охватил весь полк, и люди безудержно радовались беспримерной победе, будто сами они штурмовали столицу Германии. Впрочем, да! Они штурмовали ее. Тысячи рек и гор, высоченных хребтов и перевалов, смертельных теснин и круч, пройденных ими, — разве это не штурм Берлина! А подвиги бойцов в снегах Карелии и борьба за Вену и Ригу! Разве оборона Москвы и Сталинграда — это не штурм Берлина! Разве каждый час героического труда в тылу — не штурм Берлина! Все штурм! Он начался с первого выстрела в первого немца, который разбойно перешел советскую границу, он продолжался все эти годы всеми советскими армиями, и его довершили сейчас воины-герои Первого Украинского и Первого Белорусского.
Берлин взят, значит скоро падение фашистской Германии! Это ясно каждому.
Глава семнадцатая КОГДА ЗАКИПАЕТ СЕРДЦЕ
1
Война шла к концу, и Сабир Азатов спешил. Не опоздать бы! А дорога была длинной и долгой. От Уфы до Москвы, потом до Киева, а оттуда через всю Украину. Пришлось пересечь часть Польши и чуть не всю Словакию. Лишь через две недели он добрался до штаба армии. Отсюда позвонил в полк, и за ним выслали подводу.
Ехать за Сабиром вызвался сам Голев. Заодно ему поручили завернуть в госпиталь и проведать Таню с Олей.
Встреча с Азатовым вышла теплой, трогательной, и они несколько минут не выпускали друг друга из объятий. Что ж, дружба у них большая и давняя. Столько пережито и столько перечувствовано.
Всю дорогу до госпиталя Тарас рассказывал про полк, про бои и походы, про всех, кто жив и кого уже нет. Сабир то радовался, улыбаясь, то тяжко вздыхал, подолгу отмалчиваясь.
Голев не сводил глаз с друга. Как постарел он за год, а ему нет и тридцати. По лицу пролегли морщины, которых не было раньше. Веки воспалены. У висков пробилась седина. Лишь черные глаза по-прежнему остры и пронзительны, в них ум и энергия, и, чего никогда не было, мучительное раздумье и усталость, ничем не прикрытая боль израненной души. Шутка ли сказать, сразу потерять сына, жену, мать. Голеву до сих пор памятен коридор смерти, через который когда-то прошел их полк. На таком же вот поле растерзаны и родные Сабира. Война застала их на Украине, когда сам Сабир еще жил в Уфе. Всю семью потерял. Да и сам в беду попал, и с год пролежал в госпитале. Тарасу не терпелось расспросить про дом, про Урал, откуда прибыл Сабир, про всю тамошнюю жизнь. Но Голев молчал. Зачем бередить раны, успеется. Пусть оглядится, пообвыкнет, тогда легче и разговаривать.
В госпитале их сразила приятная неожиданность: девушек выписывали. Им обеим давали по месячному отпуску, но ни одна из них никуда не поехала. Только в полк! А тут и еще радость — вернулся Сабир.
Возвращались радостные и возбужденные. Правда, Олю никто не ждет. Максим уехал в газету, и когда они свидятся теперь, вовсе неизвестно. Тане не терпелось, и она то и дело торопила Голева.
Низкое солнце выглядело сонным. Над гребнями дальних гор густо скапливались тяжелые глыбы синих туч, огненно золотистых по краям. А выше, словно размотанная пряжа, тянулись сизые волокна облаков. Местами они походили на паутину. Багровея, солнце постепенно словно наливалось кровью и становилось зловещим. В сердце Тани невольно прокралась тревога, и она, щурясь, все глядела и глядела на медлительно гаснувшее солнце. Если б оно всходило сейчас, поднималось, распаляясь все более и более. Но солнце угасало, и по земле метались длинные черные тени. Тане стало не по себе, и она умолкла.
В сумерки добрались до рабочего поселка, где еще вчера хозяйничали немцы. Пустая улица встретила их гнетущей тишиной. Блеснуло разбитое на дороге зеркало. Звякнула под колесом какая-то посуда, меж домами мелькнули брошенные мотоциклы, и всюду — трупы и трупы. На обочине дороги еще дымили обгорелые машины, в стороне догорал большой двухэтажный дом. Черным вихрем рвался из окон нижнего каменного этажа дым и тускло вспыхивало оранжевое пламя. Зловеще полыхало зарево впереди. А на другом конце улицы на фонарных столбах мерно покачивались трупы повешенных чехов и словаков. Всюду громоздились ящики с боеприпасами, разбитые пушки и пулеметы, грузовые машины. Видно, днем немцы контратаковали, ворвались на эти улицы и выбитые снова, оставили тут преступные следы своей кратковременной власти.
Из жителей никого.
Тягостная картина многим напоминала фронтовой украинский пейзаж. Там все было также, и горечь точила горло.
За поселком Голев зарысил, и долго ехали молча.
— Как на Корсуньщине, — тихо прошептала Таня. — Помните, Тарас Григорьевич, коридор смерти. Там еще жутче, страшнее было. Правда?
— Правда, дочка.
— Увидела вот, и опять вся душа изныла. Просто злость снедает.
— Зло копи, а душу крепи.
— Легко сказать, а в груди жжет и жжет, будто огонь проглотила.
— Нечего травить себя беспечь, — погоняя лошадь, успокаивал девушку Голев. — Болью горю не пособишь.
Азатов молчал, стиснув зубы. В самом деле, будто опять Украина, ее села и шляхи, и все в огне и дыму, в крови и смерти. Легко сказать, не трави зря. А как не трави, если все кругом, как соль на живую рану. Соль! Не только тело жжет, и душу. Хуже всякой жажды. Чем ее утолишь, нестерпимую боль?
— Что приумолк, Сабир! — пытаясь приободрить его, обернулся Голев. — Вспомни, как гомонили, смеялись, бывало. Встряхнись, дружище.
— Знаешь, Тарас Григорьевич, как увижу такое, память изводит меня часами. Поглядел на повешенных и опять своих вспомнил.
— Ты был там?
— Заезжал. Поверишь, упал на землю, нет сил подняться. Взял я щепоть земли и ношу на груди — пусть жжет, чтобы помнилось.
— То святой завет!
— Просто чудо, как пережила все Ганка.
— Ты что, разве нашел ее? — так и встрепенулся Голев. — Жива, значит?
— Нашел, выжила. Не знаю только, на счастье свое или на горе выжила. Может, лучше и не находить бы.
— Что, что с нею? — чуть не вскрикнули девушки.
— С ума сошла, и бродила от деревни к деревне. «Не видели, спрашивает, Николку, его до танку прицепили?..» А потом мчится вдруг с криком: «Сынку мий, ридный!..»
Помолчав с минуту, он продолжил:
— С полгода лечили, ничего не помогло. Вырвется и бежит с криком: «Сынку, сынку мий!» Доктор и говорит, возьмите ее домой, лучше успокоится. А будет ребенок, глядишь, и пройдет у нее. Весь отпуск я провел с нею. То ничего вроде, а то снова трясет ее, и страшно бормочет: «Красный снег, видишь, красный снег!..» Сынишку танками разорвали, вот и не может забыть крови на снегу. Да что она, у меня у самого хоть и обмозолено сердце, а болит и болит. Тоже ни за что не забуду и ни за что не прощу. Дай доберусь до них только!
Некоторое время ехали молча.
— Помню, ты сам приводил мне башкирскую пословицу. Неужели забыл? — тихо сказал Голев.
— Это какую?
— Когда гнев твой подобен лихо скачущему коню, да будет ум поводьями.
— Пусть приводил, пословица мудрая, а жизнь мудрее. И жить — не значит прощать, и наказывать!
— Но как, как!
— Огнем и смертью, Тарас Григорьевич.
— Не то говоришь, Сабир.
— Поживем — увидим.
— Нет, сынок, не то…
— Что ж, да будет впереди надежда! — говорили башкирские аксакалы. — А надежда у меня одна — скорей бы добраться до их чертова логова. Не гляди на меня такими глазами, Тарас Григорьевич, прошу не гляди. У меня все под замком, за исключением ненависти, и она не хочет понимать ничего, кроме ненависти.
— Правду говорят, тих, да лих! — обронил Голев, хлестнув лошадь кнутом.
Показались полковые тылы, и все четверо умолкли, возбужденные и настороженные.
2
…К полночи город очищен, и бои уже за окраиной. Вдруг контратака. Немецкие танки снова врываются в словацкий город, крушат заборы и стены домов, расстреливая их в упор из тяжелых орудий. За танками начинает хозяйничать и вражеская пехота.
Леон Самохин засел с разведчиками в большом кирпичном доме. Стальная махина загремела по мостовой под самыми окнами.
— Тише! — обмолвился Бедовой. — Проскочит мимо и не заметит.
Не сдерживаясь, Леон ударил кулаком по подоконнику:
— В отсидки играть! Марш с гранатой на улицу!
— Я ж выждать хотел, чтобы в зад ему… — оправдывался Ярослав, на ходу выхватывая из-за пояса противотанковую. Но прежде, чем успел он выскочить на улицу, Леон распахнул окно и что есть силы бросил свою гранату на башню танка. Граната разорвалась около машины на мостовой. В другие окна тоже летели гранаты, но танк успел проскочить мимо. Он чуть дальше остановился, развернув башню и задрав ее хобот для выстрела по второму этажу, откуда сыпались гранаты.
Ярослав на четвереньках полз по мостовой к танку.
— Быстрее, быстрее! — торопили его из окон.
— Мигом в угол! — скомандовал Леон, увлекая за собой разведчиков. Выстрел, и снаряд разорвался в одной из срединных комнат. Пыль и дым проникли всюду, заставляя чихать.
— Быстрее! — кричали из окон, а уж в комнатах еще разрыв.
Леону видно, как Бедового кто-то догонял, низко пригнувшись. Кто же это? А… Зубец! Приблизившись к танку шагов на тридцать, они оба разом привстали с мостовой и метнули гранаты. Оглушительный взрыв, и стальная махина, подпрыгнув на месте, застыла в оцепенении.
— За мной! — крикнул Леон. — Вперед!
Стреляя на ходу, бойцы рассеяли немецкий взвод, пробившийся к площади, нарвались на второй и начали с ним долгую перестрелку, потом атаковали. Роты Самохина с боями пробивались вдоль параллельных улиц. На ближней площади еще два танка. С одного из них метким выстрелом в упор Руднев сорвал башню. Но другая машина за углом, и ее не достать. Решили гранатами. Но пока подобрались, смотрят, на ней свой же боец, и изо всех сил стучит прикладом в крышку, угрожая подорвать танк.
— Зубец! — узнал Леон. — Ах, леший, непослушный!
Но Зубец ничего не слышал. Он колотил и колотил в закрытый люк и что-то зло кричал там. Танк было рванулся и понесся на разведчиков. Эх, бить бы сейчас и бить!
— Прыгай, поганец! — свирепел Леон, боясь упустить такую цель. А Зубец еще неистовей стучит в люк, и, к удивлению разведчиков, танк вдруг остановился, люк его приоткрылся, и оттуда высунулась голова, плечи, фигура по пояс, которая тянула вверх руки.
— Ура, Зубец! Ура! — закричали разведчики, облепив машину.
Ликующий Зубец так и не слез с танка.
— Прыгай, противный! — засмеялся Леон, — дай хоть обниму тебя.
Зубец с размаху бросился ему на шею.
— Садись, Сеник, вспомним Украину, — позвал разведчика Михась. — Хоть ночку, а повоюем танкистами.
Зубец с Бедовым быстро юркнули вниз через открытый люк, и пока они опробовали механизмы, Михась перечеркнул мелом черные кресты на броне и с одной стороны вывел белую пятиконечную звезду.
— Чтоб свои не ахнули, — пояснил он, забираясь в люк.
Через минуту мотор послушно заурчал и потащил танк туда, куда хотели разведчики… Они еще с час носились по городу, расстреливая гитлеровцев, едва ли подозревавших, что за люди укрыты за бронею их «пантеры». Один из танков они срезали выстрелом в упор, на другом сорвали гусеницу.
Лишь перед рассветом город очищен полностью.
3
Сквозь темь трое офицеров шли по улице, на которой уже ни выстрела. Жаров с Юровым молча и сосредоточенно, Леон — оживленно разговаривая и размахивая руками.
— Зубца и Бедового, — сказал он, — прошу обязательно к ордену представить, да и весь экипаж, что воевал на немецком танке: они все герои!
— Вот сам сегодня и оформи на них наградные листы, — ответил Юров, — штаб не задержит.
— Эх, и бой! — радовался Леон, — людям удержу нет, а ведь все знают, последние дни воюем…
— У каждого сердце кипит, — бросил Юров.
— Вот никак не представляю, как она кончится, эта война, — опять заговорил Леон, — знаю, чувствую, вот-вот кончится, а где, как? Не могу представить.
— Где и как ни кончится, — безапелляционно заявил Марк, — а кончится не сегодня-завтра. По всему видно, последние удары. Это точно. А как обидно быть последней жертвой!
— А разве первой приятно? — усмехнулся Юров.
— Но кто-то должен быть последним!
— Что ж, в отставку? — и Марк шутливо толкнул Леона в бок.
— Ну, нет. До конца в общем строю. Никаких чертей! Добью последнего гитлеровца, который не подымет рук. Ведь будут последние!
Брезжил слабый рассвет, и медленно таял предутренний сумрак. Из проулка внезапно выбежали трое и, поравнявшись с офицерами, оторопело застыли на месте.
— Немцы! — первым воскликнул Леон, схватывая одного из них за плечи, но тот молниеносно вскинул руку и выстрелил в упор.
Второго выстрела гитлеровец не успел сделать: Юров рукоятью своего пистолета с маху оглушил его по голове, и тот упал рядом с Самохиным. Двое других метнулись было в сторону, но они не сделали и трех шагов, как их срезали короткой очередью. Из переулка еще выбежала группа гитлеровцев, видно, скрывавшихся где-то поблизости и пытавшихся теперь пробиться к своим. Ординарец Жарова полоснул из автомата вдоль тротуара, и автоматчики, сопровождавшие офицеров, бросились в преследование, расстреливая гитлеровцев на бегу.
Жаров и Юров поспешно склонились над раненым.
— Леон, Леон, куда? — осторожно ощупывал его Андрей.
— Убил проклятый… — едва слышно вымолвил Самохин и бессильно замер. Положив его на плащ-палатку, понесли на КП, куда уже вызван Семен Семеныч. Леон не произносил ни слова. Его уложили на кровати, которую быстро расправила молодая чешка. Распоров гимнастерку, Юров взял чистый бинт и прижал к ранке у самого сердца. Весь бинт в крови, и она сочилась, стекая по телу тонкими струйками.
Семен Семеныч вбежал, запыхавшись. Окинув раненого мгновенным взглядом, он одной рукой взялся за пульс, другую положил на лоб, приказал вызвать автомашину и, сделав укол, стал искусно накладывать повязку.
Леон открыл глаза. Как мертвенно бледно его лицо. Как мутны и влажны обычно ясные глаза. Он обвел всех взглядом и никого не узнал. Но вот в глазах мелькнул проблеск сознания, и он тихо зашевелил губами. Губы шевелятся, а звука нет. Потом он все же собрался с силами:
— Немножко не дожил… чуть-чуть… Лежу вот и будто слышу московский салют… гремит он в честь нашей победы… Прощайте, друзья… Убил проклятый… я же хотел его живым взять… не жалейте их, пока рук не поднимут… не жалейте!..
Он взял Юрова за руку и так же тихо добавил:
— В тот день… выстрели за меня в воздух… пусть это будет и моим салютом… выстрели…
У Юрова дрогнул подбородок.
— Ты и сам еще выстрелишь.
— Нет уж… отходил по земле Леон Самохин… Отходил, товарищи… Чую, отвоевался… Братишка у меня дома… славный мальчонка… с сестрой живет… Им вот тяжело будет… Напишите, просил, мол, не убиваться… жить велел хорошо…
Хлопнула дверь, и на пороге показалась Таня. Они только что подъехали с Голевым, и ей сразу сказали о случившемся. Она влетела бледная, убитая горем. Солдаты и офицеры молча расступились. Таня бросилась к кровати, на которой лежал Леон, и, беззвучно рыдая, припала к его плечу.
Потрясенный ее появлением, Леон на миг забыл про все на свете. Таня! Его охватило пьянящее счастье. Во всем теле появилась необыкновенная легкость, и через него как бы прошел живой горячий ток. Какое счастье, что она застала его в живых. Еще в живых! Ведь он же умирает, и мысль эта сразу обдала его холодом, вернув к тяжкой действительности. Собрав последние силы, он ласково поерошил ее пышные короткие волосы, осторожно прижал ее голову к своему плечу.
— Любимая, хорошая моя! Какая ты красивая!
Но силы его слабели, и Леон умолк. Мысли, желания как бы истаивали. Усилился озноб. Неужели конец? Неужели так чудовищно несправедлива жизнь? Нет же, не может быть! В отчаянии он схватил руку Жарова, которую тот положил ему на лоб, и сжал ее с такой силой, какую уже трудно и предположить в ослабевшем теле офицера.
— Вот как жить хочу!.. Помните, товарищ полковник, расстрелять грозились… тогда ничуть не страшно было, — а теперь… не хочу умирать… не хочу!.. — чуть не вскрикнул он, снова сжимая руку. — И не умру!.. Смерти назло не умру!.. Отступает же она, когда человек так сильно жить хочет… отступает же, товарищи!..
Но смерть не отступила.
Жестокая неумолимая смерть, на этот раз победила она!
4
Высокий постамент весь в красном с черным крепом.
Как живой, в гробу Леон. Только черты лица чуть обострились… Только спал румянец с его щек… Только закрыты ясные глаза, и ни слова не может он вымолвить…
Жаров с Березиным у изголовья в почетном карауле. Против них Юров с Румянцевым. По-разному умирает человек. Их много пало в этом бою, и все они герои. Но Леон, без преувеличения, герой из героев. Отважнее всех бился он ночью в городе. «Геройским командиром» звали его в полку. С ним свыклись как с общею славой. И мимо бесконечной чередой идут солдаты и офицеры, за ними жители освобожденного города. Идут дети, оставляя венки и цветы, идут юноши и девушки с влажными глазами, идут зрелые люди, склоняя головы перед героями. Вот молоденькая чешка с венком на голове из живых цветов снимает его и оставляет на груди офицера. На ресницах у нее слезы, и чувствуется, как при дыхании высоко вздымается девичья грудь. Вот юноша, приостановившись у гроба, всматривается в черты незнакомого, но — это видно по глазам — родного ему человека. Вот старушка, без конца вытирающая глаза платком… Сколько их, трогательно взволнованных людей!..
Виногоров прислал дивизионный оркестр. Звуки реквиема плывут над улицей. Черным зевом зияют могилы за оградой у городской церкви. И на черной земле красные гробы.
— Прощайте, товарищи, прощайте, боевые друзья! — скорбно говорил Березин. — Вы честно прошли свой путь благородный. И на алтарь победы вы отдали все, что могли, — свою прекрасную жизнь. Вечная слава вам и память! Вечная любовь наша и дружеское спасибо!
Храни их, древняя славянская земля! Они несли тебе радость освобождения. Помните их, граждане отныне свободного города! Они хотели вам мира и счастья! Помните и берегите их бесценные могилы!..
Салют! И спазмы сжимают сердце…
А вечером пришла почта. Никто еще не читал его, не вскрывал, а все, сраженные волнением, молча смотрели на конверт с детским почерком.
— Чье это? — слышался полугромкий шепот Голева.
— Леону… Сашок прислал, — еле слышно произнес Зубец.
«…Братка, родной мой! Ну, где ты теперь, где? Может, уж за Берлином, али еще где! Намекни хоть словечком, и я буду ставить красные флажки на карту. Я и так ставлю их на все города, которые вы освободили. Не успеваю даже флажки готовить. А то буду ставить другие, только для тебя, братка, хороший мой. А мы собираем деньги на другой танк. На один уже насобирали и отправили его к вам, „Пионером“ назвали. А второй хотим назвать „Победой“. Только успеем ли? Вон как вы воюете, за вами не угонишься.
Братка, а Зина все плачет и плачет, увидит меня, перестанет, улыбнется. А достанет твои письма — плачет и только. Ты уж напиши ей повеселее. Я говорю, победа скоро, братка придет, чего ж теперь плакать. Она обнимает только, знаю, скажет, знаю, Сашок, от радости плачу.
Братка, во сне тебя видел. Пришел, обнял и ружье мне привез. Говоришь, будем на охоту ходить. А война уж кончилась, нет уж затемнения. Салют… Салют… а проснулся — это ребята в окно барабанят… Спешим еще на танк деньги собирать. Увидишь танк „Пионер“ — знай, это мы построили, напиши тогда, как воевал он.
До свиданья, братка, хороший мой, как жду я тебя, жду! Жду! Жду!!! Ну, ехай же скорее! Ехай! Целую тысячу раз и больше!!! Твой Сашок».
5
Такого не было ни разу: всю дивизию вывели в резерв. Кто-то даже пустил слух, будто командарм сказал, хватит, повоевали без отдыху, пусть другие войну кончают! И хоть все понимали, шутка это, было обидно: хотелось в общем строю добить врага, вместе со всеми придти ко дню победы. Однако треволнения напрасны: «отдыхающих» войск не было до последнего дня войны.
Наутро прибыли автобаты, и всю дивизию посадили на машины. Ее перебрасывают с левого фланга фронта на правый, вплотную к Первому Украинскому. Удивительный марш-маневр. На рассвете полки завтракают в Чехословакии, в полдень обедают в Польше, а чуть темнеет, и они ужинают в Германии.
По пути дважды пересекли Одер, который там, дальше внизу, еще совсем недавно был труднейшим из водных рубежей на берлинском направлении. А здесь в верховьях — это совсем небольшая речушка, которую, вероятно, всюду можно перейти вброд.
— Вот те и Одер! — удивился Зубец. — А я-то думал — река! Речушка просто! — и пренебрежительно сморщил лицо.
— А ты посмотри на карту, где течет-то она, — урезонивал его Голев. — Вон сколько вымахано. Вспомни-ка, в ней ведь еще Суворов коней поил. Вот-те и речушка! А вспомни, как сюда от Москвы да от Волги шагал. Вот-те и совсем большая! А?
— Ну, если так посмотреть, исторически, — осмотрелся Зубец, — тогда, действительно, река!
Все засмеялись.
— А раз из нее Александр Васильевич пил, так и я попью, и он живо соскочил с машины, остановившейся у реки.
— Да он не пил, а коней поил, — смеялись разведчики.
— Ну, тогда хоть умоюсь.
Вот полк за Одером, в Германии. А бойцы все сожалели, что и не доведется им повоевать на ее территории, посмотреть на ее города и селения, породившие мародеров и разбойников, развратившие душу своего солдата, так что его невзвидел весь свет.
Так вот она, Германия!
Машина еще с час мчалась через множество ее «бургов», «дорфов» и «штадтов». Черепица стрельчатых крыш, серые громады кирх над ними, дома со спущенными жалюзи на окнах и белые флаги, покорно и подобострастно приспущенные перед победителями, — все это никого не радовало. Однообразно геометрически унылый пейзаж лоскутных полей навевал скуку и тоску по родным просторам. Все тут чужое, неласковое…
Миновав маленькое озеро с серым старинным замком на дальнем берегу, где может века хозяйничали «рыцари», ходившие отсюда разбойничать на славянские земли, автоколонна полка втягивалась в открытое ущелье черепицы и камня, которое дорожные указатели именуют улицей Фридрихштрассе, так же, как и все другие, покорно склонившей белые флаги.
После ужина полк сменил части дивизии, подвинувшейся влево, и начал подготовку к утреннему наступлению. За маленькой безымянной речушкой перед ним лежала та же Германия, какую все видели и видят теперь повсюду вокруг. Вот оно, логово фашистского зверя, которое надо разрушить. Но как, думал Голев, всматриваясь в чужую землю, как? Поджечь вот эти дома? Разрушить вон те заводы? Перебить жителей сел и деревень, что виднеются за речушкой? Или, может, спалить вон тот большой город, который виднеется дальше? Он все может, Голев, у которого они угнали к себе в рабство его дочь. И Орлай тоже, у которого они убили отца. И Сабир, у которого сгубили всех родных и близких, четвертуя их римским и тевтонским способом! Они все могут! У них сила, за ними право возмездия. Так что же жечь, уничтожать, убивать! Нет, нет и нет! Тысячу раз нет! Эти мысли претили солдатской душе, честной и справедливой, нетерпимой ни к какому насилию и разбою!
Нет, он пойдет, Голев, они все пойдут, и Орлай, и Азатов, и все тысячи других, пострадавших, разоренных, пойдут по этим землям, уничтожая всякого, кто не сложит оружия. А остальные? Разве не виновны они? Нет, и они виновны во многом. Пусть их судит история. А он советский солдат, он принес сюда святое возмездие. Он разрушит это разбойничье государство. Он покарает его строителей и уничтожит разбойничью фашистскую партию, обманувшую и свой народ. Он сотрет с лица земли этот разбойничий правопорядок. Он скажет народу: живи, трудись, учись на ошибках и не вверяй власти разбойникам и извергам. Власть — большая сила, и она лишь тогда справедлива, если в руках народа. Бери ее. Живи мирно, не зарись на чужое. Будет так — вот тебе рука дружбы и помощи. Нет — пеняй на себя: взявшийся за меч, от меча и погибнет.
6
Вот он, до жути ненавистный дом, о котором дни и ночи помнил Сабир. Тогда он не знал адреса. Адрес ему прислали потом. Но знал он, есть в Германии этот дом, где вырос и откуда ушел на войну Вилли Мердер, убийца-садист.
После ранения за Днепром Азатов долго пролежал в госпитале. Голев и прислал ему сюда письма и фото Вилли Мердера, что разбойничал на Лысой горе в Бердичеве и в селе, где погибли родные Сабира.
На одном из фотоснимков длинный ряд кольев с человечьими головами. Их отрубили и насадили на эти колья. С одной из голов он подолгу не сводил взгляда. Открытые глаза его матери гневно смотрят на палачей-истязателей. На другом снимке кресты и кресты вдоль дороги с распятыми на них людьми. На следующем — беспомощный мальчонка на земле, за ножонки привязанный к двум танкам, и женщина, тут же, распластанная на снегу, с глазами, безумными от ужаса и бессилия спасти ребенка. Это его Маринка, жена и сын, растерзанные палачами-садистами.
Вот они, их римские и тевтонские казни!
Еще неоправившийся от ран, он безмолвно глядел и глядел на эти снимки, страшные документы чудовищных злодеяний, глядел и не стыдился слез, катившихся по щекам.
Эти фото мучили его, они терзали, они будили гнев и месть. Он был весь изранен, едва жив, он долго находился между жизнью и смертью, пока не победила жизнь. Нет, он должен был выжить, должен!
И все же ему почти с год пришлось пролежать в госпитале. Потом трудно было разыскать свой полк, еще труднее попасть туда. Он преодолел все. Шел май сорок пятого года, и дыхание весны, дыхание близкой победы окрыляло Сабира. Полк в Германии — значит, близко возмездие.
В полку его знали, ценили, помнили. Но как многое здесь изменилось. Из двух тысяч людей, с которыми он воевал под Корсунем, осталась едва сотня. Остальные погибли или выбыли ранеными, и их заменили другие. Тяжки рубежи войны. Вон какой ценой уплачено за путь от Днепра до Одера. Страшной ценой.
Азатов подолгу сидел с Голевым, слушая его рассказы, а в конце каждого дня все глядел и глядел на карту, вычерчивая по ней путь полка. Петлистая линия, по которой с боями продвигался полк, все ближе тянулась к темному кружку, обведенному красным. Это город Вилли Мердера. Здесь его дом, его семья, сюда он слал трофеи. Отсюда его поощряли на новые преступления.
И вот он, Сабир, у порога его дома.
На миг замявшись у двери, чтоб хоть немного унять вдруг закипевшее сердце, он рванул ее и шагнул за порог, шагнул и… остановился, широко расставив ноги и чуть полусогнув сжатые в кулаки руки. Чистый уют просторной комнаты раздражал и злил. Лица людей испуганы и отрешенны. Старый бюргер прижался к стене, еле удерживаясь на ногах. Его жена, уронив руки, нашла передник и теребила его за концы. Отец и мать Вилли. Они его растили, они дали ему мерзостную душу. Они писали ему, не жалеть русских. Что они думают теперь? Их невестка застыла у окна, не смея шевельнуться. Змея ненасытная! Ей все было мало, и она слала мужу заказ за заказом. Она не брезговала даже окровавленным детским бельем — «оцетон хорошо отмывает и кровяные пятна». Ее детишки прилипли к подолу старухи и молча уставились на русского. Азатов невольно пригляделся к мальчику. Его сынишка был бы теперь таким же. Был бы, а его разорвали танками. Он невольно скрипнул зубами. А кем вырастет этот? Не воспитают ли из него второго Вилли, который через десять-пятнадцать лет опять захочет разбойничать на чужих землях. Нет, не воспитают. У Сабира сегодня святое право уничтожить этих выкормышей вместе с воспитателями — всех до одного. Он может их просто убить, может поджечь, может разнести стены этого черного гнезда, где воспитали убийцу-садиста. Он все может. Его право мстить и наказывать. Чего же он медлит? Чего не убивает их? Не поджигает их разбойничьего гнезда?
Нет, он не хочет, чтоб они не знали, за что, и Сабир молча шагнул к столу.
— Идите сюда, все идите! — потребовал он по-немецки, с ненавистью вглядываясь в их страшно перепуганные лица. — Вот ваш Вилли, — указал он на снимок. — Вот он убил мать, жену мою, сына… Вот он мучил, измывался, убивал. Вот, смотрите…
Он глядел на их лица, сведенные от ужаса, на их глаза, округлившиеся и окаменевшие, на их руки, охваченные судорогой. Нет, ни права им, ни власти. Силу тем, кто хочет мира и дружбы. Лишь тем силу и право, власть и закон. Этим ничего. Они заслужили смерть!
Но руки почему-то не поднимались на автомат, и, оттягивая возмездие, он прошел к столику у стены. Фарфор, малахит, майолика. Где это награблено? Нет, не привлекла, а просто задержала его внимание безобидная безделушка — три обезьянки. Сколько он видел их в немецких квартирах. Уморительно корчась, одна закрыла руками глаза, другая зажала уши, третья прикрыла рот — не видеть, не слышать, не сказать бы дурного. Многие немцы так и делали. Они не хотели видеть, слышать, говорить. Они отгородились от жизни, и фашизм стал хозяйничать. А эти, и Сабир зло окинул их ненавидящим взглядом, эти и видели, и слышали, и говорили — только мерзкое. Лицемеры проклятые!
Нет, их мало убить, их надо казнить, безжалостно и страшно, казнить и казнить! У Сабира все так и закипело внутри, и руки невольно потянулись к автомату. Он мигом сдернул его и отвел предохранитель и, не сдерживаясь больше, дал предлинную очередь, направив автомат… в потолок. Не сделав этого, он разрядил бы его в хозяев ненавистного дома — так зашлось его сердце.
— Ладно, живите, черт с вами! — зло сплюнул он на пол. — Только помните, еще злодеяние, и пощады не будет!
Вытерев взмокший лоб, он круто повернулся, вышел на улицу.
За дивизионным оркестром шагала войсковая колонна. Музыканты играли Бетховена. Немцы стояли поодаль, сраженные музыкой, родившейся здесь, на их земле. Они привыкли видеть в его музыке человека наедине с своей тоской и своим горем. А сегодня они видели ее, слышали ее совсем иною, воспринимая как силу, способную поднять все лучшее, что еще осталось в их душах, и поражать врага, который исковеркал эти души. Они ощущали скорый конец победного похода, начавшегося далеко отсюда, у стен Москвы, у берегов Волги, и советские войска, пришедшие сюда с трубами Бетховена, еще непонятные и страшные, были многим близки этой неведомой музыкой свободы, шагавшей по исстрадавшейся и истерзанной земле.
Азатов долго не мог отдышаться, и внутри у него будто горело все жарким неостывающим огнем. Он глядел и глядел на этих людей, сделавших столько зла и еще не понимавших своей новой судьбы.
— Пусть живут! — уже ни к кому не обращаясь, еще раз сказал Сабир. — Рук марать не стану!
7
Проснулся Гитлер в холодном поту, порывисто скинул с себя легкий плед и мрачно уставился в темный угол спальни. Казалось, он все еще видит весь сонм апокалипсических видений, и слабый призрачный свет ночника просто бессилен рассеять ужасный кошмар. Уж не ополчились ли против него все духи преисподней?
Снилось, — ни земли, ни неба. Внизу — черная бездна, вверху — жуткое марево. Клубящаяся бездна как бы ощерилась сваями, и на них — его Германия. А меж сваями с пылающим факелом мечется злой демон, — подпаляющий опору за опорой.
Майн готт, это же он сам, Адольф Гитлер. Черный безумец с зловещим факелом. Все же сейчас рухнет, и безмолвная бездна станет его могилой.
Потом снилось, стоит он у зеркала, весь нагой и черный. Бог! Зачем он дал ему черные руки, черную голову, черную душу? Ах, вот что: черный гений. Гений зла! Что ж, он, фюрер, всю жизнь знал, добра нет. А что люди считают добром, ему зло. Он и ценит лишь зло. Ничего больше. Пусть вокруг бушует ненависть, ибо как быть великим, если нет врагов. Люди мечутся по земле, не видя высших целей. Всесилие власти — вот его цель! Без такой власти нельзя управлять людьми. Он шел к ней не по расчету, не по разуму — по наитию, провидя чудовищную необходимость попрать все, что встанет на пути к этой высшей цели. Тщету слабых, ищущих утешения в любви и добре, измену сильных, претендующих на свое место в истории, любое предательство с их стороны — все смести безжалостно. Он ни перед чем не останавливался и срубил головы даже лучшим друзьям и соратникам. Он распознавал в них своих противников раньше, чем сами они понимали, до чего могут дойти. Кто сможет утверждать, что он не умел искоренять самоволие умов.
Подземелье глухо вздрагивало. Сюда явственно доносились отзвуки русских бомб и снарядов, рвущихся на улицах Берлина. Его Берлина, где у могилы Фридриха великого он приносил клятву верности силе оружия. Что же будет теперь? Что готовит ему неумолимая судьба? Ему, Адольфу Гитлеру, который сам всегда всевластно повелевал ею?
Подумать только, русские штурмуют Берлин! Берлин, цитадель его власти, его величия. Сегодня, в день его рождения, когда ему праздновать бы свой юбилей, они поздравляют его разрывами бомб и снарядов, рвущихся прямо над головой. Неужели все рушится?
Злой и мрачный, он встал с кровати, лениво потянулся, уселся в глубокое кресло. Поглядел на часы. Уже утро. Наверно, взошло и солнце. Сколько он не видел его? Много недель сряду. Нет, ему ничего не хотелось видеть, ни солнца, ни истерзанного Берлина. Тяжко и без этого.
Одевшись, Гитлер прошел в кабинет. На столе стопка поздравительных телеграмм. Он прочитал их одну за другою. Все славословие. Лесть и лесть. Ни одного искреннего чувства. Сколько пожеланий многих лет жизни. А скорее всего, каждый с готовностью проводит его в могилу. Мало он рубил им головы. Мало!
Гитлер машинально пересчитал телеграммы и вздрогнул от неожиданности. Тринадцать. Роковое число. Он всю жизнь боялся тринадцати. Судьба обрекла его тринадцать лет добиваться власти и тринадцать лет устрашать ею всю Германию, весь мир. Не потому ли и через тринадцать лет русские снаряды рвутся над его головой.
И все же его никто не оспорит, силу власти можно отстаивать лишь силой, и он может жить, либо владея всем, либо не жить вовсе. Истинно, aut vincere aut mori — победить или умереть, и никак иначе!
Что ж, еще не все потеряно. Может, русские и американцы столкнутся на Эльбе, с которой он стягивает все войска к Берлину? Может, вместе с англосаксами он еще опрокинет русских? Ведь у него есть силы. В одном Берлине пятьсот тысяч. Миллион войск у него в Чехословакии и южной Германии. Есть и другие армии.
Воспрянув духом, он весь день принимал поздравления, все еще настороженно прислушиваясь к гулу русской канонады.
Изо дня в день шли совещания, слушались доклады генералов, отдавались бесконечные приказы, выполнять которые становилось все невозможнее и невозможнее. На улицах Берлина и на всех фронтах командовали только русские офицеры и генералы. И Гитлеру стало вдруг ясно, что он похож теперь на безвластного властелина, которого еще боятся, но уже не слушают.
В глубоком подземелье имперской канцелярии царила зловещая тишина. Даже монотонное гудение вентиляторов казалось гнетущим и мертвящим. В воздухе стоял удушливый запах сырости и плесени. Сотни раскормленных эсэсовцев по-прежнему несли службу охраны, проверяли пропуска, производили обыски, но и на их лицах давно уже ощутимо выражение неотвратимой обреченности и неизбежной покорности судьбе.
Пусть в Берлин стянуты огромные силы, мобилизованы фольксштурмисты, вервольф, гитлеровская молодежь, пусть гибнут там наверху и пятнадцатилетние мальчишки, и шестидесятилетние старики — Германию уже ничто не выручит и ничто не спасет. Катастрофа неизбежна.
Отчаявшись в своем назначении, на очередное совещание Гитлер заявился особенно подавленным и угрюмым. Он вошел согнувшийся, сильно постаревший. Глаза у него потухшие и все лицо как-то обмякшее. Ни силы в нем, ни воли — просто отчаяние.
Желтолицый Геббельс сразу стал белее снега. Тучный заносчивый Борман раскраснелся, тараща глаза на фюрера. Сухопарый Кребс с полураскрытым ртом застыл на месте. Гитлер никому не протянул руки, ни с кем не заговорил, не сделал ни одного жеста, чтобы хоть сколько-нибудь разрядить обстановку. Он окинул их холодным рассеянным взглядом еще более потухших глаз и во всеуслышание впервые за все время признал себя побежденным. Война проиграна, и он покончит с собой.
Генералы содрогнулись. А что их фюрер готовит им, и не потянет ли он их с собой в могилу? Кребс сжал тонкие губы и словно постарел на десять лет. Задыхаясь, запыхтел Борман. Геббельс машинально расправил ворот. Молчание оставалось тягостным и жутким. Что же все-таки значат слова фюрера? Ведь только вчера состоялся ничем не объяснимый обряд его венчания с Евой Браун, с которой все эти годы он прожил вне брака. А сегодня он прочит себе смерть. Что же он прочит им, его генералам и офицерам?
Гитлер сказал далее, что сам он останется здесь, в убежище имперской канцелярии, и не будет переносить свою ставку на запад. Вместе с ним, своим фюрером, останутся Геббельс, Кребс и Борман.
Кребсу показалось, будто он проглотил огонь. Весь он сразу обмяк и закашлялся. Борман страшно таращил глаза. Лишь Геббельс, облизав сухие губы, вроде остался равнодушным к своей судьбе. Он лучше всех понимал, что падает жертвой своей же собственной пропаганды. Раньше она губила других, теперь его самого.
Не обращая ни на кого внимания, Гитлер направился к выходу и ушел совсем больным изможденным стариком, у которого беспомощно обвисли щеки, плечи, руки, вовсе угасли глаза. Он прошел через приемную в свой кабинет, упал в глубокое кресло и несколько часов просидел молча. Самое страшное теперь — объясниться с Евой. Но сил у него не было, и объяснение пришлось отложить. С трудом поднялся с места и прошел в комнату, где помещалась любимая овчарка с четырьмя щенятами. Миззи уткнулась ему в колени, и он ласково поерошил ей шерсть. «Эх, Миззи, Миззи! Все они мертвецы, лишь притворяются живыми. Никем ничего не достигнуто, ничего не завоевано. Бездарная мразь. Вши, поедающие покойника. С ними ли было замышлять завоевание мира! Чудовищная утопия! Понимаешь, Миззи, мираж, иллюзия, жалкая тень!» Он посидел еще с минуту молча, прижался щекой к собачьей морде, и, распрощавшись таким образом, возвратился к себе.
Прошел к столу с крупномасштабной картой, иссеченной коричневым и черным. Черные линии советских войск окольцевали весь Берлин. Черные стрелы безжалостно рвали коричневую вязь немецкой обороны и вонзались чуть не в самое сердце столицы. От разрывов русских снарядов глухо гудел потолок. Там его Берлин, раздираемый заживо. Ну, и пусть. Чувства онемели. Линии и стрелы на картах, бесконечные совещания и решения. Есть от чего сойти с ума, потерять всякое ощущение времени и не знать уже, дни ли текут или часы с минутами. Взрыв за взрывом!
Злорадствуя, он представил себе за стеной кабинета сухую словно надломленную фигуру Кребса, наверное, уже распрощавшегося с жизнью, натужного с бычьей шеей Бормана, ядовитую физиономию Геббельса. Пусть заглянут они в глаза смерти. Он помолчит еще день-два, прежде чем откроет им свои истинные планы. Не такой он дурак, чтобы добровольно сойти в могилу. Ничто не сломит его воли. Нет, его черный гений не смыкает глаз. Бдит и бдит, полный исступленных дерзаний, подсказанных его даймоном. Как бешеных псов, стравить русских и англосаксов. Пусть они перегрызут друг другу горло. Пусть раздерут на части хоть всю Германию. Авось, что-нибудь да уцелеет. Не могут же англосаксы не заплатить ему за поражение и гибель русских!
А что если все иллюзия, мираж? Тогда смерть. Смерть! Только нет, он все рассчитал. Он давно начал тайные переговоры с Западом. Теперь же пошлет Кребса на переговоры и с русскими. Каждой из сторон он даст доказательства возможности сепаратного мира. Он посеет рознь и подозрения, возбудит ненависть. Бесспорно, ему не поверят. Что ж, он назначит за себя гроссадмирала Деница, а сам мнимо умрет. Умрет, чтобы воскреснуть потом, едва англосаксы и немцы, объединив свои силы, всерьез схватятся с русскими. Тогда снова триумф его гения!
Но русские, русские! Какой бешеный напор. Пришлось в тот же день посвятить в свой план Кребса, Бормана, Геббельса. Они вместе в деталях обсудили весь замысел. Пусть Дениц! Сам фюрер останется здесь же в имперской канцелярии и по-прежнему будет руководить всем. Но знать об этом будут немногие. Гиммлера и Геринга, пустившихся на тайный сговор с Западом, он лишит всех прав и рангов, объявит предателями. Кребс доставит русским его посмертное завещание, письма, предложение нового правительства о перемирии. Во что б ни стало добиться прекращения огня, начала переговоров. Выторговать время! Сталин поверит, что Черчилль и Трумэн без него заключат перемирие. Они перестанут доверять друг другу, и тогда их столкновение неизбежно.
Сам Гитлер не сомневался в успехе. Борман горячо одобрил его замысел. Кребс осторожно выразил сомнение. Геббельс согласился молчаливо. Все же, надежда. А Гитлеру даже показалось, что его ближайшие сподвижники воспрянули духом. Впрочем, в глазах их он заметил и что-то зловещее. Не так ли вспыхивают и глаза у голодных волков, готовых разорвать друг друга? За ними смотри и смотри. Ведь у них теперь его предсмертное завещание. Какой соблазн развязать себе руки и его смертью купить себе политическую индульгенцию на отпущение всех грехов. Останавливаться, однако, поздно. Теперь все в руках провидения.
Вооружившись белым флагом, Кребс отправился к русским. Борман и Геббельс ушли к себе. Гитлер угрюмо уставился в потолок. Что же будет теперь? Казалось, его неумолимо поглощала черная клубящаяся пучина. Неужели конец и уже не вынырнуть? На карту поставлена судьба Германии и его судьба. Смерть или спасение? Все решится очень скоро, может быть, сегодня же. Его одолел вдруг чудовищный страх, страх ответственности за содеянное, страх смерти…
Часы ожидания были просто изнурительны. Что же Кребс? Неужели не будет даже ответа? Но ответ пришел, грозный, неотвратимый. Русские непреклонны. Они требуют безоговорочной капитуляции. Кребс раскис и ни на что не надеется. Борман и Геббельс уставились друг на друга. В их глазах застыла зловещая решимость. Гитлер содрогнулся даже. Смерть, безжалостная, неумолимая смерть костлявыми пальцами тянется к его горлу.
Значит все! Нужно сходить к Еве и объясниться. С трудом передвигая занемевшие ноги, он шагнул за порог кабинета, еще сам не зная, где и сколько раз его покинет всякая решимость, как он станет метаться, цепляясь за жизнь и как умрет все же, быть может, от руки тех, с кем делил свою власть и кому не успел вовремя срубить голову, умрет, никому не нужный, ненавидимый и отвергаемый всеми, властолюбивый маньяк, ничего, кроме страшных страданий, не давший ни своему народу, ни человечеству и оставивший лишь имя, проклинаемое всем светом.
Глава восемнадцатая ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
1
Самое ответственное и самое трудное задание! — так воспринял Максим новое поручение редакции. Ему предстоит быть очевидцем финала грандиозной битвы за Берлин, все увидеть и о всем написать.
Седьмые сутки длится штурм Берлина. Битва не стихает ни днем, ни ночью. Исступленно сопротивляясь, фашисты взрывают склады, мосты, заводы, поджигают дома. Берлин в огне, в дыму. Его улицы и площади изрыты окопами и завалены щебнем. Все в руинах.
Линия фронта в непрерывном движении. Ее традиционно обозначают красными флажками. Нет, на этот раз не на картах, а прямо на фабричных трубах, на крышах вокзалов и государственных зданий, на балконах высоких домов. Линию фронта видит каждый.
Вся картина сражения Максиму кажется поистине символичной — сквозь огонь и смерть красное знамя победы неудержимо пробивается вперед. Но кто и когда водрузит его над рейхстагом? С кем же следовать ему, чтобы увидеть это своими глазами?
К центру Берлина нацелены три армии. Гвардейцы генерала Чуйкова, пришедшие сюда из Сталинграда, рвутся к имперской канцелярии, к штаб-квартире Гитлера. Квартал за кварталом штурмуют войска генерала Берзарина, чьи воины первыми ворвались в немецкую столицу. С северо-запада упорно пробиваются войска генерала Кузнецова. Какой же армии отдать предпочтение, если любая из них покрыла себя бессмертной славой?
Ясно одно, надо быть в том из полков, какой сейчас ближе всего к центру. Судя по обстановке, с которой Максиму удалось познакомиться в штабе армии Кузнецова, ближе всех полк Зинченко. Значит туда!
Он прибыл в полк на рассвете 29 апреля. Настроение в ротах предпраздничное и боевое. Максима угостили хорошим завтраком и преподнесли стопку доброго старого вина. За май, за Берлин, за победу! Этим живут все. Идут буквально последние часы решающего штурма. В каждом полку подготовлено знамя, большое и красивое, с номером полка и его наименованием. Независимо от этого, у каждого бойца свое знамя победы. Любое из них больше походит на флажок без всяких надписей. Спрятанное за пазухой, оно все время под рукой, и придет срок — его легко водрузить над куполом рейхстага.
Вместе с командиром части Максим поднялся на верхний этаж высокого дома. Подразделения полка подошли к Шпрее. От рейхстага их отделяет река с крутыми берегами, закованными в гранит. Чтобы пробиться к Королевской площади, где высится рейхстаг, нужно овладеть еще двумя зданиями на самом берегу реки. В одном из них когда-то размещалась швейцарская миссия, в другом — министерство внутренних дел. К счастью, мост через Шпрее цел: взорвать его гитлеровцы не успели. Фронтон рейхстага затянут дымом, и по существу виден лишь зеленовато-черный купол.
Так вот он, райхстаг! Когда-то его подожгли штурмовики фюрера. Затем состоялось позорное судилище, чтобы обвинить в поджоге коммунистов. Всему миру памятен бой, данный тогда Георгием Димитровым всем заправилам фашистского рейха. Рейхстаг выглядит сейчас монументально и по-своему величественно. Умеют немцы строить. Об этом свидетельствует не один рейхстаг. Зачем же они так безжалостно разрушают свой город? А если б их искусство, их энергию да только б на мирный труд. Вот бы где снискать им славу своей Германии! Что ж, когда-нибудь и на этом пути они завоюют всеобщее признание, ибо любая новая война будет означать для них смерть и уничтожение.
Командиру полка ясно, прежде всего необходимо захватить мост. Не медля, он сразу же начал бой. Коренастый полковник тверд и рассудителен. Он старше Жарова, невольно сравнивал Максим, глядя на Зинченко, но схож с ним по натуре. Он также целеустремлен, упорен, деятелен. Направляя роту за ротой, он подает команды, шлет посыльных с приказаниями, управляет огнем — весь он живая душа этого боя, что гремит и грохочет на берегах Шпрее. Максиму захотелось понять самую суть его командирского искусства. Пожалуй, расчет и порыв — вот главное! Вот что позволяет ему держать в кулаке весь полк и в нужный момент бить этим кулаком в избранном направлении.
А бой развивался уже своим чередом. Весь день и всю ночь шли отчаянные и яростные схватки. Грозный могучий огонь не стихал ни на минуту. Оглушительный треск автоматов и пулеметов, разрывы мин и снарядов мешали видеть и слышать. Все кругом гудело, рушилось и полыхало. Огонь и дым застилали улицы и площади.
Наступил рассвет последнего дня апреля. Под прикрытием своего огня бойцы Зинченко форсировали наконец Шпрее. Захватив мост, они пробились в здание швейцарской миссии и заняли министерство внутренних дел. Теперь прямой путь на рейхстаг.
Зинченко ясно, задача не из легких. Его положение рискованно и опасно. Королевская площадь изрыта воронками. Здесь все в окопах и траншеях. Всюду высятся железобетонные доты. Еще горят подбитые немецкие танки, автомашины. А к площади полк пробил лишь узкий коридор, и ряды его сильно поредели. В нем всего два батальона. На северном берегу Шпрее противник упорно удерживает многие дома. Он еще крепко сидит в зданиях, прилегающих к площади. Стоит ему сильно контратаковать, и полк отрезан. Он останется без продовольствия и боеприпасов. Тогда он не выполнит никакой задачи.
Но как медлить! Завтра Первое мая. Москва уже зарядила пушки для победного салюта. Немцы деморализованы. Захватить рейхстаг сейчас может только его полк, больше некому. Как же не дерзать!
Штурм рейхстага он поручил батальону капитана Неустроева. Батальон же офицера Клименко оставил заслоном на исходной позиции. Не то немцы отрежут полк и — что еще хуже — взорвут мост.
Солдаты возбуждены. Идут последние часы Берлинской битвы. Каждому ясно, за ними следит Москва, Париж, Лондон, Вашингтон — весь мир. Пафос борьбы достиг своей кульминации. Нужно сегодня же покончить с рейхстагом и водрузить на нем знамя победы!
Задача Максима ясна и конкретна — правдиво описать финал битвы. Но ему ясно также, сейчас мало быть очевидцем, нужно быть участником последней решающей схватки. Поэтому вместе с бойцами Неустроева он пойдет на штурм рейхстага.
2
Получив задачу, Неустроев тщательно обдумал план действий. Конечно, легче всего ударить в самое уязвимое место. Но как найти его? И где время на разведку? Если рассуждать логично, немцы ждут атакующих откуда угодно, только не с парадного хода. Значит, вот оно, и уязвимое место. Капитан вызвал командира роты старшего сержанта Сьянова.
Максиму сержант понравился. Боевой командир. Глаза решительные, смелые, жесты рук собранные, властные. Весь он, как туго заведенная пружина.
Сколькие командиры будут завидовать ему сегодня, завтра — всю жизнь. Такое счастье выпадает не всегда и не каждому, даже если ты прошел весь путь от Волги до Шпрее.
— Видите рейхстаг? — указал Неустроев на фронтон здания, весь затянутый дымом.
— Так точно, товарищ капитан. Второй день глаз не сводим.
Командир батальона обстоятельно объяснил задачу.
— День на исходе, — сказал он в заключение, — и дорога каждая минута. Знамя победы надо водрузить сегодня же. Это будет нашим первомайским подарком Родине. Слышите, Сьянов?
— Слышу, товарищ капитан, будет исполнено.
— Помните, вы идете первыми, и от вас многое зависит. Этой победы ждут все — братья и сестры, отцы и матери, чего там, за нами следит весь мир. Все объясните солдатам.
В назначенный час в небо взвился радужный зонд красных ракет. Сразу же загудела артиллерия. Незадолго до окончания артиллерийской подготовки солдаты выбрались из подвала и, рассредоточившись, короткими перебежками стали продвигаться к рейхстагу. Максим не отставал от командира роты. Вот мелькнул сгоревший немецкий танк, одинокое сухое дерево. Путь им преградил с крутыми берегами узкий канал. Мост через него разрушен, но сохранились рельсовые перекладины. Быстро преодолели канал. Через хода сообщения пробились дальше. Перебрались через завал. Из подвала бетонированного здания на площади резанул пулемет. Пришлось угомонить его несколькими гранатами.
Но вот и рейхстаг. У главного входа чернеет огромная пробоина. Через нее легче всего проникнуть внутрь. Подав команду, Сьянов поднял роту. Бойцы стремительно бросились на высокую многоступенчатую лестницу, ведущую к парадному входу, и сразу попали под сильный огонь из окон рейхстага.
Сьянов, однако, предусмотрителен. Одни из бойцов открыли стрельбу по окнам, другие стремглав помчались вперед. Вот и пробоина. Командир роты первым бросил в нее гранату и первым проскочил внутрь здания… Бой вспыхнул в первой же комнате, к которой бойцов вывел узкий коридор. Обнаружив вход в подвал, солдаты забросали его гранатами. Все разрасталась перестрелка в коридорах и залах, на бесчисленных лестницах, в обширных апартаментах огромного здания. А к рейхстагу между тем пробивалась рота за ротой, появились батальоны других полков, и бой разгорался на всех этажах. Максиму невольно вспомнился бой за биржу в Пеште. Только здесь он был более жестоким и яростным.
Еще всюду гремели выстрелы, а в рейхстаг уже доставили красное знамя. Лучшие разведчики полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария отважно пробились под самый купол, выбрались наверх, и в берлинском небе взвилось огневое знамя победы.
На изрытой снарядами площади еще не подобраны трупы убитых, еще не высохла кровь на ступенях рейхстага, еще гремит бой в самом здании, а солдаты уже ликуют, торжествуя победу, и с гордостью смотрят на алое знамя, реющее над куполом.
Немеркнущее знамя их победы!
Знамя их бессмертной славы!
Уже в ходе боя на стенах и колоннах рейхстага появились первые надписи: «Мы из Сталинграда!» «Мы из Москвы!» «Мы из Сибири!» «Мы с Урала!» «Мы с Кавказа!» Один из солдат написал: «Дошли, победили!» Максим переписывал эти надписи в свой блокнот и лучше понимал, какой радостью и гордостью переполнено сердце солдата.
Бой в рейхстаге длился еще двое суток. Лишь 2 мая, не выдержав напора штурмующих, гарнизон врага капитулировал полностью. Из подвалов выбралось наружу свыше тысячи уцелевших гитлеровцев. А за рейхстагом последовало падение Берлина, и над городом наступила необычная тишина.
Радостно возбужденный Максим спешил выразить словами увиденное и пережитое, весь пафос величайшей из битв. Но как описать столько армий, если видел он всего один полк? Как передать грозную симфонию мощи, все сметавшую на своем пути?
Ни закованные в железо и бетон Зееловские высоты, ни отборные легионы, выставленные на пути советских войск, ни отчаянная решимость немцев выстоять и победить — ничто не остановило наступающих. И вот здесь, в сердце фашистской Германии, стих, наконец, огонь, грозно гремевший с Одера до Берлина.
Но прежде чем писать о победе в самом Берлине, Максим с группой солдат и офицеров поднялся на купол рейхстага. Война ушла дальше, в глубь Германии, и над городом вставало уже мирное солнце. Свежие ветры рассеяли прогорклую пыль и едкий пороховой дым. Воздух чист и прозрачен. Внизу поверженный и разбитый Берлин, еще высветленный белыми флагами. Они белеют, как повязки на израненных стенах домов. Руины и руины, шрамы траншей и окопов и истерзанная земля в бинтах бесконечных дорог. Будто пронесся невиданной силы тайфун, и ничто не смогло противостоять его стихии.
Святое возмездие!
— Мирный Берлин! — изумленно произнес один из солдат. — Даже не верится!
— Не затем я воевал, — ответил другой, — чтобы тут еще окопались силы войны, зарождались новые войны.
Не затем!
Нет, солдатская совесть просто не мирилась ни с какой несправедливостью ни в настоящем, ни в будущем, ибо слишком дорого обошлось им прошлое. Слишком дорого! И память заклинала.
3
Дни и ночи бои и походы. Отчаянно отбиваясь, враг оставляет рубеж за рубежом. Вдали уже маячат Судеты, за которыми Чехия. Прямой курс на Прагу. А ночью в короткие минуты затишья, так необходимого для отдыха, полковые рации слушают весь мир.
Внушительно и торжественно говорит Москва. В ее голосе уверенность и сила. Большая, огромная, несокрушимая. Ее устами говорит сама справедливость.
Токио, будто старый пес, завывает над могилой фашистской Германии. Там царит растерянность и уныние.
Лондон нетерпелив и суетлив. Он спешит сообщить о каких-то переговорах, которые будто бы идут на западе, и капитуляция Германии вроде уже состоялась. Би-Би-Си что-то болтает о ненужности борьбы, которая якобы окончена.
— Ишь ты, какие! — слушая переводы Березина, негодовал Голев. — Борьба окончена… У них, может, и окончена: им и так открывают ворота в каждый город — пожалуйста! Только не дюже они торопились. Думали, верно, пусть гитлеровцы потреплют русских, все они слабее станут, а мы, дескать, и так успеем. Черта с два! Успели… Берлин-то того… тю-тю!
Нью-Йорк взбудоражен и взбалмошен. Он разобижен на своих дипломатов и генералов, почему они так долго топчутся на месте! Его злит, что русские вырвали у американцев пальму первенства. Он истошно вопит, что жертвы (жертвы!) американцев не могут быть напрасны, им нужен весь мир, и надо спешить.
— Ойе-ей, куда замахиваются, — не сдерживается Голев, — им, вишь, ты, весь мир подавай. Не много ль, господа! Не застрянет ли в горле!
— Чего ты, Тарас Григорьевич, на меня уставился, — усмехнулся Зубец, — будто я это помогаю таким американцам.
— Да не на тебя я, — отмахнулся уралец, — а скажи, что это? Бред или наглость? А по рукам не хотят! Весь мир! Я вам покажу весь мир, загребущие бизнесмены! Не затем я с Москвы тыщи верст на брюхе под огнем прополз. Попробуйте только. Чертовы дети!..
Тревожна Прага. Она только что восстала против гитлеровцев и зовет на помощь:
— Говорит Прага, говорит восставшая Прага! Руда Армада, на помоц! На помоц!! На помоц!!!
Григорий встревоженно всматривался в лица солдат и офицеров: поспеть бы! — говорят их глаза. Ведь каждого тревожит судьба древнеславянского города, судьба его героических повстанцев, которых в упор расстреливают из тяжелых орудий, и полки не идут, они летят в Прагу, сокрушая сопротивление озлобленного врага.
4
Как ни ожесточенно сопротивлялся враг, дни его уже сочтены. Все ярче занималась заря великой победы! Советские солдаты, особенно берлинских полков, были в курсе событий и знали больше, чем иные дипломаты зарубежных стран. Знали солдаты, что американские и английские верхи ведут переговоры с гитлеровцами; знали, что военные преступники бегут на запад к американцам и получают у них радушный прием. Знали и не удивлялись: значит такова природа империалистических хозяев, которые уже тогда вероломно попрали тегеранскую клятву о разгроме фашизма до конца. Еще бы! Это же их выкормыш. Это они духовно растлевали немецкий народ, опаивая его дурманом фашизма. Это они руками немецких гитлеровцев пытались удушить Советский Союз.
Не вышло! Рухнул дьявольский план. Вся Отечественная война, которую вели советские люди, была справедливейшим судом истории над империализмом. И справедливость восторжествовала.
Поистине бессмертная победа!..
Наступило седьмое мая, и полк Жарова пробился в Судеты.
За маленькой горной речушкой одинокий фольварк. Неподалеку от него черный дымящийся «тигр». Не у места подбили, и взводы обходят его с опаской: вот-вот взорвется. Отступив за речушку, арьергард противника засел на крутых склонах гор. Он встретил наступавших сильным огнем. Мгновенная разгрузка. Машины в укрытия. Никола Думбадзе направляется в обход справа, Румянцев — слева. Черезов начинает штурмовать прямо в лоб. Позади оглушительный взрыв. Это взлетел на воздух дымившийся «тигр». Юров вздохнул облегченно. Теперь можно занять под штаб тот одинокий фольварк. Взрывной волной в нем вырваны все окна. Можно и без них: не надолго.
Румянцев и Думбадзе донесли о готовности к атаке. Они обошли противника с флангов и нависли над ним. Жарову осталось лишь подать сигнал. И вдруг приказ по радио: в 23.00 прекратить военные действия. Жаров недоумевал: в чем дело? Неужели конец? Или их снова перебрасывают на другой участок фронта? Впрочем, гадать недолго. Сейчас прилетит Виногоров, и все выяснится. Действительно, из-за гребня, опороченного зеленым лесом, вынырнул легкий армейский самолет. На дороге у штаба связисты заранее выложили посадочный сигнал, и возбужденные солдаты и офицеры быстро окружили подруливший самолет. Что сейчас скажет комдив?
— Мир, товарищи! — громко и радостно объявил генерал, выбираясь из кабины. — Фашистская Германия складывает оружие!
Могучее «ура» огласило воздух. Тысячи самых восторженных чувств были слиты в криках солдат и офицеров. Их охватил азарт, какого они не знали за всю войну. Нет, за всю жизнь!
Но грохнул снаряд, на минуту заглушивший возбужденные голоса людей. Осколки со свистом пронеслись над их головой, и все инстинктивно присели. Запоздал лишь Демжай Гареев, и один из осколков угодил ему в плечо. Рука сержанта мигом взмокла и стала красной от крови. Таня бросилась к раненому.
Глеб рассвирепел. Вот-те и кончилась война! Пока Таня делала перевязку, Виногоров объяснял ход последних событий. Сегодня вечером, в 23.00, прекращаются все военные действия. Сама капитуляция начнется завтра, с семи часов утра. Значит, идут последние минуты войны.
Нет, ни разрыв снаряда, ни ранение воина, особенно обидное сейчас, ни смерть, какая бы ни встала на пути к победе, — ничто не в силах омрачить радость солдата. Ничто!
Глядя на людей, Березин попытался хоть немного осмыслить случившееся, о чем напишут потом тысячи книг, либо прославляя, либо охаивая величие этой победы, правдиво восстанавливая или искажая всю историю великой войны. И вот он, простой солдат, творец ее истории, безмерно радующийся своей победе!
Ведь это он, прервав любимое дело, за которое боролся всю жизнь, ушел на войну. Оставив родных и близких, забыв про покой и отдых, он изо дня в день бился с жестоким врагом. Своими траншеями он опоясал чуть не всю Европу. Сколько перекопал он земли. Его руками можно бы построить тысячи крупнейших плотин и сотни чудеснейших городов. А он мерз на сырой земле, коченел в сугробах, в обнимку со смертью сидел в окопах или бесстрашно мчался в атаку. Не он ли своей грудью закрывал огнедышащую амбразуру дзота или с гранатами в руках бросался под грохочущий танк. Разве не он направлял свой горящий самолет в гущу скоплений врага. Не он ли бесстрашно шел на любые пытки и казни, свято предпочитая долг позору измены! Сколько же сложат песен и легенд этому «безумству храбрых!»
Каждый день огонь и дым, кровь и смерть. Бесчисленны могилы его друзей, его боевых побратимов, у изголовья которых уже встало на почетный караул само бессмертие. Изничтожая врага, он спас родную землю, спас миллионы людей, спас от гибели человеческую цивилизацию. Все он, солдат!
И вот безоговорочная капитуляция! Мир!
Есть ли слова, которых ждали больше!
Мать-отчизна!
А жизнь кругом кипела по-своему. Виногоров вынул из сумки карту и развернул ее на крыле самолета.
— Мир и победа, товарищи! — повторил Виногоров, бессильный унять разбушевавшиеся у всех чувства. — И предстоит нам вот что…
— Ура, победа! Победа!! — все громче кричали бойцы. — Ура!!!
Разве можно остановить бурю, сдержать ураган, приказать успокоиться только что разбушевавшемуся морю! Бойцы снова бросились к самолету.
Виногорова, Жарова, Березина и Юрова — всех их подняли на руки, и под несмолкаемое «ура» офицеры без конца подбрасывались в воздух. А по проводам радостная весть понеслась уже в батальоны и роты, и буря восторгов выросла в такую невиданную силу, что в природе видно нет стихии, с которой ее можно б было сравнить…
Освободившись от солдатских объятий, Жаров отошел чуть в сторону и вынул пистолет. Юров молча последовал его примеру, сразу все стихли.
— За павших, друзья! — тихо вымолвил полковник. — За всех, кто не дошел до яркого дня победы! — и троекратно выстрелил в воздух.
«За Самохина, за Леона!» — нажимая гашетку и вслушиваясь в торжественные залпы салютирующих выстрелов, сказал про себя Яков.
Жаров пригласил комдива в помещение фольварка, и офицеры склонились над картами. Виногоров подоспел как раз за несколько минут до назначенного срока. Ровно в 23.00 огонь прекращен. Последний снаряд противника разорвался около фольварка четверть двенадцатого. Вот, варвары, и тут не утерпели без провокационного выстрела. Полк смолчал.
— Бдительность и бдительность! — напоминал Виногоров, обсуждая с офицерами все детали предстоящей капитуляции противника.
А за окном неумолчный гомон солдат:
— Эх, нашим бы сейчас на Урал телеграмму! — размечтался Тарас Голев. — Вот бы радостный переполох, а?
— Еще бы! — подхватил Азатов. — Наши уральцы завтра, чай, выпьют по этому случаю. Мы повоевали, а они поработали как надо.
— А мне бы хоть на минуту сейчас домой заскочить, — вздохнул Павло Орлай, — задушили б. Что вы, такая радость!
А через час позвонил Черезов и доложил, слышен гул моторов, удаляющихся с фронта к тылу. Не иначе уходят. Его доклад тут же подтвердил и Думбадзе. Все переглянулись.
— До семи утра ни с места, — произнес Виногоров, — мы не можем нарушить условий капитуляции. Однако все настороже. Машины и люди наготове. Никто не спит. Разговорам о мире нет конца. Каждый уже гадает, куда он поедет, чем займется.
— Я за сталь… — размечтался Голев. — В каждом письме пишут, ждут не дождутся…
— А я на Волго-Дон, — горячился Никола Думбадзе. — Канал строить.
Радиоприемники не выключались. Всю ночь говорила Москва. Радовал ее ликующий голос. Гремели боевые советские песни и лилась родная живительная музыка. О мире Москва еще молчала. Потом Лондон. Пулемет речей, в которых бесконечные цифры. Вашингтон. Бешенство янки даже удивляло: они вроде ругались. Париж. Томные усыпляющие мелодии. Наконец, Прага. И все снова услышали тревожный голос чехословацкой столицы:
— Говорит Прага… фашисты расстреливают восставших из танков и артиллерии… Пришлите помощь. Говорит восставшая Прага… Пришлите помощь! — и снова по-чешски: Руда Армада, на помоц! На помоц!! На помоц!!!
— Ах, гады! Задавить хотят! — так и вспыхнул Глеб. — Эх, сейчас бы ударить — и туда, туда!..
— Не беспокойся, друг, Кремль не может не слышать такого голоса… — сказал Березин. — Не может не слышать!..
5
Семь утра. С белыми флагами Березин и Юров идут в сторону противника. Пусто и безлюдно вокруг. Никого в стрелковых ячейках. Никого и дальше. Горы стреляных гильз. Остывшая зола давно погасших костров. Всюду следы поспешного бегства.
— Удрали! — резюмировал Юров.
Однако невольное разочарование никому не омрачило безмерной радости. Полк наготове. Если враг не сдается, его уничтожают.
Крупная группировка войск Шернера вероломно нарушила условия капитуляции и пыталась уйти на запад к американцам. Дивизии Четвертого Украинского начали последний удар.
Не зная отдыха, полки мчались вперед и вперед. Только пламенеющими флагами мелькали чехословацкие города и села. Вдоль улиц ликующие толпы жителей, приветственно машущих руками, забрасывающих машины живыми цветами, в восторге кричащих войскам слова привета и одобрения, из которых одно повторялось на все лады:
— Москва — наздар!
— Руда Армада — наздар!
— Наздар! Наздар!
Велик и торжественен праздник весны, праздник победы.
За Судетами развернулась чешская равнина, богатейший край, но ограбленный и разоренный немцами. Советские полки настигли арьергарды бегущего противника. После первых же выстрелов немцы бросали оружие, разбегались в стороны. Некогда собирать их и добивать сопротивляющихся. Сзади лавина войск, и нет смысла задерживаться.
Враг минировал дороги, взрывал мосты, устраивал завалы, всюду оставлял сильные заслоны, которыми пытался прикрыть свое бегство на запад. Гитлеровские головорезы изо всех сил рвутся в Прагу, откуда рукою подать до американцев. Они не знают еще, что и эти попытки совершенно бессмысленны и бесцельны: войска маршала Конева еще утром 9 мая пробились в чехословацкую столицу с других направлений. А вслед за ними в Прагу вступили и войска Еременко. Протянув руку братской помощи пражским повстанцам, они спасли город от гибели и закрыли войскам Шернера все пути на запад.
Полк Жарова — авангард мощной группировки на одной из чехословацких дорог, ведущих к Праге. Усиленный танками и артиллерией, он проскакивал от рубежа к рубежу. Громил сопротивляющихся, и снова мчался вперед. Чувствовалось, у врага нет веры в успех, он пал духом, дезорганизован. Но сопротивление его еще ожесточенно и злобно, хотя большие массы немцев все чаще и чаще поднимают белые флаги.
Ошеломляющими ударами с ходу полк сметал все заслоны и прикрытия, все быстрее и быстрее настигая главные силы врага. Но вот и они. В нескольких километрах впереди чернеющая колонна гитлеровцев, головы которой совсем не видно: она за горизонтом. Посмотришь издали — тонкая ядовитая бесконечная змея.
Головной батальон летит вперед, у всех остальных короткая задержка. Пять больших самолетов сели прямо на шоссе. С одного из них на асфальт дороги спрыгнул Виногоров. Жаров заторопился доложить обстановку.
— Сам все сверху видел, — остановил его комдив и поставил задачу. В каждый из самолетов погрузили почти по взводу. Подразделения Соколова и Румянцева первыми поднялись в воздух. Через несколько минут все они высадились перед шернеровской змеей-колонной и заняли выгодные позиции. Самолеты возвратились и забрали новые взводы. Теперь врагу не уйти.
Танковым тараном опрокинут вражеский арьергард. Головной отряд полка мчался вдоль всей колонны, обрушивая на нее шквал огня. Броневой таран из танков, за которыми на полном ходу мчалась в атаку мотопехота, ведущая бой прямо с машин — пример из чрезвычайно редких, — настолько ошеломил противника, что он бессилен на какое-либо организованное сопротивление Лишь еще головная часть его колонны, надеясь вырваться из кромешного ада, изо всех сил летела вперед. Но и она нарвалась на огонь Соколова и Румянцева. Сопротивление бесполезно.
За первой колонной полк настиг вторую, третью… и судьба каждой из них одинакова. Разница лишь в том, что порою приходилось снимать мины, наскоро сооружать переправу, соскакивать с машин и развертываться для боя, чтобы сбить заслон, сломить оставленное врагом прикрытие. Но все равно полк разбивал колонну, за колонной, делая по семьдесят-девяносто километров в сутки. Чтоб преодолеть такое расстояние, нужно максимум два часа времени. Все остальные двадцать два — в бою.
На рассвете следующего дня полк вырвался на ровное шоссе, по которому с Градец-Кралевски открылся прямой путь на Прагу. На много километров путь совершенно свободен и чист. Но вдруг с боковой дороги вынеслась немецкая колонна на машинах, тоже с танками и самоходками. По силам она раз в десять больше передового отряда полка, мгновенно развернувшегося к бою. Сам Жаров на командном пункте с Думбадзе.
Гитлеровцы замедлили движение, но не остановились. На что они надеются? На силу? На свое превосходство, полагая, что их пропустят? Как бы не так! Ан, нет, парламентер с белым флагом. Ага, сдаются, и многие из солдат радостно потирают руки.
— Не вставать! — несся приказ по цепи, так как многие из бойцов повскакали с мест, готовясь принимать пленных. — К оружию! Противника держать на прицеле!
К общему удивлению, парламентер требует, так и заявил нагло, требует пропустить колонны, и они за это никого не тронут. У Жарова все закипело внутри: видите ли, они не тронут!
— Советское командование приказывает немедленно сложить оружие и выполнить условия безоговорочной капитуляции! — сказал он по-немецки. — Срок одна минута.
Жаров в выигрышном положении: враг не развернут, он не успеет использовать своего превосходства в силах.
— Мы уйдем домой, — упорствовал парламентер, — пропустите!
— Сроку одна минута! Передавайте команду сложить оружие!
Парламентеры бегут обратно, побросав белые флаги, и Жаров увидел, как вражеская колонна начала пухнуть и расширяться. Ага, развертывается.
— Огонь!
Разом ударили танки и самоходки, все орудия, уже успевшие встать на позицию, десятки пулеметов. Молчали пока автоматчики, так как до немцев было еще с полкилометра. Колонна гитлеровцев смешалась, и начался бой. Враг бросился было лавиной, мгновенно растолстевшей колонны, представлявшей все же беспорядочную массу. Не считаясь ни с какими потерями, он попытался любой ценой пробить брешь на главную магистраль, оттеснить русских немного назад, прикрыться и ускользнуть по шоссе. Он бросил в атаку свыше пятнадцати танков, находившихся в голове колонны, он загремел из множества орудий и пулеметов. Но враг не удивил. Полк уже видел одну из таких атак под Корсунем. Эсэсовцы тогда жестоко поплатились за свою опрометчивость. Не лучше им будет и теперь.
Несколько минут длилась ожесточенная перепалка. Враг заметался и отпрянул. Прикрываясь сильным огнем, он начал развертываться вправо и влево. Жаров бросил в атаку одну из рот Думбадзе с танками, и гитлеровцы не смогли занять боевого порядка. Скученные на невыгодных позициях, они отбивались злобно и упорно. С час длилась неравная борьба. Но вот подоспели Румянцев и Черезов. Теперь атаки полка более целеустремлены, и бой длится несколько часов подряд. Виногоров выдвинул на помощь другие силы, и разгром противника неминуем.
Последние выстрелы Отечественной войны прозвучали 12 мая неподалеку от чехословацкой столицы. Советские дивизии сурово наказали зарвавшегося врага, и группа Шернера перестала существовать.
Последние сорок километров уже никакого сопротивления. Без конца ликующие толпы народа. Май, красный, голубой, зеленый, золотистый май. Над красными кровлями городов и сел, как огромные люстры, поднимаются кроны цветущих каштанов. На высоких шестах возвышаются над площадями верхушки елей. Эти шесты с елками здесь называют «маем». По старинному обычаю, «май» поднимают в первый день месяца и «срубают» в последний. Ели убраны красными лентами и флажками: новые дни вносят свои поправки в обычаи страны.
Наконец, Прага, уже четвертый день, ликующая по случаю освобождения! Злата Прага! Город-мученик, город-герой!
Глава девятнадцатая ПРАГА ЛИКУЕТ
1
Последнюю атаку пражские повстанцы отбили около полуночи. Смолкли орудия, стихли истошные крики эсэсовцев. Их пушки, только что бившие в упор, разнесли всю баррикаду. Подожженные чехами «пантеры» скрылись за домами. Но нависшая над людьми тишина казалась зловещей.
Все же Йозеф Вайда вздохнул облегченно. Вытер рукою взмокший лоб и распорядился восстановить главную баррикаду. С боковых улиц и переулков напор немцев был слабее, и заграждения уцелели. Чехи притащили откуда-то бочки, ящики, бревна. С болью в сердце срубили несколько каштанов, завалив ими улицу. Появились мешки с землей. Выламывая булыжник мостовой, сложили из него невысокую каменную стенку. Работали все: мужчины, женщины, дети.
Как начальник баррикады, Йозеф в тревоге подсчитал боеприпасы. Все на исходе. Неужели их возьмут потом без выстрела? Скоро ли будут русские? Чего медлят американцы? Ведь они совсем близко. Что бы им стоило выручить восставшую Прагу. Нет же, засели в городах западной Чехии, и ни с места. Англичане обещали по радио сбросить оружие. Прилетели их самолеты, покружили над городом и ни с чем улетели. А немцы грозят бомбардировкой восставшей Праги. Они спешно гонят сюда артиллерию, чтобы расстрелять город с Градчан. Открыто грозят танками Шернера, которые мчатся на Прагу. Что же будет теперь? Что сулит им завтрашний день, — смерть или свободу?
Уже трое суток сражается Злата Прага. Впрочем, нет, сражение против нацистов длилось все эти шесть долгих и тягостных лет. Гнев народа начинался с небольших родничков и звонких ручейков. Сливаясь в ручьи и речушки, они полнили могучие реки, породившие грозный поток восстания. Чаша страданий переполнилась, и народ взялся за оружие.
К Праге стремительно продвигались советские армии и вместе с ними чехословенско войско, возрожденное в огне и дыму великой войны. Они овладели Брно и Братиславой, освободили Остраву и Оломоуц, пробились через Татры и Судеты. Штурмом взят Берлин. Прага сразу воспрянула духом и открыто бросила вызов оккупантам, чтобы скорее положить конец всем их чудовищным злодеяниям на чехословацкой земле.
Сначала казалось, гроза будет тихой. Чехи стали снимать немецкие вывески, выскабливать с витрин немецкие надписи. На груди у мужчин и женщин вдруг появились безобидные трехцветные розетки, а на стенах зданий — национальные флаги. Блеклые дойчкроны как-то сразу потеряли всякую цену. Затем чехи стали обезоруживать полицаев, немцев, захватывать их склады с оружием. Отважные патриоты захватили радиостудию и призвали пражан на борьбу. Студия несколько раз переходила из рук в руки и осталась за повстанцами. Рабочие захватывали заводы, разоружили бронепоезд, освободили узников Панкрацкой тюрьмы. Скоро в руках повстанцев оказалась почта, телефонная станция. На улицах и площадях появились баррикады.
Но борьба неимоверно тяжела, и за каждый успех повстанцы расплачиваются своею кровью и жизнью. И все же Прага не покорится оккупантам, Прага победит!
Обуреваемый этими чувствами, Йозеф осмотрел укрепления и, подбодрив людей, направился в штаб, размещавшийся тут же, в бункере многоэтажного дома. Зашел на узел связи и позвонил в штаб руководства при национальном комитете, связался с соседними отрядами. Везде трудно, везде потери, и нет боеприпасов. Но люди стойко отражают любую попытку эсэсовцев пробиться в центральные кварталы. Всюду господствует дух отваги, дух железной решимости выстоять и победить.
Закончив разговор, Йосиф прошел в соседнюю комнату штаба. Здесь его поджидал старый друг Вацлав Ярош. Когда-то еще гимназистами они зачитывались марксистской литературой. Потом стали социал-демократами. Третьим с ними был Густав Гайный, тогда еще молодой художник. Нет, они не были революционерами, готовыми на любую борьбу, не стали коммунистами. Воспитанные в семьях буржуазных интеллигентов, они сторонились всякого риска и всяких крайностей. Их девизом была умеренность, умеренность во всем. Их увлекало все прогрессивное, но без борьбы. Их всю жизнь прельщал либерализм, и они страшились всего радикального. Так сами они определяли свою «политическую линию». Казалось, лишь уступая, можно обеспечить социальный мир и порядок. Только жизнь зло посмеялась над ними.
Старый уже седой Ярош, сильно располневший еще в предвоенные годы (у него плохо с сердцем), за войну совсем исхудал от недоедания и треволнений. Весь вечер он пробыл в штабе руководства и возвратился оттуда расстроенным. Голос его тих и нерешителен. Прага полна слухов и тревожных разговоров. Гауляйтер Франк, будто и твердит только, что он не уйдет из Праги, не хлопнув предварительно дверью. А известно, слов на ветер он не бросает. Президент Гаха дрожит со страху. Защиты от него не дождешься. Немецким злодеяниям нет конца. Очевидцы рассказывают о жутком расстреле невинных жителей на панкрацком кладбище. На Пражачке на каждом телеграфном столбу висят распятые чехи. В Оленьем рву эсэсовцы выкалывают глаза студентам. Сегодня бомбили Вацлавскую площадь. По всей Праге они жгут, расстреливают, вешают. Танки Шернера лавиной идут на Прагу. Говорят, город окружают пять бронетанковых дивизий. Он, Вацлав, боится, что всякая борьба становится безнадежной.
Вайда насторожился. Чего же хочет его друг, пан Вацлав? Что, сложить оружие? Разбрестись по домам и укрыться? Переждать, пока придут русские или американцы? Ни в коем случае! Не затем они взялись за оружие. Не затем он, Йозеф Вайда, вступил в коммунистическую партию. Да и кто захочет сложить оружие! Нет, нельзя, это немыслимо.
Что, Вацлав не хочет напрасного кровопролития, напрасных жертв? Да понимает ли он, что любой разговор об этом сейчас звучит как измена, предательство? Да и кто остановит бурю! Нет, нет и нет! И разве не помнит Вацлав Мюнхена? В те поры они стояли с ним за мир, а получили войну. Они уговаривали молодежь сложить оружие, отказаться от борьбы, и без боя сдали Чехословакию немцам. А у них была сильная армия. Было надежное оружие. Даже русская помощь наготове. А они отказались от борьбы и чуть не погибли. Как же теперь сложить оружие? Сложить после такого сурового урока? Никогда!
— Все равно разобьют нас, — обреченно сказал старый Ярош.
— Запомни, уступить — значит погибнуть! — возразил Вайда, и они снова заспорили.
Чтобы убедить друга, Вайда приводил довод за доводом. Сам он станет биться до последнего дыхания. Неужели же Вацлав спаникует? Неужели им стоять и сражаться по разные стороны баррикад? Ведь нейтральных сейчас быть не может. А у Яроша сын во Франции. Он сражается против немцев. Тысячи чехов и словаков вместе с русскими идут спасать свою родину. Разве можно теперь отсиживаться? Потом, помнит ли Вацлав молодого Гайного, Конту, Траяна, помнит ли всех других, кого они уговаривали тогда сложить оружие? Что ж, молодежь уступила им в те поры, уступила со слезами на глазах. А что получилось? Она с оружием в руках идет спасать их, Вацлава, Йозефа, кто так повинен во многом из случившегося. Что же они скажут этой молодежи?
— Не хочешь сражаться, — строго закончил Йозеф, — уходи, не мути душу людям. Только уйдешь — другом считать не буду. На всю жизнь не буду.
— Ну, будь, что будет! — сдался наконец Ярош. — Уговорил, и я иду на баррикаду.
2
Окруженные повстанцами, Градчаны напоминали осажденную крепость. В смертельной тоске замер пражский кремль. Из окна президентского дворца, уже шесть лет как ставшего резиденцией наместника фюрера, гауляйтеру Франку видна вся взбунтовавшаяся Прага. Он не сводит с нее глаз и бессильно скрипит зубами.
Город в огне. Всюду клубится черный дым. Глухо отдаются залпы немецких орудий. Завтра он выставит их столько, что снесет всю Прагу. Он зальет ее кровью, предаст огню, разрушит до основания. Чехи сто лет будут помнить, что такое непокорность и что такое немцы. Но угрожая, он с опаской оглядывал кремль. Надежно ли ограждена его власть? Во дворе чинно вышагивали туссенские молодчики, все плечистые, мордастые, с высоковыбритыми затылками. Франк сам приказал утроить охрану своей резиденции.
Но что значат эти молодчики, если пал Берлин, если белый флаг поднимает вся Германия! Рассчитывать на ссору русских и американцев уже нечего. Их встреча на Эльбе превратилась в праздник победившего оружия. Еременко изо всех сил жмет с севера. С другой стороны стремительно продвигаются Толбухин и Малиновский. С северо-запада нависает Конев. А в восьмидесяти километрах на западе стоят американские войска Бредли.
Американцам всего два часа пути до Праги. Что бы стоило им ударить! Но Франку ясно, Бредли не двинется с места, пока не удушена восставшая Прага. Коммунистам он не поможет.
Фельдмаршал Шернер еще сдерживает русских, рвущихся на Прагу.
Ясно, Франку остается одно — разбить восставших. Но как разбить, если в их руках огромная часть города? Если вся Чехия кишит партизанами?
Он поднял глаза на огромный портрет фюрера. Вот он, их бог и демон. Ему теперь все просто — гнить в земле и кормить червей. Трудно живым. Дениц объявил безоговорочную капитуляцию. Ясно, все кончено. Но капитулировать перед восставшими, перед теми, кем он столько лет повелевал так самодержавно, — никогда! Не сложит он оружия и перед русскими. Войска Шернера тоже не капитулируют. Вместе с ними он, Франк, уйдет на запад. С американцами легче найти общий язык. Но Прага, проклятая Прага! Она путает все карты.
Ни на кого из чехов он рассчитывать не может. Ни Сыровы, ни Гайда, ни Гаха — никто его не выручит и никто ему ничем не поможет. Безвластная власть — это не сила. Сыровы и Гайда еще в гражданскую войну ударили в спину русским, подняв в красной России мятеж белочехов. А повстанцы бредят помощью русских, их дружбой. Разве станут они слушать Сыровы или Гайду? Не послушают они и безвластного президента Гаху, сдавшего страну на милость фюрера. Да и что может сделать худой и желчный Гаха, старый брюзга и лизоблюд. Остается Шернер и Туссен. Но Шернер далеко. Значит, пока Туссен, его злополучный командующий пражским гарнизоном. Сейчас им двоим решать судьбу города.
Франк подошел к столу и властно позвонил, приказав вызвать Туссена.
Не приглашая его сесть, он с минуту разглядывал генерала. Тучный фазан с пухлыми руками и красной шеей. Плоская гипертрофированная голова подстрижена ежиком. Пустые, хитро прищуренные глаза. Тонкие бледные губы. На что способен этот иезуит? Но выбирать не из кого. В свое время Франк сам выбирал сюда, кого поглупее, чтоб меньше было соперников. Значит, Туссен!
Объяснив ситуацию, Франк изложил свою точку зрения. Пусть капитулировал Дениц, они не сложат оружия. Сила еще на их стороне. Потому наступать и наступать. Пока они не задушат восставшую Прагу, американцы их не выручат. Надо перехитрить национальный комитет. Продолжать переговоры. Пусть Туссен сам направится к повстанцам. Можно обещать, что угодно, лишь бы выторговать время. Пусть Прага пропустит войска Шернера. А придет фельдмаршал — они покончат с Прагой, и тогда им ничто не страшно; их выручат американцы.
Слушая, Туссен с недоверием приглядывался к Франку. Его тонкий нос едва ли не знал, что такое чутье. Глубокие морщины у рта не обязательно свидетельствовали о бесплодных усилиях. А с жеманных губ, как-то напыщенно стягиваемых в узел, слишком часто срывались слова исступленного бешенства. Жестокие беспощадные слова! И невыносимо ледяные глаза, чем-то похожие на волчьи ягоды. В них ни искорки человеческого тепла. Что ж, Франк умеет гнуть и расправляться. Но сейчас он зря рассчитывает на пражский гарнизон. Рассчитывать можно лишь на Шернера. Ему давно пора свернуть фронт и собрать силы в Прагу. Вот выход! Вслух же он сказал Франку:
— Хорошо, мой экселенц, будет исполнено!
После ухода Туссена Франк остался в своем кабинете, обставленном тяжелой палисандровой мебелью. До самого вечера он звонил в части гарнизона, вызывал чиновников и военных, тщательно изучал обстановку. Похоже, Шернер сдерживал русских. Прага истекала кровью. Танки Туссена смяли многие баррикады и прорвались на Староместскую площадь. Франк не раз порывался приказать им снести с лица земли памятник Яну Гусу, но решимости ему не достало. Это могло еще более ожесточить повстанцев. Чуть позже ему доложили, что танки пробились в новые кварталы и заняли Карлин, Либень, Винограды. В центре горела ратуша. Обещая повстанцам прекратить огонь, он приказал Туссену усилить нажим, упорнее пробиваться к Бартоломеевской улице, где заседал чешский национальный совет.
Немцы усилили террор в Панкраце и на Оленьем валу. Им удалось разгромить Народный дом и схватить сотрудников коммунистической газеты «Руде право». Черные бомбардировщики бомбили город.
Франк потирал руки, его глаза зловеще вспыхивали надеждой. Нет, его ничто не остановит. Чехи сами проклянут тот день, когда поднялись на это восстание.
Поздно вечером он включил «телефункен». Что говорят повстанцы? Как раз объявили, что сейчас будут передавать обращение чешского национального совета.
Франк подсел поближе, лучше настроил приемник. Что они скажут сейчас? — нетерпеливо ждал он начала передачи.
С первых же слов диктора он забыл про все и, слушая, злобно сжимал кулаки.
«Солдаты! Революционная армия! Героические граждане Праги! Товарищи рабочие! Труженики! Братья и сестры!» — взволнованно перечислял диктор.
«Шесть лет угнетали нас гитлеровские разбойники. Сейчас пришел конец власти этих палачей. Сегодня Германия капитулировала перед союзниками».
Знают уже, — скрипнул зубами Франк, — и этим они подожгут остальных. С ними едва ли теперь сговоришься.
«Мы, граждане Праги, древнего города со славной историей, — снова вслушивался Франк в дышащий пафосом голос диктора, — прославим чешский народ, как его в прошлом прославили великий Жижка и его табориты. Мы ведем кровавый и беспощадный бой, проникнутые одной мыслью — не отступать, сражаться, победить».
Франк заерзал в кресле.
«Кровавый палач Франк, — повысил голос диктор, — сегодня предложил нам переговоры, выдвинув условием, что пражские улицы должны быть освобождены от баррикад, чтобы могли пройти немецкие войска. За это он обещал нам отказаться от поста германского министра в чешских землях и прекратить обстрел Праги».
Франк злорадно прислушался к залпам, гремевшим за окном. Его пушки по-прежнему обстреливали город. А диктор все продолжал и продолжал. Национальный совет требует безоговорочной капитуляции. После разоружения он обещает пленным жизнь. Он призывает повстанцев усилить удары, чтобы ни один немецкий танк не прошел через баррикады. Он торжественно провозглашает, что рождается новая республика, республика трудового народа. Он призывает на помощь всех партизан, обращается к русским братьям, к американским и английским друзьям, зовет их на помощь восставшей и расстреливаемой эсэсовцами Праги.
Передача закончилась призывами и лозунгами в честь победы, в честь революции.
Что он слышит, Франк. «В честь революции!» Он, гауляйтер фюрера, перед которым, как ему казалось, дрожал весь протекторат, слушает, как еще недавно подвластные ему чехи требуют его капитуляции и славят свою революцию! Нет, беспощадный огонь, беспощадный террор, беспощадный разгром! — вот его ответ национальному совету.
Но где у него силы? Где власть? Все мираж. Раздираемый по швам трещит весь рейх. Где же ему, Франку, справиться с восставшей Прагой, на которую движутся такие полчища русских!
Нет, завтра же он пошлет к ним, чехам, самого Туссена, чтобы выторговать хотя бы одни сутки. Если не удастся, значит бежать, не оглядываясь, бежать к американцам. Не то самое страшное — смерть или русский плен!
Он с силой прикусил нижнюю губу и сразу же ощутил противный соленый привкус собственной крови.
3
Сестрой милосердия в отряде была пани Гайная. Ее никто не звал, она пришла сама. Перевязывала раненых, ухаживала за ними, помогала готовить на повстанческой кухне. Когда ушел Ярош, она принесла горячий кофе. Нет, Йозеф не откажется от такого напитка, если уже отправлено и повстанцам. Обжигаясь кофе, он не сводил глаз с этой удивительной женщины. Ей давно за сорок, у нее страшное горе, только ни годы, ни беды не сломили ее воли, не подорвали ее сил. О пережитом напоминает лишь большая седая прядь гладко зачесанных волос.
Она еще красива, пани Гайная, и Вайда до сих пор влюблен в нее по-прежнему. Нет, он не пристает к ней со своими чувствами. Но его дружба, его преданность ей — беспредельны. Он полюбил ее еще гимназистом. А ей нравился его друг и товарищ Густав Гайный. Она и вышла замуж за Густава. Йозеф женился на другой девушке, был по-своему счастлив и на всю жизнь сохранил дружбу к семье Гайных. Немцы сгубили Густава. Погиб младший сын Яник, замученный гестаповцами. Неизвестно, где воюет старший Вилем. Дочь ее Власта с партизанами. А пани Гайная варит кофе и кашу повстанцам, ухаживает за их ранеными. Такова жизнь. А Вацлав вроде не видит этого. Разве мыслимо теперь, когда у порога стоит настоящий мир, разве мыслимо складывать оружие?
С баррикады примчалась девушка и, задыхаясь, прокричала:
— Немцы танки выдвигают, орудия!
Йозеф бросился на баррикаду, и за ним выбежала Гайная.
— В подвал, пани Мария! — приказал ей Вайда. — Нужно будет — позову.
Она заупрямилась, но Йозеф твердо потребовал подчиниться.
Немецкую атаку отбили снова. Вынесли раненых и убитых. Вацлав укоризненно поглядел на Вайду, но ничего не сказал и молча спрыгнул в окоп.
Опять тихо. Брезжит рассвет. Небо ясное, темное. Звезды безмолвно искрятся над головой, словно изумляясь людям. Объявлен мир, капитуляция, а тут такой гул сражения!
Вайда негодовал. Проклятый Шернер! Он рвет и мечет, чтобы пробиться на запад, к американцам. Он не хочет примириться с восставшей Прагой и готов стереть ее с лица земли. Вчера немцы весь день устанавливали пушки на Градчанах, нацеливая их на стобашенную Прагу. Когда же кончится все это? Или им не судьба увидеть радостного дня победы? Но почему?
Йозеф прилег у окопа Вацлава и молча прислушивался к звукам раннего утра. Заметно побледнел горизонт: густое небо как бы подтаивало снизу. Отрывистый щебет птиц почему-то настораживал. На улицах Праги вспыхивали редкие выстрелы. А когда стихало, зловещая тишина давила еще больше. Йозеф всем телом вдруг ощутил еще едва заметную дрожь и, чтобы лучше понять, в чем причина, с силой прижался к земле. Теперь он привстал и сидя прислушался к гулкой вибрации, доносившейся откуда-то издалека. Трамвайная рельса, торчком, как мачта, вытянувшаяся в центре баррикады, вдруг как-то загудела, словно от боли, и Йозефу показалось, что укрепленный на ней национальный флаг вроде затрепетал от дрожи.
Гул заметно нарастал, и к нему прислушивались уже многие. Вацлав вылез из окопа и в тревоге поглядел на Вайду. «Слышишь, танки ведь!» — как бы говорил его взгляд.
Йозеф слушал, сжав кулаки, стиснув зубы. Нет, это не грохот дальней канонады и не разрывы бомб — так гудят лишь танки, несущие железный гром понизу, от которого, уже слышно, содрогается земля.
— Танки Шернера! — едва слышно прошептал Вацлав. — Смерть одна.
— К бою, товарищи! — властно сказал Вайда, направляясь в обход позиции. — К бою!
Теперь ясно, танки. Это они. Немцы, видно, решили разом покончить с Прагой. Может, и прав Вацлав, на минуту дрогнул Вайда, разве можно справиться с такой армадой. Нет, только не сдаваться. Ни в коем случае. Сколько б их ни было, — смерть или победа!
Повстанцы проверили оружие, дозарядили магазины, приготовили гранаты. Выкатили последнюю пушку, принесли последние снаряды.
Смерть или победа!
А гул все ближе и ближе, и лязг гусениц уже различим на соседних улицах. Йозефа зовут к телефону. Нет, сейчас не до разговоров. Пусть сходят выяснят, в чем дело.
Еще не вернулся связной, как в глубине улицы показался первый танк, за ним второй, третий… Сколько же их мчится навстречу повстанцам? Но что такое? — даже привстал Вайда, высунулись из окопов партизаны. — Что такое? Передний танк весь облеплен людьми, и над ним полощется красное знамя.
— Русские, други, ура!
Повстанцы бросились на баррикаду, перемахнули через нее на ту сторону улицы и стремглав понеслись навстречу танкам.
— Русские, братья пришли, ура!
Это был ураган чувств, самых чистых и сердечных, выражавших радость, восторг, счастье.
На улицы и площади высыпала вся Прага. Она смеялась и плакала, расспрашивала и благодарила, восхищалась изумительному подвигу войск, за ночь пробившихся из Берлина, чтобы вызволить из беды Злату Прагу. Честь и слава героям! Честь и слава освободителям! Прага выжила, Прага победила!
Все дни восстания низкое небо было хмурым, дождливым. Сейчас же над Прагой вставало яркое солнце, чистое, большое, горячее. Настоящее солнце, солнце счастья и свободы, солнце победы!
4
Старый скромный памятник раненому воину производил неотразимое впечатление. На высоком постаменте он вынесен на простор шумной площади, и тонкие очертания его темной, падающей фигуры как бы вырезаны на чистом фоне золотисто-голубого неба. Воин смертельно ранен. Искусство ваятеля чудесно передает инерцию бега, еще сохранившуюся в пораженном насмерть сильном теле. Фигура воина необычно сочетает два непримиримых противоречивых движения: одно — в бой, в жизнь, и другое — в беспомощность, в смерть…
Жаров залюбовался. Памятник просто символичен. Прага тоже была смертельно раненой и истекала кровью. Еще немного, ее совсем бы искалечили фашистские варвары, но вовремя пришли друзья и отсекли палаческую руку, они вдохнули жизнь, и смертельно раненый город-воин уже дышит вольно и свободно. Сейчас он ничем не напоминает о беспомощности и смерти, у него только одно движение: в бой, в жизнь!
И в самом деле, куда ни взгляни, гремит и ликует Злата Прага. По улицам города ни пройти, ни проехать без того, чтобы тебя десятки раз не остановили с вопросом, не предложили возможно необходимую помощь, не выразили сердечного слова привета. А уж остановив, непременно пожмут руки, восторженно улыбнутся, если ты свободен, зазовут на квартиру и станут угощать, о всем расспрашивать и рассказывать сами. Ты не знаешь дороги — они рады тебе помочь и напрашиваются в провожатые. Искристое солнце слепит глаза, и ты достаешь платок — несколько человек разом протягивают тебе свои темные или розово-дымчатые очки, какие тут носят очень многие. Не подумай отказаться: это невозможно. Люди влюбленно смотрят тебе в глаза, они мгновенно выполняют твое любое желание, и вместе с тем они нисколько не подобострастны: смелый, мужественный и независимый народ!
Могучим живым потоком машину Жарова вынесло в шумное людское озеро Вацлавской площади и прибило к тяжеловато торжественному всаднику с копьем. Ее сразу окружили чехи:
— Вам куда? Хотите поможем? — наперебой предлагали они офицерам, которые спешили на митинг-парад чехословацкого войска. Молодой шустрый чех в больших дымчатых очках охотно вызвался в провожатые. Снова и снова замелькали каштановые бульвары и площади, каменная летопись которых напоминает о большой и бурной жизни: готические башни, фасады ренессанса, барочные статуи.
— Як вам се ту либи?[34] — спросил чех-проводник.
— Очень, очень нравится! — без всякого преувеличения за всех ответил Жаров.
Мимо несли яркое полотнище с надписью: «Се Совецким Свазем на вьечны часы!»[35]
— А нигды инак! Никогда иначе! — произнес юноша по-чешски и по-русски.
— Вы знаете русский? — спросил Березин.
— Мало, будем изучать, как язык прогресса, — ответил чех.
Всюду без конца живой человеческий поток, устремленный к центру, где бушевало тысячеголосое людское море, расцвеченное флагами и знаменами, полотнищами лозунгов, огневыми красками национальных костюмов. Чудный майский воздух звенел песнями радости и музыкой гимнов и маршей.
Оставив машину, офицеры пробились на Староместскую площадь, где величественно возвышалась аскетически строгая, черная фигура Яна Гуса, обращенная лицом к Тинскому костелу с его поразительными легкими архитектурными линиями. Мужчины и женщины в живописных национальных костюмах: моравцы в своих зеленых альпийских курточках, обшитых медными пуговицами; коренастые словаки в костюмах из белой шерсти, с пастушескими топориками-посохами в руках, рослые чехи из ближайших к Праге деревень в расшитых кожушках. Все жители столицы тоже во всем лучшем и праздничном, девушки в венках и многоцветных лентах, дети, облепившие весь памятник Яну Гусу, с маками в руках. Рабочий и крестьянский люд заполнил всю площадь, все прилегающие к ней улицы, балконы выходящих на нее домов, гроздьями повис на деревьях.
Мимо правительственной трибуны шли колонны чехословацкого войска, у которого славный боевой путь от Днепра до Влтавы. Вот оно, молодое детище новой демократической армии! Стройные ряды проходят мимо, и нет конца лозунгам привета и одобрения, которые звучат то по-чешски, то по-словацки, то по-русски.
— Хорошо идут! — порадовался Жаров.
— Еще бы! — согласился Григорий. — Родная сестра нашей армии.
— Славная сестричка! — и Андрей пристально вглядывался в ряды колонн, отыскивая знакомых, но пока никого не видно.
На низкой трибуне скорее всего замечаешь Клемента Готвальда, он бодр и возбужден, много шутит, и смеется, восхищенно следит за колоннами, шагающими мимо трибуны, и время от времени бросает людям жгучие и пламенные слова, вызывающие самый горячий отклик в их сердцах.
— Смотри, — указал Березин, — видишь кто?
— Гайный! — вскрикнул Жаров от удивления, хотя давно искал его среди участников парада, и когда колонна поравнялась, офицер громко и отчетливо крикнул:
— Капитан Гайный! — и приветственно замахал рукою.
На них смотрели и радостно улыбались чехи и чешки.
— Честь труду! — крикнул в ответ Вилем. — Ать жие Руда Армада!
Поручика Вацлава Конту они не увидели. Убит или ранен? Зато как только пошли танки, Жаров первым увидел светловолосую в пилотке голову Евжена Траяна, высунувшегося из открытого люка.
— Траян, Траян! Ать жие Чехословенска Армада!
— Ать жие Москва! — обернувшись, крикнул Траян.
Долго гремит и ликует древняя Прага, празднуя победу и свое освобождение. Когда пришли Вилем Гайный и Евжен Траян, офицеры горячо обнялись и расцеловались на глазах у сотен людей. Да, Вацлав Конта ранен и лежит в одном из пражских госпиталей.
Офицеры направились к машинам. По пути на свою квартиру, Вилем долго кружил по городу, стремясь показать наиболее достопримечательные места родной столицы. Жаров и Березин залюбовались Карловым мостом, с которого чудесный вид на замок. Полукилометровый мост построен еще в четырнадцатом веке и украшен тридцатью статуями, каждая из которых совершенное произведение искусства. Машина проходит через старинный аристократический квартал Мала Страна, застроенный церквами и монастырями, шикарными особняками и дворцами старой знати. К северу отсюда другой квартал Бубенеч с виллами и садами пражских буржуа.
— Людей этой Праги мы не видели и не слышали, — кивнул Березин на особняки чехословацкой буржуазии.
— Да она чуть не вся продалась немцам или заокеанским заправилам, — сердито ответил Гайный. — Ее сейчас не услышишь: засела в норы и роет под землей…
Вилем пригласил взглянуть теперь на рабочие кварталы столицы. Повернув на Высочаны, машина по дороге на несколько минут остановилась у сильно разбитого бомбами предприятия.
— Пока они работали на немцев, — указал на поверженные корпуса Вилем, — американцы их не трогали, а перед самым вашим вступлением в город, взяли и разбомбили.
— Союзнички, называется! — возмутился Березин.
У заводских развалин Вилем неожиданно встретил знакомого. Это Йозеф Вайда, друг и товарищ их семьи. Будучи социал-демократом, уговаривал Вилема и его друзей сдать оружие. А потом сам строил баррикады и бился с немцами, и уже коммунист. Видите, как жизнь учит.
— Спасибо вашим, — проникновенно сказал Вайда, — запоздай они немного, конец бы и нам, и Праге.
Он говорил только по-чешски, и все, что неясно и непонятно, переводил Гайный или Траян. Вилем забрал Вайду с собой в машину.
Наконец, и Высочаны. Они тянулись сплошной и однообразной стеной. Ни деревьев, ни зелени. На всех домах слой многолетней пыли и копоти. Живут скученно, без всяких самых элементарных удобств. Всюду ветхие хибарки, где ютится рабочий люд. Трущобы и только.
Да, вот они, рабочие жилища красавицы Праги!
— Станем хозяевами, — сказал Вайда, — уйдем в город. А тут — тут все надо строить заново.
Вилем повез офицеров в Летенские сады, раскинувшиеся на высоких холмах над Влтавой. Это любимое место отдыха пражан. Справа возвышаются Градчаны, как зовут здесь пражский тысячелетний кремль, а прямо перед ним во всей своей красе стобашенная Прага. Всюду опрокинутые орудия Шернера, из которых его головорезы собирались расстрелять восставшую Прагу, чтобы сравнять с землей ее дворцы и башни, ее фабрики и заводы. К счастью, не успели.
5
Квартира Гайного в одном из небольших переулков в Нове место. Офицеры приехали уже к вечеру, и мать Вилема встретила их радушно. Все с удовольствием сели за чай, к которому подан суррогатный хлеб с кисловатым повидло.
— Мамо, а консервы? — напомнил Вилем.
Женщина смутилась.
— Мне казалось неудобным угощать гостей их же консервами: ведь вы получали их с русских складов.
— Давай, мамо: они не взыщут, — успокаивал Вилем.
Беседа за столом была оживленной.
Мать Гайного с виду молодая к еще сильная женщина, но уже поседевшая и с усталым лицом. Много горя привелось перенести ей за время отсутствия сына. Рассказывала она просто, без всякой аффектации, как человек, умеющий сдерживаться, и в то же время с той скрытой внутренней силой, которая всегда и наверно действует на чувства слушателя. Муж ее — художник — был без памяти влюблен в искусство. Его особо интересовали произведения, выражающие идею справедливой силы. Он собирал их копии и репродукции, составлял альбомы, коллекционировал скульптуры, копирующие выдающиеся произведения великих мастеров. Во время одного из обысков гитлеровские палачи вели себя особенно нагло, так что многое перепортили. Густав, так звали мужа, раскричался, и его забрали. После побоев в застенке старика выпустили, но он не мог поправиться и умер. Вздохнув, женщина отпила глоток чаю и продолжала дальше. Сестра Вилема уехала в Пльзень, там и жила и работала в подполье, а в Прагу приезжала изредка и тайно. Сегодня парад, и она будет дома. А вот младшего сына не уберегла. Как он погиб? Женщина покачала головой. Вспомнить, так сердце разрывается. Его звали Яном, а дома запросто — Яником. Он все с Вилемом просился в Россию. Не отпустили, молод, боялись: ему четырнадцать было. И, конечно, хуже сделали. Он и тут не остался без дела: листовки расклеивал. Схватили. Как мучили, — только он сам знает. А смолчал. Никого не выдал. Потом вызвали ее и показали на обезображенный труп. «Знаешь кто?» — спросил палач. Она покачала головой, не знаю. «Это и есть твой сын! Бери и всем расскажи, с каждым коммунистом будет вот так же!» Она не упала в обморок, и не вскрикнула даже, только ноги подкосились сами собой, и она рухнула на его распростертое тело. Руки сразу окрасились яниковой кровью. Не помня себя, она показала фашисту руку и сказала: вот она, кровь сына, ее ничем не смыть! Наклонилась, подняла родненького и понесла, не помня себя понесла!
Мать! Есть ли что на свете сильнее счастья и горя матери! Андрей встал из-за стола и остановился у высокой полочки, на которой стояли еще уцелевшие и сохранившиеся скульптуры отца Вилема. Это известные миниатюры-копии, сделанные с великих творений Микеланджело. Вот его «Мадонна с младенцем». Ни по каким фотографиям невозможно представить ее силы. Мадонна — это не божья, а человеческая мать, и ребенок ее — не небесного происхождения, а настоящий, земной. Мать спокойна и счастлива, она кормит малыша, и радость материнства придает ее лицу выражение высокого благородства. В нем и гордость за сына, и физическое блаженство, и тень нежной улыбки, и забота о сильном. Вот так же и наши советские и вместе с ними чешские, румынские, польские — матери всего света кормили и растили своих детей. А скольких из них загубили фашистские палачи! Как же велика и возвышенна сила, уничтожившая это чудовище и спасшая человеческую цивилизацию!
Андрей перевел взгляд на другую скульптуру-миниатюру, тоже с работы Микеланджело. Это «Давид». Библейская легенда рассказывает о юноше, который смело вышел на поединок с великаном Голиафом и «с божьей помощью» уложил его камнем из своей пращи. Но в скульптуре совсем не чувствуется ничего божественного. Фигура юноши, лишь слегка опирающаяся на правую ногу, готова к быстрому и решительному усилию. Голова чуть наклонена вперед, и в ее движении искусно передано упрямство, собранность и воля. Лишенное злобности, его упрямство как бы вырастает из естественной, как дыхание, веры в свои силы. Мускулы еще расслаблены, и великий художник удивительно верно схватывает тот самый мгновенный покой, за которым следует взрыв всех сил.
Герой-одиночка в бою с великаном! Что ж, честь и слава ему, его мужеству и силе. Только в наше время этой силы мало. Разве она заменит силу коллектива, массы. Будь Яник героем-одиночкой погиб бы и все. Но он был малой частицей коллектива-гиганта, в котором и советские люди, и патриоты других стран, поднявшиеся на борьбу с фашизмом. И кто бы ни пал в этом бою, коллектив-гигант живет и борется, он наверняка побеждает.
— Честь праци, пане полковник! — услышал Андрей за спиной приятный женский голос и мгновенно обернулся. Перед ним молодая чешка с твердым взглядом карих глаз, резко очерченным красным ртом. Она очень красива, смелая и гордая девушка, так что увлеченный своими мыслями, Жаров не сразу опомнился и повернувшись:
— Честь праци! — повторила она, ласково смеясь и протягивая ему руку. — Власта Гайная.
— Здравствуйте, Власта, — ответил Жаров, пожимая руку. — Я засмотрелся на скульптуры и не слышал, как вошли вы. С приездом!
— Благодарю. Однако вас так увлек Микеланджело, что вы ничего не замечаете…
Андрей рассказал о своих мыслях.
— Вы правы, правы, как и все советские люди, брат Вилем просто влюблен в вас, впрочем, не один Вилем, — поправилась Власта, — а все чехи и чешки влюблены, как в старшего, опытного и умного брата, у которого все хочется перенимать.
— Против фашизма, — сказал Евжен Траян, не спуская с Власты влюбленных глаз, — я признаю только одно оружие, которое стреляет.
— Есть сила и более могущественная, — спокойно возразил Березин, слегка отодвигая от стола свой стул.
— Это какая?
— Сила справедливости и чести — наше могущественнейшее оружие: без нее немыслима теперь никакая победа.
— Чехи в 1938 году были очень справедливы, однако они не победили, — не сдавался поручик.
— Они победили, когда пошли по правильному пути, победили с помощью советских людей.
— С помощью их оружия все-таки…
— Да, но не только. В наше время, когда война вовлекает в борьбу огромные массы, идейное, духовное оружие — величайшая сила. Без нее, учит Ленин, нельзя победить. Как молодому офицеру новой демократической армии, вам нельзя забывать об этом. Вот так, брат мой, — Григорий дружески тронул его за локоть, — подумайте об этом.
— Евжен, не спорить, сразу нахмурилась Власта, но, тут же улыбнувшись, добавила: — Не прав — сдавайся: это признак силы и мужества.
— Я готов был отступиться, Власта, и без твоего приказа, — произнес Евжен, — я слишком уважаю майора, чтоб не поверить ему.
— То-то!.. — ласково погрозила она ему пальчиком.
Андрей взглянул на часы: пора ехать.
Офицеры тепло распрощались, обещая друг другу завтра встретиться в гостинице «Алькрон».
Глава двадцатая НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
1
Власта, она очень походит на ласточку: маленькая, гибкая, стремительная. Легкое платье ладно облегает ее тонкий стан. Черные волнистые волосы, перехваченные лентой, свободно откинуты назад. Особая же прелесть в ее лице, в темных блестящих глазах, которым чуть надломленные брови придают неуловимый оттенок наивности, задора и властности одновременно. И ко всему у нее фейерверочный темперамент.
— Ну, как ты можешь, как! — наскакивала она на Евжена, вздумавшего было отстаивать свою неправоту. — Ошибся — уступи: упрямство — ненадежный щит слабых, — и горячо споря с ним, девушка беспрестанно обращалась за поддержкой к Березину, авторитет которого одинаково непререкаем для обоих.
«Умна и красива, — с удовольствием подумал Максим Якорев, с интересом присматриваясь к чешке, — да и упорна, эта спуску не даст!» Он сравнивал ее с своей Олей, что сидела сейчас рядом, и находил в них много общего, только черноволосая Власта, привыкшая командовать (она возглавляла партизанскую группу), была более резкой, а белокурая Оля выглядела нежнее и ласковее, хотя ее порывистость временами оказывалась столь упорной, что Максиму приходилось во всем уступать девушке. Сейчас же она просто светилась радостью и не скрывала, как соскучилась по Максиму. Еще бы! Она не видела его с злополучных витановских событий, когда он на руках принес се в санчасть, всю израненную и истекавшую кровью.
Их встреча в Праге была неожиданной и особенно радостной. Оля думала, он в Берлине, а Максим с танками Конева раньше ее оказался в Праге.
Последние недели войны Максим провел в бесконечных разъездах и был полон самых необычайных впечатлений. Пришлось объездить чуть не весь фронт. Ему по счастливилось попасть во Францию, побывать в Париже. Затем увидеть встречу американских и советских войск на Эльбе, участвовать в штурме Берлина, своими глазами видеть его падение, всю капитуляцию фашистского рейха. Его рассказам не было конца, а ненасытная Оля все расспрашивала и расспрашивала, хоть не пропустила ни одной статьи Максима в газете.
За столом никто не скучал, и живой непринужденный разговор не смолкал ни на минуту. В больших кружках, услужливо поданных официантами, слабо пенилась пресная брага. Пражский отель «Алькрон» — один из лучших, но и в его ресторане буфет совершенно пуст. Хорошо, предусмотрительный Юров захватил с собой и закуски, и золотистого токайского, и русской горькой, так что есть чем угостить чешских друзей.
— Перестань, Власта, — заступался Вилем за Евжена. — Рассказала б лучше о своем Пльзне, — напомнил он, взглядом приглашая сестру поделиться впечатлениями о городе, где обосновались американцы. — Как они хозяйничают там?
— А ну их! — раздраженно отмахнулась девушка. — Ждем — не дождемся, как их только ветер унесет.
— Что так, пани Власта? — даже оторопел Йозеф Вайда.
— Хуже нацистов! — повернулась девушка к пражскому повстанцу. — Те хоть друзьями не притворялись: раса господ и все! А эти — ханжа на ханже! Я не о солдатах, конечно, — о комендантах.
— Ну и ну! — весь подался вперед Йозеф, но рассказу девушки помешал громкий стук в дверь.
— Войдите, — с неудовольствием обернулся Жаров.
В комнату бесцеремонно ввалились четверо с бутылками виски в руках, все в форме офицеров иностранной армии. Двое из вошедших, как и многие янки, шумливы и развязны. Третий более скромен и сдержан, а четвертый оказался чопорным англичанином. Все они разом заговорили на ломаном немецком, и понять их почти невозможно.
— Разве господа офицеры не владеют своим языком? — обратился к ним Березин на чистом английском.
— О'кэй! — немало подивились вошедшие звукам родной речи.
Приехав из Пльзня и Моста, они остановились здесь же в гостинице. Гости просили разрешения побыть в компании русских и чешских офицеров. Все знакомства американцы начинают с тоста, и они наперебой предлагали виски. Понюхав из налитой рюмки, Юров брезгливо поморщился.
— Чистый сырец! — скривил он губы. — Нальем лучше русской.
Двух из американцев Максим узнал сразу. Это же его парижские знакомые. Вот встреча! Но американцы, видимо, не помнили и ничем не выдавали своего знакомства с Якоревым. Молодой офицер тоже молчал до поры до времени.
Березин поднял бокал за победу, за дружбу между народами, за всех, кто честно боролся против фашистской Германии. После тоста общая беседа стала совсем непринужденной, и весь разговор шел больше по-английски, а Березин вольно-невольно превратился в самого активного собеседника и переводчика. Причем, когда говорила Власта, ее с чешского на русский переводил Вилем или Евжен, а с русского на английский уже Березин.
Старшим из англосаксов по возрасту и по чину был майор Уилби: высокий грузный мужчина с лысой головой и крупным мясистым лицом. Человек бурного действия, он почти не сидел в кресле, а все время метался по комнате. Он явно раздражен и раздосадован, хотя всячески пытался скрыть это и сдержать свои чувства. Усевшись, наконец, в кресло, он начал доказывать Березину, что истинная справедливость принадлежит не массам, а лишь избранным и сильным личностям, способным руководить массами и подчинять их своей воле. Березин долго и убежденно возражал. Он говорил о силе масс, выигравших эту войну, об их могуществе и стойкости, о массовом героизме советских людей, о коммунистической партии, воля которой объединяет миллионы, организует и направляет их.
Откинувшись в кресле, Уилби криво усмехался.
— Нет, нет, — качал он головой, — я не верю в массы: это конгломерат из песка и камня, просто конгломерат. Дайте этой массе хозяина, и она сила. Кнут в его руках — оружие самое незаменимое. Да, кнут.
— Однако вся история опровергает вашу мысль, — парировал Березин.
— История, что кокотка, она не постоянна, — и Унлби извинительно взглянул на Олю и Власту, отошедших к окну.
— История — из тех видов оружия, — с философическим спокойствием доказывал Березин, — пренебрегать которым весьма опасно.
— Оставим историю, господа, — потирая лоб рукою, лавировал Уилби. — Даже самая организованная масса не идет к цели одной дорогой. Сколько единиц в ней, — столько и направлений.
— Истинно так! — поддакнул вдруг молчаливый англичанин, плотоядно облизывая сухие губы. Сутулый, жилистый, длиннорукий, он мало подвижен и несловоохотлив. У него маленькая голова с костистой физиономией, на которой прежде всего замечаешь чопорно надутые губы.
— Нет, мистер Джон Роу, неправда, абсурд! — повернулся к нему Березин. — Жизнь всем опровергает это.
— Скорее она подтверждает, — упорствовал Уилби, бесцеремонно перебив начавшего что-то говорить англичанина. — Возьмите пулемет, отличный современный пулемет. Поставьте обычную стрелковую мишень с черным яблочком посредине. Ну, выпустите сто, двести, тысячу пуль. Это ли не организованная и целеустремленная масса! Но подойдите к цели. Если вы даже прекрасный стрелок, очень немногие пули окажутся в яблочке. Очень немногие! Что поделать: закон рассеивания. Так и с людьми, с массами… Как ни направляй их, очень немногие достигнут цели, попадут в яблочко. Разве не так? — подавшись вперед, Уилби усмехался, блестя глазами. — Что можно возразить против истины?
— Да это же бред просто! — наклонившись к Жарову, негромко произнес Юров, как только Григорий перевел тираду американца.
— Какая тут истина, — спокойно возразил Березин, — если вся философия построена на ложных посылках. Нельзя же законы физики механически переносить на законы общественной жизни, а уж если рассуждать, используя ваш образ, зачем же брать столь мелкую цель? Возьмите большую, чтоб была она поистине велика. Тогда и закон рассеивания потеряет значение: ничто и никто не минует цели.
— Таких целей не существует.
— Есть, и много таких целей: дружба народов, их стремление к миру, весь труд на их благо; наконец, коммунизм — вот цель, мимо которой не может пройти человечество, как бы ни было велико временное расхождение путей, по которым оно движется вперед.
— Сложен путь, легко и заблудиться.
— Марксизм-ленинизм — верный компас. И не только компас, а самое верное оружие борьбы в руках народов.
— Пропаганда! — отмахнулся Уилби.
— А по-моему, крепко, — вмешался в разговор и лейтенант Мартин Ривер, коренастый блондин с твердым взглядом простых серых глаз. — Крепко и верно. У русских все построено на разуме, и все — для всех, а у нас — на игре страстей, и все — для немногих. Нет, я поддерживаю ваши мысли, — поднимаясь, обратился он к Березину. — Знаю, их одобрили б и все рабочие механического цеха в Нью-Йорке, где я до войны работал инженером. — Ваше здоровье! — и разом опрокинул в рот рюмку виски.
Четвертый из незваных гостей — лейтенант Френк Монти. Рыжий долговязый офицер из тех янки, про которых еще Горький писал, что у них прежде всего замечаешь зубы. Вначале он был шумен, а потом приутих и заскучал: разговоры его нисколько не интересуют. Но, улучив момент, он подошел к Жарову с Якоревым и молча потянул их к двери. Обернувшись, Максим перехватил недовольный и завистливый взгляд Уилби, которого в чем-то опередили. Френк провел офицеров в свою комнату, то и дело приговаривая по-немецки, видимо, привычное восклицание: «айн момент!» В комнате беспорядочно замусоренной окурками, консервными банками и обрывками бечевы и бумаги, гора чемоданов. Монти снял один из них и, расшаркиваясь, самодовольно открыл крышку:
— Хотите, очень дешево! — предложил он, указывая на часы.
Изумившись, Жаров отрицательно покачал головой.
— Айн момент, — и Френк открыл второй чемодан, набитый дамскими подвязками. — Шедевр! — восхищался он своим товаром. — Уилби возьмет с вас в два раза дороже.
— Разве и он торгует? — поинтересовался полковник, делая вид, что это нисколько его не удивляет.
— О, да, это наш малый бизнес, — разъяснил Френк, — но мы делаем и большой бизнес: скупаем ценные бумаги. Сейчас вся армия торгует, и конкуренты на каждом шагу. Так как же? — возвратился он к подвязкам. — Шедевр?!
Офицеры отказались и от шедевра. Тогда Френк услужливо распахнул еще один чемодан с иголками для швейных машин:
— Лучшие в мире! И не дорого.
Офицеры переглянулись. Он рассмешил их, Френк Монти.
— Знаете, Френк, — сказал Жаров, — война — не торговля, наших офицеров не занимает купля-продажа.
— Ну, знаете, — изумился Монти, — это фикция. Война — бизнес, кому — большой, кому — малый, а все равно — бизнес, — с досадой захлопнул он крышки чемоданов.
— Мы не сговоримся: нам вот и бизнес ваш кажется обманом, грабежом, если хотите, гнусной наживой на чужой беде.
— Ну, и ну, — все больше удивлялся Максим, шагая за Жаровым по коридору гостиницы и не обращая внимания на рыжего янки, который, впрочем, все равно ничего не понимал по-русски. — Вот вошли они сегодня, все высоченные, а мне сразу показалось, — нам по пояс только. Поговорили — они еще короче сделались. А вот начали торговать — так совсем карлики-уродцы и уж едва до колен достанут.
— Погоди, Максим, — подхватил Андрей, — узнаем их как следует, — они совсем пигмеями станут. Вот не больше кулака! — так, кажется, греки считали.
— Не все такие, — сказал Максим. — Видел я и настоящих американцев. Бравые ребята, и душа у них веселая, с азартом. Те били немцев, а эти… эти же торгаши и шантажисты.
2
Вернувшись в комнату, обескураженный Френк начал рюмку за рюмкой потягивать виски. Его неудача, которую Уилби почувствовал сразу, видимо, успокоила майора.
— Однако мы освобождали Европу, — продолжал разговор Уилби, — не затем, чтоб устанавливать тут коммунизм. Нет-нет!
— Мы прошли много стран, а нигде не навязывали своих порядков, — возразил ему Березин, — дело самих народов устраивать свою жизнь, как им захочется.
— Ну, знаете, дай народу волю, ничего не убережешь.
— Он создает — ему и хозяйничать!
— Ну, нет! Не к чему разжигать страсти.
— Этак что же, — встрепенулся шумный Френк Монти, — этак же моими акциями в Чехословакии и в Румынии, а вашими, сэр, — повернулся он к Уилби, — в Германии и Венгрии может распоряжаться, кто захочет. Я не согласен, нет, не согласен…
— Да не трещите вы, Френк, — рассердился вдруг Уилби на его слишком прямую откровенность. — Много у нас с вами акций?! Не в них дело.
— Нет, в них, — не сдавался разошедшийся и менее сообразительный Френк, — бизнес есть бизнес. Зачем воевать тогда?
— Ишь щеки-то нажевал! — сыронизировал над ним Юров.
Среди англосаксов неловкое молчание.
— Да, мы только берем у народа, и ничего не даем ему, — раздумчиво произнес Ривер. — В этом наша слабость. А вы, — поднял он глаза на советских офицеров, — вы даете, и в этом ваша сила.
— Я все же за демократию, — поправился Уилби, — за американскую демократию, лишь бы каждый был волен распоряжаться своим добром.
— За демократию Уолл-стрита, сэр, — наклонился к Уилби Мартин Ривер. — Так это ж насос: им легко перекачивать народные денежки в ваши банки, сэр.
— Нет, за американскую, — рассердился майор, — и мы несем ее всюду: и во Францию, и в Германию, и в Чехию, которые мы освобождаем.
— Если всех их вы освобождали, как Чехию, я не порадуюсь за «освобожденных», — срезала Уилби Власта. — К тому же — где и когда вы освобождали Чехию? Да-да, где и когда? — ехидно переспросила она оторопевшего американца.
— Пани Власта, — должна знать, что американские войска освободили Пльзень, Мост и некоторые другие города у западной границы Чехии.
— Но как, как? — настаивала девушка, с удовольствием чувствуя, как Оля поощрительно сжала ей руку.
Уилби передернул плечами.
— Не хотите, так я расскажу как, — пригрозила Власта, приближаясь от окна к столу. — Я ведь живу в Пльзне и часто бываю в Мосте. Мне своими глазами пришлось увидеть, как господа американцы «освобождали» западный краешек нашей Чехии. Не дай бог, им привелось бы продвинуться дальше. Вот уж никто б из чехов не порадовался этому.
Мистер Джон Роу и сэр Крис Уилби нервно завертелись в своих креслах. Френк Монти самодовольно улыбнулся и заикал. Лишь Мартин Ривер, нисколько не огорчившись, удовлетворенно откинулся на спинку дивана, закинув ногу на ногу, и кажется, облегченно вздохнул.
— Ничего не скажу: по заслугам получают, — шепнул он Жарову по-немецки. — Ведь они штабисты-спекулянты, я не из их компании.
— В начале мая чешские повстанцы захватили Пльзень, и когда уж совсем прекратились бои, в город вошли американцы, — не без иронии продолжала Власта. — Ну, и началось «освобождение». Сначала город освободили от национального комитета, то есть попросту разогнали его. Затем американцы издали приказ и всю власть забрали в свои руки, а населению запретили выходить на улицу. Двадцать два часа в сутки не смей никуда показываться. Затем запретили выпуск всех газет, работу почты, телеграфа, радиостанции, приказали всему населению и чехословацким офицерам сдать оружие и в том же приказе потребовали от них обеспечить безопасность нацистским офицерам. Какая нежная заботливость! — разгорячившись, так зачастила девушка, что речь ее напоминала пламенный речитатив пулемета. — А сколько унижений? Им числа нет. Чешский народ, видите ли, они называют «нацией портных и служанок». Официальным языком сразу же после прихода сделали английский, как и немцы в свое время навязывали нам немецкий. Все документы требовали писать только по-английски. А все объявления и приказы для населения печатали сначала на английском, потом на немецком и только в самом конце — на чешском. А скольких убили, изувечили, изнасиловали, сколько там было пьяных дебошей с кровопролитием! Если все это по-американски называется «освобождением» — то что же тогда тирания и угнетение? Что? — наступала на гостей Власта, решительно требуя ответа на свои вопросы.
— Исус Мария! — схватился за голову Йозеф Вайда, — а мы тут ждали их в столицу, русским, думаем, далеко — где успеть, эти ж рядом. Вот бы нагрянули. Да мы б тогда — новое восстание!
— Война есть война… — смущенно и раздосадованно пробормотал Уилби, проклиная в душе и свой заход к русским, и эту молодую чешку-изобличительницу с ее острым, как бритва, языком. — То высокая политика, и не нам судить о ней.
— О нет! То низкая политика! — наступала Власта. — То же и фашисты делали…
Березин перевел дословно.
— Это оскорбительно, наконец, — рассердился Уилби, вставая.
— Да, оскорбительно, — икая залопотал Френк Монти и, выпив еще рюмку виски, двинулся к окну вслед за Уилби.
— Когда восставшая Прага, истекая кровью, звала на помощь, — продолжала Власта, — наш национальный комитет в Пльзне немедленно организовал отряд добровольцев. Но пришел приказ американских властей — отряд распустить и помощь Праге запретить. Лишь тайно некоторым из добровольцев удалось вырваться в Прагу. Это честно, скажите, честно? — все наступала девушка на сэра Криса.
Мартин Ривер лишь посмеивался, радуясь, как достается этому жмоту Уилби.
— А зачем вы разбомбили пражские заводы перед вступлением сюда русских? — вдруг начал допрос Йозеф Вайда. — Почему их не трогали раньше, когда они на немцев работали?
— Я отвечу, — подбежала Власта, — не только пражские, а и пльзенские, и многие другие заводы были разбомблены тогда, когда они уже были не нужны немцам. Вот шкодовские заводы работали на немцев — вы их не трогали. А немцам уходить — вы бац три налета, последний раз в полтысячи самолетов, и что ж… разгрохали их, да еще семь тысяч домов разбили. А ведь русские уж Берлин тогда окружили. Чего бы, кажется, бомбить! То же и в Мосте было. Что это? Военные бомбардировки?
— Это не военные, а политические бомбардировки, — с возмущением воскликнул Жаров.
Затем обернувшись к Березину, Власта стала приводить и другие факты. Тогда еще мало кому известные за пределами районов, оккупированных американцами. В районе Аша и Эмпониц они уничтожили множество машин, массу белья и пищевых продуктов. На Борском аэродроме они облили бензином и подожгли склады текстильных товаров, вывезенных из Пльзня. На окраине города были вырыты глубокие ямы, куда свозились пищевые продукты, мебель, радиоприемники, а затем сжигались. В Хебе своими танками они давили свезенные туда автомашины.
— Да это настоящая террористическая система, какая-то новая разбойничья оккупация! — не сдержался Вилем.
— А чего вы хотите от них, — с презрением сказал Жаров, — их же дельцы всю войну дружески работали совместно с гитлеровцами на румынских и венгерских нефтепромыслах. Мы же сами видели. Потому они и не бомбили их, пока там хозяйничали немцы. Потому, видать, не бомбили и химический завод в Мосте, где немцы получали из угля тысячи тонн бензина для своих танков. А — конец войне, — янки и расхохонили завод, чтобы чехословаки покупали бензин в Америке. Что им оттого, что в одном Мосте убили и ранили тысячи мирных жителей. На днях в одном из наших военных госпиталей я видел чешских женщин и детей, искалеченных американскими бомбами. Да разве эти люди простят американцам их преступления? Никогда! Зачем эти бомбардировки? Да чтоб ослабить рождающийся народный режим, обессилить его, чтоб легче навязать свои планы закабаления. Все это подло, сэры и мистеры, и раз вы оправдываете это — мы не хотим оставаться с вами. Да, не хотим!
— Вы что же, — гоните нас? — опешил Уилби, и лицо его на мгновение вспыхнуло и тут же побледнело. — Это оскорбительно просто.
— Да, да, да… — подступал к нему Вилем Гайный, — не хотим.
Френк Монти закашлялся.
Англосаксы заспешили к двери, но Мартин задержался:
— Я не с ними, — кивнул он в сторону ушедших. — У них вместо души карман: с долларом — они нахальны, без доллара — злы, как сто дьяволов! А свобода — им нож под сердце. Им одну свободу подай — наживаться да грабить без запрета. А вы, вы славные ребята, черт бы вас побрал! Если любите простых американцев, тех, что митинговали в дни войны, требуя открытия второго фронта, выпьем за них: они все ваши друзья, их хорошо понимал Рузвельт.
Все выпили и дружески распрощались с Мартином.
— О'кэй! — приветственно помахал он рукой уже у порога.
— Этот, видать, бравый и честный парень, а те, те — черные гости! — встал из-за стола Березин.
— Освободители тоже! — возмущалась Власта, еще покусывая губы.
— Власточка молодец, — засмеялся Юров, — дала им пить.
— Итальянские рыбаки, — заговорил Жаров, — когда вытаскивают из сети осьминога, то перегрызают ему зубами воздушный мешок, и тогда щупальца его с чудовищными присосками повисают бессильно.
— Вот здорово, — воскликнул Йозеф Вайда.
— Наслушался я сегодня заокеанских горе-освободителей, и вся их банда дельцов, и их большой или малый бизнес показались мне вот таким же спрутом-гигантом, щупальца которого тянутся чуть не во все страны, а воздушный мешок его, верно, на Уолл-стрите в Нью-Йорке.
— Эх, перекусить бы тот мешочек, — перебил Жарова Евжен Траян. — Все человечество вздохнуло б свободно.
— Придет срок — американцы сами перекусят, — повернувшись к поручику, заключил Березин. — Это также верно, как то, что за ночью приходит день.
Глава двадцать первая СВЕТ ВСЕМУ СВЕТУ
1
Кончились бои, и Никола все дни не отходил от Веры. Но что с нею? Заразительная свежесть пышной весны, пахучие цветы, какие ей по утрам приносили солдаты, ослепительно жаркое солнце, звучные песни близких людей, с кем столько времени делила тяготы боев и походов, — все пробуждало в ней чистые сильные чувства жизни, и она не скрывала их. Но стоило заговорить с ней о будущем, как Вера как-то уходила в себя и отмалчивалась.
Они сидели сейчас в тенистом парке, под густою кроною каштанов. Майское утро насыщено ароматом свежих трав и цветов. Воздух чист и прозрачен, и дышится легко и сладко. Скоро домой, на родину. Без Веры Никола не уедет. А она молчит и молчит. Разве мыслимо мириться с этим?
— Нет, ты скажи, мы будем вместе? — уже в который раз он задавал ей один и тот же вопрос.
Не отвечая, она не сводила с него своих синих глаз.
— Ну, скажи же, скажи? — настаивал он снова. И хотя обещающие глаза ее отвечали яснее ясного, ему так хотелось, чтоб были сказаны эти слова и чтоб они рассеяли все его сомнения.
— Ну, ответь же, ответь! — не переставал Никола.
— Любимый, хороший, — прильнула к нему Вера. — Разве я не хочу того же… — сказала и потупилась.
Никола порывисто обнял ее.
— Только…
— Ну, что только? — забеспокоился он, чуть ослабляя руки. — Что?
— Ты же не знаешь своих чувств. Не из кого выбирать — вот и полюбил меня. А начнешь теперь сравнивать — и разлюбишь.
— Сумасшедшая! — Я боюсь другого — ты разлюбишь…
Возвращаясь к себе, Вера повстречала Якорева, и они пошли вместе. Заговорили о любви, о дружбе, о верности. Искоса поглядывая на собеседницу, Максим вспоминал свою мальчишескую влюбленность в эту женщину. Удивительно хороша! Как и раньше, она напоминала ему молодую елочку, свежую и гибкую, немножко грустную и колкую. Она сказала ему, что очень любит Николу. А как же стена? Да, стена. Ведь сама говорила, за старой любовью, как за каменной стеной. Ее ничто не разрушит.
Стена!.. Вера раскраснелась. Она поверила Николе, стена не нужна: за нею, как в заточении. Это, пожалуй, верно, и Максим не осуждает. Только ему хотелось все же спросить, а как быть, если… Если что? Если он не знает, жива ли его Лариса. Когда-то он любил ее, был верен. А пришло время, и нет любви. Все принадлежит другой.
Еще в горах Максим рассказывал Вере о своей Ларисе. Ведь он тоже очень любил ту девушку, сестру товарища, погибшего в море. Как любил? Как… ожидая ее, подолгу томился под заветным кленом, без конца бродил с ней по одесским паркам, катал по морю в шлюпке, пел ей самые лучшие песни. Он был тогда увальнем, а ей нравились живые стройные мальчишки, и она нередко дразнила Максима своим вниманием к ним, разжигая в его душе чувство озорной мальчишеской ревности. Но все равно им было расчудесно. А пришла война — девушка отчалила куда-то в Сибирь. И как в воду канула. Так вправе ли он забыть ее? Вправе ли любить другую?
Вера рассмеялась. Но смех ее не обижал: за ним чувствовалось теплое дружеское участие. Вправе — не вправе? Само сомнение его исключает любовь. Да, исключает. Вера вспомнила слова Думбадзе, его пылкую убежденность, и ей захотелось повторить их, чтоб мысли и чувства стали б близки и понятны ему, Максиму. Смерть любимого человека не отнимает права на любовь к живым, на чистую, хорошую любовь. Погибла девушка — она не помешает его любви, а жива — значит не любит, иначе не смогла бы столько молчать.
Расставшись, Максим одиноко побрел по аллее вдоль узкого озера. В душе у него многое прояснилось, и он почувствовал, как весь разговор этот еще дальше отодвинул его Ларису куда-то далеко-далеко, так что не различить даже лица. Когда же он пытался приблизиться к нему, перед ним оказывалось совсем другое лицо: не бледное, а обветренное и загорелое; не круглое, а чуть удлиненное и остробородое; не пухлогубое, а с тонкими живыми губами, вся прелесть которых раскрывалась в ласково озорной улыбке; и лицо то не с грустными серыми глазами, всегда устремленными куда-то вдаль, а с веселыми цвета морской воды глазами, в которых поминутно вспыхивают горячие золотинки. Чье лицо это? Ясно, ее, Оли, шалуньи-озорницы, которая давно уже вошла в сердце и без спросу разместилась в нем, вытеснив оттуда его Ларису. Он долго думал, что любит Олю, как сестру. Он дорожил этой любовью, берег ее. А вот пережили Витановку, и в сердце сильнее пробилось новое чувство, и оно всецело принадлежало одной ей, Оле.
У самого берега Максим увидел вдруг одинокую березку и в радостном изумлении остановился перед нею. Как Оля! Белоствольная красавица застенчиво наклонилась над водою и словно загляделась на свое отражение. Пышнокудрая, она всякому, кто приближался к ней, обещала покой и прохладу. Максим обнял ее левой рукой и щекою прижался к молодой шелковистой коре. Как знать, почему в душе проснулась вдруг неизъяснимая грусть и пробудила песню. Слова ее он сочинил сам, когда вспоминал про Олю в госпитале:
Далеко, далеко до любимой, Может, сотни несчитанных верст…Оля еще издали услышала голос Максима и почувствовала, как что-то больно кольнуло ее сердце. О ком он? Она подошла совсем близко и несмело тронула его за руку. Он вздрогнул и обернулся.
— Оленька!
— О ком это?
— Как о ком? — ласково усмехнулся Максим. — Шел, заскучал что-то, смотрю, березка, будто с наших мест прибежала. Остановился и запел, — «о тебе» хотел добавить он, но его перебила Оля.
— Все о ней?
— Да что ты! — взял он ее за руку.
Оля заколебалась: отдать письмо или выждать? Его привез сейчас Михась Бровка. Не письмо даже — открытка. Прочитала и изумилась. Надо ж случиться такому. Все это томило и жгло, хотелось слов и объяснений, и она пугалась их. «Может, сотни несчитанных верст», — еще звучали в ушах слова его песни. Конечно, о ней! А тут письмо… Отдать или не надо?
— Михась вернулся и привез вот, — протянула она открытку, — Лариса пишет, — и почувствовала, как его обожгло, словно бросило в жар, и лицо то вспыхивало, то бледнело. «Обрадовался и переживает», — ревниво подумала девушка, не сводя с него пристальных глаз и пытаясь разгадать обуревавшие его чувства.
— Смотри ты, — пожал он плечами, — жива, институт кончает… — растерянно перечислял он, — и всего открытка! — все еще с недоумением вертел он ее в руках и вдруг почувствовал, как по всему телу с ног до головы пошел пощипывающий холодок.
«Сожалеет», — с болью в душе мысленно решила Оля, чувствуя, как и ее бросает то в жар, то в холод.
— А знаешь, — улыбнулся Максим, — я рад за нее, право, рад: жива, здорова и, видно, счастлива. Очень хорошо! И для… — он хотел сказать «для нас хорошо», но, увидев лицо девушки, невольно запнулся, оборвав фразу. — Ты что? Я же… ты знаешь… я… — обнял он ее за плечи. Но девушка выскользнула, глаза ее мигом потемнели, став похожими на море в бурю. Оля порывисто шагнула и молча пошла прочь.
— Оля, Оленька, да остановись ты! — рванулся он за нею, но девушка не обернулась даже и побежала. — Оленька, любимая, ну, погоди же!
— Ты что воюешь? — услышал Максим голос Тараса Голева.
— Да вот… — замялся Якорев, не зная, как объяснить ситуацию. — Лариса жива, письмо пришло.
— Ну, и ну, — подивился Голев и тут же начал выкладывать свои новости: — Людка нашлась. Ранена, больна, да уж отходили. Мать письмо прислала. Я от радости чуть с ума не сошел.
— Ой, как же хорошо! — обрадовался Максим и, обняв Тараса, побежал за Олей. Счастливый отец так и не разобрался в его чувствах.
Примирение с Олей состоялось поздно вечером. Максим увлек ее в парк, и до самого отбоя бойцы у палаток, разбитых неподалеку от парка, слышали его песни, звучавшие особенно сильно и страстно.
— Это морячок наш! — прислушиваясь к песням, говорил Сабиру Тарас Голев.
— Хорошо поет, — радостно откликнулся Азатов.
Сидя на свежей росистой траве, они тихо разговаривали меж собой.
— Легко на сердце — вот и распевает, — отозвался Тарас Григорьевич. — Я вот Людку свою все тут шукал, а она, вишь, на другом фронте объявилась, — не уставал он повторять рассказ о дочери. — Жива! Хожу теперь, ног под собой не чую. Хожу, приглядываюсь, вроде время слушаю. Гудит! Смотрю на чехов, трудно им, а верю, эти горы своротят, а своего добьются. Смотрю на них, и столько хочется им доброго сделать. Тому бы земли прирезал, другому работу облегчил, третьему в учебе помог. Вот от души хочется, чтоб быстрее на ноги стали.
— Эти станут! — безапелляционно подтвердил Азатов.
Неподалеку послышались аплодисменты. Глеб Соколов читал солдатам Маяковского, и они шумно рукоплескали.
— Светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой — и солнца! — отчетливо доносились к ним слова поэта.
— Слышишь, светить! — подхватил Голев. — Хорошо сказано. Светить всему свету! — вот наше дело.
— То великое дело, — согласился Сабир, — от того и счастлив, и горд ты, что шел вот, воевал, очищал землю от фашистской нечисти и самое главное — нес свет всему свету.
— Да, свет всему свету! Очень хорошо!
2
В полку сегодня особый день.
С развернутым красным знаменем торжественно шел он через всю Прагу, шел сквозь нестихающее тысячеустое «наздар», шел почтить память великого Ленина.
С этажа на этаж подымались воины-победители в историческую комнату в здании на Гибернской улице, где тридцать три года назад проходила Пражская конференция, и каждому хотелось яснее представить себе всю обстановку тех знаменательных дней.
— Да-да, именно по этим лестницам подымались делегаты-ленинцы, они входили вот в этот скромный небольшой зал, обставленный простой мебелью, в котором за председательским столом сидел сам Ильич. Здесь шла работа конференции, здесь был избран большевистский ЦК, здесь находился тогда боевой штаб гениального стратега революции, отсюда руководил он судьбами человечества, тут собирал он силы большевистской партии, а пять лет спустя она возглавила величайшую из революций.
Мысли и чувства всех верно и ясно выразил Березин, записавший в книгу отзывов простые, идущие от сердца слова:
«В боевом строю родной армии с великой миссией прошли мы от Волги до Праги и нигде не видели знамени, которое светило бы людям ярче, чем знамя великого Ленина — единственно верное боевое знамя миллионов, ставшее сильнейшим оружием народов в их борьбе за жизнь, свободу и счастье. Верим, с этим знаменем у нас и впредь никогда не будет поражений».
А ниже появились сотни имен и фамилий воинов рядового советского полка и среди них Андрей Жаров, Николай Думбадзе, Савва Черезов, Марк Юров, Максим Якорев, Тарас Голев, Татьяна Зарковская, Семен Зубец, Акрам Закиров, Ольга Седова, Павло Орлай, Ярослав Бедовой, Вера Высоцкая, Сабир Азатов, Матвей Козарь, Демжай Гареев, Яков Румянцев.
Почтить память любимого вождя сюда приходят люди самых разных классов и профессий: писатели и журналисты, индустриальные рабочие и простые труженики села, учителя и чиновники, солдаты и офицеры многих армий, честно воевавшие против фашизма, узники, освобожденные из лагерей смерти, представители всех европейских стран и народов, вызволенных из-под фашистского ига, и редкий из посетителей не оставляет записи в книге отзывов. Полк ушел уже, а Жаров с Березиным все еще листали и листали эту книгу, вчитываясь в ее волнующие страницы.
«Здесь билось сердце прогрессивного человечества», — записал французский рабочий, освобожденный из фашистской неволи.
«Я преклоняюсь перед Лениным», — провозгласил рядовой солдат английской армии, приезжавший в Прагу из Баварии.
«Кто против ленинизма, тот обречен на верную смерть», — заявил неизвестно как попавший сюда молодой турок.
«Верю, ленинизм победит и в Африке!» — предсказывал египтянин, томившийся в фашистском лагере.
«Будем жить и бороться, как учит Ленин!» — обещали болгары.
Офицеров особо привлекли записи их зарубежных друзей — Иона Бануша, пришедшего в Прагу уже политработником румынской дивизии, и Имре Храбеца из Венгрии.
«Воевать и побеждать мы учились у советской армии, — писал Бануш. — Будет и у нас в Румынии настоящая армия рабочих и крестьян, воспитанная по-ленински. Кто победит такую армию!»
«Ленин — это сила, с которой ничто не страшно», — записал Имре Храбец.
Склонившись над книгой, Жаров не успел еще раз перечитать эти записи, как почувствовал на плече чью-то дружески опущенную руку и, полуобернувшись, поднял глаза: за спиною Гайный и Вайда.
Он с радостью пожал руки чешских друзей.
В зале, где шли заседания конференции, стояло красное пробитое пулями знамя пражских повстанцев.
— Вот оно, непобедимое ленинское знамя! — сказал Вайда. — С ним шла в бой вся восставшая Прага, с ним и пойдет она к новой жизни, на борьбу за социализм! — и старый рабочий рассказывал о мужестве повстанцев, сражавшихся под этим знаменем, которое они принесли сюда, чтобы склонить его перед памятью Ленина.
«Ленин пробудил сознание, дал силу, и мы победили, — записал Вилем по-чешски и тут же перевел. — По его заветам будем строить и укреплять новую чехословацкую армию».
«Знамя Ленина — знамя жизни! Никому не вырвать из наших рук этого боевого солнечного знамени, с которым все честные люди мира пойдут к коммунизму. И. Вайда».
Да, это очень верно: знамя жизни!..
3
Прошло еще несколько дней, и советский самолет, взявший на борт большую группу солдат и офицеров из полка Жарова, мчал их из Праги в Москву, на парад победы.
Внизу бесчисленные пути-дороги, форсированные реки и горные кручи, земля многих стран и народов, перекопанная траншеями и рвами, опутанная колючей проволокой, ощеренная надолбами, изуродованная снарядами и бомбами. Земля, на которой еще недавно высились «неприступные валы» вражеской обороны, беспощадно повергнутые в боях и сражениях.
— Да, — вздыхал Голев, всматриваясь в окно самолета, — четыре жестоких года потребовалось, чтоб пройти по ней от Волги до Эльбы и Влтавы.
— Зато теперь, — ответил ему Якорев, — мы пролетим этот путь меньше, чем за день.
— Победа, друзья! — обобщил Березин.
Все не отрывали глаз от земли, словно плывущей навстречу и опоясанной бесконечно огромным сизо-дымчатым кольцом горизонта, все с болью и гордостью вглядывались вниз: с болью за погибших, чьи бессчетные могилы остались там вечными памятниками всесветной славы, и гордостью за живых, воинов и тружеников, чьим мужеством завоевана победа…
…Красная площадь. Кремль. Ленинский мавзолей, и на нем Сталин.
С этой площади, выражая волю народа и партии, посылал он воинов с великой миссией. Сюда и возвратились они с победным рапортом своей родине, своему народу, своей Коммунистической партии. Она их учитель и вождь. С нею сбываются их любые мечтания. Лишь с нею раскрывается изумительное сверкание жизни. С нею они всегда впереди, всегда в наступлении, в величайшем наступлении, где каждый день труда и борьбы обещает победу коммунизму.
Стройно и торжественно идут сводные полки всех фронтов. Идут мимо ликующих трибун. Мимо Мавзолея. Идут, бросая к подножию исторической трибуны поверженные знамена разбитых вражеских полков — финских, испанских, бранденбургских, итальянских, баварских, рейнских и всяких иных, когда-то шагавших в строю голубых, коричневых и черных дивизий. Идут сыны великой страны, самой могучей и непобедимой. Идут мимо зубчатой Кремлевской стены, за которой на высоком куполе светлого здания реет вечно живое Ленинское знамя.
Знамя победы. Немеркнущее знамя жизни!
Уфа,
1956–1960 гг.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Иван Владимирович Сотников родился в 1908 году в семье рабочего-железнодорожника станции Скуратово, Тульской области.
Как писателя его воспитала и подготовила газета.
По окончании средней школы работал каменщиком, ремонтным рабочим на железнодорожном пути, секретарем сельсовета, учителем, инспектором народного образования, директором средней школы и филиала педагогического института.
Как активный рабселькор был выдвинут на работу в газету «Знамя Ильича», выходившую в Алексине, Тульской области. Несколько лет проработал ответственным секретарем редакции, заведовал сельскохозяйственным и производственным отделами. Был спецкором московских газет «За коллективизацию» и «Рабочая Москва».
Высшее образование получил на заочных факультетах. В 1930 году окончил литфак Государственной академии художественных наук, в 1934 году — курс Московского института иностранных языков и перед войной — два года аспирантуры при Московском пединституте.
В дни Отечественной войны командовал взводом, ротой, батальоном, был командиром части, начальником штаба дивизии. Участвовал в защите Москвы, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии и Германии. За военные заслуги награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова III степени, орденом Б. Хмельницкого III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги» и другими. Награжден также несколькими польскими и чехословацкими орденами и медалями.
Член КПСС с 1943 года.
С 1952 года — ответственный редактор альманаха «Литературная Башкирия».
На страницах газет и журналов много лет выступает как очеркист, литературный критик и публицист.
В 1928 году в газетах появились его первые очерки о людях культурного фронта. Некоторые из них были собраны потом в небольшую книжку «В атаку» (1933).
Писал рецензии, критические статьи, публиковавшиеся на страницах газет «Рабочая Москва», «Коммунар», «Советский воин», «Советская Сибирь», «Советская Башкирия», «Ленинец», «Литературная газета», в альманахе «Литературная Башкирия», в журналах «Сибирские огни», «Урал» и др. Некоторые из этих статей вошли в книжку «Писатели-сибиряки» (1950).
Как журналиста И. Сотникова всегда привлекали пафос труда и пафос борьбы. Потому и очерки его, а позднее и книги написаны о героях-тружениках и героях-воинах.
Война сдружила писателя с людьми необычайного мужества и отваги. Их великой миссии и посвящены его военные повести и романы.
Повесть «Корсунское побоище» (1951) представляет собой книгу записок офицера об известном Корсунь-шевченковском сражении.
В повести «Оружие чести» (1957) рассказывается о боях за освобождение Румынии, о братском содружестве советских и румынских войск, о первых боях только что зарождавшейся Румынской народной армии.
Книга «Корсунское побоище» и «Оружие чести» переведены на румынский язык.
Роман «Сильнее огня» (1959) посвящен битве за Днепр, окончательному изгнанию фашистских войск с советской земли.
Книга «Дунай в огне» рассказывает о немеркнущей славе наших войск, их битвах за Будапешт, за освобождение Праги, о разгроме фашистской Германии.
Этой книгой писателя завершается его трилогия «С великой миссией» — о сражениях и битвах Отечественной войны за рубежами родной земли.
И. В. Сотников — член Союза писателей СССР.
Примечания
1
Nil admirari (лат.) — ничему не следует удивляться.
(обратно)2
Omne nimium nocet! (лат.) — всякое излишество вредно!
(обратно)3
En flagran delit! (по-франц.) — на месте преступления, с поличным!
(обратно)4
Парадички (по-укр.) — помидоры.
(обратно)5
Черницы (по-укр.) — плоды тутового дерева.
(обратно)6
Гражда (по-укр.) — усадьба.
(обратно)7
Шум мир (по-алб.) — очень хорошо.
(обратно)8
В начале 18 века.
(обратно)9
Революция 1848 г.
(обратно)10
Дюла Гембеш — бывший премьер-министр венгерского правительства. Его памятник был взорван венгерскими патриотами 6 октября 1944 г.
(обратно)11
Мария-Валерия телеп — так именовался квартал бедноты в Будапеште, где царила жуткая нищета.
(обратно)12
Линия «Маргит» — укрепления немецкой обороны на линии: озеро Балатон, озеро Веленце, Дунай. Она была потом прорвана войсками 3 Украинского фронта.
(обратно)13
1944 года.
(обратно)14
14 апреля 1849 года.
(обратно)15
Пенг — денежная единица старой Венгрии.
(обратно)16
Божевильный — сумасшедший.
(обратно)17
Эльен Москва! (венг.) — Да здравствует Москва!
(обратно)18
Эшкюсюнк (по-венг.) — клянемся.
(обратно)19
Эльен мадьяр демокрация! (по-венг.) — Да здравствует венгерская демократия!
(обратно)20
Мадьярорсак (по-венг.) — Венгрия.
(обратно)21
Ф. Мюнних. — ныне Председатель Совета Министров Венгрии.
(обратно)22
«Орлиное гнездо» — резиденция Гитлера близ Бад-Наугейма, откуда он более месяца руководил Арденнской операцией.
(обратно)23
«Вольфшанце» (по-нем.) — волчий окоп или волчье логово — так именовалась ставка Гитлера в Восточной Пруссии.
(обратно)24
Vaterland (по-нем.) — отечество, родина.
(обратно)25
Mein gott (по-нем.) — бог мой!
(обратно)26
У Дюнкерка в 1940 году были разгромлены французские и английские армии, сброшенные немцами в море.
(обратно)27
Тогдашний премьер-министр Англии Черчилль 6 января 1945 г. обратился к Советскому правительству за помощью, так как английские и американские войска находились в Арденнах в бедственном положении. Верное своему союзническому долгу, Советское правительство отдало приказ Вооруженным Силам о переходе в наступление, которое и началось 12 января 1945 г., ранее намеченного срока.
(обратно)28
Генерал Дитрих — в прошлом ученик мясника.
(обратно)29
Тисо — президент марионеточного «Словацкого государства», созданного Гитлером.
(обратно)30
В апреле 1915 г. 28 чешский пехотный полк полностью сдался в плен русским.
(обратно)31
Реймс — небольшой город на северо-востоке Франции в департаменте Марна.
(обратно)32
Ленч — второй завтрак после полудня, легкая закуска между обедом и ужином в Англии и США.
(обратно)33
Фельдмаршал Модель — командующий немецкими войсками на Западном фронте.
(обратно)34
Як вам се ту либи? (по чешск.) — Как вам тут нравится?
(обратно)35
С Советским Союзом на вечные времена (чешск.).
(обратно)


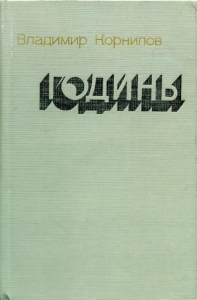


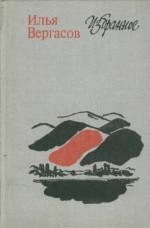


Комментарии к книге «Дунай в огне. Прага зовет», Иван Владимирович Сотников
Всего 0 комментариев