Вадим Белов ЛИЦО ВОЙНЫ Записки офицера
При лунном свете
I
Вытянувшиеся бесконечной вереницей по обе стороны дороги деревья уже давно потеряли свою золотую листву, которая опала на землю шелестящим, мягким ковром, и теперь раскачиваемые холодным осенним ветром они только шумели своими черными, голыми сучьями…
Шоссе было гладкое, как паркетный пол, и гулко звучали мерные шаги трех людей, направляющихся к реке, берег которой различался в темноте по черной полосе окаймлявшего его кустарника.
Ночь была холодная, ясная, и небо, черное и безоблачное, сияло серебряными точками мерцающих звезд…
Поля молчали…
Где-то в них таились секреты, сидели или лежали, согнувшись и прильнув к земле, люди в куцых шинелях с винтовками в руках, но отсюда в черной дали безбрежных полей, шумящих, как море, ничего не было видно даже при луне, полной и яркой.
По дороге шли мы втроем…
Два офицера и ефрейтор второго взвода Сормин. Надо было проверить вновь расставленные посты и секреты на берегу реки, по течению которой несколько выше целые два дня кипел бой… Целые два дня массы немцев пытались переброситься на этот берег, делали множество попыток навести мосты, гибли вместе с осыпаемыми нашими снарядами понтонами, и, наконец, обессиленные, потерявшие надежду, сперва начали отступать, а после побежали, увлекаемые задними рядами, побежали, теряя обозы, бросая орудия и раненых…
И бой закончился к ночи… Тишина спустилась на поля вместе с сумерками, вместе с холодом осеннего сырого вечера.
Противоположный берег был чист… Казаки переправились на него, но не нащупали неприятеля: он продолжал поспешно отступать и даже прикрывающие его части вышли из соприкосновения с нашими разъездами…
II
Мы подвинулись вниз по течению, все же опасаясь новых попыток переправиться со стороны немцев…
Но все было тихо!..
Расставили секреты и посты, едва сгустились сумерки и зашумел в полях холодный ночной ветер.
Река, весь день катившая свои волны, как казалось, бесшумно, теперь вдруг забурлила, загудела в прибрежных камышах и кустарниках…
Мы шли молча, невольно стараясь шагать «в ногу» так, чтобы звук наших шагов сливался в одно мерное постукиванье по гладкому твердому, как асфальт шоссе.
Сормин шел впереди. Он знал расположение секретов и постов и вел нас, взяв винтовку сна ремень, поставив воротник шинели и глубоко запрятав руки в рукава.
— Сейчас налево пойдем! — произнес он вдруг, останавливаясь, но не поворачивая к нам головы.
Влево шла узкая, почти незаметная тропинка между двух стен оголенного, колючего кустарника, и Сормин быстро пошел вперед, раздвигая ветки и не оборачиваясь: он слышал по шуршанью кустов, что мы следуем за ним.
Усталость дня сказалась теперь. После боя удалось только прилечь часа на два прямо на траве в ожидании, приказания о перемене позиции, но даже заснуть не удалось, как следует: мозг воспаленный, измученный переживаниями дня, лихорадочно работал, воспроизводя картины, действительно пережитые и ужасные, кошмарные, фантастические…
А после снова пришлось встать, идти вместе с батальоном по полю вспаханному и изрытому, утомлявшему немилосердно ноги, до нового бивуака, и только успели снять амуницию и составить ружье, как полковник послал проверить посты и секреты.
Когда вышли, была уже совсем ночь лунная и холодная.
III
Сормин внезапно остановился… Его темная, неуклюжая фигура наклонилась над землей и подняла что-то, что именно мы сразу не могли разобрать…
— Никак фуражка ваше бл-дие, — произнес он, протягивая нам действительно австрийское кепи, опоясанное золотым галуном.
«Как оно могло сюда попасть?» — задали мы сами себе безмолвный вопрос, неприятель на этом берегу не был и не мог быть, а тем более не могло оказаться в этих кустарниках австрийское кепи?
Это было необъяснимо…
Кепи было офицерское с золотой узенькой каемкой крутом, с клеймом «Вена», и буквами I. Ф. на околыше.
Мы все трое долго шарили в кустах, вокруг этого места, обыскивали все углубления и черные чащи, но не нашли и признака неприятеля…
— Одно, разве, что с аэроплана уронил! — проворчал недовольно Сормин и нас мгновенно осенила мысль: конечно, кэпи упало с пролетевшего над рекой и над нашими позициями аэроплана!..
Все тревожные сомнения вмиг рассеялись, стало даже смешно, когда представили себе офицера австрийского генерального штаба, с которого ледяные порывы ветра сорвали головной убор и насмешливо бросили в самый центр неприятельского расположения…
Но Сормин уже шагал дальше!..
Справа и слева обступавшие нас кусты, делались все выше и выше, все теснее и гуще наступали черные стены ветвей, а тропинка между тем начала круто спускаться вниз к реке…
Сквозь сучья уже блеснуло ее черное зеркало, кажущееся сперва неподвижным, но на самом деле быстро несущееся мимо безмолвных берегов; мы миновали последние кустарники и вышли на узкую полосу прибрежного песка…
Невдалеке располагался первый пост.
Часовой и подчасок сидели у самого берега, как-то странно сжавшиеся, словно охватив колени руками; около них торчали штыки винтовок; оба они слились в одно пятно и не различались на фоне берега и кустов.
Сормин хотел было их окрикнуть, но, вероятно, заслышав хрустение песку под нашими ногами, оба солдата вдруг вскочили — сделались неподвижные, как две черные статуи, у самой воды, пока мы не прошли мимо…
— Место скушное, ваше б-дие, — промолвил Сормин, как бы извиняясь за присевших часовых, — особливо ночью…
Никто не ответил ему и мы продолжали пробираться по краю берега, вниз по течению, по направлению на шум, далекий, непрерывный и непонятный…
— Что это?.. — спросил Сормина мой спутник, — что это шумит?..
— Это, должно мельница ваше б-дие, — ответил, прислушиваясь, ефрейтор, — там и пост второй поставлен… минут за десять дойдем…
IV
Снова тронулись в путь…
Тишина ночи и этих полей, после грохота боя, рева орудий и трескотни пулеметов, теперь казалась еще более непробудной и ненарушимой… Не представлялось, что может наступить опять утро, сдернуть черный покров с берегов и заиграть светлыми бликами на глади реки, казалось, что эта ночь, пустившаяся и заставившая людей прекратить кровопролитие, будет вечная, что она сошла для того, чтобы навсегда скрыть под своим покровом ужасные следы закончившегося дня…
Между тем, шум мельницы делался все явственнее… Теперь уже отчетливо слышался скрип и тяжкие вздохи мельничных колес и однообразное клокотанье воды бегущей сквозь плотину.
За поворотом реки, показалась, наконец, сама мельница, темная и таинственная, крутящая своими колесами в белом пенистом потоке реки.
Она словно висела, над этим потоком, разбивающимся об ее сваи, поросшие длинной зеленой бахромой, она словно отделилась от земли и, вертя своим черным колесом, плыла вверх по реке, но стремительное течение удерживало ее на прежнем месте…
С одной стороны, черный корпус мельницы огибали мостики доходившие до самого колеса и постоянно орошаемые алмазным дождем медленных брызг, с другой к мельнице вплотную подступал низкий прибрежный кустарник…
V
Пост был расположен на берегу под прикрытием мельничного здания и, когда мы подошли, часовой стоял у самой воды, прижавшись спиной к серым, мокрым балкам стены.
— Ну, что!.. — окликнул его Сормин, — все благополучно?..
Часовой молчал…
Мы приблизились и ефрейтор еще раз окликнул неподвижного, темневшего на фоне стены, солдата…
— Так точно!.. — ответил на этот раз, слабый дрожащий голос, казалось, голос человека или тяжело раненого или чем-то потрясенного.
— Что с тобой? — спросили мы подходя, — может быть болен ты или ранен…
— Не-ет… пролепетал он, — страшно очень… спаси Господи, как страшно…
Мы недоумевали.
— Чего же страшного? — спросил Сормин.
— Вона… глянь-ка… — кивнул часовой по направлению реки и тотчас же отвел глаза…
Сперва я ничего не заметил, но, приблизившись к воде и всмотревшись в темноту ее поверхности, мы все различили какой-то продолговатый, черный предмет, приставший к берегу и неподвижный…
Надо было присмотреться к его очертаниям так пристально, как мог присмотреться за четыре часа своего дежурства часовой, чтобы различить, что это было человеческое тело… На покойнике был изорванный австрийский мундир и даже виднелся пристегнутый штык и ранец…
Очевидно он был сброшен в реку русскими штыками, загнан в воду и упал в холодную могилу, быть может еще живой, истекающий кровью…
Мы в ужасе отступили назад…
Сормин снял шапку и перекрестился…
— Надо часового переместить, — распорядился мой спутник, — Сормин, толкни его штыком — пусть плывет…
Ефрейтор опасливо подошел к берегу и оттолкнул штыком от песка труп, но сколько он после ни старался заставить его выплыть на средину реки, утопленник, словно вцепившись в корни прибрежных кустов мертвыми пальцами, не выпускал их из рук и не отплывал…
— Оставь его! — с ужасом остановили, наконец, мы Сормина, — надо просто переставить часового…
— Не-ет… — застонал солдат. — Никак не-ет… не один он тут… много их…
Мы всмотрелись в белую, пенистую поверхность реки, набегающей на колесо…
В жемчужной кипящей полосе и выше по отсвечивающей сталью от лунного света поверхности реки плыли медленно десятки таких же черных предметов…
То ныряя, то снова выплывая, выглядывая из-под воды своими бескровными лицами и остекленевшими ужасными глазами, плыли вниз по течению побежденные австрийские солдаты…
Крутясь и наталкиваясь друг на друга, они словно спешили к черному крутящемуся колесу, перебрасывались через него и исчезали с глухим шумом в глубине реки…
Они плыли искать свои могилы!..
Мы все четверо, потрясенные и взволнованные ужасом только что увиденного, стояли на берегу, следя за этой мрачной процессией.
Они проходили перед нами, наши побежденные враги, в своем последнем шествии. Безмолвные и потрясенные мы долго стояли у самой воды, не имея сил оторвать глаз от плывущих трупов…
И после, когда мы вернулись на бивуак, даже после того, как нас развлекли рассказом об удачно захваченном в эту ночь австрийском авиаторе, вероятно, том самом, кепи которого мы нашли в чаще кустов, когда я примостился в углу палатки на сырой шинели, решив, во что бы то ни стало, вздремнуть хоть часа два, мне долго мерещились плывущие при лунном свете вниз по реке, к колесу водяной мельницы мертвые австрийцы, их искаженные бескровные лица и колышущиеся вокруг голов волосы…
Прекрасная смерть
Уже больше трех часов гудели батареи.
Черные, молчаливые и суровые пушки вдруг заговорили и со страшной злобой выплевывали, вместе с пламенем и дымом, ревущий поток стали… Где-то, далеко на скате зеленой горы, с едва слышным нам грохотом, рвались шрапнельные стаканы, над головами медленно сползавших вниз колонн австрийцев…
Эти колонны пехоты, казались нам длинными черными червями, сползавшими, извиваясь, по зеленому фону…
Скоро заговорили австрийские пушки…
Стреляли они откуда-то из-за возвышенности, орудий их не было видно, и только сыпались на поле разрывающиеся и воющие в воздухе снаряды…
Скоро увели куда-то в сторону, в лес, лошадей и передки, вспыхнул, как факел, случайно загоревшийся от снаряда стог сена и учащенно загрохотали наши пушки, отвечая на дождь шрапнели австрийцев.
Лежа в цепи вместе с ротой, прикрывавшей артиллерию, я увидел сразу эту громоздкую, неуклюжую фигуру на здоровенном «битюге», мчавшуюся отчаянным галопом, под дождем свинца к орудиям.
Когда он поравнялся с крайней пушкой, над ней вдруг взвился высокий столб белого дыма с пламенем и с оглушительным треском и грохотом взметнулось в сторону одно зелено-серое колесо, в шуме взрыва потонули одинокие вскрики и стоны изувеченной прислуги и только, когда дым рассеялся, я с ужасом увидел то, что осталось на месте пушек и передка; в яме свежеразвороченной земли валялись обожженные куски досок и колес и несколько фигур в серой, залитой кровью одежде. Но это было впечатление одной минуты, внимание тотчас же было отвлечено одинокой толстой фигурой всадника, теперь как-то странно сидящего около еще судорожно бившейся лошади… Толстый человек в серой солдатской рубахе с узенькими, серебряными погонами, — доктор Д., врач артиллерийской бригады каким-то чудом уцелел, разбилось только вдребезги его пенснэ, и, ошеломленный ударом, весь обрызганный кровью и песком, он сидел, как бы задумавшись над тем, что предпринять…
Через минуту, когда не осталось и следа происшедшего, когда так же равнодушно и твердо грохотали орудия, доктор уже бегал около ящиков, отыскивая батарейного командира.
— Полковник, — кричал он, стараясь перекричать гул канонады, — полковник, будете менять позицию? — Да? У меня 500 человек, куда же мне ехать?.. За лесом разве?! Вы будете впереди, на опушке?!. Ага!.. Ну, отлично, отлично, желаю успеха!
Доктор уже катился обратно, закинув назад апоплексическую голову в съехавшей на ухо фуражке…
Откуда-то он достал другую лошадь, при помощи трех артиллеристов вскарабкался в седло и, распустив поводья, под огнем помчался обратно к далеким повозкам, над которыми развивался флаг с красным крестом…
А батареи все гремели и резко звучали краткие командные выкрики: «Первая»… «Вторая»…
За два часа было пережито и перечувствовано страшно много… Артиллерия давно переменила позицию, отбивали налетавших венгерских гусаров, сами ходили два раза в штыки и, запыленные, обрызганные кровью и обожженные пламенем пылающих построек, солдаты нашей роты временно были отведены в овраг, в прикрытие.
Капитан только что занес ногу в стремя и готовился перекинуть другую, как вдруг словно задумался, медленно слез на землю, сел и, держась за мякоть ноги выше колена, досадливо промолвил:
— Проклятая!..
Пуля пробила ногу навылет и оставила только две маленькие дырочки в рейтузах с расплывающимися пятнами крови.
— Ну, теперь я больше не кавалерист, — добродушно промолвил капитан, вообще не охотник верховой езды, — придется вам, подпрапорщик, поехать за лес отыскать вторую полуроту… Они там в прикрытии… Приведите их сюда…
На поле рвались шрапнели…
Войск здесь не было, и австрийцы напрасно тратили снаряды…
Лошадь моя пугливо шарахалась в сторону от взрывов и храпела…
Невольно глазами измерял я расстояние до леса, манил к себе эту черную сплошную полосу, где казалось так безопасно, где не выла шрапнель и не жужжали пули… Но, как назло, в момент, когда мой конь достиг леса, совсем близко взметнулось пламя и с треском посыпался целый фейерверк и кусков разбитого снарядом дерева… На полянке за лесом расположился пункт…
Доктор Д. скакал посреди повозок с ранеными и носилок и отдавал какие-то приказания, ругал кого-то не злобно, но тяжелой, вразумляющей руганью и делал все это относительно хладнокровно, не отвлекаясь посторонними обстоятельствами…
Завидев меня, он подъехал и быстро заговорил:
— …У меня 500 человек… Вы знаете какая это «команда»? Один без руки, другой без ноги, куда я их всех уберу… артиллерия, вероятно, переехала, а к нам шрапнель сыплется…
И в ту же минуту, как-бы в подтверждение его слов, взметнулся столб пламени и земли совсем близко, разбросав валяющиеся кругом, окровавленные обрывки бинтов и ваты…
— Видите… — продолжал доктор… — видите… это они по флагу с крестом прицеливаются…
И тотчас же, отскочив от меня, продолжал распоряжаться.
— Иванов, перевяжите этого… у тебя что?.. нога?.. на вылет… покажи… кость цела!.. танцевать будешь… следующий… пальцев нет?.. скольких?.. двух!.. ну, брат, еще тебе три остались… Барчуков, бинт сюда… санитары отправить этого в дивизионный госпиталь… Ампутация ноги… у тебя что, палец? стой, чего ему болтаться здесь… Иванов ланцет…
Доктор быстро соскочил с коня, одним взмахом отхватил болтающийся, почти оторванный палец и помчался дальше…
— Доктор… да вы бы уехали подальше, тут под огнем вам опасно… — попробовал посоветовать я, но Д. посмотрел на меня строгим вопрошающим взглядом:
— Мне? — переспросил он, — «Им» — опасно, это верно!.. — махнул он рукой на раненых. — Я их и отправлю, а мне место здесь — ведь не идти же раненым искать меня за пять верст?..
Я не смел ему возражать…
Надо было спешить, а лес все гудел от грохота снарядов…
* * *
Поздно вечером, когда уже мы продвинулись вперед, мне пришлось ехать обратно…
Навстречу мне попались носилки. Из-под солдатской шинели болталась рука с бриллиантом на мизинце.
— Кого несете! — остановил я санитаров…
— Доктора Д!..
Доктор был еще в сознании, он, вероятно, узнал меня, попытался улыбнуться и указал глазами на ноги… Я едва сдержал возглас ужаса: вместо ног были только клочья мяса и разорванного сукна…
Я понял, что доктор хочет что-то сказать и наклонился:
— Там за лесом… Вы знаете? — едва слышно произнес он, — там еще три солдатика остались… раненые, не выживут… пусть не забудут подобрать их…
Доктор Д. затих…
— Померли… — равнодушно произнес один из санитаров и перекрестился…
Доктора закрыли с головой шинелью и носилки тронулись.
Несколько минут я простоял на месте, пораженный последними словами доктора, потрясенный благородством его прекрасной смерти.
А кругом по полю и дорогам тянулись все новые колонны, спокойные, уверенные в себе и в своем успехе, неудержимые в своем стремлении, людей.
Три мельницы
В открытом поле, уже затянутом синеватой вуалью сумерек, стояли три черные мельницы, три таинственные, величественные исполина, размахивающие длинными черными руками…
На темнобагровом фоне неба, озаренного заревом далекого пожара, мельничные крылья, действительно, казались простираемыми к небу руками одиноких великанов, оставшихся теперь, каким-то чудом уцелевшими на поле, где целый день грозно переговаривались орудья и смертоносной скороговоркой трещали пулеметы.
Эти мельницы, действительно, уцелели каким-то чудом: вправо и немного впереди от них целые два дня шел жестокий бой и случайные снаряды, шальные пули иногда залетали и сюда, били в землю и в темные, покрытые плесенью, срубы мельниц.
Взметывались столбы пыли и комков земли, вздрагивали и разлетались в щепки толстые старые бревна, а три мельницы все продолжали стоять, бесстрастные, среди открытого поля, равнодушно махая своими черными, иззубренными осколками снарядов, крыльями.
Теперь бой уже окончился… Справа и впереди пылали громадными яркими кострами спаленные артиллерийским огнем, деревни, при тусклом, багровом, зловещем отблеске пожаров по полю ползли сливающиеся в одну черную массу колонны пехоты, на фоне волнующегося моря огня скакали черные фигурки кавалеристов и мчалась, с заглушенным расстоянием грохотом колес, меняющая позицию русская артиллерия.
Мы проезжали по полю втроем верхами, исполняя поручение начальника отряда осмотреть местность на левом фланге нашего расположения.
Лошади медленно ступали по промерзшей, твердой и гладкой, как паркет, дороге, осторожно обходя вырытые гранатами ямы и валяющиеся около канав трупы павших лошадей…
После исключительных переживаний догорающего дня, после ужаса отчаянных атак, стремительных кавалерийских набегов, двенадцатичасового рева орудий, хладнокровно громивших занятые австрийцами деревни, разносивших в куски и рвавших в клочья все, что попадало в стальной веер их губительных гранат и шрапнели, рассыпающейся металлическим дождем сотен пуль и осколков, теперь в холодных сумерках спускающейся ночи, в безмолвии полей, еще теплых от дымящейся человеческой крови, еще пахнущих пороховым дымом, мы ехали молча, уединившиеся каждый с самим собой.
Каждый думал, вероятно, о том же самом — о смерти, так близко стоявшей сегодня за спиной, о смерти, которая сегодня пройдя мимо, быть может, завтра коснется холодной рукой сердца и оно перестанет биться, как перестали биться сегодня сотни наших и вражеских сердец…
Позади нас ехал казак Никифор Патока, здоровенный чубастый парень, с лицом изрытым оспой настолько, что в сотне товарищи уверяли, что это «по ем австриец картечью палил».
Патока первый нарушил молчание:
— Ваше благородие, мельницы, кажись, не осматривали… надобно бы заглянуть…
Мы свернули с дороги прямо в поле к трем одиноким, размахивающих крыльями мельницам.
По мере того, как наш маленький отряд приближался к ним, уверенность в том, что все три черные башни покинуты, росла в нас: не было заметно ни одного огонька в окнах, тяжелые двери были наглухо закрыты, и мы уже начали раскаиваться, что свернули напрасно с дороги.
Наш спутник даже предложил, не задерживаясь понапрасну, продолжать свой путь, однако Патока настаивал, и мы согласились осмотреть мельницы.
Подъехав к крайней, мы спешились и приблизились к темным дверям, тяжелым и запертым снаружи железными болтами.
Сомнения быть не могло: запертая снаружи мельница не могла быть обитаемой… Тоже самое оказалось и с другой: она тоже была покинута людьми и продолжала махать — своими крыльями, никем не управляемая и никому не нужная…
— Теперича только третья и осталась! — сказал Патока, уже начинавший конфузиться за свою излишнюю подозрительность.
Третья дверь, к которой мы приблизились, когда уже совсем потемнело небо и черный фасад мельницы озарялся лишь дрожащими бликами далекого пожара, была такой же, как и две первые, только тяжелый железный болт не был заложен, а стоял тут же прислоненный к стене.
Мы не сказали друг другу ни слова, но все поняли, что значили эта незапертая дверь и этот, аккуратно стоящий у фундамента, болт…
Патока потрогал зачем-то пальцем скважину двери, попробовал заглянуть в нее, но, разогнувшись, покачал безнадежно головой:
— Темно, ваше б-дие, — шепотом произнес он.
И все мы, словно повинуясь чьему-то приказанию затаив дыхание прильнули ушами к холодным, влажным доскам двери…
Тишина была мертвая… Я ясно слышал, как тикали часы в моем кармане, и уже хотел отойти, как изнутри, сквозь толстую дверь мельницы, до меня долетел один только далекий, заглушенный звук…
Этим звуком была дробь электрического звонка, скрытого где-то очень далеко и к тому же еще, вероятно, зажатого ладонью руки человека… Он протрещал не более трех-четырех секунд, но этого было достаточно, чтобы мы все ясно его услышали…
— Никак телефон, ваше благородие, — широко открыл глаза Патока.
— Да, кажется, телефон…
Мы еще раз обошли мельницу кругом… Ни других входов, ни телефонного провода не оказалось, и все трое мы снова стояли перед той же толстой и низкой дверцей…
— Придется ломать, ваше благородие? — спросил Патока.
Мы попробовали засунуть конец штыка в скважину двери и отворить ее, но она не подавалась.
— Ломай, Патока!.. — скомандовал мой спутник.
Патока тотчас же притащил большой камень и нанес несколько мощных ударов в дверь.
Доски как будто немного разошлись, но не сдавали.
— Надобно всем навалиться. — посоветовал казак…
Мы «нажали»… Всей тяжестью тел мы все трое обрушились сразу на дверь, и она рухнула, поднимая облако мучной пыли и увлекая за собою Патоку.
— Леший, черт!.. — отряхивался через минуту весь белый от муки… — идемте, ваше благородие.
Мы осторожно вступили в какое-то темное и сырое помещение… Ноги тонули в мягкой мучной пыли, сверху тоже сыпалась мука, набиваясь в нос и рот, а сквозь отверстие сорванной двери, багровое зарево далекого пожара дрожало на посеревших от пыли бревнах стен…
Мы снова прислушались… Теперь мешали и скрип и скрежетание жерновов, но все же мы уловили звук осторожных шагов по скрипучему полу… Кто-то шел наверху, пробираясь или к лестнице, или к окну, выходящему в поле.
Эта мысль озарила меня мгновенно: «ведь, окно, выходящее в поле, совсем близко от крыльев мельницы, при известной ловкости можно при помощи вертящихся крыльев спуститься на землю… и бежать».
— Скорее, скорее, Патока… наверх к колесу… — закричал я, бросаясь к лестнице…
— Петр Иванович… в поле, скорее… он убежит через окно!..
Но тот уже выскочил за дверь и бежал к лошади… Он промелькнул и исчез во мраке…
Патока бежал тоже к крутой лестнице, мы оба карабкались по ней, хватаясь за ступени, как слепые, в темноте, ощупывая стены руками…
Шаги наверху сделались поспешными, уже неосторожными… очевидно, «он» понял, что теперь уже нечего таиться, но в это же мгновение я услышал еще шаги внизу человека, тоже карабкающегося вверх по лестнице вслед за нами…
— Петр Иванович… это вы? — в изумлении окликнул я, оглядываясь, но в ответ мне яркий снопик пламени прорезал мрак и пуля пропела над ухом высокой нотой…
— Проклятый черт!.. — крикнул, видимо, задетый казак… — держите его ваше б-дие…
Как назло в эту минуту я поскользнулся и упал на мягкий пол, засыпанный мукой…
Через меня перескочила какая-то черная фигура, показавшаяся во мраке громадной, грянул второй выстрел, и, вскочив на ноги, я увидел при тусклом свете зарева, проникавшем сквозь разбитое окно, две фигуры, казака Патоки и австрийского офицера, схватившихся в рукопашную на самом краю площадки, под которой скрипели и скрежетали жернова.
— Патока, держись, иду, — кричал я казаку, карабкаясь вверх по трапу.
— Не надо… — хрипло ответил он, словно сквозь стиснутые зубы, и в ту же минуту сверху сорвалась черная фигура и раздался крик — такой крик, какого мне никогда не приходилось слышать и забыть который невозможно. Я чуть не лишился сознания, волосы мои зашевелились на голове от этого ужасного вопля человека, заживо раздавленного…
Австрийский офицер оступился и упал в жернова…
На белой от муки стене алели брызги его крови.
Раненый казак Патока, отирая со лба пот, спускался вниз.
Мы вышли с ним в поле, Петр Иванович уже поймал бежавшего через окно первого австрийца, мы сняли с мельницы телефонный аппарат, поставленный в подвале, порвали подземные провода и тронулись обратно, с содроганием вспоминая ужасную ночную смерть человека.
А позади нас в открытом поле остались три черные одинокие мельницы, так же бесстрашно махающие своими неутомимыми крыльями.
Лицом к лицу
Еще не искусившаяся ужасами боя, но уже закаленная долгими переходами под палящими лучами, по пыльным дорогам, через села, часто уже покинутые жителями, дивизия подошла к бивуаку.
Между двух деревень на равнине пересеченной быстрым ручейком, как по мановению волшебного жезла, вырос целый город из палаток, город с улицами, площадями и проспектами.
В спускающихся сумерках, серо-голубых, таинственных, запылали костры и задребезжали по дороге догоняющие полковые кухни. После 25-верстного перехода растянулись около котелков усталые люди, сняты сапоги, сброшена амуниция, составлены в аккуратные, симметричные пирамиды винтовки.
День окончен!.. Предстоит ночь… быть может, спокойная, быть может… кто знает?.. Уже пронеслась тревожная и манящая таинственностью весть о близости неприятеля. Теперь этот враг, неизведанный еще, какой-то загадочный и, как казалось, бесконечно далекий — близок и почти осязаем… Где он?.. Там, на юге, за темной полосой горизонта, за сизо-черным бордюром леса?..
Один батальон выступает вперед в «сторожевое охранение» т. е. в тот неподвижный авангард, который должен бодрствовать и охранять дивизию от внезапностей тревожной ночи вблизи неприятеля…
По дороге среди палаток и костров безмолвно проходят плотные ряды темных, одинаковых фигур с ружьями; слышно только глухое гудение земли под сотнями солдатских сапог и мерное бренчание котелков.
Медленно тянется прямо по полю артиллерия…
В предвкушении боя, немного пугающего и властно манящего, этот ночной марш приобретает особенный оттенок таинственности… Следят за уходящими и сливающимися в сумерках взводами, безмолвно, серьезными глазами…
После почти часа ходьбы останавливаются и разводят роты… Позади, на опушке леса, разместились орудия. Сумерки уже совсем сгустились; пушек почти не видно — они слились с далеким лесом…
Перед нашей ротой открытый скат местности к глубокому оврагу, противоположная сторона которого покрыта частью кустарником и полого поднимается, сливаясь с полем. За нами поле, дорога и громадные стоги неубранного сена.
Ротный командир и фельдфебель, — две одинокие черные фигуры на фоне почти угаснувшего запада, — о чем-то совещаются… Солдатики, серые в своих шинелях, хладнокровные и, как всегда, невозмутимые, частью сбились в кучки, частью сели…
До ночи совсем близко!..
Через минуту все уже за делом: стучат шанцевые лопатки и кирки — роют окопы…
Враг близок и решено ночь провести в окопах… Русский солдат не только хороший воин, но и прекрасный работник. Сбросив шинель и составив винтовку, он, позабыв на минуту свой военный мундир, превратился в образцового землекопа…
Надо видеть, как ходит в его руках лопатка, как быстро углубляется окоп, как растет горка бруствера, как бодро, спокойно и беззаветно трудится незаметный пехотинец…
Через час наши окопы уже готовы… Солдаты опять в шинелях и с винтовками засели в глубокие рвы и в темноте сгустившейся ночи почти слились с землей…
Готовое прыгнуть, зареветь, засыпать свинцом и сталью, существо притаилось, припало к земле… Но чувствуется в этом молчании ночи, где-то недалеко схоронилось и другое чудовище, опасное и лукавое, и тщательно всматривается в черную даль поля, в сильный бинокль ротный командир…
Молодой поручик обходит окопы…
— Смотри, не кури… потерпи, — наставляет он, — чтобы огня ни-ни… Смотри все вдаль, а особенно за той рощей… на случай кавалерии… зря тоже огня не открывай… не волнуйся…
Ночь, глубокая и безмолвная… Тысячи звезд кротких и ясных в своем вечном сиянии, они словно изумленно глядят на этих людей, бодрствующих с холодной сталью в руках…
Офицеры полулежать под стогом на плащах… не курят… пьют из фляжек холодный чай и молчат… Почему молчат?.. Но где же говорить людям впервые сознающим себя лицом к лицу со смертельной опасностью, людям с еще не притупившимися от мысли о близкой смерти нервами…
Каждый думает о своем, но в общем все, вероятно, об одном и том же.
И так проходят часы…
Светает… бледный, холодный рассвет… люди все так же сидят, словно вросли в землю, в окопах, положив молчаливые дула винтовок на бруствер… Едва брезжит утро… Кажется ночь миновала благополучно… Но вдруг картина меняется… солдаты вздрагивают и начинают шептаться…
От рощи, с опушки, мчатся 10–15 конных фигур, с другой опушки еще столько же и вдруг, словно множась, кучка всадников разрастается в целый эскадрон.
Всадников еще не различить, это скачут какие-то таинственные центавры, покинувшие свое постоянное жилище, — темную рощу…
Резко хлопает первый выстрел, за ним второй, и по всей длине окопа вспыхивают в клубочках синеватого дыма, яркие огоньки и визжат пули…
Всадники все скачут…
Огонь частый и меткий опрокидывает их, мы видим падающих лошадей, видим коней без всадников, уже сбитых пулями, но вдруг совершается что-то неожиданное, что-то поистине прекрасное… Откуда-то с боку, Бог весть откуда, как Божья гроза, рушится на австрийцев взвод казаков… Летят они, рассыпавшись лавой, приникнув к луке седла оглашая воздух свистом, гиком и ревом… Их маленькие лошадки словно не касаются земли, распустив по ветру гривы и длинные хвосты…
Пехота едва успевает прекратить стрельбу, как все уже кончено…
Целый поток всадников в синих венгерках и красных шапках, гонимый бородатыми кавалеристами с пиками на перевес, мчится назад врассыпную, теряя оружие и падая с коней.
Все это совершается так быстро, так неожиданно, что пехоте остается только спешить подбирать и забирать пленных… Их человек двадцать, одни раненые, другие ушибленные, а третьи просто обезумевшие от страху.
С шуткой и добродушной руганью этих последних ведут обратно… раненых несут в окопы… Из погони шагом возвращаются казаки… фыркают усталые, вспотевшие лошадки… беззаботно покачиваются в седлах «вечные воины»… Некоторые ведут в поводу австрийских отбитых коней, некоторые везут в седлах перед собою пленных гусаров.
Их лица радостно спокойны… С шутками проезжают они мимо пехоты, словно совершенное ими — не подвиг, а самое простое, привычное дело… Мы смотрим на них с восхищением.
Заливая золотом облака, встает солнце… «Сторожевка» окончена… По далекой дороге чернеют подтягивающиеся главные силы…
Мы видим врага лицом к лицу, мы приняли боевое крещение.
В разведке Рассказ офицера
Как черное кружево сплелась над головами листва дерев; сквозь ее причудливый узор пробивались холодные, бледные лучи лунного света и чертили странные, серебряные арабески на черном ковре влажной травы, по которой неслышно ступали ноги.
Шло нас четверо…
Впереди всех Карасенко, солдатик второй полуроты, невысокий, коренастый, с смешливым лицом молоденькой деревенской девки. Вчера он был ранен навылет в ладонь, но сегодня уже убежал из лазарета и отпросился на разведку.
Теперь он все время рвался вперед, несмотря на окрики, негромкие, но внушительные…
— Я ничего, ваше б-дие… Я остерегусь… не сумлевайтесь, — бросал он иногда назад шепотом и снова, как тень, двигался вперед, бесшумно раздвигая сучья…
Нам светила серебряная луна, озаряя небольшие лесные полянки, поминутно попадавшиеся, и, скользя белыми лучами, заставляла гореть тусклым блеском штыки наших винтовок…
«Он» был где-то впереди таинственный неприятель, с которым вчера наши передовые части сцепились было, но который поспешно отступил с сумерками за густой, необследованный нами лес.
Вечером решили его не преследовать, но едва сошла ночь, по опушке темного и загадочно шумящего леса рассыпались дозоры…
Было очень холодно…
Трава была влажная и казалась ледяной, холод набирался под шинель и немели руки, державшие оружие…
Шли, а иногда и ползли осторожно и почти бесшумно… За каждым деревом казался неприятельский часовой, каждый пень, каждая крупная кочка превращались ночным мраком в сидящую фигуру австрийского солдата с ружьем в руках…
Подползали к обманчивым черным силуэтам с тысячами предосторожностей, со всех сторон, готовые поразить неприятельского часового одним ударом, чтобы, он не успел даже вскрикнуть, даже вздохнуть, и с досадой замечали свою ошибку.
Карасенко каждый раз вполголоса ругался по-хохлацки, злобно сплевывал и, поднявшись с земли, смахивал росу с колен…
И опять шли дальше до следующего миража, до следующей ошибки…
— А может они, ваше б-дие, и совсем уйти решили? — спросил тихонько унтер-офицер.
— Лес кончится — увидим.
— Должно скоро и опушка… — про себя решил солдат, и опять все в молчании, зорко глядя по сторонам, двигались вперед.
Я никак не мог предположить, чтобы — если зайдет луна, — в лесу сразу сделалось вдруг так холодно и так страшно, непроглядно темно…
Как только зашел за тучу светящийся диск, словно вдруг кто-то черной краской мгновенно запил все серебристые просветы в кружевном куполе темной листвы над нашими головами, в одно мгновение исчезли все очертания, деревья, кочки, пни и мы погрузились в таинственную пучину ледяного, черного, без просвета черного, океана…
Мы вдруг перестали видеть друг друга и остановились…
— Луна… от… зашла видно, ваше благородие, — услышал я голос Карасенко. — Теперь, ежели на их дозор набредешь, мимо как раз и пройдешь… не приметишь…
Милый Карасенко! Он не думал о том, что нас самих в такой темноте могут прирезать, как куриц, он беспокоился за то, как бы не пройти мимо неприятельского дозора. Надо было все-таки идти вперед.
Пошли наощупь… Впереди опять же Карасенко пробирался на четвереньках между дерев и кустарников, а за ним все остальные близко друг к другу, поминутно натыкаясь руками на мокрые сапоги вперед ползущего…
Иногда останавливались… Карасенко доставал компас и, загородившись со всех сторон полами шинели, я на минуту зажигал электрический фонарик, и мы проверяли правильность направления…
Потом снова свет гас и ползли черные тени людей в темноте по мягкой и мокрой траве.
Наконец, лес поредел…
— Вот и опушка, ваше благородие, — сказал унтер-офицер, останавливаясь…
Здесь было немного светлее, чем в лесу: можно было различить поле и вьющуюся по нему серой полосой дорогу.
Прямо перед опушкой высились два громадные стога сена.
— Ваше благородие, никак немец? — Карасенко ткнул пальцем в сторону дороги.
Мы все всмотрелись…
Действительно, на сером фоне шоссе выделилась какая-то фигура, на краю у канала видимо сидел человек, пригнув голову к коленям…
Темнота не позволяла различить его формы одежды…
— Надо подойти…
И начали медленно и осторожно подползать к неподвижно сидящему человеку.
Наконец, приблизились настолько, что можно было различить его голову, и на ней мы заметили австрийское кэпи.
— Австрияк… — пробормотал Карасенко, берясь за винтовку…
Мы подошли еще ближе, и в эту минуту австриец увидел нас и повернул к нам голову…
Я увидел его лицо, бледное, усталое, и оно поразило меня тем глубоким спокойствием и безразличием, которым светились его глаза…
— Сдавайся! — вполголоса крикнул Карасенко, хватая за руки сидящего австрийца.
Тот не сопротивлялся, лицо его сохраняло то же выражение безразличия, глаза так же спокойно глядели в темную даль поля…
Австриец казалось не замечал нас или не хотел замечать, он был погружен в какие-то иные размышления, не имеющие никакого отношения к войне и окружающей обстановке, он был поглощен какой-то иной, всецело его занимавшей думой.
Я взял его за плечо и только тогда заметил, что это офицер: на его воротнике блестели две звездочки…
— Вы взяты в плен, — сказал я по-немецки, — потрудитесь следовать за мной…
Австриец, казалось, не слушал меня или, вернее, не понимал моих слов, он, не отрывая глаз от темного горизонта, повелительно произнес:
— Оставьте ее… она дымится…
Я переспросил его, удивленный…
— Она дымится, потому что она синяя… — повторил он.
И снова впал в свою страшную задумчивость.
Это был сумасшедший!..
В широком поле ночью, одинокий, покинутый всеми, осколок разбитой армии — сумасшедший австрийский офицер, какая яркая картина ужасной война!..
— Что он говорит, ваше б-дие? — между тем, допрашивал меня Карасенко…
— Он сумасшедший, братцы…
Солдаты молчали…
— Ума решился! — произнес, наконец, унтер-офицер…
— Спятил значит… ишь сердешный… — уже сочувственно сказал Карасенко.
Солдаты обступили австрийца, все еще сидевшего на краю канавы.
Однако, надо было идти дальше, а пленного нельзя было оставить здесь.
Я решил спрятать его за стог и оставить там пока под конвоем одного из солдат.
— Идемте, — сказал я, беря офицера под руку.
Он покорно встал и вдруг взглянул на меня своими ужасными, равнодушными глазами:
— Вы говорите она не дымится; ну хорошо… посмотрим…
Австриец вырвал свою руку, сам обнял меня за талию, и мы тронулись быстро по дороге к стогам.
— Что ж, ваше б-дие, с ним делать теперича? — спросил Карасенко, когда мы приблизились к стогам. — Жаль его… все же… хоть он и ума решился, а человек…
Карасенко все старался заглянуть в глаза австрийцу, но тот глядел себе под ноги и шагал быстро и сосредоточенно…
Около стогов офицер покорно опустился на землю, завернувшись в поданную ему солдатом шинель…
— Вы правы… она не дымится… но погодите… погодите… она, ведь, синяя!..
Австриец лукаво подмигнул и засмеялся мелким дробным смехом.
— Ишь, ведь бедняга! — сочувственно покачал головой Карасенко, — я его ваше б-дие постерегу, а вы ступайте с остальными…
После минутного колебания я согласился, и мы опять тронулись по дороге, оставив за собой громадный черный силуэт стога сена с двумя маленькими черными фигурками у его подножья.
Постепенно они слились в одно далекое темное пятно и, когда мы повернули с дороги влево, оно совсем скрылось.
Мы около двух часов бродили еще по необъятному темному полю, прячась по кустарникам и в темноте одиноких деревьев… Австрийцев вблизи не было…
Где-то далеко, далеко заметили мы огонек, быть может, от костра, но памятуя инструкцию не увлекаться и не поднимать тревоги выстрелами, решили повернуть обратно.
В ту минуту, как мы опять вышли на дорогу, забросанную амуницией и трупами лошадей австрийцев, где-то вдали прогремел одинокий ружейный выстрел, за ним другой и вдруг в темном небе взметнулся язык пламени и заалело, разрастающееся зарево…
— Никак у стогов! — воскликнул унтер-офицер, и все мы трое, не сказал друг другу ни слова, кинулась бегом вперед к далекому зареву, быстро разраставшемуся в темном небе.
Мы бежали один за другим, прыгая через валяющиеся винтовки и ранцы, обегая трупы лошадей, со страшными оскаленными челюстями и остекленевшими глазами; бежали задыхаясь, чувствуя уже колоти в боку, но сознавая, какую громадную опасность представляет этот вспыхнувший ночью перед нашим расположением стог сена…
Когда мы подбежали, стог весь пылал, как факел, а около другого копошился Карасенко, одной здоровой рукой стараясь растащить сено подальше от сыпавшихся искр…
— Запалил, запалил, проклятый! — кричал он нам еще издали.
Мы подбежали и, не спрашивая ничего, принялись помогать Карасенко… Между делом он нам рассказал все происшедшее за наше отсутствие.
— Как это вы, значит, ваше б-дие, отошли… мой немец словно уснул… лежит не пикнет… а я ему попить, значит, дал, хлеба краюшку… только он не есть… болен, значит… Ну я сел это подле него на шинельку… так это с ним по-хорошему, только он все молчит или по своему лопочет… я сижу, а за винтовку, значит, держусь…
Сидели мы это сидели… я как бы позабылся немного, немец мой тоже… только вдруг вижу он что-то копошится… «Что это, говорю… Ваше б-дие, чего тебе надо», а он как вскочить, как побежит вокруг стога… я за ним… хвать его за рукав, а он от меня…
Мне, конечно, одной рукой его не удержать… побежал он… я стрелять… два раза стрельнул… он упал, оглянулся я — стог, что ивая свеча горит…
Между тем, уже пошел переполох… подошли соседние дозоры, завидев зарево, прискакал из штаба ординарец узнать в чем дело…
— Где же австриец? — спросил я Карасенко, когда суматоха улеглась, а от стога осталась только тлеющая куча.
— Тама лежит, — ткнул он пальцем в поле.
Австриец лежал совсем недалеко… При робком, сером свете занимающегося дня я видел его бескровное, спокойное лицо, обращенное к потухающим звездам, мертвые глаза его были такие же равнодушные и ужасные…
Пуля Карасенко попало ему прямо в затылок… Мы положили труп сумасшедшего австрийца на винтовки и с первыми лучами проснувшегося солнца понесли в лагерь.
Воля рока (Эпизод из настоящей войны)
Подпоручик, фамилии которого я не знал, был еще совсем молодым человеком лет 22, с круглой черной коротко выстриженной головой, простым, приятным лицом и необыкновенно веселым нравом: он увеселял буквально весь вагон, а одинокий офицерский вагон, вплетенный в бесконечную вереницу «теплушек» воинского поезда, уже восьмой день катился неведомо куда.
«Что же мы на зимние квартиры? Боятся что ли командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки!!»шутил кто-то, но даже в тоне этой шутки слышалось стремление поскорее увидеть и втянуться в то, для чего собственно все и ехали…
И купэ, где находился веселый подпоручик, как-то невольно сделалось, так сказать, клубом нашего вагона…
Сюда приносились все чайники, закуски, у кого что было, устраивался общий чай и до поздней ночи, при тусклом свете огарков, говорили, смеялись и хоть на час забывались люди, простившиеся уже со всем миром и приготовившиеся к тяжелому и смертельно-опасному делу.
Подпоручик был всегда беззаботен, он, только что оставивший несколько дней тому назад юнкерское училище, казалось, обладал большей выдержкой, чем старые капитаны.
Его не смущало ни долгое путешествие, ни бесконечная неизвестность, его не расстраивали ежеминутно повторявшиеся на станциях прощания с сотнями баб, голосивших и приговаривавших на все лады, и когда его спрашивали:
— Слушайте, поручик, неужели вам некого оставлять? Не о ком грустить?.. Неужели вы так уверены, что вернетесь?..
Он старался делать серьезное лицо, хотя глаза продолжали смеяться, и отвечал:
— Наоборот, у меня остались мать и невеста, но я убежден, что вернусь совершенно целым или с пустяшной раной…
— А вдруг приедете без ноги? — спрашивал кто-то…
— Оставьте!.. Я слишком верю в свою звезду…
Мне впервые пришлось увидеть такую слепую веру в свою судьбу, в невозможность уклонения от им самим предсказанного финала…
Но наблюдать было некогда…
Скоро поезд, наконец, достиг цели, поздней ночью, при свете электрических солнц, подъехали к большому белому вокзалу и начали высаживаться…
Безмолвные вереницы темных вагонов вдруг ожили, раскрыли широкие пасти я начали выбрасывать из себя сотни вооруженных, навьюченных людей…
Беспорядочные группы собирались в ряды, ряды составляли роты и вскоре все то, что заключал в себе этот сорокавагонный поезд, все то, казалось бы, беспорядочное к неорганизованное, что заключали в себе эти опустевшие вдруг казармы на колесах, превратилось в стройную, однообразную колонну пехоты, направлявшуюся вдаль по ночной, темной и окутанной клубами едкой пыли дороге.
С подпоручиком мы расстались… Он со своим взводом прошел вперед и, как остальные, утонул в сером пыльном тумане наступающего рассвета, смешался с серыми рядами, исчез в океане людей, повозок и лошадей…
* * *
День был на исходе…
Опушка леса, побитого гранатами, где раньше стояла батарея, теперь была свободна, виднелись только вырытые окопы для орудий, валялись трупы и вились по земле оборванные проволоки телефонов…
Пушки уже уехали…
Они все толпились около леса на широкой дороге, пересеченной в этом месте проселочной, ожидая пока начальство выбирало позицию…
Лошади, здоровенные битюги, застоявшиеся за целый день, радостно рвались вперед, а пушки, весь день ревевшие и осыпавшие противников сталью и свинцом, теперь молчаливо и совсем не воинственно глядели черными отверстьями дул в его сторону.
Мимо проходила пехота…
Меняли позицию…
Но это были уже не те люди, что утром, это были обожженные огнем, люди, искусившиеся и потому с особенно решительно — серьезным выражением глаз… Кое-кто был без амуниции, очевидно, бросив ее во время атаки, другие шли с завязанными пальцами или головами… Но здоровые руки крепко держали винтовки и шагали люди сосредоточенные и непоколебимые…
Среди них я увидел подпоручика… Он шел прихрамывая, опираясь на винтовку, очевидно, слегка раненый в ногу и глаза его были такие же веселые, и живые…
— Поручик, окликнул я его, — вы ранены?
Он оглянулся.
— Пустяки — контужен в ногу… Судьба за меня… Вы знаете, кто был раз ранен, во второй уже вряд ли попадется…
— Дай Бог!..
Он прошел дальше.
В эту минуту закричали в артиллерии и длинная цепь лошадей, передков и пушек, свернув на проселочную дорогу, стала рысью выезжать на позицию.
С пригорка я видел, как остановили пехоту, как генерал с серебряными погонами объяснял что-то, указывая пальцем на опушку, как потом артиллерия, сделав 8-10 выстрелов, быстро снялась с позиции и впереди нее осталась редкая цепь пехоты с прихрамывающим подпоручиком во главе.
Что делалось там потом, в этом ничтожном прикрытии отступающей армии, я не мог видеть, так как во-первых, они засели в окопы, а во-вторых, на поле посыпался целый дождь австрийской шрапнели…
* * *
Кровавое поле осталось позади, здесь были только бесконечные вереницы вагонов, переполненных стонущими людьми…
На соломе или уже на койках, кутаясь в шинели или одеяла, сидели или лежали эти страдальцы, такие одинаковые на вид, такие скромные после совершенных ими подвигов…
В классном вагоне, предназначенном для офицеров, тяжело раненых, к счастью, не было.
Один только казачий офицер, раненый в грудь, ходил безмолвный… как маятник взад и вперед по коридору, боясь согнуться и боязливо неся прямым, как палка, свое громадное, тяжелое тело…
У входа мне встретился молодой офицер. Он был в кителе, сплошь залитом кровью, уже запекшейся и почерневшей, и без сапог; их заменяли какие-то странные туфли из меха…
Голова его вся сплошь была словно покрыта белым плотным шлемом из бинтов и оставались свободными только левый глаз, полщеки и рот… Все остальное было под бинтами…
Я, конечно, его не узнал, но подпоручик (это был он) окликнул меня.
В тот же вечер мне рассказывал о нем доктор:
— Вы знаете, это редкий случай: пуля попала в переносицу на уровне левого глаза, пробила ее, выбила правый глаз и вышла из правого виска, и, представьте, он ни на одну минуту не потерял сознания… Солдаты хотели его унести — отказался!.. Потом сам четыре версты полз за нашими по такой погоде, какая была в тот день… помните?..
О, я помнил этот вечер, темный, августовский… Мне живо представился ночной мрак, вспугнутый заревом пожаров, пронизывающий мелкий дождик, отдаленный гул выстрелов и черные, молчаливые массы людей и лошадей, медленно ползущие по дороге.
Это было после боя, когда позади осталось отбитое у врага поле, усеянное убитыми и ранеными, и один из них, веселый подпоручик, с выбитым глазом и простреленным виском 4 версты полз, истекая кровью, «за своими».
Я содрогнулся…
На приступочке площадки вагона сидел одиноко забинтованный подпоручик. Около него собралась большая толпа, готовой всегда поглазеть публики; тут были здоровые солдаты, стрелочники и множество евреев и евреек, типичных и ярких, слушавших его, затаив дыхание…
Он не рассказывал, нет, он пел… Пел непонятные этой толпе прекрасные песни своей далекой Украйны, пел их не для толпы, а для себя, таким чудным, задушевным и тихим трогательным тенором, какого я никогда не подозревал у «веселого» подпоручика. И все слушали мелодичный, непонятный язык: я видел, как плакала еврейская девушка и безнадежно грустно качал головою бородатый мужчина в длинном сюртуке и круглой шапочке, а из единственного глаза подпоручика катились по темной щеке светлые капли слез.
Подпоручик повернулся, отыскал меня своим зрячим глазом, стараясь улыбнуться, словно извиняясь, произнес:
— Скучно, знаете… Что теперь — в отставку и шабаш… Я уж просил доктора, нельзя ли в полк обратно… Он говорит: «Куда же без глаза»… Вот я и распеваю…
Каменный дождь
I
С неба падали холодные крупные капли…
Над болотом, тянувшимся от подножья возвышенностей до далекой деревни, сливавшейся в одно темное пятно, с раннего утра тянулся белый сырой туман…
Рассвет болезненный, бледный, осенний холодный рассвет, застал нас на открытом плоскогорье, поросшем высохшей, притоптанной в грязь и отжившей травой. От самого края, спускавшегося довольно круто к громадному болотистому полю, тянулся бивуак, то есть, вернее, не бивуак, а просто походное расположение громадной серой массы пехоты, два дня бившейся за обладание этой позицией и теперь укрепившейся на срезанных словно гигантским ножом темных холмах, опрокинув и отогнав германский корпус за деревню к далекому синевшему туманной полосой лесу.
Ночь спали посменно. Пока одни дремали на холодном мокром песке глубоких окопов, другие, высунув головы поверх бруствера, с винтовками в руках, бодрствовали, внимательно глядя вперед и словно стараясь зорким немигающим взглядом прорвать черную холодную завесу ночи. Лежа на дне окопа, можно было курить пригнув голову к коленям и тщательно пряча мерцающий окурок между ладонями рук или в рукав шинели. С вечера попробовали поговорить, поделиться впечатлениями двух пережитых боев, но железная усталость свалила с ног, и все, кому было возможно, кто имел право отдохнуть два часа, — все заснули тяжелым, нервным и чутким сном, полным странных, необъяснимых и кошмарных сновидений.
Нервы, слишком напрягшиеся в течения 48 часов, теперь создавали фантастические картины, вплетали в них воспоминания подчас мелкие, казавшиеся незначительными, но теперь, быть может, именно внезапностью и несоответствием своим данным обстоятельствам, приобретающие страшные и щемящие душу размеры.
Я помню ясно, что перед рассветом этого ужасного дня, который оставил глубокий след, незаживающий рубец в моей памяти, мне снились пережитые ужасы, пережитые опасности минувших сражений и одновременно на темном фоне этих воспоминаний почему-то посетили меня, здесь, в открытом поле лицом к лицу с неприятелем, на дне холодного сырого окопа, образы людей, которые были так далеки, мелодии песен, которые были так неуместны здесь, и они, эти воспоминания, эта незваные пришельцы, давили усталый мозг хуже неумолкающего воя гранат и лязга взрывов.
II
Будили нас не сигналом, не барабаном, будила нас утренняя сырость, предрассветный ветерок и бледный румянец облаков, сгрудившихся тяжелыми массами на востоке.
Мы вставали со своего влажного, холодного ложа, стараясь отогнать виденья, посетившие нас под покровом ночи, мы удивлялись царившей вокруг тишине, когда в наших ушах, казалось, все еще грохотали быстрой смертоносной переговоркой пулеметы.
В окопе уже было почти светло. Темные фигуры солдат вырисовывались из ночного мрака, первые робкие лучи солнца, скрытого за облаками, засветились на лезвиях штыков и протянутых к неприятелю винтовок. Из походных кухонь принесли кипяток… В больших чайниках, обшитых войлоком, его спустили в окопы, и каждый спешил подставить кружку, котелок или маленький жестяной чайник, чтобы, получив хоть несколько глотков кипятку, наскоблить в него ножом казенного плиточного чаю и напиться, согреться, обжигая себе губы, но наслаждаясь невыразимо сладким ощущением.
За лесом в ложбинке, вдали от неприятеля и вне его обстрела, расположился обоз, лазаретные повозки и походные кухни, из труб которых тянулись тонкие струйки черного дыма. Перед лесом версты на две позади края плоскогорья чернели пушки батарей и на крыше чудом уцелевшего домика, наполовину, правда, разрушенного, устроился наблюдательный пункт и у задней стены — телефон.
После стакана чаю, выпитого вприкуску с куском черного хлеба, показавшегося вкуснее всякого пирожного, стало как-то веселее, теплее и спокойнее на душе, Понемногу выползали из окопов, стряхивали с себя прилипшую за ночь от лежанья на земле грязь и в бинокли, а у кого их не было и невооруженным глазом, всматривались пристально и нетерпеливо в силуэты далекой деревни и леса, куда отошел после вчерашнего боя неприятель.
Тихие разговоры, добродушная перебранка, смех и шутки, — все это возобновилось вновь, как и вчера, как третьего дня, как и все дни похода, словно не было за спиной десятков верст, пройденных пешком по ужасным дорогам, размякшим от дождей и разбитым снарядами, словно не было боев, не было опасностей…
С рассветом жизнь вернулась в свою прежнюю колею, колею мирного бивуака! Но все ждали и каждый таил в сердце это ожидание нового боя, новых неизбежных опасностей и подвигов…
III
Но вот проснулись и немцы…
Мы сперва видели только в сильные бинокли, как выползла из деревни черная длинная колонна людей, казавшаяся какой-то исполинской змеей, вытянувшей свое чешуйчатое тело по серо-зеленой глади поля, но вскоре и простым глазом можно было различить германскую пехоту, уходившую куда-то вправо, словно отступавшую, но на самом деле пытавшуюся выполнить коварный план глубокого обхода.
И план этот был быстро разгадан: с опушки леса, оттуда, где чернели наши пушки и высился полуразрушенный дом с телефоном, гулко ахнули в упругом утреннем воздухе один за другим шесть выстрелов и через наши головы, через болота, к извивающейся черной змее перемещающихся неприятельских колонн понеслись свистящие и завывающие стальные стаканы. Мы видели издалека белые вспышки взрывов, и только через несколько секунд долетели до нас отдаленные звуки; это был лязг лопающейся шрапнели и чистый медный голос германской трубы, игравшей наступление…
Одновременно далекая синяя полоса леса, в которой упирался тыл неприятеля, словно растрескалась огненными брешами, и каждая вспышка послала к нам по невидимой гранате, пронесшейся над нашими головами и разорвавшейся где-то позади в стороне от нашей батареи.
С этой минуты, словно по какому-то взаимному соглашению, обе батареи, — и наша и немецкая, — уступая любезно друг другу очередь и выжидая равные интервалы, загремели, посылая друг к другу рассыпающуюся свинцовым дождем шрапнель и гранаты, вырывающие с корнем деревья и образующие в земле глубокие воронкообразные ямы..
Это длилось до полудня, пока германская пехота не оставила своего плана обхода, пока она не убедилась, что ее хитрость раскрыта, что раньше, чем добиться своего, ей придется собственными телами заткнуть эти стальные жерла, выбрасывающие ей в лицо целый ад свинца и стали.
Тогда черная змея поползла обратно, извиваясь по полю, то исчезая в какой-нибудь ложбине или за каким-нибудь естественным прикрытием, то снова выползая на открытое место и поблескивая сталью своих примкнутых штыков.
IV
Батареи умолкли. Побитая опушка леса, усеянная расщепленными и вырванными из земли деревьями, еще гудела, и гул этот распространялся в чаще, словно одно дерево передавало другому, один куст шептал своему соседу об ужасе всего виденного и пережитого в это утро.
Солдаты готовились к бою. Теперь уже всем было ясно, что немцы, потерпевшие неудачу со своим обходом и сознавая всю громадную важность обладания позицией, господствующей над местностью, теперь будут делать нечеловеческие, отчаянные попытки овладеть ею, если нельзя было хитростью, то прямо постараются задавить своей численностью, убийственным огнем своей тяжелой артиллерии.
И русские солдаты, устраивающиеся теперь поудобнее в своих окопах, укладывающие на бруствера вещевые мешки и ранцы, понимали это ясно, понимали и чувствовали, что теперь настал их черед действовать, их черед показать, как велико превосходство открытой, прямой и беззаветной храбрости перед исполинскими орудиями и снарядами чудовищной силы.
Одни подтягивали ремни, другие оправляли подсумки третьи осматривали винтовки и обтирали полами шинелей замки, засорившиеся от набивающегося в них мокрого песку.
— «Чемодан» — закричал кто-то. Над головами пронесся пресловутый немецкий «чемодан».
Гудело, словно в лесу перед грозой, когда расходившийся ветер гнет вершины старых высоких елей, и они скрипят и шумят заунывными голосами. Воздух стонал, словно громадное стальное тело несущегося германского снаряда причиняло ему физическую боль.
Взорвался «чемодан» где-то далеко позади, но нам не было уже времени следить за разрывами; один за другим уже не соблюдая очереди, выплевывали в нас свои исполинские снаряды немецкие мортиры, и вой, стон и визг воздуха вместе с лязгом и грохотом взрывов слился в одну ужасающую, терзающую уши, мелодию.
— Теперича и до нас очередь доходит!.. — негромко, но спокойным голосом произнес солдатик, круглолицый, с ясными взглядами и веселым звонким смехом, который я слышал еще в это утро.
Очередь дошла. Германская пехота выползала из деревни бесконечными лентами с двух сторон, под прикрытием своих мортир, все еще продолжавших истязать воздух и землю, рассыпалась в цепи и последние полукругами приближались к нам, минуя громадное болотистое поле с двух сторон.
Словно пробудившись, неожиданно и быстро затрещали пулеметы, и в первую минуту, даже нельзя было определить, где собственно, они находятся: на левой ли стороне, или на правой, в передовых ли цепях, или позади, но зоркий глаз наблюдателя с вышки полуразрушенного дома скоро обнаружил местонахождение этих маленьких убийственных автоматов, и мы увидели, как последовательно один за другим разрывы артиллерийских снарядов повисли белыми клубками над группою кустарника, окаймлявшего болото с правой стороны. Они были там… Русские артиллеристы нащупали их быстро, смелой и твердой, опытной рукой… Два-три разрыва впереди, столько же позади и вдруг несколько вспышек пламени и дыма в самых кустарниках… Дробь пулеметов поредела и вдруг умолкла совсем… Пулеметы уехали… Уехали ли, или остались лежать на мокрой земле, разбитые нашими снарядами, рядом с растерзанными телами германских солдат — мы этого не знали… но пулеметы умолкли…
V
Между тем ружейная перестрелка уже началась…
Сидя в окопе, я наблюдал все за тем же молодым солдатиком с ясными глазами, наблюдал за тем, как он спокойно и деловито, словно на дворе казарм во время прикладки, вскидывал винтовку, стрелял, заряжал снова и опять стрелял, исполняя свое дело без спешки, без суеты, молча и убийственно равнодушно. Но равнодушие это было не ленивое, а прекрасное, полное презрение к напиравшим немцам, к бьющим в бруствер почти рядом с ним германским пулям и к вызывающим «чемоданам».
Костер разгорелся! Уже не было слышно отдельных выстрелов не было слышно взрывов, уже не обращали внимания на белые вспышки шрапнели уже никто не выкрикивал: «чемодан»… и никто не задирал с любопытством головы, все, все смешалось в одном страшном усилии, мы перестали существовать в отдельности, мы слились в одно существо громадной силы, нечеловеческого упрямства, существо, которое должно было или отбросить натиск немцев, или погибнуть, не уступив ни одного шага этого плоскогорья, такого невзрачного и на вид мало значительного.
— Но где же пулеметы, где наши пулеметы?.. — прокричал мне на ухо пробежавший куда-то поручик.
«Действительно, где же пулеметы?» — подумал я, — «почему я не слышу их дроби, их уверенного и быстрого говора?..».
Они нашлись, наши пулеметы!.. Чья-то верная рука, чей-то светлый ум скрыл их до поры до времени и поставил с боку незамеченными никем и потому сугубо опасными для противника и вот когда немецкие цепи, превосходившие нас своей численностью и густотой, под прикрытием артиллерии подошли так близко, так ужасно близко, что мы могли простым глазом различать лица солдат под козырьками надвинутых на лоб остроконечных касок, когда наша стрельба превратилась в один сплошной визг ружейной трескотни, когда справа от немцев оказалось болото, а позади них — открытое поле, усеянное темными пятнами валявшихся человеческих трупов, они, наши пулеметы, вдруг заговорили дружно и весело, засмеялись насмешливым ядовитым смехом и, покрывая гул боя и голоса людей, прямо в лицо немцам закричали тысячами голосов одно слово: «смерть, смерть, смерть!!.»
VI
Мы видели только начало конца. После мы не могли уже оставаться безучастными и вторили своим «ура» их заразительному смеху, но первые минуты, пока мы, пораженные внезапностью их выступления, смотрели на все немые от восторга, мы видели, как начали погибать наши враги! В массах пехоты, бывшей уже совсем близко от склона нашей возвышенности, вдруг произошло какое-то движение: все находившиеся с правой стороны, обращенной к нашим пулеметам, стали падать один за другим, словно скошенные незримой мощной косой, левые же стремительно шарахнулись вправо и, падая, спотыкаясь и скользя, кинулись вниз к болоту и назад в открытое поле…
Как Божья гроза, налетели на них с боку и сзади, со стороны открытого поля казаки, сверкнули в воздухе клинки их шашек, задрожал лес от их гика и свиста и в одно мгновение все было кончено!.. Вся человеческая лавина, только что мчавшаяся на нас вдруг остановилась, изменила направление, внезапно сбилась, скомкалась в жалкое обезумевшее стадо и кинулась по единственному открытому для нее направлению, то есть — в болото…
Дружное могучее «ура» пронеслось над полем… С плоскогорья вниз неслись массы наших солдат в штыки, и их крики, победные и торжествующие, вероятно, слышали и немецкие артиллеристы, расточавшие за десять верст свои бесполезные «чемоданы». А германская пехота, или, вернее, то, что от нее осталось, гибла в холодной трясине, под непрекращающимся дружным огнем наших пулеметов и пехоты… Как сквозь сон видели мы людей, захлебывающихся, вязнущих в грязи, гибнущих с отчаянием в глазах и проклятием тем, которые вызвали на них этот страшный стальной дождь…
И если каменный дождь, посланный Богом в наказание древним, был ужасен, то стальной дождь, под который в этот день попали орды этого народа, бесчестием и варварством которого потрясен и изумлен весь мир, заставил дрогнуть самые твердые сердца!
И много лет, очень много лет, все мы, очевидцы этой трагедии, не забудем картины их гибели, картины понесенного ими наказания!..
В трясине
Батальон подошел к лесу, когда уже сумерки спускались, перестали различаться отдельные стволы дерев, сливаясь в синеватую однотонную полосу.
Солдаты уже не казались людьми, а скорее какими-то черными неясными тенями, неслышно скользящими в чаще высоких и молчаливых ветвей…
Ноги с трудом ступали по мягкой мшистой земле, бесшумно погружались в сырую мягкую массу, и только изредка хрустели сухие ветки, или кто-нибудь, запнувшись о кочку, ронял короткое и сильное ругательство…
Шли уже часа три, пока приблизились к лесу, густые, черные ветви которого теперь сомкнулись непроницаемым пологом над нашими головами…
Миновали еще до заката солнца поля, взрытые кипевшим два дня до того здесь боем, с разбросанными по ним обломками орудий, повозок и артиллерийских передков, и, следуя по пути, уже пройденному неприятелем, преследуя его по пятам, мы приближались к лесу, который раскинулся одной стороной на русской земле, а другой упирался в узкую речонку, за которой уже начиналась Галиция.
Солдаты шли молча… Они растянулись, разбрелись и мелькая между дерев и высоких кустарников темными силуэтами, двигающимися, хоть и не быстро, но дружно и твердо вперед…
В поле шел дождь, мелкий и холодный, даже не дождь, а просто сыпалась из серого неба какая-то водяная пыль, пронизывающая до костей сквозь толстое сукно шинели, но здесь, в лесу, с ветвей, сплетающихся над нашими головами, капали изредка крупные, тяжелые капли…
Наконец, стало совсем темно…
Перестали различаться черные силуэты идущих рядом людей, слышались только их тихие, мерные шаги и негромкие голоса…
Около меня шагал ефрейтор Сормин, отделенный из второго взвода, славный немолодой уже солдат — с веснушчатым лицом и рыжеватой щетиной вокруг круглых щек.
Сормин был запасный, до войны он служил на заводе, недурно зарабатывал, но когда грянул гром и пришлось бросить все, потерять место, оставить семью и идти в армию, Сормин без ропота подчинился судьбе и здесь, среди товарищей в тяготах похода, был незаменимым весельчаком и неунывающим молодцом в самые тяжелые минуты.
Сормина я видел уже в двух боях и он удивил меня тем исключительным хладнокровием, которое нельзя в себе воспитать, а с которым можно только родиться.
Я с изумлением видел, как он, под пулеметным огнем, не теряя присутствия духа, распоряжался своим отделением, а потом и взводом, как отряхивался от земли, внезапно засыпавшей его, оказавшегося вблизи места, куда с грохотом обрушился бризантный австрийский снаряд, Сормин выругавшись, спешил к продвинувшейся вперед цепи, как, наконец, возвращаясь обратно после отчаянной штыковой атаки он, уцелевший каким-то чудом, флегматично скручивал цыгарку…
И к Сор мину я питал с тех пор кроме симпатии еще чувство какого-то почтительного преклонения…
Я его не видел, но слышал его шаги и его добродушное ворчание по поводу скверной погоды…
— Кажись, ваше б-дие, скоро их граница будет… — внезапно спросил он из темноты…
— Да… скоро…
— А сильно они, верно, за границу-то отступили… Ни слуху о них, ни духу… — продолжал рассуждать Сормин, приблизившись ко мне настолько, что я мог различить его лицо, белеющее пятном во мраке.
— А что на их границе, ваше б-дие… стена или что?.. — снова раздался вопрос…
— Нет… река…
— То-то река… опять-же переправляться придется… куда в такую темень, ежели мосты австрийцы пожгли… оно, конечно, до рассвету не двое суток… дождемся!..
Сормин сплюнул и переложил винтовку на другое плечо…
В эту минуту впереди замелькали белые огоньки фонарей…
— Стой… — протяжно передавали откуда-то справа…
Люди остановились…
— Что за оказия!? — спросил вполголоса, как-бы сам себя Сормин, и тотчас же ответил тоже сам себе:
— Должно та самая река и есть… переправы ищут…
Он присел на кочку, достал обрывок газеты, скрутил цыгарку и, осторожно чиркнув в рукаве спичку, закурил.
Лицо его, изредка освещаемое вспышками, тщательно скрываемой цыгарки, было также равнодушно и безмятежно, как всегда.
Не было заметно ни усталости, ни желанья уснуть, наконец, просто лечь отдохнуть!..
Между тем, впереди и справа суетились и хлопотали на топком берегу узенькой, но вязкой речки.
Она протекала на опушке леса и густые кусты спускались прямо в воду.
А вода казалась черной и бездонно глубокой, — она двигалась медленно, одной неподвижной, темной и гладкой массой…
На берегу копошились люди.
Мост был сожжен…
Из темной глади холодной воды торчали короткие, обгорелые обрубки спаленных свай, кое-где между ними еще держались куски дерева почерневшие и обуглившиеся…
У самой воды шевелились фигуры людей, как муравьи со всех сторон таскали что-то и, кто был здесь солдат, кто офицер, разобрать было невозможно… Все делали одно важное дело, все знали, кому что следовало исполнить и в суете этих темных силуэтов не было ничего сумбурного или беспорядочного…
Сормин уже давно докурил свою цыгарку и мы с ним тоже приблизились к берегу.
— Топкая она, ваше б-дие… — задумчиво произнес он… — а то нешто с ней стали возиться да мосты строить… перейтить бы ее в брод и все тут, а то нет… увязнешь…
Гулко стучали в ночном мраке топоры, громадные деревья, шурша ветвями, со стоном падали на землю, и солдаты, быстро отрубив сучья, волокли их к воде…
Надо было спешить, так как рассвет близился …
Небо уже стало светлеть, из мрака выступили темные стволы дерев, воздух стал как будто еще холоднее и сырее.
Начало моста около этого берега уже кое-как наладили, положив срубленные деревья на оставшиеся обрубки свай, и закрепив их, на этой утлой деревянной настилке копошилось человек пятнадцать солдат и между ними Сормин, покинувший меня, чтобы лично принять участие в кипевшей работе…
Я видел, при робком свете едва забрезжившего востока, его коренастую фигуру, мелькавшую здесь и там, слышал его голос, дававший советы и поощрявший работающих, и я совсем не заметил, как из этой каши людей, копошившихся над водой, отделился один и без крика, без стона упал в темное ее зеркало…
Я услышал только возгласы солдат и, оглянувшись, увидел широкие круги, расходившиеся на реке… Кто-то упал, было ясно…
Топкая, хотя и не глубокая, река мигом поглотила упавшего и только пошли пузыри, да взбаламутилась поверхность, холодная и спокойная.
И не прошло одной минуты после паденья человека, как все стоявшие на берегу увидели какого-то солдата, осторожно сползавшего к воде по свае без шинели и сапог, очевидно успевшего подготовиться и обдумать свой поступок.
Вглядываясь в фигуру спускавшегося солдата, я узнал Сормина, веселого рыжего Сормина, только что толковавшего о топкости реки…
— Кто упал, кто упал?.. — между тем спрашивали друг друга стоявшие на берегу.
— Его бл-дие полуротный шестой роты… посклизнулись, верно.
— А это кто лезет… — взволнованно спрашивал батальонный.
— Это ефрейтор Сормин, ваше в-дие, так что он хороший малец… Ваше в-дие…
— Да, ведь, тут топко, тут страшно топко… поручик все равно уже погиб… назад Сормин, назад… — кричал полковник, махая Сормину рукой…
— Так что он от топкости свой манер знает… — попробовал заметить солдатик, но его никто не слушал…
— Назад, назад… — кричали все.
Сормин уже был в воде; наклонившись и увязнув уже по пояс в тине, он делал неимоверные усилия, чтобы вытащить что-то одной рукой, держась другой за сваю…
Из-под воды внезапно показалась голова поручика, вся покрытая тиной, с мертвенно-бледным лицом…
— Держите его, держите, братцы, — кричал Сормин, и десятки солдатских рук протянулись, готовые вытащить из трясины офицера…
— Вот молодец, ай-да молодец Сормин! — восхищались вокруг…
— Осторожнее, осторожнее! — раздавались крики невольных зрителей…
Но Сормин делал свое дело; поручик уже до пояса показался из воды, но чем больше высовывался он из трясины, тем глубже уходил в нее Сормин…
Наконец, его рука соскользнула, и, оставив поручика, подхваченного солдатами, ефрейтор Сормин, обессилев, исчез в темной, густой воде илистой реки…
Трудно описать отчаянье зрителей, но напрасно шарили шестами, пытались даже спускаться к самой воде солдаты, безмолвная трясина унесла свою жертву, веселого, храброго Сормина, не боявшегося, кажется, ничего на свете…
И я подумал о превратности судьбы, сохранившей человека под неприятельским огнем, чтобы погибнуть ночью в омуте трясины, спасая своего ближнего…
Тем временем солнце красное, словно раскаленный шар, уже стало всходить над полем, мост был закончен, и, переправившись, колонна пошла прочь от пограничной речки, прочь от безвестной могилы славного русского солдата…
На воздушного врага
Мы впервые увидели один из этих пресловутых воздушных кораблей, которыми так гордились все немцы и о которых столько слышали мы еще на пути, ранним августовским утром, когда солнце еще только вставало и над полями тянулся прозрачной вуалью утренний туман.
С бивуака снялись еще до рассвета. Дрожа от утреннего холода и сырости, всю ночь проспавшие на сырой росистой траве солдаты поднимались, скатывали палатки, наскоро умывались ледяной водой у быстрой речки и, разведя в нарочно вырытых ямках, костры, кипятили чай в подвешенных на штыке чайниках. Быстро строились в ряды… Помогая друг другу приладить сложную амуницию, солдаты поеживались от холода, перекликались и закуривали свернутые из обрывков газет цыгарки.
Готовились к длинному переходу скучному, монотонному и утомительному, как и все предыдущие, а потому появление цеппелина, о котором все только слышали, но которого очень мало кто видел, произвело сильное впечатление.
Он выплыл, как желтая, ярко вырисовывающаяся на темно-голубом фоне неба, небольшая сигара из-за горизонта и медленно, но неуклонно, увеличиваясь постепенно в размерах, поплыл в небесной лазури по направлению к ползущим по земле черным змеям двигающейся пехоты и артиллерии. Его заметили не сразу: это была первая встреча с воздушным врагом и до того времени никому не приходило в голову следить за тем, что творилось под облаками…
— Никак летит что-то, ваше благородие! — закричал первый солдатик, различивший в синеве неба далекие очертания воздушного корабля. — Так и есть… шар ихний должно!..
Откликнулся другой, а вслед за его замечанием раздались со всех сторон взволнованные возгласы заметивших дирижабль солдат.
Колонна остановилась. Тысячи голов были обращены в сторону этой желтой сигары, а она так же медленно и величественно надвигалась, жужжа своими четырьмя крутящимися пропеллерами. Уже можно было различить на желтом фоне корпуса воздушного корабля какие-то черные надписи, а у окон его легких, подвесных вагончиков несколько человеческих фигур. Офицеры схватились за бинокли, в солдатах мгновенно пробудилось инстинктивное стремление открыть огонь, но он поднялся уже слишком высоко, этот громадный желтый корабль, такой важный и грозный на вид.
Но по полю уже скакала артиллерия, громыхая тяжелыми колесами и поднимая за собой столбы пыли… Они заняли позицию, где то за леском, и через минуту мы услышали шесть равномерных и твердых выстрелов, и шесть беленьких клубочков дыма от взорвавшихся шрапнелей поплыли в небе совсем близко около дирижабля.
И в ту же минуту внизу грохнули два взрыва и взметнулись столбы дыма, огня и пыли: это цеппелин сбросил две бомбы…
Они упали в стороне от наших проходивших войск и только разметали дерн, сучья деревьев и мелкие камни, посыпавшиеся дождем вокруг. В тех местах, где упали оба снаряда, остались глубокие ямы в форме воронок, а дирижабль, поднявшись значительно выше, уходил поспешно от шрапнелей наших пушек…
Но батарея не зевала. «Первая, вторая, третья»… — раздались планомерные команды; снова вздрогнул лес от гула орудий и загудела в воздухе шрапнель…
Цеппелин так же величественно плыл, только вдруг нос его начал подниматься, словно воздушный дредноут хотел забраться повыше…
Сперва все думали именно так… Однако, дирижабль все поднимал и поднимал свою носовую часть пока не «встал на дыбы» почти вертикально…
— Подбили!.. Поломалась машина!.. — радостно перекликались солдатики…
Желтая громадная сигара продолжала вертеть винтами, но уже неподвижно висела в воздухе, расстреливаемая нашей батареей.
Еще два раза взметнулось пламя с земли — это цеппелин сбросил свои две последних бомбы, раздались стоны двух-трех случайно раненых осколками и твердо ответили шесть выстрелов русских пушек.
Наконец, он начал медленно опускаться к земле, этот громадный желтый пузырь, уже переставший крутить своими бесполезными винтами…
Он также важно, так же плавно спускался относимый к опушке леса ветерком.
Артиллерия уже замолкла, а со всех сторон, задыхаясь от поспешного бега, мчались к дирижаблю солдаты в серых рубахах и плоских фуражках…
— Садится ребята… садится!.. Подстрелили… — кричали солдатики. — Вали за нами!..
И к бегущим присоединились все новые и новые группы…
Пробежав через кустарник, которым поросли края невысокого овраге, я тоже выбежал на поле куда стремилась эта серая лавина и где посредине уже почти опустился немецкий дирижабль…
Подбежал я к нему как раз в ту минуту, когда он коснулся травы, вытянулся на ней всем своим громадным измученным и истерзанным телом.
Вагончик лежал на боку, а из окна его старался выкарабкаться молодой прусский офицер в пенснэ и с револьвером в руках, но видимо он за что-то зацепился и, высвободившись, соскочил на траву, только, когда наши солдаты окружили уже упавший цеппелин.
Махая перед собою браунингом и щуря близорукие глаза, офицер бросился вперед, угрожая стрелять, но в ту же минуту четыре дюжих руки схватили его сзади за плечи, бросили его на землю, обезоружили и снова бережно поставили на ноги.
Он был в плену.
Прусский лейтенант это понимал и молодое лицо его, старавшееся принять суровое выражение, казалось комичным: он потерял пенснэ, морщил нос и щурил голубые близорукие глаза.
Остальных авиаторов «достали» из их убежища. Это были еще три офицера главного штаба и три солдата здоровенных, толстомордых и русоусых немца.
Сдались они без сопротивления и лица их сохраняли обычное самодовольное спокойствие.
— Попались черти!.. — без злобы говорили солдатики, помогая вылезать пруссакам через окна разбитого вагона, — довольно полетали… теперича на наших хлебах посидите!..
Немцы покорно отдали свои сабли, и последовали за нашим офицером в штаб дивизии.
За ними следовала большая гулящая толпа солдат, не злобная, нет, а просто любопытная, падкая на всякие «развлечения», как в праздник на улице крупного села. А позади остался труп, громадный, вздувшийся, как живот убитой лошади, труп истерзанного нашей шрапнелью, окруженный толпой любопытных солдат и сбежавшихся крестьян.
Тут же офицер с командой занимался выгрузкой всего интересного и важного из кабинок дирижабля.
В тот же вечер мне снова пришлось побывать на этом месте…
Выдвинувшись за день далеко вперед, мы теперь частично отступали под натиском очень больших сил неприятеля…
Показался уже лесок, за которым утром расположилась артиллерия, обстреливавшая цеппелин, лесок, теперь темный и шумящий, окутанный быстро спускающимися сумерками…
Отступая в порядке и прикрывая перестроение наших войск отстреливающимися цепями, мы достигли опушки и увидели громадное светлое, выделяющееся на фоне сумерек, пятно сраженного дирижабля.
Слева и справа рассыпались вереницы солдат. За каждым кустиком, за каждой кочкой, хлопали о деревья привычные воющие пули и щелкали сухо и твердо ответные наши выстрелы.
— Ваше благородие, — окрикнул кто-то из цепи, а, ваше благородие, неужто немецкий-то пузырь так и бросим… они его поди снова подберут и надуют… как же быть-то, ваше благородие?..
Действительно, оставить здесь желтый корпус дирижабля было невозможно, а унести его убрать куда-нибудь не было ни людей, ни времени…
— Так невозможно, ваше благородие! — сокрушались солдатики, косясь на светлое пятно, — нешто стоило по нем и снаряды тратить, чтоб теперь, значит, обратно отдать.
— Сжечь бы его, что-ли! — предложил кто-то…
Сжечь! Действительно, это — единственный исход, какой можно было придумать.
— Тащи, ребята, веток, сучьев… — закричали кругом; веселее защелкали выстрелы, запели пули…
— Давай, братцы, можжевельнику. Комаров, значит, выкуривать будем!..
Словно не гудела шрапнель, не щелкали пули — дружно с перекликанием и смехом работали вокруг дирижабля во мраке солдаты. Через минуту, вспыхнуло маленькое пламя и затрещал можжевельник…
Золотая змейка побежала по сухим сучьям, скрылась на минуту, снова вынырнула и вдруг в темноте взметнулся язык пламени и сразу запылало в нескольких местах, со всех концов дружно и ярко…
— Запалили… теперича пойдет чертить… — успокоились солдаты…
Цеппелин был охвачен пламенем… Из моря огня иногда появлялся на мгновение черный, поломанный, бессильный пропеллер, и снова золотые волны набегали, скрывали все от наших глаз…
Мы отступали, готовясь к грозному общему наступлению…
Впереди нас была черная ночь, поля полные вражеских легионов, и одиноко мерцающий факел догорающего цеппелина, а позади десятки тысяч русских штыков, сотни русских орудий, притаившихся во мраке и готовых внезапно обрушиться на врагов.
Солдатское сердце
Сквозь мелкую, серую сетку холодного непрерывного дождя, чернели печальные развалины сгоревшей почти дотла деревни.
Уцелел каким-то чудом только один ее край, выходивший в открытое поле, изрезанное черным лабиринтом немецких окопов.
Весь другой край превратился в груды черных обгоревших, дымящихся от дождя, бревен, над которыми торчали одинокие полуразвалившиеся печные трубы…
Справа и слева расстилались поля, частью скошенные, частью неубранные, с побитым морозом хлебом, низко примятым и притоптанным к земле. А позади высилась синяя стена зубчатого леса, опушка которого была занята нашими, и вдоль нее высились темными лентами наши окопы.
Печальный пейзаж давно успел наскучить всем, и нашим, и немцам, уже вторую неделю сидевшим в этих окопах, в 300–400 шагах друг от друга, в бездействии, чего-то выжидая, не смея действовать без толчка откуда-то издалека, той таинственной, вездесущей и всеведущей силы, которая руководила каждым движением сложного военного организма.
И в ожидании этого приказания привыкли давно и к холодному полю и к развалинам деревни и к синему бордюру леса, неустанно качающего вершинами старых сосен.
В окопах было сыро и холодно. От частых дождей вода не высыхала, стояла на дне озерами и по ночам, пробирающиеся с одного конца окопа к другому, солдаты должны были с великой осторожностью ступать, нащупывая ногами брошенные в воду кирпичи и доски.
Но люди научились давно примиряться с самыми, невыносимыми лишениями, которые им посылала судьба, давно привыкли к посменному отдыху, часто нарушаемому тревогами, коротанью времени за беседами или питьем чаю под сенью бруствера, в самых неудобных позах, на краю, скопившихся от дождевой воды, стоячих озер…
Немцев видели ясно…
Различали их фигуры в остроконечных касках одетых в чехлы, знали, когда они обедают или ужинают и как-то даже разучились видеть в них врагов. Как-то даже притупилось острое чувство ненависти к этим людям, поставленным в такие же условия и смирно сидевшим в своих окопах За водой ходили неизменно в деревню. Она была расположена в равном расстоянии от наших и от неприятельских позиций, и колодцем пользовались одинаково обе стороны…
Сперва было два колодца, один простой, а другой с высоким коромыслом, торчащим в небо, но нечаянно ли или нарочно, немцы сбросили в последний труп, и с тех пор стали пользоваться тем же источником, что и наши солдаты…
На этой почве между нашими и неприятелем установились странные, не то дружеские, не то враждебные отношения.
Семен Карташев каждый вечер ходил в деревню «по воду» и каждый раз встречал у колодца того же немца… Он был невысокий, толстый, с крутыми, рыжими усами и выпуклыми глазами, нескладно сидел на нем мундир и вовсе не шла к лицу булочника воинственная каска…
Немец, подобно Карташеву, приходил к колодцу весь обвешанный баклажками и нагруженный котелками, Карташев ясно видел каждый день его фигуру, осторожно приближающуюся вдоль стен разрушенных изб, и ежедневно выжидал в отдалении, пока немец наполнит все свои котелки и баклажки и уйдет восвояси…
И вот, в один вечер, дождливый и ненастный, когда осенний ветер разбудил старый, спокойный лес, вдруг заговоривший сотнями жутких непонятных голосов, Карташев шел к колодцу по знакомой дороге, улицей разрушенного и спаленного села, заваленной какими-то бревнами и изрытой рвавшимися здесь неделю назад гранатами…
Колодезь был уже близко, но против ожидания Карташев не заметил сегодня толстого немецкого солдата с его баклажками.
«Верно запоздал», — решил про себя Карташев, уже привыкший относится к нему, как к знакомому…
Набрав воды во все фляжки и котелки, Карташев еще раз оглянулся, надеясь еще увидеть во мраке знакомую фигуру, и повернул обратно.
«Нет моего немца сегодня! — подумал он — и, что это с ним стряслось, скажите на милость!»
Улица размякла, грязь была выше щиколоток и Карташев с трудом нашел узкую твердую тропинку, вьющуюся около канавы…
«Хорошо-бы в такую ночь соломы для ребят прихватить, — подумал солдат, — все же помягче да потеплее будет… може паны в сарае сноп, другой и оставили»…
Он остановился, поставил на землю оба ведра, и направился к большому настежь открытому сараю, уцелевшему от огня…
На широком дворе во мраке чернели две телеги с задранными вверх оглоблями, труп лошади с вспухшим животом и оскаленными челюстями, а дальше за разбитым и поваленным частью забором, опять высились избы, частью целые, частью обгоревшие без крыш с зияющими отверстиями дверей и окон.
Карташев прямо направился к сараю и почти столкнулся в его дверях с человеком, медленно выходившим оттуда с громадной охапкой соломы на спине… Он не видел Карташева, и тот, пропустил его мимо себя и только заглянув в сарай и увидев, что там не осталось ни соломинки, пустился догонять незнакомца, уже пересекавшего двор.
Догоняя его, Карташев различил серые рейтузы с красными кантами и немецкие сапоги: «да, ведь, это „мой немец“», — мелькнула у него мысль.
— Ей, Карл Иванович, — крикнул солдат, хлопая немца по плечу, ты чего же это, братец, всю солому-то упер… надо, брат ты мой, поделиться!..
Немец остановился, как вкопанный, и уронил на землю от изумления всю охапку соломы.
Он глядел на Карташева испуганными глазами, не понимая, конечно, ни слова…
Но солдата это не смущало.
— Я говорю: солому-то надо поделить, Карлуша… Не фасон это… все мы честь честью «по воду» ходили, а ты вдруг всю солому забрал и тягу… уступи землячкам!..
Немец, видимо, был рад даже вовсе отказаться от соломы, лишь бы спасти шкуру и пятился назад молча, глядя на солдата испуганно и жалобно.
— Уступаешь, значит, — понял Карташев, — ну, ладно, Карл Иванович, иди брат, за это с Богом… товарищ ты хороший, хоть и немец…
И, взвалив на плечи солому и подхватив оба ведра, Карташев продолжал свой путь по темной улице в поле, к безмолвным русским окопам, оставя немца одного посредине пустого, покинутого двора…
* * *
И вот, наконец, бездействие окончилось. Издалека пришло приказание и ранним утром в русских окопах, едва забрезжил рассвет, больной, бледный осенний рассвет, защелкали одиночные сухие выстрелы из винтовок и заговорили быстрой прерывчатой скороговоркой пулеметы…
Разрасталась быстро и последовательно страшная симфония крови и смерти, вплетались в нее все новые голоса и гулкими басовыми нотами, наконец, загудели далекие артиллерийские орудия. И нараставший вой приближающихся снарядов, грохот пушек, дробь назойливая и долбящая пулеметов, вместе с лукавым пеньем незримых пуль, все эти звуки сливались в один гул, в котором тонули отдельные голоса людей, возгласы торжества и смерти!..
Нервы уже притупились…
Руки автоматически делали свое дело, заряжали и вскидывали винтовку к плечу, глаза улавливали в серой мгле утра темные, высовывающиеся словно из-под земли силуэты врагов, а душа была уже так чужда, так далека чувству самосохранения и ужаса, что о падающих поминутно людях даже не было мысли, что они больше не встанут уже никогда…
Когда пошли в штыки, выскочив на высокий бруствер, все сразу смешались в один поток, неудержимый и всесокрушающий, Карташев оказался впереди других, он не помнил, как пробежал открытое поле, над которым жужжала стальная саранча, как ворвался вместе с товарищами в глубокие окопы немцев, как бил направо и налево и штыком, и прикладом и очнулся только, вдруг увидев перед собою знакомое лицо толстого немца, ходившего каждый вечер к колодцу.
Немец лежал на дне окопа, без винтовки и каски, раненный в ногу, в ужасе ожидая своего конца… И гнев вдруг утих в душе Карташева вместе с затихшей боевой грозой, с умолкнувшими выстрелами орудий и пулеметов…
Он наклонился над немцем:
— Здравствуй, брат Карлуша, чай, не узнал меня, помнишь, солому ты мне в деревне уступил…
И, вероятно, сам вспомнив сцену ночью у сарая в покинутой деревне, Карташев улыбнулся немцу во всю ширину своего добродушного лица.
— Пойдем, братец, до дому, здесь тебе лежать не ладно… — сказал он, склоняясь к раненому неприятелю и поднимая его…
Немец, все еще испуганный, морщился и от боли, и от страха.
Карташев донес его до самого пункта и, сдавая доктору, приложив руку к козырьку, спросил:
— Вы его, ваше б-ие, подлечите… Он человек неплохой, хоша и немец, а душа в нем товарищеская, можно сказать. Ну, прощайте, Карл Иванович, поправляйтесь, да нас не поминайте лихом!..
И пожав немцу руку, рядовой Семен Карташев пошел через серое мокрое поле к только что занятым нашими окопам.
Стасина елка
За несколько дней до праздников никто не ожидал еще того, что налетело, как гроза, как вихрь, поломавший, исковеркавший твердые устои обывательской жизни.
Жители захолустного, Богом забытого, городишки готовились к встрече Рождества Христова, на окнах магазинов пестрели и сияли елочные украшения, отцы семейств подводили итоги дебету и кредиту в виду предстоящих расходов, матери заботились о подарках, обновках и угощении, а ребята захлебывались перед выставленными игрушками, которые им предстояло сокрушить. На время отступили на второй план все заботы и интересы, не касавшиеся ближайшего времени.
И вдруг, дня за три до Рождества, по улицам замелькало что-то необычно много солдатских серых полушубков, с базара по городку расползлись тревожные, такие непохожие на действительность, слухи о встреченных в окрестностях германских разъездах, а в одно ясное, морозное утро слухи эти подтвердились самым определенным и зловещим образом.
Посреди базарной площади, перед самым костелом, с гулом и треском разорвался снаряд.
Стекла в окнах соседних домов дрогнули и зазвенели жалобным звоном, жалобно завизжала, задетая осколком в лапу, собака, из людей по счастливой случайности никто не пострадал, но смятение и ужас овладели мирным городком.
Послышались вопли и крики перепуганных, растерявшихся женщин, плач сбитых с толку детей, и в эту симфонию человеческого страха и горя врывались отдельные оглушительные ноты канонады. Кое-где уже загорелись зажженные снарядами дома. Черные клубы дыма стлались над пробитыми крышами и закрывали от глаз холодную и прозрачную голубизну неба, со стен валились, рассыпаясь мелкой пылью, глыбы штукатурки и битого кирпича.
Обезумевшие люди искали спасенья. Кто тащил домашний скарб, кто прижимал к груди плачущих, неодетых детей.
Более спокойные и благоразумные спешили укрыться в погреба и подвалы.
Панна Ванда Гржибовская никогда не терялась.
Несмотря на свою молодость, она уже имела за плечами трудную, полную испытаний, жизнь, научившую ее смотреть без страха в лицо любой опасности, даже самой смерти.
Вся бледная, со сжатыми губами и сверкающими темными глазами, она торопливо укутывала маленького пятилетнего Стася, следившего за ее движениями своими большими любопытными глазами, свернула в узел одеяло и подушку и принялась складывать в корзину, в которой, обычно кухарка Анна ходила за провизией, содержимое буфета и кладовой.
— Печеные яблоки не забудь, мама, — посоветовал мальчик, не смея расспрашивать.
— Ничего не забуду, Стася, только слушайся маму, милый, пойдем скорее.
Панна Ванда окинула комнату печальным взглядом и быстро вышла во двор, придерживая одной рукой узел и корзину, а другой — маленькие пальчики Стася.
По узкой и крутой лестнице оба спустились в подвал. Тут было сыро и почти темно; отзвуки орудийных выстрелов доносились слабее.
— Мы тут, мамочка, и солдатиков не увидим, — пожалел ребенок, — и не хорошо тут, мамочка, пойдем наверх.
— Молчи, молчи, Стасько, наверх нельзя, там немцы, убьют, понял, милый, — и перед серьезностью тона матери высохли капризные слезы на ресницах Стася.
Большая часть подвала была занята сложенными дровами, в меньшем, остававшемся свободным, пространстве, на опрокинутых ящиках и каких-то обрубках расположились беженцы.
Скоро новая обстановка заинтересовала мальчика он обошел все уголки незнакомого помещения, нашел каких-то щепочек и досочек и занялся постройкой замысловатого здания.
На обед не было надоевшего супу, и не надо было сидеть смирно на стуле от первого блюда до последнего и маневрировать вилкой и можем. Словом, было бы совсем весело, если б не одно обстоятельство, немало смущавшее Стася.
Вечером, когда стало совсем темно, и мама уложила ребенка в импровизированную постель, составленную из одеял и подушки, мальчик решился поделиться с нею мучившей его заботой:
— Мамочка, — тихонько позвал он.
— Что, Стасько? — спросила панна Ванда.
— Сегодня у нас сочельник?
— Сочельник, милый.
— Значит, завтра будет елочка и подарки? Правда, ведь, ты обещала? Ведь, да? — скажи, мама.
Острая спазма впервые с утра сжала горло Гржибовской. Она не сразу могла отвечать, а когда собралась с духом, голос ее звучал глухо и как-то необычно торжественно и грустно.
— Будет елочка, Стасько, сынок мой милый. Помолись крепко Матке Боске и Пану Езусу и попроси всем нам радостных праздников.
— Хорошо, мамочка, я помолюсь, — послышался в сумраке вдумчивый серьезный голосок.
Стало тихо, даже наверху умолкли леденящие душу взрывы.
Панна Ванда, утомленная событиями истекшего дня, опустила усталую голову на подушку, по которой рассыпались мягкие волосы спящего Стася, и понемногу забылась легкой тревожной дремотой.
Тело ее отдыхало, но беспокойный вихрь каких-то обрывков грез и видений преследовал душу.
Тихо раскрывается дверь, ведущая из подвала во двор, длинные серебряные нити лунного света падают сверху на обледенелые скользкие ступени, по которым катится что-то черное, круглое, похожее на резиновый мяч Стася.
— Бомба, — догадалась панна Ванда, — сейчас взорвется, и все будет кончено; но над бомбой при повороте блеснуло острие шишака.
Каска, германская каска, да и не одна каска, под нею круглая голова с оттопыренными ушами и лицом, которого не разглядеть в сумраке, а еще ниже — толстый, налитый пивом, живот, на коротких и скривленных ножках.
Немец подкатился к спящему ребенку над которым мать простерла в отчаянии руки и вдруг остановился неподвижно и хохочет, хохочет. Ничего не говорит, сотрясается чревом, в котором что-то булькает, выставил вперед тоненький указательный палец и заливается хохотом.
Вот, что лопнет. И смех этот даже, страшнее самого злого надругательства. Ужас шевелит приподнявшимися на голове панны Ванды волосами, сжимает горло, не дает закричать. Но вот Стасько открывает глаза. Взгляд его встречается с взглядом немца. Он поднимается на ноги и идет к врагу. Тот, не переставая смеяться, делает шаг назад, мальчик за ним, и так дальше и дальше, шаг за шагом в темную, ставшую бесконечной, глубину холодного подвала.
— Мама, — слышится его далекий голосок.
— Стасько…
Панна Ванда проснулась, дрожа от неизъяснимого страха.
Бледный свет проникает в сумерки их убежища.
Стась сидит, вытянув шею, и слушает.
— Мама, слышишь, мама, мамочка.
С улицы доносится лошадиный топот, гиканье, клики «ура», «казаки».
— Что это, мамочка, что это? — спрашивает мальчик, не зная, радоваться или пугаться крупным, горячим слезам, оросившим склоненное лицо матери.
— Стасько, милый, успокойся, ничего. Это Пан Езус и Матка Боска услышали твою молитву, и будет у мальчика елочка и подарки, а у мамы большая радость в сердце…
Не по закону
Отпуская корнета Вальнева с его разъездом, полковой командир, бравый гусарский полковник, с тщательно пробритым, между густыми бакенбардами, подбородком, еще раз отозвал его в сторону и негромко напомнил:
— Этот мост и это село для нас чрезвычайно важны… в селе нет австрийцев, я в этом уверен, но в случае, если они появятся, я надеюсь, вы успеете уйти и сжечь переправу. Сейчас же дайте мне знать о всяком изменении в положении вещей… С Богом!
Вальнев звякнул шпорами и отошел к коням.
Это было первое серьезное данное ему поручение, да и вообще «первое», так как всего 15 дней назад Вальнев покинул школьную скамью и снял юнкерскую форму, И с беспокойством он оглянулся: не заметил ли кто-нибудь его волнения и излишней служебной аффектации в разговоре с полковником?
Но солдаты спокойно возились около лошадей, проверяли подпруги и оправляли амуницию.
Лица их были равнодушны и беззаботны, как всегда, и незаметно было, что им предстояло выполнить серьезную операцию и ежеминутно рисковать жизнью.
Вестовой подвел корнету коня и крикнул, как ему показалось, слишком громко и визгливо: «садись!», Вальнев без помощи солдата вскочил в седло.
Дорога тянулась бесконечная, прямая и пыльная, белой полосой среди скошенных нив и зеленых лугов и только иногда пересекала неглубокие овраги с протекающими по дну ручейками. Лошади, входя в воду, тянулись вниз головами, пили отфыркивались и весело выносили всадников на противоположный откос.
Рыжий, давно небритый, курносый гусар, унтер-офицер, вероятно, опираясь на свое положение во взводе и на юность офицера, ехал с ним почти рядом, готовый, при малейшем поводе, вступить в разговор.
Повод этот не замедлил явиться, когда далеко, далеко на окраине поля показались три едва заметные конные фигуры… Они плыли в голубой дали, словно не касаясь земли, и на таком расстоянии невозможно было определить: австрийцы ли это или казачий разъезд?
— Должно, ваше благородие, ихний разъезд?.. — заметил рыжий унтер, видя что Вальнев поднес к глазам новенький Цейс, — а может и наше «казачье», на прогулке… — добавил он, ухмыляясь…
Однако, еще шагов через 200, выяснилось, что всадники не имели пик и ни в коем случае не могли быть «казачьем» отправившимся на прогулку.
Гусарский взвод подтянулся. Побросали «цыгарки», примолкли разговоры, и Вальнев вдруг почувствовал все учащавшуюся дробь сильно забившегося сердца… Поддержкой явился опять рыжий унтер (Вальнев не знал его фамилии). Он осадил лошадь и предложил:
— Надо бы, ваше благородие, спешиться, а то как-бы не начали палить…
Вальнев скомандовал «слезай» и опять взялся за бинокль…
Теперь немцев было уже не трое, а почти взвод, ехали они гуськом, видимо, прямо по полю, и Вальнева соблазняла мысль открыть огонь по такой превосходной цели. Но едва спешился взвод гусаров, как издалека хлопнул ружейный выстрел, еще один, и две пули пропели где-то высоко и жалобно.
— Заметили-таки, черти немецкие!.. — сплюнул унтер и злобно крикнул на солдат: — Живо!.. Коноводы, забирай коней… в цепь!..
За первыми двумя последовало еще пять-шесть выстрелов и защелкали карабины гусаров…
Стреляя тоже, рыжий унтер непрерывно следил за ходом стычки и давал советы Вальневу:
— Ваше благородие… гляньте-ка, никак уезжать будут… ишь проклятые — Анастасова хлопнули… Что Анастасов?.. Ползешь? Ну, ползи, брат, ползи… рука — это, братец, плевое дело, особливо левая… карабин то дай сюда, я его к седлу приторочу… а не дурно бы, ваше благородие шашками их попотчевать… ишь ты, как скувырнулся черт австрийский…
Вскоре, однако, неприятельский разъезд стал садиться на коней, оставив несколько человек, и мгновенно, словно прозрев, осененный мыслью, Вальнев закричал: «садись!»
В одну секунду взвод был в седле, в одну секунду рассыпался в строй, подобно казачьей лаве, и, понесся, распустив поводья, вслед уходящему и отстреливающемуся врагу.
Первую минуту Вальнев был впереди, но вскоре его нагнали солдаты, и он скакал в одной с ними массе, видя вокруг сосредоточенные лица, сверкающие лезвия шашек и оскаленные морды идущих в карьер коней. Вокруг пели пули, но о них не было мысли. Рыжий унтер успел потерять фуражку и кричал, стараясь перекричать выстрелы и топот копыт:
— Ваше благородие… вона ихнее село и мост… нельзя никак их допустить… изловить али перебить надобно… беспременно…
Сшиблись почти у речки, за которой в версте раскинулось большое немецкое село. Лошадь Вальнева с разбегу налетела на круп коня какого-то драгуна, поднялась на дыбы, и в это мгновение корнет увидел, как бы сверху, обернувшееся назад лицо молодого драгуна в защитной куртке с револьвером в руке.
Вероятно, у драгуна не было уже в револьвере патронов, — он старался выдернуть саблю, но она запуталась и, дергая ее, юноша подставлял Вальневу открытую грудь и голову. Убить его не стоило ничего… у корнета был неразряженный еще браунинг и шашка, но повинуясь непонятному чувству, он бросил повиснувший на шнуре револьвер и, схватив за воротник куртки растерявшегося немца, с силой, которую никогда в себе не подозревал, вырвал его из седла и бросил на шею своей лошади… Он едва удержал немца в первую минуту, тем более, что конь его, испугавшись шарахнулся в сторону…
Оглушенный падением немецкий драгун лежал неподвижно, а лошадь его, освободившаяся от всадника, скакала по полю, гремя ножнами, нелепо болтающейся, прикрепленной к седлу, сабли…
Вальнев догонял галопом своих гусар… Они уже сделали свое дело: драгунского разъезда не существовало… рыжий унтер прилаживал к седлу немецкой лошади свой вьюк… его коня убили пулей в голову… Сам он, раненый в руку, туго перетянул ее веревкой…
Миновав деревянный мост, тот самый, о котором говорил полковник, Вальнев оставил около него часового, а сам с остальными въехал в село.
Пусто и уныло выглядели чистые, белые домики с садами, строго высился шпиц кирки, и на протяжении всей улицы русские гусары встретили едва-ли человек десять жителей, боязливо жмущихся к стенам.
Немцев в селе не было.
Вальнев уже хотел повернуть обратно, как вдруг произошло неожиданное и странное событие: из ворот одного домика выбежала полуодетая молодая женщина и с душу раздирающим криком бросилась к пленнику Вальнева, лежавшему поперек седла…
— Ганс… радость моя!.. Ганс… любимый мой, что с тобой, скажи, Бога ради, ты ранен?.. тебе больно?.. они искалечили тебя…
Вальнев и унтер в первую минуту растерялись…
— Ты цел, да? — продолжала рыдать женщина, теребя драгуна… — Скажи же, мой мальчик, мой дорогой, единственный!.. Они взяли тебя в плен?.. Их было много? Теперь они хотят отнять тебя от меня, они сошлют тебя в ужасную Сибирь, в страну снегов и медведей, и там будут мучать, расстреляют или повесят далеко от родины и от меня… О, я знаю, как обращаются с пленными эти варвары…
Вальнев хотел отъехать…
— Нет!.. — истерично закричала женщина… — Вы не уедете так, господин офицер… Вы не уедете… Вы сперва отдадите мне моего мальчика, моего Ганса, моего любимого мужа… ну, на что он вам? — умоляюще продолжала она, видя отрицательный кивок Вальнева. — На что вам один единственный, пленный немец, у вас их и так много, верните мне его, я буду молить за вас Бога, верните мне мое счастье!..
— Это невозможно! — строго ответил ей по-немецки Вальнев…
Вальнев опять хотел отъехать.
— Отдайте мне его, отдайте, — хватаясь за седло, кричала женщина…
— Это невозможно, — твердо произнес офицер, — ваш муж военнопленный, но уверяю вас, что в России ему будет как нельзя лучше. По окончании же войны вы свидитесь с ним…
— Невозможно?! — в исступлении выкрикнула женщина…
Вальнев пожал плечами…
Мгновенно в руке женщины сверкнула сталь револьвера и грянул выстрел…
Пуля со свистом пролетела над ухом корнета и потянулся синий дымок. Испуганные лошади заржали.
С быстротой молнии сорвался с седла рыжий унтер и поймал руку стрелявшей немки; она же рыдала, бессильно опустившись на колени.
Все это случилось так быстро, что корнет Вальнев не успел испытать страха… он начал волноваться уже после: он знал, как должен был поступить с этой мирной жительницей, поднявшей оружье против неприятеля.
И в нем боролись два чувства: чувство долга и великодушие… Говорило и самолюбие, задетое вздорными словами женщины о сибирских снегах…
И, когда державший немку унтер-офицер заявил, что надо ее «расстрелять, да и только», корнет Вальнев сделал ему жест рукой, как бы приказывая замолчать, и, обратясь к пленнице, произнес по-немецки:
— По законам военного времени ваш поступок дает мне право расстрелять вас без суда и поступить с селом по моему усмотрению… Я выслушал все, что вы мне сказали, и мое самолюбие, как славянина, как русского и как офицера, глубоко оскорблено теми позорными выдумками о нас, которыми, видимо, полно ваше отечество… Я нарушаю закон, и дарю вам жизнь и свободу, не из личного сострадания к вам, покушавшейся на мою жизнь, а только с целью дать вам испытать на себе великодушие той нации, того народа, который вы всегда считали и привыкли считать варварским… Когда кончится война и ваш муж вернется к вам, он расскажет вам, насколько справедливы ваши предположения о Сибири, медведях и пытках, которыми мы подвергаем пленных!
И, приказав изумленным гусарам отпустить женщину, Вальнев повернул коня.
Внешне он был спокоен, но сердце билось радостно и гордо.
Ужасный день
Когда, поднявшись во весь рост и выкарабкавшись из окопов, мы двинулись вперед, на опушке деревни не было видно людей за клубами дыма пылавших построек и только вспыхивали желтенькие снопики пламени.
Сперва шли под визжащим градом пуль, отстреливаясь, но потом, когда нервы натянулись до крайности, кто-то где-то крикнул «ура! и вся масса серых, навьюченных и на вид одинаковых людей бросилась, подхватив этот мощный победный клич…
Меня тотчас же обогнали и перегнали солдаты… Я видел только вокруг себя искаженные лица, с раскрытыми ртами, но отдельных голосов различить было невозможно…
Все, и „ура“, и пальба, и гул орудий, слилось в один протяжный, терзающий уставшие уши, вой…
Иногда среди этого концерта слышался одиночный вопль или стон, врывающийся, как диссонанс, но люди стремились вперед и, казалось, не было преграды, которая их бы удержала…
Мыслей не было!..
„Штыковой удар“, который казался чем-то таким ужасным, таким далеким, наступил так внезапно, так просто и так быстро.
Не было времени подумать даже о том, что, выйдя из окопа и встав во весь рост под огнем неприятеля, легче всего быть убитым, все это вышло как-то само собою гладко и последовательно…
Впереди было „что-то“, до чего надо было добежать во что бы то ни стало, и это „что-то“ невидимое, спрятавшееся за забором, засыпало нас пулями…
Пробежать сто шагов было, конечно, делом нескольких минут, но сколько человек за эти несколько минуть упало без жалоб, незаметно, как-то странно присев на одну ноту или просто клюнув с разбегу в землю носом…
И вот, миновав эти сто шагов, оставив на них десятки трупов, десятки людей еще стонущих и ползущих обратно, серая лавина ворвалась в деревню, опрокинула ветхий забор и раскатилась по всем закоулкам и улицам…
А сзади спешили новые толпы таких же, но только совсем свежих солдат… Они бежали по полю, прыгая через тела товарищей, держа на перевес ружья и отвечая нашим затихавшим голосам новым громовым „ура“.
А еще позади где-то за пригорком твердо, уверенно и равномерно бухали наши орудия, и в воздухе гудела над нашими головами направленная в отступавших австрийцев шрапнель…
Рвалась она далеко впереди нас, и мы видели, как падали карабкающиеся вверх по склону горы, расположенной за деревней, голубые фигурки австрийских пехотинцев…
Главная улица села была широкие и естественно, что вся масса или, вернее, ее большая часть устремилась именно по ней, вслед за убегавшими австрийцами.
Какие-то две лошади, вероятно австрийские, с порванными постромками скакали между наших солдат, забытая походная кухня, сброшенная в канаву, торчала вверх одним колесом…
И в ту минуту, когда улица была полна наших солдат, когда деревня казалась почти занятой, раздался характерный быстрый и резкий разговор пулеметов совсем, совсем близко…
В первую минуту растерялись… Не знали, откуда летела эта саранча пуль, но через мгновение поняли коварный и остроумный план австрийцев…
Пулеметы стояли в домах. В открытые окна, как в амбразуры, выставлены были их дула и, сидя в прикрытии, австрийцы неожиданно засыпали нас продольным огнем…
Казалось бы первым словом команды должно было быть слово „ложись!“, но именно оно-то и не пришло тогда в голову ни начальникам, ни подчиненным…
Наоборот!.. — солдаты, уже чувствовавшие себя победителями, были взбешены этой помехой, и начался штурм домов со скрытыми в них митральезами…
Бежали люди, таща на себе солому и складывая ее у основания стен забаррикадированных домов, ломились в двери, сквозь щели которых сыпались австрийские пули, изобретательные солдатики даже карабкались на крыши, разбирая их, чтобы сверху поражать противников…
Кололи штыками с размаху, стреляли в упор, и, ворвавшись внутрь домов, убивали прислугу на пулеметах.
В канаве около большого углового дома навалена была целая груда тел русских и австрийских солдат, они смешались в объятиях смерти… Из этого дома никто не должен был выйти живым… Пулеметы из его окон слишком много скосили наших воинов, и все засевшие в доме были обречены…
Сзади, со стороны сада, его уже подожгли», черный, густой дым столбом тянулся вверх, языки пламени лизали стену и близко растущие грушевые деревья… Свежая сочная зелень трещала и коробилась в огне.
Около дверей завязалась перестрелка…
Австрийский офицер, засев у верхнего слухового окна, отстреливался из револьвера, а снизу ему отвечали из винтовок наши солдаты… С фасада же, из окон, по-прежнему трещали пулеметы то прерывчатой, то бесконечно долгой дробью…
У задней стены, невдалеке от двери, лежал весь окровавленный крестьянин, уже старый, с сильной сединой, в странных желтых волосах… Шрапнельным стаканом ему оторвало кисть руки, а, кроме того, пуля прошла грудь на вылет…
Видимо он уже перестал страдать… Лицо его бледное было скорее усталое и сонное, он безучастно смотрел по сторонам и дыханье вырывалось из его груди с шумом и клокотаньем.
На него не обращали внимания; когда-то он был владельцем этого дома, хозяином скотного двора, огорода и фруктового сада, жил безбедно и беспечально, и вдруг пришла война, перешли через границу австрийские солдаты, выгнали его из его дома, угнали или перебили его скот, опустошили огород и сад…
Не спрашивая его желания, поставили в окнах его мирного дома пулеметы и начали громить ряды той армии, которую он привык считать родной, тех людей, среди которых был, быть может, его родной сын…
И вот прилетел какой-то снаряд, и ни с того ни с сего оторвал ему руку, прилетела пуля и пробила грудь, и теперь, лежа на траве, забытый всеми старик задавал себе один вопрос:
— За что все это… и сожженный дом, и опустошенный сад, и угнанный скот… За что оторвана рука и пробита грудь!?..
Но все были заняты своим делом и неинтересен никому был этот посторонний раненый старик…
Между тем, дом разгорелся…
Австрийцы еще отстреливались; но уже менее усердно… Офицер, стрелявший через слуховое окно, был ранен и умолк…
И вдруг пулеметы прекратили совсем огонь, замолкли и винтовки и осаждающие невольно тоже затихли.
Внутри горящего дома происходила какая-то суета…
— Быть может, они сдаются, — предположил ротный командир…
Но в эту минуту раздался слабый, задыхающийся голос раненого крестьянина:
— Пан… а пан… Пан офицер… Там у бани другой выход есть… Туда пан идите туда…
Мы мгновенно поняли в чем дело: дом имел еще один выход, и австрийцы могли бежать через него…
Мы бросились туда.
Около маленькой бани, действительно, была дверь черного хода, забаррикадированная изнутри мебелью.
Слышно было, как австрийцы старались без шуму растащить баррикады.
Моментально была организована засада. Кто в канаву, кто за кусты, кто за поваленную бочку попрятались наши солдаты и едва только отворилась дверь и осторожно выскользнули на двор несколько австрийцев, мы бросились на них в штыки… Люди забылись… забыли опасность, забыли человеческие чувства в этом страшном порыве накипевшей злобы, кололи штыками, били прикладами, чем попало, сталкивали в огонь пылающего здания…
— Прочь от дома! — кричал ротный командир. — Лицо его было обожжено и по нему струилась кровь узкой красной полоской…
Действительно, прогоревшая крыша рухнула, увлекая за собою стены.
Целый фонтан искр и пламени высоко взвился к небу и черный густой дым пахнул нам в лицо обжигающим дыханием.
Мне не суждено было видеть конца этого дела, но деревня была очищена от австрийцев, я это знаю; уже лежа на траве с тяжелым туманом в голове, я видел новые подходившие колонны наших, я видел веселые лица и слышал радостные голоса…
* * *
За эту ночь было пережито страшно много…
Вернулось сознание…
Была дождливая сырая полночь…
Дорога, на которой я лежал, глинистая и размякшая от дождя… Голова страшно тяжелая… Нога ныла и немела…
Кругом люди, множество людей, но все или стонущие или уже молчаливо покорные…
И над всем этим ужасом — темная, безмолвная и равнодушная ночь…
* * *
Дивизионный лазарет был на горе около большого сахарного завода…
Громадный сарай с широко раскрытыми черной пастью воротами, был окружен целой сотней разных повозок, двуколок, фур и подвод… Одни из них были полны ранеными, другие, уже освобожденные, пугали грудами окровавленной соломы…
На носилкам, просто на земле и на шинелях лежали вокруг сарая сотни людей с измученными серыми лицами… Это были раненые, ждущие перевязки…
А внутри на деревянном полу, залитом кровью, и забросанном обрывками ваты и бинтов, лежали еще сотни людей. Между ними сновали белые фигуры, врачей, сестер и санитаров.
Пахло кровью, иодоформом и потом…
И первый, кто мне бросился в глаза, когда мои носилки опустились около дверей сарая на землю, это — вчерашний старик-поляк, владелец сожженного дома…
Он уже сидел бодрый с перевязанным белым обрубком своей изуродованной руки, он улыбнулся мне и приветствовал:
— Доброе утро, пан!
— Как ваше здоровье? — спросил я…
— Э, что пан мое здоровье… Вот чье здоровье дорого, — махнул он на сарай, — я, что… у меня и ноги ходят, а руки мне все равно не нужно… милостыню просить и одной хватит… Он горько усмехнулся.
Я попробовал его утешить.
Подошел доктор.
Он был бодрый, почти веселый, рослый и толстый мужчина, в белом балахоне, забрызганном кровью… Подходя к каждому, он говорил что-нибудь смешное и ласковое:
— Здравствуйте! — к нам пожаловали?!. Что это у вас… так!.. и голова… так!.. ну, что же… благодарите звезду свою и австрийцев: все кости целы… Можно вас и дальше отправить… фельдшер!.. бинт… вату… пинцет…
Все время перевязки он болтал.
Казалось, мы были не среди этих страдающих, изувеченных людей. Я любовался присутствием духа и бодростью нашего славного доктора…
Через полчаса нас, четверых офицеров, погрузили на крестьянскую подводу, наполненную соломой.
* * *
…В одиннадцатом часу вечера въехали в город, миновали толпы приветствовавшего нас с сердечной теплотой населения и остановились около полутемных, едва освещенных одиноким фонарем ворот госпиталя Красного Креста.
Через несколько минут в теплой, уютной и светлой комнате нас окружили милые, ласковые сестры в белых косынках.
Прожитые сутки!.. Какое обилие острых и неожиданных впечатлений!.. Что это было?.. Уж не сон ли?.. Не кошмар ли?!
Но как прекрасно пробуждение после него!..
Судьба
Окончив трудовой день, день жаркого боя и стремительных атак на противника, выбивших последнего со всех его позиций, остановились на опушке леса безмолвного и кажущегося в сумерках сплошной черной стеной, в окопах, когда-то бывших австрийскими, а теперь перешедших к нам, вместе с грудами человеческих тел в синих мундирах и частью поломанными, частью целыми неприятельскими пулеметами.
Окопы были вырыты прекрасно! Видимо австрийцы задолго готовились к бою и успели углубить их в рост человека, нарыть землянок и подземных ходов, соединяющих одно поле с другим, опутать их проволоками, проволоками с острыми колючками рвущими тело и сукно одежды, словом построить целый город, целую подземную крепость с батареями, казематами и даже казармами, правда очень тесными и темными землянками, но все же прекрасно защищающими от пуль и свинцового дождя рвущейся над ними шрапнели.
И даже в этом логовище австрийский затравленный зверь, за целой сетью стальной проволоки, даже в этом логовище — не мог удержаться и бежал дальше, оставляя за собой страшный кровавый след…
Наши солдатики, серые, куцые, еще не остывшие от боевого пыла, обрызганные кровью и опаленные огнем, подходили теперь к этим покинутым укреплениям, сооружение которых потребовало столько трудов, и для защиты которых австрийцы бесцельно погубили столько жизней!..
Проволочные заграждения были разрушены… Сперва их громила артиллерия, обрывая снарядами взлетающие вверх стальные змеи проволок, ломая столбы и сбивая в одну массу еще не размотанные мотки, колья и разможженные тела людей.
Гранаты, падая в окопы; разбивали бруствера, засыпали песком и мелкими камнями людей, а, иногда, попадая в гущу австрийцев, рвались с отчетливым металлическим лязгом, разбрасывая кругом куски, мяса, оружия и клочки одежды…
Потом, на полуразрушенные загражденья, на заваленные телами бруствера окопов, обрушилась серая, однообразная масса людей с одинаковыми лицами, в одинаковых плоских фуражках, обрушилась, и в одну минуту разлилась по всей позиции, завладела всем и повсюду замелькали теперь, вместо голубых кэпи австрийцев, серые шинели новых внезапных пришельцев…
Теперь все это кончилось… Солнце село, замолкли голоса битвы и над полем потянулся белый тонкий, как пар, туман.
Из окопов молчаливые и неутомимые солдаты выносили трупы убитых австрийцев, они несли их, держа за ноги и за плечи куда-то в сторону, должно быть к лесу, где для них рыли братские могилы…
В окопах, на влажном, вязком дне, размокшем от 7-ми дневных дождей, сидели уже солдаты наготове, держа винтовки обращенными в ту сторону, куда час тому назад поспешно уходил разбитый неприятель.
Рядовой Павел Семенюк лежал тоже прислонившись грудью к сырому холодному брустверу и глядя, в темневшую все гуще с каждой минутой даль, держа рукой, влажный от росы, приклад винтовки, думал о том, как он бежал через поле к этим окопам, как вокруг него сыпалась шрапнель и пели пули, как били они в землю и в людей, как падали бежавшие с ним рядом товарищи, одни назад, на спину, широко размахнув руками другие, словно споткнувшиеся, прямо лицом в землю, думал и удивлялся, как это удалось ему весь день уцелеть, да и не один день, а уже восемь дней, которые сплошь прошли в столкновениях с противником…
Эти восемь дней смерть так часто заглядывала в глаза Семенюку, так близко стояла за его плечами, что острота мысли о ней, ужас перед ней давно пропали, осталось только удивление своей судьбе…
«Округ сколько побило, а меня, поди же ты, и не задело»…
Проверяли по спискам роту…
Фельдфебель с забинтованной головой, вернувшийся уже в строй, выкликал по фамилиям.
Из окопа, на разные голоса или отвечали: «я», «есть», «здесь», или молчали… Тогда фельдфебель ставил крест и все понимали, что значило это молчанье и этот крест.
— Семенюк!..
— Я-o!.. — отозвался тот и фельдфебель даже на минуту оторвался от списка…
— Не ранен разве?.. — спросил он.
— Никак нет…
— Ишь, брат, какой ты счастливый, — усмехнулся подпрапорщик, — а я думал — тебя австрияк ухлопал, уж больно ты вперед лез… живучий ты хотя и «пскопской»… — пошутил он… — видно не судьба…
И перекличка продолжалась пока не прозвучала фамилия последнего солдата четвертого взвода и фельдфебель не ушел из окопа к ротному командиру…
— «Не судьба» — подумал ему вслед Семенюк и опять прилег на холодный песок… — а вот, видно, Семячкину и Арлашину так другая судьба!..
Семенюк вспомнил двух своих земляков из одной с ним роты, вспомнил, как погибли они оба, один, оставшись лежать в сыром окопе, а другой во время атаки в открытом поле…
И вслед за этим воспоминанием, потянулись вереницей другие, цепляясь друг за друга, как звенья таинственной цепи.
Что вспомнилось Семенюку? — то, что вероятно приходит в голову в ночные часы покоя и бдения каждому из этих людей, отозванных судьбой от семьи для больших страданий и больших подвигов…
Ведь у него, как у всех, была и семья и свой дом и любимая женщина…
«Слава тебе Господи, коли не судьба» — пробормотал он, опускаясь на дно окопа, когда его смене был дан отдых и новые серые фигуры с винтовками в руках выползли к брустверу.
* * *
Разбудили Семенюка веселые голоса товарищей…
«Вставай, заспался!».. — кричал знакомый голос соседа… — вперед выступаем.
Вперед!.. магическое слово, зажигающее кровь солдата… Что такое ночь, усталость, голод и холод когда надо идти «вперед»?! Как прекрасно и ясно раннее холодное румяное утро, как бодро и упруго молодое тело, отдохнувшее несколько часов!..
Вперед!..
Серые ряды уже тронулись, идут быстро и дружно враг отступает быстро и надо не дать ему возможности остановиться, опомниться, надо гнать его неуклонно, неумолимо, пока он не взвоет, не запросит пощады, не пойдет на уступки.
И все это сознают, сознает и Семенюк, бодро, шагая тяжелыми сапогами по мягкой, глинистой дороге… На боку его мотается вещевой мешок, а за спиной весело побрякивают котелок и кружка…
Перед отрядом раскинулось большое, покинутое, село…
Высится к голубому небу остроконечная кирка, белеют чистенькие домики, с палисадничками, но жизни не видно, только лают брошенные голодные собаки…
К селу подходят быстро и твердо: разведчики донесли, что австрийцы прошли дальше.
Село покинуто… Оно частью разорено, частью дома заперты и ставни закрыты…
Здесь привал… Большой привал для обеда, сейчас подъедут ротные кухни со щами, раздадут хлеб и можно будет на славу подкрепиться…
Но смертельно хочется пить, горло пересохло и даже саднеет…
Едва останавливают роту и командуют «составь» несколько особенно нетерпеливых вырываются из рядов и мчатся к колодцу, гремя котелками.
У Семенюка здоровые ноги, он быстро обгоняет всех, размахивая манеркой, с хохотом зачерпывает из колодца студеной воды и подносит манерку к губам…
В эту же минуту он слышит отчаянный голос — вопль: «Не пить, не пить воды!.. Австрийцы отравили колодцы»…
Но поздно… Холодная влага уже смочила пересохшее горло солдата, он невольно делает еще один глоток и, поняв смысл выкрикиваемых слов, останавливается в ужасе, с широко открытыми, ожидающими глазами…
* * *
Рядовой Павел Семенюк умер…
Судьба, спасавшая его на полях битв от неприятельских пуль, подстерегала солдата у предательски отравленного австрийцами колодца…
Его смелая простая душа плыла уже к голубому небу, к бездонному лазурному океану, в котором плыл красноватый диск холодного осеннего солнца.
Заступница
Постигла Марьяну эта беда в конце ноября месяца.
Мужа взяли на войну еще в августе, а едва выпал первый снег — поздний снег в эту зиму, — сбежал сын Семка…
Семке всего 15 лет, но мальчишка он бойкий, разбитной, в школе хорошо учился. Давно уже тянуло его туда, куда уехал отец и откуда приходили такие интересные вести. Семка каждый день бегал к учителю, прочитывал газету и возвращался с горящими глазами, весь поглощенный мыслями о войне, глухой к словам матери и невнимательный к ее приказаниям…
И вот Семка сбежал. Ночью надел полушубок, осторожно вышел в сени, притворил за собой неслышно дверь, ничего из вещей не взял и «навострил лыжи»… И вот с тех пор о нем ни слуху ни духу.
Марьяна примирилась со всем. Сперва с тем, что мужа угнали, а теперь, когда, убежал Семка, — тоже не роптала, только лишняя складка легла между бровей, да морщины стали глубже, как промытые дождевой водой ручейки на склонах песчаных холмов…
Село бедное, церковь маленькая, словно вросшая в землю, снегу сразу выпало много и одел он, как белыми шапками, избы и невысокий ветхий храм…
Сегодня сочельник. У Марьяны в избе прибрано к опрятно, но скучно одной; она оделась, вышла на улицу, миновала мостик через замерзшую речонку, на льду которой возятся, как черные букашки, мальчуганы, и вот теперь стоит около тускло-освещенного иконостаса церкви перед иконой Божией Матери.
Марьяна молится: за мужа, — горячо и искренно, а за сына, за беспутного Семку, «навострившего лыжи», — как то особенно пылко; какие-то особенно трогательные слова идут прямо от сердца, и Марьяна не старается облечь их в форму молитвы: в темноте еще пустого храма она беседует с Богородицей, как с доброй подругой, просит Ее совета, поведывает Ей свои печали, и прекрасное продолговатое лицо с ясными грустными голубыми глазами смотрит из рамы на склонившуюся женщину, как бы говоря ей: «Не страдай, Марьяна, Я твоя Заступница»…
А на дворе трещит мороз, тускло мерцают в окнах, засыпанных снегом изб красно-желтые огоньки и дрожат, мерцая переливаясь на темном бархате ночного неба, золотые и серебряные гирлянды бесчисленных звезд.
Между тем Семка уже пристроился.
Вот он стоит уже в солдатской шинели, слишком для него длинной, с рукавами, из которых не видно даже озябших кистей его рук, в нахлобученной на уши чужой фуражке, стоит с «настоящей» винтовкой в руках у опушки перелеска, засыпанного снегом, кажущимся при лунном свете легкой ватой, усыпанной осколками драгоценных алмазов… Семка — на разведке.
Бог весть какими путями удалось ему добраться до позиций… Чего только не перенес он по дороге, но, так или иначе, Семка пристал к полку, умолил полкового командира не прогонять его, взять с собой, участвовал уже в двух стычках и вот сегодня, как раз в сочельник, попал в разведку.
Шли они вчетвером, да трое его спутников пошли влево осмотреть кругом лесок, а Семку оставили сторожить и в случае чего наказали свистать в костяной свисток, болтающийся у него на шее.
Семка счастлив и горд. Он уже привык к новой жизни, новым товарищам, новым лишениям и опасностям, но это — первое самостоятельное поручение, первое доверие, оказанное мальчику, и сознание это наполняет его душу невыразимым счастьем.
Он важно похаживает из стороны в сторону, неся у ноги тяжелую винтовку, иногда останавливается, засовывает рукав в рукав и поглядывает во все стороны, не видно ли в поле чего подозрительного…
И странно, как это Семка, такой уже опытный и такой внимательный к своим обязанностям, не замечает, как вдоль темного кустарника, что тянется направо, крадутся две фигуры солдат в остроконечных касках, как одна из них становится на колено, вскидывает винтовку и прикладывается?.. Семка спохватывается только в ту минуту, когда пламя выстрела разрывает ночную мглу, и какая-то сила хватает его за плечо и бросает прямо лицом в сухой холодный снег.
«Что такое?..» — думает Семка и чувствует, как что-то теплое и липкое струится по груди, обрывки мыслей, самых неожиданных, наполняют его голову, смешиваются в какой-то хаос, сбиваются в клубок, и Семка, вспоминая в одно время и деревню, и троих товарищей, ушедших влево, и отца, и свою шинель с непомерно длинными рукавами, теряет сознание, погружается в какой-то тяжелый бесчувственный сон…
До Семки кто-то дотронулся, чья-то рука, легкая и нежная коснулась его лба, и он открыл глаза. Та же ночь, то же темное небо, тот же безбрежный белый океан вокруг, только грудь что-то давит как-то жжет, и мучительно хочется пить… Семка хочет вскрикнуть, хочет позвать, но в эту минуту видит лицо склонившейся над ним женщины. Это — «сестрица»… Семка сразу видит красный крест на ее рукаве, глаза его скользят по черному широкому платью, скрывающему ее фигуру, и останавливаются, словно привороженные, на ее лице прекрасном, продолговатом лице, освещенном ясными, грустными голубыми глазами…
«Откуда бы здесь быть сестрице?» — приходит в голову Семке отлично знающему, что перевязочный пункт сейчас находится позади, верстах в 4-х, но он не успевает размышлять еще о чем-нибудь, так кстати появившаяся сестрица достает из складок платья фляжку и прикладывает ее к пересохшим пылающим губам Семки…
Она становится на колени около раненого, проводит рукой по его волосам, и Семка вдруг чувствует, как затихает его боль в груди, не жжет больше, как каленым железом, застрявшая пуля, и мальчик смотрит на нее благодарными, полными слез, глазами…
Немножко странным кажется ему, что сестрица сидит около него и не делает ему перевязки, но боль утихла, голова больше не шумит, жажда перестала мучить, и Семке так хорошо, так радостно, так покойно…
— Сестрица… — спрашивает он, — как же это вы меня нашли? Опасно вам тут ходить-то одной, немцев тут много шляется, вы бы, сестрица, на пункт пошли…
Ясные грустные глаза улыбаются ему…
— Лежи, Сема, лежи, тебе нельзя разговаривать, — говорит сестрица.
— Да откуда же знаете вы, что Семой меня зовут?
Сестрица молчит, а Семка продолжает волноваться.
— Никак невозможно вам, сестрица, здесь оставаться, — говорит он, — идите, идите, сестрица… Не то придут немцы, грех будет… И меня добьют и вас забидеть могут…
Но незнакомая сестра не спешит, она встает медленно и, наклонясь к Семке, целует его в лоб:
— Не бойся, Сема, — Я твоя Заступница…
Сема смотрит ей вслед и кажется ему, сестрица словно плывет по белому снежному полю, не касаясь его ногами.
Позади за перелеском протоптана в мягком снегу тропинка. Идут по ней два санитара, оба закутанные в башлыки, куцые, несут пустые носилки, только что освободившиеся из-под раненого, доставленного в дивизионный лазарет…
Тропинка поворачивает, и около самого изгиба внезапно вырастает перед ними черная женская фигура с красным крестом на рукаве.
— Сходи, братцы, за перелесок… там на опушке раненый лежит, подобрать надо. — говорит она и проходит мимо, но оба солдата успевают различить под черной косынкой незабвенные черты ее продолговатого лица, успевают окунуться в светлый взгляд ее грустных голубых глаз.
И когда она проходит дальше и сливается с мраком ночи, они несколько мгновений смотрят друг на друга молча, словно спрашивая друг у друга объяснения этой внезапной встречи.
— Не тутошняя, верно, сестрица-то… — как будто смущенно говорит один, берясь за носилки… — Не встречал я ее что-то…
— Нездешняя… — как эхо, отвечает другой, и оба они молчаливые, но покорные полученному приказанию, идут по глубокому хрустящему снегу к черной опушке перелеска, где на ватном, усыпанном алмазами, снежном ковре лежит раненый Семка.
«Сестру убили»
В овраге расположился санитарный отряд.
Справа и слева спускались крутые зеленые скаты, на дне расположились линейки, обтянутые парусиной с нарисованным красным крестом, белела большая восьмиугольная палатка, а вокруг нее на носилках, на подостланных шинелях и прямо на траве копошились десятки раненых…
Далеко вокруг валялись повсюду окровавленные бинты и обрывки марли, среди этих людей, лежавших прямо на земле, во всех направлениях сновали два доктора, санитары и несколько сестер в белых косынках…
Линия огня была невдалеке.
Ясно доносилось громыхание орудийной пальбы и ружейная мелкая дробь, а иногда назойливо и продолжительно трещал пулемет.
А оттуда шли нескончаемой цепью раненые, шли к оврагу и, осторожно скользя, шли с помощью других, спускались на дно к палатке с красным крестом.
Работы было много.
Эвакуировали медленно, при помощи двух всего линеек и нескольких крестьянских фур, а раненые все прибывали и уже не было места для них, не хватало рук для перевязки их и для ухода.
Старший врач, всегда сохранявший спокойствие и хладнокровие, даже он теперь волновался, слишком нервно отдавал приказания и часто оглядывался на дорогу, не возвращаются ли крестьянские фуры… Справа и впереди рвалась шрапнель…
Белые дымки вспыхивали совсем низко над землей в голубой лазури неба и слышно было, как лязгали, разрываясь, стаканы и жужжали разлетавшиеся дождем пули.
Иногда немцы пускали одну, другую гранату, тогда из оврага можно было видеть, как взметывался снопик огня в клубах серого грязного дыма, а в земле оставалась глубокая воронкообразная яма.
Но треск и грохот взрывов гул орудий и ежеминутная опасность попасть под огонь, не уменьшала быстроты работы и не прерывала ни на минуту деятельности отряда… Доктора в белых халатах и сестры, казалось, не знали утомления.
Санитары уходили на позиции: там оставалось много раненых, много искалеченных людей, которые падали на самом месте, где стояли, с винтовкой в руках и после уже не в силах были встать или даже просто доползти до пункта…
И к ним на помощь спешили санитары…
Сестра Изборская шла вместе с санитарами… Впереди нее по узкой тропинке тянулись гуськом люди с носилками еще пустыми пока, к далеким черным окопам, к опушке леса, где вспыхивали огоньки пушечных выстрелов и оттуда неслось рокотанье пулеметов.
Сестра Изборская только вчера догнала свой отряд, уже почти около позиций, и присоединилась, а сегодня она уже с раннего утра, едва занялся рассвет и загремела канонада, была за делом и успела четыре раза побывать «впереди», т. е. там, около окопов, где рвалась шрапнель и падали сраженные пулями люди.
Санитары остановились…
— В чем дело? — спросила сестра, нагоняя их…
— Надобно теперь расходиться… пули уже сюда залетают…
Пули, действительно, уже пели и били бесшумно в мягкую взрытую землю… Носилки пошли вправо и влево, сестра Изборская постояла с минуту одна среди широкого поля и, перекрестившись, пошла прямо к черной полосе окопов… Бой разгорелся. В окопах, наполненных людьми, лежащими, прислонившись к задней стенке спиной, с искаженными страданьем лицами, и солдатами, прильнувшими к брустверу, было тесно…
От треска поминутных выстрелов шумело в ушах, сквозь сизую сетку дыма виднелись вдали цепи неприятеля, а над головами то и дело с воем проносились немецкие чемоданы.
Рвались они далеко позади.
Сестра Изборская спустилась в окоп… Казалось, ее никто не заметил, но все те, которые лежали у задней стенки, страдающие и истомленные, устремили на нее молящие жалобные взгляды… Казалось, ангел Божий спустился в этот ад ужаса и смерти!..
— Сестрица… воды…
— Сестрица… помогите… — раздались голоса и Изборская успевала откликнуться на каждый зов, помочь каждому, облегчить страдания каждого.
И вдруг ужасное, неожиданное и непоправимое…
Ее убили!.. Рука какого-то варвара выпустила пулю, которая ударила сестру в висок и, уронив из рук марлевый бинт, которым она перевязывала солдата, молодая женщина упала без звука, без стона, вперед на руки подхвативших ее стрелков…
Жизнь кончилась. Тело осталось неподвижным, и глаза смотрели остановившимся, немигающим взглядом, куда-то в неведомую и непостижимую для живых даль…
— Убили окаянные! — произнес с досадой кто-то, но остальные промолчали, и их молчание говорило красноречивее слов…
Сестру подняли и бережно, под огнем, понесли в овраг, к лазарету…
Доктор засуетился, увидя приближающуюся процессию, он сразу понял, в чем дело!.. Доктор сам выбежал навстречу, приказал остановиться, прильнул к ее груди ухом, заглядывал в глаза… Напрасно! — жизнь покинула ее окончательно и безвозвратно…
Доктор встал, развел руками, перекрестился и закрыл ей глаза.
— Сестра Изборская убита! — сказал он подошедшему младшему врачу. И оба молча остановились над трупом…
Очнулся первым старший:
— Отнесите покойницу к линейкам! Сестра Михеева! — позвал он, — сообщите мне адрес родителей Изборской… надо их известить…
Сестра Михеева развела руками:
— Она не сказала своего адреса… не успела… она только вчера приехала… я не знаю…
— Неужели никто не знает? — заволновался доктор, но никто не мог сообщить адрес убитой…
И вдруг раздался голос слабый, едва слышный, голос умирающего. Все оглянулись: это говорил молодой офицер в залитой кровью рубахе, раненый в грудь… Приподнявшись на локте, он пристально смотрел в лицо убитой…
— Я знаю… дайте карандаш, я напишу…
Без вопросов, подчинясь минуте, доктор подал раненому бумагу и карандаш, но после, когда офицер возвратил записку с адресом, невольно вырвалось:
— Откуда вы ее знаете?..
Молодой человек поднял глаза на врача и негромко ответил:
— Я брат сестры Изборской…
Голос его не дрогнул, и только из глаз выкатились две крупные, прозрачные, как два алмаза, слезы…
Кровавое озеро
С вечера неожиданно повалил крупными, мягкими хлопьями первый противный мокрый снег и шел всю ночь, не переставая, точно спеша отстоять свое право перед предыдущими осенними ливнями. Но к утру потянуло с севера холодным ветерком, небо прояснилось, поредела подвижная, белая, слепящая завеса, и под ногами захрустел слабый ледок, затянувший грязные лужицы.
Рота ободрилась и повеселела, радуясь родному русскому морозцу, сменившему беспрерывные двухнедельные дожди, слякоть размокших и раскисших дорог и безотрадное ненастье.
Раскрасневшиеся лица улыбались, послышались веселые голоса и первые неприятельские выстрелы были встречены охотно и почти радостно.
— Пожалуйте, ваши степенства, прокатим по первопутку.
— По нонешнему времени и погреться не мешает.
— Вишь, как скоро заместо белых, черные мухи залетали! — оживленно перекидывались солдаты, быстро и точно исполняя полученное приказанье, рассыпаясь в цепь, заряжая винтовки, подкладывая под локоть скатки для опоры.
Подпоручику Алексею Сергеевичу Ельцову нездоровилось со вчерашнего дня.
Лежа во фланге цепи, нервно и порывисто распоряжаясь действиями солдат, он чувствовал, как легкая лихорадочная дрожь с каждой минутой сильнее сотрясает его тело, поднимается выше и выше и подступает к горлу и вискам.
— Фу ты, гадость этакая, — с досадой думал он, тщетно стараясь побороть мучительное состояние, — расхвораюсь я что ли, этого только не доставало. Все эта сырость проклятая виновата…
В грудь и живот проникал сквозь шинель леденящий холод подмерзшей земли, голова пылала.
— Хоть бы в атаку, что ли, только бы двигаться, только бы встать.
Ему казалось, что он примерзает.
Сознание странно двоилось.
Одна часть мозга контролировала произносимые командные и ободряющие слова, а другая работала с болезненной быстротой и напряжением, с неестественной яркостью сновиденья, рисовала странные, фантастические и полузабытые картины.
В двух шагах от Ельцова со стоном вскочил и завертелся на месте раненый в лоб навылет рядовой.
— Что ты, Кончиков, больно тебе? — сам не зная зачем, спросил офицер, содрогнувшись.
— Никак нет, ваше благородие, только все кругом зелено, а до пункта дойтить смогу, — обстоятельно ответил раненый. И вдруг Алексею Сергеевичу и самому показалось зеленым все окружающее: небо, и разрытое снарядами поле, и дымки разрывающейся шрапнели, и лица людей. Горло сдавила спазма тошноты.
Потом люди, сновавшие согнувшись от скрытых кустами патронных двуколок и обратно, представились больному воображению какими-то странными, невиданными доселе животными, разбрасывающими не пачки патронов, а что — то другое, что было трудно разглядеть.
— Папиросы, — догадался вдруг подпоручик, — покурить бы, наверное стало легче, — тоскливо докончил он и тут же с удивлением услышал словно издалека собственный голос, выкрикнувший короткое и властное слово и почувствовал, как сам он и все вокруг уже не лежат, а бегут с возбужденным криком «ура», кое-кто падает, кое-кто отстает, другие перегоняют.
Резкий толчок заставил Алексея Сергеевича сесть на землю. Ему показалось, что кто-то схватил его за плечо и он сделал сердитое усилие сбросить дерзкую руку.
Пальцы окрасились теплой кровью.
— Ранен, — подумал он, — ну, ничего. Надо до пункта добраться. Дойду ли? Ну, понятно, дойду, раз собирался дойти тот солдат с дырой во лбу.
Он поднялся на ноги и пошел, с трудом переступая между обмерзшими выбоинами, разбросанными предметами амуниции, стонущими людьми, разбитыми двуколками, спотыкаясь о кочки и твердые комки глины, в том направлении, в каком, ему помнилось, шел раненый солдат.
— В плен не дамся, — решил он последним, вполне сознательным, движением мысли. Все, происходившее дальше, прошло, как во сне.
Наступал вечер.
Холодное, невеселое солнце медленно, в виде красного диска, склонялось к горизонту.
Впереди шумел обнаженными ветвями большой, отделенный от поля неглубокой канавой, поросшей кучками жесткой седой травы, лес.
Ельцов, выбрав удобное место, перепрыгнул на ту сторону и медленно пошел лесной тропинкой.
Под ногами был сырой ковер пушистого темного мха и похрустывали обломанные сучья и сухие промерзшие листья.
Движение несколько успокоило и обогрело офицера, он больше почти не чувствовал лихорадки, смутно вспомнил, что с утра ничего не ел и, опустив руку в карман и нащупав забытую плитку шоколада, на ходу откусил от нее кусок, но шоколад показался горьким, рот наполнился приторной липкой слюной и, выбросив плитку в траву, Алексей Сергеевич зашагал дальше.
В лесу было еще довольно светло, но в воображении Ельцова предметы принимали сказочные, то чудовищные, то смешные, то страшные, формы.
Он часто останавливался, подходил, ощупывал и осматривал, с улыбкой покачивая головой, какой-нибудь куст, пень или дерево.
— Ишь, ведь, что померещилось…
— Придет же в голову что-нибудь подобное, — недоверчиво бормотал он при этом.
В одну из таких остановок Ельцову пришло в голову перевязать плечо, из которого продолжала потихоньку просачиваться на шинель кровь.
Он достал бинт и наложил на рану повязку.
Потрогал, поправил и остался доволен.
Вообще он чувствовал себя теперь совсем хорошо, сверлила только тяжелая, сушившая язык и небо, жажда, еще усилившаяся после съеденного кусочка шоколада.
Между тем тропинка постепенно склонялась. Воздух становился сырее, белые болотные метелки, ивы и группа осоки указывали на близость воды.
Ельцов ускорил шаги и скоро радостно увидел, сквозь поредевшие ветви, блеснувшую поверхность большого озера.
Видимо, здесь недавно, может быть накануне, разыгралось сражение. Весь глинистый берег был изрыт и истоптан, тут и там валялось оружие, каски, какие-то колеса и оглобли, в вязкую прибрежную почву врезались нелепо расползавшиеся, поднявшиеся, торчащие вверх и в стороны обломки громадного плота, по воде плавали маленькие круглые предметы, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении неприятельскими касками.
Ельцов, ухватившись ногой за ствол склонившейся к озеру старой, печальной ивы и придерживаясь за ветку больной рукой, наклонился, зачерпнул ладонью благодетельной влаги, помочил горящий лоб и виски, и поднес другую пригоршню ко рту.
Необычайный-солоноватый вкус и слабый посторонний запах поразил его.
Он взглянул на свою ладонь и мгновенно разжал ее в ужасе, взглянул перед собой, и одинокий растерянный, отчаянный крик потряс безмолвие старого леса.
Между ветвей дерев, более редких в этом месте прорывались медные косые прощальные лучи солнца. Они скользили по медлительной будто маслянистой ряби обширного озера, в котором вода была алого цвета.
Потрясенные нервы и ослабленное болезнью тело не выдержало.
Ельцов потерял сознание.
* * *
— Стой, ребята, никак наш.
— Наш и есть, подпоручик, раненый.
Это раздались часа через два голоса проезжавшего казачьего разъезда.
— Подсоби-кось в седло посадить.
— Слышь-ка, никак бредит, бедняга.
— Да и место, не дай Господи. Здорового жуть берет.
Ельцов не слышал родных голосов.
Он метался и горел в злой лихорадке и когда лес с его тайнами давно остался далеко позади, он еще бредил кровавым озером и осклабившейся со дна его смертью.
Роковой ночлег
Позади осталось пройденное поле…
Моросил мелкий холодный дождь, но и сквозь его сетку едва виднелись черные колонны наступающей пехоты…
Проходя по полю, приходилось много раз обходить трупы, свалившиеся один на другой, перебираться через оставленные австрийцами окопы, заваленные телами убитых и брошенными предметами амуниции и вооружения…
Около леса даже виднелись австрийские патронные двуколки, брошенные войсками в их поспешном отступлении с обрезанными постромками…
Лошадей не было… На них, видимо, и ускакали обезумевшие солдаты… и теперь это поле, где всего несколько минут тому назад кипел бой, и над которым сплошной массой неслись пули и артиллерийские снаряды, теперь это поле вдруг успокоилось и затихло, и по нему в неудержимом стремлении вперед ползли черные живые змеи пехотных колонн.
Казаки донесли, что село оставлено австрийцами… — И вот, охраняемые со всех сторон дозорами и разъездами, главные силы, двинулись через поле к оставленным неприятелем позициям.
Они уже успели разобраться в стройные роты и батальоны эти массы людей, только что сражавшихся и, казалось, истомленных в бое. Теперь двигались они уже рядами во главе со своими офицерами к едва видневшимся сквозь паутину дождя и тумана строениям далекой деревни.
Между тем казачьи разъезды были уже там: они скакали по улицам, настигая своими пиками отсталых, поспешно отступающих австрийцев. Поручик М. вошел в село во главе своей роты одним из первых… Он еще видел поспешно убегавших, побросавших оружие, солдат; их не ловили и вслед им не стреляли: это были уже не воины, это были обезумевшие, безоружные люди — осколки погибающей армии!..
М. сильно устал за этот день, но усталость не сказывалась до самых сумерек, пока ему приходи лось бегать вместе с солдатами по болотистому полю, лежать цепью в сырых и холодных окопах и ходить в атаку в самую гущу австрийского ружейного и пулеметного огня…
Но теперь, когда все это было уже в прошлом, когда замолк шум битвы, когда осталось позади поле с австрийскими пулеметами и окопами, наполовину наполнившимися ледяной дождевой водой, поручик вдруг почувствовал, как его оставляют силы, как слабеют ноги и как смыкаются глаза после двух бессонных ночей.
И страстно захотелось отдохнуть, протянуться, хоть, не на кровати, нет!.. просто на полу, на досках, даже на земле, только-бы сверху не лил дождь и можно было бы на минуту отдохнуть от утомившего слух гула, и грохота…
Перед ним была улица. Уже смеркалось и синие тени ползли от домов через широкую дорогу, изрытую тысячами ног и развороченную тяжелыми колесами артиллерии.
И теперь по этой улице шли только солдаты, жителей не было видно, — они или попрятались или уже покинули село с первым появлением неприятеля. Дома были целы, но частью разгромлены австрийцами…
Виднелись двери, сорванные с петель, окна с выбитыми ставнями, на улицу были выброшены разбитые сундуки и ящики, а у дверей ограбленной лавочки лежал, среди груд выброшенного на улицу товара, лицом вниз, должно быть убитый лавочник.
С одного конца село загорелось, вероятно, от одного из выпущенных нами снарядов, после метких попаданий которых, австрийцы начали поспешно отступать…
Черный дым поднимался столбом над пылавшими избами и видно было издалека, как золотые языки пламени лизали мокрые бревенчатые стены и рассыпались искрами по, набухшим от дождя, соломенным крышам.
Тушить было некому: австрийцы бежали, а наши войска еще не успели расположиться в занятом селении.
Когда поручик М. вышел со своей ротой на центральную площадь местечка, где высился костел, упиравшийся колокольней в мутное, плачущее небо он увидел множество солдат, уже составивших винтовки и осматривавших ближайшие дома.
Роте здесь было приказано расположиться на ночлег; свежие части, подошедшие сзади, прошли теперь вперед и образовали сторожевое охранение. Во множестве темных изб и сараев теперь можно было найти хоть на несколько часов тот отдых, в котором так нуждались завоеватели…
Поручик М. был легко ранен в руку. Ее перевязали ему там же на позиции и он возвратился в строй. Рука не болела весь день, но теперь, когда вся одежда промокла, когда холод пробирал до костей, М. почувствовал тупую ноющую боль в ране…
Надо было искать себе убежище!
Навстречу поручику в этом отношении пошел фельдфебель, рыжеусый, бравый подпрапорщик, уже дважды раненый, но оставшийся в строю.
— Так что, ваше благородие, можно было бы у ихнего попа на ночевку устроиться… Так что у него почище будет… может быть, что-нибудь и закусить достанем…
Поручику было все равно… Он жаждал только отдыха и тепла…
— Идемте, — покорно ответил он фельдфебелю и последовал за ним через грязную площадь к костелу, около которого виднелся белый домик ксендза…
Миновав палисадник и поднявшись по ступеням подъезда, оба измученные человека долго возились у дверей… Ксендза, конечно, не было!
Фельдфебель попробовал подергать за ручку, но дверь оказалась закрытой на ключ.
Делать было нечего: оба опустились на ступени крыльца и несколько минут просидели так недвижные и безмолвные, сломленные усталостью пережитого дня.
Подпрапорщик опять первый нарушил молчание.
— Идемте, ваше благородие, тут рядом дом есть… Мы в нем и заночуем. Оно, конечно, не так чисто будет, как у попа, да что же поделаешь нынче…
Поручик с трудом поднялся со ступени и опять пошел вместе с фельдфебелем по липкой вязкой грязи к невзрачному черному домику, приютившемуся около костела.
Дом казался покинутым; людей не было видно, ставни были закрыты, но дверь, распахнутая настежь, свидетельствовала о том, что здесь побывали австрийцы…
Впрочем, комнаты они разгромить не успели: когда поручик М. и его спутник вошли внутрь дома, они нашли там все в должном порядке…
Даже постель была не смята, и только наполовину опустошена, видимо, поспешными руками, миска холодного картофеля на столе.
— Здесь и расположимся, ваше благородие, — довольным тоном предложил фельдфебель… — опять же и постель в порядке…
Поручику было все равно…
Он почувствовал себя в тепле, увидел возможность лечь, протянуться, и теперь единственным желанием, единственной целью было добраться до этого покоя и тепла…
— Хорошо! — произнес он, — я буду ночевать тут… Оставайтесь при роте, только помогите мне сейчас стащить сапоги…
Поручик сел и фельдфебель приготовился уже помочь ему, как оба, взглянув на дверь, остановились и словно застыли от неожиданности…
В дверях, прислонившись к косяку, стояла женщина, молодая с прекрасным утомленным и бледным лицом, таким изумительно строгим и необъяснимо привлекательным, какого М, еще никогда не видел…
Она была еврейка — это было видно по ее типу и по типу ребенка, которого она держала за руку и который боязливо жался к ее юбке…
Женщина молчала и только полными грусти и мольбы глазами глядела на русского офицера…
— Кто вы?.. Что вам надо?.. — спросил пораженный поручик, подходя к ней…
Женщина все молчала, а ребенок вдруг заплакал и всхлипывал робко и боязливо…
— Мы озябли… пан офицер… мы очень проголодались, — наконец заговорила еврейка… — мы хотели просить, если пан офицер позволит мне с маленькими переночевать в сарае рядом… я буду молиться Богу, чтобы он сохранил пана офицера…
М. глядел в эти громадные прекрасные глаза, наполнившиеся слезами, и чувствовал, что забыл все: и усталость, и мечты об отдыхе…
— Конечно, конечно… — поспешно заговорил он, даже почему-то краснея, — но кто вы?.. откуда вы?..
— Мы отсюда… это наш дом, если пан офицер позволит…
Еврейка обвела взглядом комнату…
— Мы весь день, как пришли австрияки, прятались в саду в землянке… но пошел дождь… стало холодно, мой маленький озяб и плачет… пан офицер простит… ведь маленькие дети…
Еврейка словно извинялась.
Пораженный красотой этой женщины, взволнованный внезапностью ее появления, поручик вдруг почувствовал себя каким-то маленьким перед ней, перед ее красотой, каким-то виноватым и обязанным ей…
— Нет, нет… ради Бога… Вы будете ночевать здесь… Мы пойдем в сарай… — поспешно заговорил он, натягивая сапог…
— О, нет… пан офицер, разве это возможно, пан офицер должен спать на перине…
— Ради Бога, ради Бога… Ну, я прошу вас…
Поручику М. стало искренно жаль и молодую женщину и ее несчастного ребенка.
— Как! — воскликнула, между тем, та, увидев его руку забинтованной. — Пан офицер ранен?..
И быстро, легко и осторожно прикасаясь к руке М., она, не спрашивая его согласия, развязала бинт, достала откуда-то кусок ваты и сделала перевязку…
— Вы останетесь здесь… пан офицер… Вы будете спать здесь… Я сама сделаю вам постель, а мы с маленьким пойдем в сарай… Он здесь, рядом… Там много сена, будет тепло… Пусть пан офицер ложится здесь…
Сколько ни убеждал ее поручик, сколько ни просил, молодая еврейка оставалась непреклонной — от ее застенчивости не осталось и следа…
Поручик остался спать внутри избы, а молодая женщина с мальчиком ушли в сарай, расположенный стена к стене с домом…
Лежа в постели после ужасов и усталости дня, не чувствуя успокоившейся раны, поручик до последней минуты сознания думал о прелестной еврейке и о ее незабвенных, огромных и глубоких как океан, глазах…
Утром М. проснулся от внезапного страшного грохота…
Точно мгновенно обрушился потолок и задрожала земля.
Поручик сразу не понял ничего… Он сел на постели и увидел только сноп пламени и густой дым, валивший в окно…
Подпрапорщик кричал ему в дверь:
— Ваше б-дие, выходите! Горим!.. Скорее…
Он выбежал на улицу и увидел на месте сарая, расположенного рядом с домом, один сплошной костер.
Бризантный снаряд, выпущенный австрийцами с вновь занятой позиции, попал прямо в сарай, спалил его и превратил в груду костей и обрывков мяса прекрасную еврейку и ее ребенка.
Эту историю мне рассказал поручик М. уже в госпитале, где он лечился от осложнившейся раны в руку…
Всенощная
В рождественский сочельник полковой священник, отец Алексей, немолодой уже, крупный человек, с окладистой русой бородой и строгими глазами, глядевшими сквозь желтые стекла очков, будто из другого, далекого мира, служил всенощную в уцелевшей церкви разгромленного и сожженного неприятелем села.
Вечер был морозный и снежный. В низенькой, сумрачной церкви было не темнее, чем в поле.
В перебитые окна залетали мягкие, белые хлопья и бесшумно ложились на обнаженные головы и на плечи молящихся, и порывы ветра колебали алые сердечки огней немногих зажженных перед иконами свечей.
Белый пар от дыханья клубился легкими облаками, но настроение у всех было торжественное и умиленно-праздничное.
Истово крестились солдатики широким, крестьянским крестом, кланялись, касаясь лбом обледеневшего влажного пола и каждый вспоминал своих близких, родных и любимых, всех, с кем привык встречать мирный и радостный праздник.
Тихо шевелились губы, но неизвестно, что шептали они, слова ли молитвы, или дорогие имена, глаза прямо и неподвижно смотрели на темные в сумраке образа, но кто знает, не искали ли они в строгих чертах святых ликов сходства с тем, к кому рвалось сердце.
Батюшка служил неторопливо, внимательно и вдумчиво, и привычные, с детства знакомые слова прониклись новым, более глубоким и прекрасным смыслом.
— Слава те, Господи, в храме Божьем честь честью праздник встречаем, — радовались солдаты забывая на час тревоги, опасности и ужасы войны.
Всенощная приближалась к концу, когда случилось то неожиданное, нелепое и страшное, чего люди не могли даже сознать в первую минуту.
Снаружи раздался какой-то, сперва отдаленный, но быстро приближавшийся свист и вой, затем звук, похожий на громовой удар, с купола над алтарем посыпались обломки, щепы досок, целые облака пыли, наполнили священное место.
В первое мгновение все оцепенели.
Первым опомнился полковой командир. С криком — «батюшка, отец Алексей» — он бросился к алтарю, за ним с смутным гулом ужаса и смятения, тесня и толкая друг друга, ринулись вперед все, находившиеся в церкви.
— Храма Божия не щадят, нехристи, прости Господи, — батюшку убили, нечестивые, — в святой то вечер, — вырывались отдельные восклицания.
И вдруг, покрывая другие голоса, раздался спокойный и важный голос человека, только что избежавшего смертельной опасности.
— Не ропщите, братья, и успокойтесь. Возблагодарим Бога за наше спасение и будем продолжать молиться.
В раскрытых царских вратах стоял невредимый отец Алексей, за его спиной все было разбито, разворочено и разрушено.
Шелест облегченного вздоха пронесся по храму; руки, как одна, поднялись для крестного знамения, и все головы склонились дружным и мягким движением, каким клонятся тяжелые колосья созревшего хлеба под ласковым дуновением летнего ветерка.
— Миром Господу помолимся, — возгласил священник, продолжая служение, а с высоты, сквозь разбитую влетевшим снарядом крышу сверкало искрами бесчисленных звезд прекрасное, рождественское небо.
Артиллерия на позицию…
I
Где-то за горой, там, где к небу тянулись черные столбы дыма и гремели отдаленные залпы, шел бой… Оттуда шли вереницей раненые, несли на носилках закрытых с головой людей, и по белому полотну стекали вниз и капали на траву темные капли густой крови.
Лазаретные линейки, переваливаясь по ухабам глубоких вбитых колей, медленно двигались оттуда, переполненные людьми, охающими и стонущими при каждом толчке: иногда, нахлестывая нагайкой вспотевшую, загнанную лошадь, проносился по дороге, искусно лавируя между повозками и бредущими один за другим пехотинцами, казак-ординарец, на скаку передавая короткие приказания и, осадив маленькую, длинногривую, коренастую лошадку, мчался обратно, вверх по вьющейся в гору пыльной дороге.
Небо было мрачно.
Черный дым, смешиваясь с тяжелыми, мрачными тучами, надвигавшимися вместе с сумерками, низко полз над вершинами шумящего, густого леса…
Пламени не было видно. За горой и за лесом только взметывалось иногда багряное зарево, но что горело, близко ли горело или далеко, — разобрать было невозможно.
Стал накрапывать дождь, мелкий, осенний…
С зеленого ската почти незаметные на темном фоне быстро спускающихся сумерек начали сползать колонны пехоты, неторопливые, твердо ступающие и сосредоточенные массы людей…
Но люди эти были уже не те, что утром. Теперь, уже обожженные боевым огнем, они глянули в лицо смерти… Некоторые были без амуниции, брошенной, вероятно, во время атаки, другие шли с завязанными руками и головами, но здоровые руки крепко держали винтовки и глаза глядели по-прежнему спокойно и решительно…
Глядя на них было видно, что они хотя и идут назад, но не отступают…
И действительно!.. Они не отступали!
II
Решено было только изменить позицию, чтобы отходом в сторону избегнуть неприятельского глубокого обхода.
Теперь пехота, весь день не выходившая из огня, выполнила этот маневр, чтобы еще, быть может, целую ночь сидеть в сырых, холодных окопах или прятаться от свинцового дождя в кустарники лесной опушки.
Дождь шел все сильнее и сильнее…
Падали уже частые крупные капли, шурша о листья низкорослого кустарника, барабаня по крышам повозок и лазаретных линеек и превращая серые солдатские рубахи в черные.
Но люди не роптали.
Это был освежающий, благодатный дождь после двух недель переходов по пыльным песчаным дорогам под знойными лучами августовского солнца, при большом недостатке в воде и отдыхе…
— Бог дождичка послал! — произнес, крестясь, низкий бородатый солдат без сумки и скатки. — Давно пора: поистомились с засухой-то!
Голова у него была забинтована, фуражки не было.
Произнес он эти простые слова таким тоном, словно не было войны, словно не он целый день стоял под австрийскими пулями, словно не он ранен в голову и не он будет целую ночь лежать в окопах и ходить в штыки на неприятельские цепи; казалось, этот низкорослый, бородатый мужик просто вышел из избы в поле и порадовался дождю!..
А мимо ползли все новые к новые колонны пехоты; на горе, грохоча в сгустившемся мраке тяжелыми колесами, приближалась невидимая артиллерия, и слышалось только громыхание, ржанье лошадей и громкие, ободряющие окрики ездовых…
Дорога загибалась вправо и круто спускалась вниз…
Лошадей удерживали, передки набегали и иногда заваливались назад, высоко поднимая к небу дышла. Тогда особенно грозно ругались в темноте фейерверкеры и раздавалась команда:
— «Номера», слезай!
Прислуга орудий соскакивала с ящиков, передки выпрямлялись, и здоровые, застоявшиеся за день, битюги, поощряемые нагайками ездовых, дружно выносили тяжелые орудия на пригорки…
А по бокам шла пехота…
По краям дороги и по косогорам, быстрым шагом обгоняя повозки, шли люди, быстро выстраивались, рассыпались в цепи и исчезали во мраке спустившейся ночи…
III
Дождь шел проливной, и позади за оставленным пригорком и лесом было тихо.
Австрийцев словно не было…
— «Он», ваше б-дие, поди, совсем ушел?.. — высказал-было свое предположение молоденький солдатик, и вдруг, в эту минуту после отдаленного, едва слышного выстрела раздалось над головами характерное завывание шрапнели…
— Вот тебе и ушел! — только успел произнести сосед солдатика, как совсем близко грохнул взрыв и взметнулся в темноте сноп пламени. И в ту же минуту вдали раздалось еще пять выстрелов, и пять шрапнелей завыли в темном небе и с треском обрушились на мокрое, взрытое тысячами ног, поле.
— Тьфу, проклятый! — сплюнул в темноте кто-то, — и перестроиться не даст окаянный….
Австрийцы, кажется, действительно, решили не дать нам перестроиться: их батареи загремели беспрестанным уханьем невидимых орудий, и их шрапнель засыпала на мгновение вспыхивающими с треском кострами все черное, копошащееся поле, по которому двигались каши войска.
Отвечали им только частые поспешные выстрелы наших прикрывающих частей.
Из мрака на дороге среди масс пехоты, около артиллерийских передков и зарядных ящиков, вдруг показалась группа всадников в непромокаемых плащах и надвинутых на лоб фуражках.
Впереди ехал начальник дивизии…
Он спешил вперед, и, догнав головное орудие колонны, приподнявшись на стременах, закричал голосом, заглушившим на мгновение канонаду:
— Артиллерия, на позицию!
Полковник! — продолжал он, обращаясь к батарейному командиру, скакавшему по ту сторону дороги, — живо-о… занимайте господствующий пригорок за селеньем и открывайте огонь… не ждите… живо-о…
Едва успел полковник козырнуть, как кавалькада во главе с генералом уже исчезла во мраке.
— Батарея, на позицию!..
В темноте закричали десятки голосов… Отдельных команд невозможно было разобрать, но каждый понимал, что следовало, и делал, что было нужно…
Кони взметнулись…
— Берегись!.. — заорали на пехоту ездовые, и свернув прямо в поле для сокращения пути, длинная, черная вереница орудий ринулась вперед, разбрызгивая грязь и разбрасывая копытами коней шайки грязи…
IV
Село располагалось на косогоре, а за ним чернел тот гребень, за которым должна была поместиться по приказанию генерала артиллерия…
Внизу протекала, узкая, быстрая речка, через нее был бревенчатый мост, а дальше шла в гору дорога, крутая, с глубокими колеями…
От сильного дождя, перешедшего уже в ливень, реченька сильно вздулась и затопила часть берега, дорога раскисла, и только первые два орудия благополучно проскочили через дребезжащий под тяжелыми колесами мост…
Третье орудие до ступицы колес увязло в мягком, разбухшем от дождя грунте берега, и вся колонна остановилась…
В эту минуту совсем близко, около самой воды, разорвалась шрапнель и на минуту озарила гарцевавшего около моста фейерверкера…
Я увидел в отблеске взметнувшегося пламени на громадном, ширококостном коне мелкого, вероятно, запасного унтер-офицера в облипшей, почерневшей гимнастерке, с рыжей, редкой бороденкой, вокруг худых щек…
Почему-то в эту минуту мне подумалось, что этот рыжебородый фейерверкер, теперь хлопотавший около завязнувшего орудия, до войны был, наверно, сапожником, сидел у окна в зеленом фартуке и мирно точал ботинки, но едва грянул гром, — сложил колодки, снял фартук и вдруг оказался на коне под неприятельским огнем…
И в этой новой обстановке он чувствовал себя так же свободно и ловко, как за своими колодками…
Около орудия уже хлопотал фейерверкер с рыжей бородой, напирая грудью своего громадного коня на запряженных лошадей, кричал высоким, но повелительным и гремящим голосом:
— Бибилашвили!.. вперед!.. пошла!.. вперед!.. наддай, Бибилашвили!..
Черная тень ездового впереди махала нагайкой, раздавалось только фырканье коней и хлюпанье их копыт по воде… Но напрасно!..
— Бибилашвили… вперед… леший, черт… вперед… — надрывались сзади, но пушка, увязнувшая в глине, не двигалась…
А неприятель совсем пристрелялся: его шрапнель с методической точностью сыпалась на нашу перестраивавшуюся пехоту, рвалась в рядах, бросая в быстрые воды речки багровые отблески мгновенных вспышек… Надо было спешить!.. а спереди раздавалась команда:
— Батарея, на позицию!..
Рыжий фейерверкер, которого я почему-то прозвал сапожником, уже соскочил с коня.
— «Номера» слезай!..
— Ребята, к колесам подходи… к колесам!.. — кричали во мраке голоса, — пушку с передка сними!.. Бибилашвили, держи коней, берись, ребята, за колеса!.. держись!..
В темноте копошилась масса людей около колес передка, бил в лицо ледяной дождь, гудел ветер и рвалась с лязгом и свистом австрийская шрапнель…
— Нажми, нажми, ребята!.. разом!.. все разом…
Послышались кряхтение и какой-то треск…
— Легче, легче, черти, — кричал фейерверкер, — не с женой, небось, играете… берись сызнова, нажимай теперича, все разом, пошел!.. раз, два, три-и-и!!..
Вся масса людей смешалась в один черный клубок, сплелась в одном нечеловеческом усилии, увязая ногами в топкой грязи, разрывая в кровь руки, силясь вытащить из глины увязнувшее, бессильное стальное чудовище…
Но орудие не шевелилось… Все снова столпились вокруг…
Опять кто-то кричал на ни в чем неповинного Бибилашвили, опять хватались все за колеса, увязали: по колена в грязи, откуда-то скакали ординарцы с вопросом, «скоро ли выйдет артиллерия на позицию?» и злобно взвизгивая рвались кругом шрапнельные стаканы…
И вдруг, Бог весть, откуда, в стороне, около речки показалась здесь под огнем ночью крестьянская фура, нагруженная каким-то скарбом, с тремя евреями в круглых шапочках и длиннополых сюртуках.
Как попали они сюда, спасая свое имущество, никто не интересовался, но рыжий фейерверкер моментально учел, выгоду этого появления.
Как вихрь налетел он на фуру:
— Эй вы, паны… вылазьте живо!.. Распрягай лошадей… живо ребята!.. Давай на пристяжку!.. Так его, так… пристегни там Бибилашвили…
В одно мгновение еврейские кони были впряжены в орудие, рыжий унтер уже собрал людей вокруг колес.
— Эй, паны! Чего вы попрятались?.. Подсобите!.. — отдадим коней, не бойсь!..
Перепуганные насмерть пассажиры злополучной фуры поневоле присоединились к массе людей, сгрудившихся вокруг орудия.
С дикими криками и конским ржаньем, надрывая грудь, срывая ногти и скользя в грязной жиже дороги, люди и лошади одним нечеловеческим усилием вынесли увязнувшее орудие на мост… Вся вереница тронулась, и с гиком, и посвистом помчалась в гору на позицию…
Мимо еще раз промелькнул рыжий мужичонко на громадном коне, и в лице его, совсем не воинственном в эту минуту, я прочел одну мысль, одно желание — «чтобы скорей артиллерия была на позиции».
Через минуту она уже была за пригорком.
Черная завеса ночи словно растрескалась вдруг, и из трещин вырвалось яркое, желто-красное пламя.
Твердо, грозно и уверенно прозвучали шесть выстрелов, и шесть снарядов с воем понеслись в черную даль, где лил проливной дождь и вспыхивали огоньки австрийских выстрелов.
А внизу, через черную реку, поминутно озаряемую вспышками взрывов, шли густой массой по бревенчатому скрипящему мосту тысячи людей, таких же неудержимых, деловитых и скромных, как тот рыжий, спасший батарею, фейерверкер на громадном коне…
На разных берегах
Мы стояли на разных берегах.
«Наши» — на сером низменном поросшем побитым снарядами, хилым и высохшим кустарником; «они» — на противоположном несколько более возвышенном, но тоже печальном и однообразном.
«Они» глядели на нас через бруствера своих глубоких траншей, вырытых уже давно, когда земля была еще теплая и рыхлая, а кусты зеленые и пышные, а мы ютились или в мелких окопах или прямо на земле, так как она затвердела уже от морозов и не поддавалась ни лопате, ни кирке.
Нас разделяла серая, свинцовая холодная полоса воды…
Еще неделю тому назад, когда мы заняли позиции на этом берегу, капитан передавая мне свой бинокль — мой я разбил еще в конце ноября, — указывал на противоположный берег, говоря:
— Видите темные кучки и серые полоски, это их окопы… они уже давно вырыты, еще тогда, когда немцы шли к Варшаве… как видите, теперь они им пригодились… вон направо кустарник на опушке… видите?.. По всей вероятности там установлены их батареи…
Я переводил бинокль с одной точки берега на другую и действительно видел желтоватые полосы песчаника, вдоль вырытых окопов, темные кучки людей и, такой же убогий кустарник, как и на нашем берегу, за которым, вероятно, скрывались пушки…
Но вот три дня тому назад с утра пошел сперва дождь, потом мелкий снег, а к вечеру повалил крупными мокрыми и тяжелыми хлопьями… На следующее утро все было покрыто белым пушистым словно ватным покровом, исчезли и далекие кусты прикрывающие пушки и желтые полосы окопов, снег засыпал все; вчера же хватил жестокий мороз и по реке пошло сало…
Она стала еще спокойнее, еще невозмутимее и холоднее…
Сегодня утром Сорокоуменко принеся нам с капитаном в землянку чайник, весь черный от покрывавшей его копоти, сообщил, между прочим, что «немец пошевеливаться начал…»
— Кто же его знает, ваше благородие, что он себе в уме держит, может отступить решил, али какой другой маневр… кто его разберет…
Но мы хорошо знали какой «маневр держат немцы в уме»… Им надо было перейти реку, перейти во чтобы то ни стало, хотя бы ценой погубленных в ледяных волнах, под дождем наших пулеметов, дивизий, на этот «другой» берег, на «наш» берег, такой близкий и такой недосягаемый, отделенный глубокой, холодной и равнодушной стремниной реки.
Немцы пошевеливались…
Мы видели темные массы пехоты, передвигавшиеся с места на место, видели одиночных всадников, могли различить передовые цепи занимавшие ближайшие к берегу окопы и подходившие к ним подкрепления…
И вот гулко и значительно, как звонок к поднятию занавеса, прозвучал одинокий пушечный выстрел…
Огонек взорвавшейся гранаты взметнулся на белом снегу и черно-грязными показались клубы дыма рядом с ослепительно белым, переливавшимся алмазами, девственным снежным покровом…
Мы были уже давно готовы, когда нам передали приказание открыть огонь по кустарникам, откуда летела немецкая шрапнель.
Закутанные в башлыки «номера» уже стояли около орудий и, признаться, даже наскучило им бездействие, да и мороз хватал-за концы пальцев и заставлял перепрыгивать с ноги на ногу, чтобы хоть немного согреться. Дружно и охотно принялись за дело — одна за другой, словно спеша обогнать своими короткими выкриками друг друга, выстрелили подряд шесть пушек нашей батареи и уже черные еще дымящиеся их жерла поглотили новые заряды и снова с методической точностью злобно и коротко выплюнули их через реку на оживившийся и вспыхивающий огоньками выстрелов противоположный берег.
Капитан стоял у крайнего левого орудия и я видел, как выпрямившись во весь рост и даже приподнявшись немного на носки он не сводил бинокля с того места на неприятельском берегу, где предполагалась немецкая батарея… Но почти невыделяющиеся на белом фоне облепленные снегом кусты молчали, пока ближайшие немецкие цепи, осыпавшие наш берег ружейными пулями, не заняли прибрежной песчаной полосы и не окопались, приготовившись видимо прикрывать отсюда задуманную немцами переправу.
И только тогда раздались заглушенные расстоянием шесть орудийных выстрелов и с нарастающим воем понеслись и разорвались над нашими головами серовато-белые дымки шрапнели.
Этих шести коротких молниеносных вспышек было достаточно для капитана, не спускавшего глаз с подозрительных кустов, чтобы убедиться, что именно там, именно за этим прикрытием притаились немецкие пушки… Через минуту он уже суетился около орудий и следующая «очередь» разметала снег, вырвала с корнями обмерзший кустарник и оголила черные силуэты привычные нашему глазу — силуэты шести немецких гаубиц.
В полуверсте влево по берегу высилось одинокое строение с вырванными окнами разрушенной крышей и пробитыми в нескольких местах, видимо осколками гранат, стенами… На крыше или вернее на том, что осталось от крыши этого здания располагался наш наблюдательный пункт, связанный с батареей телефонной проволокой, вившейся едва заметной черной змейкой по засыпанному снегом скату берега; угадали ли немцы, что именно там находится наш наблюдатель или это случайность, но одна из первых очередей их гранат попала в покинутый полуразрушенный, но страшно важный для нас дом. Мы видели, как взметнулся столб пламени и окуталось дымом все строение; слышали как грохнули шесть, слившихся в один, выстрелов и были уверены, что теперь по нашей телефонной проволоке мы не получим уже ни одного известия — наш юный подпоручик наблюдатель и сидевший с ним на вышке телефонист несомненно были убиты этим вихрем стали, обрушившимся на них так внезапно и стремительно.
Я не знаю слова, я не имею подходящего в своем распоряжении выражения чтобы назвать им всю необычайную сложность и потрясающую неожиданность событий, следующих на войне с молниеносной беспорядочной последовательностью. Слова «ужас», «страх» — они не выразят, не передадут и сотой доли переживаний, которыми так обильна походная жизнь и которыми так щедро поле сражения.
Мы, например, называем ужасной смерть человека, случайно попавшего под колеса трамвая; можно ли тем же словом выразить чувства, испытываемые при виде этого грандиозного и великолепного торжества смерти, такого колоссального, такого потрясающего что своим величием, своей жестокостью, своей бесстыдной обнаженностью, оно придавливает как титаническим прессом сердце, заставляет сознание перестать работать и мозг отказаться от свойственной ему оценки переживаемых событий. Я уверен, что если бы с тем же милым и юным подпоручиком, которого мы успели так полюбить и к которому привязались за несколько месяцев совместной походной жизни, случилось бы где-нибудь в мирное время какое-нибудь несчастье, ну, например, вывихнул бы он себе ногу или же сломал руку сброшенный во время ученья строптивой лошадью, мы были бы глубоко потрясены и огорчены, но теперь, когда дело шло о не вывихнутой ноге и не о сломанной руке, когда чудовищная случайность в одно мгновение, «изъяла из обращения», именно «изъяла», просто неожиданно и равнодушно, нашего товарища, когда в одно мгновение не только от него, но даже, от всего дома, на крыше которого он находился, осталась только развороченная яма и груда разбитых опаленных кирпичей, мы остались убийственно равнодушны, мозг не воспринял совершившегося… задавленный, обездоленный и порабощенный кошмаром смерти переживаемым уже четвертый месяц.
Капитан только быстро как мячик отскочил от крайнего орудия подбежал по рыхлому снегу ко мне и стараясь перекричать гул канонады и гудение воющих в воздухе снарядов, закричал:
— Замените наблюдателя… возьмите телефониста… исправьте телефон… живее… мы пока будем обстреливать их батареи… Евсеенко — давай следующего телефониста… достать запасные части…
И ни слова — о погибших… Они были — их теперь нет… Они исполнили свой долг и теперь на смену погибшего телефониста, вызывался «следующий», на смену убитого подпоручика отправлялся следующий. Нам не удалось уже найти себе такой комфортабельный наблюдательный пункт, как предыдущий, разрушенный; нам пришлось довольствоваться высокой сосной, одевшейся уже в белую осыпанную серебром снежную фату и на вершину ее мы вскарабкались не без труда… царапая руки о холодные черные обледеневшие сучья, влача за собой разматывающуюся катушку телефонной проволоки. С вершины этой сосны как из верхних рядов сказочного амфитеатра я сделался свидетелем, вернее зрителем, развернувшейся панорамы сраженья… Правда сидеть на сосне в качестве наблюдателя было далеко небезопасно, немцы пытались нащупать новый наблюдательный пункт, чтобы разнести его точно также, как разнесли первый, но чувства страха, сознания опасности не было — оно тоже атрофировалось…
…Немцы уже наводили мосты… Справа и слева в полуверсте от нашей батареи на прибрежной полосе песка, покрытого затоптанным смешанным с грязью серым снегом, копошились десятки черных фигур около тупоносых шаланд-понтонов, которые одна за другой отплывали от берега, выстраиваясь цепью и быстро соединяясь между собой легкими досчатыми мостками. Теперь были две цели: одни батареи громили наводимые мосты, а другие, пользуясь указаниями своих наблюдателей, осыпали шрапнелью скрывавшиеся на опушке леса колонны предназначенной для переправы свежей немецкой пехоты… Снаряды, направляемые против мостов, падали в воду, взрывали высокие белые столбы пены, дробили тонкий лед, рассыпавшийся хрустальным фейерверком сверкающих осколков, били в мосты, опрокидывали шаланды, но немцы с упрямством людей, не видящих иного выхода, продолжали свои попытки и мосты все подвигались вперед, протягиваясь от противоположного берега к нашему…
Где-то внизу около самой воды залегли немецкие цепи и перестреливались с нашими, ружейная трескотня тонула в гуле орудийных залпов и перестреливающиеся редкие цепи солдат казались второстепенными, даже третьестепенными статистами в этом грандиозном необыкновенном спектакле… Вероятно, германская пехота, спрятанная у опушки ими, была достаточно расстроена, но вскоре пришло приказание всем батареям сосредоточить огонь на наводимых немцами мостах.
Трудно сказать, стало ли хуже немцам от того, что на них вместо двадцати четырех орудийных жерлов теперь глядело сорок восемь — эти люди вступившие на зыбкие, качающиеся на волнах взбудораженной реки понтоны, эти люди, напиравшие сплошной массой на идущих впереди — не имели отступления; это были обреченные и им было все равно, как гибнуть, если бы не было возможности достигнуть заветного берега и вступить ногой на его твердь…
С высоты своей ели мы оба, я и мой телефонист, наблюдали с бьющимися сердцами и перехваченным дыханием за творившимися на реке ужасом… Мы видели, как вдруг дождь огненных взрывов посыпался на оба моста, запруженные людьми, как гранаты вырывали из этой массы сразу бреши в 10–12 человек, как наклонясь к воде черпая бортами тонули пробитые понтоны и как вместе с ними барахтаясь в ледяной воде и отталкивая от себя льдины шли ко дну солдаты в остроконечных касках… Мы видели, как вдруг правый мост, доведенный уже постройкой до половины, вдруг почему-то оторвался от противоположного берега и в составе четырех понтонов, соединенных мостками и нагруженных людьми кинулся по течению вниз, дефилируя в своем страшном шествий мимо всех наших батарей… Мы видели, как направленная в него, в этот пловучий густо-населенный островок, очередь гранат раздробила его на три части, потом на четыре и эти осколки делясь все на более и более мелкие и наконец превратившись в множество одиноких человеческих голов то скрывавшихся, то снова появлявшихся над водой, погибали в холодной стремнине отделявшей нас от неприятеля реки…
Нам казалось, что мы слышали крики этих людей, но мы не могли их слышать… Мы проследили всю драму до конца, до последнего акта, до эпилога, до финала, до страшного конца, когда разбитые мосты исчезли под ползущим по реке сплошной массой льдом, когда умолкли немецкие батареи и стрелки, засевшие в окопах на самом берегу, поспешно повылезали из них, чтобы присоединиться к убегавшим назад разбитым и расстроенным неприятельским дивизиям…
Они бежали от реки, которую пытались перейти, которую им «надо» было во что бы то ни стало перейти, которая отделяла их от заветного «нашего» берега, такого близкого и недосягаемого своей глубокой холодной и равнодушной стремниной.
Они убегали, оставляя на белом фоне снежного поля массы черных пятен, зловещих пятен — трупов людей, принесенных в жертву этой безумной попытке.
И когда наступил вечер, успокоились оба берега, спустилась морозная зимняя ночь, пошел снег сухой, легкий и покрыл тонким белым погребальным саваном тела неприятельских солдат, черневшие на противоположном берегу…
Когда рассвело и взошло холодное красное зимнее солнце, мы их уже не видели… зима их похоронила.
Денщик Харзюк
Поезд стоял.
В купэ было темно — едва мерцал огарок за закоптевшим стеклом фонаря.
Первое, что я увидел, проснувшись, это — темную молчаливую фигуру, стоявшую неподвижно в дверях…
— Что тебе?
— К вашему благородию! — ответил солдат негромко.
— В чем дело?
— Так что приставлен к вашему благородию для услужения…
— Ага, хорошо, твоя как фамилия?
— Рядовой Харзюк, ваше благородие.
— Харзюк?! А какой ты губернии?
Солдат вдруг сбросил маску официальности, он отставил в сторону ногу и, осклабившись произнес:
— Псковские мы-то…
Сказано это было таким тоном, точно в известии о том, что он псковской губернии, для меня заключалось что-нибудь особенно радостное и веселое…
— Ну, ладно, Харзюк, будешь моим денщиком, пока приди утром взять сапоги почистить. Понял?..
— Как не понять, ваше благородие, — ухмыльнулся Харзюк, — разрешите идтить?..
— Иди.
Харзюк исчез, но через минуту опять просунул в дверь свою белобрысую голову и задал традиционный излюбленный вопрос всех денщиков:
— Не прикажете ли кипяточку, ваше благородие?..
Мы ехали уже восьмой день. Уже восьмой день катались по рельсам, Бог весть куда, бесконечная вереница красных вагонов, наполненных людьми и лошадьми, платформ, нагруженных повозками, походными кухнями и лазаретными линейками, с одним единственным, словно случайно попавшим сюда классным вагоном посредине, в котором восьмой день томились от бездействия и ожидания, человек двадцать офицеров.
«Куда ехали», в широком смысле этого слова, конечно, не могло быть и вопроса — ехали на войну, но в каком именно пункте высадимся, с какого момента начнется, собственно, эта «война», для полка, выступившего со своей мирной стоянки — никто не знал и даже не мог предположить: на каждой станции комендант в красной фуражке давал новое направление, поезд передавали с одной железной дороги на другую, и мы, в конце концов, совсем запутались в своих предположениях.
Солдаты относились к этой неизвестности более хладнокровно…
Долгие дни, пока катился поезд в неведомую даль, они сидели у открытых громадных дверей вагонов, свесив наружу ноги, или спали на нарах.
На маленьких остановках стремительно кидались из вагонов к кубам с кипятком, гремя манерками, чайниками и громадными взводными чайниками, обшитыми войлоком.
У торговцев и торговок с шутками, перебранкой и толкотней торговали баранки, яблоки, колбасу и зеленые груши, читали старые газеты, пели песни под гармонику и бесконечно пили чай, словом, жили так, как умеет жить только русский солдат, так быстро и легко приноровляющийся ко всякой обстановке.
Харзюк ехал в соседнем с офицерами вагоне. Утром еще сквозь сон я слышал, как за время остановки он, стараясь осторожно ступать тяжелыми сапогами, заходил в вагон за чайником и одеждой, и как на следующей остановке приносил все обратно.
Лежа на диване, я видел снизу, как он копошился, заваривая чай, как старался чисто вымыть стакан, глядел сквозь стекло на свет и стирал пятнышки внутри собственным пальцем.
Среди дня я раз шесть или семь, слышал неизменное: «ваше благородие, не прикажете ли кипяточку?» — и Харзюк появлялся в дверях улыбающийся с жестяным чайником в руке.
Наконец, наше бесконечное путешествие окончилось совершенно внезапно…
Около часу ночи в нашем вагоне, где все уже крепко спали, раздались голоса:
— Вставайте, господа, вставайте, господа, приехали…
Это был дежурный офицер…
— Что такое?.. Куда приехали?.. — раздались кругом голоса проснувшихся.
— Что это за город?..
За окнами было совсем светло, вся платформа была залита белым светом матовых электрических шаров, белел большой вокзал с вывеской «Люблин».
— Вылазить пора… ваше б-дие… — расталкивал меня Харзюк, каким-то образом успевший оказаться уже в вагоне и при том в полной амуниции…
Он суетился около чемоданов и мешал всем в узком проходе тесного вагона…
Только теперь все оценили комфорт восьмидневного путешествия в превосходном вагоне, обедов на вокзалах или ресторанах больших городов, теперь, когда за окнами была холодная августовская ночь, когда предстояло, быть может, еще множество раз ночевать на мокрой, ледяной траве, на песке, влажном от дождя, на снегу, прямо разостлав плащ и засунув руки в рукава шинели…
Но на вокзале уже проиграли сбор…
Из вагонов давно вышли все, заспанные, серьезные; эти люди в куцых шинелях строились в шеренги, взбрасывали на плечо винтовки и один за другим взводы исчезали в белесоватом тумане поднявшейся тяжелой, влажной пыли…
Солдаты снимали фуражки, крестились и с сосредоточенными лицами вмешивались в это месиво людей, коней и повозок…
Поход начался…
Шагая целыми днями по дорогам мимо деревень, лесов, болот и скал, останавливаясь для обеда прямо в поле и ночуя в палатках на плаще, или прямо на сеновале у крестьян, мы быстро привыкли к этим особенностям походной жизни, и они приобрели для нас даже особенную прелесть…
Едва рота останавливалась и ружья составлялись в козлы, как солдатики, посбрасывав с себя амуницию, начинали рыть шанцевыми лопатками неглубокие канавки, затем вырубались две рогатки, ставились они по обе стороны канавки, на них клалась толстая перекладина, на которую подвешивалась дюжина солдатских котелков.
В котелках варился картофель или кипятился чай…
Харзюк оказался человеком с исключительными кулинарными способностями…
О питании офицеров никто не заботился, кухня собрания где-то отстала очень далеко, а потому о своем пропитании нам приходилось заботиться самим… С общего согласия решено было поручить провиантскую часть Харзюку.
Для первого же дня Харзюк подал нам прекрасный суп из курицы с разной зеленью.
Он каждый день изобретал новые блюда: то шашлык, приготовленный из простого мяса, зажаренного на штыке, как на вертеле, то компот из груш, сваренный почти без сахара, словом, Харзюк всеми силами старался угодит нам и поддержать свою репутацию опытного повара.
Таким образом, питаясь изделиями нашего старательного Харзюка, мы не могли жаловаться на отсутствие разнообразия кушанья.
На маленьких привалах, когда не расставляли палаток и даже не составляли ружей, Харзюк прибегал ко мне с маленьким саквояжем, который он называл «цымоданчиком» и в котором заключалось все наше хозяйство.
— Не прикажете ли кипяточку, ваше благородие, — раздавалось обычное предложение.
Между тем мы все двигались вперед и вперед, к тем полям, возвращаясь с которых, давно попадались к нам навстречу вереницы подвод, нагруженных солдатами с серыми лицами и забинтованными руками, ногами или головами…
Харзюк всегда следовал в обозе; как и, вообще, всякий русский денщик, он проникнулся мыслью, что «багаж его благородия» самое священное для него, а потому, шагая рядом с ротной двуколкой, он не спускал глаз с моего вьюка и при каждом удобном случае приносил мне в роту «цымоданчик». Когда вы разбирались в «цымоданчике», наибольший восторг в нем вызывал карманный электрический фонарик с белым и зеленым огнем. Его очень занимало, как от нажатия кнопки, вспыхивал огонек и как он так же быстро гаснул…
— Занятная штука, ваше благородие, до чего только люди не додумаются, — говорил он мне часто, особенно по вечерам, наливая чай и освещая чайник то белым, то зеленым огнем.
И вот мы приняли боевое крещение, окунулись в тот огонь, из которого люди выходят обожженные, с закаленным сердцем и обращенной к Богу душой. Весь день мы были в деле и не было времени думать ни о еде, ни об отдыхе: громадность и острота новых ощущений заставили забыть все.
Обоз остался где-то позади, верстах в пяти, вместе с Харзюком и его «цымоданчиком».
На следующее утро я был в госпитале, верстах в 12 от занятой нами накануне деревни, я лежал в чистом белье, на чистых простынях и после трехнедельного спанья, не раздеваясь, где попало и как попало, было неизъяснимо хорошо в этой обстановке покоя и уюта.
Совершенно неожиданно показалась в дверях солдатская голова…
— Харзюк! Ты откуда, братец! — изумился и обрадовался я…
— Здравия желаем, ваше благородие! — осклабился Харзюк. — Насилу нашел вас…
— Да как же ты нашел?
Харзюк начал рассказывать какую-то чрезвычайно запутанную историю поисков, но заключил по обыкновению:
— Не прикажете ли, ваше благородие кипяточку?
И я увидел в его руках знаменитый «цымоданчик»…
Милый Харзюк! Как искренно счастлив был я увидеть его после всех ужасов и треволнений предыдущего дня, обычно спокойным и уравновешенным, как всегда, заботливого и веселого…
— Харзюк, пойди поцелуй меня!
Харзюк, сконфуженно улыбаясь и ступая на цыпочках своими громадными сапогами, подошел к кровати и осторожно приложился к щеке «его благородия»..
Я знал, что меня эвакуируют. Чем мог я отблагодарить Харзюка за его верную службу, деньги и ценности — все пропало!
Уезжая, я подарил ему «цымоданчик» со всем его содержимым… Солдат благодарил, но мялся…
— В чем дело, Харзюк?
— Да как же фонарик, ваше благородие, там ведь он… — и Харзюк кивнул на саквояж.
— И фонарик возьми себе.
Харзюк ничего не мог ответить от волнения; его лицо просияло, как солнце…
В этот день он был, действительно, счастлив…
«Невозможного нет»…
Наконец-то, выпал снег…
Наскучила распутица, надоели дороги, грязные, размякшие от дождей, утомились люди, вытаскивая на себе орудия и передки, когда даже шесть лошадей не в силах были этого сделать… И вот, наконец, выпал снег, закруглились в воздухе крупные белые хлопья, быстро побелели поля, хватило морозом за ночь, а на утро уже дорога стала твердой, хотя и неровной, грязь замерзла и по ней весело было шагать, притоптывая тяжелыми сапогами, а колеса артиллерии и обозов катились легко и без особого усилия со стороны лошадей…
Солдаты были рады русскому морозу, бодрящему и заставлявшему живее шевелиться…
— Ото, братцы, дело!.. Без зимы никак невозможно!.. Теперича немец, ежели он санями да полушубками не запасся, пропадет! Как есть пропадет!.. — перекликались солдаты.
За пригорком, в поле, шагах в пятистах, влево от дороги, располагалась деревня, давно покинутая жителями, половина ее сгорела, а другую половину каким-то чудом пощадил огонь. Покинутые дома чернели грустно и одиноко на светлом фоне холодного зимнего неба.
Здесь было решено сделать большой привал и покормить людей. Солдаты заволновались, составив ружья и сложив на землю амуницию, стали готовиться к обеду; доставали из-за голенищ деревянные ложки, вытирали их, в ожидании пока вскипит обед и начнут выдавать густые и жирные солдатские щи.
Офицеры расположились в стороне, на крыльце какой-то черной избы, и перед ними стоял такой же солдатский котелок с теми же щами: устроить себе какой-нибудь особенный обед уже давно было невозможно в этой, разоренной ураганом войны, местности.
Батальонный командир, когда обед кончился, когда отдали в роту опустевший котелок и денщики убрали ложки и остатки хлеба, отвел поручика в сторону и, взобравшись с ним на пологий, высокий ледник, указал ему далекую возвышенность, белевшую верстах в восьми на юге…
— Вы видите, поручик, этот холм? Дороги к нему нет, но можно пройти через поле, тем более, что теперь все болота позамерзли… Отсюда будет не больше десяти верст, но мне бы очень хотелось, чтобы эта господствующая возвышенность была занята нашими, и мы бы не рисковали увидеть на ней противника… Вы понимаете в чем дело?.. Я попрошу вас взять нашу полуроту и отправиться прямо через поле, вон через те кустарники, занять эту возвышенность и уже оттуда прислать ко мне ординарца… На пути вы, наверное, встретите речонку, — я забыл ее название, — но это неважно… Речонка неширокая, да к тому же и мост на ней цел, это я наверное знаю, немцы еще не успели там побывать… Так вот, значит, как люди немножко отдохнут, так и выступайте с Богом!..
Поручик откланялся и, взглянув еще раз на далекие белевшие холмы, спустился с ледника…
Через час уже они шли через широкое белое, твердое, промерзшее поле прямо к указанным батальонным командиром возвышенностям… Приходилось перебираться через канавы, перелезать через плетни и пробираться через жесткий, густой и колючий кустарник…
Болота подмерзли, они словно подернулись тонкой слюдой, но на вид такая хрупкая эта прозрачная пленка была тверда, как толстое зеркало, и люди шли по ней свободно, не боясь провалиться…
Скользя и хватаясь руками за колючие, жесткие кусты, солдаты спускались вниз с откоса к серой, как свинец, и холодной реке… Она была неширока, но удивленью и гневу поручика не было границ, когда он увидел, что вместо моста остались только обломки свай, а во всю ширину реки от берега и до берега шел, то крупными глыбами, то прозрачной колышащейся массой мелких кристаллов, лед…
— Вот тебе и мост, — сказал фельдфебель, тщательно осмотрев остатки свай около берега, — это уже не немцев работа!..
— Я совсем упустил из виду, что лед идет, и что льдом, конечно, снесло мост!.. Вот так оказия! — поручик в недоумении остановился около самой воды…
Фельдфебель еще раз прошелся вдоль берега, но ничего утешительного не сообщил:
— Так что, ваше благородие, ничего невозможно сделать, как есть весь мост разломало, ни единой дощечки не оставило… опять же и обход нельзя делать: теперича, если где и были мосты, так их льдом давно унесло.
Положение, действительно, было затруднительное. Поручик в раздумьи похаживал по берегу и искал выхода: возвышенность необходимо было занять — он понимал важность этого акта — ни на какие мосты нельзя было уже надеяться, оставался один способ, это переправа в брод, но, прежде чем решиться на это отчаянное средство, поручик несколько минут колебался, учитывая и холод ледяной воды, и идущий сплошной массой лед, и глубину довольно быстрой реки…
Это отчаянное решение подсказал ему случайно один из солдат, проворчавший, быть может, сам за себя, а, может быть, для своего соседа:
— Чего там канителиться, коли неважно — назад пойтить, а коли важно — так и ждать нечего, вали в брод и все тут… небось, не сахарные, не растаем!..
Случайно услышав эти слова, поручик решился: он скомандовал твердым голосом, словно он ни одной минуты не сомневался принять или не принять это решение, и, скомандовав, сам первый вошел в холодную воду, охватившую его неразрывным ледяным кольцом… Он оглянулся на одну минуту и, увидев, что за ним последовали все, что солдаты друг за другом спускались с берега в свинцовую реку, он уже больше не поворачивал головы, а шел прямо и смело, погружаясь все глубже и глубже и чувствуя убегающее под ногами дно… Это были страшные минуты: казалось, что вот-вот дно уйдет из-под ног, что потеряешь точку опоры и закружишься, понесешься вместе со льдинами в быстром течении; громадные льдины, напиравшие со всех сторон, грозили ежеминутно раздавить голову человека, одиноко торчавшую из воды, и стоило больших трудов оттолкнуть их от себя и требовало громадного внимания постоянно следить за их быстрым бегом…
Когда поручик выбрался на противоположный берег, его тело закостенело от холода, с одежды потоками лила вода и, стоя на прибрежном песку он глядел на поверхность реки, усеянную черными точками пробиравшихся между льдами солдат. Все существо его было полно одного страстного желания, одной мольбы ко Всевышнему, чтобы он сохранил этих людей, чтобы он дал им всем достигнуть песчаного откоса, над которым возвышалась заветная гора!.. С берега поручик видел как один низкорослый солдат захлебнулся посредине реки и исчез на минуту, на одно мгновение он чуть не потерял сознания от ужаса, от бессилия помочь ему, но тотчас же шедший позади громадный правофланговый бородач наклонился в воду и вытащил за воротник утопавшего… сделал он это просто, быстро и с деловитым спокойствием человека, совершающего свою привычную ежедневную работу.
И вот, наконец, они все выбрались на противоположный берег, отряхиваясь, как утки, и отфыркиваясь от набравшейся воды…
Чтобы согреться, они вместе с поручиком пробежали бегом полторы версты, отделявшие возвышенность от реки, и заняли ее в ту самую минуту, когда батальонный командир, задержав движение колонны, отыскивал в бинокль с беспокойством их темные силуэты!..
Черные точки солдат замелькали на белом фоне склона и подполковник, зная, что сейчас прискачет ординарец, облегченно вздохнул и приказал сделать маленький привал!..
В огне
Ранним утром, почти ночью, едва начало светлеть небо на востоке, приказано было снимать палатки. Около походных кухонь суетились солдаты с чайниками и котелками…
Вчера вечером, когда пили чай в отведенном для офицеров сарае, ротный командир, добродушный полный капитан, участник японской войны, пророческим тоном заметил:
— Завтра, наверно, будет бой…
И короткое слово «бой» наполнило душу каким-то странным трепетом и, вместе с тем, страстным желанием поскорее разгадать его, увидеть воочию, пережить и перечувствовать.
По бесконечно-длинной, протянувшейся между полями, белой дороге, ползла в неустанном движении живая стройная масса — полоса людей. Отряд пехоты, длинная вереница артиллерийских орудий и зарядных ящиков, опять пехота, много пехоты, по бокам разъезды казаков и, наконец, длинная цепь двуколок, повозок и походных кухонь… И вся эта масса людей, лошадей, железа, стали и пороха медленно, но неудержимо двигалась вперед навстречу незримому врагу.
Около полудня сделали привал…
Солдаты расположились по обе стороны дороги. Истомленные переходом они снимали скатки, вещевые метки и дремали тут же под палящими лучами летнего солнца.
Острота мысли о близком бое уже не внушала трепета, шли спокойные и беззаботные, так же, как совершали переходы на маневрах и, когда на синем фоне неба вдруг вырисовался силуэт громадной белой сигары Цеппелина, встретили его скорее с любопытством, чем с волнением.
Стрелять было бесполезно… Слишком высоко парил этот воздушный корабль, медленно подвигавшийся вдоль нашего фронта…
После обеда опять шли вперед по той же пыльной и вьющейся среди полей дороге и вдруг случилось событие, само по себе прошедшее почти незамеченым, но послужившее началом целого ряда крупных и значительных!
Мы все ждали того момента, когда от похода, так сказать, мирного, — переступим грань и начнется то, что капитан разумел под коротким словом «бой»; ждали и совсем не заметили вдруг развернувшихся в небе высоко, высоко и в стороне белых клубков рвущейся шрапнели.
Это были первые предвестники начинающегося боя. Цеппелин плавно и равнодушно уходил на юг, а белые клубки все чаще и чаще рвались в небе, но совсем в стороне и для нас были безопасны. Солдаты даже подшучивали над ними…
У поворота дороги на холме высился деревянный простой, — сажени в полторы, — крест… Дальше тянулся лес, слева раскинулось село, а за лесом, как потом оказалось, поле и деревня, в которой засел неприятель.
Проходя мимо креста, так странно и неожиданно воздвигнутого в поле, мы почти не замечали его, но несколькими часами позже, когда за лесом заревели пушки и пашня превратилась в поле битвы, этот крест высился над всем, как бы благословляя умирающих и внушая бодрость уцелевшим.
За возвышенностью, в деревне, где расположился неприятель, было тихо… Затихло все и у нас, как перед грозой… Жаркий был день, млела природа, жужжали комары…
И вдруг твердо, громко и решительно грянули восемь выстрелов нашей батареи, загудели и завыли в воздухе удаляющиеся снаряды и методично, через ровные промежутки времени, разорвались где-то далеко глухими ударами.
Сейчас же, словно в ответ, раздались далекие орудийные выстрелы и завыла отвратительным воем приближающаяся шрапнель. Несколько томительных секунд, и взрывая и разбрасывая землю в клубья черноватого дыма и пламени, с грохотом разорвались позади нашей батареи австрийские снаряды.
Опять в ответ восемь вспышек пламени и восемь выстрелов. Опять восемь клубочков белого дыма и восемь ответных снарядов…
Страшный разговор при помощи стали и пороха!..
В эти минуты страху не было вовсе: мы с восхищением наблюдали результаты меткой и спокойной стрельбы нашей артиллерии и, когда из-за возвышенности потянулся дымок загоревшейся от наших выстрелов деревни и с заглушенным расстоянием грохотом взорвались разбитые снарядами австрийские зарядные ящики, вспыхнувшее в батарее «ура» пробежало по цепи и зашумел лес от единодушного и могучего крика восторга.
Батарея сделала свое дело. Деревня загорелась, австрийские орудия замолчали, и теперь затрещали ружейные выстрелы засевших в окопах австрийцев по нашим приближающимся цепям.
Помню, как сейчас, в центре нашего расположения, посреди поляны, стояло одинокое грушевое дерево и, пока переговаривалась наша и австрийская батареи, пока рвалась над нашими головами шрапнель, солдатики трясли ее поочередно и набивали карманы грушами; помню как бесстрашно и спокойно, пользуясь временным бездействием, бегали они во двор покинутой фермы за водой, как перекликались и острили по поводу каждого неприятельского снаряда, давшего перелет или разорвавшегося слишком высоко. Вряд ли таким же спокойствием и бодростью духа могут похвастать наши противники…
Скоро нас двинули в общую цепь.
Бой уже разгорался… Трескотня ружейных выстрелов, прерываемая гулкими ударами разрывающихся снарядов, разрасталась… Пули жужжали, ударяли в стволы деревьев, с шумом сбивали листья и ломали ветки и иногда ударяли в людей бесшумно и незаметно… Тогда кто-нибудь без стона, без жалобы, вдруг делал резкое движение, оставляя на минуту винтовку… Простреленные руки и ноги не отвлекали внимания наших солдатиков; рука перетягивалась туго повыше раны, нога наскоро забинтовывалась при помощи индивидуального пакета, и снова бралась в руки винтовка, как ни в чем не бывало.
Медленно, но неуклонно, цепи подвигались вперед… Я не могу сказать, чтобы, впервые попадая в огонь противника, сражающийся не испытывал бы страха… Это было бы неправдой… Страх, который испытывают, вероятно, все, острый, но короткий, проходит быстро и сменяется каким-то громадным необъяснимым подъемом, который уже не сломит никакая опасность!..
Лежать сзади цепи невозможно; как то стыдно за свое бездействие и хочется принять участие в бою непосредственно, и взяв у раненого солдата винтовку, обыкновенно офицеры сами ложатся в цепь… Тут уже забываешь и опасность, и пули, и все окружающее, остается только далекая мишень, то появляющаяся, то скрывающаяся…
Пришлось выдержать кавалерийскую атаку… От опушки вдруг отделились конные фигуры гусар в ярких костюмах, красных рейтузах и красных шапках, проскакали они шагов 500, но в шагах 400 от нашей пехоты, открывшей дружный, частый огонь, австрийские гусары повернули коней и поспешно врассыпную ускакали обратно в лес…
«Не выдержал… ускакал… где ему!..» — перекликались в окопах солдатики, заряжая винтовки…
Так же неудачно пытались гусары еще два раза атаковать нас и так же поспешно улепетывали в лес, а между тем на правом фланге все еще ревели пушки и дым над селом уже валил черный, густой и застилал садившееся солнце…
«Баню затопили… теперь мыться пойдем!», — острили солдаты, не терявшие жизнерадостного настроения… И действительно «затопили» сильно… Вскоре загорелось второе село, за ним соседнее, и громадные костры озаряли всю громадную площадь поля сражения.
Сближение шло как-то незаметно, хотя и на самом деле двигались мы медленно, но время летело быстро и, когда сама собою назрела необходимость штыкового удара, когда нервы достигли высшего напряжения, я не помню мгновенья, как все мы встали во весь рост и бросились вперед увлекаемые стихийной, неведомой силой…
В порыве азарта я не замечал бегущих рядом со мною людей, не обращал внимания на трупы, о которые спотыкался и через которые перескакивал, и сознание мое лишь ярко прорезала одна мысль: «пулемет!», когда вдали затрещало, то с перерывами, то долгой неумолкающей дробью, что-то незримое, но несущее смерть!..
Люди падали!.. Падало их много, скошенные огнем пулеметов, но человеческая лавина, неудержимая и стремительная, уже не могла быть удержанной, она вкатилась, сокрушая все и вся, в окопы австрийцев, заваленные грудами тел в сине-серых мундирах, разлилась по улицам пылающей деревни и не было препятствий этим серым однотонно одетым солдатам, достигавших врага всюду своими ужасными штыками.
Из открытых окон домов сыпался град пуль спрятанных в комнатах пулеметов, над головами выла и рвалась шрапнель, по разоренной улице в бешеном вихре неслись австрийцы, настигаемые нашими солдатами.
Когда, бросив шашку и вынув револьвер, я выстрелил прямо в бежавшего мне наперерез австрийского унтер-офицера, австриец, схватившись за лицо, упал как-то нелепо набок и начал странно дергать ногой. Крики и ругань солдат, вытаскивавших из избы отбитый у врагов пулемет, отвлекли меня от созерцания умирающего… Сумерки уже спустились, но было светло!.. Четыре деревни, четыре пылающие факела заливали небо золотым пурпуром.
Сзади из леса поспевала наша пехота и выезжала на новую позицию, грохоча колесами, артиллерия… Неприятель отступал, а его батареи прикрывали бегство, засыпая разоренную деревню дождем шрапнели… Мы миновали мост через высохшую речонку и начали приводить в порядок роту, когда подброшенный какой-то силой в бок и вверх, я вдруг перестал видеть избы и дорогу; в поле зрения еще несколько секунд оставалось темно-багровое небо с седыми полосами ползущего вверх дыма… После тяжелый туман начал давить голову, казалось уходило все, и силы и самая жизнь… Не вспоминалось ни прошлой жизни, ни милых лиц, а почему-то в память пришел одинокий, высокостоящий под долиной, простой деревянный крест!..
* * *
Пробуждение в госпитале было полно тихой молитвенной радости. Пережитое кажется теперь сном, но не сном внушающим ужас; пойти второй раз в «бой», я уверен, уже легче, потому что это короткое, страшное для непосвященного слово уже разгадано и утратило свою пугающую таинственность.
После боя
Последним звеном внезапно оборвавшейся цепи исключительных переживаний и необыкновенно острых ощущений был отдаленный сперва, приближающийся вой снаряда, быстрый, тупой и стремительный удар в голову и грохот разорвавшейся позади шрапнели.
С этого момента стройкой последовательности впечатлений уже не было, ее сменили какие-то обрывки воспоминаний, разрозненные и незначительные, как отдельные стекляшки разбитого калейдоскопа… Но серый тяжелый туман, давивший голову все сильнее и сильнее, скоро заволок все своим липким и дурманящим, как хлороформом, покрывалом, — не стало ни мысли, ни боли, ни сожаления, сошла ночь непроглядная и благотворная…
Когда я очнулся, была действительно ночь… Прямо надо мной чернел бездонный полог неба и мелкий дождь назойливый и холодный давно превратил дорогу в глиняную кашу.
Воздух был спокоен… гул орудий умолк, ружейной трескотни не было уже слышно и только тлели развалины домов, спаленной нашей артиллерией, деревни.
Первое впечатление было холод, и только холод, заставивший стучать зубы, хотя глина, на которой я лежал, была тепла, как хорошо нагретая постель… Дождь давно промочил тонкий китель и рейтузы, холодные струйки бежали по телу, встать же было немыслимо самому: мучительно начинала ныть нога и в голове, тяжелой и опухшей с одной стороны, гудело, свистело и грохотало что-то, как на поле боя во время канонады.
И лежа все так же на спине, в колее глинистой дороги, я видел в обе стороны от себя обгоревшие черные или еще догоравшие развалины домов с торчащими черными трубами, в канаве слева почему-то походную кухню, повалившуюся на один бок, а кругом на улице, в отдалении и рядом со мною, десятки человеческих тел, частью живых, стонущих и пытающихся поползти, частью уже мертвых или убитых, сразу разбросанных случаем в самых неожиданных и странных позах.
Рукой слева от себя я тотчас же нащупал свой же потерянный револьвер и еще какой-то странный предмет, который потом оказался австрийским потайным фонарем, справа же рука натолкнулась на лежащего совсем близко человека… Почувствовав руку вдруг увлажнившейся, я поднес ее к губам… Вкус был солоноватый и жидкость липкая, — несомненно кровь!..
Вспоминая теперь не без содрогания об этих минутах, я удивляюсь, что в то время ко всему этому относился как-то совсем безразлично и хладнокровно: отер руку о китель и попытался рассмотреть своего соседа…
Это был русский солдатик, совсем молодой, с курносым лицом деревенской девки; он был жив, по крайней мере щеки его судорожно вздрагивали.
Около него лежала винтовка с согнутым штыком, и солдатик впился в ее ремень темной от крови рукой…
Ранен был он, вероятно, в грудь, так как, когда я пробовал окликнуть его, он открыл глаза, но вместо слов из горла вырвалось лишь клокотание и хрип.
Теперь уже слух, немного привыкший к тишине, различал стоны и вздохи других раненых… Всмотревшись в темноту, я увидел около опрокинутой кухни сидевшего на краю канавы солдата…
Чувствуя невозможность встать и глубоко сожалея о теплом углублении в мокрой глине я все же пополз, медленно цепляясь руками за землю, пополз, к канаве к сидящему на краю солдату.
Во-первых, меня манил этот единственный бодрый человек, так прямо сидящий среди всей массы искалеченных и обессилевших людей, а во-вторых, вдруг в голову пришла страшная мысль: «Что если поедет артиллерия?…» Я лежал как раз в колее дороги, и остаться там заснуть, значит быть наверное раздавленным… И я пополз, напрягая все оставшиеся силы, к канаве, к фигуре солдата, неподвижной и словно задумавшейся…
Но доползая шагов десяти, я его окрикнул сперва тихо, потом громче… Мне хотелось услышать человеческий голос, связную речь… мучительно хотелось…
Но солдат не ответил, он все так же прямо сидел у колеса повозки… даже головы не повернул…
Я подполз ближе.
Коснулся его сапога, мокрого и холодного, и окликнул снова:
— Братец… а братец!..
Солдат молчал…
Тогда я коснулся его плеча… Солдат покачнулся и упал… Он был мертв!..
Невыразимый ужас вдруг охватил меня цепко и властно…
Последняя, как казалось, надежда рухнула, последняя возможность спасения, как думалось, исчезла!..
Обессиленный, я остался лежат около трупа упавшего солдата, открытые стеклянные глаза которого глядели вверх пристальным взглядом, в темное небо, из которого сыпались мелкие, колющие водяные капли…
— Они померли… ваше благородие, — услышал я вдруг голос тихий и кроткий, совсем близкий около себя из-под повозки… — Мы с ими вместе бежали… в шею их ранило… присели к колесу, да верно истекли кровью… перевязать-то я не смог… руки у меня ваше благородие… ру-у-уки!..
Невидимый солдат застонал… Как яркий свет, озарило меня радостнее чувство…
— Ты кто такой?..
— 6-й роты я ваше б-дие…
— А он…
— Фельдфебель наш… человек он ласковый был… царство ему небесное…
Солдат замолчал…
— Ты выползай сюда… — позвал я…
— Не могу я ваше б-дие… ру-уки у меня.
— Что такое?..
— Ру-уки у меня, говорю, разбило… о-обе…
— Погоди, я тебе помогу…
Я сполз вниз в канаву, нащупал воротник раненого солдата и отталкиваясь одной ногой, пополз, таща его за собою…
Через несколько минут мы уже лежали рядом в стороне от дороги и мой случайный товарищ протягивал мне фляжку…
— Испейте, ваше б-дие, — с ихнего убитого снял… водка не водка… а греет сильно…
В фляжке был коньяк… Как жидкое пламя разбежалась теплота по жилам, перестала казаться такой ледяной мокрая от дождя одежда, на душе стало светлее и радостнее…
Общими силами перевязали солдату руку, он ободрился, сперва сел, потом даже встал и прошелся вдоль по темной улице разоренной деревни…
В эту минуту я безумно боялся, чтобы он не ушел, я твердо верил, что он не способен на это, но, казалось, что, вернись он на минуту позже, чем я рассчитывал, сердце разорвалось бы от горя и ужаса…
А дождь все шел и шел… на живых, мертвых и раненых, и мой солдатик скоро вернулся.
— Ничего не видать, ваше б-дие… В поле будто ходят с фонарями… должно санитары, а кто их знает наши али ихние… опять же и далече… Пойти бы нам с вами отсюда, ваше бл-дие… место нехорошее… столько народу полегло… Помилуй, Господи…
Солдат перекрестился…
Село и громадное поле, темные и таинственные теперь, были полны тысячами, звуков… ужасных, холодящих кровь.
С громадным трудом поднялся я на ноги или вернее на одну ногу, охватил шею своего товарища одной рукой и, опираясь другой на винтовку, мы тронулись вперед наугад по мягкой глинистой разбухшей дороге…
Мой спутник осторожно нес, выставив вперед свои раненые руки, но зато его здоровые ноги прекрасно обходили препятствия и зоркие глаза глядели вперед…
Из села по дороге, заваленной опрокинутыми в канавы австрийскими повозками и трупами лошадей, мы вышли в поле, похожее на безграничный черный океан…
— Оно, конечно, ничего, — развлекал меня мой спутник разговорами, — ежели в руки… потому пуля не бомба… заживут, а вот как фельдфебеля, ваше бл-дие, в шею, так оно действительно… Опять же и вас в ногу, это тоже ничего… заживет нога-то… только потерпеть надобно… Господь-то больше нас терпел…
Его тихий говор ласкал меня, успокаивал боль, успокаивал нервы…
В темном поле двигались огоньки, словно фонари неведомых судов в океане… Это были санитары, но чьи?.. Мы этого не знали!..
Шли около часу уже, близок был темный бордюр леса, но кроме раненых и трупов мы не встречали никого…
Силы мои ослабели, нога ныла все хуже и хуже, голова тяжелела и клонилась на плечо моему спутнику.
Наконец, мы сели… оба истощенные, потерявшие надежду… Солдатик уже молчал и только вздыхал.
И вдруг, как радостный, прекрасный призыв к жизни откуда-то далеко послышался неясный гул и крики…
Сперва мы оба слушали, не зная, в чем дело, но предчувствуя что-то радостное…
— Никак артиллерия, ваше б-дие… — замирая от радости, пробормотал мой солдатик.
«Но чья?», — с ужасом подумал я в ответ.
Черная вереница батареи уже обозначилась на светлеющем фоне неба и вдруг, как звуки райской музыки, долетели до нас слова ругани, русской, родной, неподдельной…
Мы закричали оба… Что мы кричали, я не помню, но мы напрягали последние силы, кричали до потери сознания…
Батарея остановилась…
Подбежали люди в шинелях, спокойные, ласковые, подъехал высокий офицер в дождевике и посветил электрическим фонарем…
Как сквозь стену, словно издалека слышал я в тот момент, когда меня поднимали милые, заботливые солдатские руки на зарядный ящик, голос моего случайного товарища, говорившего полковнику.
— Я ничего, ваша б-дие, я могу идтить… Это вот их б-дие в ногу, значит, ранены, так им несподручно… а я ничего, я дойду…
Я больше его не встречал, но как бы я дал теперь дорого, чтобы пожать ему руку!..
Следующую ночь я был уже в лазарете…
Неизъяснимое наслаждение доставляло чистое белье, тишина и горячий чай…
У «сестры» были бесконечно добрые незабвенные глаза…
И в эту ночь мне снились сны волшебные, сны моего далекого детства, такие прекрасные и радостные, что запомнить их и передать невозможно…
КОНЕЦ








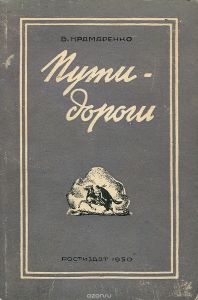
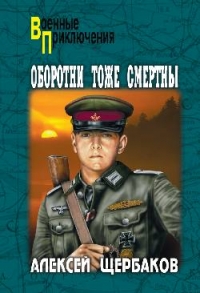


![Солдатский маршал [Журнальный вариант]](https://www.4italka.su/images/articles/528428/primary-medium.jpg)
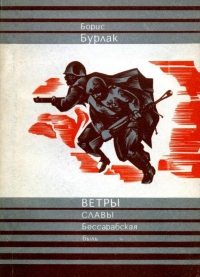
Комментарии к книге «Лицо войны», Вадим Михайлович Белов
Всего 0 комментариев