Жилюки
Книга первая ВЕЛИКАЯ ГЛУША
Чайка чаєняток на вечерю кличе.
— Де ви, мої діти? — жалібно кигиче. —
Сину, де ти? Доню, де ти?! —
Мовчать очерети.
Тільки вітер щось шепоче,
Мов сказати хоче:
— Діти твої, чайко, не твої вже діти,
Ти дала їм крила, щоб волю любити.
Розлетілися по світу — ні слова привіту.
Сині сльози, сиві коси впали на покоси…
Ой, не треба, чайко, плакати-ридати, —
Ще злетяться діти до рідної хати.
Из волынской народной песниРовное, укатанное возами, а изредка и машинами, шоссе тянулось длинной, широкой лентой, поднималось на холм, где среди зелени белел графский дом, а ему, Андрону, холера ясная, надо сворачивать. И так всю жизнь: кому мощеная, торная дорога, а кому пни да выбоины.
— Н-но! Оглядывайся…
Пузатая, облезлая кляча упиралась, настороженно пробовала копытом землю. Воз медленно скатился с насыпи, немного продвинулся и остановился: впереди — во всю колею — стояла лужа.
— А ну! — Андрон замахнулся и ударил по костлявой спине.
Лошаденка рванулась, вскочила в лужу — воз чуть не поплыл по мутной, поднятой колесами воде. Уже почти выйдя из воды, он обо что-то ударился, накренился… Андрон дернул вожжами, поднял кнут. В задке треснуло. Через минуту воз был на сухом, но без заднего колеса.
— А чтоб тебя вихрем унесло с твоими дорогами! — неизвестно кому посулил Андрон и принялся вытаскивать из грязи обод. Обод был покорежен, тоненькая шина лопнула. — Ну что теперь делать? — развел руками Андрон.
Оставленная без присмотра лошадь потянулась к траве, и он накинулся на нее.
— Тебе бы только все жрать, — саданул ее коленом под ребра. — Волки бы тебя съели. — Но выпряг, пустил попастись. — Что стоило объехать это проклятое место, — укорял себя, — так нет, поперся…
Сердито сплюнув, Андрон взял топор и отправился в ольшаник.
— Холера ясная! Себе наделали дорог — хоть боком катись, а тут ямки да переямки… А чьими руками все сделано? Людскими. На чьи средства? Тоже на людские, на мужицкие. Так это справедливо, скажите на милость?
Молодая, едва покрытая листьями ольха, которую он облюбовал, выгибалась, пружинила.
— Ну, ну, глупая, — приговаривал Андрон, — чего упираешься? Думаешь, мне тебя не жалко? Видишь, какая у меня морока.
Но дерево не поддавалось. Тогда Андрон скинул свитку, поплевал на ладони, тюкнул по тугому от сока стволу и уцепился за него обеими руками. По опушке разнесся печальный, похожий на скрип треск.
— Вас кругом вон еще сколько, — словно оправдывался Андрон, очищая ветки, — а мне надо как-нибудь доехать.
«Э! Одной, наверно, мало, не выдержит. Надо еще».
Срубив еще одну ольху и подтянув к возу, он стал прилаживать ее вместо колеса.
…К селу старый Жилюк подъехал в полдень. Чтобы хоть немножко сократить дорогу и не попасться на глаза сельским насмешникам, он решил проехать за гумнами. Когда-то там была дорога, и все, чтобы не тащиться через село, ездили по ней. А летом с поля или сенокоса, если, конечно, кто его имел, — тем более. Правда, в прошлом году, после того как кто-то задел скирды графского жита, управитель как будто закрыл дорогу. Но это было осенью.
Старый, как Андронова беда, воз едва покачивался на выбоинах. Худая конская спина курилась потом. Да и сам Андрон задыхался, идя рядом.
— Ну, ну, гнедая! — уже ласковее (хоть и незавидная, но все же лошадь) приговаривал он, а кое-когда и подсоблял скотине.
У поворота, словно кого поджидая, стоял постерунковый[1].
«Тебя, брехуна, только и не хватало, век бы не видеть твоей паршивой рожи!» — мысленно бранился Андрон. Но, проходя, поклонился, коснулся растрепанных волос.
— Плохо здороваешься, хлоп. Или, может, разучился? — послышалось сзади. — А ну, стой!
— Да видите, пан Постович, не до здорованья мне, — остановился Андрон.
Постерунковый обошел воз.
— А почему ездишь, где не дозволено?
— Откуда же мне знать, что там не дозволено? В прошлом году говорили…
— Панский указ один, что в прошлом году, что ныне! — рассвирепел Постович. — Три дня дорожных работ получишь, скотина!
— Побойтесь бога, пан Постович, ведь весна. Да и пока колесо еще справлю…
— Чтоб хорошенько запомнил, пся крев. — Короткая упругая лозина играла в руках стражника. — Да гляди, не вздумай хитрить — я старосте передам.
Постерунковый ушел, а Жилюк, подобрав вожжи, занукал дальше.
— Чтоб тебя три дня носило по болотам да пропастям, — ругался он, подъезжая к дому, — дух из тебя вон, собачий ты сын!
— Эй, Андрон! Кому это ты такие посулы шлешь? — спросил красный, словно жнец в полдень, Устим Гураль. Он стоял, опершись на плетень, и попыхивал трубкой.
— Да где же это видано, чтобы так издевались над человеком? — Радуясь случаю отвести душу (дома и слушать не будут, там свои заботы), Андрон взял поближе к тыну и забросил вожжи на колышек. — Обломался, видишь, в дороге. А он прицепился — куда едешь да зачем? Три дня дорожных работ накинул. Это как, по-твоему?
— Сервитут[2], — хитро прищурился Гураль. — Иль позабыл?
— Нельзя уже ни пройти, ни проехать… — продолжал Андрон. — Ну, погоди. Они думают, если Степана нет, так все сойдет.
— Уж ты и про Степана вспомнил?
— А как же, не отец я ему, что ли?
— Отчего ж, отец. Только…
— Нет, ты скажи, — перебил Андрон, — долго будут нас давить эти сервитуты?
— Пока не задавят.
— Дудки! Отольются волку овечьи слезки. Ох отольются!
— Не кричи, — Гураль оглянулся, — еще кто-нибудь услышит.
— Разве я не правду говорю?
— За такую правду люди кандалами звенят. Вот послушай лучше, что я тебе скажу.
Андрон взглянул выжидающе.
— Будто бы граф хочет открывать каменоломню.
— О-о! — не удержался от восторга Жилюк.
— Был сегодня у старосты — слышал. Словно бы дорогу до Глуши будут делать.
— Вон как! Что бы это могло значить?
— Захотелось панам нашего леса, вот что.
— Холера ясная! Мало они его уже свели? — И вдруг спохватился: — Но это же ведь работа? Свежая копейка в руки!
— Конечно, конечно. Поживем — увидим. — Гураль перешел на шепот: — А что касается сервитута, приходи, поговорим.
На том и порешили.
Дом Жилюка — за вербами. Деревья старые, накренившиеся, стволы уже мохом поросли. Между вербами — плетень, еще покойный отец поставил. Пора бы уже и обновить, уже и хворост нарублен, да разве из-за этой проклятой нищеты успеешь? Гоняешься за грошом, как нечистый за грешной душой. А что толку? Одна морока. Хоть бы и сегодня. Взял за клюкву, что отвез панам, два злотых с чем-то. Ну, скажем, три. Но, люди добрые! Ее почти неделю собирали по болотам, по воде. Еще неизвестно, каким боком это вылезет… А они — мелкая, мол, почернела! Пойди, найди лучшую, холера ясная… Три злотых… Обломался на добрых пять. Вот тебе и вся выгода!
В воротах стояла Текля. Худая, высохшая…
— О, уже стоит, высматривает! Сейчас начнет: почем продал, сколько взял? Все до грошика рассчитает, даром что неграмотная. И откуда это у баб такая сметливость на деньги? Э, да она как будто в новом платке! С чего бы это? Ах, проклятая баба! Седина в голову, а бес в ребро. Не молодость ли вспомнила?.. — Ты бы лучше лужу эту в канаву спустила, чем так стоять, — уколол жену Андрон, въезжая во двор.
— Суббота ведь, Андрон, воскресенье уже наступает.
— А я, по-твоему, еще и дома по лужам должен прыгать? Допрыгался вот.
— Чего в дороге не случается.
— Не случилось бы, если бы не твоя паршивая клюква.
— Это почему же? Сам ведь говорил: «Соберите, отвезу».
— Ну ладно. — Андрон начал выпрягать лошадь. — Иди приготовь поесть да забери лукошки.
Текля схватила пустые лукошки, метнулась в хату. «Не иначе как что-то замышляет, — глядя ей вслед, подумал Андрон, — а то с какого беса такая послушная сегодня?» Во двор вбежала девочка, запыхавшаяся, бледная.
— Татуня, привез гостинца?
Тупая боль ударила Андрона в сердце.
Пошарив в бездонных карманах, он достал два маленьких кусочка сахара — выпросил, когда угощали у панов чаем.
— На.
Девочка сдувала с кусочков пыль, по крошке откусывала сахар, сосала. И так была рада, таким счастьем светились глазенки, что у Андрона подступили к глазам слезы. С трудом проглотил тугой, давящий клубок, подкатившийся к горлу, сурово взглянул на покрытое грязью детское личико.
— Ты где это грязь месила?
— Гусей к речке гоняла, — мать велела.
— Хорошо. А теперь отведи вот лошадь, пусть попасется. Посмотри, где там трава получше.
— Я знаю.
Уцепилась за повод, потянула.
— Да не мешкай. Слышишь, Яринка?
Не отозвалась.
Разве для нее это впервые?
Текля подавала полдник, а сама боролась с мыслью: «Сказать или нет?» Сегодня двадцать пятая весна, как они с Андроном поженились. Не много, да и не мало. Сколько воды утекло! Постарели оба — и не узнать. Андрон весь поседел как лунь. О боже, боже! Тяжкая наша жизнь!
Вздохнула.
— Чего завздыхала?
— Так, что-то давит.
«А может, сказать?» Поставила миску с картошкой.
— Где взяла? — поднял муж голову.
— Да нигде, своей отобрала.
— Смотри! Что сажать будешь?
— Какой ты! Разве я ничего не помню? — И все-таки не удержалась: — Помнишь, Андрон…
Он широко раскрыл глаза.
— Весна тогда была поздняя, дождливая. А воды… Все плываки посносило.
Вот чертово семя! Хоть гром с неба, а ей все свое. То-то и вырядилась сегодня. Вспомнила баба, как девкой была! Да, пришлось тогда объезжать на Ратное, верст, наверно, с полсотни. А прямо ведь было рукой подать. Через речку… Два дня добирались. Сваты!
И все-таки сердце отмякло. Съел еще немножко картошки, запил терпким рассолом, положил ложку.
— К чему это ты?
— Двадцать пять годочков минуло…
Муж задумался. Сошлись тугие морщины. Вон где твои годы, Андрон. Твое здоровье. Уже пятьдесят, а пробежали, как воды в Припяти. И следа не оставили. Разве что мозоли кровавые да тоску безутешную, а больше ничего. Как начинал в бедности, так с ней и остался. Словно навеки обвенчался. Маешься от урожая до урожая. Как нищий, куску хлеба радуешься. И никому нет дела до того, как ты живешь, на что живешь. Только бы исправно платил подати, не бунтовал, не лез в политику. А еще лучше — если бы ты умер. Чтобы сразу взял и сгинул. Всем гнездом — от большого до малого, от малого до большого. Не снились бы тогда панам и осадникам страшные сны, не было бы этих границ тревожных, а была бы большая и могучая, «од можа до можа», Речь Посполитая…
— Ну, чего нос повесил?
В самом деле. Столько тех дум передумано, что диво, как голова до сих пор не треснула.
— Слышала? Пан каменоломню открывать хочет.
— Ну и что?
— То, что надо не прозевать.
— А дома как же?
— Одна обойдешься. Да и я, глядишь, на денек-другой оторвусь. А то какой от этого поля толк?
— Камнем тоже не насытишься.
— Попробовать можно. А не в лад — так и до свиданья.
— Да уж, — вздохнула Текля. «Вот тебе и двадцать пять весен, вот и порадовала мужа».
— Где же Андрей?
— Наверно, к учительнице пошел. Где же ему еще быть? Представление там какое-то готовят.
Благодаренье богу — все посадили. Словно бы хватило и семян и картошки. Хоть и мелкой, а все же засадили огород. Что-нибудь да вырастет.
Вырастет… Эхма! Пока что-то вырастет! А в глазах уже темнеет, ноги почти не носят.
Время перед новым урожаем. Село словно вымерло. Как будто мор на него нашел, — затихло, притаилось. Не слышно ни песни, ни собачьего лая. Разве где-нибудь голодная скотина жалобно заревет и рев этот болью отдастся в сердце.
Где весеннее буйство? Веселье где? Ой-ой, одна печаль осталась — с утра до вечера. Дико кричат совы. Не смолкая стонут филины. Пу-гу, пу-гу… Словно на пожарище.
По лесам, по болотам лег туман. И весь день, словно привидения, снуют в нем люди. Может, какая рыбина поймается или ягода попадется.
Текля уже припоздала. Пока выпроводила своего — поехал на каменоломню, — солнышко вон уже где. Да и Яринка что-то животом мучается. Пришлось и с ней повозиться.
Вышла на улицу — ни души. Куда бы это податься, чтобы день даром не пропал? В Дубине была, там уже все собрано, в Мокром — тоже. Разве в Волчий брод? Там, говорят, грибов навалом.
Огородами пробежала к речке. Припять уже вошла в берега после весеннего половодья, текла спокойно, дремотно. Только в колдобинах, под кустами, на которых досушивались остатки прошлогодних трав, вода бушевала, крутилась, словно искала другого выхода.
По шаткой перекладине Текля перебралась на ту сторону. Стежка запетляла между вербами, запрыгала между кустами. Текля спешила, хваталась за гибкие прутья, и они прикасались к ней нежными листиками, били в грудь тугой волной весенних запахов. В одном месте, уже недалеко от леса, Текля оступилась, попала ногой в ямку.
— А, чтоб тебе! — выругалась она незлобно.
В лапте сразу зачвакало, сквозь онучи проступила вода. Выбравшись на твердое, Текля села переобуться. Обмотала ногу сухим концом онучи, а в голове вились дума за думой… Двадцать пять весен, людоньки! Двадцать пять годочков бьются она и Андрон с бедами и никак не поборют их. Надежда была на сынов, на их помощь, да где они, соколы? Пока были маленькими, никто не видел, не знал, никто ни разу не спросил, что они ели, что пили, а как выросли…
Оборвалась — наверно, перегнила — шнуровка, и Текля, связав ее, стала обматывать ногу. Да, как выросли, все сразу заметили, всем до них дело. И туда нужны, и сюда в аккурат. Развезли соколят, разогнали по далеким местам, жди, мать, весточек. Средний, Павло, хоть изредка, да шлет, а вот Степан…
Переобулась, пора уже идти, а мысли не пускают, словно привязывают Теклю к земле, к деревьям. И не сидится, не терпится ей, а как-то хорошо хоть погрустить вволю, наедине. «Ой, Степан, Степан, где ты, мой сокол, дитя мое?»
Сорвала стебелек барвинка, повертела в корявых пальцах…
Ой, горе тій чайці, чаєчці-небозі, Що вивела чаєняток при битій дорозі…Высокие сосны замерли, словно прислушиваются к людским жалобам. Притихли птицы, только кукушка отсчитывает кому-то грядущие годы.
Двадцать пять — как один денек — откуковала. Двадцать пять…
— День добрый, Текля!
Это к ней? Даже вздрогнула.
— Посиживаете?
— Сижу. А вы уже из леса так рано?
Гривнячиха сняла с плеч короб, концом линялого платка вытерла пот.
— Рано, говорите? Не сидится. Поглядишь на ребят — ушла бы куда глаза глядят.
— Да посидите, переведите дух. Это я встала, переобуваюсь вот… Грибков насобирали? — Текля заглянула в лукошко. — Господи! — ужаснулась она. — Не заметили или нарочно поганок набрали?
— Какое там не заметила! — горько вздохнула женщина.
— Горюшко, да они же ядовитые!
— А где же, скажите, набрать хороших?
— Смотрите, Катря. Ведь дети. Как бы беды не вышло.
— Они уже привыкли. Вот принесу, обдам кипятком, а после на ночь в печь. Весь яд выпреет. — Катря копалась в лукошке, словно только теперь разглядела, что она на самом деле набрала. — Взяли моего, сказали — на маневры только, а кто их знает… Вот и бедствуем. Дети ведь маленькие, сидят голодные да голые.
— Вы без своего, а мы и вдвоем, да толку мало. И когда уж смилостивится господь, кто его знает…
Вздохнул ветерок, и зашумела опушка вокруг прошлогодними листьями, синими огоньками вспыхнула сон-трава.
— Война, говорят, будет, — сказала Катря. — Приехали наши из Бреста, так там, рассказывают, войска полнехонько.
— Всякое говорят.
— Не приведи господи… Про Степана так и не слышно?
— Не слышно.
Помолчали. Обе задумались.
— Пойду, — поднялась Текля. — Уже поздно.
— Конечно, конечно, — поднялась и Катря. — Ой, ноги отсидела! — Она стояла на коленях. Текля подошла, взяла под руки. — Видите, сама и не встала бы, — поблагодарила Гривнячиха. — Так вот и живем. Сядешь, а встать уже нет мочи… Ну, будьте здоровы.
— И вы будьте здоровы.
К лесу кто-то спешил — словно девочка. «Подожду, — решила Текля, — вдвоем веселее будет». Она помогла Катре надеть лукошко, нацепила на спину и свое.
«И чего она так спешит?» — подумала, узнав Марийку, прислугу графа.
— Что тебе, дитятко? Куда так бежишь? — встретила она девочку.
— Ой, тетушка! — Марийка никак не могла отдышаться.
У Текли замерло сердце.
— С Андрейкой вашим… Псы напали… Там учительница…
Текля бросилась бежать. Не обращала внимания ни на болото, ни на прутья. А они хлестали ее по рукам, по открытому лицу.
Андрей Жилюк служил у графа на псарне. В этот день, как всегда, он пришел на панский двор. За окнами еще спали, в легких розовых занавесках колыхалось утро.
— Это ты, Андрей? — спросил хлопца задыхающийся голос. Из тумана, сам посеревший за ночь, выступил дед Миллион. — Что там слышно, в селе?
— Вроде ничего. А тут?
— Гуляли всю ночь, — кивнул он на барский дом. — А теперь, видишь, спят. — Старик перекинул карабин, торчавший у него из-за спины, на другое плечо. — Собак раздразнили, едва не перегрызлись, до сих пор ворчат. Ты вот что, — сказал он немного погодя, — приказывали собак не кормить с утра. На охоту пойдут, что ли.
Лучистое солнце вставало из-за леса, освещало землю. Земля улыбалась чистыми плесами озер и речек, шептала густыми зарослями камыша, молодым, пахучим листом. Андрей смотрел на это обычное и в то же время какое-то неожиданное пробуждение, и сердце его расцветало радостью. Стоял очарованный красотой своего зеленого края. «Где-то там, — измерял глазами простор, — лежит край рабочих и крестьян. Будто совсем недалеко. На челне можно туда добраться — Припятью, через Полесье. А там Днепром — в самый Киев. Вот бы попробовать!» И он с завистью поглядел на речку, еще затуманенную, сонную. Вот эта самая студеная водица — подумать только: из их Глуши! — будет завтра, а может быть, даже сегодня в Днепре, на той Великой Украине… Он никогда не видел ее. Не видел, как утром дети толпою спешат в школу — там все, все учатся! Как ездят в город, в театры… И кино будто бы у них в каждом селе! Хоть бы разок одним глазком взглянуть на это диво. Говорят — прямо на стене люди и ходят, и бегают, и разговаривают обычным языком… Вот чудеса!
А он… Кое-как побегал четыре зимы — и хватит, сказал отец… Год за скотом ходил. Еще одно лето батрачил у пана. Теперь здесь почти год.
— Ты словно молишься, — сказал, ковыляя мимо, графский повар. — Каждое утро выстаиваешь.
— Солнце…
— Ну и что?
— Но оно — восходит.
— Ну и пусть себе восходит.
Нет! Нет, нельзя быть к этому равнодушным. Солнце несет с собою жизнь. Когда-то с ним придет настоящий праздник. И скоро уже. Он слышал об этом от верных людей, даже сам читал… Андрей спохватился: не сказал ли чего? Не услыхал ли кто его мысли? Но нет. Дед Миллион вон уже где, и повар пошел своей дорогой. Обернувшись, крикнул:
— Кости там собери!
Андрей снял одежду, повесил на гвоздь. Собаки, зачуяв его, заворчали. «Потерпите, леший вас не возьмет…» Захватив плетенку, пошел в кухню. «Не разорвет их — столько жрать», — думал он, подбирая жирные кости. А это что такое? Андрей не верил своим глазам: между костями лежал добрый кусок свежего мяса. «Что за холера? Нарочно подкинули, чтобы проверить меня, или как?» Он выпрямился, оглянулся, — на пороге стояла и улыбалась ему Марийка.
— Бери, Андрейка, не бойся, — подойдя, прошептала она. — Это я положила.
Марийка на голову ниже. Потому, когда смотрела на него — чуть снизу и как-то взволнованно, — большие, красивые глаза ее становились еще больше.
— Зачем? — не отрываясь от ее глаз, спросил Андрей.
— Возьмешь домой.
Чего она хочет? Чтобы потом обоих прогнали? Нет, ему эти пятнадцать злотых, которые получает ежемесячно, дороже куска мяса. Хоть и самого лучшего… Он не вор, чужого ему не надо. Вот заработанное, кровное — отдай!
— Никто не увидит, — горячо дышала ему в лицо Марийка. — Бери, у них хватит… — Она быстро положила мясо в корзинку, прикрыла костями.
Андрей хотел было вынуть, но вошел повар.
— Ну, неси уж, неси. Нечего тут, — забормотал он. — Да не мешкай: воды-то нет. — Видя, что хлопец сам не поднимет, бросил Марийке: — Помогла бы!
Та словно только этого и ждала. Мигнула Андрею, легко ухватилась за ручку — корзинки на кухне словно и не было.
«Куда же его теперь девать? — раздумывал Андрей, нося воду. — Может, и правда взять? Яринка вон как ослабела, — хоть немножко окрепнет».
Он так и не решил, что делать с этим мясом. Наносил на кухню воды, нарубил дров и принялся наводить порядок на псарне. Собаки были раздражены, рвались с привязи, рычали, аж пеной брызгали… Некоторые впивались зубами в метлу, которой Андрей подметал, готовы были разодрать ее. «Может, мясо почуяли», — подумал Андрей и выставил плетенку за дверь.
…Солнце досушивало покрытые за ночь росой соломенные стрехи, когда в покоях графа Чарнецкого зашевелились. Первой это услыхала чуткая к панским капризам прислуга и бросилась в комнаты, откуда уже неслись призывные голоса или звон колокольчиков. Длинные, слегка затененные коридоры наполнялись спешными шагами, запахами свежего кофе, жареного, свежих яблок.
— О, уже забегали… Бесово гнездо уже проснулось, — пробормотал дед Миллион. — Ты с ними не очень, — обернувшись, кинул он Андрею, подметавшему у дверей. — Ишь как расходились.
— Словно ошалели сегодня.
— Да. Панам шутки, а мужику слезы. — И Миллион потопал дальше — ему полагалось сейчас несколько часов отдыха.
Во дворе появились господа. Заспанные, с обрюзгшими лицами, панычи вяло потягивались, зевали, разминались. У каждого за плечом небрежно болталось ружье. Услыхав людей, еще сильнее забеспокоились собаки.
— О, псы нынче лихие!
— Не терплю дохлых!
Двое уже выпивших господ подошли к псарне.
— Мне… Слышь ты, лайдак?! Мне самого быстрого! Злотый получишь. — Стройный, вышколенный, но еле державшийся на ногах офицер повертел перед глазами Андрея злотым. — Вот!
— А пан Юзек хорошо стреляет? — спросил офицера его напарник.
— О! — Юзек сорвал с плеча ружье и стал шарить глазами, куда бы прицелиться. Вдруг взгляд его остановился на старой, засыхающей липе, которая чернела в конце графского сада большим аистиным гнездом. — О! — загорелся паныч: в гнезде стоял, откидывая назад голову, аист.
К псарне подошли еще несколько гостей.
— Пан Юзек уже охотится? — обрадовались они затее офицера.
— А ну, прицельтесь.
— Да где там?
Паныч обернулся, блеснул вдруг ставшими злыми глазами и, ничего не сказав, поднял ружье. Андрей, который до сих пор молча наблюдал, не удержался.
— Не стреляйте, — бросился он к офицеру, — аиста грех убивать!
Вокруг захохотали. Юзек на миг оторвался от приклада, толкнул мальчика ногой.
— Прочь, пся крев!
Загремел выстрел. Аист вздрогнул, затрепетал крыльями и, бессильно распустив их, упал наземь. Паныч, закинув на плечо ружье, подступил к Андрейке:
— Со мною, хлоп, шутки плохи!
Андрей молчал. Он так любил смотреть на аистов. Любил смотреть, как они парой плавают в голубом весеннем просторе или хлопотливо бродят по лугам…
Во двор в сопровождении целой свиты вышел сам граф. Небольшой, сухонький, с бородкой клинышком, в высоких, охотничьих сапогах, с патронташем, в конфедератке.
К графу сразу подбежали ловчие. Он что-то небрежно сказал им, и те бросились на псарню. Вскоре подворье наполнилось лаем, ворчанием и хрипом голодных собак, рвущихся из рук. Юзек, чтобы еще больше раздразнить огромного пса, которого держал на поводке, то подпускал его к корзинке с костями, то с силой тянул назад. Пес покрылся пеной. «Оттащу корзину и закрою дверь», — решил Андрей. Но едва он нагнулся, как собака, обежав вокруг офицера так, что тот покачнулся, вырвалась и вмиг очутилась на парнишке.
Андрей упал на корзину, почувствовал, как что-то обожгло ему плечо.
— Вот холера ясная! — жаловался Андрон. — Имеешь хлопца — так отдай его пану. А там если не загоняют, так собаками затравят. Мой вот пятнадцать злотых получал! А теперь? Пока-то очухается. Потому что раны эти по всей спине… Хорошие бы харчи хлопцу.
— А вы к графу, пускай платит, — советовали ему.
— Э! Панской лаской сыт не будешь.
— А управляющий Карбовский? Ведь это его дело.
— Его дело, пока ты здоров. А если ослабел, он тебя и знать не захочет. Пиявки! Жиреют на нашей крови, еще и издеваются. Но придет и на них погибель!
— Пока пану смелется, так нам скрутится.
— Это у какого мельника.
— А что — мельник?
— Да-как скрутить, говорю. В Смолярах вон скрутили, так и дух из пана вышибли. Так бы и нам.
Гуралева хата маленькая, низкая, голоса в ней — как в бочке.
Не рано. На полу вповалку спят дети, — слушали-слушали и уснули. Мигает каганчик — ради людей зажгли. Для себя кто бы керосин тратил! Цедится слабенький свет. Фигуры серые, призрачные. Разбрелись по углам, попыхивая дымом. Вон Андрон — неспокойный, вертлявый: «Холера ясная! Сидим, как кроты…» Почти на полу, на низкой скамеечке Судник (у Судника грыжа, ель когда-то украдкой тащил, надорвался, — он садится всегда очень низко, подпирает коленями живот); у края стола — Проц, твердый, крепкий, говорит и кулачищем словно гвозди вбивает: «Город бастует, а мы что, штрейкбрехеры какие-нибудь?» Из города недавно, с заработков… А там еще люди, еще. Посреди хаты сам Гураль, высокий, чуть не достает головой потолок. Бросает, слова твердо, медленно.
— Ты, Адам, — обращается он к Суднику, — не плети бог знает чего.
— А что? — защищается тот. — Разве я не прав? Добастовались — один в тюрьме, другого чахотка сушит, доборолись, матери его…
— По-твоему, сложить руки и сидеть, с голоду пухнуть? — загорелся Проц.
— Партия распущена. Чего нам кулаками махать?
— Вон как!
— Не нами же это выдумано! Есть поумнее головы.
— А своя зачем? Вшей плодить?
В хате засмеялись.
Вошла Ганна Гуралева — была во дворе, прислушивалась.
— Потише бы! На улице слышно. — Потом сказала мужу: — Кажется, идут.
— Уже идут… — зашелестело по хате.
Гураль вышел, за ним выскользнула и Ганна.
Молчание залегло по углам, настороженное, выжидающее.
— Издалека?
— Кто его знает.
Под окнами шаги. Топот в сенях… Первым вошел Устим.
— Погасите свет.
Кто-то подул на каганец. Темнота сгустилась, и в хату вошли двое. Он и она. Ее узнали сразу, по тому, как поздоровалась.
— Все пришли?
Девушка откинула косы, прошла дальше. И другой, неизвестный, которого ждали, шагнул за ней в глубину хаты.
— Товарищи! — тихим голосом сказала девушка. — Я не могу назвать вам человека, который пришел к нам. Вы сами понимаете… — Она что-то шепнула своему спутнику и села на скамью рядом с Устимом.
Гость не садился. Оперся на угол стола и какое-то мгновение оглядывал призрачные фигуры, притихшие в ожидании. Потом сказал:
— Я прибыл от рабочих Копани. Городские пролетарии приветствуют вас и призывают сплотиться в единый фронт… — Голос хриплый, сдавленный. — Профашистские правители Польши превращают наш край в плацдарм для подготовки войны с Советской страной. — Оратор волновался. Он резко наклонился вперед, голос стал тверже. — Зверские расправы, которые чинит дефензива над лучшими сынами и дочерьми народа, не должны нас пугать, а, наоборот, сплотить на массовые выступления против режима санации… КПЗУ[3] распущена. Но пусть не радуются этому наши враги, мы и впредь останемся членами партии. Пролетариат не сложит оружия, пока не добьется своих прав.
Он умолк, и в хате некоторое время стояла тишина. На полу сонно бормотали дети, скребся кот в сенные двери, мяукал протяжно и жалобно, а за окнами, за глухими рублеными стенами лежал мир — большой и таинственный. Кто-то в нем умирал, кто-то рождался, кто-то плакал, а кто-то смеялся. Там, в этом мире, подстерегала смерть. Она ходила по дорогам — немилосердная, готовая невзначай кинуться на человека. С тех пор, как помнят себя, смерть неотступно ходит за ними: в войну, которая лишь недавно выбралась из их болот и снова как будто к ним ползет; в тюрьмах, щедро набитых ими; на заработках. Смерть ежедневно глядит на них дулом осаднического или жолнерского карабина, подстерегает чахоточным кашлем или звоном кандалов…
И вот сейчас они должны сказать смерти — хватит! Попировала — и хватит. Должны вырвать ее ядовитое жало. Может, кого и зацепит она, кончаясь, но это будут последние жертвы.
— Вот вы говорите: не платите подати, — раздался голос Адама в темноте. — Хорошо, сегодня мы не заплатим. Так завтра же экзекутор заберет последнюю дерюжку. А? Силой возьмет!
— Против силы должна стоять сила.
— Что же, бунтовать?
— А почему бы и нет? Экзекутор взял у вас утром, а вы возьмите у него вечером.
— Эге, пробовали.
— Когда пробовали, тогда и выходило, — бросил Андрон. — А если один цоб, а другой цобе, то черта лысого устоишь!
— Время такое.
— Какое? — вспыхнул Проц. — Да ныне самое время проучить этих бандюг: сенокос начинается, а там впереди и жатва.
— Так что? Косить не пойдешь?
— И не пойду!
— Найдутся другие.
— Не дождутся!
— Не пустить — и весь разговор, — добавил Жилюк.
— Пока не даст по три злотых, ни одна душа не выйдет. Пусть гниет на корню.
— Если бы так! — вздохнули в хате.
— К тому идет, чтобы объединить наши силы, — вставила учительница. — Всех самых бедных, самых угнетенных. На каждом фольварке есть коммунистическая группа, в каждом селе — подполье. Надо только теснее сплотиться, единым фронтом выступить против эксплуатации.
— Бить их надо, — вел свое Андрон. — А то мы все молитвами отделываемся.
— Какими молитвами?
— В других уездах повстанцы гуляют, треплют панов и осадников. А мы всякие писания читаем, торгуемся с графом, чтобы хоть злотый прибавил.
— Хватит, Андрон! — разогнулся Судник. — Так тебе пан и дастся! Как же! Готовь петлю… Да у него видал какая свита? Одних офицеров как собак. Только зашевелись…
— Э, болтаешь! — вскочил Жилюк. — Что ж, По-твоему, милости от них ждать? Нет, с волками жить — по-волчьи выть. Жаль, нет Степана.
— И Степан вас не поддержал бы, дядько Андрон.
— Это почему же? — наклонился тот к учительнице.
— Условий для активной борьбы еще нет, товарищи, — ответил за нее приезжий. — Кто будет кормить нас, наши семьи, если мы пойдем в леса, в подполье?
В самом деле — кто? Вопрос был настолько неожиданным, насколько и простым. И они, слишком уж часто слышавшие его в тоскливой своей повседневности, сразу будто бы и не придали ему значения, словно он не их касался. Сидели, прислушивались друг к другу, думали тяжелую думу.
Кто? Кто накормит этих детей, стариков этих немощных? Чья рука засеет скупые клочки сереющих между болотами и пущами супесков, если они пойдут в отряды?
— Мы и сейчас не сыты, хоть и дома сидим.
— Конечно, это так, но дома наелся не наелся, а заморил червяка. Пустого борща похлебаешь — и то будто легче. А там, в лесу? На щавеле не проживешь. Да и то сказать: пока ты дома, пока все вместе, не всякая собака и укусит. Тот же солтыс[4] или экзекутор. А оставь их, женщин, с детьми одних — все до нитки позабирают.
— Э! Хоть верть-круть, хоть круть-верть.
— В том-то и дело.
— Однако поговорка эта не для нас, — снова сказал товарищ из Копани. — Панам скоро деваться будет некуда, а наша дорога ясная: из пущ да болот выходить в широкий мир. Недалек день, когда наши пути сойдутся с путями наших родных братьев, с Великой Украиной.
Люди зашевелились.
— Ну как, товарищи? — спросила учительница, встав посреди хаты. — Каким будет наш ответ рабочим?
— Единогласным.
— То есть мы за них, они за нас, — добавил Гураль.
— Известно.
— Пусть только весточку подадут…
Молчал один Судник. Зато когда расходились, тихонько бросил:
— Одна мать родила, на одном суку висеть будем.
Кроме Жилюка, кажется, его никто не услыхал. Андрону же было не до Судника. Его самого разбирала досада. «Нянчатся с этими панами, холера ясная»…
Слухи слухами, а перед ивановым днем приехали в Великую Глушу набирать людей в каменоломню. Вербовщик засел в помещении гмины, и все эти дни около него вертелся народ: как-никак работа, да еще под боком. И платить обещают как будто ничего.
Андрон даже повеселел, как услышал новость. Ага, припекло-таки панам с этой дорогой, сами просят! Теперь-то мы им загнем! Запросим так, что ого! Пусть знают наших. Это не жатва, не сенокос, где женщинами можно обойтись. Для камня сила нужна. Да и смекалка… Кого-кого, его-то возьмут, без него там не обойдутся. Потому что кто так, как Андрон Жилюк, мог подорвать породу, когда еще раньше работал в каменоломне? Ну, скажите: кто? Молчите. То-то! А он, бывало, как начинит, как ахнет, — все Полесье вздрогнет. Взрывы у него громом гремели, не то что у других, пшикнет — и все. Нет, Андрон еще покажет, на что он пригоден! Увидите!
Но прошел день, прошел другой, а за ним никто не приходил. Никто даже не намекнул Андрону, чтобы явился в гмину, будто его совсем и не было в Глуше. «Что за холера? — сокрушался он. — Может, магарыча ждут? Так откуда я его возьму?»
Третьего дня, управившись с делами, Андрон бросил Текле:
— Ну я пойду.
— Куда?
— Раскудакалась! Куда да куда! Разве не знаешь — вербовщик в гмине.
— А он звал?
— Жди. На тот свет скорее позовут.
— Сорочку сменил бы.
«И штаны не мешало бы. Из первой получки нужно будет купить», — подумал Андрон. Напялил на плечи крашенную ольхой полотняную сорочку, которая топорщилась, как железо, отряхнул полову со штанов и пошел.
«Сначала зайду в лавку, — соображал по дороге, — чтобы не думали, что прямо к ним поплелся — возьмите, мол, очень вас прошу… Они, наверно, только того и ждут, чтобы по-своему… чтоб свою плату дать…» Нет, он их еще поводит за нос, холера бы их взяла.
Лавка Пейсаха стояла тут же, на краю сельской площади, недалеко от гмины. К старому, под ржавой крышей, кирпичному домику с выцветшей от старости вывеской над входом можно подойти сбоку так, что никто не увидит. Но Жилюк нарочно поплелся через безлюдную площадь, даже не оглянувшись на гмину. Медленно, как и приличествует настоящему хозяину, вошел в открытую дверь.
— Слушаю вас, Андрон Потапович. Чего желаете?
«Ишь ты! Даже по отчеству величает. Торговец как торговец: в душу влез бы».
— А что желать, коли денег нет, — ответил попросту.
— Э, без денег плохой разговор, — сразу охладел Пейсах. — Без денег человек — ничто, пустое место…
«Небось, не сожру твоего добра, паршивец, — выругался в душе Андрон. — А шлеи хороши, — оценил он глазами товар. — Да и вожжи не помешали бы, старые совсем истрепались».
Он еще немного повертелся, поглядел по сторонам и вышел. Мимо лавки как раз проходил дед Миллион.
— Как там твой хлопец, Андрон? Пойдем-ка, расскажешь.
Они отошли, присели на траве под липой.
— А что хлопец? На живом, говорят, как на собаке. Поправляется понемногу. Уже ходит.
— Говорил ему тогда…
— Э, знал бы, где упадешь!
Миллион достал потертый кожаный кисет, вынул трубку.
— Может, закуришь? Паныч табаком угостил, а я смешал его с буркуном… ничего!
— Давай попробую.
— Вербовщик как будто приехал?
— Будто бы.
— Я так считаю: кого-кого, а тебя непременно должны взять.
— Верно. А возьмут ли — увидим.
Пока Андрон скручивал непослушными пальцами цигарку, старый вытащил откуда-то огниво и, покряхтывая, начал высекать огонь. Кремень прыскал искрами, крошился, дед поворачивал его так и этак, прикладывал трут, а он, проклятый, не загорался.
— Словно и не отсырел! — удивлялся старик и продолжал чиркать изо всей силы.
Откуда ни возьмись постерунковый.
— А покажи-ка, дед, огниво.
— Вот еще! Словно пан сроду его не видел.
— Видел не видел, а давай. — Постович чуть не вырвал у старого огниво. — Ишь голытьба, будто не знает, что это уменьшает прибыли спичечных компаний… государства. Айда в гмину, да живо у меня! — прикрикнул он, видя, что старик не спешит вставать. — А ты за свидетеля, — обернулся к Андрону. — Акт подпишешь.
«Холера ясная! Этого еще недоставало. И зачем мне было встречаться с этим Миллионом? — укорял себя Жилюк. — Теперь все пропало…»
В гмине за длинным, устланным бумагами и бумажками столом на самом деле сидел вербовщик. Посреди комнаты, заложив руки за спину, медленно похаживал солтыс Хаевич. Видно, что-то они обсуждали, потому что, как только постерунковый вошел, Хаевич бросил:
— Зачем привел этих лайдаков?
— Акт составить. Огниво вот конфисковал.
— Будто ты конфисковывал что-либо путное.
Постович вытолкнул приведенных в коридор, а сам за несколько минут написал акт.
— Пять злотых заплатишь, старое быдло, — ткнул он старику бумажку.
— Как же так, пан постерунковый, — начал было дед Миллион, — огниво забрали, да еще и пять злотых плати? Побойтесь бога! Где я их возьму?
— Поболтай у меня! В холодную захотелось? — ощерился постерунковый. — Неделя сроку. И без напоминаний.
Дел Миллион плюнул и вышел, на все лады кроя всех, от Постовича до президента Мосцицкого…
Вышел и Жилюк, стал на крыльце, задумался.
«Может, зайти? Как раз никого нет… Да и случай подвернулся…» Попил воды, застоявшейся, невкусной, потоптался еще немного и открыл дверь:
— Можно, пан староста?
Хаевич резко обернулся.
— А ну, заходи, заходи, да запомни: «пан солтыс», а не «староста», пся крев! Или, может, тебе по-другому растолковать?
— Спасибо, запомню и так.
— Что скажешь? Может, что-нибудь про Степана?
Андрон переждал, пока Хаевич немного успокоится, и, обращаясь больше к вербовщику, промолвил:
— Просил бы панов взять меня на работу. Слыхал — каменоломню открывать будете. Так я… сами знаете… работал когда-то.
— Хлоп работал на карьере? — оторвавшись от бумаг, спросил паныч и перевел взгляд с Андрона на солтыса.
— Да. Но у хлопа большие долги перед отчизной.
— Выплатит, — сказал вербовщик. — Заработает и выплатит. А нет — сами вычтем.
— Я имею в виду долги не только денежные. Этот хлопец — отец политического злодея, члена КПЗУ Степана Жилюка. Да и сам, видно, такой, — прибавил Хаевич. — Пусть благодарит матку боску, что не упрятали и его с сыном.
Паныч поднялся, вышел из-за стола.
— Но, пан солтыс, вина моего сына… — начал было Андрон.
— Еще не доказана? — вскипел Хаевич. — Радуешься, что он убежал? Пся крев, на одном суку будете висеть.
«А это еще увидим, — чуть не сорвалось с Андроновых уст, — увидим, пан солтыс, кто где будет висеть. Не вечно твое господство. Не вечно».
— Но второй мой сын, пан солтыс, честный воин, — Андрон все-таки решил поговорить с властью. — И не какой-нибудь жолнер, а капрал. А младший пострадал не где-нибудь — у графа на службе. Должна же быть какая-нибудь привилегия.
— Вы слышите? Он еще привилегий захотел! — Хаевич схватил Андрона за воротник.
Жилюк уперся, и солтыс, даром что откормленный, не мог с ним совладать.
— Прочь!
Андрон высвободился из солтысовых рук, стоял гневный, побагровевший.
— Я пойду, пан солтыс. — Он нажал на скобу, метнув из-под насупленных бровей пучки невидимых стрел.
— Да смотри! Не то такую работу получишь — вовек не забудешь.
— Не забуду! — скрипнул зубами Андрон.
Соловьиными ночами доцветала весна. В лесах за Припятью седыми колокольчиками приникала к земле сон-трава, а между ольхой, в кустарниках, густыми кистями буйствовала хохлатка, стелился барвинок, густо кустился мокричник. На болотах зелеными остриями уже покачивался камыш, туго клонилась при ветре молодая осока. Еще немного — и упадет она, сочная, душистая, от взмаха косца, ляжет тугими волнами. Но это еще будет. А сейчас шепчутся травы, гомонят птицы. Деревья, кусты, берега — все оделось в нежные зеленые уборы. Даже песок покрылся сероватой мать-мачехой, словно взял да — на удивленье всему — и зацвел каким-то неведомым цветом.
Только Глуша никак не сбросит печальной одежды. Разбрелась отдельными домиками — где посуше — над рекою, отмежевалась плотами и канавами и дремлет на солнцепеке. Плывут над нею журавлиные стаи, предвещают вёдро, в чащах, обступивших ее, щелкают соловьи, кукуют серые кукушки, — а она словно равнодушна ко всему, словно это не про нее. Загляделась печальными глазами старых хат и онемела. Если и отзовется, то разве громким, надрывным плачем да громкой бранью. Нет в ней даже шинка, где хоть бы изредка разгулялась скованная мужицкая воля. Время не дало Глуше ничего такого, — только высится среди болот и лесов белостенный дом графа Чарнецкого. И стоит он, словно привидение, на сотни верст от многолюдных городов и городишек, удивляет сметливый крестьянский ум. Что заставило родовитого шляхтича забраться в такую глушь? Чего искал он тут и что нашел? Не сказочную ли королеву Бону, которая с давних времен правила Полесьем? Пан, говорят, одинокий, имеет только приемного сына, который живет далеко-далеко, где ни болот, ни лесов, где домов как деревьев в пуще…
Тихие вечера ткут над селом лунную пряжу, белеют черешнево-вишневым цветом, а Глуша притаилась, коптит лучинами. Ни веснянок, ни молодого смеха. Тоска. Безбрежная, бескрайняя. Стукнет ведро о сруб колодца, заскрипит журавль, завоют с голоду собаки — и снова тишина…
За думой — дума, за воспоминанием — воспоминание…
Видит во сне Глуша свою судьбу — долю будущую, желанную, и ту, прошлую, давнюю, древнюю. Когда не было в селе ни богатых, ни бедных, когда рощи кишели дичью, а воды рыбой и никто не имел над этим власти, когда не платили за кота, за собаку, за потраву, когда не было на пути ни графов, ни старост, ни осадников, ни постерунковых, ни экзекуции. А были труженики, приволье…
Видит сны село. Кто спит, кто не спит, поскребывает взлохмаченную голову: «И когда уж оно, господи, переменится? До какой поры паны будут кровь сосать?..» А с утра снова: ноги в руки — и айда за насущным. Кто в фольварк, кто в дорогу, на пашню, кто на свой кровью и по́том политый клочок: не поспело ли, нельзя ли хоть намять на затирку?
До каких пор?
С утра до вечера люди толпились на болотах, озерах, на реке. Тот, кто не шел на постоянные работы — в каменоломню, скажем, или еще куда-нибудь, — чинил старый челн, сачок, брал корзину, серп, косу или просто нож и отправлялся на какой-нибудь промысел. Может, какая рыба поймается, ягода найдется, а нет — так просто нарежет рогозы. Голод не тетка. Хоть от этой рогозы и тошнит и скулы сводит, а что поделаешь. За нее хоть не штрафуют. Наберешь скользких кореньев — и хоть вари, хоть суши, хоть так ешь. А увидит постерунковый с рыбой, тут плохо придется: панское, графское… Земля, воды, леса — все панское да графское, даже солнцем и тем торгуют: больше окон в хате — больше и плати. Есть на хате труба — плати… Сколько черных хат на Полесье! Ежедневно дымят настежь раскрытыми дверями, коптят свет, коптят души.
Андрон с Яринкой собирали черепашек. Текля осталась дома — Андрею вдруг стало хуже. Утром встал — голова так закружилась, что чуть было не упал. От слабости, наверно… Так они сегодня с Яринкой.
Челн у Жилюка так себе: ни маленький, ни большой, ни старый, ни новый — года три назад Степан смастерил. Хороший был челн! Да подгнил, никто за ним не смотрел, не смолил. Плавали, пока плавалось. Недавно, правда, Андрон законопатил щели, не течет будто. Чуть не полдня плавает, а только раз Яринка вычерпывала.
Тихо плывет челн. Речка петляет между камышами и вербами, то мчится, стиснутая берегами, то едва течет, почти останавливается на широких плесах… Жалобно кыгычут чайки; медленно прохаживаются аисты; подолгу выстаивают, словно на часах, хохлатые цапли; плачут, поют, верещат в зарослях камышовки, выпи и множество других птиц. Андрон изредка взмахивает веслом, кое-где на мелких местах останавливается, пристально вглядывается в просветы между водяными лилиями и купавами — нет ли черепашек? Уже немного набрали, да еще хотелось бы… Такие вкусные они тушеные! Чистенькие, беленькие. Говорят, кое-где даже паны лакомятся ими… «Подавились бы они этими лакомствами, — так и рвется у Андрона вслух, — вовек бы их не знать, ни панов, ни этих черепашек…»
Стояли в неглубокой заводи, что выходила на берег узкой косой, когда подплыл Проц.
— Здравствуй, Андрон!
— Здравствуй, коли не шутишь.
— Какие к бесу шутки! Промаялся чуть ли не с рассвета, промок, а поймал черта.
— Нет рыбы… с водою ушла.
— Одна мелочь… А ты что ж? Я думал — на каменоломне.
— Ну их, нехристей!
— Не взяли?
— А я не очень, слышь, и спешил. Была бы шея, хомут найдется.
Проц ткнул челн носом в песок, ступил на берег. Проц — высокий, костистый. От одежды его до сих пор пахнет мазутом.
— Садись, перекурим. Сели.
— Я пойду цветов нарву, — сказала Яринка.
— Пойди, дочка, нарви. Да недалече — скоро поедем.
Оба загляделись на девочку. Какая же она маленькая, слабенькая… Вот так и растет: выглянет солнышко — улыбнется, повеет холодком — нахмурится. Эх, доля, доля! Или мы в самом деле такие бесталанные, или провинились чем перед тобою?
— Говоришь, была бы шея? — возвращается к сказанному Проц.
— Известно.
— Но на шею, кроме хомута, можно и петлю накинуть.
— А разве они, — Андрон кивает на графский дом, — еще не накинули, по-твоему?
— О том и речь, — смачно сплевывает Проц. — Так что́, ждать, пока затянут?
— А что ты ко мне пристаешь? — рассердился Андрон. — Был же на сходке, слыхал? Вместе с городом, с городскими надо выступать… Вот и жди.
— Что город? — Проц тоже разгорячился. — Разве там ангелы или пророки какие? Такие же, как и мы, грешные. Сидят, ждут, листовки читают. Угождают панам, а те с них три шкуры дерут. — Над ними совсем-совсем низко пролетел аист, даже ветром повеяло от широких крыльев. — Меня вот, — Проц нервно затянулся дымом, — видишь, как высосали, — выставил он вперед тяжелые, узловатые, еще черные от прежней работы руки. — Думал: поработаю, соберу на какую-нибудь десятину, — а что вышло? Одни кости домой принес да душу. Чуть в тюрьму не угодил.
— Холера ясная, — не то вздохнул, не то выругался Жилюк. — Бедному жениться — так и ночь коротка.
— А я так считаю: нельзя панам попускать. Пришлось к делу — бей, пали, уничтожай, чтобы и на семя не осталось проклятого отродья. Вот нас двое — ты да я, — и уже сила. Что хочешь можно сделать. А там еще найдутся.
— Да и мне так думалось. А видишь, одна голова — хорошо, а две все-таки лучше. Кто будет этих-то кормить? — кинул он взгляд на дочку.
— Самим надо.
— То есть как?
— А так: пустил примерно нашему пану красного петуха — и тихонько домой. Никто тебя не видел, не слышал. Живешь, как все.
— Хорошо тебе говорить. Без детей и беда не беда. Коли что — снялся с места и ищи ветра в поле.
— Ну и сиди! — разозлился Проц. — Сиди около юбки! — сердито вскочил на ноги.
— Да чего ты, Федор? Разве я что?
— Жди манны с неба. Подохнете скорее, чем дождетесь. — Проц оттолкнул челн и, стоя раскорякой — одна нога на песке, другая в челне, — кинул: — Запомни мое слово! — и поплыл по течению.
— Вот сумасшедший, — незлобно сказал Андрон.
Постояв немного, он начал отдирать веслом водоросли от челна.
Жилюк только хотел позвать Яринку и плыть дальше, как дочка сама выскочила из-за куста.
— Тату, ой, там такое… — залепетала она, испуганно прижимая к груди пучок ромашек.
— Что? Где?
— В яме… Большое, страшное…
Андрон взял весло.
— А ну, пошли. Найдем?
— Идите по моему следу. Тут близко. — А сама затаив дыхание побежала сзади. — Вон там… за тем кустом.
— Зачем тебя там носило?
Под вербой, в яме, вырытой весенним паводком, где было еще немного воды, лежал сом. Он едва дышал. Услышав людей, вяло плеснул по грязи хвостом, зарыл голову между корней, но скоро выбился из сил.
В первое мгновение Андрон встал как вкопанный, не верил своим глазам. Холера ясная, такая находка! С полпуда будет.
— Ну, дочка, твое счастье! — поглядел он радостно на Яринку.
Затем толкнул веслом сома. Рыбина встрепенулась и замерла.
— Тату, это сом? — осмелела Яринка.
— Сом, дочка, сом.
Жилюк закатал штанины, оголив выше колен тонкие, синеватые ноги, влез в яму. Сом закрутил хвостом, забрызгал Андрона.
— А, ты так, холера… вот мы тебя сейчас! — Андрон слегка замахнулся и ударил сома веслом по голове — раз и другой. — Ну что? Будешь брызгаться? — Затем схватил рыбину за хвост и поволок на сухое.
— Какой страшный! — топталась вокруг Яринка. — Неужели его едят?
— Едят, едят, дочка, — вытирая травой руки, ответил отец. — Ты только гляди, никому ни слова.
«Как его понести, чтобы никто не заметил? В корзину не полезет. Хоть за мешком посылай».
— Мы уже больше не поплывем сегодня? — радовалась Яринка.
— Не поплывем.
«Возьму обмою у реки, на нем столько грязи, положу в лодку, рогожами накрою… Придется до вечера ждать».
Пока нес, сам испачкался. «Пустое, — думал он, — выстирается, чистое будет, зато сомище какой! Даром что худой…»
Андрон мыл облипшее скользкой грязью тело рыбы, когда из-за поворота появился Судник.
— Э, Андрон, что же ты не похвалишься?
— А чем мне хвалиться?
— Как же? Поймал сома и молчишь. — Судник уже ворочал рыбу веслом. — Ничего себе.
— Где там поймал…
— Это я, дядя, нашла, — выскочила Яринка.
— Девчушка вот в яме нашла, — нехотя сказал Андрон.
— Да ты чего, будто прячешься? — заметил Судник. — А я вот черепашек набрал.
— Да и мы черепашек. Ты, Адам, не говори только никому. Сам знаешь… малый у меня слабый, а они же ведь ни на что не посмотрят.
— А мне какое дело? Поймал — так поймал. Или, скажем, нашел. Мое дело маленькое.
Судник поплыл, а Жилюк, уложив рыбу в челн, сел перекусить.
…Домой возвращался вечером, когда стемнело. Яринку Андрон отослал еще засветло, чтобы вышла с мешком, а сам ждал, пока переплывут сельчане, чтобы не попасться никому на глаза.
Вот и огород и верба на берегу, где всегда привязывается челн. Все-таки проскочил, никого не встретил, никто, кажется, не видел. Андрон прицепил челн, вытащил корзину с черепашками, выбросил весла. Где же Яринка? Скорее бы в хату! Ага, бежит…
По тропке бежала Яринка.
— Мама обрадовалась! Хотела сама идти.
— Держи-ка мешок. — Андрон осторожно положил сома в мешок, закинул на плечо, взял корзину. — Бери весла.
Огородами пошли к хате.
Текля уже и воды нагрела — мыть и варить рыбу. Андрон разрубил тушу, выкинул внутренности, отрезал несколько кусков.
— На, вари. Была бы соль, присолить бы немного.
— Есть ведь немного.
— Сколько там? Еду чем потом солить будешь?
— Так как же? — спросила Текля.
— Продам. Что же делать? Деньги нужны. Сомовина всегда в цене.
— Детям хоть бы оставил.
— Да оставлю немного.
Андрей внес дрова.
— Обойдемся, — вмешался он в разговор. — Зато Яринке на платье будет.
А в печи уже булькала, закипая в горшке, вода. Хата наполнялась вкусным запахом вареной рыбы.
У Катри Гривнячихи не обошлось с грибами. Средняя ее дочка ни с того ни с сего вдруг ослабела, все жаловалась на живот, да и умерла. Недолго хворала — дня два каких-нибудь. Катря и знахарку к ней приводила — не помогло. Напрасно только три яйца отдала бабке. Умерла дочка. А тихая была, послушная. Все отца ждала с подарками: «Тато приедет — ленты привезет». А он ни сном ни духом не знает. Умоляла солтыса, чтобы известил как-нибудь. Да где там! Нельзя, говорит, не отпустят военного человека. А может, и отпустили бы — родной ведь ребенок…
Уж и не плакалось, — откуда слезам взяться, когда на каждом шагу плачь да плачь… Пойдешь к солтысу — плачь, постерунковый прицепится — плачь, экзекутор приедет — плачь… А дома! Поглядишь на них, голодных, босых да желтых, как свечечки, разве не заплачешь? Такая жизнь — никакого просвета. Так откуда же слезам браться?
…Шла — дороги не видела. Была и у того и у другого — гроб ведь нужен. Да разве кому есть дело… Если Андрон не уважит, то что и делать? Хоть так клади дочку в землю… Но должен бы уважить, кум ведь.
Жилюки как раз завтракали, хлебали из миски юшку с репой, потому что картошкой не пахло. Картошку она сразу бы почуяла.
— Добрый день вам, — вошла она в раскрытую дверь.
Текля управлялась у печи.
— День добрый. Проходите, садитесь.
— Спасибо. — Катря стала у порога. — А я к вам, Андрон.
Жилюк отложил ложку, вытер губы, вылез из-за стола.
— Беда у меня, люди, — и не удержалась, заплакала.
— Да присядьте, присядьте же, — взял ее за плечи Андрон и усадил на скамью.
— Средненькая моя, Оксанка…
— Что? — прижала руки к груди Текля. — Неужто? Господи! — чуть не плакала она. — Говорила же я вам…
— Ой, говорили, кума, говорили! — Катря терла концом платка сухие, покрасневшие глаза. — Я и сама себе не раз говорила.
Андрей и Яринка тоже перестали есть, сидели растерянные.
— Ну, хватит вам! — повысил голос на женщин Андрон. — Слезами тут не поможешь. Гроб кто будет делать?
— Вот я и пришла просить вас. Если уж вы откажетесь… Вернется Роман — как-нибудь рассчитаемся. Что же мне делать одной?
— А доски хоть есть?
— Да какие-то есть. Разве я знаю… — Всхлипнула.
— Сходи уж, Андрон, — сказала Текля.
Жилюк молча вышел из хаты, а через минуту вернулся, стал точить рубанок.
— Идите, Катря, я сейчас.
— Спасибо вам… — А с порога добавила: — Ты, Яринка, приходи. Гуляли ведь вместе… И вы, Текля.
И снова меркнет перед глазами Катри дорога, покачивается божий мир.
Андрон заканчивал с Андреем гроб, когда во двор Гривняков вошел почтальон.
— Посылка вам, ценная. — Подал бумажку. — Распишитесь. — Показал пальцем в развернутую тетрадь и сунул карандаш.
Жилюк долго разглядывал уведомление, вчитывался в мелкие буковки.
— Да что вы его нюхаете? — заворчал почтальон. — Расписывайтесь, берите пять злотых и идите получать. Это, наверно, Павло что-нибудь прислал.
— Может быть… Писал ведь, что как только соберет немного злотых, так что-нибудь и купит… Может быть. Ведь Павло не какой-нибудь там жолнер задрипанный, а капрал.
Жилюк кое-как нацарапал что-то похожее на свою фамилию и заспешил с гробом. Холера ясная! Хоть бы материи какой-нибудь прислал. Или Яринке, или Андрейке. Не надо было бы покупать и злотые, выторгованные за сомовину, тратить. Десять злотых — это вам не шутка! Да и сами сколько съели. Пусть подавятся своей каменоломней. Он теперь как-нибудь дотянет… А тот глупый на ярмарке, который прицепился было в Копани из-за мяса, думал, что напугает его. Как же! Записал фамилию и свидетелей. Пиши, холера бы тебе писала! Уже пуганые. Думал, вот так возьму да и выложу ему весь барыш. Эге, пан! Хоть ты и власть, да и мы не лыком шиты. Ты себе акт, а я себе денежки. И будь здоров! Ищи ветра…
Так-то так, но пока они гроб сколотят, почтари возьмут да и распечатают посылку. Что им? Откроют — и все. Ходи потом, добивайся. Вот говорят же, что все письма, все посылки где-то там просматриваются. Конечно! Тем паче — военные. Непременно будут глядеть. А там, может, табачку или сахару Павло надумал прислать… Ведь возьмут! У них к рукам все липнет.
— Андрей! Слышишь? — крикнул он нетерпеливо сыну, который куда-то отошел. — Не сходил бы ты на почту? А то пока мы здесь управимся, как бы не завечерело…
— Но надо же пять злотых, отец.
Андрон отложил молоток, покопался в бездонных своих карманах и вытащил злотые.
— На вот. Да смотри там, чтоб не того… не горячись… Скажешь — отец послал, сам гроб делает у Гривнячихи.
— Хорошо, хорошо. — Андрей спрятал деньги, отряхнулся от стружек и пошел.
Уже от ворот Жилюк вернул сына.
— Ты того… деньги сперва не отдавай, пусть сначала посылку тебе отдадут, — учил он.
…Все было как надо. Часа через три, когда Андрон, сколотив гроб и выстелив его мягоньким сенцом, перекуривал на крылечке, вернулся Андрей.
«Эге, посылка таки хорошая, — подумал Жилюк, заметив, что Андрей несет ее с трудом. — Павло кое-чего не пришлет».
— Ну что? — для уверенности спросил у сына.
— Ничего. Я им уведомление, они — распишитесь тут и тут, выдали посылку, я заплатил да и пошел.
— И не спрашивали ничего?
— Нет… Вот только посылка, кажется, не от Павла, — прибавил Андрей.
— Как? А от кого же? — бросился Андрон к ящику.
— Да ведь Павло не в Копани служит…
— А разве… — у Жилюка внутри все похолодело. — Дай-ка топор.
Андрон оторвал фанеру, отложил в сторону.
Холера ясная!
Поверх всего в посылке лежал акт — тот самый акт, который составил ярмарочный в Копани. А дальше… Жилюк быстро выбрасывал из ящика какие-то бумаги, инструкции, сборники законов Речи Посполитой… Вот так попался! Чтоб вас громом побило, басурманов проклятых, чтоб под вами земля провалилась! Пять злотых!.. Ой, горюшко!..
Андрон было замер над посылкой, а потом схватил топор — и ну рубить: ящик, бумаги, законы…
— Чтоб вам! — шипел он от злости. — Кровью заплатите! — грозил неизвестно кому и сек, крошил что попадалось под руку.
— Отец, — отважился подойти Андрей, — люди вон…
— А? Люди?! — лютовал старик. — А если люди, так что? Пускай видят… Пускай знают… В правду… в законы, в Мосцицкого… Смиглого… мать! Я им покажу!
Подул ветер, покатил по двору белую порошу…
Когда все было изрублено, Андрон бросил топор, сел на бревно, на котором только что острым топором вытанцовывала его злость, и заплакал. Никто к нему не подходил, никто не утешал: несколько женщин, пришедших на похороны, снаряжали среднюю Гривнякову в последний путь. Андрей, захватив инструмент, сгорбившись, пошел домой…
Андрон один оплакивал свою беду.
Слабым перезвоном отточенной стали заходила в Великую Глушу косовица. Росными утрами она отзывалась то из-за Припяти, то где-то в лесу, а когда солнце поднималось выше, подсушивало траву, косы умолкали до самого вечера.
Косили главным образом свое, по берегам, но украдкой выбирали по охапочке, по две между кустами, на болотах. Там было графское. А травы выросли сочные, буйные, густые — хоть ложись на них сверху. Шумели под ветром, пахли душисто, нежно.
— Счастье проклятому! — глаза селян светились завистью. — Хорошую прибыль получит!
— Ну, это еще посмотрим…
— Почему же? Сдаст сено войску, как в прошлые годы…
— Сказал слепой — увидим. На корню не сдаст. Если мы с тобой не скосим, то черта лысого он сдаст, а не сено.
— Это конечно. Только не выйдет так. Если мы не будем, так, к примеру, высоцкие возьмут и выкосят.
— Не пустим никого — и крышка.
Днем и ночью около фольварка стояли заслоны. Работников, с косами и полупустыми торбами за плечами бродивших от села к селу, встречали как будто случайные люди, заводили с ними разговор — откуда, мол, да как там у вас? — и помаленьку отваживали от села. Случалось, применяли и силу. Однажды, когда в заслоне был Проц, к селу подошли три косаря. Федор — он будто бы шел своей дорогой — попросил у них прикурить. Услыхав запах настоящего табака (накануне Проц побывал в городе и добыл у знакомого несколько пачек махорки), селянин, который высекал огонь, попросил закурить.
— Идем не евши, не куривши.
— Что ж? Закуривайте, — Проц раскрыл кисет.
Из трех спутников двое были курящими, они оторвали по кусочку бумаги, послюнили пересохшими губами, свернули самокрутки.
— Как тут у вас? — расспрашивали. — Еще не откосились?
— Будто бы нет, — равнодушно сказал Проц.
— Поздновато. Как бы дожди не зачастили.
— Нам спешить некуда. Наше не сгниет.
— А пан как же?
— Граф у нас. Пока терпит… Должен терпеть.
— А что же вы? — допытывался скуластый, с острым кадыком мужчина. Он глубоко затягивался дымом, глотал его жадно, словно еду. — Думаете, будет по-вашему, как вы захотите?
— А то как же! — взглянул на него Проц. — Не даст по четыре злотых — пускай сам косит.
— Сам не будет, — рассудительно заметил скуластый, — а вот нанять кого-нибудь сможет.
— Хоть бы вот нас, — прибавил другой.
Федор посмотрел на косаря: обросший, в пыли, одежда — латка на латке. «Эх, человече! — душа Проца наполнилась сочувствием. — Разве я тебе враг? Было бы у меня, своего уделил бы — на, ешь, деточек своих потчуй… Но ты прими во внимание: должны ли мы отдавать даром свое кровное? Наша ведь сила. Вот и гнем по-своему». А вслух твердо сказал:
— Штрейкбрехеров не пустим.
Помолчали. Докурили цигарки, вытряхнули недокурки в карманы.
— Так что же нам делать? — спросил скуластый. — Может, слышь, не напрасно ты нас угощал табачком? Не случайно тут встретил?
— Это уж как хотите. Мы к вам не идем.
— А к нам и идти некуда. Брестские мы, из депо… Безработные, словом. Этот, правда, — кивнул он на заросшего, в заплатах, — из села… по дороге пристал к нам.
Все стояли насупившись.
— На каменоломню идите, там берут, — посоветовал Проц. — И заработок вроде ничего.
— А вы что же?
— Нас не захотели. Ненадежные.
— Так, может, и правда податься? — соображали пришельцы, расспрашивали, как попасть на каменоломню.
— Я все же пойду на фольварк, — отозвался крестьянин. — Хоть куда-нибудь наймусь.
— Никуда ты, брат, не пойдешь, — стоял на своем Проц. — Не я заверну, так другие.
Крестьянин не обращал внимания. Вскинул косу на плечо и уже собрался было идти. Но Федор стал на дороге:
— Не доводи до греха. Хочешь — зайдем ко мне. Переночуешь, поедим, что там найдется, а против народу не иди.
— Я не нищий. Честно хочу заработать. Пусти.
Двое других стояли в стороне.
Проц побагровел, жилы у него на шее напряглись, как напившиеся пиявки.
— У меня дети. Слышишь, пусти.
— И у нас дети, — прошипел Федор. — Чуть не каждый день на кладбище носим… Иди домой и делай то, что мы.
Крестьянин хотел было обойти Проца, но тот крепко схватился за косовище, вырвал и тут же об колено сломал.
— Теперь как хочешь.
Стояли друг против друга черные от злости, оба с голодным блеском в глазах.
— Что ты наделал, понимаешь?
— Я же просил тебя, — обмяк уже Проц: ему стало жаль бедняка. — Меня народ послал.
Крестьянин еще больше ссутулился, длинные, как будто с квадратными ладонями, руки его опустились. Казалось, вот-вот он заплачет.
— Косовище я тебе отдам… Свое отдам, — успокаивал Федор, — приходи, как наши начнут косить. А сейчас не могу. На каменоломню идите.
— Может, и правда пойти? — вставил один из пришельцев. — Пошли, раз уж так, — сказал он пострадавшему. — Куда теперь тебе?
Крестьянин молча снял со сломанного косовища косу, обмотал ее вынутой из торбы тряпкой, взял под мышку.
— Счастливо, — бросил им вслед Проц. — Так вот этой дороги держитесь, никуда не сворачивайте. А если понадобится — Проца спросите… Федора Проца.
— Спасибо, — обернулся скуластый. — Хоть на добром слове спасибо.
Пошли. Двое — впереди, один, ссутулившись, сгорбившись, без косовища, — сзади. Проц еще долго сидел, курил, глядя им вслед.
Ночь. Над пущей, над Великой Глушей серебристой подковой повис молодой месяц. Накрапывает дождь — мелкий, воробьиный, — тихонько шумит в листве. На болоте не унимаются лягушки, словно прискакали туда по меньшей мере с половины света на свое лягушечье сборище.
Не спит настороженное село. Блестит огонек в постерунке, в одной из управительских контор графского поместья, у солтыса. Беспокоятся блюстители, приглядываются: кто как повернется, чем дышит?
Пся крев! Это быдло хоть на кол сажай — они все свое. Снова листовки, плакаты. Подпольные ячейки. И откуда берутся? Все тюрьмы забиты. Береза Картузская… Сколько постреляли! Не страшатся… С голоду дохнут, как осенние мухи, а тоже — волю им давай, независимость, образование на родном языке! Воссоединяй их с Великой Украиной… Дались им эти Советы! Думают, так-таки Пилсудский и расстанется с восточными кресами[5], отдаст их. Как же! Такой кусок! Одних лесов — не обойти, не объехать. А скотины! А рыбы! Да и хлеба… Пусть благодарят матерь божью, что в двадцатых годах Поднепровье уступили, это земли прадедов наших — Потоцких, Браницких. Спокон веков, пся крев! Воссоединение… Погодите! Будет вам и родной язык и воссоединение, лайдаки!
Постерунковый Постович крался по сельским улицам. Прошел мимо лавочки Пейсаха, оглядел, все ли хорошо, не наклеено ли каких листков, и только что завернул в переулок, где проживал пан солтыс, как от ворот метнулась тень.
— Стой! — во весь голос крикнул Постович и сорвал с плеча карабин. — Стрелять буду!
Но стрелять уже было поздно — человек легко перемахнул через плетень, кинулся в огороды. Постович подбежал к тому месту, где только что тенью мелькнул преступник. Остановился, прислушался: прошелестело к берегу. «Наверно, он не один, кто-то подал ему знак», — соображал Постович и еще пристальнее вглядывался в ночь. А она дышала покоем, благоухала терпкими запахами только что скошенных зеленых трав… Постович постоял еще, выругался неслышно и, держа оружие наготове, пошел ко двору. На новых солтысовых воротах белела бумажка. Постерунковый оглядел ее, осторожно сорвал — листовка была приклеена наспех.
…Пока Постович гонялся за неизвестным и топтался у солтысова двора, еще несколько человек вынырнули из серой ночной мглы, подкрались к лавке, к самому постерунку, оставили на них небольшие белые клочки бумаги и исчезли среди притихших хат. Один из них между верб и бурьянов проберется ко двору Жилюка, другой подастся к графскому поместью, тихонько, задами проникнет к людской, а еще одного спрячет школа… Утром, возможно, кто-нибудь из этих ночных птиц и появится в центре села, где — осторожно, тихонько — встречные будут делиться новостями, а постерунковые злиться от бессилия прекратить эти безобразия, — но это будет потом, днем. Пока же притихшая Глуша спит не спит — выжидает, словно боится пропустить то мгновенье, ту неповторимую минуту, когда над нею, над пущами забрезжит нежный рассвет.
Сход собрали в полдень. На площади около постерунка сошлись мужчины и женщины, хозяева и вдовы — те, кто мог еще ходить, у кого была какая-то устойчивость в ногах.
— Не слышал, зачем позвали? — спрашивали друг друга.
— А бес их знает…
— Может, какой новый закон вышел?
— Может.
— Говорят, ночью кто-то листовок понацеплял.
— Да ну?
— Вот вам и ну! Будто бы на самом постерунке. И на лавке…
— То-то будет работа…
— Видите, забегали паны. Словно понос на них напал.
— Эге. Это что ж — новые вроде, не здешние?
— Может, из Бреста или из Копани приехали.
— Гладкие. Как кабаны.
— А чего им? Не с переднивка[6] же.
— Ну да.
— Что-то долго не начинают.
— Советуются… Холера бы с ними советовалась!
Но вот, когда выкурили по одной или по две цигарки да перемыли косточки всему начальству — от управляющего до постерункового, на высокое крыльцо из глубины постерунка словно вынырнул солтыс Хаевич, а за ним, лихо поправляя новую портупею, сам комиссар полиции. Его приезд не предвещал ничего доброго. Во всяком случае, так было в предыдущие разы. Да и сегодня лучше не будет: слишком уж беспокойное время, чтобы стать ласковее пану комиссару.
Хаевич был краток. Он ни словом не обмолвился о листовках, словно их совсем и не было или же никто о них ничего не знал. Речь его сводилась к тому, что, если они, глушане, завтра же не выйдут на сенокос, граф наймет из других сел.
— А бунтарей, которые и дальше будут мутить воду, отправим куда следует, — пригрозил солтыс. — Тут есть такие, знаем, — прибавил он.
«Черта лысого ты знаешь!» — хотел крикнуть в ответ Жилюк, но сдержался, только покосился на Проца.
— Ну как? — откуда-то выполз и управляющий. — Завтра раненько и с богом…
— А платить как будешь? — пронеслось над толпой.
— Да так же! Полтора злотых и приварок.
— Знаем ваши приварки!
— Три злотых!
Толпа зашевелилась, зашумела, — даже воронье испуганно закричало на старых осокорях, забило крыльями.
— Это грабеж! — Проц протолкнулся вперед. — Целый день за злотый и пятьдесят сотиков. Грабеж!
— Не будем за полтора!
— Пускай сам косит!
— Вот вам, пан Карбовский, наш ответ. Народ согласен за три злотых. И то — за восемь часов работы. Так я говорю? — обратился Федор к односельчанам.
— А то как же!
— Три злотых — тогда пойдем, — поддержал его Жилюк.
— Эй, ты там, чего разболтался? — заприметил Андрона солтыс.
— А что? — огрызнулся Жилюк. — Моим рукам косить, не вашим.
Хаевич, высокий, статный, нацелился сердитым оком туда, где стоял Жилюк, о чем-то пошептался с комиссаром.
— Вот и все, — бросил он. — Можно расходиться. Завтра чтобы все на работу. Плата прежняя. Да глядите — кто там с податями замешкался? Слышишь, Жилюк?
Андрон не отозвался. «Пусть ему холера отзывается, не я», — подумал он.
Крестьяне долго еще не расходились, стояли кучками, топтались.
— Ну как, Федор? Косу уже клепал?
— Моя и так возьмет. Пусть только сунется кто-нибудь.
— А все ж таки работа на самом деле стоит.
— Ну и пусть! — радовался Проц. — Не хочет по-нашему — пусть у него сгниет эта трава. А чужих не пускать.
В другом месте — другой разговор.
— Хорошо Процу говорить — без детей, один с женой…
— Ага. Куда захотел, туда и подался.
— Так как же быть?
— Как? Идти — и все. Как-никак — полтора злотых… Дома сидя и того не получишь.
— Еще ведь и приварок… Хоть панская ласка известная, а все же какой-никакой затирки наварят.
— Да, конечно.
…А Судник, вправляя грыжу, заметил:
— Увидим. Как люди, так и мы.
Расходились, унося домой тревогу, неясность, отчаяние. «И где он замешкался, этот конец света?»
А каменоломня жила. Ежедневно на рассвете за Припятью гремели взрывы, рвали каменную грудь земли, нарушали веками устоявшуюся тишину.
Устим Гураль работал каменотесом. Собственно, другой — кроме, конечно, хлебопашеской — профессии у него и не было. Много лет назад он пришел сюда мальчиком, возил тачку со щебнем, а потом сменил ее на зубило и молоток. Перед тем как должны были закрыть выработку, он стал чуть не лучшим мастером в округе. Вытесанные Устимом гранитные глыбы есть, наверно, и в Бресте, и в Копани, а может, и в самой Варшаве стоят надгробьями на могилах именитых господ.
Гуралю приятно сознавать в руках свою силу, а в сердце гордость. Каждый раз после взрыва, когда тяжелая, смешанная с пороховым дымом каменная пыль уляжется, осядет на траве, на молоденьких ольхах, что кустятся вокруг, он медленно выбирал подходящие глыбы, выстукивал внимательно, нет ли в них трещин, ставил свои метки. И когда рабочие, расчищающие выработку, натыкались потом на выведенные дегтем инициалы «У. Г.», то обходили глыбы, шутили:
— О! Еще одним паном меньше!
— Из-под этого камешка не встанет.
— Только бы дохли, камней мы им наготовим…
Глыбы подвозили к мастерской — крытому, с тремя стенами сараю, вокруг которого лежали готовые, уже обтесанные стояки и плиты и валялись случайно расколотые. Устим, еще раз оглядев материал, плевал на жесткие свои, ободранные ладони и брался за инструмент. Сначала молотком отбивал острые выступы, откалывал лишнее, а уже потом приступал к обработке. Небольшое, куцее зубило так и играло в его руке, словно само знало, где ему нужно остановиться, вгрызться, чтобы отколоть еще небольшую крошку неподатливой породы.
— Горячая у тебя, Устим, работа, — завидовали каменщики, — с огоньком.
— А как же, — отвечал он и отворачивал лицо, когда слишком уж большой сноп искр брызгал у него из-под руки.
Впрочем, не могильные плиты и надгробья, которые вырубал Гураль, были главным делом. Выработку открывали совсем не ради этой продукции. Подрядчиков интересовало другое — камень. Камень для строительства дороги. Надгробья и плиты — это так, между делом. Главное — эти небольшие шершавые камни, что, улегшись рядом, понесут на себе быстрых коней, автомобили, а может, и сталь — туда, на восток, через леса и болота, через поля и луга, к той влекущей земле… В нем, этом камне, сейчас великая нужда. Он стал дороже хлеба и картошки. Ведь что хлеб? Вспахал, посеял и вырастил. Гранит же растет без семени, растет тысячелетиями, и, чтобы добыть его, нужны не какие-то плуги и бороны да мозолистые вдовьи руки — нужны умелые, верные, которые могут продырявить каменную твердь, забить динамит или порох и рвануть так, чтобы эхо за десятки верст прокатилось. Рабочие руки нужны. А их тут, в Великой Глуше и других селах, не густо. Кое-как собрали немного быдла. А что от него? Только и всего, что кряхтит. Да стонет. Да сидит перекуривает. А сойдутся вместе после работы или так, в обед, — и пойдет болтовня… Пся крев! Канчуками бы их расшевелить. Чтобы знали, что это государственное дело, что того требуют интересы отчизны. Лентяи! Мало им платят, подай им рабочую одежду, рукавицы… А холеры не хотите?! Я вам дам одежду — в кандалы всех до одного одену…
Инженер Пшибосский нервничал: вчера приезжал на выработку сам начальник строительства дороги и дал понять, что недоволен его работой. Камень идет вяло, машины часто простаивают. А разве он сам этого не видит? Разве не знает, что с таким количеством людей можно сделать куда больше? И знает, и видит, а помочь не может. Какая-то неподвластная ему сила словно сдерживает каменщиков. Где ее начало, где зародыш этой силы? Неужели и сюда, в эту пущу, в эти болота, уже успели проникнуть забастовщики, эти из бывшей КПЗУ, которые ждут не дождутся краха панской Польши, его Польши, и, как на бога, надеются на Советы? Неужели? Умные люди советовали ему приглядеться, Хоть бы к тому же Гуралю. Что-то слишком уж липнут к нему и эти и приезжие какие-то… Тихий-тихий, а глядишь — не его ли рука? Все они такие: словно и послушные и старательные, а настанет время — петлю на тебя накинут, еще и улыбнутся: прошу, мол, пана… Но нет! Он себя надуть не даст. Горло перегрызет в случае чего.
Пшибосский наспех собрал и как попало засунул в ящик бумаги, которые только что просматривал, и вышел. Выработка была как на ладони — замшелые, покрытые сверху мелким кустарником массы гранита отдавали синеватым блеском внизу, в огромной каменной чаше. Полдневное солнце удлиняло серые тени редких, обшарпанных взрывами сосен, лучами упиралось в противоположную стену выработки. На дне ее, где понемногу уже ткалось предвечерье, в едкой гранитной пыли копошились люди. Сверху, оттуда, где стоял Пшибосский, они казались маленькими, покорными и совсем не страшными. Слабо шевелились среди обломков породы, длинными обгрызенными рычагами подтягивали тяжелые глыбы, нагружали их на небольшие платформы, везли к подъему. Другие утомленно махали молотами — дробили камень… «И это те, кого я должен остерегаться? — даже усмехнулся инженер. — Быдло! Я им покажу, где раки зимуют!»
У навеса Гураля сидело несколько пришельцев. Сам Гураль, завидев Пшибосского, поднялся, делая вид, что чем-то занят, а те утомленно сидели, курили, изредка переговаривались. «Прикидываются, что им все равно, — подумал инженер, — а отвернусь — опять за свое примутся. Еще, чего доброго, листовки разбросают». Он разозлился и решительно направился к Гуралю.
— Кто такие? — спросил, окинув взглядом пришельцев.
— К вам, пан инженер, — поспешил ответить Устим. — Наниматься пришли.
— Если ко мне, то тут не сидели бы. — Он оглядел их полупустые торбы.
— Устали мы… присели вот, а потом думка была и к вам, пан начальник, — вставил скуластый человек в рабочей спецовке. Рядом с ним и другим, что сидел рядом, лежали косы, а у третьего коса без косовища торчала из торбы.
— Думали, где-нибудь в фольварке наймемся, а там своих хватает, — продолжал тот же, в спецовке, заметив внимание управляющего к косам.
— Нет работы. Идите откуда пришли.
— Да хоть какую-нибудь, — сказал тот, что с косою в торбе.
— Прочь! — завизжал Пшибосский. Тон, каким говорил крестьянин, его жалкий вид раздражали пана инженера. — Здесь не богадельня… — Пан повернулся и пошел.
Пришельцы стали собираться.
— Не спешите, — советовал Устим. — Поверещит, да и возьмет… Куда ему деваться? Работы вон сколько. Он со всеми так… — И прибавил: — Пойдите где-нибудь отдохните, сегодня все равно уже поздно, а завтра с утра к нему.
Пшибосский отправился на выработку. Бешено ревя моторами, мимо него прошло несколько нагруженных машин. Одна из них замедлила ход, и из кабины, прямо под ноги инженеру, вывалился толстый подрядчик.
— Пан Пшибосский! — сказал он, вытирая платком вспотевшую лысину. — Будем завтра взрывать камень?
— А почему нет? — спросил удивленно инженер.
— Выработка и так завалена, пан инженер.
— Как? Почему… почему вы мне это говорите?
Подрядчик немного отступил: в голосе пана начальника зазвучали неприязненные нотки.
— Почему не выбрали камень? Пся крев! Я вас спрашиваю!
— Это быдло… — забормотал подрядчик. — Я говорил пану… они едва ноги таскают…
— А злотые? Злотые за что мы им платим? И вам — за что?
Рабочий день заканчивался. Группа рабочих утомленно брела с выработки.
— Эй, вы! — крикнул им инженер. — Стойте! — И приказал подрядчику: — Вернуть! Не пускать, пока не очистят выработку!
Он был решительным, этот молодой Пшибосский. Злость, закипавшая в нем, гонор и страх, страх перед этими голодными нищими, утраивали его упрямство, прибавляли — хоть и безрассудной — смелости. Он знал: это иногда помогает. Не часто, правда, только иногда…
— Все до одного назад!
Впрочем, он не подходил к ним, он только приказывал. И смотрел, как отзываются на его слова, на его волю и на подрядчикову просьбу. А они стояли, топтались, о чем-то спорили. Но вот один повернулся, побрел назад. За ним, все еще колеблясь, нехотя пошли и другие.
«Ну вот, — впервые за весь проклятый день обрадовался Пшибосский, — все хорошо… Напрасно только нервничал. Вероятно, все мои опасения от нервов, от недосыпания… А видите — ничего страшного. Это быдло только подгоняй. Иногда и пообещать не мешает… Интересно, чем он, — вспомнил про подрядчика, — убедил? Что он наобещал им?»
В село приехал экзекутор. Глушане как раз разбрелись в поисках поживы по лесам и болотам, когда он вместе с солтысом и двумя постерунковыми приступил к сбору податей. Большая пароконная фура громыхала от двора к двору, волокла за собой собачий лай, незримую ненависть людских взглядов.
По Глуше сразу поползли слухи. Там забрали подсвинка, там еще что-то. Село заволновалось, зашумело, заплакало. Словно и не было весны, соловьев, кукушек, не омывали его широкие и буйные разливы луговых цветов и трав, словно сроду царствовали тут неправда и порожденные ею слезы и печаль.
К дому Жилюка фура подкатила в полдень. На ней уже громоздилось немало всякого добра, взятого за неуплату. Подводу сопровождала толпа женщин. Они слезно умоляли уважить их бедность — вернуть вещи. Экзекутор и солтыс, не обращая на них внимания, соскочили с фуры и пошли во двор, а постерунковые, которые остались стеречь конфискованное, кричали на женщин, отгоняли, грозили запереть на ночь в кутузку. Женщины немного отходили, но потом подступали снова.
Текля как раз снимала с верстака штуку полотна, когда вбежала Яринка:
— Мамочка, идут!
— Кто?
— Да эти же — солтыс, а с ним еще какие-то.
У Жилючихи похолодели руки. Хоть бы раньше снять да спрятать, а то как нарочно… Она быстро обрезала тесемки и только нагнулась за полотном, чтобы засунуть его куда-нибудь, как дверь распахнулась и в хату вошли Хаевич и еще какой-то пан.
— Где Андрон? — бросил солтыс.
— Поехал куда-то. Еще с утра… Вдвоем с хлопцем поехал. — Текля так и стояла, держа свернутое полотно на руках, как ребенка. — Может, соберут чего-нибудь… — Она наконец положила полотно, отряхнула подол. — Садитесь же! Хоть у нас и не прибрано, да вот здесь можно, — смахнула с лавки тряпье. — Садитесь.
— А что садиться? — буркнул солтыс. — Мы за податью. С вас причитается… — Он раскрыл тетрадку, заглянул туда. — Вы задолжали государству тридцать семь злотых и сорок грошиков, вот поглядите, пан экзекутор. — Он поднес ему бумагу.
— Эге, — подтвердил тот, — много. Когда думаете платить?
— Кто его знает! — чуть не плакала Текля.
— Я предупреждал, и не раз, — вставил Хаевич.
— Деньги есть?
— Да откуда! Были бы, так разве до сих пор не заплатили…
— Старая песня! — Экзекутор взглянул на солтыса. — Будем брать имущество. Скотину имеете? — обратился он к Текле.
— Какая у нас скотина! Разве что за воротом! Смилуйтесь, люди добрые.
— А лошадь? — вставил Хаевич. — В хозяйстве есть конь, — пояснил он экзекутору, — и воз.
Текля заплакала. Глаза ее покраснели, в горле сразу пересохло, время от времени его сводили судороги.
— Конфисковать, — говорил экзекутор, похаживая по хате. — Где конь?
— Да говорю же — поехал.
— Когда будет?
Жилючиха молчала.
— Это, — экзекутор подошел к полотну, — тоже забрать.
Хаевич хотел было взять полотно, но Текля упала на него.
— Не дам! У меня дети голые… Яринка, донюшка! Беги к людям… пусть спасают. Не дам! — Худые плечи ее вздрагивали.
Яринка, испуганно прятавшаяся за верстаком, бросилась было к двери, но экзекутор поймал ее.
— Куда? — и толкнул девчушку так, что та чуть не ударилась об угол стола. — Постерунковый! — крикнул экзекутор. — Где они там?
— Одну минуту! Я сейчас позову. — Солтыс выскочил.
Постерунковый влетел как ошалелый, бросился к женщине, вырвал полотно.
— Осмотрите всюду! Все, что подлежит конфискации, взять, — приказал экзекутор. — А хлопа с конем найти!
Постерунковый мигом открыл сундук и начал переворачивать в нем все вверх дном.
— Вот! — вынул аккуратно сложенное клетчатое рядно.
— Забрать.
Текля плакала, просила, но к ней были глухи. Забрали. Взяли ее кровное.
— А, чтоб оно вам на похороны пригодилось, — кляла Текля непрошеных гостей, — чтоб под вами земля расступилась…
— Ну-ну! — пригрозил ей постерунковый.
— Чтоб глаза ваши света не видели… Нелюди вы…
Увидев возле двора людей, Текля осмелела еще больше. Она выбрала момент, когда Хаевич загляделся на что-то, подскочила и выхватила свое добро. Солтыс от неожиданности выпустил полотно, оно расстелилось извилистой дорожкой. Жилючиха рванула его, еще больше раскатала по двору.
— Не дам! — кричала она. — Люди!
А женщины словно только того и ждали — бросились к подводе, хватали каждая свое. Полицейские оставили Теклю, вернулись к подводе, но угомонить крестьянок уже не могли. Те хватали, рвали и со всех ног бросались наутек. Откуда-то взялось и несколько мужчин.
— Гони! — крикнул солтыс ездовому и ударил коней.
Добрые, из графской конюшни, вороные рванулись, задрав головы, понеслись по широкой улице. На подводу едва успел вскочить один из полицейских, другие — экзекутор со свитой — остались.
Кто знает, чем бы это все кончилось, если б ко двору, где все еще стоял народ, не подъехал Андрон.
— А ну, поворачивай! — крикнул на него Хаевич. — Поворачивай, говорю! — и замахнулся палкой.
Жилюк отклонился, и удар пришелся ему по плечу.
— В чем дело, пан солтыс? — побагровел Андрон. — За что? — И недолго думая хватил старосту кулаком.
Хаевич увернулся и в следующее мгновенье бросился на Жилюка. На помощь ему подскочил постерунковый. Андрону скрутили руки, связали его же кнутом, кинули в полудрабок, где все еще сидел, держа вожжи, Андрей. Все произошло так быстро, что никто из крестьян не сообразил, что делать: отбивать Андрона или спасаться самому? Только Текля рвалась к мужу, бросалась к экзекутору, к солтысу, к полицейскому, приговаривая: «Ой, что же это будет?.. За что же? Детушки мои! Степан, Павло… Защитите же его! Люди! Слышите?..»
Ее били по рукам, по голове, по лицу, а она лезла, кричала, умоляла, проклинала. Крестьяне хотели было заступиться, но Постович вынул пистолет, пальнул в небо раз-другой, и толпа расступилась. Хаевич вырвал у Андрея вожжи, столкнул хлопца, и экзекуторы, прихватив полотно, — с рядном Яринка успела-таки спрятаться, — помчались в постерунок.
Награбленное сложили в одной из комнат постерунка, для скотины же графский управитель отвел половину конюшни. Лошадей разместили вместе с коровами и телками, а поросят, овец загнали в старенький хлев, стоящий на отшибе. Никогда еще в графском дворе не было такого шума! С самого утра, как только начали сводить туда скотину, над фольварком стоял сплошной рев: жалобно мекали овцы, верещали, роя землю, голодные поросята, тревожно мычали коровы… Только лошади, эти мудрые, нетребовательные работяги, молчали. Спокойно бродили по конюшне, тыкались мордами в пустые ясли, выискивали остатки панского оброка. Им было все равно, даже хорошо: никто не запрягал, не бил, не пинал в живот… Известно, лучше было бы на лугу или в лесу, но что же делать? И лошади молча подходили к настежь открытым дверям, из которых, однако, не выйдешь, потому что мешала перекладина, полными печали глазами смотрели на непонятный мир…
А мир между тем жил своей обычной жизнью. Вечером около постерунка собрали сход. Кто пришел, кто нет, — солтыс не стал ждать.
— Так вот, — вышел он на крыльцо перед хмурой толпой. — Кто хочет вернуть свое добро, пусть платит половину податей, а завтра утром на сенокос.
«Сенокос! Вот что волнует панов. Ну-ну…» Впрочем, молчали, рта не раскрывали.
— Ну как? — не терпелось Хаевичу. — Что молчите?
— Где Андрон? — послышалось. Все обернулись на голос. — Зачем взяли человека? — Проц, высоко подняв голову, смотрел поверх фуражек и платков на солтыса.
— А тебе что? Может, соскучился?
Крестьяне зашумели:
— Выпустите человека!
— Это наше дело, — огрызнулся Хаевич.
— И наше…
— Думайте лучше о себе.
— Вот мы и думаем. Выпустите.
Проц, а за ним еще несколько крестьян пробились к крыльцу.
— Вы же его первый ударили.
На крыльце появился Постович.
— Куда лезете? А ну, отойдите!
— Позвали — так и лезем. Где Жилюк?
В голосах появились угрожающие ноты. Хаевич немного сбавил тон:
— Здесь он. Где же ему еще быть? Переночует, заплатит штраф, чтобы знал, как поднимать руку на власть, и отпустим.
— Сейчас отпустите!
— Я уже сказал, ничего с вашим Андроном не станется… Так вот, слышали наше решение? Половина долга и на сенокос, — повторил Хаевич. — А нет — все продам.
Он повернулся, исчез в помещении. Скоро оттуда вышел еще один полицейский.
— Айда по домам! — крикнул Постович. — Расходитесь!
Постерунковый сошел вниз, начал оттеснять людей от крыльца.
— А ты не очень, — уперся Проц.
— Поболтай мне! — Случайно, а может, и нарочно полицейский толкнул Федора.
— А, ты еще и толкаться, дрянь? — Проц сгреб полицейского — вся сила его сейчас сосредоточилась в руках, — поднял и поставил на голову.
Хохот прокатился по площади. Полицейский молотил ногами, старался вырваться, но Федор крепко держал его.
— Будешь толкаться, сукин сын?
На помощь потерпевшему бросился Постович. Он подбежал сзади, изо всей силы ударил Проца по затылку. Тот пошатнулся, но сразу же выпрямился, размахнулся и дал сдачи. Тем временем поднялся второй полицейский и, схватив какой-то обрубок, норовил попасть Федору по ногам. Кто-то из крестьян схватил его за руку, кто-то толкнул сзади — и пошло. Проц припирал к стене Постовича, кричал, чтобы ему дали веревку, крестьяне толкали другого… На крыльцо выскочил солтыс:
— Остановитесь! Стрелять буду.
В руках у него был карабин. Видя, что слова его не доходят до толпы и что обоим постерунковым солоно приходится, Хаевич стрельнул вверх. Толпа на миг притихла. На один миг. Потому что тут же прозвучал голос Федора:
— Люди! Женщины! Берите свое добро!
И те, что были ближе, рванулись к крыльцу, стащили солтыса, вскочили в постерунок…
Свечерело. Дед Миллион выполз из людской, накинул серяк, взял старую-престарую, до блеска вытертую руками берданку. Он и сам не знал, зачем брал ее каждый раз. Разве что для острастки. Ружье не стреляет, патронов никто не дает… Да и в кого стрелять? Что тут, воры? Полещуки — народ честный, сроду никого не обижали. Не тронь их — и они тебя не тронут… Волки? Те боятся. Овец у графа нет, а напасть на лошадей или коров не всякий зверь отважится. Так что стрелять не в кого. И ружье у старика, должно быть, для удобства. Ведь на что другое, скажите, можно так хорошо опереться, стоя посреди двора и глядя на мир божий? На посох? На костыль? Не то… И тонкое, и острое… Да и в руках словно ничего нет. Другое дело — ружье. Ложе — во! Широкое, устойчивое, одно поставь — не упадет. А два ствола! Обопрешься на них руками — и уже легче тебе, уже ногам отдых. А осенью или зимой, если наложить на них, на эти стволы, кожаные рукавицы… боже мой! Чего еще нужно? Прильнешь подбородком — подушка, и все тут!
Миллион обошел подворье, позакрывал двери и встал на своем излюбленном месте. Есть у него такое местечко. Недалеко от ворот, под старым явором. Оттуда и село как на ладони, и дорогу видно далеко-далеко, и речку… Весь мир, кажется, перед глазами. И как же он хорош! Господи! Какой еще там рай нужен? Вот он, среди этих лесов, лугов, полей — хоть и маленьких, песчаных, но родных, родных… Под этим небом… Жили бы себе люди. Смирно, в согласии. Хлеб-соль зарабатывали. Детишек растили бы. Так нет же! И кто пустил среди вас врагов, люди? Кто дал одному сил больше, чем другому? И богатства, и знатности… Кто? Кто этот безрассудный? Зачем он так сделал? Почему один должен гнуть спину на другого? Почему один живет в роскоши, в безделье, а другой — от переднивка до переднивка? Сухой корке радуется. Где же правда? Где твоя воля, господи? Зачем допускаешь такое? Мы же тебе молимся. Уважаем. Просим. Погляди! Сердце ведь разрывается. Людей заковывают, мучают, стреляют, морят голодом. Забирают у них их же руками честно нажитое…
Думы налегли на старого, как грозовые тучи на землю. Одна тяжелее другой, одна другой чернее. И душа его отозвалась криком, стоном, вздохом. Никогда не плакал, а вот сегодня сердце так ноет, так щемит, что были бы слезы — сами полились бы. Наслушался крика, рыданий, — на край света сбежал бы, заткнув уши… Да куда побежишь? К кому пойдешь?
«Да они же не кормлены, не поены, — соображал он. — Может, сказать кому, хотя бы той же Марийке? Подкинуть бы чего или хоть бы воды налить?» Он уже вышел было из-под явора, чтобы позвать Марийку, а может, еще кого, как вспомнил: управитель приказывал никого к скотине не подпускать. Пусть, мол, ревет. Скорее дойдет до этих лайдаков… «Ну что же, что говорил? — спрашивал сам себя дед. — Увидит — скажу… своим нес, панским. Да и где он там увидит? Пьет, наверно, или в карты режется». И старик поковылял дальше. С трудом ступал — словно толкач в ступе — в изношенных сапогах. Неуклюже свисало со старческого плеча ружье.
От дверей людской отделился человек. Стал за углом. Не Андрей ли? Но зачем ему прятаться? Подошел ближе.
— Ты, Андрей?.. Почему ты от меня прячешься?
Мальчик выступил из темноты, горячо зашептал:
— Дедушка, чтоб никто не слышал. — Он оглянулся. — Они сюда идут.
— Кто?
— Да наши же, глушане… За скотиной идут. Из постерунка все уже забрали и отца выпустили. А постерунковых связали, лежат там, как кабаны… Сейчас придут. — Он тяжело дышал, видно, бежал от села. — Так вы, дедушка… может, спрячетесь?
— Чего же мне прятаться, хлопче? Не дело советуешь… Ты вот что… — Старик на мгновение задумался. — Вот что, Андрейка, поищи где-нибудь веревку.
— Да где же ее тут найти? Хотя постойте. Я быстро.
Он проскользнул в дверь. В темном проеме появилась Марийка, словно ждала парня и слышала весь их разговор. Они пошептались, девушка нырнула назад, в темень сеней, и вскоре вернулась с веревкой.
— Вот, — подал Андрей старику.
— Плохонькая, лихо бы ее взяло, — пощупал дед веревку, — ну, да ничего, пошли.
Они пересекли двор, подошли к ветвистому явору.
— Не видно? — спросил Миллион.
— Кого? Наших? Нет, еще не видно.
Андрей схватился за сук, подтянулся на руках и мгновенно очутился на яворе. Теперь ему хорошо все вокруг видно. Даром что вечер, а видит и село — вон блестит редкими огоньками, и широкий плес Припяти — там хорошо купаться! И лес за рекой. А лучше всего видно дорогу, на которой вот-вот должны появиться глушане. Андрейка напрягает зрение, вглядывается в густые вечерние сумерки, ищет самого маленького признака, что люди уже идут. Скорей бы! Пока паны не опомнились, пока полицейские еще связаны… Ну и дядька Проц! Так скрутил Постовича, что тот и не пикнул. А солтыса! Даром что с ружьем — женщины чуть не смяли. И карабин куда-то забросили. Ха-ха, пусть теперь поищет! Плохо только, что паршивому экзекутору дали убежать. В окно, холера, выскочил… Ну, да пока-то он доберется до Копани… Наши вот-вот будут… Скорей бы! Скотина ревет — сердцу больно. Слышите? А вот и собаки отозвались. Ну где же они? И вдруг совсем близко Андрейка уловил голоса, шорох. Идут! Видно, берегом подкрались.
— Идут, дедушка, — соскакивает парнишка на землю.
— Ну и слава богу. А теперь, Андрейка, вяжи меня, слышишь?
Андрейка остолбенел. Связать? Зачем?
— Вяжи, говорю, — сердится дед, — да поскорее! На веревку, свяжи по ногам и по рукам. А это, — поглядел он на ружье, — к бесовой матери, — и швырнул берданку за тын, в палисадник. — Вяжи!
Миллион лег под явором, протянул назад руки. Андрейка только теперь понял, зачем понадобилась деду веревка, и начал вязать.
— Да не так! — вертелся дед. — С рук начинай, вяжи руки… и быстрее, а то не успеешь — я уж слышу их за воротами… Вот так, крепче, крепче затягивай, не бойся. А теперь ноги спутай, как коню.
Не успел Андрейка «спутать» старика, как через тын перемахнули несколько человек, кинулись к воротам.
— А ворота-то мы забыли открыть, — вспомнил дед. — Беги, Андрей, помоги, да пусть не шумят, тихонько.
Андрей побежал, но там уже и без него стучали засовами, открывали кованные железом, тяжелые ворота. Во двор ворвались люди. Десятки ног затопали, зашаркали.
— Андрей! А ты тут как очутился?
— Айда к конюшне!
— Тише!
— Тихо!
— Чего там, айда. Скорее!
Люди шумели, голоса их сплетались с ревом скотины, лаем собак и тонули в пустоте вечернего неба. «Хоть бы не поднять этих», — мучился старый Миллион, с тревогой поглядывая на окна. Там еще горел свет, там еще не спали. В любую минуту могли услыхать, а уж если услышат, не миновать лиха…
А глушане уже были около конюшни, добегали до хлева с поросятами и овцами…
Жилюк с Процем сбивали замок, когда около барского дома прогремел выстрел. Шум сразу затих. Но когда выстрелили второй раз, ближе, толпа снова засуетилась. Проц изо всей силы рванул замок — тот отлетел, двери распахнулись. Крестьяне бросились внутрь, выводили скотину, чем попало гнали к воротам, на дорогу, а вслед им, прямо в толпу, стрелял управляющий. К счастью, он был один, без гостей, которые тоже могли бы открыть пальбу. Поднятая им челядь не отважилась вступить в драку, топталась, махала руками, кое-кто кричал и тем еще больше помогал глушанам… Но когда в толпе послышался стон, а чья-то коровка, заревев, тяжело упала, стало ясно: нужно что-то делать; скотины в стойле еще порядочно, почуяв опасность, она упиралась, не хотела выходить, — так он, проклятый, может кокнуть не одного.
Андрей все время был около отца. Слышал его кряхтенье, восклицанья — по временам злые, матерные, а иногда и радостные, возбужденные: «Вот! Пусть теперь знают!»
Добраться до своего буланого им сразу не удалось, — тот, как назло, забился в угол, — и потому они сначала помогали другим.
Когда началась стрельба, Жилюк-сын отделился от толпы, обежал конюшню и через несколько минут был позади слуг.
— Марийка! — крикнул он девушке, стоявшей неподалеку.
Марийка быстро подалась к нему.
— Нужно как-то этого… управителя… — недосказал он. — Уже кого-то ранил, проклятый. Чем бы его? — Взгляд Андрея упал на корзину, валявшуюся около кухни. — О! Сейчас я его! — Он схватил корзину.
— Что ты надумал, Андрейка? — тревожно зашептала девушка. — Еще кто-нибудь увидит…
Жилюк не ответил — было некогда. Он видел только высокого управляющего в белом, — наверно, выскочил в одной сорочке, — который прижался к тыну и стрелял, стрелял не целясь — наобум… Андрей кошкой перемахнул за невысокий штакетник и очутился в саду. Но только направился к тому месту, откуда стрелял управляющий, как там сразу словно из-под земли вырос кто-то другой, взмахнул руками, словно огромная птица крыльями, и исчез по ту сторону. Парень оторопел: кто бы это мог быть? Кто опередил его? Но поспешил и сам. Стрельба уже утихла, только там, за штакетником, возились, хрипло ругались двое. Не раздумывая Андрей вскочил на тын и с размаху прыгнул вниз. На земле барахтались управляющий и Проц. Оба здоровые, крепкие, они рычали, хрипели, норовили схватить друг друга за горло. Пистолета в руке управляющего уже не было, — очевидно, Федор выбил его. Андрей постоял мгновение и, улучив момент, когда управляющий насел на Проца, хватил пана по голове. Тот обмяк, свалился на бок.
— Андрей? — удивился Проц. — Чуть не задушил… Сильный, гад! — Он мигом расстегнул, сорвал с управляющего ремень, крепко связал ему руки. — Вот… Бежим!
А из стойла выводили уже последних коров, изо всех сил верещали поросята, блеяли овцы. По двору — только теперь! — заметалась челядь, где-то около барского дома взвизгнул отчаянный женский голос, — очевидно, жены управляющего… Крик, шум в усадьбе. Совы испуганно кричали на высоких трубах графского белостенного дома. Да месяц криво усмехался из-за леса, освещая глушанам дорогу.
Как только в селе зашевелились, Софья Совинская, учительница, оставила стирку, оделась и выскочила на улицу. Школа стояла недалеко от площади, за постерунком, и Софья, увидев толпу, сразу поняла, в чем дело. Собственно, она предчувствовала такой конец визита экзекутора — слишком уж он круто повел себя с крестьянами и очень уж их обидел. «Они, кажется, способны на все. — Она прислушалась к крикам возбужденной толпы. — Хоть бы Федор не горячился, не напоролся на пулю, — беспокоилась за Проца. — А где же Жилюк?» Того, что случилось с Андроном, она еще не знала.
К постерунку мчался Андрей. Софья окликнула его.
— Где отец? — спросила Софья, как только хлопец подбежал.
— Там… Заперли его.
— Когда?
— Недавно. Мы как раз подъехали ко двору, а он…
Андрей не досказал — около постерунка поднялся шум, кто-то кого-то мял, душил. С крыльца стрелял в воздух Хаевич.
— Бежим! — Учительница и Андрей бросились к участку.
Пока они подоспели, там уже трудно было что-нибудь разобрать. Проц вязал руки Постовичу, женщины стаскивали с крыльца солтыса, молотили его кулаками. Некоторые уже пробирались в помещение, — слышно было, как в коридоре стучали в двери, ударяли в них чем-то твердым…
Софья стояла. Сердце ее билось учащенно. Она бы тоже бросилась в этот людской водоворот, выдирала бы пусть не свое — чужое добро из когтей ненасытных приспешников. Но… не ее на то воля, она должна смотреть, видеть все и — сдерживаться.
…На крыльце постерунка появился Андрон. Избитый, в синяках.
В обеих руках он держал вещи.
— Берите, люди! Чье это? — спрашивал он и бросал в протянутые руки.
За ним уже шастали туда-сюда женщины, выносили свое и чужое. А из-за постерунка, заметила Софья, вырвался на подводе экзекутор и погнал коней что было силы.
«Не миновать беды, — соображала Совинская, — надо что-то делать…»
От толпы отделились Андрон и Проц.
— Вот, холера ясная, пускай теперь знают! — торжествовал Жилюк.
— Айда за скотиной! — крикнул Проц.
И все бросились к поместью.
Глуша не утихала, не успокаивалась. Словно пронесся над ней ураган, разметал старые насиженные гнезда и люди наспех, в потемках, мастерили теперь новые.
Ревела скотина, плакали дети, испуганно кудахтали куры, слышались людские голоса — сердитые, бранчливые, ласковые…
Подпольная ячейка собралась поздно и далеко не в полном составе: сразу нельзя было всех разыскать — люди разбрелись кто куда. Одни прятали добро, другие — скотину, третьи сами убежали в лозняк, потому что известно, власть никогда никому такого еще не прощала. Не было Проца, Судника и еще нескольких человек. Судник, правда, не появлялся и днем — экзекуция его обошла.
— Что будем делать дальше? — Гураль обвел взглядом собравшихся.
— Есть какие-либо известия? — спросила Софья.
— Известий никаких, но без них ясно: расправы не миновать. Экзекутор убежал, а солтыс галопом погнал к гмине. К утру жди полицию.
— Так…
Наступившее молчание гнетом легло на сердца.
— Встретить, чтобы и дорогу сюда забыли, — наконец оборвал тишину Жилюк.
Он не видел в темноте ни удивленно-вопросительных взглядов, ни насмешки на устах кое-кого.
— То есть как?
Андрон не спешил.
— Тебе, Андрон, прежде всех нужно куда-то спрятаться, исчезнуть, хоть на несколько дней, — сказал Гураль. — Кого-кого, а тебя не пощадят.
— Убегу я, семья останется, — вслух рассуждал Андрон. — Село же никуда не денется. Я вот так думаю: кары нам не миновать, но просто так не дадимся.
— А кто же не так думает?
— Вот я и говорю: преградим дороги боронами, чтоб полиция хоть коней покалечила, а там уж наша работа. Засядем.
— Дело говорит Андрон! — послышались голоса.
— Когда-то так в Хмелярах сделали, а полиция ночью на полном ходу…
Гураль выжидал: уже раз погорячились сегодня — хватит. Лучше обдумать.
— Правда! — загорелся он наконец. — А там, коли что, мы с хлопцами из каменоломни поможем… Надо защищаться.
— Но помните, — вставила учительница, — больше выдержки. В бой не вступать… по возможности, конечно. Со мной держите связь через Андрея или Яринку Жилюкову.
— Хорошо.
— А сейчас — к делу. Надо оповестить остальных. Ты, Андрон, укажи, куда именно свозить бороны.
— Да куда же? К перекрестку.
— Ага, там удобнее всего…
— Хорошо. А ты, Устим, готовь каменщиков и жди сигнала.
— Ясно.
— Тогда айда… Скоро рассвет.
Вот и настала, Устим, твоя пора. Пришел судный день, когда надо сдать партийный экзамен на жизнь или на смерть.
Утро принесло неизвестность. Глушане ждали бури, а вместо этого легонький ветерок ласкал их загрубелые в работе и горе лица, нежно овевал разгоряченные последними событиями души. Он дул с юга, с волынских и подольских невысоких холмов, и нес с собой запахи сенокоса, далеких жатв… Под его неслышными вздохами задумчиво покачивались высокие стены за Припятью, тихо и грустно шелестели пожелтевшие травы…
Не прошло и дня, а все вели себя так, словно бы ничего и не случилось. Словно не было этих драк, криков, суеты… Медленно похаживали на лугу аисты, стайками трепетали в небе голуби. И только люди, эти отчаяннейшие из отчаяннейших существ на земле, только они настороженно поглядывали на дорогу. Но вскоре привыкли к своей тревоге. А когда по селу прошел слух, что солтыс вернулся ни с чем, то есть один, без полиции, то и совсем отлегло от сердца. Впрочем, и это было не все, — причудлива же твоя воля, судьба! В полдень после посещения солтысом поместья по Глуше прошел слух, что управляющий согласен на три злотых. Правда, без приварка.
— А черт с ним, с его приварком, — обсуждали крестьяне новость.
— Обойдемся. Только бы хорошо платил.
— Постановим так: днем — косьба, вечером — плата.
— Ага. Иначе не соглашаться.
Притихшее было село зашевелилось. Зазвонило косами, запело брусками.
— Ну как, идем?
— А чего ж?! Три злотых! Какого еще лешего?
— Выходит, наша взяла?
— А как же! Гуртом не только отца, но и панов лучше бить.
— Я же говорил… холера ясная!
— Как бы они нам боком, эти злотые, не вылезли, — сомневался Судник.
— Ты, Адам, помолчи. Не тревожь людей. Знай свою грыжу… Волков бояться — в лес не ходить. Сидели бы вот так, как ты, дулю с маком нюхали бы. А это же три злотых! Холера бы его взяла…
Проца все еще не было, — видно, скрывался. Учительница, хоть ее и настораживало такое поведение местной власти, поддерживала крестьян. Иначе не могло и быть: боролись — отвоевали. Другое дело, что и теперь надо быть готовым ко всему. И она сделает все, пока есть сила, пока есть возможность уберечь их от худшего.
На следующий день, когда глушане наконец вышли на сенокос, Совинская поспешила к солтысу.
— Пан Хаевич, — начала она, поздоровавшись (солтыс поднял на нее исцарапанное, с большим синяком под глазом лицо), — у меня есть одна важная мысль. У меня в классе тридцать семь мальчиков. Думаю, они пригодились бы теперь пану управляющему…
— А вы соберете их? — буркнул Хаевич.
— Ну пусть не всех… меня они послушают.
— Не сомневаюсь. Думаю, не только они, — взглянул многозначительно.
— Не понимаю, пан Хаевич, — невинно спросила она, — что вы имеете в виду?
— Вам лучше знать, пани учительница. — Он сделал ударение на последнем слове и тут же осекся, словно что-то сообразив. — Конечно, конечно… Ваша мысль весьма кстати… Буду рад… И непременно оповещу вашего инспектора, дорогая пани Софья. — Даже улыбнулся ей деланно, болезненно, и Софья решила воспользоваться этим случаем.
— Все-таки, пан Хаевич, — надула Софья малиновые губки, — что вы имели в виду?
— Ох, пани Софья, пани Софья! — Хаевич вышел из-за стола, заметно прихрамывая.
— Пан хромает?! — взволновалась Совинская.
— Пустяки! — махнул он рукой. — Небольшая царапина. Постович вон вторые сутки не ест… Говорить не может, так схватил за горло Проц, этот лайдак. Пся крев! — выругался солтыс. — Попадись он мне!
— Думаю, вы еще с ним поквитаетесь… Но, пан Хаевич, что вы хотели сказать?
— Ничего, дорогая… Извините, мы скоро друг другу перестанем верить… Но прошу вас, меньше знайтесь с этими хлопами. Зачем вам эти представления? Сборища?
«Только и всего?! — радовалась Софья. — Хорошо, если только это!»
— Но я же учительница, пан солтыс. Я должна знать… как живет… чем даже дышит эта мужичня.
— Согласен. Однако вы больше бываете у них, чем у нас. Вы могли бы оказывать нам куда более существенную помощь, пани Совинская.
— В чем именно?
— Будто вам не известно, что в селе существует подпольная коммунистическая ячейка.
— Впервые слышу, пан солтыс.
— Не будьте наивной. А эти листовки — откуда они взялись, а? Думаете, это так себе, случайность? Да и стачка… Я уверен — это их работа.
— И что же, вы… простите им? — спросила она обиженным тоном.
Хаевич подступил к ней почти вплотную, — Софья только теперь почувствовала, что от него пахнет водкой, — крепко взял ее за плечи.
— А вы… что бы вы сделали? Сейчас, теперь… Когда сенокос, жатва… Что вы посоветуете, пани учительница? Пацификацию[7]?! Дураков нет! Сразу же пойдут дымом и наши жилища и наше добро. Нет, мы их по одному, — он схватил рукой воздух, словно взял кого-то за горло, — по одному — слышите? — выловим, а тогда всех. Под корень, пся крев! — Глаза его налились кровью, руки дрожали.
— Я вас боюсь, пан Хаевич, — испуганно отстранилась Софья. — Вы такой… такой… не знаю, как и сказать. Решительный, гневный… настоящий воин.
— Воин! Смеетесь, пани Софья. Какой из меня воин? Тут только бы себя… свою шк… — спохватился, вытянулся, — интересы отчизны, про́шу пани, отстоять. Но эти бездельники, — погрозил он, — этот Проц и холера Жилюк от меня не уйдут. Нет! Из-под земли достану! — скрипнул он зубами.
К ним подошли, и Софья, воспользовавшись этим, заспешила.
— Так не забудьте же, пани Совинская, нашего уговора, — проводил ее до дверей солтыс.
— Как можно? — искренне удивилась учительница. — Но и вы не чурайтесь…
Катря Гривнячиха возвращалась с сенокоса под вечер. Шла одна, усталая не столько от работы, сколько от голода. Нагребла за день этого сена, даже руки онемели, а еда известно какая: грибы да оладьи — выдумают же люди! — из лебеды да из желудей. Врагу своему лютому не пожелаешь… Уж скорее бы эта рожь… кулешика бы сварить. Хоть и ржаного. Душистый такой! Подошла и, даже не снимая с плеч вязанки, взяла-таки, хоть оно, это сено, и не нужно сейчас, но, может, осенью соберется на телушку, — прижала к себе пучок колосков. Аж дух захватило! Нива ударила ей в грудь крепким запахом. Господи! Голова кружится… Лечь бы вот так среди ржи в чистом поле и умереть. Вероятно, лучшего места и нет. Слиться бы с землею, войти в нее, если при жизни ее не дают вволю.
…А голова и в самом деле идет кругом, словно она пьяная… Положила вязанку, села. Под ложечкой засосало, в глазах потемнело у сердешной. Есть! Ох, есть! Почему ты такой несправедливый, мир? Почему такой неласковый к нам, не одинаковый — одних одариваешь добром, счастьем, других бедностью наделяешь, даже есть не даешь? Есть! Свет мой… Долюшка моя… Господь святой… Накормите меня… и деток моих. За мою работу, веру мою уважьте…
Катря и не почувствовала, как руки потянулись к колосьям. Сорвала несколько мягких, еще зеленых, начала мять осторожно, тихонько, чтобы не раздавить зернышек. Жито… житечко, пенистое еще. Как молочко, даже сладковатое. Она шелушила колосья, быстро сдувала зеленоватую шелуху, бросала в рот зерна… Сама не знала, что с нею делается. Словно что нашло на нее. Забыла и что грех, что это чужое, графское. Зерна хрустели на зубах, наполняя рот сладкой кашицей. А она рвала колосья уже горстью, совала их в карманы, в подол… «Приду, натру, подсушу, — хоть какой-нибудь кулеш будет…»
Совсем близко фыркнул конь. Катря обернулась и остолбенела: по дороге — рядом уже — ехал Карбовский. Руки у Катри бессильно упали, выпустили подол. Колосья зеленой волной скатились на землю.
— А поди-ка сюда, — остановился и позвал ее управляющий. — Что это ты делаешь? — Не ожидая ответа, спрыгнул с возка. — Гм… и вязанка тоже твоя? И колосочки? — И вдруг огрел Катрю кнутом. — Они же еще, видишь, зеленые, — сказал он спокойно. — Зачем же ты их переводишь? Разве забыла, чье это? — И опять кнутом.
Катря упала прямо на рожь, на зеленую мураву, закрылась руками. Она не кричала, не билась. Сил у нее не было, только стонала тяжело, натужно. Босые ноги судорожно дрожали в коленях, рыли пальцами землю. Убогая кофточка то ли от удара, то ли сама по себе треснула, оголив желто-белое плечо… Управляющий замахнулся было еще раз, но женщина протянула к нему руки.
— Бейте! Убивайте совсем! — захрипела она.
И он опустил кнут.
— Чья ты? Ну, вставай! Чья?
— Гривнякова, — заплакала Катря. — Убейте на месте! Чем так мучиться, убивайте сразу.
— Это которого? Того, что в войске?
— Того, того… Романова.
— Что дочку похоронила?
— Скоро и сама в землю уйду… — Рыдания рвали ей грудь. Лучше бы он не спрашивал — начал бить, так и бил бы.
— Вставай. — Он даже помог ей подняться, подвел к возку, усадил. Сзади положил и вязанку.
— Куда вы меня?
— Не бойся.
Смерклось, когда подъехали к поместью. Управляющий передал лошадь конюху, а Катре велел идти в барский дом. Гривнячиха была ни жива ни мертва. Шла, еле перебирала ногами. «Бить будут. Ой, будут! — Она вытирала краешком платка сухие, красные глаза. — А, чтоб вас убил гром, аспидов… кровопийцы проклятые…» Шла длинными коридорами, устланными коврами и увешанными картинами. «Ишь, как в раю живут! Трудом нашим, по́том…»
Управляющий раскрыл перед нею комнатные двери.
— Заходите… Садитесь вот тут, — подвинул стул. — Я сейчас вернусь. — Он зажег лампу и вышел.
Катря сидела одна-одинешенька в комнате. «Что ему, зачем завел? Хоть бы попить, — в груди горит…» Она оглядела углы, словно надеялась найти там ведро с водой. Вазы, боги какие-то, господи! Голые, что ли? Да и на картинах вон… купаются будто.
Рассматривала, боязливо оглядываясь, вздрагивала от малейшего шума. А под ложечкой сосало, тошнило, голова кружилась. «Чего ему от меня надо?!»
За дверью послышались мягкие шаги. Вошел управляющий, за ним, видно, горничная — с подносом. Комната сразу наполнилась умопомрачительным запахом какой-то еды.
— Садись ближе, — пригласил управляющий. — Как тебя зовут?
— Катрей.
— Так вот, Катря. Я бы мог тебя наказать. Это ты знаешь. Но… — Он поставил две чашечки, налив бурой душистой жидкости. — Ты, вероятно, голодна. Хочешь, я велю подать тебе обед?
— Нет, нет, пан управляющий. Спасибо! — А у самой судорогой сводило горло, темнело в глазах. — Мне бы попить.
— Прошу, — поставил он чашку на блюдечко. — Выпей. Это кофе.
Катря было уже и потянулась, но руку словно кто отдернул: «Пить с панами? Чего захотелось!» Она с трудом проглотила тягучую слюну. Сжала губы.
— Пей. Что же ты? Хочешь — с медом? — И, не ожидая ее согласия, положил в Катрину чашку ложку золотистого меда. — Пей, пей!
В голосе его звенела словно теплота, и женщина не выдержала. Дрожащей рукой взяла непривычно маленькую чашечку, поднесла ко рту, глотнула. Матушки! Какое же оно! Глотнула еще, — что-то неимоверно сладкое разлилось в груди. Где она? Зачем тут? Как очутилась в этих покоях? Чего он, этот ненавистный, который бил ее, чего усмехается, что ему от нее надо?
— Вот видишь: сразу полегчало. Пей, Катря, бери печенье.
А Катря — словно ее разбудили — вдруг поставила чашку, отодвинулась.
— Зачем вы меня сюда привезли? Виновата я… бейте, судите. — Она заплакала.
Управитель отставил питье, подошел, положил руку на худое, острое плечо.
— Трудно тебе. Одной, с детьми… Куда как трудно.
Катрины плечи задрожали. Она упала головой на стол.
— Никому нет до тебя дела… Ну, хватит, перестань! Я знаю, ты хорошая женщина, работящая, честная. Извини, что погорячился в поле… Да перестань ты! — Он поднял ее за плечи, оторвал от стола. — С тобой по-хорошему, добра тебе хотят. А ты… Слушай, Катря, я дам тебе телку, на зиму корова будет… Только ты меня слушай…
Телку! С чего бы?! То бил — шкура трещала, а теперь — на́ тебе, телку… А она, господи, как ей нужна! Дети растут без молока, как свечечки, желтые. Снится ей уже эта коровка… или хоть бы телочка. Из рук выкормила бы, от своего рта урвала, только бы выросла, только бы молоко деткам… да простокваша… а там, гляди, и маслица какой фунт сбила да продала…
Подняла на него, мучителя своего, глаза, красные, заплаканные.
— Ты только скажи мне: кто это бунтует в селе? Бумажки расклеивает, людей подговаривает… Не знаешь часом?
Катря покачала головой, вытерлась краешком платка. Так вот чего он от нее хочет! Кто бунтует? Поди, пан, сам узнай…
— Не знаешь? А жаль…
«Телочка… На зиму коровка была бы… А правда, кто это баламутит? Хотели на сенокос идти — не надо… Податей не платить… Словно никто так прямо и не говорит, а один по одному как-то… Сказать бы — Проц, так нет. Жилюк? Какой из него говорун? «Холера ясная» — да и все! Как раз Процу пара. Покричать, пошуметь…
— Мы догадываемся, — ведет свое Карбовский, — но хотелось бы знать наверняка, хотелось бы посоветоваться… — Он сел рядом с ней, почти вплотную, заглядывал в глаза. — Ну как, Катря? Ты простая женщина, бедная, тебе всякий поверит. Не знаешь сейчас, — потом скажешь. Расспроси как-нибудь, выпытай, можешь и на собрание к ним пойти, — они же где-то собираются, а?
— Не знаю, паночку, не ведаю. Откуда мне, темной женщине, знать это?
— Да, говорю, узнаешь, а телушку бери хоть сейчас.
— Как же так? Люди что скажут?
— А что они тебе сейчас говорят? Может, помогают?
— Да и помогают, чего же? Как померла моя донечка, Жилюк и гроб сделал. И ни гроша не взял. Разве не помог?
— Ну, а еще кто?
— А чем, скажите, помогать, если у людей у самих ничего нет?
— То-то и оно! Вот мы тебе и даем. Дадим и еще кому-нибудь. Граф не обеднеет.
Конечно, нет. Стада коров, да каких! Лучшей породы. По ведру молока за раз дают… А свиньи, кони, птица… Боже мой! И зачем это одному человеку столько? А еще и земля, леса, сенокосы… Что ему одна или несколько телок? Э! Да разве люди глупые, не догадаются, что тут что-то не так? Догадаются же! И что скажут? Что подумают?
— Ну как? Чего тут раздумывать?
Управляющий подошел к блестящему шкафу, сиявшему зеркалами, достал несколько яблок, разрезал одно.
— Бери, угощайся!
Катря взяла половинку, надкусила. В сенокос яблоки! Верно, как в раю… Да что ж, в самом деле, делать с этим управляющим? Что она скажет? Что знает? А на зиму бы коровка… Людские языки не диво: каждый живет как может. Поболтают, да и перестанут… Роман? А что Роман? Что он может про нее подумать плохого? Перед Романом она честна. Он там, в войске, на всем готовом, а пускай бы покрутился тут… Не ждать же ей, пока и те двое помрут с голоду.
Гривнячиха куснула посмелее, взглянула на управляющего. Он ловил этот взгляд, полуумоляющий, безвыходный. И понял его.
— Возьми яблоко, детей угости. Сколько их у тебя?
— Двое осталось.
— Вот все и бери… На, куда тебе? — Он сгреб и подал ей душистые яблоки. — В фартук завяжи. А завтра или когда там приходи за телушкой… к вечеру.
— А если заберут? У меня долгов вон сколько. Пан экзекутор и в этот раз был.
— Не бойся. Я скажу солтысу.
Ой, Катря, Катря!.. О чем ты думаешь? Где твои глаза? Голова твоя где?
Катря выскочила, чуть не закричав с отчаяния, и бросилась берегом домой. В графском саду ухали совы, жутко становилось. Во ржи кричали «спать пора, спать пора» перепела. А Катря бежала, спотыкалась, едва не падала и бежала дальше.
Ой, Катря, Катря…
Глушане как раз докашивали травы, когда в село вернулся Проц. Сначала его словно никто не видел — только слух прошел, но вот появился и сам Федор. Никто его не расспрашивал, где был, что делал. Только сочувствовали: исхудал еще больше, потемнел лицом.
Как Федор ни избегал встречи с панскими приспешниками, все же пришлось увидеться.
— Ну как, гуляешь? — Лицом к лицу сошелся он с солтысом.
— Ему бы этак на веревке гулять, — отрубил Проц. «Что будет, то и будет. Семь бед — один ответ».
— Кому это ему? — засмеялся Хаевич.
— Хорошо знаешь кому.
— Эх, Федор, Федор, смотрю я на тебя — человек как человек, а в голове — тьфу! — полова! Молодой, здоровый. Только бы жить! А он…
— Ты не эхкай. Говори, чего хочешь. Может, души моей тебе захотелось? — Федор зверем глянул на солтыса. — Так запомни: сперва со своей распрощаешься.
— Не пугай. Мы тоже пуганые. Добра тебе желаю. Возьмись за разум, не баламуть. Люди же вон работают. А ты? Руками размахиваешь? Как свой своему говорю: перестань.
— Ну, — махнул рукой Проц, — твои разговоры… А то, что было? С этим как?
— Что было, то было. Переболело, да и все… А ты гляди. Раскаешься потом, да поздно будет.
На том и разошлись. А дней через несколько, когда и совсем привык к мысли, что, вероятно, и в самом деле за прошлое ему ничего не будет, когда все улеглось у него в душе, Федор собрался в лес по дрова. Наладил свой старый, рассохшийся воз, занял у Жилюка лошаденку и поехал. Раздумывал, куда бы ему лучше податься, чтобы найти что-нибудь путное. «Поеду в Гнилое, — решил он, хоть оно и дальше, зато наверняка».
Урочище Гнилое — за Припятью, над большим лесным озером. Берега там плохие, болотистые, ничего путного на них не растет, но ольхи — хоть завались. «Оно и лучше: не будут цепляться, что в лесу брал», — утешал себя Федор. Наконец он добрался до Гнилого, выпряг и пустил пастись лошаденку, а сам принялся таскать к возу сухие ольхи. Их тут — хоть пруд пруди. Сломанные бурей, толстые стволы обрастали осокой, жесткой ежевикой, гнили на влажных замшелых кочках. Проц попробовал несколько таких деревьев — те едва не рассыпались под руками, и он теперь выглядывал, выстукивал топором — потверже…
Помаленьку натаскал уже добрую кучу. Довезет ли? Может, хватит? Сел, передохнул немножко и начал укладывать воз. Одному не так и удобно, но Федор не роптал. Спокойно, одну за другой, складывал ольхи, поправлял, чтобы не рассыпались в дороге, потом прикрыл хворостом, привязал и к вечеру тронулся. Рассохшийся и кто знает сколько времени не мазанный воз поскрипывал, глубоко увязал колесами, и Федору, который шел, покрикивая, сбоку, не раз приходилось подпирать его плечом, пока выбрались на дорогу. На просеке, оба конца которой тонули в темно-зеленом сумраке, Проц зацепил вожжи за сучок, пустил коня: колея хорошая, не свернет. Сам пошел в стороне, по едва заметной под старым листом тропинке. Пахло распаренной за день хвоей, нагретой за день смолой. Душу трогала необычайная чистота зеленого царства, его торжественность. Дышалось свободно, легко, куда-то к чертям развеялись все заботы, что грызли изо дня в день душу. Не хотелось о них думать, тем паче — искать им объяснения. Хотелось — хоть раз в жизни! — отдаться самому себе и еще тем, может быть, минутным настроениям, без которых человек грубеет, которые необходимы ему для очищения от всякой скверны. Видимо, потому он и стал таким, что всю жизнь свою измерял только работой и бедностью да душевными муками.
…Пофыркивает лошаденка, тянется — хребет изгибает, поскрипывает воз, переваливается на песчаных выбоинах. Кукуют кукушки. «Ну-ну, сколько она мне насчитает? — прислушивается Федор. — Ну, кукушка, один, два, три… Эх, ты! Только и всего?.. Ага, испугалась! Давай дальше! Четыре, пять… Мало, мало! Ну, да ничего, как-нибудь помиримся. Если так, как теперь, прожить и те пять хватит, по самое горло хватит. Жаль только, если наши придут, а меня не будет. Без меня все это произойдет. А хотелось бы, ой как хотелось бы дождаться того времечка…»
Где-то вверху, над соснами, закричал старый ворон, ударил крыльями. Федор вздрогнул, выбранился. Но не успел он опомниться, как совсем близко, над головой, застрекотали сороки, а чуть дальше, в орешнике, им испуганно ответили сойки. Проц оглянулся: чего это они? Какого беса? Лес дремал, убаюканный в лучах предвечернего солнца, из чащи дышало успокаивающей прохладой. И пахло, пахло. Грибами, старым листом, цветами…
Эх, так хочется дождаться того денька! А он ведь будет! Непременно наступит. Не может же продолжаться так вечно. Да и знающие люди говорят, что уже недолго. Вот-вот это будет… не знаешь, как и назвать. Праздник? Не то. Радость? Тоже будто не то… Будет что-то большее. Если, как говорят, есть второе рождение, это и будет оно, их второе рождение.
Подвода остановилась. Колея глубокая, песчаная, лошаденка устала. В другой раз Федор, может быть, выругался бы, подпер бы воз плечом, огрел бы скотину кнутом, а то и кнутовищем и как-то выбрался бы из песка, но сейчас он был добрым, ни диво ласковым. Подошел, поправил шлею, потрепал по холке.
— Устал? — спросил он. — Ну, постой, постой! Отдышись немножко. Пусть не жалуется Андрон, что загонял тебя… Постой, еще есть время. К вечеру доберемся — и хорошо. Куда нам спешить? На тот свет успеем.
Отошел, оглядел воз, — все хорошо, не расползлось, нигде ничего не лопнуло и не треснуло. Вырвал пучок травы, поднес лошаденке.
— На, съешь… Хорошо хоть для вас выросла, не подохнете. Теперь бы еще людям… Вот и зажили бы.
Лошаденка съела траву, посмотрела на Федора ласковыми каштановыми глазами. Оводы так и липли к ее вспотевшим бокам, лезли в глаза, ноздри. Лошадь отбивалась от них куцым хвостом, фыркала, крутила головой.
— Поедем, а то заедят, проклятые, — подошел Федор. — Ну, давай… Но-о…
Он подпер немножко воз, замахнулся кнутом. Лошадь нехотя натянула постромки, уперлась дрожащими тонкими ногами, и воз тронулся. А следом, скача с ветки на ветку, верещали сойки.
Как только поднялись на холм, за которым дорога брала круто налево, а просека упиралась в камыши, спадала к Припяти, навстречу показалась подвода. Пара быстрых коней легко несла воз.
«Черт панов несет, — подумал Федор, — нигде без них не обойдешься».
Подвода быстро приближалась. Уже слышно, как похрапывают кони, как бренчит на них сбруя. «Кто бы это? — старался распознать Проц. — Постерунковый? Постович?» Какое-то недоброе предчувствие охватило Федора. Он взял коня за уздечку, свернул с дороги, а глазами весь на той подводе. «Кто это еще с ним? Даже двое… Чужие какие-то, не здешние…»
А подвода — вот уже она! Постович туго натягивает вожжи — аж рты коням раздирает.
— Тпру! Стой! — кричит неизвестно кому, коням ли или ему, Процу. — Стой, говорю!
Те двое соскакивают — и к нему. «Ну держись, Федор, настал твой час». Проц оставил коня, бросился к возу за топором. «Где же он, проклятый? Клал вот тут… Провалился, что ли?» А они — уже рядом. Постович, подбежавший последним, замахнулся карабином. Федор еще успел схватиться за ложе, отвратить удар, но те двое накинулись на него, ударили чем-то тупым по темени. Федор зашатался. Свет в глазах потемнел, закрутился…
— Вот тебе, быдло, — ударил его под сердце Постович, — сдохнешь, пся крев, а комиссаром не будешь!
Уже падая, Проц собрал последние силы и ногой пнул постерункового в живот. Постович взвился, а те насели еще крепче. Били кулаками, ногами, били по чем попало. Когда Федор, потеряв сознание, уже не сопротивлялся, Постович, воровато оглядываясь, сказал своим сообщникам:
— Теперь к реке… В воду его. В болото, чтобы и следа не осталось.
Проца подхватили. Высокий, рослый, он отяжелел, и им, даже втроем, нелегко было его нести. Они спотыкались, цеплялись за пеньки, за деревья, наконец взяли его только за руки и потащили к Припяти.
— Камень… камень на шею! — шипел Постович.
Оставили его у воды, бросились искать камень, а Федор — то ли родная водица вдохнула в него жизнь, то ли какая другая сила подстегнула его — поднялся и, хватаясь за лозу, путаясь непослушными ногами, бросился наутек.
— Не убежишь, гад! — догнал его один из убийц.
Проц обернулся и со всей, какая у него еще осталась, силой кинулся на палача, вцепился в него руками, стараясь схватить за горло. Постерунковый с перепугу закричал. К нему подбежали на помощь, Постович с размаху огрел Проца карабином по голове. Федор обмяк, выпустил свою жертву, свалился с нее.
— Давай скорее! — приказывал постерунковый.
С Проца сняли пояс, привязали к шее камень и бросили в омут. Вздохнула заросшая кувшинками вода, качнулись и замерли камыши. Лишь сойки на старых ольхах застрекотали еще громче…
В субботу к вечеру объявили сход.
— Что еще нового скажут? — спрашивали друг друга.
Сходились нехотя, медленно, несли свои боли да жалобы, свою тревогу. Широкая площадь в центре села снова зашевелилась, зашумела, задымила легонькими дымками. Среди взрослых вертелась неугомонная, непоседливая детвора: играли в горелки, салки, барахтались в песке, подымая пыль. Старшие покрикивали на малышей, гнали их домой, и те на какое-то время утихали. Но проходило несколько минут, и мальчишки снова выскакивали из-за кустов, из-за тынов, неслись по улице верхом на палках, старых подсолнухах…
— Холеры на вас нет! — замахивались костылями старики. — Ишь жируют с переднивка! Дурачатся…
Скотники подогнали, привязали около коновязей несколько телушек.
— О, а это что за чудеса? — удивлялись крестьяне. — Такого еще не было!
— Не вздумал ли пан управляющий торги устраивать?
Еще больше удивились, когда солтыс — тоже при управляющем — сказал, что граф дарит этих телушек самым беднейшим, чтобы не думали, что он равнодушен к людям, к их горю.
— Мягко, холера, стелет… Как-то придется спать!
Думали-думали, что бы это могло значить, да разве когда угадаешь панские намерения?
— Знает, что скоро каюк, вот, может быть, и решился.
— А откуда это видно? Скорей нам с тобой каюк будет.
— Видно. Он не дурак, видит. Чует, чем пахнет.
— Эге. Дурень в думках богатеет. И мы с тобой так.
— Увидишь.
Тем временем Хаевич окончил свою проповедь и вызывал тех, кому надлежало взять по телке. Беднота — больше вдовы — благодарили пана солтыса и управляющего за ласку, непослушными руками отвязывали телочек, вели домой.
— Чудеса, да и только! — все еще не могли опомниться глушане. — Мир меняется, что ли? Чтоб этак, ни за что ни про что, граф дарил!
— Панским ласкам да чертову ухаживанью не верь. Ухаживал пан солтыс за Процем.
— Эге.
— А ты, Катря, чего же? — спрашивали Гривнячиху. — Иди отвязывай. Вон твоя видишь какая! Не турского ли завода? Иди, — подталкивали молодицу.
Катря колебалась. Краснела, конфузилась от людских взглядов. Смотрела чуть не сквозь слезы на эту телушку, а видела… Видела поле, зеленую рожь, себя во ржи. И его, управляющего… «Я дам тебе телку! Только скажи мне: кто это бунтует в селе?» Катря содрогнулась, как тогда, словно от удара. Боже мой! Что люди скажут? Что Роман подумает, как услышит? Оглянулась украдкой. И посоветоваться не с кем. Хоть бы кум Андрон был…
— Иди, Катря, только твоя и осталась.
То ли вытолкнули ее, то ли сама как-то вышла, но вот она стоит уже впереди людей. Сон видит или в самом деле солтыс отвязывает ей телку, подводит, тычет в руки налыгач.
— Бери, Катря…
Глаза управляющего сверлят ей душу, плетка змеей вьется у него в ногах.
— Что же ты? Бери.
«Деточки мои милые! Ромасик! Любый! Простите меня! Ради вас иду на такое. Чем же я виновата?»
— Вот глупая! Ей телку дают, а она ревет!
«И вы, люди, простите… Я честная, вы же знаете. Деточку, донюшку свою похоронила. Простите, люди добрые. Ведь есть еще двое… Простите».
Телка потянулась к Катре, лизнула ей руку. И вдруг на Катрю дохнуло до боли родным, таким желанным запахом свежего молока, теплого пойла. Не помня себя, схватила обеими руками телку за шею, припала к ней, плача, начала целовать.
— Родненькая моя… кормилица наша… Ну, пошла, пошла!
Телка послушно пошла за Катрей.
…Старый Жилюк на сходе не был: после смерти Проца остерегался. Но все же, когда Яринка рассказала, что управляющий подарил Гривнячихе телушку, не удержался, дождался ночи и пошел.
Катря как Катря: плачет будто и кается. А больше ничего. Дали, мол, и все. Не одной ей… И стыдил, и по-доброму советовал, — нет, стала на своем, и хоть бы что… Оно и правда, откуда ей коровки дождаться? А хозяйство — какое бы оно ни было — без коровы все равно что человек без рук. Корова в полещуковом хозяйстве — все. Хлеб уродится или нет, а при коровке как-никак проживешь… Но все же…
— А что же мне, кум, делать? — держалась своего Катря. — С моста в воду или что? А так — к зиме коровка. Даст бог, Роман вернется, может, на лошаденку соберем и заживем по-людски. До каких же пор так-то? Всяк к себе гребет.
Не поговорили, поссорились. И ей больно, и ему горько.
Возвращался задумчивый. Оно словно бы и так, словно бы тут и нет ничего плохого. Ну, дал управляющий телушку, холера его возьми. Если бы и все отдал, — оно же людское. Но опять же: за какие такие заслуги граф дарит именно тебе? Разве мало еще бедности? То-то! Тут, как ни верти мозгами, не все ясно.
Засиделся он у Катри. Месяц давно уже купается над темным лесом. Спит Глуша. Притихли и птицы — до третьих петухов. Разве перепелка отзовется где-то во ржи. Да и то сонно. Вскрикнет раз-другой и замолкнет. Верно, деток растеряла, скликает…
Андрон опускался в балку, где ночь была еще гуще, когда с двух сторон к нему метнулись двое. Жилюк рванулся было наутек, но сзади по ногам что-то ударило, и он упал навзничь. Двое накинули ему на голову мешок и молча, кряхтя, начали месить кулаками, ногами. Андрон извивался, корчился, старался подняться хоть на колени, но удары были настолько сильными и частыми, что сделать это ему не удавалось. Кричал, но и крика не было слышно — только хрип, слабый, немощный… Силы таяли, тело с минуты на минуту слабело… И когда, уже не в силах сопротивляться, оно безжизненно вытянулось, краешком сознания Андрон почувствовал: бить перестали, где-то совсем близко захрапели кони… Кто-то подошел, тронул его. Кого-то позвал… Потом его взяли на руки, куда-то несли, долго укладывали… Кажется, на воз. Воз двинулся, подпрыгнул, — на выбоине, наверно, — и Жилюк провалился в бездну.
Последние события вконец насторожили глушан. Стало понятным, что власти только и ждут случая расправиться с недовольными.
На экстренном собрании ячейки постановили в знак протеста объявить забастовку на несколько дней. Правда, не всем это решение понравилось. Адам Судник сразу же надул губы. Вертелся на скамейке, вправлял свою грыжу и бубнил:
— Жуем мякину…
— Что же ты советуешь?
— Бороться — так бороться. А нет — переждать какое-то время. Разве это дело: то ущипнем, то опять в кусты. Так они нас, как мышей, всех передушат.
— Послушать — так ты герой, — сказал ему Гураль. — «Бороться — так бороться»! Хе! А что-то тебя не очень было видно тогда… при экзекуторе. А?
— Да и тебя, Устим, не видели.
— Разве не известно, где я?
— А разве не известно, что я мог бы там учинить… при той вакханалии? — Судник умышленно резко выпрямился, что-то забурчало у него в животе: слушайте, мол, да знайте — со мной разговор короткий.
Совинская молчала. Не хотела разжигать ссору, но все же пришлось вмешаться.
— Послушать вас, Адам, так вы будто первый день…
— В том-то и дело, что не первый, — не дал он ей закончить. — В том-то и дело, слышите. Кабы первый — молчал бы да слушал, а так — знаю, что к чему. Потому и говорю. Чего, в самом деле, на рожон лезть? Партия распущена…
— Ну и пустомеля же ты! — вскипел Гураль. — Да ты не то что на рожон никогда не лез — пальцем в своем постоле не пошевелил.
— А что ты вытаращился на меня? Что я тебе?
Учительница укоризненно глядела на обоих. «Только этого еще недоставало», — говорил ее взгляд. Первым примолк Устим. И, когда в комнате наступило молчанье, предложил голосовать.
Как бы там ни было, каких соображений ни высказывали, а решение одобрили все. Теперь надлежало провести его в жизнь, объединить разрозненные мысли, взгляды людей и направить их в одно русло. Но прежде всего добиться единства бастующих, единства действий батраков, каменщиков… А там присоединиться к городу, к городским рабочим, чтобы ударить — так ударить! Самая пора — рожь уже поспела. Иметь бы эти листовки, да где их возьмешь? Разве не просили в окружкоме… Но нет, старые подпольные печатни разгромлены, новых очень и очень мало.
Люди давно разошлись (нарочно, чтобы меньше было подозрений, собрались — словно на родительское собрание — в школе), а Софья сидела, открыв окно, глядела на обложенный тучами небосклон, перебирала в памяти знакомых, которые могли бы сейчас пригодиться, и все чаще возвращалась почему-то к себе — к своим годам, своей не такой уж и долгой жизни. Вот она вся, как на ладони. Детство в пыльном предместье старого Кракова, их домик над самой железной дорогой, день и ночь громыхание паровозов, гудки, перестук колес… Отец, высокий, сутулый, словно надломленный в плечах. Сцепщик вагонов. Возвращался, бывало, после смены почти глухой, до того наслушивался за день крика да стука разного. Сидел долго молча, обхватив руками голову, а уж потом, чуть отойдя, улыбался, брался за еду… Также и мать. Хоть нигде не служила, да насидится, бывало, за шитьем так, что под вечер голова шла кругом. А все же учили ее, растили. В гимназию отдали…
…Софья взяла с этажерки маленькую отцовскую карточку, долго вглядывалась в нее. «Отец, отец! Так и не дождался помощи от своей Софийки…» Это случилось весной. Он, как всегда, ушел, жесткой рукой погладив ее по головке, а через несколько часов прибежали его товарищи… Им даже не отдали трупа. Сложили в гроб месиво из костей и мяса и похоронили…
Под окнами кто-то прошмыгнул. В комнату влетела Марийка.
— Пани Софья, — не могла она отдышаться, — пани Софья… Скажите ему, скажите, он вас послушается. Скажите! — бросилась к ней, рыдая.
Совинская обняла девушку.
— Кому сказать? Что сказать? Марийка, ну, хватит, перестань плакать!
Девушка оторвалась от учительницы, вытерла глаза.
— Андрею скажите. В эту ночь он решил поджечь солтыса. — И оглянулась: нет ли кого, не слыхал кто ее слов?
Вон чего она так напугалась!
— Он тебе сам сказал?
Марийка кивнула.
— За отца будет мстить. Сказал: «Как только стемнеет, все дымом пущу…» И дома его нет… Его поймают, пани Софья, — снова всхлипнула девочка.
Совинская собрала листки бумаги, спрятала в сундук.
— Что же ты так поздно? — спросила она наконец, думая о чем-то другом. — Уже вечереет.
— И так насилу вырвалась. Граф будто скоро должен приехать, прибираем всюду…
Глазами, полными слез, Марийка следила за каждым движением учительницы, ждала от нее совета.
— Ты, Марийка, иди. А то еще спохватятся, узнают, что у меня была. К Жилюкам я сама пойду. — Она обняла девочку, прижала к себе. «А где же моя любовь? В каких краях, на каких дорогах? Говорят — скоро вернется. А когда это скоро? Два года, третий уже, как нет Степана». Сердце заныло, и Софья крепче прижала Марийку, поцеловала в лоб.
— Иди, Марийка, — легонько отстранила девочку.
Та взглянула на нее умоляюще, покраснела, блеснула глазами.
— Будьте здоровы.
Смотрела, как девочка метнулась тропинкой к реке и берегом подалась к графскому дому, а перед глазами, окутанный голубою мглой, словно в тумане, стоял он, Степан, ее любимый, суженый. «Где ты, друг мой? Я жду не дождусь… Слышишь, Степан?» А даль густела, темнела. Вот и совсем померкло… Порыв ветра стукнул окном, вывел Софью из задумчивости. «Ой, что ж это я?» — спохватилась она. Закрыла окно, поправила косы и вышла. «Хоть бы застать, — билась тревожная мысль. — Как же это он? И не посоветовался…»
У Жилюков света не было. И во дворе никого… Подошла, постучала в окно.
Выбежала Яринка — обрадовалась, узнав.
— Андрей дома?
— Нет, куда-то ушел.
Сердце заколотилось.
— Да вы заходите, — приглашала Яринка.
Переступила порог, и сердце забилось еще сильнее: в последний раз переступала этот порог также вечером, следом за Степаном. Он еще за руку держал, чтобы не споткнулась или не ударилась обо что-нибудь в потемках.
У печи хлопотала Текля.
— Добрый вечер вам в хату.
Текля и рогач выронила. Стояла, опустив длинные, тонкие руки, не веря своим глазам.
— А мы уже думали — никогда не зайдете… Загордились, — сказала она чуть не сквозь слезы. — Как уехал Степан, словно забыли нас… Да проходите же, садитесь. — Текля метнулась, обмахнула тряпкой скамью поближе к столу.
— Кто там? — отозвался с полатей хриплый мужской голос.
Софья ступила вперед.
— Добрый вечер… — Она так и не назвала Жилюка ни дядей Андроном, как могла бы назвать до знакомства со Степаном, ни отцом, хоть в мыслях и вертелось слово «отец»… «Добрый вечер, отец». Ведь они со Степаном обручены. Без свидетелей, правда, без лишнего глаза, вот тут, в этой хате, при отце и матери, Степан назвал ее своей нареченной тогда, в тот далекий вечер, когда она впервые переступила их порог и когда он, ее любимый, уезжал в далекую, незнакомую Испанию, где клокотали бои, где бились интербригады, обороняя молодую республику рабочих и крестьян.
— Видите, что со мной сделали… — охал, поворачиваясь на скрипучих полатях, Андрон.
Текля зажгла лучину, огонь раскачивал сумрак, разгонял его по углам, освещая лицо Жилюка — все в синяках. Софья ужаснулась.
— Могли и убить, — натужно промолвил Жилюк. — Что им?
Совинская поправила на нем одеяло.
— Звери, а не люди, — прибавила Текля. — Чтоб так, ни за что ни про что, искалечить человека…
— Примочки делаете? — спросила Софья.
— На холеру они ему! И так пройдет.
Андрон промолчал.
«Но как же с Андреем? Неужели до ночи он так и не вернется?» — беспокоилась Софья.
— Андрея куда-нибудь послали? — спросила она.
— Крутился во дворе, — сказала Текля. — Разве у него узнаешь?
— Может, коня повел пасти, — добавил Андрон.
«Подожду, может, подойдет. Еще ведь рано». Рассказывала Текле, как делать примочки, а у самой болело сердце за парня. «Ну как сгоряча надумает сейчас, вечером? Почему не зашел, не сказал?»
— О Степане так ничего и не слышно? — спросила Текля.
«Что им сказать? Что должен быть здесь? Что уже в дороге? Но этого же нельзя. Мать есть мать — возьмет и похвалится кому-нибудь, поделится с кем-нибудь радостью. Не успеет Степан и ступить на родную землю, как снова начнут за ним охотиться. Нельзя. Потерпите, мама. Больше терпели».
— Не слышно, — сказала она глухо и все же прибавила: — Из Испании вроде бы выехали, а дальше куда — кто их знает…
Наступило молчанье.
— Не дадут они ему покоя, эти душегубы, — снова вставил Андрон. — Хоть и приедет, вынужден будет сидеть, как рыба в мотне… Холера ясная! Надо бы с ними поквитаться.
— Что ты мелешь? Что несешь? — всплеснула руками Текля.
— А то, что слышишь! — огрызнулся Андрон. — Свое дело знай!
— Боже мой, какой грозный!
— Такого человека загубили, — не обратил внимания на ее тон Жилюк. — Да Федор один переколошматил бы их.
— Что и говорить, — поддержала Андрона Софья, — слишком уж он был неосторожный.
Андрея все не было. «Надо идти. Может, он ко мне забежит». Посидела еще несколько минут и поднялась.
— Пойду. Словно дождь собирается. Будьте здоровы. Да приходите, коли что… Может, лекарства какого достану. Прибежишь, Яринка, ко мне завтра?
— Будьте здоровы. — Текля проводила ее до ворот. — Спасибо, что зашли проведать. — А в мыслях: «Какая она! Как ясочка, как росное утро… Господи! Пошли им счастья, здоровья… И Степану, и Софийке, невесточке. Коли бы дал бог дождаться внучка…»
Затихли Софийкины шаги. «Эх, старая! Чего захотела…» Приоткрыла хлев, коня не было. «Повел-таки Андрейка». И нехотя побрела в хату.
С тех пор как избили отца, Андрей ходил сам не свой. Догадывался, чьих рук это дело, и дал себе слово отомстить за батьку, а заодно за себя и за братьев, которые неизвестно где скитаются, — за всех. Несколько дней раздумывал, что бы такое сделать и кому именно — солтысу или постерунковому, — и решил поджечь. У Хаевича усадьба большая, новая, — пусть знает! Пусть знает, как бить, грабить.
Бродил по селу, приглядывался к солтысовой усадьбе, высматривал, откуда лучше к ней подступиться. «Если бы еще ветерок, — рассуждал он, — прощайся тогда, пан хозяин, со своим богатством». Добыл спичек у водителей, что возили на машинах камень, выпросил немного бензина, набрал пакли… Вот и готово! Теперь только бы ночь потемнее да солтыса бы куда позвали.
…С полудня небо нахмурилось. Великую Глушу обложили табуны неповоротливых серых туч. Потемнела вода в Припяти. По верхушкам деревьев время от времени пробегал ветер. Похоже было — собирается дождь.
Ближе к вечеру, поужинав, Андрей рассовал по карманам свое нехитрое добро и, никому не сказав ни слова, вывел коня за ворота. Ехал медленно посредине улицы, мимо лавки и участка, чтобы все видели, что он повел коня в ночное. За селом круто свернул налево, к реке, перешел Припять и по той стороне подался к поместью. Напротив дома спешился, пустил коня пастись, а сам кустарниками, только ему известными тропками, заспешил к людской.
Марийка недавно вернулась от учительницы. Она носила дрова из дровяного сарая, когда кто-то ее окликнул. Прислушалась — словно Андрей. Он стоял под развесистой липой и тихонько звал ее. Бросила корзину — и к нему.
— Андрейка! — припала к его плечу. — Я так боялась… Ты видел пани Софью? Это я ей сказала.
— Что ты сказала? — неожиданно встревожился парень.
— Ну что… что ты мне говорил…
— Вот чудная! — сердился и не сердился Андрей. — Я же только тебе сказал, зачем же учительнице?
— Не сердись, Андрейка. Я так боюсь за тебя…
— Лучше помоги мне.
Марийка отшатнулась.
— Ты не передумал?
— Там, за рекой, — показал он на лес, — конь. Попасешь его, пока я схожу…
Она попробовала возразить, отсоветовать, но он продолжал свое:
— Можешь сейчас? Я провожу тебя.
В голосе Андрея было столько твердости, что больше удерживать его не решилась.
— Подожди. Отнесу дрова. Постой тут.
Вскоре она вернулась.
— Пошли?
— Пошли, Андрейка.
А голос дрожит. И сама вся трепещет.
…Солтысов двор — в центре села. Когда-то, собственно, не так давно, несколько лет назад, на том месте была обычная крестьянская постройка, а потом, когда ее хозяева выехали — будто бы за океан, в Америку, — там поселился осадник Хаевич. Старые строения разломал, расчистил и на том месте возвел добротный дом с широкими окнами и с расписными ставнями, просторную ригу, хлева… Все это обнес высоким, плотным забором, с коваными воротами и колодцем при въезде.
Забраться во двор с улицы — напрасная мысль. Андрей зашел с берега. Постоял под вербами и огородом, неслышно ступая, боясь зацепиться и нашуметь, пошел ко двору. Вот и рига. Большая, красивая. Не какая-нибудь плетенная из лозы и обмазанная кизяками, как у них, а из сосны, пахнет живицей. Андрей коснулся рукой стены, к пальцам прилипла смола. «Гореть будет хорошо…» Прижимаясь, как только можно, к стене, заглянул во двор. Тихо. Никого… И в хате не видно огня. Стоял, слушал изменчивую темноту. Бешено билось сердце — даже кровь стучала в висках. Под мышками холодными росинками сочился пот. Где-то по ту сторону дома загремела цепью, залаяла собака — Андрей вздрогнул, еще крепче прижался к стене. Кто-то зашумел, — наверно, там, за забором, на улице… Голоса стихли, собака успокоилась. Вдруг — Андрей даже остолбенел — от противоположной стены сарая, с того конца, отделилась человеческая фигура, пошла по двору. Андрей отступил на шаг, не спуская глаз с человека. Первым его желанием было броситься наутек. Но человек тем временем отдалялся, и он, придя в себя, снова ступил вперед, прислушался. Может, это был сам Хаевич, потому что, постояв у дверей, оглянувшись, человек вошел в дом. Щелкнула щеколда, загремели засовы, и все затихло. «Фу! — облегченно выдохнул Андрей, — чуть не попался… Наверно, в уборной сидел, — подумал он про солтыса. — Надо подождать, пусть заснет… А тем временем огляжусь как следует».
Прошло, вероятно, еще с час, когда Андрей решился ступить во двор. «Понастроил, проклятый, и хлева, и подвал… Ну-ну… С чего же начать? — соображал он. — Наверно, с риги. Только бы залезть туда». На цыпочках, все еще не отрываясь от стены, прошел под сараем, потрогал двери: закрыты. Тенью проскользнул к дому, замер у крыльца. «И тут не за что огню зацепиться. Плохо!» — сокрушался Андрей. Взгляд его упал на высокое дерево, стоящее возле самой риги. Еще не сообразив, что и как он будет делать, Андрей подбежал к дереву, ухватился за сук, подтянулся на руках. Через мгновение он уже сидел на груше, — это была, судя по гладкой коре, еще молодая, но гибкая груша-дичок. Немного огляделся, полез выше. Вот и стреха… Еще немного… А там по суку на ригу. Разве ему впервые так лазать? Э! Подождите, пан Хаевич! Думаете, заперлись — так и все? Нет… Доберусь… Доберемся. Ага! Вот так, прямо на стреху. Андрей встал на упругую ветку и уже занес было ногу, чтобы ступить дальше, как остановился, пораженный, — неподалеку, залив почти полсела багрянцем, вырвалось пламя. «У кого же это? Что горит?» — терялся в догадках Андрей. А пламя крепчало, бросало в небо снопы искр, лизало темноту. «Неужели Постович? — не верил сам себе Андрейка. — Будто бы он… И журавль… во дворе, над колодцем… Он, холера ясная, горит, постерунковый!» Было бы можно, Андрей закричал бы от радости. Вот как! Так ему и надо!
Село зашевелилось. Залаяли, завыли собаки, зашумели люди… Где-то зазвенели ведра, заскрипели ворота… Но там, на пожаре, — Андрей видел это хорошо, — вертелось лишь несколько человек. Никто не спешил спасать постерункового. «Теперь будет знать! Это тебе и за дядю Федю и за отца…»
Скрипнули двери — Андрей притаился, впился глазами в фигуру, что появилась на крыльце. «Хаевич, — теперь он уже узнал солтыса. — Не спится, пан? Подожди, это тебе еще не все». Хаевич спустился с крыльца — белый, как мертвец, в одном белье, взглядом окидывал двор. «Ага! Боишься, пся крев». Увидев, где горит, солтыс метнулся в дом и вскоре выскочил одетый, с карабином. Стрельнул в темноту и побежал на улицу. «Беги, беги», — усмешкой проводил его Андрей и, раскачавшись на суку, прыгнул на ригу, спешно начал разрывать соломенную крышу.
«Ого! Тут еще сколько сена, — ощупал он, — да какое душистое!» Он нашел двери, отпер их, открыл, прислушался и опять закрыл. Достал бутылку, намочил паклю, сунул в сено. Руки дрожали, спички ломались, наконец вспыхнули. Андрей зажал огонек в ладонях, дал разгореться и поднес к пакле. Язычок пламени лизнул ему брови, веки, змейками взвился по сухим стебелькам. Андрей отшатнулся, словно испугался содеянного, но тут же намочил остатки пакли, запихнул в снопы ржаной соломы и уже увереннее чиркнул спичкой.
…Остановился он уже на берегу. Сзади еще покачивали сонными головками подсолнухи, а он приник к земле, в кустах, ждал. Вот длинная багровая лента вырвалась, вероятно, сквозь дыру, которую он проделал, качнулась, затрепетала на ветру и плавно легла на крышу. Рига осветилась, словно улыбнулась. Ленты вились, меняли цвета. Вдруг рига будто запела, и вокруг словно рассвело… Андрей отступил еще дальше в кусты. «Ну что, пан Хаевич? Как себя чувствуете?» И, уверившись, что все хорошо, что никакой силе пожар не подвластен, заспешил на ту сторону. В Припяти умылся, хлебнул из ладони тепловатой воды, пригасил внутренний жар. Шел как хмельной.
Это так: на веку как на долгой ниве. Пока перейдешь ее, всего изведаешь. И жаворонков наслушаешься, и цветов всяких наглядишься, и ноги не раз поколешь.
Вот хоть бы взять их жизнь. Сколько мук, бедности, надругательств всяких перенесли! Одна она, Текля, сколько слез пролила! Да каких! Кровавых слез… То по Степану убивалась, пока не сказала — хватит, то по меньшим, по Андрейке, когда эта беда с ним приключилась, а что по Андрону выплакала она, один господь знает. Хоть бы этот последний случай… А вот уже прошло, сплыло со временем, и будто не тоска ее гложет, а словно какая радость влилась в сердце, тревожит, волнует.
…Жатва.
Тяжелой от усталости правой рукой Текля смахнула с лица пот и встала, загляделась на рожь. Бедновато, а что поделаешь? И землица плоховата, песчаная, и сеялось не очень-то щедро. Вот и уродилась реденькая, с куколем… Ну, да ничего, какая-никакая будет. Пусть и куколь в ней, а все же рожь… хлеб святой.
— Помогай бог, Текля!
Оторвалась от своих мыслей.
— Спасибо, Катря. Дай бог здоровья. Что-то вы запоздали?
— Э! Пока то да се… — И пошла дальше, не остановившись. Две девочки за ней. С торбочками для колосков и с барыльцем…
Спешат люди. Да и неудивительно — лето красное. Не соберешь, не заработаешь — зимой да весной жди беды. Вот и крутишься как белка в колесе. Хоть собранного этого, конечно, и не хватит, но все же не сидеть дома. Мало своего или совсем его нет — иди нанимайся, продавай свои руки, всего себя продавай. Иначе пропадешь. И семья твоя погибнет. Так-то… А хорошо в поле! Словно в раю. Распрямишь затекшую спину, поглядишь вокруг — рай земной, да и только. Правда, в раю, говорят, отдыхают, не работают, а тут вон сколько жнецов и жниц высыпало. Сорочки так и белеют. Вон и Катря к своей нивке припала, а эти, на холмике, — Крочуки… А там, у края леса, Щирицы, Гусаки, Бартки, Жнут люди! Дождались хлебца, дождались…
Только графское стоит. Никто к нему не приступает. Уже осыпается, говорят… Господи! Что касается ее, то она за два злотых жала бы. Зачем же такому добру пропадать? Грех… А они — нет, только три злотых — жнецам, а косарям и того больше — четыре. Андрон то же самое поет. Отошел немного — и опять за свое, опять верховодит. А это добром не кончится. Нет! И говорила, и умоляла, и сердилась, — не слушает, свое гнет. Гни, гни, Андрон! Да гляди, как бы тебя не согнули, чтобы не жалеть потом. С панами шутки плохи. Это ты знаешь…
Мысли перепелками взлетают, кружатся над Теклей, клубятся вокруг нее, а серп — чирк-чирк… Поблескивает серебристым полумесяцем. Чирк-чирк — и ложится под легкими взмахами рожь…
— Мама! Слышите, мама? — Яринка тоже остановилась, загляделась на дорогу.
— Чего тебе, дочка?
— Андрейка вон скачет.
— Где? Что ты выдумываешь?
— Посмотрите.
А и в самом деле кто-то скачет. Небольшой, пригнулся к конской гриве… Словно он, Андрейка. Всегда так ездит. Не едет — летит. Еще когда-нибудь коня загонит, неслух проклятый. А не дай бог, конь споткнется — ноги переломает… Конечно, он сворачивает к ним. Да с чего бы так рано?
А всадник уже мчится по стерне. От коня пар идет.
Текля только собралась выбранить парня, как тот выкрикнул:
— Пацификация!
У Текли упало сердце. Боже ты мой! Пацифи…
— Все забирают! — кричал Андрейка. — Отец сказал — всех оповестить.
Повернул коня — и дальше.
— Постой!
— Некогда…
— Господи! Что же это будет? За что караешь нас так тяжко?.. Дочка, собирайся! Пойдем. Домой пойдем. Бери перевясла. Перевясла вон туда отнеси, в рожь. Да скорей! Люди уже побежали.
Схватив серпы, торбы, барыльце, обе бросились в село. У околицы толпились люди. Больше женщины. Кричат, порываются проскочить сквозь жолнерский заслон.
— Пустите, холера вашей матери! — бранились женщины с солдатами. — Зачем пришли?
— Привели, вот и пришли, — те им. — Страшно нам хочется цацкаться с вами!
— Вояки! С бабами только и воевать.
— Пустите!
— Не велено. Стрелять приказано. Так что лучше отойдите.
— Женой своей будешь командовать.
— Ну-ну! Поболтай там… А ну, назад!
Пешие глушане отыскивают неприметные тропки, чтобы добраться домой, а конные с подводами стоят табором, ждут, с болью в сердце прислушиваются к селу. Там творится что-то неладное: людской галдеж, рев скотины, собачий вой — все смешалось, плывет над Глушей, над болотами, над лесами и полями.
Старый Жилюк готовил с Андреем воз — после обеда собирались ехать за снопами, — когда в селе появились каратели. Уже по тому, как они сразу бросились по дворам, можно было судить, что расправа будет жестокой.
— Андрей! — позвал сына Андрон. — Бери коня — и скорей в поле, за людьми… Скажешь — пацификаторы приехали. Запомнил? Каратели, скажешь, налетели. — Он помог вывести коня, подсадил парнишку. — Поезжай берегом, на дорогах, видно, их полнехонько. Да поспеши, пока не окружили село.
Он проводил сына, а сам в хату: может, удастся что спрятать.
Вбежал, открыл сундук, выхватил из него, скомкав, штуку полотна, недавно спасенную от экзекутора, рядно, Теклину да и свою праздничную одежду и встал посреди хаты. Куда бы все это? На чердаке найдут, в чулане тоже, в хлеву непременно все перевернут. Холера ясная! А что, если в бурьян? Э, вот куда — в бузину. Сам черт не догадается! Выбежал в сени, с порога выглянул — и через двор. «Где-то уже близко, — собаки лают». Швырнул пожитки, кое-как накрыв ветками, когда у ворот зафыркали кони. Несколько всадников — три жолнера и один или два полицая (не до счета было!) спешились, привязали коней к тыну и, чуть не выломав ворот, ворвались во двор. «Показываться или пусть сами хозяйничают?» — раздумывал, спрятавшись среди ветвей, Андрон. А каратели уже шарили в хлеву, в хате, злые, взбешенные.
— Убежал, лайдак, — слышал Андрон, очевидно, про себя.
— Далеко не убежит.
«Может, не надо? Пускай сами… Хватит с меня», — колебался Андрон.
Звякнуло окошко, брызнули осколки стекла, следом полетели во двор подушки, какое-то тряпье. В хате тарахтели черепки, что-то трещало, обваливалось — сквозь выбитое окно повалила, словно густой дым из трубы, пыль… «Печь развалили. А, чтоб у вас глаза на лоб выскочили! — бранился Андрон. — Холеры на вас нет, распроклятые души!»
Где-то поблизости грохнул выстрел. Жилюк вздрогнул. Невдалеке, там, где только что стреляли, вырвался в небо темный, подбитый багрецом дым. «У кого же это? Неужели будут жечь? Наверно, будут. Эти так не ездят. — Андрон ступил дальше между веток, не сводя глаз со двора. — А ну как подпалят? Что им? Что тогда?» А в чулане и в хате гремело, в двери валом валила пыль. Вот те, что были в хлеву, вышли. Стоят, оглядывают двор. Один из них подошел к полукопешке ржи, которая стояла у хлева, на расчищенном от спорыша току. Выдернул сноп. Подошел второй, что-то сказал, что именно — Андрон не расслышал. Засмеялись («На кладбище бы вам смеяться!») и начали разбрасывать снопы, гарцевать на них коваными сапогами. Андрону казалось, что это по его рукам, ногам и лицу ходят сапогами. «А, чтоб вас громом побило! Чтоб по вас колокола зазвонили, порожденье ведьминское!» Он едва не выскочил из своего укрытия, готовый броситься на обидчиков, когда те стали мешать зерно с подушками, перьями, рваным тряпьем. Это было дикое зрелище. Снопы брызгали зерном, лопались свясла, растекались зерна, на каждом из которых следы его рук, его пот, мялись чужими ногами вместе с перьями, паршивыми тряпками. «Боже мой! — кричала Андронова душа, — зачем ты пускаешь на свет такую гадость, зачем поганишь землю? — А сквозь все это кралась мысль: — Хоть бы не сожгли. Им что?»
Вволю натешившись, каратели стали собираться. Отошли в сторону, отряхнулись, похохотали. «Идите уж, идите! — не терпелось Андрону. — Пусть под вами сырая земля провалится, нелюди поганые!» — желал он им, как только мог и что только мог.
Жолнеры были уже недалеко от коней, когда откуда ни возьмись ко двору подлетел постерунковый Постович. Растрепанный, потный. В одной руке повод, в другой — наготове карабин. Спрыгнул с коня, что-то забормотал карателям. Через минуту все вернулись назад. «Теперь все пропало», — обомлел Жилюк. Постович стал около тока, любуясь недавней работой карателей. Лицо его выражало удовлетворение. Что-то не то расспрашивал, не то сам рассказывал. Затем подошел к хлеву, достал спички… У Андрона потемнело в глазах. А когда прояснилось, слабенькое пламя уже прыгало по стрехе, поднималось все выше и выше… Когда двое карателей, поджегши по пучку соломы, бросились к хате, Жилюк не выдержал и вышел из своего убежища.
Солнце шло к полудню.
По каменоломне, забитой после утреннего взрыва, сновали люди — очищали выработку. Их было не много — человек пятьдесят, усталых, оборванных, с вечной каменной пылью на руках и на лице. Ступали понуро, тяжело. Тоскливо повизгивали на рейках ржавые вагонетки, скрипели тачки в их израненных камнем руках, а они молчали. Изредка, когда случался обвал, скупо бросали друг другу предостережение: «Берегись!» — и снова молчали: И в своем безмолвии, когда сидели, перекуривали, сами казались обломками породы… Гураль ходил по выработке, обстукивал обломки гранита — выбирал для своей работы. Он был возле подъема, когда сверху позвали. «Кто там соскучился?» — подумал он недовольно и стал подниматься.
Никого, кто бы ждал его, он не видел. Но когда приблизился к своей мастерской, от машины, стоявшей неподалеку, отделился и пошел ему навстречу человек. Гураль узнал его. Это был Иван Хомин, рабочий, которого город выбросил прочь, словно ненужную вещь, один из трех горемык, с которыми когда-то чуть не подрался покойный Федор Проц. Хомин устроился грузчиком. Не раз подходил он к Гуралю, стараясь завязать разговор, но Устим избегал этого. Кто знает, что за человек, разве мало теперь провокаторов. Подойдет, сморщится, влезет тебе в душу, а потом и вывернет ее на стол дефензивы… Остерегался, а все же приглядывался. По мелким, только ему понятным приметам старался распознать человека.
— Товарищ Гураль, — тихо сказал Хомин, — ваше село окружили каратели.
После событий, происшедших в последнее время в Великой Глуши, этого надо было ожидать. И все же Устим не подал виду, что это его особенно волнует. Пожал плечами: мол, моя хата с краю.
— Еще когда мы ехали туда, никого не выпускали, — продолжал Хомин. — Только наши машины и ходят.
Гураль взглянул на него:
— А почему, собственно, вы обратились именно ко мне? Разве мало тут глушан?
Грузчик непонимающе глядел на Устима. Его худое, скуластое лицо, запавшие глаза выражали глубокую усталость. Прежде всего усталость. На шее, раздутой от постоянного напряжения, тяжело бились жилы.
— Простите. Я думал… Мне почему-то казалось… — Хомину не хватило воздуха от гнева, что вдруг вспыхнул в нем. Он качнул головой так, что воротник старой, вылинявшей рубашки распахнулся. — Я думал… — не находил он нужных слов. — Тогда я скажу другим…
— Скажите. Да глядите, чтобы мастер не услыхал.
Хомин сверкнул по нему полным ненависти взглядом, ничего не ответив. Через минуту он исчез в выработке.
«Напрасно я с ним так, — подумал Гураль. — Обиделся… Надо сейчас же послать кого-нибудь — пусть узнает, что там, в Глуше».
Не заходя в мастерскую, Устим повернул назад к выработке. Не успел спуститься в нее, как над селом взвились в небо густые дымы, заклубились тучами. Гураль застыл на месте, затем крикнул что было силы:
— Село горит! Каратели жгут село!
Каменоломня замерла, но вдруг встрепенулась с небывалой силой. Люди бросали вагонетки, тачки и что есть духу карабкались наверх.
— Куда?! — метнулся мастер, которого Пшибосский, уезжая утром, оставил вместо себя. — Назад… душу-мать! Шкуру спущу!
— Э, пан, — крикнул ему кто-то, — не пугай!
— Пацификация! — завопил другой.
— Айда спасать село!
Хватали все, что попадалось под руку, — ломы, кайла, железные лопаты, даже цепи.
— Товарищи! — крикнул Устим. — Нас хотят запугать пацификацией. Наши жилища грабят, жгут… Не дадим!
— Не допустим!
— Покажем, на что способна организованная масса. Все в село!
— Стой! — выскочил вперед Хомин. — В село не пускают. Каратели вооружены. Они перестреляют нас. Надо на машинах… на машинах въедем!
«Дело говорит», — заметил Гураль.
— Давай в машины! Ложись, чтобы не было видно.
Каменотесы бросились к машинам, которые только что прибыли за гранитом.
— Товарищ Гураль! — крикнул знакомый уже голос. Устим обернулся, встретился взглядом с Хоминым. — Садитесь сюда!
— А вы идите тогда к другой… к последней. Прикроете нас в случае чего.
У одной из машин завязалась драка. Водитель-поляк, очевидно не желая везти рабочих, кого-то ударил, и каменщики набросились на него.
— Оставьте его, — подбежал Устим, расталкивая толпу. — Кто может управлять машиной?
— А где ключ от стартера?
— Он ключ куда-то закинул, — из кабины сказал Хомин.
— Где ключ? — спрашивал Устим водителя, который все еще лежал под ненавидящими взглядами рабочих. — Давай ключ! — И, схватив водителя за воротник, поднял.
— Да что ты его просишь? Обыщи!
Несколько рабочих снова бросились к поляку, тот испугался, залепетал: «Нет… не знаю…» Ключа при нем в самом деле не было.
— Ставь на короткое замыкание! Укорачивай! — бросил кто-то из толпы.
Хомин снова шмыгнул в кабину, что-то там делал, соединял какие-то проволочки.
— Давай! Крути!
Кто-то подбежал к передку, крутнул раз, второй, машина чихнула, кашлянула едким дымом, и мотор заработал ровно, спокойно.
— Садись! — крикнул Хомин, умащиваясь за рулем. — Когда-то и мы ездили…
Вскоре каменоломня опустела, замерла, в ней остались только мастер, не находящий себе места, кладовщик, поколоченный водитель-поляк да несколько нормировщиков. Они никак не могли от неожиданности понять всего, что произошло на их глазах. Смотрели друг на друга: кто же, мол, тут виноват?
— Опомнитесь! Что это вы делаете? — завопил старый Жилюк, выйдя из укрытия. — У меня сын капрал… в армии…
Увидев его, постерунковый обрадовался.
— А! Объявился, холера ясная! Берите его! — приказал он жолнерам. — Хватайте!
Солдаты кинули пучки соломы, подбежали, схватили Андрона, скрутили ему руки назад.
— Теперь ты у меня потанцуешь! — рычал Постович. — Большевиков захотелось? Сдохнешь, пся крев… Отведите его в постерунок, — приказал он и для начала огрел Жилюка арапником по плечам.
Андрон согнулся, заскрежетал зубами, но промолчал. «Бей, бей, гром бы тебя побил. Придет и на тебя кара, — думал он. — Только не жги… Не жги, душегуб». Подталкиваемый прикладами, плелся к воротам, оглядывался на пылающий хлев, на пучки соломы, которые догорали почти под самой хатой. «Только бы не заметил этот ирод».
Когда выходил со двора, в центре села, около участка, забухали выстрелы. Вот они послышались уже в другом месте, у перекрестка. Каратели насторожились.
— В постерунок его! — бросил Постович жолнерам, которые стерегли Жилюка, и первым вскочил в седло.
За ним поспешили другие. Кони вздыбились, с места пошли аллюром. Но не успели каратели отъехать несколько сот метров, как из-за поворота навстречу им вылетела машина. Кони шарахнулись в сторону, а из кузова, где вдруг поднялся добрый десяток рабочих, на полицаев градом посыпались камни. Кони сбились, толкались, теснили друг друга… Не успели каратели опомниться, как несколько человек выскочили из резко остановившейся машины и принялись их обезоруживать. Постович, пальнув наобум по машине, вырвался и поскакал дальше. Кто-то выпустил по нему несколько пуль из только что отобранного карабина, но напрасно — постерунковый уже повернул в переулок.
— Мы вас трогать не будем, — сказал Устим обезоруженным. — Идите к себе. Чтоб ноги вашей тут не было. — А потом обратился к каменотесам: — Айда тушить пожар!
Но рабочие уже и сами бросились к дому Жилюка. Увидав их, Андронов конвоир осадил коня, повернулся и бросился наутек.
Из дворов выскакивали другие каратели, сообразив, в чем дело, мчались вдогонку всаднику.
…Иван Хомин остановил свою машину еще у околицы. Жолнеры, сторожившие здесь, сдались легко, без единого выстрела. Через какие-нибудь полчаса, вооруженные несколькими карабинами, рабочие мчались к постерунку.
Когда машина сбавляла в глубоком песке ход, кое-кто из них спрыгивал, спешил к дому, но большинство держались вместе.
На площади, около постерунка, никого не было. Хомин, заглушив мотор, с несколькими рабочими вбежал в помещение. Навстречу им стремительно поднялся Хаевич. Схватился было за карабин, который стоял в углу, но Хомин опередил.
— Спокойно, пан солтыс! — и прицелился ему в грудь.
— Кто вы и что вам нужно? — сдержанно спросил Хаевич.
— О, это другой разговор! Успели ли вы каким-нибудь образом предупредить своих шефов о стычке в селе?
— Нет, не успел. Наивный вопрос: к гмине бегут сейчас десятки жолнеров. Через час-два там все равно об этом узнают.
— Ну, это уже наша забота. Не могли бы вы, пан солтыс, — продолжал Хомин, — выдать нам списки должников?
— Этого не выдают. А если уж вы пришли за ними, то поступайте как знаете, берите сами. — Они оба держались удивительно спокойно и даже вежливо. — Надеюсь, я вам тут не нужен… Мне можно уйти? — вышел из-за стола Хаевич.
— Нет, почему же? Присутствуйте, чтобы знали, что в вашем селе неплательщиков больше не существует… Да, не вызвали карателей… В этот раз мы вас не тронем, — голос Хомина отвердел, — но запомните: если еще раз допустите пацификаторов, помилования не будет.
— Вряд ли приведется вам иметь еще со мною дело. Вам, наверное, пришлют другого солтыса.
— Ну, с другим будет и разговор другой. А вас предупреждаем. Оружие тоже конфискуем. — Хомин взял карабин, передал рабочим. — Забирайте, товарищи, бумаги выносите, на дворе сожжем… Да аккуратно, ничего не ломайте, это нам еще пригодится.
Рабочие бросились к сундукам, ящикам, вытаскивали бумаги, выносили и сбрасывали у крыльца в кучу. Когда все было очищено, Хомин подвел солтыса:
— Глядите. — И чиркнул спичкой.
Старые, пожелтевшие, с орлами и гербовыми печатями бумаги плохо загорались, и Хомин ворошил их, тряс толстые слежавшиеся пачки, поджигал еще и еще с разных сторон. Кто-то вынес лампу, брызнул керосином, и бумаги наконец вспыхнули, начали скручиваться, вверх с дымом полетел легонький пепел.
— Вот так. Можете быть свободны, пан солтыс, — сказал Хомин. — Айда, товарищи, тушить село. — И, заведя мотор, погнал машину туда, где еще звучали выстрелы, выли собаки, где пылали под ясным летним солнцем сельские жилища.
В этот день Совинской в селе не было. Накануне ее вызвали к школьному инспектору в Копань, а заодно Софья решила наладить дело с печатанием листовок.
Город на этот раз показался Софье каким-то взбудораженным. Еще на вокзале ее поразило большое количество военных. На железнодорожных платформах, в тупиках и на колеях стояли накрытые брезентом и открытые танкетки, автомашины, походные кухни, небольшого калибра пушки. На перроне, разнося неприятный запах армейских супов и каш, мотались солдаты, резались в карты или тут же, у всех на глазах, мылись, раздевшись до пояса, стирали носки, платки…
Все говорили — маневры, но маневры бывали и раньше, однако никогда не собирали такого количества военных и техники.
В городе тоже было неспокойно: придирчивее вели себя полицейские, развязнее офицеры. Раньше Софья никогда не видела их пьяными, да еще днем! А сейчас встречались у каждого ресторана, у каждого кафе, мимо которого приходилось проходить. Пьяными голосами орали: «Еще Польска не сгинела…» Приставали к женщинам.
— Что это у вас делается? — поздоровавшись, удивилась Софья, желая что-нибудь выведать у работников инспектората. — Военных — пройти невозможно.
— Ах, пани Софья! — посочувствовал ей знакомый старый инспектор, хилый, болезненного вида человек. — Вы только приехали, а мы вот уже почти месяц терпим. — И, наклонившись к ее уху, зашептал: — Говорят, война будет… с Советами. Днем и ночью войско идет на восток. Только эти, — кивнул на окно, — почему-то остановились, уже неделю стоят. Город не спит из-за них. У меня бессонница… Ах, пани Софья… — Он дрожащими пальцами взялся за виски, сел и замолчал.
— Вам плохо? — спросила Софья, быстро налила и подала ему стакан воды. — Выпейте, прошу пана.
Тот непонимающе взглянул на нее, покивал головою и снова углубился в свои мысли.
— Я, вероятно, зайду завтра, пан начальник.
Тот снова кивнул, и Софья, бросив «до свиданья», поспешила на улицу.
Солнце склонялось за полдень. Идти в такое время на явку было опасно, и Софья решила где-нибудь перекусить. В ресторан идти не решилась («Еще нарвешься на пьяных офицеров»). Завернула к небольшому кафе, — когда-то, несколько лет назад, она в последний раз пила там кофе со Степаном, провожая его в далекий, неведомый путь. Кафе помещалось в глухом переулке недалеко от центра. Людей там было совсем мало — какая-то дама с ребенком да двое мальчиков, которые лакомились мороженым.
Софья заказала чашку кофе и пирожное и села около окна. Только теперь она почувствовала, что проголодалась. Кофе был слишком горячим, и, отставив его, Софья начала откусывать понемногу пирожное.
— Может, пани желает есть? — спросил ее хозяин.
— Нет, нет, благодарю, — покраснела Софья.
— Есть сосиски, пиво…
— Нет, я еще буду ужинать.
— Как желаете.
Кофе тем временем остыл. Совинская с удовольствием выпила его и снова принялась за пирожное. Было еще рано, она не спешила. Глядела, как за окном, на тротуаре, играли дети. Несколько девочек, расчертив мелом асфальт, играли в «классы». Тоненькие, беленькие, они по очереди прыгали то на одной, то на двух ногах, громко выкрикивая: «Небо!», «Ад!», «Рай!» В такт их прыжкам комично, словно большие бабочки, взлетали за плечами косички. Девочки так увлеклись игрою, что совсем не обратили внимания на офицеров, которые остановились рядом. Офицеры — они были пьяные — с минуту глядели на забаву, потом один из них, оттеснив детей, — те только удивленно отстранились, — встал обеими ногами на «класс». Он был доволен затеей, хохотал, старался подпрыгнуть, но пьяные ноги слушались плохо, путались, подкашивались.
— Давай в «рай»! — подзадоривали офицера друзья. — В «рай» прыгай!
— Эх ты! А ну, подожди, пусти меня. — Высокий, статный капрал подошел к офицеру, помог ему сойти с «класса» и встал сам. Игра ему удавалась. Капрал легко «прошел» через все отделения раз, потом принялся в другой…
«Да это же Павло! — чуть не вскочила Софья. — Жилюк! Какой красавец! Но почему он тут? Почему не заедет домой?» Она быстро доела пирожное, рассчиталась и уже хотела было выйти, но вдруг охладела: «Лучше не связываться. Пусть уйдут. С пьяным — какой разговор?» Она повернулась и взяла еще чашечку кофе. Не успела сесть за стол, как дверь с грохотом раскрылась и в кафе, все еще хохоча, ввалились офицеры. Их было четверо.
— Кофе панам офицерам! — крикнул один. — Да с коньяком!
Они водили пьяными глазами, отыскивая место.
— О, какая милая пани! — Тот, что первый начал было на улице игру, подошел к столику, за которым сидела Софья. — Разрешите, пани?
Совинская молча поднялась. «Подойти к Павлу или не стоит?» Жилюк сам обернулся на восклицание товарища.
— Пани Софья? — сказал удивленно. — Вот так неожиданность! Панове! — обратился к своим. — Это пани Софья Совинская, учительница из моего села… — И к ней: — Ну как там наши, как отец? — Он был выпивши, но с ним можно было разговаривать.
— Выйдем отсюда, — сдержанно сказала Софья и пошла к двери.
— Одну минуту… Я сейчас, — неизвестно кому, ей или своим друзьям, сказал Павло. Догнал ее в дверях. — Я так рад, Софья…
— А почему вы не наведались домой? Отец долго лежал избитый.
— Избитый? Почему же мне писали — больной? Кто его избил?
Софья пожала плечами.
— Ночью. Кто знает… Вы давно в Копани?
— Уже неделю. Загнали в тупик…
— Война? — спросила, пристально поглядев ему в глаза, Совинская.
— Не знаю, — сухо ответил Жилюк. — Все возможно. Германия готовится.
— Готовится Германия, а вас везут на восток.
— Им виднее. Мы — солдаты.
Они неспешно пошли почти безлюдным переулком к реке, видневшейся в нескольких метрах среди молодых тополей и редкого вербняка.
— Вас не будут искать? — поинтересовалась Софья.
— Нет. Наших тут полно. В случае надобности известят.
В самом деле, на лугу, куда они вышли, прогуливалось и купалось в реке немало военных.
— Это все ваши? Много. На маневры не похоже.
— Не похоже, пани Софья. И не расспрашивайте меня больше, прошу вас.
— Боитесь?
Павло не ответил. Лишь через несколько минут добавил:
— Под честное слово скажу вам — дальше мы не поедем. Уже получено распоряжение. Нас, наверное, пошлют усмирять… — И вдруг остановился, спросил ее: — Что, в селе в самом деле бунтуют?
— А что бы вы делали? Работали за бесценок, а потом с голоду пухли? Или как?!
Жилюк покачал головой.
— Не знаю. Этот вопрос не для меня. — И, вероятно, чтобы изменить тему разговора, спросил: — О Степане ничего не слышно?
— Нет, — не задумываясь ответила Софья. — Этой весной Глуша чуть с голода не вымерла, — продолжала она. — Где же справедливость? Федора Проца убили, вашего отца пустили чуть живым. Штрафы, экзекуции… А вы спрашиваете, бунтуют ли села. Удивляться надо — как до сих пор терпели?
— Тише… ради бога! — Он вежливо взял ее под руку.
В самом деле: не слишком ли она? Софья умолкла. Тропинкой над рекой вышли к мосту и главной улицей пошли обратно. Солнце садилось где-то за лесами, которые тянулись огромным сплошным массивом за Турийскими болотами.
— Вы когда домой? — спросил Павло. — Завтра? И мы, вероятно, завтра двинемся. В каком направлении, не знаю, но думаю, мне можно будет повидать своих. А сейчас не пускают.
— Что-нибудь передать вашим? — спросила Софья.
— Да что? Приеду — тогда обо всем и поговорим.
Чем ближе подходили к центру, тем люднее становилась улица. Встречаясь со старшими офицерами, Жилюк каждый раз приветствовал их, чувствуя себя неловко рядом с девушкой.
— Может, сходим в кино? — предложил он.
— Спасибо, я сегодня с дороги, устала.
— А где вы остановились? Что ему ответить?
— У знакомой. Она в инспекторате работает. Все гостиницы заняты военными.
— Это далеко? Я вас провожу.
Софья назвала адрес своей старой знакомой. Не виделась с ней уже лет пять. Может, ее и совсем там нет. Но какое это имело значение в данной ситуации? Ей надо было как-то вежливо оставить Павла. Они прошли еще немного, почти до городского кладбища.
— Вот тут мы и расстанемся, — остановилась Софья у деревянного, со ставнями домика. — Спасибо. До встречи, так?
Павло крепко пожал ее маленькую руку.
— Если на днях не буду, передайте поклон, — попросил он, — скажите, что видели, жив, здоров.
Голос его звучал печально.
В аптеке, к которой Совинская, чтоб не привлекать к себе лишнего внимания, подъехала на извозчике, было несколько посетителей. Софья подождала, пока они получили свое лекарство, и подала рецепт. Аптекарша долго вертела бумажку, молча о чем-то думала, что-то подсчитывала, наконец поняла, извинилась и вышла в соседнюю комнату. Через минуту вернулась, попросила подождать. Еще через несколько минут из комнаты вышел заведующий. Повертелся у витрины и, подойдя к Софье, шепнул:
— Пароход отходит в восемь утра.
Софья встрепенулась, но мгновенно подавила волненье.
— Вы ошибаетесь, сударь, не пароход, а поезд, — ответила она, — и… — выдержала паузу, изучая незнакомого, вопросительно смотрящего на нее, — и не утром, а вечером.
Теперь они с приязнью, без подозрений и предосторожности, взглянули друг на друга, улыбнулись.
— Ну, здравствуйте, — первым подал руку мужчина. — Пойдемте со мной.
Софья глазами показала на аптекаршу: мол, как она?
— Пошли, пошли! — взял он ее за локоть.
В комнатке, куда они вошли, сильно пахло разными травами, лекарствами. С непривычки у Софьи чуть-чуть закружилась голова, и она поспешила сесть.
— Слушаю вас, товарищ…
— Совинская, — отрекомендовалась Софья. — Софья Совинская из Великой Глуши. — И, уже не ожидая от него приглашения к разговору, продолжала: — Мне нужно встретиться с кем-нибудь из секретарей окружного комитета.
— Так, — равнодушно сказал аптекарь, переставляя наполненные жидкостью пробирки. — Вы можете подождать?
— Как долго?
— Ну, хотя бы… хотя бы, пока он, — аптекарь переливал жидкости, — пока он придет сюда. — И снова сдержанно улыбнулся.
— Конечно, — ответила Софья.
— Тогда подождите. Берите вон журналы, газеты. Может, выпьете чаю?
— Спасибо, я недавно пила.
— Не хотите, значит? Хорошо. — Тонкими белыми пальцами он быстро орудовал пробирками, смешивал, взбалтывал жидкости, разглядывал на свет, наконец вылил лекарство во флакончик. — Вот и все, готово. Вы не видели, как приготовляют лекарства? Нет? Ну, так будете знать, чем мы вас иногда потчуем. — Он быстро вымыл руки и начал одеваться. — Что передать? Какие дела? — Голос его зазвучал тверже.
— Листовки и так… текущие дела.
Аптекарь проводил Совинскую в другую, жилую комнату и вышел.
…Вернулся он часа через полтора, когда во дворе уже стемнело. Заглянул, уверился, что никого из посторонних нет, и пригласил кого-то. В комнату вошла пожилая женщина. Поздоровалась.
— Заждались, наверно? — спросила она у Софьи.
— Да я тут медициной занималась. Журналы просматривала.
— Ну и как?
— Хоть бы половина того, о чем пишут, претворялась в жизнь. Что в селах делается! Ужас! Целые семьи погибают от туберкулеза и лихорадки.
Женщина поправила платок.
— Впрочем, одна медицина тут не поможет… — Подсев ближе, она положила Софье на плечо суховатую руку. — Ну, рассказывайте… Хотя давайте сначала познакомимся. Вас я знаю, а меня зовите просто товарищ Ольга.
Софья рассказала о событиях в селе, о том, как трудно людям и как тяжело сдерживать их в гневе.
— Как? — удивилась секретарь окружкома. — Да вы главного, выходит, не знаете?
Софья непонимающе смотрела на нее.
— Сегодня нам сообщили — в Великой Глуше были каратели. Крестьяне выгнали их, многих обезоружили.
Совинская не верила своим ушам. Как же это? Солтыс даже не заикался об этом. И по дороге, когда ехала вчера на станцию, никого не встречала… ни одного жолнера. Откуда они так внезапно взялись? Вот так новость! Софья на миг представила, что там, в селе, могло случиться, ее бросило в жар, лицо вспыхнуло.
— Ничего, товарищ Софья, — успокоила Ольга, — не волнуйтесь, все, как видите, обошлось, жертв как будто нет. Вам нужно немедленно возвращаться.
Софья утвердительно кивнула.
— Главное сейчас — правильно сориентировать людей, — продолжала секретарь. — Готовить к наступающим, уже, вероятно, недалеким боям. Как у вас с жатвой?
— Бастуем. Во время сенокоса нашлись было штрейкбрехеры, а теперь пока все хорошо. Листовок не хватает, товарищ Ольга, литературы.
— Знаю, — вздохнула собеседница, — знаю, что не хватает. Но возможности наши сейчас ограниченны. К тому же события развиваются так стремительно, что едва ли мы сможем своевременно на все откликнуться листовками. Развертывайте устную агитацию. На местных фактах учите людей.
— Да ведь сами-то далеко не всегда бываем информированы. У вас тут за день вон сколько узнала, а там… Оторваны мы, — изливала душу Софья.
— Скоро соберемся, — сказала секретарь. — Значительные назревают события.
— Война? — прямо спросила Софья. Женщина подумала.
— Об этом, возможно, рано еще говорить, — сказала она немного погодя. — Дело значительно сложнее. Свита Мосцицкого ведет капитулянтскую политику, выявляет свою абсолютную неспособность выстоять перед Гитлером… Вот где опасность. Именно это мы должны донести до сознания людей.
Вошла аптекарша. Извинилась, поставила на стол землянику в сметане, хлебницу, масло и два стакана чаю.
— Будем пить чай, — сказала товарищ Ольга и подвинула Софье стакан. — Прошу. Берите хлеб, масло. Какая душистая земляника! — Она набрала ложечку. — Вы любите собирать землянику? — спросила она неожиданно.
Софья растерялась. Конечно, любит. Только… вот только не помнит, когда в последний раз за ней ходила, сколько лет тому назад.
— Напрасно, — сказала секретарь. — А я бегаю в лес при первой возможности… Земляника, грибы, черника… Боже мой! Какая прелесть их собирать!
Пили горячий, душистый чай. Обеим было хорошо в этой небольшой уютной комнате, к окнам которой припадали зеленые ветки сада и куда не долетала тревожная суета города. Какое-то время молчали. Софье на миг показалось, что все эти разговоры, тревоги преувеличены, что нет никакой опасности, — просто сошлись две старые знакомые и вот сидят себе, пьют чай и говорят о своих вкусах и пристрастиях…
— А знаете, товарищ Ольга, — Софья отодвинула стакан, — иногда мне хочется забыться… от всего, всего… хочется покоя… Нагляделась я на людские муки, особенно этой весной, и больше, кажется, не могу. Вы извините меня, — спохватилась она. — Я понимаю и ради нашего общего дела готова на все, но так больно… так щемит сердце… особенно за детей. Чем они виноваты? За что должны терпеть?
— Поэтому нам, старшим, и должно быть больно, — сказала секретарь. — Поэтому мы должны выстрадать, добиться для детей другой жизни, Софья. Для них и для себя. Жизнь без классов, без рангов, без привилегий для одних и равнодушия к судьбе других. Я понимаю вас. Думаете, я не такая? Такая же. Разве только большей закалки. А и мне бывает не по себе. Таково уж наше женское сердце. И будет оно болеть всегда, Софийка. Даже тогда, когда дождемся другой, счастливой жизни. Да и что это за сердце, если оно равнодушное и черствое? — Она вздохнула. — Наговорила я вам… Что ж, таково уж нынче счастье. Может, скоро о другом услышим.
— А скоро? — ухватилась за слово Совинская.
— Скоро, девушка, скоро. Мы же не одни. Есть и у нас друзья, есть братья и сестры — там, на Великой Украине. Да и здесь, среди ваших людей, поляков.
Софья слушала и краснела за только что сказанное, за желание какого-то покоя, забытья… за минуту отчаяния и страха, которые были и, возможно, еще будут.
— Спасибо вам, — сказала тихонько, — за доверие, спасибо. Обещаю вам…
— Не надо, — мягким, предостерегающим жестом остановила ее женщина. — Не надо обещаний. Возвращайтесь домой — и за работу. В случае чего мы должны быть готовыми захватить власть и какой угодно ценой удержать ее. Готовьте людей. Надежных, стойких. Вооруженных стычек избегайте. Забастовки, саботаж, агитация — вот наше нынешнее оружие. А с листовками и литературой, если будет возможность, мы поможем… Где вы остановились на ночлег? — поинтересовалась она.
— Собственно, — покраснела Софья, — я думала…
— Ну вот, — усмехнулась женщина, — переночуете здесь. До утра не так уж и далеко. Я скажу товарищу Янеку. Будьте здоровы. — Она обняла Софью, крепко поцеловала трижды. — Желаю вам успеха.
…Софью положили на небольшом диванчике. Она долго не спала — думала-передумывала услышанное и увиденное. Не выходила из головы Глуша: как там? Что делают сейчас? И Павло: «Нас, наверно, пошлют усмирять…» Кого усмирять? Куда?.. Ответа так и не нашла, — ее сморил сон.
Августовская ночь осыпалась спелыми звездами. Пахло рыбой, полем, хлебами.
Чарнецкий дремал. Однако он далек был от сна. Просто опьянел от тишины, приволья и утренней свежести. Благодатная пора! Да еще после всех этих варшавских свар… Этого шума… Бесконечных заседаний… Речей в сейме… Матка боска! Пусть теперь дерутся. Ему все это надоело, надоело… Не так-то уж много осталось, чтобы терять дни, месяцы, годы — целые годы! — на это празднословие. Пускай себе грызутся…
Повозку качнуло на выбоине, думы на миг отлетели. Граф плотнее закутался в легонькую накидку, — холодок таки чувствителен! Примостился поудобней… Перевелись люди. Нет той твердости. Силы духа нет… Перевелись люди. Перед какими-то пройдохами готовы упасть на колени. Без единого слова. Да кто он такой, этот Гитлер, что отважился диктовать им? Безумец. Паршивый ефрейтор…
Граф беспокойно зашевелился, потер левую руку, — она немела у него всегда, когда нервничал. Постарался отогнать невеселые мысли, а они все лезли, лезли, больно отдавались в сердце. Конечно, время такое, что надо с кем-то действовать вместе. Иметь сообщника. Но какой же это, к черту, сообщник, если готов тебя съесть? Если против тебя же свои силы выставляет?
А все потому, что слабость чувствует. Поддались же Австрия, Чехословакия. Проглотил, как удав. Теперь за нами, за Польшей, черед. И тоже проглотит. Проглотит, пес, потому что нечем ему пасть заткнуть. Где танки, самолеты, хорошо вышколенное войско — где они? Разве он не говорил, не советовал? Тому же Пилсудскому… Да и этим, Мосцицкому, Смиглому, — всем говорил. Отшучивались. Надеялись на союзников… Вот теперь пошутите, панове. А с него хватит. Он еще пожить хочет. У него есть к чему руки приложить. Если б только… Граф словно успокоился, вспомнив про выгодный для него контракт на продажу хлеба, — только бы не передумали. Но нет, хлеб сейчас нужен, как никогда нужен. Мобилизация… Армия растет не по дням, по часам. Кормить ведь ее надо?.. Не передумают! А коли что — продаст за границу. Купцы вон как ждут. Только заикнись.
Миновали редкий березняк, — за ним, за небольшим полем забелел на холме дом. «Стоит! — Радостью наполнилось графское сердце. — Как заколдованный… Словно в сказке. А там пускай хватаются за чубы, — глумился он над чиновниками. — Пусть… Может, поумнеют… Ради такого красавца, — взглянул опять на дворец, — такого раздолья можно и совсем отойти от политики». Это дело молодых, он свое отслужил. Хотел как лучше, да если не в лад, то и он со своим назад. Подождет, пока утихнет. А там нужно будет — позовут, а нет — проживет и без политики… И так все ей отдал. Один остался как перст. Сын? Что теперь сын? У него свое. Свои интересы, увлечения… Своя семья. Пока не был женат, так-сяк заботился о старом, наведывался. А теперь — пропал. Военный, куда пошлют, туда и должен ехать. Только и видишь, когда приезжает летом. А что этот отпуск? Съедутся, пьют, в карты играют… и больше ничего. Никакого интереса. Если б сам не держал все в руках, давно развалилось бы. И дом захирел бы, и земли бы эти лентяи растащили, и лес уничтожили.
А и было же тут! Именитые помещики пили за его столами. И охотились в этих лесах, любили… Завидовали ему.
Слабый утренний туман оседал. Дом становился яснее, словно с него медленно снимали прозрачную кисею. «Были дела, — с удовольствием и легкой печалью думал Чарнецкий. — Были и, может, еще будут».
Ему захотелось взглянуть на поля, и он приказал свернуть с шоссе. Возок закачался сильнее, и мысли, которыми он жил, которыми мучился всю дорогу, сами неслись куда-то в неизвестность, и невозможно было их остановить. Граф хватался то за одну, то за другую, но не успевал сосредоточиться, как они вырывались, мчались прочь.
Около ржаного поля остановился. «Не успели. А пора, давно пора. Осыпается рожь. — Приподнял горсть стеблей — ломких, переспевших, колосья брызнули зернами. — Это еще утром, когда роса, — соображал он, — а что же днем, когда солнце печет?»
Раздвинул стебли, нагнулся. Серый супесок был покрыт зернами…
«Это, вероятно, только у дороги, — утешал он себя, но зерно валялось и дальше… и еще дальше. — Пся крев», — выругался Чарнецкий и быстро вернулся к возку.
— Почему стоит? — спросил он кучера.
Тот молча пожал плечами.
— Это — всюду так? — Ужасная догадка пронизала графа. — Отвечай! — взвизгнул он надтреснутым голосом.
— Стоит, ясный пане, — тихонько ответил кучер.
— Почему?
— Разве я знаю!
— А свое собрали?
— Кажется, собрали…
Чарнецкий вскочил в возок, окинул вокруг взглядом: хлеба и хлеба, переспевшие, поникшие. Он хорошо представил себе эту картину: пересохшие колосья трескаются, рожь стекает на землю. По зернышку, по два… А подует ветер — посыплется зерно, поплывет… «А если дождь?» От этой мысли мороз пошел по спине. Ведь это его богатство осыпается… Его сила. И слава… Его прошлое и будущее. И уже не зерна падали на землю, а в возбужденном представлении графа падало и исчезало золото, то золото, которое он уже чувствовал в руках, в кармане, перед которым склонялись его многочисленные друзья и, вероятно, еще более многочисленные недруги.
— Во двор! — крикнул Чарнецкий и шлепнулся на сиденье.
Кучер ударил по лошадям, туго натянул вожжи. Навстречу им красной дежей выкатывалось из-за леса солнце.
…Дед Миллион с тех пор, как служит у графа, таким злым еще его не видел. Бывало, приедет — табачком угостит, сядет, поговорит, расспросит, а сейчас, прости господи, как оглашенный. Едва ворота успел открыть. Не только не поздоровался, не взглянул даже.
— Чего это он? А? — подошел Миллион к кучеру, когда граф соскочил с возка и направился к дому. — Словно овод его укусил… А?
— «А» да «а»! — передразнил деда кучер. — На поле заезжал. Как увидел некошеную рожь, так и вскипел.
— Вон оно что! — поднял седые брови старик.
— А вы думали что?
Но старик больше не слушал его. «Будет дело. Будет, черт побери! Надо хоть хлопцам сказать, что приехал».
Челядь забегала. Кучера мигом послали за Хаевичем, и вскоре чисто одетый, в блестящих сапогах солтыс был в панском доме. Вслед примчался Постович. Соскочил с коня, бросил старику повод, а сам подался к Чарнецкому.
— Закрутились, — смеялся дед. — Как посоленные вьюны закрутились.
…Часа через два совет у графа закончился. Управляющий, Хаевич и постерунковый сразу куда-то исчезли, а еще через час во дворе начали появляться крестьяне, преимущественно пожилые.
— Не знаете, зачем сгоняют? — допытывались у деда Миллиона.
А тому самому было любопытно.
— Лихо его знает. Приехал, словно сумасшедший, и давай гонять всех.
Когда крестьян набралось человек пятнадцать — двадцать, управляющий бросил:
— Граф говорить будет. Смотрите у меня! — пригрозил он.
И в самом деле вскоре к ним вышел сам граф. Бледный, глаза злые, беспокойные — так и бегают по нахмуренным крестьянским лицам. Все же поздоровался, угостил сухим, как черствая горбушка, «добрым днем». Ответили глухо и недружно. В другой раз рассердился бы, вскипел и сейчас, но виду не подал, скрыл злость.
— Так что, люди? Почему не жнете, не косите?
Молчали, переминались с ноги на ногу.
— Обидели вас, я знаю… так вы же сами виноваты: зачем подожгли панов солтыса и Постовича?
Молчанье. Ни звука… О, в другое время он развязал бы им языки, заставил бы говорить! Ох, заставил бы!
— Пострадавшим, если честно будут работать и не станут бунтовать, обещаю помощь, — вырвал граф из себя.
— Вы слышали? — неожиданно загремел солтыс.
Чарнецкий недовольно взглянул на него.
— Я пригласил вас, наиболее уважаемых в селе людей, чтоб посоветоваться. Рожь перестаивает, осыпается… — Он сам удивился, как только может после всего так спокойно говорить. — Хлеб гибнет… Передайте людям да и сами знайте: обещаю награду.
— Оплата старая? — послышалось из толпы.
— Как и в прошлом году, — сказал управляющий.
— Не выйдет дело. В прошлом году рожь была не такая. Да и лето легче.
— Чего же вы хотите? — спросил граф.
— Мы уже вашему управляющему говорили, — осмелел наконец Судник. — Три злотых жнецам, четыре — косарям. И это — за восемь часов. Как в городе, восемь часов отработал — и все. Нет дураков от зари до зари.
У Чарнецкого пот на лбу выступил. «Ишь, быдло! Пся вира! Восемь часов захотелось им. Четыре злотых… Ну, я же вам!»
— Заговор? — спросил он грозно. — Бастовать задумали? — И уже чуть легче: — С живого шкуру дерете… Разве я плохо с вами обращался? Души у вас нет.
Он их уговаривает! Матка боска! Кто тут хозяин, кто владелец всех этих земель? Наконец, кто они ему такие? Быдло… Как он может так с ними разговаривать, что-то обещать?
Но другой, более трезвый голос диктовал графу иное. И Чарнецкий прислушивался к нему, верил ему. Жизнь научила его обходительности, выдержке, и вот сейчас, как это бывало уже не раз, он пользуется ими. Потом, позже, он может сделать по-своему, как позволят обстоятельства, но сейчас… сейчас не время… Пойти сейчас против них открыто — все равно что в бочку с порохом бросить искру.
— Так что? Так и разойдемся? — спросил он, сдерживая гнев.
А они переглядывались, косились друг на друга, шептались, — и ни слова ему, словно обращался не к ним.
— Чего воды в рот набрали? — опять не выдержал управляющий. — Без хлеба сидеть хотите? Или, думаете, и дальше просить вас будем?
От конюшни к ним направилась толпа конюхов.
— А вам чего? — выскочил им навстречу Карбовский. — Марш на работу! Кому говорят?
— Подождите, пан управляющий, — выступил вперед маленький, сутулый крестьянин. — Мы с графом хотим поговорить. Вы еще на нас успеете накричать.
— Нечего вам с ним разговаривать, — заступил дорогу управляющий.
— А это уж нам лучше знать.
Управляющий толкнул конюха, тот споткнулся, какое-то мгновение они ели друг друга глазами, потом крестьянин решительно ступил вперед, за ним подались и другие.
— Эй, что там еще? — заметил суету граф.
— Конюхи, вельможный пане…
— Чего вам? — Чарнецкий обратился непосредственно к конюхам. — Почему вы не в поле?
— Поговорить надо, — подошел сутулый. — Мы, конюхи, — мялся он. — Живем и работаем у вас с семьями. У меня лично жена и дочка… Месяц как нанялись. Сам работаю с утра до вечера. Ну, да лихо с ним, со мною то есть. А вот почему еще и мои должны задаром работать?
— Как это задаром? — прицепился к слову граф. — Сколько платите конюхам? — спросил управляющего.
— Пятнадцать злотых и харчи.
— Это мне пятнадцать, — продолжал конюх, — а жене восемьдесят грошиков, дочке и того меньше — шестьдесят. Почему так? Почему они должны, наработавшись днем в поле, вечером доить коров? Почему за это не платят?
— Разберемся, — пообещал граф. — Идите на работу.
— Не пойдем, пока не скажете. Чего тут разбираться? Женщинам за дойку платить — и все.
— Ну да! — загудели другие.
— Айда на работу! — крикнул Карбовский.
— А ты не погоняй! Раскричался…
Конюхи смешались с глушанами, зашумели:
— Не поддавайтесь!
— Стойте на своем!
— Пускай сами косят!
— И доят, — добавил кто-то.
Засмеялись. А дед Миллион, который вертелся тут же, не удержался, громко захохотал. Еще бы: пускай сами доят! Это пан управляющий, а может, и граф! Чудеса!
Чарнецкий вспыхнул. Глаза у него налились кровью, выпучились, и задрожали скулы. Чтобы не выйти из себя — этого при крестьянах он еще никогда себе не позволял — и не бросить таким образом опасной искры, нервно повернулся и мгновенно исчез.
— Разойдись! — закричал солтыс.
— На работу! — метался среди конюхов управляющий.
Крестьяне направились к воротам.
— Держитесь! — крикнули они конюхам.
— Пусть попробует кого-нибудь найти…
— Прочь, прочь! — выходил из себя управляющий.
Глушане вышли за ворота, закурили и долго еще не расходились. Спорили, советовались.
Прошла еще одна полная тревоги ночь. Как только солнце загорелось над миром, брызнуло ослепительными лучами в окна, по Глуше в разные концы помчались всадники.
— На жатву!
— В поле, в поле айда!
— Всем в поле!
Крестьяне остолбенели.
— Это еще что за оказия? Не панщина ли вернулась?
Кто бежал из дома, кто терся, мялся («Да вот косовище поломалось… разве так сразу наладишь?»), а кто просто отказывался, да и все.
— Не пойду! — уже в который раз твердил Судник. — Граф говорил, может, увеличат плату, да так ничего-и не слышно. Не пойду…
Управляющий гарцевал на коне по двору, дразнил собаку, а Адам твердил свое:
— Грыжа у меня, вот что!
— А как бунтовать, так не боишься грыжи? Кто это людям наговаривает? Собирайся! Да и своим скажи, чтобы сейчас же шли.
— Сам говори.
Управляющий соскочил с коня, побежал в хату. И пока Адам доплелся до своей старенькой хижины, тот уже волок из кладовки мешок зерна. Жито рассыпалось, управляющий топтал его сапогами.
— Ты что же это? Куда тянешь? — спрашивал Судник в сенных дверях.
Управляющий толкнул его коленом в живот — Адам взвился, упал, — а сам перевалил мешок через высокий порог и пригоршнями разбрасывал зерно по двору, в спорыш.
— Аспид ты распроклятый! — выскочила с ухватом жена Судника и огрела управляющего по плечам.
Тот выпрямился, дал арапником сдачи, затолкал женщину назад в сени и закрыл двери, схватил мешок за углы, мотнул туда-сюда. Душистое, отвеянное, — на семена, видно, — зерно рассыпалось по траве, на навоз, под хлев…
— Люди добрые! — выбежала снова жена Судника, уже с детьми. — Спасите!
А управляющий тем временем вскочил на коня, помчался дальше.
…Катря Гривнячиха выносила телушке пойло, когда ко двору подлетел Карбовский.
— Ты почему не в поле? — гаркнул он на всю улицу.
— А разве кто пошел? — остолбенела от его крика Катря.
— А тебе, стерва, кого еще надо? За телушкой так вскачь бежала, а теперь спрашиваешь?
— Да ни за чем я не бегала, грех такое говорить! Вы же знаете…
— Так она сама к тебе прибежала?
Он спешился.
— Почему не приходила? — дышал ей чуть не в самое лицо водочным перегаром.
Катря поставила ведерко, опустила глаза. Руки дрожали, как тогда, в поле, в зеленом жите.
— Или, думаешь, я забыл? Дал телушку и забыл… Так?!
— Если дали, то и заберите. Нечего меня попрекать. Я не просила. — И заплакала, зашмыгала носом.
— А ты думала как? Задаром! Почему молчала?
— Потому что ничего не знаю… Не знаю! — повысила она голос. — Отцепитесь вы от меня!
У старых, покосившихся ворот остановилась пароконная подвода. На ней уже лежал десяток мешков, поверх которых сидел полицейский.
— Есть что-нибудь? — крикнул ездовой.
— Подожди, — ответил управляющий.
— И так едва утекли, — ответил подводчик. — Вон уже бегут.
— Телушку забрать! Эй, ты! — крикнул управляющий полицейскому. — Иди телушку возьми! — И Катре: — Выводи! Нечего тут… Я с тобой еще поговорю! Мать твою… — Ударил ногой ведерко, пойло вылилось, задымилось на солнце. — Быстрее выводи!
Непослушными пальцами Катря отвязала налыгач. Телушка терлась об нее, лизала руки, мычала тихонько, жалобно — просила пить…
— Иди, Белянка, иди, — тащила Катря за повод.
А телушка упиралась, крутила головой.
Выскочили дети:
— Мама, куда вы ее?
— Ну же, Белянка… — плакала Катря.
Подошел полицейский. Ухватил налыгач, дернул. Телушка уперлась ногами — и ни с места. Полицейский заходил сбоку, бил телушку носками в бок, тащил. А по улице уже приближалась шумная толпа…
— Скорей! — кричал ездовой.
Полицейский кое-как дотянул телушку до воза, привязал за полудрабок, и воз рванулся дальше.
— Катря? Чего же ты стоишь? — подбежали женщины. — Телушку забрали, а она молчит!
— Кто дал, тот и взял, — печально сказала Катря и, обняв детей, заплакала.
Село разбушевалось. Носились управляющий и полицейские, выгоняли в поле, забирали только что намолоченное зерно, чтобы вернуть графские убытки.
После стычки с карателями Устим Гураль и Хомин не вернулись на каменоломню. Не вернулось туда и большинство рабочих. Отняв у жолнеров и полицейских оружие, отряд к вечеру скрылся в лесах. Ушел с ним и старый Жилюк. Чувствовал, что после всего, что случилось в селе, ему не жить. Два дня об ушедших никто ничего не слыхал, а на третий утром по Глуше разнесся слух, что ночью в селе были партизаны, оставили писанные от руки листовки. В листовках говорилось:
«Отныне мы, коммунисты, беспартийные рабочие и крестьяне Великой Глуши, переходим к партизанской борьбе. Мы дали обещание защищать село от набегов карателей, оберегать его жителей от расправ и экзекуций, которые учиняют осадники и урядники, и предостерегаем их: на каждое насилие будем отвечать карой… Кровь за кровь! Да здравствует рабоче-крестьянское объединение!»
Листовок было мало, но все же люди их видели. Партизаны расклеили их не только в центре, а и на дальних улицах, — чтобы все знали, что отныне за каждым шагом полицейского или экзекутора будет пристально следить внимательный глаз народа.
В ту же ночь отряд побывал на каменоломне, забрал буровые машины, взрывчатку.
Софья Совинская терялась в догадках: почему до сих пор ее не оповестили о месте пребывания отряда? Нарочно ходила по селу, надеялась, что кто-то окликнет ее, но — никого. Сама же она не отваживалась зайти ни к Жилюкам, ни тем паче к Суднику.
Да и знает ли он? Если остался, не ушел, — могли и не сказать. Неуверенно как-то ведет себя человек. Вроде бы ничего, а как до дела — в кусты. Может, болезнь? Да мало ли среди них больных? Колеблется, видно, Судник. Правда, с графом, сказывают, говорил хорошо… Как и подобает… А вообще, вероятно, колеблется.
С утра решила пойти в постерунок, — может, там что узнает. Не успела закрыть дверь, как во двор, запыхавшись, вбежал Андрейка.
— Я вас разыскиваю.
— Заходи. Где отец? — Она впилась глазами в его взволнованное лицо.
— Были ночью ихние. Они уже на Рутке стоят. Пани Софья, — едва перевел он дух, — что в селе творится!
— А что?
— Гонят в поле, на жатву. А кто не идет — у того семена забирают… Сам управляющий… С ними полицаи…
«Вон как запел граф! Экзекуцию учинил. Приспешников своих напустил на людей… Ну, ну, граф! Напрасно пренебрегаешь людской обидой. Выйдет она тебе боком. А семена надо спасать… Не отдать, — забилась мысль, — одни крестьяне едва ли смогут, мужчин мало…»
— Андрейка, — взяла она хлопца за плечи, — ты знаешь, где эта самая Рутка? Беги оповести наших…
— Может, на коне? Скорее будет…
Смотрел на нее, кивал: понимаю, мол, все понимаю. А Софье хотелось прижать к себе мальчика, поцеловать в голубые глаза. Но это длилось мгновенье, одну-единственную минутку, а может, и совсем не было, потому что сразу оторвала руки от его плеч, отступила.
— Беги, Андрейка!
— Пусть прямо сюда? — спросил он.
— Да.
Послышались шаги под окнами, отдалились, замерли. «Вот тебе и «избегайте вооруженных стычек», — вспомнила она разговор с секретарем окружкома. — Жизнь сама подсказывает… Скорее бы уж эта воля… Да и он, Степан, скорее бы вернулся… Да что это я? Такое время и… Лучше бы я была с ними там, в лесу, на Рутке. Но нет, сиди, Софья, следи, делай вид, что верой и правдой служишь панам! Так надо… Это тоже борьба. Скорее бы уже! Надо сказать девчатам, чтобы флаги вышивали».
Чарнецкого била лихорадка. Другой день он в Глуше, и другой день душа его не на месте. Подумать только! Какое-то быдло, бездельники посягают на его кровное, его поместье, его родовитость… Что же случилось? Что изменилось в тебе, мир? Власть? Нет. Как-никак, а их, панское, сверху. Много чего изменилось с тех пор, когда шляхта безраздельно господствовала «од можа до можа». Впрочем, ей есть еще чем гордиться. Есть на чем разгуляться и откуда взять. Что же тогда делается? Люди, лентяи, другими стали или что? Ведь они когда-то перед ним ползали. Когда… Когда был молодым, крепким… Духа его боялись… Что же случилось, что проглядели они — короли, президенты, премьеры, помещики? Что и как?
Голова пухла от забот. Граф не находил себе места. То носился по комнатам, откуда, стоило только открыть двери, дышало пустотой или далекими-далекими воспоминаниями, то пухлыми руками перекладывал пожелтевшие бумаги с тяжелыми сургучными печатями, а то вдруг, бросив курить, трусил во двор, к многочисленным господским службам.
Во двор въехала нагруженная мешками подвода. У воза, привязанная к нему, мотала головой телка. Подвода направилась к амбару, и Чарнецкий, только что вышедший из людской, поспешил за нею.
— А это еще что за дьявол? — кивнув на телку, грозно спросил он ездового.
— Телка, ясный пане.
— Вижу, что не бык. У кого конфисковали? Сказано ведь — только зерно.
— Да это пан управляющий… у жолнерки одной.
— «У жолнерки… пан управляющий», — буркнул тот. — Может, пан управляющий хочет голову потерять?
— Не знаю, ясный пане, может, и так. — Ездовой отвязал телушку и направился к амбару. — Не знаю, как пан управляющий, а я едва утек — женщины гнались.
Чарнецкий взглянул на него недовольно.
— Много брешешь… Высыпай быстрее!
Ездовой пожал плечами, взвалил на себя мешок и зашагал к амбару.
Вошел туда и Чарнецкий. И когда на него пахнуло медвяным запахом нового хлеба, когда увидел тихие плесы зерна в засеках, — обмяк, успокоился. Вот оно, его богатство, его слава и знатность! Ходил, ласкал рукой теплую рожь, а тепло растекалось по всему телу, сочилось в жилах, тревожило старую кровь. Нет, он никому этого не отдаст. Никому! Голову свою положит, сам костьми ляжет, а не отдаст. Его! И никого другого. Его родителей, его дедов-прадедов и наследников. Они проклянут его, если отступит хоть на шаг, хоть на полшага.
Подводы хоть и не часто, а подъезжали, зерно сыпалось, и Чарнецкому никуда уже не хотелось, никуда его не тянуло. Вот так бы стоял, и смотрел, и слушал, как шуршит зерно. Упивался его умопомрачительным запахом — запахом земли, солнца и простора. Какой же он живучий, этот дух! Не убивают его ни годы, ни расстояния, ни чины, — вечно он в человеке, и когда умирает, то тоже с ним. Вот сколько ездил, где ни был, чем ни занимался, а вернулся — и снова в душе пробудился он, непобедимый, могучий дух земли, дух предков. Пробудился и велит стоять до конца, до последнего дыхания, до последнего удара сердца. И он — будет стоять!
Со двора послышался конский топот. Кто-то спрашивал его.
— Беда, ясный пане! — влетел управляющий.
Графа передернуло. «Вот он, этот момент, когда я должен выстоять», — молнией врезалась мысль, разметав все остальные. Даже не замечая, как по капле сыплется из его руки зерно, Чарнецкий нетвердой походкой пошел к дверям. Он уже знал, догадывался, какую новость принес ему управляющий, ждал ее с той минуты, когда велел конфисковать у непокорных зерно, — ждал и все же надеялся, что она, эта весть, обойдет его, не зацепит, что Глуша, та Глуша, которая спокон века не вылезала из чащи, из болот, Глуша, которую он осчастливил своим присутствием, что она никогда не поднимет на него руки.
Какое-то время они смотрели друг на друга молча.
— Хлопы бунтуют, ясный пане, — не выдержал этого поединка управляющий, — они…
— Слюнтяй! — прервал его Чарнецкий. — Как вы смели?!
— Они идут сюда, — не обращая на него внимания продолжал Карбовский.
— Не позволю! — топнул ногой граф. — Где пан солтыс? Постерунковый где? Сюда их!
Нет, пся крев, его так не возьмешь! Он еще жив. А живому — живое.
— Амбар закрыть и выставить стражу!
О, он еще покажет! Он их научит, как уважать! Добром не слушают — послушаются силы. Захочет — вызовет войско. Никогда не обращался к военным, а тут — сами виноваты… Забастовщиков не потерпит.
— Стражу! — крикнул он. — Чтоб ни зернышка… — А мысленно: «Завтра же надо отправить депеши, пусть приезжают, присылают машины, забирают, пока…» Навертывалось: «пока цело», но испуганно гнал эти слова прочь. Иначе не может и быть: завтра-послезавтра хлеб поплывет из Глуши, поплывет на станцию, в Варшаву, Берлин, Лондон. А оттуда, по его расчетам, в банки потечет золото. Золото! Золото…
Неожиданно граф остолбенел. Глаза его впились и словно на всю жизнь приросли к людям, которые появились на тропинке от берега.
Людей становилось все больше и больше. И по мере того, как их становилось все больше, глаза у графа чуть не лезли на лоб.
— К оружию! — крикнул Чарнецкий, хоть поблизости не было никого из тех, кто мог бы стать с оружием.
Несколько конюхов, носивших мешки, услышав топот, поставили их под амбаром, стали и сами, глядя на людей, что шли откуда-то с берега, из густого ольшаника, за которым над Припятью росли ивы, а дальше зеленой стеной стояла пуща. Вот они шумной толпой высыпали во двор, на минуту остановились, словно в нерешительности, и все узнали среди них Устима, а в отдалении — Жилюка и еще немало своих односельчан.
— Партизаны! — крикнул кто-то у графа за спиной, и конюхи пошли навстречу лесным людям, которые, вероятно по чьей-то команде, уже расходились по двору, направлялись и сюда — к амбару.
— Куда? — крикнул было Чарнецкий на конюхов, но те и ухом не повели.
Чарнецкий взглядом искал управляющего, солтыса или постерункового, но те как сквозь землю провалились, а граф, уже почти прижатый к стене, вскочил в амбар, хлопнул за собой дверью.
— Вооруженный? — спросил Иван Хомин конюхов.
— Кто его знает. Будто не видно было… Кричал только: «К оружию! К оружию!»
Хомин подошел к двери, постучал в нее.
— Мы не разбойники, граф. Прикажите вернуть людям добро, и мы вас не тронем.
Из амбара — ни гугу.
Гураль с несколькими партизанами привел управляющего.
— Чья телка?
— Гривнячихи.
— Катри?
— Ее.
Во двор ворвались женщины, с плачем, причитаниями бросились к мужчинам.
— Вот сороки! А ну, потише! — пригрозил им дед Миллион. — Без вас тут обойдется.
Женщины притихли, подступили к толпе.
— Катря, — позвал Гураль, — твоя телка? Забирай.
Гривнячиха стояла в нерешительности.
— Отвязывай, отвязывай!
— Не возьму я ее.
— Это почему?
— Пускай он скажет, — кивнула она на управляющего. — Хотел подкупить, шпиона из меня сделать… чтобы своих продавала. Все допытывался: кто подговаривает людей, кто бунтует?
Управляющий смутился.
— Пан хотел знать, кто бунтует? — обратился Гураль к управляющему. — Так смотрите… Это я, Устим Гураль, а вон Андрон Жилюк, которого вы не раз хотели убить, а вон там Хомин Иван, рабочий… Хватит или нет? — Гураль вдруг изменил тон: — Молчишь, лизоблюд? А теперь ты скажи: кто мучил людей? Кто грабил вдов и жолнерок? Кто самовольно уменьшал наши заработки?
Людей собиралось все больше и больше — пришли конюхи, прибежала челядь, — все теснились, старались стать поближе, чтобы видеть и слышать.
— Отвечай! — приглушенно грозно приказывал Гураль управляющему.
— Что вам от меня надо? — наконец подал тот свой голос. — Я выполняю волю… — он замялся.
— Чью? Графскую?
— Да.
— Но это неправда! — закричал из амбара Чарнецкий.
Гураль снова подступил к двери.
— Мы предлагаем вам выйти, открыть амбар. Еще раз при всех говорю: мы вас не тронем. Будьте благоразумны.
Какое-то время стояло молчание. Затем тихо заскрипел засов, открылась дверь. Чарнецкий вышел бледный, хоть и держался с достоинством.
— Я приказал ему, — кивнул он на управляющего, — конфисковать только зерно. И только у того, кто не идет на жатву. За все остальное пусть отвечает он сам.
— А зерно — это что? — крикнули из толпы. — Ведь это наша жизнь!
— Так идите в поле, урожай погибает…
— А если с вашего заработка люди с голоду погибают?
— Не у меня одного, всюду так.
Толпа гудела, напирала, теснила. Во двор снова въехали — на этот раз три подводы с мешками, часть крестьян бросилась к возам.
— Стойте! — крикнул Устим. — Пусть сами отвезут тем, у кого взяли. Прикажите, ясный пане, вернуть зерно.
Граф сделал несколько шагов, остановился, взглянул на управляющего.
— Раздайте зерно. — И пошел, ни на кого не глядя, к дому. Больше его ничто не интересовало. Разве только то, что этим все кончится. Не было мыслей ни про отпор, ни про бегство. Смешно, но почему-то верилось, что они его не тронут. Увидел их, спокойных, уверенных в своей правоте, — и почему-то поверил. Видно, до сих пор плохо знал этих людей. Смотрел на них как на скотину, не больше. А они такие же люди, — словно кто-то нашептывал графу, обыкновенные люди…
В передней к нему подскочил повар, сунул из-под полы пистолет. Чарнецкий взглянул непонимающе, отстранил руку… В комнате, куда он вошел, не было ничего, кроме небольшого шкафа с несколькими золотого тиснения томами «Истории Речи Посполитой», двух кресел у камина, столика и в рост человека картины «Пророк» — старого свидетеля и соучастника житейских раздумий графа. Но сейчас Чарнецкому было не до «Пророка».
Оставив у амбара Жилюка с несколькими партизанами — к ним негласно пристали дед Миллион, Андрей и Марийка, — Устим и Хомин с отрядом хорошо вооруженных всадников поскакали к Глуше. За ними при конвое трясся на своей двуколке управляющий. У поворота отряд неожиданно наткнулся на постерунковых — те, видно, спешили на выручку графу. Кони поднялись на дыбы.
— Хлопцы! Окружай их! — крикнул Устим товарищам, хотя те и сами брали уже полицейских в кольцо. — Бросай оружие! — не давал опомниться врагам.
Полицейские гарцевали верхом, искали возможности вырваться, но партизаны теснили их крепче и крепче.
— Сдавайте оружие! — приказывал Гураль. — Граф жив-здоров, и вас не тронем…
Неожиданно прогремел выстрел, пуля прошила Устиму воротник, обожгла шею. Воспользовавшись замешательством, Постович вырвался из окружения и помчался по улицам. Вслед ему бахнуло несколько выстрелов. Конь под полицейским споткнулся, врезался грудью в песок, а всадник, оторвавшись было от седла, застрял ногами в стременах да так и свалился мертвым.
— Как жил, так и умер по-собачьи, — сказал кто-то из партизан.
Другие полицейские не чинили отпора. Партизаны разоружили их, забрали лошадей, а самих пустили на все четыре стороны.
— Но глядите, — предупредил их Устим, — вздумаете мстить — будет как тому, — показал он на Постовича, лежащего рядом с лошадью в песке.
Известие о партизанах мигом облетело село. Приспешники, до последней минуты вытрясавшие во дворах зерно, бросились кто куда, а крестьяне валом повалили к площади, где, прошел слух, собирался сход.
…Как ни радовалось сердце этим первым успехам, как ни хотелось Софье быть вместе с односельчанами, она должна была сдерживать свои чувства, делать вид, что ей все равно, даже что она возмущена… Должна, потому что борьба только разгоралась, впереди были новые бои, новые битвы, и кто знает, как еще повернется дело. Возможно, еще и еще придется действовать конспиративно. «Да не возможно, а так оно и будет, — раздумывала Совинская, издалека прислушиваясь к словам Гураля. — Не сегодня завтра отряд уйдет, исчезнет в лесах, а мне оставаться… Вернется солтыс, приедет новый постерунковый, наконец — и это главное! — придут каратели, возможно, даже те, кто в Копани, с которыми Павло, а мне снова листовки, тайные собрания, тайная работа…»
Совинская слушала оратора и думала, что теперь снова придется пополнять подполье новыми бойцами, помогать семьям тех, кто ушел с отрядом, да и самим партизанам собирать какую-никакую помощь… Скорей бы возвращался Степан…
А Гураль советовал выходить в поле, собирать урожай, — зачем пропадать такому добру?
— Собрать соберем, но вывезти не дадим, — говорил он. — Это наш хлеб. — Нашими руками посеянный, нами выращенный.
Люди шумели, поддакивали, — нравилась такая речь.
— Да мы что! Раз так, то так!
— Хлеб — святой!
Над Великой Глушей яснело сентябрьское небо. Вокруг нее, старой, давней, потерянной среди болот и чащ, голубели далекие горизонты. Казалось, сегодня они расступились, стали шире, скрыли где-то сзади себя тучи, спокон веку всходившие над Полесьем сильными дождями, реденькой мжичкой, устилали его туманами, сумраком, — расступились, чтобы люди хоть раз увидели свои земли не вытоптанными ногами чужака, а во всей их красе.
Несколько дней Глуша жила безмятежной радостью. Вероятно, никогда еще, разве только давным-давно, не было у нее такой буйной воли, и, вероятно, никогда еще эта воля не была глушанам такой желанной, как теперь. Они и не говорили о ней, словно боялись сглазить или своими разговорами спугнуть изменчивую гостью, хотя все их думы и помыслы были, конечно, с нею. Воля, пусть непродолжительная, снова вернула их к солнцу, осенила им лица, и люди потянулись к ней всем существом. Изможденные, измученные, они вдруг ожили, расправили придавленные постоянными заботами плечи и с какой-то небывалой охотой набросились на работу. Никто их не заставлял, не гнал, — сами ежедневно выходили в поле, косили переспелую графскую рожь, молотили, свозили в амбары.
— Пускай знают: мы не лентяи какие-нибудь, не дадим погибнуть хлебу! — говорил Жилюк. — Соберем весь как есть, а тогда и разделим между беднотой, и графу выделим — почему же нет?
— Кабы он о тебе так пекся, Андрон, как ты о нем! — перечили другие.
— Э! Что об этом говорить? Мне он не меньше вашего въелся в печенки, да если уж так, видите, сидит, не бежит, то и ему есть что-то надо.
А Чарнецкий на самом деле наседкой сидел в своем доме. Никуда не выходил, никого не принимал.
— Может, он там уже и дуба дал? — сказал кто-то.
— Жди! Скорей сам дуба дашь.
Дед Миллион придерживался той же мысли.
— Сидит, — рассказывал он любопытным, — словно паук, залез и сидит. Видно, ждет чего-то.
— А чего же? Панское да графское никогда не пропадет. Чего ему бежать? Ждет, наверно, войско. В других селах, говорят, уже пришли. Будто бы маневры проводят, а на самом деле против нас и таких, как мы, посланы.
Слухи о карателях все настойчивее осаждали глушан. Радовались своей неожиданной воле, а в душе словно червяк точил: «Чем же все это кончится? Не может же так оставаться». В тревоге рассчитывали не дни — часы, со страхом поглядывали на дорогу, по которой рано или поздно, а придет на них управа. Правда, Гураль, который после всего стал как бы старостой, предупреждал на сходе, чтобы были готовы к защите, но как и чем защищаться, если уж придется? Есть ли у них оружие? Или войско? А с голыми руками не полезешь против штыка. Говорят, тот же Гураль с Хоминым что-то там мозгуют. Что ж, может, и помогут? Но ведь и у них оружия мало. Ну, на день хватит, на два… на неделю от силы, а там?
То-то! Потому и не спешит Чарнецкий — знает: никуда от него не денутся. А что зерно разберут, не беда: за один мешок два возьмет. Шкуру сдерет. До седьмого пота заставит работать, чтобы только вернули ему убытки.
Село терзала тревога. Некоторые из селян поддались ей чрезмерно. На что уж Катря Гривнячиха, а и та привела обратно возвращенную партизанами телушку.
— Не хочу грех брать на душу, — сказала она.
— От управляющего-то взяла, — уколол ее старый Жилюк.
— Да разве я что, кум? — отпиралась Катря. — Но видите, кто знает, как оно еще повернется. А ты уже нынче дрожи.
— Гляди-ка! Кто гадает, тот теряет.
— А разве нам привыкать?
Катря и разговаривать больше не стала. Привязала телку, ушла.
— Вот бесово зелье! — выругался вслед Андрон. — Никак ему не угодишь.
На третий день в поле не вышел добрый десяток косарей и вязальщиц.
— На кой черт такая работа? — отказывались они. — Все равно нам не достанется. Граф хоть по три злотых давал, а так, выходит, задаром. А жолнеры придут, еще и шомполов всыпят.
Как ни старался Гураль убедить паникеров, те стояли на своем. Мало того — других стали уговаривать.
На коротком ночном совещании у Совинской ячейка решила: чтобы спасти хлеб, сразу раздавать его крестьянам. Это, конечно, выправило положение, люди бросились на работу, но… на следующий же день Глушу как гром с ясного неба поразило известие: от Копани по шоссе идет войско. Неизвестно, кто принес или привез эту весть, но через какие-то час-два она, словно пожар в сухой ветреный день, облетела не только жилища — даже поля, где работали глушане. Село снова зашевелилось, заметалось в предчувствии нового лиха. Давно в этих краях не было войска. Младшие, как Андрей Жилюк, да и постарше его и не помнят. Пацификация, набеги конной полиции — и с участием жолнеров — стали почти привычными, а вот войско… Что-то оно скажет, как поведет себя? Сила ведь! Вооружена пушками да пулеметами. Не шутка! Может и самую Глушу смести, не говоря уже о людях… А впрочем… Говорят, в других селах — ничего, обошлось. Правда, там, наверно, крестьяне смирнее, не натворили такого.
Все, что можно было спрятать или вывезти со двора, спешно пряталось, вывозилось в чащу, в камыши, дома оставлялось только самое необходимое. И люди тоже исчезали. Одни — преимущественно мужчины — прятались по лесам, в соседних селах, большинство же пристало к Гуралю, влились в его и Хомина отряды.
Беда надвигалась, как летняя гроза, медленно, неотвратимо. Первым вестником ее был Хаевич. Он вынырнул неожиданно, неизвестно откуда. Войско еще шагало где-то далеко, еще, вероятно, с шоссе не свернуло, когда солтыс, в сопровождении двух полицейских, — один из них, вероятно, прибыл на место Постовича, — въехал в село. Никто ни его, ни постерунковых не трогал, не цеплялся и он ни к кому. Да, собственно, ему и не с кем было иметь дело, потому что перед его появлением партизаны исчезли за Припятью, растаяли в чаще. Тягаться же с малыми или старыми — Хаевич знал — пользы мало. Единственно, кому он мог довериться и кто, по его мнению, дал бы исчерпывающую информацию о событиях в селе, была Софья Совинская. Благо живет она совсем близко…
Двери в школу были полуоткрыты, и солтыс свободно вошел в помещение. Из немых, отвыкших от детского шума классов на него повеяло пустотой. Старые, изрезанные, исковырянные парты были покрыты слоем пыли. Не меньше ее было и на полу. Хаевич постоял на пороге, не заходя в классы, вышел, обогнул помещение по заросшей спорышем дорожке и только потом постучал в фанерную дверцу. На стук никто не отозвался, и Хаевич, постояв минуту, вошел в коридор.
— Кто там? — откуда-то из глубины послышался голос.
Хаевич снова постучал.
— Заходите, пожалуйста, — снова тот же, словно не Софьин, слабый голос.
Учительница лежала на узеньком диване, прикрытая одеялом.
— Это вы? — сказала больная. — Садитесь… Спасибо, что хоть вы не забыли… наведались. А я уже который день болею.
— Что с вами, пани Софья? — приблизился солтыс.
— Жар, и голова болит. Руки слабые, словно не мои.
«А с лица все такая же красивая, — подумал Хаевич. — Ничто тебя не берет — ни работа, ни эта проклятая Глуша, ни даже болезнь».
— Может, позвать доктора?
— Нет, нет, спасибо. Уже проходит. А все эти дни… Как там, в селе? — неожиданно спросила она. — Успокоились немного?
«Вот как, — подумал солтыс, — шел, чтобы у нее расспросить, а она сама ничего не знает».
— Успокоились, пани Софья, — сказал неуверенно.
— Вы куда-то ездили?
— Да. Был в Копани. Только что вернулся.
— Ну что там? Что слышно? Какие вести?
— Все те же. Кресы бунтуют… А Германия стягивает к нашей границе войска.
— Удивительно. В Копани, когда я ездила туда, тоже полно было военных. Но везли их всех на восток, к границе по Збручу. С кем же, вы думаете, мы будем воевать? Где наш враг, пан солтыс?
— Трудно сказать.
По тому, как он ответил, было видно, что ему в самом деле трудно, и это больше, чем какие-нибудь другие слова, свидетельствовало о неуверенности, шаткости положения власти. Она и там, в верхах, где происходили постоянные дискуссии из-за сферы влияния, и тут, внизу, на кресах, где пылали огнями восстания, — всюду напоминала корабль с подводной трещиной: он еще в силе, уверенно держится на воде, но пройдет время — и он пойдет ко дну, его скроют грозные океанские волны.
Это было понятно обоим. Пусть не в одинаковой мере, хоть до сих пор они ни разу не говорили об этом, но теперь не надо уже было быть политиком, государственным умом, чтобы все это видеть, понимать. Другое дело, как и куда повернет колесница истории, а колеса ее уже закрутились и явно не в ту сторону, куда хотелось бы Хаевичу. Год-два тому назад осаднику, поддерживаемому властью и который сам был чуть ли не единственным законодателем на своих землях, и в голову не могло прийти, что то, во что он верил больше, чем в самого себя, чему совершенно, полностью отдавался, что все это так неожиданно и так неумолимо погибнет. Теперь он понимал Чарнецкого, его отрешенность, его равнодушие. Еще пока сидел тут, в селе, в этой богом забытой Глуше, пока держал в руках вожжи, все казалось прочным, надежным, а теперь… эта Копань с ее почти роковым беспокойством, эти офицеры, солдаты… Словно у них только и забот, что попойки, карты, женщины. Словно не существует для них святых обязанностей или хотя бы каких-то норм. Лучше не видеть! Лучше сидеть да, как этот граф, беречь нажитое годами…
Софье тоже хотелось много сказать: чем ты, солтыс, жил эти годы, во что верил, упрекнуть его за слепоту, за безрассудство, с которыми он чинил беззакония. О, она нашла бы что сказать!
Впрочем — молчала. Понимала: еще не время. Еще сидят в своих гнездах кулаки, и хоть они и присмирели, притихли, но готовы каждое мгновение впиться в живое тело народа. Время придет, оно уже не за горами, и тогда при всем народе она выскажется. А пока что она просто учительница, к тому же в эти дни больная, одинокая, беспомощная…
— Что же это будет, пан Хаевич?
— В Глушу придет войско. Оно защитит нас.
Учительница вздохнула.
— Не хотела бы я такой защиты. Войско придет и уйдет, а нам с вами оставаться.
Хаевич промолчал.
— Не стоило бы вызывать, — сказала Софья.
— Не моя в том заслуга, пани Софья. Управляющий постарался. Да и то примите во внимание: войска сейчас всюду. Все села прочесываются.
Совинская нарочно задала этот вопрос. Теперь ей было ясно, кто же обращался за помощью.
— Сделайте все, что в ваших силах, чтобы не допустить расправы, — слабым голосом сказала учительница. — Прошу вас, пан солтыс.
— Не знаю. Не все от меня зависит.
Он устал. Очевидно, этот разговор был ему неприятен, и он начал о другом. Заговорил о школе, о том, что необходимо сделать в ней хоть какой-нибудь ремонт.
— Да, — поддержала его Софья. — Скоро начинается учебный год. Парты надо бы починить, да и окна подгнили. Обмазать я, может, соберу женщин, а ремонтом попросила бы вас заняться.
Говорила, а в мыслях было свое: «Едва ли доведется тебе, пан солтыс, беспокоиться о ремонте. Встречай своих защитников, торжествуй свою победу, а там готовь сундуки, потому что придется тебе бежать… Неужели ты этого не понимаешь?»
От учительницы Хаевич вышел еще более взволнованный. Виду не подавал, но внутри жгло беспокойство. «Черт его разберет, что к чему, — обдумывал он разговор с Совинской. — Граф и то почему-то притих. Эта тоже. Чего-то словно ждут, боятся…» По временам в нем вспыхивала злоба, несдержанная жажда мести — мести за все, а больше всего за эту неизвестность и тревогу. Был же он тут всем, чуть ли не богом для этих затурканных, всегда голодных бездельников. А теперь? Что он теперь? Привидение, тень. Солтыс не солтыс. Кто его теперь боится? Кто на него теперь обращает внимание? Только и ждут, чтобы где-нибудь пристукнуть. Пся крев! Согнать бы этих собак, бунтарей этих, да всыпать при всем честном народе. Да в Березу их, а жилища дымом пустить, чтоб ни следа, ни корешка… Тогда сразу бы по-другому заговорили, поняли бы, что такое власть. А если все прощать этим Гуралям, Жилюкам да еще каким-то там — откуда только берутся?! — Хоминым, то, известно, на шею сядут, запрягут… Да, следовало бы их проучить, следовало бы. Пусть знают…
В такие минуты, — а их с тех пор, как он вернулся в село, было множество, — солтыс готов был начать пацификацию еще до прихода войска. Так, мол, было и будет: пан паном, а мужик мужиком. Польша Польшею, а кресы кресами… Впрочем, к фанатикам он не принадлежал. Чувства никогда не господствовали в нем над рассудком. Прежде чем сделать шаг, он детально все взвешивал. «Может, права панна Совинская: войско придет да и уйдет, а мне оставаться, — соображал он, возвращаясь от учительницы, — к добру или погибели, а все-таки оставаться». В постерунок идти не хотелось. «Не проведать ли графа? — подумал он. — Может, что-нибудь посоветует».
Хаевич зашел во двор, запряг лошадь и, никому ничего не сказав, направился к графскому дому.
На графском дворе было удивительно спокойно. Безмолвствовали хлева, не шаталась челядь. «Скотина на пастбище, — соображал солтыс, привязывая коней, — а где люди? Не может быть, чтобы все ушли в поле». Единственно, кто попался солтысу, был дед Миллион, но и он не выказывал особого беспокойства. Старик даже не поднялся, делая вид, что никого не замечает. Он сидел у людской на скамейке и, казалось, ко всему был равнодушен и глух. В другой раз Хаевич, конечно, этого бы не стерпел, но сейчас… сейчас он тоже делал вид, что ничего не замечает. По широкой, посыпанной белым речным песком дорожке, по обеим сторонам которой, густо сплетясь живой цветистой стеной, поднялись сирень, жасмин, шиповник, солтыс прошел к парадному. Как раз в то время, когда он обметал с сапог пыль, открылись тяжелые, окованные медью двери, выпустили управляющего.
— Вы уже дома, пан солтыс? — с иронией спросил управляющий.
— А где же мне быть? — Хаевич отряхнул полы пиджака. — Граф… у себя? Можно к нему?
— Нет, — отрубил управляющий. — Приказал н и к о г о не впускать. — Через минуту поинтересовался: — А вы по какому делу?
— Хотел посоветоваться… Как быть дальше.
— Опоздали, пан солтыс. — В глазах управляющего блеснула злая насмешка. — Пока вы где-то развлекались, — солтысу это, может быть, и приличествует, не знаю, — мы были вынуждены без вашего ведома обратиться за помощью… В Глушу идет военный отряд. Он вот-вот будет здесь. Готовьтесь, пан солтыс, встречать гостей.
Ожидаемого впечатления эти слова, однако, не произвели. Хаевич после минутного раздумья совершенно спокойно сказал:
— Чья свадьба, того и угощение. Кто пригласил, пан управляющий, тот пусть и встречает.
Управляющий даже глаза вытаращил. Худой, долговязый, он, казалось, еще больше вытянулся, тонкие, с белым — от злости — налетом губы его едва шевелились. Чего-чего, а этого он не ожидал. Вот так да! Сам солтыс, выходит… Управляющий испугался своего предположения.
— То есть как? — Он едва не заикался. — Как вас понимать, пан солтыс? Да вы соображаете, вы в своем уме?
— В своем, пан управляющий, можете не сомневаться.
— Я доложу о вас… о вашем поведении.
— А это уже ваше дело, — не дал докончить ему Хаевич, повернулся и пошел.
«Ну-ну! — глядя вслед солтысу, раздумывал управляющий. — Вероятно, я слишком его… за живое, видно, задел… Ну, да пусть, — утешал он себя, — никуда не денется. Разве не прав я? Неправду ему сказал? Такое творится, а он в холодке. Исчез куда-то, а теперь графа ему захотелось, совета. Что делать, как быть? Ха! А вот увидишь, никуда ты не денешься… А потом и с тобою кому следует поговорят, спросят. Спросят! Так тебе не пройдет, пан солтыс», — чуть не выкрикнул он вслед Хаевичу.
А солтыс возмущался не меньше управляющего: «Чего было лезть? Я — солтыс, моя власть. Пришли бы, попросили… Так тебе, дураку, и надо. Ругают тебя какие-то управляющие, а ты ходишь… совета ищешь. А совет один: либо ты их, либо они тебя. Распустишь вожжи — на шею сядут, по миру с сумой пустят. Не гляди, что они присмирели, — тихая вода плотину рвет. Погоняй их, на то твоя власть. Бей… Бей, иначе они будут бить тебя. Сожгут, уничтожат и следа не оставят. А панна Софья со своей философией пусть идет в монастырь. Там ей место. Ей нечего терять…»
К селу Хаевич подъезжал озлобленный и потому еще более исполненный решимости действовать. «Прежде всего надо составить списки бунтарей, коммунистов и их сообщников, — соображал он, — и ликвидировать их гнездо… Тут Совинская могла бы помочь, да захочет ли? Едва ли. А заставить — не заставишь… В конце концов, сами справимся. Начнем с Гураля, затем — Жилюка, а там само пойдет… Ишь попритихли, лайдаки, даже кур не видно. Ничего, найдем. Под землей найдем, пся крев!»
Не заезжая домой, солтыс выехал на безлюдную площадь, пересек ее и резко остановил коня у постерунка.
За Глушею, там, где садилось солнце, километрах, вероятно, в пяти, реденькими облачками кучерявилась пыль. Вот она разделилась, потекла двумя рукавами — один к поместью, другой к Великой Глуше. Село притихло, со страхом следило за этими облаками, а они подплывали все ближе и ближе, застилая багровое заходящее солнце.
Поздней ночью к Жилюкам постучали. Текля не спала, — разве в такую ночь заснешь? Но и не спешила вставать. Ни Андрона, ни Андрея (сын тоже ушел с отцом) она не ждала. А чужому, да еще в такое позднее время, кто будет рад? Лежала затаив дыхание, прислушивалась. А тот, неизвестный, непрошеный, сначала стучал в дверь, а потом и в стекло: ходит, как свой, под окнами. Хоть бы луна — так, может, узнала бы, а так — бог его ведает, кому пришло в голову идти к ним среди ночи. «Может, те, из войска, — соображала она, — но они так терпеливо не добивались бы, давно уже выломали дверь или окно… А может, — она встрепенулась, — может, Степан? Говорили, что где-то близко. Или Павло?» Текля вскочила, поправила на себе юбку и, не зажигая света, босиком выбежала в сени. Боже, как болят ноги! А сердце чуть из груди не вырывается.
— Кто там? — спросила сквозь двери.
— Это я, мама.
— Павло?!
— Ага! Открывайте!
Вот тебе! Сколько времени держала сына за дверью… Текля заспешила, шарила руками, а руки дрожали, не слушались.
— А, чтоб тебя! — незлобно выругалась она.
Упала последняя задвижка, и Текля рванула на себя дверь.
— Павло! — обхватила она сына, не дав ему переступить порога. — Ой, Павло… — и всхлипнула.
— Ну чего, чего? — с тенью неудовольствия сказал сын. — Пошли в хату.
— Конечно, конечно, — говорила Текля.
Она пропустила сына, прикрыла сенную дверь, накинув задвижку, и пошла следом.
— Яринка, доня, вставай, — будила младшую.
— Пусть спит, зачем вы ее?
— Да как же? Боже мой… Раздевайся. Чего же ты?
А он стоял в темноте, стройный, гибкий, и будто колебался, раздумывал.
— Ну чего ты, сынок? Словно чужой… Я вот свет зажгу. — Она бросилась к припечку, достала каганец. — Есть немножко керосину.
Он достал спички, зажег. Темнота расползлась, залегла по углам. Павло ступил шаг к столу, тяжело опустился на скамью.
— Ну как вы тут?
— Слава богу, сынок… — Она стояла перед ним словно на исповеди — вот-вот упадет на колени, будет целовать ему руки, ноги, молиться на него.
— А где же отец?.. Андрей? — Павло озирался по углам, тер обеими руками лицо.
— Нет их… ушли куда-то. Как услыхали, что войско идет на Глушу, так и ушли… Все ушли. Остались только старые да малые. Даже Андрейку не удержала. — В Теклиных глазах засветились слезы.
— А куда? — перестав тереть лицо, насторожился Павло. — Куда, спрашиваю, пошли?
— Да кто их знает, сын. Еще не было оттуда никого. В лесу где-то, наверно…
— В лесу? Это как же, в партизанах?
— Ага… Гураль там за старшего. Как услышали, сразу и ушли. Позавчера, кажется… Да ты раздевайся. Я сейчас ужин…
— Не надо.
— Как же? — всплеснула руками мать. — Ты же с дороги?
— Не надо, говорю. Наелся, спасибо. — Голос Павла стал тверже. — Накормили! — Он сорвался со скамьи, нервно заходил по хате.
— Бог с тобой, сынок! Что ты? Что ты такое говоришь?
— А то, что слышите.
— Ты, может, пьяный? Так ложись поспи, вот тут. — Текля бросилась к полатям, быстро прибрала место. — Ложись, поздно уже.
— Конечно, пьяный. С хорошего не напился бы. А я, глупый, еще не верил.
— Кому не верил? Чему?
— Не верил, что родители снюхались с партизанами. Мало Степана, так на́ тебе — сам пошел… Еще и Андрея потащил.
— Да что это ты плетешь?
— А били его, в тюрьме держали за что? По какому случаю? — Он горячился дальше — больше, лицо потемнело, глаза метали холодные искры.
Текля уже не рада была разговору, стояла сама не своя. «Вот дождалась, и прилетел… Что с тобою, сын? Снаряжала тебя — как от сердца своего отрывала, дорожку твою слезами поливала, чтоб не пылилась. Сынок, сынок…»
— Жизни мне из-за вас… из-за них, — поправился он, — нет. В капралах хожу, а по выслуге мне вон кем надо быть. Тыкали в глаза братом, а теперь еще и отцом начнут.
— Да что же нам делать, сынок? Если уж такое на белом свете творится? С голоду чуть не погибли.
— А мне, думаете, легко?! Нате вот, поглядите, — показал ей заскорузлые мужицкие ладони. — Легко, а?
— Да разве я говорю — легко?
Проснулась Яринка. Мгновенье глядела непонимающе, щурилась на бледный свет и вдруг вскочила.
— Павлик! — Обвилась ручонками вокруг его шеи.
Ночное тепло девичьего тела словно разбудило что-то в сердце Павла. Это тепло больше, чем что-нибудь другое, напомнило ему о доме. Павло сразу как-то обмяк и уже другими глазами глядел на мать.
— Я таки пьян, — сказал наконец. — Давайте спать. Устал. Весь день шли… от самой Копани.
— Так ты из Копани? С ними? С теми, что пришли? — сдерживала удивление Текля.
— С ними, — бросил он скупо и начал раздеваться.
…Скоро утро. Спят дети, совсем неслышно — Яринка и неспокойно, вертясь и что-то бормоча, — Павло. Вздыхает, скрежещет зубами… Только матери не спится. Ждет не дождется утра. Днем не так щемит сердце, а сейчас его словно клещами сжимает. Сожмет и отпустит, бросит в холодный пот и перестанет.
Лежит Текля, прядет впотьмах черную пряжу мыслей. «О сын, сын! Что же с тобою сделалось? Кто испортил тебя? Был же послушный, родителей уважал… «Не печальтесь, говорил, вырасту — в обиду не дам». И вот вырос, и в люди как-никак вышел. Почему же чураешься нас? Почему брезгуешь нами? Помни, сын: кто от земли отрывается, забывает, где его пуповина закопана, тому счастья не знать. Словно и будет оно у него в руках, да это лишь обман, сынок, обман. Счастье наше — в земле, в работе на ней, слышишь? В земле наше счастье. Дали бы ее нам вволю — разве грызлись бы так, как теперь?»
Уже и третьи петухи пропели, стало рассветать, а Текле не спится. Бьются мысли, словно крылья чайки, и никакого от этих дум спасенья: отпугнет их, а они взлетают одна за другой — печальные да тревожные, рвут материнское сердце.
«Господи наш милосердный, — поднимается и становится к образам Текля, — защити и сохрани нас, грешных…»
Едва посветлели окна с востока, слабенький луч упал на суровый лик божий. Молчит «миротворец», слушает раннюю Теклину молитву.
Молится Текля, а сквозь молитву за образами, за темным углом, за спиной, где-то там в розовом рассвете, видит своих соколят, старого Андрона, Яринку, видит, как они идут за своим счастьем, и умоляет господа бога, чтобы оберег их от лихой напасти.
Окончив молитву, Текля стоит какое-то время неподвижно, сложив руки на груди, умоляюще смотрит на старенькую икону божьей матери и уже от себя, помимо всяких молитв, просит:
— Царица небесная! Всю жизнь буду молиться и благодарить тебя — помоги только моим деткам, наставь их на путь истинный.
Великая Глуша словно в осаде. Отовсюду, на всех дорогах, что, оставив позади сыпучие песчаные холмы, болота и чащобы, стремительно врываются в село, расположилось лагерем войско. Никого не выпускает, пристально следит за въезжающими. Немало их, жолнеров, и в Глуше — весь постерунок забит и графский двор. Впрочем — удивительно! — никого не трогают. Глушане ждали расправы, по крайней мере грабежа, а все еще пока тихо. Пьют. Да девчатам не дают проходу.
— Бог даст, обойдется, — говорили крестьяне.
— Эге. Побудут день-два, оглядятся, а тогда и начнут.
— Раньше не приглядывались, налетали сразу.
— Теперь иначе.
Но прошел день и другой, а перемен никаких. Глушане уже словно и привыкли — хлопотали во дворах, женщины мочили коноплю в сажалках. На поля никто не выходил. Своего уже там почти не было, разве яровых какая-то заплатка, а графское… на одном клину жито так и осталось. Стебли потемнели, поломались, зерно, известное дело, высыпалось. Яровых, правда, у графа много — овес, гречиха, вика… Да и картошки вон сколько! Работы до бесконечности. Время бы начинать, но никто ни слова. Говорят, советуются у графа.
На третий день с утра по селу — во все улицы — помчались всадники.
— Айда в поле!
— В поле! — закричали по дворам.
— Ну что, обошлось? — с насмешкой говорили глушане.
— Всем в поле!
А по селу пополз слух: если не хотите пацификации — через несколько дней собрать яровые. Такова графская воля.
— Придется идти.
— А как же с оплатой?
— Там будет видно.
— Как это?
— А так: самочинно вон сколько взяли. Это вам и будет плата. Благодарите бога, что граф не приказал отобрать назад.
— Вон как! Но кто взял, а кто и нет!
— Вместе брали, вместе и делите!
Помялись-помялись, а пришлось идти.
— Черт с ним. Как уж будет. Зато хоть жилища останутся целы. Ему что? Скажет — и размечут все, пустят дымом.
Ладили косы, серпы, грабли, наполняли на весь день торбы, — слава богу, дождались, есть что взять: картошка, молодые огурчики да и хлеб как-никак пока еще водится, — и шли к графскому полю. Если б не войско, стоять бы яровым да стоять, пока хозяин не заплатил бы то, что запросили, а так — должны. И те, Гураль с Хоминым, партизаны, не перечат. Где-то, говорят, близко они, однако в село не наведываются. С утра до сумерек гнут спины. А уродилось — словно нарочно. Что овес, что гречиха. На крестьянских полях не густо, а тут стебель в стебель. Да чего же вы хотите? У него, у графа, и земли наилучшие, и удобрения какие-то каждую весну привозят. Еще б не уродилось! Коса едва идет, а валки вон какие! Потому и мирится граф и молчит о том, что забрали. Знает — соберет это, все убытки покроет, а поссорится с людьми — чего не бывает, все может случиться. Хитрый! Разумная голова! На всякий случай, видишь, и жолнеров приставил. Те уж работают, нет ли, а снуют между людьми, прислушиваются, приглядываются.
…Текля с женщинами вязала овес. Несколько мужиков и, наверно, десяток жолнеров косили, а они подгребали покосы, на ходу крутили перевясла, вязали упругие, с тяжелыми колосьями, душистые стебли.
Как раз полдничали под свежей копной, когда подошел Павло. Аккуратный, выбритый, в начищенных до блеска хромовых сапогах, скупо бросил женщинам: «Добрый день» — и, не остановившись возле матери, направился к жолнерам, к соседней копне.
— Что это он, Текля, такой насупленный?
Текля промолчала, делая вид, что не расслышала. С трудом проглотила кусок, костью ставший в горле, отпила воды, захлебнулась, закашлялась.
— А, Текля? Чего это он?
— Его и спросите.
— И то правда, — поддержали ее. — Словно она ему что. Разве он живет с ними?
— Да ведь мог присесть… Мать она ему или как?
— Хоть бы и мать. Это когда-то родителей уважали до старости, а теперь… Да что говорить!
А Текля слушала, и сердце ее обливалось кровью. «Что с тобой сделалось, сын? Дитятко мое, опомнись. Одумайся, Павло. Не чурайся людей». У нее сильнее застучало в висках. С тех пор, с той ночи, когда Павло пьяный заглянул домой, что-то словно оборвалось в Текле, словно затмился белый свет. Ждала от сына защиты, а он как ушел в то утро, так словно и дорогу забыл к их хате. Ждала весь день, всю ночь не сомкнула век… Ходила и туда, на графское поместье, где живут они, думала — увидит, встретит… Передал, чтобы не ходила за ним. Надо будет — сам придет. Вот и зашел, и встретились. Словно чужие. Словно далекие, далекие…
Разговаривают женщины, а Текля не слышит. Спохватилась, когда все встали, взялись за грабли.
— Пошли, Текля, уже косят.
Косят косари, косят. И Павло, сынок ее, косит. Да как ладно! Широко захватывает! И покос ровный да аккуратный… Добрый косарь! Жилюковского рода. Разве одно лето косил на этих полях? Ей-ей, с малолетства. То за скотиной гонялся, а потом и за плугом пошел…
Остановилась, залюбовалась: «Какой был бы хозяин! Господи, посоветуй ему, грешному, наставь его на путь истинный!»
Подошла:
— Хорошо косишь, Павлуша.
Оглянулся, бросил:
— Отойди, еще задену.
Коса вызванивает в крепких руках, молнией сверкает среди стеблей.
— Почему не заходишь?
— Некогда.
— Некогда… — И вздохнула тяжело, сокрушенно.
Над овсом вспорхнула, забилась крыльями перепелка.
— Пан капрал! — крикнул жолнер, шедший за ним. — Перепелята! Глядите — побежали к вам.
Не обратил внимания. А перепелка вилась все ниже, казалось — вот-вот упадет под косу.
— Подожди, Павло, там птенцы.
Павло остановился, раскрасневшийся, потный, нагнулся, разглядывая, и вдруг во всю руку размахнулся косою. В овсе что-то болезненно пискнуло, и в следующее мгновенье на покос вывалилось несколько перепелят. Они старались выбиться из-под стеблей, жалобно пищали. Перепелка без памяти била над ними крыльями, металась, разгребая спутанные стебли. Наконец она схватила в лапки пищащий пушистый комочек и низко над покосами полетела прочь от людей.
Это произошло так нежданно-негаданно, что никто не успел помочь перепелиной беде, все словно оцепенели — жолнер, предостерегавший Жилюка, Текля… Лишь когда Павло, очистив косу, начал точить ее и мелодичный звон стали тревогой ударил в сердце, Текля подошла к покосу, разгребла его и взяла на ладонь двух оставшихся птенцов. Они все еще попискивали жалобно, махали крылышками, — очевидно, хотели взлететь, — и как-то нелепо переваливались на руке.
— Что ты наделал, сын? — протянула Текля птенцов. Голос был у нее скорбный, осуждающий. — Чем они тебе помешали? — Она подняла птенца, перевернула, оголив обрубки лапок.
— Пускай не путаются под косой, — сплюнул Павло, — мало у меня еще забот…
— Да ведь тебе говорили.
— А хоть бы и говорили.
Внутри у Текли словно что-то оборвалось. Пришибленно заковыляла по стерне, прижимая к груди калек птенцов.
Осень ткала обильное «бабье лето». Цепкая, легкая паутина призрачными узорами ложилась на терны, на шиповник, изредка еще пестревший цветами, стелилась на вытоптанной скотиной стерне.
Погода стояла солнечная, сухая. Глушане сеяли озимые, неохотно косили чужую гречиху, копались на огородах, а мыслями добирались до конца белого света — все искали, выглядывали счастливой доли. Замешкалась! Наверно, тропинок не найдет до Глуши. Узнать бы, где она, в каком месте, в каком краю. Уже искали ее, впрочем, везде, да кроме цепей да тюрем ничего не находили, разве что смерть — внезапную, ежечасную. Может, мужику-так уж на роду написано — вековать в бедности… Почему оно, наше счастье, такое убогое? Почему?
Знали, какой этому ответ, откуда эта беда, а все же душе не терпелось — спрашивала, словно от этого ей становилось легче.
Однажды, когда глушане, силой поднятые управляющим и жолнерами, вышли на картошку, — в небе появились самолеты. Может, никто и не обратил бы на них внимания — летают, ну и пусть себе, наше дело земное, — но самолеты закружились над лесом, ястребами летали вдоль шоссе, время от времени выплевывали на него смертоносный свинец. Войско встревожилось. Военные, до сих пор смирно разворачивавшие заступами твердую землю, оставили прадедовское орудие и подолгу вглядывались в небо.
— А ведь на самолетах-то не звезды, — переговаривались люди.
— Да и появились они совсем с другой стороны, не с той, что нам говорили.
Всех уже мучила ужасная догадка, но никто не отваживался высказать ее вслух. Тем более что самолеты вскоре исчезли и вспугнутая вековая тишина снова вошла в берега.
— За работу! За работу! — заторопились конные надсмотрщики.
Словно ничего и не случилось. Тускло блеснули начищенные песчаником заступы, въелись в грунт, выкапывая из неглубоких его недр крупную картошку. Десятки рук потянулись, выхватывая ее из сухих стеблей… Но так только казалось. В душах людей сразу все перевернулось, пошло по-другому. Еще никто не вымолвил ужасного слова «война», никто из здешних толком ничего не знал, но все жили уже новым, неизвестным, незнакомым, которое должно было вскоре прийти. Оно казалось страшным, потому что таило еще и неизвестность.
К вечеру жолнеров срочно позвали в поместье. Вскоре они, даже не смыв с себя рабочего пота, в полной боевой выкладке выступали в путь. Вслед им грустно светились бесслезные очи матерей, чьи сыновья тоже где-то вот так выступали в ранние сумерки навстречу жестокой неизвестности.
События разворачивались быстро. Через несколько дней по мощеной дороге мимо Великой Глуши тронулись беженцы. Были это преимущественно люди именитые — должностные лица, купцы, родовитые помещики с внуками и правнуками, все, кого пугал, возможно, не столько «новый порядок», сколько возможность утратить свое имущество, веками нажитое богатство. Кто-кто, а они, деятели, сеймовцы, стоящие у руля, знали мощь и силу своего отечества, ее армии и потому не очень на них полагались. Да и какая еще могла быть надежда, на кого, когда они, хоть и не все, тоже знали наверно — не сегодня завтра власть сложит свои полномочия, министры и генералы уступят свои места тем, кто покорил уже пол-Европы. Самое разумное в таком случае — искать выход самому. А их, выходов, пока только два: или пересидеть где-нибудь в далеком родовом поместье, пока жизнь придет к какому-нибудь последнему решению, или — и это, вероятно, куда надежнее — отправиться к соседям, заблаговременно пополнив их банки своими вкладами.
Как бы там ни было, какие бы мысли ни сушили панские головы, а день ото дня беженцев на дорогах становилось все больше. На машинах и на подводах они двигались против армий, форсированным маршем перебрасываемых с востока на запад. Нередко фашистские «мессеры» поливали их свинцом заодно с военными, но они лезли, спешили куда-то на юг, к границе с Румынией.
Глушане — любопытства ради — выходили к дороге, провожали беглецов.
— Бегут паны, — подмигивали друг другу.
— А что панам? — рассуждали другие. — Панское, видите ли, всегда сверху, сели себе — и айда. Не бойтесь, не пропадут. Ворон ворону глаз не выклюет. Перебудут где-нибудь, а там снова вынырнут на нашу с вами шею.
— Эх, кабы стукнуть их! Чтоб перья посыпались.
— Э, думаешь, они так себе, без ничего едут?
— Ну и что? Разве у Гуралевых хлопцев так-таки ничего и нет?
— Да пусть себе едут, — соглашались некоторые, — пусть перед ними дорога провалится.
Возвращались домой грустные, пришибленные новой бедой. Война. От нее, проклятой, какой бы она ни была, добра не жди. Нет, не жди… И уж кому-кому, а мужику достанется. И хлебушко под метелочку, и мясцо, какое найдется, и лошаденку потянут. А там, гляди, и самого возьмут, погонят вшей кормить. Эх, будь ты все неладно… Бастовали, тягались с графом, в тюрьмах пусть не все, но все же гибли, на что-то надеялись. А теперь? Все прахом. Был один пан, придет другой, еще злее, въедливее. Вот и живи. Хоть круть-верть, хоть верть-круть… И никто тебе ни слова. То были хоть листовки, да и так наговорят всякой всячины, а теперь — словно заколдовал кто. Партизаны где-то в лесах выжидают, а тут никто тебе ни делом, ни словом не поможет.
Совинскую и ту мучила неизвестность. «Неужели настает решительный момент? — припоминала она недавний разговор с секретарем окружкома. — Почему же тогда никаких инструкций, указаний?»
А вести приходили все более тревожные: под бешеным натиском врага отступали армии; бежала власть, оставляя на произвол судьбы своих соотечественников. Край наполнял панический страх, волна которого докатилась и до Великой Глуши. Первым, кого она захватила, выкинула на свой гребень и понесла, был солтыс. Все эти дни, с тех пор как на дорогах появились беженцы, он тайком то прятал, то паковал вещи, а как-то утром Софья, проходя мимо его двора, увидела открытые ворота — чего на ее памяти еще не бывало — и свежий след колес. Учительница вошла во двор, постучала в дверь дома, но никто не откликнулся. В постерунке Хаевича тоже не было. На ее вопрос, где пан солтыс, полицейский только пожал плечами:
— Кто его знает. Может, куда уехал.
«Убежал он. Убежал, как крыса с корабля, над которым нависла беда», — хотела сказать Софья. Но промолчала. Только подумала, мысленно обращаясь к Хаевичу: «Это лучшее, что вы могли сделать, пан солтыс, — отправиться за своими панами. Попутного ветра!»
«Вероятно, пора, — соображала Софья, возвращаясь из постерунка. — Надо созвать товарищей. Время действовать… — У нее бешено билось сердце, стучало в висках. Софья ускорила шаги. — Пора… Зайду к Жилюкам. Там, наверно, Андрейка, пусть бежит к Гуралю, к Хомину…» Впрочем, идти к ним Софье не пришлось. Только она миновала площадь и повернула на улицу, как в конце села появились всадники. Их было не много — человек, наверно, восемь. Трое из них галопом помчались к центру, остальные остановились у подводы, тяжело катившейся по песчаной колее. Всадники быстро приближались. Одного из них — Ивана Хомина — Софья узнала сразу, другие, вероятно, были не здешние.
— Доброго утра, пани Софья, — громко поздоровался Хомин. — Не ждали? — Он осадил коня — тот присел на задние ноги, — соскочил. Здоровым духом лесного приволья и трав повеяло от Ивана.
— Я как раз хотела посылать за вами, — сказала Софья — Вы словно угадали…
— А тут догадки простые: увидели, что пан солтыс бежит, — и айда в село. Заодно и его прихватили.
Софья только теперь обратила внимание на подводу. На ней понуро сидел, небрежно держа вожжи, Хаевич.
— Куда его? — спросил, поравнявшись с Хоминым, один из всадников.
— Проводите в постерунок.
— В постерунке полиция, — предупредила Софья.
Всадники с места взяли галопом. Узенькая сельская улица враз закурилась, наполнилась глухим конским топотом…
До полудня село полностью было в руках партизан. Небольшая, оставленная для поддержки порядка, а главное — для охраны поместья, группа военных частью разбрелась, остальные же засели в помещичьем доме, не вступая, однако, в стычки с глушанами. Сложнее было с полицейскими. Услыхав о партизанах, они и еще несколько осадников забаррикадировались в постерунке и никого не подпускали. Хомин, а затем Гураль, который не замешкался со всем отрядом, несколько раз пытались их уговорить, но те отмалчивались. Когда же партизаны попробовали захватить постерунок силой, они изо всех окон огрызнулись огнем.
— Если панам захотелось горяченького, погреем их. Хлопцы, жгите постерунок, — приказал Гураль.
Откуда только взялись намоченные керосином пакля, тряпки. Впрочем, как их ни кидали, они не долетали, падали далеко от кровли на песок. Попытка зажечь помещение пулями тоже ничего не дала, — пули, изрешетив железную крышу, шмелями разлетались во все стороны. Вдруг те, кто был на площади, содрогнулись: с противоположной стороны, от ближайших к постерунку хат, выскочил и бросился изо всех сил хлопец.
— Андрей… — прошелестело вокруг.
— Жилюков Андрей…
Старый Жилюк не успел даже выругаться. Налитыми страхом глазами смотрел он, как сын, держа впереди себя паклю, пригнувшись, мчался к дому. Из окон ударили один-другой выстрелы. Андрей бросился в сторону, словно обходил пули, и еще больше пригнулся…
— Господи! — вырвалось у Жилюка.
Андрею оставалось метров двадцать.
Снова выстрелы.
Мальчик как-то странно подскочил, затем упал на колени, — люди ахнули, — но вдруг поднялся…
— По окнам — огонь! — крикнул Устим. — Айда за мною! — и первый бросился за плетнями на ту сторону.
Партизаны повели прицельный огонь по окнам.
Андрей же, подпрыгивая, приближался к зданию.
— Уже не достанут! — облегченно вздохнули люди.
В самом деле, хлопец, хоть, видно, и раненый, пересек полосу огня и теперь был в безопасности. Вот он чиркнул спичкой, вот вспыхнула в его руках пакля, Андрей схватил палку, надел на нее пылающий факел и пихнул под стреху. Какое-то время оттуда дымилось, но вдруг вырвалось такое пламя, как будто там вспыхнула по крайней мере добрая пригоршня пороха.
— Андрей, беги! — закричал старый Жилюк. — Беги, а то сгоришь!
Но хлопец не слыхал, он той же палкой ворошил под уже пылающей крышей.
— Беги, холера! Вот я тебе!
— Куда же ему бежать? Чтобы опять подстрелили? Самим надо бежать.
— Так чего же? Пошли.
Только они высунулись, как с противоположной стороны высыпали на площадь и ударили по дому, по окнам те, что побежали с Гуралем.
— Андрей, ложись! — крикнул кто-то мальчику.
Но ему и без того изменили силы, одолела внезапная слабость. Нестерпимо горела нога выше колена, пламя дышало в лицо. Хотелось пить, пить…
Когда партизаны подбежали, Андрей лежал, зарывшись лицом в песок. Из правого его колена сочилась кровь.
Штаб, или, как он сам себя именовал, временный сельский комитет, разместился в комнатах недогоревшего постерунка. Тут же, в каморке, где совсем недавно «искупал» перед властью свои грехи старый Жилюк, заперли Хаевича и полицейских. Жену солтыса, дородную рыжую Ядзю, — хоть она и немало принесла глушанам беды да горя, — отпустили с добром, кое-что, правда, конфисковав. Среди других вещей, имевших сейчас наибольшую ценность, был радиоприемник. Оторванное от мира, лишенное официальной информации, село настороженно ловило каждую весть, хоть какой-нибудь слух. А тут такая штука! Весь мир вдруг заговорил с Глушей! Зазвучал на разных языках. На разных — только не на родном. Как ни старалась Софья поймать в эфире голос Варшавы, столица молчала. А когда изредка и отзывалась, мощные немецкие радиостанции забивали ее, глушили до того, что ничего нельзя было понять.
— Значит, каюк, — с горечью говорили крестьяне.
— Бежит Варшава.
— А хвалился Смиглый: «Пуговицы не отдам!»
— Пуговицы-то он, может, не отдаст — ведь она его собственная, — а вот государство уже отдали.
Неожиданно прибыл связной из Копани. В городе полно беженцев. Забиты все гостиницы, вокзалы. В магазинах и на базаре ничего не купишь. Всюду паника, страх. Ежедневно по нескольку раз налетает авиация. Армия разбрелась и не в состоянии чинить отпор.
— Какой же выход? — спрашивала Совинская.
— Продолжать борьбу. Укреплять существующие партизанские отряды и организовывать новые. В лесах порядочно солдат — надо их привлечь на свою сторону. Да и командиров, которые остались, не убежали.
В самом деле, другого выхода нет. Когда власть изменяет родине, остается народ. А народ — ни один! — никогда не покорялся захватчикам.
Великая Глуша спешно готовилась к встрече с врагом.
Стояла середина сентября. Поля зазеленели латками молодой озими, а в лесах зацветал вереск, горячим багрянцем горела рябина. Глушане докапывали картошку, украдкой косили над Припятью, на графском, отаву, — что в мире ни делается, а жить все-таки надо.
Немцев до сей поры так и не видели, разве что в небе, когда те стаями тяжело плыли на Копань, Ровно, на Луцк… Может, совсем не придется с ними встретиться. Дай боже! Отврати и защити!.. Но нет, по всему видно — не миновать им этой беды. Разве есть на свете такое лихо, чтоб полещука миновало. Одних только войн сколько прошумело над Полесьем! Кто только не топтал эту землю! Татары и те доходили… Не избежать и на этот раз постылых гостей.
Ежедневно дозорные, которые высылались от штаба следить за всеми подступами к селу, приносили неутешительные вести. На дорогах, рассказывали они, появилось еще больше беженцев, среди них порядочно солдат. У мостов и переправ суматоха, никто не может навести порядок. Важные паны — откуда-то из Варшавы, из Лодзи — стараются прорваться первыми, подводчики и пешие их не пускают. А немецкие штурмовики только этого и ждут — расстреливают из пулеметов все, что попадается, — людей, лошадей, машины…
Старый Жилюк, тоже как-то побывав в дозоре, уже не раз рассказывал односельчанам о своей встрече на шоссе с неизвестным «паном офицером». «Я ему, — рассказывал Андрон, — так и так, почему, спрашиваю, не воюете, где ваши танки да аэропланы?» А он пожимает плечами — и все. «Что и было, говорит, в первые дни пропало, — даже с места не успело сдвинуться…»
Из рассказов очевидцев, а главное, из сообщений советских радиостанций — их теперь слушали ежедневно — штаб уточнял обстановку. Враг оккупировал Польшу с запада и севера. Бои велись уже за Лодзь, под Ошарувом, — на подступах к столице. За какие-нибудь полмесяца гитлеровцы захватили большую часть края и рвались уже к кресам — Галиции, Волыни, Западному Полесью. Профашистская власть Мосцицкого выявила свою полную неспособность к отпору, покинув Варшаву.
Положение усложнялось. Выйти из него или покончить с ним можно было только решительными мерами. Коммунистическое подполье вооружалось, сплачивало силы, готовилось к новой жестокой борьбе.
…В воскресенье утром Совинская, как всегда, включила радио, чтобы послушать очередное сообщение. Приемник потрескивал, словно где-то далеко-далеко бушевали громы.
В комнате сидели Гураль, Иван Хомин и еще несколько человек.
Часы показывали около девяти. Вот-вот должен прозвучать знакомый голос Москвы. Но столица почему-то молчала.
— Софья, поворожите там, прибавьте звук, — попросил Гураль.
— Питание кончается, надо новое.
— У графа, вероятно, есть, возьмем.
В приемнике послышался легонький треск.
— Сейчас заговорит! — обрадовался Хомин.
— Говорит Москва! — наконец тихо прозвучал голос диктора. — Слушайте важное правительственное сообщение.
Все насторожились.
— «…Сегодня, семнадцатого сентября, — читал диктор, — Красная Армия перешла бывшую польскую границу, чтобы защитить национальные интересы украинцев и белорусов…»
Гураль сорвался со скамьи, подошел к приемнику.
Вдруг, подбежав к двери, Устим толкнул ее и, не закрывая, выскочил на крыльцо.
— Товарищи! Свобода! — крикнул он. — Красная Армия идет нам на помощь!
Когда Софья и Хомин, дослушав сообщение, вышли, у постерунка была толпа.
Граф Тадеуш Чарнецкий как раз доканчивал утреннюю воскресную молитву, когда дверь его комнаты резко растворилась и на пороге стал… граф глазам своим не верил, — перед ним стоял Юзек, его сын, его единственное и неудачное чадо. Растрепанный, давно не бритый, необычайно возбужденный, он скорее напоминал беглеца, разбойника, — да, именно разбойника с большой дороги, — чем офицера регулярной армии, да еще и родовитого шляхтича.
Чарнецкий в последний раз перекрестился, спокойно пошел по мягкому ковру навстречу сыну.
— Что с тобой, Юзек? — сложил он умоляюще руки. — Заходи.
Сын перевел дыхание, переступил низкий порожек, тяжело опустился в кресло.
— Что случилось, Юзек? — снова спросил граф.
Юзек вдруг поднял растрепанную голову, пристально взглянул отцу в глаза.
— Случилось непоправимое. Польши больше нет.
— После каждой войны, — поучительно сказал граф, — наступает мир. Жизнь входит в старые берега…
— Какие, к черту, старые берега?! — вскочил Юзек. — Какой мир? Советы перешли границу по Збручу. Не сегодня завтра Красная Армия будет здесь… Здесь! — чуть не кричал он.
Чарнецкий содрогнулся.
— Ты понимаешь? Они идут сюда. Идут, чтобы защитить этих лайдаков. А кто нас защитит? Кто?
«Он еще спрашивает! Это тебя надо спросить, Юзек», — подумал граф, но удержался от какой бы то ни было полемики с сыном.
— Ты, вероятно, не спал… и не ел ничего, — сказал он. — Иди помойся, сосни.
Но Юзек все сидел. Чарнецкий понял сына: никакой сон его сейчас не возьмет. Но и слушать эти истерические выкрики, видеть свое чадо таким даже отцу не очень приятно. Граф вышел в коридор, позвонил — на звонок появился лакей.
— Завтрак пану Юзеку, — приказал граф, — и кофе… покрепче, для меня, — прибавил он.
Это был повод хоть на час избавиться от сына. Юзек послушался, ушел умываться, а Чарнецкий, сам хорошо не понимая, зачем он это делает, быстро оделся, впрочем, во двор, как думал сначала, не пошел, а безмолвно застыл перед своим «пророком».
— Что же это, мой конец, пророк? — впился он взглядом в сухую фигуру святого. — Отслужили мы свое. Ты — там, на небе, а я — на этой грешной земле. — Пророк молчал, будто насмешливо глядел на графа. — Всю жизнь ты молчишь, — продолжал Чарнецкий. — Впрочем, до сих пор я понимал тебя… верил тебе. А нынче хочу услышать твой голос, твой совет. Отзовись, пророче! Не молчи! Не те теперь времена, чтоб молчать. Мир сдвинулся, молчанием тут не отделаешься. Нужны гром, молния, иначе растопчут. Меня уже смяли. Да и что я? Я — смертный, сегодня есть, а завтра нет. А ты… Ты же святой… Пророк… Мудрец. Над всем твоя воля. Чего же ты ждешь? Пока придут, растопчут? — Чарнецкий все больше распалялся. Что-то в душе его разгоралось, испепеляло и недавний покой и уравновешенность. Что именно — гнев, ненависть, нетерпимость, — он еще не ведал. Никаким самоанализом уже не отвратить катастрофы, которая надвигается, — он это знал, знал наверняка, знал как молитву. Хватит! И так не слишком ли долго он сидел, вглядывался в своего пророка, немого своего советника? Пора действовать.
Граф нервно, шлепая домашними туфлями — он так и забыл их снять, — заходил по комнате. Остановился перед полкой, где в хороших переплетах стояли тома «Истории Речи Посполитой», истории его предков. Открыл дверцы шкафа, протянул было руку к одному из томов, но вдруг отдернул ее, взглянул на стену, где в той же неподвижной позе стоял и смотрел на графа пророк. И вдруг взгляд, который всегда вселял в него спокойствие, показался Чарнецкому безумным. Граф подошел к окну, дернул занавеску. Занавеска оборвалась, повисла одним концом, комната наполнилась солнцем. Чарнецкий отступил, взглянул сбоку — стеклянные глаза святого как будто засмеялись.
— Смеешься? — разгневался граф. — Обманул, а теперь насмехаешься?
У старика вдруг сдавило горло, он задохнулся и, чтоб не упасть, судорожно схватился за штору. Тяжелая, затканная золотом штора сорвалась, накрыла Чарнецкого. Он упал, заелозил по скользкому полу, наконец, красный, задохнувшийся, выбрался оттуда, подскочил к окну, чтоб открыть его, и замер: там, во дворе, против его дома, толпились люди.
— О, они уже пришли! Гляди! Ты и сейчас будешь молчать?
Кровь ударила графу в виски, затуманила взор, помрачила разум. Не помня себя, он схватил со стола канделябр, изо всей силы швырнул в пророка. Полотно треснуло, канделябр тяжело, с глухим звоном упал на пол.
— Вот тебе! — рычал граф. — Все равно ты — ничто, все сейчас — ничто! Ничто!
Он бросился к шкафу, с силой дернул дверцы, те ударились об стену, зазвенели битым стеклом. Чарнецкий схватил несколько осколков, дрожащими руками поднес к глазам, словно убеждаясь, что это не что иное, как только битое стекло, и брякнул ими об пол. Стекла разлетелись, а на графских пальцах выступила кровь. Чарнецкий сначала не видел ее, но вот заметил и весь затрясся от злобы. Годами собираемая, скрытая, она вдруг прорвалась, дала себе волю.
В конце сентября в лесах над Припятью густо цветет вереск. Нежный розовато-голубоватый туман покрывает небольшие поляны и холмы и стоит долго, почти до морозов. В такие дни урожайного года на порубках полно опят, в сосняках встречаются молоденькие маслята, а уж брусники, терну, кислиц — не оберешь.
Глушане, особенно женщины, с утра до вечера ходили с корзинками, носили эти дары, потому что хоть и новая идет власть, а добро не помешает. Поехал и Андрон со своими. Накануне Текля увидала где-то несколько кислиц — надо стряхнуть. Да и время как раз выпало. Вчера отбыл свое на часах, отсидел с другими в засаде, чтоб случайно не налетел кто на Глушу и в последний момент перед освобождением не совершил преступления, а нынче чего дома делать, если можно что-то собрать. Не сегодня завтра гости придут, — говорят, они уже в Копани, — тогда не до кислиц будет, не до ягод: землю графскую, холера его матери, будут делить! Да добро, мужицкими руками нажитое. Вот каких дождались забот!
Кренится на кореньях, подпрыгивает воз, фыркает лошаденка, а вокруг — тишина, густая, спокойная. Ни ветра, ни привычного осенью шелеста, — все притихло, словно ждет чего-то неизвестного, великого и величественного, расстилает перед ним праздничную дорогу.
— Андрон! — уже второй раз окликает Текля. — Так как? Эти, как их, колхозы, у нас будут?
— Ну да, — горделиво говорит Жилюк. — Может, не сразу, а будут.
Текля молчит: хоть бы не рассердился… И все же опять решается:
— Да говорят… будто в них голодают.
— Говорят враги, а ты за ними. Того не подумала, что не так-то просто на хорошее хозяйство выбиваться. Да еще после таких войн, потасовок, какие у них там были.
Нынче Андрон на диво спокойный, не слышно от него ни словечка плохого, словно переменился человек с тех пор, как панов прикрутило.
— Ты что думала — там рай? — продолжает свое Андрон. — Манна с неба падает? Эге-ге! На этом свете, слышишь, нашему брату без мозолей не прожить. Зато там человек работает на себя. Никто над ним не издевается… Потому что — человек. — Андрон и сам удивляется своему красноречию и, чтобы загладить впечатление, переводит разговор на другое: — Ну, далеко еще до этих кислиц? Так весь день можно проездить.
Текля спохватилась.
— Остановись! — крикнула она. — Вот тут, кажется. Нет, словно подальше, — оглядывалась вокруг.
Ехали чащей. Где-то позади осталась Глуша со своим вечным беспокойством, где-то бушевала война, коптила небо пожарами, а тут царствовали тишина, легкая прохлада и запахи… Запахи листа, грибов, поздних цветов и кислиц.
— Вот тут как будто, — сказала Текля. — Вон за тем холмиком.
Дорога медленно шла в гору. Мелкий, перетертый копытами песок вязко цеплялся за ободья, воз едва двигался.
— Ну же! — подгонял лошаденку Андрон. — Не сойти ли нам? — И он первый соскочил на землю. — Но, холера!
Текля шла в стороне, приглядывалась, а мыслями была за лесом, около своего дома, хозяйства, своих детей. Вот и дождались, слава богу, иного времени. Бегут паны и осадники. Воля шествует в Великую Глушу. Правду говорит Андрон: это только злые языки плетут всякое про Советы. Как-никак, а земелькой наделят. А будет земля — будет хлеб и к хлебу. Да и скотину какую-никакую дадут. Из панской. И детям, тому же Степану, не надо будет скрываться. Только бы вернулся поскорее да женился. Недаром Софийка снова зачастила в их дом. Ждет… Видите, полька, не нашего рода, учительница, а куда повернула! С Гуралем, да с этим… как его?.. с Хоминым заодно. Вот и пойми ее. Поляки и те разные бывают.
Она сказала Андрону, чтоб поворачивал, а сама подалась напрямик. За той вон лещиной и кислицы. Верно, достоялись до сих пор из-за этой чащи. Были бы на виду, давно бы отряхнули их люди. А так — сохранились… Расчищая густые ветки, Текля пробиралась к деревьям, примеченным раньше, когда неожиданно ее остановил и заставил встрепенуться грубый окрик:
— Стой!
Жилючиха замерла.
— Ты кто будешь? — Из-за куста вышел высокий, в офицерской форме мужчина, держа наготове пистолет.
— Я… — не находила слов Текля. — Я здешняя…
— Партизанка?
— Что вы, пан? Какая я партизанка? Кислицы собираем… Из Глуши… Вон и муж идет. Жилюковского рода. Сын Павло в войске.
— Капрал Жилюк! — крикнул офицер куда-то в кусты.
Через несколько минут из чащи вынырнул Павло.
— Сынок! — забыв все на свете, кинулась к нему Текля. — Что с тобой сделали, сын?
— Мать? — спросил Жилюка офицер и, получив подтверждение, исчез.
— Что ты здесь делаешь, сын? — со слезами на глазах спрашивала Текля. — Оброс… Исхудал… Не заболел ли?
Павло молчал. Глаза его ни на минуту не успокаивались, пальцы нервно дергали вытертый ремень карабина.
— Выйдем на дорогу, там отец, — взяла его за рукав.
— Больше никого? — наконец вымолвил он.
— Никого, никого. Только мы вдвоем… За кислицами думали.
Вела его, словно малого или слепого, из чащи. Увидев Павла, Андрон остановился. Стоял хмурый, насупленный.
— Таким ли я думала видеть тебя, сынок? — всхлипывала Текля.
— Цыц! — оборвал ее Жилюк. — Дай нам поговорить… Ну, здорово, сынок. Что ты здесь делаешь?
— Отряд тут наш остановился, — хмуро сказал Павло.
— Остановился? А куда же путь держите?
— Трудно сказать, — пожал плечами капрал.
— Так уж и трудно? — не отступал Жилюк. — А может, мне сказать, а?
— Говорите, если знаете.
— А ты не знаешь, холера ясная? От кого же вы прячетесь? Немцы еще вон где… От кого? От нас с матерью да от таких, как мы?
— Тише, а то услышат, — оглянулся Павло.
— Боишься? Оглядываешься? Словно волк, прячешься от людей? Нет, хлопче. От народа не спрячешься. Народ все видит, все примечает.
— Да хватит тебе, старый, — вмешалась Текля. — Зови лучше домой. Возвращаются же люди. Слышишь, сынок? Бросай этот лес…
— Помолчи, Текля! — метнул на жену злой взгляд Жилюк. — Он сам знает, что делает. Если есть еще совесть, придет… попросит у людей прощения. А нет… — Андрон повернулся, сплюнул, отцепил с люшни вожжи и стал поворачивать обратно.
Павло стоял, опустив голову. Понурый, с синяками под глазами. Старательно отутюженный когда-то мундир загрязнился, вытерся. Правая пола подпалена.
— Куда же ты, Андрон? Стой! — чуть не кричала Текля.
Жилюк остановил воз, некоторое время молча глядел на сына. Павло тоже поднял глаза — лишь на мгновение, скользнул ими по матери и снова опустил.
— Так, сын. Запомни мое слово.
— Пошли, Павлуша, — всхлипнула, впившись в его рукав, Текля.
Павло задумчиво покачал головой, осторожно расцепил материнские пальцы.
— Не могу, мать. Простите. Не пустят меня.
— Я буду молить всех. Я вымолю прощение. Пошли.
— Не могу.
Он повернулся и побрел назад. Ссутулившиеся плечи (на правом, обвисшем, — карабин), вялая походка… И вдруг перед Теклей черным маревом предстала та ночь, тот разговор, и поле, и перепелята в овсе… Закрыла глаза руками и поплелась за возом, не видя перед собой дороги, поливая ее горькими слезами.
У села, как только переехали Припять, Жилюка остановили.
— Магарыч с тебя, Андрон, — подступили к нему несколько дозорных.
— Как же! Магарыча только и недоставало! — не принял шутку старый.
— Он еще и не верит! Знал бы — сам предложил.
— По какому такому случаю?
— Да Степан приехал! В постерунке — или как его теперь? — сидит. На танке примчался из Копани. С красными бойцами. Там такие орлы!
— Ой! — всплеснула руками Текля. — Что же вы сразу-то? Андрон, поехали, хватит вам…
— Ну, спасибо, если правду говорите, — поблагодарил Андрон за весть. — Будет и магарыч, как же.
«Вот холера ясная. Пропали бы эти кислицы. Потерял полдня, расстроился, а в селе такая новость. Событие такое…»
Андрон хлестнул вожжами и погнал лошаденку по пыльной улице, к площади, где густо толпились люди.
Перевод Л. Михалковской.
Книга вторая КРОВЬ ЗА КРОВЬ
КРОВЬ ЗА КРОВЬ
I
Предрассветный гром, прокатившийся где-то над Забужьем, неожиданно снова загрохотал.
Дитя в зыбке проснулось.
— Степан! — окликнула мужа Софья.
Гром пророкотал сильнее.
— Степан! Послушай-ка… — Слегка тронула мужнино плечо.
Просыпался неохотно.
— Вставай скорее. Слышишь: что-то такое творится…
Степан, потягиваясь, открыл глаза.
— Еще ж рано!
— Гром не гром… — с тревогой посмотрела на окна.
Отдаленное громыхание вспарывало предрассветные сумерки.
Спросонок Жилюк уловил в этом рокоте что-то неясно тревожное, мгновенно вскочил, но тут же, чтобы не выдавать своей встревоженности, медленно подошел к окну.
— Вечером вроде бы и не хмурилось, — сказал, чтобы как-то ответить жене.
Софья подошла к нему, прижалась, с трепетом сдавила его руку. От нее еще веяло ночью, снами, матерью.
Гром раскатисто гремел. Рассвет вздрагивал, тихо падали с листьев капли росы.
Софья жалась к мужу плотнее, пыталась сдерживать дрожь, но это ей не удавалось.
— Степан…
Он обнял ее.
— Мне страшно, милый…
— Ну вот еще…
— Ведь это же… это же… не гром.
Он оторвал взгляд от зеленоватых сумерек за окном и пристально посмотрел ей в глаза. Они были полны страха.
— Это стреляют, Степан.
— Да… видно, на полигоне, — проговорил в глубокой задумчивости.
Малыш зашевелился, всхлипнул. Софья поспешила к нему.
— Я все же пойду посмотрю, что там делается. — Степан торопливо начал одеваться.
— Сегодня ж воскресенье. Позовут, если надо.
Софья взяла ребенка, обернула одеялом, оставив ему руки свободными. Малыш успокоился, залепетал, потянулся к отцу.
— Не пускай папку, Михалёк. — Софья поднесла маленького к мужу, шнуровавшему ботинок, и малыш крепко вцепился ручками в волосы отца.
— Ах ты ж разбойник! — распрямил спину отец и слегка прижался щекой к сыну. — Ты уже в драку лезешь? — и пощекотал малого под мышкой.
Ребенок взвизгнул, замахал ручками.
А подворье отзывалось рокочущими отголосками далекой орудийной канонады.
Степан уже надел пиджак, поправил на голове фуражку и взялся было за дверную ручку, как малыш снова заплакал. Степан оглянулся.
— Я сейчас вернусь, — сказал, отворил дверь и шагнул в темноту сеней.
На востоке серело. От реки веяло утренней прохладой.
Степан постоял во дворе, вслушиваясь в гулкую даль, подошел к хлеву, где прямо на устланном сеном полу спали плотники. Среди них, комично закинув на кого-то ногу, спал отец. «Спят, как запорожцы, — усмехнулся Степан, вспомнив, что вчера вечером, когда «обмывали» новую хату, старик не скупился на чарку. — И не слышат ничего». Будить никого не стал. Только еще раз ласково посмотрел на отца, на замшелую, вросшую в землю дедову хату, за которой высилась новая, еще не достроенная, на тревожные ивы вдоль улицы, — посмотрел так, будто впервые видел их или прощался с ними, и пошел к калитке.
— Идешь, сын? — послышался печальный голос матери. Она стояла у угла новой хаты, смотрела ему вслед. — Что это там ухает?
— Пойду разузнаю.
— Хоть велосипед возьми, зачем же пешком?
— Я в сельсовет…
— Ну, иди, иди. Я думала — дальше…
Село понемногу просыпалось. Некоторых в такую рань поднимала эта непонятная отдаленная канонада, она нарастала и нарастала, словно хотела заглушить благовест воскресного дня.
…В сельсовете был только исполнитель.
— Вот и хорошо, — обрадовался он приходу Жилюка, — а то пришлось бы к вам бежать. Звонили недавно из района, велели разыскать вас и Гураля.
Степан снял трубку, позвонил на почту, попросил соединить с райкомом. Телефонистка бросила: «Занято», и в трубке осталось лишь какое-то потрескивание.
— От лупят, аж земля дрожит, — проговорил исполнитель. — И что бы это могло значить, Степан, а?
— Кто его знает… Может, в городе известно, да к ним, видишь ли, дозвониться трудно.
В конце концов его соединили с райкомом.
— Немедленно езжайте сюда, — без обычного «здравствуйте» раздалось в трубке.
Жилюк хотел было расспросить, в чем дело, но разговаривать с ним не стали. Постоял несколько секунд и начал звонить в контору, чтобы готовили машину.
Над припятскими лесами кроваво-багровым водоворотом занимался день.
— Что ж, будем воевать, — поднимая полный стакан вишневки, говорил старый Жилюк. — Думали землю пахать, хлеб святой на нем сеять, а оно вот как оборачивается. Выходит, что наша воля кому-то поперек горла встала… Но нам жить да жить, так что берите, люди, угощайтесь всем, что перед вами. Пейте, закусывайте, — может, завтра…
— Да перестань же, наконец, Андрон! — прикрикнула на мужа Текля. — Поешьте да вон тот простенок заложите.
— Никуда он не денется, — не унимался Андрон. — Выпьем, люди.
И единым духом опрокинул стакан.
— Постыдился бы, — ворчала Текля. — Такое делается, а он…
— Что я? — переспросил старик и, пошатываясь, подошел к жене. — Пьян? Ну, выпил. Свое пью, не ворованное. Кончили дело — и того… выпили.
— Еще, правда, не все закончили… — словно поддакнул Текле один из мастеров.
— Что? — повернулся к нему Андрон. — Значит, закончим! Не хата будет, а звоночек.
— Сам ты болтливый звоночек. Уходи, старый, не доводи до греха! — сердилась Текля.
Жилюк отошел от нее, снова подсел к плотникам.
— Злится старая… а почему — холера ее знает. Будто я от добра выпил. У меня у самого душа болит… Эта чарка мне вот здесь печет, — он ткнул себя рукой в грудь, — а выпил. С горя выпил, потому что сердцем чую — беда к нам идет!
Они сидели под ветвистыми вишнями. Здесь, за этим длинным, сбитым из досок столом, совсем недавно праздновали закладку новой хаты, «обмывали» половицы, чтоб не скрипели, а вчера, в субботний вечер, выпили не одну бутыль вишневки «на венец». Во-он он красным флажком на тоненькой ветке маячит на самой верхушке, где стропила стыкуются. Потрудились, так почему бы по обычаю и не выпить? Без чарки никакое дело не пойдет и работа не клеится. А тут еще эта канонада, черт бы ее побрал…
Мастера угощались. Андрон ничего не жалел. Да вроде бы и стрельба поутихла.
— Может, она и совсем перестанет? — гуторили мужики. — Постреляли, погремели, да и конец.
— Если б так. А то ведь с рассвета началось и, видишь, до сих пор грохает.
— А слышите — моторы… вроде летят?
— Летят…
И запрокидывали головы, посоловелыми глазами отыскивали в небе самолеты, провожали их взглядами на восток. А самолеты летели и летели, поблескивали на солнце чернокрестными крыльями и где-то за синими лесами терялись в мягкой голубизне. И там, где они тонули, глухо вздрагивала земля, поднимались в небо лохматые вихры огненно-черного дыма.
На пороге показалась Софья с ребенком на руках.
— Мама, не появлялся Андрей? — обратилась к Текле.
— Нет, дочка, ни Степана, ни Андрейки нет.
— Михалёк! Сынок! — забыв обо всем на свете, закричал Андрон. — Иди-ка сюда, Софья, неси его к нам…
Софья, бросив на мужчин укоризненно-осуждающий взгляд, подошла к Текле.
— Где же они могут быть? Хотя бы один вернулся. А Яринка?
— Она же скотину пасет.
— Тогда присмотрите за Михальком, а я все же сбегаю… может, узнаю. — Софья расстелила на траве рядно, посадила ребенка и метнулась на улицу.
Малыш не успел даже всхлипнуть. Да и как ему было успеть расплакаться, когда тут же, вот-вот, протянул руки дед.
— Де-да, де-да… — залепетал малый, поднимаясь на ноги.
— Мой маленький… сыночек… Михалёк… — бубнил, подходя Андрон. — Иди ко мне… Иди, иди…
— Де-да… — лепетал малыш, непрочно стоя на ногах и порываясь к деду.
— Вот так… вот! — взял внука Андрон.
— Ты смотри там, полегче, — бросила Текля, не отрываясь от стряпни.
Андрон подошел с малым к мастерам, поднес к губам ребенка краешек стопки с вишневкой. Михалёк скривился, замахал руками.
— Черешенку дайте ему, — посоветовал кто-то из мастеров.
— Сейчас, сейчас мы нарвем черешен, — носился с внуком старик.
Михалёк тянул ручонки к спелым черным ягодам, сорвал одну, попробовал, улыбнулся и тут же отправил ее прямо деду в рот.
— Ну что у меня за дитя, что за дитя! — жесткой рукой гладил Андрон детскую головку. — Вот хороший сыночек…
Малыш безмерно был рад, смеялся.
Внезапно где-то совсем близко, видимо на большаке, раздался сильный взрыв. Все вздрогнули. Замерли на какой-то миг, даже малыш притих.
Во двор на велосипеде влетел Андрей. Приткнул его рулем к хлеву. Все повернулись к нему.
— Немцы!
Текля так и застыла с половником в руке.
Андрон подошел к сыну, смерил его протрезвевшим взглядом.
— Ты что, холера, мелешь?
— По большаку идут… — все еще не мог отдышаться Андрей. — Танки, грузовики, пушки…
— Боже мой, боже! — запричитала Текля. — Что же будет? Хатка моя родненькая, даже не украсили тебя!
Плотники заторопились.
— Куда же вы, люди?
— Теперь уже не о хате думайте, Текля, — сказал один из мастеров.
— Боже ж ты мой… А где Степан? Степана не видел? — спросила своего меньшого сына Текля.
— В Копань поехал. Вызвали.
— А Софья?
— Не видел.
Андрей схватил кусок хлеба, сала и бросился в хлев. Вскоре вышел оттуда, держа в руке какой-то длинный предмет, завернутый в тряпицу. Вскочил на велосипед — и за ворота.
— Куда же ты? Вернись!
Этих слов матери он уже не слышал — был на улице.
Мастера попрощались, поблагодарили за угощенье и ушли. Двор опустел. Только что был он шумным и веселым и вдруг притих. Даже ненавистные Андрону куры, непоседливые и шкодливые, и те куда-то попрятались, притаились. И тем резче среди этого внезапно возникшего и короткого затишья слышался женский плач.
— Деточки мои милые, — роняла Текля слова в кончик своего платка, — чаенята мои… куда же вы поразлетались?
— А не прикусила бы ты свой язык? — наконец прикрикнул на Теклю Андрон. — Замолчи! Возьми-ка лучше ребенка.
— Хоть ты уже дома сиди, — сказала, беря малыша.
— Сам знаю, где мне быть. — Старик медленно прошел двором и остановился, приоткрыв калитку.
На улице ни души. Только по дворам идет возня, слышны голоса, встревоженные, подчас панические. «И правда, ни Степана, ни Гураля. Куда, к холере, они подевались? Надо же что-то делать… Вот и пожили свободными, попробовали счастья. Такое оно у нас… непрочное, как кнут из веревочки. Уже и земельку получили, и машины дали, а как до дела, чтобы жить получше, — тут и стой, Жилюк. Не та планида тебе в жизни выпала…»
Вдалеке на улице показалась машина. Она летела на большой скорости. Поравнявшись с двором Жилюков, взвизгнула тормозами.
— Дядько Андрон! — крикнул шофер. — Степан велел передать, что поехал в Луцк… А меня за Гуралем послали, да нигде его не найду. — И резко рванул машину с места, запылил в сторону сельсовета.
«Война… Этого только еще тебе не хватало, Андрон. Все изведал — и голод, и холод, и в тюрьме сидел за здорово живешь, и кнута панского отпробовал, а теперь еще и это… Война… Ничто мимо тебя не проходит. Наваливается тяжким грузом на плечи и прижимает к земле. Тут не то что света белого не видишь, а не знаешь, на каком свете живешь. И вся тяжесть оседает в груди, под самым сердцем. Да что ж я стою?» — спохватился Жилюк.
— Ну, что там? — спросила в тревоге Текля.
— Степан будто прямо на Луцк подался, — ответил озабоченно. — Не знаешь, где Яринка скотину пасет? Может, сообразит и пригонит поскорей.
— Наказывала далеко не гнать. Где-то под лесом, наверное… С чего бы это ему в Луцк? — пробормотала Текля.
— Да разве ему впервой? Центр.
— И Софья где-то запропастилась… Господи! — Малыш вырывался у нее из рук и тянулся к деду. — Возьми уж его…
Будто ничего больше Андрону и не оставалось делать. Взял внука, поставил на ножки.
— Давай, парень, походим, что ли.
Михалёк топал босыми ножками, держась за крепкую дедову руку, спотыкался, повисал на ней и тянул Андрона дальше. Они обошли чуть ли не все подворье, и Андрон поймал себя на мысли, что ему это путешествие приятно. Оно словно перенесло его в те далекие годы, когда не знал он ни горя, ни печали, когда солнце, зеленый шум леса и берегов заменяли им, босоногим мальчишкам, и родной дом и отцовскую ласку. Солнце и далекое зеленое раздолье… И еще почему-то двор. С ним у Андрона связано множество воспоминаний, больших и малых, веселых и грустных. Веселых, правда, меньше, но все же и у него в жизни была какая-то радость. И пусть она была скупою, эта бедняцкая радость, но была. Может, она приходила с солнцем, тоже не слишком щедрым и потому таким желанным здесь, на Полесье. А может быть, ее приносили вместе с весной на своих крыльях первые журавли… Трудно сказать, откуда шла эта радость, но наверняка шла она от самой земли, потому что люди редко приносили Андрону что-либо приятное. Многим людям делал он добро и никогда не требовал от них отдачи. День и ночь гнул он спину, работая на панов, а те по его спине еще и били. Паны смотрели на него как на скотину. Да вот и теперь: только-толечко дали ему свободу, он даже не успел раскусить ее как следует, а оголтелые паны уже пальцы к его горлу тянут, душат.
Он стоял возле стройных мальв, густо росших под окнами старой хаты, касавшихся цветками обшарпанной, замшелой крыши. Михалёк лазил между стеблями, срывал с цветов лепестки и протягивал их деду. Андрону же почему-то вспомнилась его родная мать. Собственно, он вдруг будто увидел ее сидящей на завалинке между мальвами. Такою она осталась у него в памяти, когда, будучи еще неженатым, в воскресенье или в какой-то другой праздник — уже не помнит — пришел домой, а мать сидит вот здесь, под мальвами, какая-то вся праздничная, необычная. Он тогда даже остановился, потрясенный, смотрел на нее — на густо вышитую полотняную кофту, на аккуратно заплетенные косы, на ее руки, быстрые, умелые материнские руки, спокойно лежавшие на коленях… До этого и после — даже в праздники — он уже такою ее никогда не видел. Что за особый день был у нее тогда, так и не узнал. Но именно такой она врезалась ему в набитую всякой всячиной память и изредка такою являлась ему. Андрон дорожил такими минутами, мысленно говорил матери ласковые слова, которых по своей горячей натуре в жизни говорил ей очень уж мало.
Оккупанты повернули в Глушу только на следующий день. Все воскресенье валом валили они на восток, а в понедельник в середине дня автомашина и десять мотоциклистов съехали с большака и прогрохотали в сторону села. В распадках немцев кто-то обстрелял. Вернее, раздалось несколько выстрелов, пули пролетели над головами солдат, которые тут же соскочили с мотоциклов, залегли и открыли огонь. Стрельба продолжалась минут десять. Когда немцы убедились, что в лощине опасность им не угрожает, они цепочками, с автоматами наготове, направились к хатам. Это были рослые, дебелые парни, одетые в зеленоватые мундиры. На головах — легкие шапочки-пилотки, на ногах — тяжелые, грубой кожи ботинки. Погода стояла теплая, слегка парило, и солдаты расстегнули воротники, позакатывали рукава. Издали, когда не стреляли, они напоминали косарей.
Тем временем отряд мотоциклистов с треском и громом влетел в село, пронесся пыльной улицей к площади и, никого не встретив, понесся назад. Через несколько минут машина и сопровождавшие ее мотоциклисты остановились у сельского Совета. Из машины вылезли двое — немецкий офицер и человек в штатском. Офицер кивнул солдатам, и те бросились в помещение. Вскоре один из них вышел и развел руками: дескать, никого нет.
В сельсовете действительно было пусто. Чья-то рука еще заранее аккуратно выбрала из ящиков все бумаги, оставив только пустые столы и шкафы. Над сельсоветом не развевалось и полотнище алого флага, — видимо, его тоже сняла чья-то заботливая рука. Офицер и тот, в штатском, сами осмотрели все комнаты дома и вышли. Обоих явно что-то раздражало. Офицер нетерпеливо начал прохаживаться перед крыльцом, часто посматривая на часы. Похоже было на то, что ему обещали встречу, но никто не явился, и он теперь должен ждать здесь, на чужом пустыре, в безлюдье. Ждать неизвестно сколько и чего, разве что пули из-за угла. В окружающую тишину офицер не верил. Личный, правда пока еще не богатый, опыт подсказывал ему: на оккупированных землях мирной тишины быть не может. Рано или поздно она взорвется. Его задача — предупредить этот взрыв. Любыми способами, любой ценой! В инструкциях говорилось, что достигнуть этого можно только при условии ликвидации первопричины, возбудителя в массах волнений, ведущих к взрыву. Стало быть — при ликвидации людей, формирующих мысли масс, ведущих их за собой. В этой дикой и удивительной стране ничего нельзя понять. Нигде не оказывали им такого сопротивления, не давали такого упорного боя, как на границе по Бугу…
А сейчас… Разве эта тишина, это молчание — не война?
Обер-лейтенант Отто Краузе — так звали офицера — нервно сорвал кожаную перчатку, хлопнул ею по ладони. «Черт возьми! Сколько можно ждать? Эта свинья, — посмотрел на штатского, — наверное, думает, что я, чистокровный ариец, буду торчать здесь до ночи. Прошло полчаса, а площадь пуста — ни души».
— Что все это может означать? — наконец не выдержал Краузе, обращаясь с вопросом к штатскому.
Тот пожал плечами. Он был не меньше удивлен и обозлен.
— Я предлагаю… — начал было он, но немец прервал его:
— Вы их всех знаете?
Штатский утвердительно кивнул, достал из внутреннего кармана бумагу, подал офицеру.
Краузе внимательно просмотрел список, аккуратно, не торопясь сложил его и спрятал в планшет.
— Хорошо. Вы поведете, — сказал после некоторого раздумья и, подозвав унтера, распорядился: — Будете старшим. Я останусь здесь.
Глуша снова зарокотала чужими мотоциклами, запылила улицами…
Не успел Андрон спрятаться на огороде, как оккупанты уже были во дворе. Его сразу же заметили и пальнули из автоматов поверх головы.
— Hände hoch!
Жилюк, не понимая их окрика, все же поднял над головой свои тяжелые, большие, рабочие руки. Солдаты еще что-то приказывали, но он их не понимал. Тогда кто-то из солдат ткнул его прикладом автомата в спину. Андрон упал, но его тут же подхватили и повели к хате.
— А-а, выродок старый! — обрадовался, увидев его, штатский.
Жилюк поднял голову: очень уж знакомым показался ему этот голос. Точно, это он, бывший управляющий имением графа Чарнецкого, Тадеуш Карбовский. Не прикончили тогда гадюку, она теперь и выползла из норы. Андрон отвел взгляд.
— Что, не рад встрече? — подошел ближе Карбовский. — Отпустите его, — сказал по-немецки солдатам, которые все еще держали старика под руки. — Или, может, не узнаёшь?
— Узнал… как не узнать? — снова взглянул на него Андрон.
— Почему же потупился? Почему гостей не встречаешь? — тараторил Карбовский.
Старик молчал. Опустил голову и думал свою тяжкую думу.
— Жалеешь, что паном мало побыл? — продолжал Карбовский.
— Какой же из меня пан, — хмуро ответил Жилюк. — Лучше о своей панской судьбе подумайте.
— Поболтай!
— Спрашиваете — я и говорю.
— Ты у меня еще поговоришь… Где Степан?
— Он мне не исповедуется.
— Спрашиваю: где? — Карбовский коршуном подлетел и двинул Жилюка кулаком в подбородок.
Андрон покачнулся, но тут же оправился от удара и, стиснув свои каменные кулаки, ринулся на бывшего управляющего.
— Вяжите его! — завизжал тот.
Жилюка отволокли к хлеву, скрутили — даже в суставах хрустнуло — руки, связали чем-то жестким, что сразу врезалось в тело.
— Пан Тодось! — неистово закричала выбежавшая из хаты Текля. — И за что вы на нас такую кару напускаете? Да разве мы… Господи! — Она металась между солдатами и Карбовским, падала ему в ноги, готова была целовать его запыленные дорожной пылью ботинки.
А Карбовский свирепел. По его приказу солдаты выволокли из хаты Софью. Она стояла перед управляющим, стройная и напряженная, как тополь в бурю, и от этого казалась еще более прекрасной и недоступной; двумя руками прижимала к груди ребенка. Михалёк плакал, держался ручонками за шею матери и пугливо поглядывал на солдат.
— Кого я вижу! — оскалился Карбовский. — Как вы себя чувствуете, пани? — Он подошел к ней почти вплотную, Софья даже ощутила отвратительный запах его пота и слегка подалась назад. — Какая радость!
Молодая мать с дитем на руках смотрела на пришельцев полными страха глазами. Какой же он гнусный, этот Карбовский! Он подурнел, как-то высох и сморщился. Только глаза пылают еще большей ненавистью и злобой.
— Чего вы от нас хотите? — вымолвила наконец Софья.
— Где муж?
— Пошел куда-то, а куда — не знаю.
— Не знаешь? — зашипел Карбовский. — Свинья!
— Как вам не стыдно? — с трудом сдерживая себя, чтобы не сказать чего-то, проговорила Софья.
— Гадина! Хорошо, что мы встретились. Я теперь всем вам отомщу, всем, проклятым, за все!.. За все! — Он схватил Софью за косу. — Патриотка! — скривил ироническую усмешку. — Против своего народа, отчизны?! Где этот болван, этот коммунист? Где?! — рванул, заламывая Софье голову.
— Пан управляющий! Золотой, дорогой пан! — подбитой чайкой носилась Текля. — За что ж вы нас? За что ее? Ребенок же… Смилуйтесь!
— Не просите их, мама, — пересиливая боль, сказала Софья. — Они разве люди? Они пришли убивать. Слышишь, ты, чужак? — бросила она прямо в лицо Карбовскому. — Ты сдохнешь, а мы, народ, будем свободными… Под забором сдохнешь, в бурьяне, проклятая фашистская собака!
Женское проклятье ошеломило Карбовского. Он всего ожидал — мольбы, просьб, молчаливой покорности, — и вдруг…
Позади прогремела автоматная очередь. Карбовский вздрогнул и в страхе оглянулся: один из солдат стрелял куда-то поверх новой хаты. Управляющий посмотрел туда и понял: на самой верхушке, на стыке стропил, на ивовой тонкой ветке трепетала маленькая красная лента. Пули ее не зацепили, сбили только несколько зеленых листьев — они еще кружились в воздухе, падая, — а красный кусочек ленты, словно язычок какого-то дивного пламени, трепетал на ветерке.
Высокий, белокурый солдат, все время прохаживавшийся, как приказал ему унтер, по двору, тоже поднял автомат, прицелился и короткой очередью срезал веточку. Она слегка вздрогнула, качнулась и полетела вниз.
Солдаты засмеялись.
Карбовский тем временем полностью овладел собой, подошел к офицеру и что-то ему сказал.
— Гут, гут, — закивал тот и крикнул солдатам: — Ахтунг! Иллюминацион!
Солдаты оживились. Видимо, они давно ждали этой команды, потому что сразу бросились сгребать разбросанные вокруг новой хаты стружки и щепки, хворост, солому. И, когда один из них, присев, чиркнул зажигалкой, Текля, со страхом наблюдавшая за всем этим, не выдержала: с криком и воплем, в которых слышались одновременно проклятье и отчаяние, просьба и требование, метнулась к поджигателю и упала на огонь, который уже побежал было по соломе.
— Не дам! Не жги!
— Вег! Прочь! — Солдат с силой толкнул Жилючиху ногой.
Теклю оттянули. Вдруг она заметила, что угол, которым старая хата упиралась в вишневый садик, тоже запылал пламенем.
— Лю-уди! — завопила Текля. — Спасайте нас! Андрон! Софья!..
Она хотела бежать к старой хате, но в ужасе остановилась: взметнулось огромное пламя и охватило новую.
Текля остолбенела. Она стояла между этими двумя огнями, таращила глаза на пламя, которое разрасталось все больше и больше над замшелой крышей старой хаты, шипя лизало новый, смолистый сруб…
Вдруг Текля встрепенулась, подняла руки к небу и весело расхохоталась. Она смеялась изо всех сил, корчилась, задыхалась, а потом сорвала с головы платок — редкие космы пепельных ее волос упали на плечи — и, подбоченясь, пустилась в пляс.
— И-и-их! — И тут же упала, как пьяная.
— Мама! — подбежала к ней Софья.
Текля поглядела на нее мутным, ледяным взглядом, а потом начала хохотать с новой силой.
— Захмелела я, дочка… Ох и захмелела!
Потом вскочила, торопко подбежала к Карбовскому.
— Станцуем, пан! — С этими словами она обхватила Карбовского. — Эй, музыканты! Где вы там!
— Развяжите меня! — кричал Андрон. — Развяжите!
Он извивался, катался по земле, силясь освободиться от стягивавших его пут, однако никто на него не обращал внимания, все смотрели на Теклю. Жилюк кое-как поднялся на ноги и уже хотел зайти за угол хлева, как вдруг один из солдат подскочил к нему и ударил прикладом автомата по голове. Андрон рухнул на землю.
Тем временем Карбовский с трудом высвободился из цепких Теклиных объятий, толкнул, свалил ее на землю и начал бить ногами.
— Ах ты ж… быдло! — приговаривал он. Ворот его рубахи был разорван: видно, Жилючиха настойчиво приглашала его к танцу. Наконец, отдышавшись, опьяневший от злобы, он вытер вспотевшее лицо.
Подворье клокотало пламенем, словно на огненных крыльях улетало вместе с огромными снопами искр, которые терялись в небе и черной порошей оседали на огороды, на траву. От жары листья на деревьях скручивались, увядали, темнели.
Горели обе хаты — старая, где родилось, росло и умерло не одно поколение Жилюков, и новая, не обжитая еще, ожидавшая тихих человеческих слов, детского смеха, гостей, свадебных песен…
— В огонь ее, суку! — рявкнул Карбовский и первый бросился к Текле, схватил за волосы и, пряча лицо от жара, толкнул ее в бушующее пламя.
Нечеловеческий вопль, от которого все вокруг занемело, вырвался из Теклиных уст. Софья, дрожа всем телом, прижала к груди ребенка, заслонила его от ужасного зрелища, а сама с широко раскрытыми глазами шептала слова полузабытой молитвы. На какой-то миг в ее отуманенной памяти всплыл день, вернее, час, когда она не невестой, а законной женой Степана переступила порог старой Жилюковой хаты. Текля не знала, где посадить ее, свою желанную, казалось, у самого господа бога вымоленную невестку…
Кровля хаты рухнула, и вопль оборвался. Карбовский бросил свирепый взгляд на Софью и исступленно крикнул:
— И ты, пся крев, туда же хочешь?
Он хотел схватить Софью и так же, как Теклю, швырнуть в пламя, но солдаты отстранили ее к хлеву, давая этим Карбовскому понять, что вершители судеб здесь они, что все это — только начало, начало задуманного ими кровавого спектакля.
Софья не плакала, не рыдала. Ее глаза пылали ненавистью, от которой она вся дрожала. Она сильнее прижимала к груди сына. Михалёк, припав головкой к ее плечам, время от времени всхлипывал, вздрагивал.
Офицер что-то крикнул солдатам, видимо — «хватит», потому что они торопливо начали собираться. Двое из них подняли на ноги Андрона и поставили лицом к огню.
— Смотри! — радовался Жилюковому бессилию Карбовский. — И запомни: здесь хозяева мы. Никакая большевия тебя не спасет.
— Брешешь, собака! Здесь мы, народ, хозяева, — тихо, но твердо вымолвил Андрон. — И не скаль зубы, ты свое получишь.
Взгляд, который Андрон бросил на Карбовского, был как молния. У того пробежал мороз по спине.
Но то, что произошло в последующие мгновенья, заставило даже видавших виды эсэсовцев, содрогнуться: пламя вдруг заговорило человеческим голосом… Из-под обгоревших бревен, из дыма и огня, как из самого пекла, выползла Текля. Обгоревшая и страшная, она пыталась подняться на ноги.
Андрон обмяк и осел на землю. Офицер выхватил пистолет и, почти не целясь, выстрелил…
Над площадью поднимался тревожный гул. Согнанные со всего села, окруженные автоматчиками, глушане слушали немецкого офицера и, ничего не понимая, перешептывались, переговаривались между собой, со страхом поглядывая на виселицу, выросшую здесь, на спокон века бесплодной песчаной площади. Они притихали только тогда, когда офицер, изрыгнув с какой-то машинальной быстротой очередной поток слов, умолкал и начинал говорить переводчик. Как и его шеф, он говорил коротко, быстро, горячо.
— Немецкая армия несет свободу. Она вырвет Украину из-под большевистского ярма. Наше правительство во главе с великим фюрером Гитлером поможет украинцам построить свое самостийное государство…
И Отто Краузе и переводчик не скупились на щедрые обещания.
— Мы поможем вам избавиться от большевистских агентов. Каждого, кто будет содействовать и помогать нам, ждут награды. Но мы будем беспощадны к покровителям и сторонникам коммунистов или партизан. Сегодня мы повесим… — Краузе забыл фамилию, заметался и вопросительно посмотрел на Карбовского, стоявшего здесь же; тот, наклонившись, шепнул ему и переводчику, — повесим большевистского агента Жилюка…
Толпа заволновалась.
Офицер выдержал паузу и что-то скороговоркой сердито сказал.
— Внимание! — во все горло крикнул переводчик. — Господин офицер предостерегает: в случае неповиновения он сожжет все село.
— Так бы сразу и говорил! — послышались голоса.
Над селом, совсем низко над землей, пронеслись за Припятью два самолета. Они вылетели откуда-то из-за леса, со стороны Копани, маленькие, юркие, и с ревом понеслись в багряную муть запада. Еще не уйдя из поля зрения, самолеты круто взвились вверх, потом снова пошли в пике над Глушей. Похоже было, что один из них хочет оторваться от своего преследователя и уйти, но тот прилепился к нему, наседает, не отстает. Самолеты ястребами метались в задымленном небе, сквозь рев моторов слышна была их перестрелка. Люди невольно поднимали головы, с затаенной тревогой следили за воздушным поединком, словно от его исхода зависела их судьба. А самолеты врезались в небо, падали и снова набирали высоту, кружились, грызли один другого свинцом. Вдруг после короткой — с земли она оказалась совсем куцей! — очереди один самолет накренился и выпустил длинный шлейф черного дыма.
Немцы радостно зашумели:
— О-о! Рус фанер… Капут!
Каким-то гордым и даже снисходительно-сочувствующим взглядом Краузе окинул площадь: мол, другого исхода нечего было и ожидать. Он радовался тому, что так произошло: это ведь наглядно иллюстрировало его речь, подтверждало его слова о непобедимости немецкой армии не только на земле, но и в воздухе. Глушане молча опустили головы. «Рус фанер… капут…» Неужели так нелепо, нагло пришел конец их свободе?
Вдруг кто-то крикнул:
— Смотрите!
Десятки глаз снова уставились в небо; с удивлением и радостью они увидели, как истребитель, сделав крутой вираж, выровнял полет и рванулся навстречу врагу. Мгновенье — истребители сблизились, дохнули огнем, и ястребок врезался во вражескую машину. Объятые пламенем, самолеты упали на землю за селом.
Толпа приглушенно загудела.
Обер-лейтенант скривился. Он что-то крикнул солдатам, и те бросились к толпе, оттесняя ее подальше от здания сельсовета. Затем на крыльцо вывели Жилюка, Софью с ребенком на руках и Анну Гуралеву. Волна сочувствия и возмущения прокатилась по всей площади, и шум не утихал, пока обреченные шли к виселице.
Андрон, с трудом передвигая ноги, шел задумчиво, опустив голову, плечи, руки. Он все время чувствовал упирающееся ему в спину дуло автомата. О чем он, всю жизнь проработавший на этой земле, раздумывал сейчас, на таком коротком и таком тяжком пути?
— Держись, Андрон!
Что? Это ему крикнули? Холера! Он и вправду, видимо, раскис перед этими паршивыми швабами… Жилюк, как только мог, расправил плечи, выпрямился, шаг его стал тверже. «Нет, не дождетесь, проклятые, чтобы Андрон перед вами гнулся! Жилюки не из таких, нет!» Он уже видел не узкую песчаную дорожку, а всю многолюдную площадь, где в толпе мелькали знакомые лица, хотя и горестные, но родные, свои. На их глазах прошла вся его нелегкая, трудовая — от начала до конца — жизнь. Они, которые смотрят сейчас на него, помнят его еще пастушком, видели его и молодым парнем, и бессменным батраком в имении графа Чарнецкого. Многие из них были на его свадьбе. Они видели его в радостях и печалях, в доброте и гневе, видели трезвым и подвыпившим. Они помнили, что, отстаивая их права, Андрон страдал, попадал в беду; горой стояли и они за него, за своего Андрона. Он и теперь готов жизнь отдать за них с честью и достоинством. Правда, не ждал он такого конца, но от смерти не отгородишься. Какая пришла, такая и будет. Смерти не выбирают.
— Хотя бы ребенка пощадили, — донеслось из толпы.
«Михалёк! Неужели они и его…» Об этом Жилюку страшно было подумать…
— Отдай Михалька людям, — шепнул Софье.
Софья осмотрелась. Спереди и по бокам солдаты. Шагнешь в сторону — уложат на месте… А до виселицы считанные шаги.
Андрон протянул руки, взял у нее Михалька; какое-то время он целует внука, гладит, прощается, а сам зорко всматривается в лица людей. И вдруг неожиданно бросает его в толпу, к людям. Михалёк вскрикивает, но его тут же ловят чьи-то руки, передают в другие. Это случилось мгновенно, и конвоиры не сразу смогли понять, что произошло. Но, опомнившись, они набросились на Андрона и Софью, а несколько эсэсовцев ринулись в толпу, за ребенком. Народ расступался неохотно, медленно. Краузе даже выхватил пистолет. Эсэсовцы, искавшие Михалька в толпе, выстрелили несколько раз вверх. Толпа умолкла.
Краузе и Карбовский перебросились несколькими словами, после чего немец громко обратился к крестьянам. Переводчик так же громко повторил:
— Мы не думали наказывать мать и ребенка. Мы ее отпускаем.
Эсэсовцы, видимо, не совсем поняли приказ Краузе, потому что все еще держали Софью.
— Отпустите! — раздраженно крикнул Краузе.
Унтер подбежал, схватил Софью за руку и отвел от виселицы. Краузе приказал жестом: «Кончайте!»
Грузовая машина, стоявшая в стороне, задком подкатила к виселице. Два дебелых эсэсовца откинули борт и начали втаскивать Жилюка и Анну Гураль в кузов. Анна сопротивлялась, звала Устима.
— Прощайте, люди! Отомстите за нас!
Устима Гураля накануне, в субботу, вызвали в Копань. Пока управился с делами, ехать домой было уже поздно, да и надо было кое-чего купить, он и решил заночевать в городе.
На рассвете, когда кругом загрохотало-загудело, Устим, как и все, кто был в гостинице, вскочил, припал к окну и понял: то, чего они все так боялись, хотя, может, никогда и ничем не проявляли своей боязни, случилось. Никто еще не произнес, не решался вымолвить это ужасное, фатальное слово, которым обозначался в данном случае самый наглый, самый позорный международный разбой, но у каждого оно было готово слететь с уст, каждый твердил его про себя.
Одеваясь, Гураль вспомнил, как в прошлый раз, когда он был в Копани, пожалуй, с неделю назад, какой-то пограничник рассказывал, будто бы одна женщина, прибывшая к ним на заставу из-за Буга, предостерегала об опасности. Она, по его словам, сообщила о большом скоплении немецких войск на границе. Никто, конечно, не придал этому сообщению должного значения; такие слухи считались паническими и пресекались. И вот…
Над городом, собственно над железнодорожным узлом, где сходились исключительной важности коммуникации, почти непрерывно висели вражеские самолеты, сбрасывая свой смертоносный груз. Видимо, они пытались полностью парализовать деятельность этого жизненно важного центра. И это им удавалось. Станция словно замерла. Покореженные, вывернутые бомбежкой рельсы, дымящиеся привокзальные постройки, разбитые вагоны… Все говорило о том, что теперь не скоро побегут по блестящим рельсам быстрые, дышащие огнем и паром гиганты. Так это было еще вчера. А сегодня в коротких интервалах между бомбежкой восстановительные бригады успевали, очень мало сделать.
Гураль, потоптавшись около станции, сообразил, что поездом ему воспользоваться не придется, и пошел на окраину города, где его подобрала ехавшая в сторону границы грузовая машина. Вскоре она свернула, и ему пришлось идти пешком.
Добрался Гураль до Глуши лишь в понедельник. Как только прошел лесок, почувствовал запах гари и увидел дым над селом. Сразу понял, что там происходит. Сердце замерло, потом забилось так, что удары ощущались в горле. Он только сейчас обратил внимание на оттиски шин на дороге, ведущей в Глушу, — широкие и узкие. Узкие, видимо, от мотоциклов. Пошел быстрее. Удивительно: никого не встретил, никого не догнал.
Чем ближе подходил к Глуше, тем сильнее охватывала его тревога. Ни выстрелов, ни крика — только горелым чадит… Да какая-то нестерпимая напряженность висит, заполняет весь простор. Настороженная, предельно натянутая, окликни — и лопнет, разорвется, зарокочет громами.
Под самой Глушей Устим свернул в овражек, чтобы незамеченным пробраться к жилью, но неожиданно столкнулся с Андреем. Парень, пригнувшись, бежал из села. В руке держал не то карабин, не то обрез.
— Андрей! — тихо окликнул его Устим.
Парень вздрогнул, остановился. Узнав Гураля, бросился к нему.
— Дядя Устим, там такое творится… — И он торопливо начал рассказывать обо всем виденном: — Всех сгоняют на площадь… бьют… хаты жгут…
Гураль быстро взглянул на карабин, и Андрей, уловив его взгляд, медленно спрятал оружие за спину.
— А где Степан?
— В Луцк вызвали. Еще вчера.
— Куда же ты бежишь?
Андрей кивнул в сторону графского дома:
— Туда. Может, кого-нибудь встречу.
Устим секунду помолчал.
— Вот что! Айда в село, а эту штуку дай пока мне, — взялся за карабин.
Андрей умоляюще посмотрел в глаза Гураля и нехотя разжал пальцы.
— Я тебе отдам, — успокоил его Устим. — Не отставай.
Пригнувшись, юркнули в заросли ивняка, подступавшего местами к самым дворам. В село вошли незамеченными. Притаились за забором. Осмотрелись по сторонам. Никого. Улица опустела, на Жилюковом дворе дымилось пепелище. Время от времени из пепелища вздымались рои искр, серого пепла…
— Побудь здесь, — сказал Андрею Гураль, — я заскочу в хату. В случае чего — предупредишь.
Прячась за хлев, который одной стенкой прижимался к плетню, Устим прошел на подворье, осмотрелся. Карабин был у него в руке, и Андрей жалел, что припрятанное им еще в тридцать девятом оружие, о котором он никому не проговорился, не сказал, так легко выскользнуло из его рук. «Может, и отдаст, — думал Андрей о Гурале. — Да когда это будет? Тут бы как раз сейчас и пальнуть по швабам».
Гураль, убедившись, что во дворе никого нет, уже смелее направился к крыльцу своей хаты, но тут же остановился. Двери открылись, и в них показался огромный узел, охваченный двумя руками, а за узлом красная от натуги морда немецкого солдата. Андрей все это видел издали и стоял ни жив ни мертв, — заметит дядько Устим немца или нет? Однако Гураль, подходивший к крыльцу, быстро спрятался за угол хаты и прижался спиною к стене; карабин он держал наготове. Андрей не сводил с солдата глаз. Что же теперь будет? Этого ни Гураль, ни он никак не ожидали. А солдат опустил узел на крыльцо, туже стянул его, поправил болтавшийся на груди автомат и, изловчившись, вскинул узел на плечо. Солдат был так озабочен и занят своим делом, что, видимо, отстал от своих и теперь торопился поскорее догнать их. Придерживая узел, он медленно сошел с крыльца и направился к калитке.
Далее Андрей увидел мелькнувший приклад карабина над головой солдата, — в это же мгновенье он выскочил из своего укрытия и бросился на помощь Гуралю.
Чужак лежал мертвый. Однако одна рука его сжимала узел, а другая — автомат. Казалось, что он шел, споткнулся и упал, но вот-вот поднимется, и тогда… Гураль высвободил из руки солдата автомат, повесил себе на шею, отцепил подсумок с запасными обоймами-рожками, оттолкнул ногой узел, осмотрелся.
— Берем его под руки, спрячем за хлевом, — сказал Андрею.
Они оттащили убитого за хлев и укрыли в канаве, поросшей высоким и густым бурьяном. Вернулись к хате. Гураль осмотрел двор, потом молча протянул Андрею карабин.
— А теперь давай пробираться к площади, — сказал ему. — Стрелять умеешь?
Андрей кивнул.
— Я уже чесанул по ним. Один раз, — похвастался Андрей, обрадовавшись, что снова у него в руках оружие.
Вскоре они подкрались к площади. Из-за угла сельской лавки им было хорошо видно, что творилось там, но ближе подойти не решались — кругом стояли эсэсовцы.
Толпа шумела.
— Оставайся здесь, — шепнул Устим, — а я переберусь вон к той хате. Когда начну стрелять, выстрели и ты, только вверх. — И тут же исчез.
Андрей приготовился. Перед ним шагах в десяти, расставив ноги, стоял эсэсовец. Его широкая спина была хорошей мишенью, и Андрей даже прицелился. «Почему надо стрелять вверх? — раздумывал Андрей. — Лучше в них». И все же предупреждение дяди Устима вынудило его опустить дуло карабина.
Когда площадь загудела сильнее, Андрей поверх голов увидел, что солдаты силой втягивают кого-то в кузов грузовика, который стоял прямо под виселицей. «Отец? Тетя Анна? — Он не поверил своим глазам. — Их же сейчас будут вешать, — мелькнуло в голове Андрея. — Почему не стреляет дядько Устим? Эсэсовец уже руку к петле протянул!» Андрей прицелился из карабина и, когда эсэсовец был у него на мушке, нажал на спусковой крючок. Он не видел, как свалился эсэсовец, потому что тут же упал и пополз бурьянами за сараи. Словно эхо, откуда-то из-за хат раздалась автоматная очередь. «Это дядька Устим», — подумал Андрей и выстрелил еще раз, уже вверх.
Площадь затрещала автоматами. Солдаты попадали и лежа стреляли во все стороны.
Пули впивались в стены сельской лавки, гулко решетили ее крышу. Но Андрей уже уполз от нее, а автомат Гураля сбил эсэсовцев с толку — они метались по площади, бегали между хатами, а откуда стреляли, установить не смогли.
Андрей взглянул из зарослей бурьяна: люди разбегались, солдаты толпились возле грузовика, несколько мотоциклистов стреляли поверх голов бегущей толпы, но остановить ее было невозможно.
Андрей полз туда, где должен был находиться Гураль.
II
Степан Жилюк возвращался из Луцка поздно вечером. Весь день над Луцком висели чужие самолеты, железная дорога не работала, поэтому единственный состав, собранный из пассажирских и товарных вагонов и платформ, был набит людьми до отказа. Военные, первые раненые, мужчины, женщины, дети, которые при нормальных обстоятельствах давным-давно уже спали бы, вдруг куда-то все заторопились. Вагон, в который Жилюку удалось втиснуться, гудел, перекликался разными голосами, стонал, плакал. Натыкаясь в темноте на чемоданы и узлы, Степан с трудом отыскал себе место. Он обрадовался, когда хриплый женский голос окликнул его и предложил верхнюю полку. «Как это она осталась незанятой? — удивлялся Степан, взбираясь на верхотуру. — Наверное, для кого-нибудь берегли».
Вверху было душно, пахло потом и испариной. Рядом, по другую сторону низкой перегородки, возился, укладывая вещи, какой-то человек. Он спросил:
— Не знаете, скоро поедем?
— Не знаю, — сухо ответил Степан.
— Говорят, Копань совсем разбили, — продолжал сосед. — Дороги перерезаны… И что теперь будет? Что будет?
Жилюк промолчал. Пустыми разговорами не хотелось растравлять свое сердце. Да и кто его знает, кто он такой, этот сосед. Серьезный человек зря не станет языком болтать. Внизу, в проходе, видно, создалась пробка, потому что там вдруг вспыхнула словесная перепалка.
— Успеешь. Ишь какой прыткий! — отчитывала кого-то женщина. — Не в ту сторону торопишься.
— Не твое бабье дело! — огрызался чей-то солидный мужской басок. — Влезла — и сиди…
— Проходите, проходите дальше, — вплелся чей-то писклявый, старческий голос. — Здесь больные.
— А больным надо лежать дома.
— Э-эх, человек…
— Осторожнее…
Где-то всплакнул ребенок. Кто-то зажег спичку, и снаружи сразу раздалось: «Эй, ты, там!.. Жить надоело? Погаси!»
Степан свесился головою к окошку, выглянул: на перроне все еще толпились люди, пробивались в вагоны. Железнодорожники и военные сдерживали их, обещали вскоре сформировать еще один эшелон, но это ни на кого не действовало. Внезапно кто-то крикнул: «Воздух!» Все бросились врассыпную, перрон опустел. Жилюк прислушался: с запада на город наплывал тяжелый рокот. Он все более нарастал, становился нестерпимым. На перроне послышались торопливые распоряжения, свистки; вагоны вздрогнули, звякнули буферами и поплыли. Не зажигая огней, эшелон миновал низенькие пристанционные строения, вырвался за город и затерялся в мглистой темноте полей и перелесков.
Небольшую станцию километрах в двенадцати от города, в лесу, миновали спокойно. В прозрачных сумерках июньской ночи Степан успел заметить на колеях скопление вагонов, паровозов, платформ. На станциях, так же как и в Луцке, толпились люди. «Бегут, — подумал Жилюк. — А куда? Разве от этого убежишь?» Лежал, подложив кулак под голову, и думал. В окне противоположной стороны вагона наплывали и таяли силуэты деревьев. «Кому-кому, а волынянам придется хлебнуть горя, — лезли в голову мысли. — Империалистическая потопталась здесь, гражданская бушевала, теперь эта… Ну и судьба! А деваться некуда».
Пассажиры немного поутихли, пообвыклись, хотя никто, конечно, не спал — то здесь, то там слышались всхлипывания, шепот, приглушенные голоса. «Что там с моими?» — не покидала Степана мысль. Сколько раз он пытался днем дозвониться в Глушу, но так и не удалось. А когда Копань ответила, то телефонистка скороговоркой сказала, что с Глушей прервана связь. Смутная тревога, неясные догадки, которым не хотелось верить, волновали его душу, не давали ему ни минуты покоя. И если днем, в суете и делах, Степан отгонял эти мысли, то сейчас он никак не мог с ними бороться. Мысли переплетались с воспоминаниями. Батрачество с малых лет, бедность, подполье, которому он положил здесь начало… Потом аресты, застенки, бегство в Испанию, бои против фашистов под командованием легендарного Кароля Сверчевского[8]. Конечно, обком партии имеет все основания оставить его здесь, в тылу у врага. Он прошел хорошую школу… Но ответственность и опасность неимоверно велики. Достаточен ли его опыт? Он был только простым бойцом интернационального полка и бил врага в открытом бою. А тут? Здесь совсем иное. Правда, есть опыт подполья. Но все же условия были несколько другими. Сейчас придется бороться в самом пекле. А еще предстоит готовить людей, собирать оружие… Да, задача далеко не легкая.
В полночь эшелон оставил позади еще одну, маленькую станцию и пополз между зарослями кустарника, подходившими почти вплотную к колее железной дороги. Кругом было тихо, ушло зловещее гуденье моторов, и, если бы не вздохи, стоны и плач, которыми нет-нет да и отзывался вагон, могло бы показаться, что все только что пережитое — лишь сон, что жизнь все в тех же прочных берегах. Ритмично постукивали под вагонами колеса, слегка покачивало. Измученный вчерашней беготней, Жилюк даже не заметил, как вздремнул.
Его разбудил скрежет тормозов. Поезд резко остановился. Вагон на какое-то мгновенье умолк, а потом все зашевелились, зашумели, засуетились.
— Бомбят!
— Ой, боже мой! — вскрикнула где-то на нижней полке женщина.
— Тихо! — послышалось из тамбура. — Никаких самолетов над эшелоном нет. Впереди, наверное, путь разбит. Сидите все на своих местах.
Говорил, видимо, проводник. Степан полежал немного, собираясь с мыслями, а потом слез с полки. «Это, наверное, надолго, — подумал. — Отсюда и начнется». Осторожно, чтобы никого не зацепить, пробрался к выходу.
— Сказано — сидеть на месте! — преградил ему дорогу какой-то мужчина.
— Не волнуйтесь, я слышал, — вежливо ответил Жилюк и прошел в тамбур.
— Вам куда, гражданин? — спросил проводник, заметив спускавшегося по ступенькам Степана.
Жилюк спрыгнул на землю.
— Не знаете, серьезное повреждение? Долго придется стоять? — подступил Степан вплотную к пожилому железнодорожнику.
— Скажут, — как-то неуверенно ответил тот.
Широко ступая со шпалы на шпалу, Степан пошел вперед.
У паровоза, легко дышавшего паром, стояла группа людей, преимущественно штатские. Впереди метрах в двадцати слабо вырисовывался силуэт не то платформы, не то дрезины, оттуда слышались голоса, лязг железа, глухие удары молотов.
— Путь ремонтируют, — сказал кто-то в толпе.
— Может, им помочь, скорее поехали бы.
Несколько фигур двинулись, за ними, словно колеблясь, пошли остальные. Пошел с ними и Степан.
…Горизонт уже начал сереть, когда ремонтники закончили работу. Степан решил не возвращаться в вагон. Ремонтники охотно взяли его к себе в дрезину. Ехали медленно. Утомленные бессонницей и работой, все молчали, курили, кое-кто, облокотясь о стенку кузова, пытался вздремнуть.
Дрезина прогремела мостом, перекинутым через реку Стоход, миновала небольшое, поросшее кустарником болото. Колея дальше пошла по полям. Сквозь маленькое оконце Степан смотрел на свой буйнозеленый край, и сердце его сжималось от горечи. «Только-только начало все прорастать добром… Только ведь взялись по-настоящему за дело…»
До Копани оставалось километров десять, как вдруг небо в той стороне расцвело разрывами зенитных снарядов.
— Опять началось. Не дает ни минуты отдыха, — сказал кто-то из рабочих.
По небу шарили быстрые руки прожекторов.
— И зачем они им подсвечивают? — недовольно проговорил один из ремонтных рабочих. — Сбить не собьют, а себя обнаружат.
— Служба, — высказался другой. — Такая у них служба.
— Освещают цель, — добавил Жилюк.
Впереди по ходу поезда взметнулись несколько гигантских огненных снопов. Они вздымались все чаще, а в небе все гуще вспыхивали огни разрывов. Земля, притихшая от усталости, заохала, застонала, поднималась заревами пожаров. Взрывы то приближались, то отдалялись, то ослабевали, то раздавались с новой силой. Моторист сбавил скорость, дрезина прокатилась несколько десятков метров и остановилась.
— Посигналь им, — сказал моторист и ткнул рабочему фонарик. — Дальше не поедем.
Рабочий грузно спрыгнул на насыпь и пошел навстречу поезду. Вскоре он возвратился.
— Остановились, — сказал глухо.
— До города отсюда далеко? — спросил Степан.
— Километров пять. Здесь рядом шоссе, но вряд ли сейчас кто-нибудь туда поедет.
Из дрезины вышли все, собрались на насыпи и смотрели на город, бушевавший пожарами.
— Перемесит, проклятый. Опомниться не даст.
У эшелона, стоявшего совсем близко, суетились люди. Уже рассвело, и было видно, как некоторые выносили из вагонов чемоданы, ссаживали детей.
К дрезине подошли несколько человек.
— Надолго стали?
Никто не торопился с ответом.
— Разве не видите? — наконец сказал кто-то из ремонтников, — Может, и совсем не поедем. Колея, видать, начисто разбита.
— Скажите там, чтоб не шатались у вагонов, — посоветовал моторист, — могут заметить, и тогда…
«Пойду, пожалуй, — соображал Степан. — Застряли, видно, надолго». Он еще немного постоял в нерешительности и, не говоря никому ни слова, спустился с насыпи.
III
Разлучаться со смертью, когда ты уже решился принять ее, — не так-то просто. Андрона Жилюка втянули в кузов грузовой машины, и он уже приготовился крикнуть в толпу свои последние слова. Это он решил твердо, а все остальное, что творилось кругом, было каким-то смутным, страшным сном. Поэтому Андрон не сразу сообразил, почему руки, так цепко державшие его, вдруг ослабли, солдаты встревожились, куда-то побежали, стреляя из автоматов, толпа на площади заколыхалась. В ушах — трескотня выстрелов, крики, а он стоял под виселицей на необычайно зыбком помосте, готовом в любую секунду выскользнуть из-под его ног. Андрон стоял, мужественный и сильный, и до его сознания никак не доходили крики односельчан:
— Андрон! Бегите! Удирайте!
Что-то горячее обожгло ему руку выше запястья, и Жилюк опомнился, сообразил, где он и что с ним.
— Прыгайте, — дернула его за рукав Анна и соскользнула с кузова.
Или ее рывок, или какая-то иная сила толкнула Андрона, но он чуть ли не мешком свалился на землю. Хорошо, что в последнюю секунду придержался здоровой рукой за борт.
Чудно́! Он еще живой! У него даже рука болит повыше кисти… Живой! И он во весь дух пустился бежать, прячась за хатами. А кругом кричали, трещали автоматы, свистели пули, с ревом рыскали мотоциклисты…
…К вечеру, когда немцы, не поймав «партизан», подожгли еще несколько дворов и поспешно уехали, глушане собрались в бывшей графской усадьбе.
— Что же нам делать? — спрашивали друг друга.
Между ними не было ни Гураля, ни Степана. Придавленный горем старый Жилюк сидел на каком-то комельке и поглаживал висевшую на перевязи руку.
— Не сегодня завтра фашисты снова сюда придут, — сказал Хомин.
— Известно, — добавил кто-то, — так они нас не оставят.
— Ну, а пока есть время, надо приготовиться да встретить их как следует.
— Чем?
— В своей хате и стены помогут, — ответил Хомин. — Надо бить их, проклятых, чем попало. Иначе — гибель!
В дальнем конце подворья из прибрежных зарослей вынырнули две фигуры. Постояли, осмотрелись и начали быстро приближаться к собравшимся.
— Это Устим, — раздался чей-то голос.
— С ним еще кто-то…
— Вроде бы Андрейка… Андрон, вон и твой меньшой объявился.
Жилюк вяло поднял голову, равнодушно посмотрел на идущих. Взгляд его был холоден, как лед.
— А где же Анна? — послышались голоса.
Отсутствием Анны был взволнован, видимо, и Гураль. Когда он окинул быстрым взглядом собравшихся и не увидел среди них ту, которую больше всех желал видеть, обессиленно опустился на комель рядом с Андроном. Автомат положил себе на колени.
Оба — и он и Андрей — были забрызганы грязью, потные и усталые. Все смотрели на них молча. Устим нарушил молчание, обратился к Хомину:
— Что хорошего скажешь, Иван?
— Да вот советуемся, — ответил тот. — Оружия нет.
— А это что? — Гураль поднял свой трофей. — Автомат. Новый, последнего образца… А был он у меня?.. Правда, Андрейка вот, — кивнул на парня, — имел карабин, да помалкивал.
Андрей смутился и покраснел.
— Я его еще в тридцать девятом спрятал, — сказал виновато. — А потом боялся признаться.
— Оружие будем добывать, — поднялся Гураль. — Будем бороться. Власть остается в наших руках, нам ее и защищать. Трудно будет. Но другого выхода нет. Сейчас разойдемся, а в полночь все снова соберемся здесь. Время не ждет, враг может появиться с часу на час.
— Как с имуществом… колхозным, с коровами? Не оставлять же…
— Все раздать людям. Иван, — обратился Гураль к Хомину, — составьте списки, что там кому, и проследите.
Легкий шум прошел по собравшимся.
— Часть скота надо в лес угнать, — добавил Устим. — Дойных коров раздайте, а молодняк — в лес. Подальше от чужих глаз.
— А «ХТЗ» куда? — отозвался тракторист. — Что с ним делать?
Гураль задумался.
— Может быть, тоже куда-нибудь в лес, — предложил Хомин.
— Пусть пока постоит, — неуверенно проговорил Гураль. — Подумаем… Пусть пока так… Ну, а теперь по домам, — сказал уже тверже. — Только без шума, без суеты.
Глушане прощались с трактором. Вычищенный, отдохнувший после весенних работ, он стоял на берегу озера, поблескивал в лучах заходящего солнца. Тракторист с несколькими мужчинами заботливо обматывали машину веревками.
— Хороший был конь.
— Исправный! Только-только разгулялся!
— Сколько бы мог еще земли вспахать…
Озабоченные, прибитые горем люди, они говорили о тракторе, будто о близком человеке, который за короткую жизнь сделал им столько добра, принес столько радости. И наверняка каждый вспоминал день — это было в прошлом году, ранней весной, — когда он прибыл к ним прямо со станции Копань, пришел своим ходом, новенький, хотя и чуть-чуть забрызганный грязью их вязких дорог. Сколько принес он с собою волнующих надежд! Каким радостным эхом отвечала его рокоту разбуженная пуща!..
— Может, смазать его получше, хлопцы, а? Все же вода…
— Точно.
— Микола! — крикнул один из мужчин трактористу. — Дай-ка сюда еще мазуту!
— Не мазуту, а солидолу, — поправил другой.
— Или солидол там… Давай!
Тракторист достал из-под сиденья банку, и они начали дружно смазывать машину.
— Вот здесь самое главное — мотор, — показывал тракторист. Массивный сизоватый корпус покрывался толстым золотистым слоем солидола.
— Вот так… Теперь его ничто не возьмет…
— Простоит до нового пришествия.
— Когда это будет?
— Будет…
— Раньше времени не станется.
В вечерней, мглистой высоте прошли самолеты. Отсюда, с земли, они казались маленькими, игрушечными и совсем не страшными. Они пролетели на восток.
— На Копань. Наверное, там уже и места живого не осталось. Летит и летит.
— Это не на Копань, дальше!
Солнце разлилось по всему горизонту.
— Ну, давайте кончать, — сказал тракторист. — Как только начнет тонуть, натягивайте.
Он уже пошел было садиться за руль, на сиденье, но его окликнули:
— Подожди, Микола! Хоть сейчас не спеши. На вот, закури.
Непослушными пальцами свертывая цигарку, раскуривали, глубоко затягивались дымом. И снова в мыслях вставал тот далекий мартовский день, их первая радостная весна. Весна, необычная, волнующая весна, без Чарнецкого, без солтыса, без переднивка…
— Ну, тронулись, — бросив цигарку, сказал тракторист.
Он легко вскочил на сиденье, открыл ящик, повыбрасывал на землю ключи, масленки, гайки. Мотор долго не заводился, чихал, будто чувствовал, что сейчас, через несколько минут, он заглохнет надолго. Наконец на очередной попытке он все же набрался духу, зарокотал мощно, ритмично. Тракторист проверил сцепление, машина плавно тронулась навстречу своей гибели… остановилась.
— Давай, что стал?
Тракторист веревкой закрепил руль, снова включил скорость и, доведя машину до самой воды, спрыгнул.
— Натягивайте равномерно… чтоб не перевернулся.
«ХТЗ» плавно пополз в воду. Погрузились колеса, вода тронула картер…
— Натягивайте! Натягивайте!
Трактор, словно захлебываясь, чмыхнул в последний раз и пошел на дно. Забурунилась тихая озерная гладь, тихо пошли по ней волнистые круги. Над местом затопленного трактора поплыли широкие маслянистые пятна. Они долго еще колыхались на воде, пока мелкая волна не отнесла их к камышам…
В полночь, когда Глуша уже кое-как улеглась, в одном из залов бывшего дома графа Чарнецкого, где размещалось правление артели, собрались старые подпольщики, сельские активисты. Их было человек пятнадцать: Гураль, Иван Хомин, Андрон и Андрей Жилюки, Роман Гривняк… Пришли сюда и Софья с ребенком, и Яринка.
Яринка пригнала стадо как раз тогда, когда на площади поднялась стрельба. Она встретилась около сгоревшего двора с Софьей, которая забежала туда, рассчитывая, что кто-нибудь именно сюда принесет ее ребенка. Пока они загоняли во двор корову, начавшую одичало упираться при виде сгоревших хат, в это время и появилась с Михальком на руках Катря Гривнячиха.
— Стою я ни живая ни мертвая, — рассказывала тетка Катря, — вдруг вижу: передают его из рук в руки. Хотя б, думаю, не закричал малыш. Взяла его, прикрыла платком, а он прижался ко мне, бедненький, и молчит. Держу его, дрожь меня бьет, смотрю по сторонам: видят или нет меня эти душегубы? А тут как застрочит, как побегут люди кто куда… Я к себе… Лечу и думаю: куда же бежать, где вас искать? А тут и вы…
Увидев мать, Михалёк потянулся к ней, заплакал. Не выдержала и Катря, тоже в слезы.
— Куда же нам теперь? — подумала вслух Софья.
— Пойдемте к нам, — говорила сквозь слезы Катря.
— Не будет нам жизни в селе, не будет, — сокрушалась Яринка.
— Давайте я хоть корову подою, — беспокоилась Катря. — Где подойник?
— Всё там, — кивнула Софья на пепелище. — Берите, Катря, корову к себе, нам уже не придется ее держать… Яринка, помоги тете Катре.
Вместе они пригнали корову на гривняковский двор. Софья покормила ребенка да и сама перекусила вместе с Яринкой, а когда совсем стемнело, берегом пошли в правление артели.
…Не пришли сюда только Анна и Судник. Анну Устим не смог уговорить оставить хозяйство и идти в отряд. Она наотрез отказалась: немцы, мол, теперь не скоро в село придут, а куда с детьми тащиться? Судник же сослался на грыжу…
Большая керосиновая лампа стояла посредине стола. Света ее едва хватало, чтобы рассеять темноту в центре зала, а в углах прочно залегла негустая темень. В комнату часто заходили люди, дверь то открывалась, то закрывалась, и лампа каждый раз помаргивала.
Андрон сидел на старом, потертом диване. Рядом, прикрытый одеялом, спал Михалёк, а в ногах у малого дремала Яринка. Девушка то и дело вздрагивала, тревожно вздыхала, иногда всхлипывала. Здоровой рукой Жилюк слегка поглаживал внука и до боли в глазах смотрел на огонь в лампе. Слабенький, тусклый, он разгорался в его воображении бешеным пламенем, буйствовал пожаром — тем, что испепелил его кровное добро, погубил его жену. Чувство неуемной ненависти, мести овладело им. О, теперь ему очень хочется жить!.. Жить, мстить и дождаться того светлого дня, когда душегубы будут истреблены, а люди снова возьмутся за плуг.
Подошла Софья. Утомленно опустилась на стул напротив Андрона.
— О Степане не слыхать? — с трудом проговорил Андрон.
— Нет!
— Андрейка где?
— В дозор пошел, их к дороге послали…
Нервный, быстрый в движениях, вошел Гураль.
— Хомин здесь? — спросил он с порога.
От стола отделилась фигура. Они наскоро о чем-то посоветовались, Хомин вышел, а Устим снял с плеча и положил на стол автомат. Попросил ближе пододвинуть лампу. Двери снова раскрылись, и в сопровождении Хомина вошли четверо незнакомых. Это были красноармейцы. Один прихрамывал, у другого белела забинтованная голова.
— Садитесь, товарищи, — пригласил Гураль.
Красноармейцы тихо обронили «здравствуйте», положили у стены вещевые мешки, поставили около них винтовки. Они были молодые, — видно, недавнего призыва.
— К нам пополнение, — обратился Устим к присутствующим. — Примем?
— А почему же, места хватит.
— Откуда? — сразу же послышались любопытные голоса.
— Знакомиться будем потом, — предостерег Гураль. — Они отстали от своих. Раненые, — добавил зачем-то. Устим снял фуражку, пригладил влажные волосы. — Внимание, товарищи!.. — Так он начинал заседание исполкома, так обращался к людям на собраниях. — Враг нагло напал на нашу землю, нарушил наш мирный труд. Части Красной Армии отступают. Мы остаемся. Нам будет трудно, но нам к трудностям не привыкать. Отныне мы — партизаны, мстители. А партизанский закон один — бить врага! Бить везде и всегда, чем попало и как придется… Прошу всех встать, — предложил Гураль и, когда все поднялись, продолжал: — Перед лицом смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной, перед лицом своих родных и близких, товарищей, друзей поклянемся…
— Клянемся! — единодушно, глухо повторил зал.
— …быть честным, самоотверженным в борьбе и беспощадным к врагам…
— …беспощадным к врагам!
— …Кровь за кровь!
— Смерть за смерть!
Какое-то мгновенье стояли в молчании, мысленно повторяя клятву: «Кровь за кровь! Смерть за смерть!..» Сколько раз в своей жизни приходилось им сталкиваться со смертью. Сколько смертей, крови и слез видел их обездоленный край! Кажется, в самом пекле не встретишь столько, кажется, могла бы уже обессилеть душа и пропасть надежда. Но в сердцах этих людей — ни страха, ни усталости, ни колебаний. Они пылали презрением и злобой к врагу, жаждой мести и победы.
Пуща бушует в бурю!
IV
Новенькая, видно недавно снятая с железнодорожной платформы, полуторка, обгоняя подводы, возки с небогатым домашним скарбом, пробилась к северо-восточной окраине города и помчалась большаком. В кузове грузовика на прикрытых брезентом ящиках, сундуках и каких-то мешках полулежали несколько вооруженных мужчин, а рядом с шофером, придерживаясь за сиденье и подскакивая на ухабах, сидел Степан Жилюк. Дорога была изрыта воронками авиабомб, но шофер не сбавлял скорости. Ему махали руками, чтоб остановился, подвез, вслед машине посылали проклятия, но сидевшие в ней словно ничего этого не замечали. Однако так только могло показаться. На самом же деле и шофер и его сосед с болью в сердце обгоняли толпы сгорбленных под тяжелыми узлами беженцев, шедших и шедших по обочинам дороги; они бы рады были оказать услугу, помочь, если бы не груз, который они везли, не строжайший приказ — доставить быстро и в полной тайне. В кузове автомашины были документы особой важности, партийный архив. Эти документы надо было доставить в Новоград-Волынск, куда временно перебазировались областные организации. Ответственного за доставку, Степана Жилюка предупредили в райкоме партии: как можно быстрее вырваться из опасной зоны! В сознании Степана все еще звучал голос секретаря райкома: «Это особо ответственное поручение, товарищ Жилюк. Дело государственной важности. Вас ждут в Новоград-Волынске. В случае опасности, — в самом крайнем случае, товарищ Жилюк, — все сжечь. Вы меня поняли? В самом крайнем случае!..»
Машина мчалась по полям и перелескам, минуя придавленные тревогой села. Поникшим и грустным хлебам снились косари, местами обозначалась золотистая зрелость пшениц, серо-голубым маревом колыхались льняные массивы. Степан смотрел на эти поля, и сердце его наполнялось горячей, жгучей болью. Такое добро, такое богатство! Первый коллективный урожай. На диво щедрый. И кому же? Кому достанутся их труды, плод дневной и ночной работы, тяжелых усилий и стараний всех людей, их горячего пота, их жизни? Чьи руки отберут у них этот каравай? Неужели те, протянувшиеся из-за Рейна или Одера?.. Нет! Никогда этому не быть! Пусть лучше все это погибнет в огне и дымом пойдет, нежели попадет в эти обагренные невинной кровью наших людей руки. Он видел эти руки, он чувствовал их на своем горле — и здесь, на родной земле, и там, в далекой Испании. Руки убийц, насильников и грабителей не должны прикоснуться к освященному трудом хлебу. Нет, скорее все предадим огню…
До города оставалось километров тридцать, когда они догнали шедшую по дороге колонну военных. В ней было много раненых. Поддерживая друг друга, они шли за несколькими устланными соломой возами, на которых лежали тяжелораненые. Шофер сбавил скорость и посигналил. Несколько солдат, замыкавших эту процессию, оглянулись и чуть посторонились, остальные и не думали освобождать проезжую часть, словно сигналы шофера их не касались. Пришлось посигналить еще раз, настойчивее. Откуда-то от передней подводы послышалась команда: «Принять влево!» — и бойцы посторонились. Машина прошла вперед. Она уже поравнялась с головой колонны, и шофер переключил скорость, как вдруг перед нею на дороге выросла коренастая фигура с автоматом в руках. Командир — Степан различил в петлицах расстегнутого воротничка его разорванной гимнастерки несколько кубиков, — грудь и шея которого были опутаны бинтами, стоял твердо и решительно, слегка расставив ноги.
— Останови! — сказал Жилюк шоферу.
Полуторка остановилась. Степан вышел из кабины.
— Куда торопитесь? — хрипло спросил запыленный, с красными от бессонницы глазами командир, так и не сходя с места.
— Едем по заданию, — спокойно ответил Жилюк.
— Спрашиваю: куда? — голос командира прозвучал тверже. Колонна остановилась, и машину начали окружать раненые.
— Дорога одна. Прошу не задерживать.
— Успеешь. Что в машине?
Жилюк попросил командира отойти в сторону.
— Говори здесь. У меня от них секретов нет. Довольно! Досекретились! Теперь вот боком эти секреты вылазят. Говори, что хотел.
Степана задело за живое.
— Командир Красной Армии, а ведете себя как лихой человек на большой дороге. Не только вам больно. И не только свежие раны болят. — Он сказал и почувствовал, как сильно забилось его сердце. — Не надо так, товарищ… — добавил сдержаннее. — У нас одно общее дело. Но сейчас, к большому сожалению, не могу помочь. Поверьте. Важное задание и очень срочное.
Командир нахмурился и, не говоря Жилюку ни слова, крикнул:
— Ярыгин! Садись в кабину! Отвезешь раненых в город и возвратишься назад. Быстро! — Он отстранил Степана. — Тяжелораненых в кузов! — скомандовал. — С подвод не снимать!
Сидевшие в кузове грузовика молча приподнялись и взяли карабины на изготовку. Положение обострилось до самых крайних пределов.
— Оставьте! — крикнул им Жилюк.
К машине начали подводить тяжелораненых. Их поддерживали товарищи.
— Хорошо, — проговорил Жилюк. — О вашем поступке я доложу кому следует.
— Ты останешься здесь, пока не вернется машина. Хлопцы! — крикнул он. — Под арест этого умника!
Никто не торопился выполнять его приказ.
— Оружие есть? — приставал командир к Степану, чуть ли не упираясь ему в грудь дулом автомата.
Степан уже хотел выхватить у него автомат, как вдруг из-за небольшого леска, который только что миновали, вылетели два штурмовика и полоснули свинцом по дороге. Пули хлестко ударили впереди и где-то сбоку. Самолеты с ревом пронеслись над головами оторопелых людей, взмыли в небо, развернулись и снова пошли в пике на колонну. Солдаты бросились на землю, поползли в кюветы. Брошенные возницами лошади испуганно рванулись с места и, грохоча колесами, понесли по дороге полные проклятий и стонов подводы. У машины никого не оказалось, убежал и Ярыгин, уже было садившийся в кабину, не было видно и командира.
— Поехали! — окликнул Жилюка шофер.
Жилюк стоял, прижавшись к борту машины, печаль, и гнев, и возмущение жгли ему сердце. Он бы сам, собственными руками, нес этих тяжело раненных бойцов. Он хорошо знал, что такое раненые.
— Степан Андронович! — уже приказным тоном крикнул шофер. — Быстрей!
Хлопнули дверцы кабины, мотор зарычал, и машина рванула вперед.
— Вот влипли! — ругался шофер, прибавляя газ.
Проехав около километра, они снова увидели истребитель. Он шел прямо на них.
— Стоп! — крикнул Степан. — Ложись в кювет!
Едва успели они припасть к траве, как пули уже взвихрили землю у самого радиатора. «Разрывными бьет», — приподняв голову, подумал Степан. Истребитель, просвистев над машиной, пошел вдоль дороги. Как раз там, где были подводы с ранеными, он снова харкнул огнем, и Степан увидел вздыбленных и падавших лошадей, перевернутые, объятые пламенем повозки и мечущихся людей.
Тем временем в небе появился еще один самолет. Снова легли в кювет. Степан наблюдал, как штурмовик плавно развернулся и пошел в пике на их полуторку. Молнией сверкнула короткая очередь. Хрустнуло ветровое стекло, пули гулко ударили по кабине. Из-под кузова поплыли небольшие клубы черного дыма. Жилюк бросился к машине. Первым порывом его было снимать с машины ящики с документами. Он даже крикнул своим, чтобы помогали. Но истребитель снова заходил на цель, и они снова ложились на землю.
О, Степан помнит этих хищников! Не раз приходилось вот так лежать еще там, на полях Испании, в далекой Испании. Они не выпустят жертвы, эти стервятники, им понятен только один язык — огонь. Их из винтовки не достать, их бы встретить из крупнокалиберного. Да где его возьмешь?
Под машиной раздался металлический треск, резко запахло бензином, и вся полуторка окуталась черным дымом.
— Товарищ Жилюк! Вы не ранены? — спрашивал один из охранников, подбегая к Степану. — Степан Андронович! Вы живы? Товарищ…
Жилюк медленно поднялся. Встали и остальные. Все с удивлением смотрели на него. Степан понимал их. Однако ни их взгляды, ни чувства уже не в состоянии были что-либо изменить. Конечно, он бы успел еще сбросить эти сундуки и ящики на землю, но куда девать их потом? На плечах не понесешь, на дороге — даже при охране — не оставишь, а на транспорт никакой надежды.
И все же он не выдержал, бросился к горящему кузову. За ним охранники.
— Эй, вы там… вашу мать… чего копаетесь? — услышали они резкий голос за своей спиной.
Оглянулись. На обочине, рокоча мотором, стоял мотоциклист.
— Слепые вы, что ли? Вон, — кивнул он на поля, — десант!
Бросив эти слова, мотоциклист помчался к колонне военных, к подводам.
В небе густо вспыхивали белесые облачка парашютов, маленькие фигурки людей, висевшие под ними, медленно опускались на землю. Десантники приземлялись неподалеку, сверху, на лету, кропили землю свинцом. Там, где они приземлялись, разгоралась перестрелка. Видимо, туда подоспели местные отряды истребительных батальонов.
Степан понял, что это и есть тот самый «крайний случай», когда надо уничтожить все документы.
— Сжечь! Все в огонь! — крикнул он охранникам.
Ударили приклады в начавшие гореть ящики и сундуки, полетели в огонь папки и разбитые в щепы деревянные обломки. Пламя с ревом и остервенением пожирало все, словно старалось помочь Степану.
Когда все сгорело дотла, послышалось какое-то неясное, но грозное гуденье мощных моторов, а вскоре на небольшой возвышенности, по которой вилась дорога, показались танки. «Поторопились сжечь, — мысленно упрекнул себя Степан. — Ведь упросил бы танкистов, они бы выручили».
Поравнявшись с колонной военных, танки остановились. Жилюк обрадовался, что раненым будет оказана помощь, а фашистским воздушным десантникам теперь крышка. Танки как следует прочешут всю местность. Жилюк даже не мог сразу понять, зачем танки открыли такой бешеный пулеметный огонь, но когда раненые бойцы начали падать, скошенные пулеметными очередями, когда до него донеслись предсмертные крики людей, тогда только он понял весь ужас случившегося…
V
После того, первого посещения немцы в селе довольно долго не показывались. Они словно забыли и ту встречу, которую им оказали глушане, и проводы, и исчезнувшего солдата. Кругом, в соседних селах, они чинили разбой — жгли, грабили, стреляли и вешали, — а Глуша стояла, словно откупилась от душегубов своей первой жертвой и первыми пожарами. Стояла, как завороженная от бед, как забытая, словно дороги к ней позарастали. По утрам, как в далекие мирные дни, над Глушей вились сизоватые дымки, протяжным скрипом перекликались колодезные журавли, позвякивали ведра, глухо стучали о колодезный сруб тяжелые дубовые кадки, а по вечерам на болотах слышалась неистовая музыка лягушек.
— Ох, не забыли они нас, не забыли, душегубы! — поговаривали глушане, с опаской провожая эшелоны чужих самолетов, что изо дня в день плыли и плыли на восток.
Говорили, прислушиваясь ко всему, что творилось в мире, и исподволь, с оглядкой и размышлениями, возвращались к хозяйствованию. Как бы там ни было, а не пропадать же добру. Рожь какая! А ячмень! Кто ж их растил? Этими вот руками и пахалось, и сеялось. Так зачем же труду пропадать?.. И тянулись крестьянские сердца к хлебам. Жали, косили, как только могли, таскали готовые уже полукопны в свои дворы, обмолачивали, а солому с досадой отвозили назад в поле, там жгли, чтобы не видно было, кто сколько взял. А как же! Они знают цену насущному. Помнят и голод, и экзекуции. Еще не успели отвыкнуть, не забылось, чем оно пахнет, бесхлебье.
Приковылял и Андрон к своему двору. Не хозяйничать, нет, пусть оно теперь все пропадет, пришел просто посмотреть. Живет он теперь — там же и Софья с малышом, и Андрей (Яринка в лесу со стадом) — в бывшем имении, занимает просторную комнату, в которой, правда, ни койки, ни скамьи, ничего нет. А если подумать, то и зачем теперь это добро? Не сегодня завтра снова налетят эти антихристы, рано или поздно, холера б их побрала, все равно идти в пущу. А туда много не возьмешь. Хорошо хоть коровушек отогнали туда, — черта лысого найдут их швабы. Оно, конечно, не помешало бы и одежду кое-какую прихватить, которая потеплее, потому что эта песня, видно, надолго… Впрочем, поживем — увидим.
Андрон заглянул в хлев — единственное строение, оставшееся на его дворе, постоял на пороге, равнодушным взглядом окинул стены. Пусто, ничего нигде нет. Торчали здесь у него под крышей и долото, и буравчик, и заготовленные зубья для грабель, черенок для косы и всякая утварь, — все утащили. Кто-то пошнырял здесь. «Хозяйствовать, холера, собирается», — плюнул Андрон и притворил дверь. О его ноги потерлась и жалобно замяукала кошка. Старик посмотрел и вздрогнул: на кошке обгорела шерсть. «А, сгинь ты, холера!» — и отбросил животное ногой. Кошка отскочила, уже молча села и долго-долго смотрела на Андрона. Он обошел ее, как что-то поганое, заразное, и поплелся на огород. И здесь непорядок: кто-то и здесь побывал — кусты картофеля подкопаны, потоптаны огурцы. «Чтоб тебе руки-ноги повыворачивало!» — выругался Андрон. Не жаль ему ни картошки, ни огурцов, но зачем же портить, переводить? Доспеет — тогда и бери, ешь, хоть тресни.
Обозленный вышел на улицу, направился к Гривняковому двору. «Скажу Катре, пусть все же присматривает. Пригодится. Текля так старалась…» От виденного на своем дворе, от воспоминаний о Текле больнее заныла рука, та, раненая. Андрон обхватил ее здоровой рукой, прижал к груди и так шел, сердитый, согнувшийся.
— Добр’здоровья, Андрон!
«Кто это? Судник?.. Холера чертова! Нужен ты мне, подлая душа, со своим здоровьем!» А все же сдержанно, пряча гнев, ответил:
— Спасибо. Вам также.
— Чудеса! Ты уже выкаешь. С чего бы это?
— А хоть бы и с того, что вот у меня рука болит, ранена, а вы — слава богу. — Рубанул с ходу и, начав, уже не сдерживался дальше: — С того, что меня жгли, вешали, а вам хоть бы хны. А с чего бы это? Не знаешь? — перешел на «ты». — Отвечу, давно собирался сказать, а вот теперь только довелось. Тогда, при панской Польше, ты извивался, не знал, как выкрутиться, угождал и вашим и нашим, а теперь совсем… Грыжей своей отделаться хочешь, пыль в глаза пускаешь? Не выйдет, Адам, не выйдет.
Они стояли посредине улицы, оба крепко тертые жизнью, и перед лицом беды, навалившейся на них, высказывали один другому свои мысли, свои чувства.
— По-твоему выходит, что и меня надо было сжечь, повесить, — горько усмехнулся Адам. — А я не хочу, понимаешь. Не хочу — и все. Наборолся!
— Наборолся? — хмыкнул Жилюк.
— А что? Разве не таскали меня? Разве не в одной с тобою камере сидел?
— Точно, сидел. Хотя и сидеть можно по-разному… Что же теперь бежишь, если такой храбрый?
— Хватит! Конца-краю не вижу. И пилсудчики из меня жилы тянули, и николаевская крепко потрепала, и эта, как ее… Не-ет, хватит. — Адам согнулся, оперся животом на палку.
— Думаешь, на печке пересидишь?
— Но и не в болоте, слышишь. Поживу — посмотрю. Мне не больше других надо.
— Э-эх, человече! — сокрушенно молвил Жилюк. — Глупый ты, как я погляжу…
— Каков есть, переделывать поздно.
— Жалеть будешь, — продолжал Андрон. — Думаешь, это уже и все, на этом конец…
— Ничего не хочу ни думать, ни гадать, — стоял на своем Судник. — Попробую еще так…
— Вспомнишь мое слово, вот увидишь — вспомнишь.
— Дай бо, Андрон, дожить. Я тебе не враг, ты же знаешь.
Чем дольше говорили они и чем больше было в их словах правды, горькой правды, которую они не привыкли прятать, тем с большей силой возникала у них потребность в откровенности, прямодушии.
— Нам, слышь, нечего делить, — продолжал Судник, — мозоли у нас одинаковые. Но только поверь: не могу я… не могу! Видно, силы уходят. И еще чего-то не хватает… Чего — сам не знаю. Так меня все это подкосило. Хоть бы не кричали на весь свет: не допустим, разобьем… И вот на́ тебе!
— Сказано — вероломно, — проговорил Жилюк. — Веру, слово свое растоптал Гитлеряка. А на подлости и на кривде далеко не уедешь.
— А вот видишь, едут. Уже, говорят, под Житомиром, а там и до Киева рукой подать.
— В восемнадцатом еще дальше забирались, да едва ноги унесли. Так что смотри сам. — Жилюк не стал дальше пререкаться, кивнул на прощанье, пошел. Мол, было бы сказано, а там дело хозяйское.
У Гривняков не засиживался. Романа дома не было, да и застать его не надеялся — знал же, что он там, с Гуралем, — а Катря с девчатами веяла где-то, видно, в поле смолоченный ячмень, сушила на ряднах.
— Хотя бы наведался, помог чем-нибудь, — упрекала мужа Гривнячиха. — Так и жизнь пройдет: то он в армии, то в колхозном правлении целыми днями допоздна пропадает, а теперь…
Андрон зачерпнул пригоршней зерно, взял на зуб.
— Сырое. Смотри, как бы не проросло.
— Я же и говорю. Где-то в сухом месте надо спрятать, а где — кто его знает. Скажите ему, пусть выберет часок да забежит.
— Скажу, скажу, — пообещал Андрон. — А времени не теряй, выкопай ну хоть бы вот здесь, в сенях, яму да выстели ее. А сверху замажь глиной и заставь чем-нибудь.
— Заставлю, заставлю. Придется хитрить. Надо же будет чего-нибудь есть… А Софья пусть бы к нам переходила, — добавила. — Трудно ей там с малым. Не сварить, не постирать.
— Да и там, видно, долго быть не придется, — признался Жилюк. — Швабы вот-вот налетят.
Он посидел еще немного, выпил кружку холодного молока, попросил Катрю хоть изредка наведываться к ним на двор и ушел.
Иван Хомин возвращался из урочища Пильня перед вечером. Вместе с ним ехала в Глушу Яринка Жилюк. Девушка с неделю жила в партизанском лагере, помогала присматривать за коровами, а теперь соскучилась по Глуше, попросилась проведать своих. Выгулянные жеребцы легко несли выстланный свежим сеном возок, изредка на ходу, забавляясь, покусывали друг другу холки.
— А ну-ну-у! — покрикивал на лошадей Хомин и натягивал вожжи.
Жеребцы выгибали длинные шеи, грызли удила, переходили в галоп, и Хомин с трудом удерживал их. На перекрестке, где лесные просеки разбегались на четыре стороны, вдруг появился патруль. Несколько немцев и полицай явно поджидали подводу. «Вот так штука! — молнией мелькнуло в Ивановой голове. — Откуда они тут? Утром их и близко не было…» До перекрестка оставалось метров двести. Незаметным движением Хомин отодвинул к Яринке автомат, лежавший рядом с ним на сене, не оборачиваясь шепнул:
— Спрячь на дно, под себя! — И, слегка сдерживая лошадей, натянул вожжи.
«Конечно, сейчас лучше всего было бы свернуть в сторону да ударить по лошадям. Но куда? Кругом лес, чаща… Вот попался по-глупому. А может… — Он и сам не знал, к чему это «может», как оно их спасет. — Может быть, они сбились с дороги… До села отсюда километра три, если не меньше…» Хомин, доехав до перекрестка и на всякий случай кивнув чужеземцам, гикнул на лошадей.
— Эй, ты! — окликнули его. — Стой!
Трое с повязками на рукавах подошли к возку.
— Куда едешь?
— В Гуту, — соврал Иван. — Пан староста послал в город, дочь у него заболела, — кивнул на Яринку.
— Служишь у старосты? — допытывался полицай.
— Да нет, на своем хозяйстве, — словно оживился Хомин. — Советам капут, теперь можно жить. А вы, часом, не заблудились? — услужливо спросил он.
Эсэсовцы и полицай (он, видимо, был из фольксдойче) перемолвились между собой, обошли вокруг воза, осмотрели задок. Один из немцев остановился около девушки. «Догадается, захочет посмотреть» — думал, холодея, Хомин. Эсэсовец стоял, не сводил с Яринки глаз. Девушка смущалась, от волнения щеки ее пылали жаром. Это, возможно, и спасло их двоих. Солдат кисло улыбнулся, перевел взгляд на Ивана, что-то сказал. Хомин видел, что к нему обращаются, но ничего не понимал. Немец повторил, уже раздраженно, и протянул загорелую, с завернутым по локоть рукавом руку.
— Документ! — увидев его жест, крикнул полицай.
— А-а, документ? — закивал Хомин. — Какие же у нас документы? Паспортов еще не выдавали… не успели. А больше никаких.
Полицай перевел его слова, и эсэсовец окинул Ивана недоверчивым взглядом.
— Weg! — Немец нетерпеливо махнул рукой.
Хомин медленно передвинулся на край воза.
Не спуская с Ивана глаз, солдат кивнул полицаю, и тот начал торопливо обыскивать передок, переворачивая все вверх дном. К счастью, там ничего, кроме старой попонки и слежавшегося мешка, не было, все было там, под Яринкой, наткнись полицай хоть одним пальцем — и конец! Руки полицая уже добрались к ее ногам и коснулись ее маленьких ботинок… Эсэсовец тронул полицая: дескать, оставь. И руки, которые только что готовы были забраться под последнюю спасительную охапку сена и которые через час, два или десять расстреляли бы их, — эти руки поснимали приставшие к рукавам пиджака стебельки душистого сена, поправили на рукаве белую, с коричневой надписью полотняную повязку «сельская стража».
Эсэсовец что-то сказал полицаю, и Хомин сообразил, чего от него хотят.
— Партизаны? — переспросил он. — Кто их знает… Теперь разве мало шляется? Я-то не видал, а говорят, будто и десант уже около Копани сброшен. Кто их знает…
Эсэсовцы отошли, и Хомин словно ненароком тронул лошадей. Ему все еще не верилось, что так счастливо все обошлось, ожидал, что как только тронется, его снова окликнут, остановят, но… вот и десяток-другой метров проехали, а они молчат, будто забыли о нем, будто и не терзали его душу. Иван едва заметно оглянулся и, не увидев позади ничего подозрительного, тряхнул вожжами. Лошади только этого и ждали — взмахнули хвостами, фыркнули и побежали.
На этот раз повезло.
В небольшой впадине он свернул с просеки в лес.
— Ну, Яринка, надо нам пробираться в село, предупредить наших, — сказал. — Это они по наши души пришли.
Петляя между соснами, проехали еще немного и остановились.
— Дальше верхом поедем, — проговорил.
Хомин соскочил с воза, начал распрягать лошадей. Потом достал автомат, подсадил девушку на вертлявого жеребца, сам вскочил на другого.
— Езжай за мной, Яринка. Если что случится, любыми путями проберись в село, предупреди Гураля.
— Всех предупрежу, — ответила девушка.
Бездорожьем они проехали более километра, и, когда до Глуши оставалось уже совсем близко, внезапно раздался немецкий окрик:
— Стой!
— Беги, Яринка! — крикнул Хомин и ударил лошадь.
Вслед им застрочили автоматы, снова послышались требовательные окрики, но они углублялись в чащу. Ветви били по лицу, лошади путались в валежнике, им трудно было продираться сквозь кустарник. Вдруг жеребец под Яринкой осел на задние ноги, начал падать. Девушка едва успела соскочить с него, как он свалился на бок, жалостно заржал. Из его живота, вспоротого, видимо, разрывной пулей, хлестала кровь.
Яринка в страхе оглянулась, хотела окликнуть Хомина, но он уже терялся в кустарнике. Бросила быстрый взгляд на жеребца, — несколько минут назад он еще гарцевал, крутился, не желая подставлять ей спину, — и пустилась бежать во весь дух.
За селом, чтобы ни с кем не встречаться, Андрон повернул к Припяти, пошел по берегу. На той стороне реки показался всадник. Он, видимо, искал брод. «Не здешний, наверное, — подумал Жилюк. — Носит всяких… — Все же остановился. — Может, кто из наших? Время такое, что… А вдруг Степан или… Павло…» Старик даже оглянулся, боясь, как бы не выдать себя своими мыслями. Присмотрелся, напрягая притупившееся с годами зренье. Напрасно ждать на песке всходов, а сынов из походов. Сыны пошли далекими дорогами, отбились от родного порога, и неизвестно, живы ли они. А всадник уже перебрался на этот берег и торопил коня. «Вроде Хомин, — рассуждал Андрон. — Хотя нет, тот парой поехал… А все же, похоже, он… Чего же его здесь холера носит? Дорогу забыл, что ли?» Андрон уже хотел пожурить Ивана, но встревожился его видом.
— Немцы! Окружают! — еще издали крикнул ему Иван. — Идите в село, людей предупредите, пусть бегут… В лес… — А сам ударил коня каблуками в бока и поскакал дальше.
Андрон не успел ему ничего ответить, стоял в раздумье. Где-то раздался ружейный выстрел, и Жилюк со словами: «Что же я стою?» — быстро пошел в село.
…Усиленные дозоры возглавляемого Гуралем отряда самообороны выделялись только на ночь. А днем бойцы хотя и были наготове, но большая часть их занималась разными работами по хозяйству, потому что никто не снимал с них ни отцовских, ни сыновних обязанностей; тем более никто не обещал им хлеба, одежды, обуви, — все это надо было добывать и делать своими руками.
Гураль был возле кузницы, когда на подворье галопом влетел Хомин.
— Где Гураль? — крикнул, слезая с лошади.
Устим быстро пошел к нему навстречу. Узнав его, Иван повернул жеребца, соскочил на землю.
— Немцы в лесу! В той стороне… И полицаи! Едва вырвался.
Гураль выхватил пистолет, выстрелил. Из дома выбежали несколько человек.
— Бейте тревогу! Сбор!
От висевшего рельса в пространство понеслись тревожные гулкие удары…
…Гитлеровцы входили в Глушу со всех сторон, пытаясь взять село в кольцо. Небольшая группа мотоциклистов ворвалась первой и начала сгонять людей на площадь. Отряд Гураля успел переправить на другой берег Припяти Софью с малышом, Андрона, раненых красноармейцев, кое-что из продовольствия и имущества и незамеченным ускользнул от эсэсовцев. Когда немцы ворвались на подворье, то, кроме не нужного никому хлама, ничего не нашли. Поставив здесь, на бывшем графском дворе, свою охрану, они тоже направились в Глушу.
Многое видела пуща Полесья за всю свою многовековую историю. Топтали ее и пресловутые псы-рыцари, и литовские княжичи, черной бурей налетали на нее очумевшие от крови и степного раздолья ханские орды, но то, что принесли с собой в эти края душегубы в зеленоватых мундирах, пуща увидела впервые. Даже в песнях-легендах ничего подобного не сыщешь.
Глуша плакала, молилась, стонала, а гитлеровские молодчики прикладами своих автоматов выгоняли людей из хат. Выгоняли, не давая прийти в себя, кого в чем заставали. Всех гнали по улице к площади.
В селе стало как в раскаленном пекле, а ясный, солнечный день обернулся страшным судилищем.
Всех глушан согнали к сельсовету и окружили кольцом автоматчиков. На этих добрых и сердечных людей, потомственных хлеборобов, скотоводов, каждый свой день проводивших в нескончаемых трудах, были нацелены дула автоматов и пулеметов, установленных на машинах и мотоциклах. Достаточно было стоявшим на крыльце сельсовета гитлеровским вожакам махнуть рукой, как всех этих людей начали бы косить фашистские пули.
Но стоявшие на крыльце, в том числе и Краузе и Карбовский, уже известные глушанам своей жестокостью, не торопились.
Они говорили о том, что глушане оказались непослушными, убили несколько немецких солдат, которые несли им «новый порядок», цивилизацию, что по законам «нового порядка» их надо сжечь, смести с лица земли, но они этого не сделают, хотя все в их власти, они только покарают прямых виновников. («Господин офицер требует их назвать!» — кричал в толпу переводчик — иначе они возьмут заложников.) И еще объявили, что отныне у них будет своя, местная власть, управа — во главе со старостой господином Судником, что колхоз распускается, а имение графа Чарнецкого переходит в собственность хозяина («Не подох же, собака!») и управляющим в нем будет господин Карбовский. Все глушане, как всегда ранее, должны работать, слушаться, подчиняться законам великого рейха, потому что, дескать, самостоятельно, без досмотра и контроля, в силу своей непривычки к строгому режиму, а также флегматичности и прирожденной лени, они существовать не могут.
Гитлеровский офицер говорил. Глушане стояли в кольце автоматчиков и слушали. Слушали и молчали. В этом мятежном молчании чувствовались и вызов, и ненависть, и непокорность. Все было в этом глубоком людском молчании. В нем не было только самого нужного — смирения и согласия. Согласия с тем, что говорил обер-лейтенант Отто Краузе. Да и как они, хлеборобы с деда-прадеда, из самого корня, могли согласиться с тем, что они ленивы, нетрудолюбивы, равнодушны? А кто же за них еще с незапамятных времен выкорчевывал здесь лес, рыл канавы, осушал болота, по клочку распахивал здесь землю? И чьим хлебом, картофелем, мясом кормилась Европа? Чьи руки готовили здесь древесину, которая шла потом за бесценок на рынки чуть ли не всего мира?.. А то, что к трудностям, к суровому режиму привыкли, так в этом опять-таки захватчики виноваты. Люди работали, творили добро, любили солнце, труд, деревья и травы, а на них налетали, грабили, угоняли в плен, в рабство, жгли их дома, топтали посевы, убивали. Разве по их просьбе пришли сейчас к ним вооруженные до зубов чужаки, отняли у них покой да еще привезли на их земли изгнанного пана?
Так о каком же послушании и повиновении может идти речь? Чтобы снова работать на графа? Как пчелы бросают свои ульи, чтобы отогнать врага, так и они не потерпят разбойников в своем доме и будут гнать их со своей земли — пока не выгонят.
Стояли, слушали, думали… Малюсенькая частица человечества, капелька Истории. Капелька, которая могла бы родить сотни пахарей, сеятелей, колесников, которая могла бы дать миру прекрасных песенников или музыкантов… Сейчас в нее, в ее Вечность, целилась смерть.
— Господин офицер ждет, — каркал какой-то выродок. — Вы должны назвать зачинщиков.
А люди еще глубже опускали в сыпучий песок полные ненависти взгляды и молчали.
Тогда эсэсовцы вывели из темной пропасти дверей и поставили перед всеми девушку. Руки ее были связаны, на едва очерченной, еще детской груди висела дощечка: «Партизанка».
— Вы ее знаете? — спросил Краузе.
Конечно, они знали ее, Яринку Жилюк. Знали это личико — беленькое, с редкими веснушками, знали эти ясно-голубые глаза, как озера, как небо родного края, как васильковое цветенье, глаза девушек-полесянок; знали и косы с запахом лугов, мягкие, шелковистые…
— Чья она?
Знали и молчали. Им было невыносимо горестно смотреть на нее, невыразимо жаль ее нерасцветшей девичьей красы, ее недопетых вечерних песен. Жалость, однако, не разомкнула их уст. Знали: ничто уже не спасет Яринку, что настал ее последний час, откуковали ей кукушки, пропели и соловьи ей последние песни. С болью смотрели на нее, избитую и измученную, и тягостно было сознавать, что не они, старшие, взрослые, которые уже пожили на свете, первыми принимают мученическую смерть, а она, девушка, чья-то суженая, но еще ничья и потому всем им невестка, будущая мать…
Яринка стояла пленницей двадцатого столетия и чистотой своей, невинностью бросала укор всему миру, повинному в ее смерти. Не боялась ее, — нет, переступила эту черту еще там, в лесу, впервые попала в ее лапищи, понимала только, что умирает, так и не успев ничего сделать.
— Мы отпустим ее, если вы сознаетесь, — пообещал офицер.
Молчание.
— Как твоя фамилия?
Тишина.
— Мы повесим ее как партизанку. Так будем поступать с каждым, кто посмеет пренебрегать законами великого фюрера. — Офицер хайлькнул, выбросив вперед руку.
Эсэсовцы быстро накинули на Яринку петлю («Пойте, подружки милые…»), закрепили на тонкой белой шее, перебросили веревку через перекладину здесь же, на крыльце, подтолкнули девушку.
— Прощайте! — слабо крикнула Яринка.
— Прощай, дитя наше! — с плачем откликнулись женщины. — Прости…
Офицер снова вскинул правую руку, что-то сказал громко, резко, — так требовали их уставы, чтобы чувствовалась твердость, воля, непоколебимость, — и эсэсовцы, стоявшие все время наготове, бросились в толпу, хватали мужчин, толкали их к стене, одновременно оттесняя женщин и детей.
Земля застонала от боли, небо заплакало от горя…
Крыльцо сельсовета уже опустело, только сиротливо и скорбно качалось на нем тело Яринки, валялись обрывки каких-то бумаг да виднелись следы чужих ног.
Плач, суета, шум.
И внезапно — жуткая трескотня автоматов. Пули, изготовленные где-то на чужой земле, отлитые как раз тогда, когда глушане пахали и сеяли, растили детей, — сейчас эти пули густо сеяли смерть, не скупясь раздавали ее направо и налево. Никли, падали, хватаясь за исклеванную пулями стену сельсоветовского дома, полещуки — потомки давних древлян, в последних муках обнимали, подгребали под себя политую потом и кровью землю, целовали ее, как целуют родную мать, будто клялись ей в вечной верности и преданности…
Струя пуль хлестнула по крыльцу, зацепила тоненькое тело Яринки, и оно качнулось — тихо, одиноко, сиротливо.
…Да еще Иваны, Власы, Пимены — добрый десяток остался лежать у стены. Босые, обутые, в пиджаках, в сорочках, но все без шапок, с непокрытыми головами, они широко раскрытыми глазами, глазами, видевшими на своем веку все, даже смерть, смотрели в мир и еще, может быть, видели, как он клокотал, как бились в горести их жены и дети, братья и сестры и как потом, позже, пылали их разграбленные дома, их веками вившиеся гнезда.
Наверное, видели, если на этих глазах блестели слезы.
VI
Всего один час назад он еще мог считать себя полноправным гражданином, от которого что-то в какой-то степени зависело, а теперь… Теперь перед ним горькая судьба беженца, тернистый, покрытый неизвестностью путь отступления. Где фронт? Где товарищи, друзья? Наконец, где родные, семья? Что с Софьей и Михальком? Скорей бы добраться до местечка — там, наверное, еще свои. На попутной машине попробовать добраться до Новоград-Волынска, в штаб, в обком. Там он не останется, убедит всех, что его место в тылу врага, что с его опытом подпольной борьбы не следует находиться даже в рядах армии.
Степан нажимал на педали подобранного в дороге велосипеда. Немецкие танки, расправившись с колонной раненых, повернули обратно. Десантникам, видимо, не удалось прорваться в город, и поэтому Жилюк торопился туда, пока была такая возможность. Сопровождавшим его охранникам он посоветовал пробираться домой. Часа через полтора он проезжал мимо первых домов, стоявших на окраине небольшого местечка, и остановился под ветвистым явором у колодца. Он хотел напиться, передохнуть, а заодно и расспросить, как здесь и что слышно.
По улице, затененной ветвями вишневых садов и могучих осокорей, сновали люди. Среди них заметно выделялись беженцы. Навьюченные узлами, как попало одетые, они торопились к железнодорожной станции, волоча за собой детей, неся в глазах страх перед неизвестностью, во власти которой они очутились. По старой, разбитой дороге глухо тарахтели подводы, изредка, нагнетая страх, пыля, проносились машины.
Ведра у колодца не было, и Степан зашел во двор, решил попросить ведро у хозяйки. Веснушчатая, лет семи-восьми девочка, кормившая во дворе кур, увидев чужого, шмыгнула в хату и вышла оттуда уже вдвоем — с матерью. Жилюк поздоровался.
— Попейте у нас, — предложила молодая женщина. — Зачем вам с ведром таскаться? — добавила с улыбкой.
Жилюк напился, поблагодарил.
— Издалека? — поинтересовалась женщина.
— Да вроде не очень, — ответил уклончиво. — А вы здешняя, степаньская?
— Здешняя.
— Муж тоже здесь?
— Да где там! Как только это все началось, забрали — и ни слуху ни духу. Он там, где все мужчины сейчас.
Хоть и неопределенный, а все же упрек прозвучал в ее словах: «Он там, где все мужчины сейчас…» А ты, мол, бежишь, прячешься. Ему стало неловко перед этой ласковой, доброй женщиной, перед девочкой, неловко за свою очень уж мирную беседу. Ничего больше не расспрашивая, Степан пошел со двора. В воротах оглянулся — женщина и девочка печально смотрели ему вслед. «Может, велосипед им оставить? — мелькнула мысль, но тут же Степан сам себе возразил: — С ним будет безопаснее. Похоже, что местный житель, свой».
На вокзале яблоку негде упасть. Снова раненые, беженцы, женщины, дети. Толкотня, крики, плач… Наверное, ничего нет в мире более потрясающего, горестного, чем детский плач. Недаром палачи на допросах помещают вблизи заключенного его плачущего ребенка, чтобы жертва слышала и мучилась. Сколько наслушался Степан детского плача на своем жизненном пути! В той же далекой Испании… Когда они отступали, сколько видели бездомных, голодных, оборванных. А какими глазами смотрели на бойцов дети! Словно говорили: разве мы виноваты, что родились на свет? «Дядя, когда эти муки кончатся?» Жилюк поежился. Что это, показалось? Послышалось? Ведь так обращался к нему, к ним, бойцам интербригады, маленький амиго — друг, крестьянский паренек… Где-то под Гвадалахарой. В той богатой ласковым солнцем и оливковым шелестом стране. Такой щедрой и такой обездоленной. «Дядя, когда эти муки кончатся?» Жилюк не понимал его языка, но видел, чувствовал сердцем, что мальчик спрашивает именно об этом. По крутой горной дороге он толкал перед собой небольшую тележку с домашним скарбом, толкал навстречу неизвестности, в далекий, манящий и — как казалось ему — спасительный мир, а мир тот налетал на него колючей проволокой, жерлами орудий, дулами винтовок и пулеметов… Где он теперь, тот ребенок, тот подросток, попавший в гигантскую катастрофу человек? Чем закончился его путь, что нашел он там, в конце каменистой горной дороги?
«Дядя, когда…»
Когда?
«Когда ты вернешься?»
Перед Степаном вмиг выросли Софья с Михальком. Он видит его ручки, его заплаканные глаза. «Когда ты вернешься?..» И то грозовое орудийное утро. И родной двор. И слова матери у новой хаты: «Идешь, сын?..» Степан круто повернул велосипед, поехал от станции. «Может, машина попутная попадется. Хорошо бы — военная».
Не успел он отъехать и сотни метров, как небо засвистело, истошно завыло и один за другим загремели взрывы. Бомбили станцию. Там, где он только что стоял, рвались фашистские снаряды и бомбы. Жилюк зашел во двор, чтобы переждать бомбежку и обстрел, но самолеты носились над местечком, над станцией, над дорогами, обильно поливая свинцом улицы. До слуха донеслось тяжкое рокотанье танковых моторов. Степан понял — танки тоже ведут огонь по местечку. Значит, не наши. И еще понял, что тогда танки не просто ушли, а подобрали десантников-автоматчиков и теперь идут с ними сюда. «Бежать! Бежать, пока не поздно! — стучала кровь в виски. — Может быть, еще вырвусь». Быстро вывел велосипед со двора и покатил вдоль заборов, узеньким, вытоптанным кирпичным тротуаром. «Скорее бы на окраину! Да какая дорога туда ведет?»
На перекрестке улиц стояли несколько человек и о чем-то оживленно беседовали. Это было видно по их жестам. При появлении Степана приумолкли, явно заинтересовавшись им.
— А кто ты такой? Откуда? — не отвечая на приветствие Жилюка, спросил высокий, одетый в офицерский мундир старого покроя мужчина. В его голосе, в тоне чувствовались вызов, неприязнь и какое-то высокомерие. — Зачем тебе окраина? Бежишь?
— Не вашего десятка, мил человек, — бросил Жилюк.
— Так, так… — оторопел высокий.
— Стоите здесь, руками размахиваете, а добрых людей рядом грабят и… — подбирал слова, — и бегут мимо вас.
Он знал — иногда такой тон выручает.
— Это ты и есть добрый человек? — скептически спросил высокий. — Ну-ка, предъяви документы! — подошел вплотную.
— Зачем с ним тарабарить! — вмешался один из стоявших. — Там пусть разберутся.
Где «там», никто из них не пояснял, об этом можно было только догадываться.
— Я вора ловлю, который моих лошадей угнал, — не сдавался Жилюк. — Я честный хозяин…
— Пошли, пошли! — подтолкнули его. — Там разберутся.
Степан уже слышал, что в некоторых местах рядом с отрядами самообороны существуют созданные агентурой врага группы содействия оккупантам. Они создавались в основном из уголовных элементов и всякого рода тунеядцев, спекулянтов. Эти группы ставили своей целью с приближением гитлеровских войск препятствовать эвакуации советских людей и учреждений, вылавливать и выдавать врагу активистов, организовывать диверсии. Жилюк не сомневался, что попал именно к таким. И хотя он, идя к этому неизвестному «там», все еще роптал, притворялся обиженным, но уже выбирал удобный момент для побега. «Хуже, когда придется иметь дело со швабами, — беспокоился он. — Те долго возиться не станут. А, видимо, придется. Эти сами ничего не решают. Они, чтобы выслужиться, отца родного предадут…»
Вскоре они подошли к каменному, с увитыми плющом колоннами дому, возле которого суетились люди в штатском.
— Там кто-нибудь есть? — обратился к ним Степанов конвоир, кивнув на окна.
— Ты что, с луны свалился? — с удивлением посмотрел на него человек, подметавший ступеньки. — Все пошли встречать.
Над входом, осененным зелеными листьями дикого винограда, Жилюк прочитал вывеску: «Городская управа».
— Привели вот, — кивнул на Степана высокий. — Говорит, лошадей ищет. Активист, видно. Куда его?
— Пусть посидит вон там, — кивнул тот на стоявшую в углу табуретку.
Конвоиры ушли. Степан решил играть до конца роль обиженного.
— Вы еще пожалеете, это вам так не пройдет, — сказал с угрозой.
Подметавший окинул Степана равнодушным взглядом.
— Ты, голубчик, не баламуть. Мы пуганые. А если тебе и вправду так уж не сидится, то иди. Иди! Я тебя не видал, ты — меня. Будь здоров.
Степан вздохнул полной грудью лишь далеко за городом. Бешено стучало в висках, сердце, казалось, вот-вот лопнет, не выдержит такого сумасшедшего ритма.
Сидел, опершись о ствол дерева, расхристанный, усталый, с катящимися по лицу струйками пота. Удивленно смотрел назад, в сумерки, которые так медленно расставались с днем. Как он здесь очутился? Как вырвался из той страшной путаницы улиц? Удивительно, — им, казалось, как лабиринту, не будет конца…
Где-то недалеко послышался шелест. Степан вздрогнул, вскочил, насторожился. Шелест отдалился. «Вот и началось, — подумал Жилюк. — Сколько это продлится, чего будет стоить? Никто не знает!» Он стоял и с болью смотрел на восток, куда беспрерывно летели с тяжелым гулом самолеты, а по земле туда же ползли танки, автомобили, двигалась пехота. Там, в ярких заревах пожаров, от которых блекли звезды, кровавился небосклон. «Теперь выход один — назад. Там будет наш огневой рубеж, наш передний край…»
Жилюк отдохнул, отряхнул пыль с одежды, кое-как привел себя в порядок и медленно пошел, держа направление на запад.
ДИЧАК
«Холера ему в бок! Кто я такой?
Этот вопрос, тяжким кулаком саданувший в грудь под самое сердце, не дает мне покоя. Кто я такой? Еще вчера я был соловьем, который рвался-летел сюда, на Украину, вместе с солдатами вермахта нес ей свободу, новый порядок, а сегодня… Кто я или что я сегодня? Отступник? Маловер? Дичак? Так назвал меня профессор, тот комичный, плюгавый человечек. И показал же я ему дичака! Будет помнить и на том свете! А все же кто я и что? Я могу убить, повесить во имя нового порядка, я не остановлюсь ни перед чем, но скажите мне, дайте ответ…
Вот уже скоро два года продолжается война. Война… Неспособная к отпору армия панской Польши. Недолгие скитания в лесах. Плен и концентрационный лагерь под Люблином… Что это были за дни! Нас держали в бараках, полуголодных, плохо одетых гоняли на работу. Тогда свирепствовали болезни, люди мерли, как мухи. Как я там уцелел? Наверняка помогла давняя привычка к переднивкам, к нехваткам… Потом в лагерь зачастили вербовщики. Говорили: Советам скоро конец, надо плотной казацкой лавой вместе с Гитлером идти освобождать Украину. А потом… Нейгамер — какой-то маленький немецкий городок, специальная школа… Теодор Оберлендер. О, этот гитлеровец! Глаза, которые просверливают душу, постоянная улыбка… Кажется, с его губ вот-вот вспорхнет песня — такие они у него подвижные, живые, так всегда налажены. «Нахтигаль, — зовут его втайне, за спиной. — Соловей!» Он, конечно, это знает. Однако нисколько не обижается, — наоборот, всех назвал соловьями, весь свой батальон.
Кто же я такой? Соловей, нахтигаль, прилетевший в середине лета в родной край, или я и вправду, как сказал тот плюгавый профессор, дичак? Почему так часто вспоминаются мне отцовские слова, сказанные им в ту последнюю встречу в лесу: «Народ все видит. От народа никуда не спрячешься…»? Что он видит?»
«Соловьи» прилетели во Львов тридцатого июня. Неделю после начала кампании они находились в тыловых эшелонах, не ввязываясь в бои, главным образом сопровождая наспех сформированное гитлеровцами в Кракове правительство. Во главе этого правительства был Ярослав Стецько. Тридцатого же, как только вступили в город и кое-как разместились в помещении школы на Вулецкой улице, взводный Павло Жилюк срочно был вызван к командиру. В кабинете, полупустой классной комнате, где, кроме стола, десятка стульев и вывешенного пришельцами портрета фюрера, ничего не было, Павла Жилюка ожидали. Он вошел, поздоровался, привычно щелкнув каблуками и вскинув правую руку. Оберлендер, стоявший у окна, повернулся, окинул его взглядом, улыбнулся и выжидающе посмотрел на Лебедя, правительственного уполномоченного при батальоне.
— Друже Павло Жилюк, — шагнул к нему Лебедь, — поздравляю вас с возвращением на родину.
— Слава Украине! — выпрямился взводный.
— Героям слава, — спокойно ответил Лебедь и, пригласив Жилюка ближе к столу, продолжал: — То, о чем мы с вами мечтали, за что страдали, сбылось. По воле великого фюрера доблестные сыны Германии освобождают Украину от большевистского ярма. Сегодня мы есть во Львове, а завтра… завтра, друже, нас ожидает древний Киев — Днипро, вишневые сады, как писал батько Тарас, девушки-украинки… Вы, кажется, не женаты? Не так ли? О, я вам завидую!
Он умеет говорить, этот Лебедь. Не кто-нибудь другой, а он, один из тех вербовщиков, сагитировал Павла поступить в специальную школу в Нейгамере, в батальон. «Сгниешь здесь, сдохнешь, — говорил он тогда. — Думаешь, памятник тебе поставят? В списки святых внесут?.. За что страдаешь? Брось! Перед тобой будущее. Украина тебя ждет…» И он поддался, холера ему в бок, стал нахтигалем. Чего еще хочет от него этот Лебедь?..
Оберлендер, заложив руки за спину, нетерпеливо прошелся по комнате. Очевидно, ему надоедал разговор, которого он не понимал, да, пожалуй, и не хотел понимать. Человек действия, он предпочитал не слова, а дела.
Лебедь, заметив раздражение Оберлендера, поторопился перейти к главному.
— Всякая война есть война, — настороженно проговорил он. — И пока она идет, мы все в ее власти. Ударные отряды победоносного вермахта пошли вперед, а нам с вами, друже… — Он осекся, сразу не нашел подходящего слова и после паузы четко, твердо добавил: — Нам с вами предстоит закрепить победу. Советы успели понасаждать здесь свою агентуру, они имели здесь своих сторонников. Об этом точно говорят данные нашей разведки. Так вот, наша с вами задача — ликвидировать красную агентуру. Сейчас, немедля! Пока она не расползлась и не пустила корней.
Жилюк стоял, не представляя себе, что же ему надлежит делать.
— Район действия вашего отряда, — продолжал Лебедь, — улица Романовича. — Он склонился над лежавшей на столе картой — планом города, слегка провел карандашом. — Здесь, — и взглянул на Оберлендера.
Тот в знак согласия кивнул.
Жилюк, вместо того чтобы подтвердить ясность поставленной задачи или хотя бы как-то выразить это, стоял молча, недвижимо, и Лебедь вынужден был переспросить его:
— Все ли вам понятно?
Павло наконец откликнулся:
— Да, но…
— Вам что-то неясно? — предусмотрительно перебил его Лебедь.
— Имеется в виду агентура военная или, прошу пана, штатская?
Лебедь хмыкнул, перемолвился с Оберлендером и, поправляя галстук, сказал:
— Господин офицер, узнав суть вашего вопроса, интересуется: могли ли бы вы теперь определить, где военный, а где штатский агент?
Взводный пожал плечами.
— Наши друзья, — добавил Лебедь, — которые жили здесь при Советах, помогли нам. — Он достал из большого кожаного портфеля бумагу, подал Жилюку. — Вот список. Означенных лиц надо сегодня же арестовать и доставить в дом бывшей бурсы Абрагамовичей. Это совсем недалеко, в конце Вулецкой. Помните: никаких компромиссов. И постарайтесь без шума. С вами поедут несколько сотрудников гестапо. Операция начнется в час ночи. Повторяю: в час ночи, дом бурсы Абрагамовичей. Все понятно?
— Будет исполнено, друже Лебедь.
— Желаю успеха.
В коридоре Жилюк встретил еще нескольких командиров взводов, которые также прибыли по вызову.
…Крытая брезентом грузовая машина с опознавательными знаками СС — стрелами-молниями на бортах — в полночь затормозила у небольшого, тонувшего в зелени особняка на улице Романовича. Не успела машина остановиться, как из кузова один за другим спрыгнули на мостовую шестеро военных — младших чинов и солдат, — а из кабины, придерживая планшет, мешковато вылез офицер. Медленно подошел к подчиненным.
— Герр Жилюк! — негромко сказал он.
От группы отделилась фигура.
— Здесь, герр льётнант.
— Ми вьерна приехаль?
— Яволь. Мы днем были здесь…
— Разветка? — усмехнулся офицер.
— Ходили в разведку.
Офицер одернул френч, расправил плечи.
— Начинайт, — махнул рукой.
Железная калитка была закрыта, и Павел Жилюк, толкнув ее несколько раз и убедившись в бесплодности своих усилий, приказал открыть ее с той стороны. Один из нахтигалей мигом перемахнул через кирпичный забор, посветил там фонариком и с грохотом открыл железную дверь.
— Потише! — шикнул на него Павло.
Ровная, выложенная крупной плиткой дорожка вела к дому. Пахли маттиола и жасмин, ноготки и еще какие-то цветы, которых Павлу не удалось угадать. Удивительно! Кругом бушует война, вспыхивает то внезапным взрывом, то гулом самолетов в ночном неведомом небе, то — совсем рядом — резкой автоматной очередью, а они тайно, крадучись, как оборотни, шли по чью-то душу. А запах ноготков проникал Павлу в самое сердце, ему так захотелось припасть к ним лицом и вдыхать, вдыхать этот аромат. Он любил эти цветы. Любил еще с детства. Сам не знал почему. Были другие — лучшие, более красивые, — а ему почему-то были по сердцу эти, простые, неприхотливые. Их никто никогда не сажал, не досматривал — сами сеялись, сами и вырастали. Павло лишь, когда пололи грядки, просил не срывать их, не подрубать. Пусть растут! «Да пусть уж, пусть…» — улыбалась мать, а сама пропалывала ноготки, чтобы кустились, не цвели буйно. И росли они большие, ветвистые, цвели маленькими солнышками. Они несли Павлу в своем аромате лето, теплоту земли и еще что-то неуловимо волнующее.
Жилюк не выдержал, нагнулся, сорвал цветок. То ли холодновато-терпкий ночной аромат, то ли заливистый собачий лай, который внезапно разбудил настороженную тишину маленького, буйной зеленью отгороженного от мира уголка земли, оборвали неуместные воспоминания Павла, неизвестно, но он вздрогнул, уронил цветок, внимательным взглядом обвел двор. Кто-то из нахтигалей отделился, пошел на собачий лай, и вскоре там хлопнул одинокий выстрел. Лай утих.
Гестаповцы — их, не считая офицера, поехало двое — уже колотили в двери. На стук долго не отзывались, и немцы несколько раз саданули прикладами. Наконец за дверью раздались шаги и послышался сонно-взволнованный женский голос. Ему в ответ раздалось резкое:
— Гестапо! Открывайте!
Когда они ввалились в дом, неся с собой специфический запах нового военного обмундирования и тревожную неизвестность, там уже не спали. В дверях одной из комнат стоял и, казалось, ожидал их прихода высокий, сухощавый человек. Он был в халате, достававшем ему до пят, в домашних туфлях.
— Профессор Квитинский?
Человек слегка поднял голову.
— Да. Что вам угодно?
— Спрашивайт будим ми, — выпалил офицер. — Ми! Ферштейн?
Профессор с грустью посмотрел на лейтенанта.
— Етто ваш кабьинет?
Не ожидая ответа, офицер отстранил рукой хозяина, прошел в комнату.
— О-о! Гутен морген! — оскалился, увидев там всех членов семьи. — Гутен морген! — Он по очереди подходил и всматривался каждому в лицо. — Жена? Син?.. Ха-рашо… Оставайт здьесь. Гут. А ви, — вытаращил глаза на профессора, — ви пойдьот с нами. Ферштейн? — И смолк. Начал рыться на столе в бумагах.
— Куда вы забираете моего мужа? — дрожащим голосом спросила жена. Она была маленькая, полнотелая, глаза ее все время слезились. — Что он вам сделал?
— Я нье льюблью сантиментов, — сердито, не отрываясь от бумаг, ответил офицер. — Жилюк! Шнель! Бистро! — Кивнул на профессора.
— Одевайтесь, — приказал хозяину по-украински Павло. — Быстрее!
Профессор посмотрел на него с удивлением.
— Позвольте в другую комнату. Там одежда.
Павло пошел следом. Вошли в спальню.
— Как мне одеваться? — спросил профессор.
— Не знаю, — хмуро ответил Жилюк. — Этого не предусмотрено. Единственно, что я вам советую, — это побыстрее собираться.
Профессор, однако, не торопился. Он слишком долго, как показалось Павлу, выбирал сорочку, медленно надевал ее, что-то поправлял. Застегиваясь, спросил:
— Вы фольксдойч, господин… извините, не знаю вашего званья?
— Я украинец, с Волыни.
Профессор помолчал. Одевшись, — в хорошо подогнанном черном костюме он был еще стройнее, внушительнее, — подошел почти вплотную и, глядя прямо в глаза Павлу, сказал:
— Какой же вы украинец? Дичак, вот вы кто…
Павло оторопел. Он никогда не слыхал этого слова, не понимал его так, как понимал тот, кто его вымолвил, но тон, интонацию да и суть этого слова не так уж трудно было понять. Дичак… Дикий… Дикарь… «Как волк, прячешься от людей», — прозвучал в его памяти далекий голос отца. Первым делом Павло хотел было нажать на крючок автомата. Пусть пуля скажет. Почему он должен объясняться с этим захиревшим интеллигентиком? Сейчас война. А на войне последнее слово за оружием. У кого оружие, тот и прав. Жилюк уже было уперся в профессора дулом своего блестевшего «шмайсера», но неожиданный окрик — он исходил от офицера и касался именно его, Павла, — вернул взводного к реальной действительности, напомнил ему, кто он и какова его роль. «Я должен доставить… Бурса Абрагамовичей… С ним будут говорить другие. А я — только доставить… Я — только исполнитель, пес, дичак…» И он со злостью ударил профессора прикладом между плеч. Тот оглянулся, схватился за косяк, что-то прохрипел. Солдаты подхватили профессора под руки и повели к машине.
…Бандера волновался. Он даже не отдохнул после длинной и нелегкой дороги, после этих связанных с переездом во Львов хлопот, лишь кое-как отряхнув пыль дорог да немного потоптавшись перед зеркалом, помчался на Святоюрские холмы, в резиденцию своего давнего единомышленника Андрея Шептицкого. Часа полтора они с глазу на глаз обсуждали сложившееся положение, советовались по поводу утверждения новой государственности. Возвратившись, Бандера отдал распоряжение готовиться к торжественной церемонии провозглашения «самостийности» Украины. Он торопился. С тех пор как коварная — и такая нелепая! — смерть вырвала из их рядов Коновальца[9], в центральном проводе (управлении) началась грызня. Того и гляди, кто-нибудь подставит ножку. Взять того же Мельника. Не может примириться, что он уже не главный вождь. Трется около немцев, строчит на него доносы, принижает. Чудак! Неужели он всерьез думает, что переворот, или, как он именует, «диверсия», — дело его, Бандериных, рук? Неужели не понимает, что за ним, за Бандерой, стоят и Шухевич, и Курманович, и Стецько, и Лебедь, и много-много других молодых и старых деятелей ОУН?[10] Наконец, с ним Рихард Яри. А кому как не Мельнику знать, что Яри — безошибочный ориентир. Этот бывший старшина австрийской армии являлся не только ближайшим советником Коновальца, но и недреманным оком гестапо в ОУН… Да что говорить! Переворот был нужен. Потому что какая же фигура этот Мельник? Каковы его заслуги перед ОУН? Только и всего, что крутился, как песик, около Коновальца, а после его смерти вскочил в кресло. А где его связи? Где выучка?..
Церемония должна была состояться в шесть вечера. До начала оставалось еще несколько часов, и Бандера решил провести их в устроенной для него здесь же, в помещении ратуши, опочивальне.
День был жаркий, душный, уставшее тело требовало отдыха, и он, оставшись наедине, с наслаждением сбросил суконный, полувоенного покроя френч, разулся. Проходя мимо зеркала, остановился, посмотрел на свою невысокую, полнеющую фигуру. «Мда-а… Животик растет… — Вдруг выпрямился, выпятил узкую, впалую грудь, втянул живот, усмехнулся какой-то случайной мысли. — «Карлик с красными глазами кролика и трясущимися руками». Х-ха! Выдумает же! Что глаза покраснели, это верно… Но не беда, господин Мельник! Уйдут эти ночи, походы, и все наладится. А вот о руках — дудки, ошибаешься. Не дрожат они у меня, нет! Вот на́, посмотри, — вытянул вперед короткопалые руки с густыми волосами на запястьях. — Не дрожат… Не дрогнут они даже тогда, когда… в тебя будут целиться».
В раскрытое окно веяло душной теплынью, молодой тополь притих, как притих за окном полный неожиданностей город. Бандере почему-то вспомнилась Италия, голубая Адриатика, школа офицеров в Бреннере… О, это были райские деньки! Они учились стрелять, пользоваться взрывчаткой, овладевали шифром. А по вечерам… Нет, это действительно было что-то неповторимое! Южный город, экзотика. Красавицы женщины. И никаких забот, на всем готовом… Даже не верится! Пять лет всего прошло, а кажется — десятки… А синие озера Швейцарии, а Женева? Что ни говори, а он все же повидал свет, познал вкус жизни. В Польше, в Кракове, — это уже было не то.
Правда, и там ему не хватало разве что птичьего молока, но… не то. Там уже началась настоящая работа и грызня с этим Мельником…
Может быть, и заснул бы, сморенный усталостью и убаюканный воспоминаниями, да зашел порученец. Только теперь вспомнил, что велел ему приготовить торжественный туалет.
— Вы не спите? — спросил порученец, развешивая черный, уже немного потертый фрак и безукоризненно белую манишку. — Там господин Стецько. К вам хочет пройти.
Бандера нехотя поднялся.
— Погодя, скажи, пусть войдет.
— Слушаюсь.
Порученец вышел. Хозяин умылся, начал одеваться. «Карлик»… Ну-ну… Посмотрим, кто из нас чего стоит».
Премьер еще не провозглашенного «независимого» украинского правительства Ярослав Стецько-Карбович принес не совсем утешительные вести. Его попытки пригласить на церемонию господина генерал-губернатора или хотя бы вице-губернатора успехом не увенчались. Оба заявили, что заняты и что их присутствие будет лишь сковывать инициативу.
— Будет Кох, — добавил Стецько.
— Профессор теологии доктор Кох? — напыщенно, словно он уже стоял перед народом и провозглашал речь, спросил Бандера.
— Да, да! Считай, посланец правительства, самого фюрера, Ганс Кох, — дополнил Стецько.
— Что-то он нам напророчит, этот архипоп?.. Ну да, в конце концов, черт с ними. Х-хе! Обойдемся. Как народ? Соберется?
— Соберется. Куда ему деваться.
— А-а… — Бандера вопросительно посмотрел на Стецька.
— Да, — не давая ему закончить, продолжал тот, — я приказал Лебедю очистить весь район, прилегающий к ратуше. Нахтигали уже работают.
«Дипломат. С полуслова схватывает, — не без удовлетворения подумал Бандера. — Посмотрим, как дальше будет справляться».
Все обошлось хорошо. Собрались горожане. Их, новоиспеченных правителей, радетелей и защитников независимости Украины, приветствовали представители разных слоев, поднесли им традиционную хлеб-соль; в честь провозглашения и в их честь во всех церквах и соборах ударили в колокола; вечером, как и надлежало, члены кабинета и городская знать щедро погуляли на торжественном банкете. А на следующий день… О, будь он проклят, этот день! Недаром же, выяснилось, швабы избегали быть на церемонии. Их коварство — за рамками всякого понимания. Даже не дипломатического или юридического, а просто человеческого, обычного понимания.
«Западноукраинского правительства, возглавляемого Ярославом Стецько, не существует… Слухи о том, что представитель немецкого правительства доктор Кох приветствовал украинское правительство и украинский народ, неправдоподобны…»
«И кто говорит, кто заявляет? Сам вице-губернатор! Неправдоподобны… А, чтоб ты по такой правде на свете жил… Кто же его, этого Коха, за язык тянул?.. Украина! Украина! Кто ты для нас? Мать родная или мачеха? Кто мы такие! Сыны твои или пасынки? Что нам делать? Кричать на всех перекрестках, что немцы нас обманули? Кому это на радость? Уйти в подполье, в бункеры, в секреты? Против кого? За кого? За что?..»
Бандера метался, рвал пуговицы со своего пиджака, чуть ли не бился головой об стену. Обманули! А он надеялся, выслуживался… «Болван! Карлик с красными глазами!.. Х-хе! Ну, я вам! И в хвост и в гриву буду бить. Армию создам! Свою. Украинскую. Повстанческую…» Подошел к двери, саданул ногой. В тот же миг вошел порученец.
— Слушаю.
— Лебедя! — задыхаясь, крикнул Бандера.
«Лебедь вызвал меня несколько дней спустя. Мы наверняка еще ничего не знали. Только видели: в правительстве что-то неладно, там что-то творится… Потому что нас, несколько взводов, в том числе и мой, немцы назначили было для охраны, а теперь все отменили, никакой охраны, никаких постов нам вроде бы не доверяют. Кто же мы такие?
Лебедь долго выпытывал у меня о моих настроениях (будто он их не знает!), о моих родных (что я теперь о них могу сказать?!). Потом говорил о какой-то новой армии. Украинской, повстанческой. Как будто против москалей и против немцев. Что же, теперь перед нами уже два врага. Пойду ли я в такую армию? Чудак! Куда же мне? У меня теперь один выбор, одна дорога.
Пойду.
— Наша армия, — сказал Лебедь, — будет базироваться на Волыни.
Он будет возглавлять СБ — службу безопасности. Берет и меня под свою руку. Это что-то новое. Во всяком случае, так кажется. А в общем — холера ему в бок! Пусть начальство думает. Наше дело солдатское — что прикажут. А все же: кто я такой?
К-т-о я т-а-к-о-й?..»
I
На исходе лета сорок первого положение на фронтах чрезвычайно осложнилось.
Ударные танковые колонны Клейста из группы армий «Юг», сломив нашу оборону на линии Владимир-Волынский — Рава-Русская (острие этого удара прошло через городок Сокаль), повели наступление вдоль шоссе Луцк — Ровно — Житомир и одиннадцатого июля, на двадцать первый день войны, подошли к небольшой реке Ирпень, в двадцати километрах от Киева. Одновременно фашистские полчища развивали наступление на центральном направлении, к Москве; в начале августа их штурмовые подразделения, неся огромные потери, прорвались в районы железнодорожных станций Стародуб и Почеп, километрах в семидесяти западнее Брянска… Угроза, прямая угроза нависла над столицей Украины — Киевом. Однако героический город держался и наносил сильные удары по врагу. Расчет Гитлера на молниеносный захват древнего города провалился. Войска Юго-Западного фронта, в частности его правого фланга, под командованием генерала Кирпоноса, успешно отбивали бешеные атаки вражеских войск. Киев советские войска оставят лишь девятнадцатого сентября, по приказу Ставки. Смертью героев падут среди родных, вытоптанных войной полей Кирпонос и сотни, тысячи известных и неизвестных защитников Родины…
Волынь с начала военных действий стала глубоким немецким тылом. Двадцать третьего июня был оккупирован Владимир-Волынский, двадцать пятого — Луцк, двадцать восьмого — Ковель и Ровно… Правда, некоторые воинские части, отрезанные от главных сил, но сохранившие боеспособность, продолжали вести военные действия, но в конце концов большинство таких частей и подразделений разбивалось на мелкие группы, вливалось в партизанские отряды и укрывалось в лесах. Города же и села края заполнили специальные части, разные оккупационные службы, комендатуры. Их назначение сводилось к одному: насадить «новый порядок» и выкачать из населения как можно больше хлеба, мяса, сала, яиц… Для того чтобы удобней было грабить, захваченные земли разбивались на округи — гебитскомиссариаты.
Параллельно с немецкой военной администрацией к управлению краем привлекались разные местные «комитеты», «товарищества», «союзы». И, хотя они были мелкие, малочисленные, нередко членами их значились люди, часто насильственным или обманным путем вовлеченные в эти организации, они множились и будто бы даже крепли. «Украинская рада доверия на Волыни», возглавленная Степаном Скрыпником, бывшим адъютантом Симона Петлюры, а позднее верным слугой воеводы Юзефского, казалось, вот-вот достигнет вершины власти. Она уже издает призывы к населению, заклинает его активно помогать гитлеровским войскам, исподволь насаждает в оккупационных учреждениях своих «деятелей». Все шло как будто бы хорошо: фронты передвигались на восток, Волынь становилась все более глубоким тылом, Ровно превращалось в центр управления оккупированной Украиной. Все, казалось, преуспевало. Свои люди в гебитскомиссариатах в Луцке и Ковеле, свои управы по селам, своя полиция в униформе, с блестящими трезубцами на шапках-мазепинках… И вдруг… самостийное правительство во Львове распущено! Правительство, которого так ждали!
Известие ошеломило. В него трудно было поверить, но приходилось верить. Приходилось, потому что вслед за правительством началась чистка учреждений на местах. Оккупантам явно не нравилось, что их союзники из ОУН чувствовали себя на равной с ними ноге.
Пока дезорганизованная последними событиями бандеровщина перегруппировывалась, занимала новые позиции, на севере Волыни, в районе треугольника Сарны — Дубровцы — Рафаловка, заявила о своем существовании «Полесская сечь». «Гетманил» в ней Тарас Боровец, окрестивший себя Тарасом Бульбой. До войны, собственно до тридцать девятого, Боровец был мелким предпринимателем, собственником каменного карьера в Карпиловке, на Ровенщине. Перед самым приходом советских войск бежал в Германию, а поскольку предпринимателей там хватало и без него, Боровец поступил в гитлеровскую школу разведчиков. В начале войны вместе с немецким десантом приземлился у села Немовичи на Полесье, отобрал у местного учителя велосипед, на котором приехал в Сарны и сразу же был использован гитлеровцами: они назначили его комендантом окружной полиции. Новоявленный шеф, обрадованный таким доверием фашистов, принялся выполнять свои обязанности с исключительной старательностью. Вся округа содрогалась и стонала от его «стараний». Перед Боровцем гитлеровцы открывали самые заманчивые перспективы. Но его настолько потрясли эти перипетии с правительством во Львове, что он однажды, захмелевший от выпитой водки, сидя за столом со своими друзьями, неосмотрительно сболтнул:
— Не подчинюсь! Никому в руки не дамся. Сам буду властвовать!
Его дружки немедленно донесли об этом немцам. Боровца вызвали, дали ему понять, что без оккупантов он никто, объяснили ему, что цель у них одна. Боровец клялся, укорял себя за болтливость, обещал гитлеровцам доказать свою преданность на деле. И все же его освободили от шефства над полицией. Так, мол, надо. И здесь издавна свойственное ему самолюбие взяло верх. Он выполнил свое, хотя и под хмельком сказанное, слово — с самыми верными единомышленниками исчез из Сарн, а вскоре по округе разнеслась новость: в бассейнах рек Стир, Горынь и Случ, в затерянных среди лесов и болот хуторах возникла так называемая Полесская сечь.
…Бывший взводный нахтигалей, ныне старшина Копанской школы подстаршин Украинского повстанческого войска, Павло Жилюк во главе небольшого вооруженного кавалерийского отряда пробирался на север округи. Надеялся где-нибудь там под Камень-Каширском, куда не так часто суют свой нос гитлеровские ландтверты[11], раздобыть фураж и заготовить кой-чего на зиму. Школа существовала полулегально, под вывеской сельскохозяйственного училища, централизованного снабжения не имела, и надо было самим заботиться обо всем. Конечно, Павло Жилюк мог послать на эту несложную операцию кого-нибудь из своих подчиненных, но поехал сам, потому что ему осточертело пребывание в городе, где каждый день облавы и расстрелы, оглушительные взрывы неизвестно кем подкладываемых мин, где действует чья-то умелая, осторожная, сильная рука. С определенного времени, точнее — со времени тех львовско-вулецких расправ, когда его окрестили «дичаком» (Павлу запомнилось это слово), а может быть, с тех пор, как разогнали их правительство или не признали, он, перебравшись сюда, на Волынь, узнал, что у него уже нет матери, нет ни роду ни племени, — он начал смотреть на некоторые вещи по-иному. Это не было раскаянием, или голосом совести, нет! Просто Жилюк стал равнодушнее, даже немного пал духом, утратил живой интерес к происходившему.
Ехали лесом. Гигантские сосны стремились в высоту и там, вверху, где бездонно синело вытканное ромашковыми облаками небо, шептались с ветром. Издали, подсвеченные солнцем, они своими золотистыми стволами походили на лучи. «Лучи земли», — подумалось Павлу, и он даже обрадовался этой своей нежданной находке. О, как не хватает ему этого света, этого земного тепла! Как он истосковался по нему! По прогретой пашне, по прохладной, словно ласковый ветер, озерной водице, по теплому дождику… Даже по горьковато-сладкой вечерней пыли, которая, бывало, легким облачком стелется за идущим стадом и оседает на мягкие травы, на поникшие ветви придорожных ив… С каким чувством радости ступил бы он сейчас босыми ногами на землю или окунулся бы в свежие волны реки. Эх, холера ему в бок! Надоели эти казармы, терпкий солдатский пот, вонь портяночная, тошнотворный запах солдатских столовых. И как он до сих пор мирится со всем этим? И долго ли еще терпеть? Или всю жизнь вот так… дичаком?
Павло в сердцах хлестнул коня, тот от неожиданности вздрогнул, рванулся вперед. Тишина расступилась и отдалась гулким перестуком копыт. Отряд трясся в седлах следом за своим командиром. Вдруг Жилюк так же внезапно осадил коня. Перед ним была речушка, тихая, спокойная, в зеленых берегах. Блестевшая, как зеркало, водная гладь манила к себе своей ласковой прохладой, и Павло, как бывало в детстве, не смог побороть в себе соблазнительного желания взволновать этот плес, окунуться в эту прохладу.
— Привал! — грубо крикнул он.
Несколько всадников соскочили с лошадей.
— Не здесь! — тем же тоном добавил Жилюк и повернул вправо по берегу.
Вскоре они очутились на просторной зеленой лужайке, сбегавшей прямо в реку.
— Расседлать лошадей!
Снимали где-то раздобытые старые, потертые, а то и самодельные седла, оголяя сбитые до ссадин лошадиные спины. Над лужайкой, почуяв лошадей, сразу же появились слепни. Остервенело набрасывались они на все живое, и не было сил отгонять их. Лошади фыркали, подрагивали кожей, непрестанно обмахивались хвостами, но это их не спасало.
— Друже командир, — обратился к Павлу один из хлопцев, — на кой бес нам такой отдых? Заедят же, проклятые. Лучше бы в хутор или в село какое-нибудь.
— Не плещи языком! Делай, что велено! — оборвал его Жилюк.
Был зол неизвестно на кого и за что. Но все же смягчился.
— Будто нам так часто выпадают привалы в лесу, — примирительным тоном добавил Жилюк.
Никто ему не ответил. «Сердятся», — подумал Павло и, чтобы развеять неприятное молчание, крикнул:
— Айда купаться! Холера ему в бок!
Хлопцы оживились, начали раздеваться. Оружие положили возле одежды.
— Двое, — он назвал фамилии, — останутся при лошадях и при оружии. Остальные — в воду.
Выкупаться они все же успели. Вода, река сделали их всех похожими, одинаковыми в званьях и рангах. Да и сами они на какое-то время забыли, кто они и что, — так очаровала их природа, увлекло купанье. Они фыркали в воде, ныряли, смеялись, их голоса эхом катились над гладью реки и умолкали, таяли где-то в густом ивняке. Они забыли о войне, клокотавшей кругом, о партизанских заставах, которых постоянно остерегались, — они, бывшие нахтигали, недавние соловьи-разбойники, вдруг превратились в детей, в милых, смирных и безобидных сельских мальчишек. Им вспомнилось, как они когда-то на своих родных реках учились плавать, плескались, как сейчас вот здесь, смеялись, вскрикивали…
Прошло, наверное, с полчаса, как слушатели подстаршинской школы, будущие старшины УПА[12], наслаждались прохладной водой. Выходить из реки никому не хотелось. Жилюк уже дважды распорядился, в третий раз свой приказ приправил забористой руганью и вышел из воды на мягкую мураву. Павло еще не успел нагнуться за одеждой, а выпрямляясь, увидел, как из кустов, под которыми они раздевались, высунулись дула автоматов и раздались голоса: «Руки вверх!»
— Ну, чего глаза таращишь? — крикнул Павлу дебелый, в черной униформе и мазепинке верзила, поднимая автомат к его груди. — Руки!
Жилюк оглянулся: весь отряд стоял с поднятыми руками, даже те двое, у лошадей.
— Кто вы такие? — спросил Павло.
— Ангелы царя небесного, — смеясь, ответил тот, что целился ему в грудь.
— А все же? — настаивал Жилюк.
— Ты, собака, не гавкай, — пригрозил тот, — выше руки! И шагай до кучки. — Он отступил, толкнул Павла в спину. — Кто такие и куда едете?
Павло сообразил, что дело не шуточное, хотя люди, задержавшие их, не партизаны. Это немного приободрило его.
— Бросьте, хлопцы, — отозвался он, — мы же свои… повстанцы.
— Знаем таких свояков! Откуда едете?
— Из Копани, мы из школы подстаршин УПА.
— Ого, школярики… Хлопцы, ну-ка, почистите их! Оружие отобрать.
«Хлопцы», как псы, бросились к одежде. В минуту карманы были очищены, а новенькие, перед отъездом полученные автоматы и запасные патроны к ним очутились в руках неизвестных.
— А они и вправду из города, — промолвил один из стрелков, рассматривая чье-то удостоверение. — Только никакие не подстаршины. «Школа сельскохозяйственных работников», — дочитал стрелок.
— Вы же знаете, что немцы запретили украинские военные школы. Мы действительно из Копани. Я — старшина.
— Старшина, говоришь? — с недоверием смотрел на него дебелый. — Не врешь? За вранье у нас, знаешь… Ну хорошо, одевайтесь, — сказал мягче. — Да смотрите, не того… А вы сторожите, — приказал своим.
Одетых, их подвели к месту стоянки лошадей, разрешили оседлать, но сесть на них не дали.
— Пройдитесь пешком, после купанья оно в аккурат, — острил старший.
Жилюк запротестовал:
— Я требую объяснить, на каком основании вы нас обезоружили и отобрали лошадей?
— Не горячись… Ишь, какой, как шкварка, — все тем же тоном продолжал старший. — Таков приказ. Не я его выдумал. И вообще… советую не ершиться. А чтобы тебя не подмывало, скажу: мы — сечевики, бульбовцы. И никого в своей округе не признаем. Ферштейн? А теперь айда в штаб, там разберутся…
Станичного почему-то не было, и задержанных, пока суд да дело, заперли в сарае. Ни лошадей, ни оружия им так и не вернули. Попытка Жилюка опротестовать своеволие или по-свойски договориться с сечевиками вызвала лишь грубые насмешки.
— Ты смотри, — насмехались стрелки, — он еще и хорохорится, правды ищет…
— Ох, умора! Держите меня, хлопцы, не то я… Ох-хо-хо!.. — заливался плюгавый, скуластый полещук. — Иван, слышь, ну-ка дыхни на него, свали с копыт…
Здоровенный, животастый, с обрюзгшим лицом детина, нетвердо ступая, подошел к Павлу почти вплотную, наклонился и толкнул его плечом. Павло пошатнулся.
— Ого-го-го! — подстрекали стрелки. — Ну-ка, ну-ка, Иван! Давай еще… Покажи, чей батько крепче. Покажи пану Бандере, как у нас гостей угощают.
Тот, который звался Иваном, снова наклонился и с силой дохнул Жилюку в лицо густым самогонным перегаром. Павло поморщился, отошел. Наконец, убедившись, что с ними договориться невозможно, под громкий смех стрелков поплелся к сараю, где был уже почти весь его отряд. За ним сразу же захлопнули дверь, звякнул железный засов.
— Вот влопались, матери его ковинька, — сокрушались боевики. — И чтоб нам было поехать другой дорогой! Неужели они нас долго продержат, а, друже старшина?
— Черт их знает, — сердито буркнул Павло.
Они лежали на душистой ржаной соломе, прислушивались к тому, что происходило на дворе. Сечевики все еще чем-то развлекались, хохотали. «Подавились бы своим смехом, иродовы души! — выругался Павло. — Попадетесь вы мне! Я с вами не так поговорю. Жилы повытягиваю!..»
Сквозь узкую щель в стене пробился и упал ему на лицо острый, как лезвие, лучик, резанул глаза. Павло отвернулся, подвинулся. «Скорее бы вечерело. Вернется же когда-нибудь станичный». За сараем, у коновязи, били копытами голодные лошади. «Хоть бы сенца подбросили. Да напоили». Кони ржали, брыкались. Павло не выдержал, поднялся, постучал в дверь. На стук никто не отозвался, и Жилюк постучал сильнее.
— Какой такой… матери тебе надо? — послышался хриплый голос часового.
— Лошадей покормите! — крикнул Павло.
— Сами знаем, что делать. Сиди там и помалкивай. Или ж… чешется, по шомполам скучает?
Павло отошел от дверей, начал ходить взад-вперед по выбитому цепами току. Лучик давно погас, в сарай робко входили сумерки.
— Друже старшина, — позвал кто-то из угла, — идите сюда.
Жилюк пошел на голос.
— Вот здесь, — послышался шепот, — стенка совсем ветхая. Если чем-нибудь поддеть, сковырнуть можно.
Старая, трухлявая стена в самом низу действительно была непрочной. Ломиком или даже лопатой доски легко можно было вывернуть.
— Подождем, — сказал Жилюк. — Мы не бандиты какие-то, чтобы так бежать. Приедет станичный — он разберется и освободит нас.
— А если не приедет? Если его черт где-нибудь схватит, что тогда?
— Тогда видно будет… — неуверенно ответил Павло.
Прошел еще час, опустились сумерки, а станичный не появлялся. Лошади так и стояли голодными, ненапоенными, слышно было, как они грызли перекладину или столбцы коновязи.
— Вы как хотите, а мы будем вырываться отсюда, — послышался голос, и несколько человек подошли к Павлу.
— Подождите, еще не время. Пусть хоть стемнеет как следует да разойдутся эти сорвиголовы. Выходить будем сразу, все вместе.
Пошумели, посмеялись да и разошлись стрелки, на дворе стало тихо. Слышны были только лошади да шаги часового, которые то отдалялись, то приближались.
— Если откроет, всем сразу не вылетать во двор, тихо, без шума, — отдавал распоряжение Павло.
Он подошел к двери, выждал, когда шаги приблизятся, постучал.
— Чего там? — откликнулся уже другой голос.
— Друже, выпусти по нужде! — умоляюще попросил Жилюк.
— Нельзя. А приспичило — сарай большой, на всех хватит.
— Креста на тебе нет. Пусти…
Часовой не отзывался, — видимо, отошел. Помолчал и Павло.
— Выпусти, слышишь… — снова начал он, когда часовой приблизился. — По малым делам я не просился бы… Пусти!
Часовой потоптался на месте, покряхтел и, к великому удивлению всех, щелкнул засовом. Жилюк насторожился. Дверь скрипнула, приоткрылась, но не больше, чем на два-три пальца. Часовой, видимо, выжидал, хотел убедиться — не обманывают ли его? Он стоял с автоматом наготове, и первый, кто попытался бы распахнуть дверь, был бы скошен очередью. Но Жилюк не спешил, он только еще раз попросил:
— Выпусти на минутку…
Дверь открылась чуть пошире, но в щель уже можно было пролезть.
— Расстегни пояс и держи руками, — приказал часовой.
Жилюк повозился, щелкнул пряжкой и, держа руки на поясе, с трудом переступил высокий порог сарая. Часовой не сводил с него дула автомата. Однако недаром Павло кончал спецшколу в Нейгамере. Молниеносный бросок — автомат выбит из рук часового, а пальцы Жилюка железными щупальцами сдавили горло часового. Тот крутнулся, попытался высвободиться, но его уже затащили в сарай.
— Иванцов, Выдра, — тихо позвал Павло, — за мной! Остальным отвязывать лошадей.
Втроем они подкрались к штабному помещению. Жилюк заглянул в окно. В плохо освещенной комнате сидели двое, на полу лежали отобранные у отряда автоматы. «Холера ему в бок! Надо выманивать их в сени, во двор», — соображал Павло. Подождали еще немного. Жилюк снова заглянул в окно. Потом все трое затоптались, завозились на крыльце.
— Васюта! — послышалось из окна. — Ты что, пьяный?
Один из штабных выглянул в окно. То, что он увидел, не вызывало сомнений: на Васюту напали и душат его. Недолго думая штабные бросились на помощь. В сенях их и настигла смерть. Один все же успел выстрелить. Поднялась суматоха.
Не теряя времени, забрав оружие, отряд скакал улицами притихшего села. На окраине беглецов обстреляли часовые. Ответили огнем. Часовые продолжали стрелять. Две лошади, скакавшие впереди Павла, словно споткнувшись, упали, подмяв под себя всадников. Жилюк не остановился. Не остановился он и тогда, когда скакавший рядом с ним всадник, вскрикнув, схватился за грудь и медленно сполз с седла. Пустив лошадей в карьер, изо всех сил подгоняя их, отряд несся в сторону леса.
II
На Припяти села на мель огромная баржа с хлебом. Несколько таких же барж оккупантам удалось провести благополучно, но на этот раз партизаны решили не упускать случая и сорвать транспортировку ценного груза.
Перед вечером Гураль вызвал Хомина и нескольких партизан и приказал потопить баржу.
Конечно, это была крайность. Необходимая крайность. Каждый понимал, что лучше было бы отобрать у гитлеровцев награбленный хлеб. Отобрать и вернуть его хозяевам. Но для этого требовались силы и средства. Захватить они бы захватили, несмотря на усиленный конвой, но потом… Куда с ними потом, с этими десятками тонн зерна и всего другого, чем не брезгуют оккупанты? В лагерь не перевезешь да и людям не раздашь — села далеко от этого глухого переката. А помешкаешь — снова все попадет в руки гитлеровцев. У них средства для перевозки награбленного имеются.
— Словом, смотрите на месте, как лучше, — напутствовал Гураль. — Только в большой бой не ввязывайтесь. Дорогу покажет проводник. Встретит вас у Черной сосны.
Группа шла на задание. Шли лесом, прислушиваясь к малейшему постороннему шуму и шороху. По данным разведки, баржа застряла в Вилах, в местности, где Припять расходится двумя рукавами значит, от Глуши километрах в пятнадцати вниз по реке. Возле Черной сосны, сколько Хомин ни ждал, никто не появлялся. Заходить в Глушу самому, чтобы взять кого-либо из крестьян, не решился. Ко всему и в группе не оказалось местных, кроме Хомина, который не знал окрестностей настолько, чтобы безошибочно пройти урочищами, да еще незаметно, к месту. Поэтому, проблуждав несколько часов в лесу и едва не попав в трясину, Хомин только поздним вечером отыскал тропки, ведущие к Глуше, чтоб от села двигаться если не знакомыми дорогами, то хотя бы рядом с ними. В полночь, усталые, голодные, злые, они наконец попали на дорогу, однако продолжать путь уже не хватило сил. Перекусив и отдохнув, партизаны двинулись дальше. Но не прошло и двух часов, как на востоке небо порозовело и вскоре начало светать.
Когда подошли к реке, было уже светло. Еще издали на поросшем кустарником берегу они услышали какие-то оживленные голоса, шаги многих людей. Очень похоже было на то, что возле баржи работают люди. Тревожная догадка вкрадывалась в душу Хомина: «Неужели разгружают?» Работа шла на этом берегу, — видимо, баржа села на мель ближе к нему, и, чтобы разглядеть, что там происходит, надо было переправиться на противоположный берег. Бездорожьем, по кочкам, путаясь в не кошенной этим летом осоке и часто проваливаясь в поросшие бурьяном ямы, добрались до реки. Лето выдалось сухое, Припять обмелела, и партизаны без особого труда перешли на другой берег и залегли почти у самой воды. Промокшим и утомленным, им было зябко, и они невольно прижимались к сухой земле. Пойма лежала перед ними широким зеленым ковром, по которому голубой строчкой вилась речка Припять, и ее берега были окутаны легким туманом. В тумане, как в сказочном мареве, двигались люди. Отсюда хорошо было видно, что они делали. Десятки крестьян, согнанных, очевидно, из Глуши, а может быть, и из других сел, вытаскивали из баржи тяжелые, туго набитые мешки, сносили их на берег и складывали в штабеля. Расчет был прост: чтобы снять баржу с мели, надо ее облегчить. Работали, видно, с ночи, а может быть, даже с вечера, потому что выгрузили уже довольно много. «Эх, ударить бы сейчас!» — зашептал Хомину партизан, лежавший рядом. Тот пригрозил ему, хотя у самого руки чесались. «Если бы среди грузчиков нашлись один или два своих, — рассуждал Иван, — чтобы при налете поддержали…» Он лежал, изучая обстановку, внимательно наблюдая за часовыми. «Один, два, три… — считал гитлеровцев, — девять, десять… Много, черт бы их побрал. Да еще и на катере есть».
И все же надо было действовать. Не лежать же здесь до тех пор, пока швабы снимут с мели баржу и уплывут. Надо связаться с крестьянами. Но как?
Отползли к реке. Хомин собрал группу.
— Надо пробраться на баржу. Проползти мимо часовых, затеряться среди грузчиков, а там уже не распознают.
Каждый из них готов был на этот шаг. Но Хомин грешил по-своему.
— Вот что, — решительно сказал он, — пойду я. Следите за охраной. Когда там, — кивнул на баржу, — прогремит взрыв — стреляйте. Я постараюсь отвести людей за штабеля, а вы бейте прицельно.
Хомин отдал свой автомат, приладил под мышками гранаты, углубился в лес, а потом повернул и пошел по берегу к броду.
Прошло около часа, прежде чем он очутился на той стороне. Туман почти рассеялся, оставив на траве, на листьях кустарника густую росу. Хомин полз, неслышно раздвигая высокие заросли, и густая холодная роса кропила его с головы до ног. Но ему не было холодно. Голова, лицо, руки пылали. Казалось, если бы не роса, он сгорел бы от жара. Он полз и полз. Он весь был только одна несгибаемая воля, только напряжение нервов, собранное в один большой, до боли ощутимый нервный клубок. Если бы позднее, когда все закончилось, Хомина спросили, как он себя чувствовал, наверняка он ничего не смог бы рассказать. А может быть, пересказал бы всем известную историю об ожидании. Оно больше всего запомнилось. Солдат, который стоял перед ним с автоматом наготове, был удивительно терпелив. Очевидно, он из новичков, новобранцев, которые всегда слишком старательны, — ведь муштра, которую он прошел, не позволяла ему отвлекаться. Часовой стоял спиной к кусту, из-за которого, притаившись, наблюдал за ним Хомин. Сквозь густые, с редкими листьями у корней прутья Хомин видел его слегка сутулые, обтянутые мундиром плечи, розовую шею с узкой коричневой полоской автоматного ремня, — все это в глазах Ивана двоилось, троилось, множилось, словно хотело запугать его и не дать ему возможности выполнить свой замысел… И только тогда, когда ожидание переполнило все уголки его души, все клеточки, когда оно из нестерпимого перешло в обычное, — лишь тогда произошла перемена в обстановке. С затаенной радостью Хомин заметил, что спина солдата покачнулась, начала поворачиваться и передвигаться в сторону, послышались его шаги. У часового возникла явная потребность уйти от посторонних взглядов и зайти за куст. А поскольку густой и ближайший куст был тот, за которым прятался Хомин, солдат счел его самым подходящим.
По мере того как немец заходил за куст с одной стороны, Иван выходил из-за него с другой. Вот они уже поменялись местами. Только бы не выдала мокрая одежда! А так он в общем-то ничем не отличается от других… Он — глушанин, пригнанный разгружать баржу…
На ходу поправляя пояс на штанах, Хомин перешел неширокую полосу вытоптанной осоки, отделявшей его от штабеля. Нет, он не смотрел, видит ли его кто-нибудь, заметили его или нет другие часовые, — он влился в людской поток, с ним пошел к барже. Всё! Теперь он у цели, теперь ему никто не помешает. В работе он познакомится с людьми, а там…
Удивительно — неужели никто из крестьян его не узнал? Или притворяются?.. Хомин, правда, уловил несколько недоуменных взглядов незнакомых людей. Он начал присматриваться, надеясь встретить своих односельчан, но… ни одного знакомого лица. Что за оказия? Кто же эти люди? Откуда?
— Давно начали разгружать? — шепотом спросил он человека, плетущегося впереди.
Парень обернулся, показав свое небритое лицо, смерил его настороженным взглядом и ответил:
— А вы откуда? Не с неба, часом, свалились?
Ивану не понравился тон, но вместе с тем он и обрадовался: значит, он ничем не отличается от других.
— Нас только подвезли. Много еще носить?
— Хватит, — нехотя буркнул парень.
— А как сказали: все выгружать?
— Да вроде половину… Откуда вас привезли?
— Из Глуши. А вас?
— Да кто откуда. Я аж из-под Гуты. Со всех сел есть.
— И вы… того… носите понемножку?
— А что сделаешь с голыми руками…
— Бежать надо.
— В воду не прыгнешь. Загнали сюда — и все.
Взошли на баржу. Она слегка покачивалась на тихих припятских волнах, но все же засела, видно, крепко. В ее глубине через широко открытый люк проступал слабый свет, в котором, как в тумане, возились люди, взваливая себе на спину мешки, и, кряхтя, согнувшись в три погибели, поднимались по деревянному мостку наверх. Один за другим, один за другим…
Хомин сделал несколько ходок, и охранники, готовясь к завтраку, объявили перерыв, приказав всем собраться у штабелей. Обрадованные передышкой, люди устало размещались на траве, торопливо доставали из мешочков и узелков взятую еду. Солдаты, не снимая оружия, разместились неподалеку.
— Надо бежать, — тихо сказал Хомин.
Десятки глаз с тревогой и безнадежностью вперились в него.
— Лучшего случая не подберешь, — продолжал Хомин. — На том берегу партизаны, они нам помогут.
— А ты откуда такой храбрый взялся? — задиристо спросил Ивана пучеглазый человек. — Откуда знаешь, где партизаны?
— Знаю, если говорю.
— Ты, голубчик, лучше помолчи, — снова отозвался пучеглазый. — Мы тебя не знаем. И не бунтуй здесь.
— Да свой он, из Глуши, — вмешался парень с небритым лицом.
— Ну и что? Подведет под монастырь, тогда будешь знать. Мне еще жить не надоело… Чем ты докажешь, что там партизаны? И кто ты такой? — вдруг громко спросил пучеглазый.
Их пререканья, видно, привлекли внимание солдат, потому что от них крикнули:
— Эй, вы там! Молчать!
Все умолкли. Хомин понял, что пора действовать, тянуть дальше нельзя. Он прилег, достал из-за пазухи гранаты.
— Вот вам мои доказательства. Надеюсь, другие не нужны? Партизаны послали нас потопить баржу, не дать врагу увезти хлеб. И мы выполним приказ.
Все молчали. Очевидно, доказательства Хомина были неопровержимы.
— Я брошу эту штуку им на закуску, — продолжал Хомин. — Вы все ложитесь. После взрыва — все за штабель!
Привычным движением Хомин выдернул предохранитель, привстал на колени и изо всей силы метнул гранату в сидевших солдат. Сильный взрыв потряс застоявшуюся тишину. Люди повскакивали и бросились за штабеля. В эту же секунду с противоположного берега ударили автоматные очереди.
…Бой длился недолго. Уцелевшие солдаты бросились было к штабелю, но их остановила брошенная Хоминым вторая граната. Фашисты залегли, попробовали отстреливаться, но, услыхав рокот мотора, опрометью бросились к катеру, который, освободившись от буксирного троса, не поднимая трапа, начал спешно отчаливать от берега.
III
Горестно было смотреть на Глушу. Село будто вернулось в давние-предавние свои времена. Никогда еще смерть так безнаказанно не косила людей, никто еще так нагло не отнимал у них кусок хлеба, скотину, одежду. Да что там добро! У них отбирали детей и увозили в неведомые края.
Марийка Савчук, та, что когда-то у графа Чарнецкого посуду мыла, а потом работала на медицинском пункте, с партизанами уйти не могла: накануне она перенесла операцию. Операция оказалась сложной, более сложной, чем думали, и выздоравливала Марийка медленно. И сама она и Андрей, который вначале чаще наведывался в село, не могли дождаться дня, когда вернутся к ней прежние силы и они снова будут вместе делить и радость и горе.
Девушка жила у Гривняков. Одна из дочерей Катри еще до войны, в сороковом, вышла замуж, и в семье осталась самая маленькая, Наталка, Марийкина ровесница. Девчата дружили, вместе вошли в девические годы, и, когда с Марийкой случилось несчастье, подружка и думать ни о чем не хотела: возьмем Марийку к себе, да и только. Катря и Роман не перечили, их сердца были чутки к чужому несчастью, к чужой беде. Она же сирота, говорила мужу Гривнячиха, куда ей приткнуться, пусть перебирается к нам, места, мол, хватит. Как бы ни было, а Жилюки свои, кумовья, а Марийка еще и Андрея любит. Да и он от нее без ума. Любовь.
Адам Судник, великоглушский староста, уже несколько раз пытался внести девчат в список для отправки в Германию, но каждый раз передумывал. Судник знал, что Роман Гривняк в партизанах, что партизаны близко, каждый день могут нагрянуть и тогда ему не поздоровится. А Суднику хотелось жить. Даже ценою измены. Правда, свое согласие служить фашистам он пояснил тем, что, мол, принудили. «А как откажешься, если они с ножом к горлу?» — говорил он при случае, если уж кто-то особенно попрекал его. В раздумьях же своих рассуждал: если уж Советы не удержались, подпустили немца вон куда, до Москвы, то, может, такая уж судьба, так и должно быть. А раз так, то зачем и голову сушить? Была Россия, был царь-самодержец. Революция прошумела, все вверх дном перевернула. Думали — она изменит их жизнь, а оно вышло — из огня да в полымя. Вместо Николашки Пилсудский ярмо им накинул, ну и пришлось тянуть до мозолей на шее… Боролись, подпольные ячейки создавали, организовывали забастовки. В тюрьмах пропадали, вшей плодили да откармливали, харкали кровью… А ради чего? Ну, здесь он еще понимает: надо было панское ярмо сбросить, выкарабкаться из него. Ради этого можно было идти даже на жертвы. И он, Судник, обыкновенный полещук, шел. Шел на голод, нехватки, нищету. И на опасность, что ж поделаешь? Шел за тем же Степаном, за Гуралем, верил им, и эта вера, казалось, держала его на свете, на этой большой и грешной земле. Чем же он виноват, что сейчас эту веру у него вырвали, растоптали?
Подполье? Настоящие коммунисты остаются коммунистами всегда?
Был, уважаемые… был Судник и в подполье, и его также таскали-дергали, но он не боялся, он все же верил. И радовался, когда подул по-настоящему теплый ветер весны и в их мыслях расцвела надежда на лучшее. А видели они это лучшее? Снова началась кутерьма с землей: у одного много, у другого мало. Что до него, то он роздал бы ее, землю, людям, и пусть себе живут-поживают да добра наживают. Разве это так уж плохо? Да снова начали откладывать. Мол, обживемся, тогда будет лучше. А сколько на это лучшее надеяться можно? Сколько можно человека манить? Уже и жить-то осталось…
Так можно ли винить его, а? Виноват ли он, что его снова сделали скотиной? Что миллионы людей попали снова в рабство? Что чума эта проклятая уже вон куда дошла? Что Советы, их надежда, не выстояли? Разве он себе враг?.. Нет, он тоже хочет жить, его жизнь не куль трухлявой соломы. Из-за какой-то Марийки Савчук — будь она хоть кому там близкой родней или даже любимой — он подставлять свою голову не станет. Наконец, не его волей это делается, он только исполнитель, ему приказывают, и с него спрашивают, требуют. И кто бы ни сидел на его месте, точно так поступал бы. Пусть еще спасибо скажут, что не всех отдает. По бумаге, присланной из гебитса, требуют вон сколько послать, а он — вполовину меньше. Но кому-то же надо ехать. По другим селам почти всех под метелку берут, а в Глуше еще много парней и девчат дома сидят. Будто он слепой, будто не видит, хотя и прячутся от него, скрываются. Ну, а таким, как Савчучка, сам бог велел ехать. Сирота, ни отца, ни матери, никакого хозяйства нет. Зачем же, скажите, сопротивляться? Хуже ведь не будет. Работящая, — значит, и кормить будут, и одевать. А как же? Работать везде надо — здесь ли, в Германии, а без работы нельзя. В ту, первую войну были ихние в плену в той же Германии. Выжили, вернулись. Кое-кто даже добра привез. Взять того же Скибу. Где бы он здесь на таких лошадей разжился? А тут, гляди, змеи, не кони. Еще и бричка…
…Повестка пришла в пятницу вечером, а в воскресенье утром уже надо было явиться в сельскую управу. С теплой одеждой и с недельным запасом продуктов.
Катря, когда девчата прочитали ей повестку, начала успокаивать:
— Никуда они тебя такую не возьмут. Из-под ножа только что вышла, а уже ехать. Души у них нет, что ли?
— Какая там, тетя Катря, душа! Разве вы не видите? Душа у них и в копейку не ценится… Надо наших известить.
— Надо бы… Да Роман предупреждал, чтобы к ним не часто наведываться — выследить могут.
— Это же не мелочь, мама, — вмешалась Наталка. — Надо предупредить.
— Может, и так все обойдется, а вы уже шум поднимаете. Сколько уже было этих повесток, а не все же поехали, — гнула свое Катря.
— Кто его знает, — вздыхала Марийка. — Но если от них никого не будет, в субботу ночью пойду. Постираем, что там собралось, заодно и отнесу.
— Ну да, выдумаешь! Еще свалишься где-нибудь в лесу, что тогда? Никуда я тебя не пущу.
— Спасибо, тетя Катря. Только я уже чувствую, что в силу вошла. Меня, может, на этот раз и не возьмут, отделаюсь от них по болезни, но ведь еще вон скольких хотят увезти… Кто же их выручит?
— Да я не против, но только куда же тебе ночью по лесным чащам бродить?
— Не впервой.
— А мы вдвоем пойдем, — подхватила Наталка.
— А как же, только тебя там и не хватало, — противилась Катря. — Подождем. Может, и правда кто-нибудь ночью подойдет.
В субботу весь день Марийка не выходила за ворота, чтобы не попадаться никому на глаза. До обеда девчата копались на огороде, посконь выбирали, а после взялись за стирку. Кое-что из своего скопилось, да из лесу поднесли.
День выдался на редкость погожий — теплый, безветренный. Девчата устроились за хатой, на солнышке. Марийка уже несколько раз намылила вышитую ею Андрейкину сорочку и все никак не могла отжать. Сорочка пропотела, пропиталась солью, попахивала дымом лесных костров. «Как он там, милый? — пробегали в ее голове тревожные мысли. — Хотя бы навестил или словом порадовал».
Прополаскивали белье, развешивали на солнышке.
Подошла Катря:
— Зачем здесь развешиваете? Еще кто-нибудь увидит…
И правда. Кто только теперь не шляется по селу. Увидит, придерется — что тогда? Поснимали мужское, развесили в хлеву.
Мимо двора как раз проходил Микола Филюк. Увидев девушек, поздоровался.
— Выходите сегодня вечером на улицу.
— А что нам на улице делать? — колко ответила Наталка. — Ворон пугать?
— Потанцуем.
— Не до танцев теперь. Марийка вон повестку получила. Тебе не прислали?
— Я еще мал.
— Мал-мал, а на танцы зачастил.
— Не зачастил, — грустно возразил Микола.
— Ну, если на скрипке поиграешь, придем.
— Поиграю, — пообещал паренек.
— Ну, тогда подумаем.
Вечер подбирался медленно, исподволь, словно высматривал место, где бы ему поуютнее устроиться на ночь. Где-то за лесами потонуло солнце, над берегами задымились и поползли, низко стелясь по земле, туманы. Они разрастались по мере того, как сгущались сумерки, подплывали к огородам, дворам, оседая в уголках и ложбинках. Село укладывало свою тревогу под головы, застилало ею свои постели. Всю ночь оно проведет теперь в настороженном сне, будет жить другой, недневной жизнью. Кто-то будет подкрадываться к самой крайней хате, что у леса, кто-то неслышно будет стучать в окна; в укромных уголках, в погребках будут моргать подслеповатые самодельные фитильки и плошки, и в этих потемках, в тревожной и опасной полутьме, кто-то будет копошиться, что-то от кого-то прятать в надежных, насажденных войною тайниках, что-то для кого-то готовить и отдавать в чьи-то руки…
Но все это будет потом, позже, а пока что — для видимости, для отвода чужих глаз — Глуша укладывается спать, внешне ничем не отличающаяся от той Глуши, которая была до войны, два с половиной месяца назад. Слышите? Где-то даже поют. Или играют… Все как раньше, перемен не видно. Та же улица, те же девчата и парни, те же песни. И тот же Микола, Коля, Колюня Филюк, неведомо от кого и когда научившийся играть на скрипке. Скрипка не фабричная, и не все струны, может быть, у нее, а так тонко и нежно мотив выводит, что за душу берет. И откуда она взялась у паренька? Вроде бы и не ездил никуда, все скотину пас, и вот на́ тебе!.. Эта скрипка и сзывает на вечерницы молодежь чуть ли не со всех улиц села.
Небольшой выгон с несколькими старыми вербами издавна был излюбленным местом отдыха и веселья глушанской молодежи. Днем, когда припекало солнышко, здесь суетились дети, играли в цурки, бегали, ходили на руках, вниз головой; по вечерам же собирались подростки, парни и девушки, и до поздней ночи гудела земля под веселыми каблуками, выахкивал и выухкивал вечер молодыми голосами. В ночь под Ивана Купала девушки плели здесь венки, водили хороводы. На этом выгоне, под тихими, старыми вербами, немало было признаний в любви, а еще больше, может быть, разлук, слышали вербы и радостный тайный смех, и горький плач…
Марийка и Наталка пришли сюда, когда опустились на землю сумерки. Давно они не были на гулянье, — наверно, с тех пор, как началось это несчастье. А юные годы требуют своего, зовут сердце к чему-то необычному. Сегодня девчата не собирались здесь долго гулять, у них на уме было повидать кого-нибудь, кое-что разузнать.
Молодежи собралось много. Микола стоял под вербой, склонив голову над скрипкой, а пары в бешеном темпе отплясывали польку. Подруги тоже вошли в круг. Марийка уже и не помнила, когда в последний раз танцевала. Не на Новый ли год, после торжественного вечера в школе? Андрей тогда все время наступал ей на ноги, извинялся и снова наступал. «До свадьбы, говорил, научусь…» — вспомнилось ей, и она улыбнулась воспоминанию.
А полька не утихала, отдавалась эхом по округе.
— Не могу больше, голова кружится, — шепнула Наталке Марийка, — устала я.
— Так что же ты? Надо было сразу сказать, — обеспокоилась девушка. — Пойдем в сторонку, отдохнешь.
— Ничего, не волнуйся, я постою. Это с непривычки.
Они вышли из круга, стали под вербой. Марийка оперлась о ствол, обмахивала платочком лицо.
Прошел, наверное, час, как они на танцах. Глуша уже засыпала, только собачня во дворах не унималась. За Припятью, за кустарником, ущербным серпиком зацепился за что-то и повис месяц. Ему видно было, как, свернув с большака на дорогу, в Глушу въехали несколько машин и направились к сельской управе.
— Давайте расходиться, — сказал кто-то из хлопцев, прислушиваясь к шуму моторов.
— Успеем, — ответило несколько разгоряченных в пляске голосов. — Еще потанцуем.
— А вдруг облава?
— Да какая там облава! — снова отозвались те же голоса. — Микола, играй!
Микола снова приник к скрипке, повел смычком. Но танцы уже не клеились. Начали расходиться.
А собачий лай приближался к ним и уже начал беспокоить.
— Разбегайтесь, это неспроста!
И, когда умолкла скрипка, со всех сторон к ним донеслось:
— Бегите! Облава!..
Но бежать уже было поздно. И все же молодежь бросилась врассыпную, а на бегущих из-за кустов, из-за верб бросались черные вооруженные фигуры, хватали их, возвращали обратно, на площадь, еще хранившую веселое топанье их ног. А вокруг все теснее смыкалось кольцо, и ни о каком побеге нечего было и думать. Их наспех ставили в пары, с них не спускали своих черных зрачков автоматы, их, как каких-то страшных преступников, под конвоем погнали селом, побросали в машины и так, под конвоем, увезли в ночь.
IV
Павло томился. Испуг, вызванный встречей с сечевиками, давно прошел, оставив в сердце какой-то неясный осадок, и молодая его душа, находясь в постоянной опасности, рядом со смертью, которая чуть ли не каждый день справляла свои кровавые тризны, чего-то ждала. Сначала Павло не прислушивался к ее капризам, глушил ее работой, но в конце концов это усердие надоело, и Павло стал избегать начальства, перед которым раньше старался выслужиться. Занятия в школе заканчивались во второй половине дня, и Павло быстро собирался и уходил, для порядка обойдя классы и прикрикнув на дневальных, которые не совсем чисто где-то прибрали-подмели.
После хаоса первых дней и недель войны городская жизнь понемногу входила в обычные свои берега. На улицах становилось оживленнее, открылись и торговали полупустые магазины и лавки, в которых вместо сметливых и вежливых к посетителям приказчиков хозяйничали неизвестно откуда пришедшие торгаши, продавали привезенные из Польши или даже из самой Германии разные ненужные вещи; в единственном городском кинотеатре «Глобус» прокручивали преимущественно хронику — непомерно длинные ленты, восхваляющие прекрасную жизнь в третьем рейхе, «освободительные» походы «непобедимой» гитлеровской армии. И всюду красовалась дегенеративная физиономия фюрера. В деталях изображалась его биография, заслуги перед великой Германией. Павлу особенно запомнились слова Гитлера: «Я имею право уничтожить миллионы представителей низших рас, которые размножаются, как насекомые». Там, в Нейгамере, где им также чуть ли не каждый день показывали подобные фильмы, он равнодушен был к этим словам. Они казались ему далекими и слишком абстрактными, теперь же он убеждался, видя собственными глазами эту ужасающую трагедию. Более того — он не только видит, но сам является участником этого «уничтожения», один из несметных шестеренок или колесиков гигантской машины смерти.
В последнее время такие мысли все чаще посещали Павла, и он даже стал обходить стороной кино, растрачивая свое свободное время в пивных, кабаре и ресторанах. В городе их было много, значительно больше, чем продовольственных магазинов, а денег… денег у него хватало.
Школа помещалась на Заречье, почти на окраине города. Поскольку поблизости, кроме отвратительной закусочной, где и выпить-то ничего стоящего не найдешь, ничего не было, приходилось подаваться в центр, куда Павло направился и на этот раз. На мостике через реку Турию его остановил немецкий патруль. Проверили документы. Река, которая в мирное время звенела веселыми детскими голосами, в которой и он некогда, будучи уже солдатом польской армии, ополаскивал свое уставшее от каждодневной воинской службы тело, была теперь межой, границей, переходить которую просто так, без особой надобности, считалось нарушением режима.
За мостиком Павло свернул вправо, на луг. Тропка петляла между молодыми тополями, между кустами, то приближаясь к самой воде, то убегая от нее. На лугу было по-осеннему пустынно, хотя осень только-только начиналась, и грустно. Павло любил такую грусть, отвечавшую его внутреннему настроению. Он не мог объяснить, почему, но с определенного времени, с того рокового сентября, дохнувшего на них могучим и свежим восточным ветром, он затосковал. Тоска зародилась, видимо, в лесах, которыми они, брошенные на произвол судьбы, блуждали. Еще глубже пустила она корни в лагерях, потом в той школе в Нейгамере и после никогда не покидала его. Павло настолько свыкся с нею, сроднился, что ему даже казалось, что и росли они вместе — он и его печаль, тоска, что одинаково им пела мать свои колыбельные песни и что даже бегали они вместе зелеными припятскими лугами, гоняясь за чужой скотиной, а позже вместе ходили на заработки, на свои скудные, бедняцкие вечерницы. Так вместе и не полюбили никого, и их никто не обнял и не прижал к своему любящему сердцу. Никто! «Никому ты такой не нужен, — нашептывал ему чей-то голос. — Матери у тебя нет, отец и братья наверняка отреклись от тебя… Разве что Лебедю еще понадобишься, Бандере… Жить тебе на родной земле дичаком…»
Слово, а еще сильнее трезвость, выдержка несуществующего уже человека, который говорил ему правду, взбесили Павла; он, словно по какой-то неслышной внутренней команде, сразу подтянулся, выпрямился и быстро свернул в переулок, упиравшийся своим тыльным концом в поблеклые, вытоптанные травы — отавы осеннего луга.
Это был тот самый переулок, в начале которого помещалось кафе, где Павло любил проводить вечера. Ему здесь нравилось. Чисто, тихо, и всегда найдется что-нибудь вкусное. И посетителей не очень-то тесно набивается, — все ищут шумного общества, веселья, а сюда заходят чего-нибудь перекусить, посидеть за чашкой кофе, тихо побеседовать. Даже странно, как здесь все сохранилось — и порядок, и выбор закусок… Будто лихо обходило стороной, щадило этот уголок, нарочно оставляло его нетронутым — на память о добрых предвоенных временах.
Павло Жилюк сидел на своем излюбленном месте у стены. Перед ним был весь зал, заставленный аккуратными квадратами-столиками, а далее невысокая буфетная стойка, за которой… впрочем, Павлу нелегко было так спокойно, равнодушно говорить про того, вернее — о той, которая стояла за прилавком. Он не принадлежал к числу боязливых и тем более застенчивых людей, однако — сам того не подозревая — на Мирославу, дочку хозяина кафе, которая, видимо по семейно-выгодным обстоятельствам, работала буфетчицей, без волнения смотреть не мог. С самого первого своего посещения этого кафе Мирослава удивила его своей исключительной внимательностью, в которой угадывались привлекательная женская покорность, смиренность, безмерная душевная щедрость. А может быть, это ему, соскучившемуся по женской приветливости и ласке, по трепетным и горячим девичьим рукам, только показалось, может быть, в ее поведении ничего подобного и не было. И все же с тех пор даже при воспоминании о девушке сердце Павла сжималось в сладком томлении, и он думал о ней, представлял себе ее косы, спадавшие шелковисто-золотыми прядями на плечи, ее глаза, красивое, открытое лицо и уста, ожидавшие, как ему казалось, поцелуя… И он торопился к ней, каждый раз ему хотелось сказать ей что-то ласковое и теплое, и каждый раз, сидя у стены, он сдерживал свои чувства, подавляя их.
Бывало, и сердился на нее. Она этого, конечно, не замечала, не видела и не чувствовала, но он сердился, когда Мирослава улыбалась другим, когда слишком долго с кем-нибудь говорила, смеялась, когда вообще она была такой, какою он увидел ее впервые.
«Чудак! Разве ты один у нее? — коварно нашептывал ему чей-то голос. — У нее десятки… Что в тебе особенного? Она даже не знает, кто ты, какие у тебя заслуги… Ты для нее обыкновенный, будничный посетитель кафе…» В такие минуты он отворачивался, смотрел в окно, старался сосредоточиться на чем-либо другом, но это ему не удавалось, что-то в нем противилось, и Павло заказывал себе снова и снова, пил до умопомрачения, до отупения. И курил…
Сегодня Мирослава казалась особенно хороша собою. Павлу трудно было отвести от нее глаза. Несколько раз она посмотрела на него, и их взгляды встретились. «А вдруг она что-то заметила, поняла? — оживленно вспыхивала мысль, но он тут же ее гасил и рассуждал по-иному: — Видит, что уставился на нее, и посмотрела. Нужен ты ей, как прошлогодний снег».
И все же, выбрав удобный момент, когда возле буфетной стойки никого не было, подошел будто бы купить сигарет и спичек, а сам думал о своем: надо заговорить с нею, потому что сколько же можно смотреть на нее молча?
— Господин много курит, — заметила Мирослава. — Почему так?
Павло оторопело поглядел на нее, не зная в первую секунду, как ответить, что сказать, и лишь усмехнулся.
— Господину грустно?
Она не торопилась выполнять его заказ, стояла освещенная улыбкой и каким-то внутренним светом, который сиял в ее глазах, пламенел и зажигал на щеках легкий румянец. Мирослава и Павло стояли близко друг против друга, их разделяла только узкая стойка. Павло, казалось, ощущал запах ее волос, и вся она представлялась ему сейчас милой и доступной.
— Что же вы молчите? — улыбалась она. — Или о чем-то грустите?
— Да, вы угадали. Тоска заедает, — печально проговорил Павло. — Мне все надоело…
Видимо, в его тоне, в голосе было что-то такое, что заставило ее насторожиться.
— Мне очень скучно, — продолжал Жилюк. — И если бы вы… Я хожу сюда ради вас, Мирослава.
Он сказал это слишком громко, и девушка показала глазами на посетителей. Павло невольно оглянулся, махнул рукой, зашептал горячо, пылко.
— Тсс-с! — уже недовольно повела плечами. — Вы захмелели?
— Я люблю вас, Мирослава.
— О-о-о! Так сразу?
— Нет, давно, — шептал Жилюк. — С тех пор, как увидел.
Слова, которые он так долго носил в глубине своего сердца, которыми жил и которых боялся, вырвались наконец из груди помимо его воли. Он готов был встать перед нею на колени и говорить, говорить ей, смотреть в ее чудесные, прекрасные глаза.
На них начали обращать внимание, и девушка, подав Павлу сигареты и спички, вежливо попросила его сесть за столик. Павло достал сигарету, но не закурил, а вышел, не прощаясь, на улицу. Город окутывала полумгла. Она надвинулась откуда-то из окрестных лесов и кустарников, с притурских болот, смешивалась с туманом, висевшим над рекой и ее берегами, и густой синью заполняла улицы и переулки. Затемненный, без единого огонька город тонул в этом полумраке, глушил свой дневной гомон. Только на станции непрерывно шла работа — шумело, ахало, ухало, пыхтело паром, время от времени пронизывая темень, вскрикивал резкий свисток паровоза.
Павло прохаживался по узкому истоптанному тротуару возле кафе. Впервые за все это время, за эти переполненные тоской дни, ему было легко. После долгих раздумий, горьких разочарований жизнь как будто находила свою цель, уже не казалась такой пустой, неприязненной, обманчивой, как раньше. Ко всему равнодушный, во всем сомневающийся Жилюк готов был теперь бороться за жизнь, сражаться. Широкая, разворошенная громами и буранами, полная страхов, неожиданностей и неизвестностей, она как бы сосредоточилась, воплотилась в этой нежной, сердечной девушке, стала тише и — главное — какой-то более надежной. Павло уже не боялся ее, как до сих пор, ему хотелось думать о жизни, мечтать о ней, заглядывать в будущее.
…Видел себя рядом с Мирославой. Вдвоем, а может быть, уже и втроем идут они берегом Припяти, а кругом зелено-зелено! И цветы. И птичье пенье…
Или — в поле. Не в весеннем, нет, весеннего он почему-то не любил, — в жатву! Когда поспевают хлеба в солнечном мареве, в таинственном шепоте колосьев, когда высокие жаворонки — на погоду; когда медово пахнет хлебом и сухой землей; когда…
И чего только не отдал бы он за один такой день! За один-единственный день… Все мог отдать, ничего бы не пожалел. Не отдал бы только ее, Мирославу. Да еще землю свою, края своего родного не отдал бы. Никому! Сам хозяйствовал бы на родной земле с такими же, как он, бедняками. Выращивали бы зерно, разводили скот, а каких детей растили бы — новых сеятелей пестовали бы… Без войн, без драк, сами себе и господа и рабочие…
В конце концов, для этого он сюда и пришел, из-за этого и страдал, боролся и готов бороться, чтобы утвердиться хозяином родных полей, чтобы свободной и независимой расцветала его земля. Свободной и независимой… Так ему говорили все эти годы. И он разделял эту мысль: до каких же пор его стране быть под чужою пятой? Разве она не богаче, не больше, не сильнее других? Разве не отважен ее народ, не готов до конца защищать свою родную мать?
Мысли воодушевляли его, расковывали силы, и он не знал, как их унять, куда направить и вообще — что ему делать дальше. Единственное, что ясно улеглось в его сознании, — это видеть Мирославу, чувствовать ее постоянно рядом с собой. Но войти снова в кафе и смотреть на нее посоловелыми глазами он уже не мог. «Подожду, когда она освободится, и приглашу… на прогулку», — соображал Павло. Но почувствовал, что для этого он слишком трезв, да и ожидать еще долго.
Пошел к центру. Главная магистраль города, переименованная новыми властями в Гитлерштрассе, удивляла своей безлюдностью. Павло впервые увидел ее такой пустынной. Ни одного штатского! Солдаты, офицеры, полицаи… Полицаи, офицеры, солдаты… А еще только начало девятого! И это свобода? Обещанная, выстраданная, выношенная, как дитя под сердцем. Нет, не такой она представлялась ему, не такой! Пускай война, опасности, и все же не так оно должно быть. Всюду немцы и немцы. А они, украинцы, здешние, кто? Пришлые, чужие, дичаки?.. Во имя чего же, для кого бросил он свою землю, отрекся от родных, от всего? Чтобы прийти сюда батраком, чтобы смотреть, как грабят, унижают родную землю, да еще и самому приложить к этому руку? Что они выиграли? Другое, еще худшее ярмо? Новые цепи… Кто они, он и такие же, как он? Мерзавцы? Собаки, привыкшие лаять по команде?! Разве им доверяют? Разве спрашивают совета? Наконец, считают ли их людьми? Нет, нельзя этого сказать, нельзя. К ним обращаются только как к гайдукам или янычарам, которые, сделав свое черное дело, уходят прочь.
Павло знал, что из этих его рассуждений — никакого толку, он только разжигает себя, а потом долго не может успокоиться.
Несколько солдат, громко разговаривая, с хохотом вывалились из дверей кафе, помещавшегося в особняке в глубине небольшого сада. Они, видимо, здорово хлебнули, так как едва держались на ногах, качались, поддерживая друг друга. Павло постоял, посмотрел им вслед, и вдруг в нем проснулось неудержимое желание напиться, заглушить все свои боли и печали. И он направился в кафе. Удивительно, как он раньше его не замечал, здесь было так тихо, спокойно, из-за занавесок в узенькие щели пробивался электрический свет.
По привычке поправил на себе одежду и взялся за ручку двери. В дверях его остановил старый, в какой-то допотопной ливрее швейцар и на чистом украинском языке сказал Павлу, что кафе обслуживает только немцев. Видя удивление Павла, он четко произнес:
— Понимаете, только для немцев. — И добавил: — Нур фюр дойч. Если господин, — он, чудак, так и назвал Жилюка господином, — не хочет встревать в историю, то пусть поскорее уходит.
— А что ты меня пугаешь, холера те в бок? — огрызнулся Павло. — Они пьют, а нам что… ферботен? Запрещено, да?
— Пускать не велено, — преградил ему дорогу швейцар. — Не велено!
— Ах, так? — озлился Жилюк. — Чихали мы… — Отстранив швейцара рукой, он шагнул дальше в глубь помещения, но старик вцепился в полу его френча, не пускал.
На шум подошли трое в черных, хорошо подогнанных по фигуре мундирах. Никого ни о чем не спрашивая, они схватили Жилюка и вытолкали за дверь. Павло, даже не успев оказать сопротивления, очутился во дворе. Уже здесь, за порогом, он ненароком зацепил одного из них и тут же получил такую оплеуху, что в глазах у него засверкало. Жилюк рванулся, не раздумывая саданул одного ногой, другого наотмашь, как обучали в школе, потом отскочил, но обо что-то зацепился, упал и уже больше не поднялся. На него набросились, остро ударили в бок (они, видно, тоже были обучены), в живот… еще и еще… и Павло провалился в мглистую темноту…
V
Два товарных вагона с пленниками уже несколько дней стояли в тупике на станции Копань в ожидании отправки. Степану Жилюку доложили, что среди них много глушан.
— Кто бы там ни был, мы должны их освободить, — сказал Степан.
— Вагоны под усиленной охраной, — заметил Иллюх, командир группы, которой поручалось осуществление операции.
— Если бы не охранялись, то и никакого разговора не было бы, — резонно высказался Степан. — Ты, товарищ Иллюх, в этом деле собаку съел. И знаешь, мы не можем допускать, чтобы фашисты безнаказанно издевались над нашими людьми да еще вывозили их.
— Знаю, Степан. Будто я против. — Иллюх немного помялся и уже другим тоном добавил: — Может, оружия подбросили бы… Хотя бы несколько гранат.
Степан Жилюк хорошо знал, что у этого опытного партизана оружие есть, гранат хватает, но Иллюх любил еще припрятать про запас, — мало ли что, вообще не любил себя стеснять нехваткой оружия. Но он сделал вид, что верит Иллюху, и подошел к нему поближе.
— Удивительный ты, Никита, человек. Ты же знаешь, каждая граната на учете. Мобилизуй все свои ресурсы.
— Какие там ресурсы! — махнул раздосадованно Иллюх, видя, что его маневр не удался. — Пара автоматов да столько же гранат.
— Железнодорожники тебе помогут, у них кое-что имеется. Свяжись с обходчиками, сцепщиками. Словом, придумай что-нибудь.
По окнам скользнул яркий свет автомобильных фар, по дороге промчались машины. В дом вошел хозяин:
— Три машины напротив остановились.
— Всем расходиться! — сказал Степан. — До свидания, товарищи, — и пожал каждому руку.
Несколько фигур неслышно выскользнули черным ходом из дома дорожного мастера и затерялись в кустах. Степан погасил в комнате свет, постоял около окна, прислушиваясь. На дворе было спокойно. Дом стоял на отлете, за несколько километров от города, у самой дороги, и, когда на шоссе не ревели грузовые машины, кругом лежала тишина, было слышно, как за окнами печально шелестит желтеющей листвой ветер.
Жилюк умышленно выбрал местом явки этот придорожный домик — меньше подозрений. Подпольщиков ищут в городе, вынюхивают по глухим уголкам, в развалинах, а они вот здесь, под самым носом. Сколько раз проезжали мимо него и коменданты и шефы полиции, даже сам гебитскомиссар! Знали бы, что он здесь, — камня на камне не оставили бы, все вверх дном перевернули бы. А пока что спокойно. И усадьба и сам дорожный мастер вне подозрения.
Дверь в комнату скрипнула, приоткрылась.
— Вы здесь? — послышался женский голос. — Ужинать будете? Там на столе в кухне молоко и хлеб.
— Спасибо, спасибо, Ульяна. Я сейчас, — с особой теплотой в голосе ответил Степан.
Он часто задумывался над жизнью этой семьи, которая, презирая смертельную опасность, не взирая на все приказы и распоряжения властей, за нарушение которых платили жизнью, дала прибежище ему и его друзьям-подпольщикам. «Обыкновенные люди, — думал Степан, — а какой души! Сколько они делают важного и большого! Постоянная готовность к самопожертвованию… Без таких людей, необразованных, но мудрых своим огромным житейским опытом, ох как было бы тяжко работать подпольщикам! До невозможности тяжко…»
В соседней комнате заплакал ребенок. Его плач болью отдался в сердце, и мысли Степана мгновенно переметнулись на другое. Глуша… Родной двор… Софья с Михальком. Грозовой рассвет, принесший им не погожий день, не солнце, а эту бесконечную черную ночь… И она, многострадальная мать. «Идешь, сын?» Даже не попрощался с нею. Такою и останется она в сыновней памяти на всю жизнь. Мать, стоящая у новой хаты памятником печали, ясных, но несвершившихся надежд и желаний… «Прости меня, родная! Прости и детское упрямство и юношеское непослушание, тревоги и заботы, которыми вместо ласки так щедро одаривал тебя… Прости за муки…»
Заныло сердце, защемило в сухих, бесслезных глазах. Его словно сдавил кто-то железной рукой и не отпуская держал. Степан расстегнул сорочку, засунул руку за пазуху и так стоял, пока немного стало легче. «Не хватает еще, чтобы ты разболелось, — мысленно обратился к своему сердцу, — тогда вообще…»
Стрелки часов уже показывали половину девятого. Степан наскоро поужинал и спустился в погреб. Здесь было темно, душновато, пахло квашеньями и картофелем. Не зажигая света, на ощупь Жилюк прошел в конец подземелья, зажег спичку и отыскал потайной ход, замаскированный под стену. Степан с трудом протиснулся в него и очутился в каморке, которая могла бы вместить нескольких человек. Правда, потолок низкий, не встанешь в полный рост, но здесь было уютно. «И когда хозяин успел все это соорудить? — подумал Степан. — Будто заранее уже знал, готовился».
Дрожащий фитилек освещал короткую скамью, столик, радиоприемник на нем и лежавшие тут же школьные тетрадки и карандаши.
…В сводке Совинформбюро ничего отрадного. Бои под Киевом, на подступах к Ленинграду… Наши войска оставили… Враг несет большие потери в живой силе и технике…
А пока что враг давит и давит. Создается прямая угроза Москве. Обстановка тяжелая. Стыдно смотреть людям в глаза… И все же, если учесть внезапность нападения и техническую оснащенность врага, соображал Жилюк, могло быть и хуже. Как ни крути, а блицкриг не удался. Киев, Одесса, Ленинград держатся и оказывают врагу небывалое сопротивление. По всему видно — Москвы фашистам не увидеть, как свинье неба. Уже прошли все намеченные сроки этой кампании, а война, по сути, только начинает разгораться и разворачиваться, что явно не на пользу Германии.
«Вот об этом ты и растолкуй людям, — подсказывал Жилюку внутренний голос, и никому не будет стыдно за то, что, живя в мире, в правде и в своем творческом порыве, недооценили коварства врага. За это теперь и приходится платить своей жизнью и кровью. Прольется ее много, великое множество людей погибнет в этой битве, но из руин и пепла поднимется наша земля, свободная и гордая и как никогда могущественная…»
Экономя питание, Степан выключил приемник. Глубокая, какая-то даже дикая тишина заполнила погреб. Сильнее застучало в висках, гулким звоном отдалось в голове. Жилюк посидел немного, приводя в порядок взвихренные мысли и чувства, и покинул подземелье.
Посадка на львовский поезд только что началась, и пассажиры, не считаясь с окриками охраны, толпою бросились к вагонам. Несколько из них, горбясь под тяжестью узлов, прорвались на перрон. На перроне, будто ожидая своих, полещуки отдалились от толпы, сбросили свою ношу и сложили узлы под заборчиком, а сами, утирая пот, сели на скамью, равнодушно наблюдая за суетой. Два обходчика, не обращая внимания на толкотню, медленно прошли в конец перрона, сошли на колею и двинулись вдоль полотна.
На полещуков никто не обращал внимания, поэтому, видимо, никто и не заметил, как двое из них, оставив свои узлы, медленно пошли вслед за обходчиками. И те и другие добрались до тупика, где одиноко стояли вагоны с пленными людьми. У вагонов топтались трое часовых. Они должны были ходить вдоль состава, но им это занятие надоело — молча топать друг за другом, и часовые все чаще сбивались с маршрута, встречались и о чем-то говорили между собой. Похоже было, что им все надоело. И правда, куда денется это закрытое наглухо быдло? А кто осмелится напасть на них среди бела дня? Кто? Не эти ли двое, что едва ноги волочат по шпалам? Х-ха! Им, видно, и так свет не мил. На ходу шатаются.
— Эй, рус! Рус, ком!
Боятся! Да, да, кто ныне их не боится? Вся Европа стоит перед ними на коленях. Миллионы! Не то что эти два Ивана.
Они были веселыми парнями, эти часовые. Им хотелось смеяться, шутить, и они так увлеклись, что не придали никакого
значения одинокому, неожиданному и звонкому удару в рельс. А может быть, им уже некогда было осмысливать значение этого резкого удара, потому что сразу же за ним последовал взрыв гранаты и засвистели пули. Один из них застонал, а двое других бросились подальше от этого, внезапно превратившегося в смертоносное пекло бывшего тихого уголка. А взрывы (это рвались всего-навсего самодельные петарды) гремели над суетой железнодорожной станции. И если бы часовые, кроме того, который лежал поперек колеи, осмелились поднять головы и посмотреть на двух мешковатых обходчиков, то увидели бы, как в них мгновенно вселилась быстрота и ловкость, как они молниеносно сбили с вагонов железные засовы и выпустили пленников; часовые могли бы еще заметить лежавших под забором, в кустах, полещуков, услышать их подбадривающие слова, незлобивое поругивание, без чего налет не был бы налетом. Но часовые прятали свои головы и совсем не торопились подставлять их под партизанские пули.
Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Вся операция продолжалась не более пяти минут. Немецкая железнодорожная военная охрана, прибывшая на место происшествия, уже ничего не могла сделать — пленников и партизан словно ветром сдуло.
Заметив убитого часового, охрана, наверное, решила создать видимость боя, показать, что пленников освободила не кучка храбрецов, а многочисленный партизанский отряд. Таким образом, она отводила от себя возможное наказание за утерю бдительности. Охрана подняла такую бешеную стрельбу, что встревожила некоторые регулярные воинские части, размещавшиеся в городе, которые, не разобравшись, обстреляли станцию.
На другой день громкоговорители во весь голос трубили о нападении на станцию крупного отряда бандитов и что доблестные воины рейха разгромили их и спасли население города от разбоя и насилия. Тайная служебная докладная была, однако, составлена несколько по-иному. Согласно докладной военный комендант станции полковник Корх, хотя и не сразу, был понижен в звании и отправлен на передовую.
VI
Тайное не может оставаться вечно тайным. Как бы оно ни маскировалось, ни меняло место, название, имена — все равно наступает пора, когда оно становится явным. Особенно когда это тайное живет, действует, утверждается.
Как Степан Жилюк ни конспирировался, как ни ограничивал круг вхожих в подпольный горком людей, все же гестапо напало на след и разузнало, кто в городе возглавляет организацию. Гестапо, конечно, знало, что в городе с первых дней оккупации работает нелегальная большевистская группа, но напасть на ее след долго не удавалось. Местная агентура докладывала, что секретари довоенного райкома эвакуировались, — значит, их заменяет кто-то из актива.
После тщательного изучения дела шеф гестапо Ганус остановился на нескольких кандидатурах, авторитет которых и способность возглавлять подполье подтверждали и руководители местного националистического руководства. Теперь из этих нескольких надо было остановиться на одном. Сходились мыслями на Степане Жилюке. Правда, говорили, что он перед самым приходом немцев исчез, выехал, что его куда-то отправили. Конечно, это могло быть сделано для маскировки, могло быть попыткой запутать следы, а на самом деле Степан Жилюк где-то здесь, возможно — даже в Копани, и ему, бывшему члену КПЗУ и руководителю сельской партийной организации, бывшему бойцу интернациональной бригады в Испании и организатору одного из первых на Волыни колхозов, конечно же и карты в руки…
Ганус уже отдал срочное распоряжение найти Степана Жилюка, живого или мертвого, но выяснилось — черт побери, как он этого не учел? — что Жилюк после роспуска КПЗУ очутился вне партии, выбыл из нее механически и конечно же не мог руководить какой-нибудь партийной инстанцией. Ганус заколебался.
Гестапо и его агентура никак не предполагали, что незадолго до начала войны Степана вызывали на парткомиссию ЦК и там, в столице, восстановили в партии, как одного из активнейших ее бойцов. Этого они не могли знать и терялись в сплошной путанице.
И все же ниточка, хотя и тоненькая, часто обрывавшаяся, вела к нему, к Степану Жилюку. Догадки и мысли специалистов-гестаповцев вертелись все время вокруг него. Во-первых, нашлись люди, которые видели Степана на окраинах города, видели после отступления советских войск; во-вторых, ни в одной из организаций он не был зарегистрирован как рабочий или служащий; в-третьих, за все это время он ни разу не побывал дома, не проведал ребенка, хотя тот и находился у соседей… Все это, известное дело, наводит на мысль, что Жилюк личность глубоко законспирированная, к чему прибегают, ясное дело, не ради забавы. А если так, соображал Ганус, поменьше колебаний и побольше действия. Он раскроет этих Жилюков, он вытянет из них жилы!
Изучение материалов неожиданно привело начальника гестапо к мысли, что схватить Степана Жилюка не так уж и трудно. Поразмыслив, он даже начал ругать себя за то, что ему это не пришло в голову раньше и он не воспользовался таким обычным и легким способом, а выискивал особенные пути, на что даром потратил драгоценное время. В Глуше, в родном селе Жилюков, работает старостой Адам Судник, по сути давний сообщник Степана; далее — в партизанском отряде, действующем в лесах неподалеку от села, находится жена Степана Жилюка. Стало быть, рано или поздно они захотят встретиться, будут искать встречи. Но самое главное — единственный ребенок Жилюка, который находится у соседей в Глуше, может быть изъят. И какая же мать или отец не пойдут на риск ради своего ребенка?! Он, Ганус, был бы последним дураком, если бы пренебрег таким замечательным стечением обстоятельств. Итак: вести самое пристальное наблюдение за хатой Гривняка, где находится ребенок. Это одно. Второе: припугнуть старосту, принудить его выслужиться в этом деле.
Адама Судника вызывали в Копань.
«Это уж за что-то влетит, — беспокоился староста, — не попало от своих, так эти всыплют. Дадут по самую завязку… А будь она проклята, такая служба!» Но ехать все же надо было, никуда не денешься. Адам на всякий случай попрощался с домашними, взял в дорогу небольшой узелок и рано утром подводой выехал в город.
Ехали не торопясь. Куда ему в лихую годину торопиться, рассуждал Судник и часто сдерживал ездового, замахивавшегося кнутом на лошадей.
При въезде в город у них проверили документы, перетряхнули все на возу и только потом отпустили. «Трясло бы вам в печенках, псы проклятые!» — ворчал, отъезжая, староста.
Удивительно: он — староста, представитель законной власти, а власть ему не доверяет… И он ругает эту власть на чем свет стоит, а имел бы силу — разогнал к чертовой матери. Дожил!
Пока воз гремел и подпрыгивал на выбоинах разбитой гусеницами танков мостовой, Судник успел и уничтожить эту новую власть и вроде бы даже оправдать ее. Потому что какая же власть не защищает себя? Хватило у него времени и над собой посмеяться, что он нередко делал и к чему прибегал охотно в трудные минуты своего простого, но чрезвычайно богатого событиями и не совсем понятного ему самому существования. И, когда наконец подвода остановилась перед домом гестапо, Адам даже растерялся и не мог сообразить, зачем он сюда приехал и какое имеет к этому учреждению отношение. Если бы возчик не отозвался первым, не напомнил, что приехали, пора, мол, сходить с воза, он наверняка выругался бы по привычке и крикнул: «Паняй, что стал?»
Но каким бы ни были его раздумья, какой длинной и тряской ни была бы дорога, которой он ехал, и как бы ни ругал он своих новых начальников, то основное, что вошло в его жизнь теперь, на склоне лет, жило в нем нерушимо. И это второе его «я» сразу же напомнило Адаму, кто он и почему именно его вызвали в этот дом, в это учреждение, от которого все люди да и он сам шарахаются, как от пекла.
Медленно, нехотя слез он на землю, отряхнув сено, приставшее к его не так давно купленным городским штанам (что правда, то правда: первые штаны он купил, когда женился, вторые — весной, перед самой пасхой, а до этого времени ходил в полотняных, ольхой крашенных) и суконному пиджаку, поправил фуражку и направился было к калитке, на полдороге о чем-то вспомнил, вернулся к ездовому.
— Ты, Трофим, подожди меня, я недолго. Отъезжай вон туда да покорми пока лошадей.
Умостил получше узелок на возу, упрятал его поглубже в сено и пошел.
Блестя лысиной, немец в очках сидел за широким столом в противоположном конце длинной-предлинной, как казалось Адаму, комнаты.
— О-о, господин Судник! — прогугнявил немец и направился навстречу старосте, как к давнему знакомому.
«Век бы тебе так господствовать!» — мысленно пожелал ему Адам, но низко поклонился.
— Битте. Садись. — Немец чуть ли не втиснул Адама в мягкое, словно из пуха, кресло. — Ви куришь? Найн?.. Карашо!
Адам тонул в кресле, ерзал, опираясь на локти, с недоверием смотрел на фашиста и никак не мог понять, что тому от него нужно, зачем вызывал.
— Господин Судник, — наконец деловым тоном обратился к нему начальник, — ми хотель… — И, с трудом подыскивая слова, начал расспрашивать его, что он знает о местопребывании Степана Жилюка, своего односельчанина, недавнего председателя колхоза, к тому же еще бывшего бойца интербригады, а еще раньше руководителя подпольной партийной ячейки КПЗУ. О том, что он, Судник, имел доступ в эту ячейку и часто посещал ее собрания, начальник умолчал.
«Так вот чего ты от меня захотел! — подумал Адам. — По Степану Жилюку скучаешь! Хочешь, чтоб я его выдал… А дулю с маком не хочешь? — вдруг круто повернул свои мысли Судник. — Хотя я вроде бы и ваш и на службе вашей, но не дождешься! И не потому, что я и сам не знаю, где этот Степан, а потому, что дураков теперь нет, вывелись. Еще, слышь, увидим, чей верх будет, чем все это кончится. Может, мне еще со Степаном мириться придется, а вас всех к чертям на сковороду… Может, вас всех ветром выдует… Поищи-ка дурачка в другом месте, а я учен!»
Такие мысли мог бы прочитать начальник гестапо в голове глушанского старосты Адама Судника. Но читать чужие мысли он не мог, а Судник, разумеется, их не высказал. Он действительно был научен своим горьким опытом и поэтому всячески изворачивался в ответах, хитрил, не говорил ни «да», ни «нет», опасался, как бы не ляпнуть, не сболтнуть чего-нибудь такого, за что этот чернорубашечник мог бы ухватиться. Адам ерзал в кресле, грыжа его мучила, и сидеть ему было действительно очень неудобно в этом господском кресле. Ему было очень нелегко, ох как нелегко вести эту затянувшуюся беседу. Он уже проклинал тот день и час, когда его избрали старостой.
— Ви почему все время крутитесь? — не выдержал наконец гестаповец, пристально сверля собеседника зрачками своих маленьких остекленевших глаз. — Ви хотель уходить?
— Не привык я, господин начальник, на таких сиденьях сидеть.
— Ви может встать! — скорее уловил по интонации, чем понял сказанное староста.
Кое-что из беседы он сообразил: до сих пор его прощупывали, и вся эта вежливость — наигранная, неискренняя, а свое настоящее нутро гестаповец только сейчас начинает показывать, вместе со своими волчьими клыками. «Холера ясная, — вспомнил Адам любимую поговорку своего бывшего друга Андрона Жилюка, потому что, собственно, вокруг Жилюков и вертелись сейчас все его мысли. — Не божиться же мне, не присягать, что я и вправду ничего не знаю о Степане Жилюке. Все равно не поверит…»
Однако он и божился, и говорил, что присягнуть готов, и прочее, когда из длинной и сердитой тирады немца понял, что его, Судника, как партизанского ставленника («Новое дело!» — ужаснулся староста), который саботирует исполнение приказов оккупационных властей и у которых (перед этим начальник гестапо запросил из канцелярии какие-то бумаги и теперь все время в них заглядывал) очень низкий процент отправки в Германию рабочей силы, что по законам военного времени такого старосту они могут повесить на страх и в назидание другим. Но он, шеф гестапо, не будет пока торопиться, а вверенной ему властью дарует Суднику жизнь, милует его, с тем, однако, условием, что староста исправится и докажет свою преданность на деле, поможет поймать Степана Жилюка или хотя бы наведет на его след.
— Ферштейн, господин Судник? — снова мягко улыбнулся гестаповец. — Мне будит… приятно вешать на ваш, — он приложил ладонь к груди, так что пальцы коснулись горла, — на ваш шей не верьевка, а крест… битте, орден, — ткнул себя в грудь, где болтались два металлических крестика. — До свидайн, господин Судник!
Когда шеф распорядился выпустить старосту, тот вылетел на улицу как ошпаренный, забыв и о своей грыже, и об усталости, и обо всем, что сейчас говорил гестаповец. Остались только неотвратимая жажда одиночества, желание бежать за тридевять земель.
VII
Софья не могла себе простить, что до сих пор, пока было свободнее в селе и кругом шныряло не так много полицаев, она не взяла Михалька к себе или не подыскала для него безопасного места. Сначала, на первых порах, Михалька трудно было взять с собой, потому что отряд чуть ли не каждый день переходил и переезжал с места на место, скрываясь от карателей. А позднее, когда они отхлынули, исчезли, можно было хоть раз в неделю наведываться в село. А с тех пор, как потопили баржу и совершили налет на станцию, полицаев в Глуше увеличилось, чаще делали свои бандитские налеты «сечевики» и, говорят, появились какие-то неизвестные лица, которые именно ими, Жилюками, интересуются — тайно, конечно. Да и Катря предупреждала, чтобы были осторожнее, не наведывались, потому что за ее двором, особенно ночью, следит полиция. «Так оно и должно было случиться, — соображала Софья. — Ведь всем известно, где я. Да и о Степане, может быть, кое-что знают, догадываются, а может, и наверняка знают».
Софья никогда не жаловалась на судьбу, но даже самых приспособленных к невзгодам бродячей жизни людей иногда обступают размышления, которые неизбежно порождают, пусть даже временные, колебания и сомнения. Софья понимала, что это случайность, состояние, несвойственное ей, что все пройдет, как только уладится с ребенком, и вместе с тем думала-обмозговывала, как, каким способом, выйти из положения, — чуяла своим материнским сердцем, что над Михальком собираются темные тучи, которые прольются не благодатным, а отравленным дождем. В последнее время даже Гураль, который раньше утешал ее, уверял, что не тронут немцы ребенка, — даже Гураль и тот начал избегать разговоров на эту тему.
На записку, переданную Степану, долго не было ответа. Очевидно, в конспиративных условиях не так легко было сразу вручить ее адресату, а когда Степан откликнулся, посоветовав немедленно забрать ребенка в лагерь, когда Софья пришла к такому же решению, — выяснилось, что гестапо их опередило: полицаи, которые долго выслеживали Софью, рассчитывая схватить ее во время посещения дома Гривняков, вдруг схватили и увезли Михалька. Эту страшную весть принесла Маня, племянница глушанского лавочника, приехавшая в начале войны к нему в Глушу якобы из Варшавы. Теперь же, видя, что молодых женщин ловят и увозят в Германию, решила обмануть глушанских полицаев и убежала. Она долго блуждала по лесу, пока партизаны не задержали ее и не препроводили в лагерь.
Многих действительно отправляли в Германию, и правдивость ее рассказа не вызывала сомнений, а принесенная и с болью, со слезами на глазах переданная весть расположила к ней сердца многих, особенно Софьи. Это и решило дальнейшую судьбу Мани. В отряде было несколько женщин, и, посоветовавшись, партизаны пришли к выводу, что Маню надо оставить в лагере, чтобы спасти ее от фашистских ищеек. А Маня, так близко принявшая к сердцу трагедию с Михальком, тут же начала советовать, как спасти его. У нее, мол, есть знакомые в местной полиции, и она уверена, что за деньги сможет подговорить кого-нибудь выкрасть ребенка, а потом можно переправить Михалька в город и укрыть у верных людей. Она даже назвала имена этих людей, проживавших в городе. Пусть Софья не сомневается, все будет хорошо.
— Интересное предложение, — высказался Гураль, когда Софья изложила ему суть этого плана. — Гестаповцы только и ждут этого. Им во что бы то ни стало надо напасть на след ваш или Степана. Если хотите, они даже будут способствовать такому плану, закроют глаза на все, что будет делаться, зато потом неотступно пойдут по пятам, и никуда не денешься. Вы же Михалька обратно Катре не отдадите?
— Что же делать, что? — слушала, но не слышала доводов Устима Софья. Слезы и ужас стояли в ее глазах, она за одну ночь осунулась, появилась седина, и Гураль с болью и горестью смотрел на нее.
Они сидели вместе — он, Софья, Андрон и Андрейка — и все вместе не могли придумать ничего существенного.
— Степану об этом пока ничего не передавать, — твердо сказал Устим. — Сами найдем выход.
— Пустите меня, дядя Устим, — просил Андрейка. — Я же знаю там все входы и выходы. Марийку возьму с собой, она поможет.
— Знаю, Андрейка, что ты герой, но не пущу, — сказал Гураль. — И вообще, — погрозил пальцем, — смотри мне… со своей Марийкой.
Андрон сидел молча, грустно свесив голову. Известие так потрясло его, так ошарашило, что старик сам на себя стал не похож. Никогда его сердце не грызли такая жгучая горечь, такая безысходная печаль; эта горечь заглушила в нем все другие чувства, и он не знал, не ведал, что сейчас можно говорить, что советовать, кому советовать. В голове его шумело, как шумят верхушки одиноких сосен на опушке леса.
Группу действительно послали. Два дня разведчики шныряли возле усадьбы графа Чарнецкого, где с приходом оккупантов разместилась полиция, и возвратились ни с чем. Везде охрана, не подступить. На что уж Андрейка готов был пойти на все, чтобы только спасти Михалька, но и тот убедился — не пройдешь. Мельчайшие лазейки были закрыты.
Эти черные дни безжалостно терзали и мучили Софью. Она хотя и старалась держаться, сохранять видимость мужества, но все вокруг понимали, что сердце матери разрывается на части. Ее горе передавалось другим, давило на сердца всех и в какой-то степени сказывалось на боевой жизни отряда.
Живой и сметливый Иван Хомин подошел как-то к Гуралю с вопросом:
— Ну, так как же, Устим? Неужели так подарим швабам, так и оставим это дело? Рискуем везде, а тут… кишка тонка?
Устим понимал, что стоит ему только дать согласие — и в отряде найдется много смельчаков, готовых вступить в открытый бой с полицаями, чтобы вырвать ребенка из когтей гестапо. Не будь он командиром, он и сам требовал бы этого, сам пошел бы в числе первых. Но командир отряда не мог решиться на такой безрассудный шаг — бросить людей на верную гибель. Кто на этом настаивает, тот не понимает безрезультатности такого налета. Во всяком случае, сейчас, когда гестаповцы только этого и ждут.
— Нет, не могу, — решительно ответил он Хомину.
— Я понимаю, все понимаю, — говорил Хомин, меряя шагами землянку. — Но ты посмотри, что с Софьей делается…
— Что ты меня носом тычешь? — в сердцах проговорил Устим. — Не слепой, вижу. И не хуже тебя.
— Эх, что с тобой говорить! — махнул рукой Хомин. — Командирово дитё погибает, а мы…
— Бывает, и командировы дети гибнут. Случается, и сами командиры умирают. Война!.. Ты лучше всем своим скажи, чтобы прекратили разговоры… не время.
Они впервые расстались, не пожелав друг другу доброй ночи, словно холодок отчужденности и легкой неприязни прошел между ними. Гураль выждал, пока немного уляжется волнение, и вызвал дежурного по штабу уточнить обстановку. Он делал это каждый день, хотя и сам знал не хуже дежурного все, что происходило вокруг и в самом отряде.
— Что нового слышно? — спросил чуть приглушенным голосом.
— Особенного ничего, товарищ командир. Группы еще не вернулись с задания… — отвечал дежурный.
«Знаю, что не вернулись», — все еще мысленно волновался Гураль, а вслух как можно спокойнее продолжал:
— Еще что?
Дежурный отвел взгляд.
— Люди попрекают, товарищ командир, разговоры разные идут по поводу…
Этого Гураль ожидал. Знал, что есть люди, которым не по душе его твердость. «Женщины! Это все они. Ни одно дело без них не обойдется, — раздумывал. — Не слишком ли много их в отряде?»
После разговора с дежурным Гураль покинул землянку.
Над Пильней висела ночь. Она опускала на урочище длинные сизые пряди, которые, пробиваясь сквозь ряды вековых елей, расплывались в буйной, но уже тронутой первой позолотой зелени. Однако от этого пряди не становились светлее, а темнели, ложась на деревья и кустарники, тянувшиеся по овражкам.
У землянок, рассыпавшихся по невысокому пригорку, слышались женские голоса, дребезжащий звон ведер, посуды. Поодаль, на хозяйственном дворе, раздавалось вперемежку с голосами тихое мычание коров. «Не партизанский лагерь, а фольварк, — подумал Гураль. — Не дай боже беды какой-нибудь! Надо что-то менять. Отряд должен быть подвижнее, без таких вот хвостиков. А куда они теперь денутся? Может, с самого начала не надо было их принимать… Но разве тогда было до этого? Кто бежал из села, того и принимали…»
Послышались близкие шаги. Устим невольно, по выработанной лесной жизнью привычке, прислушался, всмотрелся в темноту — никого не видно. У землянки выросла женская фигура.
— Ты, Анна? — окликнул жену.
— Иди ужинать, — отозвалась та.
Устим промолчал, ничего не ответил, и Анна подошла к нему:
— Пойдем же, ужин готов.
— Давай сюда. На пеньке вот здесь и поем.
Вечер был теплый, звездный, и Гураль уютно пристроился на широком замшелом сосновом пне. Анна села на бревно рядышком, печально смотрела на мужа. Как он изменился! Дома, бывало, и шутку бросит, и поделится с нею мыслями, а теперь как будто подменили его. Стал суровый и молчаливый.
— Ты чем-то встревожен, Устим? — начала робко Анна.
Молчанье.
— Может, нездоров?
— Нет, я здоров. А только если и ты об этом начнешь, то иди лучше спать.
— О чем ты, Устим?
— Сама знаешь о чем. Все вы там в одну дуду дуете. И Софья, и ты, и другие. Гураль такой, Гураль сякой, не хочет спасти ребенка. — Он поставил миску на землю. — Только что Хомин был, эту же песню пел.
— Напрасно укоряешь, Устим. У кого что болит, тот о том и говорит.
— Значит, у всех у вас болит, одному мне наплевать? — прервал Анну. — Что я, воевода, который может людей бросать, куда хочет? С меня за каждого спросят, тот же Степан…
— Все это так, Устим, но видишь ли…
— Вижу. Но отряд губить никому не дам.
Анна умолкла. Послушать его — он тоже прав.
— Вот ты собрал бы людей да так им и объяснил, растолковал, — проговорила после паузы. — А то все в сердцах говоришь. Люди разное думают. Все ведь хотят лучшего.
«Гм, смотри ты, она как будто верно говорит, — подумал Гураль. — Завтра же поговорю с командирами групп, с активистами». Подумал, однако и виду не подал, что принял совет Анны.
— Ты вот что, — сказал после небольшой паузы, — иди ложись спать. А я еще посты обойду.
Помог ей собрать остатки ужина, проводил к землянке и пошел в чащу, только сухие ветки легко хрустели под ногами.
Партизанский лагерь находился километрах в десяти от Глуши, рядом с урочищем, среди густого девственного бора. Когда-то этот участок отводился для вырубки, даже начали лесопильню, или, как говорили в народе, пильню, сооружать, чтобы на месте вести распиловку стволов, но потом что-то помешало, дело заглохло. Лес, который успели свалить, частично вывезли, много сваленных деревьев брошено под открытым небом. Об этом предприятии люди стали забывать, но за урочищем с тех пор прочно закрепилось название — Пильня.
Гураль хорошо знал эту местность, он даже сам ходил сюда наниматься пильщиком, и, когда встал вопрос о надежном и безопасном размещении лагеря, ничего лучшего, по его мнению, не надо было и искать.
Урочище глубоко вдавалось в непроходимое болото, через которое могли пробраться только знавшие тайные тропинки между трясинами. От села, с востока, лагерь был защищен почти десятикилометровой толщей густого, поросшего орешником, глодом, волчьим зубом, крушиной и бог весть какой растительностью леса. Узкие просеки, прорубленные когда-то к лесопилке, так заросли кустарником, что пробраться сквозь него было невозможно. Глушане пробивались сюда несколько дней, расчищая узкие, извилистые проезды, тут же заваливая их хворостом и валежником.
Дорога в лагерь все же была. Ее начало оттуда, от села, отыскал бы не каждый, потому что ее тщательно замаскировали, а если бы случайный прохожий и попал на нее, то прежде всего он очутился бы в руках партизанских дозорных. Но несмотря на удачное и надежное, казалось бы, расположение отряда, посты выставлялись днем и ночью. И Гураль, если не был занят каким-либо другим неотложным делом, обходил их, проверял, беседовал с дозорными. Иногда, правда, это делала Софья, его заместитель, или, как ее называли в отряде, комиссар. Устим сам рекомендовал Совинскую — в целях конспирации Софью решили называть по ее девичьей фамилии — на эту, так сказать, должность, был доволен ее сметкой, умом и неутомимой умелой работой с людьми, ее советами.
…Поздним вечером после обхода постов возвращался Гураль к себе. Возле штабной землянки его ожидал Роман Гривняк. Командир подрывников стоял с дежурным по отряду и еще несколькими партизанами. Среди них стояла и Анна. Устим почувствовал что-то неладное.
Увидев Гураля, Гривняк отделился от стоявших и подошел к нему.
— Товарищ командир… — начал было докладывать по форме рапорта, но Устим прервал его коротким жестом и буднично, по-деловому спросил:
— Нашли что-нибудь?
— Снаряды. — И Роман поднял с земли и поставил на пенек снаряд.
Гураль провел рукой по холодному металлу, будто погладил его.
— Много?
— До черта. Только разбросаны. Надо посылать подводы и людей.
Роман с группой партизан ходил километров за тридцать, на довоенный артполигон, в поисках снарядов. В артиллерийских снарядах была взрывчатка, которая и привлекала партизан. Как ее извлечь оттуда, толком никто не знал, но допустить, чтобы такое добро, ценившееся у партизан дороже золота, пропадало, они не могли. Без взрывчатки партизанам и шагу не ступить.
— Еще что? — Гураль заметил какую-то общую встревоженность.
— Плохи дела, Устим. — Гривняк взял из рук Анны небольшую листовку, подал командиру. — Михалёк Софьин вроде заболел. Немцы порасклеивали вот эти объявления, чтобы кто-нибудь из родных явился.
Гураль присветил тусклым фонариком, всматривался в редкие строки, отпечатанные на пишущей машинке, и ничего не видел. Молчал.
— Это ловушка, — сказал наконец. — Я уверен. Утром кого-нибудь пошлем, пусть выведает у полицаев. А Софье пока не говорите.
— Она уже знает.
Устим вздрогнул.
— Я ей первой сказал, — добавил Гривняк.
— Где она?
— Наверное, в землянке.
Предчувствие чего-то недоброго, непоправимого охватило Устима.
— Ладно, идите отдыхать, — коротко сказал партизанам, а сам быстрым шагом направился к Софьиной землянке.
Землянка была пуста. Вскоре после того, как Софья узнала от Гривняка новую ужасную весть, она бросила все и стремглав побежала в Глушу. Дозорные видели ее, но задержать не посмели.
VIII
Подпольный горком состоял в большинстве из бывших членов КПЗУ, которые не эвакуировались, а по роду своих занятий были далеки от «политики» и, естественно, не могли сразу вызвать подозрения полиции. Степан понимал, что подпольный комитет, работая в чрезвычайно сложных условиях, вынужден с особой осторожностью искать и вовлекать в работу деловых, закаленных в длительной борьбе людей. И чем больше будет в организации специалистов — пусть даже не высокообразованных, но опытных, — тем лучше пойдут дела. Конечно, ни он, ни люди, которые с ним работали, никогда и не думали, что настанут такие времена, когда многим из них, платившим по́том, кровью и даже жизнью за самые маленькие шаги цивилизации в своем лесном крае, придется все разрушать, взрывать, уничтожать. Все, начиная от колеи, выводившей их из болот, из диких, девственных пущ, кончая водокачкой, электростанцией или домом, в котором поселились захватчики.
Подпольщикам не давал покоя железнодорожный узел. Через Копань днем и ночью грохотали эшелоны с танками, орудиями, солдатами и боеприпасами. На восток, на восток, на восток… Каждый раз грохот этих тяжелых составов отдавался болью в сердце Степана, каждый раз напоминал о директиве центра «активнее взрывать воинские эшелоны». Да, да. Взрывать. Чтобы щепки летели, чтобы оккупанты и костей своих не могли собрать. Но самые лучшие порывы, самые смелые планы каждый раз тормозило одно: нет взрывчатки.
Правда, подрывники не сидели без дела. В ход пускалось все, что могло привести к аварии. Подрывники даже прибегали к таким простым способам, как отвинчивание гаек и разведение рельсов. Им удалось пустить под откос несколько эшелонов.
Самой значительной была операция по уничтожению эшелона с тяжелыми танками. Смерть поджидала захватчиков на мосту через реку Стоход. Тяжеловесная, тысячетонная масса, двигавшаяся с большой скоростью на спаренной тяге, наткнулась внезапно на препятствие и на полном ходу врезалась в насыпь противоположного берега реки.
Это случилось на рассвете. Страшный грохот, взрывы, пронизанные предсмертными криками, разбудили жителей окрестных хуторов. Однако никто из крестьян не торопился к месту аварии. Напуганные чудовищной картиной, они поняли, что произошло крушение воинского эшелона, и молча наблюдали за клубами черного дыма, взметнувшегося над колеей железной дороги. Только утром, когда их силой погнали расчищать пути, увидели они последствия ночной диверсии: два сверхмощных паровоза лежали, перевернувшись, выставив множество своих блестевших стальных ног, а дальше — тлеющие обломки платформ, искореженные танки и трупы, трупы… Колея и мост вышли из строя на целые сутки, и только к середине следующего дня немцам удалось кое-как наладить движение на этом участке. На дрезинах, автомашинах и на подводах возили оттуда мертвые тела, подъемными кранами поднимали уцелевшие, вросшие в болото танки, увозили ящики с военными грузами.
— Наделали хлопцы шуму, — вполголоса переговаривались крестьяне и с ожесточением вытаскивали из-под обломков раздавленных, изувеченных фашистских солдат. — Не поймешь, где чья голова.
Эта и другие серьезные диверсии, проведенные без единой для подпольщиков жертвы, подняли боевой дух и настроение людей, показали, что при умелой организации даже без взрывчатки можно наносить врагу чувствительные удары. Активность подпольщиков обеспокоила оккупантов. Они спешно усилили охранные войска вдоль железнодорожной линии, особенно возле мостов, соорудили пулеметные гнезда, установили круглосуточное дежурство стрелков. Специальные наряды солдат днем и ночью патрулировали дорогу. Но партизаны и здесь нашли лазейку. Еженедельно, иногда и чаще, несколько самых опытных подпольщиков отправлялись в разные направления. Они отходили подальше от города, искали в селах надежных людей и с ними готовили операцию. Они выбирали место, маскировались и в интервалах между прохождением патрулей снова развинчивали гайки. Но если раньше они только раздвигали колею, то теперь цепляли крюками рельсы и лошадьми оттаскивали в сторону, где топили в болоте. Для ремонта колеи теперь оккупантам требовались не только рабочие руки, но и запасные рельсы, прокладки, шпалы… И главное — нужно было время. Время! От него теперь зависело все. Кто владел временем, тот и был здесь хозяином положения. Когда по железной дороге непрерывно двигались тяжеловесные составы, когда в городе и в округе не грохотали взрывы, оккупанты были довольны, они все делали для того, чтобы продлить такое время, зато подпольщики старались изменить его, сократить, насытить другим — страхом и беспокойством. И, когда это им удавалось, тогда вся округа гремела громами, а небо полосовали огненные молнии взрывов, вселявших в оккупантов страх, неуверенность и предчувствие своей гибели на советской земле.
Поэтому сообщение одного из разведчиков, что в партизанском отряде Гураля пробуют добывать взрывчатку из артиллерийских снарядов и авиабомб, которых у них там очень много, обрадовало Степана. Горком обязательно должен будет командировать кого-нибудь, но кого же, как не его. Во-первых, он знает местность и сравнительно легко доберется до Глуши. Во-вторых, он установит более тесную связь с отрядом Гураля. В-третьих, если подтвердится сообщение, что там много артснарядов, тогда они смогут неизмеримо усилить свои удары по врагу. О той радости, что он побывает в родных местах, встретит родных, Софью, увидит Михалька, нечего и говорить, — она целиком заполнила его сердце, каждую клеточку его организма.
В обыкновенном крестьянине-полещуке вряд ли кто мог заподозрить руководителя крупной дополнительной организации, за которым охотится гестапо. Благополучно добравшись до Глуши в предвечернее время, Степан Жилюк спустился в небольшую балочку, перекусил, отдохнул, а когда стемнело, не торопясь вошел в село. От Припяти, с лугов, тянуло прохладой, доносились ароматы скошенной отавы. Степан миновал первые хаты, пошел быстрее, и вдруг сердце забилось, словно ему стало тесно в груди: он увидел родной двор. Его охватило такое чувство, какое испытывал разве что тогда, когда вернулся домой из Испании. Тогда так же горячо обжигало душу, тугие спазмы сдавливали горло…
Как ему хотелось остановиться! Пусть на минуту, чтобы ступить на подворье, хоть бы постоять у пепелища, в котором такой мучительной смертью погибла его мать. Его старая, добрая, милая и печальная мать.
Вот уже и родной двор, от которого до сих пор отдает гарью, остался позади, а Степан всеми своими мыслями был там, ходил, касался обгоревших деревьев, и все его естество стонало от боли. Немедленно, сейчас, к Гривнякам, к кому-нибудь из Гуралей, наконец, к самому Суднику, но непременно обо всем узнать! От Судника, от старосты… «А что, — обрадовался внезапно мелькнувшей и, как ему показалось, наилучшей мысли, — не посмеет же он донести. А знает ведь больше всех».
Мысль и вправду была необычной, и Жилюк с надеждой ухватился за нее. У Гривнячихи можно попасть в ловушку полицаев, родичи Устима, если даже к ним благополучно доберешься, наверняка ничего не смогут сказать. А Судник и знает обо всем, и на полицаев у него не наткнешься. Да, он пойдет к нему.
Старосты дома не было. Домашние сказали, что его куда-то вызвали, куда именно — не знают, наверное, в графский дом, там теперь все их власти. Впрочем, он уехал давненько и, видимо, должен вот-вот заявиться.
Жилюк в дом не заходил, сказал, что зайдет позднее, поблагодарил и уже направился было к калитке, как у ворот остановилась подвода.
— Подождите, это, наверное, он, — проговорила старостиха.
Во двор действительно вступил хозяин. Он был озабочен и явно не в духе, потому что сразу же нашел повод поворчать на жену:
— И куда твои глаза смотрят? Хлам везде, а ей хоть бы что… Прибрать здесь некому, что ли?
— Люди вот к тебе, — сказала, не обращая внимания на его придирки, жена и, обиженная, пошла в дом.
Судник сразу обернулся, скользнул взглядом по незнакомцу.
— Добрый вечер, господин староста, — с низким поклоном поздоровался Степан. — Хотел бы переночевать в вашем селе, вот и пришел за разрешением.
— Откуда вы? Документ есть?
«Ты же, собака, неграмотный», — хотел сказать Степан, но сдержал и свою злость и досаду, что такие вот, как Судник, были когда-то в их рядах и что он, своевременно не раскусив его, доверял и даже делился с ним самым сокровенным.
— Конечно, конечно, — поторопился заверить, — есть и документ… Все по закону.
Староста молча протянул руку, и Жилюк достал из бокового внутреннего кармана потертый, засаленный бумажник, вынул аусвайс[13].
Судник вертел бумажку в жестких своих пальцах, силясь в темноте разобрать, есть ли печать.
— Давно грамоте обучились, господин староста? — строго спросил Жилюк.
Староста вздрогнул, вытаращенными глазами посмотрел на незнакомца.
— Спокойно, господин староста, — сказал Степан. — Нас здесь никто не видит, поговорим по-хорошему.
— Степан! — вырвалось из уст Судника, и он покачнулся.
— Тише! И не вздумай шуметь!
— Бог с тобой, Степан…
Судник потянулся было к Жилюку, но тот резко остановил его, взял справку.
— Рассказывай: где отряд, что немцы о нем знают?
— Где-то в лесу. Вот толечко-толечко, совсем недавно, баржу потопили… на Припяти, с хлебом. Немцы ищут, но далеко в пущу заходить боятся. Подмоги ждут.
— Михалёк… у Катри?
Судник молчал. Он уже немного пришел в себя, перестал дрожать.
— Что с ним? — выяснял Жилюк.
— Не спрашивай, Степан, — мученически скривился Судник.
— Говори!
— Он… — Староста отвел взгляд, вперил глаза в серую, потрескавшуюся стену хлева. — Он там, в графском доме… они забрали его с неделю тому назад… А позавчера… Софья, говорят, сама явилась…
Степан едва удержался, чтобы не вскрикнуть. По телу разлилась какая-то свинцовая тяжесть, но мысли были ясными.
— Ты их видел? — спросил глухо.
Судник отрицательно покачал головой:
— Куда там! К ним никого не пускают. Приказано строго караулить… И еще тебя поджидают или кого-нибудь из ваших. Не вздумай заходить к Гривнякам… или к Гуралям… Лучше бы тебе не появляться в Глуше.
— Где их держат?
— В каком-то подвале.
— Расспросить, разведать можно?
— Не знаю… Этого не знаю… Не принуждай меня, Степан. Уезжай-ка из этого пекла, а Софью и Михалька, может, пощадят. Уезжай, не то сам пропадешь и меня в петлю втянешь. Шныряют гестаповцы кругом, тебя ищут.
— А что-нибудь знают?
— Говорят, будто ты в Копани. Но там же где-то и Павло… Может, путают.
— Вот что, — повелительно и уверенно сказал Степан, — сейчас повезешь меня в отряд. За кучера сяду я, а ты нужен, чтобы надежнее миновать заслоны. Понял?
— Понял. Но я… — скороговоркой лепетал Судник, — я, можно сказать, Степан… не то чтобы… но вроде бы враг партизанам… Да и дороги не знаю.
— Партизаны тебя не тронут. Хотели бы — так давно… Словом, со мной не бойся. А чтобы перед людьми свой грех искупить, их прощение себе заработать, помогай им.
— Да я уж и так… — вздохнул староста.
…Вскоре подвода миновала крайние хаты и свернула к реке. На мостике ее остановили полицаи, но, услышав голос старосты, тут же пропустили, и подвода быстро покатила в темноту.
IX
После стычки с эсэсовцами, которая обошлась ему более чем недельным вылеживанием в постели и едва не отбитыми легкими, Павло понял, что никакого сподвижничества, тем более дружбы с гитлеровцами у него не получится, что если у него раньше и были какие-то симпатии к людям в зеленых мундирах, как к своим сообщникам, то теперь они развеялись, оставив в его душе чувство ненависти. Павло хотел мстить за все: за удары сапогами, за позор, за утраченные надежды, которыми жил все эти годы и потерял теперь.
Иногда Жилюку казалась удивительной и непонятной такая резкая перемена в мыслях, однако времени и, главное, уменья разобраться в своих взглядах не хватало, и он продолжал жить по законам своих далеких предков, подчинялся своим инстинктам. В нем вдруг полным голосом заговорило человеческое достоинство, проявилось чувство мести за ложь и обман, и он, обозленный до умопомрачения, был сейчас готов на все, чтобы вернуть себе независимость, стать самим собою. Пусть он будет нищ и гол, но свободен от всяких обязанностей и уставов. С него, кажется, хватит. По самое горло сыт он обещаниями, сыт и тем, что имеет. Если за его старательность и преданность платят тычками в морду, то что же будет потом, когда он перестанет быть нужным, когда окончится война? Какова плата будет тогда?
Собственно, так далеко мысли Павла залетали редко. Тогда, во Львове, когда его окрестили дичаком, и теперь вот, после побоев, он заглянул в туманное свое будущее и, не увидев в нем ничего привлекательного, продолжал жить своей будничной жизнью. И ждал встречи с Лебедем — хотел открыть ему свою душу, высказать свои сомнения. Но шеф словно в воду канул. Как расстались тогда во Львове, с тех пор и не виделись. Знал, что тот в центральном проводе, а где он, этот провод, этот центр, — не знал. Слышал только, что и там неспокойно, распри и грызня, что Бандера и Мельник, два их вождя, никак не поделят между собою власть, и от этого на душе Павла становилось еще чернее и безрадостнее. Если уже свой со своим не поладят, то о чем же может быть речь? О каком сотрудничестве и содружестве? О какой самостийности и независимости? Везде будет господствовать только сила. У кого сила, у того будет и власть. Народ их не принимает, более того — ненавидит, оккупанты презирают… Они, по сути, находятся между молотом и наковальней. И выход у них один: создавать свою армию, противостоять двум враждебным силам. Трудно будет? Да! Легкого пути сейчас нет.
Старшина школы подстаршин лежал на койке в своей комнате, когда раздался стук в дверь.
— Друже старшина, — послышалось за дверью, — вас к начальнику!
Жилюк не сразу отозвался, он все еще находился в плену своих тяжких раздумий, и дневальный снова окликнул его.
— Да, слышу. Какого ты там… — хотел выругаться, но сдержался. — Сейчас иду.
— Приказано — немедля!
Шаги дневального отдалились, и Павло нехотя встал, потянулся.
— Ох-хо-хо… — зевнул Жилюк. — Жизнь твоя собачья, друже старшина, — обратился сам к себе и добавил: — Какому там лешему захотелось меня повидать, холера ему в бок?
Обычно ни его, ни кого-либо другого в такую пору не беспокоили, поэтому неожиданный вызов вселял некоторую тревогу. Павло надел френч, застегнул пуговицы, причесался и пошел на вызов.
По земле стелились тени. От стройных тополей, которые окружали двор, как печальные часовые, длинные, узкие полосы падали на мостовую, пересекали ее с запада и переламывались верхушками на высокой противоположной стене. «Время уже позднее, — размышлял Павло, — какое же и у кого может быть дело?»
В штабной комнате уже собрались отрядные, или, как их неофициально называли, командиры отделений. За столом сидели трое — сам начальник Шпыця (совсем еще недавно, до начала всей этой кутерьмы, говорят, он был директором какого-то техникума на Волыни), руководитель окружного провода ОУН Подгорняк и немецкий офицер-эсэсовец.
— Могли бы и не запаздывать, друже старшина, — не весьма деликатно заметил Шпыця. — Все явились вовремя, а вы заставляете себя ждать.
Тошнотворный ком подкатил к горлу Жилюка и чуть было не вырвался наружу крепким ругательством, но Павло удержал его, проглотил, промолчал.
— Садитесь.
Грузно садясь на стул, Павло ощутил на себе чей-то пытливый взгляд.
За столом пошептались, и слово взял Подгорняк. Жилюку однажды приходилось слушать руководителя местных националистов. Это было месяца два тому назад, когда они прибыли в Копань. На приеме, устроенном по случаю открытия их школы, Подгорняк говорил о высоком призвании каждого слушателя, об исторической миссии в освобождении Украины. На Жилюка он произвел тогда хорошее впечатление. Высокий, статный, с глубокими залысинами, в пенсне, Подгорняк внешне не соответствовал своей должности, с которой связаны беспощадность, жестокость и смерть. Руководитель скорее напоминал учителя, врача, юриста, и Павло, глядя на него, испытывал даже какую-то внутреннюю гордость: вот, мол, и у нас есть начитанные, мудрые и добрые люди. Дайте только нам волю — сами со всеми делами управимся!..
Сегодня Подгорняк начал с того же. Правда, сейчас, в присутствии офицера-эсэсовца, он ни словом не обмолвился о школе и ее назначении, о подготовке подстаршин войск ОУН, а все время хвалил, превозносил гитлеровскую армию, войска СС и Гитлера, желал им решающих успехов в священном походе на восток, призывал всеми силами крепить союз и дружбу с гитлеровцами.
Наконец Подгорняк подошел к главному вопросу своего выступления, из-за чего, собственно, они и прибыли в школу. В округе, по его словам, усилили свою деятельность бандитские отряды, именующие себя красными партизанами. Немецкое командование, продолжал он, предлагает нам принять участие в ликвидации партизанского движения. Мы будем действовать вместе со специальными отрядами войск СС. Чем быстрее будет покончено с этими бандитами, тем блистательнее и триумфальнее будет наша окончательная победа.
— Слава Украине! — закончил Подгорняк и вскинул вверх правую руку.
— Слава! — в тон ему отозвались собравшиеся.
— Хайль Гитлер! — выкрикнул Шпыця и вскочил, опережая эсэсовца.
Все повскакивали со своих мест, хайлькнули вразнобой и притихли, выжидая дальнейших событий.
— Через час все слушатели школы должны быть готовы к походу, — нарушил общее молчание Шпыця. — Через полтора, — поправился, глядя на часы, — ровно в восемь, выступаем. Остаются только дневальные и больные. Оружие получите в дороге. Можно разойтись.
Отрядные молча начали выходить из штабной комнаты.
— Старшина Жилюк, останьтесь, — повелительно бросил Шпыця и, когда комната опустела, добавил: — Поедете за оружием. Сейчас, немедля. Возьмите надежных хлопцев — и айда. С вами поедет господин офицер, — закончил он, уважительно повернувшись к эсэсовцу.
Павло тоже посмотрел на офицера, взгляды их встретились, и Жилюк понял, кто все это время так пристально смотрел на него, следил за ним. Очевидно, его фамилия говорила эсэсовцу многое. Слишком многое! Удивительно — почему гестаповцы до сих пор не заинтересовались им, Павлом Жилюком, родным братом того самого Жилюка, который, по их сведениям, руководит всем городским подпольем и которого они так долго, так старательно и трудно разыскивают? «Ведь им все обо мне известно». Они не знают только, что между ним и Степаном ничего общего нет, что их дороги разошлись чуть ли не тогда, когда его, молодого рекрута, бедняцкого сына Павла Жилюка, призвали в войско… Пожалуй, с тех пор. Потому что тогда же почувствовал в себе неудержимое стремление к службе, к четким армейским порядкам, и хотя к нелегкой, потной, но все же обеспеченной военной жизни. Когда же он наслужился, по самую маковку насытился этими армейскими порядками, военной жизнью, понял абсолютное несоответствие службы его личным помыслам и стремлениям, — было уже поздно: казарма настолько втянула, засосала его, что вырваться оттуда было невозможно. Если бы не эта гибельная война, которая мгновенно переколошматила все его планы, может быть, он чего-нибудь и добился бы, выслужился, идя тернистой дорогой армейской службы, а теперь… Все пошло прахом. Думал, хозяином придет на родную землю, будет свободным, а вернулся, холера ему в душу, батраком, наймитом, душегубом… дичаком ступил на отчий порог. Да разве они, немцы, эти эсэсы, могут это знать? И тем более понять? Им известно одно: он — их наемник. А с наемника надлежит требовать. Чем строже, тем, конечно, лучше. И наемник не должен на это обижаться. Он должен выполнять волю хозяина. Он не должен думать, — это делают за него другие. О нем заботятся, а в ответ требуют подчиняться. Если же он, неблагодарный, начинает размышлять, взвешивать или, чего доброго, бунтовать — он уничтожается, как элемент ненадежный, вредный для гитлеровского «нового порядка».
«Интересно, что они думают обо мне, могут ли они догадываться о моих подлинных мыслях? — рассуждал Жилюк, сидя в тряском кузове грузовика, мчавшегося по улицам вечернего города. — И скоро ли они потащат меня на виселицу за связь с партизанами? Следят же, наблюдают, выжидают подходящего момента, чтобы схватить. Без этого и дня не проходит — без виселицы, расстрелов, террора. И неудивительно, если и меня схватят… Еще бы, брат коммуниста! За кем же им еще и охотиться! Ясно. Но ошибаетесь, господа. Легко я вам в руки не дамся. Дудки! Не для того я учился в вашей школе, постигал вашу науку, чтобы вот так, за здорово живешь, и лезть в петлю. Мы еще повоюем, господа. Вы посеяли во мне ветер, и нечего теперь ждать затишья, — бурей, громом обрушусь я на вас. Такова моя — слышите? — натура, таков весь наш род жилюковский».
…Через час грузовик вернулся к школе, и Павло вышел из кабины. Там, в комендатуре, остались его крючковатые подписи, которые он вынужден был поставить на разных накладных, а в кузове машины лежало полсотни автоматов и ящики с патронами. Жилюк доложил, сколько чего получено, и Шпыця, меняя свое прежнее распоряжение, приказал раздать оружие. «Тем лучше, — подумал Павло, — меньше будет мороки в дороге».
Выйдя от начальника, Жилюк приказал построить людей.
— Внимание! — разнеслось по двору. — Становись!
Стрелки засуетились, забегали, отыскивая свои места.
— Стройся! — неожиданно даже для самого себя четко отдал команду Жилюк. — Направо равняйсь!
Десятки людей, как загипнотизированные, повернули головы вправо, застыли.
— Смирно!
Жилюк прошелся по плацу перед строем. Душа его пылала волнением, радостью, что-то несказанно великое, торжественное заполнило ее до краев, будило в нем пригасшие было чувства своего превосходства перед другими.
На крыльце появился Шпыця, важно сошел по ступенькам на землю. Павло, чеканя шаг, подошел к нему.
— Господин начальник! — сказал Жилюк, остановившись за несколько шагов перед Шпыцей и щелкнув каблуками. — Докладываю вам: сорок пять стрелков школы подстаршин готовы к походу, остаются только… — и он перечислил всех оставшихся на хозяйстве и больных.
— Вольно! — скомандовал Шпыця, и его команда эхом прошла через уста Павла, сняла со стрелков напряжение. — Друже старшина, — тихо сказал Шпыця, — вы что, забыли, как называется наша школа? — Однако сказал он это мягко, как бы между прочим: видимо, и ему было приятно чувствовать себя командиром, пройтись перед строем, перед глазами этих дебелых, бравых хлопцев.
А они стояли, как молодые дубки, кто выше, кто ниже, постарше и помоложе; были здесь и совсем юные, безусые. В темной, по-разному подогнанной униформе, в грубых, высоких ботинках и в новых, только что сшитых фуражках с двумя жестяными крест-накрест колосками спереди, на ободке.
«Эх, хлопцы, хлопцы, — любовался стрелками Жилюк, — обманули нас с вами, запрягли и понукают! Эх, если бы вы знали, хлопцы, какая ждет нас жатва…»
Что-то непонятное творилось в душе Павла, что-то в ней зарождалось и что-то угасало, угасало бесповоротно, навсегда. Павло и жалел этих молодых парней, и гордился ими, здоровыми, крепкими, достойными действительно высокого призвания, которое было у них еще впереди.
— Други мои! — как-то необычно обратился к стрелкам Шпыця; редко, но все же иногда он обращался так к подчиненным. — Сыны мои, соколы! Пришла и наша очередь на деле доказать свою преданность. Сегодня вместе с солдатами великого фюрера мы пойдем бить красных бандитов, которые попрятались в лесах и не дают нам спокойно жить, строить новый порядок. Будьте мужественны, други мои, благоразумны. Украина не забудет вашей доблести, имен ваших. С богом, сыны…
Теперь очередь его, Жилюка. Не для проповеди, нет, он их терпеть не может, — всякая мораль, пока она не материализуется, требует утверждения, часто насильственного, и он, старшина Павло Жилюк, должен обеспечить необходимые средства для ее утверждения. Сейчас таким средством является оружие, полученные им немецкие автоматы. Сейчас он раздаст их, а там… Что ж, не он первый, не он последний. Не будет его — будет другой, не сделает этого он — сделает другой. Такие времена.
— Отрядные — ко мне! — скомандовал Жилюк. — Оружие выдается строго по списку. После операции оно должно быть возвращено в целости и сохранности. Ответственность личная, по законам военного времени. Предупредите людей.
Кузов грузовика быстро опустел, вороненая сталь торчала из-за плеч стрелков, нацелившись в небо хищными черными зрачками.
Выехали, как намечалось, где-то около восьми, и пока машины петляли по улицам города, Жилюку и в ум не шло, куда же они едут. Он думал о Мирославе — сегодня они должны были встретиться, — о том, что она небось будет его ждать, беспокоиться, даже и не подозревая, что он в это время — где-то в лесу, в пуще, и смерть подкарауливает его на каждом шагу. Он думал… Но вот первая машина, в которой ехал Шпыця, возле базарной площади повернула на запад, и Жилюка резко встряхнуло, будто его тело коснулось оголенного провода с высоким напряжением. «Неужели? — Даже мысленно не решился назвать родное село. — Дорога ведет туда… Молчи, нечего теперь белить выбеленное, знал, на что идешь…»
Да, это была правда. Горькая, тягостная, по неотвратимая правда. И Жилюк, поняв сразу всю ее фатальность, сник, пал духом, и мысли его понеслись как мутная пена по быстрому течению реки. Он ехал в кабине второй машины, а наверху, в кузове, неумолчно звучали овеянные грустью песни, его любимые песни, к которым сейчас он был совершенно равнодушен.
А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну розвеселимо…Стрелки пели вполголоса, и песня таяла в мерном гудении мотора, в посвисте ветра, в вечернем, до краев наполненном таинственностью просторе.
X
Дом графа Чарнецкого никогда еще не жил такой немыслимой жизнью. С утра до вечера, а часто и среди ночи двор наполнялся шумом, отзывался раскатистыми винтовочными выстрелами, автоматными очередями, извергал каскады команд, пьяных выкриков, грязных ругательств, от которых шарахались лошади. Когда-то тихий, окутанный таинственностью, за которой прятались и барская жестокость, и скупая доброта, и частые семейные распри, дом Чарнецкого одним махом сбросил с себя пелену добропорядочности. От дома вдруг повеяло смрадом, холодным, смертельным духом. Глушане знали: кого забирали туда, тот назад больше не возвращался.
Софью бросили в полутемный застенок, и она уже несколько дней сидит там. Она никак не может осмыслить всего случившегося с ней. Как она, опытная и стойкая, осмотрительная, выходившая из сложнейших ситуаций, вдруг очутилась в лапах гестаповцев? Ее предупреждали, да и она сама предвидела возможность провокации, даже предупреждала других, чтобы не попались на удочку. И вот теперь сама очутилась в сетях… Она не имела права поступать так безрассудно. Ведь ход борьбы показывал, что гитлеровцы пришли сюда уничтожать людей, терзать и убивать, используя при этом самые жестокие, дикие, нечеловеческие приемы. Она была свидетельницей всего этого. На что же она рассчитывала, когда явилась спасать Михалька? Что после этого подумают о ней товарищи, Степан? Каким позором покрыла она себя! И где теперь искать выход, как вырваться из цепких когтей смерти?
Совинская металась по темной комнате, готова была грызть стены, биться об них головой. Она лихорадочно обдумывала возможные варианты спасения, а перед глазами в воображении стоял он, Михалёк, протягивал к ней свои ручки, звал, и она бежала к нему, бежала по кочкам, продираясь сквозь заросли лесной чащи. Бежала спасать сына.
Сквозь боль, обжигавшую огнем ее тело, сквозь горечь и усталость от бессонных ночей в ее сознании еще пробивался недавний и такой теперь далекий рассвет, когда она, добравшись до Припяти, уже там, у самого дома Чарнецкого, наткнулась на засаду и была схвачена. Как над ней издевались в то утро! Тогда, если бы была возможность, она наложила бы на себя руки.
После допросов и пыток, повторявшихся в тот день с педантичной точностью, ей, измученной и обессиленной, показали сына. О-о! Они хорошо знали, что делают. Они не знали только одного — характера и души борца, который может сделать ошибку, но на предательство не пойдет. Палачи просчитались. Она еще в их руках, они еще могут делать с ней что хотят, но и для нее и для них стало ясно одно: она ничего не скажет, никого не выдаст. Она пришла, чтобы увидеть сына. Пусть это безрассудный поступок, пусть она поддалась своему материнскому инстинкту. Ей надо было увидеть ребенка, и она своего достигла. Как, какою ценой — это уже другой вопрос. Мать платит всей своей жизнью, чтобы спасти дитя. Пусть ее накажут за такой поступок, но она останется человеком, бойцом, она никого не выдаст, не продаст. Записку такого содержания оставила Софья в своей землянке.
Узенькое оконце, едва серевшее под самым потолком, слилось с густой темнотой, которая заполнила всю каморку. Софья села на ничем не застеленный дощатый топчан. Вот-вот должны появиться крысы. Она изучила их повадки; как только темнело и она, измученная и усталая, садилась, крысы выползали из своих затхлых логовищ и всю ночь бегали, пронзительно взвизгивая, грызлись. Видимо, в каморке была кладовая, и крысы привыкли сюда наведываться. Об этом полицаи знали и решили посадить Совинскую именно сюда.
Крысы выползли, Софья угадала их появление по тихому писку и подобрала ноги. Знала, что их не прогнать, но все же зашикала, и по трухлявым половицам прошуршали крысиные лапки. На какое-то время стало тихо, слышалась только глухая возня под полом. Вскоре они снова появятся, и крысиный шабаш будет длиться всю ночь. «Попробую задремать, пока их немного», — подумала Совинская и легла на топчан. Едва она закрыла глаза, как до ее слуха донесся детский плач, до боли в сердце родной плач ее Михалька. Софья вскочила, забыв обо всем, бросилась к двери, припала к ней, вслушивалась, убеждаясь, что это ей не приснилось, не показалось, — плакал Михалёк. В коридоре раздались шаги, рядом открылась дверь, и детский плач послышался совсем близко, в нескольких шагах от нее, от матери. Софья неистово застучала в дверь. Она даже не просила, чтобы открыли, пустили ее к ребенку или принесли его к ней, стучала и стучала, словно была перед нею не крепкая и глухая дубовая дверь, а грудь того, кто разлучил, отнял у нее ребенка.
— Чего расстучалась, стерва? — послышался едкий голос с той стороны. — Сиди там, слушай своего щенка да помалкивай, не то достучишься!
Но она не понимала этих грубых слов, не чувствовала боли, обжигавшей руки, перед нею — там, за дверью, в нескольких шагах — стоял ее маленький сын, звал ее, плакал, и она ничего другого не чувствовала, не могла чувствовать сейчас.
Замок в дверях щелкнул раз-другой, дверь распахнулась, и Софья, потеряв равновесие, упала прямо к ногам полицая. Острый, с шипами носок немецкого ботинка, которого она чуть ли не касалась лицом, слегка приподнялся над полом, подался назад и с размаху ударил ей в грудь. Софья охнула, дыхание у нее перехватило, в глазах потемнело, и она скорчилась на полу.
— Я же тебе, суке, говорил — не стучи, — расслышала сквозь детский плач голос полицая.
— Дайте мне ребенка! — не своим голосом закричала Софья. — За что вы его мучите?
На крик прибежали еще несколько полицаев.
— Ребенка ей? Ха-ха-ха!.. Масюта, что же ты стоишь? Такое богатство…
Она лежала перед ними в разорванной легкой кофточке, волосы ее были распущены, они смотрели на ее прижатые к животу полуоголенные ноги, смотрели похотливыми глазами и продолжали издеваться.
— Такая молодица просит ребенка, а он стоит, как теленок… Ну-ка, хлопцы, берите ее, давайте сюда!
Полицаи подхватили Софью под руки, приподняли, поставили на ноги и не торопились вталкивать обратно в каморку.
— Значит, ребенка захотелось? Ай-яй-яй! Да вот же он, посмотри! Масюта, отопри.
— Там не заперто.
Словно какая-то гигантская сила толкнула Софью. Она рванулась, подскочила к двери, распахнула ее и на мгновенье застыла, словно окаменела. Перед нею был Михалёк. Они стояли лицом к лицу — мать и сынок. Вот сейчас она протянет руки и они подхватят это маленькое, бесценное и такое беззащитное существо, без которого она не может существовать, из-за которого она, мать, пошла на такие страшные муки.
— Михалёк!
Ребенок, стоявший босыми ножками на полу, перестал плакать, в его глазах засветилась робкая и тревожная радость.
— Ма-ма-ма… — залепетал он и неверными ножками заковылял к Софье.
Она переступила порог, наклонилась, подхватила сына и прижала к груди.
— Сыночек мой… мальчик…
Софья не успела даже поцеловать Михалька — боялась оторвать его от себя, заглянуть в глаза. Но тяжелая рука полицая уже легла на ее плечо.
— Хватит, довольно!
Софья обернулась вместе с ребенком — перед ней стоял Масюта, что-то говорил, кричал, но что именно, она не слыхала, не в силах была понять.
— Попрощалась — и хватит. На том свете наговоришься.
«На том свете»… вот он о чем!.. Нет, она не расстанется с сыном, никому его не отдаст. Нет, нет… не трогайте ее, она — его мать. Слышите?.. Мать!.. Что же они смеются? Они с ума сошли.
— Что ты там нянчишься, Масюта! Встряхни ее, чтоб и потроха вылетели.
Масюта схватил Софью за волосы, заломил голову, начал отнимать ребенка. Михалёк заплакал и обнял ручонками шею матери.
— Тебе, Масюта, надо овец пасти, а не в полиции служить, — подстрекали своего собрата полицаи. — Попроси ее получше…
— Ха-ха-ха-ха!
— Ох-ха-ха!
Волосатая, потная рука протиснулась к шее, схватила железными пальцами за горло и начала душить. Женщина задыхалась, жилы на шее надулись, лицо посинело. Сопротивлялась, вырывалась изо всех сил, неизвестно откуда прихлынувших к ней. Чувствовала: еще секунда — и она потеряет сознание, если не отгонит от себя это чудовище. Но как? Как? Софья напряглась, изловчилась и впилась зубами в волосатую руку полицая. Масюта вскрикнул, отскочил, выхватил пистолет и ударил Софью рукояткой по голове…
XI
Партизанская разведка донесла, что в Глушу прибыли два грузовика с вооруженными слушателями Копанской школы. Таким образом, вместе с эсэсовцами и полицаями гарнизон села насчитывал теперь около семидесяти человек. Прибывшие не начинали никаких действий, из чего нетрудно было догадаться, что в ближайшее время к карателям должно подойти подкрепление.
По всему было видно, что на этот раз гитлеровцы собираются нанести партизанам решающий удар.
На экстренном заседании партизанского штаба, на котором присутствовал и Степан Жилюк, постановили предупредить действия карателей, не дать им возможности сосредоточиться, и навязать бой по своей инициативе. Был составлен план операции, к выполнению которой привлекались соседние отряды.
Решили выступать в этот же вечер. Одна группа, во главе с Хоминым, должна была блокировать дорогу и подойти к Глуше со стороны Копани, другая, под командой Гураля, — со стороны Припяти, из-за леса. Из группы Гураля выделялся небольшой отряд особого назначения. В него вошли Андрей Жилюк, Марийка, Роман Гривняк и еще около десятка партизан, которые хорошо знали входы и выходы в графском доме и в случае необходимости могли действовать индивидуально. Возглавлял отряд Грибов — один из тех раненых красноармейцев, которые пришли к партизанам из окружения. Николай Грибов, как выяснилось, служил в батальонной разведке, и хотя большого опыта приобрести не сумел, но все же считался знатоком своего дела. Перед его отрядом стояла задача — проникнуть на графский двор, снять охрану и освободить Софью. Другие подвижные отряды, подгруппы получили задания действовать в районах, указанных штабом.
Степан Жилюк пошел с группой Гураля. Поздно вечером, спустя несколько часов после того, как выступил Хомин, они покинули лагерь, оставив в нем только раненых и необходимую охрану, и к рассвету вышли на опушку леса. Пойма лежала перед ними в пепельном тумане, за которым не было видно ни реки, ни Глуши.
Заранее высланная вперед разведка извещала, что прибывшие для участия в карательных операциях стрелки чувствуют себя уверенно, никаких особых признаков беспокойства не проявляют, а эсэсовцы и часть полицаев, засевших в графском доме, как всегда, настороже, но охраны не усилили.
Гураль в последний раз перед боем созвал командиров отделений, отрядов и подгрупп, уточнил с ними план операции, и те одна за другой исчезли в тумане. На опушке остался только Грибов со своим отрядом. Они ожидали Судника, который хотя и по принуждению, но согласился помочь партизанам проникнуть на графский двор. Староста почему-то не являлся, и это начинало беспокоить бойцов. «Не мог же он обмануть, — терялись они в догадках, — знает же, что за это поплатится головой…» А время шло, на востоке едва-едва посветлело. Поблекшие, холодные звезды время от времени срывались с невидимых орбит, летели в пространстве, оставляя за собою длинные серебристые хвосты. Одни из них сгорали мгновенно, другие прочерчивали полнеба и падали, казалось, в лес, в росистые прибрежные отавы. Некоторые были такими яркими, крупными, что Андрею хотелось поймать хотя бы одну и подарить Марийке.
— Выдумаешь такое, — шепнула девушка, когда тот поделился с нею своим желанием. — Нашел время шутить…
Андрей и сам понимал, что она права, что сейчас не время для таких разговоров, даже мыслей, но ему почему-то захотелось именно сейчас сказать Марийке что-то приятное, ласковое, потому что других условий, более подходящих, у них не бывает. Все время в тревогах и стычках… А юное сердце просит своего, чувства цветут в душе, не признают ни опасности, ни смерти.
По ту сторону реки, у села, взвились в небо две красные ракеты, и почти одновременно донеслись оттуда два глухих, как отзвук, выстрела. Какое-то мгновение мир завороженно следил за этими огненными струйками, а потом, словно очнувшись, разразился трескучими автоматными очередями, пулеметной скороговоркой, сыпнул со всех сторон пригоршни разрывных и трассирующих пуль. Ласковая предутренняя тишина лопнула, разлетелась на множество лоскутков, уступила место сорвавшейся с цепи, закрутившейся в свинцовом вихре, злобной тревоге.
Глуша наполнилась выстрелами, где-то сразу вспыхнул пожар, длинные языки пламени потянулись в звездное предрассветное небо. Вскоре в противоположном конце села поднялись такие же огненные языки, дальше еще и еще… В отсветах пожаров иногда мелькали фигуры людей, исчезали в темноте, и трудно было понять, чем они там заняты.
Потеряв надежду дождаться старосты, Грибов повел свой отряд к дому Чарнецкого. Незамеченными подошли к реке, притаились за кустами. Впереди, в серой мгле, чернели низенькие перила мостика и две фигуры. Часовые прохаживались, часто останавливались, посматривали на зарева, прислушивались к стрельбе. Видно было, что происходившее в селе беспокоило их больше, чем охраняемый ими мостик и даже графский дом. Грибов приказал не спускать с них глаз, передал Марийке свой автомат и вышел из-за кустов. К великому изумлению часовых, он совсем не маскировался, — наоборот, шел, пошатываясь, по дороге, напевая какой-то мотив. Издали он казался пьяным. Чем ближе подходил к мосту, тем громче становилось его пенье, а сам он развязнее.
Часовые на мостике остановились.
— Эй ты, падло, — послышалось с мостика, — чего расходился?
Грибов остановился, словно не понимая, где он и что с ним.
— Ну-ка, подойди сюда. Откуда ты взялся?
Разведчик направился к полицаям.
— Стой! Ни шагу! — приказали те.
— Да что вы, хлопцы! — продолжал идти, покачиваясь, Грибов. — Я же к вам, к начальнику вашему…
— Сейчас мы тебе покажем начальника! Давай оружие!
— Нету оружия…
— Обыщи его, Кость!
Партизан дал себя обыскать.
— Ни черта у него нет, — сказал тот, которого звали Костей.
— Что будем с ним делать?
— Как что? С моста да в воду. Не вести же его в штаб. Сволочь какая-то…
— А если и правда…
— Ну давай свяжем, пусть полежит, пока смена придет. А потом отведем.
Полицаи отошли, посоветовались.
— Иди сюда! Расстегни пояс да спусти штаны! — крикнул один, с тревогой поглядывая в сторону села.
Грибов подошел, поравнялся с ними и молниеносно схватил за автоматы, висевшие у них на груди, рванул на себя… Не успели полицаи опомниться, как на них навалились, сшибли с ног, отобрали оружие и, забив кляпом рты, связали по рукам и ногам. Человек, которого они и вправду приняли за пьяного, твердым голосом приказал:
— Лежите и не шевелитесь. Лучше будет.
Дальше отряд Грибова двинулся по берегу. Глуша оставалась километрах в двух левее, там клокотали пожары, справляли свое веселье огненные языки пламени, их отблески вспыхивали и здесь, на реке, отражаясь в ней багровыми заревами. По дороге между графским домом и Глушей временами проносились мотоциклы и автомашины.
За низинкой, где начинался парк, Грибов рассредоточил людей: половину партизан послал вперед, для блокирования двора, а с остальными пополз зарослями к графскому дому. Вот когда пригодилась Андрею его работа у графа! Кто-кто, а он знал самые потайные ходы, кажется, с закрытыми глазами мог бы обыскать все хозяйство. Низом, кустарниками, они пробрались в летнюю купальню, где когда-то скрытые от посторонних глаз густой зеленью господа нежились на солнышке, и полузаросшей тропинкой, прячась меж кустами, поднялись вверх. За хатой, в которой проживала раньше панская дворовая челядь и где Андрей не раз ожидал Марийку, остановились. Несмотря на переполох в селе, здесь, на графском дворе, было тихо. Повитые утренней мглой, досыпали в своих голубых снах ветвистые липы, а стремительные тополя словно стартовали куда-то в звездную вечность, да никак не могли оторваться от земли, от сизого, густыми ветвями вытканного сумрака.
Грибов не торопился, высматривал, прислушивался к малейшему шороху. И, когда убедился, что поблизости действительно никого нет, кивнул Андрею, и тот неслышной тенью проскользнул к двери, ведущей на кухню. Через минуту к нему присоединились Гривняк и Грибов.
Дверь была заперта. Надо было искать другой вход.
— Андрей, полезай в окно, — шепнул Грибов. — Замазку финкой отковырни.
Вдвоем они подсадили хлопца, и тот, стоя на их плечах, осторожно вынул из рамы стекло, раскрыл окно и пролез в темный квадрат. За ним протиснулись еще несколько человек.
В комнате пахло йодом, спиртом, — очевидно, здесь помещался медпункт. Медлить и долго раздумывать было некогда. Грибов приказал собрать все, что можно, из медикаментов и инструментария и передать Марийке за окно, а сам приник к двери, прислушался. Что там? Очевидно, сюда, в этот угол дома, наведывались только при крайней надобности. Грибов нажал на дверь, она подалась, и партизаны вошли в темный коридор, в дальнем конце которого, за поворотом, виднелся свет. Не успели они сделать и нескольких шагов, как в том конце, где был свет, резко и необычно для такого раннего времени зазвонил телефон. Он звонил долго, надоедливо. Наконец чья-то рука взяла трубку, послышалась немецкая речь. Ни одного слова из всего, что говорилось, понять не удалось.
Поскольку к телефону долго не подходили, по тону разговора и по тишине в доме было ясно, что людей в нем мало, действовать можно решительно. Оставалось теперь узнать, где, в какой комнате, находятся Софья и Михалёк. «Если она где-то на этом этаже, — рассуждал Грибов, — то должна была услышать стрельбу и каким-то образом отозваться на нее. Наверное, ее бросили в подвал. Но перед тем, как спускаться туда, надо прервать связь и разделаться с тем фашистом».
Едва слышно ступая, держа оружие наготове, пошли на свет. Проходили мимо дверей, многих дверей, которые каждую секунду могли распахнуться. Пройти это небольшое расстояние на цыпочках было не так легко. Они двигались медленно, оглядываясь, прислушиваясь к каждому стуку и шороху.
Но вот коридор пройден. В тусклом свете, положив локти на столик, спиной к ночным посетителям, сидел немец. Что он делал — дремал или читал, трудно было понять, да это, собственно, не очень-то интересовало партизан. Важнее было то, что фашистский солдат не проявлял никаких признаков тревоги, словно его вовсе не касались ни стрельба, доносившаяся сюда, правда, отдаленным эхом, ни частые телефонные звонки, которые чего-то требовали, на чем-то настаивали. Это было важно. Перед Грибовым стояла задача — выбор момента для неслышного броска. Так: дождаться очередного телефонного звонка…
Грибов терпеливо ждал. Нервы были натянуты, как тетива. И когда раздался звонок и эсэсовец, сняв трубку, приник к ней ухом, разведчик схватил его двумя руками за горло и разжал пальцы только тогда, когда солдат уже не подавал признаков жизни.
— Оборви телефон! — бросил он Андрею. — Теперь в подвал! Быстро!
Андрей побежал, за ним Роман и Грибов. На затемненной лестнице наткнулись на поднимавшегося по ступенькам человека.
— Кто здесь? — окликнул тот.
— Свои, — ответил Гривняк и бросился на спросившего, но тот отскочил, стал за угол и открыл огонь. В коридоре запахло пороховым дымом, осыпавшейся штукатуркой.
Когда перестрелка утихла, в одну из дверей застучали, послышался женский голос.
Андрей бросился по коридору на крик.
— Назад! — крикнул Грибов, но Андрей не слышал.
Добежав до выступа, за которым прятался стрелявший, он дал очередь. Но тот еще успел выстрелить, и Андрей одной рукой схватился за бок. Когда подбежали Грибов и Роман, полицай уже лежал плашмя на полу. Гривняк вырвал из его рук автомат, повесил себе на плечо.
— Кость не зацепило? — спросил Грибов. — Зажми рану.
— Кость цела, кожу царапнуло.
Грибов наклонился, снял с пояса полицая связку ключей, бросился к дверям. Ключей было много, и пока он подбирал нужный, Софья стучала в дверь, что-то кричала, но никто не прислушивался к ее словам.
Наконец Грибов отворил дверь. На пороге, держась за косяки, стояла седая, в синяках и в лохмотьях женщина. В первое мгновение она невольно зажмурилась, затем, вытянув, как слепая, руки, направилась к противоположной двери.
— Михалёк…
Грибов начал отпирать дверь, и пока он возился с замком, Софья, ни на кого не глядя, несколько раз повторила имя своего сына. Она была страшна в своем оцепенении и совсем не походила на ту недавнюю красивую женщину. Когда распахнулась и эта дверь, Софья упала на синий трупик. Это все, что осталось от ее ребенка. Потом она поднялась, не выпуская из рук сына, прижимая его к груди, пошла, напевая:
Гойда, гойда, гойдашеньки, Зимна роса на пташеньки…Следом за нею брели партизаны. Наверху их уже ждали, время от времени там вспыхивала перестрелка.
Ще зимніша на квіточки, Теж на малі сиріточки…Бой продолжался долго. Партизаны хотя и не были достаточно хорошо вооружены, зато прекрасно знали местность, самые безопасные подходы к селу, что позволяло им успешно маневрировать.
Роковой ошибкой карателей было то, что они разместились в доме бывшего сельсовета, а теперь сельской управы, у здания поставили машины, что дало возможность партизанам с самого начала перестрелки держать основные их силы под огнем.
Так продолжалось около часа, многие каратели, не успевшие уйти в укрытие, уже валялись на площади, на подворье. Но вот со стороны графского двора по песчаным улицам Глуши надсадно зарокотали мотоциклы, поливая дворы и огороды частыми пулеметными очередями. Вскоре заухали минометы, колошматя старые, насиженные гнезда полещуков. Село наполнилось дымом, то тут, то там вспыхивали языки пламени, слышались стон умирающих, крики раненых.
Посоветовавшись со Степаном, который все время был при нем, Гураль ракетой подал сигнал общей атаки. Громкое «ура» прокатилось со всех сторон села, десятки людей бросились на врага. Автоматный огонь вспыхнул с новой силой, но поскольку стреляли не прицельно, жертвы с обеих сторон были незначительны. Их, может, ненамного бы и увеличилось, если бы не загорелось здание сельской управы и те, кто там укрывался, ведя огонь из окон, не бросились бы на улицу.
Партизаны косили карателей, и они падали у крыльца, у машин, к которым бежали, ложились в последний раз на холодный песок.
Крестьянские парни умирали на земле, которая взрастила их, потому что все они или почти все были жителями Полесья, откуда-то из окрестных сел, когда-то, может быть, гуляли вместе на одних вечерницах. Среди умиравших были хлеборобы и пастухи, лесорубы и косари, были виноватые и невиновные, правые и неправые перед поступью новой жизни. Но война есть война, бой — боем, враг — врагом. И они уничтожали, убивали с каким-то остервенением — до тех пор, пока те, пришедшие сюда вместе с чужаками, не дрогнули и не пустились в бегство.
У здания сельской управы, которое все больше натягивало на себя огненную шапку, пуская россыпями искры, взревел мотор, и машина, сорвавшись с места, помчалась по улице. За нею — мотоциклисты-эсэсовцы. Вслед им засвистели пули…
Партизаны заняли площадь. У многих из них было по два немецких автомата, за поясами чернели запасные диски. Оставив часть людей тушить пожары, подбирать раненых и убитых, собирать трофеи, Гураль повел свою группу к графскому дому. Уже заметно светало, оккупантам могли выслать подкрепление, поэтому надо было действовать быстро. Ускоренным шагом отряд миновал село, и Степан еще раз с болью в сердце увидел большие кучи пепла, черневшие на его родном, еще совсем недавно звеневшем веселыми голосами дворе.
XII
Одним из первых осажденных в сельской управе карателей, кто понял бессмысленность дальнейшего сопротивления партизанам, был старшина Павло Жилюк. Он-то и начал лихорадочно искать выхода из положения. Как человек военный, он понял, что партизаны ведут бой по хорошо разработанному плану и что карателям из этой ловушки благополучно не выбраться. Надежда на быструю помощь таяла. Эсэсовцы, примчавшие на мотоциклах, сами попали под сильный огонь и вынуждены были залечь. Оставалось только внезапно выскочить из горящего помещения и попытаться на машинах вырваться из кольца.
Шпыця, однако, возражал:
— Надо держаться, хлопцы. Не может быть, чтоб нам не помогли.
«Дурак! Тыловая крыса! — мысленно ругался Жилюк. — Начнешь дымом давиться, тогда не так запоешь, холера тебе в бок…»
Когда в разбитые окна управы заглянули языки пламени, Павло еще раз подошел к запечью, где сидел Шпыця, и сказал:
— Друже начальник, надо прорываться…
— Я вас пристрелю, как паникера! — завизжал Шпыця. — Я давно вас…
Он не успел закончить фразы — пламя зловеще заискрилось и завертелось, поползло по оконному косяку, а вверху, на крыше, послышался тяжкий треск, что-то с грохотом рушилось, похоже было, что начали падать стропила.
Шпыця в испуге оглянулся.
— Друже начальник, — подчеркнуто официально сказал Павло, — это вам не в школе на ученьях… Хлопцы! Слушать мою команду!
Вокруг него сразу сгруппировались стрелки. Они переговаривались между собой:
— Не ждать же, пока накроет!
— Ко всем чертям такое дело!
— Пропадем здесь не за понюх табаку…
Павло резко прервал их:
— Где шоферы? Бартка! Вергун!
Из двух водителей подошел только один.
— Прорывайся к машине, заводи мотор! Мы прикроем!
Павло и несколько стрелков припали к окнам, автоматные очереди с новой силой понеслись в темноту.
— Марш!
Стрелки распахнули двери, выскочили в предрассветную муть, озаряемую пламенем. Их заметили, стрельба оттуда, из-за хат, усилилась, но стрелки уже не обращали на нее внимания, они мчались к автомашинам, как к последней своей надежде.
Павло выбежал последним, когда партизаны, видимо разгадав их замысел, перенесли огонь на машины. Он вскочил в кабину, потеснив сидевшего там, притихшего Шпыцю, крикнул водителю:
— Гони! Бери левей! Левее, холера тебе…
Из кузова вела ответный огонь уцелевшая при броске небольшая группа стрелков. Свист пуль, шлепанье мин, треск автоматов глушили слова и звуки, и все же они, Павло и шофер, отчетливо услышали, как звякнуло ветровое стекло и тяжко охнул Шпыця.
— Прибавь газ! — сказал водителю Жилюк, подпирая плечом оседавшее тело начальника. — Выскочим за село — перевяжем.
— Жжет! — простонал Шпыця, глубже вжимаясь в сиденье.
Павло посмотрел на него — лицо у Шпыци стало серым, осунулось. «Вот так, господин начальник, и все здесь! Меня пристрелить собирался, а о своей смерти и подумать не успел».
При выезде из села, за поворотом, откуда-то из-за крайних хат, по машине ударили из пулемета. Она еще проскочила около сотни метров и осела.
— Скаты пробило, — сказал водитель.
Он все еще нажимал на акселератор, принуждая мотор тянуть дальше, но усилия его были тщетны. Мотор надсадно ревел, чувствовалось, что он вот-вот остановится. Машина не двигалась, а ползла все медленнее. Мотоциклисты, объехав их, укатили вперед и засели в графском доме.
Жилюк открыл дверцу, встал на ступеньку и бросил в кузов:
— Слазь!
Стрелки соскакивали на землю, держа оружие наготове, прятались за грузовик на случай, если вдруг по ним опять хлестнут из пулемета.
— Хлопцы, — назвал троих по именам Жилюк, — ко мне! Перевяжите его!
Шпыцю вытащили из кабины, положили на кем-то подстеленный френч. Вся одежда его была окровавлена, а сам начальник едва шевелил губами. Видимо, он еще был в памяти, понимал, где он и что с ним, но преодолеть смерть не мог, — на это власть его не распространялась, а силы ушли. Стрелков, которые готовились перевязать его, он остановил, жестом подозвал Жилюка.
— Простите, — прошептал. — Передайте жене… Сыны мои…
На его ресницах блеснули слезы, да так и застыли в помертвевших глазах.
Стрелки стояли над холодеющим трупом и не знали, что с ним делать. У них не было ни лопат, чтоб выкопать яму, ни времени, чтобы вырыть ее чем-либо другим и предать тело земле… А там, позади, где еще клокотало пламя пожаров, под заборами, в бурьянах, лежали десятки убитых товарищей. Стрелки стояли на полевом раздорожье, среди мглистого рассвета, и с тревогой поглядывали то на село, то друг на друга. Как им всем хотелось жить! До сих пор они даже не думали, что так ценят жизнь, так в нее влюблены. Они не думали, что в такой серебристо-ласковый рассвет можно умереть, погибнуть и уже никогда не увидеть ни росистых трав, ни туманов, ни цепкого «бабьего лета», ни солнца. Ночь, которую они пережили, словно раскрыла перед ними новую, неведомую доселе истину бытия, дала возможность заглянуть по ту его сторону, и хлопцы, не увидев там ничего привлекательного, вдруг прозрели, поняли лживость всего, за что готовы были умереть, поняли и растерянно остановились в нерешительности перед стекленеющим взором своего мертвого начальника.
Но такое состояние было недолгим. Один из них, в чьих руках оставалась теперь их судьба и кого, возможно, не меньше грызло чувство собственного бессилия и неверия, хотя он умело это чувство прятал, — этот один посмотрел на них волчьим глазом и строго, тоном, не допускавшим возражений, сказал:
— Что носы повесили? Отнесите его в овраг!
И они сразу же словно опомнились, стали снова такими, как положено им быть, будто слова, тон, с которыми к ним обращались, были не обычными — магическими.
Несколько стрелков подхватили Шпыцю под руки, за ноги и еще, возможно, с теплившейся в глубине души жизнью понесли в ту сторону от дороги, в небольшой овражек, где, повитый туманом, виднелся сизый кустарник.
— А теперь проверить оружие, — приказывал Павло. — Пойдем к графскому дому, больше некуда.
Прячась в кустарнике, по бурьяну, росистым бездорожьем медленно побрели к графскому двору. Павло шел впереди, он хорошо знал эти места, по которым с детства бегал подпаском, по которым ходил потом за чужим плугом. А вон за тем пригорком — поле, где он в последний раз косил… Это было всего лишь в позапрошлом году, в жатву. Он еще подрезал тогда птенцов… «Что же ты наделал, сын?» — вдруг сквозь воспоминания послышался Павлу грустный голос матери. Жилюк даже вздрогнул, словно этот голос прозвучал только что, здесь, и относился не к птенцам, а к нему самому. «Что ты наделал, сын мой?» Но Павло никогда не был мягкосердечным, и слова упрека или сочувствия, даже просьб всегда вызывали в нем обратную реакцию — он впадал в злобу, становился более жестоким.
Так случилось и на этот раз. Материнский упрек лезвием полоснул по душе Павла, и он, обозленный неудачным боем, поражением, а еще более разочарованием, которое с каждым днем все глубже закрадывалось ему в сердце, сгонял свою злость на стрелках. Их вид, не имевший ничего общего с тем, которого он от них добивался в школе, какая-то безысходность выводили Жилюка из терпения.
— Не отставать! Вы! Холера вам в бок, спите, что ли? Ну-ка, подтянись!
Один из стрелков не выдержал, огрызнулся, и Павло понял, что, видно, перегнул палку, решил лучше их не трогать. Молча, как оборотни, двигались они в тумане.
До графского дома оставалось уже совсем близко, как вдруг там поднялась стрельба. Значит, партизаны теперь штурмуют особняк. Что ж, это резонно. Он, вероятно, поступил бы так же. Поступил бы… А сейчас? Ввязываться в бой или пусть эсэсовцы обороняются одни? Они же бросили их машину на дороге и поторопились укрыться. Пусть теперь попробуют партизанских пуль. Впрочем, что до него, Павла Жилюка, если бы дали ему власть, он всыпал бы и тем и другим — и партизанам и немцам.
— Долго мы еще будем слоняться? — оборвал его мысли чей-то недовольный голос.
Павло обернулся. Неподалеку стоял и выжидающе, недружелюбно поглядывал на него рослый, в распахнутом френче стрелок. «Как же твоя фамилия, собака? — силился вспомнить Жилюк. — Ага, Мокрый…»
— Хочешь, чтобы тебе партизаны спину почесали? — бесцеремонно спросил его.
— Мне уже чесали, не пугай. А за каким же чертом мы здесь?
В его словах была правда. Действительно, они пришли сюда как каратели. Их побили?! Тем более! Они должны теперь отомстить. А как же иначе? Бежать с позором? Уползать в бурьяны и зализывать раны? Признать свое ничтожество, свое бессилие?.. Перед кем? Перед всякими там Гуралями, Хомиными, которые, слыхать, здесь верховодят? Нет! Дудки! Если уж на то пошло, то он — командир. Кадровый военный, настоящий. Куда им равняться с ним? Да и какое тут равенство может быть? Он — поручик, военной немецкой выучки, а они — дядьки, которые только и занимались тем, что крутили лошадям хвосты. Нет, пусть не радуются, он, Павло, еще покажет себя. Покажет!..
Они подошли к графскому дому, когда уже совсем рассвело, и по выстрелам определили: партизаны окружили графский двор, и осажденным невмоготу, хотя они и огрызаются шквальным огнем. Жилюк приказал стрелкам рассыпаться в цепь, а сам с несколькими самыми отчаянными головорезами выбрал позицию напротив ворот, чтобы в начале атаки кинжальным огнем отбросить партизан, ворваться в усадьбу, поднять панику среди атакующих и таким путем освободить блокированных в особняке, дать им возможность выбраться из кольца.
Их удар был для партизан абсолютной неожиданностью. Многие из них даже не успели ответить на огонь, вспыхнувший за спиной, — падали замертво, многие, беспорядочно отстреливаясь, метались из стороны в сторону, натыкались на стрелков и падали под очередями их автоматов. План Павла удался полностью. Без особых усилий они разбили заставу у ворот, ворвались на подворье, начали обстреливать прятавшихся за деревьями смельчаков, которые все еще пытались ворваться в дом. Партизаны дрогнули и начали отступать. Вскоре, когда двор опустел, стрельба, затихая, откатывалась все дальше к берегам Припяти, Павло вернулся к воротам — посмотреть, что там еще происходит. Идти в особняк, откуда уже повыбегали осажденные эсэсовцы, ему не хотелось — чувство гадливости и презрения наполняло его душу.
Несколько тяжело раненных стрелков сидели и лежали на траве под забором. Они были окровавлены, мокры от густой росы. Павло распорядился перенести их в помещение на перевязку, а сам спустился с пригорочка в ложбинку, где стояли несколько стрелков.
— Друже старшина! — окликнули они его. — Пленных имеем!
Между стрелками стояли женщина с ребенком и подросток.
— Взяли вон там, возле речки.
— Кто такие? — издали спросил Павло.
— Наверное, партизаны, не говорят.
— Скажут!
Павло подошел и оторопел: перед ним стоял его младший брат Андрей и… Нет, нет, этой женщины он не знает, никогда не видел ее! Почему она на него так смотрит? Он ей ничего плохого не сделал. Это ему просто показалось, а в ней ничего похожего на Софью нет. Та — молодая, красивая, ясная, как летнее солнечное утро, а эта… какая-то опустившаяся или сумасшедшая. В глазах столько страха, ненависти и еще чего-то невыразимого, холодящего душу. А седина?.. И почему они здесь вдвоем с Андреем?
Вопросы молниеносно взлетали, опережая друг друга, мысли ткали какую-то свою химерную ткань, а Павло никак не мог припомнить, где, когда, при каких обстоятельствах видел он эту женщину. Наконец он спросил:
— Кто она?
— Будто ты не знаешь, — вызывающе ответил Андрей.
Стрелки угрожающе зашумели:
— Смотри, этот сопляк еще и ершится, тыкает!
— Тыкни его, чтоб и зубов не собрал!
— Тише, сам разберусь, — сдержал нетерпеливых Павло. — Идите к воротам, там сбор.
Когда стрелки отошли, Павло, стараясь быть как можно спокойнее, спросил:
— Степан здесь?
Ему не ответили.
— Степан, спрашиваю, здесь? — едва удерживая равновесие в голосе, повторил вопрос.
— А зачем он тебе? Фашистам хочешь продать? — уколол его в самое сердце Андрей.
— Ну ты… — подступил к нему со стиснутыми кулаками Павло. Он не говорил, вместо слов из горла вырывались звуки, напоминавшие урчание. С каким удовольствием сейчас провалился бы он сквозь землю, только бы не видеть ни этой женщины, ни брата. Все к черту! Прочь! И немцев, и своих, и Лебедя, который втянул его в это болото, и самостийну… Прочь! Ему ничего не надо! Ничего!
— Зачем вы его убили… сына моего, Михалька? — отозвалась наконец женщина.
Павла словно разбудил ее голос. Эта все же она, Софья! Он хорошо помнит этот голос, когда-то он так любил слушать, как она говорит, поет. Завидовал Степану, что имеет такую красивую и верную подругу. Но… Какой сын? Неужели — их? Конечно же! Два года уже, как вернулся Степан… Но кто же убил ребенка?
— Что с ним? — кивнул на малыша.
Софья откачнулась, теснее прижала к себе маленького, будто слова Павла могли причинить ей боль или толкнуть в какую-то беду.
— Его замучили, — проговорил Андрей, — эсэсовцы, те, которых ты только что спас. Софью тоже мучили — едва вырвать удалось.
— За что мучили?
— За Степана, за отца… Не знаешь, за что вы мучаете?
Павло молчал. Вот как оборачивается дело! Там, в Копани, тычки под бока, а здесь… И он задумался. Напряженность первых минут ушла, они стояли, каждый по-своему потрясенный, в раздумьях о своей дальнейшей судьбе. Кое-где изредка еще слышалась перестрелка, но их это не касалось, словно они были лишены чувства окружающего.
— Друже старшина! — подбежал и окликнул Павла стрелок. — Вас зовут. Ведите их в особняк, — кивнул он на Андрея и Софью. — Там еще нескольких поймали.
— Я их отпустил, — ответил Павло стрелку. — Какие они партизаны? Разве не видишь — женщина с больным ребенком, а паренек — ее брат. Иди, — сказал он стрелку, — я сейчас буду.
Андрея озадачило и решение брата и сказанное им. Чего-чего, но этого он не ждал, не верил в доброту карателей. Поэтому, когда, отправив стрелка, Павло велел им бежать, парень все еще медлил, с недоверием поглядывал то на Павла, то на Софью.
— Бегите, — уже с раздражением повторил Павло. — А там как знаете… Идите в село, там сейчас никого из ихних, — кивнул на особняк, — нет. Быстрей!
Павло знал, что рискует, знал, что этого ему не простят, что рано или поздно придется отвечать, — но ему была по душе такая жертвенность, иначе поступить он не мог. Единственное, чего опасался, — чтобы их не догнали, не схватили где-нибудь по дороге.
Андрей взял Софью за руку и, оглядываясь, все еще не веря в то, что произошло, повел ее в кустарник. Они не сказали ему ни «прощай», ни «до свидания», даже не посмотрели приязненно в глаза. Они были чужими, далекими, враждебными.
Павло постоял, пока Андрей и Софья скрылись, и нехотя побрел к своим.
БЕГ ВРЕМЕНИ
Ничего вне времени, все в нем.
Если бы Степану Жилюку или кому-либо из партизан-подпольщиков в первые дни этого кровопролития сказали, что оно будет длиться так долго — так непомерно долго! — он не поверил бы, счел бы это наговором, вредной выдумкой. И не только потому, что так учили, что принцип «бить врага на его территории» был военной доктриной, а главным образом потому, что силы, с которыми оккупанты ворвались на нашу землю, и отпор, который они получили, были настолько грандиозны, могущественны, что, казалось, взаимоликвидировали возможность затягивания кампании. Но война затягивалась. Затягивалась, не считаясь с огромными жертвами и потерями.
Украина все более и более покрывалась густой сетью подпольных организаций, партизанских групп и отрядов. Армии народных мстителей уже действовали на Сумщине и Черниговщине, на Житомирщине, но на Волыни и волынском Полесье их не было. Здесь боролись небольшие, часто раздробленные партизанские группы, не имевшие ни опытных командиров, ни средств, ни прочных связей с Большой землей. И хотя они наносили чувствительные удары по тылам гитлеровских захватчиков, но этого было уже мало. Гигантские масштабы борьбы требовали объединения всех партизанских сил в единый боеспособный, по-настоящему военный партизанский отряд. Первая попытка объединения вызвала у некоторых командиров недовольство, кое-где на местах появилась угроза самороспуска отдельных групп. В связи с таким положением назрела острая необходимость созыва совещания партизанских вожаков.
Совещание назначили на конец февраля, а провели его неделю спустя, в марте. Просторное хозяйство лесника, терявшееся в глубинах пущи за Припятью, теперь напоминало конный базар или выставку, организаторы которой, позаботившись об экспонатах, не подумали о посетителях, роль которых должны были теперь играть ординарцы.
Съехалось более двадцати командиров отрядов. Большинство из них Степан Жилюк знал лично, до войны встречался с ними на совещаниях актива, на собраниях. Как и до сих пор, во время предыдущих собеседований, так и теперь они поддерживали идею укрупнения, признавали необходимость координации действий. Хуже обстояло дело с «незнакомыми». Хотя их было не много, всего несколько человек, все же они вносили путаницу. К тому же села, которые они представляли, были самыми отдаленными, в глухомани. Создавалось впечатление, что там решили сидеть тихо, выжидать удобного момента, а для гарантии от всяких неожиданностей создали группу самообороны — и все.
Это было небезопасно. Оставить село в такой обстановке — означало отдать его в руки оккупантов или оуновцев. В любой момент могли налететь каратели, разграбить, сжечь, забрать людей и вывезти их в Германию.
Жилюк и так и сяк доказывал ошибочность пути, на который становились руководители некоторых групп, об этом им говорили командиры других отрядов, но те стояли на своем, мотивируя тем, что небольшой подвижной отряд и более оперативен, и менее уязвим, что ему легче обеспечить себя продовольствием и одеждой.
— А про тех, кого вешают, мучают, тысячами отправляют в рабство, про них вы подумали? — не вытерпел Жилюк. — От кого им ждать защиты? На кого надеяться? Или вам это и на ум нейдет?
— Болеем за них, как же, — ответил солидный, лет сорока человек по фамилии Стецик. — Да только мы не ангелы, всюду не поспеем.
— Вы все будете на своих местах, — продолжал убеждать Жилюк, — только в случае надобности, во время значительных операций будем действовать сообща.
— Если на своих местах, то это еще куда ни шло, — заявили после долгого раздумья двое. — Разве мы против? Нам бы только не скитаться, своих не бросать. А если придется, то куда же денемся? Будем вместе.
Не поддавался один только Стецик. Молчаливый, с холодной, словно застывшей в уголках губ улыбкой, он сидел, опершись локтями о колени, и поигрывал нагайкой. Большие, по-кавалерийски выгнутые ноги в добротных сапогах твердо стояли на полу. Из-под расстегнутого полушубка свисал маузер. «Видно, неплохо тебе живется, Стецик, — думал, глядя на командира, Жилюк, — вот ты и кочевряжишься, атаманчика из себя корчишь».
— Мы с вами, товарищи, временно оторваны от родины. Наша земля в неволе. Но пусть никто не думает, что от этого мы стали иными, что мы отреклись от устоев нашей жизни. Нет, законы Советской власти остаются в силе, их никто отменить не может. И каждый, кто будет нарушать закон, будет и отвечать по закону. — Степан на минуту умолк, как бы давая возможность взвесить его слова, затем, не отрывая взгляда от Стецика, продолжал: — Мы могли бы вас, товарищ Стецик, судить по законам военного времени, но пока что этого делать не будем. Подумайте, осмотритесь, вы человек советский, не враг, должны сделать правильный вывод.
Командир метнул на Жилюка острый взгляд, в котором неприязнь, и удивление, и легкая ирония слились в какое-то одно чувство. «Чего вы от меня хотите? — говорил весь его вид. — Я вас не трогаю, не трогайте и вы меня. Моя хата с краю».
— Время покажет, кто из нас прав, а кто нет, — высказался он. — Все мы в его власти.
— Покажет, — значительно протянул Гураль.
— Уже показывает, — добавил Степан, — что фашизм не пройдет!
— Хотелось бы верить, — ответил, вставая, Стецик, — однако не нашего ума это дело.
— А чьего же? — подступил к нему Гураль. — Кто-то за тебя голову будет подставлять или как?
— Для этого, слышь, есть армия. А если уж она не удержалась, то что про нас, грешных, и говорить… И вообще, — Стецик выпятил грудь, затянул пояс, — чего ты ко мне пристаешь, по какому праву? Что ты за цаца такая?
— Право у нас одно, — добавил Жилюк. — По этому праву все мы отвечаем, по нему же и спрашиваем.
— Очень уж много вас, спрашивателей, развелось, — обиженно сказал Стецик и направился к выходу.
Жилюк не стал его задерживать, но вслед ему все же сказал:
— Но подумать советую. И хорошенько.
Стецик остановился, видимо ожидая еще чего-то, постоял на пороге, но никто больше ему ничего не сказал, и он, хлопнув дверью, вышел.
— Ну и маловер, — отозвался Гураль. — С таким навоюешь!
Во дворе зашумели, повскакивали на лошадей. Человек десять всадников выехали за ворота и понеслись галопом.
— Надо будет к нему наведаться, с людьми поговорить, — высказался Жилюк.
Где-то за лесами догорал день, меж стволами уже сновали сумерки, и Степан торопился закончить совещание. Собственно, вопрос, подлежавший обсуждению, был решен, объединенный отряд создан, и его командиром назначался Гураль, — можно было бы и разъезжаться, однако люди не торопились. Видно было по всему, что им, оторванным от своих семей и домашних очагов, эта встреча и разговор давали особое удовлетворение. Курили, делились новостями, хорошими и неутешительными, и столько было в этих беседах, в непринужденном этом разговоре простого, обычного, что Жилюк не решался первым покинуть дом.
— Хлопцы, а не пора ли нам это дело спрыснуть? Как думаете? — подал голос Иллюх.
— А это теперь уж как Гураль скажет, — кивнул на Устима Жилюк.
— А найдется чего-нибудь?
Иллюх выскочил во двор и вскоре вернулся с несколькими флягами.
— Вот! Чистый, как слеза.
— Ну, уж если на то пошло, и у нас кое-что найдется, — послышались голоса. — Разве зимой без этого можно?
На столе появилась солидная обливная миска с квашеной капустой и огурцами, тарелка нарезанного сала, хлеб. И вот уже пошла по кругу первая чарка.
— Ну, будем!
Дня через три после совещания, ознакомившись с местом дислокации объединенного отряда, побывав в Пильне, где все еще сохранялся глушанский лагерь, Степан Жилюк возвращался в Копань. Дорога была не из близких, трудная, поэтому выехали рано утром, с таким расчетом, чтобы к вечеру добраться до места. Низкорослые, пузатые, местной породы лошаденки довольно быстро выдохлись и, как ни понукал их возница, как ни замахивался кнутом, еле-еле тащили тяжелые, не приспособленные для быстрой езды сани.
Степан, подобрав под себя ноги, полулежал на охапке душистого лесного сена, смотрел на стремительные заснеженные сосны, на березы, стволы которых, казалось, тонули в глубоком снегу, а виделась ему она, Софья. С тех пор, с того памятного дня, когда партизаны вызволили ее из подвалов графского дома и она пришла в лагерь с мертвым сыном на руках, они не встречались. Да, это была тяжкая, горестная встреча. Убитая случившимся, изнуренная мученьями, Софья была похожа на полупомешанную, никого, даже его, Степана, не узнавала и не замечала. Жила как в тумане или в каком-то чаду, ни с кем не говорила, ни к кому не обращалась, ни с кем не делилась. Степан пытался утешить ее, облегчить горе, но напрасно — жена сторонилась, избегала встречи с ним. Только один раз, утром, после глубокого сна, навеянного раздобытым снотворным, Софья будто бы узнала Степана, прижалась к нему и долго, тяжело плакала. «Нет у нас сына, Степан, нет! — причитала. — Не уберегли Михалька…» Они так и не поговорили, не посоветовались, — Софья тосковала, а потом ей стало совсем плохо, она отошла от него, как от чужого…
Так и уехал тогда с горечью в сердце. Всю дорогу маячил в его глазах небольшой, выложенный дерном, обсаженный барвинком бугорок — могилка их сына… Всю дорогу. Вот так, как сейчас Софья. О чем бы ни думал, а мысли летели туда, к ней, на что бы ни смотрел, отовсюду смотрели на него ее наполненные тоской глаза. Степан винил ее и не винил за такой роковой шаг, однако и сам не знал: как бы он поступил в такой ситуации, на какой шаг решился бы? Но склонялся в мыслях, что не следовало отдавать себя самое в руки гестаповцев, следовало бы искать иных путей для спасения ребенка.
Жилюка удивляло исключительное упорство, не проявлявшаяся доселе одержимость, которые он заметил в характере Софьи. Женщина словно бы окаменела, будто никогда в ней не светились радость и веселье. Она и встретила его на редкость сдержанно и на все попытки поговорить откровенно отмалчивалась или отвечала однообразно:
— Так будет лучше.
Будто никаких других слов она не знала и не хотела знать.
Так будет лучше… Что ж, Степану не привыкать к неожиданностям. Жизнь есть жизнь, и она теперь познается в муках и страданиях.
…До города оставался еще немалый отрезок дороги, а лошаденки совсем выбились из сил. Им явно нужен был отдых. Останавливаться в пути ездоки не рассчитывали, да и в селах было не всегда безопасно. И все же, когда проезжали мимо небольшого хуторка, который приземистыми хатками жался к лесу, разливая кругом щекочущий смолистый дымок, и кучер и Степан не удержались и остановили лошадей. Думали, где-где, а здесь, на далеком от больших дорог, на затерянном среди лесов хуторе, не должно быть никакой засады. Если кто-нибудь сюда и добирается, то во всяком случае не немцы и не шуцманы. Может, конечно, оуновцы, но в последнее время разведка доносит, что ни бандеровцев, ни бульбовцев в этих местах нет — они будто бы перебазировались в северные районы Ровенщины.
Остановились у крайнего, огороженного толстыми, замшелыми жердями двора, за которым сразу же вставала стена дубового бора. Могущественные, ветвистые исполины дремали под тяжелыми шапками искристого снега. Не успели проезжие слезть с саней, как из хаты выскочили и направились к ним двое в штатском. В руках держали оружие.
— Кто такие? Куда едете? — спросили, подходя к ним, незнакомцы.
— Куда же сейчас поедешь? — ответил возчик, поправляя прихваченные на всякий случай топор и пилу. — В лес, не дальше.
— А остановились зачем?
— Думали водицы попить.
Вооруженные переглянулись, и в их взглядах Жилюк, молчавший все время, пытаясь угадать, кто же они такие, эти люди, уловил какой-то сговор.
— Ну, тогда заходите, — сказал один из незнакомых.
— Идите пейте, а я около коней побуду, — сказал Жилюк возчику.
— Оба идите. Оружие есть? — Боевики привычными жестами обыскали их и велели идти вперед.
Предчувствие опасности охватило Степана, но он виду не подавал, спокойно, словно бы ничего не предвидя, пошел к хате.
В хорошо натопленной, прокуренной табачным дымом светлице сидели еще несколько человек. Раздетые, разопревшие от пышущей жаром, выложенной кафельной плиткой печки, эти люди как раз и были теми, кого так боялся встретить Жилюк. Он сразу догадался, как только увидел их униформу.
— Друже взводный! — доложил один из сопровождавших. — Вот двое… Говорят, в лес едут.
— Обыскали?
— Да.
Низенький, с рассеченной верхней губой человек, чистивший пистолет, уже спокойно сказал:
— В лес сейчас все идут. А вот зачем?
— Известно зачем, — не задумываясь ответил напарник Степана, — кое-какой древесины раздобыть.
— Откуда?
Ездовой непонимающе смотрел на взводного. Степан решил прийти ему на выручку:
— Из Верхов, друже взводный. Здесь недалеко.
— Знаю, что недалеко. Кто у вас староста?
Вот этого Жилюк не знал. Он понимал, что попался, однако решил изворачиваться до конца.
— Да… этот же… тьфу… как его?.. — чесал в затылке.
— Ткачук, — предупредил ездовой. — Забыл, что ли?
— А, черт побери, из башки выскочило совсем, — досадливо махнул рукой Жилюк. — Да разве теперь все упомнишь, что на белом свете творится…
— Та-ак, — протянул взводный и обратился к своим: — Где Шпарага? Он, кажется, оттуда, из Верхов. Ну-ка, позовите.
Боевик выскочил, крикнул несколько раз, и высокий, тонкий, как жердь, Шпарага влетел в комнату.
— Слушаю, друже взводный.
— Этих знаешь?
Шпарага подошел к задержанным, начал пристально всматриваться в их лица.
— Этого, — ткнул в ездового, — вроде где-то видел, а этого… Нет, что-то его не припомню.
— Всех, голубчик, не запомнишь, — без тени тревоги проговорил Жилюк. — Я до войны, давно уже, лет, наверное, шесть, жил в Бресте, на железной дороге. Вы из какого угла? — неожиданно спросил Шпарагу.
Взводный предостерегающе поднял руку.
— Допрашивать буду я, — сказал твердо. — Вот ты и скажи, из какого угла, — обратился к Степану.
— Из-под леса, наша хата под самым лесом, — выкручивался Жилюк, хотя чувствовал, что силок, в который так внезапно попал, затягивается все крепче и крепче.
— Эге! Так лес же кругом! — повеселел боевик.
Наступила гнетущая тишина. Взводный спокойно дочистил оружие, поднялся.
— Что-то вы, хлопцы, не того… вроде нездешние? — сказал, прохаживаясь по комнате. — Должен доставить вас к месту постоя, пусть там разбираются.
— Мы же… — начал было ездовой, но взводный оборвал его:
— Шпарага! Хрунь! Отвезите — и назад. Чтобы к вечеру были здесь. И смотрите мне!..
До штаба оуновцев оказалось километров тридцать. Уже стемнело, когда на окраине села их остановили.
— Стой! Пароль! — простуженным голосом отозвались сумерки.
Кто-то, Шпарага или Хрунь, вполголоса ответил.
— А это кто такие? — поинтересовалась темнота.
— Кто их знает. Приказали доставить в штаб, а там пусть разглядывают, что они за птицы.
— Ну, погоняй…
Проехали еще с километр, свернули в переулок и за мостком, на подгорье, остановились возле большого каменного дома. На дворе и у входа в дом слонялись люди. На прибывших особенного внимания никто не обратил. Очевидно, подумал Жилюк, здесь всегда такая толкучка.
Им велели привязать лошадей у забора, а самим следовать за ними. Дежурный по штабу направил их в конец коридора, где помещался оперативный отдел, но там никого не было, и они все четверо примостились в теплом углу, начали ждать.
— Ну вот, не знали мороки, так нашли! — упрекал ездовой боевиков.
— Да мы что? Наше дело маленькое, сказали: делай — и весь бес до копейки, — ответил Шпарага.
Степан в разговор не ввязывался, делал вид, что дремлет, а сам пристально следил за штабистами, за всеми, кто входил и выходил. Штаб — это он заметил — охраняется, входные и выходные двери одни, людей здесь много, в случае чего сразу же скрутят, сомнут… А бежать надо. И чем скорее, тем лучше. Пока не начали допрос, пока они еще «ничейные».
Прошло около получаса. Шпарага и Хрунь уже начали нервничать. Они вполголоса то кляли штабные порядки, то посылали друг друга искать какого-нибудь начальника, чтобы принял задержанных. Наконец кого-то нашли. Когда фигура штабиста появилась в коридоре, у Степана даже дух перехватило: неужели Павло?
Вскоре их позвали в комнату, куда только что зашел дежурный, и Степан внимательнее присмотрелся к оуновцу. Он!..
— Документы! — бросил дежурный.
Один из конвоиров подал бумаги задержанных. Дежурный небрежно просмотрел их, отложил.
— Хорошо, — сказал боевикам. — Идите!
Шпарага и Хрунь пробормотали что-то, повернулись и вышли. Дежурный вызвал часового, приказал отвести задержанных.
— У меня к вам дело, — сказал Степан.
— Какое еще может быть дело?
— Хотел бы без свидетелей. — И, когда ездовой с часовым вышли, тихо проговорил: — Павло…
Павло встрепенулся, посмотрел на задержанного, словно рванулся к нему, но сразу же осекся.
— Вот мы и встретились, — досказал Степан.
— Да, встретились…
Лицо Павла почерствело.
— Не ожидал?
— Нет.
Они помолчали, не зная, о чем говорить. У них было столько наболевшего, невысказанного, что ни тот, ни другой не могли сразу ухватиться за главное, повести о нем речь.
— Матери что, нет?
— Убили. И мать, и Яринку.
— О Яринке я слыхал. А вот о матери… Значит, убили…
— А ты как? Выслуживаешься?
— Как видишь.
— Здесь?
— Нет. Сегодня большое совещание, нас и вызвали… Дежурю по штабу… Как же ты не уберегся, попался?
— Так случилось.
— Документы в порядке?
— Я под чужой фамилией. Кроме тебя, меня здесь никто не знает.
— Не бойся, не выдам.
— Знаю.
Павло с удивлением посмотрел на брата:
— Откуда… знаешь?
— Другие времена настали.
— Ты думаешь, я страхом живу?
— Многие страхом сейчас живут. Каждый норовит при случае что-то сделать, чтобы потом легче было отпираться. Все, — продолжал Степан, — кто веру утратил, грунт, и людей боятся, и смерти, конечно.
«Перестань, потому что терпение мое лопнет… Не растравляй душу мою…» — подумал Павло, а вслух сказал:
— А я и веру не утратил, и грунт у меня под ногами прочный, отцовский… С этой верой я сюда и пришел.
— С этой-то верой ты даже землю родную отдал врагу на поругание, на грабеж? Думал ты когда-нибудь над этим?
Павло сорвался с места, подошел к Степану.
— Моя вера тебе не известна. И не тронь ее… Я за нее, может, кровью плачу. Понял?
Степан слушал брата, не перебивая. В словах его улавливал он отголоски чего-то далекого, еще довоенного, когда им, подпольщикам, приходилось вести борьбу еще и с фальшивой пропагандой оуновцев, цель которой состояла в подрыве симпатий к Советской стране. Уже тогда нетрудно было распознать цену, в которую бы обошлась «самостийная и независимая». Не думалось только, что придется столкнуться с этим так близко, непосредственно и что кто-либо из них, Жилюков, с деда-прадеда бедняцкой доли, попадется на этот обманный крючок и так крепко на нем зацепится.
Павло посмотрел на брата, и тот, словно отгадав его мысли сказал:
— Не думай, я помощи у тебя просить не буду. Единственное, что прошу, — не говори, кто я. Именем родителей прошу…
— Хорошо, — буркнул Павло. — Я тебя не знаю, ты — меня. А сейчас иди… Отпустить вас я не волен. Но обещаю, что сегодня вас никто не тронет. За завтрашний день не ручаюсь. Прощай.
Просидев под замком около часа, Степан и ездовой снова очутились во дворе. Двое конвойных — один впереди, второй сзади — повели их к дровяному сараю, который находился в конце двора. Когда шли по двору, Степан лихорадочно поглядывал во все стороны, выбирая, куда бы лучше юркнуть. Он даже ездового дернул за рукав: дескать, будь наготове. Но перед сараем их остановили, и первый конвоир открыл дверь.
У аккуратно сложенных по обе стороны прохода кругляков Степан увидел пилу и рядом с нею два колуна.
— Вот, — сказал боевик, — нечего даром сидеть, пилите дрова.
Они охотно взялись за работу. Все же это лучше, чем сидеть под замком, ожидая неизвестно чего. Отсюда, гляди, еще и улизнуть удастся. Сарай вплотную примыкает к забору. За забором — обрыв, неширокая долина и лес…
Степан прикидывал, какое расстояние до леса. «Долина, кажется, не очень широка, — соображал, — километра два, не больше. Плохо, что склон, бежать трудно. Если бы был снег не очень глубок, но, видимо, глубок… Во дворе его вон сколько…»
Часовые постояли, покурили.
— Ну, я пойду, — сказал один. — Чего тут вдвоем торчать?
— Иди! Я их сам уложу, если что… Ишь стараются, помилованье зарабатывают!
Оба рассмеялись.
— Что ты сегодня будешь делать? — спросил тот, который оставался. — Может, пойдем погреемся? Я своей сказал — все будет в аккурат.
— Ну их… — выругался другой. — Надоело.
— Да просто так, по чарке опрокинем, а?
— Ну ладно. Будешь идти — свистнешь. На этом они и разошлись.
«Вряд ли тебе, стервец, придется сегодня за чаркой сидеть», — подумал Степан. Пока оуновцы зубоскалили и договаривались, Степан успел заметить, что крыша сарая ветхая, нажать — разойдется… Надо только выбрать момент и снять часового.
Степан устало тянул пилу, жадно вдыхал смолистый аромат опилок и думал. Он думал о том, что должен сейчас убить или оглушить часового, этого молодого парня, который, может быть, несознательно вступил в ряды УПА. Ведь сколько среди них обманутых, ослепленных идеей «самостийной Украины», которая раскинется «от Карпат до Дона». А сколько насильно завербованных?.. И еще думал о своем брате. После случая с освобождением Софьи и Андрея Степан не мог никак понять и того, что заставляет Павла служить немцам, эсэсовцам…
Часовой отвернулся от ветра, ссутулился, прикуривая цигарку, и Степан почувствовал, как пила остановилась, словно заклиненная, успел увидеть стальную молнию топора и услыхал легкий не то стон, не то вздох упавшего оуновца…
I
Сырой, студеный ветер гулял неубранными улицами города, трепал размокшие на мартовской мороси афиши и листовки, рвал их и клочьями швырял под ноги, под колеса машин. Афиш, распоряжений, приказов расклеено было много. Одни рекламировали новейшие немецкие фильмы, другие, форматом поменьше и без ярких красок, обязывали всех работоспособных мужчин и женщин немедленно явиться в управление труда. Здесь же предупреждалось, что каждый уклоняющийся от регистрации будет расстрелян. Приказы запрещали появляться на улицах в вечернее и ночное время…
Окружной комиссар Каснер в подписанных им объявлениях расточал щедрые обещания награды за голову каждого партизана. Партизаны официально именовались бандитами, и малейшая помощь всякому «иногороднему» каралась смертной казнью.
Кроме того, Каснер на видных местах вывешивал «извещения», в которых говорилось о расправах над лицами и группами лиц, чинившими действия (или подозреваемыми в них), наносящие ущерб Германии.
Расстрелы производились ежедневно, количество подвергавшихся экзекуциям никем не ограничивалось. Специальный циркуляр начальника штаба главного командования вооруженными силами Германии Кейтеля, разосланный войскам еще в сентябре прошлого года, обязывал оккупационные власти применять самые жестокие методы, чтобы в кратчайший срок ликвидировать партизанское движение. При этом, отмечалось в распоряжении, следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит… За убийство немецкого солдата, как правило, оккупанты расстреливали пятьдесят — сто человек.
Ситуация, таким образом, складывалась весьма неблагоприятно, работать в таких условиях становилось невероятно трудно. Многие подпольщики, руководители групп и рядовые, были схвачены, повешены или расстреляны. Из окружкомовцев, к счастью, уцелели все, кроме трех человек. Последним из этих трех погиб инженер Шанюк. Его схватили после того, как в железнодорожных мастерских, где ремонтировали преимущественно подбитые немецкие танки, взорвалась мина.
Степан знал Шанюка давно, знал, что перед самой войной его должны были принять в партию. Поэтому, когда осенью, уже в условиях подполья, вопрос о приеме возник снова, Жилюк без колебаний поддержал инженера, а со временем рекомендовал его в состав комитета. Шанюк показал себя умелым конспиратором, самоотверженным человеком. С его помощью подпольщики произвели несколько серьезных диверсий. Жилюк верил инженеру и все же, когда арест стал фактом, — недели две в городе не появлялся, по его распоряжению ушли и другие комитетчики.
Наступала пора уходить из города, перебираться, как и предполагалось, в один из партизанских отрядов. Такое перемещение особенно и не отразилось бы на работе. В городе оставались свои люди. На железных и шоссейных дорогах сидели радисты-разведчики. Они следили за прохождением каждого эшелона, каждой автоколонны и немедленно доносили партизанам. С тех пор как при помощи подобранных в лесу советских парашютистов удалось связаться с Большой землей, дела вообще пошли лучше.
Но оставить Копань Жилюк все-таки не решался. Он часто менял конспиративные квартиры, недосыпал, мерз, а сам упорно работал над созданием широкой, разветвленной сети ячеек. Была и еще одна, немаловажная причина того, что Степан не торопился покинуть город. В отрядах по-прежнему ощущалась острая нехватка взрывчатки. Хотя ее иногда центр сбрасывал на парашютах, но этого было слишком мало для активных действий на многих участках. Между тем разведка пронюхала, что на товарной станции выгрузили десятки ящиков с толом. С какой целью — никто не знал, но только этот тол не давал покоя комитетчикам, особенно Степану. Хотя бы несколько ящиков раздобыть! Во что бы то ни стало!
Подпольщики, работавшие на товарной станции, сообщили, что туда почти каждый день приезжают за сеном подводы и автомашины. Тюки прессованного сена по размеру почти такие же, как ящики с толом. Стало быть… Да, но как это осуществить? Подвода найдется, а как заехать на обнесенную колючей проволокой, охраняемую территорию? Как погрузить ящики с толом, вывезти?..
После изучения обстановки, долгих раздумий пришли к выводу, что операция очень рискованная. Для проведения ее необходимо прежде всего связаться с грузчиками, без них, конечно, не обойтись. Утром или вечером, а может быть, и ночью они перенесут несколько ящиков тола в скирду сена и там их замаскируют под тюки и, когда придет подвода, погрузят их. Замысел насколько смелый, настолько и рискованный. И досадно, что именно сейчас, когда он уже был в решающей стадии выполнения, остро встал вопрос о необходимости немедленной перебазировки подпольного центра.
Жилюк понимал: его намерение оставаться в городе крайне рискованно, он, как руководитель, не имеет никакого права ставить себя под удар. И все же он иначе не мог. Дело вот-вот должно решиться. Иллюх, который непосредственно руководил всей операцией, докладывал, что трем партизанам его группы удалось устроиться на станцию чернорабочими, теперь там их было пятеро. Для такого дела вполне хватало.
— А грузчики?
— Хлопцы, которые давно там работают, советуют больше ни с кем не связываться. Говорят, сами управятся. Да и я так думаю, Степан Андронович.
— Как часовые? Очень придирчивы к пропускам? Как часто сменяются? — Степан допытывался, уточнял, будто ему самому, Жилюку, надлежало выполнить это невероятно дерзкое задание. — Мы — как минеры, ошибка — смерть.
— Это понятно, Степан Андронович, — заверял Иллюх. — Не знаю, как вы, а я думаю, что лучше всего это делать ночью. Днем каждая собака помешает. Пусть хлопцы останутся на ночь, — может, как раз сверхурочная работа подвернется, тогда и вовсе хорошо.
— А что они сами думают?
— Да они готовы хоть сегодня.
Степан поднялся.
— Вот это-то мне и не нравится, — остановился перед Иллюхом. — Спешка в таком деле никогда к добру не вела.
— Да я так, к примеру.
— Какой там, к черту, пример! — прервал Иллюха Степан. — К примеру, удалось нагрузить подводу, а бросились увязывать — нечем, веревку забыли… Или, вы говорите, не всегда проверяют. А вдруг какому-нибудь эсэсовцу захотелось проверить? Вы раскрыты — что тогда?
— Что ж, — пожал плечами Иллюх, — обстановка покажет. На всякий случай у ворот будут наши.
— Что же вы там, засаду устроите? — наступал Степан.
— Оно и так и не так. Засада и не засада. Видите ли, около ворот всегда подводы, народ слоняется. Ну, и наши будут…
Жилюк знал: если бы Иллюх один выполнял задание, на него целиком можно бы положиться. Он смекалистый, отважный, расторопный. А сейчас люди в его группе разные, есть малоопытные. Как они поведут себя в решительный момент? Там времени для раздумий не будет.
Степан умолк. Несколько сбитый с толку, молчал и Иллюх. За окнами, за закрытыми ставнями, посвистывал сырой мартовский ветер. Жилюк старался не слушать, хотя бы не обращать внимания на его завывание, а оно проникало в комнату, в душу, несло в собою какую-то тоскливость. Казалось бы, нет причин грустить, да и к тревогам ему не привыкать. Дела, если вдуматься, идут хорошо. И ситуация далеко не такова, как полгода назад. Фронт откатывается на запад. Близок час — и он придет сюда, на свои исходные рубежи. Потому-то и бесятся фашисты. Но никакое неистовство их не спасет. Всенародный гнев не подвластен никаким законам, кроме одного — закона мести. Сколько захлебнулось в нем, в этом гневе, захватчиков. И днем и ночью подкарауливает их партизанская пуля.
Степану виделись десятки пущенных под откос эшелонов, взорванных автомашин, под обломками которых нашло свое «жизненное пространство» множество и множество оккупантов…
А на душе почему-то тоскливо. Будто забрался туда червячок, и подтачивает, и ест, и нет ему, проклятому, преграды. С чего бы это? Неужели снова подступает это неуловимое и неотвратимое чувство одиночества, которое непременно сопровождает подпольщика?
— Хлопцы надежные? — тихо спросил Иллюха.
Иллюх медлил с ответом.
— Я имею в виду — не растеряются, не сдрейфят? — дополнил вопрос Степан.
— За это ручаюсь, — ответил Иллюх.
Жилюк подошел, обнял Иллюха.
— Не торопитесь. Лучше подождем, но чтобы наверняка. Чай будете пить?
— Спасибо. Разворошили вы мне душу… Будто все было хорошо, а теперь — сам не знаю.
— Вот теперь-то как раз и продумайте. О времени операции предупредите меня через связных.
Было еще сравнительно рано. Сизые вечерние сумерки только-только располагались на ночевку. Черным ходом Иллюх вышел во двор, немного повозился с ящиками из-под медикаментов, лежавшими во дворе, перекладывал их с места на место, потом исчез так же неожиданно, как и появился час-другой назад.
Груженная тюками подвода, принадлежавшая городской полицейской управе, тяжело двигалась к выездным воротам, но, не доехав нескольких метров, остановилась, перегородив дорогу. Рабочий день на товарной станции заканчивался, к воротам подъезжали другие, и вскоре там образовалось скопление подвод и машин.
— Ты, швайн! Свинья! — крикнул вознице дежуривший на пропускном пункте эсэсовец. — Пошоль прочь! Бистро!
Но ездовой словно и не слыхал этих окриков, лихорадочно возился с упряжью, затягивал постромки, поправлял что-то, покрикивал на сытых, отлично вычищенных лошадей, которым не стоялось на месте.
Часовой наконец не выдержал, подбежал к ездовому, огрел его тростью.
— Ти глухой? Вег!
— Постромка вот, черт побери, развязалась… Я айн момент, господин начальник.
— Вег! — и эсэсовец полоснул палкой по лошадям.
Ездовой едва успел ухватиться за вожжи, побежал рядом с возом, и, когда подвода была уже почти в воротах, часовой снова крикнул:
— Стой! Документ! Документ!
Ездовой выругался в душе, придержал лошадей.
— Вот! — достал из кармана смятую накладную.
Немец просмотрел бумагу, махнул рукой и еще раз обругал ездового. Немец явно торопился. Он быстро пропускал подводы, машины. Ему, видно, надоело торчать здесь на холоду, иметь дело с этими полудикарями, и конечно же не дано ему было заметить засветившуюся в глазах мужиковатого полещука радость. Не заметил и того, как отступила от него смерть, караулившая его у подвод, за воротами, на случай, если бы он вздумал подойти к фуре и проверять груз.
Подвода отъехала от ворот, снова остановил лошадей ездовой, снова начал возиться с упряжью. Он не торопился. И только когда начали опускаться сумерки, двинулся дальше. Во двор управы подвода вкатилась почти в темноте. Не распрягая лошадей, ездовой медленно начал сгружать тюки. Сгрузив половину, прошелся по двору, вернулся к подводе, принялся сваливать остальные. Когда добрался до нижних тюков, к ездовому подошел человек, и они начали работать вдвоем, складывая тюки чуть поодаль от предыдущих. Когда и эта работа была окончена, конюх зашел в сарай, вынес широкую попону, плотницкий топор и клещи. Пока он расстилал на возу попону, тот, другой, тихо, без единого треска, разламывал ящики, выбирал из них бруски, обматывал сеном. Потом эту работу они делали вдвоем. За высокий забор к ним с улицы доносились голоса, в здании управы горел свет. На станции коротко перекликались маневровые паровозы, а эти двое работали молча, упорно, сосредоточенно.
Когда все было закончено и уложено (даже разобранные на щепки ящики), присыпано сеном и они должны были садиться на воз, чтобы ехать, с «черного хода» управы вывалились трое. Двое в мундирах полицаев, с автоматами, а третий… Собственно, третьего волокли, он едва перебирал ногами, голова бессильно свисала на грудь.
— Снова кого-то потащили, иродовы души, — отозвался ездовой. — Подождем, пусть вернутся.
Там, где возились полицаи, звякнул металлический запор, коротко взвизгнули двери — раз-другой. Полицаи постояли, поговорили и пошли назад.
На дворе стихло, и подвода тронулась.
— Не поздно?
— Ничего, аусвайс на руках. Я же не кто-нибудь, а ездовой управы.
…В тот же вечер Иллюх докладывал Жилюку, что операция удалась, взрывчатка вывезена и сейчас ее перегружают на возы, которые утром должны выехать из города.
— Сработано отлично, — сказал Жилюк. — Но это полдела. Теперь главное — доставить взрывчатку партизанам.
— Раз уже здесь вырвали, то дальше легче будет, — с нескрываемой радостью говорил Иллюх.
— Будем надеяться. Какой дорогой пойдет обоз?
Иллюх сообщил маршрут.
— Правильно. Лучше объехать, крюку дать, только бы понадежней, — одобрил Степан. — А проводники из лагеря уже здесь?
— Шел сюда — их еще не было, но теперь, наверное, подошли.
Степан задумался.
— На всякий случай назначь своих. Да не забудь прихватить приготовленные автоматы и винтовки. Больше такого подходящего случая не подвернется.
Он пожелал Иллюху удачи, проводил до дверей, и они распрощались.
Два стареньких, запряженных клячами возка, рассыпая на ухабах навоз, миновали последние домики на окраине Копани и потянулись к железнодорожному переезду, за которым лежали поля и у которого стояла, обнесенная колючей проволокой, немецкая сторожка. Часовые проверяли всех, кто въезжал или входил в город и из города, проверяли не только подводы, но и сумки и узелки.
Софья, которая после трагедии с Михальком и всего ею пережитого нашла свое место среди рядовых партизан и теперь без ведома Гураля напросилась на этот рейс, сидела на передней подводе. За нею, по-мальчишески нетерпеливо понукая лошадь, ехал Василько — сын одного из партизан. Он должен был выдавать себя за сына, который с матерью занимаются всем этим мужским хозяйством, даже вывозят на поля навоз. Вчера вечером они благополучно пробрались в город, пришли на явку, оттуда огородами и глухими переулками их провели во двор, где уже стояла подготовленная в дорогу подвода, а другая, сказали, в соседнем дворе. Человека, встретившего и напутствовавшего их, как лучше проехать, Софья узнала сразу — это был Иллюх, — но поскольку знакомыми они не считались, Совинская не призналась, кто она, хотя ей очень хотелось расспросить о Степане. За полночи и утро, проведенные в городе, она ничего не узнала о муже и сейчас, сидя на тряской, начиненной смертоносным грузом подводе, время от времени возвращалась мыслями к Степану. Не знала: одобрил бы он этот ее поступок или нет? С тех пор, как случилось это непоправимое горе, они виделись два-три раза, не больше, она сама избегала с ним встречи. Упрекала себя за эту нечеловеческую черствость и вместе с тем оправдывалась, пыталась находить всему объяснение. Время шло, и все чаще она ловила себя на мысли, что живет только Степаном, его жизнью, его интересами. Вот и сейчас ее мысли с ним…
Шлагбаум был поднят. Подвода, переваливаясь с боку на бок, переехала колею. Впереди метрах в двадцати стоял часовой. «Остановит или пропустит?..» — беспокойно вертелась мысль. Ни о чем другом она сейчас не думала. Ничего другого для нее сейчас не существовало. Поравнявшись с немцем, дернула за вожжи:
— А ну, пошла! Мертвая!
Кляча взмахнула головой, вздрогнула, но шагу не прибавила. Впрочем, Софья этого не замечала, она и лошадь-то подстегнула полусознательно. «Остановит или пропустит?..»
— Хальт! — шагнул наперерез подводе часовой.
Ну, началось!
Из сторожки вышли несколько немцев и шуцманов.
— Куда едешь?
— Будто не видите, — недовольно ответила Софья. — Навоз везу на поле, куда же еще?
Подводу окружили.
— Навоз-то навозом, — проговорил шуцман, — а под ним что? Ну-ка слазь!
Софья нехотя слезла.
Немец и шуцман ткнули штыками в навоз. Глухое металлическое звяканье колоколом отдалось в сознании Софьи, тупо ударило в сердце.
Часовые переглянулись, постояли словно в нерешительности и начали вилами, лежавшими на возу, разгребать навоз. Они так старательно работали, что автоматные очереди, раздавшиеся из недалекого кустарника, сначала даже не встревожили их. Но когда пули просвистели над их головами, а задняя подвода сорвалась с места и понеслась вперед, часовые схватились за оружие и дали несколько очередей по кустарнику. Началась перестрелка. Не помня себя, Софья бросилась к подводе, мгновенно вскочила на нее и упала на навоз. Напуганная стрельбой и возникшим переполохом, лошадь понеслась галопом вслед за подводой Василька. Скорей, скорей, только бы до поворота, а там в распадок. Откуда они взялись, эти стрелки? Кто их послал и почему ее об этом не предупредили?
Софья уже у самого поворота. Василько впереди, он съехал в балочку, и его подвода в безопасности. Скорей, скорей! Только бы проскочить эти несколько метров… Туда… Туда… Только бы…
На самом повороте что-то внезапно обожгло ей плечо. Каким-то краешком сознания поняла, а может быть, ей это и показалось, что подвода остановилась и она полетела вместе с возом в какую-то влажную, темную пропасть. И это ее падение сопровождают какие-то крики, свист пуль, глухое металлическое звяканье и — колокола. Могучие гулкие колокола, от которых звенела голова и вздрагивало все тело…
II
Волынь кишела оуновцами. Завербованным, зачастую неграмотным и малограмотным людям, а то и просто уголовным элементам, пытались вбить в голову, что они единственные истинные защитники и освободители Украины. И, хотя верхушку оуновцев продолжали разъедать дрязги и споры за первенство в распределении мнимых государственных постов, все они находились в одной упряжке, вожжи которой, однако, прочно держали гитлеровские генералы и эмиссары. Это, конечно, тщательно скрывалось от тысяч рядовых оуновцев. Многие из них были убеждены, что борются против оккупантов, за великую идею, как любили высказываться их вожаки, и во имя этого слепо шли на все. Правда, многих отрезвил разгон гитлеровцами некоторых учреждений, пытавшихся проводить украинизацию. После этого активные оуновцы поняли отведенную им роль в этой компании, однако деваться было некуда. Заправилы из центрального провода, которые заранее знали, на что идут, начали спешно выискивать новые формы сотрудничества с гитлеровцами. Стремясь всячески скрыть свою истинную суть, они во весь голос кричали о своем «несогласии», о «расхождениях» с оккупантами, а низовые оуновцы творили свое.
Край, богатый песнями и красотою, они превратили в пекло, где непрерывно днем и ночью свирепствовала смерть, пылали пожары, откуда был только один добровольный выход — на фашистскую каторгу.
Особенно густо разгнездились оуновцы в северной части Волыни. Здесь, в междуречье Припять — Стир — Горынь, дислоцировались бандеровские сотни и бульбовские сечевые курени, а в районе Сарн, на границе с Белоруссией, действовал отряд бывшего белогвардейского офицера Яковлева, который лихо именовал свою ватагу «Второй Донской лейб-гвардии казачий полк». Выбор места расположения был не случайным: в полутораста километрах лежал город Ровно — резиденция гаулейтера Коха. Хотя резиденцию и охраняли многочисленные отряды эсэсовцев и власовцев, она нуждалась — город постоянно потрясали смелые партизанские налеты — в обороне на далеких и близких подступах. Оуновцы частично и выполняли эту роль, сотрудничая с немцами и шуцманами.
Сюда, под Рафаловку, и прибился поздней осенью Павло Жилюк. Пришел не один, а с несколькими десятками своих единомышленников, пришел не сразу, а после долгих блужданий, после неудачной попытки влиться в один из партизанских отрядов, чтобы вместе отомстить за все — за обман, за недоверие, которое чувствовал все эти годы…
После того памятного боя в Глуше, когда их, по сути, разгромили и когда он спас Софью и Андрея, Павло в Копань уже не вернулся. Знал: рано или поздно эсэсовцам захочется расспросить его о Степане, тем более теперь, после случая с Софьей. Он понимал, что его поступок станет известен гестапо и оно не оставит его без внимания. В тот же день, похоронив убитых и умерших от ран стрелков, Павло собрал уцелевших, разъяснил им обстановку, и к вечеру они тихо, по одному, покинули графский дом, перебрались на противоположный берег Припяти, собрались в условленном месте. Около месяца они вертелись вокруг Глуши — Павло надеялся встретиться с кем-либо из своих, переговорить, — пытались связаться с партизанами, но неудачно. Тогда в одну из ночей Павло пробрался в село, пришел к Адаму Суднику. Между ними состоялся разговор, которого Павло, наверное, никогда не забудет. Староста не удивился появлению Павла Жилюка. Он уже знал, знал давно, что Павло порвал с немцами и скитается где-то здесь, недалеко от родного гнезда, и со дня на день ожидал его в гости.
— Мы с тобой, парень, одним миром мазаны, — заявил в ответ на просьбу Павла связать его с партизанами. — И на одной осине нам висеть. И ты для них враг, и я. Хотя я, может, такой беды им и не натворил, как ты… Тогда еще, когда между вами должна была битва начаться, поручили они мне одно дело, сам Степан, слышишь, поручил, когда я его в лес вез, — так что ж ты думаешь? Думаешь, сделал я то, что они мне доверили? Нет, гнилой пень, не сделал, испугался, струсил… Правду тебе говорю: думал, распотрошите вы их — и конец, и делу венец, и никто с меня ничего не спросит, не вспомнит. Оно же вон как все обернулось… Теперь и жду петли на шею, удивляюсь, как они до сих пор ее не накинули… А ты говоришь. Поздно мы с тобой, парень, кинулись. Да и не знаю я, где они теперь, партизаны.
Этот разговор, эта обреченность и безысходность, овладевшие Судником, перевернули Павлу всю душу. Он вышел от старосты, завернул на испепеленное, поросшее бурьяном родное подворье, долго ходил там, как привидение, натыкаясь на обуглившиеся бревна, головешки. Кругом была холодная, безлунная ночь; низко висели звезды, мерцали своим далеким, холодным светом, нагоняя на душу леденящую стужу; притихшая, полусожженная — он тоже приложил здесь руку — лежала Глуша; а он блуждал по двору неприкаянный, и злость, и досада, и страх перед неведомым, непонятным, но неотвратимым пронизывали его, взвихривали мысли, чувства. То он порывался сейчас же, немедленно, идти и громить всех и вся, то готов был исчезнуть, провалиться хоть черту в брюхо, только бы ни о чем не думать, ничего не чувствовать…
Проблуждав добрую половину ночи и так не придя ни к какому решению, Павло на рассвете вернулся к своим, отдохнул немного, хотя ему не спалось и не лежалось, и в тот же день они двинулись дальше. Однажды им будто бы даже повезло — связались с партизанами. Село, к которому они подошли, встретило их плотным автоматным огнем. Павло приказал не стрелять. Когда стрельба утихла, выслал двух своих для переговоров. Парламентеры вернулись с хорошими вестями. Сельчане готовы были принять блуждавших. Их действительно встретили хорошо: накормили, дали приют, и жилюковцы хотя и под стражей, но провели ночь в тепле и покое. Утром между Павлом и командиром местных партизан состоялись переговоры. Стецик, — это был он, тот самый, который на партизанском совещании решительно противился объединению с другими партизанскими отрядами и, по сути, остался теперь изолированным, — этот Стецик требовал от Павла абсолютного повиновения. «Поначалу, — сказал он, — мы вас разоружим, а там будет видно. Кто знает, что вы за люди, сейчас в лесах кого не встретишь…» Павло слушал его и весь закипал от злости, но сдерживал себя, молчал. И как он мог возражать, когда зима на носу, а у них ни теплой одежды, ни харчей, ни крыши над головой? Не спорил, но когда на его вопрос: «Как будет с диверсиями? Выходят ли люди на задания?» — услышал: «Нам и здесь хватает дел», — не удержался. Стецик, мечтавший о пополнении своего отряда и в душе радовавшийся случаю пополнить его этими бравыми хлопцами, услыхав возражение, удивился. Он считал, что Павлу с его отрядом некуда деваться, что они у него в руках и пойдут на все условия. «Мы не кроты», — гнул свою линию Павло. «Ну, тогда идите подставляйте под пули свои дурные головы, — отвечал ему Стецик. — Не хотите жить в тепле и добре — вейтесь своей дорогой».
Павло понял, что и здесь у него не наладится дело, и повел своих хлопцев уже подмерзшими лесными дорогами на восток, на Ровенщину, где, слыхал, собирались большие силы оуновцев. Втайне он еще рассчитывал встретиться с Лебедем, своим неуловимым наставником, и тогда, уверял он себя, дела его сразу пойдут на лад. С такой надеждой и появился он поздней осенью под Рафаловкой, где и пришлось перезимовать…
День выдался солнечный, теплый. В прокуренной хате было шумно, в спертом воздухе резко выделялся запах оружейного масла, и Павло, накинув черную, как ночь, шинель, надев мазепинку с золоченым спереди трезубцем, вышел. Хмельной, выбродивший на весеннем ветру и талом снегу воздух тугим потоком ударил в лицо. Павло постоял на крыльце, соображая, куда бы ему направиться, сошел, остановился посередине двора. Можно было бы зайти в какую-либо другую хату, но и там то же самое. Весь хутор занят ими, куда ни ткнись, всюду болтовня, дым, смрад… А ему это надоело! Надоело пьянство, бесконечная болтовня. Хочется тишины, свежести, покоя. Удивительно, но с тех пор, как он пришел сюда, на свою и не свою, родную и неродную, но всегда желанную землю, он окончательно потерял уравновешенность. Душу заполнило какое-то необъяснимое смятение, странное беспокойство. Пытался заглушить все самогонкой, но тревожные чувства снова одолевали его, угнетали, мучили…
Уже от ворот Павло повернул назад, по тонкому льду пересек двор и вышел на огороды. Недалеко, в нескольких десятках метров, был лес, и Жилюк не раздумывая направился туда по узкой меже, уходившей своими поблекшими прошлогодними травами к опушке. Ему вдруг вспомнилось, что давно-давно хотел побыть в лесу, походить просто так, без дела, без оружия, никому не неся смерть и ни от кого не ожидая ее. Он шел, подминая хрупкие прошлогодние стебли, часто проваливаясь в неглубокие, затянутые ломким ледком ямки, и чувствовал, как что-то до боли знакомое, близкое, но сейчас непостижимо далекое, еще не охваченное сознанием, переполняло все его существо.
Ах, да… Ему вспомнились детские годы, когда ранней весной он бегал по огороду и собирал сухие стебли подсолнухов. Они были такими же хрупкими, как и эти, он так же проваливался в ямки из-под вырытого картофеля, приходил домой забрызганный грязью, и мать ругала его за неряшливость. Вечером они топили стеблями печь, и едкий дым, вылетавший иногда вместе с пламенем за дверцы топки, слезил глаза, першил в горле…
На краю леса росли березы. Павло перепрыгнул неширокую, до половины наполненную водянистым снегом канаву и очутился в березняке. В деревьях уже бродили, буйствовали весенние соки, терпкий запах набухших почек, казалось, недвижимо висел в воздухе. Было тихо, тепло, Жилюк расстегнул шинель, жадно вдыхал целительную свежесть. Голова прояснилась, стала на диво легкой, светлой, свободной от дум. Павло даже засмеялся от радости — так давно не чувствовал он весенней свежести. Стоял, опершись о жесткий березовый ствол, закрыв глаза, и слушал, слушал… По-весеннему позванивали синицы, где-то выстукивал дятел, едва слышно шумели верхушки деревьев. Совсем как в детстве. Будто и войны нет… Павло даже прислушался — попытался уловить хотя бы отдаленный выстрел или взрыв, — но ничто не нарушало лесной жизни, весеннего затишья.
Вспомнилась Мирослава. Собственно, она никогда не исчезала из его памяти. Ему просто показалось, что девушка вышла из-за берез, где ждала его, стала в сторонке и смотрит на него своими ласковыми, как тихие воды, глазами. Что-то разделяет их, что-то не дает им возможности соединиться, но во всяком случае он чувствует ее, любимую, близко около себя. Павло даже вздрогнул от этого ощущения близости… «Чудак! — послышался чей-то насмешливый голос. — Думаешь, она тебя ждет? Как бы не так!..» Жилюк раскрыл глаза, готов был броситься на первого попавшегося насмешника, но никого нигде не было. Ни Мирославы, ни воображаемого обидчика. Однако зерно сомнения, брошенное в его душу неизвестно кем, начало прорастать с каждой минутой, с каждым мгновеньем и вскоре прорвало оболочку, под которой дремало столько сомнений, ревности и недоверия. Павло поймал себя на мысли, что иногда ему самому не верится в преданность Мирославы, в ее постоянство. Еще бы! Такая девушка! Почему она должна ждать его… дичака? Вокруг нее не пусто. Сам видел…
Прошелся. Под ногами похрустывали веточки, прелый лист. Кружево свисающей ветви мягко коснулось его виска, и Павло резко отбросил его, будто это были волосы Мирославы. Неужели она все забыла? Неужели их встречи, беседы, обещания и клятвы — все это обман?..
…В последний раз они виделись месяца четыре тому назад. Как-то он выбрал самое лучшее, что было у него из одежды, начистил сапоги до блеска, побрился и сказал хлопцам, что поедет в город, попробует отыскать тропинку к партизанам. Документы были в порядке, годились еще те, из школы, и Павло без особых приключений прибыл в Копань. Довез его шуцман, который, увидев своего брата оуновца, даже не поинтересовался его личностью. Жилюк благополучно прошел контрольные посты; собственно, их было только два: на железнодорожном переезде и на окраине — на мосту через Турию. За мостом он сошел, но было еще сравнительно рано, и он решил подождать, пока стемнеет, чтобы засветло не показываться в переулке, где его многие могли узнать. Он спустился к речке, походил под холодными, безлистыми вербами и в сумерки вошел в кафе. Посетителей было мало — несколько человек. Мирослава хлопотала за буфетной стойкой. Сначала она даже не обратила на него внимания, а потом, когда Павло подошел ближе, вскрикнула от неожиданности. Он приложил палец к губам, и она замолчала, только смотрела на него с какой-то немой болью в глазах.
В тот вечер, сославшись на нездоровье, Мирослава закрыла кафе раньше обычного, и они остались вдвоем. Она расспрашивала Павла, куда он исчез, где сейчас, не болел ли… Она говорила, и Павло видел в ее глазах чувство искреннего беспокойства, тревогу и заботливость… Только спустя время Павло осознал, что это была необычайная, сказочная ночь, ночь, выпадающая один раз на веку, которая не забывается до последнего момента, последнего дыхания. Он, гонимый судьбой, до сих пор не успел никого полюбить; истосковавшийся по обычному уюту, по теплу домашнего очага, по сердечной дружбе, он — убийца, грабитель, дичак — целовал уста Мирославы, гладил ее волосы, шею, руки… Опьяненный любовью, он поднимал ее и носил на руках, становился перед нею на колени, плакал и молился на нее, такую простую и неземную, его и не его Мирославу…
Павло не заметил, как очутился в зарослях. Опушка, березняк были где-то сзади, а здесь веяло холодком, густой орешник окутывали сумерки. Дальше идти, продираясь сквозь эти заросли, не было никакого смысла, и Жилюк, обойдя сырую ложбинку, поднялся на небольшой, с покатым склоном холм. Взбудораженная воспоминаниями память уже невольно отыскивала в глубинах своих тайников эпизоды пережитого, хаотично переплетала далекое и близкое, личное и общее.
Там, над хутором, слышалась песня, доносились пьяные выкрики, и Павлу вдруг пришла в голову мысль о бесцельности существования. Вот хотя бы и он. Строил какие-то планы, чего-то хотел, добивался, а жизнь его ломала, дергала, останавливала. Бывало, что его били. И что же теперь? Дальше что? Бороться? За что? То, во что верил, за что готов был идти в огонь и в воду, расплывается перед ним, как круги по воде, уходит все дальше и дальше. Его не догонишь. Нет, Павло не знает, за что надо бороться…
Подул свежий ветерок, стало прохладно, и Павло застегнул шинель, затянул пояс и нехотя побрел в хутор.
В хате было все по-прежнему — беспорядок, духота. Ко всему примешивался густой запах самогона. Несколько уже захмелевших стрелков сидели за столом. Перед ними в щербатых полу мисках стояла закуска — огурцы, вареная в кожуре картошка, сало.
— Друже командир, — окликнул кто-то Жилюка, — садитесь с нами.
Павло подошел к столу, ему сразу же освободили место, налили в граненый стакан самогонки.
— Выпейте.
— Где взяли? — спросил, не садясь, Жилюк.
Боевики переглянулись, притихли, уловив неприязнь в голосе сотенного.
— Спрашиваю, где взяли? — спросил строже Павло.
— Где взяли, там, слышь, больше нет, — с вызовом ответил маленький жуликоватый стрелок, приставший к ним недавно и назвавшийся Бейлыхо.
Первым желанием Павла было заехать по физиономии этому нагловатому типу, но он удержался, поняв, что этим поступком мог настроить против себя и остальных. Вместо этого он взял бутыль, где еще плескалась добрая порция самогона, подошел к окну, толкнул маленькую запотевшую форточку, просунул в нее бутыль и с треском разбил о сруб.
— Вот так… Холера те в бок, если слова разучились понимать! Кто дневальный? Все прибрать и проветрить!
Бросил на Бейлыхо взгляд, не суливший ему ничего хорошего, вышел, оставив неприкрытой дверь.
…В полночь их подняли по тревоге. Прискакавший гонец передал приказ командира батальона немедленно занять оборону на участке шоссе от Ровно до Рафаловки и дальше на северо-запад. Километра три они бежали бегом, ничего не видя в темноте, проваливались в выбоины, спотыкались, падали, проклинали все на свете, поднимались и снова бежали. Осада дороги продолжалась долго, никаких партизан они не видели, — по асфальту проносились и проносились крытые брезентом немецкие грузовые автомашины. Что они везли, куда — никто не знал и не имел права знать. Как выяснилось позднее, оуновцев выставили охранять шоссе от возможного нападения, поскольку железная дорога, поврежденная партизанами, бездействовала.
Но партизаны пришли позднее, через несколько дней. Накануне одна из оуновских групп налетела на их санитарный обоз и, говорят, убила человек пятнадцать раненых, забрала лошадей и подводы. Мстители пришли, чтобы отплатить за убийство. Сделав многокилометровый ночной бросок, они на рассвете ворвались в расположение сотни. На хуторе поднялась беспорядочная стрельба, запылали хаты. Разбуженные трескотней автоматов и ручных пулеметов, в отсветах зарев, спросонок боевики хватали оружие и, полуодетые, выскакивали на улицы, соображая, что лучше: отстреливаться или, пока не поздно и плохо видно, бежать?
Хата, в которой был Жилюк, стояла в середине хутора. Павло выскочил в числе первых, на подворье уже метались в панике силуэты нескольких боевиков, кое-кто залег под плетнем. Некоторые, не находя себе места, не видя командира, начали было пробираться за сараями на огороды, рассчитывая, видно, бежать в лес.
— Куда? Холера вам в бок! — крикнул, увидя их, Павло. — Назад! — И выстрелил вверх.
Над хутором повис дым пожара. Подхваченный ветром, он темно-серыми прядями окутывал крыши домов. Горели три хаты. Огромные языки пламени лизали темноту, и она расступалась, бледнела, крепко оседая в отдаленных углах. Подмерзшую за ночь землю свинцовыми клювами долбили пули. Где-то совсем близко застрочил ручной пулемет.
Р-р-р-та-та-тах!
Дз-зиз-з-з-з… вжик… — просвистели над головой пули.
Павло инстинктивно вобрал голову в плечи, одним прыжком очутился за сараем. В ту же секунду позади кто-то вскрикнул. Жилюк оглянулся — один из его боевиков катался по земле. «Хоть бы совсем, — подумал. — Чтоб не возиться». Все же крикнул:
— Помогите ему, отнесите в хату!
С улицы, не раскрывая ворот, вломились человек десять стрелков из других отделений. Не останавливаясь, изредка отстреливаясь, они перебежали двор и, пригнувшись, побежали к лесу. Жилюк выскочил, побежал им наперерез, хотел остановить, но его обругали, и он оставил свое намерение.
— Чего ждем? — услышал он от своих.
— До каких пор сидеть? — слышались кругом голоса.
— Ни с места! — крикнул Павло. — Слушать команду! Короткими очередями! Вдоль улицы!..
Из-под плетня простуженно огрызнулось несколько автоматов.
— Куда стреляете?! — завопили с улицы. — По своим бьете!
Над подворьем снова просвистели пули. Не понять было, кто, откуда стреляет, где партизаны, где оуновцы.
— Эй, Жилюче! — услышал Павло хриплый голос Мокрого. — Ты что, живьем нас хочешь сдать?
Мокрый поднялся с охапки соломы, на которой лежал («Вот гад, — подумал Павло, — и тут о себе позаботился»), за ним поднялись еще несколько человек.
— Пусть один воюет.
Останавливать их было бы бессмысленно, и Жилюк, словно не расслышал последних слов, скомандовал:
— Перебежками на опушку — марш!
Боевики, перегоняя друг друга, бросились через огороды. Не успели они пробежать и половины расстояния, как опушка разразилась автоматным огнем. Передние, которых Павло хотел остановить, сбились в кучу, засуетились.
— Берите вправо! Вправо! — крикнул Жилюк.
Боевики на бегу повернули вправо, под прикрытие сараев, побежали дальше, а вслед им щелкали свинцовые батоги, и там, у леса, не умолкала трескотня автоматов, слышались крики раненых, кто-то надсадно кричал: «Слава!», силясь бросить людей в атаку.
Они уже добегали до спасительного бугорка, за которым можно было укрыться, как вдруг от крайних хуторских хат длинной очередью полоснул автомат. Кто-то охнул и упал. Павло оглянулся, остановившись на миг, и в этот самый момент пуля горячо клюнула его под левую руку. Он еще пробежал несколько шагов, чувствуя, как боль оплывает чем-то теплым и тягостным, и остановился, пошатываясь. В глазах поплыли черные круги, и Павло понял, что на ногах не устоит, вот-вот упадет. И он действительно упал бы на холодную предрассветную землю, если бы Мокрый, очутившийся случайно около него, не поддержал, не подхватил его и чуть ли не волоком затащил за бугор. Подгоняемые пулями, они бежали, и Павло с ними, перебирая непослушными, отяжелевшими ногами. Земля казалась ему всюду покоробленной, усыпанной комьями, о которые он все время спотыкался. Но он так хотел ее видеть, бежать по ней. Подальше от этого места, от свиста пуль, от этих людей в черных шинелях, с полотняными, материнского покроя вещевыми мешками за плечами…
III
Женщину, прибывшую для доставки подвод в партизанский лагерь, Никита Иллюх узнал. Пусть не сразу, но он припомнил день, в который встретился с нею, и событие, приведшее к той встрече. В тридцать девятом, во время выборов в Народное собрание, он был послан в окружную избирательную комиссию, где и имел дело с этой молодой женщиной. Правда, разговор между ними был коротким — товарища Совинскую ожидали представители других сел, — но Никите, что греха таить, понравилась красота этой женщины, ее простота, с которой она вела разговор с приходившими людьми. Только значительно позже он узнал, что она замужняя, что ее муж — тот самый Жилюк, Степан Жилюк, о котором так много говорилось и которого он тоже совсем недавно увидел.
Тогда она была не такая. И поэтому, увидев ее во второй раз теперь, Иллюх верил и не верил своей памяти. Ему хотелось убедиться, наконец, рассказать ей, что он только что от Степана, ее мужа, но над всеми этими порывами стояли строгие правила конспирации. «Может, он, — думал Иллюх о Жилюке, — и знал, что придет именно она, может быть, потому так детально обо всем расспрашивал… А откуда мне знать? Меня не предупредили…»
Попрощавшись с проводницей, он задворками, тайниками пробрался к связному, велел немедленно идти в Сосонки, разыскать руководителя местной группы и передать ему приказ — рано утром выслать к переезду десятерых бойцов с автоматами на случай, если придется спасать подводы. А на другой день, еще до восхода солнца, направился к переезду и сам…
Они укрылись в кустах, в нескольких десятках метров от переезда. Подводы долго, — а может быть, так только казалось, — не появлялись, и Никита Иллюх уже начал беспокоиться. Но вот на мосту, висевшем над колеей, показалась одна, за нею другая подводы. Они медленно скатились с уклона и направились к переезду с открытым шлагбаумом. Вот к ним подошли часовые, и подводы остановились. Иллюх почувствовал, как замирает его сердце. Те несколько минут, которые немцы и полицаи возились около подводы с навозом, показались ему очень длинными, неимоверно длинными, и он был готов оборвать их бег, рассечь острой огненно-свинцовой очередью, но держался до последнего момента. Когда же немцы наткнулись под навозом на металлические предметы и догадались, что там, и когда задняя подвода, вырвавшись вперед, покатила во весь дух, Иллюх понял: настало время действовать, теперь все зависело от них.
— Давай, хлопцы! — крикнул он товарищам и первый открыл огонь.
Все, казалось, шло хорошо. Иллюх видел, как, воспользовавшись замешательством, женщина ударила по лошади, побежала, вскочила на передок и домчалась до поворота дороги. Потом… То, что случилось в следующую минуту, подняло его с земли, бросило туда к подводам. Он только успел крикнуть:
— За мной!
Бежал, на ходу стреляя из автомата. Потом остановился, изменил решение: приказал большинству сосредоточить огонь по немцам, а сам с несколькими бойцами побежал дальше. К счастью, подвода Василька проскочила благополучно. Подвода Софьи стояла поперек дороги, маленькая пузатая лошаденка, очевидно смертельно раненная, недолго подергалась в оглоблях и вытянулась.
— Сбрасывайте навоз! — крикнул Иллюх. — И скорее сюда!
Подбежал к Софье, перевернул ее лицом вверх — жива!
А перестрелка продолжалась, пули свистели над головой. «Хотя бы никто не налетел…»
— Живее! — командовал Иллюх.
Мертвая лошадь уже лежала в канаве.
— Берись за оглобли… Н-ну! Еще!
Подкатили к подводе Василька, начали перегружать оружие и тол.
— Машина на дороге! — крикнул кто-то.
По асфальту в город мчался грузовик.
— Спокойно, хлопцы! Работайте, — сказал Иллюх, вышел на середину дороги и дал длинную очередь. Машина резко сбавила скорость, остановилась и, развернувшись, покатила обратно.
Пока перегружали оружие, один из партизан перевязал Софью, она пришла в себя, но была очень бледна, сидела на обочине и с удивлением следила за своими быстрыми в движениях спасителями.
— Крепко зацепило? — спросил Иллюх не то Софью, не то партизана, который ее перевязывал.
— Ничего, — ответил партизан, — кость цела.
Иллюх подал знак тем, что вели перестрелку, чтобы отходили, и медленно повел людей в сторону от дороги, от убитой лошади и брошенной подводы. На возу поудобнее устроили раненую и двинулись по узкой, извилистой дороге, бежавшей между густыми зарослями кустарника.
Только им одним известными тропами, пробиваясь сквозь густой лес, на другой день ввечеру добрались они к лагерю. Их уже начали разыскивать, выслали навстречу небольшие поисковые группы, но приехали они совсем другими дорогами, измученные, усталые и голодные, сами удивляясь, как живыми выбрались из трясин и болот.
Софье промыли рану, перебинтовали, напоили горячим, с липовым цветом молоком, положили в сухой, теплой землянке.
Поздно вечером в землянку зашел Степан. Он тоже недавно, но раньше их прибыл в лагерь и тоже пробирался разными путями-дорогами.
Софья лежала в горячке.
— Она вся горит, Степан Андронович. Она в жару, — подошла к Жилюку приятная, не первой молодости женщина, дежурившая около раненой.
Откуда она его знает? Где они виделись? Ведь он нигде никогда не встречал этой женщины.
— Кто вы такая?
— Я — Маня, из Глуши Маня, — быстро произнесла женщина. — И вы меня знаете.
— Я совсем не тот, за которого вы меня принимаете, — спокойно сказал Степан. — Позовите лучше врача.
Маня вышла, и он остался с глазу на глаз с Софьей. Как она изменилась! Подошел, слегка коснулся рукой ее лица. Пылает. Задумался. «Вот мы и встретились, Софья! Война… Страшная, беспощадная. Но знала бы ты, как долгими бессонными ночами твой Степан думает о тебе, оберегает тебя своими мыслями-тревогами. Да, нелегко мне нести свою и твою боль, нелегко».
За дверью послышались шаги. Вошли врач и Маня. Жилюк дал врачу понять, что Маня здесь лишняя, и тот послал санитарку к поварам узнать, нет ли у них квасу, чтобы сделать Софье компресс.
— Очень плохо? — спросил Степан.
— Большая потеря крови. Жар, видимо, от простуды. — И добавил: — Переливание крови кардинально изменило бы картину. А где ее здесь возьмешь?
Кровь… Столько льется ее кругом, а здесь, при неотложной надобности, ее нет.
Раненая пошевелилась, попросила пить. Степан зачерпнул кружкой из ведра, поднес к ее губам. Не раскрывая глаз, Софья жадно припала пересохшими губами к краю кружки, сделала несколько глотков.
— Больше не давайте, хватит, — сказал врач.
Жилюк медленно отнял от жарких уст кружку. Лицо Софьи скривилось, передернулось, у Степана даже заболело в груди. На мгновенье она раскрыла глаза. Когда-то василькового цвета, они сейчас лихорадочно блестели от жара, налились кровью и стали красными.
— Софья, — тихо позвал Степан, — это я… — Взял ее горячую, податливую руку.
Веки слегка задрожали, но, видимо, раскрыть глаза не хватало сил.
— Мне можно побыть около нее? — спросил Степан.
Врач утвердительно кивнул.
— Сестра будет наведываться, — сказал он и вышел, неслышно прикрыв дверь.
Они остались одни. Степан поправил в каганце фитилек, начавший сильно коптить, выровнял свет и сел возле небольшого, сбитого из досок столика. За единственным крохотным оконцем, что амбразурой смотрело в мир, лежала темная мартовская ночь, глухо шумели сосны. Оттуда, со двора, еще доносились голоса, какие-то отзвуки, а ему во всем этом чудилось детство, виделась молодость, слышалось далекое и близкое. Степан отгонял навязчивые воспоминания, которые, казалось, только и ждали подходящего случая, чтобы заполонить его душу. А Степану хотелось просто посидеть около Софьи, посмотреть на нее, ни о чем не думая, ничего не взвешивая.
Он сидел молча. А в истосковавшуюся душу одно за другим ринулись воспоминания о днях, когда он вернулся из далеких военных странствий. Сколько ни мечтал, как ни старался представить себе возвращение на родину, продумать его во всех деталях, а вышло совсем по-иному. Думал прийти поздно вечером — обязательно вечером! — постучать в окно родимой хаты. Раз. Другой. Третий. А когда на пороге появится мать, тихо попросить: «Пустите переночевать». — «Откуда же вы, человече?» — «Захожий, на заработки иду». — «Тогда заходите, заходите. Где-то и мои вот так ходят. Часом, не встречали? Павло и Степан Жилюки». — «Не встречал, мама, не встречал. Здравствуйте, добрый вечер вам». — «Сын! Господи, сын!.. Степочка…» И мать непременно заплачет. А он напомнит ей песню, ту, что она любила:
Чайка чаєняток на вечерю кличе. — Де ви, мої діти? — жалібно кигиче…«Вот и слетаются, мама, чаенята в родное гнездо»… А потом он пойдет к н е й. Она ничего не знает. И тоже постучит. Один только раз, тихо-тихо, как когда-то, давно. И она услышит. Узнает его по этому стуку и вылетит к нему легкокрылой птицей, и они долго будут стоять обнявшись, молча, ни о чем не спрашивая, не обронив ни словечка. Потом он поднимет ее и на руках внесет в дом. А утром они попросят родительского благословения…
Приехал же он в Глушу днем, на стальном краснозвездном коне, который догнал его на далекой дороге, посадил и привез в село. Все односельчане его обнимали, все целовали. И случилось так, что родных он увидел последними, а ее — лишь на следующий день, потому что она была в городе. И тоже при всех, при всем обществе, потому что сидел уже в сельской народной управе, потому что сразу возникло множество вопросов, которые требовали немедленного разрешения… Она вошла, не вошла — влетела, взволнованная, нежная, желанная, и застеснялась, смутилась перед чужими, посторонними взглядами. Они и поцеловались тогда сухо, сдержанно, совсем не так, как он себе представлял… А потом… потекли дни за днями, ночи за ночами. Один горячее другого, одна беспокойнее другой… Так и не постучал трижды в материнское окошечко, не напомнил ей ту печальную песню, так и не внес любимую на руках в дом…
Конечно, он не может упрекнуть в чем-либо Софью. Она всегда была чуткой, внимательной, заботливой. Он, бывало, из-за вечной своей занятости забывал о ней, а она — нет, никогда не огорчала его.
Была, вероятно, полночь. Наведалась Маня.
— Вы не спите? — (она уже не обращалась к нему по имени-отчеству). — Вам и прилечь негде. Одну минутку. — И не успел Степан возразить, как она выскочила из землянки и вскоре вернулась с сенником, простыней и одеялом. — Вот это как раз свободное, — приговаривала, стеля постель на сплетенных из хвороста нарах. — Ложитесь, отдохните. Я еще наведаюсь.
Степан знал, что стоит ему только прилечь — и он непременно заснет. За минувший день он страшно устал. Его утомила дорога, волнения, а здесь, в лагере, — встречи и разговоры с людьми, знакомство с партизанской базой, системой обороны, постов, запасными засекреченными выходами. Он еще об этом с Гуралем не поговорил, оставил на завтра.
Жилюк присел около железной печки, которая начала затухать, подбросил несколько поленьев. Его тревожили возникшие мысли, и он так углубился в них, что не заметил, как шевельнулась Софья и снова попросила пить. Но он почувствовал, что она чего-то просит, и откликнулся:
— Сейчас, дорогая, сейчас.
Зачерпнул кружкой воды, дал напиться, постоял над нею, поправил пальто, накинутое поверх одеяла, и снова сел около печки.
Сверху послышались чьи-то тяжелые шаги, перед дверью они, однако, притихли, а в землянке и вовсе стали неслышными.
— Ну как ей? Не легче? — спросил Андрон.
Степан подал отцу табурет.
— Все так же. Жар.
Старик вздохнул, расстегнул полушубок.
— А я только что с поста. Под утро крепчает, холера… Даже замерз.
— Андрей где? — поинтересовался Степан.
— Пошел. Куда-то к железной дороге. Таким подрывником стал, что куда там…
Степан в душе порадовался за брата. Какое-то время помолчали. В топке потрескивали сухие сосновые поленья, печка дышала теплынью, а отец и сын никак не могли уловить ниточку разговора, она все время ускользала от них, терялась.
Андрон прокашлялся — так он всегда делал перед важным разговором, — вздохнул еще раз, вытер рукавицей губы:
— Говорят, Павло где-то здесь объявился. Будто даже в Глуше был. Не слыхал, а, Степан?
— Почему же, слышал. Раз говорят, то и я слышал.
— Ну и что, как же ты?
— Не я ему судья, отец, — народ. Пошел против народа — пусть перед народом и кается.
— Но он же того… от немцев, говорят, отрекся.
— От немцев отрекся, да к Бандере пристал. А это один черт.
— Холера ясная! Где же он теперича?
— Где ж ему быть? Где-то в лесу. Смотрите, еще и встретитесь.
— Попадись он мне, вражина, не посмотрю, что здоровый, а отчищу так, что долго помнить будет. — И старик задумался, умолк, на глаза навернулась слеза, и он, чтобы не выдать своей слабости, смахнул слезу рукавицей.
— Не тело ему чистить надо, душу, — проговорил Степан. — Душа у него черная.
— А все же, видишь, отпустил Софью и Андрейку. Что-то ему давит там, в груди.
— Бьют наши фашиста, вот ему и давит. Много сейчас таких среди тех же оуновцев, которые подумывают, как бы из этого дела выпутаться, сухими из воды выйти.
— У кого не бывает ошибки…
— Бывает. Но ошибка ошибке рознь.
Вот так, Андрон. Пустил в мир трех сыновей — три заботы в сердце поселились. И никуда не денешься. Подумаешь — и одного жаль, и другого, а глупого или неудачника — тем более. Отхлестал бы его своей батьковской рукой, легче бы стало, а вот печаль и заботу свою куда девать — неизвестно. Не вырвешь их из груди, не выбросишь. Выходит, мучиться тебе, человече, до конца дней своих, поскольку нет мира на этом свете.
— Так что же, холера ясная, теперь делать? — сокрушенно спросил Андрон.
— Не знаю. Не спрашивал он нас, когда к ним шел. Да и сейчас что-то не торопится с повинной. — Степану стало душно, и он расстегнул воротник, который сдавливал ему шею.
— Ты где спать будешь? — спросил Андрон.
— Какой у меня сон…
— Ложился бы, а я посижу. Надолго приехал?
Степан ответил не сразу.
— Посмотрю, — проговорил неуверенно. — Может, и надолго.
Андрон не стал больше расспрашивать: с некоторых пор понял, что не все из сыновней жизни дано знать даже ему, отцу.
— Ну, ты ложись, ложись, поспи немного, а я пойду дровишек принесу, — поднялся утомленно старик и начал застегивать полушубок.
— Как твоя рука? — вспомнил Степан давнее отцово ранение.
— Ничего, уже зажила… Ну, я пошел. — Тихо скрипнула за Андроном дверь.
Степан постоял в раздумье. Вдруг до его слуха донеслась какая-то подозрительная возня, сдавленное хрипенье, будто за дверью кто-то кого-то душил. Что за оказия? Степан резко рванул дверь. Тусклый свет, упавший в дверной пролет, выхватил из темноты два силуэта.
— Кто там? — громко спросил он.
Ответа не последовало. Кто-то бросился бежать.
— Стой! Стреляю! — и Степан выстрелил наугад.
Прибежали люди. Андрон лежал у выхода из землянки. Жизнь еще билась в нем, и Степан попробовал его приподнять, чтобы внести в землянку, но тот застонал, и пришлось оставить его на месте.
— Кто стрелял? — послышались голоса.
Степан объяснил, и партизаны бросились в темноту.
— Позовите врача! Скорей!
Кто-то присветил фонариком. Степан и еще несколько человек склонились над Андроном. Пока вносили раненого в землянку, прибежал врач. С Андрона сняли полушубок. Кровь залила старику грудь, она сочилась и сочилась изо рта, из носа и откуда-то из-под воротника рубахи. Врач разрезал Андрону сорочку, вытер ватой шею, и все увидели небольшую рану.
— Удар квалифицированный, — констатировал врач. — Задета сонная артерия. Санитарка!.. Где вы там? Быстрее!
…Через час старый Жилюк умер. Он так и не пришел в сознание, не сказал своего последнего слова. Смерть, которая всю его жизнь ступала по его следам, не раз и не два касалась его своей холодной, костлявой рукой и которую он по простоте душевной и доброте не ненавидел, а терпел, терпел, как пана, солтыса или осадника, — эта смерть все же подстерегла и схватила его. Если бы Андрон мог, он непременно упрекнул бы ее. Не просил бы пощады или отсрочки, нет, он упрекнул бы ее за такую внезапность и попросил бы пощадить невестку его Софью. Потому что любил он ее, уважал и считал единственной достойной продолжательницей их, жилюковского, рода… И вот не успел. Костлявая махнула своей косой нежданно-негаданно, выбрав для этого темную, непроглядную ночь: он не успел даже рассмотреть, прикрикнуть на нее. Какое-то время он еще чувствовал, как около него стоял сын, как его подняли и понесли в землянку, положили на постель. Остатками на диво цепкого, живучего своего сознания угадал врача, его руки, разрезавшие сорочку. А потом… потом свет сомкнулся над ним своим черным кругом…
Он лежал, вытянувшись во весь свой не такой уж и большой рост. Ему уже обмыли лицо, опустили веки, так и не сумев закрыть один — левый — глаз, и казалось, что старик все время наблюдает за кем-то, что он вот-вот поднимется и со злостью крикнет: «Холера ясная!..» Почерневшую, изборожденную глубокими морщинами шею туго обтянул белый, как рождественский снег, бинт. В том месте, где была рана, бинт слегка порыжел, — не останавливалась, не хотела застывать неугомонная, бунтарская жилюковская кровь. И откуда только она в нем бралась! Сколько пролил ее на войнах и в схватках с врагом, сколько пришлось ему кашлять кровью, а она все сочилась — будто брал он ее из каких-то неиссякаемых земных глубин.
Вот и отходили твои ноги, Андрон, по земле, отработали руки. Лежи отдыхай! Теперь тебе не надо думать о завтрашнем дне, о хлебе насущном, не надо думать о земле, которой всегда было мало. Отмеряют тебе три аршина, присыплют, поставят деревянный столбик. И будут шуметь над тобою высокие сосны, будут мчаться мимо тебя стальные чудовища, гром будет греметь над тобой да шастать ослепительные молнии. А ты ничего этого не услышишь… А потом могучий дуб отыщет тебя своими корнями, и ты послужишь живым в последний раз — передашь этим корням остатки сил своих, чтобы питали они могучую зеленую крону дуба. И ничего не поделаешь, такова жизнь, такова суть ее законов. Из земли вышел — в землю пошел. Но ты не печалься. Кто отдал, тому памятью народной возвратится. Ты же отдавал, творил, растил… на твоем хлебе росли поколения. Они не забудут. Они не забудут и того, что был ты великим правдолюбом. Ты думал только о добре. И вот один из тех, кого ты выходил и поставил на ноги, кто постиг твою науку добра, стоит над тобою, скорбя, стоит и клянется: «Прости, отец, прости, что в хлопотах своих не уберег тебя от смерти, что пустил на нашу священную землю насильников и убийц… За все прости. Я отомщу убийцам. Мы отплатим за твои муки и за муки матери… За всех. Кровь за кровь! Муки за муки!..»
Утром, когда всходило солнце и по-весеннему шумели леса могучей Полесской пущи, когда Софья впервые открыла изболевшиеся от жара глаза, партизаны хоронили Андрона Жилюка. Без гроба, обернутого плащ-палаткой, опустили его в неглубокую сырую яму, низенький холм выложили дерном, а в изголовье поставили дубовый столбик.
IV
После выздоровления, в начале апреля, сотенного Павла Жилюка вызвали в штаб батальона. Извещение Павло получил вечером, долго не спал, вертелся на жестких нарах походного госпиталя, пытался разгадать причину вызова. Под утро заснул глубоким сном, так и не постигнув ее. Утром встал посвежевший, с приятной легкостью во всем теле. Быстро побрившись, умылся и долго смотрел на себя в зеркальце. «Стареешь, друже, стареешь. Седина уже появилась. Две борозды в межбровье, — говорят, двух жен будешь иметь… Какая чепуха! Вот одеться не мешало бы поприличнее. Обтрепался совсем…»
Павло спрятал зеркальце, побросал в ранец кое-какие вещи, позавтракал и пошел на дорогу. «Посмотрим, зачем это господам штабистам я потребовался». Часа за полтора на попутной подводе добрался до села, отыскал дом, где помещался штаб. Во дворе стояла группа военных.
— Слава Украине! — поздоровался Жилюк.
— Слава! — медленно ответили ему.
Павло направился к входу, но часовой, стоявший на крыльце, остановил его, велел подождать.
— Валяй сюда! — крикнули Павлу из группы.
— По вызову? Мы тоже. Уже с полчаса торчим здесь.
— Не знаете, зачем вызывают?
— Черт его батька знает. Наше дело телячье. Куришь? Может, ты и баб не того…
— А это уже как придется, — в тон им ответил Павло.
В группе засмеялись. Это были такие же, как он, полные сил здоровяки, не старше тридцати пяти — сорока лет, загорелые на ветрах и морозах, откормленные на крестьянских, насильно отобранных харчах. Еще вчера они сидели в засадах, стояли в карауле, сторожили, чтобы не подкрались и не захватили их врасплох партизаны, мерзли на холоде, были злы и беспощадны, а ныне радовались, что хоть временно избавились от всего этого.
Жилюка вызвали с первым десятком. Павло уже знал, что их посылают в Ровно, в распоряжение полицейфюрера, и что разговор, который ведет с ними начальник СБ[14], чисто формальный, короткий. Так оно и было в действительности. Эсбист заполнил на него личную карточку с данными о рождении, образовании, социальном положении и прохождении военной службы. Он уже хотел отпустить его, как вдруг, словно что-то припомнив, бросил взгляд на Павла:
— Случайно не про вас спрашивал меня Лебедь?
Павло вздрогнул, фамилия бывшего шефа пробудила в нем бурю разных чувств.
— Я знал друга Лебедя, — ответил Павло. — Мы расстались в прошлом году во Львове. Могу я его видеть? — спросил с надеждой.
Эсбист покачал головой:
— Друг Лебедь теперь шеф СБ. Вот поедете в Ровно, может, и увидите, там он бывает, наверняка чаще, чем здесь.
Разговор утешил Жилюка. Из штаба он выскочил какой-то словно окрыленный.
— Тебя не в центральный ли провод назначили? С чего это так расхорохорился? — спрашивали его во дворе.
— Будет дельце, хлопцы!
— Чудак, будто кто-то думает, что нас здесь для парада собрали.
Но Павло вроде бы и не слушал их слов, он весь был в своем недалеком будущем.
Ровно был неспокойным городом. Хотя оккупанты, очистив его от всех подозрительных, окружили себя, казалось бы, надежным кольцом из разного рода прислужников, а жилось им с каждым днем беспокойнее. По железной дороге, проходившей через центр города и делившей его на две половины, круглосуточно громыхали поезда — от их грохота тревожно дрожали в домах стекла. Когда поезда не ходили и станция на какое-то время затихала, пришлым становилось еще более жутко: они знали, что это не просто затишье, что где-то, на каком-то километре, взорван путь, пущен под откос эшелон. Сколько их, коротких и длинных, товарных и пассажирских, с офицерами и солдатами вермахта, разбито, покорежено, уничтожено! Правда, этого никто не говорит, это для штабов, а для широкого круга все зер гут — очень хорошо. Широкий круг должен знать, что красных бандитов великое множество уже уничтожено, что доблестные рыцари рейха успешно продвигаются на восток, что они вот-вот пересекут Волгу — и тогда капут Москве, Ленинграду. Широкий круг должен знать, что Советы в панике, что московские комиссары бегут в Монголию, а на Урале — восстания… А вот это фото руин Кремля. Близится час полной победы! Еще шаг или два — и «дранг нах Остен» блестяще завершится. И когда оттуда, с востока, непрерывным потоком потечет на запад нефть, эшелонами пойдут руда, уголь, зерно, — тогда не только немецкий народ, а весь мир поймет величие этой победы…
Павло Жилюк прогуливался по городу. Целую неделю он в Ровно, а вот только сегодня выпала возможность пройтись по улицам. Отвыкший от нормальной жизни, немного одичавший в лесных и хуторских засадах, Павло с интересом рассматривал густо налепленные объявления и фотографии; он с удовольствием прошелся по Немецкой улице, скользил взглядом по пышным бюстам рекламных и живых девушек. И где только таких отыскали? Разрисованные, расфуфыренные, в юбочках выше колен… А глаза!.. Бесстыдно предлагают себя. Ни достоинства, ни самоуважения, срамота, да и только.
Был тихий вечерний час — тот самый час, когда все порядочное, трудолюбивое устало шло на отдых, а вылежавшаяся за день нечисть выползала для своей ночной «работы». Павло знал, что в городе есть немало женщин легкого поведения. Сейчас они прохаживаются, «показывают» себя, а стемнеет, думал Павло, потянутся в рестораны и кабаре, в ночные логовища, какую куда поведут. Наконец Павлу начало надоедать бесцельное блуждание по улицам. «Не пойти ли в кино? — подумал, остановившись возле яркой кинорекламы. — «Девушка моей мечты»… Может быть, стоит пойти?» — раздумывал он, смакуя привлекательные формы рекламной красавицы.
— Нет ли у вас спичек, господин военный? — услышал за своей спиной женский голос.
Две девушки стояли рядом и кокетливо ему улыбались. Одна, высокая, с тонким носиком, поигрывала сигаретой. Не говоря ни слова, Павло достал зажигалку.
— Господин всегда такой сердитый?
— Всегда, — совсем неприязненно ответил Жилюк.
Девушки фыркнули, повернулись и ушли. «Зачем я их обидел? — подумал Павло. — Они же не хотели мне зла». Он с сочувствием и с какой-то даже жалостью посмотрел им вслед — те шли, пританцовывая, словно ничего не произошло.
То ли свободное время побудило Павла к воспоминаниям, то ли встреча с гулящими девушками — неизвестно. Но первой вспомнилась ему Мирослава. Он искал с ней встречи. Он вспоминал ее нежность и ласку, безграничную щедрость ее души. До каких же пор они будут жить врозь? А что, если предложить Мирославе переехать сюда, в Ровно? Пусть бросит свою харчевню, Копань — и к нему. Работают же девушки у них в госпиталях, в штабах… и для нее найдется и место и жилье. Надо немедля с нею переговорить. Немедля! Пока не поздно, пока есть время… Не то клюнет вот так… как недавно, чуть правее, под левую лопатку, — каюк. Тогда ничего не надо — ни самостийной, ни победы, ни Мирославы. Тогда — три аршина и четыре доски.
Павлу сдавило горло, не хватало воздуха. Он расстегнул на тугом воротничке крючки, выпростал шею, как вол, освобождающийся от ярма, достал сигарету, жадно затянулся. Вот так, друже сотенный. Ты думал — иначе? Думал, бессмертье тебе уготовано? Не надейся. Не те шлепнут, так эти, а между двух огней долго не походишь — какой-нибудь, да прижжет.
Настроение испортилось, о кино не хотелось и думать. Жилюк прошелся по главной улице и свернул вправо, к парку. Здесь, на отшибе, было просторнее. Терпко пахло набухшими почками, талой, позеленевшей на солнышке землей. На ветвистых, высоких осокорях кричало воронье. И от этого крика саднило сердце, словно воронье касалось его своими острыми цепкими когтями. «Расплодилось этой погани, — подумал Павло, — небо чернеет».
И уже совсем неуместно вспомнилось ему то, что произошло третьего дня. Об этом тоже напомнило ему воронье. Тогда его было столько же, если не больше. Сидело, разжиревшее, обленившееся, прямо на земле, на комьях. Павло сначала и не замечал его, но когда резанули внезапные поспешные автоматные очереди и те, в кого стреляли, слегка вскрикнув, застонали, падая в ямы, — взлетело, закаркало, тучей закружилось над рвами, над трупами… Кто-то из гадливости или забавы ради сыпнул в его гущу свинцом, — несколько ворон тяжело упали на бруствер, беспомощно били крыльями землю, а потом скатились в ров, остальные разлетелись. Когда оуновцы через полчаса возвращались в город, Павло оглянулся — воронье снова кружило над ямами…
На душе стало еще тоскливее. Девок он прогнал, в кино не пошел… Что же теперь придумать? Знакомых, с которыми можно было бы посидеть, поговорить, нет. Да и какие сейчас могут быть беседы? Имеешь несколько свободных часов — пользуйся ими полнее, завтра их уже не будет… И напрасно ты поступил так с гулящими девками. Думаешь, та, твоя желанная, ждет тебя? Верна тебе? Чудак!..
Напротив по дорожке шла пара — он и она, и Жилюк, не желая с ними встречаться, свернул на боковую аллею. К черту все! На следующей неделе он отпросится и смотается в Копань, переговорит с Мирославой. Если да — хорошо, а нет… холера ей!.. Пусть остается, пусть делает, что ей угодно. Не только света, что в одном оконце. Другая найдется. И не одна, десять…
Он шел по аллейке, которая привела его к небольшому аккуратному домику, стоявшему среди деревьев. Доносились запахи жареного, и здесь, на воздухе, они приятно возбуждали аппетит. Павло, хотя недавно и поел, все же почувствовал себя проголодавшимся. «Не харчевня ли здесь примостилась? — подумал он. Павло никогда не бывал в этом парке, не знал его. — Вполне может быть и кафе какое-нибудь, место здесь хорошее, — соображал он. — Вот только для кого? Если для швабов, то нечего и соваться».
«Только для немцев», — вспомнил со злостью. — Куда ни ткнись — только для них. Рестораны — для них, магазины — для них, лучшие квартиры, даже улицы — все для них, холера им в бок. Союзники называются… Ну, подождите! Не может быть, чтобы вы здесь, на нашей земле, вечно пановали. Дойдет до вас очередь, подождите!»
Это действительно было кафе. И, главное, без ограничений на вход, без этого унизительного «только для немцев». Очевидно, оккупанты любили гулять на виду, с форсом, а не жаться в каком-то захолустье, где еще и пристукнуть могут.
Павло зашел. Тихо, чисто. И малолюдно. Несмотря на предвечернее время, за столиками всего несколько посетителей. Один такой же, как он, в форме оуновского офицера, остальные в штатском. Жилюк заказал водки, закуску, взял сигареты.
— Господин будет один? — поинтересовался официант.
Павло утвердительно кивнул.
— Это хорошо или плохо? — спросил у официанта.
Они обменялись несколькими фразами, и Павло понял, что женское общество здесь не в почете, нежелательно, что здесь проходят преимущественно деловые встречи. И еще он узнал, что немцы действительно не имеют к ним отношения, отдали это учреждение целиком господам украинцам. Официант так и сказал «господам» и, как Жилюк убедился потом, имел для этого полное основание: в этом кафе проводили время преимущественно заправилы из окружного оуновского провода, сотрудники газеты «Волынь», редакция которой помещалась неподалеку, и некоторые другие дельцы.
Таким образом, он попал по адресу — отсюда его никто не может выгнать, здесь он и хозяин и гость.
За часок-другой, выпив солидную порцию какой-то вонючей, но крепкой жидкости, Павло сумел подавить в себе свою боль, свою досаду, которые было начали подтачивать его после всех этих воспоминаний-раздумий. Теперь, захмелев, он хотел найти друзей, развлечься, отвести душу, хоть немного забыться. Здесь ничего подобного даже и не предусматривалось, поэтому Жилюк решил оставить это заведение и поискать чего-нибудь повеселее. Он подозвал официанта, чтобы рассчитаться, как вдруг в кафе вошли трое. Они были в штатском, но ни плащи, ни модные шляпы, которые безукоризненно сидели на них, не могли скрыть военной выправки вошедших. Незнакомцы быстро сориентировались и направились в конец зала. Павло, мимо которого они проходили, случайно встретился с одним из них взглядом, и что-то будто обожгло его.
— Друже Лебедь? — сорвался со стула Жилюк.
Тот, к кому он обращался, замедлил шаг, в глазах его сверкнула не то радость, не то удивление, губы скривила вялая улыбка.
— Если не ошибаюсь, Жилюк?
— Он самый.
Они обменялись рукопожатием, и в нем Павло почувствовал жесткую и крепкую руку военного человека.
— А я вас ищу. Думал, в Копани встретимся, я там в школе старшиной был. — Жилюку трудно было сдерживать свою радость. — Такая неожиданность! А я еще раздумывал: стоит ли заходить сюда?
— Где же теперь? — спросил Лебедь.
— Был в полевых частях сотенным, а на той неделе сюда отозвали, в распоряжение коменданта.
— О-о, сотенный Жилюк! Неплохо, будем вместе одно дело делать.
— С радостью, друже Лебедь. Я столько думал, искал встречи, а вы как в воду…
— Служба, — развел руками Лебедь, — ничего не поделаешь. Целый-невредимый?
— Немного зацепило. Но не очень, цел…
— Вот и хорошо, — не дал ему закончить Лебедь. — Встретимся. А сейчас — извини… друзья. — Он улыбнулся тем, которые вошли с ним и уже сидели за столиком, ждали. — Я тебя разыщу через коменданта.
— Непременно. Я так ждал… Сколько пережил, передумал, — лепетал Павло, — так хотелось повидаться…
Но Лебедь наспех пожал ему руку, давая понять, что разговору конец, что его ждут более важные дела, и Жилюку не оставалось ничего другого, как уйти. Он рассчитался и с каким-то неприятным на душе осадком вышел из кафе.
V
Из центра извещали, чтобы приготовились к приему самолета. Это был первый транспорт с Большой земли, первая ласточка, которая должна была доставить не только ценный груз, но и доказать наглядно, что там, на востоке, на берегах Волги, на Урале, в Средней Азии и Сибири, еще бьется на полную мощность живое сердце Советов, что там не только противостоят врагу, выковывают оружие, которое вскоре обрушится на него, но и думают о них, о непокоренных бойцах Родины.
Весть, хотя ее до прибытия самолета не очень-то и разглашали, быстро облетела все отряды.
— А правду говорят, у нашего тыла великая сила, — по-своему комментировали партизаны это событие.
— А как же, теперь у нас дела пойдут веселее.
— Теперь Гитлеряке надаем по с…
Беседы шли оживленные, и хотя самолет не был чем-то удивительным, все слышали, что в соседние отряды уже прилетали, но то, что на этот раз гости летят к ним, радовало. Всем хотелось увидеть их близко, собственными глазами. Поэтому, когда стало известно, что формируется группа, которая пойдет готовить посадочную полосу и встречать самолет, желающих оказалось больше, чем требовалось.
Степан Жилюк, который перебазировался в отряд из Копани и стал командиром партизанского соединения, лично контролировал подготовку к встрече. Подбирались надежные и опытные люди, им предстояло выбрать место для посадки и обеспечить надежную охрану самолета и груза на случай внезапного нападения карателей. Командиром группы назначили Николая Грибова, начальника разведки, начали уточнять систему сигнализации, намечать пути отхода, точки прикрытия, продумывать до мелочей детали операции. Все это делалось быстро, на ходу, потому что центр уже во второй раз запрашивал координаты, интересовался готовностью к приему транспорта. Партизаны торопились еще и потому, что там могли отложить полет или переадресовать груз другому соединению.
Через несколько дней группа в полном составе пошла на задание, и Жилюк занялся разработкой очередной крупной операции. План ее вынашивался давно, суть его состояла в том, чтобы двадцать третьего апреля, когда оккупанты будут праздновать день рождения своего фюрера, нанести им такой удар, после которого они не смогли бы сразу и на ноги подняться. По плану намечалась серия последовательных диверсий, и главная из них — разрушение железнодорожной станции Залесичи. Станция играла важную роль на перегоне Копань — Брест, и вывод ее из строя повлек бы за собою срыв движения составов на этой дистанции пути.
Несмотря на частые карательные действия, в своих тайных донесениях оккупанты все настойчивее жаловались на невозможность доставки продовольствия и фуража из глубинных районов, на усталость личного состава охранных частей и отрядов, которые живут в постоянной тревоге и напряжении, без смены, не имея возможности отдохнуть; они требовали увеличения количества охранных войск и опорных пунктов, усиления их боеспособности.
Численность патрулей и карателей росла, их боеспособность становилась интенсивнее, а диверсии не прекращались, не ослабевали. Наоборот, с наступлением весны, с открытием чернотропа, они умножились. За осень и зиму выплавка тола из артиллерийских снарядов и авиабомб наладилась, проблема взрывчатки несколько утратила свою остроту, появилась возможность начать длительную войну на рельсах. Ежесуточно теперь на полотно железной дороги выходили до десяти групп подрывников. Сваливались под откосы груженые составы, взлетали в воздух десятки метров рельсов, оседали в реки стальные пролеты мостов. Для обеспечения безопасности движения оккупанты прибегали к различного рода предупредительным мерам: важнейшие эшелоны сопровождались бронепоездами с платформами впереди, внутри пассажирских вагонов, вдоль стен, ставились щиты из не пробиваемой пулями листовой стали, наиболее уязвимые перегоны усиливались патрульной службой, расстояние между постами сокращалось вдвое…
Но даже эти меры не давали эффекта. Эшелоны продвигались с перебоями, доставка боеприпасов запаздывала, пополнение фронтам тормозилось.
— Мы должны теперь, — говорил на собрании партийного актива Жилюк, — полностью парализовать движение на этом участке дороги. Ни один эшелон, куда бы он ни направлялся фашистами, не должен дойти до цели. Это наша обязанность, дело нашей партизанской чести.
— Это верно, — соглашались с ним, — а чем взрывать? Давайте взрыватели.
Взрывателей действительно не хватало.
Изготовлять их кустарно, своими силами, не научились, обходились все время трофейными и теми полуторастами, которыми по распоряжению центра поделились с ними партизаны соседнего соединения. Теперь этот запас был на исходе, а потребность во взрывателях росла. Правда, каждый понимал, что никакие причины не должны повести к прекращению диверсий. И тогда снова решили прибегнуть к старому, испытанному средству — разбирать колею. В короткое время отряды «вооружились» специальными гаечными ключами, ломиками и крепкими дубовыми кольями — для выворачивания шпал и рельсов.
Вдвоем с Гуралем, который теперь исполнял обязанности комиссара партизанского соединения, Степан объезжал отряды, проверял их боеспособность, советовался с командирами и бойцами; он возвращался поздно, иногда на другой или на третий день, и Софья, находившаяся в группе выздоравливающих, видя постоянные заботы Степана, переживала за него, жалела. Однако ни с кем своими переживаниями не делилась, даже с Анной Гуралевой, которая всячески старалась рассеять ее мысли. Общества Степана, как и до сих пор, избегала, но однажды вечером, выбрав удобный момент, зашла к нему в землянку.
Степан был один. Он только-только вернулся из многодневной поездки в соседнее соединение, с командиром которого договорился о поддержке на время операции, и теперь прилег не раздеваясь. Когда ему доложили, что пришла Софья, он несколько был обескуражен. Софья вошла, поздоровалась.
— Что-то случилось? — спросил ее Степан.
— Нет, ничего. Я пришла к тебе за разрешением.
— Каким?
— Хочу участвовать в операции. — Сказала и молча смотрела на Степана, наблюдая, какое впечатление произвели на него ее слова. Степан не успел еще собраться с мыслями, как Софья добавила: — Кроме тебя, никто этого не разрешит.
— Видишь ли, операция трудная, рискованная, — начал мягко Степан, — а ты еще не выздоровела полностью. Лучше тебе подождать.
— Я здорова, трудности перенесу. А риск у нас везде.
— Это верно, но одно дело — здесь, в лагере, другое — в бою. Да и врач тебя не отпустит.
— Отпустит, он видит, что я уже здорова. А безделье для меня хуже всякого риска.
В ее голосе чувствовалась неуступчивость и твердость, и Степан понял, что отговорить Софью невозможно. Смотрел на нее и с радостью замечал то, что видел в ней давно, еще до войны, до трагедии, которая перевернула всю ее душу. Подошел к ней, положил, как маленькой, на ее голову руку.
— Софья!
Она встала. На мгновенье их взгляды встретились, и женщина не выдержала, опустила глаза.
— Софья, так нельзя, милая. Мы же не чужие.
— Степан, сейчас не будем об этом.
Голос ее дрогнул, в глазах блеснули искорки слез, и, чтобы скрыть их, она склонила голову, коснувшись Степанова плеча. Он обнял ее, и она, прижавшись к его груди, тихо, неслышно заплакала…
Время налета на станцию назначено было на рассвете двадцать четвертого апреля. Разведчики, вернувшиеся накануне, сообщали, что фашисты действительно готовятся пышно отметить день рождения Гитлера, что оккупационные власти не жалеют сил, чтобы украсить городок, придать ему праздничный вид. Расчет был прост: фашисты примут меры против ночного нападения, а потом, увидев, что ночь проходит спокойно, ослабят внимание и будут пить-гулять до поздней ночи. А под утро, когда заснут, партизаны устроят им свинцовое похмелье.
Двадцать третьего апреля, вечером, отряды выступили на заранее подготовленные исходные рубежи. Надо было пройти километров пятнадцать. По плану операции городок окружался со всех сторон, перехватывались дороги, по которым могло подойти подкрепление фашистам. Отряды Хомина, Дмитрихи и Хлуда должны были пересечь полотно железной дороги и сосредоточиться в нескольких километрах северо-западнее станции, южная группа, во главе с Гуралем, вклинивалась на главном участке между Копанью и городком, группа нападения на станцию, усиленная взводом разведчиков, под командованием Жилюка, действовала с наименее уязвимого, с точки зрения врага, направления. А именно — с западной стороны, где многокилометровой поймой лежало поросшее редким кустарником болото.
В четыре ноль-ноль, как было условлено, одновременно во многих местах неподалеку от городка вспыхнула беспорядочная стрельба. Перестрелка началась между опорными пунктами, размещенными вдоль железной дороги, и передовыми группами партизан. Городок встревожился, ожил. В предрассветном тумане трудно было что-либо различить, но, зная расположение улиц, железнодорожных служб и основных строений, где размещалась полиция и фашистские солдаты, Жилюк легко догадывался, что там сейчас творилось.
На станции забили тревогу раньше всех. С запасной колеи немедленно вышел на главную магистраль бронепоезд, стоявший все время под парами, и покатил на север. Вскоре оттуда донеслись орудийные выстрелы. Бронепоезд бил наугад по лесу, густым пулеметным огнем прочесывал заросли кустарника. Нагнав страху в одном месте, он вскоре прогрохотал в южном направлении, где к тому времени перестрелка усилилась. Проезжая мимо болота, с бронепоезда на всякий случай хлестнули пулеметным огнем по болоту. К счастью, пули прошли поверх голов партизан.
— Вот гад! Так и будет ползать туда-сюда, — высказался кто-то из жилюковской группы.
Бронепоезд сильно осложнил обстановку. Степан подозвал Гудимчука, заместителя командира разведки, накануне побывавшего в городке.
— Что же вы не сообщили, что на станции бронепоезд? — спросил его.
— Не было его, товарищ командир, — божился тот. — Точно не было!
«Случайно его сюда занесло или, может, немцам удалось что-то пронюхать?» — подумалось Степану.
— Разрешите заняться им, товарищ командир, — оборвал его мысль разведчик.
— Идите! — быстро сказал Жилюк.
— Ясно! Будет исполнено.
Гудимчук исчез в кустарнике, где лежал его взвод, где находилась и Софья. А через минуту оттуда вынырнули три фигуры и ползком направились к насыпи. В одной из фигур Степан узнал брата Андрея, выругался в сердцах, но тут же остыл, вспомнив отцовское: «Такой подрывник, что куда там»…
Бой разгорался. Автоматный огонь на флангах то затихал, то вспыхивал с новой силой. Тогда в недолгом затишье раскатывались орудийные выстрелы с бронепоезда.
— Лупит, гад.
— А что ему? — переговаривались партизаны. — Ему там ни холодно, ни жарко.
— Подожди, припечет.
Вначале, когда налет еще только намечался, рокот моторов и мотоциклов слышался в самом городке, теперь же бой разгорелся, урчание моторов перенеслось на окраины.
— Подходят наши, — говорили партизаны.
— И нам уже пора. Светает.
— Скоро дадут команду.
Степан посмотрел на часы. Прошло сорок минут, как ушли подрывники. Горизонт начал розоветь. Через пятнадцать минут они должны быть на станции, захватить ее, уничтожить оборудование. Через пятнадцать минут… Жилюк посмотрел на бойцов, лежавших под кустами и нетерпеливо поглядывавших в его сторону. Эти готовы. А вот успеют ли подрывники? Там, куда они пошли, тихо. Конечно, не может быть, чтобы там не было патруля, обходчиков. Тем более сейчас, когда уже всем ясно, что городок подвергся нападению. И как только Степан подумал об этом, как бы в ответ его мыслям, как раз там, где работали подрывники, минируя колею, редеющие рассветные сумерки вскипели жарким автоматным огнем.
— Вперед! — приказал Степан.
Зеленая ракета взметнулась высоко в небо и, описав крутую дугу, догорая, плавно упала на верхушки деревьев. Партизаны поднялись с мест и побежали к насыпи.
— Ур-р-ра-а-а… а… а… а!.. — вырвался из-за садов, из-за сараев и повис, сливаясь над городком, многоголосый крик, Его секли, кромсали, захлебываясь, пулеметы и автоматы, но крик нарастал, с окраин переносился ближе, ближе, и, когда Жилюк взбежал на насыпь, крики уже докатывались до центра. Теперь, однако, трудно было точно определить положение, разобраться в нем. Стрельба, рев моторов, взрывы сливались в сплошной, перекатывающийся гул. Но уже по одному тому, что гул накатывал, как прибой, было ясно: партизаны теснят врага, берут его в железное кольцо. «Только бы справились со своей задачей подрывники», — с тревогой думал Жилюк. Несколько минут тому назад он послал им подкрепление — с ним пошла и Софья, — и там после горячей перестрелки настало затишье. Связной, который должен был вернуться от подрывников, задерживался, и это еще больше беспокоило Степана. Если у подрывников неудача, если они не заминируют колею, может подойти бронепоезд и операция сорвется.
Несколько мощных взрывов потрясли рассветную прохладу.
— Хлопцы уже ворвались в вокзал, — сказал кто-то из партизан Степану.
— Скорей им на помощь! — крикнул Степан.
Натыкаясь на какие-то предметы, путаясь в сухом бурьяне, в кустах, они быстро добрались до вокзала. Здесь пахло дымом от разорвавшихся гранат, осыпавшейся штукатуркой. У входа валялись трупы фашистских солдат. Из комнаты дежурного по станции слышались тяжелые удары металла о металл — подогретые удачей партизаны разбивали оборудование. Поодаль, метрах в двухстах, охваченный пламенем, горел лесопильный завод.
Высокое пламя полыхало, освещало вокзал, и пристанционные строения, и небольшую площадь в центре городка. Отовсюду, словно неосмотрительные ночные мотыльки, выскакивали на свет фигурки людей, суетились под свинцовыми струями, падали, ползли назад, куда-то под стены домов, под заборы, огрызались оттуда автоматным огнем. На самое видное место вылетела грузовая машина с солдатами, развернулась и, подхлестнутая свинцом, умчалась.
— Бегут, собаки!
И вдруг несколько тяжелых, один за другим, орудийных выстрелов потрясли землю. Орудия стреляли по станции. У Степана зазвенело в висках. Бронепоезд! Произошло то, чего больше всего боялись. Неужели подрывники так и не смогли его обезвредить? Неужели пропустили? Пренебрегая опасностью, Жилюк вскочил на невысокий уступ стены и вперил глаза в сторону бронепоезда. Ощупывая путь длинными и яркими пучками света, бронепоезд двигался к станции. Пропустили! И вот уже почти на самой границе станции огромный сноп перемешанной с огнем земли поднялся в воздух. Затем прогремел взрыв потрясающей силы. Земля заколебалась под ногами. Пучок света погас. Бронепоезд всем своим многотонным корпусом осел на полотно и умолк.
…Бой закончился утром. Он продолжался полтора часа. За это время партизаны захватили и разгромили станцию, сожгли лесопилку и маслозавод. На улицах, возле казарм, в переулках и на огородах валялись трупы гитлеровских солдат. Некоторым карателям посчастливилось улизнуть, а многие из них угодили в плен. Были потери и среди партизан, но скорбь по убитым придет потом, позднее, а сейчас все были охвачены радостным чувством победы. Среди партизан появились местные жители, они радовались, смеялись вместе с партизанами, острили.
— Смотрю, летит прямо на меня — заспанный, мотня нараспашку…
— Ха-ха-ха!
— И набекрень, значит?
— Эй, кто там, из-под сарая, иди сюда! Пачку фрицевских за одну цигарку даю.
— Теперь они не скоро очухаются.
Жилюк жестом подозвал Хомина.
— Займитесь пленными. Навьючьте, чем только можно, — и под конвоем в лагерь.
Хомин передал приказ автоматчикам, и когда те скомандовали идти — решили нагрузить немцев ящиками с маслом, — солдаты тут же наперебой заговорили:
— Гитлер капут!
— Гитлер свинья!
— Видали? Ах вы паршивцы, — смеялись партизаны, — пили-ели на его именинах, а теперь свинья?
Немцы были напуганы до смешного. В их вытаращенных глазах, красных от перепоя и бессонной ночи, застыл страх.
— Так, так! Вы еще не то запоете. Это вам не шнапс цедить.
— Ишь ты, сразу языки развязались! — переговаривались партизаны.
— Хлопцы, а эти и вовсе перепились, — кивали на власовцев и шуцманов.
Те стояли хмурые и молчаливые, не решались поднять голову.
— Эй вы, шкуры! — кричали им. — Давай пошевеливайся, не то весь город завоняете!
— Руки вверх! — подскочил к полицаям низенький, в стеганке партизан. — Сказано — вверх, чего опустили?
Он было замахнулся прикладом на полицая, но конвоир остановил его.
— Ну, ты, не дури! Без тебя справимся. — Отстранив партизана, конвоир крикнул полицаям: — Слыхали? Хенде хох! Вашу мать!.. Руки!!
— Командирам собрать и проверить людей, через полчаса отходим, — раздалась четкая команда Жилюка.
— Степан! — крикнул Гураль. — Подожди. Разведчиков еще нет. Ни Гудимчука, ни Андрея, ни… — осекся на слове.
Жилюк, предчувствуя недоброе, спросил:
— Почему раньше не доложили? Что с ними?
— Я послал на поиски. Вот-вот должны вернуться.
Радость, царившая среди бойцов, омрачалась потерями. Знали, что не все вернутся живыми из этого боя, что на войне — как на войне. И все же скорбь брала их души в свои железные тиски. Потому что после напряжения боя и после наступившего затишья невыразимое чувство охватывает оставшихся в живых и они начинают понимать, какой дорогой ценой добыта победа. Еще не знали, кого именно будут хоронить сегодня, с кем прощаться, кого не увидят больше у своих партизанских костров, с кем не разделят щепотку толченого самосада, а сердца уже наливались печалью, тревогой, будто какою-то виной живых перед мертвыми…
На этот раз смерть не миновала Софью. Ее принесли и положили перед Степаном, и он смотрел на нее, недвижимую, спокойную. Теперь уже во всем покорную. В глазах его не было ни слез, ни печали, ни страха, — он смотрел на нее как-то даже равнодушно, будто перед ним лежала не жена, не мать замученного его сына, не та, которая ждала Степана и к которой он шел сквозь колючие тернии жизни, а совсем чужая, незнакомая ему женщина.
Позднее, потом, Степану подробно расскажут о ее смерти, о том, как они сначала подорвали не бронепоезд, а платформы с песком, которые он толкал впереди себя, как Софья бросилась навстречу этому стальному чудовищу, плевавшему огнем и смертью. И Степан будет слушать этот рассказ как песню, как легенду о подвиге партизанки Софьи Жилюк. А когда он останется в одиночестве, его будут душить слезы… Но сейчас Степан был тверд и четок в распоряжениях. Приказав положить мертвых на подводу, подобрать тяжелораненых, он вместе с отрядом покинул городок.
VI
Из Великой Глуши поступали неутешительные вести. Все, кто побывал там, и те из жителей, которым удалось убежать от издевательств и преследований, в один голос поносили Карбовского, управляющего так называемым государственным хозяйством, созданным оккупантами на базе бывшего имения графа Чарнецкого. Несмотря на предупреждения, господин управляющий, как он велел именовать себя, поддержанный немцами и полицаями, верой и правдой служил фашистам, всеми силами насаждал «новый порядок». Врожденная злоба и ненависть, жажда мести, крови, издевательств жили в этом человеке, руководили его поступками. Еще до войны, до тридцать девятого, в условиях, менее благоприятных для насилия, Карбовский не мог ни одного дня прожить, чтобы кого-нибудь не обидеть, а теперь, при фашистах, распоясался совсем. Минуя старосту, — Судник так и продолжал плыть по течению, вихляя из стороны в сторону, — Карбовский вызывал людей в управу, кричал, угрожал, а распалившись, принуждал ползать перед ним на коленях, целовать его ноги, бил. Мало того, что по его инициативе оккупанты до нитки ограбили глушан, — он еще устраивал экзекуции и отправлял людей в Германию.
Приговор управляющему был один — смертная казнь. Надо было только выбрать для его исполнения подходящий день и час. Думали захватить его где-нибудь в дороге, но он выезжал редко, а когда выезжал, то в сопровождении эсэсовцев или полицаев. Вытащить его из села каким-либо другим способом — не удавалось.
Случай все же представился. Однажды связной, прибывший из Глуши, доложил: отряд карателей, расквартированный в графском доме, выехал в соседние села, где проводились облавы на партизан.
Степан Жилюк выслушал связного и срочно вызвал Грибова.
— Берите разведчиков, — приказывал Жилюк, — и в Глушу. Сегодня подходящий случай покончить с управляющим. — Он подробно рассказал о ситуации, сложившейся в селе. — Возьмите на всякий случай проводника. Андрея возьмите, он там все входы и выходы знает.
— Ясно! — ответил Грибов. — Сегодня привести приговор в исполнение.
Хорошо вооруженный отряд полицаев, сопровождавший ландтверта, чиновника гебитскомиссариата, въехал в Глушу, остановился во дворе сельской управы. Ландтверт и один из полицаев, очевидно старший, небрежно бросив поводья на шеи лошадям, вытерли пот с лица, поправили одежду и не торопясь вошли в помещение. Был полдень, с берегов Припяти веяло прохладой, и утомленные дальней дорогой всадники разминались, курили, поправляли на лошадях сбрую.
Через несколько минут те, что вошли в управу, показались снова, а за ними, жмурясь от солнца, вышел и староста — Адам Судник. Какой между ними состоялся разговор, никто не знал, а только Судник, взглянув на полицаев, мирно куривших во дворе, еще больше ссутулился, втянул голову в плечи.
— Где его, черта, найдешь? — бормотал он.
— Где хотите, а чтобы через полчаса был здесь, — настаивал старший полицай.
— Что ж, сейчас пошлю.
— И людей сзывайте. Нам здесь некогда разгуливать. Староста проковылял в соседний двор, и вскоре оттуда выехал гонец, поскакал к графскому дому.
…Не прошло и получаса, как возле сельской управы собрались глушане. Старики, бабы, подростки… Ни одного парня и девушки не было. Стояли, исподлобья посматривая то на старосту, перебиравшего какие-то бумаги, то на приезжих, которые с нетерпением поглядывали на двери, время от времени переговариваясь со старостой.
— Что-то у вас, господин староста, молодежи не видать? — сказал наконец старший полицай так, чтобы все слышали, и окинул взглядом собравшихся.
— Нету, потому и не видать, — ответил Судник. — Кого вывезли, кто сам уехал. Остались, как видите, бабы да калеки.
Раскрасневшийся, важный, приехал Карбовский. Крестьяне сразу расступились, дали ему дорогу. Управляющий, увидев полицаев, поторопился отрекомендоваться.
— Надо было сразу ко мне, — проговорил не без удивления Карбовский. — Там и лошадей есть где поставить.
— Спасибо, пан управляющий, наведаемся, если приглашаете.
— Прошу, прошу! — обрадовался такой учтивости Карбовский.
— Только давайте сначала дело сделаем, — продолжал старший. — Нас интересует, как вы с господином старостой выполняете распоряжения и приказы немецких властей. Сколько отправлено людей в Германию, сколько хлеба, мяса… Словом, вся ваша деятельность. Чтобы вас это не беспокоило, скажу, что сейчас такие отчеты практикуют повсюду. Потому что как-то нехорошо получается: сельскую власть будто и выбирали на сходке, а отчета перед народом никакого. Прошу, кто из вас будет первым?
Карбовский, не привыкший плестись в хвосте, не мог уступить первенства какому-то там старосте. Да он с ним вообще и за один стол не сядет, не то что позволит выпустить его впереди себя. Разве там, в гебитсе, не знают, что если бы не он, Карбовский, то из этой проклятой Глуши, из этой пущи, ни одного грамма хлеба или мяса они не получили бы? Слово чести. Это, господа, не похвальба, а действительность. От этого прохвоста, хоть он и староста, добра не жди. Кто-кто, а он его хорошо знает, еще перед той, первой войной помнит. Осиновый сук давно по нем плачет, хотя и прикинулся овцой. Все они одним миром мазаны, все одинаковы, что те, в лесах, что эти. Попробуйте у них добром что-либо взять — зубами надо вырывать, силой. Они же так и посматривают туда, на восток, снова ждут оттуда свободы. Разве великая Германия для них чего-нибудь стоит? Разве они ценят величие немецкой армии, немецкого духа? Разве они способны понять новый порядок»? Извините, но свинья остается свиньей. Только и поглядывают исподлобья, так и караулят, чтобы где-нибудь настичь в темном месте. Мало их жгли! Мало…
Всего этого Карбовский, конечно, не высказал. Он понимал, что от ландтверта, от старшего полицая требуется теперь как можно больше изобретательности в отношениях с этими полудикарями, что окрики, запугивания, экзекуции не дали ожидавшегося эффекта — надо иногда и что-то пообещать, чем-то поманить. Он все понимал, этот опытный обер-служака, и поэтому отчет его был по характеру спокойным, порою даже скромным рассказом, щедро пересыпанным цифрами, которые управляющий приводил по памяти, иногда, правда, заглядывая в небольшую записную книжечку.
Известное дело, о многом он умолчал. Не сказал ни слова о том, как издевался над людьми, как малейшее подозрение влекло за собою отправку в гестапо, а то и в Германию.
Он говорил минут двадцать. А чтобы у представителей гебитскомиссариата не оставалось никакого сомнения в его преданности, заверил:
— Вы можете, господа, мне поверить, что я вытяну отсюда все до последнего, чтобы обеспечить вас и ваших родичей. Это сказал в своем обращении к солдатам Эрих Кох, я подписываюсь под этим обеими руками.
После его слов наступило гнетущее молчание. Крестьяне переминались с ноги на ногу, тяжело вздыхали, на подворье пофыркивали лошади. И голос, громко прозвучавший в этой настороженной, хрупкой тишине, был настолько спокойным и по сути своей неожиданным, что глушане сразу и не поверили в него.
— Так как же, люди? — переспросил Грибов, выдававший себя за чиновника гебитса. — Залил вам сала за шкуру этот продажный гитлеровский холуй? Мы — советские партизаны, не бойтесь. — И чтобы окончательно убедить всех в этом, крикнул в двери: — Андрей! Позовите Андрея.
На его оклик вышел стройный, подтянутый полицай.
— Сними фуражку, Андрей, — сказал Грибов и продолжал, обращаясь к крестьянам: — Это Андрей Жилюк, вы его знаете. Он лучший подрывник в нашем отряде. Его родную мать живую бросил в огонь этот фашистский прихвостень, — показал на Карбовского. — Его отец, Андрон Жилюк…
Закончить ему не дали:
— Смерть иуде!
— Казнить! — зашумели собравшиеся.
Карбовский от неожиданности побледнел, его лоб густо оросился потом. Он машинально, бездумно вытирал его и осматривался, бросал короткие взгляды то на Грибова, то на Андрея, то на них, на крестьян, которые еще вчера, сегодня утром были в его власти и он с ними мог сделать что угодно.
— Решено, господин Карбовский, — с этими словами Грибов и Андрей встали по бокам, рядом с ним. — Кончилось ваше время!
— «Именем Союза Советских Социалистических Республик, — громко читал приговор Грибов, — именем многострадального украинского народа партизанский суд приговорил фашистского прислужника Карбовского к смертной казни». Мы пришли привести приговор в исполнение.
Не просил, не молил о пощаде Карбовский. Знал, что пощады ему не будет. Жалел, что мало расстреливал и вешал этих дикарей, мало спровадил на тот свет. Сидел, нервно сжимая кулаки, искоса, как загнанный зверь, посматривал на вершителей своей судьбы. Неужели они победят? Неужели гитлеровская армия во главе с фюрером просчиталась?.. Что? Это ему говорят? Уже… надо вставать?
Толпа зашевелилась. Она множилась. Подходившие крестьяне спрашивали: что происходит?
— Управляющего вешают, — отвечали им. — Науправлял и плату получает.
— Так будет с каждым, кто прислуживает врагу!
Такая внезапная и неожиданная для глушан казнь Карбовского воспринималась ими как законное завершение его поганой жизни, более того — в этот час, в эту минуту они уже забыли о нем и с живостью расспрашивали партизан о войне, о делах на фронте. Все внимательно слушали, верили им, хотя у всех пробегал холодок боязни: «А что будет завтра?» И когда, казалось, все было высказано, когда партизаны начали готовиться в дорогу, все вдруг услышали чуть ли не отчаянный голос старосты:
— Люди добрые! А как же со мною? — Он, чувствовавший свою вину перед односельчанами, все время ждавший расправы, вдруг словно растерялся, утратил под ногами почву. — Вы же знаете, люди, — говорил он, — я никогда по правде им не служил.
— Потому-то вас и не тронули, — ответил Грибов. — Живите, да человеком будьте.
Судник облокотился о дверной косяк и заплакал…
Партизаны вскочили в седла, оставили крестьянам листовки с сообщением о действиях на фронтах, взяли курева и уехали. След их вскоре затерялся в лесу по ту сторону Припяти, а Глуша еще долго оживленно говорила, слушала самые фантастические легенды о партизанах.
— Говорят, в лесах целые армии партизан.
— В соседних селах люди видели, как их на парашютах спускают…
— Говорят, из самой Москвы прилетают…
— Да, вместе с танками спускаются.
— Скоро всем швабам конец…
Ущербный месяц струил свой бледный свет над селом, жутко кричали совы на пепелищах, учуяв мертвеца, который так и остался качаться на усохшем суку ясеня, где-то выли собаки. Великая Глуша притаилась в ожидании чего-то нового, значительного.
VII
Лебедь не откликался — не вызвал Павла ни на другой, ни на третий день, ни через неделю, и Павло, которому быстро надоела его новая служба, который с нетерпением ждал перемен в жизни от встречи с Лебедем, уже было совсем потерял надежду. Сначала спрашивал, даже заходил в окружной провод ОУН, надеясь что-то узнать о своем идейном наставнике, но там ничего определенного ему не сказали. Где-то, мол, в разъездах, а где — никто не знает. Прошел слух, что должно приехать высокое начальство из центрального провода, значит, Лебедь мог быть занят подготовкой встречи.
Дни проходили однообразные, серые, похожие один на другой, как близнецы, и привыкший к переменам, неожиданностям Павло томился, заливал свою тоску водкой. А работа его состояла из патрулирования, экзекуций. Почти каждую ночь они устраивали облавы на партизан, подпольщиков, евреев. На окраине города существовало гетто, и они сгоняли туда, за колючую проволоку, еврейские семьи, не успевшие уехать. Каратели разыскивали их в подвалах, на чердаках, в развалинах домов, выцарапывали из городских щелей и гнали. И удивительно: никогда не слышали из их уст проклятий. Ни слова протеста. Разве что плач. Он терзал душу Павла. В такие минуты он ненавидел и их, евреев, и себя, и немцев, ненавидел весь мир. Он готов был все кругом бить и ломать, только бы не слышать детского плача. Иногда, ведя в гетто пойманных людей, ему хотелось крикнуть: «Бегите же, удирайте, холера вам в бок! Чего бредете, как овцы?» А они брели и брели. Малыми и большими группами. За проволоку. Потом их увозили за город и уже не привозили обратно, набивали ими грязные товарные вагоны и увозили куда-то, увозили…
Нет! Он дальше так не может. Его воротит от крови, от трупного смрада, висящего над гетто, от этой покорности. Он — солдат, он хочет видеть перед собой врага, а евреи здесь ни при чем. Они никогда не делали ему зла. Ни в Глуше, ни потом.
Ведь это не то, к чему он стремился. Нужно искать выход. Все оборачивается по-иному, не так, как ему говорили, как он надеялся. Блицкриг позорно провалился. Это уже ясно как божий день. И как бы ни кричали фашисты о поражении Советов, факты говорят о другом. Под Москвой немцы разгромлены, Ленинградом овладеть не могут, на Волге застряли. Если Советам действительно хана, то и здесь бы не так напирали партизаны. Он-то знает, какие здесь силы у партизан, на своей шкуре испытал. И недаром оуновцев сюда вызвали, недаром держат воинские части. Держат, а эшелоны летят под откос, карателей бьют… Нет, что-то здесь не так, надо искать выход!
Было предвечернее время. Дежурство Павла должно было вот-вот закончиться, как вдруг к комендатуре подъехала машина. Двое эсэсовцев, вылезшие из нее, быстро вошли в комендатуру.
— Ви есть Шилюк? — спросили Павла.
— Да, — насторожился тот.
— Ми вас арестовайль.
Павло оторопел. По какому поводу? Страшная догадка закралась в душу: за Степана!..
— Шнель! — подгоняли эсэсовцы.
Павло понимал, что объяснять бесполезно, что эти, приехавшие за ним, только исполнители, они ничего и слушать не станут. Все будут делать другие, те, кто послал их, кто заинтересовался его особой. Спешно сдав дежурство, Павло вышел, и черный «опель» быстро привез его к хмурому, обнесенному высоким каменным забором дому. «Ну вот и все, — подумал Павло. — Они, сволочи, все же докопались… Отсюда не вырвешься!»
Павла еще раз обыскали, отобрали все его вещи и тут же повели на допрос. Два молодцеватых эсэсовца через переводчицу взяли с места в карьер. Откуда? Давно ли в ОУН? Как давно в Ровно? Кто и где именно из родных? Женат ли?… Павло силился держаться спокойно, отвечал на вопросы четко, чтобы не вызвать никаких подозрений. О Степане, однако, умолчал, — что будет, то и будет, а самому на себя наговаривать не стоит! Может, они ничего и не знают, все же это не Копань, от Глуши вон сколько. Да и сами они о Степане ни слова.
Немцы действительно ничего не расспрашивали ни о Степане, ни о его службе в Копани, ни о партизанах, с которыми он конечно же сталкивался. Удивительно, что ничто подобное их не интересовало. Они выспрашивали о его связях в Ровно, о местных полицаях, подчиненных ему по службе, и Павло терялся в догадках, даже начал было подумывать, не собираются ли они взять его к себе на службу. Может, Лебедь рекомендовал? К чему же тогда разыгрывать всю эту комедию с арестом?..
После долгих расспросов эсэсовцы наконец поставили вопрос ребром: где золото?
— Нам известно, — переводила девушка слова эсэсовца, — что во время очередной облавы ваша группа реквизировала у евреев большое количество золота. Где оно, кто его взял?
Павло теперь только все понял. Несколько дней тому назад им действительно было приказано «прочесать» один из кварталов города, до недавнего времени густо населенный евреями. Свое дело они сделали, но чтобы кто-то из подчиненных говорил ему о золоте, такого случая не было. Сам же он золота не видел и ничего вообще не брал. Он так и объяснил, так и попросил переводчицу передать допрашивавшим.
— Вы говорите неправду, вы совершили преступление и будете за него отвечать, — наседали те. — Куда вы спрятали золото?
— Я не впервые выполняю поручения немецких властей, и никогда таких обвинений мне не предъявляли, — с достоинством ответил Павло. — Можете спросить обо мне господина Лебедя.
Немцы, услыхав имя Лебедя, переменили тон. Они уже по-хорошему, по-приятельски пытались выведать у него что-либо о золоте, но Павло, чувствуя свою правоту, стоял на одном: не видел, не знаю. В конце концов на него махнули рукой, крикнули, чтобы его увели. Жилюка повели, однако не к выходу, а, отобрав еще и пояс, втолкнули в сырое, полутемное подземелье.
…Вызвали его на очередной допрос только через несколько дней, за которые он многое успел передумать. Прежде всего Павло окончательно убедился в коварстве тех, кого еще совсем недавно считал своими хозяевами, кому служил. Теперь он твердо решил порвать с ними всякую связь. Если бы ему только посчастливилось отсюда вырваться, потому что все, что он успел здесь увидеть, лишило Павла всякой надежды на выход из гестапо. Днем и ночью здесь раздавались душераздирающие крики, стоны, вопли, сопровождаемые грохотом железных дверей, засовов, выстрелами. Днем и ночью сюда кого-то приводили и уводили, многие из допрашиваемых в камеры больше не возвращались. Здесь Павло вспоминал ночные расстрелы, набитые трупами загородные рвы с летающим вороньем над ними, и ему от всего этого становилось муторно и жутко.
Арест, заключение, неизвестность, преследовавшая его изо дня в день, не притупили остроты восприятия у Павла. Он шел на очередной допрос с твердым намерением открыто высказать им все свои обиды, все, что он думал, становясь под их знамя, и все, что думает теперь, после всех этих мытарств. Пусть он убийца, дичак, но он еще сумеет постоять за свою честь. На каком основании его арестовали?! Его, сотенного, помощника коменданта полиции! На каком, холера им в бок, основании?
Шел гневный, взбудораженный, готовый на все. Заросший, с красными от бессонницы глазами, осунувшийся, он был страшен в своей безысходности. Длинные, узловатые, совсем еще недавно сильные руки безвольно, как ненужные, болтались в такт шагам: одежда на нем обвисла, помялась, запылилась, потому что в камере было сыро, тесно, грязно.
В коридоре, пробившись сквозь окно, яркий солнечный луч скользнул по его лицу, ослепил глаза. Павло покачнулся и невольно схватился за оконный косяк.
— Пошоль! Пошоль! — подтолкнул его конвоир.
Павло постоял мгновенье, плотно прикрыв веки, затем открыл их и так взглянул на немца, что тот в страхе отпрянул.
Неизвестно, чем бы закончилась для Жилюка эта тюремная аудиенция, какова была бы его судьба, если бы в кабинете следователя эсэсовцев не сидел… Лебедь.
Они, видимо, говорили о нем. На столе лежал протокол прошлого допроса.
Как только Павло, сбитый с толку, остановился у порога, Лебедь встал, приветливо улыбнулся, подошел к нему:
— Вот мы и встретились, друже Жилюк!
Павло, обрадовавшись было этой встрече, нахмурился, опустил глаза. Всегда этот Лебедь становится ему поперек дороги! Хотел было хоть на этот раз по-настоящему поговорить с гитлеровцами — так пожалуйста, опять он.
— Да ты вроде бы и не рад? — ударил Лебедь Павла по плечу. — А-а, понимаю, понимаю! Этот инцидент… Неприятно! Но… забудем, забудем. Всякое случается… Твои кабаны все же виноваты. У них кое-что нашли во время обыска. Ты, конечно, ни при чем, но как старшего… Понимаешь, погорячились… Война! Но я все уладил. Тебя сегодня же, сию минуту выпустят.
— Я, я, — подтвердил эсэсовец.
— Мне все это осточертело, — в отчаянии сказал Павло. — Я столько вас ждал, так хотел поговорить, а вы…
— Ну, не волнуйся. Ты сейчас устал, — успокаивал его Лебедь. — Вот немного отдохнешь, приведешь себя в порядок, тогда и поговорим. Какой сейчас разговор? Я тебя понимаю… Но, видишь, все обошлось хорошо…
— А если бы не вы… что тогда?
— Ну зачем же преувеличивать? Я беру тебя с собой. Есть одно важное дело. — Лебедь кивнул штурмбаннфюреру, и тот, вызвав унтер-офицера, что-то долго ему разъяснял, поглядывая на Жилюка.
После этого унтер взял Павла за рукав и повел. Уже в коридоре Павло услышал, как там, в комнате, откуда он только что вышел, громко смеялись…
VIII
Смерть Андрона Жилюка подтверждала данные о том, что с ростом партизанского движения немецкая разведка активизирует свою деятельность. Конечно, никто в отряде не мог серьезно думать, что покушение замышлялось на старого Жилюка, все понимали: лазутчик целился в другого, а в кого именно — догадаться было нетрудно. Гестапо вместе с центральным и местными проводами ОУН прилагали усилия, чтобы обезглавить советских партизан, лишить их руководства. Большинство лазутчиков, которых засылали в отряды и соединения, имели задания террористического характера, они охотились за командирами и комиссарами.
Всем запомнилась история, случившаяся зимой на одной из застав. Ее начальник, в общем опытный партизан, самовольно, без надлежащей проверки, принял человека, который прибился к ним под видом беглеца из концлагеря. Месяца полтора «беглец» вел себя безупречно, за ним не замечалось никаких нарушений, пока на заставе не собрались на совещание руководители отрядов северного куста. Поздно вечером участники совещания сели за стол ужинать, а наутро Жилюку доложили: начальник заставы, два командира и несколько рядовых партизан ночью скончались. В ту же ночь исчез и «беглец».
Теперь враг подобрался ближе, пробрался в самый центр соединения. Несомненно, он метил в Степана, и метил давно. И то, что Степан избежал смерти, было абсолютной случайностью. Видимо, лазутчик просмотрел, как в землянку зашел Андрон Жилюк, и, рассчитывая, что выходит Степан, бросился на показавшегося в проходе Андрона. Бесследное исчезновение террориста, его осведомленность говорили о том, что он в лагере давно, успел хорошо ознакомиться, изучить расположение входов и выходов. И стало ясно: увлекшись диверсиями, осуществляя одну операцию за другой, партизаны притупили внимание к вражеским вылазкам.
Об усилении бдительности говорилось на заседании штаба и на собрании партийного актива соединения. Здесь-то и выяснилось, что в некоторых отрядах допускают текучесть людей, новичков принимают под честное слово, без особой проверки, вследствие чего расшаталась дисциплина, случаются попойки, самовольные отлучки, даже ограбления местных жителей. Кроме того, участились случаи перехода на сторону партизан полицаев, которые будто бы «прозрели», порвали с оккупантами. Все это требовало принятия срочных мер. Некоторых командиров и начальников пришлось сместить, специальным приказом по соединению строго-настрого запрещалось принимать в отряды непроверенных людей.
Неисправимых грабителей, порочивших звание партизана, расстреляли перед строем.
А тайна убийства Андрона Жилюка оставалась нераскрытой. Больше того — люди, работавшие в полиции, доносили, что враг, как и до сих пор, получает информацию о жизни партизан, иногда даже о планируемых боевых действиях. Значит, среди них определенно вертится гестаповский агент, возможно, не один. Связь между ними и убийцей Андрона не вызывала сомнений.
Начальник разведки Грибов поставил на ноги всю свою службу, но вопрос оставался нерешенным.
Степан по каким-то ему одному ведомым течениям своей мысли все чаще и чаще думал о санитарке Мане. Почему она в тот вечер, когда должно было произойти несчастье, так заботливо вертелась возле него? Почему она вообще так настойчиво вертится перед его глазами? Они односельчане, это так, но почему она в тот вечер так явно добивалась установления его личности? Из чисто женского любопытства или по другим причинам? Что ей нужно было в тот вечер? Чем больше он раздумывал над этим, казалось бы, мелким фактом, тем глубже подозрение закрадывалось в его душу. Вернее, это еще было не подозрение, а неясные тревожные мысли.
Степан поделился ими с Грибовым и Гуралем.
— Что-то она к подрывникам зачастила, — заметил Устим. — Несколько раз заставал у них.
— Там у нее любовник завелся, Сашко Петренко, — добавил Грибов.
— Уже и любовник? Сколько же она в лагере?
— С осени, где-то после Октябрьских праздников прибилась. А что ей, девка здоровая.
А еще через неделю начальник разведки доложил Жилюку, что Маня недаром подружилась с подрывниками. Немцев интересовала система и принцип действия мин, которыми пользовались партизаны. Раскрытие секрета облегчило бы им обезвреживание мин. Как раз Маня, будто между прочим, пыталась выведать у Сашка все, что только могла. Подрывники в это время осваивали новую мину с потайными взрывателями, и Маня, узнав об этом, слишком подробно начала интересоваться взрывателями, что насторожило партизана. Он рассказал о своем подозрении командиру, за Маней была установлена слежка… Ее схватили возле замаскированного почтового ящика, куда она регулярно опускала донесения.
Маню арестовали. Припертая фактами, она во всем созналась. Эвакуироваться ей в начале войны не удалось, и немцы схватили ее в первые же дни оккупации Глуши. В Копани она попала в лагерь за колючую проволоку, где людей ежедневно расстреливали. И вот повезли однажды ее в гестапо. Там ее долго расспрашивали, а потом предложили сотрудничать у них, пообещав сохранить жизнь. И она не выстояла, согласилась. Месяц ее обучали, потом выпустили, и она по поручению гестапо пошла в лес, к партизанам, сказав им, что спасается от угона в рейх. И ей поверили, тем более что в отряде, куда она попала, было много глушан, которые ее знали.
Шпионку расстреляли в тот же день, но про убийцу Андрона она так ничего и не сказала.
IX
Нападение на городок и на станцию, расправа над Карбовским привели оккупантов в бешенство. Гебитскомиссар Каснер буквально рвал и метал, задыхался в бессильной злобе. Из Ровно, из канцелярии рейхскомиссара Эриха Коха, уже несколько раз звонили, справлялись: какие меры принимаются для наказания бандитов? А что он, Каснер, может? На каждый его шаг, на каждую меру партизаны отвечают местью. Что можно с какой-то там тысячей пусть даже вышколенных солдат поделать с этими лесными разбойниками, которые именуют себя партизанами и не признают никаких правил ведения войны? Что он может? Единственная эффективная мера — беспощадность. И он беспощаден. Разве мало местных жителей уже казнено, замучено голодом, брошено в концлагеря? Какою карой еще можно карать этих дикарей? Полное уничтожение? Он готов и на это. Но для таких акций нужны регулярные войска.
А пока что надо принимать срочные меры для самозащиты. На совершенно секретном совещании, состоявшемся совместно с окружным проводом ОУН, Каснер выступил резко, не щадил ни своих, ни националистов. Речь его ничего нового не внесла, но на совещании решили огнем и свинцом вытравить у местных жителей все просоветское, силой заставить крестьян уважать «новый порядок».
…В Глуше уже с неделю стояла расквартированная в помещении школы рота гитлеровских солдат. Она была сформирована из бывших раненых фронтовиков, ее должны были вот-вот отправлять на восток, но в последнюю минуту перебросили сюда, и солдаты благодарили судьбу за такое счастье и вели себя так, как все оккупанты.
Лето было в разгаре, в вытоптанных войной садах доспевали вишни, и немцы лазали по хрупким ветвям невысоких деревьев, ломали их, шныряли по кладовкам, забирая все, что попадалось под руку.
— А чтоб их всех ветром вынесло, проклятых! — от души желали чужеземцам глушане.
— Пусть они сквозь землю провалятся!
— Где же наши задержались, не придут руки им укоротить? — спрашивали один другого.
А наши не появлялись, и немцы наглели, распоясывались все больше. По вечерам, когда Глушу окутывали сумерки, они устраивали гулянья, и горе той молодке или девушке, которая попадала к ним в лапы. По селу до поздней ночи слышался визг, пьяные выкрики, похабные солдатские песенки под аккомпанемент губных гармошек. Нередко гульбища сопровождались автоматными или пулеметными очередями, срывавшимися на окраинах, где стояли посты, — тогда гитлеровцы утихали, словно трезвели, прислушиваясь к стрельбе.
Никто не знал, зачем эти солдаты здесь. Ходили слухи, — будто один из пьяных немцев проговорился, — что они хотят расправиться с глушанами за их помощь «красным бандам», что скоро от села останется только пепел. Слухам верили и не верили, потому что сколько же можно издеваться над людьми, и так уж больше половины поубивали да повывезли…
В субботу перед вечером, когда Катря Гривнякова домазывала пол в хате, а девчата были где-то во дворе, в хату ввалился здоровенный немец. Переступив порог, он какое-то мгновенье прислушивался, нет ли кого-либо из посторонних, а потом, все еще держа оружие наготове, заглянул за печь и после этого сел на скамью. За ним на свежемазаном полу остались большие следы. Солдат посмотрел на них, перевел взгляд на Катрю, стоявшую в измазанной глиной юбке возле печи.
— Бояться найн… нье нада, — выговорил с трудом.
Катря не сразу поняла, но в конце концов разобрала, что немец говорит ей «не бойся», и в тон ему ответила:
— Я и не боюсь.
— О-о, гут! Либе фрау.
Катря поняла только одно слово «гут», она уже знала, что немцы говорят его, когда им что-то нравится. Но Катря знала и другое: если оккупанту хорошо, то для нее может быть очень плохо. Это «гут» может обернуться горем. Правда, ей уже ничего не страшно. Она столько видела и столько натерпелась за свою жизнь; что и страх куда-то пропал. Но все же насторожилась: зачем-то этот мордастый да приперся…
А тот сидел, осматривая хату, потом встал, оставляя следы на свежей глине, подошел к полке, заглянул в горшки и, ничего не найдя в них, подошел к сундуку, долго рылся там и наконец вытащил белую-пребелую девичью сорочку.
— Гут, гут…
Выбеленная лугом и росами, взлелеянная солнцем, пахнущая ветром, сорочка очутилась у его ног. Немец сел, снял ботинки.
— Давай, матка, вассер — вода…
Катря молча достала из печки чугунок с водой, внесла из сеней деревянное корыто, влила в него теплую воду.
— На, мой свои паршивые ноги.
Немец опустил в воду ноги.
— Гут… матка. Шнель! — и показал на ноги.
Мыть ему ноги? Господи, заступись! Никакой работой не гнушалась, а здесь… Катря стояла ни жива ни мертва. Медлила.
— Шнель!
Взгляд немца сразу стал жестким. Не сводя с нее глаз, он медленно поднимал дуло автомата. Катря нехотя подошла к корыту, присела перед немцем и молча опустила руки в теплую воду.
Поздней ночью под воскресенье глушан разбудил надсадный рев моторов. Грузовые машины на большой скорости влетали в Глушу и мчались к площади. Вскоре по дворам загремели, закричали:
— Выходить! Всем выходить! На площадь! К управе!
Перепуганные крестьяне будили сонных детей, шли на площадь. Кто помоложе, пробовали бежать, но их тут же возвращали или косили из автоматов. Глуша со всех сторон была окружена.
На площади хозяйничали немцы и полицаи. Темнота скрадывала их лица, а зловещие фигуры карателей шныряли, как привидения. Предчувствие большой беды охватило всех. Но когда загорелись ближайшие хаты и одновременно вспыхнул, слепя глаза, направленный на толпу свет автомобильных фар, люди заволновались еще больше, они жмурились, закрывали глаза ладонями, отворачивались, но укрыться от слепящих лучей не могли. Громче заплакали дети, заголосили женщины.
— Детки мои милые! — говорила Катря, прижимая к себе дочерей. — Что же это будет…
— Антон, слышишь? — кричал кто-то в отчаянии.
— Село горит, люди!
Глушу действительно подожгли со всех сторон. Пылали давние-предавние, несколькими поколениями созданные, насиженные гнезда, горело кровное, тяжким потом нажитое добро.
— Люди! По домам!
В селе завыли собаки, поднялся рев скота. Огромные снопы огня поднялись в небо, увлекая за собою в черное безвестье буруны искр и клубы клокочущего над пламенем дыма. Село бурлило сильнее и громче, со всех улиц и переулков на площадь шли угрюмые люди. Шли старики, женщины, дети…
— Прощайте, люди! — раздался над толпой голос, который все узнали: это был голос Адама Судника. — Простите меня…
Староста плакал, и глушане, которые в другой раз никогда не простили бы ему двоедушия и прислужничества, на этот раз молчали. Дескать, пусть кается, уж если и он здесь, среди них, пусть…
— Бегите, люди! — закричал снова староста. — Они хотят убить нас… Бегите!
Короткий, сухой выстрел оборвал слова Адама Судника. На миг площадь оцепенела, да вдруг ее словно прорвало — забурлила, двинулась, и все бросились врассыпную. И тогда произошло то, для чего их всех сюда сгоняли. Десятки автоматных и пулеметных очередей одновременно начали извергать на людей губительный огонь. Люди падали, стонали, бросали в отчаянии проклятья врагу… Но вот стрельба утихла, и тогда, перекрывая плач, стоны и проклятья, раздался голос майора Краузе, того самого недавнего обер-лейтенанта, который в первые дни войны приезжал в Глушу с Карбовским:
— Ви пандиты! Ви не дафайль хлеп, масло, яйка… Ви памагаль партисан… Ми каждий так сделайль… Каждий, кто пудит не слюшаль…
Где-то в конце площади снова застрочили автоматы. Видимо, били по тем, кто вырывался из кольца, и Краузе, не закончив своего слова, махнул рукой и что-то крикнул своему помощнику. Тот подбежал к ближайшей машине, нажал на сигнал, и машины заревели во всю мощь своих стальных глоток.
Всю ночь над площадью были слышны гулкие выстрелы, всю ночь пылала в пожарах Глуша. А когда взошло солнце, издревле ласкавшее своими лучами замшелые кровли низеньких хат, привыкшее заглядывать в неглубокие криницы, расстилаться золотом на чистых речных плесах, оно потускнело от всего увиденного. Вместо Великой Глуши темнели пепелища, стояли обгоревшие деревья… По улицам бродили одинокие коровы, за которыми некому было присматривать: хозяйки и хозяева лежали вповалку на потемневшем от крови песчаном грунте площади. Лежали хлеборобы и пастухи, лесорубы и косари, те, которые умели смастерить телегу и станок, из тонкой калиновой дудки извлечь удивительные мелодичные звуки, знавшие множество песен, сказок, легенд… Все они теперь лежали и мертвыми глазами смотрели в небо. У некоторых еще дрожали на ресницах слезы, — а может, не слезы, а утренняя роса. Великой Глуши больше не существовало.
X
Павло, конечно, догадывался, на какое «дело» берет его Лебедь. Эти «дела» ему хорошо известны… Он, пожалуй, мог бы отказаться и никуда не ехать. Наконец, мог бросить этих людей и эту службу. Но что потом? Куда деваться? И вообще, разве можно теперь, в такое время, где-нибудь укрыться? Во всей этой загадочной миссии, в которой Павлу предстояло участвовать, его привлекало только одно: возможность побывать в Копани и повидаться с Мирославой! С тех пор как ему отказали даже в поездке к ней, желание встречи с девушкой не покидало его ни на минуту. Несколько дней, проведенных им в гестаповской тюрьме, разговоры с эсэсовцами, с Лебедем снова устремили его мысли к Мирославе. Все чаще перед ним вставал ее образ, ее слова, ее голос. Он уже с нетерпением ждал дня и часа отправления в поход. Их, отобранных Лебедем, уже перевели в другое помещение, на окраине Ровно, выдали новое обмундирование. Теперь они не стрелки или какие-то там патрули, а кавалеристы регулярной повстанческой армии. Им вручили прекрасных лошадей, седла, сабли, на хромовых сапогах малиновым звоном позванивают шпоры. С утра до вечера до изнеможения, до ломоты в суставах они обучаются верховой езде, рубке, чистят лошадей, словно впереди у них не бои, не стычки с врагом, а праздничные марши, парады.
Наконец, через две недели учений и ожиданий им приказали готовиться к походу. Павло чуть ли не весь вечер держал отряд на инструктаже, все проверял, придирался к самым незначительным мелочам, а ночью, взбудораженный мыслями о Мирославе, не мог заснуть. Стоило ему закрыть глаза, как в его воображении вставала она, любимая. Вновь и вновь вспоминал он встречи с нею, вспоминал все до мельчайших подробностей. Этот поток воспоминаний он пытался вытеснить размышлениями о предстоящем «деле», к которому так тщательно готовились, но все напрасно. Тогда он встал, оделся и вышел во двор.
Была глубокая полночь. В западной части небосклона узкой цыганской серьгой висел месяц. Большой Воз упирался дышлом чуть ли не в самую землю. Сонно мерцали звезды. Затемненный город тревожно спал. Только на железнодорожной станции слышались короткие гудки маневровых паровозов да резкие свистки сцепщиков вагонов — там не обращали внимания на ночь, на войну, работали бесперебойно.
Жилюк закурил, и часовой, увидев огонек, резко окликнул:
— Кто там?
— Свои, — вяло ответил Павло.
Часовой подошел.
— Это вы, друже командир?
— Ну как? Спокойно? — спросил Жилюк.
— Да вроде. Я, правда, только заступил, но, кажется, тихо. Вот только… слышите? — И поднял голову. — Гудят и гудят…
Павло тоже посмотрел на небо, прислушался. Высоко-высоко курсом на запад шли самолеты. Их, видимо, было много, потому что гул слышался долго, а когда он отдалялся, где-то там, в расцвеченной звездами вышине, вдруг вспыхивали разрывы зенитных снарядов.
Часовой взглянул на Жилюка:
— Рехнулись, что ли? По своим лупят.
Жилюк ничего не ответил, несколько раз затянулся и молча пошел к лошадям. Он-то понимал, чьи самолеты летели на запад. Хотя немцы и кричат о развале советского тыла, но в действительности… Подошел к гнедому, с белым пятнышком на груди жеребцу, запустил руку в гриву. Конь поднял голову, потерся об него мордой. Губы его пахли травами, яслями, легкой влагой, и все это — ночь, конюшня, лошади — почему-то вдруг напомнило Павлу далекое-далекое время, когда не было ни войн, ни больших городов, ни бессонницы…
К дому, лучами фар ощупывая двор, подкатила машина. «Кого там еще принесло?» — недовольно подумал Жилюк и быстро вышел из конюшни. Каково же было его удивление, когда в вышедшем из машины он узнал Лебедя.
— Друже Лебедь? — проговорил Павло, идя ему навстречу.
— Не спится? — проговорил тот, узнав Павла. — К походу все готово?
— Все! — четко ответил Жилюк. — Изменений нет?
— Никаких! Выезжайте сегодня же, вас ждут… Закуривай, — протянул Павлу пачку сигарет.
— Только что бросил, — ответил Павло, но сигарету взял, помял ее пальцами. — Друже Лебедь, вы меня знаете… и не первый год. Можете мне сказать, что это за дело, на которое нас посылаете? Только мне…
Лебедь зажег спичку, прикурил сигарету, поднес огонь Павлу. Он словно собирался с мыслями, взвешивал: раскрыть Жилюку эту пока еще тайну или нет?
— Что ж, откроюсь. Но только тебе! — строго, доверительно проговорил и добавил полушепотом: — К нам едет главнокомандующий УПА. Будете его сопровождать от Копани к месту постоя. Намечается важное совещание… Но смотри не сболтни!
— Могила! — заверил Павло. — Вы будете на совещании?
— Да. Там и встретимся.
— Скажу откровенно, — проговорил после небольшой паузы Жилюк, — осточертела мне эта волынка.
Лебедь не мешал ему высказываться, и Павло, давно ждавший такого случая, дал волю своим чувствам.
— Никакой самостийности мы не добились, мы вообще ничего не добились. Немцы хозяйничают, как хотят, с нами не считаются, относятся к нам хуже, чем к собакам!
— Кампания еще не окончена, — вставил Лебедь. — Условия борьбы требуют некоторых жертв.
— Если бы некоторых… И если бы виден был конец этой кампании.
Лебедь вскинул на него быстрый взгляд, в котором Павло уловил недобрые огоньки. Знал, что бывает за такие слова. Но это же между ними, строго конфиденциально, они все же как-никак… пусть не друзья, так приятели. Доверил же Лебедь ему вон какую тайну…
Желая снять неприятный осадок, вызванный его откровенностью, Жилюк добавил:
— Не думайте обо мне ничего плохого, друже Лебедь. Я все тот же, а только печет в груди, болит и за вас, и за себя, и за всех…
— Ты вот что, — строго прервал его Лебедь, — твое счастье… Но смотри, напорешься с такими разговорами. Язык у тебя длинный.
Наступило молчание. Лебедь снова закурил, на этот раз не предложив сигарету собеседнику, прошелся по двору. Потом посмотрел на часы и спросил Жилюка:
— В котором подъем?
— В четыре.
— Ровно в пять жду вас при выезде из города. — И, не сказав больше ни слова, сел в машину.
Жилюк проводил его долгим задумчивым взглядом и пошел в казарму.
Исповедуясь Лебедю, Павло, конечно, не осмелился раскрыть всю свою душу, до конца высказать свои сомнения. Тем более не решился рассказать о своей встрече с Андреем и Софьей во время боя в Великой Глуше, о том, как с ватагой стрелков самовольно пошел блуждать по лесам. Лебедь этих подробностей не знал, все изображалось так, что после роспуска школы в Копани невозможно было оставаться и Павло вынужден был искать себе место в полевых частях ОУН. Поэтому теперь, подъезжая к Копани, Павло волновался: а вдруг кто-нибудь из местных оуновских начальников встретит его и припомнит прошлое?
Так размышляя, принял решение: поменьше попадаться на глаза начальству, приехать, доложить и без вызова нигде не появляться; место расположения известно, долго искать не придется, а там уже как знают — они с дороги, им надо и отдохнуть. К Мирославе он пойдет, когда начнет темнеть…
В комендатуре, куда Жилюк явился сразу же по прибытии, его принял дежурный. Ни шефа полиции, ни коменданта не было. Павло в душе даже обрадовался этому, доложил о прибытии отряда, получил кое-какие инструкции и быстро исчез. До казарм, отведенных им для постоя, было километра два с небольшим, и он, пустив коня шагом, рассматривал город. Никаких особых изменений не обнаружил, хотя и знал: партизаны несколько раз организовывали в Копани крупные диверсии, в частности в депо, на водокачке и электростанции. На боковых улицах, как прежде, лежали развалины; они разве что еще гуще покрылись бурьяном да маленькой самосейной кленовой порослью; в уцелевших дворах зеленели вишневые сады, играла детвора. Здесь, казалось, даже тихо и уютно, в этих улочках, отдаленных от шумной и небезопасной Гитлерштрассе. Сюда не так часто доносились оклики патруля и полицаев, топот кованых солдатских сапог, и Павлу вдруг захотелось слезть с коня, сбросить с себя непривычно тяжелую саблю, тесную униформу и посидеть или просто постоять где-нибудь в тени. Нахлынувшее чувство все более властно овладевало им, пока не вылилось в четкое и неудержимое желание увидеть Мирославу, увидеть сейчас, немедленно. Это желание заглушило в Павле осмотрительность, притупило здравый смысл, властно приказало действовать. Он пустил коня рысью, выехал из глухого переулка, пересек центральную улицу и вскоре очутился возле кафе. Конечно, подъезжать туда на лошади нежелательно, соображал Павло, это привлечет внимание, вызовет ненужное любопытство. Но ведь коня где-то надо поставить. Не привязывать же прямо на улице. Недолго думая он подъехал к стареньким, перекосившимся воротцам, распахнул их и завел коня во двор. Низенький, хромой человечек, возившийся во дворе, поспешил ему навстречу, поздоровался.
— Лошадь есть где поставить? — напуская на себя как можно больше суровости, спросил Жилюк.
— Сами видите, конюшни нет, — испуганно заморгал глазами человек.
— Тогда пусть здесь постоит. Но смотрите мне, голову сниму, если что! — Он привязал коня к старой ветвистой груше и направился в ворота.
— Господина долго не будет? — робко спросил хозяин.
Павло обернулся, бросил на него убийственный взгляд и зашагал к калитке, придерживая саблю. Сердце его колотилось, будто он шел не на свидание, а в атаку. Вот и знакомый, выложенный плиткой тротуар, знакомый дом, вывеска… Но что это?! Вывеска разбита, кафе на замке. Удивительно — в эту пору двери кафе всегда были настежь. Неясная тревога охватила Павла. Он ускорил шаг, чуть ли не подбежал к дверям, подергал их, но двери были крепко закрыты. Вот так новость, холера те в бок!
Павло осмотрелся в надежде кого-нибудь увидеть и расспросить, что здесь произошло, но поблизости никого не было. Прошелся под окнами, заглянул внутрь, — его поразила пустота, царившая в этом недавно веселом и милом уголке. Даже столиков и стульев не было. И вдруг страшная догадка резанула Павла, вмиг отрезвила его от хмельных мыслей, владевших им. Опрометью бросился он в ближайший дом, не раздумывая постучал. На стук долго не отзывались, но все же немного погодя дверь приоткрылась, на пороге появилась старушка полька.
— Что пану угодно? — спросила она.
— Простите, вы не знаете, где Мирослава? Что с ней? — как можно мягче проговорил Павло.
Женщина посмотрела на него с опаской.
— Я ничего не знаю.
— Да вы не бойтесь. Мне она очень нужна. Мы хорошие знакомые… издавна…
Полька какое-то мгновенье колебалась, а затем пригласила Павла в дом. Когда за ним закрылись двери, старуха прямо в коридоре вполголоса рассказала, что как-то вечером в кафе возник скандал, немцы все разбили, забрали Мирославу и несколько дней продержали в гестапо. Правда, потом ее выпустили, но девушка куда-то исчезла. Это случилось весной, несколько месяцев тому назад, а недавно Мирослава объявилась, тайно заходила к ней.
— И не является ли пан офицер тем кавалером, которого Мирослава ищет? Он был здесь, в Копани, а потом куда-то пропал. Она его часто вспоминает. Его зовут не то Павлом, не то Петром…
Павло даже дыхание затаил, слушая ее. Он готов был обнять, расцеловать эту старую женщину, потому что сейчас она казалась ему самым близким, самым родным человеком на свете.
— Когда она еще придет? Она здорова? — спрашивал Павло.
— Не знаю, — пожала плечами женщина. — Мы никогда не уславливаемся о встрече.
— А живет она где, у кого?
— Не знаю. Говорит — у подруги, а где на самом деле… Не знаю.
— Где же ее можно встретить, найти? Где?
— Я рассказала вам все, что знала.
Жилюк понял, что она действительно больше ничего не знает. Как же быть? Сесть и ждать Мирославу — времени нет. Бегать по городу в надежде на случай?!
— Я тот самый Павло, которого Мирослава ищет, — прибег к последней возможности, чтобы вырвать еще хоть какое-нибудь слово о Мирославе. — Как быть? У меня совсем нет времени.
Женщина сочувственно кивнула головой, развела руками.
— Наведайтесь позднее, — может она появится. Она три дня не была, может, сегодня зайдет.
Павло постоял с минуту в раздумье, а потом поблагодарил женщину и ушел. На душе у него было скверно. Чувство радостного волнения, с которым ехал сюда, сменилось жгучей тревогой. Он мучил себя тем, что не решился бросить все и приехать к ней раньше. «Вот теперь и расплачивайся за свою нерешительность, — говорила ему собственная совесть. — Хорошо, если тебе повезет, а нет — заберешься в свои чащи, залезешь в берлогу и будешь сидеть до судного дня. И никому ты не нужен… Оборотень… Дичак!»
В сумерки Павло снова постучал к старой польке. Мирослава не заходила. Оставив ей на всякий случай свой адрес, он, раздраженный и злой, пустив коня рысью, направился в свой отряд.
Не пришла Мирослава и на следующий день. А на третий день, после завтрака, их собрал сам начальник полиции. Он начал с того, что в округе неспокойно, что красные бандиты активизировались, как никогда ранее, и поэтому они, выделенные для охраны главнокомандующего УПА, должны быть особенно бдительны и беспощадны ко всем, кто может вызвать хотя бы малейшее подозрение.
— За то, что вы ликвидируете сотню-другую агентов Москвы, вам ничего кроме благодарности не будет, — добавил начальник. — Но за малейшую угрозу жизни главнокомандующего будете отвечать головой. Будьте жестокими, история оправдает ваши поступки.
Начальник полиции определил маршрут каждой группы, указал пункт сосредоточения и пожелал всем успехов. Через час они выступили. Жилюк хотел было еще раз заехать к польке, но командир сотни, в которую влился отряд Павла, категорически запретил отлучаться кому бы то ни было.
Их маршрут лежал на северо-запад. Зная, во что выливается каждая встреча карателей с населением, Павло втайне молил бога, чтобы на их дороге попадалось поменьше сел. После ровенских расстрелов он не мог спокойно смотреть на кровь. Если бы ему сейчас поручили акцию, которую он совершал когда-то во Львове, на Вулецких холмах, у него, наверное, не хватило бы ни сил, ни решимости. Он сейчас сам удивлялся, как спокойно проделывал все раньше. И попробовал бы кто-нибудь ему возразить, сопротивляться… Дичак! О, тогда он так угостил господина профессора за это слово, что тот едва доволок до машины ноги… А вот теперь… Теперь с него хватит! Пусть все считают его душегубом, палачом, но в нем еще не все умерло. Он шел бороться, а не убивать безоружных. Где же Украина? Где правда? Если она не идет, не приходит — он сам станет ее искать, требовать от тех, кто стоит над ним, у кого в руках очутилась его судьба.
Где этот главнокомандующий, этот человек, для охраны которого они подняты на ноги, — никто не знает. Известно, что он где-то проезжает или должен проехать, но когда, на чем — даже им не сказали. Уже третий день они не покидают седел, разве только на ночлеге, да и то небывало коротком, третий день они скачут и скачут по большакам, по проселочным дорогам, по бездорожью. За ними тучи пыли, топот копыт, ветер…
Всю ночь шел дождь, дорога покрылась лужами, раскисла, и сотня ехала по ней промокшая, забрызганная грязью. Всадники в сердцах шпорили лошадей, дергали удила, раздирая им губы; молчали. И в этом молчании Павло угадывал близкие ему настроения. Возможно, они были вызваны непогодой, усталостью, а может быть, и совсем другие причины ввергали конников в уныние, в апатию, в разочарование. Во всяком случае, они так явственно проявлялись в каждом всаднике, что нельзя было их не замечать. Павло точно не знал, во что могут вылиться такие настроения, хотя опыт подсказывал ему, что эти люди, не видя иного выхода, обрушивали, как правило, свою злобу на тех, кого подставлял им случай, кто попадался под руку. Так бывало не раз и с ним самим, когда, чем-то неудовлетворенный, он либо беспробудно пьянствовал, либо топил свою боль в разврате, в экзекуциях…
Вчера они расстреляли десятерых заложников. Оказывается, в селах, мимо которых должен был проезжать главнокомандующий, уже с неделю или больше действовала служба безопасности. Она хватала всех, кто ей не нравился, и либо сразу уничтожала, либо держала до подходящего момента. Вчера в каком-то маленьком селении, когда им показывали схваченных людей, командир сотни приказал расстрелять десятерых. Сам отобрал их, заставил вырыть для себя могилу, а потом… У Павла было желание бросить в эту яму и сотенного. Вот так: поставил бы на краю — и короткой очередью, холера ему в бок! Додумался, мерзавец! Бросил хлопцам палку: мол, меряйтесь, чья рука сверху, тому и расстреливать. Те мерялись, выворачивали у мертвых карманы, а сотенный глушил самогон и громко смеялся. Этот смех и вызвал у Павла желание заткнуть ему глотку. Ох, доиграется, дохохочется эта падаль…
Им давно уже надо было сменить нескольких лошадей, но по дороге на Копань не было подходящего случая. А теперь лошади совсем ослабли, едва передвигали ноги. К тому же из-за недосмотра у них под седлами распарилась кожа и появились язвы. Всадники хлестали лошадей по обвисшим, покрытым солью крупам, вонзали в бока шпоры, но это не помогало. Лошадей надо было заменить. Но где? В штадтгаутах, мимо которых проезжали, были никуда не годные клячи, а хороших лошадей крестьяне прятали в лесах. Свежие и быстрые кони были в партизанских районах, но туда сотня не осмеливалась показываться.
В Белоставе, где отряд остановился на обед, местный староста сообщил им, что в нескольких километрах, на лесном хуторе, прячутся семьи бывших активистов. У них есть несколько хороших, выгулянных лошадей. Мужчин там нет, все в партизанах, и, стало быть, лошадей без особого труда можно отобрать. Сотенный обрадовался такому случаю, поручил Жилюку немедленно ехать в хутор. Не желая спорить с сотенным, Павло собрал свой отряд. Но не успели они выехать из села, как сотенный догнал их.
— Не обижайся, — сказал он, поравнявшись с Жилюком. — Мы же свои, и делить нам с тобой нечего.
Павло не ответил.
— Был бы ты на моем месте, делал бы то же самое, — досказал сотенный.
Что ж, это резонно. Сотня не потешное войско и находится не на прогулке. Другое дело, что ему, Павлу Жилюку, все это ни к чему. У сотенного, вероятно, жизнь сложилась по-иному, или душа у него черствее…
Дождь перестал. Время от времени показывалось солнце, рассыпалось ослепительными брызгами в лужах. Лес полнился птичьими голосами, дышал смолистыми запахами хвои, разноцветьем умытой дождем земли. Это вносило в душу Павла неясную тревогу. «Нет у тебя ни леса, ни жизни, — вдруг прорвался в его сознание чей-то голос. — Лес теперь стал твоим врагом, ты боишься его. Думаешь, не знаю, почему ты не хотел сюда ехать? Боишься! И незачем тебе нюни распускать, тешить себя воспоминаниями. Это — не твое, ты уже давно не полещук, не Жилюк, давно пора тебе избавиться от этой фамилии и назваться, как десятки твоих подручных, — Змей, Мокрый, Лютый… Хотя постой! У тебя уже есть имя — ты Дичак. И не вспоминай больше ни о детстве, ни о родных. То был не ты, а бедняцкий сын, который должен был вырасти хлеборобом, отцом, сыном своей земли. А ты… Кто ты, пришедший в эти края? Наемный убийца, фашистский прихвостень, дичак!..»
Павло со злостью вогнал шпоры в бока своей лошади, но ходу ей не дал, и она, встав на дыбы, присела на задние ноги. Жилюк отпустил удила, огрел лошадь нагайкой, привстал на стременах и стрелою вылетел вперед.
— Ты что? — недоумевая, спросил догнавший его сотенный.
— Пробую, не ослаб ли и мой конь, — соврал Жилюк.
Впереди замаячил хутор. Несколько приземистых, крытых соломой строений разбрелось по окруженной высокими соснами и густым кустарником зеленой поляне.
— Долго не возись! — сказал сотенный.
Он первым пришпорил коня, за ним — весь отряд. В хутор влетели на рысях. Пока Жилюк выставлял дозорных, сотенный спешился и уже хозяйничал во дворе, где стояли несколько женщин с детьми и старик. Последний опирался на палку и от этого казался еще более костлявым и сгорбленным.
— Какие теперь кони? — говорил он, не моргая глядя на сотенного. — Хороших всех позабрали, остались никуда не годные.
— Не бреши, старая собака! — кипятился сотенный. — Ни мы, ни немцы лошадей здесь не брали. Партизанам спровадили? Так и говори.
— Все брали. Были и ваши, чего греха таить. Разве мы спрашивали? Да они и не говорили. Брали — и все.
— Ну-ка, хлопцы, всыпьте ему, чтобы не был таким разумным, — приказал сотенный.
Несколько конников бросились к деду, схватили его, оголили спину и начали хлестать в несколько нагаек. Вскрикнули женщины, заплакали дети.
— И за что же вы его? — подошла к сотенному молодая женщина с девочкой на руках. — Он же отроду никому зла не делал.
Сотенный крикнул хлопцам, и те опустили нагайки.
— Ну, скажешь, давал партизанам лошадей?
Старик не вставая повернул к сотенному побагровевшее лицо:
— Плохи ваши дела, если старика ни за что ни про что бьете.
— А не подох бы ты, старый пес? — выругался один из тех, которые били.
— Я подохну, но и вы не надышитесь.
— Заткните ему глотку! — гаркнул сотенный.
— Смилуйтесь… — снова начала просить женщина.
Сотенный окинул ее тяжелым взглядом:
— И у тебя спина чешется?
— Отец мой…
— А-а, о-те-ец? — усмехнулся зло сотенный. — Хлопцы, положите-ка дочечку рядом да почешите ей спину, чтобы не лезла не в свое дело.
Молодая женщина забилась в руках дебелых хлопцев, да куда ей вырываться… И вот она уже лежит рядом с отцом, оголенная, а оуновец наступил сапогами ей на руки, держит. Другой ноги к земле прижимает. И гуляет по белому материнскому телу сыромятная нагайка.
— Вот так! Так… — приговаривает сотенный.
Не своим голосом вопит девочка, кричат женщины.
— Ти-х-хо! Не то я вас всех усмирю… Хлопцы! — обратился сотенный к всадникам. — Обыскать всё. Все уголки!
Обозленные на погоду, на начальство, на самих себя и на свою судьбу, оуновцы шныряют по сараям, загонам, хатам, переворачивают все вверх дном. Во дворы, на землю выбрасывают домашние пожитки, уцелевшие от грабежей продукты, и женщины бросаются к ним, стараются кое-что спасти.
— Зачем, вам все это нужно? — не выдержав, спрашивает сотенного Жилюк.
— Тебе жалко? — со звериной злобой отвечает сотенный. — Жалко это бандитское племя? А мы их вот так! — И, отогнав своих, длинной автоматной очередью полоснул по женщинам. — Вот так!..
Несколько женщин остаются лежать на куче пожитков, остальные бегут за сараи, прячутся в кустарнике.
— Всех сюда! — приказывает сотенный.
И озверелые от разбоя и крови оуновцы стаскивают убитых и раненых в одну кучу, ловят и тащат за косы женщин, волочат детей. Убивают, раненых приканчивают прикладами, рубят саблями. Их крики раздирают Павлу душу, и он, чтобы не сойти с ума, выпускает в воздух, по верхушкам сосен, тугую автоматную очередь.
— Перестаньте! — надрывно кричит Павло неизвестно кому. — Остановитесь, холера вам в бок!
Оуновцы в недоумении смотрят на Жилюка: кого им слушать? Пьяный раскатистый смех выводит их из оцепенения. Хохочет сотенный. Держа автомат наготове, он подходит к Жилюку.
— Я пристрелю тебя! Как собаку!.. Ты что надумал? Командовать мною? Прочь!
Какое-то мгновенье они уничтожающе смотрят в упор друг на друга, готовые перегрызть один другому горло, но что-то мешает им, не позволяет перейти эту невидимую, но нерушимую межу. Сотенный первый отводит взгляд.
— Где лошади? — кричит он. — Нашли лошадей? — И вдруг, словно что-то вспомнив, хватает за руку девочку, мать которой только что секли нагайками вместе со стариком. — Где ваши лошади, а?
— Не знаю, — всхлипывает девочка. — Василько погнал их пасти.
— Куда же он их погнал? Скажешь — и мы отпустим твою маму.
— Вон туда, — показывает рукой девочка. — К озеру.
— Хлопцы! Айда на озеро. А хутор сжечь, чтобы и следа не осталось!
Десяток всадников скачут на дорогу, ведущую к озеру, а остальные поджигают хаты, сараи, стога сена.
— Сено не жечь! — кричит сотенный. — Давайте его сюда! — показывает на трупы.
Через несколько минут убитых покрывают охапками сена.
— Теперь поджигайте! Да набросайте сверху кольев, чтоб лучше припекло, — приказывает очумелый от клокочущей злобы и выпитого самогона вожак. — И этих туда же, — кивает на недвижно лежащего старика и его дочь. — А ты? — спрашивает девочку. — Пойдешь к маме? Ну, иди, иди…
— Дядя, — лепечет девочка, — не убивайте меня… И маму не убивайте. Я вам коров буду пасти…
Сотенный криво усмехается.
— Хорошо, хорошо… А теперь иди к маме, иди!
Девочка ступает к лежащей на сырой земле матери. Вдруг за спиной гремит сухой короткий выстрел. Девочка, вздрогнув, оглядывается, большими глазами удивленно смотрит на «дядю» и медленно оседает на землю.
— Я вам коров… — чуть слышно шепчут ее губы.
Увлеченный своим разбоем и буйством, сотенный не заметил, как Жилюк подошел к своему коню и вскочил в седло. И только тогда, когда уже за воротами мелькнула спина Жилюка и его конь во весь опор скакал по дороге из хутора, сотенный крикнул:
— Стой!
Но Жилюк резко хлестнул своего жеребца нагайкой и лишь спустя полчаса остановился далеко в лесу. Прислушался — погони нет.
«Вот и все, — подумал. — Нет больше ни отряда, ни сотни… Будь оно все проклято!» Павло нагнулся, снял с сапог шпоры, бросил далеко в кусты. Затем, подъехав к вековой сосне, отстегнул саблю и в отчаянии ударил ею по могучему, обросшему бронзовой корой стволу.
Перевод Ю. Саенко.
Книга третья СУД ЛЮДСКОЙ
I
Медленно, очень трудно возрождалась Великая Глуша. Сожженное, разрушенное, село лежало среди болот и пущ полубезлюдное, будто в далекие доисторические времена. Война снова прокатилась через него, на этот раз в обратном направлении, на запад, оставляя после себя могилы в центре и на окраинах, в которых навечно и не своей смертью полегло хлеборобское и ратное воинство, разбитые тяжелыми гусеницами дороги, обгоревшие танки, машины, остовы разбитых пушек на обочинах. Все это железо валялось теперь без присмотра, никому не нужное, обрастало чертополохом, в котором по ночам справляли свои сатанинские оргии волки и другое расплодившееся за военные годы зверье; воронки постепенно затягивало грязью, опавшим бурьяном и листьями, лишь изредка, случалось, застревала в них какая-нибудь запоздавшая подвода или автомашина; в наполненных ржавой болотной тиной, заросших по краям молодым ольшаником и лозняком колдобинах плодились маленькие, будто кованные из червленой меди карасики и все лето пугливыми стайками мелькали юркие головастики.
Подчиняясь извечному инстинкту, весной возвращались в Полесье аисты. Появившись над Глушей, они долго кружились, видимо, облюбовав место для нехитрого, всем ветрам открытого жилища, и, не находя его, не увидев какой-нибудь старой хаты или риги, грузно садились на болота, на поля, отдыхали, чтобы завтра лететь дальше. Впрочем, те, что оседали на приглушанских околицах, редко отправлялись дальше — их привлекало здесь обилие поживы, озерное и речное приволье. Единственное, с чем не могли примириться птицы и что не укладывалось в их понимании, — это отсутствие жилищ и какое-то удивительно малое количество людей. Старшие аисты помнили Великую Глушу в самом деле большой, многолюдной, где в каждом дворе ждали их если не рига или старый сарай, то по крайней мере усохшая груша или явор, специально оставленные хозяевами, потому что присутствие птицы издавна считалось здесь признаком добра и счастья. Судя по всему, ведали об этом — из преданий старших — и младшие аисты, родившиеся позднее, они точно так же стремились сюда, в отчий край, свидетельствуя свое естественное единство с человеком, которое, быть может, более всего проявляется в постоянной тяге к свободе, стихии, к взлету.
Старый, но еще сильный аист, вожак, давний поселенец глушанских подворий, и на этот раз повел стаю на круг. Его манили запахи речного приволья, да и уцелевшие, пригодные для гнездовья строения. Уцелевшие и те, которые уже топорщились стропилами. Бывалый аист знал: где люди, там непременно вырастут жилища.
— Аисты!.. — закричали в толпе. — Прилетели аисты.
— Лэлэко[15], лэлэко, чи до осэни далэко?
— Какая, к лешему, осень?! Весна еще только-только начинается.
Притихли нехитрые музыканты, которые, казалось, из ничего — небольшой бубен да скрипочка — извлекали пусть не чарующие, но все же приятные для слуха звуки, уставились в небо, замерли полещуки, будто отродясь не видели этого дива.
— Хорошая, Андрей, примета — птицы на свадьбу, — сказал Устим Гураль, председатель колхоза.
— Да, да, — поддержали его. — В особенности для Марийки. Если каждый аист да принесет по младенцу…
Наряженная по-свадебному, хотя и без роскошных уборов, Марийка зарделась.
— А пусть бы и каждый, — лихо притопнул Гураль, — чтобы род наш не переводился.
— Кому что, а курице просо.
— И впрямь так, слышите или нет, — не сдавался Гураль. — Вы себе пьете-гуляете, а мне за вас думай. И хлеб чтоб был, и к хлебу, и хаты… Что же, это все само по себе наладится? Иль вашими руками?.. Мало их. Вон наши руки, — кивнул на братскую могилу, — лежат на вечном покое. А земля не ждет, хоть сядь да плачь.
Он немножко охмелел, и все, что бурлило в нем, однако сдерживалось, нынче просилось на слово, на люди, хотя они и сами понимали не хуже, потому что вместе ведь, сообща, кому посчастливилось выжить в военном водовороте, и хоронили убитых, и стаскивали головешки на пожарищах, и высевали первые послевоенные зерна.
— А чего ей ждать, Устим, земле нашей? — включился в разговор Иван Хомин, бригадир, давний побратим Гураля. — Земля никогда не бывает яловой, родит себе, если не жито-пшеницу, то дерево, птиц разных…
— Ну да, ну да, — вроде бы соглашался Гураль и продолжал свое. — Деревья, птицы — это, слышь, хорошо. Однако нынче хлеб нужен. Хлеб и к хлебу.
— Да хватит вам, — прервала мужчин Ганна Гуралева. — Свадьба, а они… завели.
— Кабы ты, жена, знала, — не унимался Устим, — все на этом свете связано. Что ни делай, о чем ни говори, а думай одно: о жизни. Человек живет раз, а дела его — на века. А у нас этих дел — эгей-гей… Вот и должны мы хлопотать обо всем.
Снова запиликала скрипочка, громко зазвенел побрякушками бубен, свадебный поход двинулся в село. Впереди молодые, за ними дружки, бояре, гости. Давно не видели глушане такой оказии. В первые послевоенные годы если кто с кем сходился, то тихо, без шума, — слишком уж свежи были раны, слишком жгучей была еще боль, чтобы веселиться.
Андрей Жилюк был первым, кто возвратил Великой Глуши звонкое слово «свадьба». Да и кому бы, как не ему? Известный, уважаемый. И за натуру свою тихую, непривередливую, и за трудолюбие, и за все то недавнее, которого еще малым, недорослым, хлебнул вдоволь. Как-то и вырос вот так, будто и на глазах, и незаметно. «Гай, гай, — сказал бы старый Андрон Жилюк, — дождался парня, холера ясная! Панские псы его рвали, немчура хотела на тот свет загнать, а он — бог дал — выжил. Вырос, будто дубок на опушке. Гром-хлопец!»
Юноша и в самом деле вырос на славу, будто и не испытывала его жизнь, будто вырастал не в нищете и трудностях, — смуглый и чернобровый брал ее, Марийку, свою суженую, самим богом, казалось, посланную. В нелегкое время пробудилась их любовь. Считай, ребятишками были, когда батрачили — он возле псов, а она посудницей, — и потянулись друг к другу.
Миновав несколько крайних домов, где из-за голых ветвей проглядывала сувязь новых, начатых, да в хлопотах или в недостатках материалов не законченных зданий, свадебный поход остановился перед старым жилюковским подворьем. Вдоль улицы, как и раньше, стоял ряд верб, тянулся еще отцовскими руками слаженный плетень, размежеванный широким болотистым въездом, который отец вечно проклинал, да так и не наладил, верхушки верб со стороны пепелищ были почерневшими, подпаленными: даже всесильная природа еще не смогла одолеть то, что учинили фашисты.
В глубине двора, там, где Андрон Жилюк, отец Андрея и двух его старших братьев, ставил для себя шестистенку и где в одно из воскресений и застала всех их война, светилась еще не застекленными окнами хата.
Когда люди вошли на просторное, в первой весенней прозелени подворье, Устим Гураль поднялся на какой-то комель, попросил тишины.
— Вот вам, Андрей и Марийка, наш свадебный подарок, — сказал. — Правление…
— Почему — только правление? — прервали его. — Все мы, как есть, миром.
— Ну да, — продолжал Устим. — Правление и все, слышите, общество… все село… дарим вам эту хату. За нее дорого заплатили ваши родители…
— И Яринка, сестра, — подсказывали Гуралю из толпы.
— И Яринка, сестра, значит, которую замучил фашист. Да и вы, партизанами будучи… Советская власть, как истинно народная власть, не забывает этого. Любите друг друга на здоровье да на радость себе и державе. В хорошую пору зачинаете вы свою семейную жизнь. Журавли вон летят, весну несут…
То ли праздничное событие, то ли хмель подтолкнули Гураля к красноречию — хотелось ему нынче говорить, как никогда, мягко и нежно, чтобы растрогать людей, разбудить в них приподнятость и торжественность. У него были на то свои причины. Несколько лет, даже в это, послевоенное, время, было не до веселья, и разговаривал он с односельчанами без особых церемоний. Казнился потом, зарекался никогда больше не повышать тона, не горячиться и — не выдерживал, срывали его на крик то посевные, то хлебосдача, то заготовки, то займы. Извинялся потом, но всем ведь не объяснишь, всем в душу не влезешь и не заглянешь, души те изболевшиеся, израненные, каждая воспринимает по-своему. И отвечает по-своему. Кто воспринимал правильно, кто затаив зло, и, усиленное слухами да запугиваниями «лесовиков», бандеровцев, бывало, перерастало недоверие в длительную вражду.
— Ты им ключ, ключ давай, а не журавля в небе, — весело крикнул Хомин. — Журавлей они и сами увидят.
— Да там ведь и дверей еще нет! — послышалось из толпы.
— Ничего. Будет ключ, будут и двери. Хаты без дверей не бывают.
Гураль протянул на ладони — чтобы все видели! — длинный, кованный в колхозной кузнице ключ.
— Вот вам ключ, — сказал. — Так уж получилось, не успели закончить хаты, но…
Андрей взял почерневший от окалины ключ, передал смущенной вниманием Марийке и промолвил, не дав закончить Гуралю:
— Спасибо, люди добрые. И вам, товарищ голова, спасибо. — Он волновался, голос его дрожал, в глазах блестели слезы. — Мы, значит, с Марийкой… вы знаете…
— Горько! — раздался хриплый мужской голос, но его сразу же прервали.
— Говори, Андрей!
— Что много говорить? Обещаем вам, как своим отцу-матери, быть честными и работящими, уважать друг друга. За подарок щедрый — отблагодарим… — Андрей обнял невесту, крепко поцеловал в разгоряченные уста.
— Молодец Андрей!
— Степана бы сюда, братана твоего, — послышалось. — Пускай порадовался бы… Где это он?
— В отъезде, говорят.
— Так подождали бы!
— Доброе дело не ждет.
— Ну да…
— А теперь милости просим в хату, — сказала вместо молодых Ганна Гуралева. — Ничего, что без дверей, заходите. Так обычай велит.
Марийка взглянула на мужа, словно приглашая его за собой, и решительно ступила к порогу. В тот же миг вослед им запели женщины:
Андрійкова мати на походечках стоїть, На зороньки глядить: «Зороньки мої та вечірнії, Принесете мої дітоньки — Їднеє рожонеє, а другеє сужонеє…»Гай-гай! Будто она и в самом деле стоит здесь, старая Жилючиха. На ступенечках, на порожках — прислоняет руку к глазам своим, всматривается. Ждет невестушки Степановой, затем Павлушиной, Андрюшиной… Будто витает здесь бессмертный дух ее материнский. Смотрит она с голубой высоты, где солнце, белые караваны облаков плывут неизвестно куда, а ночью роятся зори и зарницы, молодой месяц серебряной лодочкой покачивается, — смотрит и радуется тихой радостью. Ведь не может же того быть, чтобы такое событие, такое торжество обошлось без материнского благословения. Здесь оно, здесь! Может, в ласковости лучей, что заливают двор и стелются — ложатся под ноги, может, в песне этой непременной, может, в натруженной перекличке журавлей, приносящих с собой весну…
Как только молодые приблизились к порогу, вслед им полетели зерна пшеницы — чтоб богатыми были; под ноги упали, дорогу устилая, еловые веточки — чтоб нежными были да сердечными; шаги их утонули в звуках музыки и радостном гомоне — чтобы веселыми были…
— Гостей полагается угощать, Марийка, — сказал своей молодой хозяйке Андрей, когда вошли в светлицу. — Давай распоряжайся.
Молодая растерялась.
— А вот они и мы, — откуда ни возьмись появилась со своей женской свитой Ганна. — У нас и рюмочки, и к рюмочкам. — Она торопливо достала из корзинки завернутую в платок бутыль, рюмки.
Вишнівочка-краса У чарочки ллється, Щасти, доле, молодому — Андрійком зоветься. Вишнівочка-краса, Як мед-пиво, п’ється, Щасти, доле, молодій ’го, — Марусею зветься.Первому надлежало выпить председателю, самому уважаемому гостю. Гураль взял рюмку.
— Так пусть же в этой хате всегда водятся мир да совет, пусть добрые люди не проходят мимо нее. — Гураль выпил, крякнул и вытер губы.
— Э-э, разве ж так, Устим? — отозвалась Ганна.
— А ну, покажи, покажи ему, Ганна! Вишь, забыл…
Ганна, уже без присказки, налила, пригубила для приличия, а остаток лихо выплеснула на потолок. Брызги полетели на стены, на головы. Однако никто не сетовал.
— Вот это да! Поправила все-таки мужа.
— Где же музыканты? Давайте музыкантов!
Обрадованные, что о них забыли, музыканты закусывали, примостившись в закутке будущей кухни. Вытолканные на свет божий, они недружно заиграли что-то похожее на трепак, никто не обратил внимания на неуместность этой мелодии, потому что в хате стало тесно, шумно — рюмка пошла за рюмкой, слово за словом, кто-то и притопнул уже об пол — свежеструганая, красноватой живицы сосна откликнулась раскатисто, весело, будто только и ждала этого мига, будто надоело ей быть безмолвной в одиночестве.
— Давай, хлопцы! Чтоб черти в пекле позавидовали.
— Хату развалим! — кричал Хомин.
— Гуляйте, а то… — начал и не закончил Гураль.
— А то что, Устим? — допытывался Мехтодь Печерога, хотя каждый знал, что скрывается за этой недомолвкой.
— Потому что весна, — вполне серьезно ответил председатель, — работы начать да закончить.
— Работа не волк…
— Старая, слышишь иль нет, песня и не про нас.
— А как же на новый лад?
— А вот как: не работу ждать, а самим ее брать.
— Складно!
— То-то, — не унимался Устим. — И еще скажу тебе, Печерога: праздновать ты мастак, байки разные рассказывать умеешь — вишь, сколько вокруг тебя любопытных! Однако нынче и тебе придется пуп напрячь.
— То есть как?
— А вот так. Видишь, сколько нас, мужиков? По пальцам можно перечесть. Вот и придется натужиться за двоих, за троих… Так что подвязывай его, чтоб не лопнул.
Кто засмеялся, кто вздохнул — что верно, то верно: и землицу надо обиходить, и за скотинкой присмотреть, и строиться… До каких ведь пор в землянках прозябать? Государство лес дает, а уж руки свои надобно приложить, свои…
— Если бы не проклятые фашисты, не сожгли они нас, вон как зажили бы, — будто к самому себе обращаясь, промолвил бригадир Никита Иллюх. — Глядишь, и фермы стояли бы, и клуб, и больница… Все было ведь начато — что на бумаге, а что и на земле уже, реально.
— Верно! — подхватил Хомин. — За десяток лет, как воссоединились, да с такой подмогой, что пошла нам с Востока, твердо в социализме стояли бы.
— Правильно говоришь, Иван.
— Правильно-то правильно, — снова подал голос Мехтодь Печерога, — но неизвестно еще, как бы все обернулось…
— Всяк смотрит по-своему, — спокойно ответил Иллюх. — И рак вон смотрит, только глаз у него, извините, сзади. Так вот и ты, Мехтодь.
— А что я? Что я? — вспыхнул Печерога.
— Ничего. Только всегда во всем сомневаешься. Неизвестно, существуешь ли ты даже на этом свете. Будто то самое, что в проруби, вертишься у людей под ногами…
— А ты не выхватывайся, не выхватывайся! — набычился Печерога. — Знаем таких. Не думай, что бога за бороду схватил. Бригадир-р-р…
Печерога появился в селе недавно и неизвестно откуда. Прибился себе человек, а в селе мужчин было мало, очень мало, вот и обрадовались ему, поверили. Происхождения его никто не знал — сказал, что откуда-то с Житомирщины, даже бумажечку показывал. Стреляной, сожженной, охваченной печалью Большой Глуши, казалось, сама судьба послала этого человека.
Мехтодь Печерога нигде не работал, жил в оборудованном под землянку чьем-то погребе на краю села, держал там огородик, который сам обрабатывал, получая от этого определенную прибыль; все лето и осень пропадал в лесах, запасаясь грибами да ягодами, которые частично потреблял сам, а частично отвозил в Копань. «Какой мне прок от ваших трудодней? — говорил, когда обращались к нему местные власти. — Я своим промыслом проживу. Ни у кого не ворую, никому не мешаю. Вы — свое, я — свое…»
Он и в самом деле жил тихо, по-своему честно, любил, как вот и нынче, выйти на люди, а тому, что оказался сомневающимся во всем, сначала удивлялись, потом привыкли.
…Солнце, тоже словно бы ожидавшее случая утешить людей и, в отличие от иных дней, щедро согревавшее настуженную зимними метелями землю, утомленно садилось за соседние боры. И как только оно скрылось, оставив после себя розовые отблески на горизонте, из близлежащих лесов, пойм, из-за плетней двинулись на село жиденькие, будто летний полевой туманец, сумерки. Забредя на подворье Андрея Жилюка, они остановились, застыли, притемнив лица людей, их улыбки, взгляды, даже хату, сверкавшую новыми золотисто-сосновыми брусьями.
— К погоде, — задумчиво промолвил кто-то из сидевших на бревнах.
— Да хотя бы, скоро ведь сеять, а оно…
— Как зима ни скачет, а весна свое возьмет.
— Говорил слепой — увидим, — не смог удержаться Мехтодь.
Мужчины засмеялись.
Внезапно в свадебные голоса, в пиликанье скрипки ворвались громкие, чуточку приглушенные расстоянием удары в рельс. На колхозном подворье били тревогу. Все обернулись туда и увидели высокий, подпертый языками яркого пламени столб дыма.
— Пожар!
На миг все онемело, притихло, и тогда из толпы выскочил Гураль.
— За мной!.. — крикнул он и круто-прекруто ругнулся.
Так кричал он, разве лишь когда ходил в партизанские атаки. Устим добежал до ворот, распахнул их, выскочил на улицу.
Мужчины, а за ними и женщины высыпали на дорогу.
— Оставайся здесь, — сказал растерянной Марийке Андрей. — Тетка Ганна, — обратился к Гуралевой, — побудьте с нею. — Сняв свадебный пиджак с красным бантом на отвороте, он схватил какую-то старую фуфайку, побежал догонять мужчин.
II
Когда Степану Андроновичу Жилюку, председателю Копанского райисполкома, доложили, что в Великой Глуше сожгли конюшню, первое, что даже подсознательно пришло ему на ум, — свадьба брата, Андреева свадьба. Почему пожар произошел именно в этот день? Конечно, могло быть простое стечение обстоятельств, но… Во-первых, в селе не так уж много строений, чтобы огонь незаметно мог возникнуть и поглотить большое помещение, во-вторых, конюшня каменная, в-третьих, он знает — глушане осмотрительны с огнем, поэтому уверен, что случайность исключена. Следовательно… Однако — нет! Степан прогонял от себя назойливую мысль об умышленном поджоге. В районе, тем более возле Великой Глуши, где даже во время войны было сильно советское влияние, советский дух, вот уже несколько лет не возникало подобных случаев.
И все же похоже на преступление. Хорошо еще, что конюшня оказалась почти пустой, а то злоумышленник добился бы своего — посевная в «Рассвете» была бы сорвана.
Интересно, что думает об этом милиция? Начальник райотдела Малец, которого Степан пригласил к себе, тоже считал, что событие не случайное.
— Тогда кто?
Малец пожал плечами.
— Есть один момент, — сказал он. — В Карпатах, на Станиславщине, сброшена группа диверсантов. Почти все обезврежены, но…
— Давно? — не дал закончить Степан.
— Недели две назад.
Степан задумался.
— И что же, — спросил вдруг, — думаете, они сброшены для поджога конюшни? Более важной задачи у них не было?
— Конечно, не ради конюшни, — согласился Малец. — Однако ситуация сложилась так, что бандиты вынуждены были спасаться бегством. К сожалению, нескольким это удалось…
— Тогда почему именно к нам? — настаивал Степан. — Где Станиславщина, а где Полесье…
— В том-то и закавыка, Степан Андронович.
— С областным управлением безопасности связывались? Что они?
— Кроме этой информации, ничего.
— Докладывайте о мельчайших подробностях.
— Понятно, Степан Андронович.
Они расстались. Степану было неловко: будто упрекал человека, а вины ведь за ним, по сути, нет…
Целый день Степан Жилюк был под впечатлением этого разговора, в мыслях у него рождались десятки возможных и невозможных объяснений причин и всего такого прочего, что могло касаться пожара, только ни одно из его предположений не подходило, не могло унять беспокойства. Видимо, лучше было бы поехать ему на свадьбу, возможно, ничего и не случилось бы… Но как? Как он мог поехать? Именно в этот день в район приехали шефы из Подмосковья, которые вот уже несколько лет помогают им налаживать хозяйство. Не оставишь же их, не скажешь, что свадьба брата… Да и то немаловажно: с селом, с его родной Великой Глушей, у него связано столько горестных воспоминаний, что ворошить их лишний раз — больно. Свадьба напомнила бы об ужасной смерти матери, отца, сестры Яринки… О гибели сына Михайлика и жены Софьи… Сколько же смертей в их жилюковском роду! И в других немало, но у них слишком уж много. Что ни год войны, то и смерть. Коварная. Адская.
Чтобы унять жгучую боль, Степан велел водителю готовить в дорогу «козлика». Позвонил первому Кучию, сказал, что навестит «свои» села — за каждым из членов бюро были постоянно закреплены села, куда они время от времени приезжали для помощи местному руководству, — на обратном пути, возможно, заедет в Великую Глушу.
— Поезжай, поезжай, — без особых расспросов согласился Кучий. — Да не задерживайся, вечером соберемся, посоветуемся по некоторым вопросам. — О пожаре он даже не вспомнил, видимо, расследование его считал делом сугубо ведомственным или же просто не хотел лишний раз говорить о нем.
За городом выехали на разбитую танками, автомашинами, подводами, а кое-где — на обочинах — бомбами и снарядами шоссейку, и Жилюк с удовольствием вдохнул вольготный запах талой земли, воды, что свинцово посверкивала в воронках прошлогоднего, поблекшего и уже чуточку разогретого разнотравья.
Весна была в той самой интересной своей поре, когда за незаметным пробуждением, еще почти полусонным и вроде бы нерешительным, зреют, нарастают силы, которые вскоре взорвутся яркой зеленью, цветением, погонят вверх тугие стебли жита или пшеницы. Стоял бы вот так или шел и вдыхал, пил этот пьянящий воздух, несущий с собой запахи дали, простора, неведомых краев. В такой миг в самом деле ощущаешь себя частицей вселенной и кажется, от твоей воли, от твоего желания зависит все. И пусть потом наступит другой миг — миг прозрения, осознания, — заряда, который даст тот, первый миг, хватит по крайней мере, чтобы вспахать и засеять поле, посадить дерево или просто дружелюбно кому-нибудь улыбнуться.
Степан часто удивлялся этой своей чувствительности. Скажи — не поверят, засмеют. Потому что — в самом деле! — откуда бы ей взяться в его огрубевшей от жизненных испытаний душе? С детства? Так было оно вон каким скупым и быстротечным! Только и того, что проходило среди полей и берегов, среди лесов бескрайних… Но рожденное в детстве чувство восторженности давным-давно уже рассеялось, растерялось. Тысячи ветров заметали следы, тысячи дождей смывали их на разных дорогах. Где уж было удержаться каким-то там детским воспоминаниям и чувствам!..
Ехали лесом. Бесконечный массив тянулся откуда-то с Пинщины, с Белоруссии, с Житомирщины, а на западе, перепрыгнув через Буг, переходил в Польшу, Мазурщину. Кто-кто, а он, Степан Жилюк, исходил и изъездил его — и тогда, до тридцать девятого, когда еще с отцом трудился зимой на лесоразработках, и позднее, скрываясь от преследований польской охранки — дефензивы, и недавно, когда тут партизанил. Сколько его товарищей лежит вот здесь, в известных и неизвестных могилах!
Проезжали Березовую Рутку, урочище, где…
— Остановимся? — спросил водитель и, не дожидаясь ответа, затормозил.
«Козлик» подпрыгнул на придорожных кореньях, свернул в сторону, остановился возле еле заметной тропинки, ведшей в глубину леса.
— Спасибо, — бросил Степан и неторопливо, словно бы утомленно, вылез из машины.
Глубокая тишина плотно обступила его. Степан даже пошатнулся, будто она, эта безмолвность, вдруг положила на его плечи какую-то невидимую тяжесть. «Засиделся ты, брат, — мысленно упрекнул самого себя. — Застыл за зиму, от ветра шатаешься». Пересилив внезапную слабость, пошел неторопливыми шагами. Мягко шелестели почерневшие и еще не совсем просохшие листья, отовсюду тянуло влажным холодком, сквозь который пробивались еле уловимые запахи ранней весны.
Примерно в сотне шагов от дороги, в окружении деревьев, стоял невысокий, метра в полтора, обелиск. Издали он был почти незаметен — серая, вытесанная из дубового ствола пирамидка, которую венчала окрашенная в красный цвет жестяная звездочка, поблекшая от времени и непогоды, утратившая блеск и тоже не сразу бросавшаяся в глаза. Приблизившись к могиле, Степан снял шапку.
— Здравствуй, отец, — промолвил глухо. — Как ты здесь?
В ответ где-то в вышине крякнул старый ворон — эхо покатилось лесом и затихло, умолкло между молодой порослью. Степан обошел могилу, ступил за ограду, поднял сбитую ветром сосновую ветку. «Надо перенести. Одиноко ему, неуютно…» Перед мысленным взором снова возникла та партизанская ночь, таинственная смерть отца, которая, наверное, предназначалась для него, Степана, и только в силу неизвестных обстоятельств выпала старику.
Каждый раз, проезжая по этой дороге, он не может не остановиться. На сердце постоянное чувство вины, будто он умышленно отослал тогда отца, не дал посидеть возле больной невестки и таким образом избежать внезапной смерти.
Взгляд упал на что-то белое, лежавшее под веткой. Степан нагнулся, извлек его — так и есть! Небольшой аккуратный листок. Предчувствие чего-то зловещего охватило душу. Разгладил намокшую бумажку на ладони: «Жилюки! Не надейтесь, что на этом конец. Так будет со всеми советскими прихвостнями. Слава Украине!..» Без подписи. Буквы неровные, размытые, однако, отметил про себя, написано грамотно, без ошибок, даже с восклицательными знаками… Кто же это?! Свой, здешний, сидящий где-то затаенно в схроне[16] и не утерпевший, будто крыса, попавшая в капкан, начавший грызть самого себя, или кто-то чужой, выкуренный откуда-то из других краев?
Степан смотрел на бумажку, беспокойство и неизвестность, которые только что холодили сердце, вдруг покинули его, исчезли, уступив место твердости и решительности, которые всегда в трудную минуту брали в нем верх. «Чудак! — подумалось почему-то совсем спокойно. — Угрожает, корчит из себя… А самому и невдомек, что эта писулька выдает его с головой».
Памятны Степану не такие вот — рукотворные — записочки, а настоящие, с четким оттиском фабричного шрифта, изготовленные где-то в закордонных типографиях и завезенные тайком, злодейски. Этот же карябает собственноручно… Однако он есть! И пожар, наверное, учинен им. Другого мнения не может быть. Есть!
Степан невольно оглянулся — не из страха, скорее от любопытства, желания увидеть того, кто с камнем за пазухой бродит по этой земле, скрежещет в дикой злобе зубами. Что он сказал бы ему? А ничего. Взял бы за шиворот, вывел в поле и ткнул бы мордой в молодые всходы хлебов. Смотри, мол: как не убить на земле эти вечные ростки, так не уничтожить нас, Жилюков, потому что испокон веков мы здесь хозяева…
Бумажечка немного просохла в руке. Первым желанием Степана было бросить ее, затоптать, однако он почему-то удержался, а потом решил: как бы там ни было — документ, свидетельство, где-нибудь когда-нибудь пригодится. Подержал еще немного, чтобы подсохла, потом осторожно положил во внутренний карман пальто.
Уже когда садился в машину, вспомнил вдруг о Стецике. Это было так неожиданно, что Степан даже придержал уже занесенную ногу. Стецик! Конечно же он! Кто же еще? Недавно, отбыв наказание, возвратился… А неприязнь, если не сказать — вражда, между ними давняя. Считай, с тех пор, как его, Стецика, самозваного партизанского вожака, который, кроме собственного, не признавал никакого авторитета, по его, Жилюка, приказу арестовали, а отряд расформировали. Стецика могли судить уже тогда, однако он раскаялся, вроде бы искренне, и все обошлось. После войны, правда, с него все-таки спросили за самоуправство, но, поскольку оно было незначительным, большого вреда не принесло, то и наказание выпало небольшое.
Следовательно… Воспоминание крепко засело в голове. Под конец дня Степан понял, что, пока не вырвет его, не выбросит, не развеет, — покоя ему не будет. Потому что следом за одним фактом каким-то чудом высвечивался другой, давно забытый, казалось, несущественный… Откуда-то из глубочайших тайников памяти вдруг вынырнуло, как Стецик похвалялся отомстить ему, а он, Степан, тогда лишь равнодушно махнул рукой. Ныне полуподсознательно ухватился за это, как за путеводную нить.
Объехав ряд хозяйств и еще больше распалясь от того, что с подготовкой к севу не все в порядке, Степан под вечер, уже с дороги домой, велел водителю свернуть на хутор Сухой, где жил Стецик.
Хутор лежал в сторонке, километрах в пятнадцати от шоссе, поездка туда по бездорожью занимала несколько часов, однако Степан решил поговорить со Стециком непременно, и только сегодня.
— Извини, — сказал на немой взгляд водителя.
— Чего уж там, — ответил тот, — раз нужно, значит, нужно. Я, Степан Андронович, фронтовик. Для меня что день, что ночь — все едино. Бывало…
Перелесками, полями они плутали добрый час, пока попали наконец на хуторскую дорогу. С трудом прощупывая ослабевшими фарами проселок, машина выехала на обсаженную густым лозняком плотину, перемахнула через нее и выскочила на широкий плоский пригорок, на котором разместился хутор.
Степану не раз приходилось бывать в этих местах, он знал их, как собственную ладонь, поэтому без особых усилий представил разбросанную на сухом — отсюда и название хутора — стайку хат, что в поисках лучшего лоскутка земли сначала словно бы убегали одна от другой, но потом, осев, соединялись между собой крученными по межам тропками и колеями. Ранней весной, когда тают снега, да и просто в пору дождей, хутор оказывается в водном плену, две-три недели сюда не добраться; если уж по-настоящему припечет, пускают в ход старенькие, бог весть когда сколоченные лодки-плоскодонки. На них возят людей, сено, всякий инвентарь; бывает, и скотину.
Связанные с непогодой неудобства в какой-то мере искупаются красотой, которая расцветает здесь к началу осени. Природа словно бы спохватывается, становится более ласковой и с особенной щедростью отдает все, чьей-то непостижимой властью предназначенное для этого края. Примерно в начале мая воды спадают, по каналам, протокам и ложбинкам стекаются в речки и по Припяти доходят до самого Днепра. На их месте, в поймах, приласканные солнышком, буйно разрастаются травы, наполняют простор терпковатыми запахами молодой осоки, рогозы, татар-зелья и камышей, где все лето без устали поют птицы, а в прикрытых кувшинками озерах и старицах выгуливаются золотистые лини, юркие карасики, серебристая плотва, угри, зеленоватые щуки. Скуповатая на урожаи, на хлебные дары, земля какое-то время кажется чуть ли не раем, божьим углом, где радуют душу и извечный шум лесов, и пестрый ковер лугов, и неугомонное птичье разноголосье.
Степан не раз удивлялся этому несоответствию красоты природы условиям вечного человеческого существования. Один английский путешественник — фамилии его он не запомнил, — побывавший в этих краях в тридцатых годах, сравнивал эти условия с условиями жизни полудиких индейских племен. В центре Европы, почти в середине двадцатого века! На вершине человеческой цивилизации! Открытие, конечно, произвело сенсацию, буржуазная пресса наперехват и с удивлением писала о европейских джунглях. Однако… в своем увлечении забыла о главном — забыла выяснить причины интересного явления. У авторов, видимо, не хватило на это терпения, а тогдашний польский премьер Пилсудский и его приспешники, тайком посмеиваясь над недальновидностью незадачливых писак, утвердительно кивали головами, дескать: да-да, панове, горькое наследие бывшей Российской империи, когда-нибудь приведем в порядок, не все же сразу…
Жилюк болезненно поморщился, дернулся — даже скрипнуло под ним сиденье, — снова заныло сердце, будто сошлись в нем вдруг все боли и испытания. Говорят, старое отходит, забывается, притупляется, покрывается пеленой равнодушия; возможно, для кого-нибудь оно так и есть, но только не для него. Нет, не уходят из памяти, из сердца и первые шаги еще неосознанной, полубунтарской непокорности, и борьба в ячейках Коммунистической партии Западной Украины — КПЗУ, и эти, совсем недавние, события, стоившие стольких жизней! Будто после вчерашних допросов и дознаний в концлагере Березы Картузской, где пришлось сидеть, ноют руки, свинцовой тяжестью наливается голова… С течением времени все чаще и чаще. То ли повседневная — и целодневная! — усталость, то ли и в самом деле подточенное уже здоровье… В открытых боях было проще, легче? Ну конечно. Ярость боя снимала внутреннее напряжение, переутомление мозга, нервов, чувств, открывала выход для них. А ныне? Иногда становится страшно, кажется невероятным, что один человек может выдержать такое.
«Козлик» остановился.
— Хутор, Степан Андронович. Куда дальше?
Степан с трудом освободился от мыслей, занимавших его всю дорогу, зачем-то поправил армейскую, из искусственного меха холодноватую шапку, которую, однако, упорно не хотел менять на другую, гражданскую и, возможно, лучшую, сказал:
— Давай к Стецику.
Водитель удивился, однако виду не подал. Решительно рванул рычаг передачи и взял с места. На гул мотора и, очевидно, на свет, выхватывавший тусклые очертания первых хат, дружно залаяли собаки.
III
Хутора на Волынском Полесье — если не принимать во внимание старинных, основанных еще после разрушения Запорожской Сечи и подавления казацко-крестьянских восстаний, участники которых, спасаясь от расправы, убегали в вековые пущи и размещались там небольшими селениями, — возникли, как и в центральных районах Российской империи, во время столыпинщины. Царскому двору пришлась по вкусу мысль министра — душителя первой революционной бури — о создании на государственных землях крепких крестьянских хозяйств, которые были бы одновременно и производителями хлеба, и надежной опорой самодержавия на селе. Земли продавались на льготных условиях, покупала их, разумеется, не бедняцкая масса, а те, у кого водились и знакомства и деньги.
Стецики появились в верховьях Припяти примерно в ту же пору, незадолго до первой мировой войны. За несколько лет десятины, к которым ранее не прикасался плуг, превратились в плодородные — принимая во внимание местные условия — нивы, а обнесенный высоким плетнем двор Стецика оброс сарайчиками и другими хозяйственными пристройками, за ними из-под крыльца пристально следил откормленный рыжий пес. Пощады в работе хозяин не давал ни себе, ни своей красивой жене. Она с утра до вечера хлопотала возле коров, таскала свиньям тяжеленные чугуны вареной картошки, убирала навоз, подбрасывала в ясли овцам сена…
— Нет ничего лучше, как работа в охотку, — говорил Стецик, отмахиваясь от нареканий жены. — Вот обживемся по-хозяйски, тогда и…
— Ноги протянем с таким обживанием.
— Может, и протянем, — спокойно отвечал, — разве знаешь, что кому на роду написано?
В базарные дни Стецик всей семьей, — сам в передке, рядом жена, а позади, в сене или свежей траве, если дело происходило летом, мальчонка, — появлялся на люди. Покупал ли что или продавал, а любил похвалиться и новым выездом, и женой, вызывавшей неравнодушные взгляды парней и молодых женатых мужчин, и собой — был здоровый, статный и неглупый. В шинок заглядывал крайне редко: раз или два появлялся там после удачных торгов, видели его и изрядно пьяным — к общему удивлению, чернил он тогда жену последними словами, называл гулящей, а сына — панским выплодком… После такой оказии обычно долго нигде не показывался, тише воды, ниже травы сидел на своем хуторе.
Война не обошла и Стецика. Его мобилизовали уже осенью четырнадцатого, весной следующего года, контуженный где-то в Галиции, он вернулся, а в шестнадцатом, во время известного Брусиловского наступления, неведомо чей — немецкий или русский — снаряд внезапно оборвал жизнь Стецика, когда он пахал под зябь. Снаряд разорвался совсем близко, осколок перебил коню правую заднюю ногу, а ему, Стецику, распорол живот. Коня пришлось добить, а хозяина, умершего при полном сознании через несколько часов, лишь на третий день похоронили, здесь же, во дворе, под старой грушей-дичком, потому что так велел, просил так.
Для Стецихи после смерти мужа времена наступили неопределенные. В Петербурге — донесся слух — свергли царя, началась катавасия, у панов отнимали землю и имущество, а самих прогоняли с насиженных мест. И она, нутром почуяв неладное, потихоньку сбыла нажитое собственным и чужим потом, притаилась — дескать, пускай там все крутится-мелется, нам за шею не капает.
Хлопец ее тем временем подрастал, из Славки стал Ярославом, в двадцатом, когда фронты умолкли и на земле, хотя ненадолго, наступил мир, он благополучно отслужил в войске и возвратился гражданином Речи Посполитой, под чьим игом оказались и Волынь, и Галиция, и конечно же небольшой, затерянный среди болот и пущ хуторок с непритязательным названием Сухой. Хотя там за эти годы поселилось еще несколько семей, хутор по старой привычке нередко именовали Стециковым. Ярослав понимал полнейшую условность такого названия, однако в душе гордился им. Как бы там ни было, а род его не выветрится из людской памяти, пока хутор будет стоять.
Молодой Стецик стал прямым последователем своего папеньки. Вместе с матерью он поднял запущенное хозяйство, политикой не интересовался — так, от случая к случаю, да и то по какой-нибудь определенной причине. И когда вокруг, в той же Великой Глуше, беднота восставала против новоявленного панского гнета, требовала земли и воли, воссоединения с Великой Украиной, лежавшей за Днестром и Збручем, Ярослав сначала ухмылялся, затем, смекнув, что дело принимает серьезный характер, затаился. Ему, собственно, и под Польшей было неплохо: как когда-то царскому правительству, панско-польскому понадобились верные люди на «всходних кресах» («Восточных окраинах»). Правительство Пилсудского начало усиленно внедрять осадничество — небольшие, вроде Стецикового, хозяйства; ходили слухи, что и Ярославу, наверное, за известные материны заслуги перед панством (чего она, кстати, после внезапной смерти мужа не стала скрывать), были предложены государственные субсидии за верность польской короне. Однако из-за своей врожденной осмотрительности он якобы на полный сговор не пошел, особых заслуг перед охранкой — дефензивой — не имел. Осадничество главным образом было порождением именно этой, тайной и страшной опоры буржуазного правительства.
Это да еще, видимо, связь — уже накануне освобождения — с рабочими Брестского депо, которые, к превеликому удивлению хуторян, подтвердили, что Ярослав Стецик в самом деле оказывал им помощь деньгами и продовольствием, и уберегло хитро-мудрого хозяина осенью тридцать девятого. Сам Стецик проявил к новой власти полнейшую лояльность. Весной, когда начали организовывать колхозы, он одним из первых подал заявление, обобществил все, что подлежало обобществлению, и начал трудиться не хуже других. Когда при случае любопытные спрашивали Ярослава, не жаль ли, мол, ему своего имущества, Стецик, улыбаясь в коротко остриженные усы, говорил:
— А меня, кабы вы о том знали, не учили белым медведям хвосты крутить…
— Это как же? — удивлялись собеседники.
— А так, — многозначительно подмигивал Стецик. — С новой властью шутки плохи. Нет дураков переть на рожон…
Женился он поздно — в тридцатилетнем, кажется, возрасте, да и то по настоянию матери, которой трудно стало одной справляться с хозяйством; в жены взял себе соседскую хуторскую девушку, неприметную с виду, зато честную и работящую; за несколько лет молодые прижили двоих детишек, мальчика и девочку, так что к новой жизни Стецик приступил уже целым семейством, не гнушаясь никакой работы. Случилось так, что в Сухом, где был уже добрый десяток хозяйств, создали бригаду, и Ярослав возглавил ее. Бригада неплохо справилась с полевыми работами, своевременно посеяла яровые и убрала первый коллективный урожай, о ней даже написали в районке. Стецик на всякий случай приобрел три экземпляра газеты, подсовывал ее при случае — дескать, смотрите, мы хотя и не из забастовщиков-бунтарей, но дело знаем, новую власть уважаем и поддерживаем.
Не нравились ему лишь разговоры, которые то и дело возникали на собраниях, о переселении с хуторов. «Землю обобществили, имущество тоже, а самим зачем в один котел толкаться?» — говорил. Ему объясняли, что делается это в интересах самих же хуторян: в селе и с электрификацией и с радиофикацией куда легче, и школы всюду открываются, но Стецик стоял на своем: «Веками жили без электричества и радива? Жили. А детей возить в школы будем».
Поскольку для решения этой проблемы в самом деле еще не созрели условия — поговорили о ней да и принялись за более важные и неотложные дела.
Под мобилизацию — в связи с началом Великой Отечественной — Стецик почему-то не попал. То ли умышленно кто-то где-то сделал для него услугу, то ли просто не успели, как бы там ни было, но через несколько дней очутился он, как и его соседи по хутору и односельчане, под оккупантом. Правда, немцев долго никто не видел, хуторяне почти без приключений убрали — кто сколько мог — колхозный урожай, разумеется, припрятали зерно, однако дальше не порывались. Там, на центральной усадьбе, нашлись такие, которые забрали бывших своих коровенок да лошадок, плуги и культиваторы, а Стецик и тут проявил осмотрительность. Собственно, на Сухом, на хуторе, и разбирать-то нечего было, тут и содержалось всего пять лошадей, несколько телег да кое-что из инвентаря. Все это и осталось на месте. Стецик бригадирские полномочия сразу же сложил, перемене откровенно не радовался, однако первым все-таки засеял лучшие из своих полей.
— Хлеб при всякой власти пригодится, — говорил он. — Никто его мужику не припасет. Пашите, люди, сейте. — И добавлял: — Наши придут, спасибо скажут.
Какие именно «наши» — не уточнял, понимай как хочешь. Однако, когда осенью прибыл посланец от старосты — новой, оккупационной власти — с разнарядкой вывезти столько-то хлеба, мяса и другой продукции, Стецик в глаза ему сказал: «Дудки! Вы себе пришли да и уйдете, а нам жить надо, детей кормить да и самим что-то на зубы положить, не забросим же их на полку».
Хуторяне поддержали бывшего бригадира.
«Верно ведь говорит, — размышляли они, — сообща и батьку легко бить». Вытурили сборщика, уехал он несолоно хлебавши.
— А если их сюда много нагрянет? — выражали опасение некоторые из хуторян. — Что же мы… Сколько тут нас?
— Не нагрянет, — заверял Стецик. — Не хватит их на каждый хутор, каждое село. Что у них, других хлопот нет, что ли? А нас хотя и немного, зато мы у себя, дома. Здесь каждый кустик за нас. Надо только… — Он умолкал, долго доставал кисет, не торопясь отрывал кусок бумаги и так же медленно сворачивал цигарку.
— Да говори уж… Что надо?
Однако Стецик не торопился, долго раскуривал самокрутку и, только смачно раз-другой затянувшись, доводил до конца.
— Надо — слышишь иль нет? — самооборону держать. Сообща обороняться.
— Тю! — говорили мужики. — Чем обороняться? Вилами или, может, граблями?
— Припечет, и за вилы схватишься, — жестко отвечал Стецик. — Оружие надо раздобыть.
— Ну да, так оно тебе и валяется.
— Валяется не валяется, а нужно, иначе… Слыхали, по селам вон партизаны?
— Так то же партизаны.
— А мы что? Хуже их? Не способны автоматы держать?
Разговоры да споры, в центре которых был он, Ярослав Стецик, все-таки подействовали, хуторяне смекнули, что в одиночку им не выстоять, — перебьют, перехватают, будто куропаток в поле, в такое время необходимо объединиться, организоваться, встать один за одного. Тем более что вести, единственным источником которых был небольшой, еще в прошлом году приобретенный Стециком радиоприемник, свидетельствовали о нарастании всенародного сопротивления врагу.
Помогли те же брестские железнодорожники, которые помнили хуторского хозяина. Между прочим, они и теперь намекнули, что, мол, времена такие — возможно, придется снова вернуться к подпольной борьбе, а потому… в случае чего, чтобы они, хуторяне…
Стецик заверил, пообещал при необходимости подбросить еще кое-что из продуктов.
Стециков отряд, насчитывавший человек пятнадцать хуторян, вскоре привлек внимание копанских подпольщиков. Через некоторое время в Сухой приехал посланник с приказом прибыть Стецику к месту совещания командиров мелких партизанских групп, на котором должны решаться вопросы о слиянии их в одно боеспособное соединение. Стецик посланца принял, даже угостил самогоном, но ехать отказался. «Нам и так неплохо», — сказал на прощанье.
Поведение псевдопартизан не могло, конечно, не вызвать недовольства. К самозваному командиру поехал Степан Жилюк, однако и это не привело к желанным результатам. Единственное, на что согласился Стецик, — силами отряда принимать участие в совместных боевых операциях, однако и тут хитрил-изворачивался…
Обо всем этом думал теперь Степан, направляясь к хутору, злился на Стецика и вместе с тем чувствовал какую-то неуверенность в основательности своих предположений.
Подворье Стецика располагалось в центре хутора. Закладывалось оно когда-то первым, на безлюдье и конечно же на более удобном месте, вот и оказалось потом, по мере заселения, в центре. Кованными железом, на дебелых дубовых ушулах[17] воротами подворье выходило на главную улицу, а задами, огородом и левадой, обрывавшейся у Синюхи, узенькой извилистой речушки, — подступало к густому ольшанику и лозняку, за которыми непроглядной мрачной стеной стояла пуща.
Было не рано, кое-где уже и огоньки зажглись, когда Жилюк, сопровождаемый собачьим лаем, подкатил ко двору.
— Светится, не спят, — обрадованно промолвил водитель.
Не выходя из машины, Степан присмотрелся: сквозь голые ветки посверкивало одно-единственное окошечко. «Угловое, — заметил. — Кажется, в боковушке». Раза два после войны ему приходилось бывать в этом доме, память невольно зафиксировала расположение комнат.
— Один пойдете? — спросил водитель.
Жилюк ответил не сразу — локтем открыл расхлябанную дверцу, спустился с сиденья, постоял.
— Смотри тут, — сказал немного погодя и, переступив через полосу света от фар, скрылся в темноте.
Калитка была не заперта, Степан легко толкнул ее и вошел в подворье. Чуть не под ноги ему с лаем кинулся пес. В темноте его трудно было разглядеть, угадывался только юркий сероватый клубок чего-то злющего, готового разорвать в клочья кого угодно. Степан остановился, чтобы сориентироваться. К счастью, пес гарцевал на привязи — слышалось приглушенное позвякивание цепи, и Жилюк, прижимаясь к плетню, отгораживавшему сад, бочком направился к хате. Не успел он пересечь и половину двора, как скрипнула дверь, с крыльца раздался мужской голос. Услышав его, пес притих, однако не отступил, сопровождал незнакомого злым ворчанием.
— Кто здесь? — властно спросил хозяин.
— Свои, — в тон ему ответил Жилюк. — Придержи пса.
— Кто свои?
— Увидишь. Придержи, говорю…
Стецик спустился с крыльца, загнал пса в будку, шагнул навстречу.
— Жилюк? — спросил не без удивления, хотя, видно, узнал сразу.
— Он самый, — приблизился Степан. — Приглашай в гости.
— Раз уж пришел, заходи… без приглашения.
— Тогда веди… Ничего не видно.
Хозяин молча повернулся, грузно зашагал к крыльцу.
— Хотя бы устлал чем-нибудь, — увязая в грязи, сказал Степан.
— Не ждали высоких гостей, потому и не вымостили.
— А самим не нужно?
— Сами так обходимся.
Из хаты дохнуло теплом, застоявшимися запахами разного варева.
— Почему шофера оставил? — кинул Стецик. — Не лето.
— Пускай, — неопределенно промолвил Жилюк.
На голоса из боковушки, где светилось окно, вышла молодица, поздоровалась, остановилась в нерешительности.
— Гости к нам, начальство, — угрюмо сказал ей хозяин, — дай что-нибудь на стол.
— Спасибо, не надо, — возразил Жилюк. — Извините, что поздно… — обратился к женщине и, глянув на Стецика, добавил: — Поговорить надо.
— Чего, ж, говори! — с вызовом ответил тот.
— Не здесь. Дети, наверно, спят.
— Будто не знаешь, что они могут делать в эту пору. Да разденься, разговор, наверное, долгий…
Жилюк снял и повесил на колышке возле дверей шапку и кожушок, пригладил сбитые волосы. Он знал, что кроме боковушки в хате есть еще одна комната, — там, наверное, дети, кухня и печь. Именно оттуда, из-за печи, и послышалось покряхтывание да постанывание.
— Кто там, Гафия? — спросил старушечий скрипучий голос.
Гафия, жена Стецика, быстро направилась туда, что-то зашептала, на что старуха только и промолвила сокрушенно: «О господи…»
— Пошли сюда, — Жилюк решительно ступил в боковушку.
Стецик молча прошел следом. Почуяв неладное, он выжидал, не возражал гостю, хотя и не скрывал раздражения.
В комнате стояли две металлические кровати, стол, несколько грубых, видно домашней работы, стульев; на стенах фотографии, в углу, под вышитым рушником, икона, перед которой на длинных цепочках висела почерневшая медная лампадка. В том же закутке, под божницей, стоял небольшой радиоприемник. В нем тихонько потрескивало, видимо, только что он работал и хозяева, услышав собачий лай, приглушили его.
Степан повернул ручку громкости — передавали последние новости. Передача велась на украинском языке, однако Жилюк уловил в произношении диктора что-то неродное, чужое.
— «Землячков» слушаешь? — Он недружелюбно взглянул на Стецика.
— Слушаю, — нисколько не растерялся хозяин. — На то его, — кивнул на радио, — и выдумали, чтобы слушать. Должны знать, что в мире происходит.
— И как, знаешь? — Жилюк резко обернулся. — Может, скажешь, кто поджег конюшню?
— Извини, чего не знаю, того не знаю, — на удивление спокойно ответил Стецик.
— А если подумать?
— И как подумать… А по какому… — Стецик, наверное, хотел сказать «праву», голос его от сдерживаемого напряжения едва заметно задрожал, однако тотчас же выровнялся. — Почему ты считаешь, что я должен знать?
— Не только знать, но… — Жилюку вдруг пришло в голову, что Стецик не тот человек, которого можно напугать, взять криком, и он, сам удивляясь такой своей перемене, перешел на спокойный, чуть ли не товарищеский тон. — Понимаешь, некому больше… перебрал все возможные варианты…
— Выходит, в меня целишься. Мало тебе моих пяти лет? — Теперь, почувствовав, что Жилюк приехал без доказательств, без каких бы то ни было фактов, повысил тон Стецик. — Дудки, товарищ начальник. Не думай, что, если в твоих руках власть, значит, все можно. За клевету…
— Знаю, что за клевету, — прервал его Степан. — Но и угроз ты на ветер не бросаешь. Может, захотел свести старые счеты?
С миской квашеной капусты, поверх которой лежало несколько огурцов, в одной руке и с тарелкой крупно, по-сельски, нарезанного сала в другой вошла жена Стецика. Она молча поставила соленья на стол, открыла хлеб, лежавший здесь же, под рушником, и лишь тогда сказала:
— Перекусите, может, не такими злыми будете…
Пока она расставляла, Стецик вышел и через минуту возвратился с графинчиком и двумя рюмками. Он налил, взглянул на жену, и та, поняв его без слов, вышла.
— Давай, Жилюк, лучше выпьем да закусим, — придвигая гостю рюмку, предложил он. — А то, наверное, за весь день и пообедать никто не дал.
— Не думай, что Советская власть все простила, — не обращая внимания на его слова, продолжал Жилюк. — Она справедливая, добрая, однако…
— Да что ты меня пугаешь? — стукнул по столу Стецик. — Я к тебе по-хорошему, а не понимаешь… не хочешь, то… — Он глянул в окно, за которым стояла непроглядная темень, потупил взгляд, некоторое время молчал, затем прямо посмотрел на Степана. — Говоришь, некому больше? — процедил сквозь зубы. — Я один такой вот? До конца жизни будешь упрекать меня прошлым?.. — Он перевел дыхание, в груди у него спирало. — А может, я должен тебя спросить, товарищ голова?
— Спрашивай. — Жилюк недоуменно глядел на него.
— Так, может, скажешь… ответишь, где твой любимый братик? Может, его при таком случае вспомнишь, а?
Степан был ошеломлен. Чего-чего, а такого поворота он не ждал. Всем известно, что брата Павла нет, что исчез он еще до конца войны… Да и вообще, даже тогда, когда действовал здесь, между ними согласия не было. Наоборот.
— Что о нем вспоминать? Может, его и в живых нет…
— «Может», — иронично повторил Стецик. — Пей лучше, потому что…
— Пить с тобой я не буду, — встал Степан.
— Напрасно, — насупился Стецик. — Недаром говорится: не плюй в колодец…
— В плохой можно и плюнуть, все равно ведь толку никакого — чистить надо.
Стецик стиснул зубы так, что кожа на щеках побелела, не поднимая глаз, выдавил:
— Тогда… вот бог, а вот порог.
— Завтра явишься в милицию, — велел Жилюк.
— Уже бывали, не пугай.
Жилюк не стал продолжать беседу, оделся и не прощаясь вышел.
— Да глядите не заблудитесь, — вслед ему насмешливо кинул Стецик. — Время такое…
— Проводил бы, — услышал Степан женский голос.
В ответ прозвучало злое, приглушенное:
— Разве что на тот свет.
IV
Верх конюшни, где оставалось еще немало заготовленного на зиму сена, все-таки сгорел, спасти его не удалось, поэтому, пока не наступили массовые полевые работы, решено было немедленно взяться за восстановление. Правление собрало способных к такому делу мужчин, собственно, сняло их с еще в прошлом году начатой школы, выделило несколько подвод. Андрею Жилюку Гураль велел:
— Бери людей, поезжай в лес, дерева заготовишь. На крышу вон надо, на потолок… И вообще пригодится в хозяйстве.
— Это что, в порядке наказания? — шутил Андрей. — На моей свадьбе сгорело, мне и налаживать?
— Не шути, — не хотел менять делового тона Гураль. — Работа нелегкая, кому, как не тебе, за нее приниматься.
— А куда ехать?
— Поедете в Поташню, с районом я договорился. Там все равно скоро начнется государственная вырубка.
Урочище — в полутора десятках километров от села. Гуляли здесь и Костюшко, и Кастусь Калиновский, достигали сюда волны разъяренного моря казацких и гайдамацких восстаний…
Несколько запряженных добротными лошадками подвод подъехали к Поташне в полдень. Глушане знали урочище. Хотя оно и не в их — сельских — владениях, но какой же полещук не знает окрестных лесов! Лес для него и кормилец в нелегкие времена, и тепло, и дерево для строительства, и убежище. Сколько, случалось, пересиживали в нем разных лихих годин!
— Да выбирай где-нибудь поближе, — говорили Андрею мужики. — Чтобы таскать не так далеко…
Остановились на невысоком взгорье, где суше, на перекрестке просек. Отсюда в самом деле удобнее вывозить кряжистые сосны, которые, застыв в зимней спячке, стоят, будто держа на верхушках небо. За пригорком, в низинке, посверкивает ручей.
Андрей взял топор, шагнул в сторону.
— Жаль, дорогу никто не проложил, — сказал Никита Иллюх.
— Выберемся.
— Верно, раз уж залезли в такую пущу.
— Давайте лучше приступим к делу, чтобы к вечеру вернуться домой, — предложил Андрей. — По два бревна на телегу — и хватит… Дядя Никита, — обратился он к Иллюху, — идите-ка сюда.
Андрей уже облюбовал сосенку-сорокалетку («Надвое распилить, как раз на стропила»), подрубил ее, чтобы легла именно в ту сторону, где меньше зарослей.
— Какая же красавица! — залюбовался Иллюх. — Ровна-ровнехонька…
— К солнцу тянется, вот и вытянулась, — улыбнулся Андрей.
— К солнцу. Всё к нему тянется. И мы, грешные.
Вокруг уже звонко стучали топоры, вгрызаясь в тугие от сока и холода стволы, шуршали пилы. Запахло смоляным духом, подтаявшим снегом, бодрящей свежестью.
— Давай-ка побыстрее, бригадир, а то нас уже обгоняют, — торопил Андрей своего задумчивого напарника.
— Ну, с богом. — Иллюх нагнулся, приладил пилу. — Только ты того, не спеши.
Пила скользнула, разрезала медно-желтую, молодую еще кору, жадно впилась в тугую древесину. После нескольких недружных рывков движения напарников стали плавными, на сизоватый снег ровными струйками посыпались с двух сторон золотистые опилки. Вот их стало меньше, пила пошла свободнее, легче.
— Хорошо, — сказал Андрей, — вынимайте пилу.
Он отступил на шаг, уперся плечом в дерево, склоняя его на подрубленное место. Сосна не поддавалась. На помощь подошел Иллюх, вдвоем они сдвинули ее — верхушка дрогнула, задрожала, ствол нехотя покачнулся и вдруг, с разгона, хрустя ветвями, сучьями, рухнул на землю.
Все еще любуясь сосной, Никита причмокнул:
— Хороша…
— Ветки давайте сюда! — кричали им издалека, где уже брызгал искрами веселый костер.
— Тащите, если хотите погреться, — сказал Андрей Иллюху. — А я тем временем другую подрублю.
Никита взял охапку свежих — еще пахнущих небом и близкой весной — веток, поволок к костру.
…Часа через два они уложили дерево на подводах, и пока его там увязывали и закрепляли, Андрей отошел в заросли. Здесь было тихо, безлюдно, даже жутковато. С западной стороны пригорок обрывался, внизу, совсем неподалеку отсюда, на ручейке, виднелась небольшая запруда.
Андрей издавна любил такие места. Летом, в знойную пору, здесь всегда прохладно, можно напиться, умыться, послушать журчание ручейка, который, натолкнувшись на преграду, прыгает через нее, радуется своей шаловливости. «Постой! — вдруг мелькнула мысль. — Ведь должны уже быть подснежники… а может, и сон… Марийка их так любит». Андрей шарил глазами по подгорью, спускаясь все ниже и ниже. Лучи падали сюда почти под прямым углом, под прикрытием деревьев было тепло, даже душновато.
Убедившись, что сон-зелья нет, Андрей сошел ниже — подснежники любят именно такие низинки. Ручей делал небольшое колено, и на полуостровке, на пригретой солнцем проталине, Андрей сразу заметил цветочки. Маленькие, нежные, они казались чудом среди могучих сосен, нагромождений корней, сломанных бурями и уже подгнивших стволов, прошлогодней листвы.
— Какие же вы, право… — произнес вслух Андрей.
Он не сказал ни «красивые», ни «чудесные», не нашел слов, чтобы определить свой восторг, да и слов, даже самых лучших, наверное, было бы здесь мало.
Вдруг его взгляд упал на чей-то след. Да, да, на человеческий след, оставленный на заплатке недотаявшего снега. Один, другой… Вон там, где проталинка, он обрывается, а потом снова, снова… Видно, недавний, потому что оттепель еще не разрушила, не смыла его совсем.
Казалось бы, ничего удивительного. След, да и только. Разве мало их здесь, в лесу, человеческих, звериных, даже птичьих. За свою не больно-то и долгую жизнь Андрей научился различать их. Вон тот, лапчатый, похожий на собачий, на самом деле — волчий: он и покрупнее, и расстояние между передней и задней ступней большее, и… вообще собака редко одна в лес побежит, тем более в такую глушь; ну а мелкий, размашистый — это заячий; короткий, будто с помелом посередине — лисий; дикий кабан выдает себя сразу: под каждым дубом разрыто, вытоптано, будто там черти дрались; лосиный и вовсе приметный — копыта, будто у коровы…
Этот — человеческий… Хождение по партизанским тропам научило Андрея различать и такие. Одно дело, когда человек идет просто, не боясь, и совсем другое — когда прячется, пытается быть незамеченным. В этом, другом, случае, и походка какая-то неопределенная, украдчивая, будто бы то, что таится в душе человека, движет им, направляет его шаг, врезается в след.
Андрей миновал затененный уголок и в другом месте, на большом лоскуте нетронутого снега, вновь увидел следы. Они вели вниз, в лощину, черневшую обнаженным ольшаником. Туда же, перепрыгнув запруду, весело бежал ручеек. Идти дальше не было смысла. Андрей постоял, прислушался — лес молчал, только позади слышалось тихое конское пофыркивание. «Пора возвращаться», — подумал Андрей и, цепляясь за кусты, начал взбираться вверх.
V
Юзек бежал долго, страх гнал его вперед и вперед — пусть в неизвестность, в безвесть, лишь бы только подальше от этого фатального места. Он не знает и, видимо, никогда не узнает, что случилось с его сообщниками, — внезапная смерть их настигла или же их задержали, он лишь заметил, как к опушке, на которую они должны были приземлиться, бежали вооруженные люди… Наверняка «ястребки»[18], потому что ничье иное присутствие не предполагалось, никто не должен был их ни встречать, ни сопровождать, — скрытность и еще раз скрытность… К добру или к беде, что он сейчас не там, не со всеми, что произошла у него краткая заминка с парашютом? Всего какая-нибудь минута, а самолет вышел из квадрата, отнес его в сторону, и вот… Юзек остановился, перевел дыхание, оперся взмокшей спиной о ствол, передохнул, вслушиваясь в настороженную предутреннюю тишину. Скоро ли наступит рассвет? Поднес к глазам трофейные часы — в соответствии с легендой, он офицер, капитан Советской Армии, служит в Венгрии, в связи с тяжелой болезнью отца (об этом было даже документальное подтверждение — телеграмма) получил краткосрочный отпуск и добирается к своим на Житомирщину, следовательно, наличие такой вещи не должно вызывать ни малейшего подозрения — стрелки на фосфорном циферблате будто сцепились около цифры «6». Часа через два рассвет, хорошо, если сразу не обнаружат его следов. Не признается ли кто-нибудь из задержанных, что не все пойманы? А ведь будут спрашивать. «Ястребки» — народ опытный. Это видно даже оттуда, с той стороны, — не первую группу сбрасывали, не первая и проваливалась, если не сразу, то спустя некоторое время. Да и предостерегали в спецшколе, чтобы вели себя осторожно, не забывали об опасности.
Поначалу их готовили к весне, к теплому времени, зимой вообще групповых десантов почти не практиковалось, а тут произошло непредвиденное — что именно, никто из них толком не знает, может только догадываться, — и им предложено было…
Неподалеку что-то хрустнуло, Юзек встрепенулся, прижался к стволу, но треск сразу же затих, видимо, отломалась и упала сухая ветка, и он успокоился… Пся крев! Им предложена была эта предвесенняя прогулка. «Неожиданность, господа, — надежный гарант вашего успеха! Вас ждут, — шеф так и сказал, даже не поправился! — летом, с теплом, и вы будто снег на голову… Хе-хе!..» Какой отвратительный у него смешок! Кажется, ничто так не выводило Юзека из душевного равновесия, как это «хе-хе!». Чванливое лицо, маленькие усики, острые, пронзительные глаза… Шеф! Так принято было называть… С одинаковым успехом ему, кажется, подходила бы роль администратора публичного дома и циркового клоуна! Да, да! Парик, грим, полосатые шаровары, измятый котелок на голову — и — але, оп! Аплодисменты обеспечены.
Однако — поскорее отсюда! Инструкция велит: в случае разоблачения немедленно уходить подальше от места высадки. А куда? Неподалеку от опушки, где они должны были приземляться и откуда должны были начинать свой дальнейший путь на явку, — железнодорожная станция Стрый. Его отнесло, кажется, на север. Да если бы и не отнесло, станция сейчас — западня. От нее необходимо убегать как можно дальше. Здесь немало автомобильных дорог: на Львов, Борислав, Дрогобыч… На какую-нибудь из них непременно нужно попасть. Как можно скорее! Пока там не спохватились, узнав, что пойманы не все.
Юзек четко увидел — будто она в самом деле была перед ним — подсвеченную на специальном стенде карту северо-западной части Станиславщины. Отсюда, чтобы попасть на дорогу, надлежало двигаться на восток. Не в сторону нефтепромыслов, как предполагал, а совсем в другую. Сначала спрятаться, затеряться, а уж потом…
Предутренний морозец очистил небо, согнал с него серебристую пелену облачков, и он долго искал на нем Полярную звезду, чтобы сориентироваться. Звезды уже померкли, склонившись над лесом, будто выискивали там места, где можно было бы отдохнуть до следующей ночи.
Подхватив чемодан (он с превеликим удовольствием бросил бы его в кусты, все равно ведь в нем ничего, кроме «сухого пайка», некоторых необходимых вещей и нескольких для отвода глаз — брошюр), Юзек с трудом оторвался от ствола, двинулся дальше. Идти было трудно, ноги утопали в мокром, все же кое-где глубоковатом снегу, полы шинели болтались — казалось, хватали за колени, удерживали. Странно, до сих пор он этого не ощущал. Бежал, будто не было ни этой одежды, ни чемодана. Еще бы! Наверное, не менее часа пробирается лесом, черти б его побрали!
Густолесье постепенно становилось реже, и он как только мог заспешил. Надежда, что где-то поблизости дорога, стремление как можно скорее выбраться из этой зеленой осады, где каждый куст, каждый ствол кажется притаившимся стрелком, гнали Юзека навстречу еще большей неизвестности, еще большему страху. Он проваливался в снег, спотыкался, мысленно матерился, однако шел, проламывался среди ветвей, будто загнанный вепрь, инстинкт самосохранения овладел им полностью. Он уже не думал ни о миссии, позвавшей его в этот ранний и смертельно опасный путь, ни о тех, с кем недавно сидел в самолете и кто, наверное, ежится сейчас под хищными стволами чужих автоматов, даже шеф, которого он только что поносил последними словами, словно бы выветрился из памяти.
Юзек поскользнулся, упал на бок, какой-то миг лежал, прислушиваясь, и, ничего нового не уловив в ночной стылости леса, хотел было встать, как вдруг краем уха поймал нечто подобное гулу мотора. Он притих, напряг слух — похоже, неподалеку дорога. Сильнее застучало в висках, к горлу подкатил и застыл, прерывая дыхание, давящий клубок волнения — не то радостного, не то еще более гнетущего. Только теперь, когда подошел к дороге, подумал, что она и спасительница, и вполне реальная гибель. Каждый водитель, которого он осмелится остановить, может преспокойно передать его патрулю, милиционеру или просто активисту.
Мысль возникла так неожиданно, что он, еще минуту назад прорывавшийся к дороге, умолявший всех святых и саму матку боску поскорее вывести его туда, вдруг остановился. Что ж, пане Юзек? Вот вам дорога, идите, ступайте… Чувство, пришедшее на смену прежнему, казалось, парализовало, он боялся пошевельнуться, ступить шаг и таким образом обнаружить себя.
Все же, преодолев страх, прошел еще несколько десятков метров. Внизу, за кустистым редколесьем, серела дорога. Машин в эту раннюю пору почти не было, но вот-вот они должны появиться. «Надо подойти к какому-нибудь пункту, какому-нибудь жилищу, — подумал Юзек. — Ни в коем случае не высовываться из лесу, это сразу вызовет подозрение». Однако пробираться лесом уже не было сил, и он, поправив пояс, подтянулся, осторожно ступил на шоссе.
Машин не попадалось. Юзек прошел с километр — ни встречной, ни попутной. Это и успокаивало, и вызывало недовольство — не может же он пешком преодолевать эти расстояния!.. Но вот впереди сначала едва забрезжили, потом стали более четкими два огонька, они быстро приближались, и Юзек инстинктивно отпрянул на обочину, притаился за ореховым кустом. Автомобиль пронесся мимо, оставив едкий запах бензина, Юзек сразу узнал в нем американский «додж» и понял, что нынче ему повезло, что сейчас он сам себя спас, не подняв руку, потому что такими машинами пользуются главным образом военные. Он вообще считал целесообразным держаться в сторонке от легковых машин — угадывать их по гулу мотора должен уметь каждый разведчик.
Но куда же двигаться? В какую сторону? Что на восток — понятно, однако дорога петляет, по ней не определишь… Вдруг его осенило. «Утренний транспорт идет в основном в город, на железнодорожные станции, а вечерний — обратно», — вспомнилось из того, чему их обучали. Следовательно, необходимо дождаться утра, ведь уже недолго.
Но долгое блуждание, пережитый страх и неопределенность изнурили, казалось, крепкий, натренированный организм, он просил передышки, хотя бы частичного восполнения сил, и Юзек, свернув на какую-то колею, ведущую в глубину леса, достал из чемодана плитку шоколада и по кусочку, не разжевывая, проглотил его.
Было уже около восьми утра. С момента их высадки прошло четыре часа. Если бы все обошлось спокойно, они уже должны были бы оставить зону приземления, собраться в условленном месте, в зависимости от обстановки выработать план действия. А так… на всякий случай у него есть явка, каждому из них даны адрес, пароль, которыми надлежит воспользоваться в крайнем случае. «Станислав, Верховинская, 7-а. Здесь проживает пан Румер? Ответ: пан Румер полтора года назад умер», — это он помнил. Но… но ни на какую явку он сейчас не пойдет, это бессмысленно, все они, эти связные, как свидетельствуют тщательно скрываемые от них руководством школы доказательства, на учете и рано или поздно способствуют провалу. Нет дураков, пан «Хе-хе!». Вы свое сделали, теперь дело за нами, собственно за мной. Те, пойманные, уже, наверное, дают показания. И хотя основные сведения относительно характера задания у него, руководителя группы, все же каждый из участников кое-что знает, секретность намерения, по сути, утрачена. А если так, действовать нужно в зависимости от обстоятельств.
Он только теперь заметил, что свернул на просеку, что дорога сюда более или менее накатана, колея свежая, значит, где-то там возможно хозяйство, даже военные. Во всяком случае, болтаться здесь и все время шарахаться от всего живого — наверное, не меньше риска, чем в попытке остановить машину. Из двух опасностей нужно выбрать одну.
…Кажется, ему повезло. Водитель лесовоза, который он вскоре остановил, без лишних расспросов подвез его до околицы Дрогобыча, до деревообделочного завода, а оттуда автобусом Юзек без каких-либо приключений в полдень добрался до Львова.
Теперь надлежало… Впрочем, не так просто было определить, что именно надлежало делать теперь. Там, в лесу, он знал, что должен непременно и как можно скорее выбраться из него, попасть к людям, затеряться в массе, а ныне… Львовскими адресами их не обеспечили, придется действовать по собственному усмотрению. Но без торопливости. Опыт, даже не такого рода, а обыкновенный, житейский, обретенный, правда, в условиях войны, отрицал всякую суету, которая непременно приводит к неосмотрительности.
Путник отдался воле шумной вокзальной толпы. На дворе было прохладно, каждый стремился в помещение, в дверях постоянная давка — людской поток занес Юзека в середину и, рассыпавшись во все стороны, оставил посреди просторного зала. До войны Юзеку приходилось бывать здесь не раз, он хорошо знал расположение привокзальных служб, поэтому сразу направился к билетным кассам. Конечно же ему необходимо обменять «воинское требование» на проездной билет. Это будет пока единственный настоящий советский документ.
У военной кассы ждали десятка полтора мужчин. Сдерживая волнение, Юзек подошел, занял очередь. Чемодан он нарочито небрежно поставил к стене.
— Смотрите, товарищ капитан, как бы не «уплыл», — дружески улыбнулся молоденький лейтенант, стоявший впереди. — Тут всякий люд шатается…
— Пустое, — в тон ему ответил Юзек, в душе радуясь доброжелательности военного и — еще больше — тому, что его приняли за своего. Продолжать разговор он не стал, чтобы какой-нибудь оплошностью не вызвать к себе излишнего любопытства.
Через полчаса он уже был у окошка, за которым сидела немолодая уже, седоватая женщина и стояли все ее нехитрые кассирские приспособления: шкафчик с маленькими полочками, компостер, стол, чернильница… Юзек всматривался в эти вещи, быстрые женские руки, привычно делавшие свое дело, чтобы немного прийти в себя, избавиться от назойливых мыслей, от которых его бросало то в жар, то в холод. Первая попытка! Первый официальный контакт!.. От того, как он сработает, в значительной мере будет зависеть все дальнейшее, будет зависеть его судьба. Бумаги им выдали вчера, он изучил их досконально, кажется, там все чисто, все в порядке, а впрочем…
— Вам через Шепетовку или Здолбунов?.. Товарищ капитан?
— Да, да… — заторопился Юзек. — Мне в Житомир.
— Вас спрашивают — через Шепетовку или Здолбунов? — раздался позади простуженный голос.
— Через Здолбунов, разумеется, — бросил Юзек, чувствуя, как мурашки бегут по коже.
— Почему — разумеется? Через Шепетовку прямее. Сразу видно — нездешний.
Юзек сделал вид, что не слышит, не прислушивается к комментариям, а сам чуть не дрожал от этих слов, боялся оглянуться, чтобы глазами, всем своим видом не выдать замешательства. Езус-Мария! Почему он такой пугливый? Ведь не на каникулы же собрался… Хорошо еще, что женщина, кассирша, не придирается… Кажется, пронесло… Трясущейся рукой взял бумажки, нагнулся, подхватил чемодан и, делая вид, будто рассматривает билет, заторопился от кассы. Однако направился не в военный зал — подальше, подальше от этих ко всему внимательных, любопытных, кажется, еще с отблеском полыхающих атак в глазах людей! В гущу, в самый что ни на есть центр этого водоворота! Пускай крутит, поглощает, прячет в себе, лишь бы не прямые, сверлящие душу чьи-то взгляды.
Вокзал бурлил. Гражданские, военные, демобилизованные, не снявшие еще шинелей и бушлатов, железнодорожники, крестьяне и городской люд, с чемоданами, вещмешками, котомками и просто без них — все приготовились в дорогу, близкую и далекую. Кто сидел, кто ходил, кто выстаивал возле буфетов, расположенных по углам и распространявших запахи котлет, бутербродов и чая. Проходя мимо буфета, Юзек вдруг почувствовал, что голоден, что у него давно уже сосет под ложечкой, и повернул к нему. Здесь было просторно, не то что у касс.
— Котлету, хлеба и чаю, — попросил он.
— А командировочных, товарищ капитан? Сто или полтораста? — спросила лукаво буфетчица.
— Нет! — твердо сказал Юзек. — Не положено.
Столов, где можно было бы сидя перекусить, железнодорожное ведомство не предусмотрело, каждый устраивался по-своему. Юзек протиснулся к широкому подоконнику, где уже стояло несколько человек, и торопливо съел нехитрый дорожный харч.
— Стаканчик, товарищ капитан, — снова обратилась к нему буфетчица, едва он успел допить прозрачный, бог весть когда заваренный чай. — Сюда, сюда. — Видя, что ее не понимают, добавила: — Уборщицы у нас нет.
Он покорно отнес ей стакан, поблагодарил, хотя в душе и возмутился.
Еда, удача с билетом немного успокоили Юзека, уравновесили его настроение. В конце концов, черт побери, может, он и выпутается! Кому придет в голову заподозрить в нем чужеземца, который тайно проник с недобрыми намерениями? Мало ли вот таких капитанов, майоров, лейтенантов? Что у него, на лбу написано, кто он и каковы его намерения?..
До отхода поезда еще было время, и Юзек — дышать застоявшимся воздухом ему надоело! — направился в небольшой привокзальный сквер. Безлюдный, неуютный в эту предвесеннюю пору, он никого не привлекал, и Юзеку было даже приятно это одиночество. Он нашел чистую скамью, поставил чемодан и впервые за весь нынешний день свободно откинулся на спинку. Закурить бы — в самый раз, да вот уже шесть лет, как он по требованию врачей лишил себя этого удовольствия. В сорок четвертом, когда отступали, схватил воспаление легких, и с тех пор… Впрочем, при нынешнем занятии курение и мешало бы.
…Был полдень, громкоговоритель, висевший рядом на столбе, передавал последние известия. Мужской и мелодичный женский голоса (к ним он привык еще там, в школе, — прослушивание советского радио входило в программу подготовки) поочередно информировали о наиболее значительных событиях в стране и за рубежом. Южные районы Украины начинают весенний сев; вступила в строй третья шахта Львовско-Волынского угольного бассейна; США наращивают военный атомный потенциал; ожесточенные бои в Долине Кувшинок… Ничего особенного. Мир крутится, что-то срывается с орбиты, летит вверх тормашками, другое становится на его место.
Передача, казалось, закончилась, громкоговоритель на какой-то миг притих, и Юзек уже было перестал к нему прислушиваться, как вдруг тот заговорил снова. На этот раз диктор обращался к гражданам города и области. На этих днях, сообщал он, органами государственной безопасности во время операции неподалеку от Львова обезврежен заклятый враг украинского народа, один из заправил так называемого центрального провода ОУНа — Организации украинских националистов — Роман Шухевич (Тарас Чупринка)… Впрочем, кто такой Шухевич, Юзек знал прекрасно, в сорок третьем они встречались на Волыни — его ошеломило само сообщение, сам факт…
Пугливо оглянулся, будто следом за этим должно было прозвучать его имя, имя Юзефа Чарнецкого, который за свои поступки в прошлом и настоящем тоже заслуживает наказания. Но все было как и прежде: на железной дороге перекликались паровозы, возле вокзала толпились люди, где-то в голых ветвях пищала синица, вокруг все дышало весной. Однако сидеть больше он не мог, его вдруг залихорадило, и, чтобы прийти в себя, Юзек резко встал и направился к выходу из скверика.
VI
Рабочий день Мирославы заканчивался поздно, около девяти вечера. К этому времени несколько переоборудованных под автобусы стареньких «газонов», соединявших Копань с недалекими селами и райцентрами, уже стояли в гараже или возвращались, людей на станции становилось совсем мало, рейсовые пассажиры, которые могли прибыть и в полночь, буфетом не пользовались, потому сидеть дольше не было никакого смысла.
Мирослава заперла буфет, взяла на «контрольку» двери, попрощалась с дежурным диспетчером и вышла.
Вечер стоял тихий, теплый, какой бывает только ранней весной, на переломе зимы, когда днем журчат, гомонят ручейки, а с заходом солнца примерзает, стягивает, приятно потрескивает под ногами тоненьким ледком. После восьмичасового стука, гомона, многолюдья хорошо в одиночестве пройти по опустевшей улице мимо старого парка, где всегда копошится в ветвях воронье. Кажется, не только грудь наполняется бодрой свежестью — все тело, до мельчайшей клеточки, впитывает в себя благодать, становится более упругим, сильным, легким. И ноги не такие онемевшие, и мысль яснее. Хотя особых причин для радости и нет, но все же… Человек живет — надеется, без надежды он не может. Глядишь, и у них наладится, и они станут как другие, как все. Сколько вон таких, для которых, казалось, не будет места в этой жизни, пришли, повинились, и ничего…
Открывая калитку, Мирослава вдруг увидела между деревьями метнувшуюся тень. Она замерла, не решаясь ступить дальше. Однако никто не появлялся, и Мирослава подумала, что ей просто примерещилось. Но стоило ей пройти несколько шагов по двору, как дорогу преградил незнакомец.
— Ой! — Мирослава отпрянула.
— Тише, — предостерег неизвестный.
— Кто вы? Что вам нужно?
— Может, пригласите в дом, там поговорим?
— Я вас не знаю и… — Мирослава оглянулась в надежде, что кто-нибудь появится на улице, однако никого там не увидела, отступила назад, но незнакомый цепко схватил ее за рукав. — Я буду кричать, — добавила она угрожающе.
— Езус-Мария, — горячим шепотом предостерег ночной гость. — Не делайте глупостей, пошли в хату.
— Кто вы? С какой стати я должна вести вас к себе?
Настойчивость, загадочность незнакомца, наконец, его назойливое стремление придать этой встрече таинственность свидетельствовали, что перед нею по крайней мере не грабитель, не насильник, и это немного сняло напряжение, Мирослава заговорила свободнее.
— Что вам нужно?
— Несколько дней я выслеживаю вас, — приглушенно сказал пришелец, — вы Мирослава.
— Ну и что же?
— Мне крайне необходимо с вами поговорить.
— Так приходите днем.
— Павлова Мирослава, — с ударением, будто последний козырь, бросил незнакомец.
Женщина вздрогнула. На лице непрошеного гостя увидела радость. Он рад, что встретил… Но кто же он, кто? Не провоцирует ли ее?
— Была… Павлова, — задумчиво промолвила Мирослава. — Что же из этого?
— Я непременно должен с ним встретиться.
— Встречайтесь. Разве я знаю, где он… — Но слова ее звучали неубедительно. Это почувствовали оба, она и он. И теперь говорить надлежало ей, впрочем, не говорить, действовать. Поняла: он пришел не для того, чтобы лишь увидеть ее, и так просто не уйдет. — Хорошо, — сказала после короткой паузы, — допустим, я приглашу вас в дом, выслушаю, что дальше?
— Там будет видно, — с удовлетворением в голосе сказал он.
Не говоря ни слова, Мирослава отступила в сторону, обошла гостя и уже без страха, не оглядываясь, направилась в дом.
— Не беспокойтесь, на ночлег не буду проситься, — заметил гость, когда дверь закрылась.
Женщина молча поставила сумку, нащупала коробку спичек, зажгла лампу, сняла пальто.
— Что же вы, проходите, — предложила, видя, что незнакомец все еще топчется у порога. — Садитесь.
Заметила: боится. Чем она с ним свободнее, тем больше у него опасения, настороженности. Сознание этого прибавляло смелости Мирославе. Поправляя волосы, она посмотрела на гостя, однако тускло освещенное керосиновой лампой лицо ничего нового ей не открыло. Возможно, когда-нибудь и в самом деле видела, разве мало встречалось да и встречается разных людей на ее пути?
— Погасите свет.
— Вот так раз! — удивилась Мирослава. — Все знают, что я в эту пору возвращаюсь с работы. А если вас кто-нибудь видел? — Все же переставила лампу, прикрутила фитиль, застыла в ожидании.
Мужчина прошел, сел в простенке между окнами, расстегнулся, шапку положил рядом.
— Неужели не узнаете? — спросил. — В Бережанах…
Бережаны… Господи! Как можно забыть?! Небольшое польское сельцо под Камень-Каширском. Павел привез ее туда после долгой разлуки, после своего бегства из карательного отряда… Что это были за дни! Какое-то озерцо, густо заросшее камышом, старенькая крипа, на которой они днем плавали, ловили рыбу или же ласкали друг друга в тихих заводях… Павел говорил тогда, что бросит все, пересидит где-нибудь заваруху, а потом они уедут, заживут совсем по-другому. А потом… потом появился он, вот этот, — кажется, он из одного с Павлом села, и служили они, кажется, вместе в Войске Польском, — появился, и все пошло по-иному… Бережаны…
Ее молчание сказало ему очень много. Юзек понял, что женщина вспомнила и Бережаны, и его, и то, чем они тогда занимались.
— Так вот, — как бы подводя итоги, сказал он, — могу лишь добавить: я — Юзеф Чарнецкий, и мне крайне необходимо встретиться с Павлом.
— Но помилуй бог! — взмолилась Мирослава. — Почему вы считаете, что он здесь? Я не видела его с тех пор, как…
— Зачем эта игра? — прервал ее Юзек. — За кордоном Павла нет, он не пошел в отступление, сказал, что остается здесь. А если так — вы не могли не видеться… Павел нужен мне для дела… Постарайтесь вспомнить.
«Господи, — молилась Мирослава, — защити меня. Откуда он взялся, этот Юзек? Казалось бы, затихло все, Павлик вот-вот должен бы выйти… что ему сказать? Не к добру будет эта их встреча».
Будто угадывая ее мысли, Юзек заговорил:
— Я понимаю, предосторожность — превыше всего. Подумайте, встреча необходима, но не обязательно сегодня, сейчас же. — При этих словах он встал, свет выхватил из сумерек давно не чищенные, вытертые яловые сапоги, по-ночному сгорбленную фигуру. — Зайду на днях, — добавил он и, сделав шаг, остановился. — Хотя… думаю, места не пересижу. Куда же идти на ночь глядя? Да, наверное, и вам страшновато одной, а?
Мирослава не ответила. То, чего она боялась больше всего, что отвращала молитвами и просьбами, неожиданно предстало перед ней снова. Но ни возразить ему, ни оказать сопротивления она не могла.
…Павел Жилюк в самом деле никуда с Волыни не ушел. После побега из карательного отряда оуновцев он некоторое время отсиживался у дальних родичей в Бережанах, ни с кем не встречаясь, никому ничего не говоря о себе. Единственным его желанием было найти Мирославу, которую так неосмотрительно потерял на путаных своих дорогах, найти, забраться куда-то в глушь, хотя бы в те же Бережаны, и будь оно все трижды проклято. Несколько лет мотается он из угла в угол своего края, а какого-то приличного конца все еще не видно. Как был отщепенцем, так и остался им. Одно лишь утешение, что от пули словно заговорен — не берет его. Лишь однажды попыталась, клюнула, да и то слегка, так себе, будто для острастки. Будто мать лозиной стегнула непослушного сына.
Мирославу он вскоре нашел в Копани. Старенькая полька, у которой когда-то жила девушка и куда наведывалась в надежде хоть что-нибудь узнать о Павле, свела их в одну из летних ночей. Что это была за радость! Будет ли у него когда-нибудь еще такая? По железной дороге громыхали поезда, небо разрывалось от ночного и дневного гула, вокруг шла война, а они будто вдруг унеслись из всего этого. Мир словно бы расступился перед ними, заглушил все страшные свои голоса, оставив лишь птичьи, зелено-шумные, как легкое дуновение летнего ветерка.
Павел привез ее, свою суженую, в Бережаны, спрятался от недобрых глаз. Была осень, золотая полесская пора. Подворье Жилюковых родичей огородами и берегами выходило в лес, где всегда можно было набрать опят, побродить, передохнуть. Сельцо лежало вдали от торных дорог, немцы редко сюда заглядывали — действовали через местных старост, партизан тоже больше интересовали узлы коммуникаций, где можно пустить под откос эшелон, разгромить склад или карательный отряд.
Чтобы даром не есть чужой хлеб и не мозолить чьих-то глаз, Павел с утра брал косу, шел на дальние болотца, косил поздние, прихваченные первым холодком отавы. Просилась с ним и Мирослава. Брала грабли, узелок с краюшкой хлеба, молоко, вареные яйца и еще что бог послал и спешила за ним, широко шагавшим в предчувствии работы.
— Не спеши, Павлуша, — просила, когда он, углубленный в свои мысли, прибавлял шагу.
— Разве я спешу? — удивляется Павел. — Само собой так получается… А ты привыкай, привыкай. Это в городе можно так себе, с холодком, а в селе ходят быстро.
До полудня косили, гребли, выносили траву и растряхивали, чтобы сохла, а сами, примостившись под деревом, полдничали. На душистой, настоянной на луговых, лесных и еще бог весть каких ароматах траве Мирослава расстилала рушник, раскладывала еду, звала любимого. Не раз удивлялась странной перемене в его поведении. Казалось, что это не он, не тот, который ласкал ее ночью, — какая-то холодность, осмотрительность, замкнутость владела им днем. «Не удивляйся, дитя мое, — успокаивала ее тетка Харита, Павлова родичка, — все они одинаковы. Когда чего-нибудь нужно, ласковый, хоть к ране прикладывай, а так — слова доброго не промолвит». «Но Павел не такой, не такой!» — твердила себе Мирослава и радовалась, тайком посматривая на него, длинного, неуклюжего, вспоминала прошлое и совсем недавнее, когда он в самом деле… Впрочем, это было раньше, тогда он изредка наезжал в Копань и старая полька на целый день оставляла их наедине. После было ранение, была долгая их разлука… Видимо, все это нелегко ложится на сердце, давит, гнетет… На уговоры, на просьбы не поддается, сердится, когда кто-то пытается заглянуть в душу…
Наработавшись, под вечер возвращались в село. Со стороны берега входили на подворье, Павел цеплял косу за ветку старой полуусохшей груши, умывался, расспрашивал тетку Хариту — как тут и что. Мирослава помогала старухе по хозяйству, а потом снова, как это уже было много-много раз, наступала ночь, и он снова возвращался к ней всей душой, становился тем, давним Павлушей, которого она полюбила и без которого, наверное, уже не может. «Господи, — шептала она в темноте, обнимая Павла, — почему так устроено на этом свете? Люди как люди, а воюют, убивают друг друга. Разве нельзя жить по-другому, в мире и согласии?»
Павел слушал ее, прижимая к горячей груди. «В мире и согласии…» Эгей-гей! Так и ему казалось — когда был пастухом, когда вспугивал на озерах диких уток, пока не оказался в этом страшном водовороте. А теперь… Нет, Мирослава, согласие уже невозможно. Ведь была осень тридцать девятого, были леса, разведшкола в Нейгамере… и сорок первый, фашистский батальон «Нахтигаль», в котором он служил, Вулецкие холмы, где они расстреливали активистов… Был, Мирослава, отщепенец, «дичак», как назвал его один профессор, которого они арестовывали во Львове. И никуда от этого не денешься, как ни старайся. Все это стоит, подобно туману над рекой, который так просто не развеешь. Нужна буря, грозная буря, чтобы смела, очистила, проложила дорогу новому. Кажется, она уже идет, надвигается, дыхание ее становится все сильнее, но… дождется ли он ее, а если дождется, то принесет ли она ему мир и согласие? Вот, милая, каковы наши дела. Не все тебе известно, не все тебе нужно знать. Счастье твое покамест тебе не изменило, живи им и наслаждайся, а там… Двум смертям не бывать — одной не миновать.
В один из вечеров, когда Павел, возвратившись из лесу (решил заготовить на зиму дровишек), умывался, в хату ввалились трое неизвестных и потребовали, чтобы он немедленно шел с ними в гмину — сельскую управу. Рыская по Волыни, Павел не раз сталкивался с аковцами[19], в контакты с ними не вступал, но, как бывший во́як Войска Польского, не избегал случая заявить об этом. Дескать, я вроде бы свой. А если учесть, что стычки между определенной частью польских и украинских жителей, которые заканчивались кровопролитием, случались нередко, то расчет в таком поведении Павла был очевидным и заключался он, откровенно говоря, в компромиссе: не трогай меня, и я не трону.
Но одно дело — встреча с вооруженными, находящимися в отряде или хотя в небольшой группе, когда можно рассчитывать на поддержку кого-либо из них, и совсем иное — вот такая, неожиданная. Разумеется, оружие у него есть и сейчас, он мог бы воспользоваться им, однако, кажется, крайней необходимости в этом нет. Просто аковцам, которые, наверное, контролируют село и время от времени наведываются сюда, интересно знать, кто объявился на их территории. Все же, собираясь, Павел на всякий случай оделся потеплее. Мирославе велел ждать, никуда не отлучаться.
Здание бывшей гмины стояло в центре села, огороженное деревянным забором. Наверное, перед войной здесь находился сельский Совет, потому что к жилым оно не относилось, никаких других — хозяйственных — пристроек во дворе не было. Десяток коней, на которых приехали аковцы, был привязан прямо к забору.
Просторная комната, посреди которой темнел небольшой стол с одним-единственным стулом, гудела от мужских голосов. Когда Павел вошел, гомон притих, на некоторое время воцарилось напряженное молчание, затем его спросили:
— Кто такой?
Павел даже не успел заметить, кому принадлежал этот вопрос, кто из присутствующих здесь старший, — все холеные, молодые, подтянутые. Поэтому ответил ни к кому не обращаясь:
— Я поляк… ополяченный украинец.
Сказал и сам удивился собственной неискренности. Ведь понимал, что аковцы, узнав о его прошлом, не станут церемониться.
— Почему отсиживаешься? — еще строже обратились к нему.
Только теперь Павел заметил, кто задавал вопросы. Справа, у окна, выходившего во двор, стоял и пристально всматривался в него невысокий поручик. Лампа, висевшая под потолком, слабо освещала комнату, рассмотреть лицо не удавалось.
— После ранения, — промолвил Павел.
— Где ранен и когда?
— Под Львовом, пан поручик, — снова покривил душой Павел. — Тяжелое ранение. Еще в начале кампании.
— Го! — удивился офицер. — Где же был столько времени?
Единожды ступив на путь лжи, Павел катился все дальше и дальше. Признайся он сейчас по правде, скажи все, как было, — не сносить головы, аковцы быстро расправляются с отрядами УПА[20]. Поэтому говори неправду, пока можно, пока тебе хоть немного верят! Либо пан, либо пропал…
— Лечился в госпитале, в Яссах, потом… бежал… сюда вот.
— Откуда сам?
— Здешний.
— Точнее.
— Из Великой Глуши, если это пану известно.
Поручик подошел ближе.
— А ну, встань к свету, — потребовал он, и Павел вышел на середину комнаты.
— Говоришь, из Глуши?
— Да, из Великой Глуши.
— Кому принадлежали ее земли?
— Графу Чарнецкому, прошу пана.
Офицер еще раз пристально посмотрел Павлу в лицо.
— Как зовешься? Фамилия?
— Жилюк. Павло Жилюк.
— Это из каких же? Не из тех, которые против моего отца, графа Чарнецкого, бунтовали?
Павел с удивлением посмотрел на поручика.
— У тебя, кажется, брат есть?
— Да.
— Коммунист?
Павел молча пожал плечами и внимательно посмотрел на офицера. Неужели это он, сын графа, как, бишь, его? Юзек, кажется, что ли? Приезжал, говорили, из самой Варшавы, устраивал развлечения… Наверное он, другого у графа не было.
— Почему молчишь? Где он сейчас?
— Разве я знаю? — спокойно ответил Павел. — Наши пути разошлись. Если вы знаете о нем, значит, должны знать о том, что я — бывший вояк Войска Польского.
— О-о! — загудело несколько голосов. — У хлопа есть голова на плечах, знает, чем крыть.
— А меня ты помнишь? — уже миролюбиво спросил поручик. — Я Юзеф Чарнецкий.
Павел отрицательно покачал головой, сказал:
— Видеть вас не видел, потому что при дворе не служил. А слышать — слышал. Знаю, что был такой.
— Был и есть, — добавил кто-то из окружения Чарнецкого, но Юзек взглянул на него так, что тот сразу же сник.
— Жаль, — продолжал начатую игру Чарнецкий, — вроде бы и сельчане, а не знаем друг друга.
— Не знаем, — согласился Павел, он все еще прислушивался, угадывая, искал позицию, на которую следовало бы стать, чтобы не ошибиться. — Вы больше находились по Варшавам, как могли мы встречаться?
— Так, говоришь, не ведаешь, где брат? — возвратился к предыдущему разговору офицер и, получив утвердительный ответ, спросил: — Долго еще собираешься сидеть в Бережанах? Кто эта паненка, которая с тобой?
— Это моя жена, — сказал Павел. — А сидеть буду… — он в самом деле не знал, что ответить, поэтому перевел на шутку, — пока будет сидеться. — И улыбнулся.
— Он, наверное, ждет прихода Советов, — бросил один из присутствующих. — Ждет, чтобы освободили его.
Чарнецкий не прервал реплику, — наверное, она отвечала и его предположениям, — он лишь выжидательно уставился на Павла.
— Я уже сказал, — обиженно молвил Павел. — Я ни с кем не ищу общности, война осточертела мне, я хочу покоя.
По углам загудели, и Павел понял, что сболтнул лишнее… В конце концов, он точно так же мог быть среди них, этих вот вояков, потому что начинал вместе с ними — тогда, в тридцать девятом, в лесах под Копанем, когда отец встретил его и стыдил, наставлял на путь истинный. Мог, если бы не отступление, не бредовая идея «самостийности», которую так настырно заложили в его сердце вожди из ОУНа. Наверное, блуждал бы где-то по Рудницким и Налиборским пущам, где ныне базируется Армия крайова, молился бы какому-нибудь другому богу, ибо, видно, судьба когда-то зло посмеялась над ним и послала не в ту сторону, не с народом, а почему-то наоборот. Теперь он уже это понимает, понял, жизнь дала ему для этого достаточно и опыта и знаний.
— Покоя, пан вояк, ниц не будет, — промолвил после недолгой паузы Чарнецкий. — Сюда идут ковпаки[21], а за ними Красная Армия.
— Но ведь… — начал было Павел, однако поручик прервал его.
— Все свободны, — обратился он к присутствующим и, когда те неторопливо вышли из помещения, закончил: — Никаких «но». Мы должны организовать отряды самообороны, не дать Советам завладеть кресами. Таков приказ Лондона. Надеюсь, тебе известно, что там наше правительство?[22]
— Да. Но я хотел сказать, пан поручик, — почувствовав, что в нем заинтересованы, немного осмелел Павел, — что немцы усиливают репрессии против местного населения, в том числе и против поляков.
— Немцы сейчас интересуют нас меньше всего, — категорично ответил Чарнецкий. — Немцам теперь не до нас, они пройдут — и все, у них свои заботы. А мы должны стать преградой, не дать Советам возможности пустить корни на наших землях. — Он взял планшет, висевший на гвоздике, вбитом в дверной косяк, достал свернутую в несколько раз газетку, подал Павлу. — Вот, возьми, «Мысль панства». Там все сказано.
Газета была сложена так, что статья, ради которой ее хранили, сразу бросалась в глаза. «Баланс четырехлетия» — увидел Павел заголовок и, подойдя ближе к свету, прочел подчеркнутое:
«До конца войны не немцы, которые покинут Польшу, будут главной военно-политической проблемой, а русские, которые наступают. И не против немцев мы должны организовывать наши главные силы, а против России… В условиях, созревших в связи с эвакуацией немцев, не может быть и речи о каком-то антинемецком восстании…»
«Так, — не отрываясь от газеты, размышлял Павел, — это уже нечто новое. Новая петля, в которую тянет меня Чарнецкий. Одной избежал, а в другую попал».
— Так как же? — спросил офицер, заметив, что Павел закончил читать и задумался. — Все ли понятно?
— Понятно, почему же, — возвращая газету, сказал Павел. — Немцев нужно выпустить, а перед большевиками выставить преграду.
— Вот-вот! Армия крайова, которая контролирует территорию так называемого генерал-губернаторства, активизирует свои действия. Немцы и русские обессилели за несколько лет войны, мы должны этим воспользоваться. На бывших окраинных землях и на Подолии созданы органы официальной власти, подчиняющиеся Лондону. Они пока еще нелегально всюду имеют влияние. С большевистской Россией нам не по пути, правительство Сикорского разорвало с ней отношения и отозвало армию генерала Андерса. Скоро она вольется в наши ряды.
То, о чем рассказывал Чарнецкий, поразило Павла. До сих пор ему было известно, что польское эмиграционное правительство поддерживало дружественные отношения с Советами и что среди красных партизан немало (целые отряды!) поляков — это знает из собственных наблюдений. Теперь, стало быть, все наоборот?..
Вера и неверие охватили душу Павла. С огромной радостью он предпочел бы и не слышать новость, не знать, ибо чувствовал: и нынче не отвертится, придется, помимо собственной воли, впрягаться и тащить по сути чужой уже, даже не свой, не «самостийный» возок… А он будет еще тяжелее! Лягут на него не только новые неминуемые грехи, но и те, которые были, от которых открещивается, пытается спрятаться.
— Я официальный представитель командования Армии крайовой на Волыни, — продолжал Чарнецкий, — Бережаны входят в мой округ. Мы ставим своей задачей объединить усилия всех патриотов, и это хорошо, что мы встретились, — улыбнулся он. — Мне давно говорили, что в Бережанах гостит неизвестный… с хорошенькой паненкой. — Офицер подошел, заглянул Павлу в глаза. — Думаю, мы договорились? Для бывшего польского вояка иного пути нет. Не так ли?
Павел промолчал. Это можно было расценивать и как согласие, и как колебание, поэтому поручик, все еще не отступая от него, спросил:
— Или, может, ты в самом деле ждешь Советов?
В голосе прозвучало ехидство, направленный на Павла острый взгляд не предвещал ничего хорошего. И Павел, словно во сне, пробормотал, что нет, конечно, с большевиками ему не по пути, об этом он уже сказал, и менять своей ориентации не имеет намерения. Чарнецкий молча выслушал его и, даже не спросив согласия, будто речь шла о чем-то совсем обычном, внезапно предложил пойти к нему, к Павлу, на ужин. От неожиданности Павел оторопел. Думалось, разговор разговором, там будет видно, что к чему, как дальше вести себя, а тут такой поворот.
За ужином, подвыпив, Чарнецкий рассказал и о том, о чем, наверное, ему не следовало бы рассказывать, тем паче при женщине. Оказывается, его отряд уже не единожды сталкивался с партизанами, нападал на их посты, базы и конечно же не церемонился с пленными и теми, кто симпатизировал большевикам…
— Мы должны доказать, что мы — сила, — стучал Юзек кулаком по столу. — Довольно скрывать свои намерения! Еще Польска не сгинела! — И пьяно шептал Павлу на ухо: — Под Копанем дислоцируется Двадцать седьмая Волынская дивизия. Дивизия! Польша фактически наша! И ничья больше. Никому мы ее не отдадим. Ни пэпээрам[23], ни людовцам[24] — никому!
Было уже позднее время, Мирослава тревожно поглядывала то на Павла, то на гостя, ворвавшегося непрошеным в их, казалось, скрытое от глаз гнездышко, он разворошил его, открыл студеным ветрам.
На прощанье Чарнецкий сказал:
— Будь наготове. Отряд отдохнет малость — и двинемся дальше.
Павел проводил офицера, а когда возвратился, застал Мирославу в слезах.
— Бежим, Павлуша. Пока не поздно, пока не втянул он тебя, бежим отсюда…
— А куда бежать? Куда? Мир разворошился, подняла его какая-то адская сила и трясет, не выпускает. Где найдешь пристанище?
— Все равно надо бежать, — жарко шептала Мирослава.
— Думаешь, они меня выпустят?
— Проберемся… Вдоль берегов, через леса…
Всю ночь не спали, охваченные печалью и тревогой, прислушивались к шуму ветра за окном в кронах деревьев, а он все «гу-у» да «гу-у» — из-за угловой стены да в дымоход, из дымохода — по хате.
— Погубит тебя этот Чарнецкий, Павлуша.
— Не Чарнецкий — жизнь. Судьбе я не понравился, Славушка, и помыкает она мною, испытывает да бьет, как ей заблагорассудится.
На следующий день, под вечер, Павел все-таки отважился на побег. В самом деле: что ему этот Чарнецкий? Кроме позора — если не внезапной смерти, — ничего больше. У него свое, так пусть и отстаивает, а ему, Павлу, уж лишь бы от беды подальше, ему бы лишь избавиться от того, что давит его, разрывает грудь, жуткими видениями приходит по ночам и бросает в холодный пот. Довольно! Пересидеть где-нибудь, спрятаться на время этой заварухи.
Тайком собрав свои вещички, прихватив немного харчей, они сказали старухе, что через день-два вернутся, и — огородами, берегами, казалось, только им одним известными тропинками подобрались к лесу. Думали — пересидят там несколько дней, пока уйдут аковцы, а потом снова заживут, как и прежде, в доме старушки. Хорошо, что Чарнецкий проговорился: бывают они в Бережанах редко, наездами, а если и узнают о нем, то вряд ли станут гоняться за каким-то там хлопом, хотя и бывшим вояком. Хватит у них и своих, целые дивизии якобы и здесь, и по всему генерал-губернаторству.
Миновав, казалось, самое опасное место, где могла быть засада, они выбрались на лесную дорогу, пошли по тропинке, вьющейся у обочины дороги, как вдруг в ложбинке их остановили.
— А-а, пан во́як! — радостно приветствовал Павла сильный, в зеленоватом плаще без погон аковец. — Куда, позвольте спросить, направляетесь? Кажется, мы принадлежим к одной группе? Так, по крайней мере, сказал сам пан поручик. Это он вас отпустил? И с паненкой?
Павел понял, что попался, что все его намерения провалились.
— Мы в соседнее село, к родным… Просили навестить.
— А если в это время сбор? — ехидно спросил аковец. — И почему вот с этим? — заметил завернутый в тряпье автомат в корзинке, которую несла Мирослава. — Ежи, — обратился аковец к напарнику, возьми-ка у него «шмайсер». — При этом он перевел свое оружие из-под мышки на живот. Держал на изготовку.
Ежи подошел, выхватил автомат из старого тряпья.
— Ого, новенький! И смазанный.
— Отведи к поручику, пускай он с ним поговорит, — приказал первый аковец. — Они вчера долгонько говорили, да, наверное, не о том, — едко улыбнулся, — не убедил его пан поручик. А ее, — смерил опытным глазом женщину, — в селе отпустишь.
«Вот и все, — подумал Павел, — Чарнецкий не простит мне этой измены, кроть його ма! Надо было подальше отойти от дороги…»
— Что же теперь, Павлуша! — заплакала Мирослава. — Проси его… Скажи, что в самом деле к родичам… А оружие, мол, для надежности, время такое…
— Попрошу.
Павел брел понуро, обдумывая, как ему все-таки увернуться из-под неминуемого удара, посматривал на конвоира; тот шел на расстоянии, не спуская с них глаз, видимо, готовый в любой миг упредить неожиданность.
Через час добрались до Бережан. Солнце уже садилось за недалеким старым лесом, подковой подступавшим к селу, бросало багровые отблески на одинокие березки вдоль улицы. С огородов тянуло терпкими дымами — то тут, то там жгли привядший бурьян и ботву. Эти запахи напомнили Павлу детство, когда они, братья Жилючата, стаскивали после уборки картофеля все, что оставалось, в кучу, жгли, раздувая, костер, а когда огонь разгорался, с визгом прыгали через него, пекли в горячей золе картошку. Воспоминания так растрогали его, что Павел остановился, оглянулся.
— Ну-ну, не дури, — по-своему понял его конвоир, тоже остановившись.
— Иди, Мирослава, — с трудом промолвил Павел, — иди домой. Ничего со мной не случится.
— Случится, — всхлипнула она. — Я сама попрошу его, не возражай, меня он скорее послушает.
— И не вздумай. Не позорь меня… Иди, я скоро вернусь.
Прикоснувшись к ее плечу, Павел словно бы отстранил жену и, опустив голову, побрел дальше, Мирослава постояла немного так, не вытирая слез, которые все время блестели в голубоватых ее глазах, пошла следом…
— Я знал, что ты будешь бежать, — встретил Павла Чарнецкий. — Больно уж уютно здесь пристроился.
Он посадил беглеца в углу, подальше от дверей, а сам принялся мерить шагами грязный, годами не мытый пол, в щелях между досками виднелась подсолнечная шелуха, лежали обугленные спички, окурки и всякий прочий мусор.
— Откуда вы взяли, пан поручик? — прикидывался наивным Павел. — Сами говорили, что даете несколько дней передышки, вот я и думал… Спросите у старухи, мы ее предупредили.
— Интуиция, — продолжал Чарнецкий. — И она меня не подвела. Так вот: я могу тебя расстрелять — в назидание другим, потому что не ты один охотник теплой печи да юбки. — Он подумал и добавил: — Но я этого не сделаю. И именно потому, что нам не менее выгодно иметь тебя, украинца, в своем отряде. Твоими руками я кое-что сделаю. Понял? А для большей надежности будешь под постоянным надзором. Мои хлопцы не промажут, в случае чего. Заруби это себе на носу. А теперь скажи все это ей, — кивнул в окно, — чтобы не торчала здесь. — Он выглянул за дверь, приказал привести Мирославу.
А через несколько дней случилось ужасное. В полдень под Бережанами вспыхнул короткий бой. Конный партизанский разъезд напоролся на засаду аковцев и почти весь погиб в перестрелке. В живых остался лишь один всадник. Конь под ним, рассказывали, был убит еще в начале стычки, партизан же, раненный в ногу, отполз в кусты, но его нашли и привели в село.
Партизан был средних лет, черночубый, курчавый, из его карманов аковцы вытряхнули медаль «За отвагу». Однако каких-нибудь документов, которые свидетельствовали бы о принадлежности к отряду или соединению, не нашли. Чарнецкий долго допрашивал раненого, его интересовала дислокация партизан, их количество и расположение баз, однако пленный ничего конкретного не сказал. Возможно, он всего этого и не знал. Чарнецкий велел расстрелять его. Экзекуция должна была произойти на глазах всего села — чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно твердости местной власти, которая отныне должна считаться единственной и законной.
Пока боевики сгоняли на площадку крестьян, Чарнецкий позвал Павла и, ехидно улыбаясь, промолвил:
— Вот и представился тебе случай доказать свою верность и преданность. Ты должен уничтожить этого советика.
Павел оторопел: чего-чего, а такого он не ждал. Пусть бой — там другое, там свои законы, а это же… перед всем селом… добивать раненого, безоружного…
— Я просил бы пана офицера лишить меня такой чести…
— Это почему же? — наигранно удивился Чарнецкий.
— Здесь моя жена…
— Ну и что? Тебе поручается почетная акция.
— Но я солдат, не палач.
— Этого требуют высшие интересы.
— Не думаю, — Павел понял, что в самом деле наступила его если не решающая, то критическая минута. И говорить, действовать он должен без страха, как это надлежит человеку в особый момент его жизни.
— Лайдак![25] — воскликнул Чарнецкий. — Ты сделаешь так, как прикажу я, иначе… — Вдруг он притих и, тяжело дыша, прохрипел Павлу в лицо: — Иначе сам ляжешь рядом с ним.
Павел не сомневался в возможности такого конца, внутренне даже приготовился его встретить — наступает же когда-то миг расплаты, должен наступить!
…Небольшой песчаный плац перед домом, где они расположились, был в Бережанах местом сходок, проводов рекрутов и всяких других сельских событий. До империалистической войны в противоположном конце площади, на пригорке, стояла деревянная церквушка, — по воскресеньям и праздникам деревенский люд собирался к ней на богомолье. Здесь всегда играла детвора… Но во время войны божий храм сгорел, отстраивать его за всякими хлопотами не пришлось, вот и обезлюдела площадь. Правда, площадь немного оживала, покрывалась веселой травкой, которая к середине лета высыхала, жухла, а осенью, если не было дождей, сметалась ветрами.
Сегодня площадь тоже не радовала глаз. Она лежала молчаливая, серая, мрачная. Силком согнанные люди прижимались к плетням и сарайчикам, скупо переговаривались, удивляясь какой-то необычной затее пана поручика.
Но когда вояки выстроились, а из помещения бывшей управы двое вооруженных вывели раненого, и — судя по всему — не своего, да как вскрикнула в толпе какая-то молодица, поняли: ныне здесь пахнет смертью. За теми тремя шел сам поручик с пистолетом в руке и еще какой-то не сельский, не бережанский, хотя и видели они его в последнее время у себя, тоже вооруженный.
— Павлуша! — кинулась к нему молодица, но ее оттолкнули.
Пленного поставили посреди плаца, в одиночестве, — двое, сопровождавшие его, отступили, давая место поручику и тому, не местному, что шел с ним.
Офицер сказал, что отныне они здесь полноправные хозяева, что бережанцы никому другому не должны подчиняться, никого другого не должны признавать, ибо все другие — это пришлые, чужаки, как вот этот, большевистский лазутчик, предатель… Затем он подтолкнул стоявшего рядом с ним, однако тот не пошевельнулся, будто оцепенел, тогда поручик ткнул его пистолетом под лопатки. Снова раздался женский крик, и автомат начал подниматься. Вот ствол его уже на уровне живота пленного, вот на миг словно бы остановился и вновь пополз выше. Площадь замерла, даже молодица уже не кричала, онемела.
— Стреляй, пся крев! — тихо, но так, что все слышали, приказывал офицер. — Считаю до трех…
— Люди добрые! Он ведь невиновен! Он ведь ничего… — Молодица все-таки прорвала заслон, спотыкаясь в песке, побежала на середину площади, где стояли трое, но ее снова перехватили, на этот раз зажали рот, оттащили.
— …Два, — будто сквозь сон, донеслось до сознания Павла, и он почувствовал, как теплая сталь пистолета все сильнее впивается под лопатку, совсем близко от сердца.
— «Три» не услышишь! — прошипел за спиной Чарнецкий.
Павел глянул в ту сторону, где билась в руках аковцев Мирослава, задержался на миг, затем перевел взгляд на искаженное от боли и мук лицо партизана и, не заметив на нем ни тени страха, мольбы, а лишь презрение и проклятье, выровнял автомат и выстрелил…
Домой он в тот день не вернулся. После расстрела отряд вскочил на коней и поскакал в лес. Павел ушел с ними.
VII
Вот какого гостя привела к Мирославе ночь. Избушка ее стояла на окраине Копаня, там, где заканчивались обычные людские жилища и начиналось царство вечности, вечный покой. Домик принадлежал когда-то кладбищенскому сторожу, но война обесценила его занятие, куда-то увела или, может, и самого положила к тем, кого он годами добросовестно оберегал. Мирослава ничего этого не знала, да и не к чему оно ей было, одинокой, неприкаянной. Старенькая полька, у которой она жила, умерла еще тогда, когда Мирослава, покинув Копань, укрывалась от отправки в Германию; домик, рассказывали, вместе с другими сгорел во время бомбежки, вот и пришлось ей искать убежище в другом месте. Избушка кладбищенского надзирателя, хотя и отпугивала необычностью своего расположения, уединенностью и неудобством, все-таки имела и некоторые — учитывая положение Мирославы — преимущества. Во-первых, никто на нее не претендовал, во-вторых, близко от автобусной станции, от работы, в-третьих…
Если бы кто-нибудь знал это «третье»!.. Господи, как же все-таки складывается жизнь у людей! Смотришь на них и, выходит, ничего не видишь… Вот и она. Всяк имеет к ней хоть небольшое дело, а кто что ведает? Кто знает, что творится у нее на душе?
С тех пор как несколько лет назад на рассвете осеннего ненастного дня прибился к ней Павел, ее жизнь словно бы раздвоилась. Днем она одна, будто обычная, а как только наступает ночь — другая. Совсем другая… Ночью появляется он, расспрашивает, сердится, становится с каждым днем все более раздражительным, непохожим на того, каким она встретила его впервые летним вечером еще в сорок первом… Она понимает — ему тяжело, невыносимо день и ночь высиживать и вылеживаться в склепе рядом… — боже, трудно даже подумать! — рядом с покойниками. Но кто в этом виноват? Разве не просила, не умоляла покаяться, пойти с повинной, сдаться… Не расстреляют ведь. Не убивают же других, которые раскаиваются… Ну засудят, отбудет срок, но потом будет жить и жить… Как же иначе? Какой-то должен быть конец? Не может же длиться вот так без конца-края…
— Пани может не бояться, — прервал ее печальные раздумья хрипловатый голос. — Я просто посижу. Ночные блуждания по городу ничего хорошего не дадут ни мне, ни вам… Поскольку я у вас был… — закончил он.
Да! да! Теперь он будет запугивать, стращать… Сказать ему, что пожалуется, заявит в милицию… Кто его знает… Начнутся допросы, волокита, и тогда…
Мирослава, не раздеваясь, забилась в уголок на кровати, закуталась в одеяло. Ночь была глухая, поздняя, на кладбище, в часовенке, перекликивались совы. Они всегда кричат в эту пору, холодят душу. Как она их ненавидит! Живет же на свете такое никчемное создание…
Сквозь стекла пробивались серые сумерки, падали на пол, на убогие вещи, на него, который, согнувшись, сидел за столом. Впрочем, не сидел, не дремал — уже спал, посапывал, время от времени вздрагивая и скрежеща зубами… Хотя бы не пришел Павел. Однако, нет. Видимо, слышал их разговор, она умышленно говорила дольше и громче, чтобы предостеречь, предупредить, что возвращается не одна, что рядом опасность, неопределенность. Слышал и притаился там, в своем укрытии, в глухой смердящей яме. Она была там однажды ночью, когда оборудовали Павлу жилье, когда решил он скрыться от людей, от грехов своих, до лучших, говорил, и не таких уже вроде далеких времен… Господи, на что он надеется?
А ночь спала, покачиваясь на заросших бурьяном руинах и пожарищах, на разбитых дорогах, кладбищенских холмиках, рассвет медленно плелся где-то по лесам да болотам. Мирославе становилось все страшнее, будто с наступлением нового дня должны были прийти к ней куда более грозные страхи…
Утром он исчез. Но предостерег, что придет, непременно навестит. Когда — не сказал, а допытываться — упаси боже! — не стала.
Мирослава зажгла ночник и быстро убрала в комнате, открыла форточку. Живая струя воздуха метнулась по закоулкам, освежила их, выгнала чужой дух, который успел, кажется, проникнуть во все щели, даже в душу. К Павлу сейчас нельзя, хотя и пора бы ему что-нибудь поесть. Время упущено из-за непрошеного гостя, теперь идти опасно. Кто знает: может, за ним, за этим пришельцем, следят? Бывает ведь так: преступник еще бродит по свету, думает — все в порядке, а по пятам у него давно уже наказание ходит.
Завтракать не стала, накинула пальтишко и уже готова была идти, как вдруг в сенях послышался шорох. Павел! Но почему?! Почему в такое время?! Ведь сам запрещает появляться в неусловленный час.
Дверь приоткрылась, однако какой-то миг никто не появлялся, и Мирослава смотрела туда, будто в пропасть, с таким ощущением, словно перед ней вот-вот должна была расступиться земля и неизвестно, что возникнет на том месте. Но возник он. В сумерках не видела лица, однако знала — серое, землистое, обрюзгшее от спанья, с пугливым и украдчивым взглядом… Что с ним стряслось?! Куда девались блеск, живая привлекательность глаз, которые всегда очаровывали ее? Где они? Кому нужны были их любовь и молодость?..
Сгорбившаяся фигура человека замерла на пороге. Убедившись в полной безопасности, Павел ступил в комнату.
Кинулась к нему встревоженная, дрожащая, обрадованная и огорченная таким его появлением, но он остановил ее предостерегающим жестом, спросил коротко:
— Кто был?
— Чарнецкий! — прошептала сдавленно. — Юзеф Чарнецкий… Ой, Павел…
— Говори тише. Что хотел, о чем допытывался?
— Тебя… к тебе… хочет встретиться. Говорит: я знаю, он здесь, он никуда не ушел…
Павел заскрежетал зубами, ругнулся.
— Кто-нибудь привел или?..
— Не знаю, Павлуша. Встретил меня у калитки на подворье…
— Гад.
— Я боюсь, Пав…
Жесткая, прокуренная ладонь грубо закрыла Мирославе уста, оборвала на полуслове.
— Я тебя предостерегал! — сердито процедил сквозь зубы Павел. — О чем договорились?
— Сказал — придет. По всему видно — скоро. Что делать, Павел? Он не отстанет.
Его грубость и нетерпимость стали привычными, поэтому Мирослава не обращала на них внимания, по-прежнему щебетала, изливала свою тревогу.
Павел прошел несколько шагов, обернулся:
— Это моя забота, что делать.
— Но и моя.
— Ты вот что: задержи его, когда появится. До рассвета. И приготовь мне сумку…
Мирослава остолбенела.
— Что ты надумал?
— Не морочь голову, — отмахнулся он от ее вопроса.
Рванулась к нему, приникла к груди, заплакала тихо, беззвучно. А он стоял немой, гневный и неспособный оттолкнуть ее, что-то шевельнулось на донышке его окаменевшей души — что-то сильное, живучее, одолеть которое он был не в состоянии.
Итак — о нем не забыли. Как и тогда, в самом начале, нужны его руки, имя. Кому понадобился он, который исчез, закопался, можно сказать, ушел с этого света… Чарнецкому? И только ему, потомку поверженных. Чего же он хочет, чего добивается?
Павел шагал по комнате, испытывая от этого огромное удовольствие, потому что там, в его укрытии, не только ходить, даже распрямиться невозможно. В коленях похрустывало, ныли мышцы, тело, которое с детских лет не знало покоя, отдыха, привыкшее к порыву, движению, казалось словно бы чужим, налитым тяжелой, непреоборимой усталостью… С каким наслаждением хлопнул бы сейчас дверями и пошел топтать старую-престарую, в лужах и в первой прозелени землю! Никогда не думал, что настанут в его жизни дни, когда душа его наполнится таким смятением, такой болью, страданием. И о чем он страдает, о чем?! Будто не проклинал ее, эту землю, в отчаянии, не поносил самыми последними словами, не позорил, да, да — не позорил! Сам виноват? Неправда! Ложь! Он хотел ее, собирался засевать, растить хлеб и детей, а она… Она сделала его «дичаком», бесплодным бродягой. Не Жилюк он, а мертвец, живой мертвец. Жилюки те, братья Степан и Андрей, он же мертвец, и его место именно там, там, на кладбище…
Дрожащими, непослушными пальцами Павел свернул цигарку, прикурил, жадно затянулся. Холера ясная! Что же дальше? Догнивать в чужом склепе, сходить с ума или, может?.. Но нет, нет! К ним он не пойдет, руки перед ними не поднимет. Хотел было — тогда, у Стецика, но не выпало, не сошлись характерами, а ныне поздно. Слишком много оказалось на его совести всякой всячины. Не простят ему, нет, не все можно простить, не все подлежит прощению. А ежели так — нет разницы, где изнывать, где гнить. Тут хоть какая-то надежда, хоть сам себе пан, хоть ворованная, скрытая, но все же свобода…
Стоял у простенка, курил, жадно вслушиваясь в предвечерний гомон. Однако не людская суета манила его, было там другое, более привлекательное, к чему он мысленно тянулся душой. Недавно на подворье хозяйства, расположенного за каменным забором, повесили громкоговоритель. Обрывки передач при тихой, безветренной погоде доносились и сюда, к могильному царству, и Павел жил этими минутами, когда удавалось таким образом о чем-то узнать. Удавалось это не всегда, со склепа радио не прослушивалось, потому, тайком пробираясь в Мирославино жилище, он замирал, затаив дыхание, прислушивался, чтобы не пропустить ни звука. В особенности, когда передавали последние известия. Все остальное интересовало мало, не приносило удовлетворения, зато каждая весть оттуда, с Запада, тем более о каких-то расхождениях между союзниками после войны, вызывала душевный трепет, вселяла надежду. Таким было сообщение об убийстве в Бескидах Кароля Сверчевского, польского национального героя, совсем недавнее, кажется, позапрошлогоднее; убийство засвидетельствовало наличие их прежнего националистического движения, потому что расправились с красным генералом хотя и бывшие, но все же его, Павла, сообщники…
Стало быть, мир бурлит, и еще неизвестно, что из этого водоворота возникнет, что родится. Советы истощены войной, народ устал, вторую такую не выдержит. Важно лишь начать.
Возле двора остановилась машина, Павел насторожился. В любой миг сюда могут прийти, в особенности теперь, когда появился и бродит где-то поблизости Чарнецкий. Однако двое мужчин, вышедшие из машины, не проявили ни малейшего интереса к избушке у старой каменной стены. Очевидно, это были водитель и его пассажир, потому что тот, первый, сразу поднял капот, начал возиться в моторе, а другой стоял, от нечего делать тоже заглядывал туда, хотя, наверное, ничего в том не смыслил.
Видимо, водителю все-таки чего-то не хватало, потому что вскоре он спрыгнул с подножки, начал посматривать на дома и, недолго раздумывая, направился во двор. Павел шмыгнул в сенцы — там, за перегородками и разным домашним хламом, у него было еще одно укрытие — и притаился. Водитель подошел, постучал в дверь, подергал ее. Звук этот громом откликался в голове, в сердце Павла. Собственно, не столько сам стук, сколько присутствие незнакомого человека. Кто знает, что у него на уме. Может, это разведка, легальный приход, чтобы изучить обстановку, рассмотреть входы и выходы на тот случай, если придется действовать, то есть брать его, Павла Жилюка, который по доброй воле не хочет прийти с повинной. Поди-ка знай их намерение!
На всякий случай Павел приготовил пистолет, притаился, весь превратился в слух. Нет, он так не дастся! Не позволит взять себя, будто загнанного зайца. Погибать — так с музыкой! На какой-то миг ему даже захотелось потягаться с судьбой, наделать шума — пусть хоть поговорят потом! — и он потихоньку вылез из укрытия, на цыпочках подкрался к окну. Но человека уже не было, он в этот момент закрывал калитку. Чувство досады охватило Павла, внезапно ему и в самом деле захотелось какого-то поединка, чтобы увериться в своих силах, в себе, убедиться, что он живет, живой, на что-то еще способный. Но волна схлынула, Павел сплюнул со зла, ругнулся, подержал на ладони оружие, будто взвешивал его, и положил в карман вытертого, посеревшего от пыли галифе.
Машина отъехала, пора было возвращаться в склеп, где безопаснее, однако Павел не торопился.
Что же радио? Время последних известий прошло, следующий выпуск будет только через два часа… На глаза ему попала газета — небольшая, двухполосная, — Павел впился в нее взглядом. «Орган политотдела МТС». Холера ясная! Они, Советы, все-таки прочно оседают в этих краях… О! «Гости из Подмосковья». Русские гостят у полещуков. Пускай у себя, на своих землях наводят порядок, а здесь и без них освятится… Но — постой! «…Председатель исполкома районного Совета… Степан Жилюк принял делегацию…» Читал — и злость, и зависть разрывали душу. «Принял делегацию»! Подумать только! Будто маршалок сейма или еще какая важная птица!..
Заметка не на шутку разволновала Павла, он отбросил газету, прошелся туда-сюда, на какое-то время словно забыв об опасности. Значит, все идет — будто так здесь всегда и было. А ведь было, было! Тогда же, до войны, кажется, были уже колхозы и в Песочном, и в Залесье, и в Вербках… Вот когда нужно было душить. А ныне… Что ныне? На собственные силы полагаться нечего, из года в год их становится все меньше, а те, оттуда, почему-то, вишь, молчат. И война не так их изнурила, однако не торопятся, предпочитают возложить все на таких вот… как Чарнецкий, как, в конечном счете, он, Павел. А какие это силы? Какая у него, к примеру, вот сейчас сила? Руки и пистолет. Нет ни командиров, ни армии. Ни Лебедя, ни Савура, ни даже меньших, здешних вожаков…
За окном пели синицы, бесновались воробьи, по-весеннему пригревало солнце, а он мерил шагами небольшую комнатку, охваченный невеселыми думами. Здесь все было знакомо: простенькая кровать, на которой, пренебрегая опасностью, любились с Мирославой, шкафчик, стол, полки для посуды… Манила сюда прежде всего она, Слава, верная его подруга. Если бы не она, кто знает, как повел бы он себя, как сложилась бы его судьба. Может, как и другие, как многие другие, драпанул бы на Запад, может был бы с теми, что в отрогах Карпат встречали Сверчевского или которые выслеживали Галана, может… А может, не будь он тогда при ней в Бережанах и из-за этого не повстречайся с аковцами, не прибавил бы к старым грехам новых — может, и решился бы выйти. Кто знает? Людские, как и божьи, пути неисповедимы.
Чем больше он углублялся в размышления, тем тяжелее, невыносимее становились они. Знал: просто так от них не отвертеться, просто так они его не покинут. Чтобы остановить, прервать их течение, Павел подошел к шкафчику, из глубины его, откуда-то из закутка достал бутылку, стакан, налил полный, доверху, и выпил на одном дыхании. Теперь все, пройдет минута-другая, и все мысли схлынут, улетят, он сможет прилечь, затянув занавесками окна, уснуть. В этом пока единственное его спасение.
Он все-таки отважился встретиться с Чарнецким. Другого выхода не было. Раз уж тот нашел Мирославу, вцепился, то, наверное, не случайно, что-то ему крайне необходимо. Да и любопытство донимало: что же все-таки там, за кордоном, почему затихло? Почему дают разрастаться, пускать все более глубокие корни этим красным…
Однако Юзек не появлялся. Не пришел он ни на второй, ни на третий день, и Павла еще сильнее разбирало нетерпение: где он? Схватили или сам исчез?.. Изнывал в своем глухом укрытии, лишь вечерами, на ночь, перебирался в избушку к Мирославе.
— Исчез бы он навеки, — горячо шептала она. — Не с добром пришел, чует мое сердце.
— Да, с добром так не ходят, — соглашался Павел. — Хотя — как понимать добро. Для меня лучше всего было бы, если б все это полетело к чертовой матери…
— Ой, что ты, Павел? — пугалась Мирослава.
— А что? Чего мне ждать? Пока совсем сгнию?.. Нет, я еще пожить хочу! Хочу и имею на это право.
— Говорю же, покорись им, — снова возвращалась она к прежней просьбе.
— Э!
На этом разговоры обрывались, Павел либо переводил их на другое, либо молчал, гневался. Господи, неужели же не видит, как она извелась? Из месяца в месяц, из года в год только и ждет, что вот-вот остановят и спросят. Увидит кого в погонах — и уже ей страшно, сердце чуть не разрывается. Днем там, а ночью здесь возле него нет покоя, нет передышки… А теперь еще и этот пришелец. Объявился и исчез, как привидение.
Но Чарнецкий был здесь. Пристроился у какой-то вдовушки, отлеживался несколько дней, прикидывался больным, лишь по вечерам выползал, долго где-то бродил, что, однако, нисколько не беспокоило и не интересовало хозяйку квартиры. Говорил — такая у него служба, ну и ладно, всяк мудрит по-своему, а он ей кто? Сегодня побыл, а завтра и след простыл. Разве впервой, разве один такой… Гостиница в городе маленькая, всех не уместит, так почему она должна упускать момент? Тот рубль, тот — два: одинокой да бедной женщине уже и помощь.
А Юзек действовал осмотрительно. Сказав Мирославе, что придет, он, однако, не торопился. Не такой, видите, простак, чтобы сразу переться в капкан. А вдруг в самом деле Павла нет и она… чего на свете не случается! Возьмет и заявит. И устроит ему засаду…
Несколько ночей Юзек провел на кладбище, неподалеку от Мирославиной избушки. Павла он не увидел, однако наутро почувствовал его близость. Конечно же лучшего места и не придумать! Околица, старое кладбище, безлюдное место… Кому придет в голову искать именно здесь? Прочесывают леса, следят за вокзалами, а сюда…
Однако не торопился. Нужно убедиться, окончательно увериться, потому что может случиться, что и Павла держат как приманку, умышленно не берут, дабы обнаружить других… Но кажется, все в порядке, ничего подозрительного не обнаружил. Он только мерз, как пес в паршивой будке, да на всю жизнь возненавидел сычей, которые и потом, когда возвращался в свое дневное логово, жутко кричали в душу.
…Павла встретил он в одну из темных ночей возле двери, преградив ему дорогу.
— Спокойно, — промолвил тихо, когда тот потянулся рукой в карман.
— Кто ты? — непроизвольно вырвалось у Павла.
— Знаешь, наверное…
Павел поник, внутренне сдался, хотя держался вроде бы и твердо, независимо. В самом деле, зачем им торчать на пороге. И он открыл, остановился, давая понять, чтобы входил. Однако Юзек сказал:
— Иди первым.
— Боишься?
— Да, — признался гость, и Павел почувствовал в этой его искренности какое-то словно бы превосходство.
Мирослава отпрянула, услышав приветствие гостя.
— Занавесь окна, — велел ей Павел.
Не раздеваясь, Юзек сел у простенка, оперся на колени руками. Весь его вид говорил, что так должно было случиться, что он не ошибся в своих предположениях, поэтому они теперь у него в руках и он поступит с ними по собственному усмотрению.
— Садись, — приказал он Павлу, видя, что тот растерялся, не знает, как ему быть.
— Может, перекусите? — вмешалась Мирослава. Она понимала, что эта встреча в любую минуту может превратиться в спор, острый и беспощадный, вплоть до убийства, мысль ее все время билась над тем, как бы предотвратить такой конец.
— Обойдется, — сухо кинул Павел и обратился к Чарнецкому: — Что пану нужно, чего шныряет по ночам?
— Время такое, — неопределенно молвил Юзек. — Когда-то было днем, теперь по ночам. Какая разница?
— А такая, что мог бы пристукнуть там, у двери, да и дело с концом, — угрожающе сказал Павел.
— Еще неизвестно, кто бы кого. Однако к делу. — Взглядом он дал понять, что присутствие третьего лица нежелательно, и Павел велел Мирославе уйти в кухоньку, в самом деле что-нибудь приготовить. — Я оттуда, — кивнул Юзек за окно, когда женщина прикрыла за собой тонкую фанерную дверцу.
— То есть… откуда? — спросил Павел, потупившись.
— Нас выбросили с неделю назад на Станиславщине. Группа разбрелась, возможно, частично погибла. Я счел за благо исчезнуть.
Павел сидел настороженный, напряженный, тяжелые желваки перекатывались под серой от недостатка солнца и воздуха кожей. Кисти рук нетерпеливо вздрагивали, будто их время от времени кто-то дергал за невидимую ниточку.
— Ну? — Павел тяжело взглянул на собеседника, таким образом побуждая его продолжить рассказ. — Меня как нашел? — Он давно уже обращался к гостю на «ты», однако оба делали вид, что не замечают этого, хотя раньше, разумеется, Чарнецкий бы подобного не допустил.
— Просто. Там, — подчеркнуто произнес он, — тебя нет, а здесь… стоило лишь найти Мирославу.
— Что же дальше? Имеешь поручение?
— Да, но об этом после. Ныне необходимо где-то отсидеться. Группа, говорю, частично разбита, нас сразу накрыли, кое-кто, наверное, попал к ним… Значит, будут искать…
— И ты решил пойти сюда, здесь найти укрытие?
— Где же лучше? Родные места, каждый кустик знаком. Помнишь…
— Помню, — оборвал его Павел. — Однако в кустики ты не пошел…
— К чертям этот тон! — вспыхнул Юзек.
— А-а, к чертям?! А ты подумал, что своим непрошеным визитом погубишь ее, — Павел указал глазами на двери, за которыми была Мирослава, — прежде всего ее? Подумал, а? Или тебе все равно?
— Зачем же так? — искренне удивился Юзек.
— А как же иначе? Почему ты думаешь, что мы тебя примем? А если заявим, куда следует, если выдадим?
— Ты этого не сделаешь, — твердо сказал Чарнецкий.
— Не я — так она. Разве ты мало насолил ей, таская меня по лесам да запугивая смертью?
— Тогда была война, пан Жилюк.
— Война!.. — Павел почти вплотную наклонился к Юзеку, тяжело дышал. — А кто же ее выдумал? Кто оторвал меня от земли и послал убивать? Вы — паны, графы. Не мой родной отец, а ваш. Ему нужно было защищать свои богатства, свои имения. Говоришь, война?.. А ныне?.. Ныне тоже война?.. Зачем ты сюда приполз, а?
Павел даже сам не предполагал, что встреча поднимет в нем такую волну откровенности, гнева и упреков, а почувствовав, понял, это именно то, чего ему не хватает, к чему он подсознательно стремился. Охваченная страхом и раскаянием, душа его будто очищалась, высвобождалась от этой тяжести, и он кричал, брызгал слюной, потускневшие за эти годы глаза вспыхнули, загорелись в темноте хищными огоньками, которым, однако, никого не пугали. Никого. Потому что даже Юзек понимал: это своеобразная агония, реакция смертельно больного организма на живые раздражители. Чарнецкий слушал и мысленно сожалел, что потянуло его именно сюда, что он связался с этим… трупяком или — как же это он сам себя называл? — ага, «дичаком». Ничего уже, наверное, от него не возьмешь. Хотя — как знать? Бывает, именно такие, попадая в определенные условия, проявляли необычную активность. Однако где же эти условия? Приходится радоваться тому, что имеешь, что до сих пор ты все еще на свободе, можешь хотя бы ночной тенью шнырять под окнами чужих домов. На какой-то миг Юзек ощутил свое превосходство — это между ними происходило попеременно — и решил остановить Павла. В конце концов, он пришел не просителем, не подчиненным.
— Какого черта ты раскричался? — повысил он голос. — Кого пытаешься запугать? И зачем? Я пришел к тебе как к боевику, функционеру. Мы на тебя рассчитываем.
— Кто мы?
— Не прикидывайся дурачком. Будто не знаешь, что… — Юзек заговорил почти шепотом, — что готовится там.
— А что, что, что?! — срываясь на истерику, переспросил Павел.
— Не вопи. Готовится новый поход против Советов, мы должны…
— К черту! Я ничего никому не должен, оставьте меня в покое.
— Покоя не будет, покой на том свете, а нам…
Вошла Мирослава.
— Тише, бога ради.
Павел взглянул на нее сердито, и Мирослава, стиснув до боли губы, вышла.
— Хорошо, — будто немного успокаивался Павел, — так что я должен делать?
— То же самое, что и раньше, — не задумываясь, ответил Юзек. — Не давать Советам покоя, сеять панические слухи, убивать, жечь. Наверное, знаешь о львовских акциях? Так должно быть всюду.
Павел встал, его согнутая, таявшая в сумерках фигура поплыла в противоположный угол. Несколько шагов туда, несколько — обратно.
— Ну а вы? — Он остановился перед Чарнецким. — Говоришь, группа сброшена… что-то должны делать?
— Ну да. — Юзек обрадовался перемене в его поведении. — Должны, конечно, должны. Нефтяные промыслы Борислава…
— Хорошо тебе, сидя вот здесь, болтать. Что вы против Советов? Война прошла, оставила нефтяные вышки, а нынче тем более ничего не сможете сделать. Напрасная затея.
— Однако ж… — начал было Юзек, но тут же умолк.
— Что?
— Я уже свое сделал. Здесь…
— Что ты сделал? — насторожился Павел.
— О пожаре в Великой Глуше, наверное, слышал?
Вон оно что! А он думал: кому захотелось жечь погорельцев? Кто порадовался их новой беде? Чарнецкий! Пан поручик!.. Поджег, конечно, чтобы погубить лошадей… Ах ты ж!..
Первым его желанием было схватить этого паскуду, сдавить за глотку и в один миг покончить со всем и навсегда. Но что-то удержало его. Испуг, осмотрительность? Возможно. Краешком помутившегося сознания поймал тоненькую ниточку, обрывок ее среди множества переплетений — остатки прошлых, былых его мыслей, раздумий, мечтаний. Да, да, ему, измученному бездельем, беспросветностью, вдруг стало любопытно — что же будет дальше? Внезапно сверкнула будто надежда на какой-то выход, спасение. Ему захотелось хотя бы немножко проследить путь, по которому пойдет дальше. Что там, в конце пути?
— Когда ты там был? — спросил Павел Юзека. — Один ходил?
— На прошлой неделе, один. Потянуло. В селе в это время играли свадьбу, на конюшне никакой охраны.
— И не пожалел?
— Что жалеть? Такое добро досталось лайдакам. За здорово живешь привалило.
— А может, они кровью за него платили? Потом и кровью. Чьими же руками все сделано?
— Стоит ли об этом говорить?
— Конечно! Тебе что? А для них — жизнь. — Павел помолчал минуту, потом добавил: — Наверное, ищут? Виновного, говорю, наверное, ищут? Следы могут и сюда привести. Что тогда? Это все равно что пакостить там, где спишь и ешь.
— Какие следы? Никаких следов.
— Незримые. Или, думаешь, они не остаются?
— Ну! Волков бояться…
— Почему же тогда бежал? Оттуда, куда вас выбросили?
— Так случилось.
— Трус ты, вот что я тебе скажу. Мне негде тебя укрывать. Негде! — Наступило молчание, тяжелое, гнетущее. Павел ходил из угла в угол, потом вдруг остановился. — Поташню помнишь? Вот туда и пойдем, в старые землянки.
Неожиданно возникшее решение казалось ему единственным и спасительным. Туда, на волю, в леса! Затеряться, растаять, исчезнуть… Завтра же, не мешкая.
VIII
Глушане готовились к выходу в поле. Снега растаяли, а там, где они еще сохранились, в ложбинах да в зарослях, их поглощали дожди, — в конце марта они пошли один за другим: присохшие было пригорки снова стали влажными, и председатель Устим Гураль, готовый начать выборочный сев, беспомощно разводил руками:
— В гроб загонит нас небесная канцелярия, чтоб ей ни дна ни покрышки. — И грузно брел по раскисшим дорогам к конюхам, в кузницу, к трактористам.
Николай Грибов, которого в глаза и заочно все называли просто Гриб и который после окончания курсов механизаторов возглавлял это хлопотное хозяйство, всегда встречал его одним и тем же вопросом: где запчасти? Когда будут втулки к цилиндрам, подшипники, кольца, приводные ремни?.. Каждый раз, наслушавшись его упреков, Гураль, который отродясь не имел дела с техникой, кроме разве молотков да зубил (когда-то работал в каменном карьере), удивлялся, как все-таки эти машины работают.
— А вот так и работают, — сердито говорил Грибов. — На честном слове. Не выйдут в поле, тогда увидите.
— Ну, ну, ты, слышишь иль нет, не того, — предостерегал Гураль. — Как, то есть, не выйдут?
— Ведь это же машина, — подключался к разговору Николай Филюк, тракторист. — Не захочет, и дело с концом. Оборвется вот этот ремешок, а без него ни с места.
На том и заканчивались их почти ежедневные беседы. Гураль уходил, а Грибов с хлопцами закуривали еще по одной и неторопливо принимались за ключи, молотки, чтобы вдохнуть жизнь в непослушные железки. Досталось им наследство! Из двух тракторов ни один не работает нормально.
А Гураль тем временем уже беседовал с конюхами. С ними и разговор проще, и надежд на них именно сейчас, в эту ненастную пору, больше: трактор вряд ли взберется на размокшие пригорки, а лошадки потихоньку-потихоньку, глядишь, и одолеют: вспашут и засеют полоску-другую.
Крышу над конюшней после пожара заканчивают, осталось лишь покрыть, а поскольку новых материалов нет, решили воспользоваться старыми — жесть хотя и подгорела, но все же малость послужит.
— Вот чтоб ему, поджигателю этому, руки вот так скрючило, — говорит, выпрямляя лист железа, Никита Иллюх.
Жесть извивается, каждый удар деревянного молотка эхом откликается в противоположном конце помещения.
— Скрючит, Никита, — уверяет Устим, — Не только руки скрючит, но и голову свернет…
— Так ничего и не слышно: кто, зачем? Не с неба ведь огонь.
— Не с неба, — спокойно и как-то даже равнодушно отвечает Гураль, переходя от одних яслей к другим и, будто невзначай, осматривая сбрую.
— Видать, не добили мы их, Устим, — продолжает Иллюх.
— Видать, — соглашается Гураль и совсем по-иному, тверже, спрашивает: — Чьи?
В руках у него вожжи — старые, видавшие виды, кое-где они изрядно истрепаны. Устим поднимает их перед собой, пытается разорвать, однако это ему не удается.
— Зря стараешься, — бросив молоток, подошел Иллюх. — Они даже Иуду выдержат. И не одного.
— Иуду, может, и выдержат, для него и такие в самый раз, а для нас с тобой, для дела, не подходят. Так чьи же? — допытывается Гураль.
Роман Гривняк и еще несколько мужчин, которые, увидев председателя, спустились с крыши, потерли с холоду руки, заулыбались.
— А чьи же? — решительно промолвил Иллюх. — Раз не рвутся, знать, мои.
Мужчины засмеялись громче.
— В самом деле, я и не догадался, — в тон ему сказал председатель. — Ты того… Буду проверять перед выходом, чтоб не стыдно было. В партизанах наряд за такое схватил бы…
— То в партизанах, там… военное положение.
— Будешь иметь его и здесь, — и, обращаясь ко всем, Гураль добавил: — На вас, хлопцы, надежда. Техника — сами видите, да и куда сейчас, к примеру, трактором… Стало быть, вы первыми и пойдете.
— Не привыкать, Устим. Пойдем, если надо. Только бы слякоть эта притихла да солнышко выглянуло.
— Дал бы всевышний…
Мужчин не хватает, а село, колхоз поднимать надо, вот и пришлось Гуралю взяться за это дело. Отнекивался, но когда на общем собрании посмотрел на вдов и сирот, не выдержал, сдался. Председателем так председателем. Кому-то же нужно возглавлять хозяйство. А что трудно, так разве он когда-нибудь искал легкого хлеба? И тогда, когда с глыбами, с гранитом возился в карьерах (до сих пор в горле дерет от каменной пыли), и позже, в партизанах, — нигде не плелся в хвосте… Да и свое же оно, все это, родное. И село, сожженное и опустошенное, и люди, стреляные-перестреляные, и земелька, не очень щедрая (пески да болота), однако своя, отчая. Сколько в ней пота и крови людской! И его, Устима, и отцовской да дедовской. Эгей-гей! Видать, и мокрое оно, Полесье, болотистое да озерами богатое, потому что испокон веков не умолкал на нем людской плач и причитания. Да еще стрельба. Сколько и помнит себя — войны: то империалистическая, то гражданская, с которой не вернулся отец… А ныне — эта. А сколько между ними случалось всякого, забрало десятки жизней. И каких! Самых лучших. И все — кровь, кровь, слезы да пот. Как же высохнуть топям да болотам этим, когда такие бездонные источники? Солнца нужно, дней погожих. И чтобы не на день-два — навсегда. Чтобы высветило, выпило горе веселками-радугами, а возвращалось на землю лишь благодатными дождями да метелицами зимними.
После обеда вроде бы затихло, ветер малость разогнал тучи, поплыли они вдоль Припяти, и Гураль, накинув пятнистый, еще во время войны раздобытый у немцев маскхалат, вышел на поле.
Оно начиналось сразу же за подворьем. Это, пожалуй, был самый лучший участок — ровный, без кустарников и песчаных пригорков, хорошо удобренный. Устим всегда любовался им, в особенности в начале мая, в юрьев день, когда ветерок гнал по полю, еще бесколосому, зеленые волны ржи, и позднее, накануне жатвы, когда пахло молодым зерном, медуницей, пели перепелки да неутомимые жаворонки. Гураль когда-то не мог смириться, что все это принадлежит одному человеку, пану, который и приезжает сюда лишь изредка, видимо, и не любит землю, не понимает, а лишь использует как средство наживы.
Теперь он, Гураль, ходит здесь хозяином. Не управителем или приказчиком, а полноправным хозяином, хлеборобом. Ему не все равно, какова она нынче и какой будет завтра: будет родить зерно, приносить людям добро, расцветать или же будет лежать в окопах и воронках, бурьяном зарастать. Не все равно, нет! За нее пали на войне его товарищи, и сам он мог, как и они, не вернуться к ней…
Впрочем, эта возможность никуда от него не ушла, он прекрасно понимает, хотя, уклоняясь от опасности, и не прет на рожон. Один лишь раз, в прошлом году, националистические недобитки после неоднократных угроз настигли его в кузнице, сложил бы он там голову, если б подмога не подоспела… Да и ныне, вишь, бродит где-то поблизости вражина, которому не по душе новые порядки. По всему видно, и поджог, и записка на Андроновой могиле, о которой рассказывал Степан Жилюк, — одних рук дело. Не терпится кому-то, чешутся руки хоть петуха пустить, да припугнуть. Не упустит, конечно, случая и пулю всадить. Так что не складывай оружия, Устим, может, зря пренебрегаешь наганом, который под расписку выдали тебе в райотделе КГБ и который лежит у тебя на дне сундука, словно какая-нибудь семейная реликвия.
Поле было засеяно рожью. Хотя из района, из земотдела, и велели придержать его до весны под картофель, однако Устим не мог разрешить себе такую роскошь — искони видел он его в тугих колосьях ржи, иным не хотел представлять. Под картофель, если его уж столько необходимо (неподалеку от Владимира-Волынского шахты начали копать, значит, для шахтеров нужна картошка), он пустит другие участки, а здесь… Уже видел поле зеленым, как в прошлом и позапрошлом годах, и как много лет раньше. Даже шагнул — как бы пытаясь сорвать колосок, растереть на ладони, вдохнуть его живительный запах, но ничего этого еще не было, и Гураль, улыбнувшись своей мечтательности, пошел вдоль нивы, подминая поблекший на морозе, на ветрах и дождях прошлогодний бурьян.
Пятьдесят с лишним лет топчет он эту земельку. Она уже, видно, и привыкла к нему, к его шагам — то детским, легким, то твердым, юношеским, а теперь вот тяжелым, размеренным, старческим. Правда, считать себя старым, наверное, рановато, есть еще порох в пороховницах, однако походка уже, ясно, не та, нет в ней былой стремительности и удали.
Да, пятьдесят с лишком… И почти все — панские да батрацкие. Только в годы революции, когда там, на востоке, зацвела свобода, облегченно и вздохнули. Но ненадолго. Потом затянула их нищета еще туже. Окраины эти, эта древняя земля снова оказалась в двадцатилетней осаде. Отгородили их колючей проволокой, заселили полицаями да осадниками[26], от которых и жизнь была не в жизнь. Мог ли он раньше пройти вот так по полю, постоять, полюбоваться им? Где там! Боже упаси! Сразу бы тебе пришили и воровство, и потраву, а то и поджог. Избили бы так, что не смог бы ни лечь, ни сесть.
Да, было когда-то… А теперь вот хозяин, голова. Го-ло-ва… В ответе за нее, землю. За поля, леса, берега, за речку и озера, за каждый колосочек в поле, каждую былинку… Самому даже странно!
По меже Устим вышел на пригорок, откуда хорошо просматривались окрестности. Неподалеку на прибрежном возвышении расположился колхозный двор; от него сероватой извилистой лентой тянулась к селу дорога; а в конце ее, за ложбинами, за уцелевшими хатами, сарайчиками и землянками, виднелась Великая Глуша. А еще дальше — в дымке утопали леса, разрезанные серебристыми заводями Припяти.
Устим улыбнулся, рукой смахнул дождевую капельку на кончике носа и снова прищурившись засмотрелся на поле… «Ранний теплый дождик был бы в самый раз, — размышлял он. — Рожь пойдет, как из воды. Метров[27] по двадцать соберем — и хорошо, и ладно, будем с хлебом…»
Поле, родные просторы нынче показались Гуралю почему-то такими близкими, как никогда раньше, и он, обрадовавшись этому чувству, раскрывался навстречу ему, будто хотел подняться над всем, посмотреть на поля и леса с высоты и лет своих, и опыта, и помыслов.
Раньше, когда не был он еще Устимом, а лишь Устимком, дед его, седобровый и почти незрячий, рассказал внуку сказку не сказку, быль иль предание, одним словом, что-то похожее на библейскую историю. Происходило это в старину, когда на их земле якобы не было еще ни панов, ни осадников или там полицаев, — просто жили люди. Выкорчевывали леса, обрабатывали землю, сеяли, убирали хлеб и разделяли это все поровну между собой. Управляла краем некая королева, которую никто не видел, потому что жила она в глубине пущи, на большой, залитой солнцем поляне. Солнце там никогда не заходило, день не угасал, не затихало птичье пение… Никто не слышал тогда на Полесье ни плача, ни стона — только речушка журчала, шумели камыши да рощи. «Так-то, Устимко, было на нашей земле», — любил приговаривать дед. А когда малыш допытывался — в какие же времена, когда? — молчал старик, лишь головой покачивал. «Хорошо, — говорил Устимко, — вырасту, сам все узнаю, найду эту поляну, может, и нынче живут там по-иному».
Гураль покачал головой: годы, годы… Все же не отгонял детство, почему-то не хватало ему этой поры — и разговоров с дедом, и веснянок, и веселых игр, когда пели-танцевали на выгоне, на берегу реки, где еще недавно лежали снега, журчала водица… «Верба бьет, не я бью… Верба бьет, не я бью». И наполнялось предвечерье детским гомоном, печальными вскриками птиц и гусиным клекотом на околице села, над озерами, позвякиваньем ведер, неугомонным кваканьем лягушек, первым всплеском рыбин где-то на отмели, грустноватым ревом скота, на который непременно откликался, нагоняя испуг, камышовый, или водяной, бугай[28]… А потом загоралась вечерняя заря, маня своей неизвестностью, всходила луна и повисала над лесами, на ночь малость подмораживало, стягивало землю, однако все знали, что это уже весна и что ее не остановить никакими силами.
Нет, не зря, не случайно дано человеку это чувство — любить. Любить себе подобных, любить растения, животных, а более всего, разумеется, землю. Вот эту землю. Потому что она святая, она основа основ, на ней живут люди из поколения в поколение. На твою долю выпала хлопотная, трудная жизнь — борись за лучшую, выступай против зла, неправды и насилия. Потому что ты человек.
IX
Стецику не спалось. Бывают у человека минуты, даже часы и дни, когда вроде бы ничего и не случилось, все идет по давно заведенному порядку, а на душе почему-то неспокойно, бьется она в предчувствии чего-то страшного, неизвестного, что вот-вот должно случиться и либо опрокинуть все — прошлое и настоящее, перевести его на какую-то иную стезю, либо… Впрочем, о последнем ему не хотелось думать, к смерти ему готовиться рано — с какой стати? Жизнь, видимо, вышла на новый виток, интересно посмотреть: что же из этого получится?
Однако не спалось, как ни пытался он отдаться блаженному состоянию, утешить себя разными мыслями. Что-то холодило сердце, заставляло его то замирать, то учащенно биться, и тогда нечем было дышать, грудь стискивалась от боли, Стецик тяжело поднимался, шел к окну, шире раскрывал форточку — единственную во всем жилище отдушину, устроенную для таких вот случаев, которые не впервые приключаются с могучим, некогда, казалось, ничему не подвластным организмом. Свежая струя чуть-чуть разогнала застоявшуюся духоту, которая особенно невыносима теперь, ранней весной, сердце стало биться ровнее, и тогда словно бы прояснялась, сделалась более понятной первопричина чуть ли не всех его тревог и опасений. И появилась она почему-то в образе Степана Жилюка — того, который недавно был в его доме, имел с ним не очень приятную беседу, вполне недвусмысленно намекал на его, Стецика, прошлое. Для форса перед ним пришлось похрабриться, показать, что он ничего и никого не боится, зато потом засосало, заныло, запекло в груди… Да еще этот поджог, за который он якобы в ответе, будто в самом деле не может загореться без его, Стецика, участия. Что же, всех собак теперь будут на него вешать? Что где ни случится, а идти будут к нему, намекая на прошлое?.. Нет, так не должно быть, и так не будет, он этого не допустит.
В который уж раз Стецик решает пойти в район, пожаловаться, но все что-нибудь мешает. А время летит, и то, что остается после него, как-то не на пользу, не в лад. Почему-то искоса смотрят они друг на друга, он — на все окружающее, оно — на него. Нет между ними согласия, будто между двумя лошадьми, которым надлежит тащить плуг. Словно бы и в одной идут борозде, а все которая-нибудь тянет в сторону, норовит ступать по-своему…
Стецик зашелестел газетой, и то ли от шелеста этого, то ли просто так проснулась Гафия.
— Осподи, хотя бы средь ночи не курил, — запричитала, — и так дышать нечем.
— Еще не курил, а ты уже ворчишь, — на удивление мирно ответил хозяин.
Курить, однако, не стал, свернутая цигарка застыла в пальцах.
— Ночь какая-то, прости осподи.
— Какая там ночь? Рассвет уже. — Он взглянул на окно, хотя там, за ним, все еще было темно, на затянутом облаками небе не видно было ни звездочки.
Гафия повертелась и затихла, видимо, задремала. Стецик тоже склонился над столом — сидеть ему было легче, не так жгло в груди. Не успел он смежить глаза, как во дворе залаял пес. Да так сердито, так неистово, что привыкший к его голосу хозяин невольно напряг слух. Пес мог подать голос по любому поводу, хотя бы бросившись на кота, который шастает, выслеживая добычу по двору, однако ныне чувствовалось не то: кто-то вроде бы нарочно дразнил его, и пес не унимался, захлебываясь от гнева.
Хозяин поднял голову, снова зашевелилась жена.
— Почему он расходился? Выглянул бы, Ярослав.
Но Стецик, будто прикованный, не мог, не хотел вставать, выходить из тепла, уюта на предвесеннюю непогоду, подставлять лицо холодной измороси, которая не прекращается все эти дни. С некоторых пор Стецик, казалось, потерял интерес к хозяйству, ко всему, что происходило вокруг него, стал вялым, неповоротливым, каким-то словно бы состарившимся. Однако пес лаял все яростнее, поднял соседских, весь куток теперь наполнился лаем, — нужно было выходить. Неохотно встал, надел серую обувку, набросил на плечи полушубок, шапчонку, которые всегда висели наготове возле дверей, и вышел в сенцы.
За порогом его встретила серая предутренняя мгла, которая сразу, будто только и ожидая случая, заползла за воротник, за пазуху, — Стецик съежился, нервно передернул плечами, остановился в нерешительности. Почуяв хозяина, притих пес. Очевидно, он надеялся, что тот сразу же наведет порядок на своем дворе, одернет нарушителей покоя; однако этого не случилось, и пес с еще большей яростью кинулся на невидимых ночных пришельцев.
— Кто там? — спросил Стецик, направив ухо в сторону ворот, куда порывался пес.
Голос его прозвучал глухо, однако те, к кому он мог обращаться, услышали, требовательно застучали. Как хозяин, Стецик должен был открывать, а просто как уставший человек, он предпочитал бы послать их ко всем чертям, наконец, даже натравить на них пса и тем самым закончить совершенно нежелательные переговоры. Поэтому, подойдя к воротам, он еще раз спросил, кто там и что понадобилось, и, услышав в ответ: «Открывай! Милиция», — торопливо начал выдергивать разные задвижки. Власть есть власть, перечить ей, кто бы ты ни был, не положено.
— Крепко же вы спите, товарищ, — раздался в темноте незнакомый голос, и не успел Стецик ни ответить на замечание, ни рассмотреть ранних гостей, как они, вроде бы даже отстранив его, ступили на подворье. Только теперь заметил, что никакие это не милиционеры, и холодные мурашки побежали по спине. Страшная, еще не до конца осознанная догадка будто сковала ему ноги, отняла речь и рассудок, и он стоял разбитый, обессилевший.
— Кто-нибудь посторонний есть? — спросили Стецика, он что-то пробормотал, повертел головой. — Тогда закрывай, что торчишь? — велели ему. — Да угомони пса.
Краем сознания Стецик понял, что дела его плохи, диктовать свое, хотя и на собственном дворе, не придется, и сознание этого вывело его из оцепенения. Он быстро закрыл и взял на задвижку калитку; сердито схватил за ошейник пса, затянул в сарайчик и запер там. Пока он все это делал, двое неподвижно стояли, их силуэты слабо выделялись в серой предрассветной мгле, напоминая какие-то надгробия, памятники, которые Стецик видел когда-то в Копани, в Луцке на старых городских кладбищах. Сходство, внезапно возникшее в подавленном сознании, было не из приятных, Стецик постарался выбросить из головы дурные мысли.
— Приглашай, что ли.
— Заходите, коли так…
— Жене вели, чтобы того… исчезла куда-нибудь, — шепнули в сенях.
— Куда же ей в такую рань?
— Сам подумай.
Стецик первым вошел в хату, велел жене молча лежать, затем провел пришельцев за перегородку, сам приготовил кое-какую еду, поставил начатую бутылку самогона.
В квелом, мигающем свете каганца одно из лиц показалось Стецику знакомым.
— Не узнаешь?
— Не Павло ли Жилюк, случайно?!
— Он самый, — кисло улыбнулся Павел.
— Чудеса… — даже запнулся Стецик.
— Какие еще чудеса? Думали, в самом деле дал деру? Не такой я дурень, чтобы чужих вшей кормить по заграницам, — своих хватает.
— Говорил я ему…
— Кому?
— Брату твоему, Степану. На той неделе был.
— Зачем?
— Поджигателей ищет. Кто-то в селе конюшню поджег. Вот я и того… среди своих, мол, и ищи. Не ваших ли рук дело, случайно?
— У него вон спроси, — кивнул Павел на напарника и, придвинув ногой табуретку, грузно опустился на нее. — Знаешь, кто такой?
— Не могу признать, — всматривался в незнакомое лицо Стецик. — Не приходилось встречаться.
— Графа нашего помнишь? Так это его сын, Юзеф. Он оттуда.
— Так… — еще не зная, что сказать, промолвил Стецик, — потому и всполошились в районе. Видимо, пронюхали… И давно оттуда?
— С неделю, — охотно ответил Чарнецкий. — Нас выбросили на Станиславщину, группа попала в засаду, я не имею о ней никаких сведений. — Последнее Юзек сообщил, очевидно, для того, чтобы у хозяина не возникла мысль, будто следом за ним, Чарнецким, сюда нагрянет вся группа.
— Пану Юзеку необходимо спрятаться, — продолжал Павел, — по крайней мере на время, пока пройдет горячка с поисками. Думаю, у тебя надежно — на отшибе, никакая собака не пронюхает. Схрон, наверное, есть у тебя?
Наступило продолжительное — для такого разговора — молчание. Двое ждали, что скажет третий, а тот не торопился, раздумывал, он вообще вел себя как-то неопределенно, непонятно — на столе стояла закуска, самогон, а Стецик, выставив все это, вдруг словно бы забыл, словно бы сделал это ради приличия и вовсе не намерен угощать гостей.
— Почему молчишь? — нетерпеливо спросил Павел.
Стецик наконец зашевелился, потянулся к бутылке, налил.
— Прошу, выпейте-закусите, а потом…
— Нет, ты сначала скажи… Не юли, как заяц.
— Это что, условие? — исподлобья взглянул Стецик.
— Да, условие. Когда-то ты ставил его мне, а ныне роли поменялись.
— Время тоже поменялось. Когда то было…
— Было или не было — не имеет значения, — настаивал Павел. — Давай думать о том, что есть. Так как?
— А так, — отодвинул рюмку хозяин, — что несподручно мне… За мной следят. Видите, что-то где-то, хотя бы с той же конюшней, а мне уже шьют дело…
Павел и Чарнецкий переглянулись. Не нужно было быть провидцами, чтобы понять за этим уклончивым ответом совершенно определенный отказ. Тем более что, направляясь сюда, каждый из них в душе предвидел такой результат, потому что человек, несколько лет проведший в вынужденной изоляции, знает цену свободе, кое-чему научен. Стецик — в этом Павел имел возможность убедиться еще во время войны — не из тех, кто прет напролом, кто ставит на карту собственные интересы, благополучие.
— Говори сразу: продался? — хищно повел глазами Павел. — Купили тебя, как овцу на базаре?
— Не купили, Павел, — спокойно заверил Стецик, — я не из тех, кем торгуют. Был бы таким, твой брат не ходил бы у меня по пятам, я сам бегал бы к ним на исповедь. Времена не те, что я против них или хотя бы все мы вот вместе?.. Давайте лучше выпьем и закусим. Захотите — переспите, отдохнете… — Стецик пытался переменить разговор, придать ему мирный тон. — Где же ты ныне обитаешь? — спросил Павла.
— Всюду, — коротко и не совсем учтиво ответил тот. — Сейчас, вишь, здесь, а там будет видно.
Теперь каждый из них обдумывал ситуацию и то, как ею овладеть. Павел понимал, что кашу со Стециком сварить не удастся, как и в тот зимний день, когда он с изрядно истрепанным своим отрядом однажды пришел к нему в сообщники; тут нужно делать что-то другое, а что именно — Павел еще не знал, но твердая убежденность в ненадежности Стецика требовала осмотрительности.
В силу недостаточной своей осведомленности в тонкостях людских душ, которая шла от мнимого панского превосходства над мужиком, Чарнецкий воспринимал неопределенность ответов хозяина за привычную мужицкую нерешительность и готов был для успешного завершения этой ненужной дипломатии нажать на Стецика, припугнуть его. Удерживала графского отпрыска от неосмотрительного шага инструкция: поступить так — означало вызвать недовольство, противодействие… Единственный, кто знал, что ему делать в этой ночной ситуации, был Стецик. Накопленный за долгие годы опыт удерживал его от какой бы то ни было резкости, требовал лояльности, даже некоторой уступчивости; и Стецик, за время беседы твердо убедившись в оторванности пришельцев от каких-либо существенных сил, уверенно гнул свою линию.
— Ненадежно здесь, — отвечал он, догадываясь о том, что у Павла на уме, — по хуторам ходят «ястребки», говорят, переодетые энкаведисты, да и своих остерегайся, чтобы не выдали. У вас хоть есть что-нибудь при себе? — испытывал невзначай.
— Ясно, что ненадежно, — Павел сделал вид, что вопроса не понял, — ежели даже такие, как ты, начинают подпевать коммунистам. Какая может быть надежда? Но настанет время, и тогда с каждого спросится. Каждый должен будет ответить за свои поступки.
Стецик сидел, не поднимая глаз, ковырялся вилкой в миске с капустой.
— Никому я не подпеваю, а только… Да вы хоть слышали, что происходит на свете? Во Львове, к примеру…
— А что во Львове? — поинтересовался Чарнецкий.
— Да всех, какие были там, из вожаков, схватили, суд за судом. А сколько рядовых функционеров каждый день кладут свои головы?
— Борьба, — промолвил Чарнецкий. — В ней без жертв не обойтись.
— Так-то оно так, но все же…
— Все же, все же, — передразнил Стецика Павел. — Залезли в запечье, юбками позакрывались и морали здесь разводите.
Видимо, встревоженная его тоном, зашевелилась за перегородкой Гафия. Павел приглушил голос, зашагал по комнате. Холера ясная, уже рассветает, а они так ни о чем и не договорились, лясы точат. Опасность, суды, смерти… Всыпать бы этому Стецику как следует, чтобы помнил до новых веников, меньше разглагольствовал бы. Политик нашелся, кроть его ма! Умник!
— Так что? — Павел резко остановился возле хозяина. — Придем к какому-нибудь согласию?
— Я уже сказал: можете передохнуть, никакого схрона у меня нет, здесь вот перебудете. День благословился, куда теперь вам?
Это было ясно и без него — в окошке, которое, видимо, выходило на задворки, уже забрезжило утро. На хуторе горланили припоздавшие петухи, где-то неподалеку поскрипывал колодезный журавль, и монотонно, нагоняя тоску, ревели коровы. Павел на миг притих, застыл, прислушался — что-то близкое, до боли радостное почудилось ему в их утренних голосах. Родное и уже неповторимое, для него нереальное, по сути, несуществующее. Потому что даже это, всем доступное, он может слушать лишь украдкой, из укрытия, из подземелья. Будто мертвец.
Павел оглянулся, хозяин и посланец сидели в прежних позах, видимо, ночная беседа не навевала им ничего отрадного.
— Ну, вы тут обустраивайтесь, — наконец поднялся Стецик. — Где нужду справлять — пошли, покажу… Потому что днем нежелательно слоняться даже по двору, — добавил от порога.
Павел метнул на него полный ненависти взгляд, однако ничего не ответил, а Чарнецкий молча вышел за хозяином. «Ус. . . .я паныч, — усмехнулся Павел, — тонка господская кишка, не держит».
День выдался погожий, и Стецик, обрадовавшись ему, а еще больше — возможности вырваться из дому, с самого утра занялся огородом. Приказав Гафии никуда не отлучаться, быть начеку, чтобы никто посторонний не забрел в хату и не обнаружил их ночлежников, он не спеша направился на подворье бригады, имея намерение выпросить коней, чтобы вывезти навоз. Его набралось изрядно, скоро уж копать огород, пока вывезет да разбросает, все, может, и уладится.
Во дворе бригады на всякий случай задержался — послушать, нет ли каких разговоров, не видел ли кто случайно его ночных гостей. Но все было тихо, мужчины собрались, перекурили, погомонили и разбрелись.
— Если бы ты так заботился об общем добре, как о своем огороде… — кольнул Стецика бригадир, однако упрек его прозвучал, скорее всего, для порядка, Стецик что-то ответил, перевел в шутку, на том и расстались.
Лошадки были хорошие, с зимы вышли откормленные, да и нынче содержали их хорошо, однако Стецик тоже подбросил им корму, постоял с часок, чтобы убить время. Домой он возвратился, когда солнце поднялось уже довольно высоко, повисло над лесом; во двор не заезжал, сначала вошел один, дабы убедиться, что все в порядке, и только потом открыл ворота.
Огород у него был просторный, обсаженный вербами; длинной полосой тянулся к реке, сливаясь с зарослями лозняка. Стецик неторопливо набрасывал вилами слежавшийся за зиму кизяк, развозил по огороду. Земля еще как следует не просохла, нагруженная телега вязла, колеса залипали, — после каждой ходки давал коням передохнуть. В полдень, разогретый теплом, навоз испарялся сильнее, подворье наполнилось его резким запахом, пробуждавшим в Стецике предчувствие настоящей весны и весенних хлопот. Несколько лет он был от этого оторван, жил в ином мире, в иной среде, где все это могло быть лишь в воспоминаниях; жил в тех краях, где не пашут, не сеют, где испокон веку шумит тайга, пахнет лесом, свежими опилками, а барачные ночи наполнены духотой, сонными вскриками и людским храпом. О чем он думал тогда, раскаивался ли? Думал обо всем, сожалел, что так получилось, но раскаяния, кажется, не было. Его оттесняло какое-то нереальное, неосуществимое желание возвратиться в те недалекие времена, дни, когда были его воля, его желание, его приказ. О, повторись прежнее, он показал бы кое-кому, где раки зимуют! Чудак, всячески оберегал себя, избегал стычек, когда нужно было… Впрочем, это был бред, попытка хоть как-нибудь оправдаться перед самим собой, перед собственной совестью… Наверное, он снова вел бы себя так же, как и прежде, — ведь человек не волен легко менять свои привычки, он в плену у них. Ибо если это не так, если бы его размышления имели реальное основание — не уклонялся бы он от предложений этих вот «представителей», не водил бы их за нос; наоборот, искал бы с ними контакта.
Под вечер, когда Стецик заканчивал чистку хлева, к нему вошли те двое. Напряженные, сосредоточенные.
— Бог в помощь, хозяин.
— Спасибо.
— Мог бы и гостей пригласить на подмогу, а то запер на целый день.
Почувствовав что-то недоброе в их поведении, Стецик промолчал.
— Вот что, — сказал Павел, — нам нужны лошади. Уедем отсюда.
Стецик продолжал подбирать навоз, пораженный неожиданным поворотом дел, молчал, соображая, как ему быть.
— Или повезешь нас.
Стецик перестал орудовать вилами, поднял, глаза.
— Никуда я с вами, хлопцы, не поеду, — промолвил. — И коней не дам. Вы их не вернете, а с меня спросят.
— Скажешь — кто-то украл.
— Как это: со двора украл? Кто поверит? Может, «ястребки»?
Хлев расположен был поодаль от дома, с угловой стороны, все, что в нем происходило, из хаты не видно было. «Гости» то ли нарочно, то ли случайно прикрыли за собой дверь, и Стецик понял, что сейчас необходимо их открыть, открыть как можно шире, настежь, чтобы в случае чего крикнуть, позвать на помощь. Он обошел стороной, попытался было приблизиться к порогу, но Павел преградил ему путь.
— Стой, — приказал, и в тот же миг Стецик почувствовал, как чьи-то руки сзади железно схватили его за горло. Он еще успел понять, что это Чарнецкий, попытался вырваться, но острый удар в темя лишил его сил и сознания.
X
Председатель исполкома Степан Жилюк избегал поездок в Великую Глушу. Родное село, с детства знакомые места бередили душу до боли. Смерть родителей, сестры, гибель жены и маленького сына… Боль с годами не угасала, не ослабевала, а вроде бы, наоборот, разрасталась еще сильнее, каким-то образом обновлялась, причиняя все более острые душевные страдания.
Жил Степан уединенно, бобылем, что нередко становилось предметом дружеских разговоров: дескать, так уж полагается, такова судьба, не ты первый, не ты последний, пора, брат, жениться, прибиваться к берегу, потому что нельзя жить холостяком. Кто правильно поймет, а найдутся и такие, которые будут болтать бог весть что: разве мало их, которые присматриваются, поджидают малейшую неосмотрительность, чтобы ославить, пустить сплетню, потому что человек ты не рядовой, всегда на виду…
Степан кивнул головой, понимая, что, конечно, когда-то должна измениться и его жизнь, а в душе не мог переломить себя, все в нем восставало при одной лишь мысли, что на место Софьи придет другая, другая будет встречать и провожать его, обнимать и целовать, с другой он должен будет делить самое сокровенное… София… Почему так получается?! Почему человек, который превыше всего ставит жизнь, кладет на ее алтарь самое дорогое, непременно должен погибнуть, складывать крылья, даже не прикоснувшись к тому, во имя чего рисковал, отдавая здоровье, благополучие, в конце концов, всего себя без остатка? Что это — закономерность или случайность? И логично ли это? Не справедливее ли было бы устлать этот путь телами тех, кто, пренебрегая всеми принципами гуманности, творит разбой и насилие?.. Как бы изменился мир? Насколько бы легче в нем жилось! Не было бы столько слез…
Привычные раздумья, возникавшие постоянно, неотвратимо, кажется, даже никогда не покидавшие его, в особенности когда речь шла о Великой Глуше. А поскольку мысли о селе, так сильно пострадавшем от немецкой оккупации, навещали его часто, он в конечном счете начал воспринимать их как бы со стороны. Будто привыкал к боли. Правда, появлялись некие нюансы, огорчительные и нерадостные, и в зависимости от них создавалось настроение. Вот и этой весной, которая мало чем отличается от прошлогодней и позапрошлогодней (давай посевную, тягло, инвентарь, заем), привычное течение хозяйственных и личных забот нарушил внезапный пожар. Не нашли виновника, событие уже готовы были причислить к случайным, как вдруг история со Стециком. Тут уже не случай! Это преступление, преступление, каких давно, по крайней мере несколько последних лет, не было. Кто же виновники? Где они прячутся? Свои, местные, или пришлые?.. Это весьма важно. Чужие прибились, где-то выкурили их, и — если не попадутся сейчас, попадутся позже, а вот здешние… Конечно, это не прямая его забота, есть специальная служба, однако быть равнодушным, полагаться только на кого-то он не может. Хозяину до всего есть дело.
…Степан сидел за небольшим, ничем не прикрытым столом президиума, за которым теснились еще двое — председатель колхоза Устим Гураль и совершенно незнакомая ему девушка, учительница, приехавшая в Великую Глушу осенью, — и слегка прищуренными от тусклого света глазами всматривался в односельчан. Маловато же их осталось! В особенности мужчин. Одних убили фашисты-каратели, когда жгли село, другие погибли позже, на фронте, всего лишь и осталось десяток-полтора. А было же… Как соберутся, бывало, на праздник или по какой-либо другой причине — вся площадь становится серой от свиток. Или же на сенокос выйдут… Или когда встречали Красную Армию в сентябре тридцать девятого. Будто с других миров привалило тогда люду… Да, а ныне вот… ни мужчин, ни села… В старое время, наверное, вряд ли отважились бы строить заново на пожарище, а теперь стебелек к стебельку, росточек за росточком поднимали жизнь. Вот уже и о школе речь — пора, мол, этим летом закончить, сколько же ютиться по всяким углам; и о посевной заговорили — нужны трактора, сортовые семена…
— Я так думаю, — говорил, стоя рядом со столом, Грибов, механизатор, и Жилюк невольно заслушался его искренней речью. — Пускай себе там разные Черчилли запугивают новой войной, а нам бы посеять хорошенько, чтобы хлеб был и к хлебу. Государство наше сильное. Выстояли горячую войну, «холодную» и тем более одолеем. Нам бы, Степан Андронович, хоть один трактор, много не просим, хоть один бы, да еще пару сеялок, ведь земли, сами знаете, за годы войны запущены, нужно их обновлять, а голыми руками тут не управиться. Правду я говорю, люди? — обращался он к присутствующим.
— Правду, правду, Микола, — первым же и поддержал оратора Гураль, — да еще бы запчастей, Андронович. Ты уж, как свой, сельчанин, похлопочи, не откажи землякам…
Жилюк улыбнулся: знакомая речь! Куда ни пойди, куда ни поезжай — одно и то же, будто сговорились. Все же ему приятны были эти претензии, хуже чувствовал бы он себя, если бы их не было, если бы крестьяне молчали. Когда просят, значит, дорого им, болеют за общее дело. Жаль только, что его исполкомовские возможности слишком ограниченны, особенно малы их резервы, собственно, у них и нет никаких резервов. Когда что-нибудь из техники поступает, не задерживается, сразу распределяется по хозяйствам. Разумеется, Великой Глуше надо бы уделить особое внимание, в этом они правы, и не потому, что земляки, односельчане, а потому, что натерпелись больше других.
Так и сказал им. И добавил: всюду сейчас нелегко, страна поднимается из руин. Нужно напрячься, изыскать местные возможности…
— То есть коровок запрячь? Самому подсоблять?
— И коровок, когда прикрутит.
Трудные нынче разговоры! Трудные. Хозяйства еще бедные, помощью всех не охватишь… Тянут люди. Бывает, и ропщут, а тянут, изо всех сил стараются. Такова уж крестьянская судьба: живешь на земле, дели с нею и радости, и беды. Война не война, засуха не засуха, а жить надо, жизнь не останавливается. Паши ее, земельку, копай, засевай, хоть слезами горькими, лишь бы хлеб, лишь бы пища. Наверное, нет на свете работника, чья судьба была бы капризнее хлеборобской. Нужно обладать огромным терпением, огромным мужеством, чтобы растить хлеб. Нужно обладать огромной любовью к самой земле. Без всего этого лучше и не берись…
Выступала Марийка, жена брата Андрея, — на ферме работает дояркой, за улучшение поголовья коров ратует, а Степану думалось: сколько же выехало отсюда, с этих вот земель, во всякие Канады и Америки в поисках лучшей доли! Возвратятся ли когда-нибудь в родной край, приложат ли руки к тому, чего так ждали, на что так надеялись?.. Эге-гей! Может, кому-нибудь и посчастливится…
Где-то слоняется по белому свету и Павел, грешная душа. Переломал собственную жизнь, сбился с истинного пути… А может… может, и нет его в живых? Получил два метра «самостийной» и угомонился… Эх, Павел, Павел! Не было на тебя управы. Вожжей не было. Или кнута добротного, отцовского. Замутились твои мозги всякими глупостями, и повело тебя, будто окаянного.
Вспомнилась встреча во время войны, в штабе оуновцев, откуда едва сумел удрать, и Степан болезненно поморщился. «Я тебя не знаю, ты меня». И это брат брату… Раскаивается ли, если остался в живых? Должен ведь! Должен, пора уже понять. А что, если он… Но нет, нет! Так долго не удержался бы — подал бы голос, как-то заявил бы о себе. Как можно без людей, хотя и провинился перед нами, без земли? Лучше уж в могилу…
Степан еще потолковал с односельчанами, пообещал Гуралю зайти к нему вечерком и вместе с Марийкой, которая неотступно стерегла, чтобы никто не перехватил его, на газике поехал к старому жилюковскому подворью. Оно встретило предвечерней тишиной, настороженной и тяжелой, будто полевое предгрозье, какой-то необычностью и таинственностью. Или, может, ему только так показалось. Потому что давно не был, отвык, хотя и видит его все время мысленным взором. «Добрый вечер, мама», — то ли сказал, то ли подумал Степан, ступая на подворье. В ответ грустно вздохнул в верхушках деревьев ветер. Степан немного постоял, прислушался, однако ничего другого слух его не уловил. «Наверное, отсюда выглядывала меня. От ворот. Вот и тропинка сохранилась. Мама! Мама! Сумеем ли мы когда-нибудь погасить свой долг перед вами или вот так и будем ходить вечно?..» Боль опять стиснула сердце, и Степан не торопился гасить ее. Сыновьям, которые не уберегли родителей от насильственной смерти, до конца дней носить в своем сердце печаль. Это, видимо, единственное, чем они могут искупить свой грех. Хотя… велика ли его провинность в том, что погибли мама и тато? Если бы находился рядом с ними, разве бы все произошло иначе? Разве мог бы молчать, терпеть надругательства?.. Не такие Жилюки! Всяк по-своему, а восстают, бунтуют, и не дай бог попасть под эту горячую руку обидчику. И умирают каждый по-своему, Мать — так, отец — иначе, сестра Яринка — еще иначе…
— Степан Андронович, милости просим в хату…
Кто это? Голос не Марийкин, у нее более резкий, на сквозняках в коровнике простуженный, а это… Она, та, которая сидела рядом за столом, писала протокол. Учительница?.. Степан и удивился, и обрадовался почему-то. Что она здесь делает? Просто так навестила или…
Подошел к крылечку.
— И вы здесь?.. Как же вас зовут?
— Галина Никитична, — улыбнулась девушка.
— Они у нас живут, — объяснила Марийка, — с самой осени. С тех пор, как вы не были.
Так, так. С самой осени. Полгода или больше не был он в Великой Глуше, обходил или не обходил ее стороной, — просто путь не лежал сюда; не его это куст, село закреплено за другим уполномоченным.
— Так заходите же. Вот-вот и Андрей появится, наверное, уже вернулись из Копаня.
— Добрый вечер вашей хате.
— Спасибо. Никак не закончим… Ну, ничего, — размышляла вслух братова жена, — хорошо и так, у людей вон хуже. Для нас хоть сообща, да сколотили. — Она говорила, не прекращая хлопотать у печи, где уже гоготал огонь, что-то кипело, что-то жарилось. — Вот и учительницу приняли на время, куда же ей, теснота кругом, а нам с Андреем вроде бы и привольно. Как-то даже не по себе — такое внимание от всех…
Степан ходил по дому, присматривался ко всему.
— Издалека вы к нам, Галина Никитична? — спросил девушку, помогавшую Марийке.
— С Винничины. Педшколу закончила, и направили. — А сама тоненькая, гибкая, как стебелек, и волосы заплетены в две косы. — Нас несколько приехало в район, мне выпало сюда.
— И как, не скучаете?
— Было бы когда! — ответила за нее Марийка. — Их тут, кроме что в школе работают, и агитаторами сделали, и ликбез поручили. Все на них.
— Ну, это вы уж слишком, Мария.
— А что, может, не так? Может, подписка на заем без вас обходится или агроучеба?
Степан засмеялся.
— На то они, Марийка, и народные учителя, ко всему должны приложить руки. Чтобы учить — надо знать, а чтобы знать, необходимо самому все испытать… Ничего, — сказал ободряюще, — вот закончим школу да клуб, кинофикацию — будет не хуже, чем в других местах.
— Э-э, когда это будет!
— Будет, Марийка, будет.
«И ничего старого, отцовского. Ни вещи какой-нибудь, ни фотографии…» — подумал он горестно.
Подошел к столу, где лежали книги, взял одну. Букварь. Клеточки букв, слоги, слова… «Па-па», «Ма-ма», «Ро-ди-на»… Так начинается жизнь. И никому никогда не одолеть народ, который ставит рядом эти слова, эти понятия. Отец — Мама — Родина… Держал старую, потертую книжицу, а сердце сжимала боль. «Она тоже учила детей… Учительница София Совинская… жена». Степан поторопился отложить учебник в сторону, чтобы прекратить, прервать воспоминания, не дать им хотя бы в этот вечер снова овладеть им…
После ужина они с братом долго разговаривали. К Гуралю Степан решил наведаться утром — брат задержался в дороге, да и беседа у них получилась затяжной. Ну да, кто-то все-таки слоняется вокруг села, бродит, высматривает…
— Понимаешь, — рассказывал Андрей, — увидел я следы на снегу и не могу успокоиться. Кому захотелось осматривать наши старые землянки? Просто так никто туда не пойдет — что там ныне делать? Да и знать их надо, случайно не так просто туда попадешь. Ты там подскажи кому следует…
С дороги утомленный, Андрей хлопал глазами, старался держаться, а сон одолевал его, и Степан в конце концов прервал беседу:
— Ладно, давай спать. Клюешь носом.
А сам еще долго ворочался, перебирал в памяти — кто знал об этом партизанском пристанище, кому в самом деле понадобилось оно сейчас, через пять лет после войны…
XI
Лошади почувствовали чужие руки, испуганно вырвались сквозь раскрытые ворота за хутор, в ранние вечерние сумерки. На телеге, еще не просохшей от навоза, кое-как прикрытый соломой лежал Стецик, а беглецы примостились с двух сторон на грядках. Правил Павел, Стецик, хотя и мертвый, все время подпрыгивал на выбоинах, будто хотел привстать.
— Тпру-у! — вдруг осадил лошадей Павел.
— Что такое? — тревожно спросил Юзек.
— Черти б его побрали! — ругнулся Павел. — Ты не ведаешь, зачем мы возимся с этим вот трупяком? — кивнул он на мертвого.
— А что же мы можем с ним сделать?..
В голосе Чарнецкого прозвучала неуверенность, Павел сразу уловил ее и внутренне разъярился еще сильнее.
Он и сам пока еще не решил, как поступать дальше, но, в отличие от Юзека, чувствовал крайнюю потребность в действии, и это давало Павлу в собственных глазах превосходство, давало основание вести себя свободно, независимо, будто и не было при нем представителя с той стороны. «Этот стервец до сих пор чувствует себя барчуком, — думал он. — Приехал, будто на каникулы. Найди для него убежище! Обеспечивай его тем и этим… Нашел дурака! Кончилось. Прошли ваши, пан Чарнецкий, времена. Ныне мы — ровня».
Если бы его, Павла, кто-нибудь спросил, почему он внутренне восстал именно против Чарнецкого, он, наверное, не смог бы ответить, удивился бы — в самом деле, почему? Злость кипела в нем. Он ненавидел и Юзека, который так неожиданно потревожил его своим приходом, и Стецика, приноровившегося, видите ли, к новой власти, к той самой, что изо дня в день крепнет, пускает глубокие корни… Более же всего, кажется, ненавидел себя. За неустроенность, за сопротивление всему, что творилось помимо его воли, с чем уже невозможно было не считаться, но что и принять он просто так не мог. И за вот это, конкретное: двое ведь их, пальцы обоих оставили следы на Стециковой шее, а думать должен он один.
Однако в самом деле: куда его? Что с ним делать? Хотя бы лопату с собой захватили… И вообще: как с лошадьми? Тащить их дальше, оставлять после себя следы? Какая-то бессмыслица, черт побери!
Стояли в ложбинке, поодаль от дороги. Лошади настороженно косили глазами — людская злость передавалась им, видимо, по тону разговора, нервозности, наконец, из-за позднего, пронизанного весенней влажностью вечера, когда им, лошадям, надлежало быть в конюшне, есть пахучее сено или жмыхи… Моросило, на потные конские крупы оседала холодная изморозь, лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу.
— Так как? — требовательно спросил Павел. — Или так вот и будем торчать, пока появятся «ястребки»? Чему же вас там обучали?
Чарнецкий смотрел на своего вынужденного сообщника. О-о, если бы не эти проклятые обстоятельства! Он показал бы, он знает, что и как делать…
Однако время не ждет. На хуторе уже, наверное, спохватились, всполошились. Надо было покончить и с женой Стецика — она, хотя ничего и не видела, вроде бы и не видела, сразу наведет на след… Сколько же прошло времени? Час, два?.. Еще не поздно. Она, наверное, думает, что Стецик повел лошадей на колхозный двор, в конюшню. Пока молчит, но вот-вот…
— Вон туда его, — наконец кивнул в темень Юзек.
Неподалеку, за кустами, угадывалась заросшая камышами речушка. В ней в самом деле можно было бы утопить тело, но и сам при этом намокнешь как следует. Где потом сушиться? Медлить, однако, означало бы подвергать самого себя неоправданному риску. Надлежало действовать. Немедленно, убежденно. Таков закон успеха, рассчитывать на него в полной мере, правда, не приходилось, но это была их тайна, каждого в отдельности, потому что выражать ее вслух никто из них не решался — это добавило бы новые осложнения, трудности, которых и без того хватало.
Павел достал мешок, лежавший в передке, швырнул на землю.
— Бери. — Он подошел к телеге, разгреб в соломе тело.
Чарнецкий остановился, вроде бы колеблясь; чувство отвращения, брезгливости давящим клубком подкатилось под горло.
— Бери… твою мать! — прошипел Павел.
Тело было еще теплым, мягким, податливым, однако явно не по мешку, и они с огромным трудом втолкнули его туда.
— Вот так, — тяжело переводя дыхание, — сказал Павел, — прежде чем что-нибудь сделать, надо пошевелить мозгами. — В глубине души он упрекал себя, что поддался непродуманной акции Юзека, в конце концов, со Стециком можно было бы найти какой-то компромисс, запугать, что ли, но не убивать. А теперь жди переполоха, все районные (да и областные) энкаведисты кинутся искать убийцу, ведь Стецик не так себе, не сам по себе, он у них на учете. А когда начнут искать, непременно найдут. Это уж как пить дать.
— Наша власть должна быть жестокой, — промолвил Юзек, повторяя сто раз слышанное Павлом любимое изречение Бандеры.
Так и хотелось ответить, что прежде всего надо обладать реальной силой, чтобы называть ее властью. Убить из-за угла или задушить человека, — это, пане, еще далеко не все, до власти вам, да и мне с вами, — как от земли до неба.
Сопя, проваливаясь в болоте, оттащили мешок в кусты. Под одним Павел заметил небольшое углубление, ногой столкнул туда тело.
— Надо чем-нибудь прикрыть, — сказал он и первым сорвал горсть каких-то стеблей, швырнул на недавнюю ношу, горбившуюся под кустом лозняка. — Больше давай, не жалей, — приказывал Юзеку.
Второй раз в своей жизни вот так хоронит Павел своего бывшего сообщника. Хоронит, считай, по-собачьи, тайком, без лишнего людского ока, без могилы. Впервые это случилось после боя под Глушей, когда застукали их партизаны, и какая-то случайная шальная пуля попала в одного из всадников, и они хоронили его у дороги, торопливо, потому что чувствовали погоню; второй раз — теперь… Разница разве лишь в том, что в тот раз смерть была все-таки в бою, а ныне они убили безоружного, хотя на это, как утверждает Чарнецкий, и имели моральное право.
Не раз в эти сутки Павлу вспоминался Стецик той — военной — поры, молодой, сильный, не измотанный боями и лишениями, советовавший и ему сидеть и не рыпаться. Сколько тогда в нем было гонора, самоуверенности!.. «И так вот… — подумал Павел. — Свои же сцепили на горле пальцы и бросили, будто падаль, в болото…»
Воспоминание было не из приятных, и Павел воспользовался случаем отмахнуться от него.
— Что, попал? — насмешливо спросил он, услышав, как Чарнецкий провалился ногой в болотную жижу.
— Пошел ты… — буркнул Юзек.
— А куда? — чуть не расхохотался Павел. — Может, на хутор, обсушиться? — Недавнее напряжение, казалось, переросло в нем в какую-то непонятную беззаботность, он вдруг стал равнодушным ко всему — и к Чарнецкому, и к Мирославе, которая, наверное, убивается по нем, и даже к собственной судьбе.
Почему он здесь, на этой вот стуже, на этом дожде? Ради кого или чего? Человек он или зверь, «дичак», как назвал его когда-то львовский профессор? Если человек, то почему прячется, избегает себе подобных, почему не выйдет, не встанет и не скажет: вот я, люди, такой-разэтакий, делайте со мной что хотите, а без вас я не могу. Если же зверь, нелюдь, то и дорога одна — в пущу, а там уже — как выйдет, до первого «ястребка», первого выстрела. «Интересно: буду ли защищаться, если придется?..»
— Я представитель и требую к себе надлежащего отношения, — заявил Чарнецкий.
— Потише, пан Юзек, тут даже кони умеют слушать. Вы будете иметь возможность убедиться в этом…
— Вы вытащили меня из города, вы обещали укрытие. Где оно? Почему мы стоим под дождем? У нас кони.
— Вот-вот, кони. Может, совершим нападение на Глушу или Копань? Этакий маленький кавалерийский налет… Напугаем Советы и назад, в теплые схроны. Они ведь приготовлены для нас, правда? А коней — в конюшню…
— Что за тон? — возмутился Чарнецкий. — Руководство рассчитывает на вашу поддержку, а вы шута из себя строите…
— Кто как может, пан Чарнецкий, так и действует. На этом весь мир стоит. Давайте лучше подумаем, как нам быть на самом деле. Никакого схрона у меня нет. Надежда была на этот вот, — кивнул на кусты. — Что вы предлагаете? Я жду ваших распоряжений.
— Надо искать укрытие.
— Где?
— Вы лучше знаете, вы здешний.
Павел помнил те землянки, где когда-то базировались, но не хотел показывать их Чарнецкому, держал для себя, про черный день.
— Допустим, мы найдем такое местечко, — сказал после недолгого молчания. — Однако что мы там будем трескать? Запасов нам никто не приготовил, а одним божьим духом не выживем до пришествия ваших спасителей.
— Где можно раздобыть пищу? — спросил Юзек.
— Ну, в магазине, в лавке… Где еще? Были бы в Копани — зашли бы в ресторацию.
— Пся крев! — ругнулся Чарнецкий. — А здесь, на хуторах?
— А где гарантия, что не нарвемся на «ястребков»?
— Они в каждой хате?
— Да, пан…
— Оставьте это свое глупое «пан»! — прервал Чарнецкий.
— Но ведь вы для меня пан. И раньше были паном, и ныне… — издевался Павел. — Поэтому еще раз напоминаю: приказывайте, что делать, иначе мы достоимся здесь…
— Мы должны воспользоваться лошадьми. Потом отпустим…
«Да, он прав, этот графский выплодок. Лошадей нужно отпустить, но и не воспользоваться ими — непростительно. И чем скорее, тем лучше. Но как, как?.. Где в самом деле раздобыть харчей? Разве что…»
— Поехали, — решительно сказал Павел и зашагал к телеге.
К жене Стецика! Иного выхода у них нет. Паскудить, так по крайней мере в одном месте, где, в случае чего, знаешь ходы и выходы. Стециковой бабе они скажут, что муж с ними, на акции, велел дать харчей… В конце концов, там будет видно.
Подстегнутые вожжами, застоявшиеся кони изо всех сил помчались в сторону хутора.
XII
Весть о таинственном исчезновении Стецика не была неожиданной. Случалось, что бывшие бандиты, не помирившись или же сводя старые счеты, укорачивали друг другу жизнь. Бывало, конечно, что и кто-то из потерпевших, их родных или близких тайком выполнял негласный, однако неумолимый приговор. Так случилось, например, в Ольховке, где в один из зимних дней нашли замерзшего в проруби бывшего бандита, сдавшегося властям, которого власть, сдержав свое слово, пощадила. Он стоял в воде торчком, можно было подумать, что полез напиться и свалился, однако ни Степан Жилюк, ни начальник районного КГБ Малец не допускали этого. Они знали истинную причину той смерти. Все-таки кто-то из пострадавших в свое время выследил, отомстил, не оставил зла безнаказанным.
И вот — Стецик.
Из протокола допроса его жены было известно, что накануне исчезновения мужа у них ночевали двое незнакомых, отрекомендовавшихся милиционерами. Женщина их не видела, однако свидетельствует, что те допоздна разговаривали с мужем за перегородкой, днем никуда не выходили, а муж запретил ей общаться с ними, дескать, люди в секрете. Вечером они со Стециком дважды куда-то выезжали. Правда, мужа она не видела, ей просто сказали, что отправляются вместе с ним на какое-то задание, потребовали харчей.
— Похоже, что у нас под носом орудует группа, а мы зеваем, — говорил Малецу Степан. — Бандиты запугивают людей, чтобы сорвать посевную, теперь жди новых преступлений.
— Не понимаю, — несколько обиженным тоном сказал Малец. — Делаем все, что в наших силах: за двором Стецика организовано наблюдение, местные жители предупреждены, ведется расследование…
— В урочище Поташня возле старых партизанских землянок лесорубы видели следы, — прервал его Жилюк.
— Мы были там, Степан Андронович, — поспешил заверить Малец.
— Что вы еще хотите сказать? Я слушаю, — спросил Степан, видя, что Малец колеблется.
— Ходят слухи, будто… Словом, что ваш брат Павел где-то здесь скрывается.
Наступила тишина. Степан быстро встал, под его тяжелой ногой заскрипела половица. Так. То, чего он подсознательно ждал, чего остерегался, случилось. Долго обходили его эти истинные или ложные слухи, долго от них его оберегали, но они все же ворвались. Ворвались в душу, в мозг, в повседневные большие и малые заботы. Хорошо или плохо, что принес их именно начальник районного КГБ Малец?.. Видимо, лучше, что он. От кого-то другого он, наверное, потребовал бы немедленных доказательств, возможно, не удержался бы в гневе.
Степан вдруг зачем-то расстегнул ворот сорочки, спросил сдавленным голосом:
— Это проверено? Факт или… просто слухи?
— Дыма без огня не бывает… Годы идут, за давностью многое забылось, однако разговоры о Павле почему-то не затухают. Кто-то подогревает их.
— И это вся аргументация? — сдерживая волнение, спросил Степан. — «Дыма без огня не бывает…» В таком случае, позволительно спросить: почему райотдел не расследовал, не дал объективных данных?
Заглянул секретарь из приемной, спросил: нет ли каких неотложных дел, потому что рабочий день закончился, он уходит домой. Жилюк согласно кивнул ему, подумал, словно бы решаясь на что-то, наконец, обращаясь к Малецу, сказал:
— Хорошо, обсудим этот вопрос на бюро.
Малеца нужно было отпустить, отпустить даже из тех соображений, чтобы не был свидетелем его растерянности. И он поступил так, сказал, что в самом деле продолжат разговор в ближайшие дни, ему еще необходимо посоветоваться.
Малец собрал бумаги, попрощался, и Степан остался наедине со своими тяжелыми мыслями. Только теперь заметил, что уже наступил вечер, следовало бы идти домой, однако… Впрочем, не это, не личная неустроенность донимала ныне его, а то, услышанное, что внезапно прибилось, перевернуло душу. Ясно же, Павел не мог исчезнуть бесследно. Не мог бежать и туда, за границу, — не тот характер. Упорный, заклятый, он и пошел по тому, как ему казалось, своему, собственному, а оказалось — ошибочному, пути, лишь бы только быть здесь, на своей земле, иметь ее вдоволь и ни с кем не делить… Однако — неужели решился на нелепый поджог?.. Не верилось.
Дневной гул постепенно затихал. Лишь от станции, со стороны железной дороги, изредка широкой тугой волной доносился шум поезда. Ночью поездов становилось больше. Главным образом товарных; они мчались без остановки, сотрясая своим грохотом старые станционные пакгаузы, близлежащие дома, одиноко торчащие среди заросших бурьяном груд камня, кирпича, бетона.
Степан Жилюк прошелся по комнате, открыл окно. Прямо перед ним, в полутора десятках метров, темными купами лежали бетонные глыбы — остатки православного собора, в котором, по преданию, происходила панихида по навеки усопшему царскому изгнаннику князю Андрею Курбскому. Жилюк, казалось, обрадовался этому невольному, совершенно не связанному с его состоянием, с его хлопотами воспоминанию, которое могло отвлечь внимание от назойливых мыслей, однако вскоре и разочаровался в нем, потому что почувствовал — никакой Курбский, никакая история не заслонят того, что острым клином вошло в сердце. Она, эта история, если и может ныне заинтересовать, то лишь как свидетель многострадальности края.
XIII
В Копань для «Рассвета» прибыло около тонны посевного материала, и Гураль снарядил за ним три пароконные подводы. Зерно поступило из Подмосковья, от хлеборобов одного из тамошних колхозов, с которым вот уже несколько лет соревнуются великоглушанцы. Конечно, «соревнуются» звучит слишком громко, ведь все понимают, что силы сторон далеко не равные, чтобы можно было сомневаться в победителе, волыняне так и заявили во время первой встречи, однако условия приняли охотно, потому что, строя новую, пришедшую вместо прежней, тяжелой и трагической, жизнь, чувствовали немалую потребность в помощи. Колхозы обменялись делегациями, особенно полезной оказалась поездка во главе с самим председателем райисполкома — неделю или даже больше жили они, присматривались да прислушивались ко всему, накапливая опыт. Это было поздней осенью, потом они обменялись письмами, и вот…
— Устим, хотел поговорить с тобой о зерне, — сказал Печерога председателю Гуралю, остановив его в тот же день, когда поступила телефонограмма.
— О каком, слышь, зерне?
— Думаешь, никто не знает… — многозначительно произнес старик. — Обманут они нас, ей-богу обманут…
— Кто обманет?
— Да москвичи же, кто еще? — Печерога подошел вплотную, зашептал, щуря слезящийся глаз: — С какой это стати, скажи, люди должны так расщедриться, а?
Гураль рассмеялся:
— Шли бы вы, дедушка, на печь греться.
— Моя печь за плетень не убежит, — обиделся Печерога, но все-таки ушел, недовольно махнув рукой.
…Одной из трех телег, нагруженных мешками с зерном, управляла Катря Гривнячиха, немолодая уже женщина. Жизнь вдоволь поиздевалась над Катрей, поводила ее батрачкой по кулацким хозяйствам, забрала старшую дочь, которая наверняка была бы уже чьей-то невесткой, подарила бы старикам внука, а то и двух, но она, жизнь, сделала Катрю и упрямой, трудолюбивой, даже яростной в деле. Кое-кто посмеивался над Романом Гривняком, ее мужем: дескать, живет человек и хлопот не знает — жена и дров привезет, и сена накосит, и поле вспашет, и засеет… Катря слушала эти насмешки — иногда равнодушно, иногда близко принимала к сердцу, ведь правда, люди добрые, ох какая правда! Всему научила ее жизнь, всем одарила, кроме счастья. Умеет она и коня запрячь, и косу направить, и плуг подготовить, и… да и чего только не умеет! Не дано ей лишь хотя бы краешком глаза заглянуть в то, что называется счастьем, прикоснуться к нему хотя бы мизинчиком, хотя бы на одну лишь минутку. Чтобы быть как люди, чувствовать, как люди, а не гнуть спину всю жизнь на других, не сохнуть, как стебелек на обочине, на который обрушиваются все дожди и все ветры, все стужи и зной.
Не торопясь, с выбоины на выбоину, ползет телега, натужно посапывают лошадки. Обочь разбитого проселка, сверкающего круглыми блюдцами весенних луж, — поля, перелески, болотца. Поля уже проснулись, супесчаные склоны покрылись озимью, а на болотах, среди камышей и лозняка, появились молодые побеги. Пахнет набухшими почками, влажной пашней и еще чем-то, что тревожит Катрю всю жизнь, с тех пор как ступила на землю, и чего никак не может понять. Пожалуй, землей пахнет. Самой землей…
Мужчины-возницы спрыгнули с телег, идут рядом, курят.
— Согрейся, Катря.
Это они приглашают ее малость размяться. Ведь проехали с десяток километров от станции, можно, ясно, и озябнуть… Однако Катре не хочется сходить с телеги. Да и кирзовые сапоги ее изношены, изорваны так, что в них всю воду соберешь; и хорошо ей здесь вот так: полные мешки, справная телега, лошадки — хотя и нелегко им, но вроде бы понимают ее, Катрю, идут дружно, без кнута даже; и еще — устала, по правде говоря: как бы там ни было, а ведь с рассвета на ногах.
— Спасибо, я посижу…
Мешочков ей нарочно положили меньше — чтобы и коням легче, и она чтобы могла сидеть, не тащиться за телегой. И приятно Катре, и почему-то тревожно на сердце. Отчего бы это? Все вроде бы складывается неплохо, зажили вот, слава богу, по-человечески. На собственном поле — хозяева, никто теперь над ними не издевается, не глумится. Нелегко? Конечно. А где это видано, чтобы сразу, считай, из ничего да что-нибудь появилось? Без мозолей только ложка держится…
Какая-то пичужка все время сопровождает обоз, перелетая с куста на куст, с ветки на ветку, будто норовит заглянуть в глаза. Не душа ли чья-то? Может, и Оксанкина, ее старшей доченьки… А может… Да господи, разве она мало на веку смертей видела?
Птичка откликнулась тонким голосочком. «Чего тебе, милая? Иль предвещаешь что? Говори, говори…» Катря поправляет платок-цыганку с полуоборванной бахромой, будто высвобождает ухо, чтобы лучше услышать. До ее слуха доносятся далекий гул одинокого трактора, который ползет по пригорку вдоль леса, серебристый звон жаворонка над озимью, топот лошадей и какие-то таинственные вздохи. Катря вслушивается, однако угадать, откуда эти вздохи, не может. Видимо, это просыпается земля, душа ее — все эти русалки, лесовики да водяные… Пройдет еще немного времени, и загомонят они, запоют веснянки, зеленым шумом рощ и дубрав…
Ласковый тон Катри, тепло руки, касающейся конской морды, или, может, просто вся ее кручина словно бы передаются животным, и они послушно тянут за женщиной.
— Вот так, вот так… — приговаривает Катря. — Еще чуточку…
И кони, похрапывая, уже выбираются на твердое, вот-вот можно остановиться, передохнуть, подсобить увязшим. Катря мысленно благодарит судьбу, что так все обошлось, как вдруг… что-то громыхнуло, ослепило ей глаза, небо, весь свет, что-то оторвало ее от уздечки, швырнуло наземь, и она потеряла сознание… А когда очнулась и подняла тяжелые, будто не свои, веки — померк свет, померк день. Только и увидела тех, двух ездовых, да коня, что стоял в сторонке…
— Что со мной, люди? — простонала Катря.
— Жива — вот главное, — послышался знакомый голос.
Катрю подняли, и она оперлась на шершавый вербовый ствол. Долго переводила дыхание, приходила в себя, а потом заплакала горько, надрывно. Плач ее разрывал душу, как-то жутко звучал среди весеннего безмолвия, которое так внезапно откликнулось прошедшей уже войной, откликнулось жестоко и немилосердно, и двое мужчин, оторопев, стояли беспомощно, не зная, что же им сейчас делать. Нет коня, нет телеги, нет и части хлеба, зерна, которое везли, чтобы засеять поле.
— Ну хватит, хватит, Катря. Слезами горю не поможешь. Хорошо, что так обошлось. Если бы шла позади телеги, то и следа бы не осталось… Наверное, противотанковая. Натыкала их немчура. Всю землю начинили смертью, паршивцы. Вишь, когда сработало…
Катря уже не рыдала, только всхлипывала сухо, бесслезно, ведь где же и слезам набраться, если столько вылито их на веку. Вот тебе и пшеничка, и посевное, и свежий каравай нового урожая…
XIV
По старинной привычке Великая Глуша просыпалась рано. Как и всегда, первыми будили ее женщины — звоном ведер, подойников, негромкой и невелеречивой с утра гуторкой; а потом уж появлялись на подворьях мужчины, выстаивали минуту-другую в раздумье, закуривали или не закуривали и неторопливо принимались за дело.
Впрочем, ныне, после организации колхоза, этот распорядок немного нарушался. Мужчины выходили на улицу одновременно с женщинами или даже раньше их и торопились на конюшни, на общественный двор, где уже ржали кони, мычали коровы, где никогда не умолкали свиньи, расхаживали сторожа, которые только сейчас, казалось, начинали свои обходы, появляясь из мглы, будто привидения.
Галина Никитична, учительница, тоже вставала рано утром. Жила у молодых Жилюков и, хотя хозяйства у нее не было — все ее богатство помещалось в деревянном сундучке и старом, еще, наверное, школьном, портфельчике, — работу для себя она находила. Прежде всего помогала Марийке. Если та, вскочив на рассвете бежала на ферму, к коровам, Галина разводила огонь в печи, ставила туда с вечера приготовленные чугуны картошки для поросенка и кур, и еще до Марийкиного возвращения там уже булькало, шипело, брызгало искрами, на всю хату разносилось веселое тепло.
— Отобьете вы у меня мужа, Галина, — шутила молодица. — Вот так постепенно привыкнет к вам, да и откажется от меня…
Они были почти одногодками, Марийка, правда, чуточку старше; различало их разве лишь то, что одна по-цыгански смуглая, а другая, волынянка, белявая. Южный степной загар, который веками въедался в плоть и кровь Галиных предков, казалось, более всего проявился именно в ней — в лоснящихся, будто два вороньих крыла, бровях, карих, с оливковым оттенком, жгучих глазах, в густо высыпанных на лице и на шее родинках. «Видимо, и Галкой меня назвали потому, что черная», — не раз думала девушка. Что только ни делала, какими мазями тайком ни пользовалась, чтобы вытравить черноту, а она становилась еще заметнее, с годами сильнее, и Галина наконец сдалась. Тем паче что вскоре, как подросла, стало не до этого, а ныне и тем более. Теперь у нее хлопот полон рот, успевай лишь поворачиваться. Одна школа чего стоит. А еще и работа агитатора, ликбез, кружки, всякие кампании — от посевной до выборов в кооперацию…
Село только возрождалось, поднималось из адских руин, вылезало из землянок и недогоревших, кое-как прикрытых соломой срубов. Его надлежало строить заново, возводить в память о тех, кто вбил здесь первый колышек, посадил первое дерево, проложил первую борозду, во имя тех, что родились, родятся, чтобы не умерла святость этой земли, ее извечное призвание давать добро.
И как бы там ни было, какие громы и молнии ни обрушивались на головы людей, а жизни не остановиться, постоянному ее течению не замереть. У тех, кто уцелел в смертельных водоворотах, были дети, и их нужно учить, потому что так заведено на свете, что старшие, родители, учат младших, передают им и знания, и опыт, и обретенную дорогой ценой сообразительность. Великоглушанцы отвели под школу одну из комнат в старом имении, собственно — зал, принесли откуда только можно было стулья и скамейки, а к стене, как и полагается, прикрепили доску, сколоченную из разломанных панских шкафов.
С первого сентября и до начала лета собиралась здесь детвора. Ее оказалось на, удивление много, мальчиков и девочек, при родителях и сирот, чьи родные были расстреляны в тот страшный день, когда враги жгли село. Среди них были старшие, переростки, которым ходить бы в седьмой или восьмой, и малыши первоклассники, чья школьная биография только начиналась. С этими было легче, они и слушались, и учились значительно лучше, чем те, старшие.
Галина все чаще возвращалась мыслями к тому весеннему вечеру, когда у своего младшего брата ночевал Степан Андронович Жилюк. Будто ничего такого тогда и не случилось — ну, встретились двое чужих людей, познакомились, поговорили… Все как обычно: он расспрашивал, потому что это даже входило в его служебные обязанности, она отвечала. За ужином, после ужина… Потом он приезжал еще раз, и они снова беседовали, но, кажется, беседа эта была еще более официальной, деловой: она добивалась, чтобы поскорее заканчивали строительство школы, он даже не поинтересовался ее положением, хотя и должен был, ведь учительнице тоже необходим какой-то собственный угол… Все как обычно, — и встречи, и беседы, однако волнует ее, тревожит этот человек. В особенности когда от Марийки узнала о его прошлом, о его страшном горе. И ей больно за него. Иногда сама удивляется: он ведь и старше, и по положению выше, и жизнь прожил большую. Что она в сравнении с ним? Девчушка. Люди засмеют, когда узнают… Так что молчи, Галка, и слова не пророни, и в сны не допуская…
А на дворе становилось все теплее. Первые цветы появились среди прошлогодних сухих бурьянов, покрыли посеревшие от времени пожарища, постепенно размываемые дождями и вешними водами. Одинокие новые здания, а среди них и Андреева хата, казались какими-то необычными, нездешними на печальном фоне пожарищ, обгорелых верб и осокорей — свидетелей жутких оккупационных дней и ночей.
С весной прибавилось и работы в школе. Заканчивался учебный год, а под конец всегда набирается всякой мороки, тем более когда у тебя ни твердых программ, ни учебников, ни тетрадей, да еще и колхозу нужно помогать.
— Вы там, Галина Никитична, не очень на парнишек обижайтесь, — не раз говорил ей председатель колхоза Гураль. — Пускай лучше к делу привыкают.
Он имел в виду тех, переростков, наобещал им трудодней, чтобы только не чурались конюшен да мастерской, где всегда ощущалась нехватка рук.
— Если кого и упрекать, — отвечала ему Галина, — так это вас. Да еще Хомина, сельсовет. Сколько можно строить школу? Мучаем детей, а вы и ухом не ведете.
— Знаю, знаю, — отмахивался председатель. — Она мне уже — слышишь или нет? — вот где сидит, — показывал на затылок.
— Если бы сидела, поскорее сбросили бы. А то тянете.
— Дай, дочка, закончить сев да с огородами управиться. Если бы только и хлопот что одна школа!.. Ты вот что, — предложил он однажды, — могилы у нас, видишь, так, может, вы с детишками того… Весна все-таки, май, как ни есть — праздник. А там и — Победа, пять лет как-никак.
Галина слушала его и удивлялась: сельский дядька, хозяйственник, что ему школа, учителя, ученики? Больше навоза, ремонт, лишь бы в исправности все было да лошади накормлены… Ан нет! Гураля, оказывается, волнует и школа, и память о погибших, и их учительская судьба, — по собственной инициативе сказал как-то, что вот-вот возьмутся за строительство школы.
— Не знаю, как ты, а лично я не намерена сидеть в этой глуши, — заявила подруга Людмила, когда Галина рассказала ей об обещании председателя.
— Убежишь?
— Нет, просто уеду. Подам заявление в районо и уеду.
— А если не отпустят?
— Выйду замуж, — не задумываясь, выпалила. — Не для того двенадцать лет училась, чтобы месить эту грязь.
Галина не стала спорить — таких только жизнь поставит на путь истинный, уговоры здесь напрасны.
— Хорошо, оставим эту тему, — сказала. — Будет видно. А сейчас давай готовиться к воскреснику.
— А зачем к нему готовиться?
— Хочу, чтобы он прошел не так себе, не по принуждению.
— А не хватит ли бередить раны? Людям и так больно — столько погибло, такие руины…
— Нет, не хватит, — твердо ответила Галина. — Народ никогда не забудет то, что пережил.
— Теория, — сказала подруга. — Но пусть будет по-твоему.
Воскресенье выдалось облачное, хотя и без дождя. С утра собрали старших на площади, на том самом месте, на котором сельчане встретили свой смертный час; потом школьники вместе с учителями направились к могилам.
Сельское кладбище — место не менее важное, чем само село. Сюда человек приходит после всех своих трудов и дней, — праведных и неправедных, известных и никому не известных поступков, которые определяют его человеческую и гражданскую сущность. Собственно только с нею, сущностью, человек и оказывается здесь, потому что все остальное, о чем он заботился и что успел сделать, что остается, должны продолжать (или же уничтожать, если того заслуживает) другие. Такова мудрость жизни.
Местом вечного покоя великоглушанцы с древних времен избрали широкий песчаный косогор, называвшийся Вырубом. Начинался он сразу же за селом, в конце огородов, окружен был старыми скрюченными соснами. Никто не помнит самого древнего поселенца косогора — можно только догадываться, что был им тот, кто в далекие времена, когда Полесье лишь начинали заселять, одним из первых ступил сюда, в царство лесов, озер и речек, и построил здесь жилье. Видимо, чтобы определить свое место среди безбрежной глухомани, глуши, он назвал ее Великой, подчеркнув тем самым ее величавость и важность.
С тех пор много глушан похоронено здесь; кое-где на кладбище уже и тесно, приходится тревожить старые, проросшие корнями кости; случалось, десятками ложилось здесь воинство, однако такого, как тогда, в тот судный день, здесь еще не видели. После карателей тогда остались сотни убитых, будто смерть неизвестно за что, за какие провинности учинила над жизнью свою жестокую, неслыханную расправу. Трупов лежало столько, что ни о каких гробах не могло быть и речи. Да и кто бы делал их, когда большинство, если не все, мужчин полегло от пуль эсэсовцев. Те, что уцелели, чудом остались в живых, и кому надлежало теперь позаботиться о мертвых, брали их, укладывали на дне устланной соломой ямы — один за одним, слой за слоем легли в землю пахари и сеятели, косари и молотильщики, плотники, сапожники, портные. И выросла у входа на кладбище, на свободной опушке, высокая могила, названная братской. Увенчивал ее деревянный обелиск с красной звездой, по склонам уже вырос пырей — самая сильная из полевых трав, а внизу, вокруг могилы закурчавился барвинок.
— Галина Никитична, а правда, что снова будет война? — спросил учительницу мальчишка, из тех, переростков.
Он подносит куски дерна, которые поодаль нарезают девочки, руки его в земле. Услышав вопрос, притихли и другие. Будет ли война?
— Нет, дети. Слишком дорого люди заплатили за мир, чтобы уступить его.
— А почему же говорят?..
— Кому-то выгодно говорить. Но это наши недруги, их значительно меньше, чем тех, кто отстаивает мир.
Неужели же и этим вот детям придется отстаивать его такой дорогой ценой?
Через час-другой убрали прошлогоднюю траву, подновили дерн и пошли гурьбой посмотреть обелиски, кресты, просто вросшие в землю могилы. Уже, наверное, неизвестно и чьи. Пройдет десяток лет, и вишенники, разросшиеся из хрупких, когда-то высаженных у изголовий вишенок, поглотят их, затянут, переплетутся внизу корнями, вверху — зелеными кронами; а потом, до середины лета, будут сверкать бархатными ягодами. И под этими кронами скроются и люди, и их дела, и их доблести…
Несколько мальчишек остановились у чьей-то могилы.
— Вот мой дядя, — похвастался Проц.
Галина прочитала: «Федор Емельянович Проц. 1901—1939». Наверное, о нем рассказывают в селе. Отчаянной смелости человек был!
— Его в тридцать девятом, перед освобождением…
Нет, не умер ты, Федор Емельянович. Племянник вот помнит, гордится. А у него тоже будут дети. Добро не исчезнет бесследно.
Остаток выходного дня Галина посвятила себе. Отпустила детей и, уже не заходя в контору, пошла домой. Близился вечер. Марийка только что возвратилась с работы, хлопотала по хозяйству.
— Не помочь ли вам? — спросила Галина.
— Нет-нет, что мне тут помогать? После фермы это уже как отдых. Воскресенье, вы малость отдохните, а то все на ногах. Скоро Андрей придет, ужинать будем.
— Так я тем временем голову помою… — Схватила ведро, принесла воды, налила в чугуны и — в печь, к огню.
— Корыто возьмите.
Вдвоем помыли голову, а потом Галина закрылась в боковушке и давай плескаться. Давненько припасен у нее кусочек пахучего мыла, родители прислали, — вот и не нарадуется. Кажется, будто в детство свое вернулась.
— Красивая вы, Галя, — сказала, увидев ее после мытья, Марийка. — Пару бы вам под стать.
— Еще не выросла моя пара.
— Ну да, так вам кто-нибудь и поверит!
— А вот и поверьте. Может такое быть или нет?
— И может, и… нет, — засмеялась Марийка. — Мы с Андреем любим друг друга, считай, с детства. В партизанах в засаде, бывало, сидим, сторожить надо, а Андрей все про звезды да про звезды: посмотри, Марийка, говорит, вот это Большая Медведица, а это — Малая… И начинает небесную азбуку читать мне.
— Хороший он у вас.
— Когда спит, да еще и с дубинкой стоять возле него…
Смешно обеим, радостно, будто и нет никаких хлопот, будто и не трудились весь день.
— Что это вы тут разговорились? — с напускной суровостью спросил Андрей, появившись на пороге. — Эхо по всему двору…
— Рассказываю Галине, как ты меня небесной азбуке обучал. В партизанах, помнишь?
— Нечего тебе делать. Готовь лучше ужин.
— Давно готов, дорогой муженек. Умывайся, да и сядем за стол.
Галина распустила волосы, стала у печи, чтобы подсохли. Легонькое, наверное, еще школьное, платье обтягивало ее стройную фигуру — Андрей даже отвел глаза. Бесовское зелье!
Однако и ему надоело думать о хозяйственных хлопотах, отпустил тормоза.
— А ведь слушала о звездах-то, — улыбнулся жене.
— Что было делать? Или я против? — засмеялась.
Так и вечер прошел.
XV
Вот какую дилемму поставила перед Степаном жизнь. Всякое случалось у него на пути — бои и отступления, победы и поражения, тюрьмы, лагеря и ощущение желанной воли, свободы, освобождения, но такое… Лучше бы кому-нибудь из них погибнуть. А то, будто в насмешку, сведены родные братья в таких ролях, на таких позициях.
То, что Малец решился и сказал ему о Павле, свидетельствовало, что дело дошло до крайней точки, что нужно действовать. И не кому-либо другому, а именно ему.
После тяжелой бессонной ночи, когда перед ним снова и снова — в который уж раз? — промелькнула собственная жизнь, Степан долго умывался холодной водой, чтобы хоть немного согнать с лица следы усталости, пил крепкий чай, пока окончательно не утвердился в том, при Малеце принятом, решении.
Да, он поставит вопрос на бюро. Поставит прямо и открыто. И — если что — попросится с работы. Иного выхода он не находит. Искренность всегда себя оправдывает. И вознаграждает. По крайней мере, он сможет честно смотреть людям в глаза.
Секретарь райкома Кучий, просмотрев заявление Жилюка, быстро положил его в сейф, будто боялся, что иначе, например, со стола, оно может куда-нибудь исчезнуть или же Степан передумает и пожелает забрать обратно, и только после этого сказал:
— Я ждал этого.
— Могли не ждать. Ваше право и ваш долг…
— Зачем торопиться? Важно, как человек сам к этому отнесется.
— У вас в отношении меня есть сомнения?
— Что вы, что вы, Степан Андронович!
— Тогда почему вы молчали? Знали ведь, наверное, давно.
— Не так давно. Но это не имеет значения. Как думаете, будем слушать на бюро? Вы настаиваете?
— Вам решать, Иван Поликарпович. Я тут не судья.
— Ну ладно, ладно. Вы, вижу, плохо спали.
— Мой сон не относится к делу. Когда бюро?
Кучий помолчал, прошелся за столом по дорожке, шаги его неслышно утопали в мягком войлоке. В защитного цвета костюме — широкое галифе и наглухо застегнутый френч, — медленный в движениях, с почти постоянной «беломориной» в руке, он напоминал известную по фотографиям и картинам фигуру человека, чей портрет висел на стене, — взгляд этого человека сопровождал все, что происходило в этой комнате. Отличали Кучия разве лишь полнота, ее невозможно было скрыть никакой одеждой, да еще курчавые волосы. Кучий старательно подстригал чуб, смазывал и гладко причесывал, но стоило день или два не сделать этого, как природа брала свое: легонькие «барашки» густо покрывали голову, в особенности затылок. И сходство исчезало.
— Хорошо, — остановился Кучий, — раз вы так настаиваете, — сказал подчеркнуто, — давайте вечером. В шесть. Что-то конкретное будете просить? — Он остановил Степана уже у дверей.
— Не знаю, — сказал тот.
Кучий был из тех людей, которые порученное им общественное дело рассматривают как частицу своего, личного, и потому невзгоды по службе, расхождения во взглядах коллег на тот или иной вопрос относят на свой счет и на этой основе строят свои отношения. Со Степаном Жилюком у него сложилось вроде бы все нормально, тот удовлетворял его и своими деловыми качествами, и морально-этическими. Несколько раз за эти два с лишним года, как Кучий принял хлопотное хозяйство Копанщины, они, правда, скрещивали шпаги, однако такое случалось нечасто, партийные и советские органы района шли нога в ногу.
Последняя их размолвка случилась недавно, во время распределения подписки на заем. Жилюк считал необходимым заступиться за великоглушан, своих односельчан, — дескать, их нельзя ставить наравне с другими, менее потерпевшими от оккупации. Прилагал усилия, чтобы предложенную финансовым отделом для Великой Глуши сумму свести до минимума. И — главное — сумел убедить членов бюро. Кучий остался тогда в одиночестве, если не принимать во внимание заведующего финотделом, не члена бюро. Случай этот оставил в душе Кучия неприятный осадок. Вспомнилось, как Степан Андронович, коммунист с большим стажем и опытом, с не очень большим энтузиазмом принял решение о выселении причастных к националистам семей. Не возражал, нет, однако призывал к внимательности в каждом конкретном случае.
Да, авторитет у Жилюка железный, авторитета у него достаточно. И, может, именно это портит человека, придает ему смелости время от времени делать подобные заявления, шаги? Не он первый, не он последний, кого авторитет доводит до зазнайства, эгоистичности и так далее. Но хорошо, у них еще не дошло до предела. Жилюк — добросовестный работник. Однако последние факты, этот рецидив бандитизма — не результат ли его доброты и лояльности? Как расценят это наверху? Время, обстановка напряженные, малейшая оплошность обязательно приведет к нежелательным результатам. Возможно, даже к оргвыводам. Один факт, одна сожженная конюшня, одно убийство, а там скажут… Следовательно — никому и ни в чем ни малейшей поблажки, ни малейшей уступки.
С такими мыслями-намерениями пришел Кучий на бюро.
Прежде всего, следовало представить редактора новой газеты, организовавшейся при политотделе МТС, и он заученно назвал фамилию, имя и отчество худющего, в массивных очках, закрывавших половину лба, человека, который вошел последним и сел у двери.
— По вопросам кадров обращайтесь в райком, — добавил Кучий, когда редактор закончил рассказывать о себе. — И без проволочек. Через неделю чтобы читатель получил газету. Все ясно?
Редактор сверкнул на него очками, за стеклышками которых виднелись прищуренные глаза, слегка кивнул и присел на широкий, с высокой спинкой диван.
Потом стоял вопрос о ходе весенних полевых работ — информация заведующего земельным отделом. Вопрос уже обсуждался раньше, поэтому особых прений не разворачивали, постановили больше внимания уделить новой культуре, кок-сагызу, которая не вызывала у хлеборобов восторга.
По поведению, настроению членов бюро Степан Жилюк понял, что они проинформированы о содержании его заявления и не очень рады быть участниками его рассмотрения. По крайней мере, так ему показалось, так, наверное, чувствовал бы себя и он, если бы речь шла о ком-нибудь другом. Будто угадывая это настроение и давая возможность рассеять его, Кучий объявил короткий перерыв, сказав при этом, что не члены бюро — свободны. Несколько человек поднялись, вышли, остальные оставались на своих местах.
Кучий молча подписал принесенные секретарем бумаги, как-то тяжело, не торопясь, положил ручку и только после этого поднял голову.
— Так что, товарищи… нет охотников курить? Будем продолжать? — Он подошел к сейфу, щелкнул замком, достал свернутый вдвое стандартный листик. — Такие, товарищи, дела. Откровенно говоря, неприятные. От члена бюро райкома, председателя исполкома районного Совета товарища Жилюка поступило заявление… Я вам зачитаю его.
Заявление было кратким, всего на полстранички. После оглашения его наступило молчание. Кучий стоял, опершись руками на стол, ждал.
— Чем вызвано такое заявление? — нарушил молчание секретарь райкома комсомола Моцак.
Кучий посмотрел на Жилюка, на Малеца, однако ни один из них не пошевельнулся.
— Отвечайте, Степан Андронович.
— Содержание заявления, по-моему, говорит само за себя, — неохотно сказал Жилюк.
— Нам всем известно о вашем брате, Степан Андронович, — продолжал Моцак. — Но что послужило причиной подавать заявление и почему именно теперь? Почему не раньше, не позже?
Жилюк утомленно встал со стула.
— Трудно говорить, товарищи. То, что вам известно, в самом деле известно всем. Так у нас сложилось. Родня моя погибла от фашистов, а брат оказался в прислужниках. И никто не упрекал меня в этом. По крайней мере до сих пор. Но вот товарищ Малец почему-то решил поделиться со мной одной тайной: будто этот самый мой брат где-то здесь и все неприятные случаи в районе, мол, дело его рук.
— Я этого не говорил, — бросил Малец.
— Не говорили. Однако должность, которую мне доверили народ и партия, при таких условиях я занимать не могу. Это было бы нечестно, совесть не позволяет мне.
— Да подождите вы, — недовольно прервал Кучий. — Совесть, условия. Сами усложняете дело…
Жилюк сел, уставился глазами в стол.
— Иван Поликарпович, — прозвучал рядом голос начальника железнодорожного депо Осадчего, — расскажите: что доподлинно известно про Павла Жилюка, если уж так стоит вопрос.
— А это Малец пускай и объяснит, — сказал Кучий.
Капитан порывисто поднялся, расправил под ремнем гимнастерку, говорил, обращаясь главным образом к Кучию, будто объяснять надлежало именно ему, только ему, а не всем присутствующим.
— Райотдел пока не располагает достоверными данными о, пребывании бывшего оуновца Павла Жилюка на территории района, — сказал он. — Однако, товарищи, логика событий… Поймите меня, Степан Андронович, я ни в чем не хочу вас обвинять, уважаю вас и ваши заслуги, считаю честью работать вместе с вами…
— Но это не аргументы, — прервал его Моцак. Недавний армеец, комсорг полка, он говорил горячо. — Обвинения требуют доказательств.
— И проверки, — добавил редактор районной газеты.
— Каких доказательств? Какой проверки? — горячо возразил Малец. — Для чего? Будто мы что?.. Я не мог не сказать о том, о чем говорят.
— Садитесь, — сказал капитану Кучий. — Какие будут мнения, товарищи?
— Позвольте. Но ведь Малец не обвиняет Степана Андроновича в каких-либо грехах. Он просто ставит перед фактом. Товарищи! Будем откровенны: Степан Андронович сам втянул нас в эту историю. Зачем было писать заявление… придавать по сути частной беседе такую помпезность?
Говорил Мосейчук, секретарь, ведавший вопросами идеологии. Жилюк сам рекомендовал его, учителя-историка, в состав райкома, человек казался принципиальным, серьезным, таким, в конце концов, и был в большинстве случаев.
— Заявление Степана Андроновича мне представляется оправданным, — возразил Осадчий. — Каждый из нас поступил бы так же. Иначе что: честь мундира, мол, оберегает собственный авторитет.
— Вот-вот…
— Позвольте, Иван Поликарпович, — поднял руку Малец.
— У вас еще что-нибудь?
Малец выждал, пока в комнате стихло.
— Как хотите расценивайте, товарищи, но вот совсем свежий факт, в Копани, оказывается, жена Павла…
Члены бюро переглянулись, взгляды остановились на Степане.
— И Степан Андронович принимал ее, даже обещал помочь с квартирой.
Жилюк вздрогнул.
— Это не соответствует действительности, — сказал он тихо, но с особой твердостью.
— Но если она была у вас, Степан Андронович… — настаивал на своем Малец.
— Что за женщина, кто она? — обратился к начальнику КГБ Кучий.
— Буфетчица на автовокзале, живет на кладбище, в бывшей сторожке. Мы напали на ее след буквально днями. Во время оккупации, пребывая в отрядах УПА, Павел Жилюк некоторое время жил с ней в Копани.
— Они зарегистрированы?
— Нет, в том-то и дело.
— Арестовали? — спросил Кучий.
— Нет. Так лучше для дела. Да и… беременна.
Степан вспомнил: действительно, недавно у него была женщина, беременная, просила помочь с жильем…
— Что скажете, товарищ Жилюк? — сухо спросил Кучий.
Степан стоял, пальцы его мелко дрожали.
— Не знаю никакой жены брата. И вообще, товарищи члены бюро… Мало ли какие посетители у меня бывают… Так что же из этого?
— Вам она не открылась?
Вопрос принадлежал, кажется, Мосейчуку. Жилюк повернулся к нему, сказал:
— Вы что же, допускаете, что…
— Подождите, Степан Андронович, — резко встал Кучий. — Вопрос будем считать неподготовленным. Думаю, товарищу Жилюку нет оснований для амбиции, заявление его необдуманное. Мы здесь все свои, говорить должны откровенно. Тем более что некоторые факты, касаются они Жилюка или не касаются, вынуждают нас к таким разговорам. Малец — работник молодой, мы ему помогаем, но и более опытный не мог бы, не должен проходить мимо таких фактов. Согласны, товарищи?
Наступило молчание.
— А как же с заявлением? — спросил Моцак.
— Заявление Степан Андронович может забрать. — Кучий положил перед Жилюком бумажку. — Думаю, сейчас это будет самым правильным.
XVI
Мирослава лихорадочно искала выхода из тупика, в который неумолимо все эти годы загоняла ее и в конце концов загнала жизнь. От Павла не было никаких вестей. Черная неизвестность покрыла его последний путь. Слышала об убийстве на хуторе, догадывалась, чьих рук это дело, и больно сжималось сердце. Неужели мало ему, неужели разум его затмился окончательно?..
Ведь клялся. Во имя всего, что между ними было, во имя… Однако она не смеет связывать это с прежним. Это новое — ее, оно не имеет никакого отношения к прошлому. Она оградит его от всего злого и ненадежного, что так настойчиво врывается в ее жизнь. Она — мать.
А может… может, пока не поздно… Иначе как ему придется жить? Безотцовщина… Но — нет! Нет! Нет!.. Уберечь его, уберечь от всего зловещего, пустить на свет человеком — это ее долг. Ради и во имя, ныне и до последнего дыхания.
Мирослава бродила по городу, часто невольно сворачивала в переулок, где раньше было кафе, и где они впервые встретились. Влекло ее сюда, будто снова должна была увидеть Павла, который не раз и не два проходил по этой тропинке.
Городок жил. С каждым днем в нем становилось все больше людей, с утра до вечера не умолкал гул машин, вывозивших куда-то груды битого, поросшего бурьяном кирпича. Часто выходили на эти работы и жители, в особенности в воскресенье, и тогда Копань напоминала гигантский муравейник, который бурлил, кипел, смеялся, пел. Мирослава — ей тоже хотелось быть вместе со всеми — удивлялась: как все просто! Будто эти люди только тем и занимаются, что разбирают руины. Если бы от нее зависело, то она после всего, что случилось, что творилось здесь и во всем мире, объявила бы вечный траур, вечное искупление вины живых перед мертвыми. Ведь сколько пролито слез, крови! Какой плач, какая печаль окутывали и землю, и людей, чтобы сейчас — веселиться, петь…
В одно из воскресений разбирали развалины кинотеатра на Советской, главной улице Копани, вдоль которой уже выстраивались по обеим сторонам двух-, трехэтажные кирпичные здания. Они, звено женщин, выбирали целые, пригодные для дела кирпичи. Мужчины ломали и кирками разбивали глыбы, разламывали остатки каменной стены, а женщины на носилках, тачками или просто руками выносили тяжелые, отсыревшие кирпичи, складывали в штабеля.
Мирослава работала одна. Носилки или тачка, подумала она, для нее тяжеловаты, это может ему повредить, лучше будет носить руками. Выковыривала по одному, по два кирпича и носила. В старых румынках, в длинном пальто, которое скрадывало ее беременность, повязанная выцветшим полушерстяным платком, она казалась пожилой, убитой горем женщиной. Трудно было угадать в ней сейчас пригожую, красивую молодицу, расцветшую душой и телом, жаждавшим любви и ласки. С недавних пор Мирослава нарочито выходила на люди иной, в каком-то чужом наряде. Во-первых, чтобы меньше приставали разные пассажиры да командированные, во-вторых… это беспокоило ее превыше всего: догадывалась, что ищут Павла, не могут не искать. Ищут его, следовательно — и ее, жену, нареченную, любовницу. Всюду, как послушать, ловят тех, которые не раскаялись, не явились с повинной, не сложили оружия. Ловят и судят. Наверное, подстерегают и Павла. Странно, что до сих пор не тронули ее. Кто-то же видел, знает, от людей ничего не утаишь.
Инстинкт самозащиты диктовал Мирославе все ее поступки, поведение, а прежде всего — необходимость маскироваться, остерегаться. В особенности с тех пор, как почувствовала себя матерью. Обрадовалась этому и одновременно ужаснулась: имеет ли она право дать жизнь ребенку?.. Но все ее размышления и сомнения всегда заканчивались ничем, разве лишь бессонницей да каким-то упрямым, непостижимым желанием увидеть его, это живое, рожденное ею существо, увидеть, как вырастет из него человек.
Вскоре к ним присоединилась группа мужчин.
— О, начальство! — радостно воскликнула какая-то женщина. — Идите-ка сюда, идите. Тачечка как раз по вашим силам. А то мы даже вдвоем не можем управиться.
«Может, и он тут, Степан Жилюк», — подумала Мирослава.
Мужчины сразу принялись за работу, сменили уставших, принялись раскалывать неподатливые глыбы. Кое-кто вместе с женщинами принялся нагружать и отвозить тачки.
Мирослава выпрямилась, словно бы поправляя платок. Который же? До сих пор она избегала попадать Степану на глаза, видела как-то на Первомайских праздниках издали, а так боялась — все казалось, узнает, хотя никогда ее не видел… Пожалуй, вон тот, в кожанке? В его лице есть что-то знакомое…
— Послушайте, — обратилась Мирослава к бойкой соседке, — кто это такой?
— Да как же! — громко сказала женщина. — Сам районный голова.
— Жилюк? — потихоньку спросила Мирослава и ужаснулась, услышав собственный голос. Сделав вид, что ей все равно, снова принялась за работу, а когда женщина отстала, глянула, не распрямляясь. Конечно, он. Та же самая порода: невысокий, плечистый… Слегка скуластое лицо. Такой же, видно, ненасытный в работе. Павел, правда, выше. И худощавее. Не теперешний, нет, — прежний.
С приходом «начальства» работа оживилась, над развалинами закурилась пыль, сильнее потянуло горелым, паленым, прелым. Мирославу затошнило, она оторвалась от стены, вышла из укрытия на воздух. На деревьях пищали синицы. Маленькие, юркие, они тоже соскучились по теплу и людям, возле которых всегда пожива. Терпко пахло землей, набухшими почками — обычно весной земля пахнет сладко, сон-травой и рястом, но в городе много руин, горьковатый дух забивает все остальное, вместе с бурьяном, мусором рождает лишь горечь.
— Андронович!.. Степан Андронович!
Кто-то обращался к нему. Он, не оставляя работы, говорил, шутил, а Мирославе мерещился Павел, последняя ночь, последний взгляд. Он был злым, нечеловеческим, этот взгляд, так, пожалуй, смотрит зверь, когда потревожат его в берлоге; что-то хищное было в сверкании его глаз.
— Такой мужчина… — промолвила рядом женщина. — И одинокий.
— Почему же? — удивилась Мирослава.
— Одна причина — война. И родителей, и его семью начисто уничтожили. Никак не забудет.
Степан выпрямился, вытер лоб, посмотрел в их сторону. Что-то родное, доброе опять мелькнуло в его лице. И Мирослава решила: когда-нибудь она все-таки зайдет к нему. Не может не зайти…
Мирославу остановили у выхода из райисполкома. Незнакомый, в гражданском, человек подошел, как только она прикрыла дверь.
— Постойте, — сказал. — Нам необходима ваша помощь.
— Какая помощь? Кому?
— Сейчас узнаете. Садитесь в автомобиль.
Неподалеку стоял забрызганный газик. Обмякшими, будто чужими ногами Мирослава подошла к машине, села на заднее сиденье. Он — рядом. Итак — это то, что ждала. Боялась, остерегалась и — ждала. Не помогли ни одиночество, ни маскировка. Спрятаться в этом мире невозможно.
Как только сели, водитель включил мотор и, ни о чем не спрашивая, тронулся. Очевидно, знал куда, не впервой. Догадывалась и сама. Собственно, здесь все уже понятно. Мысль лихорадочно метнулась к кладбищенскому жилью, этому жуткому пристанищу. Вспоминала — все ли там убрано после него, не осталось ли каких следов, ведь они, эти вот люди, наверняка же захотят побывать в ее жилище. Кажется, ничего. Она в тот же день после ухода Павла все пересмотрела, перетряхнула.
…Ее провели в конец коридора, вежливо открыли дверь.
В комнате за массивным столом сидел мужчина в военной форме. В званиях Мирослава разбиралась, каждый день на автостанции — десятки военных, поэтому сразу определила: капитан. «Здороваться здесь, наверное, не заведено», — подумала и молча остановилась у дверей.
— Проходите, проходите. — Капитан оторвался от бумаг.
Тон спокойный, даже приветливый. Женщина ступила шаг-другой вдоль стены, походка ее была неуверенной, и он поторопился помочь ей, усадил возле стола, постоял, будто хотел сказать что-то теплое, сердечное, но передумал и вместо этого спросил:
— Вы Мирослава Демчук?
Мирослава кивнула.
— Работаете буфетчицей на автовокзале. Павел Жилюк ваш муж?
Женщину словно бы стеганули кнутом, она встрепенулась, втянула голову в плечи, будто в ожидании еще большего удара. Вяло покачала головой.
— Не знаю…
— Чего не знаете?
— Ничего.
— Эти годы он был с вами? Где он скрывался? Где сейчас?
Мирослава молчала. Комкала кончики платка, смотрела на собственные пальцы и молчала. Какое-то отупение нашло на нее. Только стучало в висках: «Павел! Павел! Павел!..»
— Где он сейчас?
Когда-то Павел приказывал ей: в случае чего — ни слова. Это его веление, будто заклинание, вошло в сознание и память Мирославы, она стала его рабыней. Молчать, молчать. Это единственное, на что она способна. Стоит лишь заговорить, даже возразить, в чем-то непременно запутаешься, чем-то выдашь себя. Отупеть и молчать. Молчать!
Капитан вставал, нервно ходил, снова возвращался к столу.
— Поймите, — убеждал, — это для вас необходимо. Далее так существовать бессмысленно. Рано или поздно…
Ну да, ну да, он, безусловно, прав. Однако нет, нарушить свое слово она не смеет, это выше ее сил.
— Хорошо, — продолжал капитан, — о чем вы говорили со Степаном Андроновичем?
Мирослава подняла голову.
— Мне нужно сменить помещение.
— Вы ему говорили, что вы — жена Павла?..
— Нет.
— Что он вам сказал?
— Что надо написать заявление.
— Перемена квартиры связана с Павлом?
Мирослава уронила голову на руки, плечи ее задрожали.
XVII
Они прокрадывались лесом. Хотя и ночь, и темнота, и непогода, предосторожность не мешала, усталость пронизывала утомленное, измученное тело. Сказывались лежание в кладбищенском склепе, неизвестность, подстерегавшая неизменно и неотвратимо каждый день и каждый миг, и то, что заливал ее треклятой зловонной сивухой.
Да-а, он уже не тот! Не тот, который мог переть плуг или телегу или пешком преодолевать десятки километров. Силы тают, отяжелел, в груди словно бы колом что-то встало и давит, душит, словно…
Ему хотелось кричать — от бессилия, злости, бежать, прятаться, быть «дичаком» на этом свете, этой земле, где родился, которую выстрадал с малых лет; кричать — дабы слышали, знали, боялись. Да, да! И боялись. Ибо его сила, любовь его, ненависть — страшны! Не стой у них на пути, они ни с чем не посчитаются. Вот почему — будь что будет, пусть даже смерть! Возврата нет. Да и куда? В петлю, на виселицу?..
— Эй! Чего тащишься как неживой?.. — грубо прикрикнул Павел на Юзека.
И пер, будто вепрь, будто гналась за ним нечистая сила, самое прикосновение, самое присутствие которой предвещало неминуемую гибель.
Юзек задыхался, хватал воздух; котомка с харчами, прихваченная в доме Стецика, намокла, тянула книзу, мокрые ветки хлестали по лицу, цеплялись, царапали. Однако страх пересиливал все, гнал все дальше и дальше, и его невозможно было подавить.
— Друже Павел, зачем торопиться? Давай остановимся на минутку.
— Ну да! Это тебе не на прогулке…
Какая-то нечеловеческая злость охватила Павла. Дыхание свободы и почти зримое ощущение конца неосмотрительного, неосторожного своего пути, вынужденное безделие в течение нескольких лет обострили до предела его жажду действия, мести. Мести кому угодно. И за все. В конце концов, разве вот этот пан Юзек, а не он, так его предки, разве они не провинились перед ним, Павлом Жилюком? Мало попили его крови? Мало над ним издевались?.. Да и ныне, видите ли: пред-ста-ви-тель! Шиш-ка! Подчиняйся ему… В душу, в печенку мать!
Однако и в самом деле пора передохнуть. Павел прислонился плечами к шершавому стволу сосны, запрокинул голову. Там, вверху, откуда сеял мелкий и надоедливый дождь, смыкались верхушки деревьев. Лишь изредка между ними проглядывало небо — темное, низкое; казалось, если бы не эти стройные сосны — упало бы, навалилось бы всей своей массой на землю, на него.
Но где же они сейчас находятся? Сколько еще осталось идти?..
Павел прикидывал, мерил мысленно проделанный путь — получалось: не скоро, еще идти да идти к Поташне, к тем полузабытым землянкам. Кто о них знает? Ну, кое-кто из села, а так, кроме Мирославы, никто. Селюки, наверное, давно махнули на них рукой, может, даже разобрали, потому что дерево там укладывали добротное, не погнило; глушанам, в конце концов, сейчас не до бывших лесных убежищ, у них достаточно новых хлопот, а вот Мирослава… Они были там несколько лет назад перед тем как он перебрался в Копань, да и то ночью… А впрочем, что Мирослава? Мирослава — единственный человек, на которого можно положиться во всем.
— Далеко еще? — запыхавшись, спросил Юзек.
— Хватит. Что, не нравится? Там было лучше?
— Что было — то сплыло. — Чарнецкий все еще тяжело дышал.
— Ну, а что будет, пан представитель, увидим.
Ух, с каким наслаждением огрел бы он сейчас этого барчука! Что ему здесь понадобилось? Земли захотел, покоя? Не появись он — не было бы этого бегства, этого убийства, не замаячил бы так зримо, четко конец его дороги. Была бы Копань, укрытие на месте вечного покоя, была бы Мирослава… Как она там? Наверное, убивается, ждет. Вот уж кому выпало испить из чаши терпения! Мучается — и никому ни слова.
…Лес безмолвствовал — ни птичьего вскрика, ни звериного шороха. Тишина. Могильная, мертвая, будто все к чему-то прислушивалось… К чему же? К их шагам? Ну да! Ну да! Разве они не слышны, бесследны? Сегодня, завтра пойдут по этим следам. По земле бесследно проходить нельзя. Слизняк — и тот оставляет следы… Завтра пойдут по ним. И дойдут. И это будет все, конец, крышка…
Крупная холодная капля упала Павлу за ворот, он вздрогнул. Пора идти. До рассвета надо быть там. Чтобы никто — ничегошеньки. Даже дикая белка. Даже ветер. Пересидеть месяц, полмесяца, а там… Что же там? Может, удастся, как обещает этот, на ту сторону? Нет! Если бы и представилась такая возможность, отсюда — никуда. Все! Здесь его пристанище. Здесь и будет искать бесталанную судьбу свою. Уже окончательно. Какую именно? Будет видно. Будет, слышите, видно…
К землянкам добрались на рассвете. Павел сразу же развел костер, принялся сушить одежду.
— Когда же еще? — рявкнул на предостережение Юзека. — Днем, чтобы все «ястребки» сбежались?
С потолка капало, дым резал глаза, клубился, вился, сырость не выпускала его. Наконец костер разгорелся, в землянке стало светлее, можно было осмотреться вокруг. К удивлению, здесь все сохранилось. Разве лишь малость осел потолок да стены обросли какими-то тонкими, бледными поганками, однако и нары, дверца, возле которой, правда, осыпалось немало земли, еще способны были послужить им.
— Давай сушись, пока есть возможность, — пригласил Павел напарника. — А то недолго и застудиться, а в госпиталь — далеко…
Бледное, даже синеватое лицо Чарнецкого постепенно отходило. Он сидел у костерка, вертел перед огнем сорочку, исподники; влага испарялась, и от этого в землянке стало душно. Юзек потянулся к дверце, чтобы приоткрыть ее пошире.
— Больно уж хлипкие да тонкокожие вы, паны, — насмехался над ним Павел. — Чуточку духоты, и вы уже раскисли. А если бы всю жизнь вот так, по-черному, пришлось жить, а? Вы хоть знаете, что такое хата без трубы? Нет? То-то и оно. А глушане, по вашей, панской то есть, милости, всю жизнь дымом дышат.
— Что-то я в вашей Глуше таких хат не видел.
— А что вы видели, когда приезжали? Пили, гуляли. Или, может, с нами, селюками, поговорили когда-нибудь?.. Удивляюсь: на кой черт вас занесло сюда?
— Это долгий разговор.
— А если коротко?
— То же самое, что и вас, — кинул Юзек и прямо посмотрел на Павла.
— Хе, то же самое! Да мой пуп здесь зарыт. Мой и предков моих. А ваш? В варшавских клозетах сгнил!
— Спокойно, спокойно, — угомонял Чарнецкий. — Не место да и не время для таких споров.
— А у меня другого времени не будет. Пришлось к слову, вот и сказал.
— Может, подкрепимся? — счел за благо сменить тему Юзек.
— О! Это мне нравится. Пан представитель приглашает к столу. Что же, давайте. Намотались мы, в самом деле.
Они достали из котомки хлеб, круг колбасы, которую дала им жена Стецика (перед пасхой как раз кабанчика закололи), огурцы.
— Может, еще и самогону старуха не пожалела? — глядя на щедрые припасы, промолвил Павел. В глубине сумки он и в самом деле нащупал бутылку. Не впервой ей, видно, собирать мужа. Знает — что к чему…
— За успех. — Павел отхлебнул и подал Юзеку бутылку. — Да глядите, не всю. Пригодится еще.
Юзек жадно отпил мутноватой жидкости, поморщился, закусил огурцом. Повозились еще малость, пока костер пригас, и мертвым сном уснули на голых нарах.
XVIII
Степана Жилюка вызвали в Луцк. Казалось, серьезной причины для этого не было, какого-либо совещания не предвиделось, сам он на встрече с областным начальством не настаивал, однако телефонограмма за подписью секретаря облисполкома, заставшая его после возвращения из сел, не оставляла сомнения. Прибыть, и все. Звонить, выяснять мотивы вызова было уже поздно. Из телефонного разговора с Кучием тоже ничего не выяснилось — первый держался сухо, в заключение кинул неопределенно: «Поезжай, услышишь да и нам расскажешь». Неприятный холодок, закравшийся в душу, всю ночь студил сердце Жилюка.
Утром он все-таки дозвонился до секретаря облисполкома, однако тот сослался на собственную некомпетентность, советовал приехать и на месте все выяснить. Тем более, добавил, что предоблисполкома собирается на лечение и желает поговорить с ним лично.
Председатель, как только ему доложили о прибытии Жилюка, принял его немедленно. После нескольких общих фраз о здоровье и делах в районе он, нацелив на Степана стеклышки очков, спросил:
— Что там у вас произошло? Жена брата объявилась, ты с нею встречаешься? Да и сам брат якобы где-то в районе?..
— О брате, тем более о его пребывании на территории района, мне лично ничего не известно, — ответил, сдерживая волнение, Степан. — А жена была у меня на приеме. Вовсе мне незнакомая. Никаких контактов я с нею не поддерживаю.
— Она тебе призналась тогда, на приеме, что жена брата?
— Нет.
Председатель задумался, на некоторое время наступило молчание, наконец промолвил:
— Вот что, Степан Андронович, я тебе верю, знаю тебя не первый день, но… Словом, надо тебе зайти к товарищу Соколову. Это их инициатива, не наша.
Степан встал, готовый идти, но председатель не торопился его отпускать, видно было — хотел сказать еще что-то, однако не решался, и они простились.
Уже на дворе, выйдя из помещения, Степан подумал, что, наверное, лучше было бы сначала позвонить Соколову, сообщить о своем приезде, но телефонной будки поблизости не было, а возвращаться из-за этого ему не хотелось. «В конце концов, какая разница, позвоню я ему или нет, — решил. — Все равно примет. Почему только не прямо сказал, а через председателя — непонятно. Наверное, чтобы меньше разговоров было».
— Так быстро? — удивился водитель, когда Жилюк подошел к машине.
— Быстро, — сухо ответил. — Дай закурить.
Водитель достал пачку. Степан взял папиросу, помял в пальцах, долго прикуривал от протянутой шофером трофейной зажигалки, наконец прикурил и, затянувшись раз-другой, неторопливо пошел по тротуару. Вскоре он, однако, вернулся, бросил под ноги и затоптал окурок.
— Поехали, — промолвил решительно. — В КГБ.
Начальник областного управления КГБ Соколов встретил Жилюка доброжелательно. Конечно же они знали друг друга, не раз встречались на сессиях и совещаниях, Соколов часто бывал в Копани и не упускал случая заглянуть к Степану Андроновичу, о котором был так наслышан и встречаться с которым считал для себя за честь. С не очень давних пор Жилюк, однако, почувствовал некоторый холодок в их отношениях, но особого значения этому не придавал.
— Садитесь, Степан Андронович, — пригласил Соколов, когда они пожали друг другу руки. — Разговор не из приятных, однако избежать его невозможно. Да и не стоит, лучше уж выяснить все до конца.
Соколов помолчал, и Жилюк, воспользовавшись паузой, сказал:
— Слушаю.
Начальник будто ждал этого слова — он тотчас же стал официальным, деловитым.
— Вспомните, пожалуйста, Степан Андронович, подробности эвакуации копаньского партийного архива в сорок первом году. Кажется, вам была поручена эта операция?
Жилюк удивленно пожал плечами.
— Да, мне в самом деле было поручено вывезти районный партийный архив, — сказал почти механически.
— Куда?
— Разумеется, в тыл.
Соколов ждал, что Жилюк продолжит свой рассказ, однако тот затих, пауза затягивалась.
— Что же дальше? — напомнил Соколов.
— За Копанью…
— Точнее…
— За Вербкой мы попали в окружение вражеского десанта…
— Так.
— Предварительно в райкоме было обусловлено, что в случае опасности документы надлежит уничтожить.
— И что же?
Степан встал.
— Товарищ Соколов, что все это означает? В чем меня обвиняют?
— Спокойно, Степан Андронович. Садитесь. Речь не об обвинении. Нам необходимо выяснить обстоятельства дела. Так что же было дальше? Постарайтесь рассказать поподробнее.
Что могло быть далее? Было то, что бывает во время войны, когда армия отступает, вынужденно оставляя города и села, хутора, часто не имея возможности вывезти самое дорогое или самое ценное. Перед ним снова предстал тот день: забитая отступающими и беженцами дорога, внезапное нападение фашистских стервятников, пылающая полуторка, вражеский десант… Что он мог тогда сделать? Как он мог по-другому поступить с теми ящиками бумаг? Нести на плечах? Закопать на глазах у всех? Упасть на них и сгореть вместе с ними?..
— Хорошо, — прервал его взволнованный рассказ Соколов, — акт вы тогда составили, оформили? Ведь речь идет о партийных документах. Вы понимаете?
Степан молчал. До актов ли было! Он не знает даже фамилий охранников, приставленных сопровождать архив. Единственный, чья фамилия задержалась в его памяти, — водитель автомашины. Но где он, что с ним? Соколов печально покачал головой.
— Сочувствую вам, Степан Андронович.
— А в чем все-таки дело? — наконец спросил Жилюк.
— В архиве, то есть в отсутствии его. Нет никаких следов.
— Но ведь всем известно… Не только у нас такое случалось.
— Вопрос, видите, стоит о вашем, копаньском архиве. Что было где-то, то само собой.
— Кому-то захотелось разворошить это дело?
— Не знаю, Степан Андронович. У органов к вам нет претензий. Задача выяснить дело поставлена перед нами высшими инстанциями. Вас ни в чем не обвиняют.
— Пока… — добавил Степан.
Соколов не поддержал реплику Степана. Вместо этого попросил у него и отметил пропуск.
— Пошли, я вас провожу, — предложил.
Степан вяло встал, ступил за порог открытой двери.
XIX
Хорошо и надежно было Павлу под боком у Мирославы.
Даже вонючий кладбищенский склеп, скрывавший его не только от посторонних глаз, но и от недреманного, всевидящего ока, казался теперь тихой обителью. В любой час, когда, конечно, у Мирославы никого не было, он мог пробраться к ней, перекусить и снова возвратиться в логово. Мирослава терпела, молчала, он знал ее мысли, как и то, что не выдаст, не предаст. Видел ее муки, не раз, целуя в ночных сумерках, ощущал горьковатый привкус слез, отчего снова разъярялся, потому что не терпел слезливых и жалостливых. Собственно, с некоторых пор — не с тех ли, когда понял свою униженность в этом мире? — чувство жалости покинуло его навсегда. Сознание собственной неполноценности порождало в нем приступы ярости. А когда узнал, что должен стать отцом, рассвирепел еще пуще. Разумеется, он хотел быть отцом. Бесконечно длинными днями и ночами, которые выпадали на его долю раньше и стали постоянными, безутешными ныне, представлял себя в кругу веселой детворы где-нибудь на хуторке, среди полей, своих полей; он непременно обзавелся бы пасекой, пасека — признак зажиточности и благополучия в хозяйстве, а там, глядишь, разжились бы с Мирославой и построили ветряную мельницу, чтобы радовала душу мягким шуршанием зерна, сладким запахом свежей муки и неторопливой беседой мужиков, сидящих на тугих мешках…
Но — кроть его ма! — не суждено было сбыться его мечтаниям! Вместо этого — зловонное подземелье, постоянный страх, постоянное дыхание смерти. Можно ли быть отцом при таких обстоятельствах?
Ну вот, а теперь нет даже и этого подземелья. Хотел ли бы он снова оказаться там? Нет. Рано или поздно в жизни наступает момент, когда человек должен найти в себе силы, мужество сказать: довольно! Довольно самообмана, несбыточных надежд, нареканий на судьбу и утомительного копания в собственных поступках. Все там, в прошлом, было правильным, таким, как ему хотелось, и теперь надлежит дать за него ответ. Наказание или возвеличение — все равно. Мир, наверное, так устроен, что выше возможного не прыгнешь, дальше суженого не устремишься. Суждены тебе эти вот шоры — держись их, иди в них и не вздумай привередничать. Известно ведь — каждому свое: кому тащить телегу, а кому ехать на ней да понукать. Бывает, роли меняются, однако ненадолго, за призрачной удачей наступает горькое разочарование, и тогда еще сильнее грызет ощущение несовершенства мира и собственной неполноценности.
Несостоятельной оказалась власть, которую его единомышленники уже вроде бы держали в руках и от имени которой вершили суд и расправу. Дикими волками предстали они перед судом людским и божьим, и нет у них иного выхода, как догнивать в смердящих схронах или же… или же сдаваться на милость тех, на чьем теле кровавые следы их рук. Некоторые уже спекулируют на этом. И что огорчительнее всего — бывшие их главари, вожаки, черт бы их побрал, те самые, которые держали всех остальных в покорности и страхе, на словах исповедовали верность «неньке Украине». На словах. Сколько было их! Торжественных, многообещающих, призывных… И все поросло пустоцветом, куколью, мякиной разлетелось по ветру…
Впрочем, мудрствования мудрствованиями, хорошо рассуждать, когда есть что пожрать и есть крыша над головой, а в их положении пора искать более надежное убежище. От тех харчей, захваченных у жены Стецика, через несколько дней остались крохи, раздобыть еще было негде.
— Ну так как, пан представитель, хенде хох? Поступим, как фрицы поступали?
Юзек молчал, ему не нравились ни разговоры Павла, ни его насмешливый, пренебрежительный тон, ни тем более — сама ситуация. Как старшему по званию, ему надлежало приказывать, распоряжаться, требовать безоговорочного исполнения своей воли, однако ныне все изменилось, полетело к чертям собачьим, он оказался в плену хлопа, который раньше не посмел бы даже посмотреть на него, не то что насмехаться. Потянуло же его на эту акцию! Считал — защищает свое наследство, ведь как-никак, а в его жилах, в жилах всех Чарнецких течет украинская кровь. Не зря ведь не давали ему хода в войске, держали в низших рангах, да и отца его, если сказать откровенно, не очень почитали. Да и он не спешил кланяться всяким там пилсудским… Имел гонор! Холера ясная!
Чарнецкому надоели подзуживания Павла, и он отмалчивался, лежа на влажных сосновых ветках, в полутемной гнилой землянке, лежал и думал. А что он мог сделать? Чего стоят вообще споры в его нынешнем положении? Настоящее, действительное окружило его такими чащобами, бросило в такую глушь, куда с огромным трудом пробивалось даже солнце. От голода мутилось в голове, судорогой сводило живот, и Юзек вертелся, поджимал к животу ноги, будто собирался выпрыгнуть из ямы, в которую попал столь неосмотрительно. С потолка покапывало, и он, когда становилось особенно невыносимо, жадно ловил губами холодные капли в надежде хоть как-то оросить нутро, однако боль затихала ненадолго, становилась еще невыносимее, словно там, внутри, кто-то вертел раскаленным железом.
Однажды в минуту просвета, когда чуточку полегчало, Юзеку вспомнилось прочитанное где-то или просто услышанное об узниках, которые в знак протеста добровольно подвергают себя голодовке. Мог ли он поступить таким образом? Смог бы он удержаться, не потянуться рукой к куску хлеба?.. Так и не успел сам себе ответить, потому что воспоминание о хлебе в следующий миг отозвалось новым приступом конвульсий. Юзек потерял сознание. Сколько это длилось — неизвестно, потому что, когда он пришел в сознание, на дворе шел сильный дождь, и капли обильно падали на его лицо.
Сколько дней он не ел? Как долго длятся эти пытки?.. Юзек провел рукой по лицу, затвердевшими пальцами нащупал густую щетину. Ну вот. Видимо, он похож сейчас на дикаря. Немытый, нечесаный, небритый. И щеки, наверное, провалились, потому что скулы заострились… Упираясь руками, Чарнецкий приподнялся, спустил ноги. Голова закружилась, рой мерцающих мотыльков метался перед глазами, и Юзек посидел малость, осматриваясь по сторонам.
— О-о! — услышал из противоположного угла, где лежал Павел. — Мое почтение пану представителю. С выздоровлением.
— Вам все смешки, — осуждающе ответил Юзек.
— Какие, к лешему, смешки? Боялся, чтобы дуба не дали. С меня же потом спросят.
А в самом деле! Вот так отдаст здесь концы, никому и хлопот не будет. Будто бездомный пес. Никто даже не плюнет на то место, где черви тебя будут глодать.
— Хватит шутовства. Лучше подумал бы, где чего раздобыть.
— А я уже подумал! Ночью за картошкой сходим. Тут неподалеку, на лесной опушке. Колхознички посадили. — Павел уже наведывался туда, разрыл несколько десятков ямок, притащил в мешке картошки. — Думаете, благодаря чему выжили? Благодаря божьему духу? Дудки! Если бы не я, давно был бы конец.
Держась за подпорку, Юзек встал, хотел ступить к двери, где было отверстие, в которое мочились, однако ноги его вдруг подломились, руки стали словно ватные, и он опять плюхнулся на нары. «Наверное, это от продолжительной неподвижности», — подумал, потому что вскоре действительно откуда-то появились у него силы; помогли встать, справить нужду.
— Что там на дворе? — спросил.
— А что! Весна. Пашут, сеют… — Павлу хотелось ругнуться, но он удержался: ругайся не ругайся, ничто уже не поможет. Сколько раз уже бранил он этого жалкого Юзека и незадачливую судьбу свою, а что из этого?
В следующую ночь, на рассвете, они действительно выползли из своего укрытия. Холодная едкая морось оседала на деревьях и сползала за шиворот холодными каплями. От этого тело бросало в дрожь. Вскоре, впрочем, они промокли, и не было уже разницы, куда и как падают ледяные капельки, — осталось лишь ощущение опасности, да еще, быть может, желание добраться до поля, вырыть из земли несколько спасительных клубней.
Брели молча. На слежавшихся прошлогодних листьях шаги были почти не слышны, лишь в выбоинах чавкала вода и потрескивали ломаемые ветки. В предутренних сумерках деревья сливались, различить их было трудно — то Павел, то Чарнецкий натыкались на них, обходили и двигались дальше. Хуже, когда попадались по дороге кусты, — ветки сразу же будто опутывали, брали в тенета, выбраться из них было нелегко. Павел яростно матерился, Юзек брел, хватаясь за стволы, благо быстро идти здесь вообще было невозможно; иногда он останавливался, опирался на дерево, жадно глотал влажный воздух.
В конце концов они вышли на какую-то глухую тропинку, которая вскоре вывела на опушку леса. Перед ними раскинулась серая делянка поля. В ямках тускло посверкивала дождевая водица — по ней можно было угадывать, где именно посажено.
— Да не ступай прямо, чтобы не наделать следов. Тяни ноги. Вот так, — показывал, ковырнув сапогом.
Затем они долго копали в холодной земле, вытаскивая мокрые картофелины. Хоть немного, да раздобыли себе пропитания на день-другой.
Езус-Мария! Мог ли он, Чарнецкий, когда-нибудь о подобном даже подумать? Наверное, скорее представился бы ему конец света, Содом и Гоморра, чем вот такая собственная судьба. Видимо, поэтому и не дано человеку наперед знать свое будущее — знай он его, пустил бы себе пулю в лоб.
Неподалеку лаяли собаки — как он ныне завидовал им! Пусть плохонькая, но конура, миска теплой похлебки… И воля. Воля! Не надо прятаться, украдкой добывать мизерные харчи, украдкой жить… Как раньше он не ценил этого! Будет ли еще у него возможность исправить свои ошибки, отдать долги тому, что называют самым дорогим, бесценным даром природы? Наивный вопрос! Вот она, добытая тобой твоя жизнь… твоя действительность. Как думаешь: выберешься из нее? Обманешь костлявую и вырвешься из ее цепких когтей?.. Молчишь? Ну так рой, выковыривай, воруй, иначе…
— Эй! — прервал его размышления Павел. — Айда, хватит!
Вот! Вот тебе и ответ. Ты уже не человек, не личность, ты просто «эй!» — и больше ничего. Ныне любой может поступить с тобой как угодно. Потому что ты — исключен из жизни.
Пригнувшись, будто голодные волки, подкрались к лесу, и он сразу поглотил их. Насквозь промокшие, в грязи, из котомок течет серовато-бурая муть.
Начинало рассветать, идти стало легче.
Под вечер Юзека затрясла лихорадка. Им невозможно было просушиться — разводить огонь днем опасались. Чарнецкий так и лежал, мокрый, грязный, обессилевший. Павел заметил, что Юзек в забытьи несколько раз помочился, — в землянке невыносимо завоняло. Он отворачивался, пытался вдыхать от стены, где, казалось, было свежее, но вскоре это обманчивое чувство изменяло, горло раздирал едкий кашель.
Понимал: чего-нибудь требовать от слабого, тем более кричать на него, ругать — напрасная затея. Тут надо пересилить себя и терпеть. Были бы какие-нибудь лекарства, на худой конец, хотя бы водка, дал бы ему, паршивцу. Скорее бы наступила ночь, он разведет огонь, откроет дверь, все же будет какое-то облегчение, а то недолго и задохнуться.
Были минуты, когда Чарнецкий бредил, что-то бормотал в горячке, кого-то звал, но кого именно — понять не удавалось, да Павел не очень-то и прислушивался к его бормотанию. Ему все больше и больше не давала покоя мысль — как быть, что делать дальше, не сидеть же в самом деле волком, пока тебя сцапают. А что произойдет именно так, у него не было никаких сомнений. Дело только во времени — не взяли сегодня, возьмут завтра, послезавтра. Главное — возьмут. Иного выхода нет. Он загнан в угол, в тупик, в охотничью яму.
Что же делать? Сдаваться? Зачем же тогда было сидение, надежды, поиски укрытий? Столько претерпеть — и вот вам, берите меня. Вот был бы смех! Для всех тех…
Как-то поймал себя на том, что «все те» — это же односельчане, глушане. Ровесники, старшие, младшие. Все эти Гурали, Гривняки, Иллюхи, Филюки, Жилюки… Да, да. И Жилюки, потому что с ними ведь и Андрей, и Степан… Так что же, враги они или он им изменил? И кто над кем должен устраивать суд?..
Безумный вскрик заставил Павла содрогнуться. Кричал Чарнецкий. Он звал какую-то Барбару, тянулся к ней скрюченными грязными руками, смердючим телом, кого-то проклинал, умолял, вымаливал у кого-то прощения.
Павел вскочил, затряс Юзека, чтобы умолк, но тот не слышал его, он вообще не реагировал ни на какие прикосновения — болезнь сделала его бесчувственным, Чарнецкий барахтался, порывался вскочить и кричал, кричал. Ночной крик, глухая подземельная темень откликнулись в Павловой душе страхом. «А холера бы тебя взяла!» — ругнулся он и шершавой немытой ладонью зажал ненавистный рот. На какой-то миг в землянке стихло, слышно было только тяжелое посапывание, но вдруг зубы Юзека впились в Павлову руку, он рванул ее, зашипел от боли и, не помня себя, сдавил Чарнецкого за глотку. Что-то хрустнуло под пальцами, однако Павел не разнял их, — его вдруг охватила безумная злость, замутила мозг, и он уже не мог противостоять ей. Все, накипевшее в душе, внезапно взорвалось нечеловеческой ненавистью, страшной жаждой мести — неважно кому и за что, но мести, мести, мести. Голова все сильнее наливалась свинцовой тяжестью, и по мере этого сильнее сжимались пальцы. Вот тело под ними передернулось, задрожало мелко и вмиг обмякло, вытянулось, стало неестественно покорным. Павел спохватился, ослабил пальцы, почувствовал, как под ними быстро-быстро запульсировала и вдруг замерла тоненькая жилка. Павел схватил Юзека, поднял, будто пытаясь вытрясти из него немощь, и со зла бросил на нары. Дикий смех вырвался из груди Павла. Он хохотал, бился головой о склизкую подпорку, за которую держался. Вдруг его затошнило, и он, цепляясь за стены, будто слепец, потянулся к дверке…
XX
Закончился учебный год, и директоров школ вызвали в районе отчитываться. Ехать в Копань Галине Никитичне было с чем — столько собралось всяких вопросов! Прежде всего — строительство. Хотя и опекают ее колхоз и сельсовет, однако и для нее остается немало мороки: парты, учебники, тетради, топливо… И заявка на учителей конечно же, и обувь, одежда сиротам, питание. Значит, надо ехать, добиваться, настаивать.
Галина считала себя слабым руководителем, неопытным, главным своим аргументом она избрала положение села — дескать, всем известно, какая беда обрушилась на него и в чем оно сейчас нуждается. Впрочем, ей не приходилось прибегать даже к этому аргументу — стоило лишь назвать Великую Глушу, как все понимающе кивали, смотрели на учительницу с сочувствием и сожалением. Однако с разрешением ее вопросов не спешили, и Галина в конце концов пошла к заведующему — немолодому, страдающему одышкой человеку, который сидел в облаке едкого табачного дыма, выложила ему все свои претензии. Заведующий разложил все по полочкам: достраивает школу колхоз — по этому поводу у него есть прямые указания высших инстанций; топливом обеспечивает сельсовет — это давно известная истина; учебники и тетради — по мере поступления; с одеждой… одним словом, будет видно.
— А кадрами укомплектуем, — твердо пообещал заведующий. — Штат обеспечим.
— Так вы хотя бы наряд на топливо дайте, что ли, — не отставала учительница.
— Лимита нет, — четко промолвил заведующий. — Будет лимит, выделим через сельсовет. — И спросил вдруг: — Вы давно у нас работаете?
— Второй год. Это так важно?
— Важно, — кисло улыбнулся зав. — Старшие не столь категоричны.
— Вот вы на что рассчитываете! — удивилась Галина Никитична.
— Приходится рассчитывать, — развел толстенными руками заведующий. — Видимо, глядите на меня и в душе уже окрестили бюрократом? А разве я виноват? Нет лимитов на обувь, на цемент, на кирпич. Нет — и все, хоть плачь. Вот и вынужден выкручиваться. Но обещаю вам, — посмотрел на список, лежавший на столе под стеклом, — Галина Никитична, при первой же возможности обеспечить вашу школу. Пусть не полностью и не всем, но максимально. Максимально!
Вот и гадай! Впечатление было одно, в самом деле как о человеке бессердечном, черством, а он — «при первой возможности», «максимально»… Хочешь, верь, хочешь, нет. Видимо, надо верить. Без веры в людей на свете трудно. А у него же не только Великая Глуша, каждый требует, потому что каждому чего-то не хватает.
Все же вышла недовольной. Собиралась порадовать глушан, а возвратится ни с чем. Ни того, ни сего, одни обещания. Снова люди будут упрекать. Нет, не готова она к такой роли! Всему, кажется, учили их, все вроде бы и знала, а вот приехала, прошел лишь год — и столько неразрешимых проблем!.. Может, в самом деле права Людмила, считающая, что здесь нужны люди с особенными нервами? Может, и себе найти какую-нибудь причину и подать заявление об уходе? Ведь до лучших времен еще далеко! Много воды унесет Припять, пока Глуша встанет на ноги.
Галине давно хотелось увидеться со Степаном Андроновичем. С тех пор как встретились в Андреевой хате, мысли ее были взбудоражены, кружились вокруг него, такого беспокойного и такого… казалось, беззащитно робкого. Представляла себя рядом с ним — дочерью или сестрой, и почему-то становилось радостно и тревожно на душе. От его взгляда, голоса, прикосновения, от одного лишь присутствия, даже от сознания, что он есть, где-то ходит, что-то делает, грустит. Что это такое, откуда и почему оно возникло и поселилось в ее сердце, стало привычным? Никто об этом, конечно, не знает, это чувство принадлежит ей, и никому больше.
Однако как же быть дальше? Зайти или не зайти? Как воспримет он ее посещение? Он, до отказа занятый всякими делами. Уместным ли будет ее приход, не посмеется ли он над ней?
Сомнения разволновали ее, Галина почувствовала, как застучало в висках, пыталась унять сердце — не пойдешь же вот такой раскрасневшейся и взволнованной! — однако это не удавалось. Чем сильнее она старалась, тем чаще стучало в груди. Еще в районо, между прочим, расспросила, где исполком, как туда пройти, — оказалось, почти рядом, на этой же улице, на расстоянии каких-нибудь двух кварталов, давно могла быть там, сидеть в его кабинете, если бы, конечно, принял, видеть его задумчивые глаза, в которых столько печали, столько ко всему внимания.
Ноги сами несли ее. Опомнилась уже у здания райисполкома. «Во всяком случае, — подумала она, — расскажу про школу…»
Жилюка не было. Секретарь спросил, по какому она делу, и, узнав, что из Великой Глуши, посоветовал подождать. Галина снова почувствовала себя неловко, порывалась было уйти и подождать во дворе, но секретарь заверил, что Степан Андронович, мол, звонил и обещал вот-вот подъехать, он недалеко, и вообще, добавил, все глушане здесь свои, их принимают вне очереди. Душевность секретаря понравилась Галине, девушка немного успокоилась, однако не совсем, волнение все еще бурлило в ней, будто скрытый в тени ключик. Много или мало прошло времени, Галина не помнила, потому что все ее внимание было обращено на дверь, откуда должен был появиться Степан Андронович, и — либо он поздоровается с ней, обрадуется, либо…
И вот слух ее поймал голос Жилюка, прозвучавший во дворе. Галина встала, потом села, чувствуя, что лицо ее с перепугу каменеет.
Степан Андронович вошел в сопровождении нескольких мужчин, быстрым шагом направился к двери, порывисто открыл ее. На пороге, пропустив мужчин, обернулся, но так, что не мог заметить Галину, она оказалась у него за спиной, пригласил секретаря.
— Подождите минутку, — бросил тот ошеломленной посетительнице.
Первым ее порывом было — уйти, исчезнуть, скрыться с людских глаз. Боже, какой позор! У человека столько хлопот, весь район на его плечах, а она надумала… Галина взяла на колени портфель, открыла его, взглянула в прикрепленное изнутри зеркальце и встала, чтобы в самом деле уйти, как вдруг обитая дерматином дверь широко открылась и в ее проеме, весь какой-то озаренный, появился Степан Андронович.
— Галина… Никитична! Заходите, прошу.
Он ступил навстречу, взял ее за руку, будто маленькую.
— Я так… Была в районо и, дай, думаю…
— Вот и хорошо, вот и правильно. Извините за невнимательность, пожалуйста.
Он говорил, как ей казалось, точно так же взволнованно, слова будто опережали мысли, в руке девушка улавливала еле ощутимую дрожь, которая обычно бывает во время радостного волнения. А может, это дрожала только ее рука, и эта дрожь, будто звук струны, передавалась другому?
— У вас люди, я подожду, Степан Андронович.
— Ничего, ничего, — он вел ее к двери, — вы нам не помешаете. Хотя постойте, — взглянул на часы и остановился, — уже начало пятого, вам некуда спешить. Вот ключ, идите ко мне на квартиру, отдыхайте. Приду — поужинаем.
Девушка не успела возразить, как в руках у нее оказался ключ. Подняла удивленные глаза — этот неожиданный поворот окончательно сбил ее с панталыку. Это было даже поразительнее, чем то, что он не заметил ее сразу. Тогда знала, что делать, как себя вести, а тут…
— Вот голова! — воскликнул Степан Андронович. — Вы ведь не знаете, где я живу. Никифор Семенович, — обратился к секретарю, который к тому времени уже сидел на своем месте, — подвезите гостью ко мне домой.
Разговор длился несколько минут, а Галине показалось — будто вечность. Будто знают они друг друга очень давно и сейчас вот он вернулся с какой-то дальней дороги, а она встречает его, встречает в волнении, трепете, даже слова не может промолвить. Да что слова! Зачем они, когда говорят глаза, говорят руки?
Секретарь что-то растолковывал ей, затем провел к машине, сел рядом, и они поехали, потом открыл ей дверь, проводил в квартиру, где никого не было, пожелал, кажется, приятного отдыха и ушел; Галина еще слышала, как отъезжала машина, помнит, что села в кресло, откуда хорошо была видна вся комната, дальше ею овладел сон, как это бывает после долгой дороги или утомительной работы. Что-то словно бы подхватило Галину, она почувствовала себя легкой-легкой, засмеялась этому ощущению и поплыла в мир, вовсе не похожий на тот, в котором только что пребывала.
Ее разбудил настойчивый телефонный звонок. Собственно, сначала Галина не разобралась, хотела было открыть дверь, но, придя в себя, поняла, что телефон, схватила трубку. Говорил секретарь, передавал, что Степан Андронович звонил сам, но никто не отвечал, поэтому он просил передать, что должен срочно выехать в село, возвратится, возможно, поздно, так пусть она не беспокоится, чувствует себя как дома, там в буфете есть продукты, можно приготовить ужин…
— Алло, вы меня слышите? — обеспокоенно спросили в трубке. — Слышите, Галина Никитична?
— Слышу, — ответила она и так, с телефонной трубкой, из которой вместо человеческого голоса уже доносился легкий звук зуммера, села.
«Вот, так тебе и надо, — твердил ей чей-то чужой, неприятный голос. — Набилась к человеку в гости, прибавила ему хлопот, да еще и уснула. Будто ребенок. Рассказать кому — смеха и позора не оберешься. Так тебе, слышишь, и надо».
На дворе уже потемнело, под окнами тускло мерцала электрическая лампочка. Галина долго искала выключатель, наконец включила свет и только теперь заметила, что портфель ее лежит боком, бросилась к нему, но бутылка, к счастью, не открылась. Достала свои припасы, однако есть уже перехотелось, и, чтобы все-таки чем-то заняться, решила согреть чай. Пусть будет. Возможно, и он выпьет с дороги горячего. Электроплитка долго не загоралась, Галина обнаружила причину — соединила перегоревшую спираль, поставила чайник, с удовольствием сполоснула холодной водой лицо..
Вот никогда не видела, как живут начальники. Все же, наверное, не так. Квартира маленькая, одна комната, где и кровать, и диван, и этажерка с книгами, и стол. Большой старомодный стол. Откуда он здесь появился? Зато удобный — широкий, крепкий. «Семейный», — подумала Галина. Взгляд ее упал на фото, стоявшее на этажерке, зажатое книгами. Он, Степан Андронович, красивая чернявая женщина, а между ними, больше склонившись к отцу, малыш. Галина вздрогнула. Вдруг ей показалось, что женщина посмотрела на нее слишком пристально, остро и осуждающе. Она отпрянула, отступила, однако большие красивые глаза женщины недоверчиво следили за нею. Девушке стало не по себе, она готова была уйти отсюда, лишь бы только не ощущать этого смятения, однако… Что скажет он? Бежала? Будто девчушка, будто школьница, не способная отвечать за свои поступки. Нет, нет, так не годится, так не будет. Она ведь почувствовала, заметила — обрадовался ей. Обрадовался не как обычной знакомой, повстречавшейся где-то на улице, а… Впрочем, куда сейчас идти? К кому? Вечер, вот-вот уже наступит ночь, чужие люди… Не виновата ведь она, что так случилось. Степан Андронович сам пригласил ее, она и не ожидала такого внимания, ей просто очень хотелось его увидеть…
Галина взяла фотографию, поставила на стол, сама села напротив. Ну вот, все в порядке, будто и не было переполоха. Женщина смотрит на нее обычно, даже чуточку улыбаясь, сочувственно и понимающе…
Вдруг она представила, — нет, не представила, представить это было невозможно, — просто вспомнился Андреев рассказ о том, как погибла эта красивая женщина, какие мучения испытала перед смертью. Слезы выступили на Галининых глазах, и она не сдерживала их, смотрела и плакала, и этот плач смягчал душу, наливал ее каким-то новым чувством, в котором боль сочеталась с радостью за него, живого, существующего в ее сердце.
XXI
Рыжий породистый пес лежал на опушке леса. Почуяв человека, он жалобно заскулил, тявкнул, и Павел замер под кустом. Присутствие собаки не предвещало ничего хорошего — за нею должны были появиться те, встреча с кем будет означать неминуемый конец.
Однако вокруг было спокойно, ничто больше не нарушало привычной лесной тишины, и Павел осторожно раздвинул ветки орешника. Прямо на него смотрела пара настороженных собачьих глаз.
Павел не торопился, он знал, что тишина всегда таит опасность и малейшая неосторожность может закончиться трагически. А ему с приходом весны и кончиной Чарнецкого вдруг, как никогда, захотелось жить, дышать настоянным на молодой зелени воздухом, ступать по рутовому ковру, усеянному цветами, слушать пение синиц и первое, до боли нежное воркование горлицы. С тех пор как солнце нагрело омытую обильными дождями землю, он не может сидеть в своей землянке, его неудержимо тянет к этим деревьям, тихо журчащему в ложбине ручейку, к вскрикам птицы в вершинах деревьев, хотя это и дурной знак, зловещая, говорят, примета. Но какое ему дело до примет? Это просто чудо, что он живет, существует, видимо, судьбе угодно разыграть с ним какую-то непонятную комедию, дабы помучить вдоволь и затем бросить как никому не нужный хлам.
Взгляды их встретились, пес обрадованно залаял, попытался встать, и Павел с ужасом увидел, что задние ноги у него перебиты. Пес был какой-то редкостной породы. «Ах ты, бедняга, — подумал Павел. — Где это тебя так угораздило? Как ты здесь очутился?»
Вдруг ему показалось, что на лай раненого пса откликнулись другие, что они приближаются, и Павел, не помня себя от страха, бросился прочь.
На следующий день, как только очнулся от тяжелого и короткого сна, первой его мыслью было вчерашнее. Чего-то он не доделал. Наверное, в самом деле следовало взять пса, даром что подбит, на них быстро заживают раны, выходился бы и был бы надежным товарищем. А породистый! Не хуже тех, которые были у графа, может, и потомок какой-то.
Павел долго ерзал на нарах, прислушивался к шороху, однако ничего необычного не улавливал и наконец приоткрыл дверцу. Через щелочку прямо в лицо дохнуло свежестью, солнцем, щебетом, и он какое-то время постоял, не решаясь вступить в тот, иной мир, который так привлекал и так страшил его. Однако желание как можно скорее вырваться из зловонной землянки пересилило страх, и Павел, полусознательно, высунул голову.
День в самом деле был редкостным, каких на Полесье — да еще в эту пору! — выпадает не очень много. Солнце поднялось поверх сосен, золотило их, внизу, в десяти метрах от землянки, журчал ручей, а по-над ним, сколько видел глаз, стлался ряст. Издали это было похоже на щедрой рукой вышитый рушник — вон и цветочки-крестики на нем: голубые, вишневые, сиреневые и совсем белые. Не было только черных…
Такой рушник — мать говорила, приданое — висел у них над божницей, в красном углу, висел, сколько Павел себя помнил. Нигде больше не видел он такого богатства цветов. А когда, бывало, зимой мать выстирает его да развесит на плетне, вся улица собирается смотреть. Казалось, весна заскочила средь холодов, ударила крылом и высекла такое соцветие.
Эгей-гей, где они, те годы?! И зачем человеку дана память? Чтобы душу бередить, мучиться от угрызений совести? Не знал бы всего этого, легче было бы и жить, и умирать. Детство, юность, родные… К чему все это сейчас, здесь вот? Прошло, перетлело, остался разве лишь пепел… Да и тот — дохнет вот ветер — полетит неведомо куда, ни следа, ни знака не останется. Ему вдруг захотелось умыться ключевой водой, снять с себя грязь, накопившуюся за все эти дни, а вместе с нею, может, отойдет и беспокойство, пронизывающее душу, бередящее и жгущее ее. Пусть даже не все, хоть немного, а снять, смыть, как очищает себя весенними дождями, весенними водами земля. Не в первый ли раз за все это время ему захотелось посмотреть на себя, однако зеркала не было, и Павел посмотрел на руки. Мама родная! Это его руки?! Черные, с хищными ногтями, в ссадинах. Что он ими делал, почему они такие?.. Ах да! Недавно, кажется, это было недавно, вот там зарыл Чарнецкого… Пухом тебе земля, пан представитель! Никто во веки веков не догадается, где твоя могила. Да, Чарнецкий. А перед тем они рыли картошку. Еще раньше — Стецик… Боже, как это было давно. Кажется, вечность прошла, как покинул Копань… Вечность, а он живой. И не хочется уходить из этого мира, будет держаться за него зубами, пока хватит сил.
Чем-то новым, неведомым дохнуло Павлу в душу. Он даже подумал, что, если бы явилось оно раньше, может, по-другому пошла бы его жизнь, не было бы прозябания в склепе, тех мук, которые он причинил и себе, и Мирославе. Затравленный, перепуганный, настороженный, он вдруг ощутил в себе отклик чего-то другого, пожалуй, человеческого, и, обрадованный, готов был на что угодно.
Однако прежде всего — умыться. Пригнувшись, спустился к ручейку, наклонился над ним. Из темноватого водяного зеркала на него глянул заросший, с выпяченными скулами и воспаленными глазами человек. Павел ругнулся и погрузил ручищи прямо в те глаза, однако они отпрянули, исчезли, и он принялся полоскаться. Каким-то давним, подспудным чувством уловил сладковатый запах луговых растений, называемых по-местному «собачьим мылом», которым в детстве, купаясь, они натирали друг другу спины. Павел поискал глазами, нашел кустик, начал мять зелье в ладонях. Зеленоватая, похожая на мыльную пена густо проступала сквозь пальцы, пахла весной, и он радовался этому неожиданному воспоминанию, возвращавшему его в детство, в пору, когда все было иначе: были весны, лето, купальские костры на выгоне, вечерницы, шумные мальчишечьи купанья в Припяти, где всегда пахло татарником, дикой мятой, лугом, когда весь мир казался родным гнездом, а ты в нем — вольной птицей.
Павел помыл руки, лицо, всласть напился из ручейка и остановился под лучами, которые пробивались сквозь густые ветви деревьев. На душе у него было так радостно, что хотелось забыть обо всем на свете, очнуться от всего прошлого; он даже вздрогнул от остроты чувств и нехотя побрел к землянке. Тошнило от голода, — видимо, вода еще сильнее напомнила об этом, — Павел утолил кое-как голод печеной картофелиной, которая уже отдавала гнилью, и снова вспомнил о псе. В самом деле, откуда он мог здесь появиться? Если охотничий, то почему подбитый? И вообще — ныне не сезон для охоты, да и вряд ли кто-нибудь из глушан мог иметь такую породистую собаку. Что же тогда? Возможно… возможно, его искали с собаками? Наверняка ведь ищут, не могут не искать. Но следов их с Юзеком не найти, они давно смыты дождями и весенними водами, а новых не оставили, если не считать тех, что на картофельном поле, однако они в противоположном конце леса, совсем не там, где собака. Тогда — случайность? Хотя бы и так. Разве не бывает… А к собаке все-таки надо наведаться.
Захваченный своим необычным желанием, а еще больше, наверное, поддаваясь настроению, заполнившему его в этот благословенный день, Павел прикрепил к поясу нож, снова украдкой вышел и, так же оглядываясь, переступая от дерева к дереву, направился на опушку. Он решил незаметно подобраться к псу, совсем незаметно, чтобы лучше его рассмотреть, но тот присущим только собакам чутьем угадал приближение человека, безошибочно направил в его сторону глаза и жалобно заскулил. Павел не стал прятаться, прилег ничком и пополз к псу. Когда расстояние между ними оказалось незначительным, метра два или три, животное насторожилось, шерсть на нем вздыбилась. Но он не боялся — ему важно было выяснить, почему тот здесь, чей он? Конечно, мог помочь ошейник. Однако, как ни всматривался, ничего не заметил. Значит, пес не служебный, так себе, остерегаться его незачем.
— Ну что? — обратился он к неожиданному побратиму. — Искалечили тебя?
Пес перестал скулить, в его глазах появилось любопытство.
— Нечем мне тебя угостить. Ну, иди ко мне. — Павел протянул руку. — Не можешь? Ах ты, бедолага.
Ему все больше хотелось приблизиться, погладить искалеченное животное, проявить ласку, которой так жаждал сам.
Они лежали, пристально смотрели друг другу в глаза. Бездомных, гонимых, что-то их сводило на этой узенькой полосе земли. Павлу показалось, что мир изменился, стал другим, все плохое в нем забыто, наступил как бы судный день, день всепрощения, и он может свободно добиваться осуществления своих желаний.
Пес этого не понимал, единственное, что он чувствовал и понимал, — это боль. Боль заглушала голод, безвыходность, в которую он попал так неожиданно. И еще он понимал: тот, что рядом, друг.
Пес терпеливо ждал, его слезящиеся глаза умоляюще смотрели на человека. Почему он медлит, почему он не поможет в беде? Лежит и смотрит. Он даже позволил приблизиться к себе, прикоснуться, однако от этого не наступило ни малейшего облегчения. Пес снова заскулил, залаял — дескать, что ж ты медлишь, делай что-нибудь, но человек приказал ему:
— Лежи тихо.
Павел ползком продвинулся вокруг куста, подполз так, чтобы удобно было рассмотреть задние лапы собаки. Открытых переломов не было. В другое время он наложил бы шину, а через месяц-полтора все было бы в порядке. В другое время. А что теперь? Добить пса, чтобы не мучился, или забрать к себе да выходить? Но чем, как? Главное для него — еда. Для обоих это немалая проблема. Было бы хоть оружие, хотя бы плохонькое ружье, можно было бы подстрелить какую-нибудь дичь. Подстрелить?! Ну и ну, расслабило тебя, дружище, весеннее солнце. Скажи спасибо, что так по земле ползешь, а он еще стрелять вздумал.
Солнце встало в зените, нагрело молодую хвою. Павла пьянил этот запах — он и не заметил, как задремал. Дремалось, наверное, недолго, потому что, когда проснулся, все было как и прежде: солнце, лесной покой, пес… Что же делать? Павел снова посмотрел на своего неожиданного бессловесного друга, и тот, кажется, понял его безысходную тоску, положил на передние лапы бровастую голову, закрыл глаза. Псу было невыносимо больно. Сколько себя помнит, не приключалось с ним такого, ноги всегда были ему послушны, служили верно, кормили и носили всюду и везде, куда лишь хотелось ему пойти, были упругими, никто не мог обогнать его, настигнуть во время охоты или в играх.
Так ничего и не решив, Павел отполз в кусты, встал и побрел назад. Что он мог сделать? Прежде всего нужно было хоть чем-нибудь подкрепиться самому, если свалится, им обоим будет хана. А может… Страшная мысль обожгла его мозг! Случалось же, человек ел… Однако — нет! Он этого не сделает. Он лучше… Но так и не закончил мысль, голова у него закружилась, Павел ухватился за молодую сосенку и, подминая ее, осел на землю.
…Пришел в себя, когда стемнело. Вечер или ночь? В висках стучало, невыносимо хотелось есть. Это уже было не желание утолить голод, не потребность наполнить желудок, а что-то неестественное, человеческому уму неподвластное. Оно заволакивало разум, память, когтями раздирало внутренности — противодействие этому могло быть только одно: еда. Хоть немного, хоть крошечка, хоть ложечка пищи.
Павел пошевелился, ощутил на лице острое прикосновение сосновой ветки и непроизвольно потянулся к ней зубами. Пучочек хвои исколол ему нёбо, язык, однако он не чувствовал этого, жевал, жевал, пока горечь не забила ему рот. Тогда он прилег на землю и долго выплевывал жвачку. Лежал, легкая дрожь время от времени пробегала по его телу — то ли от голода, то ли от холода, потому что с наступлением ночи лес сразу дохнул студеным воздухом.
Вдруг краешком сознания Павел поймал какие-то странные, непривычные звуки, доносившиеся откуда-то совсем с близкого расстояния. «Фич-фич, чух-чух!..» «Тетерева! — догадался. — Наверное, пора токования…» Приподнялся на локоть. Так и есть, тетерева! И неподалеку… Не помня себя, пополз навстречу звукам. Под руки попадались сухие палки, увязали они в мягких прошлогодних листьях, плутали в бурьяне, однако Павел полз, у него не было других мыслей — только бы поскорее добраться до птицы, добраться, не вспугнув, не утратив единственной, кажется, самим господом богом ниспосланной возможности раздобыть еду. И чем ближе становилось токовище, тем учащеннее билось сердце Павла, тем сильнее дрожали руки. Еще в детстве слышал он о повадках тетеревов, знал, что в такое время они почти глохнут и не видят, — так сильна любовная страсть; потому-то и стремился, горел желанием воспользоваться всем этим.
Как долго он полз — час или больше, — не помнит. Заметил лишь, что в лесу стало светлее, и это напугало его: попытка схватить птицу при свете может провалиться. Подгонял себя из последних сил, возле токовища — небольшой, окруженной кустами орешника поляны — остановился, замер. Вот они! Несколько крупных птиц то сближались, и тогда их голоса становились более грозными, сердитыми, тетерева, широко распустив перья, готовы были подмять друг друга; то расходились, бочком, задевая крыльями траву, чтобы через минуту снова начать бой.
Павел притаился, волчьими глазами уставился на добычу. Как подобраться к ним поближе? Переступал от куста к кусту, умолял бога, всех земных и небесных духов, если они еще прислушиваются к его словам и его мольбам, чтобы приблизили к нему птицу… Словно бы пробуя силы, Павел сжал ветку, она согнулась в его руках, и он обрадовался, что еще на что-то способен, не все еще утрачено. Нужно только незаметно, совсем незримо подкрасться… Черт возьми! У них, кроме ушей, глаз, сильный нюх, они сразу почувствуют его по запаху. Надо сбросить с себя хотя бы этот провонявший бушлат…
Он покачивался, ноги у него дрожали, однако желание схватить дичь пересилило все.
А птицы продолжали свою игру, эхо от их выкриков катилось по лесу, и Павлу стало страшно: а вдруг, услышав токование, сюда нагрянут охотники? Он даже побледнел, спина его покрылась холодной испариной, однако голод и видимая добыча цепко держали его, мешали сдвинуться с места. Когда-то он слышал, что охотники часто приманивают дичь, подражая ее голосу, однако его голос так огрубел, что утратил способность изменяться.
Вдруг два тетерева, самец и самка, сцепившись, начали приближаться к кустам, их будто волной несло сюда, к Павлу. Он напрягся и, когда расстояние оставалось незначительным, упал на птиц. Почувствовал в руках что-то дрожащее, сильное, что вырывалось, царапалось, било его, но он намертво сжал пальцы. Птица кричала, остальные тетерева притихли, занемели на какой-то миг, а потом грузно вспорхнули и растаяли в утреннем мареве. Павел держал крупного самца, который, очевидно, обессилел, потому что, побарахтавшись, присмирел, распластался на крыле, ожидая, что будет дальше. Покорность птицы придала Павлу сил, он начал подтягивать добычу к себе, однако тетерев снова забился, затрепетал крыльями, хотя это уже было напрасно, потому что человек вцепился в него, навалился всем телом. Через несколько минут поединок закончился, и оба, нападающий и его жертва, некоторое время лежали неподвижно. Потом Павел встал, забросил тетерева на плечи и побрел к своему укрытию.
XXII
С древних времен, с тех пор как стоит Великая Глуша, она славилась богатыми укосами сена. Видимо, и построили ее здесь, на широком изгибе Припяти, из-за этого добра, да еще, может, из-за леса, который в этих краях простирался без конца и края. Но деревьев за последние военные годы стало куда меньше, а травы каждое лето вырастали особенно буйными, такими, что кое-кто умудрялся снимать три урожая за лето.
Первый укос — так уж установилось — шел государству. Через две-три недели после начала косовицы, а если позволяла погода, то и раньше — ровная, заросшая кустами лозняка пойма покрывалась скирдами, их ставили там, где суше, выше, чтобы не подмокали, затем подводами и тягачами перевозили на специальное, обкопанное неглубокими рвами место, снова складывали уже в большие стога, и — бывало — стояло сено допоздна, до глубоких морозов, пока не приезжали за ним из Копани, Бреста или какого-нибудь другого города. Часто это были даже военные, и крестьяне не без интереса встречали солдат, непременно привозивших крепкую махорку, от которой, как говорил потом Печерога, даже ноги подергивались, а по ночам мерещились райские птицы.
Солдаты каждый раз приезжали разные, однако обычаи у них были одни и те же, и глушане считали для себя честью принять их, угостить домашним борщом с грибами, печеными карасями и, конечно, поговорить, из самих уст услышать, чем живет-дышит армия. Хлопцы не гордились, не привередничали, если случалось заночевать, охотно садились за стол, шли на танцы, которые устраивались возле конторы.
Гураль, председатель, заметил однажды:
— Хлопцы, вы вместо того чтобы по вечерам вертеться да девчат совращать, лучше помогли бы мне с косовицей.
— Да мы что? Мы с радостью, — отвечали солдаты. — Поговорите с начальством — и будьте ласковы.
— И поговорю, — словно бы пригрозил Устим. — Видите, мужчин нет, — война перебила. Поговорю.
В тот же вечер Гураль позвонил Жилюку, Степан Андронович обещал выяснить ситуацию и сообщить, а попутно попросил не медлить со строительством школы.
И вот — бывают в жизни приятные моменты! — прикатили в село сразу две грузовые машины с веселыми сильными ребятами. Гураль собрал косы, грабли, вилы, велел даже заколоть кабанчика, чтобы не ударить лицом в грязь, но гости, оказывается, приехали не с пустыми руками — дескать, армия есть армия, — и с самого утра в бывших панских покоях запахло вареным, жареным.
А на лугу тем временем события разворачивались своим порядком. Пора выдалась солнечная, теплая, солдаты поснимали гимнастерки, их примеру последовали и мужчины-колхозники — и луг зацвел белым, голубым, красноватым, которое двигалось, смешивалось, переговаривалось и перекликалось. Звенели косы, стрекотали конные косилки, шелестели кузнечики, а откуда-то со стороны реки доносилось напуганное гудение выпи, и рыба выбрасывалась игриво, пуская по речной глади широкие круги, и трещала где-то в зарослях камышовка, и плескались на отмелях ребятишки, без которых косовица не косовица, и ржали молодые жеребята, которым надоело плестись следом за кобылами… Сладковато пахло приувядшим разнотравьем, вытоптанными десятками ног луговыми растениями…
Катря Гривнякова, которая успела уже оправиться после своей оказии с миной и работала в летнем лагере дояркой, помыла и развесила на колышках подойники. Присела на бережку.
Отсюда хорошо видны Припять, луг, заполненный сегодня множеством людей, даже окраина села, где стояла их с Романом недогоревшая хата. Ведь как в жизни бывает! Гремело, сверкало, казалось, конец света, а вот прошло, миновало, и все становится на свои места. Пашут, косят, ребятишек выхаживают… Будто ничего и не случилось. Великая Глуша понемногу выползает из землянок, кое-где уже появились новые хатки, с детским смехом и криком. Конечно, еще не год и не два — судя по всему — понадобится, чтобы восстановить село как следует. Но — не беда. Главное: люди поверили в себя, а это уже много значит.
Катря налила ведро холодного, утреннего молока, прикрыла чистым платком.
У косарей передышка. Расположились на мураве под кустами, курят. А женщинам не терпится! Растряхивают траву, выгребают, выносят на открытые поляны, под лучи солнца. Да все быстро, быстро — надо же и здесь успеть, и к коровам, и дома навести порядок.
— Марийка! Иди-ка сюда, доченька, — позвала Катря.
— Ой, некогда, тетенька. Мужчины вон пусть пьют.
— Им тоже хватит. Тебе, дочь, и того… Отдыхать бы чаще, — отвела Марийку в сторону. — Ты не очень-то вилами махай, успеется.
Смутилась Марийка — и приятно ей, и немножко стыдно перед старшей женщиной.
Откуда ни возьмись — Андрей. Кажется, только что поправлял кому-то косу, а уже тут как тут.
— Добрый день, тетя Катря.
— И тебе, сынок, добрый день. Ты за ней вот следи, чтобы не надорвалась.
— Она жилистая! Хотя правду говорите, я тоже ее предупреждаю, но разве она послушает. Уж вы поругайте ее…
— Хватит тебе, — прервала Марийка. — Бери вон, неси косарям.
— Вот! Видали какая? — с напускной обидой произнес Андрей. — И так всегда.
Андрей берет подойник, уходит. Женщины провожают его теплыми взглядами. На Марийкином лице, в глазах словно бы заря засветилась.
— Любит, — тихо промолвила Катря.
Мария молча поправляет волосы или, может, просто отводит глаза, а Катре видятся они оба совсем маленькими, сиротами, потому что ни Андрона, ни Текли уже не было. То Марийка, то Андрей прибегут, бывало, из лесу, от партизан, и порадуется, и наплачется с ними… А теперь, видите, бригадир, доярка! Хату им всем обществом поставили, свадьбу сыграли…
— Где же это ваш Роман, тетя Катря? — вывела ее из задумчивости Марийка.
— Да в школе. Послали в школе поработать. Плотничает.
— Тоже нужное дело. Учительница вон у нас живет. Все хлопочет.
— Кто же говорит — ненужное? Ныне время такое, что куда ни кинь, всюду что-нибудь нужно…
Когда солнце поднялось высоко, роса спала, косари вытерли и спрятали в тень косы, чтобы не затупились на солнцепеке, а сами — кто купаться, кто просто умываться, а кто — покурить вволю.
Женщины тем временем готовили обед. На ряднах, рушниках раскладывали привезенное и принесенное, в ведрах испарялась самим Гуралем сваренная уха.
— Ну, айда, хлопцы, — приглашал Устим, обращаясь к солдатам. — Обедайте, отдыхайте, пока солнышко.
— Это как же, Устим, и вспрыснуть нечем? — опытным глазом окинул приготовленное Никита Иллюх.
— Ты мне здесь анархию не разводи, — прервал его Гураль. — Чем богаты, тем и рады.
— У тебя ежели при людях не выцыганишь, так насухо и день пройдет, — продолжал свое Иллюх.
— Вот и не цепляйся.
— Да я не о себе.
— А им, слышь, дисциплина, устав не велит.
— Хитрющий же ты! — не уступал Никита. — Все уставы знаешь. Когда умрем, на том свете старшиной будешь.
— Тогда тоже поблажки не дам.
— Ты, Никита, партийному начальству пожалуйся, — посоветовал Николай Филюк. — Вот оно едет. Да не одно, как видишь.
Из лесу выехала двуколка, свернула с дороги, по свежему прокосу направилась к людям. В ней сидели Грибов и Малец.
— Ну, теперича пиши пропало, — безнадежно махнул рукой Иллюх и принялся за еду.
Прибывших тоже угостили ухой, они подсели к косарям.
— Вот что, товарищи, — сказал Грибов, когда закончили обед, — к нам, стало быть, приехал капитан Малец, вы его знаете, давайте послушаем.
Малец встал, для начала кашлянул в кулак.
— Касается всех, — сказал он, почему-то взглянув на военных. — В районе объявились бандитские недобитки. В вашем селе сожжена конюшня, у соседей пропали кони, с хутора исчез человек… Мы не можем дальше терпеть это. Враг думает, что если правительство пошло на амнистию, то… словом, обращаемся к вам, товарищи колхозники, с просьбой усилить бдительность и помощь органам в обезвреживании социально опасных элементов. Сейчас начались массовые работы в поле, на сенокосах, многие из вас бывают в лесу — присматривайтесь да прислушивайтесь и — ежели что — сообщайте… Вас, товарищи, это касается особенно, поскольку есть подозрение, что не обходится здесь без участия вашего односельчанина, бывшего оуновца Павла Жилюка, — Малец умолк, окинул взглядом присутствующих, изучая, наверное, какое это произвело на них впечатление, и одновременно выискивая одного из Жилюков, который должен был находиться среди косарей. — Понимаю, принес я вам неприятное известие, в особенности товарищу Андрею Жилюку, мы к нему не в претензии, но факт есть факт.
— Я вот что скажу, — вмешался Грибов. — Никто чести Андрея не задевает. Как был он у нас уважаемым человеком, таким и останется. Но замалчивать такой факт нельзя. Извини, Андрей.
Андрей чертыхнулся и отошел в сторону; за ним со слезами на глазах заторопилась Марийка.
Разговор тотчас разладился, женщины ушли — кто убирать сено, а кто успокаивать Марийку — молодица в положении, все может случиться.
— Вот и закусили… — промолвил Иллюх, но Гураль посмотрел на него так, что Никита осекся, махнул рукой.
XXIII
Примерно в полдень в буфет к Мирославе вошли несколько крестьянок, взяли по стакану чая, сели неподалеку за столиком, и одна из них со слезами начала рассказывать о своей беде.
— Вот так на белом свете ведется, — говорила она, — муж убит, а ты в который раз все рассказывай да рассказывай: кто был, да как выглядит, да о чем говорили… Будто я им в лица заглядывала. Или в рот… Муж мой, царство ему небесное, очень упрям был, — всхлипнула женщина, — боже сохрани, чтобы когда-нибудь да о чем-нибудь рассказал.
— Мало их на войне погибло…
— Не знаю, слышите, ни где его могилка, ни чьи руки смерть ему причинили.
— Говорят, будто снова лесовики объявились, — перешептывались женщины, — в Великой вон Глуше сожгли конюшню…
— Слоняется по белому свету всякий сброд.
— Ну да, а среди них вроде бы и того… председателя нашего районного брат будто. Так вот, снимать будут.
— Кого?
— Да его же, председателя.
Нож выпал из рук Мирославы, звякнул об пол, и женщины приумолкли. «Господи, почему я не оглохла?!»
Женщины ушли, и Мирослава закрыла буфет намного раньше обычного. Как дальше жить? Неужели вот так и будет всегда?
Шла, не видя под собой дороги. Слезы слепили глаза, горькая обида жгла мозг. Зачем? До каких пор? Не лучше ли покончить со всем этим? Пока не поздно, пока… Все! Довольно жалости, довольно колебаний. Ныне она поступит так, как давно должна была поступить. Ныне или уже никогда…
Машина «скорой помощи» привезла ее в больницу на следующее утро без сознания. Врачи констатировали большую потерю крови от самочинного аборта. Искусственное переливание крови, которое тут же применили, желательных результатов не дало. Через несколько часов потерпевшая умерла. Единственное, что она сквозь мрак своего сознания пыталась послать живым, чтобы, очевидно, оставить у них хоть какое-нибудь о себе воспоминание, было невыразительно, шепотом промолвленное «Пав…» Кто угадал в нем имя отца, кто сына, любимого, хотя никого из них так и не оказалось возле ее смертного ложа. А Мирослава с приближением конца все силилась вымолвить имя четче, ей казалось, что стоит это сделать, как пройдет страшный сон и она вместе с ним, Павлом, пойдет на луг, в лес, где столько цветов, кукушек, которые непременно напророчат ей много-много лет. Ей и ему… И тому маленькому, любимому, которого так ждали, так долго ждали…
XXIV
Многое успел изведать на своем коротком веку Андрей Жилюк — батрачество, унижение, сиротство, голод и холод, с детских лет на войне, а вот строился впервые. Неважно, что возводили дом всем обществом, — ему тоже хватало хлопот, и на его плечи легло много всякой работы. И легкой, и тяжелой, и совсем, казалось, не поддающейся, которая, однако, уступала настойчивости и сообразительности. Да и силе, конечно, простой крестьянской силе, которую ничем не измерить, ни с чем не сравнить.
И вот теперь, не рассчитывая на чью-либо помощь, доделывал все в избе сам. Доски за весну высохли, приятно пахли живицей, напоминали о лесах и недавнем, совсем недавнем времени, когда они в партизанах пилили, рубили такие вот сосны, строили землянки, выстилали через болото дорогу. Не думалось, не гадалось тогда, что настанет время, и он будет иметь собственную хату, хозяйство, что люди назначат его бригадиром. Постоянная близость смерти настраивала совсем на иной лад, почему-то вся эта взрослость, собственное хозяйство казались такими далекими, будто и наступят только через десятки лет. Хотя, конечно, в сокровенных мечтах все это было. Были Марийка, дети, собственная хата и собственный двор, ведь кто же без всего этого может называться настоящим человеком? Разве лишь какой-нибудь пустоцвет, не человек, а перекати-поле.
Андрей прилаживал доску, подгонял ее, с наслаждением вбивал в нее гвозди. Гвозди были новенькие, к тому же он еще макал их кончиками в солидол, чтобы не застревали, входили в дерево легко, с нескольких ударов. Хата, казалось, звенела от этого стука.
— А я думаю, кто это здесь мастерит? — послышалось сзади.
Андрей обернулся и увидел Грибова.
— Заходите, и для вас дело найдется…
— Чего-чего, а этого хватит. — Грибов ступил в глубину комнаты. — Хорошо уложены. Стало быть, не только боги горшки лепят, а? — Ударил каблуками, будто в танце.
— Верно! — пристукнул молотком Андрей и встал. — Так, может, того, пропустим по маленькой ради воскресенья? Пока женщин нет.
— Пропустить можно, дело нехитрое, а только я к тебе, Андрей, по другой причине. Как к комсомольскому вожаку.
— Слушаю, Николай Федорович.
— Со школой дела плохи, вот что. Людей не хватает, и негде их взять. Вчера с Гуралем малость поцапались. Уперся старик: нет незанятых рук — и все. Будто я не понимаю… Молодежь надо чтоб подсобила, Андрей.
— Да она уж и так просвета не видит, — заметил Андрей.
— Все равно. Дальше будет не легче, жатва пойдет. А к сентябрю школа должна стать в строй.
— Никого ведь лишнего нет…
— Так только кажется, — улыбнулся Грибов. — Вот, к примеру, ты. Сегодня ты мог бы там поработать? Мог бы.
— Но ведь…
— А это уже ни к чему. Собирай своих комсомольцев, советуйтесь, и пусть два-три человека придут, и то помощь будет. Кстати: как это вы миритесь с тем, что девчата от вас убегают? — Лицо Грибова озарилось улыбкой.
— Имеете в виду учительницу?
— Кого же еще? Девушка как девушка, а собирается убегать. В районо обращалась, Хомина уговаривала, чтобы не возражал как председатель сельсовета.
— Не по душе ей наш климат, Николай Федорович. Привыкла к городским удобствам, ничего больше знать не хочет.
— Заинтересовать ее надо.
— А Галина Никитична, видите, без всяких фокусов трудится.
— Э-э, Галина Никитична, скажу тебе, свое на уме имеет. Пожалуй, скоро твоей родственницей станет.
Андрей посмотрел изумленно:
— Родственницей?! Это как же?
— А так. Ночевала, говорят, у Степана. Была ведь недавно в Копани? Ну вот.
— Не может быть. Она ведь совсем молодая…
— Этому, брат, преград нет, — рассмеялся Грибов. — А Степан Андронович — мужчина видный. Да и казак еще.
Андрей стоял в задумчивости, перед его мысленным взором вдруг промелькнул тот вечер, когда Степан был у них, ужинал… Но ведь тогда вроде бы ничего такого не случилось. Впрочем, кто его знает. И неплохо было бы, если б они поженились, зачем ему всю жизнь в одиночестве? И так досталось на веку…
Школа вырастала в центре села, на месте, где когда-то стояла управа. Сруб и крыша ее были готовы, оставалось оштукатурить стены, настелить пол, приладить двери, завезти парты, классные доски… Одним словом, как говорил Хомин, начать да кончить.
— Снаружи штукатурить можно и потом, — поторапливала Галина Никитична, — главное внутренние работы.
Она прибегала на стройку утром и возвращалась с наступлением сумерек, когда уже ничего не было видно. Не хватало то глины, то извести, то дранки, то всего вместе, не говоря уже о мастерах или обыкновенных рабочих руках. Несколько учительниц, которых она просьбами и угрозами, на собственный страх и риск, не пустила в отпуск, каждый день вместе с нею месили, мазали, заделывали щели. С согласия родителей и опекунов на помощь были приглашены и старшие ученики.
— Вот закончим, обязательно всех на экскурсию повезу, — обещала ребятам Галина Никитична.
— Ур-ра-а! — дружно кричала детвора.
— Тише вы! — прицыкнул на школьников Роман Гривняк. — Пани учительница, скажите им. Голова кружится от крика.
— Ой, не от крика это, Роман, — отозвался Иллюх.
— А от какой еще холеры?
— Выпил же, наверное, вчера на радостях? По случаю возвращения дочери.
— Почему бы и не выпить? — обрадованный тем, что сельчане заметили такую его радость, добродушно ответил Роман.
— Вот и нечего на детвору сворачивать!
Верно, верно, праздник нынче у Гривняков! Наталья, дочурка младшая, возвратилась. Из самого Копаня. Да не как-нибудь, а с гербовой бумагой. В бумаге же этой, слышите, пропечатано: такая, мол, и такая, Гривняк Наталья Романовна, отныне зоо… И не вымолвишь, как следует!.. Зоо-тех-ник. Словом, все должны ее отныне слушать, даже Гураль. Так как это, радость или нет?
— Радость у вас, конечно, — подтвердил Иллюх. — Я бы на вашем месте, Роман, ничего не делал сегодня.
— Э-э, глупости говорите, Никита. Как это ничего не делать? Счастье ведь к нам постучалось.
— Так запри покрепче, чтоб не убежало.
— Это почему же? — удивился человек.
— А потому: женится на твоей Наталке тот же Микола Филюк, посадит ее на трактор, вот и поминайте, как звали.
Гривняк не ожидал такого поворота, приумолк, и вокруг все засмеялись.
Внеочередное комсомольское собрание, где не было ни президиума, ни протокола, а велось оно самим секретарем, приняло предложение Андрея создать пусть небольшие, из нескольких человек, бригады для помощи школе.
И вот несколько юношей и девушек во главе с Андреем явились после работы к Галине.
— Ну, я спокойна, школа теперь наверняка будет, — сказала она в тот первый вечер.
— А вы, между прочим, можете идти домой отдыхать, — улыбнулся Андрей. — А то Марийке одной боязно.
— В самом деле, Галина Никитична, — поддержали его остальные, — вам и днем хватает работы.
Андрей с напарником, Николаем Филюком, настилали пол, а несколько девчат мазали стены. В классах пахло свежей стружкой, глиной, мякиной, которую подмешивали, чтоб крепче держалась штукатурка, сквозь незастекленные окна дышала ночная влага.
— Как это тебе удалось сагитировать эту паненку? — спросил Николай, имея в виду учительницу Людмилу. — У нее ведь только и разговоров было что об отъезде.
— А что ее агитировать? Должна отработать законных два года там, куда ее послали, вот и все. Сказал, напишу в министерство, родителям, так сразу присмирела…
На самом же деле все было не так. Рассказывая, Андрей кривил душой. Учительницу он встретил однажды возле речки, когда поил коня, она то ли стирала (в руках было мокрое белье), то ли возвращалась после купания. Эта Людмила была такая свежая, такая роскошная, что Андрей даже застеснялся, увидев ее близко, невольно уставился на свои видавшие виды штаны, на посеревшие от пыли сапоги и огрубевшие на ветрах руки; хотел было отвести коней подальше — сделать вид, что не заметил, но девушка сама зацепила его. Ответил что-то, закинул на коней повод, пустил по бережку.
— Вы вроде боитесь меня? — улыбнулась учительница.
«С чего бы это она?» — подумал неприязненно. Однако ответил:
— Отчего же я должен бояться? Вы ведь не русалка.
— А вдруг?
— А вдруг и я в лешего обернусь, что тогда?
Рассмеялась, по-детски мило закидывая курчавую головку.
— Вот было бы интересно: леший — комсомольский активист!
— Ну знаете, шутки шутками… — не совсем учтиво прервал ее Андрей.
— Ой, какой грозный! Надеюсь, на собрание за это не потащите?
— Лучше скажите, почему надумали убегать? — вдруг прямо спросил Андрей. — Трудностей испугались?
— Хотя бы и так! Не всем же быть героями. Герои — это единицы, избранные, а я, видите, обыкновенная.
— Обыкновенная, — не найдя другого слова, повторил Андрей. — Между прочим, обыкновенные и становятся героями. — Они так и маячили на берегу, на мураве, в реке отфыркивались кони, не выгнать их было из воды. — Как вы, девушка, комсомолка, можете убегать от сирот, от родителей, которые потеряли детей и ждут от вас хотя бы ласкового слова?
— Хватит! — чуть не взвизгнула Людмила и… заплакала.
Она плакала по-настоящему, порозовевшие на ласковом солнце плечи ее вздрагивали; Андрею вдруг стало не по себе, он пожалел, что зря обрушился так на девушку, и, не зная, как выйти из положения, оглядывался по сторонам, боялся, как бы кто не увидел и не подумал бог весть что.
— Извините, я не хотел… — заговорил он торопливо. — Не надо плакать, перестаньте, вы ведь взрослая… Вы ведь сами начали этот разговор. — Андрей даже взял ее за плечо, взял как только мог нежно, как не брал, может, никого в жизни, даже Марийку.
Девушка вскоре затихла, только всхлипывала да вытирала влажным платьем глаза.
— Все готовы только поучать, — промолвила она, — нет чтобы понять…
— Так вы же — будто улитка, — обрадованно заговорил Андрей, — замкнулись в себе, даже Галина Никитична, подруга ваша, ничего не знает.
— А что ей знать? — Людмила подняла на него влажные глаза. — Она может весь день бегать за своими досками, кирпичом, гвоздями, а я нет — слышите? — нет! В герои я не гожусь. Можете вы понять?
Андрей стоял ошеломленный, не думал, что эта неожиданная встреча, игривый разговор обернется таким образом, поставит его в какое-то странное положение. В душе еще звучала злость на эту воспитанную на всем готовом и, наверное, по чистой случайности направленную сюда, в глухомань, девицу, хотя и с комсомольским билетом, а здравый смысл уже подсказывал ему другое, убеждал в какой-то правоте ее. В самом деле, нельзя же одинаково от всех требовать. Эта, видимо, из тех, кому надо больше говорить приятных вещей, поддерживать. Галина — та способна работать при любых обстоятельствах, для нее — чем бо́льшие трудности, тем большее напряжение и отдача, а эта…
— Ну почему же? — сказал рассудительно Андрей. — Понимание тут простое: не готовы вы, Людмила Тарасовна, к трудностям, потому и привередничаете. Не знаете вы, почем фунт лиха. Может, и не ваша в том вина, не целиком ваша, но отвечать за свои поступки вам придется. Такое мое искреннее слово. Простите, если что не так… Поступайте, как подсказывает вам ваша совесть.
На следующий день вечером, когда они собрались все дома, Галина Никитична нарочито громко, чтобы слышала и Марийка, хлопотавшая в кухне, сказала:
— Будто кто-то пошептал моей Людмиле. То все рвалась, не могла дождаться конца учебного года, а теперь вот говорит — побуду, помогу по школе. Что бы это могло означать, Андрей Андронович, а?
— А я при чем? — равнодушно ответил он, хотя известие и заинтересовало его.
— Так-таки ни при чем? А Людмила говорит: просили вы ее и умоляли.
— Ну просил. Спасибо, если уважила, — схитрил Андрей. — Или вы не довольны, Галина Никитична?
— Почему же? Если бы и вовсе осталась, девушка она порядочная и учительница хорошая, один лишь недостаток, что с претензиями.
— А без претензий, да будет вам известно, людей не бывает.
— И то верно, — согласилась учительница. — Не знала, однако, что вы такой умелый агитатор. — В тоне ее звучало лукавство, чувствовалось, будто она чего-то недосказывает, однако Андрей упорно не замечал этого.
«Ну и хитрые женщины! — думал про себя. — Что одна, что другая. Видно, уже что-то наплели. Не изменят их ни звания, ни дипломы — женщина остается, женщиной, хоть ты ей что!..»
Все это сейчас вспомнилось ему, и Андрей улыбнулся. «Не слыхал ли и Николай, случайно, что-нибудь в этом роде… Ну и пусть. Хорошо, если учительница учла, не все, стало быть, у нее утрачено».
Раз или два они с Филюком наведывались к девчатам, помогали переставлять козлы, тяжеленные носилки с глиной или просто перекурить, и Андрей ловил себя на том, что взгляд его почему-то наталкивается на учительницу. Девушка была в стареньком, выцветшем платьице, маловатом для нее, и, когда они входили, торопливо поправляла его, одергивала, пыталась быть подальше, где-то в углу, чтобы меньше попадаться на глаза.
— Спасибо вам. — Андрей подошел к ней.
— Радуйтесь, — промолвила тихо.
— А я и в самом деле рад.
— Только не думайте, что ваша агитация повлияла.
— Неважно что, лишь бы повлияло…
— Лучше отойдите, а то забрызгаю глиной.
Людмила взяла большой комок, макнула его в воду и бросила в расселину, однако не попала, глина ударилась о стену, начала сползать, и девушка торопливо подбирала ее. Андрей понял, что ему лучше уйти.
В полночь, утомленные, закончили работу. Пока Андрей собирал инструмент, все как-то вдруг исчезли, остались они с Николаем, Наталка Гривняк — зоотехник и Людмила.
— Я с Наталкой, — тайком прошептал Филюк.
— А… учительница? — невольно вырвалось у Андрея.
Николай пожал плечами, дескать, я-то при чем, пожелал доброй ночи и заторопился.
«Вот те раз! — подумал Андрей. — Этого еще не хватало». Однако делать было нечего.
— Мне выпало провожать вас домой, — просто и как-то даже буднично сказал Людмиле.
— Если выпало, — подчеркнуто ответила она, — то я сама.
Она уже переоделась, в руках держала сумку, куда, наверное, спрятала старое платье и обувь.
— Нет, так не годится. Пошли.
— Почему же? Ночь лунная, не заблужусь. А то еще… — приумолкла.
— Говорите, говорите.
— Будто сами не знаете.
— Может, и не знаю, просветите.
— Жена просветит. — Сказала и снова притихла, выжидая его реакции.
— Ну, ну…
— Встретила ее однажды у колодца — посмотрела, будто огнем обдала. Вы что-нибудь говорили ей о нашей встрече?
— О нашей беседе, — поправил.
— Не понимаю.
— О беседе, говорю.
— Беседа без встреч не бывает, раз уж вы такой.
— Бывает. Ничего я дома не говорил. Это все Галина Никитична. Откуда она узнала?
— Я рассказала.
— И о том, что я просил вас, тоже?
— И об этом. Это вас удивляет?
— Нет, — засмеялся Андрей. — Однако я думал, что вы взрослее. А вы еще совсем ребенок.
— Вот и хорошо! Можете смеяться. Скажу больше: не уехала я только из-за вас.
— Эв-ва! — оторопел Андрей.
— Да, да. Появился у меня интерес.
Он смотрел на нее, озаренную голубым лунным сиянием, в отсветах которого зеленовато посверкивали волосы. Стояла близко, не скрываясь, смотрела ему в глаза. Вот уж чего не ожидал! Правду говорят: захочет бог наказать — на ровном месте споткнешься. «Появился интерес». Неуравновешенная девушка! Провоцирует или… насмехается? Бывают же среди них и такие: посмотришь — девушка как девушка, а оказывается — черт в юбке, того и гляди до беды доведет.
— Что, испугались? — Людмила откровенно смеялась над ним. — А почему бы и нет? Почему бы мне не влюбиться? В вас, скажем. Вот возьму и…
— Хватит! — решительно прервал ее. — Как вы можете? Вы, комсомолка… учительница…
— А комсомольцы, учителя не люди? Они что, каменные, вместо души у них пустота? — Голос ее задрожал, Людмила отвернулась, закрылась ладонью.
Андрей видел ссутулившиеся, по-детски угловатые плечи, почему-то подумал, что они еще не ощущали на себе тяжести, которую непременно положит на них жизнь; и что никто, наверное, не обнимал их, потому что некому, потому что хлопцев, ровесников, унесла война, а младшие, которые подросли, не пара ей; и что наступила ее пора любить, страдать, плакать; и не работать бы ей ночью, а любоваться звездами, луной, слушать ночь в сладких объятиях любимого…
— Хорошо, Люда, — неожиданно для самого себя назвал ее ласково, будто давнюю подругу. — Уже поздно. Я, конечно, не прав, извините, но… шутки ни к чему.
— Не шучу я! — внезапно обернулась она. — Андрей! Почему все должны быть счастливы, а я… я что?.. Какая-то неполноценная? Или время для меня остановилось?
Растерянный, будто внезапно пойманный на чем-то неблаговидном, Андрей не знал, что делать. Оставить вот так — не оставишь, стоять, ходить — поздно, да и… зачем? Почему он должен выслушивать эти признания. Потому что случай? Не свел бы он их, не было бы этой ночи, этого необычного разговора.
— Всему свое время, — успокаивал ее Андрей, а перед глазами сверкали блестящие от слез и потому еще более привлекательные ее глаза, в лунном сиянии мягко покачивались легкие, казалось, невесомые ее кудри. — Я верю: настанет ваше время, счастье придет, куда же ему деваться, не может оно пройти мимо вас.
— А если оно уже настало? Что — бежать от него? Хотела, так удержали, теперь…
— Успокойтесь, Люда. Вы не маленькая, понимаете, что к чему. Не надо. — Взял ее за руки, чтоб идти, почувствовал, какая она вся напряженная, трепетная. — Пошли. Уже рассвет, ночь ныне короткая.
Домой возвратился, когда на кухне уже посверкивал ночничок, — Марийка готовилась на утреннее доение.
XXV
Степан терялся в догадках и раздумьях. Днем еще отвлекали дела, поездки, встречи с людьми, а ночью — все возвращалось, брало его в крепкий плен, и не оставалось никакой возможности вырваться из него. Снова и снова мысленно возвращался в прошлое, раскладывал его на составные части, чтобы ни единый поступок не оставался где-то в тени, судил себя суровейшим собственным судом, однако не мог найти в прошлых своих деяниях чего-то недостойного, коварного, подлого. Все они были на виду, перед людскими глазами, за них не раз приходилось страдать, платить высокой мерой. И подполье во времена панско-польской оккупации, и тюрьма Береза Картузская, и республиканская Испания, где они, интербригадовцы, впервые лицом к лицу столкнулись с фашизмом, и возвращение в тридцать девятом, и позже… Нет, не считает он себя чище других, но и напраслину брать на собственную голову нет оснований. Да, во время войны, в партизанах, встречался с братом. Почему не покарал предателя? Потому что сам был задержан оуновцами, едва в живых остался. А потом не приходилось видеться, иные были дела. Единственное, за что готов отвечать — партдокументы. Однако и здесь, если всерьез разобраться, не его вина, так сложились обстоятельства, это даже было предусмотрено инструкцией.
Друзья советовали Жилюку не выжидать, а действовать. Возможно, даже обратиться если не в ЦК, то в обком. Но ведь трудно защищать себя самого, вот и приходится сидеть и ждать, пока тебя вызовут…
Событием, которое подтолкнуло развязку, была неожиданная Мирославина смерть. О ней Степан узнал в райкоме, в кабинете Кучия, где, после небольшого оперативного совещания, Малец весьма узкому кругу рассказал о случившемся.
Всех заинтересовало то, что покойница была, как свидетельствуют врачи, на четвертом месяце беременности. Чей ребенок? Никто не решался сказать что-то определенное.
Ночью Степану стало плохо. Разболелось сердце, стучало в висках. Степан пососал таблетку, однако это не помогло. Не хотелось среди ночи беспокоить врачей, но почувствовал — не выдержит. Позвонил.
«Скорая помощь» появилась не сразу, примерно через полчаса. Перед этим врач, который постоянно имел с ним дело, позвонил и предупредил, чтобы не вставал, не поднимался, он откроет сам. («Да, да, — вспомнил Степан, — я ведь дал ему на всякий случай ключ… когда-то после первого приступа».)
— Лежать, голубчик, лежать, — приказал, обследовав его, врач. — Вы не железный. Полежите до утра, а там, если все будет в порядке, отправим вас в областную больницу. А вообще, — не переставал поучать он, — отдыхать надо, давно говорил — в санаторий съездили бы.
После укола Степану стало легче, он глубоко вздохнул, поблагодарил врача, пообещав прислушаться к его советам.
— Вот и хорошо, — врач собрал свои инструменты, — лежите, лечитесь, а я побегу.
Он еще принес и поставил возле больного стакан воды, осмотрел комнату, чтобы чего-нибудь не забыть, и попрощался. Как только за ним закрылась дверь, перед Степаном снова предстала нынешняя, пожалуй, уже вчерашняя сцена, внутри снова запекло-защемило, и он потерял сознание.
Больница стояла в центре города, в хорошо ухоженном саду. Сюда почти не доносился шум, днем, после процедур, можно было посидеть в одиночестве, почитать, подумать.
Степан Андронович облюбовал себе скамейку в самом отдаленном углу сада, среди роскошных кустов жасмина, который в эту пору цвел, дышал опьяняющими запахами.
Стараниями врачей вернулся Степан к жизни.
— Долгов у меня до дьявола, вот что, — шутил он, — не мог я просто так с ними разделаться.
— Ну да, ну да, — говорил главный врач. — Если бы мы не успели, куда бы и девались все ваши долги. Острая сердечная недостаточность, предынфарктное состояние, вам повезло.
А было так: вскоре после своего ночного визита врач решил на всякий случай позвонить больному, убедиться, все ли в порядке; на его настойчивые звонки никто не отвечал, и старика охватило беспокойство; долго не раздумывая, он вернулся в знакомую квартиру, открыл ее и застал своего пациента в бессознательном состоянии.
— Долго думаете меня здесь держать? — поинтересовался Степан.
— Спешить некуда, — ответил главврач. — Подлечим, потом направим в санаторий. — Он говорил рассудительно, и Жилюк понял, что осел капитально: эскулапы в самом деле будут держать его столько, сколько требуют обстоятельства.
— Жатва вот-вот, — умолял он, не зная, что им еще сказать, какие выставлять аргументы.
— Жатвы были и будут. Вы что, считаете себя незаменимым?
— Да нет, — смутился Степан, — не привык я отлеживаться.
— Ну, это дело такое, привыкнете, — улыбнулся врач. Он на минуту задумался, перелистывая «историю», и неожиданно спросил: — Вы одинокий?.. У вас никого нет?
— Одинокий, — непроизвольно ответил Жилюк. — Но имею брата. А что? — поинтересовался.
— Ничего, ничего, — поспешил успокоить врач. — Вас никто не навещает, кроме официальных лиц.
— Далеко, а пора ныне горячая.
— Ну да. — Врач внимательно посмотрел на него, и Степан понял, что тот знает о нем больше, значительно больше, а вопросы эти — всего лишь дань вежливости.
Они так и расстались — чего-то не досказав, чувствуя друг перед другом какую-то неловкость. Врач вызвал очередного больного, а Степан, прихватив стопку газет, пошел на свое место, где его ожидали уют, запахи цветов и спокойствие.
…В один из дней, после обеда, когда Степан пошел отдохнуть, — врачи настойчиво требовали соблюдения этой процедуры, — его позвали. Медицинская сестра как-то таинственно улыбалась, и больной решил переспросить, не произошла ли ошибка, но нет, сестра игриво взяла его под руку, вывела в небольшой, заставленный фикусами холл — место встреч с посетителями.
— К вам, — кивнула на девушку, сидевшую на скамье, и словно бы подтолкнула.
Увидев его, девушка вскочила, однако не ступила ни шагу, стояла настороженная, встревоженная, и Степан сразу узнал в ней учительницу, Галину Никитичну.
— Вы?! — спросил он удивленно и вовсе неуместно. — Как вы меня разыскали?
Она смотрела на него и молчала. В глазах ее сверкали слезы.
— Что-нибудь случилось, Галина Никитична?
— Нет, нет, все в порядке… — словно бы опомнившись, сказала она. — Приветы вам от Андрея и Марийки… И вот еще, — протянула узелок, — просили передать.
Степан так же растерянно взял узелок, поблагодарил и вспомнил, что полагается пригласить гостью по крайней мере сесть.
— Можете выйти в сад, Степан Андронович, — подсказала медсестра.
— В самом деле, пойдем в сад, — заторопился Степан, — там хорошо… тихо. Вы давно приехали? Наверное, не обедали? Подождите, я сейчас…
— Нет, нет, я не голодна. — Галина еле удержала его. — Заходила в кафе.
— Смотрите, а то… Мне даже неудобно, ей-богу, бросил вас тогда одну…
— Что вы, Степан Андронович? Спасибо, что пригрели, дали возможность отдохнуть.
— Все думал заехать, попросить прощения, а вот видите, где оказался.
Он посадил ее, примостился рядом, все время испытывая какую-то неловкость.
— Ну, как там, рассказывайте, что нового в селе.
— Вроде бы все как и прежде. С сенокосом, говорил Андрей, управились, как никогда…
— Погожее лето, редко такое выдается.
— Готовятся к жатве.
— А школа? Со школой как?
— Помаленьку движется. Молодежь взялась работать по ночам. Андрей создал комсомольскую бригаду.
Однако все это было не то. И за ее рассказом, и за его вопросами угадывалось что-то большее, более значительное, что интересовало обоих, однако не находило выхода, ждало своего часа. Жилюк был несказанно рад этому посещению, их встрече.
Галина же, направляясь сюда, приготовила себе оправдание — дескать, приезжала по делам и решила навестить, однако, увидев его, сразу почувствовала, как летят прочь все ее приготовления. Так хотелось сказать ему что-то приятное, чтобы он повеселел, отвлекся от своих тяжелых мыслей, а говорила будничное, такое, наверное, и без того надоело ему хуже горькой редьки… Да и он тоже хорош! Мог бы поинтересоваться не только школой и колхозом, но нет, ему, видите ли, интересно именно это. Ну и пусть! Если ему так хочется, если ему так нравится…
— Я уже, наверное, пойду, Степан Андронович, — молвила Галина, когда, казалось, обо всем переговорили. — Врач предупредил, что вам нельзя переутомляться.
— Врачи, Галина, много о чем говорят. Однако они, бывает, и сами того не придерживаются, потому что над всеми нами властвует жизнь. Жизнь, — повторил он задумчиво. — Жаль мне, что снова не могу воспользоваться вашим обществом, а то пошли бы, побродили по городу. Вы непременно посмотрите его, здесь много интересного. А в следующий раз, когда приедете, побродим вместе, согласны?
Посмотрела на него, улыбнулась.
— Спасибо, Степан Андронович. Обязательно.
А голос — заметил — дрожит, движения какие-то неуверенные, как у человека, который делает одно, а в мыслях у него другое…
Позвонил второй секретарь обкома.
— Степан Андронович, поздравляю.
— С чем?
— С выздоровлением. Врачи докладывают: скоро будут выписывать… — Разговор происходил в кабинете главврача, при этих словах Жилюк вопросительно посмотрел на него, тот развел руками, дескать, судите, как хотите. — Так вы не исчезайте, зайдите, — продолжал секретарь, — и вообще… Они советуют санаторий, путевка вам выделена.
— Никуда я не поеду, — возразил Степан Андронович.
— Ну, это мы посмотрим. Со здоровьем — шутки плохи. Дела в районе идут нормально, так что… Кучий согласен, он вам позвонит. Кстати, к вам заедет товарищ Соколов, раньше мы ему отказывали в аудиенции, а сейчас встретитесь. Одну минутку, вот он у меня, договоримся о времени… Пять часов вечера — подходит? Вот и хорошо. До свидания.
В трубке щелкнуло, послышались гудки, и Жилюк медленно опустил ее на рычаг.
— Благодарю за приятное сообщение, — сказал главврачу. — Почему-то больной узнает о своей судьбе от посторонних людей.
— Если бы от посторонних, — улыбнулся врач. — Вы даже не представляете, Степан Андронович, как на меня наседали, пока вы не вышли из кризиса. Так что, извините, посторонних не вижу.
Степан не стал спорить, поблагодарил и вышел. Упоминание о Соколове вызвало неприятное чувство, которое с течением времени приугасло, во всяком случае утратило свою остроту.
До встречи оставалось еще более часа, и Степан посидел возле игрушечного фонтанчика, где успокаивающе журчала вода и забавно купались воробьи.
Соколов приехал ровно в семнадцать. Степан слышал, как к воротам подкатила машина, щелкнула дверца, однако сидел, не поднимался со скамьи, — сестра знает, где он, позовет. Через несколько минут на дорожке послышались шуршащие шаги, и он невольно посмотрел в ту сторону. Так и есть, идет сюда!
Начальник КГБ был в гражданском, и Жилюк, глядя на него со стороны, подумал, что, не зная, никогда не принял бы его за военного — походка расслабленная, словно бы утомленная, фигура немножко располневшая.
— Так вот где вы! — торжественно провозгласил Соколов. — Здравствуйте, Степан Андронович.
Они пожали друг другу руки. Медсестра, попрощавшись с Соколовым, ушла.
— Вижу, вы на коне, — промолвил гость. — Как говорит мой хороший знакомый: подарок женщинам на Восьмое марта.
— Исцелила медицина, — деланно улыбнулся Степан. — Обещают на днях выписать.
— Успеете. Вы ни разу как следует не отдыхали.
Степан поддерживал разговор, а самому не давала покоя одна и та же мысль: с чем он приехал? Неужели дело обрело такую неотложность?
А Соколов не торопился, долго закуривал, со вкусом несколько раз затянулся.
— Организовывать свой отдых нам надо учиться у великих людей, — продолжал гость. — Удивляешься иногда, как Владимир Ильич, при всей своей занятости, находил время и для прогулок, и для книг, и для музыки. Кстати, вы заметили: сейчас появляется много мемуарной литературы — о выдающихся революционерах, ученых. Таких книг нам не хватало, молодежь должна знать борцов за обновление мира, брать с них пример. Помню, как мы зачитывались «Оводом». Это был наш кумир.
— Наша эпоха родила героев не меньше, — промолвил Жилюк. — И вы правы: нам не хватает знания их жизни. Например, тот же Степан Бойко, секретарь подпольного окружкома КПЗУ, — что знает о нем подрастающее поколение? Да таких, как он, только в нашем крае не один. — Его постепенно увлек разговор, и чем больше поддавался ему, тем ярче представали в памяти события, имена, которые в самом деле могли бы стать образцом для молодежи.
— Степан Андронович, — вдруг сказал Соколов, — а как вы смотрите на то, чтобы выступать перед сотрудниками нашего управления?
— С чем? — вырвалось у Жилюка.
— Ну, с лекциями, воспоминаниями — как хотите, так и называйте.
Степан смотрел на него с удивлением.
— Как это понять, товарищ Соколов?
— Вот так и понимайте.
На глазах у Степана выступили слезы. Он не вытирал их.
— Ну вот! — развел руками Соколов. — Так называемые положительные эмоции. Их тоже следует остерегаться в вашем состоянии.
— Бывает. — Они помолчали, и Степан добавил: — Один вопрос, товарищ Соколов. Что все-таки с моим братом? Вам что-нибудь более достоверное известно?
Соколов подумал, взял Жилюка за рукав.
— По правде говоря, ничего, — сказал он. — Известно лишь, что в районе действуют один-два бандита. Активизировались они в связи с проникновением на нашу территорию представителя так называемого центра. На Станиславщине была высажена шпионско-диверсионная группа, часть ее удалось уничтожить в первый же день, кое-кто попал в руки правосудия позже. Одному все-таки удалось улизнуть. Какова роль в этом Павла, покажет время. Думаю, недалекое. Вот и все, что вам необходимо сейчас знать. Остальное входит в компетенцию наших органов.
— Благодарю.
Соколов посмотрел на часы.
— Ого, проговорили мы с вами добрый час. В полседьмого я должен быть в школе, на родительском собрании. Сорвиголова у меня растет, только гляди за ним. И в кого только пошел — не могу понять… — Он попрощался и, уже отойдя, обернулся, добавил: — Да не сидите, ходите побольше.
Жилюк дружески помахал ему и устало опустился на скамью.
XXVI
В первый день, передохнув от почти непосильной — так он отощал! — ноши, Павел отрезал собаке до колена перебитые задние ноги, болтавшиеся на сухожилиях, как умел, перевязал их и, хотя и понимал тщетность своей затеи, беспокоился, чтобы поскорее зажило. Особой хитрости в этих делах не требовалось. Главное было добыть пищу.
С наступлением тепла это стало проще. Поймав тетерева, Павел невероятно обрадовался, щедро выделил еды собаке, несколько дней отлеживался и наконец почувствовал, как в ослабевших мышцах прибывает сила. И вообще было похоже на то, что ему везет, — те, кого он опасался, как огня, забыли о нем или же просто махнули рукой, оставили без внимания — пускай, мол, подохнет, если до сих пор не подох.
В один из дней ему удалось отбить козленка. Видно, тот недавно родился, еще неустойчиво стоял на ножках; напуганный чем-то табунец, в котором ходил козленок, промчался, оставив его в зарослях орешника, и Павлу без особых трудностей удалось подбить его тяжелой палкой, а потом и прирезать.
Однако теперь донимало другое: не было соли. Птицу съел, почти не замечая этого, но сейчас кусок не лез в горло или — что еще хуже — от него воротило, рвало, выворачивало все внутренности. Павел с отвращением бросал мясо псу, однако проходило время, и голод брал свое.
«Холера!» — ругался Павел. Все-таки не обойтись без села. Нужна соль, нужны спички, нужно… Еще недавно все вроде бы шло к концу, он уже смирился с этим, прикидывая лишь, какую цену запросить за свою смерть, во что обойдется она тем, кто жаждет ее, а ныне вроде бы дело получает иной оборот. Снова нужно заботиться о существовании, думать о мелочах, которым раньше не придавал значения.
Если так, если жизнь дает ему отсрочку, он поборется. Интересно же наблюдать, что будет дальше. Может, действительно, как утверждал «пан представитель», снова начнется…
Ясным днем, присев над ручейком, Павел всматривался в собственное отражение и не узнавал себя. То, что выглядывало оттуда, — черное, заросшее, мохнатое, — невозможно было назвать человеком. Это была скорее человекообразная обезьяна, он когда-то видел такую в кино и, помнится, вдоволь посмеялся.
Однако ж…
Приметил как-то на околице Великой Глуши землянку, в которой жил незнакомый одинокий дед, — так не попробовать ли нанести ему «визит»? Уже несколько раз принимал решение, даже подбирался тайком на опушку леса, и ничего, обошлось, ни с кем не столкнулся. Видно, дед нелюдим, никому до него нет дела. Лучший случай не подвернется.
На рассвете, хорошенько прикрыв вход в свою землянку, чтобы пес не мог выбраться оттуда, Павел отправился в дорогу. Дорога была неблизкая, и он, отдохнувший, окрепший в ногах, вскоре вышел на опушку, прислушался: недавно на пойме косили травы, было людно, осмотрительность не помешает.
Пойма лежала в сладкой дреме, лишь изредка сонно где-то откликалась выпь; недалекая река дышала предрассветной влагой, пахло сеном, утренней свежестью.
Павел стоял как зачарованный. Что-то давнее, еле теплившееся на дне памяти, зазвенело вдруг во весь голос, сковало и руки, и речь, и мысли, кроме одной — слабеньким лучиком светилась она из далекого прошлого, освещая тропинку, вившуюся среди трав и исчезавшую где-то в голубой неизвестности, по тропинке брел мальчонка в полотняных штанишках на помочах, в брылике, который непослушно сползал на глаза, в руках у мальчонки прикрытый платком кувшин — обед отцу-матери… Над травой, напуганные мальчиком, взлетали мотыльки, кузнечики перепрыгивали перед ним дорогу, в кустах, камышах щебетали птицы, и от этого луг звенел, жужжал, свиристел, и все вокруг, казалось, пело…
Павел напрягал память, силился вспомнить этого мальчика — ведь он когда-то его видел, да так и не смог и оттого разъярился, передернулся, будто во сне, и двинулся дальше.
Намокшая от росы одежда остужала. Павел ускорил шаг. Влажные штанины хлестали по ногам, мешали ступать — он закатал их. «Торопись, торопись, если хочешь жить, — подгонял самого себя. — Село просыпается рано, мостик через Припять один, как бы не повстречаться с кем-нибудь. Да и на эту сторону должен успеть затемно».
Дорога была знакомой. Проходили годы, сменялись власти и строй, а она оставалась одна. Испокон веков, наверное, с тех древнейших времен, когда впервые появился здесь поселенец, ходили-ездили по ней полещуки, возили сено, лес, носили грибы, орехи, чернику и клюкву, а иногда, бывало, и бежали по ней, чтобы спрятаться от чужеземцев и всяких прочих обидчиков.
Возле мостика постоял, притаившись в кустах. Тишина. Нигде никого. Вдруг плеснулось в воде, он даже вздрогнул, — наверное, сом вышел на охоту или щука выгуливает. Торопливо пересек дырявый настил и вдоль огородов, спускавшихся к реке, через левады заторопился к заветной землянке.
Вот и она — под крутосклоном, об одном окошке, среди хилых деревьев. Не мог вспомнить, кто здесь жил раньше. Кому принадлежало это подворье. Их, жилюковское, гнездо было на противоположном конце села, сюда как-то не выпадало часто ходить, вот трудно вспомнить. В конце концов, теперь это не имело никакого значения. Не в гости пришел, не свататься.
Осторожно подкрался, потянул на себя дверь — она не подалась. Заперто. Ну, ясно же… Постучать, прикинуться путником?.. Еще не решив, как быть, сильнее дернул дверцу и только тогда увидел, что заперта она с наружной стороны и что «запор» этот — обыкновенный, вставленный в дырочку колышек.
Павел мгновенно вытащил затычку, открыл дверь, согнувшись, ступил в землянку. Здесь царили сумерки, и он несколько минут дрожал от нетерпения поскорее осмотреться вокруг. Начал различать некоторые вещи: самодельный деревянный стол в углу, нечто похожее на нары, скамеечка, рядом с дверями, в углу, ведро с водой. Однако не это его интересовало, не это! Где какой-нибудь сундук или хотя бы посудный шкаф? Шарил глазами по закоулкам, мысленно бранясь. Не может же быть, чтобы вот так никчемно жил человек? Что-то же должен он иметь? Однако где, где?..
Изверившись в собственных поисках, бросился к печке в углу. Есть же все-таки хоть что-нибудь у этого паршивца! Соль, спички… Когда-то у них, еще при родителях, в запечье всегда стоял черепок с солью, а в углублении… О! Слава богу, кажется, что-то нашлось. В нише он обнаружил котомку, Павел сгреб ее, будто драгоценность, вынул оттуда щепотку соли, сунул в рот. Глотал ее нерастаявшей. Большего наслаждения, наверное, никогда не испытывал в жизни!.. Так, а это что? Кусочек мыла? Сюда его, в карман… Но где же спички? Неужели старик носит их при себе?.. А что ему! Если курящий, носит.
Вдруг пальцы натолкнулись на что-то твердое, похожее на камешек… Да это же кремень! Кремень!.. Должно быть и огниво… Леший с ними, со спичками, огниво даже лучше. Однако где оно?.. Ага, вот кусочек железа. Теперь все. Пропади пропадом эта землянка. Поскорее отсюда…
Тенью выбрался во двор, запер дверцу и по знакомым тропинкам возвратился в лес. На горизонте уже загорался рассвет.
Пока свозили да складывали сено, Мехтодь Печерога сторожевал в животноводческом лагере. Его служба заканчивалась на рассвете, как только доярки приходили на утреннюю дойку, однако старик не торопился уходить. Дома его никто не ждал, заходить к кому-либо рановато — люди заняты своим, а здесь, возле скота, лишний человек никогда не мешал. Да и женщинам приятнее — не сами по себе, а все-таки в присутствии мужчины. Они вдоволь поили старика молоком, еще и домой наливали в гофрированный фрицевский термос, с которым он не расставался, носил на поясе; бывало, и рубашку кто-нибудь выстирает.
— Вы, дедушка, только Гуралю не говорите, — советовали, наливая ему молоко, — а то отлучит вас.
— Кто, Устимка? — храбрился Печерога. — Да он сам поить будет, лишь бы только сторожил. Ходил я уже, отпрашивался…
— К тому же, — продолжали шутить женщины, — заспанный вы, сторожу так не годится, председатель может заметить.
— Я заспанный? Да я всякую нечистую силу примечаю и от коров гоню прочь…
— Откуда же соломинки на вашей шапке?
— Прикоснулся где-то, наклонился, стало быть, а чтобы спать — боже сохрани.
Собирал в лесу и рубил женщинам дрова, разводил в сложенной здесь же под навесом, плите огонь, согревал воду для мытья-стирки, наводил порядок.
— Женились бы вы, дед Мехтодь. Молодиц вон сколько.
— Жениться, как говорят, не шутка, да справлюсь ли? — отшучивался старик.
— Вы еще ого-го!
— Ого, да не того, — смеялся Мехтодь. — Знаю ведь, что вам нужно…
— Вот бесстыдник старый! — вмешалась Катря Гривнякова, старшая среди доярок. — Шел бы себе домой.
— Еще успею, Катря, — не сердился старик. — Человеку посмеяться — и то на душе легче. Так что не права ты, считай. Наталка твоя другого мнения.
— А при чем здесь Наталка?
— А при том, что ее «хи-хи» да «ха-ха» я каждый вечер слышу у реки.
— С кем же она?
— Это уж пусть она сама тебе расскажет, я не доносчик какой-нибудь… По мне — смеются и пускай себе смеются, весело, знать, людям. А раз весело, то и душа для добра открыта. Вот подумай сама: когда ты смеялась? И как тебе после этого?..
Ныне Печерога был чем-то встревожен. Гураль, нагрянувший на первую дойку и хорошо знающий его характер, спросил:
— Что, дед, насупился? Недоспал, что ли?
— Э-э, Устим, не прав ты, видит бог, не прав, — сокрушенно ответил Мехтодь. — Думаешь, если человек стар, то и душа у него ссыхается и не видит он ничего, не слышит?
— Не думаю так, потому что и сам не молод. Дак в чем же дело?
— Дак как тебе сказать, — не решался старик. — Закавыка со мной приключилась. Ныне утром, когда и доярок еще не было, стою я, знать, вот там, зорюю, туман поднимается, и вдруг вижу — крадется что-то, да такое, что… не приведи господи. Человек не человек, однако в штанах, пиджак вроде бы на нем.
— Человек, значит, — согласился Гураль. — Что же дальше?
— Присматриваюсь я, примером, к лицу, а лица и нет, не видно, все щетиной покрыто, черное, как у дьявола. Я на голову глядь, может, думаю, рога, нет и рогов. Вот тебе и закавыка.
— Ну и…
— Скрылось вон там, в кустах. Я правду говорю, Устим. Я даже перекрестился, отродясь такого не видел.
— Будто долго вам перекреститься, — задумался Гураль. — Вот что, — добавил, — об увиденном никому ни слова.
— Боже сохрани!.. А только страшно мне теперя, Устим, может, это какая нечистая сила к скотине дорогу протаптывает. Дал бы ты мне кого-нибудь в помощь.
— Некого. Спите меньше, вот всякая чертовщина и не будет лезть на глаза.
Обиделся Мехтодь: он здесь, как говорится, жизнью рискует, а над ним еще и насмехаются.
Примерно в обеденную пору, зайдя в лавку послушать, не говорят ли чего о ночном приключении, Печерога дотащился до своей обители. Все здесь было как и раньше, как оставлял, уходя на дежурство: колышек на месте, ведро с водой, стол, скамеечка… Старик намыл молодой картошки, поставил вариться в чугунке и хотел посолить… А вот соли-то и не нашел. Искал, может, думал, второпях не там поставил, однако тщетно. Что за чудеса? Вышел во двор, постоял, дал отдохнуть глазам, осмотрел все сначала и — снова не нашел. «Не наважденье ли какое? — испугался Мехтодь. — Там что-то примерещилось, тута щепотки соли не найду. Может, это уже пора моя подходит?»
От этой мысли, от такого испуга залил в печке огонь, плотно прикрыл дверь и — айда. К Устиму! Раз уж с ним начал разговор, с ним и закончить надо. Можно и к Грибу, партийному начальнику, только где он? Ищи ветра в поле.
Гураля тоже не было на месте. Женщина-бухгалтер, выполнявшая и секретарские обязанности, сказала, что куда-то уехал, должен прибыть, но когда именно — доподлинно не знала.
Известие о том, что Печерогу обворовали, люди восприняли по-разному. Кто насмешливо, кто не придал этому никакого значения, а кто и всерьез. Тем более что по стечению обстоятельств к этому — пусть и комичному! — событию добавилось другое.
Недавно, будучи в поле, на окучивании картофеля, Андрей заметил странную вещь: в одном месте, поближе к лесу, картошки вовсе не было, будто ее и не сажали. Когда пололи, думалось, что просто еще не взошла, не успела пустить ростки, а тут стало явным: картофель либо украли во время посадки, либо кто-то вырыл его из земли.
Андрей проверил одну ямку, другую — пусто. Вызвали Никиту Иллюха, подвозившего весной мешки с семенной картошкой, женщин, сажавших ее, — клялись, что посадили, рядок за рядком, лопата в лопату.
— Может, свиньи забрались? — предположил Иллюх.
Однако никто нигде даже не слыхал, чтобы появились в пуще кабаны, это сразу привлекло бы внимание. Осталось одно, а что именно — гадай и думай.
— А не один ли и тот же — слышишь или нет, Андрей? — безрогий напаскудил и там, и тут? — сказал Устим. — И в поле, и у Печероги, а? Есть картошка, нет соли, есть соль, нет картошки. И конюшня наша, наверное, его же рук дело. Надо сообщить кому следует. Да и самим быть настороже — жатва приближается, не напаскудил бы он нам еще больше.
XXVII
Марийка была сама не своя. Под большим секретом ей поведала Наталка Гривняк, что Андрей провожал учительницу Людмилу Тарасовну! Провожал в полночь, один на один… Не верилось, не хотелось верить, но не будет же Наталка попусту врать. Да и пришел он однажды в самом деле уже почти под утро, сказал — в школе работал, — какие еще нужны подтверждения?
Говорить ему или нет? Сразу потребовать объяснения или сделать вид, что ей ничего не известно? Решила смолчать, потому что, как повести этот разговор, с чего его начинать и чем заканчивать, сгоряча не могла придумать.
Все у молодицы валилось из рук, все опостылело, ни на чем не могла сосредоточиться.
— Что-то ты, Марийка, будто в воду опущенная, — заметила как-то Катря.
— Нездоровится, — слукавила, а сама вдруг подумала: «Знает или нет? Не сказала ли и ей Наталка?»
— Так посидела бы дома несколько дней. Подменим.
— Спасибо, тетя Катря, если не пройдет, в самом деле придется посидеть.
А сама покраснела, нагнулась над яслями, чтобы не заметили. Чувство обиды, незаслуженного оскорбления угнетало ее, и Марийка, закончив работу, заторопилась домой.
Тропинка от лагеря лежала через колхозное подворье. Марийке и не хотелось бы в таком состоянии показываться на люди, однако что поделаешь, дорожку не изменишь, нужно идти по ней. Частенько случалось, что оттуда подвозил кто-нибудь в село, вот и ныне не теряла надежды, потому что очень уж заныли ноги!
Подошла к мосткам на Припяти, которые каждый год после паводка налаживали снова, и остановилась. Это же вот здесь, где-то в этих лозняках, сидели когда-то они с Андрейкой в партизанской засаде, перед налетом на имение. В эту же, летнюю пору, потому что теплынь была и звезды висели низко-низко, над самой, казалось, поймой. Он еще сказал тогда…
Воспоминания разбередили душу, Марийка заплакала. Жаль было себя, Андрея — того, еще не мужа, даже не нареченного, жаль было чего-то — из тех, милых, хотя и сиротских лет.
На подворье, как всегда в эту пору, царило безлюдье. Нигде никого. Лишь в кузнице, оборудованной в бывшей панской псарне, слышалось позвякивание железа да гулкие удары молота. Марийка еще постояла в надежде на попутный транспорт, но нигде никого не увидела и уже готова была идти дальше, как вдруг ее позвали. С крыльца к ней спускался председатель сельсовета Хомин.
— Думал, зайдете, — сказал, поздоровавшись, и продолжал: — Меня вот сейчас прорабатывали за ясли, детские ясли. Думали-гадали, кого бы поставить над детьми, и ничего не придумали. Так не согласились бы вы, Марийка? Дадим вам еще несколько девочек, потому что взрослых женщин, сами видите, мало.
Марийка молчала, предложение поразило ее своей неожиданностью. Ей, молодой, сильной, играть с детьми! Да с ними бы в пору какой-нибудь старушке…
— Так как? — поторапливал Хомин. — С Гуралем я договорюсь, а вам пора на какую-нибудь другую, более легкую работу. Гривнякова и посоветовала вас.
Молодица зарделась:
— Да справлюсь ли я с ними? Сама еще…
— Ну, это дело наживное, — весело промолвил Хомин. — Я так считаю: каждая женщина с этой работой справится. Да и мы поможем.
— Не знаю, — в самом деле не могла решить Марийка, — я посоветуюсь дома.
— Ну да, посоветуйтесь, Андрей будет возражать, но мы его сообща уломаем. Как же иначе? Дети ведь, сироты.
Целый вечер Марийка ходила под впечатлением этой беседы. И радостно было — заботятся ведь о ней, будущей матери, — и чуточку тревожно. Хлопотала по дому, а из головы все не выходило предложение председателя сельсовета. Забыла даже о тех огорчениях, которыми жила весь день. Поэтому, когда возвратился Андрей сразу же и сказала.
— Ну вот еще! — удивился он. — С девочек да сразу в бабки.
— А я думаю, он все-таки прав, — возразила Марийка. — Все равно мне скоро пора. Хоть жатву перебуду, в самом ведь деле, кого им выделить к детям?
Ужинали. Андрей с удовольствием ел пирожок с фасолью, запивал молоком. Марийка сидела напротив него, ела — не ела, любовалась им. Вишь, какой вырос. Руки широкие в ладонях, крепкие. Сграбастает — лучше не вырывайся! «Неужели эти руки и ее, учительницу, держали?» — подумалось вдруг. Марийка вздрогнула, опрокинула чашку, из которой пила.
— Что с тобой? — Андрей посмотрел на нее остро.
— Да так что-то…
— Какие же вы, — сказал сокрушенно, — внимательные ко всяким шепоткам. Я и говорить тебе об том не стал, думал, у нас обо всем договорено.
— Однако ж… — Губы у Марийки задрожали.
— Послушай лучше. Да, я проводил ее, не мог не проводить, потому что было поздно. Что-нибудь от этого изменилось?
— Ты стал другим, Андрей. — Обида раздирала ей душу, и Марийка давала выход этой обиде.
— «Другим»… — с горечью повторил Андрей. — Выросли мы с тобой, Марийка, вот что. И хлопоты легли на нас совсем иные. — Андрей положил ей на плечи усталые и потому еще более тяжелые свои ручищи, и тяжесть эта будто придавила Марийкину печаль.
— Прости меня. — Она посмотрела на него преданно. — Верю тебе. Как всегда, верю. Только…
— И никаких «только», — прервал он ее. — Не в таких огнях закалялась наша любовь, чтобы какой-нибудь случайный толчок сломил ее.
Вот-вот должна была начинаться жатва, все были к ней готовы. Гураль с бригадирами и механизаторами объезжали поля, определяли, откуда взять самый первый сноп. Нивы не одинаковы, большие и меньшие, сухие и болотистые, вот и созревали хлеба не одновременно. Во всяком случае, для сетований не было оснований — учитывая местные условия, — рожь и яровые обещали неплохой урожай.
— Будем с хлебом, — мечтательно говорил председатель, — успеть бы только до дождей. Слышь или нет, Микола? — обратился он к Грибову. — Как с комбайном, не передумали там?
— Э! — махнул рукой Грибов. — Смотрел вчера — там такое, что только и гляди, как бы не развалилось.
— Ничего, ничего, — успокаивал Гураль, — лишь бы только работал.
— Обещают. Комбайнер заверяет.
— Старье хвали, а со двора, говорят, гони, — включился в разговор Хомин.
— Но откуда же государству сразу набрать для всех техники? Будем обходиться тем, что есть. А подбросят какую-нибудь машинерию — поблагодарим.
Как бы там ни было, а Устим Гураль, улучая свободные часы, пропадал в каменном карьере. Увлекла его мысль о создании памятника погибшим в войну односельчанам. День ото дня облюбованная им каменная глыба высвобождалась от лишнего, более четкими становились очертания памятника. Приезжая сюда, Устим выпрягал лошадку, пускал ее пастись на буйной, некошеной траве, что зеленым разливом наполняла котловину, а сам, закатав рукава, брался за молоток и зубило, долбил гранит. Часто, тоже урвав часок-другой, помогал ему Андрей. Устим поручал ему черновую, подготовительную работу, показывал, где сколько снимать породы, а сам легкими ударами, миллиметр за миллиметром, придавал камню желаемую форму.
Каким будет памятник? Таким, как приходилось видеть в больших городах или на кладбищах? Для этого не хватало умения, не говоря уже о времени. Пусть будет просто: на живой породе, будто на листке бумаги, он высечет имена погибших, а рядом — сколько с кем легло членов семьи. Следовало бы назвать всех, малых и старых, но больно уж много их, очень уж большим был бы тот каменный лист.
За этим делом и застал их однажды Кучий.
— Так вот вы где, — сказал он, не поздоровавшись, и невозможно было понять: одобряет человек или осуждает. — Старое вспомнилось? — обратился к Устиму, намекая на давнюю его профессию.
— Нет, новое, товарищ секретарь, — ответил ему Гураль. — То, слышите, было для панов, притеснителей разных, а это — о мучениках наших, о героях память.
— Хорошо сказано. — Секретарь осматривал работу. — И дело хорошее, да только вовремя ли вы начали его? Село из землянок еще не выбралось, хозяйство еле-еле на ноги встает, а вы — памятник. Подождали бы малость. Как, Андрей? С комсомольской стороны, спрашиваю, как?
Андрей задержался взглядом на граните, будто там, на этих каменных скрижалях, должен был быть ответ, затем сказал:
— А мы и внесли это предложение, комсомольцы то есть.
— Вот это да! — воскликнул секретарь. — Почему же мы, в райкоме, об этом не знаем?
— Мы не информировали, — признался Андрей.
— Почему?
— Сделаем, тогда и скажем. А то вдруг что-нибудь не получится, — улыбнулся Андрей.
Кучий обошел еще раз вокруг глыбы, сказал:
— Хорошо. — И добавил, обращаясь к Гуралю: — Но всему свое время. А сейчас садитесь в машину, осмотрим поля. Андрей, если хочет, пусть остается. Хлеб ныне важнее всего.
— Оно вроде бы и так, — рассудительно промолвил Гураль, — но ведь обязаны мы перед ними, заслонили они нас от смерти, как-то должны их отблагодарить?
— Победой на всех участках, — сказал секретарь. — С фашистом справились, а теперь приумножим нашу победу трудовыми достижениями. Вот и будет общая благодарность.
— Кроме общей, и такая вот должна быть, — продолжал Гураль. — Они, слышите, не где-нибудь пали, а тут, и не чужие нам, а свои, родные. Потому и уважение им особое.
— Пусть будет по-вашему, — решительно сказал Кучий. — Поехали!
Устим сложил свои приспособления, рассказал Андрею, где и что он должен сделать, и пошел следом за Кучием к старенькому виллису.
Андрей поработал еще, а когда солнце начало садиться, запряг лошадку и неторопливо поехал в село. Возле кладбища ему навстречу вышла Людмила. Будто ждала, будто именно здесь они договорились встретиться.
— Вот хорошо-то! — обрадовалась Андрею. — А я стою и думаю: кто бы подвез.
— Почему вы здесь оказались? — не поддерживая ее игривого тона, спросил Андрей.
— На кладбище была. Люблю старые кладбища. История. У вас оно, правда, бедноватое, а вот в наших краях…
— Как жили, такое и кладбище.
— …А в наших краях, — продолжала девушка, — как только не украшают могилки! Кресты, памятники, надписи… Всю жизнь мечтала быть археологом. За какой-нибудь несущественной вещью, например, обломком амфоры, можно увидеть мир.
— Красиво вы говорите. Что же помешало вам стать археологом?
— Война, — вздохнула. — Все, Андрей, перекапустила война.
Только теперь заметил, что они, как встретились, так и стоят у кладбищенских ворот.
— Вы сегодня не на строительстве? — спросил учительницу.
— Сегодня троица, к вашему сведению, — ответила, смеясь, Людмила. — Решили передохнуть.
— Не помню такого решения.
— Ну, я встретила Наталку, Наталка меня — так, одно к одному… Вы спешите, Андрей?
— Еду домой.
— А я? А меня?..
— Вам тоже пора. Вечереет.
— Я бы так хотела увидеть поля! — Людмила поглядывала на повозку.
— Думаю, случай для этого представится. И очень скоро.
Девушка посмотрела на него с интересом.
— Имеете в виду жатву?
— Жатва. Чудесная пора!
— А я думала сейчас, вдвоем.
— Это невозможно, Людмила Тарасовна.
Ее глаза смотрели на него зачарованно, нежно, и Андрей не выдержал взгляда, отвел глаза. Никогда еще он не был в таком положении, и оно смущало его.
— Боитесь? — лукаво спросила Людмила.
— Кого мне бояться?.. И вообще: что это все такое? Я проводил вас вовсе не для того, чтобы дать основание…
— А без оснований, по-человечески, вы можете меня понять? Может быть… может быть… я люблю вас…
Андрей растерялся. Он покраснел, ладони стали влажными.
— Вы, кажется, собирались уезжать, Людмила? — выдавил он с трудом.
— Но вы уговаривали меня остаться…
— Извините. Я так не ради собственных интересов. Я могу…
— Что можете?
— Помочь вам с откреплением. Поговорю в райкоме.
Плечи, до сих пор гордо державшие ее красивую головку, вдруг опустились, в глазах сверкнули слезы.
— Понимаете, — продолжал Андрей, — вам… будет трудно. Я люблю Марийку. Это у нас давно. Очень давно. Было бы великим грехом и перед нею, и перед вами… Вам в самом деле лучше уехать. Скажете, что дома что-нибудь с родителями…
— Эх вы!.. — кинула презрительно Людмила и отвернулась.
— Какой уж есть, — сказал, не найдя лучших слов. — И не будем сердиться друг на друга. Слышите, Люда?
Но она вдруг закрыла лицо руками и стремглав бросилась прочь.
XXVIII
…Обоз саней и легких одноконных бричек вылетел из лесу и помчался в сторону села. «Едут!.. Едут!..» — кричали отовсюду. Со дворов на дорогу, на улицу валом повалили люди. День выдался хороший, ясный — встречать молодых шли старшие и ребятишки, а впереди всех, празднично одетые, мать и отец.
Первая бричка, на которой они, Мирослава и Павел, ворвались на околицу, задержанная толпой, остановилась. Павел неторопливо спустился на землю, помог Мирославе и, неумело поддерживая ее под руку, степенно направился к людям.
Толпа притихла.
В нескольких шагах от людей молодые остановились, поклонились родителям и односельчанам, которые все прибывали, прибывали, заполоняя улицу. От толпы отделился и вышел, остановился впереди, высокий, в большой заячьей шапке бородач.
«Челом и вам, добрые люди, — обратился к приезжим, которые тем временем успели соскочить с саней и выстроиться позади молодых. — Кто такие и куда путь держите?» — допытывался бородач.
Павел краснел от десятков обращенных на них глаз, однако держался лихо, потому что рядом была она, та, которую искал, о которой мечтал всегда, в радости и в печали. Он держал ее за руку, ощущал ее тепло, ее дыхание.
Откуда ни возьмись — вынырнул Стецик.
«Люди мы здешние, — ответил он бородачу, — а едем с охоты».
«Так, — пристукнул палкой спрашивающий, — а что же вы, скажем, везете с охоты?»
«А везем мы куницу — красну девицу, — продолжал, почему-то подмигивая Павлу, Стецик, — вот она, — поклонился Мирославе. — Просим принять к себе».
«А это уж как общество скажет, — обратился к людям старик. — Принимаем их, или как по-вашему? Ловцы-молодцы вроде бы ничего, да и куницу — красну девицу поймали хорошую».
«Слава молодым!» — закричали вокруг.
Павел взял Мирославу за руку, поцеловал, подвел к родителям:
«Благословите, тато и мама».
Андрон Жилюк высоко поднял руку, перекрестил их.
«Благословляю вас, дети, на жизнь совместную, на счастье и радость», — промолвил он, а мать не выдержала — заплакала.
«Поздравляем и мы тебя, — подошел Стецик, и они трижды поцеловались. — Желаем жить-поживать, добра наживать да и нас, побратимов своих, не забывать. А тебе, Мирослава, — обратился к молодой, — еще и особый наказ: одарить своего мужа сыновьями. Чтобы нашему роду да не было изводу».
Люди расступились, и они с Мирославой пошли на старый жилюковский двор, а сзади и со всех сторон слышалось:
«Слава! Слава!..»
Павел проснулся со стоном и долго не мог понять, где он и что с ним. В голове еще гудело: «Слава! Слава!..» — звучал торжественный голос отца, счастьем светились материнские глаза, а сознание постепенно возвращало его к действительности.
В землянке разило смрадом, возле двери скулил пес. Все — как в прежние дни, которые один за одним сливались в какой-то серый, нудный, беспросветный ряд. К чему этот сон? К чему эта странная свадьба?.. Стецик?.. Не иначе как к беде. Уже приметил: стоит только присниться родным — жди беды. А тут еще и свадьба, Мирослава…
Павел цыкнул на пса. Встал, приоткрыл дверь. Снаружи скользнул лучик дневного света, дохнуло росным утром, с трудом заставил себя оторваться от отверстия.
Нащупал под потолком остатки еды, дал псу, чтобы успокоился, но тот только понюхал и отвернулся.
— Что, не по нутру? — добродушно сказал Павел. — Хотелось поговорить, хоть каким-нибудь образом проявить свое человеческое превосходство, наконец просто услышать собственный голос, собственное слово. — Подожди, вот выйдем с тобой на охоту.
Пес подполз, заскулил, будто чего-то просил, посверкивал в сумерках оливковыми глазами. Несколько раз Жилюк выпускал его, радовался, что все-таки выходил животное, хотя и калеку, эта мысль приносила ему большое удовлетворение. Бывало, сам чего-нибудь не съест, псу отдаст, еще и погладит, поласкает. Но чем больше пес выздоравливал, чем лучше заживали раны, тем нетерпеливее становился он. То ли темное подземелье, то ли какие-то воспоминания о прошлом, когда он был здоровым и сильным и мог вдоволь насытиться, утолить жажду, или, может, то и другое, — с каждым днем все сильнее бурлило в нем, тянуло на лесное приволье, где столько птиц, мелкого зверья и всяких других удовольствий. Не раз, бывало, подкрадываясь к своему логову, Павел еще издали слышал легкое повизгиванье, скулеж и с тревогой думал о том, что стоит лишь кому-нибудь приблизиться, например, к ручейку, как вся его уединенность исчезнет. А опасность день ото дня все возрастает — с наступлением тепла, лета, с появлением грибов и ягод в лесу все больше и больше людей. Единственное, что в какой-то степени успокаивало, это отдаленность урочища от села, дорог, какая-то его словно бы пустынность. То, что его укрытие до сих пор не обнаружено, свидетельствовало о надежности места, его неуязвимости. Временной, конечно.
Павел хотел было приоткрыть вход в землянку, впустить свежий воздух, как вдруг слух его уловил приглушенные шаги. Застыл, рука невольно схватилась за нож, постоянно висевший у пояса. Шаги приближались — сердце Жилюка стучало сильнее и сильнее. Казалось, еще немного, и оно сорвется, более того — взорвется, разнесет вдребезги и самого Павла, и его логово. В ушах от напряжения зазвенело, в висках застучало… Вот оно!.. Вот он, конец… Свадьба… Долго ждал ее и вот дождался…
Словно угадав настроение хозяина, подполз и снова заскулил пес.
— Цыц, Фердинанд, — приласкал, вспомнив, что однажды, в самом начале, назвал его почему-то именно этим необычным именем. — Тихо…
А шаги становились все четче, потом прекратились — будто вверху, над ними, однако не надолго, вот они послышались снова, но уже где-то дальше и ниже, — у Павла отлегло от сердца.
Когда шаги затихли, Павел переждал какое-то время, осторожно приоткрыл дверь. Его разбирало любопытство: кто появился возле его лесного жилища и в какой мере это опасно? Медленно расширяя отверстие, пытался окинуть взором место, увидеть гостя. Но вроде бы нигде никого. Притаился, выжидает? Хочет выследить? Дудки! Не для этого он годами сидел в склепе, чтобы вот так просто открыться какому-то там «ястребку». Пускай себе следит!
Павел закрыл дверь, для надежности взял ее изнутри на задвижку. Вот, теперь попробуй достань! От дверцы, однако, не отступил — прислушивался. Вдруг даже здесь, в землянке, послышался громкий рев — будто кто-то дул в звонкую серебряную трубу, как это бывало на крупной охоте! «Лось! — обрадовался Павел, будто животное своим сильным голосом предвещало для него нечто очень и очень хорошее. — А я перепугался…» Снова открыл дверцу, высунул голову: холера ясная! Возле ручейка стоял красивый красноватый лось. Он, видимо, напился и теперь звал свою подругу, бродившую где-то в пуще.
Павел залюбовался зверем: стройный, гордо посаженная голова, стоит, будто нарисованный… Черт возьми! Прогнать бы его подальше, ведь лоси непременно привлекают охотников. Ныне или потом, все равно придут по их следам люди, и тогда…
Утренняя благодать, какая-то вроде бы нереальная, картинное присутствие красивого зверя, который пренебрегал опасностью, жажда и самому присоединиться к окружающему миру вытолкнули Павла из укрытия. Он осторожно, украдкой ступил и остановился, казалось, в какой-то другой, доселе еще неведомой среде, где неумолчно звучало пение, гул, где шумели верхушки деревьев, над которыми в просветах голубело высокое, в легоньких тучах небо. Будто тугая чудодейственная волна ударила Павлу в грудь, наполнила ее до отказа целебным духом, и он не мог нарушить это удивительное мгновение. Стоял, опершись плечом на шершавый ствол, всем существом впитывал прилив щедрости и чуть ли не впервые за многие годы понял, что все утрачено, что приходится уходить из этого мира. Уходить, неизвестно кому оставляя милый сердцу лесной гомон, журчание ручейка в ложбине, исхоженные вдоль и поперек поля, речку, манящую теплой водой, рыбой, цветущие луга — все, все, чему радовался, за что стоял, за что…
Припадая на задние ноги, подполз пес.
— И тебе не сидится? — Павел слегка похлопал его по холке. — Погуляй, погуляй… Вишь, и ты уже приноровился, как бы там ни было, а все же ходишь. — Снова захотелось сказать псу что-то ласковое, однако не находил в себе таких слов…
Уходить из жизни. Заметил: чем сильнее становилось с приходом лета его тело, чем больше обращался душой к действительности, тем все усиливалась в нем жажда существовать, быть, оставаться на этой земле, среди этих людей, для которых он превратился в «дичака», беззаконника, конец которого известен. Судьба еще может некоторое время миловать его, хранить, однако в конце его дороги — пропасть. Не избежать ему бездны, не уйти от этой печальной судьбы. Каждый готовит ее для себя сам, не один год, не одним поступком.
Неподалеку упала ветка. Павел вздрогнул. Вот так! Каждое деревцо, каждая веточка будут тебя пугать, вызывать в тебе животный страх…
Однако надо, по крайней мере, напугать лося, чтобы он забыл сюда дорогу. Мог бы это сделать пес, будь он здоров, а так придется самому.
Павел взял увесистую палку и через заросли направился к ручейку. Лось, видимо, услышал его, повернул голову, затрубил громко и побрел в чащу.
И сразу же залаял пес. Не печально, как обычно лаял от страха и одиночества, а властно, будто обгоняя кого-то или защищая что-то доверенное ему. Павел насторожился, выработавшийся за эти годы инстинкт самозащиты заставил присесть за кустом орешника. В следующий миг подумал, что надо прятаться, исчезать, потому что лес, который до сих пор был вроде бы верным и надежным, вдруг начал казаться изменчивым — чем именно, Павел не мог бы сказать, но внутренне не чувствовал прежней уверенности. Украдкой, сбоку подошел к землянке и только теперь увидел, что Фердинанд лает не зря: неподалеку от него стояла и спокойно осматривалась овчарка. В душе похолодело. Павел обмяк, будто мешок, осел на землю, однако в следующий миг вскочил и еще раз посмотрел туда, где только что была овчарка. Но теперь она исчезла, хотя Фердинанд не переставал заливисто лаять. Одним прыжком Павел подскочил к псу, схватил за самодельный, собственноручно сшитый из ремня Юзека ошейник, силком потянул в землянку. Пес упирался, рычал, но Павел, сдавив ему ремнем горло, втащил в укрытие и дрожащими, непослушными руками закрыл засов. «Вот тебе и сон, — в который раз напомнил он самому себе. — Быть ныне и свадьбе, быть, наверное, и похоронам!» Зачем-то поправил на себе одежду, туже затянул пояс. Если бы у него была хотя бы одна граната! Или автомат какой-нибудь… Ведь с ножом не пойдешь против вооруженных… Однако… так просто он не сдастся — это уже давно решено, иного решения не существует. Да, хотелось бы продержаться как можно дольше. Может, за это время что-нибудь изменилось бы — в нем самом, в его преследователях, наконец, в самой жизни. Есть же над всем будничным, земным что-то высшее, не зависимое ни от кого, что может в один миг переиначить и судьбу человека, и весь этот мир, с его правдой и неправдой, борьбой и спокойствием, большими и малыми человеческими хлопотами, с которых все и начинается. Так почему бы ему не проявить себя ныне, теперь, в эту решающую годину? Неужели для этого необходимо что-то исключительное? Разве его жизнь, жизнь Павла Жилюка, не исключение?
Это было похоже на молитву, на исповедь, которую твердят смертники в последнее утро перед самой казнью. Утро? Да. Именно так. Где-то он слыхал, что все казни происходят на рассвете. Такая вроде бы выработалась у людей привычка. На рассвете. Будто грядущий день жаждет избавиться от всего ненужного, чтобы начаться в полной своей значительности, сущности, не тратя потом сил на что-то постороннее.
Оперативная группа, в которую вошли Хомин и еще несколько активистов, обследовала околицы Великой Глуши и близлежащие урочища, однако никаких подозрительных следов не обнаружила. Было, конечно, принято во внимание и ограбление Печероги, и рытье картофеля, но засады во всех возможных и предполагаемых в связи с этим местах желаемых результатов не дали. Люди возвращались утомленными, разочарованными, сердитыми из-за того, что приходится тратить таким вот образом и драгоценное время, и силу, и энергию, которые можно было бы отдать для более существенных дел.
— Наведайтесь в Поташню, — сказал Гураль, — там ранней весной были замечены следы.
— Э-э, — махнул рукой Хомин, — где к лешему Поташня! Свои рубили лес, вот и оставили следы. Зачем бы тому, который сидит там, пробираться в такую даль к нашим полям?
— И все-таки, слышь, наведайтесь. Сидит же он где-то, этот душегуб. Вот-вот жатва, какая гарантия, что не пустит нам красного петуха?
До Поташни километров семь, а поскольку дорога туда шла лесом, пущей, через колдобины да заросли, то показалось — еще дальше. Группа вышла на рассвете, вели ее Хомин и оперуполномоченный, старший лейтенант, при котором сновала огромная овчарка. Овчарка была старая, раненая, она уже не обладала теми качествами, которые отличали ее от обычного пса, однако, наверное, инстинктивно угадывала или чувствовала опасность, по крайней мере, когда эта опасность была явной.
Перед Поташней, отмахав изрядный кусок дороги, группа присела передохнуть: кто знает, как сложатся события дальше? Овчарка куда-то исчезла. Мужчины перекуривали, переговаривались, как вдруг старший лейтенант попросил тишины: кажется — где-то залаяла собака. Когда голоса умолкли, все отчетливо услышали отдаленный лай.
— Странно, — заговорил оперуполномоченный, — она никогда не поднимает шума, у нее ранено горло.
Все встали, насторожились.
— Пошли, — сказал старший лейтенант.
Но не прошли они и двух десятков шагов, как навстречу из зарослей, вся в росе, выскочила овчарка.
— Что случилось, Дым? — обратился к ней хозяин.
Собака завертелась, замахала хвостом, захрипела — все поняли, что лаяла не она, что она в самом деле безголосая.
— Там другой пес, — заметил кто-то.
— Откуда он мог взяться?
— В том-то и дело, — сказал офицер. — На всякий случай приготовиться. И рассредоточиться, занять как можно большую площадь. Пошли, Дым.
Овчарка снова нырнула в заросли и вскоре вывела к лесному ручейку, который когда-то давно и неизвестно кем был перегорожен низенькой запрудой.
— Место подходящее, — осмотрелся старший лейтенант.
А Хомин никак не мог вспомнить, кто пользовался этим урочищем во время войны — их или другой, соседний отряд?
Овчарка стояла в нерешительности, вид у нее был растерянный. От пса, который недавно лаял, не осталось и следа. Возможно, овчарка ошиблась? Однако нет, вон и долинка, и вода, и запах еще словно бы не выветрился. Где-то здесь…
Люди были проинструктированы: держа оружие наизготове, перебегать от дерева к дереву, от куста к кусту. Да и без инструктажа они хорошо знали повадки бандитов. Однако нигде ничего подозрительного не заметили. Ни почерневшего, подсохшего мха, которым нередко прикрывали ходы, ни приувядшего вверху ствола сосны, который мог быть дымоходом, ни побуревшего кустика, под которым тоже мог быть лаз…
— Начинать надо от ручейка, — сказал Хомин. — Без воды ни одна тварь не живет.
Они спустились вниз, однако, кроме лосиных, никаких других следов не увидели. А пес вертелся на месте. Старший лейтенант подошел к нему.
— Что, Дым?
Пес пытался залаять, но у него не получалось, слышался лишь хрип.
— Хорошо, Дым, успокойся, — сказал ему уполномоченный.
Вдруг слух уловил какой-то отдаленный сдавленный лай, который сразу же превратился в нечто подобное рычанью, и Дым стремглав кинулся в густые заросли орешника неподалеку на пригорке. Старший лейтенант побежал за ним и только теперь заметил, что сверху между кустами виднеется вроде бы тропиночка, в конце которой, тщательно замаскированное зеленью и дерном, виднелось что-то похожее на дверцу…
— Сюда! — приглушенно крикнул уполномоченный, хотя несколько человек, заметив его рывок, сами уже спешили на помощь.
Пес первым почуял приближение людей, насторожился, а когда отчетливо донеслись голоса, нетерпеливо и радостно залаял.
Павел кинулся к Фердинанду, крутанул за ошейник, сдавливая горло, а сам приник к двери. Что, конец свадьбе, наступает похмелье?.. Или, может… может, снова какая-нибудь глупая случайность, подобная той, что с лосем? Не слышно же ни выстрелов, ни… Хотя какие же могут быть выстрелы, он еще в собственных, а не в чьих-то руках. Вот только пес. Не думал, беря его тогда и выхаживая, что будет иметь с ним такую мороку.
Не успел додумать, как сверху застучали — очевидно, подбирались к входу в землянку. Надо решать, что делать дальше, ведь наступает последняя минута, последнее перед бесконечностью мгновение, за которым либо жизнь, либо смерть.
Павел решил не откликаться, не выдавать себя, — может, все-таки… До боли в пальцах стиснул нож, а другой рукой держал ошейник.
— Э-эй, отворяй! — донеслось снаружи.
«Ждите — открою! — наливался тугой злостью Павел. — На тот свет, в рай, паны комиссары…»
— Отворяй!
И после минутной тишины:
— Может, там никого нет?
— Тогда ломай!
— Осторожно.
«А ну, давай! — Приготовился, встал за выступом стены Павел. — Кто первый, кроть твою ма!»
В дверцу ударили, однако чем-то тупым, нетяжелым, и она не сдвинулась с места. «Стучите, стучите, — злорадно шипел Павел. — Кто-то из вас до своего достучится».
Крышка скрипнула, Павел отпрянул в сторону и, не помня себя, кинулся на привидение, показавшееся в сером отверстии. Вогнал нож по самую рукоятку и только теперь понял, что это не человек, а собака. Еще успел почувствовать какое-то отвращение, и в тот же миг что-то тяжелое обрушилось на голову, в глазах сверкнуло, и Павел замертво упал рядом с неживым псом…
XXIX
Широкая песчаная площадь в центре Великой Глуши, казалось, стала еще шире, еще просторнее. Второй раз за всю многолетнюю историю села собралось здесь столько людей. Впервые, кажется, в тридцать девятом, в сентябре, и вот ныне. Правда, по сравнению с тем, сентябрьским днем, людей сегодня меньше, потому что мало их осталось в селе, унесла страшная коричневая чума, однако и нынче немало здесь и платков, и картузов, и просто непокрытых голов. Пришли стар и млад, а вдобавок еще и из окрестных сел, потому что нет на Украине, как и по всей, наверное, земле, села так себе, отдельно существующего, — теснейшими узами оно связано с другими. Испокон веку села дружат, в счастье и несчастье находят общность, засылают сватов и потом вместе играют свадьбы, справляют рождение детей и отмечают похороны, корни переплетаются так, что трудно бывает определить, где чей…
Степан Жилюк приехал в Великую Глушу рано утром, задолго до открытия памятника, и, пока было время, вместе с Гуралем направился в поля. Из повседневных райисполкомовских сводок знал о подготовке к жатве каждого хозяйства, но и не упускал случая посмотреть своими глазами.
Тем более это нужно было ему теперь. Теперь, после еще одной смерти в их, жилюковском, роду. Когда ему доложили, что в бандите, которого взяли мертвым в лесной землянке в Поташне, опознали Павла, он ничего на это не сказал, только попросил оставить его одного и потом долго мерил тяжелыми усталыми шагами свой небольшой кабинет, время от времени жадно глотая согретую за день в графине воду. Единственный, кому позвонил, с кем имел разговор, — Кучий. Набрал его телефон и без деликатных отступлений, подходов подтвердил, что заявление, которое подал еще весной, остается в силе. «Не торопись поперед батьки, — сказал Кучий. — Приезжай лучше, да поужинаем». Однако Степан вроде бы не слышал этого приглашения, вышел из райисполкома и долго, до ломоты в суставах, бродил по глухим улицам Копаня, думал-передумывал свою трудную и безрадостную думу. Истоки ее были где-то в полувековой дали, в их, жилюковской, старой хате, в том, обсаженном дуплистыми вербами подворье, откуда пролегла его дорога в свет, касались нынешнего и прошлого и непременно наталкивались на Павла.
Был он ему братом или нет? И достаточно ли для настоящего братства только родственных уз или нужно для этого нечто более значительное?
Жгло в груди, он часто останавливался, глотал прохладный ночной воздух и, приглушив боль, пригасив адский огонь, шел дальше, до тех пор, пока не почувствовал, что обессилел, что сейчас вот упадет, и неизвестно, сможет ли подняться. Тогда он вернулся домой. А когда на следующий день сообщили, что труп Павла привезен, и спросили, не хотел бы он на него посмотреть, — Степан Андронович сказал, что смерть предателя его не интересует и поэтому пусть поступают в соответствии с законом. А про себя пожалел лишь, что такой пустопорожней может оказаться жизнь, если она оторвана от общечеловеческой. Жизнь, которая дается лишь раз, дается на веру, в долг, как огромное земное и общественное благо, которому нет равного, нет замены, нет повторений.
…И вот теперь он — среди родных полей.
— Когда думаете начинать? — спросил он Гураля.
— Возможно, и послезавтра, — неопределенно ответил председатель. — Техники маловато, комбайн такой — что он есть, что его нет…
— Сейчас нет лучших, Устим.
— Знаю. Однако посмотришь, сколько всего в городах строится, а тут… Все из нее, из земли, а ей внимания ни на грош. Как в первобытные времена: тот же плуг, та же борона, сеялка-веялка. Хорошо еще, что коровок освободили из борозды…
— Настроение же у тебя, однако, — улыбнулся Степан.
— Такое уж получается. И вот что я тебе скажу, Андронович: пока мы не повернемся к земле душой, не станем считаться с нею и с теми, кто на ней трудится, дела, слышь, не будет.
— Не узнаю тебя, Устим.
— Ну да! А ты считаешь нормальным, что лучшие земли я должен отдавать под какой-то кок-сагыз? Главное ведь хлеб! А мне суют этот сагыз, душа из него вон, иначе…
— Хлеб, конечно, главное, — согласился Степан. — Однако если каждый начнет вести хозяйство по-своему, что же получится? Самоуправство, а?
— Почему же? Я за то, чтобы планировать, но и к нам, грешным, прислушиваться. Я, скажем, на своих землях дам больше ржи или ячменя, вот и не планируй мне черт знает чего. Ты обрати внимание, Степан, когда-нибудь все равно до этого дойдет дело, не может же так быть, чтобы хозяин был не хозяином, а только исполнителем. Вот я к чему клоню.
— Умное дело всегда перевесит, Устим, — после недолгого молчания сказал Степан. — Вот и с памятником: одни говорят, мол, рано, а мне лично кажется, что в самую пору, в самый раз.
— Спасибо, что поддержал, — ответил Гураль и продолжал: — Я все-таки за свое, болит мне. Ты вот скажи, — резко повернулся он к собеседнику. — Хлеб всем нужен? Всем. А почему считается, что заводы, фабрики — более главное, а?
Жилюк улыбнулся, сказал:
— Вот она, наяву, однобокая твоя философия. Земля да земля! Так и индустрия, между прочим, тоже земля. Которая защищает и нас, и хлеб насущный. Почему заводы и фабрики? Да потому, что на поле не вырастишь станок, комбайн или трактор… Или танк. А без них, брат, съедят нас империалисты. Съедят вместе с паляницами и пирогами! А вот когда у нас будет чем давать им по зубам, тогда и хлеб наш будет цел, и села, как и города, не придется поднимать из руин, и памятников ставить таких, как вы ставите. Кинь оком дальше Великой Глуши — что там происходит? Так что, Устим Григорьевич, как говорил мудрец: палка о двух концах. На одном у нее хлеб, а на другом — меч. И разделять их нельзя.
Подъезжали к селу, к первым подворьям, и Гураль, чтобы все-таки его слово было сверху — такая уж натура! — кивнул:
— А мы, слышь, никогда этого и не забывали. Пусть не мечом, так косой, винтовкой или кулаком, скажем, делаем свое дело исправно. Однако хлеб, Степан, все-таки главное. С него начинается, им и кончается.
Пыльной улицей, обочь которой в бурьянах громоздились старые разваленные печи, а кое-где уже желтели срубы, поехали к площади.
На невысоком постаменте, казалось, прямо из земли, поднимался гранитный, с одной стороны отесанный обелиск, который все почему-то торжественно называли памятником. Где-то когда-то, еще до войны, когда постоянно занимался этим ремеслом, Гуралю приходилось видеть, что до официального открытия монументы надлежит прикрывать, вроде бы прятать от преждевременных посторонних глаз, и он тоже распорядился, чтобы отовсюду, со всех столов в сельсовете и правлении колхоза собрали красные скатерти, сшили их и накрыли их с Андреем произведение. И горел теперь обелиск, щедро подсвеченный солнцем, будто неугасающий костер.
В полдень, когда все собрались и больше ждать было некого, Иван Хомин, голова местной власти, от волнения сжимая в своих огромных руках фуражку, объявил митинг открытым.
— Сегодня мы, товарищи колхозники и опять-таки трудовая интеллигенция, — начал он, — отдаем дань тем, кто не пожалел самого дорогого, значит, жизни во имя нашей Советской Отчизны и народа. — Эту первую фразу он произнес как-то нараспев, даже сам удивился собственному красноречию, но дальше будто захлебнулся, нервный спазм сдавил ему горло, и он, забыв даже опустить покрывало, закончил: — А теперь, дорогие сельчане и гости, слово имеет, то есть будет говорить наш дорогой Степан Андронович, которого все вы знаете и любите как своего руководителя…
Легкие аплодисменты поплыли над площадью. Степан выступил вперед, напомнил, что следует открыть памятник, и брат Андрей кинулся развязывать веревки и стаскивать полотнище. И когда оно упало, глазам открылась густо испещренная строками фамилий каменная страница, на которой навеки были высечены имена павших. Вверху, вырубленная в граните, краснела звезда — Андрей, вопреки Гуралю, все-таки выкрасил ее в красное, а внизу, у самой земли, список венчали колосья.
— Устим Григорьевич, — обратился к Гуралю Жилюк, — прочтите-ка вслух, чтобы все слышали. Потом будем произносить речи…
Гураль откашлялся, потому что у него тоже почему-то запершило в горле, и медленно, во весь голос одно за другим называл имена, высеченные на камне. Все они были знакомы присутствующим, известны им, потому что многие из стоявших на площади имели те же самые фамилии…
Устим читал. Ветерок ерошил его редкие седые волосы, лучи играли на бронзе медали, которая одиноко висела на груди, выше карманчика выцветшей солдатской гимнастерки, а он, будто на перекличке веков, произносил и произносил имена, и пространство впитывало их, как земля впитывает дождевые струи, дождевые капли, несущие ей жизнь.
Перевод И. Карабутенко.
Примечания
1
Участковый.
(обратно)2
Запрет.
(обратно)3
Коммунистическая партия Западной Украины.
(обратно)4
Староста.
(обратно)5
Окраинные земли (польск.).
(обратно)6
Время перед жатвой.
(обратно)7
Усмирение, наказание за неподчинение.
(обратно)8
К. Сверчевский — Вальтер — участник штурма Зимнего дворца, генерал польской армии, герой гражданской войны в Испании. (Прим. автора.)
(обратно)9
Вожак украинских националистов, полковник Евген Коновалец был убит в 1938 году в Роттердаме. Один из его помощников передал ему «личный подарок». Когда Коновалец начал разворачивать пакет, бомба, которая была там спрятана, взорвалась и убила полковника. (Прим. автора.)
(обратно)10
ОУН — Организация украинских националистов.
(обратно)11
Чиновник гебитскомиссариата по выкачиванию из населения продуктов сельского хозяйства.
(обратно)12
Украинская повстанческая армия.
(обратно)13
Пропуск, который выдавался некоторым жителям оккупационными властями. (Прим. автора.)
(обратно)14
Служба безопасности ОУН.
(обратно)15
Аист.
(обратно)16
Тайное подземное укрытие, которым обычно пользовались бандеровцы.
(обратно)17
Столбы, к которым прикрепляются ворота.
(обратно)18
Так называли участников отрядов, борющихся против бандеровских бандитов.
(обратно)19
От АК — Армии крайовой, буржуазно-националистических польских формирований, действовавших в годы второй мировой войны на территории западных областей Украины.
(обратно)20
Украинская повстанческая армия (националистическое формирование). Оуновцы враждовали с аковцами из-за территориальных притязаний.
(обратно)21
Партизанские соединения С. Ковпака.
(обратно)22
Во время второй мировой войны в Лондоне действовало бежавшее в 1939 году из Польши эмигрантское правительство, возглавляемое Сикорским. В 1942 году по приказу этого правительства сформированная в СССР польская армия под командованием генерала Андерса была, вопреки интересам польского народа, выведена на услужение Англии в Иран.
(обратно)23
Члены ППР — Польской рабочей партии.
(обратно)24
От Армии людовой — прогрессивных польских формирований, сражавшихся против немецких оккупантов.
(обратно)25
Мерзость, ничтожество.
(обратно)26
Привилегированная часть крестьянства, опора буржуазной Польши на западноукраинских землях.
(обратно)27
Центнер (диалектн.).
(обратно)28
Выпь.
(обратно)
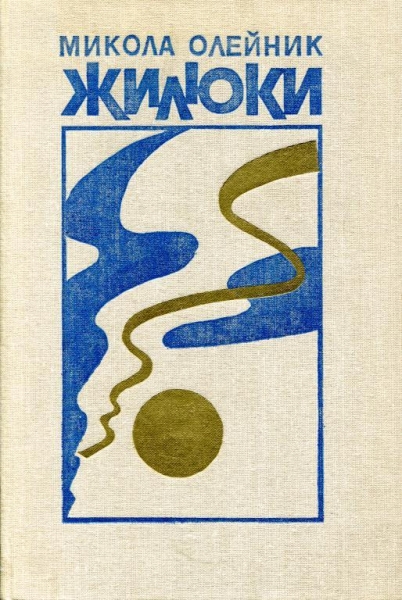



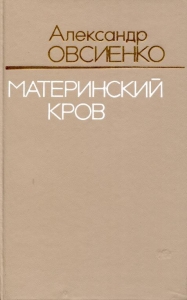
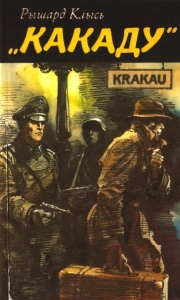






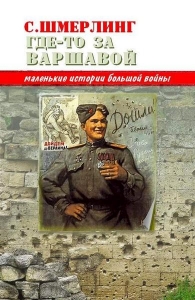
Комментарии к книге «Жилюки», Николай Яковлевич Олейник
Всего 0 комментариев