Двое из многих
ДВОЕ В ТАЙГЕ
На севере России в разгар лета темных ночей не бывает. Не наблюдается здесь в это время и резкого перехода от дня к ночи. Для человека, выросшего в других краях, это явление природы настолько необычно, что будоражит весь организм.
Небо по ночам бывает таким светлым, будто все вокруг залито жидким серебром. Очертания обоих берегов Камы кажутся призрачными, а цвет воды сливается с цветом неба.
По прозрачной реке плывут два человека.
— Ну как, Пишта, дотянешь? — спросил один из них своего товарища.
— Постараюсь, до берега не так уж далеко.
— Поднатужься, дружище!
Иштван Керечен с опаской оглянулся.
Большой колесный пароход (будь он трижды проклят!) надменно и почти бесшумно белым пятном уплывал к северу по бесконечной глади реки. И только небольшие волны с гребешками белой пены, набегая на берег, свидетельствовали о том, что огромные колеса парохода вращаются…
— Он уже далеко… — тяжело дыша, произнес Керечен.
— Слава богу… далеко… Удалось-таки нам…
Через несколько минут пароход совсем исчез из виду, а двое мужчин продолжали плыть к правому берегу. Оба они сильно устали. До берега оставалось не больше ста метров, и глубина заметно уменьшилась. И хотя непосредственная опасность уже миновала, страх, владевший пловцами, еще не прошел.
Как же им удалось бежать с этого проклятого парохода?
Поручику царской армии Емельяну Касьяновичу Реченскому, в чьем распоряжении находился пароход «Чайка», было строго-настрого приказано доставить сорок пленных красноармейцев в населенный пункт Чердынь, расположенный далеко на севере, на берегу реки Вишеры — притока Камы.
Среди пленных красноармейцев были и два венгра — Иштван Керечен и Имре Тамаш. Колчаковские солдаты захватили их в плен вместе с другими красноармейцами под Челябинском, откуда их где пешком, где на поезде, а где на пароходе везли все дальше на север. В пути многие красноармейцы умерли от голода, болезней и побоев, на которые не скупились колчаковцы. Оставшихся в живых пленных загнали на пароход в небольшом городишке Оса и передали в руки Реченского.
Поручик царской армии Реченский был странным человеком. На вид ему можно было дать лет тридцать пять. Лицо его украшали русоволосая борода и густые, будто шелковые, усы, а задумчивые голубые глаза светились какой-то фанатической верой.
Во время Великой Октябрьской революции он находился в Москве и сражался против красных. Он примкнул к эсерам, идеи которых заинтересовали его, но проникнуть в самые затаенные уголки души этого человека, отравленного кастовой идеологией царского офицерства, не смогли. Поручик ненавидел большевиков, и эта ненависть к ним росла с каждым днем. Однако поручик редко измывался над пленными лично. Всю так называемую грязную работу он поручал довольно темной личности — унтер-офицеру Драгунову, недавно освобожденному из тюрьмы.
Драгунов был родом из-под Самары, из простой крестьянской семьи. Несмотря на свою молодость (ему было не больше тридцати лет), он уже успел шесть лет отсидеть по разным тюрьмам. В последний раз его судили за ограбление богатого купца, на которого он напал на дороге.
Драгунова арестовали и посадили в тюрьму. Когда вспыхнула первая мировая война, его амнистировали и отдали в солдаты. Солдатскую службу Драгунов любил. В боях он не раз проявлял безумную храбрость, за что начальство его нередко награждало. На груди унтера позвякивали медали. Серая гимнастерка ладно облегала широкую мускулистую грудь. Пряди густых смоляных волос спадали из-под фуражки на лоб, над верхней губой красовались маленькие усики.
Поручик довольным взглядом окинул фигуру унтера.
— Драгунов! — крикнул поручик.
Унтер мгновенно застыл на месте:
— Слушаю, ваше благородие!
— Скажите, сколько мертвых у нас сегодня на пароходе?
— Трое большевиков, ваше благородие. Двоих из них мы уже сбросили в Каму.
— А кто третий?
— Он еще на палубе. Правда, он не русский. Говорят, вроде бы мадьяр.
— Покажи мне его!
Унтер подскочил к неподвижно лежавшему на палубе человеку, схватил его за воротник шинели, одним рывком перевел в сидячее положение и повернул лицом к офицеру.
Ночь была светлой, поручик отчетливо увидел изуродованное побоями, с большими кровоподтеками, лицо пленного. Правое плечо у него было обнажено, если только можно было назвать плечом эту окровавленную, изувеченную часть тела.
— Это твоя работа? — Поручик концом хлыста ткнул в сторону страшной раны на плече пленного.
Унтер промолчал.
Тамаш лежал на палубе рядом, с Кереченом. Оба внимательно наблюдали за тем, что происходит. Они хорошо знали своего соотечественника. Это был Лаци Тимар, их однокашник по полку. Ранило его еще под Челябинском. Тогда он и попал в плен. Плечо кое-как перевязали грязным платком, кровь с грехом пополам остановили, а о большем врач и слушать не захотел.
Поручик Реченский хорошо понимал, что раненому необходимо оказать серьезную медицинскую помощь, однако, поправив пенсне на носу, он, как ни в чем не бывало, зашагал дальше.
Унтер Драгунов как бы нечаянно ткнул концом плетки, которую держал в руке, в изуродованное плечо Тимара.
— Послушай-ка, Имре, — шепнул на ухо Тамашу Керечен. — Лаци-то еще жив! Я сам видел, как он открыл глаза. Они его живым хотят сбросить в реку!.. Понял ты?
— Как не понять…
— Вот и с нами так же поступят.
— Это уж наверняка!..
В этот момент унтер, схватив несчастного Тимара за пояс, легко перебросил его через невысокий борт. В широко открытых глазах раненого застыл ужас. Собрав последние силы, он хотел было крикнуть, но не смог произнести ни звука. Еще мгновение — и Тимар полетел вниз. Шлепнувшись в воду, он быстро начал тонуть, оставляя на поверхности множество маленьких пузырьков.
Лица молодых венгров исказила гримаса сострадания. На глаза навернулись слезы.
Поручик Реченский перегнулся через борт и, бросив безразличный взгляд на воду, тихонько начал насвистывать мелодию популярного тогда вальса.
— Плыть нам осталось недолго, — сказал поручик, перестав свистеть. — Было бы великолепно, если бы до места назначения они все передохли! Не понимаю, зачем они понадобились в Чердыни? Никакой пользы от них теперь не будет! А вы, должен вам заметить, унтер-офицер Драгунов, действуете слишком грубо. Разве вы не можете все это делать как-то поделикатнее?
Унтер глупо ухмыльнулся, польщенный тем, что офицер обратился к нему на «вы».
— Никак невозможно, ваше благородие! Уж больно они живучи, эти мужики. Как кошки, все одно… Их всех по два раза нужно убивать. Вы изволили сами видеть, каким живучим оказался этот тип. Кошку тоже лучше всего топить в воде, так надежнее!
— Черт с ними! Это твое дело! — И Реченский повернулся к унтеру спиной.
Унтер окинул взглядом лежавших на палубе пленных. Некоторые из них спали, тяжело дыша открытым ртом. На миг унтер остановился перед ними. Остальные, кто не спал, старались не шевелиться, зная, что любое движение может вывести унтера из себя, а рука у него, что они тоже хорошо знали, была очень тяжелая.
Проходя мимо спящих на палубе пленных, унтер грубо пинал то одного, то другого. В ответ на это раздавались тихие стоны.
Подойдя к двум венграм, лежавшим рядом друг с другом, унтер спросил у часового, который стоял, прислонившись к фальшборту:
— А эти два пса в каком состоянии?
— Господин унтер-офицер, по-моему, они долго не протянут. Помирают они…
Драгунов два раза взмахнул хлыстом: первый удар пришелся по спине Тамаша, второй — по Керечену.
— Когда загнутся, сбрось их в Каму. — Унтер брезгливо сплюнул на палубу и лениво зевнул.
На этом осмотр пленных закончился. Неожиданно унтеру захотелось выпить чаю, и это обстоятельство избавило обоих венгров от дальнейшего избиения, которому все пленные подвергались без всяких на то причин каждый день.
После ухода унтера на палубе воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным стуком паровой машины, отчего весь корпус парохода мелко вздрагивал.
Часовой сунул в рот папиросу и, прислонив винтовку к борту, полез в карман за спичками. Спичка разгорелась и осветила обросшее щетиной лицо, усы, красный, похожий на картофелину нос и голубовато-серые глаза солдата.
— Халло, Игнат, — тихо позвал часового Керечен.
Солдат подошел к пленному, наклонился и удивленно спросил:
— Откуда ты знаешь мое имя?
— Я тебя знаю, — тихо ответил Керечен. — Знаю, что у тебя дома трое детишек осталось. Позавчера ты на палубе разговаривал со своим земляком, и я все слышал.
— Гм…
— Ты же не по своей воле стал солдатом?.. Забрили тебя.
— Да, но…
— По своей воле никто в солдаты не пойдет… Я по себе знаю…
Солдат испуганно приложил палец к губам.
— Тихо ты! — шепнул он. — А то с тобой беды не оберешься!
— Всех нас убьют, да?
— Я к этому непричастен… — Солдат осенил себя крестом. — Боже сохрани меня от этого!..
— Знаю, — шепотом продолжал Иштван. — Ты этого делать не станешь, а вот Драгунов… Пока доберемся до Чердыни, он нас всех до смерти замучит.
Солдат молчал.
— Игнат, — еле слышно прошептал Иштван.
Часовой наклонился к венгру пониже.
— Ты ведь тоже такой же бедняк, как и я…
Солдат молча кивнул.
— Тогда помоги нам… Я сам слышал, как Драгунов приказал тебе бросить нас в реку, когда мы подохнем.
— Было такое…
— Плавать мы умеем…
— А что толку? Мертвым никуда не уплывешь.
— Но ведь мы еще живы!.. Неужели ты не понимаешь?.. Если ты нас сейчас бросишь в реку, мы доплывем до берега и, может, вернемся домой к семьям… Игнат!.. Неужели ты все еще не понимаешь?..
Солдат задумчиво почесал затылок, а затем осмотрелся по сторонам: не наблюдает ли кто за ним? Убедившись, что все кругом спят, он еще ниже наклонился к Иштвану и прошептал:
— Это ничего, это можно… Только тут кругом непроходимые леса. С голоду помрете, или волки вас сожрут… Ножи у вас есть?
— Были, но у нас их отобрали.
Игнат вытащил из кармана нож с деревянной ручкой и, протянув его Керечену, спросил:
— А спички и хлеб у вас есть?
— Нет.
— Ну, тогда обождите!
Через несколько минут он вернулся, держа в руках крохотный узелок, в котором были спички и два больших ломтя черного хлеба.
— Хлеб вы сейчас съешьте, а то он в воде размокнет, — посоветовал Игнат.
Оба венгра жадно набросились на хлеб. Желваки на заросших щетиной щеках так и заходили взад-вперед.
Солдат сочувственно наблюдал за пленными. Потом он полез в свой вещмешок и вытащил банку консервов.
— Вот, возьмите, — сказал он, — мясная тушенка. Очень хорошая… Сейчас я вас брошу в воду… Только руками-ногами в воздухе не машите…
Проговорив эти слова, солдат трижды перекрестился и, подняв первым Тамаша, перебросил его за борт. Когда раздался сильный всплеск, Игнат выбросил за борт и Керечена.
Вынырнув из воды, оба венгра, собрав все силы, поплыли от парохода.
Игнат несколько минут следил за ними взглядом, а когда потерял из виду, еще раз осенил себя крестом.
Выбравшись на берег, оба венгра оказались в желтом глинисто-каменистом овраге с обрывистыми склонами. Им с трудом удалось выкарабкаться из него. Справа от них, внизу, широко разливаясь, серебром блестела река, а слева, на горизонте, виднелись причудливые контуры далекого леса, которому, казалось, не было ни конца ни края.
— Вот мы и спаслись, — заговорил первым Тамаш, после того как они выбрались из оврага.
Керечен все еще никак не мог отдышаться.
— Пожалуй, так оно и есть, — заметил он через минуту. — Однако нам некогда рассуждать. Надо как можно скорее уносить отсюда ноги, чтобы нас здесь не заметили!
— Подожди, давай хоть одежду немного высушим, — предложил Тамаш, — а то так и простудиться недолго.
— Некогда нам сейчас этим заниматься! Побежим! В кустах выкрутим одежду. На бегу быстро согреемся.
Лес начинался, как растительность на бороде: сначала шел редкий кустарник, среди которого росли отдельные небольшие деревца. Однако стоило пройти еще немного, как там начиналась густая чаща, куда сквозь плотные кроны деревьев с трудом пробивались солнечные лучи днем и призрачный свет луны ночью.
— Ну, если я после такого купания не схвачу воспаления легких, тогда его у меня уже никогда не будет! — задыхаясь от быстрого бега, сказал Керечен.
— Ничего с нами не случится! — успокаивал его Тамаш. — У нас нет времени болеть… А вот теперь быстро раздевайся!..
Они разделись, стащили с себя мокрую одежду и как следует выжали ее. Вылили воду из сапог, выкрутили портянки. Одежду развесили на кустах, а сами, вооружившись густыми ветками, стали отбиваться от многочисленных комаров, которые так и липли к мокрому телу.
— Сожрут они нас заживо, — пожаловался Тамаш товарищу. — Говорят, в этих краях и малярийные комары водятся…
— Водятся-то они, может, и водятся, дорогой Имре, но я надеюсь, что мы с ними не встретимся.
— Я уже замерз.
— Если б мы не были в столь плачевном состоянии, я бы предложил тебе побороться, чтобы хоть немного согреться, — дрожа от холода, проговорил Керечен.
— А чем не предложение? Давай поборемся!
— Дружище, во мне сто семьдесят пять сантиметров роста, а вешу я сейчас не больше пятидесяти кило… Каждая косточка торчит наружу. До борьбы ли уж тут?.. Да и ты не лучше выглядишь!
— Консервы! Где наши консервы? — Тамаш хлопнул себя ладонью по лбу. — Боже мой, уж не потеряли ли мы эту банку, а? Может, утопили в реке?
— Не бойся, — улыбнулся Керечен, — ничего с ней не случилось: она у меня.
— Давай откроем и съедим!
— Э, нет! Только завтра!
— Чего ждать до завтра? Может, это завтра уже наступило? Сейчас идет июнь тысяча девятьсот девятнадцатого года, и, если не ошибаюсь, сегодня воскресенье. Кажется, первое число. Дома сейчас мамаша мясной суп варит. Яблочко шафран бросила в бульон, чтоб он красивее стал, и лапшичкой заправила. Лапшу она сама месит… А затем блинчики с творогом…
— Это в военное-то время? — недовольно пробормотал Керечен. — Они там рады небось, если что и попроще есть…
— Я сейчас хоть чего бы поел! — вздохнул Тамаш. — Хоть чего давай! Посмотри-ка, вон в той большой яме вода стоит. Наверняка ее залило во время половодья. Нужно посмотреть, нет ли там рыбы.
— А если и есть, чем ты ее поймаешь?
— Руками.
Имре как был в костюме Адама, так и пошел к яме. Яма оказалась большой, но неглубокой: вода доходила только до колен. Однако сколько он ни смотрел и ни лопатил воду руками и ногами, ничего, кроме головастиков и каких-то червячков, не увидел. Напуганные неожиданным вторжением в их владения лягушки громко поплюхались в воду.
— Ничего, — с досадой произнес Имре.
Керечен тем временем ощупал развешанную на кустах одежду.
— Пошли дальше, — предложил он. — Нужно поискать человеческое жилье.
Одевшись, друзья двинулись в путь.
Вскоре первые любопытные лучи восходящего солнца заглянули в лес сбоку, как бы со стороны, и шаловливо заиграли с листвой в прятки. Стоило только задрать голову и посмотреть на вершины елей, как взору открывалась вся красота первозданной природы. Изумрудная зелень деревьев отливала золотом на фоне безоблачного голубого неба. Белоствольные березы целомудренно выделялись на густо-зеленом фоне елей и сосен, ослепляя своей красотой. По мере того как солнце поднималось все выше и выше, лес оживал, наполняясь тысячами голосов всевозможных птах, которые своим веселым щебетанием приветствовали новый день. Все вокруг было таким свежим и чистым, что сердца обоих беглецов невольно сжала тоска по дому.
Керечен окончил шесть классов гимназии. Его выгнали с треском, и только за то, что на уроке закона божьего он задал священнику настолько каверзный вопрос о сотворении мира, что тот ничего не смог ответить любознательному гимназисту. А скольких трудов и лишений стоили эти шесть классов гимназии родителям Иштвана, простым бедным крестьянам, имевшим всего-навсего три хольда земли! Оказавшись за воротами гимназии, Иштван выучился на электромонтера. Но долго работать ему не пришлось. Вскоре его забрали в солдаты, а в четырнадцатом году вместе с однокашником Имре Тамашем направили с маршевым батальоном на фронт.
Имре учился и того меньше: он окончил всего шесть классов начальной школы. Тоже выходец из крестьянской семьи, он работал поденщиком, когда находилась работа. В армию его забрали в одно время с другом Иштваном. Вместе они прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе в пятнадцатом году попали в плен под Коломыей. Затем им предстояло проделать долгий и нелегкий путь через Буковину и Галицию. Пришлось поголодать, да еще как! Везли их в вагонах-телятниках, где их поедом ели вши. И наконец попали в солдатский лагерь для военнопленных в захудалом городишке Соликамске, что стоит на берегу Камы. Чего им только там не пришлось вынести! И тяжелую работу, и жестокое обхождение… Но больше всего пленные страдали от тоски по родине.
В лагере оба друга познакомились с худым бледнолицым унтер-офицером. От него они впервые в жизни услышали о социализме.
Иштван и Имре жадно вслушивались в каждое слово унтер-офицера, впитывая в себя новые идеи. Постепенно в них росла жгучая ненависть к тем, кто оторвал их от родного дома и бросил в эту мясорубку.
Молодого унтера звали Тибором Самуэли[1]. Он жил с ними в одном бараке и вместе переносил все тяготы и лишения плена.
В 1918 году в Сибири начали создаваться отряды Красной гвардии. Иштван и Имре в числе первых вступили в один из таких отрядов. Они старались не расставаться друг с другом ни на шаг. Их дружба закалилась в боях. Друзья делились последним куском хлеба, последней щепоткой махорки.
Вместе они жадно вдыхали воздух свободы, впервые обретенной на русской земле.
Тоска по родине уже не терзала их так сильно, как прежде. Правда, по вечерам они все так же вспоминали родной дом, звенящий ручей возле виноградников, радующие глаз пшеничные поля на Альфёльдской равнине, запах кукурузы, когда ее ломают и рушат… Среди огненно-желтых стеблей кукурузы нет-нет да и промелькнет девичье личико, обрамленное шелковыми волосами. Как тут не сорвать робкий поцелуй и не обнять крепко девушку, которая счастливо захихикает! А медовый девичий голосок звенит, как серебряный колокольчик…
Порой вспоминался храмовый праздник, на который из сотен сел стекались крестьяне — мужчины, женщины, дети… Шли с крестами, хоругвями, статуями святой девы Марии и молитвой: «О ты, святая дева Мария, будь к нам милосердна, даруй нам силы…» Конец молитвы обычно произносили так, что его невозможно было разобрать.
Однако если для стариков храмовый праздник был важен шепотом молитвы, то для молодых парней куда важнее было повозиться с красивыми, нарядно одетыми девицами. На таких праздниках обычно завязывались знакомства и вспыхивала любовь. После таких праздников нередко играли свадьбы.
А сколько было разговоров в веселый праздник, когда забивали свинью, в воздухе пахло свежим мясом, паприкой, добрым вином, копченым салом и колбасами!..
Да разве можно перечислить все, о чем говорилось на празднике? Разве можно вспоминать обо всем? Мысленно представишь себе милые сердцу лица родителей и родичей, мысленно услышишь их голоса — и больно сжимается сердце…
И все это можно назвать коротко — «у нас дома», — а щемящую сердце, никогда не утихающую боль по такому далекому родному селу — тоской по родине.
А сейчас вот им приходится бороться за жалкое свое существование здесь, в далеком далеке, на берегах Камы.
Иштван и Имре все время старались идти на запад. Шли, пересекая множества тропок и дорог и больше всего опасаясь вновь попасть на то место, откуда вышли…
Местами лес заметно редел. В шелковистой траве красовались пестрые цветы. Временами путь беглецам преграждали густые заросли кустарника. Иногда у них под самым носом стрелой пролетал заяц или пробегала косуля. Зимой зайцы в этих краях бывают белыми, сейчас же они щеголяли в темных шубках.
Имре с тоской смотрел вслед убегавшим зайцам. Он не раз кидал в них камнями, но, разумеется, ни в одного не попал.
Солнце поднялось уже высоко, но ни еды, ни воды они так и не отыскали. Пришлось ограничиться кислыми листочками щавеля.
На одной полянке Керечен остановился:
— Давай найдем какой-нибудь ручей! У него отдохнем и съедим консервы.
Вскоре они обнаружили следы оленей. Пошли вслед за ними и через полчаса ходьбы увидели крохотный ручеек. Он пробивался сквозь чащу такой тоненькой струйкой, что местами совсем терялся в зарослях кустарника.
— Давай отдохнем немного, — предложил Имре другу.
— Давно пора, — поддержал его Иштван.
Уселись у самой воды. В руках у Керечена блеснуло что-то металлическое.
— Что это у тебя? — удивился Тамаш.
— Странно, но он даже не намок. Я его нашел в кармане, когда выкручивал брюки.
— Не болтай много, а лучше скажи: что это такое?
— Личный знак! Разве не знаешь? У тебя тоже такой был. Я-то свой давно потерял.
— А это чей?
— А это Йожефа Ковача… Он у меня на глазах умер, вот я и взял… А получил он этот знак еще в Мишкольце, перед отправкой на фронт. Гляди, как отчетливо выдавлены на нем буквы!
Имре взял в руки жетон и вслух прочитал:
— «Подпоручик Йожеф Ковач, родился в Гёдёлле в тысяча восемьсот девяносто втором году. Студент. Мать — урожденная Евгения Пастор…» И тот же текст по-немецки… Брось его! Зачем он тебе?
Иштван забрал жетон и, повертев его между пальцами, заметил:
— А зачем мне его бросать? Он никому не мешает. Знаешь, каким парнем был Ковач? Высокий, красивый, цвет кожи — как у девицы. Он и в окопах-то каждый божий день брился. Пуля ему живот прошила. А он, несмотря на такое ранение, сам вылез из окопа, хотел дойти до медпункта, но, сделав несколько шагов, упал на землю. Я подбежал к нему, стал поднимать. Вот тогда-то он и прошептал, чтобы я забрал у него личный знак и передал его матери. Только я не выполнил его просьбы: сам попал в плен.
— Тогда спрячь его, вдруг нам повезет и мы еще попадем домой!
— Все возможно… А теперь давай немного поспим… Хорошо?
Глаза у Имре уже давно слипались от усталости.
Через несколько минут оба друга спали глубоким сном. Не проснулись они, даже когда к роднику пришел на водопой медведь.
Косолапый медленно и с удовольствием цедил сквозь зубы кристальную, холодную как лед родниковую воду, затем неторопливо выкупался в небольшом озерке, вышел на полянку и встряхнулся. И тут заметил спящих на земле людей. Он осторожно подошел к ним, обнюхал и, не почувствовав ничего странного или опасного, спокойно повернулся и не спеша удалился восвояси.
Когда Керечен проснулся, солнце уже село. Имре еще спал. Иштван разбудил его.
— Эй ты, соня, вставай!
Имре с трудом открыл глаза и недовольно проговорил:
— Сердце у тебя есть, чтобы так будить человека? Я такой сон видел! Дома я был. Мать хлебы пекла, А она, когда хлеб печет, всегда жарит еще такие вкусные лепешки на сале… Вот я как раз такую и ел во сне…
— Ладно, ладно… Разве не видишь, что ночь наступила? Давай попьем — и в путь!
Оба подошли к роднику и, распластавшись на земле, припали губами к ледяной воде.
— Ну, воды мы с тобой вволю напились, снов приятных насмотрелись, так что можем идти дальше, — сказал Имре. — Посмотри, сколько тут срубленных деревьев! Интересно, давно они тут лежат?.. Скажи, а ты, случайно, не сумеешь сделать из бересты кружку?
— Могу, — ответил Керечен. — А ты подал хорошую мысль! Вот только когда нам еще понадобится кружка? Когда-то мы еще найдем родник!..
Иштван довольно быстро смастерил ножом кружку из бересты, которую русские называют туеском. Больше того, он даже вырезал к ней крышку.
Наполнив туесок водой, друзья тронулись в путь, который сулил им одни неожиданности.
Низко опустив голову и машинально переставляя ноги, благо белая ночь позволяет спокойно идти даже по лесу, Иштван углубился в свои мысли: «Куда мы идем? И сами не знаем…»
Под ногами то тут, то там алели ягоды земляники. Имре нет-нет да наклонится и нарвет целую пригоршню спелых душистых ягод. Он даже нашел в гнезде какой-то птицы четыре маленьких яичка… И больше ничего, сколько ни старался…
Вскоре в животах у друзей начало угрожающе урчать, перед глазами пошли разноцветные круги, но они молча все шли и шли, сами не отдавая себе отчета куда.
— Послушай, Пишта… — переводя дыхание, начал Тамаш.
— Не разговаривай, от разговоров быстрее устаешь! Иди и молчи!
— Ладно, буду молчать…
И они шли дальше, даже не замечая, что местность стала слегка холмистой. Заметили они это только тогда, когда оказались на вершине невысокого холма и с изумлением увидели перед собой живописную долину, поросшую морем изумрудно-зеленых деревьев.
Иштван внимательно осмотрел долину.
— Имре! — вдруг воскликнул он. — Смотри-ка! Вон там избушка!
— Где? Я ничего не вижу! Где избушка?
— Смотри прямо!
— И правда! — обрадованно подтвердил Имре и снял с головы фуражку, будто собирался помахать ею неизвестно кому.
— Не волнуйся, Имре! До нее не так близко… Важно, что мы на нее вышли, а это значит, мы спасены! Понимаешь ты? Спасены! Мы вышли к людям… Лишь бы только сил хватило дойти…
— Пошли! Мы должны дойти до нее, Пишта!
И, ускорив шаг, друзья направились к лесной избушке, один вид которой мгновенно приободрил их и придал новые силы.
ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА
Ноги сами несли с холма по покатому склону. Надежда оказаться под человеческим кровом окрыляла беглецов. Спустившись в долину, они очутились на большой поляне, посреди которой стояла небольшая крестьянская изба.
В те годы в России такие избушки можно было встретить в самых различных местах. Они были очень похожи друг на друга, так как основным строительным материалом для них служили сосновые бревна. Чтобы срубить такую избу, мужикам, которые, за редким исключением, были прирожденными плотниками, достаточно было иметь топор и пилу. Бывало, что обходились и без гвоздей.
Подойдя к избе поближе, беглецы остановились. Уж больно странно выглядело это жилье! Нигде никаких признаков, что здесь живут люди. Тишина такая, что в ушах больно. Казалось, что в густой траве, которой зарос весь двор, даже букашки и те не ползали. У самого порога дома тоже росла густая непритоптанная трава.
Тамаш просунул голову в окошко, в котором было выбито стекло, и заглянул внутрь избы.
— Иди-ка сюда, Пишта! — тихо позвал он друга. — Посмотри-ка на стол! Видишь? Глиняная миска и деревянная ложка…
Иштван, вытаращив глаза, заглянул в окошко.
— Знаешь, дружище, — разочарованно произнес он, — а ведь в этой избе давно никто не живет. Ну и в хорошее же местечко мы попали с тобой!..
Друзья на всякий случай постучались в дверь, но никакого ответа не получили.
— Давай войдем! — предложил Имре.
Дверь легко поддалась нажиму и растворилась, но, как только ее отпустили, она, будто заколдованная, захлопнулась.
Тамаш испуганно вздрогнул. На ум пришли страшные истории, которые ему рассказывали в детские годы. Отогнав от себя навязчивые мысли, он снова нажал на дверь. Оказалось, открыть ее мешал какой-то мусор за дверью.
Ночь стояла такая светлая, что можно было без особого труда рассмотреть всю утварь в избе.
— Имре, — тихо заметил Иштван, — здесь столько пыли, что можно подумать, будто тут уж лет сто не было ни одной живой души.
— Я тоже так думаю. Взгляни на железное ведро с ковшиком. Они даже ржавчиной покрылись…
Тамаш открыл дверцу старого шкафчика, подняв облачко пыли.
— Смотри-ка! — воскликнул он. — Посуда! Ножи, вилки… И все покрылось пылью и заржавело.
— Я кастрюлю нашел. Если ее хорошенько отмыть, то можно сварить в ней что-нибудь. Только вот из чего? — сказал Иштван.
От волнения и разобравшего их любопытства друзья даже забыли об усталости. Да и ложиться спать в такой пылище как-то не хотелось.
Имре мгновенно осенила умная мысль, и он, выйдя во двор, наломал березовых веток и соорудил веник.
Пока он занимался этим делом, Иштван продолжал осмотр избы. Он осмотрел все, заглянул даже на чердак, но и там, кроме густого слоя пыли, ничего не было.
Вернувшись в избу, он встал на стул, который угрожающе заскрипел под ним, однако выдержал его вес и не сломался. От русской печи до самой стены под потолком тянулись полати, также покрытые пылью.
— Имре, иди-ка сюда, — позвал он друга. — Я нашел что-то непонятное!
Имре пододвинул к полатям стол и залез на него.
— Одеяло, что ли?
Иштван провел рукой по доскам полатей и извлек оттуда обрывки какой-то одежды. Пошарив рукой подальше, он вдруг испуганно отпрянул и слетел со стула на пол. Оказалось, что на разостланной на полатях медвежьей шкуре он нащупал человеческий скелет. Это был скелет старика, в открытом рту которого одиноко чернели четыре зуба, а череп покрывали седые редкие волосы.
Не сговариваясь, Иштван и Имре, словно по команде, сняли фуражки. Посмотрели еще раз на желтые кости, и в тот же миг обоим показалось, что эта пустая изба наполнилась тяжелым трупным запахом.
— Ну, старик, — глухим прерывающимся голосом произнес Иштван, — видать, умер ты без покаяния. Небось и не думал о смерти, когда в последний раз залезал на полати и ложился на медвежью шкуру.
— Это уж точно, — кивнул другу Имре. — Интересно, кем был этот старик?
— Может, батрак, сбежавший сюда, чтобы не платить податей помещику.
— А может, и отшельник какой?
— И это возможно.
— Его останки нужно предать земле.
— Нужно…
В углу избы в земляном полу виднелась небольшая яма. Имре и Иштван перенесли в нее останки старика вместе с медвежьей шкурой и, уложив все это в яму, слегка присыпали землей.
Затем Имре нашел в сенцах ржавую лопату. Она была такой старой, что едва коснулась земли, как сразу же соскочила с изъеденного древесным червем черенка.
Керечен ножом вырезал новый черенок из сухой березовой ветки, счистил камнем ржавчину с лезвия лопаты и насадил ее на приготовленную палку. Лопата могла им еще пригодиться.
— Скажи мне, Пишта, — начал Имре, — как может в избе, стоящей посреди леса, скопиться столько пыли?
— Это трудно себе представить! Но не забывай, что старик умер давным-давно. Может, лет двадцать назад, а может, и больше. Пыли же даже в самом чистом воздухе хватает. Пыль-то видишь какая? Мелкая да мягкая… Ты такой небось никогда раньше и не видал?
— Первый раз в жизни вижу…
Друзья не заметили, как наступило утро. Желудок настоятельно требовал своего. И вот здесь, где была печь, дрова и даже имелась посуда, они ничего не могли себе сварить по той простой причине, что не из чего было.
Когда совсем рассвело, оба пошли искать воду, которая, по их мнению, должна была находиться где-то поблизости. В своих предположениях друзья не ошиблись: метрах в пятнадцати они нашли родник.
Хорошенько вымыв глиняную кружку, которую взяли в избе, они жадно набросились на воду и пили — пили, как пьют измученные жаждой и зноем путники, проделавшие долгий путь по пустыне.
Почистив глиняный горшок, они наполнили его водой и принесли в избу, затем растопили печь. Нарвав конского щавеля вокруг избы, сварили из него нечто наподобие похлебки. Вкус у этого варева получился ужасный, но оба венгра, пересилив себя, съели все до дна, лишь бы только чем-то, да еще горячим, наполнить желудки.
— Вот бы сейчас мясца! — вздохнул Тамаш.
— Будет и мясцо, — утешил его Иштван. — Посмотри-ка сюда! Знаешь, что это такое?
— Конский волос!
— Точно. Это я в конюшне нашел. Вот я из него силок смастерю, и уже завтра мы с тобой будем есть жаркое из зайчатины. Чтобы в лесу да не добыть какой-нибудь дичи?!
После этого Керечен еще раз внимательно обыскал всю избу, хотя и без особого успеха. Ему удалось найти два ржавых ножа, две деревянные ложки и щепотку соли на дне солонки.
Тамаша тем временем одолевали практические мысли. Взяв топор, он один направился в лес, вдохновившись сумасбродной идеей встретить там оленя, который даст убить себя топором.
Иштван так увлекся своими поисками и уборкой избы, что не сразу заметил исчезновение товарища, и когда заметил, то подумал, что тот бродит где-то вокруг дома.
Он вымел сор из избы, на полати постелил свежую, пахнувшую мятой, траву. Развалившись на оборудованном собственными руками ложе, он решил немного отдохнуть и подумать о том, что им делать дальше. Взяв в рот травинку, Иштван стал задумчиво жевать ее. Но ему захотелось похвастаться наведенным порядком.
Он вышел во двор и громко позвал:
— Эй, Имре, иди-ка сюда!
Ему никто не ответил.
— Имре, где ты?! — позвал он громче. — Эй, Имре-е!
И на этот раз никто не ответил.
«Странно, — подумал Иштван. — Куда он мог запропаститься? Хоть бы сказал, куда ушел». Набрав в легкие побольше воздуха, он закричал во все горло:
— Имре-е! Где ты?! Имре-е!
Ему ответило лишь эхо. Имре будто сквозь землю провалился. «Уж не сожрали ли его волки? Или задрал медведь?» — испуганно подумал Керечен и уже решил идти на поиски товарища, как вдруг услышал откуда-то издалека его голос.
Через несколько минут Имре вышел на поляну, держа в руках окровавленного зайца.
— Здесь я, не пугайся! Вот я и зайчатины принес.
— Где ты его достал? И как? — не без удивления спросил Иштван.
— На бойне, дружище. Теперь у нас с тобой есть ветчина, печенка, кровяная колбаса и…
— Черт возьми!..
Повесив зайца на ветку ближайшего дерева, Имре начал рассказывать:
— Уходить далеко я вовсе не собирался. Знаешь, когда у тебя в руках топор, ты чувствуешь себя настоящим мужчиной! Пошел я в лес в надежде отыскать зайца, но его и в помине не было. Огорчившись, я уже хотел было вернуться, как вдруг увидел здоровенного пса, который нес в зубах окровавленного зайца…
— Пса?! Здесь, в лесу?! Не может быть! Значит, где-то поблизости живут люди?..
Имре покачал головой:
— Не думаю, но ты лучше не перебивай меня… Увидев пса, я пошел ему наперерез, чтобы отнять у него добычу. Однако пес нисколько не испугался меня. Он остановился и посмотрел на меня. Я тоже остановился и думаю: «Что же это за собака такая странная?» Пес подпустил меня на довольно близкое расстояние. И вдруг меня осенило, что это вовсе не пес, а самый настоящий волк! Вот когда я перепугался!.. В нескольких шагах от меня — здоровенный волк! Сначала я хотел обратиться в бегство, но быстро передумал, решив, что догнать меня волку совсем нетрудно, а у меня в руках как-никак топор. А волк тем временем начал угрожающе рычать на меня. «Ну, Имре, — решил я про себя, — если ты настоящий мужчина, то во что бы то ни стало отберешь у него зайца!» И я молча, подняв топор над головой, бросился на волка. Он выпустил зайца из пасти и, продолжая рычать, стал пятиться назад…
— Ну, а дальше что?
— А дальше волк убежал в кусты, а я взял зайца и принес его тебе.
Угли в печи еще не погасли. Друзья подбросили на них сухого хворосту и, разделав зайца, положили его вариться в самый большой горшок. Когда вода закипела, они посолили свое варево.
Пока варилась зайчатина, Имре ударился в воспоминания.
— Были у меня в детстве закадычные друзья — двое близнецов. Мы всегда вместе играли. Если б ты видел, сколько они могли съесть! У нас в ту пору каждый день было жаркое из баранины: в тот год на овец мор напал, и хозяин кормил нас мясом дохлых овец. Так вот близнецы всегда выклянчивали у нас самые здоровенные куски баранины. Было им тогда лет по восемнадцати. Работали они в фартуках… Так они фартуки, бывало, подогнут и положат еще и туда по большому куску мяса. Они умудрялись есть даже во время работы. Да еще с каким аппетитом ели! Близнецов этих, как война началась, тоже забрали в солдаты. Земляки рассказывали, что оба они погибли на фронте, где-то в Карпатах.
— Убили их?
— Нет, от голода.
— Гм… Посмотри, не уварилось ли мясо?
— Нет еще.
Иштван, обхватив голову руками, задумался.
— О чем ты думаешь? — поинтересовался Имре.
— Да о том, что ты сейчас рассказал. А ты помнишь нашего старого учителя церковного пения, который вместе с нами попал в плен? У него еще большая борода была… Он ее в Карпатах отпустил.
— Там можно было отпустить: времени было вдоволь.
— Звали нашего кантора Береем. Он мне рассказывал, как они там голодали. Туда нагнали одних стариков, одели их черт знает во что, так что над ними все насмехались, и доверили им нести караульную службу в городе.
— И не так уж плохо их одели, как ты говоришь! Суконное обмундирование им выдали, а не такую дрянь, как нам…
— Старики даже песенку сочинили о своей службе там…
— Знаю я ту песенку. Мелодия красивая, а слова глупые, — перебил друга Тамаш.
— Это точно, — согласился с ним Керечен.
— Когда их там окружили, наголодались они, бедняги. Говорят, всех крыс в городе съели…
Тамаш подошел к окну и, выглянув, посмотрел на небо.
— Как ты думаешь, который час? — спросил он.
Керечен пожал плечами:
— Разве без часов определишь?
— Ты спать не хочешь?
— Как не хочу? Хочу, но еще больше хочу есть!
— Тогда давай есть. Мясо, наверное, уже уварилось.
Тамаш вынул из горшка горячие куски мяса. От них исходил такой аппетитный запах, какого они, казалось, никогда в жизни не нюхали. Они отрывали зубами большие куски мяса и жадно глотали их, обжигая рот. Ели молча, целиком поглощенные едой, долго, обгрызая и обсасывая каждую косточку. Вскоре в горшке ничего не осталось. Заглянули в горшок, а там одна вода да пена накипевшая. Они и пену всю слизали. Потом долго сидели молча у кучки обглоданных заячьих костей.
— Зря мы все съели, — первым нарушил тишину Иштван. — А завтра что есть будем?
— Завтра нам нужно идти дальше.
— Завтра? Кто его знает, когда оно наступит, это завтра?
— А все равно, когда бы ни наступило. Поспим как следует, а как проснемся — в путь.
— Тогда пошли спать.
Улеглись рядом. И хотя все тело будто свинцом налилось, сон почему-то не шел. Разговорились. Вспомнили унтера Драгунова, солдата Игната, благодаря доброте которого они остались живы, а не то и их бы колчаковцы замучили насмерть. А потом облили бы бездыханные тела бензином и сожгли или в Каму бросили.
Стояла такая духота, какая даже в разгаре лета бывает только перед грозой. И действительно, вскоре разразилась гроза. Сначала небо перечеркнула одна молния, за ней — другая. Раздались первые удары грома, и начался ливень.
Через маленькое окошко ничего не было видно, кроме сплошной серой стены дождя. Деревья жалобно стонали под сплошным водопадом, который обрушился на них с неба…
На следующий день проснулись поздно. Ярко светило солнце. А в лесу каждое дерево, каждый листочек так и сверкали, умытые прошедшим ливнем. По деревьям ползали лесные жучки и букашки, обремененные своими заботами. От хмельных испарений земли кружилась голова…
Имре, зажав между колен плоский камень, точил на нем топор и ножи. Затем он вырезал из куска дерева грубый гребень. Вымывшись дождевой водой, которая натекла в стоявшую во дворе бочку, они высушили волосы и расчесали их. Длительный сон прибавил им сил. И лишь истощенный за долгие дни плена желудок настоятельно требовал своего — пищи.
— Нужно идти, — сказал Керечен. — Нельзя терять попусту время. Нам нужно уйти подальше от Камы. Я уверен, что где-нибудь поблизости должно быть человеческое жилье. Старик тоже не мог жить далеко от селения: ему ведь нужны были мука, соль, масло и прочие продукты. До ближайшего села — не больше дня ходьбы, это уж точно. Пошли!
— Я никуда не пойду, — заупрямился Тамаш, — пока не наемся… Я голоден как волк…
Иштван бросил на товарища сердитый взгляд и сказал:
— Ты что, думаешь, тебе каждый день будет везти? И каждый день ты будешь встречать трусливого волка, у которого сможешь спокойно отнимать его добычу? Дурень! В пути мы скорее найдем что-нибудь из еды. У нас теперь и топор есть, так что для ночлега сможем устроить себе шалаш. Наливай воды в кружку и пошли!
Имре неохотно повиновался.
Шли по густому вековому лесу. Кругом росли ели, сосны, березы и лишь изредка попадался кустарник. Лес жил своей обычной жизнью: высоко в кронах деревьев, весело щебеча, порхали птицы, по стволам ползали букашки, иногда можно было увидеть белку, деловито перелетавшую с ветки на ветку. Однако ничего съестного беглецы так и не нашли, не считая нескольких птичьих яиц, конского щавеля, кедровых орешков да земляники.
Идти по густому лесу было трудно, так что вскоре путники сильно устали. Ноги дрожали в коленях, а перед глазами опять поплыли разноцветные круги. Во рту пересохло, а воду, которую они с собой взяли, давно выпили. На лице у них выступили крупные капли пота. Мокрые пряди волос липли ко лбу. Иштван и Имре давно не стриглись и так обросли, что походили на дикарей.
Солнце уже перевалило за полдень, но его лучи все еще пробивались сквозь густую листву.
Ноги в сапогах ломило, но ни Имре, ни Иштван не решались их снять, боясь повредить ноги о сучья и кочки. Разлапистые ели иногда больно ударяли по лицу, как когда-то бил их хлыстом унтер Драгунов. Руки были в сплошных ссадинах и царапинах. Они шли и шли, а лесу и конца не было видно. Возможно, они заблудились и теперь бесцельно бродили по кругу.
— Давай отдохнем немного, — предложил Керечен после долгого молчания.
Они сели на ствол поваленного дерева. Разговаривать не хотелось. Губы пересохли. Оба еще раз заглянули в кружку и туесок, хотя прекрасно знали, что воды там давно нет.
Тамаш, ничего не говоря, встал и пошел искать воду. Керечен неохотно проводил его взглядом.
Растянувшись на стволе, Иштван устало закрыл глаза.
«Будь что будет, — подумал он. — Нужно отдохнуть, набраться сил, поспать немного, чтобы ноги могли шагать… А потом?..»
— На, пей! — услышал вдруг Иштван голос Имре. — Пей, Пишта, пей, я принес воды…
Керечен сел, уставившись на туесок с водой, который ему протягивал друг. Молча, не проронив ни слова, он пил теплую несвежую воду, чувствуя, как силы медленно возвращаются к нему.
— Где ты воду-то нашел, Имре?
— Пей, еще принесу.
— Спасибо, я уже напился.
— Знаешь, — начал объяснять другу Имре, — я подумал, что после вчерашнего ливня где-нибудь наверняка еще сохранилась вода. И правильно подумал: нашел камень с выемкой, а в ней вода. Чистая, еще никаких букашек в ней не завелось. Вот я тебе и принес.
— Молодец, Имре, — похвалил Иштван товарища.
— У тебя научился! Ты ведь шесть классов гимназии кончил!..
— Шесть классов гимназии! — горько рассмеялся Керечен. — Теперь это ничего не стоит… Ну скажи, зачем мне здесь, в этом непроходимом лесу, например, латинская грамматика? Или что другое? Да мне куска хлеба никто не подаст, даже если я всего Овидия вслух продекламирую, а? Классическое образование — дело хорошее, но только оно не по карману бедным людям. А сейчас каждому из нас нужна краюха хлеба, дружище, да кусок мяса. Однако мясо в лесу нашел не я, а ты, хоть ты и не читал по-гречески классиков…
— Знаешь, Пишта, где бы мне сейчас хотелось оказаться?
— Где же, дорогой Имре?
— В нашем родном лесу, в Сарвашке… Там я знаю один родник… Говорят, у нас сейчас на родине революция… Вот бы мне туда!
— Землицы небось захотел получить, а?
— Захотел, Пишта, да еще как захотел! Два бы хольда в Эгеде! У моего брата там крохотный виноградник. Какое вино он давит!.. В двенадцатом году ливни смыли там верхний слой земли… Пришлось ее в корзинах носить… А знаешь как хорошо возиться на винограднике! Окапываешь его, опрыскиваешь, собираешь урожай!..
— Да, поесть жареного мясца, выпить доброго винца, понежиться в объятиях красотки… Вот это да!
— Так-то оно так! В тринадцатом году мой отец арендовал у старого Мойеса два хольда земли. Ну и земля же это была! Одни камни да кочки! Повозились, мы там достаточно. Корчевали делянку, камни выбирали. Когда же мы привели виноградник в порядок, хозяин отказал нам в аренде и стал обрабатывать его сам.
Керечен тем временем внимательно наблюдал за парой букашек, которые медленно ползли по стволу дерева, на котором он сидел.
— Лишь бы только у нас на родине победила революция… Тогда все будет хорошо!
— Думаешь, ее можно задушить? — с тревогой спросил Тамаш.
— У господ большая сила в руках… — задумчиво ответил Керечен.
Оба помолчали. Когда они покидали избу отшельника, оба решили, что ночевать будут не под открытым небом, а в шалаше, но теперь у них для этого не было сил.
— Знаешь, Имре, — тихим надтреснутым голосом проговорил Иштван, — у меня такое чувство, что завтра мы наконец должны встретить людей.
— А почему ты так думаешь?
— Да так. Я помню, как эта местность выглядит на карте. Если мы не очень ушли в сторону, то через день ходьбы наверняка выйдем к какому-то селу.
— Если до того момента мы не помрем с голоду или нас не сожрут волки…
— Не жалуйся! Радуйся, что ночи тут светлые, а то побродили бы мы в темноте по такому лесу.
— Здесь, конечно, лучше, чем на дне Камы.
После недолгого молчания первым заговорил Керечен:
— Если нам посчастливится выбраться из этого леса, нужно жить с умом. Одежда на нас такая, что никто не догадается. Да и на пленных-то мы совсем не похожи. Целых два года я жил среди здешних мужиков, языку их научился. Я с ними смогу договориться.
— Хорошо… А сейчас попробуем уснуть.
Друзья нашли себе удобное место под густым кустом и улеглись…
Сколько они проспали, они точно не знали, а когда проснулись, солнце стояло высоко в небе. Напившись и набрав воды в туесок, Иштван и Имре тронулись в путь.
Шли несколько часов подряд, устраивая пятиминутные перерывы. Ноги дрожали от усталости, но еще машинально передвигались. Сильно уставший солдат может какое-то время идти в строю и спать на ходу. Точно так же со страшным стуком продолжает работать изношенный механизм старой машины… Почти из-под самых их ног нет-нет да выскакивали зайцы, в которых можно было бы бросить топор… Но путники не замечали этого.
Почти ничего не соображая, они брели дальше. Спотыкались, падали, вставали и снова брели, с трудом волоча ноги. Вода у них кончилась, и во рту так пересохло, что даже разговаривать было трудно. Из стесненной тяжелым дыханием груди вырывались лишь нечленораздельные звуки, похожие на хрип…
Сколько они шли, трудно сказать… А сколько же еще нужно идти?.. До самой смерти? А кто их хоронить будет?.. Раз-два… Раз-два… Словно тикают заведенные часы: тик-так, тик-так… Раз-два… Раз-два… Но ведь приходит время, когда у часов кончается завод…
Иштван и Имре свалились на землю почти одновременно.
Иштван, коснувшись земли, потерял сознание и распластался, как мертвый.
Имре оказался покрепче. Пересилив себя, сел и с трудом открыл слипавшиеся веки. В голове бродили обрывки каких-то мыслей. Он плохо соображал, спит он или бодрствует. Руками нащупал под собой сухую щепу. В голову пришла мысль о волках, которым нетрудно будет напасть на них… Дальше он действовал машинально, вернее, действовал уже не он, а инстинкт самосохранения.
Лежа, он нагреб руками сухой щепы, прошлогодней травы и, чиркнув последней спичкой, зажег костер, который сначала сильно задымил, выбросив к небу большой шлейф густого дыма, но все же разгорелся…
На какое-то мгновение Имре подумал о том, что ведь и они сами могут сгореть от этого костра, но сил отодвигаться или погасить огонь у него уже не было. Веки словно свинцом придавило, и Имре погрузился в глубокое забытье.
СРЕДИ ПРОСТЫХ И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Максим Степанович Зайцев, зажав между колен сосновый чурбак, заученным движением щепал дранку, которой собирался заново покрыть давно прохудившуюся крышу сарая. Погода как раз благоприятствовала такой работе, и сегодня было воскресенье — можно не спешить.
Вся семья Зайцевых была в сборе. Старшей дочери Анне уже исполнилось двадцать лет. Девка, как говорится, была на выданье. Красивая, черноволосая да голубоглазая. Правда, щеки ее тронуты несколькими оспинами, но они такие маленькие, что их не сразу заметишь. Две другие дочери намного моложе Анны. Им еще положено в школу бегать, но сельская школа теперь работала нерегулярно. Учителей-мужчин всех забрали на фронт, а оставшаяся одна-единственная учительница не в состоянии была наладить регулярные занятия. Так что обе младшие дочери Максима Степановича в школу не ходили и занимались время от времени дома. Правда, все эти занятия состояли в основном из чтения хрестоматии.
Довольно часто с дочерьми занималась жена Зайцева, стройная красивая уральская казачка. Сама она окончила всего лишь два класса церковноприходской школы, но, научившись читать, тянулась к книгам и, как только позволяли домашние заботы, читала.
А жить в маленькой деревушке, затерянной среди дремучих лесов, было несладко. Изба Зайцева стояла на самом краю села. Когда супруги Зайцевы совсем молодыми приехали в эти края на жительство, землю здесь давали почти бесплатно — десятину за червонец: царское правительство старалось заселить эти далекие по тем временам места…
Жена Зайцева пошла подоить корову. Вокруг села находились прекрасные заливные луга, и коровы, козы, овцы и прочая живность свободно паслись на них. Воров в ту пору здесь не было и в помине.
— А где Настенька? — спросил Зайцев у жены.
— Кто-то разжег костер на опушке леса. Туда побежала, посмотреть.
Зайцев с удовольствием продолжал щепать дранку, наслаждаясь работой.
«Наверно, ребятишки разожгли на опушке костер, — подумал Максим Степанович. — Лишь бы лес не подожгли».
Он почти забыл об этом, но вдруг услышал, как запыхавшаяся от бега Настенька еще издалека закричала:
— Там люди! Мертвые люди! Двое их!
Максим Степанович не спеша отложил топор в сторону и спокойно спросил:
— Что ты плетешь? Где?
— Там, на полянке, где мы вчера рубили дрова… Я их окликнула, а они молчат… А костер совсем к ним подобрался… Я погасила огонь… Они, видать, мертвые…
— Пошли! — решительно бросил Зайцев. — Елена! — крикнул он жене. — Приготовь-ка побыстрее постели! Может, они еще живые?
Вместе с тремя дочерьми Зайцев торопливо зашагал к опушке леса.
— Живы они, — обрадованно произнес он, осмотрев лежавших на земле мужчин. — А ну-ка, помогайте мне!
Осторожно взвалив себе на спину Керечена, Зайцев понес его к дому, словно мешок с мукой. Дочери помогали ему. Затем вернулся за Тамашем.
Жена Зайцева тем временем приготовила постели: взбила подушки, откинула одеяла.
— Кто они такие? Заблудились, наверно? — спросила она мужа.
— Не все ли равно, — буркнул ей в ответ Максим. — Очухаются — узнаем. А пока пусть как следует отоспятся в тепле! Если добрые люди, гостями будут, а коли злые — вот бог, а вот порог… А пока не беспокой их, пусть поспят…
На следующее утро первым проснулся Иштван. Открыв глаза, он увидел перед собой улыбающиеся рожицы двух девочек и пожилую женщину.
— Где я? — чуть слышно спросил Иштван.
Елена провела натруженной рукой по его лицу и ласково сказала:
— У добрых людей…
— Воды!..
Женщина поднесла к его губам ковшик с молоком:
— Пей, мы воду не пьем… Это полезнее… Пей…
Керечен с жадностью выпил свежего, парного молока. Его охватила приятная истома, хотя руки поднимались с трудом, а голова сильно кружилась.
— Где мой друг? — с трудом ворочая языком, спросил он.
— Ничего с твоим другом не сталось… Спит он еще, — произнес стоявший у изголовья Максим и показал рукой на кровать у противоположной стены.
Вскоре проснулся и Тамаш. Открыв глаза, он с удивлением осматривал комнату.
— Имре… Имре… Мы спасены, слышишь? — по-венгерски произнес Иштван, чем сразу же поверг в страшное недоумение хозяев.
Имре попытался привстать, но в тот же миг тело его, словно оно было чужим и не повиновалось ему, упало в перину.
Хозяйка подошла к Имре и тоже напоила его молоком.
— Спасибо, — поблагодарил Имре хозяйку по-русски. — Большое спасибо.
Анна, стоя у кровати, на которой лежал Иштван, не могла отвести глаз от него. Уж больно странным казался ей этот молодой мужчина! Исхудавшее лицо обрамляла темная борода, а верхнюю губу прикрывали густые, черные как смоль усы. И хотя борода и усы старили незнакомца, чувствовалось, что он еще очень молод. А темные глаза его светились умом. Анне, которая еще ни разу не выезжала из родного села, не приходилось видеть других мужчин, кроме родного отца да немногих мужиков-односельчан.
— Супчику похлебаете немного? — обратилась она к Иштвану.
Тот с улыбкой кивнул. Через минуту Анна принесла глиняную миску с горячей, покрытой золотистым жирком, куриной лапшой и большим куском мяса. Она пододвинула к кровати табурет, поставила на него миску с лапшой, а рядом положила деревянную красиво расписанную ложку и ломоть свежего, теплого белого ситника.
Затем она принесла лапши и Имре.
Вся семья с любопытством наблюдала, как изголодавшиеся странники с аппетитом уплетали лапшу, откусывая от краюх большие куски хлеба.
Долгий сон и сытная еда сделали свое дело: беглецы почувствовали себя настолько хорошо, что даже хотели было самостоятельно встать с постели. Однако как только были съедены последний кусок хлеба и последняя ложка лапши, обоими овладела такая усталость, что они снова моментально уснули. Сказались и долгое недоедание, и все тяготы царского плена, многочисленные издевательства, побои, купание в холодной Каме и блуждания по тайге… Уставшему, ослабевшему организму требовался длительный отдых.
На следующий день первым проснулся Тамаш. Он сел на постели и внимательно осмотрел гладко обтесанные бревенчатые стены избы. На миг его глаза остановились на окошке, в которое заглядывали ласковые лучи солнца. В углу висела икона с изображением богородицы. Перед иконой горела маленькая лампадка. Тамашу и до этого не раз приходилось бывать в крестьянских избах, так что его нисколько не удивила обстановка комнаты: ни большой неуклюжий комод, ни коврик, разрисованный красками, внизу которого помещался несложный стихотворный текст, призванный разъяснить, так сказать, идейное содержание картины…
Посреди комнаты большой тесовый стол, вокруг которого толпились самодельные табуреты. Рядом с дверью умывальник из жести, под которым стоял металлический тазик.
Однако эта скромная обстановка показалась в тот момент Имре почти царской, а сама комната — чуть ли не дворцом, где стояли не дощатые топчаны, а настоящие кровати с перинами и одеялами. И не мудрено! За долгие годы плена Имре и Иштван привыкли к другой обстановке — низким сырым баракам с длинными нарами, на которых, как сельди в бочке, теснились пленные, а в воздухе нестерпимо воняло потом и чесноком. Кроме того, эта изба — не дремучий лес, где беглецов подстерегало множество опасностей.
Имре с облегчением вздохнул и посмотрел на своего товарища.
«Что с ним? Жив ли он? — мысленно задал он себе вопрос и тотчас же мысленно ответил: — Ну конечно жив!.. Мы среди людей. Конец всем мучениям… Какие добрые и простые здесь люди!»
Он вспомнил, как приветливо улыбалась им крестьянка, которая поила их парным молоком, а дочь ее кормила куриной лапшой и белым хлебом.
Имре почувствовал себя настолько хорошо, что, несмотря на дрожь в коленях, смог самостоятельно встать с постели.
Иштван спал на другой кровати. Он ровно и глубоко дышал. По его лицу чуть заметно блуждала улыбка.
Имре подошел к другу и присел на край его постели.
«Дружище наверняка видит сейчас приятный сон, — подумал Имре, глядя на блаженное выражение лица Иштвана. — Дома небось видит себя. А побыть дома, в спокойной семейной обстановке, так приятно! Дома и поработать приятно, и отдохнуть. Хорошо. Кругом все свои, родные и близкие. Тут тебе и любовь, и жаркий поцелуй. Но, видать, все это сейчас не для нас. Разве что во сне?..»
Имре так погрузился в собственные мысли, что дальше заговорил вслух:
— Ничего, Пишта, для нас с тобой и здесь немного побыть неплохо… По крайней мере, до тех пор, пока кровопролитие не кончится… Земля здесь плодородная, молоко хорошее… Хорошо здесь, дружище, тихо, спокойно… Давай передохнем тут немного…
Услышав голос друга, Иштван проснулся, протер глаза кулаком и спросил:
— Ты что-то сказал, Имре?
— Пишта! Смотри, как светит солнце!
— Светит…
— Нам с тобой оно светит! Мы в надежном месте, у добрых людей… Живы… Давай останемся пока здесь, если можно.
— Давай останемся, Имре.
— Если нас оставят…
— Хорошо было бы… Ты устал, Имре?
— Кажется, уже нет… Сон я видел…
— Что же ты видел?
Имре тяжело вздохнул:
— Снилось мне, что мы с тобой дома…
— А я, Имре, — перебил его Иштван, — видел во сне другое. Будто у здешней белой ночи вкус молока… И людям совсем не нужно ничего есть: стоит только вдохнуть воздуха — и ты уже сыт… Идти можешь сколько хочешь… И усталости даже не почувствуешь…
Имре сжал руку Иштвана и продолжал:
— Если бы ты знал, как мне хочется пожить в спокойной обстановке! Хочется траву косить, лошадей и коров пасти, удобрять землю навозом, пахать и бог знает что еще… Словом, работать хочется… И чтобы не видеть больше ни солдат, ни оружия!..
— Может, ты и прав, Имре, — согласился с другом Иштван. — Хорошо бы нам снова крестьянами заделаться… Вспомнил я одну сказку… Жили-были на свете муж с женой… Самые что ни на есть простые люди, крестьяне. Очень трудолюбивые. Они крепко любили друг друга. Мужа звали Филимоном, а жену… Как же ее звали?.. Вот запамятовал!.. Считали они себя самыми счастливыми людьми на свете, так как земля у них была хорошей, родила и хлеб, и фрукты, и цветы, которые благоухали медом… А тишь-то у них была — как в раю…
В этот момент в комнату вошла Анна. Увидев, что оба гостя мирно беседуют, девушка всплеснула руками и радостно закричала:
— Папа, мама! Сестренки! Они уже проснулись! Идите скорее!
Через минуту комната наполнилась домочадцами. На Иштвана и Имре обрушился град вопросов: «Кто они такие?», «Откуда и куда идут?» и множество других.
Иштван решил быть откровенным. Да и стоило ли здесь, в заброшенном небольшом селе, у черта на куличках, где нет ни старосты, ни урядника, врать добрым людям, которые, собственно говоря, спасли им жизнь? Совесть не позволяла ему обманывать своих спасителей, и он рассказал им всю правду.
Все слушали, раскрыв рот от удивления. В комнату вбежала собака, но и та сразу присмирела.
Самая младшая из сестер, Акулина, слушала Иштвана, облокотившись на колени Имре.
Все услышанное было похоже на страшную сказку. А когда Иштван рассказал об избушке отшельника, все так и замерли от удивления… Даже им, живущим посреди леса, никогда не приходилось видеть ничего похожего.
— Я слышала об этом отшельнике, — перебила Анна Иштвана. — Люди говорили, что в лесу жил святой… Зверей он кормил прямо из рук. Его даже волки не трогали. И не умер он вовсе, просто Илья пророк забрал его с собой в рай на огненной колеснице…
Елену особенно заинтересовала встреча Имре с волком, у которого он отнял зайца.
— И волк не бросился на вас? — спросила она с дрожью в голосе.
— Он, может, и прыгнул бы, но у меня в руках топор был…
— А зайца вы съели?
— Конечно.
— У него же мясо как у кошки! Послушай, Анна, принеси-ка чего-нибудь поесть людям, а то они все рассказывают да рассказывают, — обратилась Елена к дочери.
Через несколько минут стол был накрыт. Подали щи и тушеное мясо с картофелем.
Елена с удовольствием наблюдала за тем, с каким аппетитом ели их нежданные гости.
«Пусть едят, бедняги, — думала она. — Мясо у нас есть. Всем хватит!»
— Значит, говорите, мадьяры вы? — спросил Максим, когда гости насытились.
— Точно, мадьяры, — ответил Керечен.
— Родители-то ваши живы?
— Живы.
— А вы женаты?
— Нет.
— На родину хотите вернуться?
— Хорошо бы.
— До Австрии отсюда далековато.
— Мы из Венгрии, а не из Австрии.
— Это все одно.
Иштван долго объяснял Зайцеву, что венгры и австрийцы — разные народы.
— Мадьяры вы или австрийцы — все равно вам сейчас до дому не добраться. Сказывают, будто у вас сейчас там белые у власти?
— Мы знаем. Нас здесь тоже белые в плену держали.
Зайцев, пожав плечами, сказал:
— Я лично не признаю ни белых, ни красных. Мужики говорят, будто белые состоят в господской партии, а красные якобы бедноту поддерживают, так, что ли?
— Так.
— Вы тоже красный?
— Тоже.
— И вы не боитесь, что вас будут преследовать?
— Нет. Теперь уже нет, — спокойно ответил Иштван. — На пароходе думают, будто мы умерли, а здесь, кроме вас, нас ни одна живая душа не знает.
— Это верно, — согласился Зайцев. — А теперь вы куда путь держите?
Оба венгра переглянулись, не зная, что ответить на этот искренний вопрос. Куда они путь держат? Они бы и сами это хотели знать. У них было два выхода: первый — добраться до ближайшего города, где есть лагерь для военнопленных, и явиться туда, придумав какую-нибудь легенду относительно своего исчезновения, а второй — прибиться к какому-нибудь помещику да наняться к нему в батраки. О том, куда им идти, они не имеют ни малейшего представления.
Иштван откровенно поделился с Зайцевым своими мыслями.
— В городе пленные есть, но до города от нас далеко. Пешком недели две шагать надо. А чем жить будете в дороге?
Елена всплеснула руками:
— Глупости ты говоришь, Максим!.. Нешто тебе сердце позволит отпустить этих несчастных? Не побираться же им по дороге! Не то сейчас время, чтобы честному человеку в путь пускаться. Повсюду солдаты, казаки, урядники и жандармы! Боже упаси встретиться с ними! Вон белые схватили сына Корчугина и увезли с собой в город. Раздели там бедолагу, говорят, а потом избили. Бедняга уже помер. По-моему, пусть они пока у нас останутся… Работы у нас много… А вы как думаете, дочки?
— Конечно, пусть остаются у нас! — почти хором ответили три девичьих голоса.
Зайцев широко улыбнулся:
— А я разве против? Коли вы так хотите, пусть остаются. Продукты у нас есть. Где им спать — найдем. Только денег я им платить не могу: нет у меня денег.
— Ну и слава богу! А сейчас пусть они в баньке попарятся. Настенька, затопи-ка баньку!
— Мы уже вымылись, — ответила девушка. — А горячей воды полно. Я побегу подброшу дровишек, чтобы баню не остудить.
— Девчата, приготовьте полотенца, теплые носки, белье! — распорядилась Елена и, повернувшись к гостям, извиняющимся тоном добавила: — У нас есть только домотканое белье, вы уж не обессудьте…
Спустя полчаса Имре хлестал березовым веником по худым плечам Иштвана, с которого градом катился пот.
Какое наслаждение смыть с себя грязь! Венгры так увлеклись мытьем, что не смутились даже, когда в баньку зашла Анна и принесла им мыло. Они и до этого знали, что у северян свои обычаи и что в таких случаях у них не стесняются.
Друзья как следует намылились с ног до головы, а затем ополоснулись горячей водой. И почувствовали себя так, будто к ним вернулась прежняя сила.
Вымывшись, Тамаш с удовольствием растянулся на верхней полке, а Керечен плеснул воды на раскаленную каменку, от которой к потолку сразу поднялось облако горячего пара…
Настя продемонстрировала свое искусство брадобрея и постригла обоих венгров, а их усики аккуратно подровняла.
Дочери хозяина принесли им кое-что из одежды. Вместо гимнастерок гости надели длинные домотканые рубахи, вместо военных фуражек — картузы, и уже никто не смог бы опознать в беглецах бывших красноармейцев.
Хозяйка не ошиблась, говоря, что работа для венгров у них найдется. Как раз нужно было окучивать картошку да заготавливать сено на зиму. Иштван и Имре хорошо знали сельскую работу. Правда, в первые дни им приходилось трудно, но постепенно они втянулись в работу. На хороших харчах они быстро окрепли и поправились.
До полуночи косили и стоговали сено. Ночи были еще светлыми, и спать совсем не хотелось. Венгры обычно отсыпались после обеда, когда вовсю жарило солнце и работать было прямо-таки невозможно. Вечером друзья пили горячий чай из самовара, подливая в чашки свежих сливок.
Однажды в полночь, когда все давно уже спали, Иштван вышел во двор и остановился у копны сена. В голову невольно лезли разные мысли. Вспомнился пароход «Чайка», бедняга Лаци Тимар, которого белогвардейцы сбросили в Каму. А там и пошло, и пошло… Воображение унесло Иштвана на родину, в родительский дом. Ему казалось, будто стоит он перед крестьянским домом с соломенной крышей, стены которого побелены известкой, а выложенные белым песчаником окна приветливо смотрят на улицу.
Вот мать пошла за водой во двор к соседям, у которых колодец поглубже и вода вкуснее. На матери, по тогдашней крестьянской моде, надето несколько пышных юбок, которые стоят колоколом. На ней широкий синий фартук, голова повязана красным платком в белый горошек. На террасе в кадках растут два олеандра, по стене вьется плющ, а в маленьких горшках, висящих на стене, синеют ночные фиалки, от запаха которых, если растворить окно, голова кругом пойдет.
А вот и отец, молчаливый сутулый старик, но еще довольно крепкий. Помахивая тяпкой, он что-то пропалывает в огороде. Может, именно в этот момент он вспоминает сына, от которого уже больше года нет никаких известий… Да и из дому письма тоже редко приходят. Пленных разогнали по разным работам, а открытки, которые им присылают из дома, ленивые почтари, чтобы не затруднять себя дальнейшей пересылкой, попросту сжигают, да и только… Денежные переводы не доходят, а посылки просто-напросто крадут. Кто это делает — то ли русские почтовые чиновники, то ли писари из пленных, — невозможно узнать.
Какие только мысли не лезли в голову Иштвану в ту ночь!
Вдруг он почувствовал, как чья-то рука легла на его плечо.
Он оглянулся и увидел перед собой Анну.
— Ты почему не спишь? — удивленно спросил Иштван девушку.
— Не спится что-то. А ты сам почему не спишь?
— Вот стою и думаю.
— О чем?
— О разном. Сейчас вот о родителях думал.
— Домой захотелось?
— Очень.
Анна сняла руку с плеча Иштвана и несколько секунд неподвижно стояла перед ним, опустив глаза. И вдруг резким движением прижалась к его груди.
— Ты что? У тебя разве нет жениха? — удивился он. Анна вздрогнула, будто пробудилась от сна, и, подняв большие голубые глаза на Иштвана, проговорила:
— Есть у меня жених.
— Любишь его?
— Не знаю. Может, и люблю. — Она помолчала немного, а потом тихо, словно для себя одной, продолжала: — Село наше маленькое. Меня мои родители за соседского сына, Петрушкина, просватали. Парень он хороший. Сейчас в солдатах служит. Нужно ждать, пока вернется домой.
— А он об этом знает?
— Знает. Я от него и письма получала… Только он не такой, как ты…
— А какой же?
— Как тебе объяснить… Гриша — парень трудолюбивый, веселый. Любит на гармошке поиграть, попеть, поплясать. Он всегда веселый. Бородка у него есть, маленькая, черная, но я бы ее отрезала. Он очень хороший. Как все наши парни… Подходящий для меня…
Иштван погладил маленькую твердую руку девушки.
— Вот увидишь, ты будешь с ним счастлива.
— Ты так думаешь? — спросила Анна и печально улыбнулась.
— Я в этом уверен… Ты здесь живешь свободно, как птица… Если что, найдется тебе и другой хороший жених, не чета мне… Зачем я тебе? Иностранец… Чужой…
— Ты для меня не чужой. Ты мне с первого раза понравился…
— Может, ты меня, Анна, и полюбить сможешь, а?
Девушка низко опустила голову, лицо ее зарделось.
— Знаю, — чуть слышно прошептала она, — ты оставишь меня, уедешь и никогда больше сюда не вернешься. Дома ты получше найдешь… Правда, я умею ездить верхом на лошади, могу валить лес, колоть дрова, пахать умею, косить, обед готовить, шить, вязать, сбивать масло, делать творог, сыр… Из отцовского ружья могу одним выстрелом уложить оленя, медведя и даже волка. Умею выделывать лисьи шкуры. Того медведя, на шкуре которого сплю, я сама убила… Все это я могу, но зато я не умею складно говорить, не умею танцевать. Не умею красиво одеваться, как у вас в городах… Ваши девушки, наверно, такие нарядные ходят!..
Иштван и сам не знал почему, но вдруг обнял девушку за талию и поцеловал в губы. Поцелуй был тихим и нежным. От губ ее пахло земляникой.
Анна смотрела на него, полуприкрыв глаза черными длинными ресницами. Иштван прижал к себе девушку. Аромат ее волос взбудоражил в нем кровь. Лицо его залил румянец.
Анна еще раз прижалась к его груди, еще раз подставила губы для поцелуя. В глазах у нее заблестели слезы. И вдруг, побледнев, она вырвалась из объятий Иштвана и побежала в дом, шепнув на ходу:
— Спасибо.
Иштван, не двигаясь с места, смотрел вслед девушке.
И СНОВА В ПЛЕНУ
Однажды у ворот дома Зайцева остановился какой-то странный человек. Глядя на него, трудно было определить, сколько ему лет. Да он и сам не знал этого. Желтоватое лицо прохожего, сплошь испещренное глубокими морщинами, узкий разрез глаз, на удивление редкие усы и жидкая бороденка красноречиво свидетельствовали о его принадлежности к желтой расе. Ему было известно, что родила его китаянка и давным-давно, когда он был совсем маленьким, привезла в эти края. Китаянка устроилась прислугой в семью одного многодетного казака, но вскоре умерла от какой-то болезни. Мальчик остался круглым сиротой. Все звали его Сашей. По словам китаянки, его отца звали дядюшкой Хо, и вскоре мальчишку окрестили Александром Ховичем.
Маленький Саша прекрасно научился говорить по-русски и окончательно забыл все китайские слова, которые знал в детстве. Единственное, что ему никак не удавалось, — это выговаривать чисто звук «р».
Все вокруг любили мальчика. Когда же он вырос и унаследовал от своих приемных родителей земельный участок в десять десятин, все в округе иначе и не называли его, как Холосо. С тех пор его сначала величали Сашей Холосо, а когда он состарился — дядюшкой Холосо.
Настя и Акулина радостно встретили доброго старика, который к тому же принес им в подарок двух здоровенных гусынь, сказав при этом, что если подыскать им хорошего гусака, то можно развести целое гусиное стадо.
Маленькая Акулина обхватила ручонками дядюшку Холосо за шею, а затем начала теребить его бороденку.
Старик был несказанно счастлив. Он гладил девочку по волосам, называл ее разными ласковыми именами, а затем дал кулек с конфетами, которые были у деревенских детишек любимым лакомством.
Дядюшка Холосо познакомился с Кереченом и Тамашем, и они очень понравились ему. Старик начал упрашивать Иштвана как-нибудь прийти к нему помочь. Зайцев тоже стал уговаривать Иштвана сделать это.
Село хотя и было небольшим по числу жителей, но занимало большую площадь. Изба и огород дядюшки Холосо находились на противоположном конце села.
Часа в четыре после полудня телега, в которую была запряжена старенькая лошадь, остановилась на развилке полевых дорог. Избы здесь располагались на большом расстоянии одна от другой.
— Подождать нужно, — заметил дядюшка Холосо Иштвану.
— А чего ждать?
— А посмотли туда, — не выговаривая «р», произнес старик. — Солдаты идут к югу.
— Чьи солдаты?
— Белые. И много…
— Отступают они, что ли?
Дядюшка Холосо ничего не ответил Иштвану: он внимательно следил за солдатами. В первых рядах ехали конники, судя по одежде — казаки. Их было не меньше сотни. Большинство из них были с бородами. Чубы лихо выбивались у них из-под фуражек. Несмотря на длинные пики, которыми были вооружены казаки, вид у них был не столько воинственный, сколько живописный. Такими казаков и на картинках рисуют. Ехали они вразвалку, не соблюдая равнения, да и вообще, видать, не очень-то заботились о том, как они выглядят со стороны.
Лошади разных мастей лениво переступали ногами по пыльной дороге.
Вслед за казаками шли пехотинцы, построенные повзводно. Их серое обмундирование почти сливалось с местностью и выделялось лишь на фоне дальнего зеленого леса. Пехотинцев тоже было не меньше сотни.
Затем сильные лошади тащили четыре пушки. За ними следовали зарядные ящики, несколько обозных телег и полевых кухонь. Замыкал колонну рессорный экипаж, запряженный парой лошадей. На облучке восседал бородатый кучер в кафтане и высоком цилиндре. Таких извозчиков можно было увидеть и в Москве, и в Киеве, и в Петербурге. На заднем мягком сиденье, важно развалясь, ехал офицер, на золотых погонах которого поблескивали четыре звездочки. Это был капитан.
Небрежный взгляд офицера скользнул по фигуре старика и замер на Керечене. Немного подумав, капитан приказал кучеру остановиться.
— Эй, мужик, подойди-ка ко мне! — крикнул офицер Керечену.
Дядюшка Холосо, переглянувшись с Иштваном, недоуменно пожал плечами и не спеша начал слезать с телеги.
— Да не ты, старый идиот, а другой! — раздраженно крикнул капитан.
— Я? — удивленно спросил Керечен.
— Да, ты! Да поворачивайся поживее! — И офицер смачно выругался.
Иштвану ничего не оставалось, как подчиниться.
— Сколько тебе лет? — Офицер смерил его злым взглядом.
— Двадцать восемь.
— А почему ты не в армии?
В голове Иштвана промелькнула мысль о том, что сейчас офицер-золотопогонник может приказать забрать его в колчаковскую армию… Ему дадут в руки винтовку и, хочет он или не хочет, его заставят воевать против своих братьев, против большевиков… Может, ему даже придется умереть за интересы тех, кого он всей душой ненавидит… Иштван чувствовал, как у него нервно задергалась щека.
— Почему не отвечаешь, болван?! Пойдешь с нами!
— Но, видите ли…
— Что ты там лопочешь?! — Капитан угрожающе щелкнул плеткой.
— Я не русский… — с трудом выдавил из себя Иштван.
— А кто же ты такой? Татарин?
— Я мадьяр. Пленный…
— А где научился так хорошо говорить по-русски? — Капитан разозлился еще больше.
— В плену я жил среди русских.
— Не верю! Врешь ты, сволочь! А ну-ка, покажи свои документы!
Кровь отлила от лица Иштвана. Что он мог показать офицеру? В голове кружились черт знает какие мысли. Иштван облизал языком пересохшие губы. Он хотел было сказать, что никаких документов у него нет, но, увидев, как рука капитана скользнула к кобуре, передумал и решил показать ему солдатскую книжку Йожефа Ковача (капитан все равно ни черта не понимает по-венгерски!). Кто здесь может знать, что Иштван Керечен — красноармеец, когда официально он наверняка уже числится погибшим?..
Достав из кармана личный знак Йожефа, Иштван протянул его офицеру.
— Вот тут по-венгерски и по-немецки написано, что я Йожеф Ковач, подпоручик… — уже спокойно начал он объяснять капитану.
Офицер внимательно осмотрел жетон и, вернув его венгру, спросил, сверля Иштвана взглядом:
— Вы действительно офицер?
— Так точно!
— И работаете у этого мужика?
— Да-да, он у меня лаботает, — поспешно подтвердил дядюшка Холосо.
— С какого времени?
— С пятнадцатого года, как попал в плен.
— Не может быть, — буркнул себе в бороду капитан.
— Это не от меня зависело.
— А вам известно, что пленные офицеры содержатся у нас в особых лагерях?
— Известно.
— Во всяком случае, у нас, а не у красных. Те офицерских рангов не признают. Варвары! А почему вы не заявили, чтобы вас отправили в офицерский лагерь?
Керечен понимал, что сейчас его может выручить только ложь, и потому, не моргнув глазом, сказал:
— Я неоднократно просил местного старосту отправить меня в лагерь, но он этого не делал: ему очень нужны рабочие руки.
— Понятно… Но ведь казна должна выплачивать вам солидные деньги, как офицеру.
— Знаю, но меня деньги не интересуют…
— Знаете что? — Капитан немного помедлил. — А я, пожалуй, заберу вас с собой. По крайней мере, будет с кем поболтать в дороге. Вам здесь больше оставаться нельзя, так как через несколько дней здесь будут красные. Мы временно оставляем этот район… Садитесь в мой экипаж! Поедете со мной!
От услышанного у Иштвана даже голова закружилась. По виду офицера Иштван понял, что тот не привык выслушивать никакие возражения.
«Какая глупая случайность! И нужно же было мне попасться на глаза этому офицеру! — подумал Иштван. — И как раз тогда, когда полуразбитая часть белых отступает к югу, стараясь поскорее добраться до ближайшей железнодорожной станции! Казалось, все опасности уже позади, и мы только ждали прихода Красной Армии, чтобы снова взяться за оружие… А что, если заявить, что никуда я с ним не поеду? Пожалуй, еще примет за красного и пустит пулю в лоб. Или прикажет вздернуть на первом же дереве… Ему это ничего не стоит! Ведь отвечать за меня ему не придется… Бежать нет смысла. Ну, Пишта Керечен, вот и снова ты превратился в побитого пса… Не лучше ли было сразу умереть?.. Какая глупость!.. Но, может, удастся бежать…»
Иштван посмотрел на дядюшку Холосо, словно ожидая от него совета или помощи, однако весь вид старика красноречиво говорил о том, что он находится в отчаянии.
Керечен взглядом дал понять старику, чтобы он вернулся к Зайцеву и рассказал обо всем случившемся.
— Господин капитан, видите ли… — робко начал было Иштван.
И вмиг лицо капитана приняло строгое выражение:
— Никаких отговорок! Быстро садитесь в экипаж!..
Капитан не выговаривал, а, казалось, выстреливал слова.
«Вот напасть! — подумал Иштван. — Проститься с хлебосольными хозяевами и то не удалось. Не говоря уж о друге детства…»
— Господин капитан, мне бы хотелось остаться здесь, — проговорил Иштван, низко опустив голову.
— Это еще почему? — спросил капитан и, как показалось Иштвану, стал очень похож на царя Николая Второго.
— Потому что… Здесь я ближе к родине, чем…
— Глупости! — сердито перебил его офицер. — Из Сибири через Владивосток вы скорее попадете на родину, чем отсюда. Садитесь быстрее! У меня нет времени ждать!
Колонна солдат тем временем ушла далеко вперед. Сообразив, что ему никак не отвертеться от капитана, Иштван обнял дядюшку Холосо и сказал:
— Передай моим друзьям, что я не по своей воле покинул их. Пусть они не обижаются на меня.
По пергаментным щекам старика покатились слезы. Он вытер их рукой и срывающимся от волнения голосом произнес:
— Все пеледам, сынок, все…
Старик долго стоял на дороге и махал вслед удаляющемуся экипажу. Когда же коляска скрылась из виду, он повернул обратно и поехал к Зайцеву.
Керечен же, выдавший себя за Йожефа Ковача, молча сидел рядом с капитаном. Такой крутой поворот в его жизни буквально лишил его дара речи. Ему даже казалось, будто все это происходит с ним во сне и стоит только проснуться, как он снова окажется в доме Зайцева, где ему известен каждый закуток, и снова пойдет кормить хозяйскую лошадку по прозвищу Муха хлебом, густо посыпанным солью. Муха так привыкла к Иштвану и полюбила его, что уже издали узнает его шаги. Почуяв его приближение, Муха начинает радостно ржать, будто хочет сказать: «Ну, иди же быстрее, дружище!» Обе хозяйские коровы тоже всегда дружелюбно смотрели на него. И овцы, и козы, и поросята — все привыкли к нему. А о собаке и говорить нечего! Если бы пес сейчас оказался здесь, то по одному знаку Иштвана бросился бы на капитана и вцепился ему в горло! Собака спасла бы его. А сейчас она, возможно, печально завывает, глядя на ворота…
«Эх, если б можно было вернуться назад!»
Иштван подумал об Анне, вспомнил ночную встречу, ее теплые ласковые губы. Они никогда потом не вспоминали об этом, не обмолвились ни словом, будто сговорились.
«Теперь и это нужно вырвать из памяти, — подумал Иштван. — Как жестока жизнь! Человек думает о доме, о женской ласке, о любви, а тут — на тебе… Какая жизнь может быть у пленного? За долгие годы плена единственный раз поцеловал девушку, и вот… Анна так тянулась ко мне…»
Человека, как щепку, бросает по бурному житейскому морю, и бывает, из-за какой-нибудь глупой случайности он погибает… А сколько таких случайностей! Целая вереница… Если б в него попала пуля, лежали б его кости где-нибудь в Галиции… Если б Ковача не убили и его жетон не попал Иштвану в руки, этот колчаковский офицер вытянул бы его разок-другой плетью да и отпустил на все четыре стороны… Если б в Соликамске он не встретился с товарищем Самуэли, то, возможно, никогда бы и не вступил в Красную гвардию… Если б на «Чайке» не оказалось доброго, сердобольного солдата, который согласился живыми сбросить их в Каму, унтер Драгунов забил бы их до смерти… А если б дядюшка Холосо не пригласил его к себе, то он сейчас сидел бы во дворе зайцевского дома за столом под развесистой березой да попивал бы чаек из самовара…
А может, лучше было бы остаться в лагере для военнопленных? Стоило ли снова браться за оружие и рисковать жизнью? Конечно, стоило! Если ему повезет и он останется в живых, то его дети и внуки будут жить новой, свободной жизнью…
Иштвану хотелось, чтобы капитан остановил экипаж и выбросил бы его вон… Тогда он вернется к Зайцеву. Только не заблудиться бы… Что же будет дальше?.. Да и попадет ли он в офицерский лагерь?.. Если попадет, то найдется ли там уголок, где можно читать книги? Как хорошо почитать книгу или поговорить с умным, интеллигентным человеком!..
— Кто вы по профессии? — услышал Иштван голос капитана, который прервал ход его мыслей.
— Что вы сказали? — испуганно спросил Иштван.
— Я спрашиваю: кто вы по профессии? Почему вы меня не слушаете?
— Я адвокат.
Брови капитана удивленно поползли вверх. «Адвокат? В простой мужицкой одежде? Руки в мозолях, под ногтями грязь, лицо огрубевшее, усы подстрижены кое-как. Одним словом, мужик, да и только!»
— Адвокат?.. Гм… Интересно. Я, между прочим, тоже адвокат. — Офицер вытащил из кармана неочиненный карандаш и, протянув венгру, попросил: — Будьте добры, зачините мне карандаш!
— Извините, но у меня нет перочинного ножа! — не без удивления заметил Иштван.
— Пожалуйста. — Офицер протянул ему ножичек с перламутровой ручкой.
Керечен понял замысел капитана. «Он хочет проверить меня, узнать, не вру ли я ему. Крестьянин своими загрубевшими руками не сможет тонко зачинить карандаш. От кого-то я слышал, как на курсах чертежников преподаватель «завалил» на экзаменах одного слушателя только за то, что тот не сумел тонко зачинить карандаш. Осторожно! Нужно перехитрить этого мерзавца!..» — подумал Иштван и, приложив все свое старание, безукоризненно заточил карандаш.
— Благодарю. — Офицер достал из кармана маленькую записную книжечку. — Как вас зовут?
— Йожеф Ковач… А если на русский манер, то Иосиф Павлович Ковач.
— По национальности — австриец… Ну, пусть венгр… Профессия — адвокат.
— Только я еще не занимался практикой.
— Ничего. Важно, что вы интеллигентный человек. Меня же зовут Михаил Лазаревич Бондаренко. В каком лагере вы находились в последний раз?
— В Соликамском лагере для рядового состава. Во всем эшелоне я был единственным офицером, и начальство, по-видимому, не захотело возиться со мной отдельно… Вот меня и оставили в том лагере.
— Странно, — пробормотал себе под нос Бондаренко. — Однако сейчас в России и такое возможно… Из вас там, случайно, большевика не сделали?
Вопрос был таким неожиданным, что Иштван растерялся и ничего не ответил.
— Знаете, большевистская зараза распространяется и в лагерях для военнопленных. Особенно в этих местах. Красные агитаторы свободно разъезжают по всей округе. Эту заразу нужно было бы задушить в самом зародыше, но мы, русские, слишком мягкосердечны. Если б в каждом лагере повесили в назидание другим по нескольку красных агитаторов, тогда остальные подумали бы, стоит ли им мутить пленных… Скажите, вы случайно не знали лично Бела Куна, который возглавил у вас революцию?
— Я никого не знал, — ответил Керечен. — Я работал у простых крестьян.
— Да-да, конечно… Вы, разумеется, ничего не могли знать… Скажите, а какое настроение у крестьян в этих краях?
— Это спокойные люди, господин капитан. Любят работать, ездить на базар, есть, пить, веселиться. Пьют домашнюю бражку, едят маринованные грибы, квашеную капусту, ржаной хлеб и кашу с маслом. Они не имеют понятия о политике.
— Это хорошо. Политика не для мужиков. Я люблю работящих мужиков и законность. Законы, как вы знаете, отражают традиционную мудрость. Мы, русские, по-русски говорим, по-русски думаем и без Святой Руси вообще пропали бы. Русская речь — самая музыкальная речь во всем мире! Русская песня — душа народа. Она льется так же свободно, как текут наши великие реки — такие, как Волга, Иртыш, Амур, Енисей… Вы уже видели Енисей?
— Нет еще.
— Увидите. Мы сейчас туда едем, в Красноярск. Знаете, где находится этот город?
— Знаю. В центре Сибири, повыше Китая.
— Правильно. Вы, я вижу, грамотный человек, а не какой-нибудь аферист. Мне как раз туда и надо, так у меня и в документах обозначено. Нам до Челябинска трудновато придется, а дальше уже будет легче. Я постараюсь достать для вас приличное платье, подстрижетесь и вообще приведете себя в полный порядок.
— Благодарю вас. Вы меня до самого Красноярска с собой повезете?
— Да, конечно. Через две недели мы будем на месте. В Красноярске размещается огромный лагерь для пленных… офицеров и рядовых… Вы играете в шахматы?
— Играю.
— Да вы, как я посмотрю, замечательный человек! Не хотите ли сыграть партию-другую?
— Охотно.
Капитан Бондаренко достал из дорожного саквояжа красивые шахматы.
Через минуту оба увлеклись игрой. Капитан оказался мастером хитроумных комбинаций. Керечен тоже играл неплохо. Вскоре Иштван нащупал слабые места у Бондаренко: порой капитан делал чересчур рискованные ходы и был несколько забывчив.
Первую партию выиграл капитан. Лицо его расплылось в довольной улыбке.
Во второй партии Керечен поставил Бондаренко превосходный мат и после этого прочно захватил инициативу, хотя иногда все же позволял капитану отыгрываться или же сводил игру к ничьей.
Бондаренко весь ушел в игру и курил сигарету за сигаретой. Разыгрывая очередную партию, капитан сумел поставить своего противника в трудное положение. Неизвестно, как закончилась бы эта партия, если б неожиданно не раздался сильный взрыв. Колонна тотчас же остановилась, а Бондаренко, побледнев как полотно, выскочил из коляски.
— Что случилось? — прохрипел он, обращаясь к подбежавшему к нему запыхавшемуся солдату.
— Дорога заминирована, господин капитан… Убиты две лошади… и два казака.
Несколько мгновений капитан с ненавистью смотрел на солдата, а затем вдруг поднял плеть и с размаху несколько раз ударил ею солдата по лицу.
Солдат схватился за лицо, по которому потекла кровь.
— Ах ты, грязная тварь! Ты что, не знаешь, как нужно докладывать офицеру?! Так я тебя научу! Встать по стойке «смирно»!
Солдат застыл на месте.
— Убитых закопать! В голову колонны на дистанцию сто метров выслать парный конный дозор… Через полчаса продолжать движение! Кругом марш! Выполнять!
Капитан даже не захотел взглянуть на убитых казаков. С видом человека, который добросовестно выполнил то, что от него требовалось, он сел в экипаж и улыбнулся:
— Видите ли, как вас… господин Ковач, вернее, подпоручик Ковач. В подобной ситуации человек закаляется. Красные партизаны, как вы сами имели возможность убедиться, не спят. Но мы им отплатим за все… Если не возражаете, продолжим партию…
Иштван наблюдал эту сцену с возмущением. Его так и подмывало вырвать у капитана плеть и отхлестать его по лицу. Русский капитан Бондаренко ничем не отличался от офицера венгерской императорской армии, который подобным же образом «воспитывал» когда-то и его. Видать, они везде одинаковы, эти офицеры! И в армии императора Вильгельма, и в армии Франца-Иосифа… Те же лаковые сапоги, отутюженная форма, выхоленное лицо… Короче говоря, по внешнему виду — вполне культурные люди, а на самом деле — варвары, каких и в черную пору средневековья пришлось бы поискать.
Иштван понял, что ему нужно быть теперь особенно осторожным. Потеряв душевное равновесие, Керечен проиграл шахматную партию.
Солнце медленно клонилось к горизонту. Вскоре экипаж приехал в Кунгур.
ТАМАШ БЕРЕТСЯ ЗА ОРУЖИЕ
В большом селе шла ярмарка. Чего здесь только не было! Всевозможная посуда, столовые приборы, сладости, обувь, платки, сукно, мясные продукты… Чего душа пожелает! Тут же торговали и мехами.
Ярмарка гудела, как растревоженный улей. Кто играл на гармони, кто пел, а кто и орал во все горло. Нищие просили милостыню. Ржали привязанные к повозкам лошади, блеяли овцы, мычали коровы. Короче говоря, стоял неимоверный рев и гвалт…
И вдруг он, словно по команде, стих.
— Что это? — Зайцев испуганно уставился на Тамаша.
— Стреляют!
— Кто стреляет?
— Этого я не знаю.
Над головами людей засвистели пули. Обезумевшие от страха животные рвались с привязи. Одна из лошадей, оборвав поводья, ринулась в толпу. Люди бросились от нее врассыпную.
Многие побежали к ближайшим домам, чтобы укрыться от обстрела. Товары остались лежать на прилавках без всякого надзора.
Зайцев и Тамаш никуда не побежали.
— Ложись! — крикнул Имре хозяину и бросился на землю. — Не вздумай вставать, а то сразу пристрелят!
Человек двадцать колчаковских солдат во главе с офицером, рассредоточившись, шли по площади. Вдруг с противоположной стороны площади затараторил пулемет. Колчаковцы мигом бросились на землю и поползли назад. Двое из них остались неподвижно лежать на площади.
Схватив Тамаша за руку, Зайцев потащил его к телегам, которые стояли рядком неподалеку.
— Уйдем отсюда, пока не поздно! — шепнул хозяин. — Доползем до подвод, а там побежим до первых домов!..
Тамаша тем временем раздирали сомнения. Всего в нескольких метрах от него лежал убитый колчаковец, а возле него валялась винтовка. Тамаша так и подмывало схватить ее, и для этого стоило только сделать два шага…
«Брать или не брать?.. Значит, бросить Зайцева? Прощай, спокойная, сытная жизнь… Но тогда я окажусь свиньей по отношению к Зайцеву, который, собственно, спас мне жизнь… Я возьму винтовку, а что тогда? А вдруг красные примут меня за колчаковского солдата, который только что стрелял в них?.. Риск большой. Не пришлось бы расплачиваться за это… Во время перестрелки не очень-то разберешь, где свои, а где противник… А зачем мне, собственно, эта винтовка? Я уже навоевался, теперь пусть другие воюют… Останусь у Зайцева, доживу до тех пор, когда кончится гражданская война, а тогда можно и на родину податься или здесь остаться, если захочу… Настенька через два года будет совсем взрослой, можно и посвататься. Плодородная земля, красивая жена… Что еще крестьянину надо?»
Тамаш так углубился в свои мысли, что сразу даже не заметил, куда делись колчаковцы.
А они и не собирались никуда уходить. Укрывшись за мешками с мукой, пшеном и солью, они готовы были в любой момент открыть огонь.
— Осторожно, — шепнул Зайцев Тамашу, — они ведь сейчас стрелять начнут…
И действительно, тут же началась стрельба. На противоположной стороне площади показались красные в буденовках, вооруженные винтовками с трехгранными штыками.
— Быстрее! — шепнул Зайцев Тамашу.
Оба поползли быстрее. В этот момент грянул выстрел, и с головы Тамаша слетел картуз.
— Черт возьми! — выругался он вслух, а про себя подумал: «На сантиметр бы правее — и все!»
Имре увидел прямо перед собой нахально улыбающуюся физиономию колчаковца, который стрелял в него, но не попал.
Кровь бросилась в лицо Имре. Он схватил винтовку убитого колчаковца, отполз в сторону, за мешки с капустой, и выстрелил. И не промахнулся: солдат уткнулся лицом в мешок, выпустив из рук оружие.
Красноармейцы с громким «ура!» бросились в атаку. Белые не выдержали и пустились бежать, не обращая ни малейшего внимания на офицера, который материл их и приказывал открыть огонь.
Зайцев добежал до подвод и скрылся за ними, а Тамаш продолжал лежать в своем укрытии.
Дальше события развивались удивительно быстро. Мимо Тамаша пробежало десятка два красноармейцев.
— Мать вашу так!.. — на чистейшем венгерском языке выругался один из них, держа винтовку в правой руке и потрясая кулаком левой.
Ругательство, произнесенное на венгерском языке, для Имре прозвучало как самое лучшее приветствие.
В этот момент по соседству с ним залегло человек десять красных… Здоровые парни с заросшими щетиной лицами.
Имре оказался метрах в двух от одного здоровенного детины.
— Сервус, земляк! Я тоже венгр! — крикнул он красноармейцу.
— Чего тебе тут надо? А ну, мотай отсюда! — сердито бросил ему тот.
Тамаш приподнял над головой свой картуз и, показав дырку от пули, сказал:
— А это видишь?.. Это мне сейчас беляки продырявили… Я ведь тоже красноармейцем был, дружище…
— Ну, тогда другое дело, — смягчился здоровяк.
— Слушай-ка, друг, — сказал Имре. — Беляков нужно обойти… Я знаю, как это лучше сделать.
— Как?
— Между домов выбежать на большак и залечь там. Четверо солдат без труда одолеют всю эту братию.
— Пошли! — согласился здоровяк. — Показывай дорогу!
— За мной, ребята! — крикнул Имре, вскакивая на ноги.
— Пошел ты к черту! — сердито крикнул один из венгров. — Кто ты такой?
— Не хотите — как хотите! Я и один пойду!
Трое венгров добровольно вызвались пойти за Имре, хотя ни один из них не имел ни малейшего представления, кто этот черноволосый венгр. Они просто инстинктивно почувствовали, что он свой. Вот только одет как-то странно: синие холщовые штаны, русская вышитая косоворотка, старый картуз, на ногах — крестьянские сапоги. Волосы подстрижены «под горшок», как обычно стригутся русские мужики.
Имре хорошо знал дорогу. За несколько минут они добежали до большака, сразу же залегли на обочине.
— Приготовиться! Сейчас беляки сами на нас выйдут… Офицера я беру на себя!.. Стрелять по моей команде!.. Огонь!
Одновременно грянули три выстрела. Три колчаковца упали на землю и не встали… Остальные растерянно остановились и, словно по команде, подняли руки вверх.
Тем временем подоспели остальные красноармейцы и разоружили беляков.
Тамаш, встав с земли, направился к убитым колчаковцам. Он подошел к офицеру и остановился перед ним. Офицер был молод. В его широко открытых глазах застыл ужас. Он лежал на земле, поджав под себя правую ногу. Возле него валялась кривая сабля, а чуть поодаль — револьвер, выпавший из руки. Пуля Имре попала офицеру прямо в лоб…
Имре смотрел на офицера и думал: «Кто он, этот молодой красивый офицер?»
Однако долго раздумывать не приходилось: нужно было идти дальше и прежде всего увести пленных колчаковцев. Построив пленных, красноармейцы тронулись в путь. Замыкал шествие Тамаш. Вскоре к нему пристроился знакомый здоровяк.
— Кто ты такой? — спросил он Имре.
— Красноармеец. Зовут меня Имре Тамаш. А тебя?
— Мишка Балаж… Я из томского лагеря…
Они пожали друг другу руки.
— Сколько вас в отряде? — поинтересовался Имре.
— Сотни две… Вот перемолотили отряд белых.
— Вижу.
— А ты-то как сюда попал?
Имре коротко рассказал свою историю. Тем временем они подошли к зданию управы. Это был единственный в селе двухэтажный дом. Он стоял напротив церкви. На первом этаже посреди большой комнаты потолок поддерживали две металлические колонны. У задней стены находилась выложенная изразцом печка.
У одной из колонн сидел на корточках худой желтолицый слепой старик с редкой седой бородой. Это был единственный нищий в селе. Все звали его дядей Гришей. Зрение он потерял во время русско-японской войны, и ему никто не мешал побираться. Дядю Гришу очень часто можно было найти именно здесь, так как другого места для жилья у него не имелось.
Старика знали в селе все — и стар и млад. Он тоже знал всех и все, так как, сидя в этой комнатке, каких только разговоров не слышал.
Раз в неделю в село привозили почту из волости. Почтальона не было, и потому каждый, кто ждал письма, сам заходил в здание управы.
Нищий дядя Гриша безошибочно знал, кому откуда пришло письмо. Односельчан он узнавал по походке, по голосу и даже по запаху, который от них исходил.
— Любочка, тебе письмо от мужа с фронта! — говорил он молодой солдатке.
— А вам, батюшка, сын пишет из Перми! — сообщал старик сельскому священнику.
В здании управы Тамаша поджидал Зайцев. Они обнялись.
— Хорошо, что ты пришел. Сейчас поедем домой. Я купил пуд соли и десять фунтов селедки, два фунта семечек, керосин…
Имре почти не слушал Зайцева, так как в мыслях был далеко-далеко…
— Да, — невпопад пробормотал Тамаш.
— Что с тобой? — удивился Зайцев. — Скажи, зачем тебе надо было вмешиваться в эту резню? Да еще стрелять надумал…
А Имре стоял погруженный в свои мысли: «Что же теперь делать? Возвращаться к Зайцеву или же уйти с земляками? Снова окунуться в борьбу, смотреть в лицо смертельной опасности… Перевалить через Уральский хребет, бить белых в Сибири, гнать их дальше… А удастся ли их еще гнать-то? Кто знает? Белых сейчас много, и они очень сильны… Они еще и потеснить могут красных… А что тогда? Снова плен, снова какой-нибудь Драгунов будет измываться надо мной… Лучше всего тем, кто сидит, притаившись, под кустом… Таких никто не обидит…»
— Муха цела… — продолжал Зайцев, хотя Имре плохо слушал его.
— Хорошо. Мне было бы очень жаль Муху, если б ее подстрелили.
— Другой такой умной лошадки нет на свете, — продолжал Зайцев. — Она стоит и спокойно дожидается нас с тобой. Ну, прощайся со своими друзьями и пошли!
Услышав последние слова Зайцева, к ним подошел Мишка Балаж.
— Куда это ты собрался идти? — спросил по-венгерски Мишка. — Домой? Ну и вояка же ты! Пострелял немного — и в кусты?!
— Я — в кусты?!
— Не я же… А еще говорил, что был, красноармейцем…
— Был! — отрезал Имре.
Балаж язвительно засмеялся:
— Угу… Тоже мне, вояка нашелся!
— Воевал не хуже тебя…
— И это ты мне говоришь? Иди домой, мы и без тебя справимся с белыми…
Имре Тамаш покраснел как рак и сердито перебил Балажа:
— Да замолчи ты наконец!.. Я остаюсь с вами!.. И на деле докажу, кто я такой!
— Вот это дело! Правильно говоришь! — Мишка протянул Имре руку. — Тогда сервус!
— Сервус! — Имре изо всей силы хлопнул по протянутой ему руке.
Зайцев с недоверием наблюдал за этой сценой. Он хоть и ничего не понял из их разговора, но сердцем почувствовал что-то неладное.
— Ну, пошли же! — дернул он Имре за рукав.
— Не пойду я с тобой, Максим… Жаль, конечно, но не могу…
— Не пойдешь? Почему?
— Я ведь солдат.
— Ради бога, поехали домой! У меня ты в безопасности… И полюбил я тебя, как родного сына! — На глазах у Максима показались слезы.
— Нет, мне с ними идти надо.
— В пропасть идешь…
— Я дал слово, что буду сражаться против белых…
Имре достал из кармана маленький пакетик с леденцами и протянул его Максиму:
— Отдай дочкам… Если смогу, напишу…
Максим вытер слезы и, поняв, что ему не сломить упрямства Имре, начал трясти его руку, а потом по русскому обычаю три раза поцеловал и перекрестил.
— Храни тебя бог от всякой напасти! — проговорил Зайцев, расчувствовавшись. — Когда сможешь, возвращайся. Мы тебя с радостью примем… Может, ты и прав.
В большой комнате в здании управы теперь разместился организованный на скорую руку штаб. Он руководил борьбой против многочисленных контрреволюционных банд и отдельных групп. Сейчас здесь находился политкомиссар товарищ Игнатов, московский металлист. Он подошел к Тамашу и, протянув ему руку, по-дружески заговорил:
— Мне сказали, что ты принимал участие в бою. Если хочешь, оставайся у нас в отряде. Оружие у тебя, как я вижу, есть. Настоящий революционер всегда найдет себе оружие. Ребята говорили, что это ты застрелил белого офицера… Выходит, ты отличный стрелок?
Имре ответил, что хотя он и рад вновь держать в руках оружие, однако ему всегда бывает жаль тех, кто погибает от его руки. Вот и этот офицер был так молод…
Игнатов смущенно улыбнулся и сказал:
— Ты, конечно, прав: убитых всегда бывает жаль. А ты не читал записей, которые вел для себя господин лейтенант Лев Александрович Долгопятов? Если хочешь, я тебе прочту кое-что…
Комиссар вынул из кармана небольшую записную книжку в кожаном переплете.
— Вот послушай, что этот офицер-белопогонник пишет о революции, которую совершили русские рабочие и крестьяне: «В России к власти сейчас пришли большевики, которые до самого последнего времени жили в ссылках. Ленин и его сторонники захватили власть, имея свой военный план. Однако, кроме них, никто не имеет никакого представления об их учении. Народ интересует не учение, а земля, мир и свобода. Об этом он мечтал веками. Они натравили народ на господствующий класс, который веками был опорой Святой Руси…»
Тамаш внимательно слушал Игнатова, который старался читать медленно и внятно.
— По его словам выходит, что народ ни на что не способен. Только на пустое кровопролитие. Вот послушай, что он дальше пишет: «В Екатеринбурге военный трибунал за контрреволюционную деятельность приговорил к смерти трех офицеров царской армии. Я решил заступиться за них, хотя такое заступничество могло грозить мне самому арестом. К счастью, председатель трибунала, простой тульский рабочий, оказался таким болваном, что даже не арестовал меня. Я подошел к нему и с возмущением сказал: «Сейчас вы постановили казнить трех невинных людей, которые, служа в армии, лишь выполняли свой долг. Подобным образом поступают только каннибалы! Вы жаждете человеческой крови! Выходит, вы тоже варвар!..» Болван оказался настолько глуп, что освободил всех троих офицеров…»
— Мерзавец! — выругался Тамаш.
— Вот послушай дальше. Ты ведь тоже крестьянин. Сейчас ты узнаешь, что этот офицерик, которого ты уложил метким выстрелом, пишет о русских мужиках. Вот послушай: «Они похожи на грудных младенцев с бородами. Цивилизация, кажется, нисколько не коснулась их…»
— Вот оно как! — засмеялся Тамаш.
— Есть у него и меткие замечания, — продолжал комиссар. — Вот. «К сожалению, раздел земельных поместий в России был произведен несправедливо. Земельные владения дома Романовых смело можно было считать самыми огромными в мире. А земли, находившиеся во владении бывшего председателя Государственной думы господина Родзянко, были так велики, что на них свободно разместилось бы такое государство, как Дания… К сожалению, русские, как известно, весьма плодовиты…»
— Это как же надо понимать? — спросил Тамаш.
— Вероятно, так: сам народ виноват в том, что в стране не всем хватает земли. Мол, если б простые люди не так быстро размножались, то и им бы досталось земли… Вот что он пишет: «Война тем и хороша, что она очищает народ. Война для народа — прямо-таки божье благословение, но только народ по своей глупости не в состоянии понять этого…» Видишь, до чего додумался этот «философ»? А ты его еще жалеешь! Это типичный представитель класса господ. Сама фамилия это подтверждает. Долгопятов — старинная дворянская фамилия… Можешь мне поверить. Мне и самому не по душе кровопролитие, которое сейчас у нас происходит. Убийство человека — само по себе преступление. А ведь бог, если в него кто верит, благословляет убийства. Иегова, по сути дела, благословил братоубийцу Каина. А посмотри на иконы святых. Ведь в руках большинства из них меч! Да и сам-то меч имеет форму креста! Однако когда мы начинаем уничтожать тиранов и эксплуататоров, весь мир господ моментально обрушивается на нас, обвиняя в жестокости и тому подобном. По их мнению, мы, представители пролетариата, не имеем права защищать свои интересы. Для господ жизнь рабочего человека ничего не стоит!..
— В этом я уже убедился на собственном опыте… Знаете, товарищ Игнатов, я никогда не забуду одного такого палача по фамилии Драгунов… Я согласен с вами относительно того, что вы здесь говорили об убитом мною офицере, но мне было бы приятнее, если б на его месте оказался Драгунов.
К вечеру в здание управы привели еще шестерых контрреволюционеров. Две комнаты были до отказа забиты арестованными. Тамашу выдали обмундирование одного из убитых белогвардейцев. Свою одежду он отдал дяде Грише с просьбой передать ее при случае Зайцеву.
К вечеру в селе установилась тишина. Жители принесли красноармейцам хлеба, вареных яиц, копченой рыбы, домашней бражки. Трапезу устроили в большой комнате в здании управы. Накормили досыта и нищего дядю Гришу. Затем постелили на полу солому и легли отдыхать.
Дядя Гриша начал рассказывать красноармейцам о Порт-Артуре. Говорил он тонким, слегка дрожащим голосом, но все хорошо слышали его.
— Японцы нас по нескольку раз в день атаковали, — рассказывал дядя Гриша, — но стены у крепости были толстыми, да и мы не поддавались… Приставят, бывало, японцы лестницы к стене и карабкаются наверх, а мы их из винтовок снимаем… Правда, и они нашего брата набили немало… Они и из пушек нас обстреливали, и из другого оружия, но все попусту. Тогда они из своих же мертвецов стали целые пирамиды выкладывать…
— Ты лучше расскажи, как ты ослеп, — попросил дядю Гришу один из красноармейцев, видимо, украинец по национальности.
— Приказали мне как-то пойти в разведку… Достал я из-за пазухи иконку с изображением Казанской богоматери. Иконками снабдил нас царь-батюшка. Портрет царя у меня тоже был… Осенил я себя крестом, значит… И пополз, а когда оказался совсем рядом с япошками, вытащил гранату и хотел было уже бросить ее, как вдруг услышал сильный взрыв и потерял сознание. Долго в госпитале провалялся… Позже мне рассказали, что один из японцев опередил меня и бросил гранату раньше… Вот, значит, я и ослеп…
— Японец тот наверняка не разглядывал портрета микадо? — заметил один из красноармейцев.
— Это уж точно… Словом, у стен Порт-Артура и распрощался я со своими глазами…
— Не помогла, значит, тебе Казанская богоматерь? Но хоть пенсион-то тебе царь-батюшка отвалил, а?
— Вши — вот моя царская пенсия!
— А блох у тебя, отец, нет?
Комиссар, чтобы оградить старика от беззлобных насмешек, строго сказал:
— И не стыдно вам, товарищи? Ведь перед вами слепой старик! Конечно, уже ни мы с вами, ни наши внуки не пойдут в бой с иконкой святого Николая или девы Марии… А нам дядя Гриша сегодня очень помог: он точно указал, где находятся контрреволюционеры… В помещении же мы завтра утром наведем полный порядок…
На следующий день Имре Тамаш рассказал Балажу, с которым быстро подружился, о своем друге Пиште Керечене.
— Скажи, а сколько венгров в вашей роте? — поинтересовался Имре, которому хотелось побольше узнать о подразделении, к которому он примкнул.
— Венгров всего восемь человек. Два украинца и два латыша, с которыми нам, венграм, легче всего разговаривать. Еще к нам в роту перебежал от белочехов, из их легиона, чешский венгр. Его зачислили в нашу роту в Тюмени.
— Что он рассказывает о легионе?
— Он у них поваром был… Задницу такую наел, что в штаны еле убирается. Говорит, что у белочехов все есть. Снабжают их американцы и англичане. Как только легион занимает какой-нибудь населенный пункт, солдаты первым делом разбредаются по домам. Ведут себя развязно. Берут все, что плохо лежит, насильничают… Правда, и среди них есть такие, кто больше тяготеет к нам. Трудовые люди, как и мы. По-венгерски наш повар разговаривает так же, как мы с тобой. Зовут его Лайош Тимар.
— Сербы из белых отрядов ведут себя не лучше, — заметил Тамаш.
— И среди них тоже есть хорошие люди. В Тюмени наш лагерь охраняли сербы из легиона. Зима в тот год была такой лютой, что и вспомнить-то страшно. Один мой друг пошел воровать дрова. Серб-часовой не убил его. Позже мой друг записался в красный отряд… В лагере красных обижали…
— Что верно, то верно, — согласился Тамаш.
— Тюменский лагерь прескверный был! На завтрак давали какую-то бурду, которую называли кофе, на обед — кашу, на ужин — соленую баланду. А хлеб — плохой-преплохой. Пленные все болели, особенно куриной слепотой…
— А офицеры как жили?
— Эти хорошо жили. Некоторые из них прибыли из европейской части страны, другие — из Соликамска. Правда, конины и им пришлось попробовать. Зато в Тюмени их уже снабжали через Красный Крест.
— Я думаю…
— Меня на фронт в четырнадцатом году послали с маршевой ротой. Знаешь, как тогда на фронт отправляли? Пригнали нас на железнодорожную станцию, погрузили в телятники. Охраняли нас солдаты. Командовал ими один вредный кадет. Стали к нам женщины приходить прощаться: к кому жена, к кому мать или сестра, да еще не одни, а с малыми детишками, которые визжали и плакали. Кадет, однако, никого к солдатам не подпускал. Моя мать каким-то чудом прорвалась сквозь оцепление и оказалась почти рядом со мной. Кадет, увидев ее, подскочил и оттолкнул к толпе. Я показал тогда кадету винтовку и пригрозил: «Смотрите, господин кадет, чтобы нам на фронте не встретиться, а то пущу я вам пулю в живот вот из этой винтовки». «Ты что там пасть раскрыл? А ну, повтори-ка еще раз!» — набросился было на меня кадет. К счастью, в этот момент эшелон тронулся, и кадет ничего не смог мне сделать, так как он оставался на станции. На фронте мне с кадетом не пришлось повстречаться, а вот в лагере — увиделись.
— Где?
— В Омске.
— Ты и там побывал?
— Пришлось.
— Я слышал по рассказам. Говорили, будто в том лагере находился и товарищ Лигети[2], руководитель венгерских красноармейцев. Рассказывали, какой он замечательный человек и что все солдаты его очень любили…
— Мы его хорошо знали. Наш венгерский отряд был в городе одним из самых боеспособных.
— Я думаю… А что случилось с господином кадетом? С тем, которому ты пригрозил?..
— Встретился я с ним в лагере в Омске. Он тогда уже поручиком был. Говорили, будто одну звездочку он себе уже в плену нашил, так как до плена был подпоручиком. Тогда многие офицеры, попав в плен, понашивали себе звездочек, чтобы их считали выше рангом. Словом, охраняли мы в прошлом году офицерский лагерь в Омске. Он находился возле городской выставки. Офицеры жили в нем припеваючи. Многие даже поправились. И вдруг я вижу моего старого знакомого, господина кадета, но уже в чине поручика. Лежит он в одних трусиках на солнце, загорает, значит, а рядом френч его валяется. Меня он не узнал… Я подошел к нему и спрашиваю: «Вы не узнаете меня, господин поручик?» «Нет, не узнаю», — отвечает он мне. «А ведь мы с вами знакомы. Встречались в Сольноке на вокзале в сентябре четырнадцатого года». «Очень рад встрече», — говорит он. «Я тоже… А помните, как вы оттолкнули от меня мою мать и ругали ее? Оттолкнули, когда она хотела попрощаться со мной и поцеловать меня?» Если б ты видел, как он сразу побледнел! Начал что-то лепетать, что, мол, служба есть служба. «Оно конечно», — сказал я. Смотрит он на меня испуганными такими глазами, а у самого душа в пятки ушла. «Ну, пошли со мной!» — говорю я ему. Он так перетрусил, что задрожал весь как лист осиновый. Я же решил его немного проучить. Завел я его в караульную комнату и говорю: «Когда вы оттолкнули от вагона мою мать, я ведь вам тогда сказал, чтобы вы мне на глаза не попадались! А вы все-таки попались. У вас ведь тоже есть мать, а? Если б она захотела с вами проститься перед отправкой на фронт, я бы не стал ее отталкивать, хотя я простой, серый крестьянин, а не благородный человек, как вы. Однако рядовой королевской армии Михай Балаж никогда не забывает нанесенных ему обид! Вот посмотрите на мои мозолистые руки! У меня сильные руки. Они и лопату могут держать, и винтовку тоже. Этими вот руками я могу вас сейчас задушить, и вы даже пикнуть не успеете. Понятно?..» Тут господин поручик как бухнется мне в ноги. Встал он, значит, на колени и начал меня умолять, чтобы я простил его. Когда мне надоело слушать его вопли, влепил я ему одну оплеуху слева) другую — справа, а затем дал такого пинка под зад, что он, как мячик, во двор вылетел. Я его тогда и пристрелить свободно мог бы, но не хотел руки марать о такого мерзавца… И жаль, что не прикончил. Когда белые разбили красных и мы решили укрыться в лагере для пленных, господин поручик привел туда беляков. Они-то не сентиментальничали с нами, убивали направо и налево. Они ведь не такие, как мы…
— И как же тебе удалось спастись? — спросил Тамаш.
— В том лагере был у меня друг. Он-то меня и вызволил. Две недели я не брился, зарос до неузнаваемости, вот тогда-то он мне и разрешил выйти из барака. Я сбежал из лагеря к красным.
— Ты, как я вижу, тоже узнал, почем фунт лиха.
— Узнал, как не знать.
— Ранен был?
— Был. Дважды.
— Ну, тут еще долго придется воевать.
— Мы, как поможем разбить Колчака, поедем в Венгрию. Там ведь у нас тоже революция совершилась. Помогать нужно и своим…
— Поможем.
Оба замолчали. Мишка Балаж набил свою трубку махоркой и закурил, пуская густые клубы дыма под потолок.
— А у тебя есть трубка? — спросил он Имре.
Тамаш покачал головой. Тогда Мишка, не говоря ни слова, протянул ему обкуренную до черноты трубку.
— Я дома хороший табачок курил… Только хороший…
— Наш тоже не плох был, желтый такой, золотистый, — заметил Имре, сделав глубокую затяжку из трубки.
Еще долго разговаривали эти два много испытавших бойца, которые подружились друг с другом.
ШУРА
На путях, уже под парами, стоял длинный эшелон, составленный из товарных вагонов. Желающие уехать толпились рядом.
В один из вагонов, судорожно вцепившись в железный поручень, пыталась подняться беременная женщина.
— Ради господа бога, пустите меня… Меня муж ждет в Тюмени! — громко причитала она плаксивым голосом.
В открытых дверях сидел бородатый мужик с мясистым красным носом и с безразличным видом щелкал семечки, сплевывая шелуху во все стороны. Время от времени он заученными движениями отталкивал своими огромными кулачищами всех, кто старался пролезть в вагон. Вот он двинул кулаком и попал женщине прямо в лоб. Она как подкошенная упала на землю.
Керечен сидел в этом вагоне, забившись в угол.
Постепенно набирая скорость, поезд оставил железнодорожную станцию позади. Вскоре по обе стороны железнодорожного полотна потянулась сплошная стена зеленого леса. Над головой раскинулось безбрежное синее небо.
Товарные вагоны были битком набиты пассажирами. Сразу же за паровозом следовали два классных вагона, в одном из которых ехал Бондаренко.
Иштван забился в угол и сидел, весь съежившись. В голову лезли разные мысли. Он вспоминал события прошедшего дня и неудачную попытку побега от Бондаренко.
В одном большом селе он чуть было не сбежал от капитана. Село окружили красные. Завязался бой. Он длился недолго, так как большая часть солдат из роты капитана Бондаренко сдалась в плен, в том числе и несколько унтер-офицеров.
Оценив обстановку, Бондаренко вскочил в свой экипаж и хлестнул лошадей, которые от неожиданности затанцевали на месте. Керечену удалось схватить за поводья чью-то лошадь, седло на которой было перепачкано кровью. Хозяина ее, видимо, сразила пуля. К седлу был привязан вещмешок бывшего хозяина. Усевшись в седло, Иштван пришпорил лошадь и дернул за уздечку, желая изменить направление и ускакать к красным, но не тут-то было. Кобыла встала на задние ноги и так тряхнула крупом, что Иштван камнем полетел на землю. Ударившись, он потерял сознание.
Когда он очнулся, ему рассказали, что в лошадь попала пуля. Падая, лошадь придавила его. Иштван отделался легким ушибом.
Капитан сам усадил Керечена в экипаж и поскакал к лесу.
В роте осталось человек тридцать, не больше. Спать в ту ночь пришлось под открытым небом.
Керечен заглянул в вещмешок. Там оказалась буханка хлеба, шесть банок консервов, чай, сахар и кошелек с полутора тысячами рублей. Одна из консервных банок была пробита пулей.
— Посмотрите, господин капитан, — показал Иштван банку, — какая косточка застряла в консервах!
Бондаренко повертел в руке продолговатый кусочек свинца и недовольно пробормотал:
— Если б эта пуля не застряла в банке, быть бы вам трупом. Я только не понимаю, зачем вам понадобилось прыгать на коня, когда вам следовало сесть в экипаж?..
— Я этого и сам не пойму. Возможно, во мне проснулся солдат!
— Солдат?! — Бондаренко ехидно засмеялся. — Вы еще чувствуете себя солдатом? А где мои солдаты? Трусливые крысы! Разбежались по норам! Их тоже охватила красная зараза. Вы знаете, что это такое?.. Это конец… Многие заводы и фабрики не работают. Красные уничтожают помещиков и чиновников. Большая часть крестьянства пришла в упадок. Надвигается голод… Вот вам и рай, обещанный Марксом! Вы, конечно, не знаете русского народа. Вы не знаете, сколько крови пролито на русской земле! Это может понять только русский, так как только он способен такой дорогой ценой платить за собственную жизнь!..
— А как же украинцы, татары, латыши, чуваши, марийцы, якуты, казахи?..
— Все это никчемный сброд! Скоты! Плевать на них!
— А я слышал, — перебил капитана Керечен, — что, например, Казань, столица татар, — наиболее крупный культурный центр магометанства. Говорят, что в городе каждый год печатают Коран тиражом в миллион экземпляров, а затем рассылают его по странам магометанского Востока. Я слышал, что поселения татар в тех районах так же древни, как и поселения русских.
— Знаете, у нас, русских, есть пословица: «Незваный гость хуже татарина!» — махнул рукой Бондаренко. — Этим все сказано.
— Вы считаете красных своими личными врагами?
Капитан кивнул, а затем заговорил:
— Под Витебском у меня было фамильное имение. Мой отец был гвардейским полковником. Родословная нашей семьи своими корнями уходит еще в петровские времена. А знаете, что красные сделали с моим отцом? Они его расстреляли у меня на глазах!..
— За что?
— За то, что он был хорошим солдатом и не терпел нарушений дисциплины. Он наказал одного мерзавца — приказал его подвесить… Потом отец, к сожалению, забыл о нем. Его пригласили к губернатору на вечер, а когда он вернулся домой, мужик уже умер…
— И солдаты не простили этого вашему отцу?
— Нет, сволочи, не простили!.. И вот теперь у меня нет ни отца, ни матери, ни имения, ни дома, ни царя… да и родины тоже… И все из-за красных!..
Керечен молча рассматривал удрученного невеселыми мыслями офицера, у которого еще совсем недавно было поместье, дом, дворянский титул, отец в чине полковника, была головокружительная карьера, деньги, красивые женщины, веселые друзья и все прочие блага жизни… И всему теперь пришел конец… Этот капитан до мозга костей был барином.
— Господин капитан, скажите мне откровенно, зачем вы меня с собой возите? — спросил Иштван офицера. — Зачем вы вытащили меня из-под лошади?
Капитан закурил.
— Гм. Я и сам точно не знаю. Так, пустая прихоть. Если б вы не умели так хорошо играть в шахматы, я, возможно, и бросил бы вас… Мне хочется спасти интеллигентного человека. Вы офицер. Для нас здесь еще будет много работы. У вас в Венгрии революционный мятеж идет к концу… Там власти тоже нуждаются в интеллигентных офицерах. Когда мы приедем в Екатеринбург, я выпишу вам бумаги, с которыми вы в Красноярске придете в офицерский лагерь. А когда вернетесь в Венгрию, будете сражаться там против красных…
Через открытую дверь вагона сквозь дымку тумана виднелись контуры Уральских гор, склоны которых густо поросли деревьями и кустарником. Солнце уже село. В вагонах все притихли. Скученность была такая, что люди оказались буквально прижаты друг к другу. Хорошо еще, что дверь была открыта, иначе бы пассажиры задохнулись от спертого воздуха. Все забылись в тяжелом сне.
Веки Иштвана тоже слипались. Он задремал. Перед глазами встали картины из домашней жизни. Он увидел отца, старого виноградаря… Вот он идет к сараю, на крыше которого греется на солнышке кошка. Она спрыгивает отцу на плечо, он гладит ее… Как хорошо пахнет дома!.. Это даже не запах, а настоящее благоухание. Кошка лениво потягивается, выгибает спину, показывает розовый язык… Шерсть у нее мягкая-мягкая… Ох, да это совсем и не кошка!.. Иштван открывает глаза и вздрагивает от неожиданности: на груди у него лежит голова девушки. Она сладко спит, а он, оказывается, гладит ее черные, отливающие синевой волосы…
В вагоне так тесно, что все спят у кого-нибудь в объятиях. Только голова Керечена лежит на чьем-то вещмешке.
Проехали маленькую станцию. Поезд не остановился, а лишь сбавил ход. На какое-то мгновение отблески света из открытой двери вагона упали на лицо девушки. Миловидная… Слегка вздернутый нос. Чуть припухшие пунцовые губы… По спящему лицу блуждала улыбка. Блестели белоснежные зубы… И все это всего лишь в десяти сантиметрах от губ Иштвана. Дыхание девушки касалось его лица. Керечен невольно вспомнил поцелуй Анны… Кровь застучала в висках. Сердце замерло, будто кто его сжимал. Спокойно и плавно вздымалась девичья грудь.
«А что, если поцеловать эти очаровательные пунцовые губы!» — невольно промелькнула соблазнительная мысль. Однако он лишь слегка дотронулся губами до руки девушки. Она не проснулась, но вдруг неожиданно повернулась во сне. Юбка ее от этого движения приподнялась, обнажив загорелые ноги. Такая красивая, целомудренная, девушка безмятежно спала.
У Иштвана мгновенно пересохло во рту, губы стали горячими. Он отвернулся, чтобы не смотреть на девушку, но перед глазами все равно стояло ее лицо.
Дотянувшись рукой до фляжки, Иштван сделал несколько глотков.
И снова поезд промчался по освещенному участку пути. Свет от фонарей упал на лицо девушки. Она проснулась и с удивлением уставилась на Керечена. Села и быстрым движением одернула задравшуюся юбку.
— Кто вы? — шепотом спросила она.
Иштван дотронулся до руки девушки и сказал:
— Не бойся. Если можешь немного повернуться, я тебе под голову свой вещмешок положу.
— Нет-нет, спасибо.
— Если не хочешь, пожалуйста. Можешь положить голову на прежнее место. — И он нежно поцеловал ее.
— Извините, не хочу.
— Скажи, как тебя зовут?
Девушка немного помедлила и шепнула:
— Шура я.
— Спасибо… А я Иосиф.
Девушка снова прижалась к Керечену и шепотом спросила:
— Вы не русский?..
— Нет… Я мадьяр…
Керечен почувствовал близкое дыхание девушки.
— Почему ты меня поцеловал? — спросила она.
— Потому что ты очень красивая.
Шура чуть слышно хихикнула.
— Куда ты едешь? — спросила она.
— В Красноярск.
— Я тоже.
На следующее утро эшелон прибыл на какую-то большую станцию. Кругом, куда ни посмотришь, леса. Первым проснулся Керечен. Открыл глаза и осмотрелся. В вагоне было уже светло. Голова Шуры покоилась на его груди.
Вот она проснулась. Села. Сердито взглянув на Иштвана, высвободила свою руку из его руки.
Поезд стоял, и в вагоне стало заметно свободнее, так как многие пассажиры сошли умыться, купить что-нибудь из провизии или принести кипятку, а кто просто захотел размяться после долгого сидения или лежания.
Шура вышла из вагона. Вслед за ней спрыгнул на землю Иштван.
— Шура! — окликнул он ее.
Девушка бросилась бежать.
Вдоль перрона в новенькой, с иголочки, форме парами ходили чешские солдаты. Они равнодушно смотрели на снующих возле вагонов людей.
Шура встала в очередь за кипятком и искоса следила за Кереченом, которого остановил офицер. Девушка решила, что они знакомы, хотя и не поздоровались за руку.
Вскоре Иштван расстался с офицером и купил хлеба, десяток вареных яиц и много пирожков с мясом.
Шура тем временем, наполнив чайник кипятком, шла обратно к вагону.
— Почему ты такая странная, Шура? — спросил ее Иштван, подойдя к ней.
Девушка остановилась и, опустив глаза, молчала.
— Почему ты на меня сердишься? Разве я тебя чем обидел?
— Мне так стыдно… — еле слышно прошептала Шура. — Что вы можете подумать обо мне?..
— Не говори глупостей, Шура! — Иштван ласково улыбнулся девушке. — Пусть в вагоне все думают, что ты моя жена.
Войдя в здание станции, они сели на каменную скамью, чтобы немного закусить. Девушка несколько оправилась от первого смущения и улыбнулась Иштвану. Он отрезал ей ломоть хлеба и очистил яйцо.
Судьба совершенно случайно свела этих двух молодых людей в тесном, грязном вагоне-телятнике! Венгерского крестьянского парня и русскую девушку, настоящую сибирскую красавицу. Она была очень молода, почти совсем еще ребенок. В своей сознательной жизни, кроме войны и всего с ней связанного, ничего не видела. А теперь вот она сидела рядом с чужеземцем, который угощал ее белым хлебом с маслом и вареными яйцами…
Шура искоса посмотрела на Иштвана. Лицо молодое, маленькие темные усики… Глаза… Какие же у него глаза?.. Темные… Волосы тоже темные, густые, пушистые… Но что это за шум там поднялся? Даже не шум, а какой-то грохот.
Оказалось, что на станцию прибыл бронепоезд с белочехами. Ничего удивительного: военные эшелоны то и дело шли в сторону фронта, увозя на бойню молодых солдат. Скоро и их поезд тронется…
— Шура, о чем ты сейчас думаешь?
Девушка посмотрела Иштвану прямо в глаза:
— Вот думаю, каким образом вы могли подружиться б капитаном?
Керечен покраснел, не зная, как ответить на столь неожиданный вопрос.
— Он мне не друг вовсе.
— А кто же? Вы с ним разговаривали как с хорошим знакомым.
— Да, я его знаю, но он мне вовсе не друг. Я с ним случайно встретился, а вот теперь вместе едем.
— Скажи, что тебе от меня нужно? Ночью ты поцеловал меня… а я даже не знаю, кто ты такой… Я живу в Сибири… Моего прадедушку сослали в Сибирь за участие в каком-то заговоре… И с ним вместе всю семью. Он и сейчас жив, девяносто шесть лет… Красивый такой старик, высокий, любо-дорого посмотреть… Волосы у него белые как снег, борода и усы тоже. Настоящий Дед Мороз. Работает ночным сторожем. Отец мой умер, а старшего брата убили белые…
— Рассказывай, Шурочка, рассказывай!
— Ну, что тебе еще рассказать? У нас здесь одни леса, поля, люди сумрачные, зимой много снега… Всех молодых парней забрали в солдаты. Подержат недели две в городе и гонят на фронт…
— А где сейчас проходит фронт? — спросил Иштван. — Я сюда с берегов Камы приехал, а нигде никакого фронта не видел.
— С берегов Камы? — удивилась Шура. — Так далеко?
— Работал там в усадьбе одного крестьянина, а меня сюда привез капитан, с которым я разговаривал.
— А зачем он тебя привез?
— Так. Узнал, что я офицер, и забрал с собой.
Шура рассмеялась:
— Ну какой же ты офицер? Господа офицеры ведут себя совсем не так, да и одежда на них другая. Уж не думаешь ли ты, что если выдашь себя за офицера, то будешь больше нравиться мне? Сейчас офицеров в Сибири полным-полно… Если б ты был офицером, это сразу бы видно было.
И она чуть слышно пропела один куплет об офицерике, который, попав на фронт, вообразил себя важной персоной.
Иштван и Шура рассмеялись.
— Послушай меня, Шурочка… — Иштван взял девушку за руку. — И я эту песенку знаю…
В этот момент мимо них прошли два белочеха. Один из солдат оглянулся и посмотрел на Шуру.
— Черт их сюда принес! — тихо сказала девушка. — Вот такие же, как они, убили моего брата!..
— Пойдем отсюда, — предложил Иштван, которому тоже не понравился оглянувшийся на Шуру солдат.
Они залезли в свой вагон и оставшуюся еду доели там. Пассажиров в вагоне заметно поубавилось, так как кое-кто сошел, а новых не прибыло. Можно было спокойно вытянуть ноги.
Вскоре поезд тронулся. Иштван не спускал глаз с Шуры и думал: «Какая она чистая и аккуратная! Интересно, когда она только успела привести себя в порядок? Уж не тогда ли, когда я покупал еду? Правда, я тоже успел выкроить несколько минут, чтобы смыть с лица копоть и грязь. Другое дело Шура! Черные волосы блестят, как шелк…»
Только сейчас Иштван заметил в левом уголке рта Шуры крошечную родинку, которая не только не портила ее, а даже как-то украшала.
«Вот бы жениться на ней да с собой в Венгрию увезти!» — мелькнула у Керечена сумасбродная мысль.
Только сейчас Иштван рассмотрел пассажиров вагона. Большей частью ехали крестьяне. Возможно, были среди них и такие, кто сбежал с фронта и хотел поскорее попасть домой.
Совсем рядом с ними сидели четыре мужика, которые азартно дулись в карты.
«Наверное, спекулянты, — подумал Иштван. — Сейчас такие за солью ездят. Они превосходно знают, где ее можно дешево купить и где подороже продать. А мужики за соль, когда ее трудно достать, готовы заплатить большие деньги».
В дороге почти все обитатели вагона перезнакомились между собой. Любопытно было то, что они довольно откровенно разговаривали друг с другом.
Громче всех кричал здоровенный рыжеволосый мужик, который в Екатеринбурге не пустил в вагон беременную женщину.
— Видели чехов на станции? Они тоже пленные были, а теперь — солдаты. И оружие им выдали. А в солдаты они снова пошли за деньги, которые им платят. Окромя них здесь и поляки есть, и сербы, и итальянцы, и французы. Короче говоря, всякой твари по паре… И всем им белые платят большие деньги, а даром они не дураки служить.
— Ты не прав! — закричал вдруг пожилой мужик. — Что нужно чехам от бедняков? Пусть лучше домой к себе едут, хозяйство в порядок приводят…
— А затем они здесь, — не сдавал своих позиций рыжий детина, — чтобы следить за нами, так как наш народ здорово сейчас отклонился от бога. Да здесь, в Сибири, жить можно припеваючи: торгуй, сколько твоей душе угодно; хочешь — молись, а там, где красные, этого ни-ни!
— Это сам ты забыл заветы божьи, рыжий пес! — еще больше разгорячился пожилой. — Зачем ты столкнул с вагона беременную бабу? А еще говоришь! Свобода торговли у нас есть, это точно! Посмотрите, какой у него мешок! Видали на станции бедных солдат? Они продавали сахар, который им выдали, чтобы купить хлеба!..
— Чистая правда! — вступила в разговор беззубая старуха. — Я собственными глазами видела их. Самые хорошие люди — это русские! — продолжала разглагольствовать она. — Чехи — плохие люди, немцы и австрияки — и того хуже, но самые плохие — это мадьяры. Ну прямо-таки бесы какие-то!
— Все далеко не так, мамаша, — возразил старухе мужчина, который до этого тихо сидел на своем месте. — Я питерский рабочий и многое повидал на своем веку. Наши солдаты — у себя на родине. Хоть им и несладко, но они все же на родной земле. А мадьяры, которые в России находятся, они на сторону бедняков встают, а не на сторону богатеев, как белочехи. Много мадьяр погибло здесь, многих ранило. А оставшиеся в живых поняли, что у бедноты всего света есть только один враг… Думаю, что и тебя в молодые годы помещик не в шелка одевал!
Старуха тихо хихикнула:
— Только в них и одевал, а мне кашемир подавай!..
Все, в том числе и картежники, громко засмеялись.
— А вы знаете, что в Ярославле господа украли семьдесят тысяч рублей и убежали с ними за границу, где формируется народная армия? — громко, чтобы перекричать всех, пробасил рыжий.
— Что еще за народная армия? — поинтересовался молодой парень.
— Наша, белая армия. Она и освободит всю Россию-матушку! И все снова станет по-старому, как раньше было, как господь бог велел: богатому — богатство, бедному — бедность. Большевики украли, я слышал, целый вагон золота и хотят сбежать с ним за границу. Народное золото украли!..
— Врешь ты все, шайтан, — перебил рыжего, смешно коверкая слова, узкоглазый мужик. — Хотя нам, якут, однако, мало что знай о революции, но наша слыхать: на земля был времья, когда все времья день, светло был… Ночь, однако, совсем не был. Но один день плохой дух, шайтан, украл, однако, солнце с неба, сделал цап-царап… и спрятал большой темный пещер! Совсем немножко, однако, летом он выпускайт солнце на небо, когда ему сам шибко зарко пещер стал… Народ сказывайт, снова, однако, светло станет, когда очень большой человек, хороший, добрый человек придет и прогонит совсем злой шайтан…
— И когда же это появится этот твой добрый человек? — с усмешкой спросил рыжий.
— Это, однако, наша тебе точно говорит! — Якут бросил на мужика серьезный взгляд. — Он уже пришла. Ленин его зовут.
Рыжий громко захохотал и заметил:
— Лучше б они свободную торговлю разрешили!
— Уж не купец ли ты, случайно? — спросил рыжего питерский рабочий.
— Я не купец, а честный торговец. Налоги всегда платил исправно. Начальство уважаю, в церковь хожу регулярно. В солдатах свое отслужил.
— Генералов ты тоже уважал?
— Хорошие генералы тоже есть, — уклончиво ответил рыжий.
Лицо питерского рабочего залилось краской.
— Я генералов трех типов знаю: первый вешает, второй расстреливает, а третий с живого шкуру сдирает.
— Это правда! — воскликнула молодая женщина. — Моего мужа тоже приказал расстрелять один генерал!.. Под Казанью это было…
— А у моего шурина, — вступил в разговор один из картежников, — генерал содрал кожу с правой руки, а потом повесил беднягу.
— А вы посмотрите на этих белочехов! — продолжал питерский рабочий. — Возьмут один город, разграбят его, а потом продают все в другом…
— Точно, точно… — согласилась с ним старуха.
— Насилуют девушек и женщин, — продолжал рабочий. — Сейчас они на Восток удирают… Идти на фронт не хотят. Боятся, что красные окружат их и разобьют. А бронепоезд, который мы недавно видели, скоро назад вернется…
— Нехристь, вот кто ты такой! — воскликнул рыжеволосый. — Геенна тебя возьми!..
— В геенне и то страшнее тебя черта не встретишь! — с усмешкой огрызнулся рабочий.
Все громко расхохотались.
— Ой, господи, лишенько! — запричитала старуха. — Ну и наказал же нас господь! Совсем нет мира на земле!..
— Давно нет, — поддержал ее крестьянин. — Вокруг нас бродит антихрист. Сначала на нас император Вильгельм обрушился! А ведь до него в мире жили: мужик при помещике, помещик при мужике. Никто никого не обижал… Терпели, конечно, страдали, но крови не лили…
— Боже милостивый, и зачем только люди поедом едят друг друга? — сокрушалась старуха. — Кажись, конец мира наступает. Придет господь и во всем разберется…
— Может, так оно и будет, — согласился с ней пожилой мужик. — Кары божьей никому не миновать. Бог как определил, так оно и будет, так что нечего и противиться его воле. А вот рабочие и мужики сейчас совсем голову потеряли. Шутка ли сказать, восстали против господ!.. А что толку?.. Ну, прогнали господ на время, а дальше что? Ведь все одно они обратно воротятся. Господа — люди сильные, а у бедняков один бог защитник…
Какой-то отшельник, укутанный мехами, сидя в углу вагона, усердно молился. Однако тут и он не выдержал. Прервав свою молитву, изрек:
— Истинную правду сказал ты, старик… Воле божьей грешно противиться!
Но тут взорвался молодой парень с горящими глазами:
— Заткнись, негодяй! Уж не по воле ли божьей затащил ты в Екатеринбурге девушку в пустой вагон? Что ты с ней там делал, свинья?! И еще смеешь говорить о боге!
— Не упоминайте попусту имени божьего!.. Под ним все ходим… — покряхтывая, произнес пожилой мужик. — Его власть…
Парень вскочил с места. Он весь покраснел и так энергично замахал руками, что его маленькие черные бакенбарды начали потешно подпрыгивать, будто кто его за них дергал.
— Власть?! — прокричал он. — Ненавижу власть! Всякая власть — насилие!.. Даже если ее благословил сам господь!.. Всякая власть аморальна, в том числе и божья! Бог — самый крупный эксплуататор!.. Вот мы, анархисты…
Керечен не принимал участия в споре, хотя и внимательно следил за его ходом. Больше других ему был неприятен рыжеволосый торговец, который, как казалось Иштвану, обязательно постарается доложить в военную комендатуру о своих спутниках, если обстановка в Тюмени позволит ему сделать это.
«Питерский рабочий — наверняка большевик, — думал Керечен. — Отшельник — по-видимому, самый обычный разбойник с большой дороги. Анархист похож на студента университета, страдающего чахоткой и душевной опустошенностью…»
Иштван посмотрел на Шуру. Девушка лежала рядом с ним, свернувшись калачиком, и молча слушала спорящих. Усатый татарин с философским спокойствием ел копченое конское мясо.
Вдруг послышались звуки гармошки и чей-то хриплый голос пропел куплеты про лихую гимназистку, которая пьет водочку и ведет развеселую жизнь.
Поезд, состоявший из товарных вагонов, походил на темно-серую гусеницу, быстро ползущую по зеленому полю. Паровоз старался изо всех сил, так как путь нужен был и другим эшелонам, в которых интервенты увозили на восток награбленное ими добро: железо, уголь, золото, цветные металлы, лес. Почти на каждой станции на путях стояли эшелоны, красноречиво свидетельствующие о ранах войны: тут были и обломки самолетов, и исковерканные пушки, и другое оружие.
«Видимо, колчаковцы еще надеются на победу, раз скрывают свои потери, — подумал Иштван, увидев такой эшелон. — Видимо, они делают последнюю ставку на бескрайние просторы Сибири, которую пересекает одна-единственная железнодорожная магистраль. Может, уповают на лютые сибирские морозы, которые помогут им остановить наступающие войска Красной Армии?.. По их мнению, будущее на стороне Антанты!.. Они и мысли не допускают о том, что Сибирь тоже может стать красной. Интервенты, наверное, думают и о Японии, правители которой спят и видят богатую полезными ископаемыми Сибирь, куда они с превеликим удовольствием переселили бы часть своего слишком большого населения. Для Японии судьба Сибири далеко не безразлична… Огромная страна, по которой сейчас мчится наш поезд, борется, истекает кровью, мужает… А я, как ни в чем не бывало, сижу в вагоне рядом с незнакомой девушкой, в кармане у меня — немногим больше тысячи рублей, и о том, что ждет меня завтра, я не имею ни малейшего представления…»
Керечена почти не интересовало, как его примут в офицерском лагере для военнопленных, так как он заранее был уверен в том, что долго там не задержится. Скорее всего, переберется в лагерь для солдат. Вряд ли ему удастся обмануть венгерских офицеров, которые прекрасно знают, каким должен быть их коллега! Ну и пусть! А что может случиться? Выбросят его из одного лагеря и переведут в другой… Ему до чертиков опротивела жизнь за колючей проволокой, особенно теперь, когда он попробовал вольной жизни и боролся за свободу под знаменем красного отряда!.. Сколько дней ему осталось жить на свободе? Десять, двенадцать?.. А потом снова лагерь, бараки, нары, полуголодное существование…
— Сегодня ночью пусти меня спать к стенке, — тихо просит Шура. — Я скажу тебе почему, только ты никаких глупостей не делай.
— Хорошо, не буду…
— Этот рыжий… предлагал мне двадцатку, если я лягу спать возле него.
Иштван сжал кулаки и, с трудом сдерживаясь, спросил:
— И что ты ему ответила?
— А ничего. Тогда он обещал тридцать пять, пятьдесят, а потом целую сотню. Я его к черту послала. Тогда он пригрозил, что донесет на нас с тобой, скажет, что мы красные.
— А он откуда это знает?
— Эх! Такому типу да не знать!
— Давай сейчас же поменяемся местами! А если он ночью хоть пальцем дотронется до тебя, я его зарежу!..
Наступали сумерки. Пассажиры вагона начали располагаться на ночлег. И только рыжеволосый купец сидел у открытой двери вагона, раскачиваясь из стороны в сторону в такт перестуку колес.
Иштван тоже стал готовиться к ночлегу. Вдруг кто-то дернул его за рукав.
— Беда случилась, товарищ, — шепнул ему татарин с реденькими усиками.
— Что за беда?
— Рыжий пьян… Он и сейчас пьет. Я все слышал… Он опасный человек.
— Я его не боюсь.
Татарин наклонился еще ближе и прошептал, дыша на Иштвана чесночным перегаром:
— Ты с ним ничего не делай, а то тебе большой беда будет. Ты ведь не русский. Я-то знаю. Я человека любой наций по разговору знаю. Этот человек — шпик… Если б ты видел, как он на тебя смотрел, когда ты жена к стенке пускал! Сейчас он зол очень и потому пьет… Но ты ничего не бойся. Если нужно, я его толкну — и все дело…
Шура слышала все, что сказал Иштвану татарин. Она побледнела как полотно и испуганно прошептала:
— Нельзя!.. Это же убийство!..
— Ошибаешься, голубка! — Татарин сверкнул глазами. — Это не убийство, а самозащита. Если я это не сделай, этот негодяй завтра в Тюмень всех нас выдавайт. Тогда пощада не будет. Всех нас заберут. А за жизнь питерский рабочий и копейка не дадут.
— А отшельник?
— Негодяй и он.
— А если кто догадается?
Татарин тихо хихикнул:
— Это в Сибири-то? В такое время? Да на нашем поезде и тормоз-то нет совсем. Люди спят все. Здесь большой насыпь… Покатится, и все… Если живой будет, пока очухается, наш поезд ой как далеко будет! А если умрет… Сейчас гражданский война идет. Враг нужно бить там, где он есть. А это враг! Купец, кулак, шпик. Такой жалеть не надо! А в Тюмень я слезу с поезд. Кругом туман. Ну, спите спокойно! Береги свой жена.
Иштван пожал татарину руку, и тот отполз в сторону.
Керечен повернулся к Шуре, взял ее легкие руки в свои и начал гладить.
«Уж не влюбился ли я?» — подумал он.
Все пассажиры уже спали. Шура ровно дышала. Белая блузка на ее груди то поднималась, то опускалась.
«Сколько лет провел я в солдатах? — спросил мысленно себя Иштван. — И на фронте, и в плену, и в отряде у красных… Другие в мои годы — уже счастливые отцы семейств. Дома меня никто не ждет… А может, одному и легче… Какая она, настоящая-то любовь? Я о ней никогда и не думал. Дома, правда, читал о ней в книгах — и в прозе, и в стихах. А если и думал, то только так: «Придет любовь, понравится какая девушка — возьму в жены, и дело с концом!..» Что же касается намерения татарина, то его, видимо, не следует принимать всерьез… А что, если купец и в самом деле начнет приставать к Шуре?.. Дам ему в зубы, и только!.. А если завтра утром он действительно донесет на меня в комендатуру? Тогда всему конец!..»
Иштван лежал на спине. Шура доверчиво положила свою голову ему на грудь. Керечену даже показалось, что на губах у девушки блуждает ласковая улыбка.
Вскоре крепкий сон сморил обоих.
В ПЕЩЕРЕ
— Вот мы и вместе, — сказал Имре и по очереди посмотрел на своих товарищей.
Смутни внимательно обследовал пещеру, которую они себе облюбовали.
— Хорошая пещера, с толстыми стенами. Пали хоть из пушек — все выдержит!
— Выдержать-то выдержит, — кивнул Лайош Тимар. — Однако она может стать и хорошей братской могилой. Если нас здесь завалит, то наши кости окажутся в надежном саркофаге…
— Брось говорить глупости, Тимар! — сердито оборвал друга Имре. — Лучше дай нам хлебнуть по глотку самогонки. Осталось там еще что-нибудь?
— Осталось.
Лайош достал из вещмешка бутылку с вонючим самогоном, которую они отняли у одного кулака. Самогону была целая бочка. Комиссар Игнатов приказал вылить его в речку, однако Тимару удалось спасти три литра, разлив самогон по бутылкам. Уложив бутылки в зарядный ящик, он пронес спиртное в пещеру, которую они решили превратить в неприступную крепость.
Первому Тимар протянул бутылку Имре.
— Я не хочу, — отказался вдруг Имре, отстранив руку друга.
Смутни, прикоснувшись губами к бутылке, проговорил:
— Ну и самогонка! Если дать такую девке, то детей у нее уж точно не будет!
Однако мужик со светлой бородой, по фамилии Иванов, высказался по-иному:
— Эх, крепка, сладка, хороша!..
Мишка Балаж со знанием дела осматривал бойницы, пробитые в наружной стене пещеры. Останавливаясь перед каждой из них, он брал в руки винтовку и изготавливался для стрельбы, проверяя, удобно ли будет стрелку вести огонь и достаточно ли широк сектор обзора.
— Ну, что скажешь? — спросил его Тамаш.
— Что скажу? — Мишка прищелкнул пальцами. — Скажу, что я еще ни разу в жизни не видал такого хорошего укрытия. Это даже не укрытие, а офицерское убежище или НП. Ты молодец, что привел нас сюда… Вход в пещеру узок: только-только чтоб пролезть человеку. Зато внутри пещера просторная, прохладная, воздуху много. Боеприпасы, вода и продовольствие у нас есть. А что нам еще нужно? Отсюда нас никакой силой не выбить.
В душе Лайош Смутни был согласен с Мишкой Балажем, но решил, что особенно расхваливать пещеру вряд ли стоит, так как в ней они не только отрезаны от полка, но даже не имеют с ним никакой связи. Пока полк удерживает свои позиции, все идет нормально; если он перейдет в наступление, будет еще лучше, а вот если он начнет отходить, тогда их опорный пункт моментально превратится в ловушку. И патронам, и продовольствию, и воде придет конец, и тогда всех их можно считать героически погибшими.
Имре с любопытством рассматривал своих товарищей. Лайош Смутни и Лайош Тимар пришли в полк из белочешского отряда. Трое русских — Бургомистров, Яблочкин и Рыжов — были большевиками. Иванов, молчаливый мужик, в партии не состоял. Эта отважная семерка решила превратить пещеру в маленькую неприступную крепость, откуда можно будет наносить белым чувствительные удары.
Командиру роты эта идея понравилась. Боеприпасов в полку хватало, так что пещеру свободно можно было превратить в неприступный заслон. Ходили слухи, будто у белых имеются отборные роты, состоящие из одних офицеров.
Имре поинтересовался, что Смутни думает о таких ротах.
— Знаешь, Имре, эти роты сформированы из сорвиголов. Такие головорезы есть и в нашей армии… Под Оренбургом они захватили в плен венгров-красноармейцев. Сначала решили выжечь у каждого пленного на груди пятиконечную звезду раскаленным железом…
— Ух, гады! — выругался Мишка. — Если б мне в руки попался хоть один такой мерзавец!..
— А как жили эти офицеры! — продолжал Смутни. — В белой армии сражались офицеры разных национальностей — чехи, словаки, поляки… Жили они на частных квартирах на главной улице, имели при себе денщиков… Ели, что хотели… пьянствовали, ухаживали за красивыми женщинами…
— И куда их послали?
— Куда? На фронт, конечно, в армию генерала Гайды… Сорок шесть тысяч солдат, из них две с половиной тысячи конников… Разбили нас красные под Самарой… Меня ранило. Это, собственно, и помогло мне отстать от части. Когда я выздоровел, меня направили в русскую белую часть. Так я оказался в бою против красных. Тимар находился вместе со мной… с той лишь разницей, что не был ранен ни разу…
— Ты не прав, когда говоришь, что все чехи — белые, — перебил его Тимар. — Есть среди них и большевики, так что не удивляйтесь, если у чехов в частях скоро тоже начнутся беспорядки. Симпатизирующие красным имеются и среди румын, и среди сербов… Да они везде есть… Разве что среди офицеров-колчаковцев нет.
— А сколько генералов ополчилось сейчас против Советской России! — продолжал Смутни. — Всех и не сосчитаешь!.. И все-таки их остановили. Больше того, разбили и теперь вот отбросили назад… А если б ты знал, сколько вооружения, боеприпасов и обмундирования поставляли белым интервенты! Негодяи мечтали о том, что будут посылать открытки в Прагу не откуда-нибудь, а прямо из Москвы…
Бургомистров вынужден был переводить все сказанное Смутни, так как тот говорил очень быстро, мешая словацкие слова с русскими.
Трое русских время от времени подтверждали то, о чем говорил Смутни. Особенно часто они вступали в разговор тогда, когда речь заходила о колчаковцах, с которыми всем им вот-вот предстояло встретиться.
— Офицерские роты у Колчака есть, — заметил Бургомистров. — Озверевшие типы, готовые пойти на все, лишь бы победить и вернуть потерянные ими имения и привилегии. Они готовы за это умереть… Они считают, что с их гибелью погибнет и Россия…
— А знаешь ли ты, товарищ Бургомистров, что если б я захотел, то тоже мог бы стать офицером? — произнес Рыжов, в недавнем прошлом студент. — Но я считаю, что мое место на стороне Советской власти… Жаль только, что мы слишком мягко относимся к нашим врагам, а следовало бы действовать более жестоко…
Яблочкин, работавший до войны портным в Москве, был немногословен, но и он на этот раз не сдержался:
— Вы правы, товарищ Рыжов!
В разговоре не принимал участия только Иванов. Смутни спросил его:
— А ты что думаешь, Михаил?
— Я ничего не думаю… — печально улыбнулся Иванов. — Я хочу мира, хочу вернуться домой, к семье, к земле, которую люблю, хочу на ней работать…
— Но ведь белые не хотят мира! — выкрикнул Смутни. — Ты же не допустишь, чтобы тебя подстрелили, как курицу? Или пусть сдирают с тебя кожу, пусть жгут тебе тело каленым железом?.. А знаешь за что? Да за то, что русские рабочие и крестьяне прогнали угнетателей!..
— Я никого не трогал… Оставьте меня в покое…
— Выпей, Михаил, — предложил Тимар Иванову. — И не бойся! Всякого, кто приблизится к пещере, мы уничтожим…
— Конечно, — поддакнул Имре. — Ничего не бойся, товарищ Иванов! Мы все продумали! Взгляни на эти стены! Да их ничем не пробьешь!..
— Жаль, что карт у нас нет, — сокрушенно вздохнул Смутни. — Тогда бы не было скучно.
— А пока остается любоваться пейзажем, — засмеялся Тимар.
— А чем тут любоваться?.. Поле, оно и есть поле… На горизонте хоть лес виднеется, но до него далеко. Сейчас хорошо бы искупаться в речке…
— Особенно если рядом купаются красивые девушки.
— Настоящего мужчину это всегда радует, — заметил Мишка.
— У нас в полку в санчасти есть одна санитарка, хорошая девушка! — сказал Смутни.
— Ты имеешь в виду Татьяну? — спросил Имре.
— За такой я готов куда угодно идти… — облизав пересохшие губы, проговорил Мишка.
Смутни подошел к одной из бойниц и, осмотрев местность, заметил:
— А что, если противник атакует нас ночью и зайдет не снизу, а сверху?.. Оттуда он может безбоязненно закидать нас гранатами и…
— Перестань! — оборвал его Имре. — Идет война, а на войне, как известно, все бывает. Не на гулянку же мы сюда пришли!
— Ну, ну… Посмотрим…
Весь день прошел в напряженном ожидании. Красноармейцы рассчитывали, что белые атакуют их днем, однако тех нигде не было видно. Двое наблюдателей, сидя у бойниц, не смыкали глаз, наблюдая за местностью. Сибирские ночи довольно светлые, так что наблюдение вели и ночью. Остальные красноармейцы крепко спали.
Около часу ночи неожиданно раздался первый выстрел.
— Подъем! Вставайте! — громко крикнул Тимар.
— Что случилось? — спросил Смутни, протирая глаза кулаками.
— Всем занять свои места! — крикнул Имре, вставая к одной из бойниц. — По-моему, на нас идут золотопогонники.
Противник выбрал самое темное время ночи, чтобы незаметно подойти к пещере на близкое расстояние. Откуда-то издалека послышалась артиллерийская канонада.
— По пещере бьют, — заметил минуту спустя Бургомистров. — Ничего, свод крепкий, выдержит.
Вскоре ружейная и пулеметная стрельба раздалась совсем рядом. Эхо гулко вторило стрельбе.
— Стреляют по меньшей мере из трех пулеметов! — прокричал Смутни, так как говорить нормально стало уже невозможно: не услышишь даже того, кто стоит рядом.
Вдруг Бургомистров выстрелил.
— В кого ты стрелял? — спросил его Имре.
— Посмотри сам!.. Видишь?..
Имре посмотрел в бойницу и сразу же заметил, как в темноте напротив них вспыхивали огоньки выстрелов. Трудно было только определить расстояние до них.
— Золотопогонники! — заорал Смутни. — Ребята, стреляйте!
Тамаш припал к пулемету и открыл огонь. Остальные вели огонь из винтовок. Пещера вмиг наполнилась страшным шумом, а через минуту в ней стало трудно дышать от порохового дыма. Бойцы начали кашлять, то и дело протирали слезившиеся глаза. А затем, как по команде, прекратили огонь.
— Подождите, ребята, дальше так дело не пойдет, — спокойным голосом произнес Тамаш. — Мы стреляли без толку, так как не видели цели… Давайте стрелять не все сразу, иначе мы быстро израсходуем патроны, а цели не поразим. Я буду руководить огнем!
В пещере установилась относительная тишина. Ее нарушал только свист пуль, ударявшихся о бойницы.
— Никто не ранен? Где Бургомистров? — послышался твердый голос Тамаша.
— Я здесь.
— Яблочкин?
— Живой!
— Рыжов?
— Тоже.
— Значит, никто не ранен!
— Пока никто!
— Смутни, бей по цели, что виднеется справа! Огонь!
Смутни дал из пулемета длинную очередь.
— Достаточно!
Минут через десять перестрелка на время утихла.
Затем высоко в небо взлетела ракета, осветив всю местность вокруг. И в тот же миг противник вновь открыл огонь по пещере.
Осажденные, не дожидаясь приказа Тамаша, открыли ответный огонь. И снова пещера наполнилась дымом и грохотом. Затем наступила короткая передышка.
— Черт возьми! — громко выругался Иванов. — У меня заело патрон…
— Возьми другую винтовку! А который сейчас час?
— Два часа…
— Скоро светать начнет…
— Какая винтовка была!.. — продолжал сокрушаться Иванов. — Когда кончится война, заберу ее домой… Будет с чем на оленей ходить…
— А ты еще и охотник? — удивился Смутни.
— Жить ведь чем-то надо было.
Дым рассеивался медленно, так как бойницы были узкими, и Яблочкин начал энергично размахивать шинелью, чтобы поскорее выгнать дым.
Через минуту белые снова открыли огонь, на этот раз сосредоточенный.
— Бог мой! — вздохнул Мишка Балаж. — Вот когда начинается настоящее представление!..
— Я насчитал у них четыре орудия! — бросил Тимар.
И вдруг раздался сильный грохот. Когда он стих, Мишка Балаж воскликнул:
— А ведь это громыхало на участке роты Серпухова!
— Черт возьми!
— Беляки перешли в атаку!.. — хриплым голосом прокричал Тамаш. — Огонь!
Первыми открыли огонь пулеметчики. Равномерное татакание пулеметов вселило в бойцов уверенность. Выражение страха исчезло даже с лица Иванова.
Колчаковские офицеры не выдержали и залегли. Казалось, что на этом бой закончится, беляки, испугавшись полного уничтожения, уберутся восвояси. Но это только казалось…
Вскоре снова заговорили пушки. Несколько снарядов попали в КП полка, со стороны которого послышались крики раненых…
Спустя минут десять появилась вторая цепь белых. Заметив попадания в КП, они с громкими криками «ура!» пошли на позицию Серпухова. И снова затараторили пулеметы, а офицеры все лезли и лезли.
На пещеру обрушился град пуль. Одна из них насмерть уложила Иванова.
— Сколько ящиков с патронами у нас осталось? — спросил Тамаш.
Тимар вытер рукавом потное, грязное лицо и, бросив беглый взгляд назад, ответил хриплым голосом:
— Всего один.
— Патроны экономить! — распорядился Тамаш. — Неизвестно, как чувствуют себя наши соседи справа и слева. Устоят ли? Эти офицерики как озверели: лезут и лезут! Стрелять только тогда, когда они подойдут совсем близко!
Все бойцы, находившиеся в пещере, перепачкались пороховой гарью.
Подразделения полка еще удерживали свои позиции, несмотря на ураганный огонь, который вел по ним противник.
Через четверть часа вновь наступила небольшая пауза. Чувствовалось, что обе стороны устали и хотели бы уточнить обстановку.
— Тш… — прошипел вдруг в наступившей тишине Тамаш. — Я слышу какой-то подозрительный шум!..
Все притихли. И действительно, послышались чьи-то шаги, хруст веток. Шаги приближались, хотя никого не было видно.
— Не трусить! — шепотом сказал Тамаш. — Хотят они этого или не хотят, но они вынуждены будут появиться перед нашими амбразурами: вход-то в пещеру у нас один… И как раз с этой стороны. А уж тут-то мы их встретим как положено!
От охватившего всех напряжения Тимар начал что-то тихонько насвистывать себе под нос.
— Прекрати! — прикрикнул на него Смутни. — С ума сойти с тобой можно!
— Боишься?
— А кто не боится?
— Тогда и ты свисти!
— Я тебе говорю: немедленно перестань свистеть! — Смутни, как петух, подлетел к Тимару, готовый ринуться в драку.
Подошедший Тамаш развел их:
— И не стыдно вам? Ведете себя как сопливые мальчишки!
— Чего он ко мне привязался? — пожаловался Тимар.
— Тихо! Ты что, в корчме, что ли, находишься? Рассвистелся тут!
Не поняв, о чем они так энергично спорят по-венгерски, Бургомистров спросил:
— О чем вы?
— Так, о ерунде, — ответил Смутни. — Беляки приближаются… Слышишь?
— Приближаются? — спросил подошедший Яблочкин, которого с трудом можно было узнать: так он перепачкался копотью.
Бургомистров вынул револьвер из кобуры и, встав к одной из бойниц, сказал:
— Я здесь буду стоять.
И в тот же миг сильный взрыв потряс стены пещеры. Казалось, это был не взрыв, а землетрясение. Бойцы недоуменно переглянулись.
— Что это такое? — первым нарушил молчание Лайош Тимар.
— Взорвали заряд, гады, хотят замуровать нас заживо или же выкурить, — объяснил Тамаш.
— Спецы! — Рыжов тихо засмеялся. — Этак они и на самом деле до нас доберутся…
— Тогда умрем, как полагается бойцам Красной Армии! — проговорил Тамаш. — Сейчас они еще раз попытаются подложить заряд или же рискнут спуститься в пещеру…
— Я бы на их месте действовал иначе, — начал философствовать Мишка Балаж. — Подполз бы к бойнице и бросил в нее гранату. Смотрите, чтоб этого на самом деле не случилось.
И в тот же миг Тамаш выстрелил из нагана. Кто-то громко вскрикнул.
— Ну, что я вам говорил? — торжествовал Мишка. — Пусть еще попробуют сунуть свой нос!
Прошло минуты три, и все увидели метрах в тридцати фигуру ползущего человека.
— Сейчас я его кокну! — предложил Рыжов.
— Осторожно, длинной очереди не давай. Жаль патронов на одного-то человека, — заметил Тамаш.
И все же очередь получилась длинной. Правда, Рыжов уложил не только ползущего офицера, но и нескольких других, которые скрывались за деревьями.
— Ну, эти уже больше не встанут, — съязвил Тамаш.
— Но и наше положение не мед, — с горькой усмешкой проговорил Смутни. — Патронов-то больше нет.
Пересчитали патроны. Оказалось, что в трех наганах осталось всего-навсего двенадцать патронов, а винтовочные патроны вообще кончились.
— Товарищи, — начал Тамаш, — давайте разберемся, кто из нас лучше всех умеет стрелять из нагана. Сами понимаете, в сложившейся ситуации дорог каждый патрон.
— Вот мы теперь и оказались в мышеловке. — Смутни горько усмехнулся. — С револьвером мы много не навоюем…
Рыжов вышел на середину пещеры и решительно заявил:
— Уж не думаешь ли ты сдаться? Иди к черту!.. Боишься?
— Разумеется, боюсь, — признался Смутни. — А ты разве не боишься? Тоже трусишь не меньше меня, только не признаешься. Стрелять из револьвера все равно буду я, так как на всех соревнованиях по стрельбе я всегда занимал первое место.
— И я тоже, — тихо проговорил Мишка.
— Мишка, ты пока лучше помолчи… Мы сейчас в такой ситуации оказались, что всем страшно! Но… — Тамаш не договорил, так как в этот момент перед пещерой взорвалась граната.
Смутни выстрелил, и офицер, бросивший гранату, упал на землю. Удачный выстрел настолько успокоил Лайоша Смутни, что он, улыбнувшись, спокойно сказал:
— Подождем следующего.
— Следующего я беру на себя, — предложил Бургомистров.
Ждать долго не пришлось. Однако следующему офицеру и гранату не удалось бросить: его уложил метким выстрелом Бургомистров.
— Издыхай и ты! — вырвалось у Балажа.
— У нас осталось десять патронов, — подвел невеселый итог Тимар.
А Смутни тем временем снова выстрелил, но на этот раз промахнулся и выругался:
— Мать его за ногу! Маху дал…
В следующую минуту Смутни и Бургомистров уложили еще двух офицеров. Осталось только семь патронов. Из-за кустов показалась фигура офицера. Грянул выстрел, но офицер почему-то не упал.
— Не стреляйте по нему! — шепнул Тамаш. — Мерзавец решил подойти к нам, прикрываясь трупом своего товарища. Смотрите, как у того болтается голова!
— Ну и гады! — процедил сквозь зубы Смутни.
Перед пещерой разорвалась граната. Густое облако дыма мешало увидеть, кто ее бросил. Когда дым рассеялся, бойцы увидели, что к ним ползли сразу несколько офицеров. Пересчитали: оказалось — пятеро.
Смутни метким выстрелом уложил того, кто полз первым.
У защитников пещеры осталось всего-навсего четыре патрона.
Новый взрыв гранаты, и опять Бургомистров уложил очередного беляка.
Остальные офицеры испуганно попрятались за деревьями и оттуда бросили несколько гранат, которые, кроме как дымом, ничем не могли повредить защитникам пещеры.
Тамашу удалось убить еще одного золотопогонника.
В двух револьверах осталось по одному патрону.
Словно почувствовав, что у осажденных кончились боеприпасы, офицеры поднялись во весь рост и направились к пещере. Но прогремели два выстрела, и два беляка грохнулись на землю. Остальные офицеры отпрянули назад и попрятались за деревьями.
— Патронов больше нет… Правда, у меня есть одна граната, — сказал Тамаш.
Пороховой дым рассеивался медленно. В полумраке семь бойцов сбились в одну кучку перед выходом из пещеры, в которой им, по-видимому, суждено было умереть. Всех их ждала судьба простого русского мужика Иванова.
Во внезапно наступившей тишине отчетливо слышался каждый звук снаружи. Откуда-то справа раздавалась ружейная стрельба, доносились стоны раненых.
Имре Тамаш по очереди пожал руки товарищам. Все последовали его примеру. Прощались торжественно, как прощаются перед дальней дорогой.
— Прости меня, товарищ, — шепнул Смутни Тимару. — Я не хотел тебя обидеть…
Стало совсем тихо. Семеро бойцов, побледневшие от близкой смертельной опасности, уставились на выход из пещеры, где вот-вот должен был появиться враг… А у них всего одна граната.
Прошла минута, другая… десять… полчаса… Никто не шел.
«Что бы все это могло значить?» — билось в голове каждого из бойцов.
И вдруг послышалось легкое потрескивание… В щели и входную дыру медленно поползли тонкие струйки дыма.
— Лес подожгли, гады! — почти в один голос сказали Имре и Лайош. — Выкурить нас хотят, как крыс!..
В ОПАСНОСТИ
Керечен протер глаза и с удивлением отметил, что солнце уже поднялось высоко.
«Ну, и крепко же я спал», — подумал Иштван и стал искать взглядом рыжеволосого торговца, но его нигде не было. Поезд стоял на какой-то станции.
Иштван легонько толкнул Шуру локтем и спросил полусонным голосом:
— Где мы?
— В Тюмени…
— Что-нибудь случилось?
— Нет, ничего.
Пассажиры лениво потягивались. Татарина тоже не было. Народу в вагоне стало еще меньше: слезло человек десять, и среди них жулик, одетый отшельником. Заметив, что мешок рыжеволосого остался без присмотра, жулик сразу же завладел им. Никого из пассажиров исчезновение рыжего не заинтересовало. О нем просто забыли.
Керечен сначала подумал о том, что, пожалуй, ему с Шурой лучше немедленно перебраться в другой вагон, а то, может, торговец, чего доброго, и в самом деле отправился в комендатуру доносить на них. Однако потом Иштван решил, что их переселение у всех на виду в другой вагон покажется подозрительным.
Прошло с полчаса, когда старуха первой заговорила о торговце.
— Рыжий-то, видать, слез с поезда? — спросила она, ни к кому не обращаясь.
Керечен помог Шуре сойти на перрон.
— Знаешь, Шурочка… Я думаю, нам лучше пока не сидеть в вагоне. Если рыжий действительно ушел доносить на нас, то нам лучше побродить по станции.
На станции то и дело гудели паровозы: одни составы прибывали на станцию, другие отправлялись на фронт, увозя в вагонах-теплушках солдат. Слышался лязг буферов, перестук вагонных колес. В воздухе пахло паровозной копотью, селедкой, чесноком и кислой капустой. Такую картину в то время можно было наблюдать не только в Тюмени, но почти на любой узловой станции.
Прошел час, другой, а рыжий торговец все не возвращался…
Наконец путь освободился, и было объявлено, что через пять минут их поезд отойдет.
Керечен и Шура залезли в свой вагон. Пока они бродили по станции, в вагоне появились новые пассажиры. Это были пятеро тюменских служащих, весь багаж которых состоял из довольно тощих портфельчиков. По сибирским понятиям, все они ехали на небольшое расстояние — до Омска.
Новые пассажиры принесли с собой новые известия. Разумеется, сначала они взяли слово с пассажиров держать все услышанное в тайне, а потом рассказали, что части Красной Армии быстро и успешно продвигаются вперед и не сегодня-завтра возьмут Екатеринбург.
Поезд между тем тронулся, а рыжий так и не появился в вагоне.
— Знаете, — объяснял любопытствующим пассажирам чиновник в пенсне, — сейчас на Сибирской магистрали самое оживленное движение. Войска интервентов бегут из России, увозя с собой все ценности, какие только способны увезти. Здесь они отнюдь не чувствуют себя в безопасности, так как белые контролируют довольно узкую полосу шириной не больше двухсот километров к северу и югу от железнодорожной магистрали, а остальная территория находится в руках партизан. Интервенты не осмеливаются отклоняться от железной дороги, так как очень боятся партизан. Когда же кулакам удается схватить красноармейцев или партизан, они их или же сразу убивают, или мучают до смерти. Сейчас развелось очень много дезертиров, которые буквально осаждают поезда. Самое страшное заключается в том, что дезертиры разносят тиф. Сейчас от тифа умирает народу больше, чем погибает на фронте. Белочехи на всех станциях устраивают облавы и всех подозрительных сразу же снимают с поезда.
— А почему эти чехи не едут к себе домой? — спросила женщина в платке.
— Если бы да кабы… — заметил кто-то.
День сменялся ночью, ночь — днем. Поезд приближался к Ачинску, последней крупной станции перед Красноярском. Из пассажиров, которые сели в вагон в Екатеринбурге, кроме Керечена и Шуры остался только якут, с которым Иштван очень сдружился за долгую дорогу. Они с Шурой охотно угощали его хлебом, поили кипятком и с интересом слушали его рассказы о родном крае, об оленях, ездовых собаках, страшных морозах, диких зверях, медведях, волках и полярных лисицах.
— Послушайте, наша что-то скажет, — понизив голос до шепота, проговорил как-то якут. — Только ваша никому не говорить… Я знаю, что стало рыжий купец… Когда поезд Тюмень подходил, купец мало-мало спал… Пьяный купец была. Наша старый человек, плохо спит… Наша свой глаза видел, что сделала татар с купец. Татар украла кошелек с кармана… Рыжий не сама упал поезда… нет-нет… Татар тоже прыгнул поезд, когда она медленно-медленно пошла…
Иштван посмотрел на Шуру, а затем тихо сказал:
— Теперь уже ничего нельзя сделать…
— А ваша что хотела сделать? — не успокаивался якут.
— Татарин сказал мне, что он знает купца, что тот — грязный доносчик и что в Тюмени он донесет на всех нас.
Якут улыбнулся:
— Так сказала татар?.. Маленький вор… Наша понимает, не ваша крал богатый купец. Кто ваша такая? Бедный человек. Наша тоже такой… Татар толкнула купец, чтобы он не поднимал скандал за деньги…
— Мне татарин сказал, что он беспартийный большевик, — заметил Керечен.
Брови якута удивленно поползли вверх:
— Беспартийный большевик? Теперь каждый говорит себя политик…
«С какими только людьми не встретишься в пути! — подумал Иштван. — Нужно быть очень осторожным, сейчас развелось много жуликов и всяких негодяев». И машинально схватился за карман: бумажник лежал на месте.
На больших станциях, где поезд стоял подолгу, Иштвана, выходившего на перрон, чтобы немного размяться, останавливал капитан Бондаренко и рассказывал новости, а иногда приглашал сыграть с ним партию в шахматы.
С особой радостью Бондаренко сообщил Керечену о том, что революцию в Венгрии потопили в крови и что он, Иштван, скоро вернется к себе на родину и, как юрист, примет самое активное участие в наказании бунтовщиков.
— Господин подпоручик, могу вас заверить в том, что венгерские офицеры и все благородные представители венгерского общества как подобает расправятся с бандой повстанцев. Да-да, не удивляйтесь! Я объявляю вам шах!.. Нет-нет, вы не так пошли… Ну хорошо, через несколько ходов я покажу вам где раки зимуют!.. Только не думайте, что мы находимся в спячке. Сейчас наше командование производит перетасовку войск на Уральском фронте, а осенью, когда закончится переформирование, мы перейдем в крупное контрнаступление. К рождеству мы полностью разгромим красных… Ну-ну, не извольте шутить и оставьте в покое свою ладью!.. Ведь я снова объявил вам шах… И тогда Россия вся будет освобождена. Вот тогда-то и настанет час расплаты со всеми, кто затеял эту революцию…
Керечен молча слушал разглагольствования капитана, а сам думал: «Говори, говори, аристократ недобитый! Недолго тебе осталось болтать, настанет и для тебя черный день… А пока я покажу тебе, как нужно играть в шахматы, надутый гусак!..»
— Шах! — громко объявил Иштван.
Бондаренко явно не ожидал такого поворота. Почесав мочку уха, он пробормотал:
— Господин подпоручик, играть в шахматы вы умеете… Однако это еще ничего не значит… Большой беды для себя я не вижу… Скажите, а кто такая эта симпатичная курочка, с которой вы обычно прогуливаетесь на станциях?
Керечен сделал вид, будто не расслышал вопроса.
— Еще раз шах! — объявил он капитану.
— Но-но… Что такое?.. Где вы откопали девчонку? Вы с ней спите?
— Нет, это бедная сирота. Она едет к дядюшке в Красноярск. Я ее оберегаю, чтобы какой-нибудь мерзавец не обидел.
Бондаренко настолько задумался над очередным ходом, что не обратил особого внимания на слова Керечена.
— Из этого положения я найду выход… Ну, вот видите, вы мне уже больше не угрожаете… Теперь мой ход… Девчонка очень мила… Очень мила… — повторил офицер еще раз. — Скажите ей, что если она хочет, то может навестить меня в моем купе.
Керечен молчал. Уставившись на шахматную доску, он старался сдержаться и не нагрубить офицеру.
Однако от капитана не ускользнуло замешательство Иштвана.
— Ну, хорошо, хорошо. Я вас понимаю, — начал он. — Я на вашем месте тоже не отдал бы другому своей женщины. Я не против, побалуйтесь… Я согласен на ничью. Благодарю вас за партию… Знаете, до Красноярска ведь осталось не больше двух-трех суток пути и вашей свободной жизни скоро придет конец!
— Я это прекрасно понимаю, господин капитан.
— Мне нравится, что вы с такой выдержкой относитесь к своей судьбе и не пытаетесь бежать. Недаром про меня говорят, что я прекрасно разбираюсь в человеческой психологии. Я с первого взгляда разглядел в вас благородного человека… — Офицер громко рассмеялся, а затем продолжал: — Хотя, можете мне поверить, в тех живописных лохмотьях, в каких я вас увидал, нелегко было угадать офицера австро-венгерской армии!
Керечен отвесил офицеру вежливый поклон и высокопарно проговорил:
— Господин капитан, я дал вам честное слово офицера, что не сбегу… Это слово и мое звание обязывают меня к этому.
— Понятно, — кивнул Бондаренко. — Честное слово офицера — самое надежное слово на свете.
Керечен не стал спорить с Бондаренко, и они расстались друзьями.
Поезд вскоре тронулся, и Иштвану показалось, будто он пошел с большей скоростью.
Когда приехали в Ачинск, перед каждым вагоном очутились белочехи — солдаты и офицеры. И те и другие в новеньком, с иголочки, обмундировании. Было объявлено о проверке документов, до окончания которой никто не имел права выходить из вагона. На перроне стояли три станковых пулемета, готовые в любой момент открыть огонь.
Проверка длилась утомительно долго. Вагон, в котором ехали Керечен и Шура, был шестым от хвоста эшелона. Сейчас в вагоне находилось только трое: Иштван, Шура и старый якут.
— Вас так мало? — спросил подошедший к их вагону офицер. Он говорил по-русски, но с заметным иностранным акцентом.
— Все давно сошел, господин большой начальник, — ответил за всех якут.
— Прошу предъявить документы!
Сначала патрульные проверили документы у якута.
— Можете ехать дальше! — махнул рукой офицер.
Настала очередь Шуры. Офицер несколько раз смотрел то в паспорт Шуры, то на ее лицо, словно сравнивал, ее ли это документ. Затем отдал ей паспорт и, небрежно козырнув, сказал:
— Благодарю вас. У вас все в порядке.
— А вы кто такой? — спросил лейтенант Керечена. — Куда едете?
— В Красноярск, в лагерь для военнопленных офицеров, — спокойно ответил Иштван.
Лейтенант с удивлением уставился на венгра:
— Без сопровождающего? Я такого еще никогда не видел.
— У меня есть сопровождающий.
— Где он?
— Это господин капитан Бондаренко. Он едет в первом классном вагоне.
— Вот как? Не принимайте нас за глупцов! С каких это пор одного военнопленного сопровождает офицер, да еще в чине капитана?
— Об этом вы спросите самого капитана Бондаренко.
— Ваши документы!
Керечен протянул лейтенанту направление и личный жетон.
Офицер внимательно разглядывал и то и другое.
— Ваша фамилия?
— Доктор Йожеф Ковач.
— Выходит, вы венгр? — И офицер заговорил на чистейшем венгерском языке. — Ваше звание?
— Подпоручик.
— А почему вы до сих пор не в офицерском лагере?
— Я жил на Урале, где работал в имении одного крестьянина. Там меня и встретил господин капитан и забрал с собой.
— Кончайте свои шуточки! — Лейтенант рассмеялся Иштвану прямо в лицо. — Дурите голову кому-нибудь другому, но не мне!
Шура, стоявшая тут же, не понимала, о чем они говорят, но, видимо, чувствовала, что ее дорожный знакомый попал в неприятную историю. Она нервно перебирала пальцами.
— Прошу проверить сказанное мной у капитана Бондаренко!
— Увести его! — Офицер сделал знак солдатам.
Как Керечен ни возражал, как ни протестовал, его сняли с поезда и повели в зал ожидания на вокзале, где уже собралось человек двадцать таких же, как и он, неудачников. Они стояли у стены под присмотром нескольких часовых. Разговаривать задержанным запрещалось. Тем временем солдаты приводили все новых и новых людей.
И только тут Керечен вспомнил, что его вещмешок с продуктами и деньгами остался в вагоне, а в кармане у него было не больше двадцати рублей.
«Однако, если меня расстреляют, деньги мне не понадобятся, — с горькой усмешкой подумал он. — Вещички мои Шура, наверно, заберет себе. Бедная девушка… Что-то она будет делать одна?.. Интересно, что они со мной сделают?.. Повесят или расстреляют?.. Среди белочехов много уроженцев Северной Венгрии. Они прекрасно говорят по-венгерски. Да и как же им не говорить по-венгерски, если для многих из них это родной язык? Уж они-то прекрасно знают все тонкости субординации в австро-венгерской армии! Они и сами были офицерами этой армии и так же, как венгерские офицеры, оканчивали офицерские училища.
Если они сейчас засыплют меня вопросами, то, без сомнения, разоблачат. Лишь бы только не догадались, что я служил у красных. Иначе они без угрызений совести пустят мне пулю в лоб… Это еще хорошо, а то, чего доброго, мучить начнут… Прекрасные перспективы!.. А я-то, дурак, еще о любви мечтал, о красивой жене, о детях… Умрешь бесславно в далекой холодной Сибири. Тебе даже голову не обреют перед расстрелом. Хорошо было шутить о смерти в юности, когда я только начинал военную службу в Эгере… А вот теперь, когда она совсем рядом?!»
— Смирно! — подал кто-то команду на чешском языке.
Солдаты замерли по стойке «смирно».
Доложив подошедшему офицеру, унтер-офицер приказал всем задержанным сделать два шага вперед, а потом повернуться налево.
Большинство задержанных, не понимавших по-чешски, не знали, чего именно от них хотят, но, глядя на других, тоже повернулись налево.
В конце зала ожидания за грубо сколоченным столом сидели несколько офицеров; они, видимо, являлись членами какой-то военной комиссии. Начался своеобразный допрос.
Керечен нервно переступал с ноги на ногу. Проверка и допрос тянулись очень долго.
«Сколько времени прошло с тех пор, как меня задержали? — думал Иштван. — Час? Два? Или и того больше?»
Троих из задержанных отпустили, и они, счастливые, поспешили покинуть зал ожидания.
Через несколько минут отпустили еще троих.
«А если поезд тронется?.. Шуре придется ехать до Красноярска одной…»
Самые разные мысли лезли в голову Иштвану. Мысленно он увидел себя совсем мальчишкой… Играет во дворе у соседа Пишты Надя… Поскольку они были тезками, Надя звали Большим Пиштой, а Керечена — Маленьким Пиштой. Вот он, босоногий, в коротких драных штанишках, стоит у калитки в огород… Отец Пишты делал гребешки из коровьих рогов. Когда же вокруг него собирались детишки, он брал дудочку и играл на ней, а они все вместе пели. Что же они пели?.. Он уже не помнит. Затем мысли Керечена снова вернулись к Шуре. Потом он вспомнил Имре Тамаша.
«Что-то сейчас на родине делается? Из Венгрии приходят невеселые вести. У стран Антанты чересчур длинные руки. До Венгрии им можно скорее дотянуться, чем до далекой Сибири. Меня судьба настигла здесь… Сколько же часов мне осталось жить? Ну, уж раз суждено умереть, то сделать это нужно достойно…»
Очередь дошла до Иштвана.
— Вы подпоручик доктор Йожеф Ковач? — спросил его один из сидевших за столом офицеров. — В каком полку служили?
— В Эгере, в шестидесятом.
— В чьей роте?
Такого вопроса Керечен не ожидал и потому смущенно пробормотал:
— Я сейчас уже не помню.
— Не помните?.. — Офицер ехидно засмеялся. — Тогда я задам вам вопрос полегче. В какой части Красной Армии вы служили?
Керечен молчал.
— Убрать! Расстрелять! — распорядился офицер.
И сразу все краски жизни померкли в глазах Иштвана. Он только чувствовал, что его толкают в бок чем-то твердым.
В этот момент он услышал отборную русскую брань. Иштван находился в таком состоянии, что не сразу все понял.
— Кто вам разрешил распоряжаться моим пленным?! — Это был голос капитана Бондаренко.
— Господин капитан, этот тип показался нам очень подозрительным.
— Меня нисколько не интересуют ваши подозрения! За этого человека отвечаю я. Понятно вам? Я его везу и должен сдать живым и здоровым в комендатуру! Требую немедленно освободить его из-под стражи!
— Но, господин капитан… — начал было чешский офицер.
Однако Бондаренко так разошелся, что уже не говорил, а кричал:
— Вам недостаточно слова офицера армии его императорского высочества?! Неслыханная дерзость!
Бондаренко буквально вырвал из рук чеха документы Керечена. Чех встал и сердито крикнул часовым, которые уже уводили задержанных:
— Остановитесь!
Капитан Бондаренко схватил Керечена за руку и, не отпуская его, вывел из зала ожидания. Неподалеку от входа в станционное здание Иштван увидел насмерть перепуганное бледное лицо Шурочки.
Оказавшись на перроне, капитан отдал Керечену документы и строго сказал:
— На будущее будьте осторожнее!
— Благодарю вас, господин капитан!
Бондаренко по-дружески похлопал Иштвана по плечу:
— А вы, я вижу, замечательный парень!.. Жаль, что скоро мне придется расстаться с вами. Собственно говоря, почему чешский офицер хотел вас пустить в расход?
— Я и сам этого не понял, господин капитан…
— Что же творится сейчас у нас в стране?.. Выходит, что мы уже не хозяева положения?.. Куда мы только идем?.. Вернее, не идем, а катимся? Любой иностранец, находящийся в России, командует здесь, как у себя дома, а мы, коренные жители и хозяева страны, должны все это терпеть! Стыд и позор! Я рад, что вовремя подоспел… А сейчас скорее бегите к своему вагону! Эшелон вот-вот тронется!
Бондаренко повернулся кругом и большими шагами направился к своему вагону.
Шура, радостная и счастливая, схватила Керечена под руку:
— Ой, удалось!.. Я бы под поезд бросилась, если б тебя увели…
— Шура!
— Иосиф!
Керечен только сейчас полностью сбросил с себя то оцепенение, в которое повергли его слова белочешского офицера: «Убрать! Расстрелять!»
Бондаренко прыгнул на подножку классного вагона. В этот момент поезд медленно тронулся с места.
— Побежали! — крикнул Иштван Шуре. — А то еще, чего доброго, отстанем!
Ему удалось подсадить девушку в вагон, а сам он, ухватившись за железную задвижку, повис в воздухе, так как поезд уже набрал скорость и бежать за ним Иштван не успевал. Собрав все силы, он подтянулся и с трудом влез в вагон. Ему помогла Шура. Иштван и не думал, что у этой хрупкой девушки может быть такая сила.
Оказавшись в вагоне, Иштван сначала бросил взгляд на свой вещмешок: он был цел и лежал на своем месте.
Немного отдышавшись, Иштван спросил девушку:
— Шура! Скажи, это ты бегала к Бондаренко?
— Я, Иосиф.
— А почему так поздно?
— Я никак не могла разыскать его… Его долго не было в вагоне. Он играл в шахматы на станции с одним офицером…
— Черт бы его побрал!.. Ну уж на сей раз он наверняка получит мат!
— Я в этом ничего не понимаю.
— А куда делся старик якут?
— Перешел в другой вагон. Там он встретил земляков.
— Шура, знаешь, как я тебя люблю?..
— Знаю…
Иштван схватил девушку, обнял и быстро закружил по вагону.
Шура, обнимая его за шею, радостно шептала:
— Живой! Живой!
— Живой, Шура!.. Живой и буду жить!
Солнце в тот день парило, как в тропиках. Ночью прошел дождь, и листва деревьев и кустарников, омытая влагой, блестела, как глянцевая.
В душе у Шуры все пело. Девушка прижалась губами к лицу Иштвана.
Паровоз, тяжело пыхтя и отдуваясь, пускал в небо мириады горящих искр и тащил эшелон дальше на восток. Вокруг шли бои. Шла война между красными и белыми, между революционерами и контрреволюционерами. Многим событиям суждено было стать историческими и сыграть свою роль в рождении новой эпохи… А в вагоне-телятнике два еще недавно незнакомых человека, озаренные внезапно вспыхнувшей любовью, забыли в этот момент обо всем на свете…
Косые солнечные лучи с любопытством заглянули в открытую дверь вагона и крохотное, забранное железной решеткой окошко.
Красноярск!..
Еще один поцелуй…
Капитану Бондаренко подали на станцию экипаж. Капитан лично отвез Керечена в военный городок, проводил к начальнику лагеря и рассказал ему, при каких обстоятельствах он встретился с пленным венгром.
Русский начальник лагеря выслушал капитана с довольно равнодушным видом и передал Иштвана в распоряжение пленных австрийских офицеров, в руках которых, по существу, находилась вся власть над обитателями лагеря. Австрийцы с еще большим безразличием занесли вновь поступившего в списки и выдали ему пятьдесят рублей. На этом, собственно, и закончились все формальности.
Так Иштван Керечен, выдавший себя за подпоручика Йожефа Ковача, стал узником офицерского лагеря. Он имел право свободно ходить по всей лагерной территории, обнесенной дощатым забором, по верху которого тянулась колючая проволока.
На всякий случай новичка предупредили о том, чтобы он не вздумал бежать из лагеря, так как на каждой деревянной вышке, что стояли по углам, днем и ночью дежурили часовые, которым приказано было стрелять без всякого предупреждения по любому, кто попытается перелезть через забор. В случае необходимости, если на это будет уважительная причина, пленного могут отпустить в город, выдав для этого специальный пропуск.
Господин подпоручик императорско-королевской армии Йожеф Ковач получил место в комнате номер девять пятого барака. Ему выдали обмундирование: темно-зеленый френч с погонами, серые брюки бриджи, новые ботинки и краги. Кроме того, он получил подбитый ватой китайский халат из серого шелка, белье и одеяло…
В продолговатой комнате на небольшом расстоянии друг от друга стояли железные койки, между которыми помещались лишь маленькие тумбочки. На стене были прибиты вешалки, а по углам стояли два больших платяных шкафа, сколоченных из грубо отесанных досок. Приятным сюрпризом явилось то, что над каждой кроватью висела керосиновая лампа.
Иштван остановился в дверях и представился:
— Подпоручик доктор Йожеф Ковач!
— Сервус! — произнес маленький худой человечек, который почему-то напомнил Иштвану серую мышку. — Это ты знаменитый Ковач? Мы о тебе уже слышали. Ну и везучий же ты!.. Вон у двери свободная кровать, вчера освободилась… Человека, который на ней спал, унесли. Он несколько месяцев находился в состоянии глубокой апатии. Ни с кем не разговаривал. С ним и в сумасшедшем доме не знали, что делать… Прислали оттуда обратно, а вот вчера забрали…
— Куда? — спросил Керечен с нескрываемым любопытством.
Человек с глазами серой мышки вздрогнул. По лицу его пробежала тень.
— На кладбище, — тихо проговорил он.
УМЕРЕТЬ НЕ ТАК-ТО ПРОСТО!
С каждой минутой дышать становилось все труднее и труднее. Густой желтый дым медленно заползал в пещеру через все щели. Снаружи время от времени раздавались редкие одиночные выстрелы.
Белые рассчитывали, что защитники пещеры, лишенные свежего воздуха, рано или поздно будут вынуждены вылезти из нее, а наверху их мгновенно уничтожат прицельным огнем. О том, сколько человек находится в пещере, белые не знали и поэтому не решались подойти к осажденным ближе, предпочитая держаться от них на приличном расстоянии.
Мишка Балаж, задыхаясь от едкого дыма, закашлялся.
— Имре, — с трудом остановив кашель, проговорил он, — я больше не могу. Взорви ты свою гранату!.. Уж раз суждено нам умереть, умрем все сразу и по-человечески…
— Что он говорит? — спросил у Имре Яблочкин.
Смутни перевел ему слова Мишки. Яблочкин тоже задыхался, но такая мысль ему еще не приходила в голову. Он достал из кармана фотографию жены и, близко поднеся к глазам, скорбно посмотрел на нее. По грязным щекам его покатились слезы.
— Выжгут нас беляки, как клопов… По-моему, нам действительно лучше всем сразу умереть.
Рыжов отвернулся от товарищей, чтобы никто не видел его лица. Возможно, он просто не хотел показывать, что боится смерти. Он закурил. Глядя на него, можно было подумать, что он спокоен, однако голос выдавал его волнение.
— Я готов, — проговорил Рыжов и отошел в угол пещеры, как ребенок, который ищет убежища от возможного наказания. Оттуда ему не будет видно, как Имре будет доставать гранату, а возможно, он даже не услышит, как она взорвется.
Хорошо бы умереть быстро, без мучений… Больше он уже никогда не переступит порог университета… Ни математика, ни химия ему больше уже не нужны… Ему больше не увидеть Людмилы… Не будет он больше летними вечерами бродить по Москве или сидеть под развесистыми деревьями… Если б не война, он мог бы стать инженером… Пусть взрывают гранату, да и дело с концом!..
Рыжов затянулся сигаретой и заметил, как сильно дрожали у него пальцы. Чтобы этого не было, он сжал пальцы в кулак, но дрожали не только руки, но и ноги. «Боюсь! — мелькнула у него мысль. — Я, Виктор Емельянович Рыжов, студент университета, московский большевик, испугался смерти. Разумеется, мне бы еще жить да жить… Но теперь это уже невозможно. Через минуту-другую кусок железа перебьет мне вену — и конец. Какая несправедливость!.. Хоть бы еще одну сигарету успеть выкурить…»
Виктор бросил на землю окурок, который уже жег ему пальцы, и затоптал ногой, будто это сейчас имело какое-нибудь значение. И тут же достал из кармана целую сигарету. Дрожащие пальцы плохо повиновались ему.
— Бросай свою гранату, черт бы ее побрал! — умоляющим тоном проговорил Смутни. — Не тяни попусту время! Или ты хочешь, чтоб мы все задохнулись?
И Смутни схватил Имре за руку, стараясь отнять у него гранату.
Имре оттолкнул его от себя:
— И не стыдно тебе? Совсем голову потерял!
— Взрывай гранату, а то пристрелю! — заорал Смутни, вытаращив глаза. — Ты завел нас в этот каменный мешок!.. Полководец тоже мне нашелся!.. Кончай свою операцию!
— Тихо! Замолчать! — рявкнул на него Имре. — Если ты сейчас же не замолчишь, я сам задушу тебя! И ты умрешь позорной смертью!
— Позорной смертью? — прохрипел Смутни. — И это говоришь ты?! А если от твоей гранаты я не погибну, а буду только ранен, что тогда?.. Беляки схватят меня, полуживого, и будут пытать… И все из-за тебя!.. Крыса ты пещерная!.. Рви гранату, мать твою так!
Смутни замахнулся, чтобы ударить Имре, но Тимар перехватил его руки, крепко стиснув в запястьях.
Бургомистров, не понимавший по-венгерски, увидев, что они готовы задушить друг друга, одним прыжком оказался возле:
— Ну что это такое?.. Не надо!.. Так нельзя, товарищи!
Мишка Балаж, чиркнув спичкой, осветил бледное лицо Имре с застывшей улыбкой на губах.
— А ты не боишься? — спросил Имре Мишку.
Мишка отбросил сгоревшую спичку.
— Черт его знает! — ответил он. — Сказать, что боюсь, стыдно, а сказать, что не боюсь, — значит попросту соврать… Да и какое это сейчас имеет значение?.. Теперь, все равно… Давай-ка, товарищ, лучше попрощаемся! Дай я тебя обниму, дружище! У меня до тебя не было такого друга!
Имре и Мишка крепко обнялись.
— Спасибо, — шепнул Мишка. — А теперь и правда рвани свою штуку!
— Славный ты парень, Мишка! — сказал Имре, давясь кашлем от душившего его дыма. — Умереть хорошо… Если б я был в этом уверен, то давно бы вырвал чеку из гранаты… но я одумался. А если Смутни прав? А что, если граната не убьет нас, а только ранит? Что тогда?.. Вот тогда-то и придется нам умирать от пыток белых!
Смутни тем временем успокоился и перевел слова Имре на русский.
Трое русских одобрительно закивали.
— Вы что, думаете, мне очень уж хочется покидать этот мир? Думаете, легко подорвать себя и вас?..
Смутни в благородном порыве подошел к Тамашу и, обняв его, расцеловал в обе щеки.
— Сдавайтесь, красные собаки! — послышались крики белых.
Никто из узников пещеры им не ответил. Имре хотел было что-то сказать Смутни, но не смог. Голова у него закружилась, перед глазами заплясали разноцветные круги. В этот момент он почему-то ясно увидел родную деревню. В ушах у него зазвучала песня: «На нашей улице свадьба…»
«Что это? Галлюцинация?.. Как отчетливо я слышу звуки оркестра!.. Только оркестр какой-то странный. Огромная красная крыса изо всех сил дует в медную трубу, а зеленый медведь ожесточенно щиплет струны виолончели… А громадный, величиной с корову, лиловый паук наигрывает на скрипке… Что это такое? — Имре дотронулся рукой до лба. — Хочу бросить гранату и не могу… Черт бы меня побрал! Не могу, и все!.. «На нашей улице свадьба…» Я же всех погублю!»
Шесть смертельно бледных лиц уставились на него. Они ждали от него смерти, которая была сейчас для них равносильна освобождению… Ждали с нетерпением…
Имре поднял руку, но Мишка успех схватить ее.
— А я что-то скажу вам, товарищи! — вымолвил он. — Нам, пожалуй, не мешает потянуть жребий, кому рвать гранату, а то так несправедливо… Возьмем семь спичек, у одной я обломаю головку… Кто ее вытащит, тому и рвать гранату…
Все посмотрели на Мишку, как на сумасшедшего, но он уже протянул им руку, в которой были зажаты семь спичек. Никто и не пытался перевести его предложение на русский язык. Каждое его движение было понятно и так…
Первым тянул жребий Имре, за ним сам Мишка, потом трое русских. Всем им достались целые спички. Тимару тоже. Последним был Смутни. Ему и досталась спичка с обломанной головкой…
Смутни побелел как полотно. Руки у него так дрожали, что Тамаш не рискнул отдать ему гранату.
— Не надо. Давай уж лучше я, — сказал Тамаш. Голос его звучал твердо и решительно. — Товарищи, за мной!.. — И он одним прыжком выскочил из пещеры, держа над головой гранату в зажатой руке.
Небольшая группа беляков, стоявшая метрах в тридцати от пещеры, оцепенела от неожиданности при виде выскочившего из самого пекла черного человека, который бросил им что-то под ноги. Не успели они опомниться, как раздался взрыв, разбросавший их по сторонам.
Тамаш вовремя успел броситься на землю. Вокруг пещеры, громко потрескивая, горел лес. Огромные языки пламени жадно лизали скалы.
Красноармейцы, держа винтовки со штыками наперевес, бросились вперед. Оказавшись на свободе, они моментально обрели вкус к жизни, за которую готовы были бороться до последнего.
— А где Смутни? — спросил Имре.
Все молча переглянулись. Смутни среди них не было.
«Что с ним? Убило осколком гранаты? Или он вообще не выбежал из пещеры?» Однако долго раздумывать о судьбе Смутни не было ни времени, ни возможности.
— Забирайте патроны у убитых! — решительно распорядился Имре.
Дым рассеялся, и все, как по команде, бросились на землю. И, нужно сказать, вовремя, так как где-то совсем рядом защелкали ружейные выстрелы.
— Сколько их? — тихо спросил Мишка.
— А черт их знает! — бросил сквозь зубы Тамаш. — Ты сколько патронов подобрал?
— Пять.
— Брось мне парочку!
Что такое пять патронов, когда у противника их сколько угодно! Но уж если им суждено умереть, то лучше погибнуть в открытом бою, чем задохнуться в пещере…
Смутни действительно остался в пещере. В самый последний момент нервы его сдали, и он не смог выбежать за товарищами. Ноги его подкосились, и он рухнул на землю, судорожно заглатывая широко открытым ртом густой дым. Придя немного в себя, Смутни посмотрел в угол, где лежал убитый Иванов, остекленевшим взглядом уставившись в свод пещеры. Лицо мертвого, освещаемое кровавыми отблесками пожара, казалось живым.
Смутни подполз к Иванову и, тронув его за руку, зашептал:
— Михаил… тебе хорошо?.. Не сердись на меня. Дай табачку. Тебе он все равно больше не нужен. Я хочу в последний раз закурить…
Лайош залез в карман Иванову, нащупал там кисет, но никак не мог его вытащить. Тогда он повернул убитого на бок. Иванов оказался очень тяжелым.
«Вот странно! — мелькнуло у Смутни в голове. — Убитый кажется намного тяжелее живого! А как повисла у него голова… Он даже будто улыбается… Но что это? — Лайош даже руку отдернул. — Боже мой! Невероятно, но факт!»
Смертельно раненный, Иванов упал на ручной пулемет, который держал в руках, и закрыл его своим телом. В пулемете оказался почти полный диск патронов. И никто не вспомнил об этом! Лайош схватился за голову.
— Михаил, Михаил, — бессмысленно шевелил он губами.
Страх у Смутни будто рукой сняло. Схватив пулемет, он бросился к бойнице и увидел, что белые приближаются к пещере. Лайош нажал на спусковой крючок, и пулемет ожил у него в руках.
Беляки не ждали столь неожиданного поворота дела и бросились бежать.
Имре удивился этому не меньше белых: такая помощь была им как нельзя кстати.
— Эй, ребята, собирайте скорее патроны! — крикнул он.
Минуты через три они уже набрали столько патронов, что смело могли отразить очередную атаку золотопогонников.
Пулемет, стрелявший из пещеры, почему-то замолк.
— Товарищи, внимание! Приготовиться к атаке! — скомандовал Имре.
И в тот же момент увидел Лайоша Смутни, который стрелой вылетел из пещеры и, пробежав несколько десятков метров, залег недалеко от своих.
— В атаку, вперед! — крикнул Тамаш, вскочив на ноги. — Хура!..
Красноармейцы бросились за ним, и венгерское «Хура!» слилось с русским «Ура!».
Белые офицеры тоже поднялись во весь рост. Завязался рукопашный бой. И хотя золотопогонники были обучены различным приемам штыкового боя, они не смогли устоять перед стремительным натиском красных. Четыре офицера упали как подкошенные. Упал Рыжов, сраженный пистолетным выстрелом противника. Бургомистрову пуля попала в голову, и он почти мгновенно умер.
Опомнившись от первой схватки, офицеры собрались в кучку. К ним начало подходить подкрепление.
Маленькой горстке смельчаков пришлось отходить назад.
Тамаш схватился врукопашную с длинным поручиком, который норовил проколоть его штыком. Имре, проворно отскочив в сторону, сам пырнул штыком противника, но попал только в плечо, сорвав с верзилы один погон.
Расстояние между ними становилось все меньше, и орудовать штыком было уже невозможно. Поручик попытался ударить Имре прикладом, но тот успел схватить офицера за руку и начал выворачивать ее.
Оба противника тяжело дышали. Схватка велась не на жизнь, а на смерть. Поручик изрыгал отборную матерщину. С огромной силой он бросил Имре на землю, но Тамаш не выпустил его руки и, падая, увлек поручика за собой. Белогвардеец был сильнее Тамаша, но Имре на несколько мгновений оказался в более выгодном положении.
— Чтоб ты сдох, белый гад! — выругался Имре и, изловчившись, всадил штык офицеру под сердце. Сам того не замечая, Тамаш заговорил вдруг по-русски: — Прощайся со своей поганой жизнью, мерзавец!
Офицер страшно заскрипел зубами. Глаза его налились кровью, и он весь сразу как-то обмяк…
Имре не раз приходилось видеть мертвецов, но в такой непосредственной близости он впервые наблюдал смерть человека. Словно загипнотизированный, Имре лежал рядом с офицером и не двигался. Почувствовав легкое головокружение, Имре хотел встать на ноги, но они не слушались его. Острая боль пронзила поясницу и левый бок. Имре провел рукой по боку и почувствовал на ладони липкую кровь… В пылу единоборства он даже не заметил, что был ранен.
«А где же моя фуражка? Упала, наверно, когда я боролся с этим верзилой… Что фуражка! О ране нужно побеспокоиться… Поблизости никого не видно. Только заколотый мною поручик… А ведь идет дождь… И довольно сильный…» Имре машинально снял с головы поручика фуражку и надел ее на себя.
Перед глазами Имре пошли цветные круги, и он потерял сознание…
Очнувшись, он не сразу понял, где он и что с ним: то ли все это — тяжелый, бредовый сон, то ли все это происходит на самом деле.
«Странно, что я до сих пор жив… — подумал Имре. — Какие-то незнакомые люди… Это солдаты… Только чьи? Свои или белые?.. — Имре напряг зрение. — Потом выяснится… Говорят по-русски… На всякий случай лучше не шевелиться…»
— Гришка, посмотри-ка, офицер! На голове офицерская фуражка!
— Точно. Видать, его красный бородач заколол…
— Ткни его еще раз!
— У, большевик! — крикнул солдат и ткнул штыком бородатого верзилу, которого убил Имре. Белые солдаты приняли поручика за красного.
Солдаты ушли.
Дождь уже перестал. Выглянуло солнышко. Повсюду, куда ни бросишь взгляд, валялись трупы. Бородатый офицер лежал к Имре ближе всех.
«Ужасно хочется пить! Так мучит жажда! Нужно подальше отползти от убитого поручика! — подумал Имре и, собрав остатки сил, медленно, сантиметр за сантиметром, пополз в сторону.
Преодолев ползком метра два, Имре оглянулся и вдруг заметил на поясе у офицера фляжку.
«Вода! Вода!» Все в нем всколыхнулось. Пересохшие губы зашевелились, но он не издал ни звука.
Имре пополз обратно. Он полз так медленно, что на преодоление этих нескольких метров, казалось, ушел целый час.
Дрожащей рукой сорвал фляжку с ремня. Начал откручивать пробку, но бессильные пальцы плохо слушались. Тогда он сунул горлышко фляжки в рот и, зажав пробку зубами, отвинтил ее… С жадностью опрокинул фляжку… Горло обожгло: во фляжке оказалась водка…
Имре вновь впал в забытье. Ему грезилось, будто он дома, в Венгрии, бродит по винограднику. На плече у него тяпка. Он идет по склону горы, смотрит вниз, на старинный город с маковками церквей, на квадратики черепичных крыш и зеленые кубики садов… Каким спокойным и мирным кажется отсюда город! А ведь в каждом доме — бедность, страдания. По улицам города медленно шагают толстопузые священники в рясах. По центральной улице мимо здания магистрата важно прохаживаются господа. Вид у них такой, будто город — их собственность. А вот и крестный ход с хоругвями и иконами. Священник показывает народу изображение какого-то святого, и в тот же миг все опускаются на колени. Военный оркестр играет австрийский гимн… Господские дочки в лучших своих нарядах… Где же и показать себя, как не на таком сборище!..
Вдруг эта картина исчезает, и ей на смену приходит другая. Имре видит самого себя. Вот он важно идет по дороге и гладит рукой шелковистые листья деревьев. Вот он садится под огромным орехом, который растет у дома Пирошки Сабо, развязывает свой вещмешок, острым ножом режет толстое белое сало и вместе с куском свежего хлеба отправляет его в рот.
На окраине города, где домишки прилепились на самом склоне горы, Имре встречает дядюшку Иштвана Дани. Он весь в морщинах. Говорит солидно и неторопливо, как все старики. Дани приглашает Имре зайти с ним в подвал:
— Я слышал, сынок, тебя жажда мучит, а? Выпей со мной стаканчик винца!
Имре идет за стариком и чувствует, как под ним колышется земля. Дани снимает с заплесневелой стены резиновый шланг и, опустив один конец его в бочку, засасывает золотистое вино. Вино искрится и переливается при свете горящей свечи.
— Хорошее винцо, доброе! — хвалит старик.
По мнению Имре, нет ничего прекраснее на свете, чем спелые виноградные гроздья на коленях у девушек, собирающих виноград.
Как хорошо чувствовать себя дома! Как приятно ходить по собственному дому, видеть родные лица близких тебе людей, трогать руками камни и деревья. Какое счастье — целовать родителей!
А вот и Пишта Керечен. Он такой нарядный, улыбающийся. В руках у него газета. Он еще издалека машет Имре…
И снова играет духовой оркестр. Но почему так жарко? О, да это и не Венгрия вовсе!.. Здесь горит лес… А вход в пещеру похож на что-то черное, страшное…
«Где я?.. Перед пещерой?.. Рядом бородатый белый офицер, который хотел убить меня. Но я жив… А где же его труп?.. А, вспомнил… Это Иштван убит. Нас осталось семеро… В пещере полно дыму… Они выбежали из нее… Но где же тогда Смутни?.. Граната так рванула, что…»
Да-да, война еще не кончилась, а он не может встать, будто его чем-то придавило… Почему же он не может встать? Почему все тело будто свинцом налилось?..
Спать. Спать.
И снова Имре видит себя в родном городе. Пирошка целует его. У нее сладкие, как мед, губы… Сказки все это. Пирошку за него не отдаст ее отец: ведь у Имре ничего нет, а у девушки приданое — три хольда земли…
Как же непросто бывает человеку умереть!..
В ОФИЦЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
В новом окружении и в непривычном для него обмундировании подпоручик Ковач чувствовал себя неуютно. На воротнике темно-зеленого френча — золотая полоска с одной звездочкой. Когда он смотрелся в зеркало (а здесь имелось и оно!), ему всегда хотелось засмеяться, но приходилось придавать лицу серьезное выражение и делать вид, будто, он давным-давно привык к своему званию. Короче говоря, нужно было притворяться человеком, который попал в привычный для него мир. Каким же странным и непривычным был для Керечена этот мир! Здесь можно было спать сколько заблагорассудится, да еще на настоящей койке с матрацем. Можно было, лежа в кровати, читать книги. Хочешь — немецкую, хочешь — русскую, французскую или английскую. В бараке было достаточно книг на всех этих языках, но зато ни одной венгерской. Вернее, в лагерной библиотеке имелось несколько книг на венгерском языке, но получить их оказалось просто невозможно: так много было желающих прочитать их.
Ковач перезнакомился со всеми жильцами комнаты. Во-первых, с господином Зингером, немцем средних лет, у которого были коротенькие черные усики. Он почему-то носил гражданское платье. Среди венгерских офицеров Зингер прожил долгие три года, однако за все это время не выучил ни одного венгерского слова. Разговаривал он только по-немецки и постоянно что-нибудь читал.
Щуплый человечек с мышиным лицом оказался учителем латинской и греческой словесности. Он обожал Вергилия и никогда не расставался с томиком его стихов, который бог знает где ему удалось достать. В комнате он находился редко. У господина учителя в лагере были свои укромные местечки, где он любил оставаться в одиночестве и, никому не мешая, наслаждаться декламацией вслух стихов Вергилия. Он это делал вот уже четыре года.
Третьим жильцом комнаты был горный инженер Пишта Бекеи. Он окончил институт в Шельмецбанье в самом начале войны. В лагере три месяца проработал на лесозаготовках.
Дядюшка Бела Патантуш был тоже горным инженером. Солидный мужчина с небольшим брюшком. Его лицо украшали усы а ля Ференц Деак.
Кроме перечисленных лиц в комнате проживали еще двое. Поручик доктор Михай Пажит работал до войны помощником судьи в одном из альфёльдских городков. У него было красное лицо, широкий нос и маленькие усики на английский манер.
Кадет Шандор Покаи, коренастый, в очках, показался Иштвану интересным человеком. Керечен сразу же проникся симпатией к нему. Кровати их стояли рядом.
Керечен и Покаи быстро познакомились. Благодаря кадету Иштван в первые же дни многое узнал обо всех обитателях комнаты.
Выяснилось, что Покаи учился в офицерском училище в Лошонце. Значит, Ковач, поскольку он служил в шестидесятом пехотном полку, там же постигал искусство тактики.
— А ты помнишь того австрийского капитана-идиота, который нам преподавал? Как смешно он говорил по-венгерски!.. Животы можно было надорвать, слушая его! — ударился в воспоминания Покаи.
Керечен-Ковач чувствовал, что глупо улыбается, слушая рассказы Покаи. А в голове у Иштвана назойливо вертелась мысль о том, что смешно разыгрывать из себя черт знает кого перед этим простым и остроумным парнем. Иштвана так и подмывало признаться, что он вовсе не тот, за кого себя выдает. Однако по соображениям осторожности Керечен решил не доверяться даже Покаи.
— Скажи, а кто ты по профессии? — спросил вдруг Иштвана разговорчивый кадет.
Керечен почувствовал, как краска стыда заливает его лицо. Он понимал, что довольно плохо подготовился к тому, чтобы выдавать себя за офицера. Раз уж он затесался в их общество, ему заранее следовало бы придумать несколько легенд, которые казались бы правдоподобными.
«Эх, была не была! — решил вдруг Иштван. — Скажу все как есть. Хуже мне все равно не будет. Или пан, или пропал…»
— Я электромонтер, — произнес он вслух.
— Ты хочешь сказать — инженер-электрик? — поправил его Покаи.
— Нет, всего лишь электромонтер. — И чтобы поскорее уйти от неприятного разговора, спросил: — Скажи, ты не знаешь, что нам сегодня дадут на обед?
На губах кадета появилась хитрая усмешка.
— Котлеты из вонючей морской рыбы, — ответил он. — А между прочим, в лавке продаются ветчина, белый хлеб, масло, сыр… Короче говоря, все, что душе угодно, лишь бы денежки были.
У Керечена было больше тысячи рублей, только он об этом никому не говорил. Кто знает, когда и для какой цели они могут ему пригодиться! Отсюда его могут выбросить в любой момент и безо всякого направить в лагерь для солдат, а там, как известно, жизнь совсем другая.
Покаи оказался настолько деликатным, что избавил Иштвана от дальнейших расспросов. Сославшись на какое-то дело, он попрощался с ним и вышел из барака.
Керечен подсел к дощатому столику, поставленному между двух коек. От нечего делать начал разглядывать лежавшие на столе книги: Энгельс, «Анти-Дюринг»… Иштван стал читать. До войны он долгое время жил вместе с австрийскими рабочими и научился довольно бегло разговаривать по-немецки. Правда, несмотря на это, чтение немецких книг давалось ему с трудом, да и понимал он из прочитанного лишь отдельные слова.
«А как было бы хорошо прочитать эту книгу! — подумал Иштван. — Может, Покаи понимает что? Нужно попросить его, чтоб он рассказал мне, о чем тут пишется… А хорошо было бы весь плен пересидеть в офицерском лагере! Научился бы иностранным языкам, научился бы книги читать! Говорят, в лагерной библиотеке больше сорока тысяч книг… Может, конечно, часть из них — сплошная ерунда, годная лишь для того, чтобы выбросить на помойку… Но наверняка есть среди них и хорошие, интересные книги. Покаи прекрасно владеет немецким и может читать Энгельса в оригинале. Умный он человек. Если и не большевик, то, по крайней мере, видимо, симпатизирует им… Собственно, зачем ему понадобился Энгельс?.. Терпение!.. Со временем все узнаю…»
Из раздумья Иштвана вывел поручик Михай Пажит.
— Над чем ломаешь голову, дружище? — спросил Михай, вежливо улыбаясь, и подсел к столу.
Керечен отодвинул от себя томик Энгельса.
— Так, ни о чем… И обо всем сразу… Человеку свойственно время от времени предаваться воспоминаниям…
— Вот как?
— Да.
— Так ты из шестидесятого пехотного? А не знал ли ты случайно подпоручика Абриша Солоши?.. Он ведь тоже из Эгера… Может, вы вместе учились в училище?.. Он живет в соседнем бараке…
«Стоп! — приказал себе мысленно Керечен. — Опасность налицо! Было бы большой глупостью потерпеть поражение на второй же день своего пребывания в этом лагере. Нужно умело играть свою роль. Человек я здесь еще новый, и нет ничего странного, что не знаю, где кто живет… Нужно подумать, что же ему сейчас ответить…»
— Возможно, я и знаю его, но по фамилии что-то не припоминаю, — произнес Иштван.
— Я тебя с ним познакомлю… Очень интеллигентный малый…
Керечен что-то тихо пробормотал себе под нос, а сам уже подумывал о том, как бы ему перевести разговор с этой опасной темы.
— Знаешь, меня в первую очередь интересует культурная жизнь в лагере, — сказал он. — Несколько лет я жил как отшельник. Ни театра, ни музыки… Книг и тех не было…
Михай Пажит насмешливо улыбнулся:
— Здесь все это имеется… Филармонический оркестр в составе ста человек, оперетта с эрзац-женщинами, кабаре… Ты говоришь по-немецки?
— Да.
— Превосходно… Я, к сожалению, не говорю… А у этих немцев, извольте, здесь есть все… Но, к сожалению, мы с ними не очень дружим.
— Ты же сам только что сказал, что не говоришь по-немецки.
Михай погладил рукой подбородок и ответил:
— Да, конечно… Но с ними не очень-то любят беседовать и те, кто знает немецкий. Немцы здесь живут по принципу: «Держись подальше от каждого, кто не говорит по-немецки!» И должен тебе сказать, они совершенно правы… Потому что большинство из тех, кто говорит в лагере по-немецки, — это евреи… Ну, например, этот…
Керечен весь превратился в слух, так как разговор начал интересовать его. Он с любопытством уставился на бывшего помощника судьи, а тот протянул ему сигарету и продолжал:
— Так на чем же я, собственно, остановился?.. Да, к сожалению, в нашем обществе есть такие люди… Право, я не знаю, стоит ли тебе говорить об этом… Я не хотел бы обижать тебя… В тебе, правда, я сразу же распознал действительно благородного человека… Ну, возьмем, к примеру, эту книгу, что лежит у тебя на столе… Этот Покаи прямо с ума спятил… Он вообще ничего не замечает, ни с кем ни о чем не разговаривает, а все время только читает и читает разные книги… Не понимаю, зачем ему столько читать? Особенно этот «Анти-Дюринг»… Название и то какое-то странное… Сейчас каждый интеллигентный человек знает, что марксизм уже изжил себя!
Керечен сглотнул слюну. Он понимал, что ему нелегко будет жить в этом Вавилоне, где офицеры ненавидят друг друга. Однако Иштван не мог удержаться, чтобы не задать бывшему помощнику судьи еще один вопрос:
— Скажи, а ты сам уже прочитал эту книгу, что так говоришь о ней?
Михай повел носом в сторону, будто почувствовал какой-то неприятный запах.
— Ты что?! — удивленно, воскликнул он. — Я не привык читать подобные книги!.. К слову сказать, мы на юридическом не занимались изучением основ марксизма, хотя я в своей дипломной работе и указывал на несостоятельность марксистского учения. Без сомнения, частная собственность, как таковая, всегда была и будет притягательной для человечества. Это как бы пружина для развития всего общества. Я ужасно много спорил об этом с Покаи. Только с ним бесполезно говорить об этом. Он упрямо стоит на своем. Откровенно говоря, он парень умный, но в голове у него такой ералаш. Например, он вбил себе в голову, что самое большое значение для мировой истории имеет учение Ленина… Умный, но очень наивный парень этот Покаи! Не понимает, что такое абсурдное общество может просуществовать ну максимум несколько месяцев, а потом в результате общего обнищания и разрухи оно само придет в упадок, даже если до этого национальные и религиозные силы различных народов не уничтожат его силой оружия…
— Ты так думаешь? — спросил Керечен.
— Безусловно. В нашем лагере тоже есть гнездо красной заразы… Возможно, даже не одно… Самыми опасными его апостолами являются Дукес, Людвиг и Форгач… Это самые отъявленные коммунисты в лагере… Смешно, да и только… Однако факт остается фактом. Небольшая группа офицеров все-таки заражена марксистскими идеями. Правда, большинство офицеров остались на твердых позициях.
— А наши друзья немцы? — спросил Керечен.
Бывший помощник судьи не заметил легкой насмешки в вопросе Ковача и спокойно продолжал:
— Да, конечно, ты это правильно сказал, что народ мы небольшой, и, разумеется, если мы не хотим раствориться в огромном море славянских народов, то нам, естественно, необходимо иметь возле себя сильного друга — брата, если хотите, — на которого можно было бы опереться… Языком интеллигентного венгра должен быть немецкий язык…
Керечен не упустил возможности немного поиздеваться над помощником судьи:
— Вот видишь, а ты даже не удосужился научиться говорить по-немецки… А ведь ты мог бы извлечь из этого большую выгоду…
Подпоручик Пажит чуть заметно улыбнулся и сказал:
— Оно конечно… но я такой неспособный к языкам. Как у нас говорят, язык у меня деревянный… Однако я не хотел бы, чтоб ты из нашего разговора сделал вывод, будто мы, как нация, не можем развиваться без немецкого влияния… У нас, разумеется, имеются собственные национальные устремления. Я хотел бы, чтобы ты послушал несколько докладов, которые читают для пленных Пели или Катона… Оба — замечательные патриоты… Они открыто и смело заявляют о необходимости создать великую Венгрию. Ведь наша страна с населением в тридцать миллионов человек…
— А что по этому поводу говорят чехи, словаки, румыны, сербы и представители других национальностей?
Пажит заносчиво рассмеялся:
— А их об этом никто и не спрашивает.
— Понятно.
— С ними и говорить-то не следует.
— И все офицеры являются членами этого венгерского кружка? — спросил Керечен.
Господин Пажит скорчил кислую физиономию:
— Как бы не так! К сожалению, здесь есть довольно много таких типов, как наш Покаи. Они даже выпускают свою рукописную газету. Правда, я ее пока ни разу не читал. Покаи сотрудничает в этой газете… Он довольно опасный человек…
— Да что ты говоришь?!
— Да-да, и я хочу заранее предупредить тебя об этом. Держись от него подальше и не завязывай с ним дружеских отношений. Покаи вообще находится под наблюдением. В управлении лагеря начальству все обо всех известно… Не хотел бы я оказаться на месте этих коммунистов, когда мы вернемся домой!
— Но ведь в Венгрии тоже революция?
Пажит посмотрел на Керечена и как-то сочувственно улыбнулся:
— Революция?.. Смех, да и только!.. На сколько ее хватит? На месяц? На два? Венгрия, видишь ли, — это тебе не Россия!..
Подпоручик Ковач, под фамилией которого скрывался красноармеец Иштван Керечен, участвовавший во многих боях против бедных, довольно живо и образно представил себе картину, как офицеры, подобные доктору Пажиту, встречают революционно настроенных венгерских солдат, возвращающихся на родину. Иштван на собственной шкуре испробовал методы борьбы этих господ со своими противниками, так что ему не было необходимости выслушивать разглагольствования бывшего помощника судьи.
— Знаешь, — начал Керечен тоном, не терпящим возражения, — я в этих делах мало что понимаю. Я долгое время жил среди крестьян в глухой деревне, так что немного одичал.
В комнату вошел господин учитель. За плечами у него был неизменный ранец, в руках — томик Вергилия. Учитель подсел к ним и спросил:
— О чем разговор? О девушках?
— Нет, — ответил Керечен, — как раз сейчас я говорил о том, что долго жил в лесу.
— Лес всегда располагает к воспоминаниям. — И учитель сразу же прочитал несколько строчек из Вергилия: о журчащем ручье, о лесочке, о большом поле и, само собой разумеется, о нимфах. — А ты в своем лесу, случайно, не встречался с какой-нибудь нимфой? — спросил он.
— С человеком в жизни чего только не случается! — засмеялся Керечен. — А вот с эрзац-девами мне действительно не приходилось встречаться.
Господин учитель получал побочный заработок, исполняя обязанности заготовителя на небольшом заводике, выпускавшем наждачную бумагу. В ранец он собирал осколки стекла, которые перетирал в порошок и сдавал на завод за соответствующую мзду.
Бывший инженер Бекеи подрабатывал на резке махорки, а бывший помощник судьи брался за любую временную работу, каждый раз завидуя тому, что у пленных офицеров-евреев есть процветающий во всех отношениях свой кооператив.
Учитель с мышиным лицом начал жаловаться на то, какие странные люди живут в этом лагере. Конечно, моральный и физический вред наносит им сексуальный голод, доводящий господ офицеров до гомосексуализма, рукоблудства, разных заболеваний и прямого безумия. Свою точку зрения учитель, для пущей важности, подкрепил рассказом о том, как один священник был доведен воздержанием до сумасшествия и даже умер.
— Ужасно! — заметил Керечен. — А от чего сошел с ума офицер, который спал до меня на этой кровати?
Горный инженер потрогал свои густые усики и уставился крупными телячьими глазами в стену, на которой сидела муха. Немного помолчав, он с олимпийским спокойствием произнес:
— И он из-за женщин загубил свою жизнь. Когда еще деньги были в цене, в лагерь приходили женщины. Была среди них одна. Звали ее Маруся. Молодая, но развратная. Фюштеи возьми и влюбись в нее. Она его сифилисом заразила.
«Лагерь для пленных — это вам не санаторий», — подумал про себя Керечен, но ничего не сказал.
На следующий день утром Керечен вместе с Покаи пошел в баню. В маленькой баньке, кроме них, никого не было. Покаи начал рассказывать Иштвану кое-какие истории из интимной жизни офицеров, но тот, занятый своими мыслями, почти не слушал его.
— На столе я видел одну книгу, — сказал Иштван, когда кадет на минутку замолчал.
— Это «Анти-Дюринг»? — спокойно спросил Покаи.
— Да. Откуда ты ее взял?
— Из библиотеки. Там она никому не нужна. Многие даже не имеют ни малейшего представления о том, что это за книга. А ты знаешь, о чем она?
— Слышал только, но, к сожалению, не читал, так как плохо читаю по-немецки.
— А хочешь прочитать?.. Уж не социалист ли ты?
— Да, конечно. И ты тоже мне показался таким.
Покаи смерил Иштвана внимательным взглядом:
— Гм… А если и так, что тогда?
— Видишь ли, дружище, тот, кто читает Энгельса, — наш человек. Больше того, мне стало известно, что у тебя в комнате есть враги.
— Это тебе судейский помощник поведал?
— Да. Мне сказали, что ты большевик.
— Разумеется, тебя предупреждали об опасности заражения большевистскими идеями?
— Меня ничем уже нельзя заразить, — холодно произнес Керечен.
— Тебе что, прививку сделали?
— Напротив… Меня уже заразили…
— Да? Где?
— В Красной Армии.
Покаи схватил Керечена за плечи и потряс.
— Рассказывай!.. Рассказывай все по порядку!.. — с нетерпением требовал он. — Я чувствовал, что ты какой-то не такой, как все. Хотя подожди! Давай оденемся и выйдем отсюда! Сядем где-нибудь у дороги и поговорим. Я тебе еще не сказал, что как раз через наш лагерь проходит старый Сибирский тракт, по которому когда-то гнали в ссылку арестованных. Пошли быстрее!
Вдоль дороги тянулся кювет. Керечен и Покаи сели на краю его и разговорились. Собственно, говорил в основном Иштван, а Покаи очень внимательно слушал его. Керечен рассказал все: о побеге с парохода, о скитаниях по тайге, о Зайцеве и его семье, о верном друге Имре Тамаше, о дядюшке Холосо, Драгунове и Бондаренко, о поездке в эшелоне, о Шуре и о том, как только случайно ему удалось избежать верной смерти…
— Словом, ты никакой не офицер? — спросил, выслушав его, Покаи.
— Конечно, нет. Охотнее всего я ушел бы отсюда в солдатский лагерь.
— Ну и глупо бы сделал, очень глупо. Там тебя сразу бы взяли под подозрение. Гораздо умнее, если ты у нас в комнате будешь вести себя нейтрально, безразлично… Не вмешивайся ни в какие разговоры и споры, особенно политические, как бы тебе этого ни хотелось. Я был бы рад, если б ты написал статью для «Енисея». Разумеется, под каким-нибудь псевдонимом.
— А что это такое — «Енисей»?
— Вполне серьезная газета, — начал объяснять Покаи, и глаза его засветились радостью. — Знаешь, кто ее редактирует? Людвиг, Дукес, Форгач, Дорнбуш… В ней они разоблачают поведение реакционных офицеров, рассказывают о нелегкой жизни солдат в лагере… Из нее ты многое узнаешь!.. Правда, мы эту газету пишем от руки… и всего в трех экземплярах. Один наш художник рисует для нее красочные иллюстрации. Газета эта в лагере переходит из рук в руки. Должны же и мы хоть что-то противопоставить националистической пропаганде, которую ведет созданный реакционными офицерами так называемый «Венгерский союз»…
— Все это для меня новость!..
— Дружище, ты еще не знаешь, какие страшные вещи здесь творятся… Махровое офицерье организовало самый настоящий бойкот офицеров других национальностей. Был тут, к примеру, один молодой офицер-румын. По-венгерски он разговаривал так же хорошо, как и по-румынски. Он нас любил, и мы его любили. А потом его начали травить, и только за то, что он якобы уронил офицерскую честь, начав работать официантом в турецкой кофейне… Венгерские офицеры специально ходили в ту кофейню, чтобы поиздеваться над беднягой… И довели его… Однажды сел он за столик да как заорет во все горло: «Принесите мне сто свечей и сто чашек кофе! Я за все плачу!» И начал колотить по столу кулаком. Ну и что из этого вышло? Пришлось ему завербоваться в отряд румын-беляков. Вот тебе только один маленький пример того, какие язвы характерны для австро-венгерской армии…
— Ну и, по-твоему, я попал в хорошее место? — тихо спросил Иштван.
— Не ты его выбирал.
— Это верно!
Они долго еще разговаривали, а затем Покаи предложил пойти в турецкую кофейню.
— Я не против, — согласился Керечен. — С удовольствием.
— Если б ты знал, какой вкусный кофе там готовят! Пальчики оближешь! Выпьешь чашечку и сразу почувствуешь себя бодрее…
— Что ж, это дело хорошее!
— К кофе подают пирожные. Я как-то раз посмотрел, как их выпекают. Тесто делают слоеное. Такое получается пирожное, что так и тает во рту.
— Значит, хорошо делают.
— Сидишь, кофе попиваешь, свежий номер «Эмбера»[3] читаешь. Так называется наша литературная газета, тоже рукописная. Пишта Варади рисует для нее цветные иллюстрации. В каждой кофейне держим по одному экземпляру.
— А кто же несет расходы по изданию этой газеты?
— Да мы сами. Сначала мы пробовали приклеивать к каждому экземпляру газеты небольшой конверт, куда каждый, кто читал газету, должен был положить десять копеек. И ты думаешь, это что-нибудь нам дало? Черта с два! Очень многие ни копейки ни клали, а кое-кто, напротив, норовил еще и вытащить из конверта мелочь.
— Хорошенькое дельце!
— Вот видишь, дружок, какое понятие у некоторых офицеров об офицерской чести… Такова уж наша писательская судьба… Пишем, пишем… а потом тайком уносим газету в чемодане…
— Правда?
— Конечно. Ты думаешь, шпики не читают наши газеты?
— Не понимаю, зачем шпикам следить за вами, если вы открыто выкладываете свою газету на стол и каждый может ее прочесть?
— Это так, но шпики все равно выслеживают нас… Более того, лагерное начальство тоже не спускает с нас глаз… Прошлый номер, например, один артист разорвал за то, что мы там его покритиковали.
Когда они вошли в кофейню, жизнь там била ключом. Помещалась кофейня в старом бараке.
Друзья сели за самодельный стол, за которым уже сидел высокий красивый молодой человек, черноволосый и черноглазый. Перед ним лежал лист бумаги. Молодой человек непроизвольно закрыл лист ладонью, словно хотел защитить написанное.
— Сервус, Корнель! — приветствовал его Покаи. — Разреши представить тебе подпоручика Йожефа Ковача. Познакомьтесь!
— Корнель Баняи. — Молодой человек улыбнулся и протянул Иштвану руку.
— Что хорошего написал, Корнель? — поинтересовался Покаи. — Можно поместить в следующем номере «Эмбера»?
— Если подойдет, почему бы и не поместить? Для этого и пишу. Стихотворение я написал. И знаешь, как оно называется? «Я глажу дерево рукою…»
— Дерево? — удивился Керечен.
— Да, дерево, — тихо сказал Баняи. — В своем стихотворении я хотел рассказать о том, как красивы и милы деревья. Они сильны и скромны. У них нет оружия. Они никого не убивают. Они мудры, как само время. Я люблю деревья, люблю лес. А сейчас я, возможно, люблю лес еще сильнее, так как на территории нашего лагеря нет ни одного дерева, в тени которого можно было бы укрыться от палящего летом солнца. Никаких животных в лагере тоже нет — ни собаки, ни кошки… Кроме дохлых кляч, мы других животных и не видим. А этих привозят сюда, чтоб мы ели их мясо… Вот представьте себе, о чем сейчас приходится писать! А ведь хотелось бы писать о любви… Но где она сейчас?..
— Что касается деревьев, — перебил поэта Керечен, — то я их в свое время «гладил» топором, хотя я тоже очень любил лес… В нем солдатам хорошо прятаться… И еду можно найти, только нужно уметь понимать лес…
— О чем вы тут беседуете? — К столику подошел молодой человек с блестящими глазами.
Керечен с любопытством посмотрел на круглолицего молодого человека с маленькими усиками и умными глазами. В руке он держал какую-то рукопись.
Незнакомец представился как Матэ Залка[4].
Покаи рассказал ему, о чем они разговаривали.
— Что вы ломаете головы над такой чепухой? Разве об этом сейчас нужно писать?! — возбужденно воскликнул Матэ. — Меня лично волнуют совершенно другие темы!
— Матэ абсолютно прав, — согласился с Залкой Покаи. — Сейчас о революции нужно писать! Что у тебя новенького, Матэ?
— Вот, написал.
— Прочти!
— Немного длинноватый рассказ, — заметил Залка, кладя рукопись на стол. — Написал я его для «Эмбера». Думал, зайду посмотрю, кто есть из редколлегии.
И, усевшись поудобнее, начал читать свой рассказ. В нем говорилось об одном венгерском солдате, каких сотнями тысяч посылали на кровавую бойню. Солдатам твердили о том, что они должны убивать русских, так как те, мол, убили наследника престола. И хотя венгерские солдаты ничего общего не имели с господами, но, когда им приказали защищать монархию, они пошли воевать.
Рядовой Янош Касабольт вел себя на фронте смело. Однажды он повстречался с таким же, как он сам, русским солдатом, которого звали Иваном. Иван был так же беден, как и Янош. И вот они встретились на поле боя как враги — мадьяр Янош и русский Иван.
Русский сидел на лошади и в руке держал длинную пику. Янош служил в пехоте. Он так устал, что едва держался на ногах. Иван замахнулся пикой на Яноша и попал ему прямо в глаз.
Янош упал на землю и умер, даже не успев попрощаться ни с зеленеющими вокруг деревьями, ни со сверкающим солнцем, светившим с безоблачного неба.
А глаз Яноша так и остался торчать на кончике пики Ивана. Сколько Иван ни старался, а снять его с пики так и не смог. И воевать дальше в таком состоянии Иван тоже не мог.
И вдруг глаз Яноша, человека, который еще несколько минут назад видел все вокруг и мог улыбаться, заговорил с Иваном.
Кругом грохотали пушки, тараторили пулеметы, но Иван уже не слышал их. Он слышал только то, что говорил ему глаз, торчавший на кончике его пики.
— Зачем ты убил меня, брат? — спросил Ивана глаз.
— Прости, брат, ради бога прости меня… Я не хотел тебя убивать. Так уж получилось: попался ты на моем пути…
— И все же ты убил меня!.. А ты посмотри на мои руки… Они такие же мозолистые, как и твои… Это руки крестьянина… А взгляни на мои ноги… Они такие же, как и твои… А спина?.. А плечи?.. Сколько я тяжелых господских мешков перетаскал на них! Вся разница между нами в том, что мы не понимаем языка друг друга. Ты молишься богу по-русски, я — по-венгерски: «Господи, спаси меня от злого умысла». А разве он спас?
— Не говори больше ничего! — прошептал тихо Иван. — Молчи, а то ты лишишь меня веры.
— Какой веры? — спросил Ивана глаз.
— Веры в мою правоту, — пробормотал Иван. — Я грешен. Я совершил большой грех! Но больше я никого не хочу убивать. Разве что самого себя…
Так разговаривал Иван с глазом убитого им венгра. И чем же все это кончилось? Пошел Иван вместе с другими солдатами в венгерские окопы. Курил там венгерский табачок, ел их хлеб, сам угощал мадьярских солдат русским сахаром, обнимал их, по-дружески жал им руки и беспрестанно твердил:
— Простите меня, братушки, простите…
Те же не понимали его. Не понимали, что он говорит и о чем просит, а только улыбались и пожимали Ивану руку.
А потом поехал Иван в Смольный и, подняв высоко над головой свою винтовку, во всю силу легких призвал всех вступать в Красную гвардию…
Залка положил на стол исписанные листки бумаги. Все, кто слушал его рассказ, молчали. Пленные офицеры, сидевшие за соседними столиками, оживленно беседовали. Одни жаловались на то, что Красный Кроет оказывает им слишком маленькую помощь. Другие передавали друг другу тревожные новости с фронта. Третьи шепотом говорили о том, что красные части повсюду бьют Колчака: им, пленным, Колчак вроде был и ни к чему, но уж если придется выбирать между ним и красными, то, разумеется, они должны выбрать Колчака. Четвертые разглагольствовали об офицерской чести, перемывали косточки артисткам-примадоннам и вспоминали былые вечера с цыганской музыкой и обильными возлияниями…
К столику, за которым сидели Керечен и его новые друзья, подошел невысокий мужчина с плохо выбритым пергаментным лицом. Заметив нового человека, которого еще не знал, он протянул ему руку и сказал:
— Рихард Дорнбуш.
— Ты, Рихард, можешь спокойно говорить при нем. Это красноармеец, а в лагерь наш он только что прибыл.
Дорнбуш оценивающе взглянул на Керечена:
— Ты был красноармейцем?! Смотри, никому об этом не рассказывай. Как тебя зовут? Ковач? Хорошая фамилия! Разумеется, Дорнбуш звучит более звонко.
Покаи протянул Рихарду рукопись рассказа Залки и сказал:
— Вот, прочти!
Дорнбуш читал поразительно быстро. Чувствовалось, что делает он это не впервые. Он буквально пожирал страницы глазами, схватывая соль рассказа. Через несколько минут Дорнбуш закончил чтение и, отложив рукопись в сторону, сказал:
— Рассказ хороший, но немного затянут. Его надо подсократить. В следующем номере «Эмбера» мы обязательно поместим его.
Затем Дорнбуш прочитал стихи Баняи и вдруг предложил:
— Сейчас я вам кое-что на память почитаю. Прошу полного внимания! — И начал:
Текут минуты и часы, Бегут и дни и годы, А ты, наш добрый король и надежда, Снова празднуешь свой день рожденья!..Все дружно засмеялись.
— Кто сочинил эту чепуху? — спросил Покаи.
— Дуренчак. Вы все его знаете. Человек он был тихий. Звание имел небольшое — поручик. Жизнь у него шла тихо и гладко. Ничего особенного не случилось с ним и на фронте, так как он быстро попал в плен. А на днях его вызвали в город, в чешскую военную комендатуру, и сообщили, что на его имя из дома пришло письмо, в котором отец уведомляет сына о том, что его назначили бургомистром, а раз так, то ему, сыну бургомистра, следует вступить в чешский корпус.
Дуренчак пытался протестовать, говоря, что с него хватит, что он уже свое отслужил, но белочехи и слушать его не захотели.
Чешский подполковник тут же выложил перед Дуренчаком новенькую форму. Напялил Дуренчак на себя обмундирование, а оно на нем так сидит, будто сшито по заказу.
— Бери, — говорит ему подполковник, — и носи на здоровье, а я себе новую форму прикажу сшить. Тебе же эта очень подошла, только еще одну звездочку нужно нашить.
— Это зачем же? — спрашивает Дуренчак.
— А затем, что ты произведен в полковники.
Дуренчак чуть в обморок не упал. Но если вы хотите от души посмеяться, то я расскажу вам дальше. Пошел Дуренчак к начальнику нашего лагеря. До этого начальник и не замечал Дуренчака, никогда даже не здоровался с ним, а тут как увидел, так вскочил со стула и замер по стойке «смирно». Ну, что вы на это скажете?
— Скажем, что господин начальник хорошо знает субординацию! — ответил Баняи. — Одного я только не пойму: какое отношение вся эта история имеет к стихам?
Дорнбуш громко рассмеялся.
— А такое, что эти стихи написал Дуренчак. Их нашли у него в тумбочке после того, как он уехал в отряд белочехов.
— Забавно, — заметил Керечен.
— Хочешь посмотреть на забавных людей, — проговорил Дорнбуш, — приходи сюда почаще, в эту кофейню. Здесь ты увидишь самых разных типов: офицеров-спекулянтов, артистов, художников и прочих, и прочих…
— Да ну? — удивился Керечен.
— Точно. Одни спекулируют солдатскими ботинками, патронными сумками, поясными ремнями, сапогами, пряжками… Готов поклясться, что некоторые из них охотно будут продавать все это даже в частях Красной Армии… Есть здесь и такие офицеры, которые постоянно ходят голодные или у которых никогда нет курева. Такие за гроши готовы взяться за любую работу… Они усердны, проворны… Кончилось то время, когда офицерского жалованья хватало на безбедную жизнь. Сегодня и господам офицерам, если они не хотят бедствовать, приходится работать. Ничего не поделаешь! Деньги в цене упали, а желудок своего требует. А работа хороша уже потому, что спасает человека от скуки!
Покаи обратил внимание Керечена на высокого молодого человека:
— Посмотри на него! У этого типа совсем не такой мрачный вид, как, например, вон у тех двоих, что сидят за соседним столиком. Этот писака сочиняет куплеты для нашего лагерного кабаре. Ну, например:
Звучит танго! Танцуй его — И будешь чувствовать себя хорошо!— Какая чушь! — Керечен скривил рот.
— А ты попробуй ему сказать об этом! — посоветовал Залка. — Он теперь в лагере царь и бог. Все напевают его песенки. За каждое представление в кабаре он получает пятерку и бесплатный ужин. Такое не каждый сумеет…
— Ты, конечно, еще не имеешь ни малейшего представления об этом Вавилоне!.. Если б ты хоть раз видел, как танцует Шеломе!.. Представь себе низенького сорокалетнего волосатого мужчину с этаким брюшком! Он-то и есть Шеломе, и он танцует за женщину.
— Представляю, как он смешон! — заметил Керечен.
— В том-то и дело, что он никому не кажется смешным! — сердито произнес Покаи. — Он так исполняет «танец живота», что у всех глаза на лоб лезут. И думаешь, его хоть раз освистали? Черта с два! Ему аплодируют как одержимые! В этом лагере не один и не два идиота, а весь лагерь состоит из одних идиотов. Тут есть такие типы, которые могут безошибочно перечислить все магазины, включая самые крохотные, на Бульварном кольце в Будапеште, начиная от площади Борарош до моста Маргит. И все по памяти. Могут без запинки перечислить все трамвайные маршруты вместе с остановками… Они ничем другим не занимаются, а только все время говорят об этом. Вон видишь мужчину, что играет в шахматы? Он, собственно, помешан на этой игре. Играет и напевает себе под нос всякие глупые песенки, а вообще-то он искусный мастер-краснодеревщик.
— А Сахарного человека ты еще не знаешь? — спросил Дорнбуш.
— Откуда же мне его знать?
— Интересный тип. Ему всего тридцать лет, а отпустил себе такую бороду, какой может позавидовать любой поп. Стоит ему не достать сахару, как он ревет, словно ребенок. А вот сидит наша австрийская «примадонна» — воздушный акробат с бицепсами Геркулеса, жертва лагерных гомосексуалистов…
— Знаете, мне за годы пребывания в плену слишком недолго довелось сидеть в лагерях, — начал объяснять Керечен. — Судьба бросала меня с одного места на другое, так что о лагерной жизни я имею довольно смутное представление. Когда служил в Красной Армии, то встречался с соотечественниками и с Кароем Лигети. Он рассказывал мне, в каких условиях они жили в лагере. У них были такие офицеры, которые «в целях сохранения господской гордости и офицерской чести» вели специальный журнал, куда записывали все проступки офицеров. Скоро у них набрался целый ящик всякой писанины. И весь этот хлам они намеревались увезти на родину, чтобы там разбираться в многочисленных доносах. Товарища Лигети они ненавидели за то, что он перешел на сторону красных. Каких только глупостей не было в их бумагах! Да разве на такое способны действительно интеллигентные люди? А ведь все они заканчивали гимназию и даже университеты! Рассказывают, что в омском лагере пленные офицеры из четвертого барака бойкотировали своих коллег за то, что те осмелились учиться… Вот какие люди сидят на шее трудового народа Венгрии! Если любого из них спросить о причинах войны, вряд ли кто из них даст более вразумительный ответ, чем любой рядовой солдат. Все эти паразиты, которых содержат сейчас в офицерских лагерях, — это часть того класса, который ждет не дождется, когда же на родине кончится революция и они снова станут хозяйничать в стране…
— Положение Венгрии было бы беспросветным, если б все интеллигенты были такими, — перебил Керечена Дорнбуш. — К счастью, у нас есть немало и здравомыслящих людей, которые правильно оценивают создавшееся положение и отнюдь не стали кретинами. Есть офицеры, которые, находясь в лагере, постоянно учатся, главным образом изучают русский язык и другие иностранные языки. Любопытно посмотреть в лагерной библиотеке, какие книги берут венгры. Они читают на немецком, английском, французском, русском и других языках. Я, например, знаю одного учителя, который изучает здесь турецкий язык и уже неплохо разговаривает с турками. А сходите на лекцию по английскому языку. Там вы увидите больше всего венгров. Один мой товарищ уже читает в оригинале Шекспира и Диккенса, а другой — французских классиков… Многие интересуются лекциями по юриспруденции. А вчера, например, я видел в руках у одного венгра-инженера учебник неорганической химии.
К ним подошел Бела Цукор, которого в лагере считали лирическим поэтом. Он прославился тем, что, начитавшись в оригинале сочинений русского анархиста Кропоткина, горел желанием взорвать все церкви. Кроме лирических стихов он написал одну оперетту весьма сомнительного содержания. А жил он на те гроши, что зарабатывал на пошиве сандалет.
От Керечена не ускользнуло, что с появлением Цукора все начали говорить на безопасные темы и постепенно разговор вообще расклеился. Позже Керечен узнал, что товарищи не доверяли Цукору и считали его доносчиком.
Присутствующие оживились, когда в кафе появился высокий молодой человек с неровными зубами. В руках у него была газета, которой он размахивал, как флагом. Он не вошел, а буквально вбежал в кафе, чем обратил на себя всеобщее внимание.
— Слушайте новость! — воскликнул он. — Екатеринбург взят красными. Они успешно продвигаются дальше на восток! Если Антанта срочно не поможет Колчаку, к зиме красные будут здесь!
Керечен так обрадовался, что чуть было не вскочил и не обнял парня.
«Наступайте, товарищи! Наступайте! — думал он. — Поскорее несите нам свободу!»
ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Открыв глаза, Имре Тамаш увидел темный свод пещеры и склонившегося над ним улыбающегося во весь рот Мишку Балажа. Имре слегка повернул голову, и сердце его радостно забилось: Смутни, Лайош Тимар, Яблочкин стояли возле него и тоже улыбались. Правда, всех их он видел словно в тумане и потому не знал, происходит ли это наяву или только кажется. Однако постепенно Имре понял, что не бредит…
Тимар влил ему в рот воды из фляжки. Приятная прохлада унимала жар.
— Спасибо, — чуть слышно прошептал Имре потрескавшимися губами.
Товарищи столпились вокруг Имре и с тревогой всматривались в его лицо. Смутни поправил сложенную в несколько раз шинель, которую положили Имре под голову, нежно провел ладонью по его разгоряченному лбу.
Тамаш хотел было поднять руку, но у него не хватило сил.
— А где Бургомистров, Рыжов? — едва шевеля губами, спросил он.
— Нет их.
— Убиты?
— Сейчас тебе вредно разговаривать, — заметил Тимар. — Хочешь поесть чего-нибудь?
Тамаш одними глазами дал понять, что есть не хочет. Через секунду он закрыл глаза и вновь впал в забытье.
На глазах у Мишки Балажа показались слезы.
— Умер? — выдохнул он.
— Пошел к черту! — огрызнулся на него Смутни. — Заснул он снова. Крови много потерял, вот и спит. Разве не понятно?
— Понятно! — обрадованно произнес Мишка. — Мы же свиньи порядочные! Давно бы могли подобрать его, если бы не приняли за офицера… И какой олух напялил ему на голову офицерскую фуражку?.. Мать его за ногу!
— Ну-ну, поосторожней на поворотах! — осадил его Тимар. — Плохо, что он лежал на животе, лицом вниз. Вот мы лица его и не видали… Я его еще пнуть ногой хотел… Вот тут-то и узнал его… по одежде…
— А чего пинать мертвого-то? — осуждающе покачал головой Смутни.
— Они нас не так пинают, — пробормотал, будто оправдываясь, Тимар. — Беляки и не такое с нами выделывают. У чехов был один такой кровожадный, что мертвых штыком колол…
— Зверь ваш чех, да и только! — Смутни даже сплюнул.
— Хуже зверя! — покачав головой, сказал Мишка. — Только бы с Имре ничего серьезного не случилось. Все мы тут чуть костьми не полегли… Если бы Смутни из пещеры нас огнем не поддержал…
— Пошел ты знаешь куда!.. — Смутни покраснел как рак. — Тоже мне, нашел помощника! Я за себя не отвечал… Потерял сознание от дыма… Благодарите бедолагу Иванова. Это у него осталось столько патронов! Лучше помозгуйте, что нам теперь с Имре делать?.. А то ведь беляки могут предпринять новую контратаку… От одной мысли об этом мороз по коже дерет…
— Тогда все умрем в этой вонючей пещере! — заявил Мишка. — У меня теперь граната есть…
Имре, разумеется, не слышал этого разговора, так как впал в глубокий сон.
В пещере воцарилась тишина. Лес вокруг в основном сгорел, лишь кое-где еще тлели полуобгоревшие стволы деревьев. Людей поблизости не было ни видно, ни слышно.
Красноармейцы похоронили Иванова неподалеку от пещеры, выкопав могилку малыми лопатками, которые у них были. Несколько позже, разыскав трупы Бургомистрова и Рыжова, они похоронили и их.
Имре Тамаш проспал целые сутки и проснулся лишь на следующий день.
— Ну наконец-то! — обрадовался Мишка. — Сервус, дорогой! Поспал — и хватит…
Имре медленно собирался с мыслями. Первым делом он поднял вверх руки, причем делал он это так, будто сбрасывал с себя путы.
— Что со мной? — спросил он.
— Ничего страшного, дорогой Имре! — Мишка присел перед ним на корточках. — Ранило тебя немного… Есть хочешь?
Имре кивнул. Бойцы быстро разожгли между камней небольшой костер, выложили в котелок банку мясной тушенки и, влив туда воды, вскипятили незамысловатое варево.
Имре съел половину котелка и опять закрыл глаза. Однако на этот раз он проспал всего лишь час.
Продуктов у бойцов набралось достаточно. Мишка Балаж и Лайош Тимар обшарили все вещмешки колчаковцев и забрали из них хлеб, сухари, консервы, чай, сахар, соль и вяленую рыбу. Даже сигареты нашлись, да еще высшего качества.
— Имре, — обратился Смутни к раненому товарищу, — а ты, оказывается, под счастливой звездой родился… Да-да!.. Когда ты терял сознание, то упал на левый бок, да так, что одежда твоя прилипла к ране и остановила кровотечение. Если б ты пополз, то сорвал бы ткань с раны — и был бы тебе каюк…
— И тяжело я ранен? — спросил Имре.
— Да нет, так, пустяковая рана. Пока ты спал, мы тебя как положено перевязали. Несколько дней полежишь и будешь здоровее прежнего… Беляки прорвали линию обороны нашего полка, нашим пришлось отойти. Когда мы выскочили из пещеры, беляки в основном уже прошли вперед. У пещеры осталось всего несколько офицеров. Они постреляли в нас немного, а когда мы напали, то дрогнули и отошли… Вот тогда и погибли Бургомистров и Рыжов. Когда же стрельба стихла, мы залезли обратно в пещеру. Беляки уже не рискнули туда сунуться. Вот с тех пор и сидим тут сиднем: ни тебе вперед, ни тебе назад…
Имре хотел было сесть, но упал, обессиленный, на подстилку: благо товарищи постарались и не пожалели подложить под него побольше офицерского барахла.
— А оружие у нас есть? — тихо спросил Имре.
— Оружие есть. — Смутни кивнул. — Патронов мы много набрали, а вот с водой у нас трудновато. По ночам хожу к ручью за водой.
— Сколько же дней мы здесь сидим?
— Трое суток. Попей, Имре! — С этими словами Лайош протянул ему фляжку, из которой Имре отпил несколько больших глотков.
— Завтра я обязательно встану, — проговорил Имре.
— Успеешь еще! Некуда торопиться. — Смутни недоверчиво покачал головой.
— К завтрашнему дню я уже окрепну.
— Если бы так!
Смутни задумался. Все молчали, понимая, что положение их остается довольно безнадежным, так как никто не мог сказать, когда к ним на выручку придут свои.
— Послушай, Имре! — Смутни нерешительно переступал с ноги на ногу.
— Ну что тебе?
— Плюнь мне в глаза!
— Брось дурить!
— Я это заслужил.
— Это почему же?
— Потому что струсил я, Имре… Когда ты с гранатой в руке выскочил из пещеры и за тобой остальные… я ведь остался.
— Знаю. И правильно сделал. Но как ты узнал, что у нас еще остались патроны? Почему не сказал об этом раньше?
— Ничего я раньше не знал… — Смутни опустил глаза. — А за вами я потому не побежал, что от страха потерял сознание. Знаешь, когда мы еще на фронте были, сидели мы как-то в укрытии, а русские нас обстреливали из пушек. И снарядами, и шрапнелью… Короче говоря, что-то страшное творилось. Тогда мне ротный — поручик у нас был — и говорит: «А ну-ка, Смутни, пройдись по окопу, посмотри, какое настроение у солдат!» А народ у нас в роте был в ту пору далеко не молодой, все больше пожилые ополченцы… Иду я, значит, по окопу и вижу: чуть ли не у каждого из них в руках молитвенник и все они бормочут молитву… Я, значит, возвращаюсь к ротному и докладываю: так, мол, и так, настроение у солдат очень плохое, все молятся… «Ничего, — говорит ротный, — пусть помолятся… Выдадим им на рыло по двести граммов рома, он лучше поможет, чем молитва!..» Помню, как увидел я беднягу Иванова, так и свалился на землю: голова у меня закружилась. А потом пулемет нашел с патронами. Вообще-то хорошо, что мы его раньше не нашли, а то бы расстреляли все патроны… А тут я по офицеришкам и вдарил как следует…
— Это ты толково сделал, Лайош… И никакой ты не трус.
После этих слов Имре на душе у Смутни сразу стало как-то легче. Он и сам начал думать, что вел себя довольно храбро. В душе он был очень благодарен Имре за эти слова.
Смутни сам варил еду Имре и кормил его, так как раненый не смог встать ни на другой день, ни на третий.
Шли дни, и продукты убывали с нежелательной быстротой. Теперь готовить горячую пищу стали по ночам и усаживались вокруг костра кружком, чтобы не видно было огня. Скоро кончились крупа и консервы. Остались одни сухари, безвкусные и черные, да черствый ржаной хлеб, каким в то время кормили солдат царской армии. Даже по одному тому, что Колчак кормил своих офицеров солдатским хлебом, можно было сделать заключение, что дела у белого адмирала шли из рук вон плохо.
Вскоре Тамаш заметил, что товарищи стали сокращать свой дневной рацион, а ему давали больше. Он запротестовал и заявил, что не возьмет ни грамма больше причитающейся ему пайки. Товарищи пробовали было его уговорить, но он стоял на своем.
Однажды вечером где-то неподалеку раздался ружейный выстрел.
— Идут! — бросил Мишка.
— Подожди. Пока еще не известно, кто и куда идет, — сказал Смутни. — Выстрел-то одиночный!
Вскоре в пещеру вернулся Тимар и принес большого окровавленного зайца. Его сварили и с аппетитом съели, обглодав все косточки. На следующий день удалось подстрелить еще одного зайца.
Спустя несколько дней, когда все, почти потеряв надежду, голодные и злые, сидели, углубившись каждый в свои невеселые мысли, где-то вдалеке раздались выстрелы.
— Вот теперь идут! — проговорил Имре.
В ту ночь спали по очереди, выставляя у входа в пещеру дозорных. Однако и те, кто был свободен от дежурства, не могли уснуть.
Утром, часов в шесть, одним из дозорных был Тимар. Запыхавшись, он вбежал в пещеру.
— Идут!.. Белые… Они отступают!
— Ура! — тихо прокричали бойцы, а Яблочкин на радостях даже подбросил фуражку в воздух.
— Разобрать оружие! — приказал Имре. — Всем занять свои места у бойниц! Стрелять будем только в том случае, если на нас нападут!
В пещеру вбежал Мишка. Ничего не говоря, он занял свое место. Через несколько минут показались офицеры. Вид у них был довольно потрепанный, лица небритые. Кое-кто прихрамывал. Пронесли несколько носилок с ранеными. В самом хвосте колонны медленно ехали санитарные повозки, а за ними две тощие клячонки с трудом тащили дымящую полевую кухню. На облучке кухни сидели два солдата, — по-видимому, повара.
Когда кухня оказалась от пещеры метрах в пятидесяти, Тимар не выдержал и предложил:
— Как вкусно пахнет!.. А не насолить ли нам белякам?
— Ты что, с ума спятил? Да они ж нас здесь всех перебьют!
Но было уже поздно: Тимар выстрелил. Один из поваров кубарем скатился с облучка. Второй испуганно оглянулся назад. Никого не увидев, он все равно поднял руки и, натянув поводья, остановил лошадей.
Яблочкин выскочил из пещеры и побежал к кухне, крича на ходу:
— Бросай оружие! Иди сюда!
Повар незамедлительно выполнил приказ. Он не шел, а почти бежал к пещере. Колонна офицеров тем временем продвинулась так далеко вперед, что они уже не могли видеть полевую кухню.
Тамаш, опираясь на палку, вышел из пещеры, чтобы допросить повара. Маленький мужик с редкой светлой бороденкой, увидев незнакомых людей, задрожал от страха.
— Как тебя зовут? — спросил Тамаш солдата.
Прежде чем ответить на вопрос, солдат осенил себя крестом.
— Иваном… Иван Михайлович Сапожников…
— Крестьянин?
— Да.
— Ты белый?
Солдат растерянно и глупо заулыбался:
— Я-то?
— Отвечай! — прикрикнул на него Тамаш. — Почему ты воевал против рабочих и крестьян?
— Я не воевал… Я варил обед.
— В армию по призыву попал?
— Да.
— Откуда родом?
— Из Чердыни.
— А твой друг? Он тоже мобилизованный?
— И он. Нас вместе забрали.
— Сейчас откуда идете?
Солдат, сообразив, что никто не собирается его ни расстреливать, ни вешать, осмелел и стал более разговорчивым.
— Проехали уже верст сто с гаком. Красные нас здорово поколотили… Добро, если десятая часть нас осталась… Был у нас генерал, так и тот голову сложил… А вы красные?
— Они самые.
— Не верю я что-то.
— Это почему же ты не веришь?
— Потому, что не забижаете меня.
— Дурак ты! — в сердцах сказал Тамаш. — Зачем же нам тебя обижать?
— Гм… Вот вы, значит, какие?
— Да, такие.
Солдат почесал затылок.
— Ладно, тогда скажу все, как есть… Знаете, когда мы еще наступали, господа офицеры вот на этом самом месте расстреляли раненых красных… Нам они сказали, что только так и нужно обращаться с антихристами. Обещали они так наступать, чтобы не останавливаться аж до самой Москвы, и не успокаиваться до тех пор, пока не освободят всю святую Русь от красных…
— И вы им верили?
— Кто и верил… Сказывают, будто в Москве новый царь будет… Скажите, а вы и вправду меня не обидите?
— Нет.
Оказалось, что второго повара только ранило. Его перевязали и привели в пещеру.
Колонна колчаковцев тем временем совсем скрылась из виду. Изголодавшиеся бойцы с аппетитом набросились на щи с мясом, которые варились в котле полевой кухни. Наелись до отвала.
Оба солдата-повара оказались простыми и общительными и быстро сдружились с бойцами. При полевой кухне были и продукты, которых смело могло хватить на целые две недели. Однако доесть все продукты бойцам не пришлось, так как на третий день в этот район прибыл их полк.
Полк понес большие потери, но был вполне боеспособен. Командир полка очень обрадовался встрече с «пещерными бойцами», как он их назвал. Каждому бойцу он лично пожал руку, а затем попросил подробно рассказать о том, как они тут жили и воевали.
Имре Тамаша тщательно осмотрел и перевязал полковой врач. Штыковая рана в левую ногу оказалась не очень глубокой, однако Имре было приказано еще несколько дней не вставать с постели.
Имре положили на свежую зеленую траву. Ухаживала за ним красивая девушка-медсестра.
— Вас, молодой человек, мы направим в Серафимов. Там у нас в здании школы полковой лазарет.
— Я туда не поеду! — запротестовал Имре. — Положите меня на подводу, я поеду со своей ротой.
— Хорошо, хорошо! Только не говорите много, — утихомирила его медсестра.
Тамаша уложили на повозку, которая, однако, развернулась и поехала в обратном направлении. Рядом с Имре на охапке свежего душистого сена сидела красивая медсестра.
Имре любовался девушкой, ее голубыми, как весеннее небо, глазами и золотистыми, цвета пшеничной соломы, волосами.
— Чего ты вытаращил на меня глазищи-то? — не без кокетства спросила медсестра.
— А что, уж и посмотреть на тебя нельзя? — пробормотал Имре. — Как тебя зовут?
— Татьяна. А тебя? — Голос у нее был звонкий.
— Имре… Имре Тамаш…
— Жена есть у тебя?
— Нет.
Повозка медленно катилась по ухабистой дороге. И хотя было тряско, Имре сносно переносил дорогу. Лишь когда колесо попадало в глубокую яму, повозку так встряхивало, что резкая боль отдавалась в раненой ноге. Имре слегка вскрикивал и прижимался к ладному телу девушки. Ему казалось, что так рана меньше болела. Один раз он даже попытался обнять девушку за талию, но она отвела его руку и тихо, чтобы не слышал кучер, сказала:
— Не дурачься, Имре!.. Ты же раненый… Тебе нужно окрепнуть…
— А когда окрепну?
Татьяна кокетливо засмеялась:
— Не забивай себе ничем голову! Спи!
Имре закрыл глаза, чувствуя, как его одолевает приятная усталость. И он уснул.
В лазарете Имре Тамаш пролежал несколько дней. В комнате, где он находился, никого больше не было. Спал он на двух сдвинутых вместе школьных столах, на которые положили набитый соломой матрац. В первые два дня Имре никуда не выходил и не знал, есть ли в лазарете еще больные и раненые.
На третий день он встал и начал ходить по комнате. Первым делом Имре побрился, отчего стал бледнее обычного. Густые черные волосы и большие темные глаза на бледном лице делали его интересным, и Татьяна, перевязывая ему ногу, нет-нет да и посматривала на него.
Получив разрешение ходить, Имре охотнее всего шел в большой зал, где лежало человек тридцать раненых. Его принимали как хорошего знакомого. Особенно он сдружился с одним солдатом, легко раненным в голову. Они вместе курили и подолгу разговаривали друг с другом.
— Ты был в той пещере, о которой здесь столько рассказывали?
— Да, вместе с товарищами.
— Ну и молодцы же вы, ребята!.. Выручили вы нас здорово!.. Если б не вы, то беляки бы нас при первом же наступлении смяли… Они же до зубов вооружены были… Если б не вы, то нас всех, как рябчиков, перестреляли бы…
— Нас они тоже не пощадили! — перебил солдата Имре.
— Слышал. Но вы их здорово потрепали… И дали нам возможность более или менее спокойно отойти…
— Как раз ради этого мы и старались!
— Ну и счастливчик же ты! — Раненный в голову многозначительно улыбнулся.
— Это почему же?
— Ранен ты только в ногу и уже бабой обзавелся… Тебе ведь перевязку Татьяна делает? — Тамаш покраснел, но ничего не успел ответить. — Татьяна любит красивых парней.
— Да ну?
— У тебя такие невинные глаза, будто ты ангел непорочный, а на самом деле…
— А что на самом деле?
— Если будешь хорошо ухаживать, она тебя не оттолкнет…
Тамаш намотал себе на ус сказанное солдатом. Однако по тому, как медсестра держалась с ним до этого, Имре не мог подумать, что Татьяна — легкомысленная девушка. С нетерпением ждал он в тот день вечера, когда сестра придет перевязывать ему ногу.
Татьяна вошла к нему в комнату с градусником в руках. Имре схватил ее за руку и срывающимся от волнения голосом прошептал:
— Давай пока не мерить температуру!
— Это почему же? — спросила Татьяна, однако в голосе ее не было и тени удивления.
— Потому что сегодня градусник наврет! Лучше останься со мной на ночь!
— Ишь чего захотел!
— Татьяна!
— Что тебе нужно от меня?
— Останься! — Имре сделал попытку обнять девушку за талию.
Однако Татьяна выскользнула из его объятий и выбежала из комнаты.
Тамаш долго смотрел на дверь, потом расхохотался и вслух произнес:
— Видно, на сей раз я потерпел поражение. Но ничего, придет время — и на моей улице будет праздник!
НА ДНЕ АДА
— Кажется, и до беды недалеко, — сказал Керечен.
— Что такое? — спросил его Покаи.
— По-моему, этот доктор Пажит ломает себе голову над тем, какую бы мне пакость устроить. Я же тебе уже рассказывал, как он меня «по-дружески» предупреждал, когда я только что прибыл в лагерь.
— Это насчет того, чтоб ты остерегался меня и держался подальше?
— Да.
— А ты не остерегался!
— Не в этом дело. Ты же знаешь, что в комнате я прикидываюсь человеком, который нисколько не интересуется политикой, и в разговоры стараюсь не вступать. Беда в другом. По-моему, доктор начинает догадываться, что я не тот, за кого себя выдаю…
— Не думаю.
— А ты не обратил внимания, что этот Пажит все время заговаривает об офицерах шестидесятого полка? Спрашивает меня: знаю ли я такого-то или такого-то? Куда мы ходили или ездили развлекаться? С кем что случилось? Не знаю, откуда он так хорошо знает офицеров полка? Я же давно выдал то немногое, что мог сказать… Как ты думаешь, не доложит ли он о своих подозрениях коменданту лагеря?
Покаи пока серьезной опасности со стороны Пажита не видел. В настоящее время, объяснил Покаи, когда офицерам выдают такое содержание, на которое все равно невозможно мало-мальски по-человечески прожить, не так уж и важно, в каком лагере находишься — в офицерском или солдатском. Правда, здесь иногда что-нибудь перепадало из подачек Красного Креста, но они так редки и ничтожны… Все пленные в лагере жили в основном на средства, которые зарабатывали, кто как умел.
— Пока, мне кажется, — продолжал Покаи, — ты находишься вне подозрений. А сейчас я поведу тебя в настоящий Дантов ад, а сам выступлю в роли старого Вергилия. Следуй за мной…
Они оставили позади последнее кирпичное здание и по узкому проходу (забор в этом месте был разобран) перешли на территорию солдатского лагеря. По пути Покаи взял на себя обязанности гида и принялся просвещать Иштвана:
— Посмотри, здесь даже бараки выстроились, как солдаты в строю. Хоть сюда взгляни, хоть туда — все стоят по струнке, будто их выстроил усатый старшина. Обрати внимание и на то, что все они наполовину врыты в землю. Это для того, чтобы топлива меньше тратить. Зимой здесь все покрыто толстым слоем снега.
— Картина для меня знакомая. Я сам в таком лагере жил. И нас каждое утро выстраивали перед бараками на перекличку. И часовой шел вдоль рядов и прямо штыком тыкал нас в грудь, чтоб не сбиться со счета, а потом, чтоб не забыть, писал результат своего счета летом на песке, а зимой на снегу…
— Вот в этих-то бараках полуживыми-полумертвыми влачат свое жалкое существование славные солдаты императорской и королевской армий. Спят они на двухэтажных деревянных нарах. Набиты, как сельди в бочке, оборванные, голодные. Здесь даже старшина, который до этого был для них полноправным господином, — простой пленный, которых тут тысячи… А вон, посмотри, идет как раз один из таких. Петлички выгорели, две звездочки он уже где-то потерял… Сейчас еще ничего, жить можно: как-никак тепло… А вон солдатик снял с себя рваные ботинки и греет на солнце ревматические ноги… Зимой же здесь иной раз бывает до пятидесяти градусов мороза, тогда носа из барака не высунешь. Плевок на лету в льдинку застывает! А если заглянуть внутрь барака, увидишь живописные солдатские лохмотья, в которых кишат насекомые. Там же валяются библии и молитвенники. И они еще должны молиться богу за то, что находятся здесь, а не на кладбище, где солдатские могилки точно так же расположились рядками, как здесь бараки. Только могилки размерами поменьше, зато их и счесть невозможно. Недостатка в покойниках не бывает. На таком кладбище закопали и Гезу Дени, который в свое время писал в стихах, что был солдатом мира. Вот теперь действительно можно сказать про него, что он солдат вечного мира…
Остановившись на миг и приняв гамлетовскую позу, Покаи продолжал:
— А теперь посмотри вон на ту развалюху! Это увеселительное заведение для тех бедолаг, у кого есть хоть какие-нибудь гроши. Однако заведение приносит его хозяину немалый доход. Давай вон того солдатика спросим, кто он такой и где его родина.
Покаи и Керечен подошли к пленному, одетому в какие-то жалкие лохмотья и такому худому, что можно было сразу безошибочно сказать: он все время ходит голодный.
— Добрый день, старина! — поздоровался Керечен с солдатом.
— Здравия желаю!
— Это ваша кофейня?
— Эта. Здесь господин Раппопорт проматывает свои денежки.
— А ты чего не идешь веселиться?
— Я?! — Лицо солдатика расплылось в удивленно-ехидной улыбке. — Не извольте шутить, господин хороший!
Керечен посмотрел на испещренные морщинами, заросшие густой щетиной впалые щеки солдата.
— А сколько тебе лет, старина? — спросил Керечен.
Солдат почесал за ухом, словно производя какие-то сложные расчеты, и медленно выговорил:
— Да, пожалуй, тридцать один год будет…
На глаза Покаи навернулись слезы. «Тридцать один год! Всего на семь лет старше меня, а по виду годится мне в отцы!» — подумал он.
— Да, потрепало тебя время, браток, — сочувственно сказал Керечен.
— Меня-то уж точно потрепало…
— Ты голодаешь?
— А кто здесь не голодает?.. Разве что спекулянты… Или тот, кто в лагерь приходит только после работы… Им хоть что-то перепадает… А все остальные голодают, да еще как!
— Тогда пошли с нами в вашу кофейню. Будешь моим гостем… Как тебя зовут-то? — спросил Керечен.
— Мишка Хорват… Только вы уж не извольте шутковать надо мной. Что поделаешь, если я такой оборванец?
— А я и не шучу. Пошли. — И, взяв Мишку под руку, Иштван начал спускаться в полуподвальное помещение.
Когда они спустились в кофейню, их поразил ее вполне приличный вид.
Сели за стол, на нем лежало меню. А официант был таким предупредительным, будто они сидели не в лагерной забегаловке, а в будапештском ресторане при отеле «Риц».
— Три мясных супа! — заказал Керечен.
Официант принес суп, подернутый золотистым жирком.
Мишка Хорват жадно начал есть.
— А что, пивом торгуют в вашей корчме? — поинтересовался Керечен.
— Конечно, торгуют! — ответил быстро Мишка. — Да еще каким вкусным! А знакомым и шампанское подают, только оно безумно дорогое здесь.
— Прошу три бутылки пива! — заказал Керечен.
Принесли отбивные и пиво.
Обильная пища улучшила настроение Мишки Хорвата и развязала язык.
— О боже мой!.. И чем только меня тут не кормят!.. Прямо господский обед!.. А если я и выпью, то сразу запою…
— Подожди! А что еще подают в этом заведении?
— Хороший русский студень, — ответил официант.
— Принесите три порции.
Студень и в самом деле оказался вкусным. Керечен заказал еще три кружки пива. На десерт подали торт с малиновым вареньем.
Керечен расплатился.
— Простите за любопытство, — осторожно начал Мишка Хорват, — но разрешите узнать, из какой вы организации? Из Красного Креста?.. Но те с нами и разговаривать-то не хотят… А может, вы спекулянт, раз у вас столько денег?
Керечен от души расхохотался.
— Ну какой же из меня спекулянт? Я такой же, как и ты! Если когда еще приду в ваш лагерь, охотно угощу тебя опять, если, конечно, денежки у меня будут.
— Вот я потому и говорю, что таких людей у нас нет. А у кого и водятся деньжата, так те якшаются только с себе подобными, с ними и пообедать могут, и выпить. Власть красных вроде бы кончилась, по теперь опять поговаривают, будто они снова возвращаются.
— Возвращаются, точно, — подтвердил Покаи.
— А далеко они от нас?
— На днях взяли у белых Екатеринбург.
Мишка Хорват сдернул с головы фуражку и, бросив ее оземь, радостно воскликнул:
— И я это же говорил! — И вдруг, словно спохватившись, испуганно посмотрел сначала на Покаи, а затем на Керечена.
— А вы здесь здорово ждете прихода красных? — спросил Керечен.
Однако Мишка Хорват уже испуганно замкнулся в себе.
«Ну и дурень же я! — ругал себя Иштван. — Самый настоящий осел! Сначала выдал себя чуть ли не за буржуя, а теперь хочу, чтобы бедный Мишка откровенничал со мной. Уж не сказать ли ему, что я и сам-то красный? Нет, он все равно теперь не поверит… Так как же его все-таки разговорить? Если я и дальше буду называть его на «ты», это ничего не даст: ведь таких, как Мишка, господа тоже называют на «ты», а то еще и оплеуху влепят. Может, лучше перейти с ним на «вы»?» И вслух спросил:
— Скажите, Михай, а кем вы были до армии?
— Поденщиком я работал в Андорнаке.
— Это возле Эгера?
— Там.
— Тогда мы с вами, можно сказать, земляки. Я ведь тоже из Эгера.
— А чем занимались?
— Ни крестьянин, ни господин. Сначала был крестьянином, а потом стал электромонтером.
— Это другое дело! Хорошее ремесло.
Керечен почувствовал, что лед тронулся.
— А вы, случайно, Имре Тамаша не знали?
— Я многих Тамашей знал: Тамаша Петеге, Тамаша Кашкумпри, Тамаша Мичюнки… Все Тамаши… Мичюнки, например, вместе со мной служил в шестидесятом полку, пока нас не перевели к чехам в Седлец… Говорят, он красноармейцем стал.
— Точно, он мой лучший друг.
— Гм… Так, может, и вы красным были?
Керечен испытующе заглянул Мишке в глаза:
— Чего комедию ломаете со мной? И вы были красным, да? Я был красным, и Имре Тамаш. Ну и что?
— Ну-ну… Поосторожнее!..
— Значит, были все же?
— Только партизаном… Не красноармейцем…
— Все едино, и те без винтовки не воюют! — заметил Керечен.
— Это точно!
— Если достанут себе оружие…
— А мир не так уж и велик, чтоб два хороших человека в нем не встретились, — не без гордости произнес Мишка.
— Ну, тогда сервус!
— Сервус!
Керечен и Мишка пожали друг другу руки.
— И сколько же красных содержится в вашем лагере? — поинтересовался Керечен.
— Довольно много. Если б достать оружие да обмундирование…
— Достанем то и другое.
— Достанем, коль нужно!
— А товарища Дукеса ты не знаешь?
— Как не знать? Я и Людвига знаю, и Форгача. Они как раз сейчас в нашем бараке сидят.
— Вот их-то мы и ищем.
— Тогда пошли с нами!
Шандору Покаи уже удалось поговорить с Артуром Дукесом, Кальманом Людвигом и Форгачем о Керечене, рассказать им, что тот служил в отряде красных. Договорились, что при случае Покаи представит им Иштвана, который со своей стороны горел нетерпением познакомиться с ними. Однако Дукес и Людвиг были настолько заняты выпуском очередного номера «Енисея», что встреча эта все откладывалась. И вот теперь в солдатском бараке они должны были встретиться.
До барака оказалось рукой подать. Войдя в него, они увидели, что все пленные столпились вокруг стола посреди барака. За столом сидели трое агитаторов. В воздухе стоял густой махорочный дым.
Покаи за руку поздоровался с сидевшими за столом товарищами и представил им Керечена. Позже они условились, что, появляясь в солдатском лагере, Иштван будет пользоваться своей настоящей фамилией, то есть Керечен, а для обитателей офицерского лагеря он по-прежнему останется Ковачем.
— Мы принесли вам радостное известие, — сказал Покаи собравшимся. — Части Красной Армии освободили от белых Екатеринбург!
Все сразу же оживились, прозвучало громкое «Ура!». Широкая радостная улыбка расплылась по красивому лицу Дукеса.
— Это кто тебе об этом сообщил? — спросил он Покаи.
— Сам лично в газете прочитал.
Людвиг чуть заметно улыбнулся. На нем было порванное обмундирование, но, глядя на его лицо, его можно было принять за дипломата. Он был широко образованным человеком и мог ответить на любой вопрос по истории, литературе или социологии. Более того, Людвиг неплохо разбирался в музыке, живописи и архитектуре. Говорил он тихо и спокойно, что оказывало благотворное влияние на слушателей. В кругу друзей он всегда считался выразителем их дум. Издание «Енисея» в основном лежало на его плечах. Большую часть статей для журнала писал он сам. Единственное, чего ему явно не хватало, так это горячего темперамента Артура Дукеса, его ораторского искусства. Однако, несмотря на это, выступления и статьи Людвига неизменно оказывали глубокое влияние на слушателей и читателей.
Товарищ Форгач был убежденным социалистом, обладал выдержкой и большим опытом. Если б его увидели в какой-нибудь корчме в Буде за кружкой пива, то смело могли бы принять за спокойного обывателя. На самом же деле Форгач в форме красноармейца прошел всю школу революции. Когда белым удалось на время захватить власть в свои руки, его посадили в тюрьму, но, к счастью, не надолго. Он лично был знаком со многими большевиками, которые еще в семнадцатом году взбудоражили весь Красноярск.
Когда пленные успокоились, Дукес начал свою лекцию. Он говорил о Марксе, Энгельсе, Ленине, о характере империалистических войн, которые миллионам простых людей несут смерть и разрушения, а капиталистам — огромные барыши. Особенно подробно он говорил о пролетарском характере русской революции.
Пленные сидели и стояли вокруг стола, стараясь не пропустить ни одного слова оратора.
Затем Дукес начал объяснять, кого следует считать настоящим патриотом своей родины. Он даже сделал небольшой экскурс в историю, рассказав о том, кто служил в армии Дожи, Ракоци и Кошута…
Среди пленных сидел паренек с девичьим лицом. В плен он попал почти ребенком. До армии он даже в школу не ходил и не умел ни читать, ни писать. Здесь же, в лагере, он стал учиться. Научился читать, писать и регулярно ходил на все лекции Людвига, который всегда охотно давал ему книги…
В бараке он регулярно читал «Енисей», где постоянно помещались статьи на актуальные политические темы. Из них можно было узнать о жизни трудового люда в господской Венгрии, об учении Маркса и Энгельса. Там печатались интересные рассказы или стихи…
Жаль только, что читать «Енисей» приходилось быстро, так как газету читали по очереди, а интересных материалов в ней было много. Читать эту газету давали только тем, на кого можно было положиться. Колчаковские шпики повсюду совали свой нос, и потому нужно было держать ухо востро.
Над выпуском «Енисея» работало двадцать человек. Подобно средневековым монахам, они тщательно выписывали каждую букву. «Енисей» не должен был попасть ни в руки членов «Венгерского союза», ни в руки других контрреволюционеров. А в лагере в то время сновало немало офицеров-шпиков…
Дани Риго, двадцатилетний крестьянский паренек, пошел на фронт добровольцем, так как жаждал приключений. Домой его, однако, не отослали, решив, что на войне и такие сгодятся. На фронте Дани два раза ранило, потом он попал в плен. Несмотря на свою молодость, Риго считал себя уже ветераном, так как успел пройти школу войны…
Пишта Керечен сидел как раз напротив Дукеса, впитывая в себя каждое слово.
«Как хорошо и убедительно говорит Дукес! — думал Керечен. — Хотя ничего удивительного в этом нет: ведь он учился в Пеште и был членом «Кружка Галилея».
— Не объясняй мне, кто ты такой, — сказал Людвиг, беря Керечена под руку, когда лекция окончилась и они вышли из барака. — Покаи говорил мне о тебе много хорошего. Говорил, что ты человек закаленный, убежденный. Только ты забудь и думать о том, чтобы перейти в солдатский лагерь. Ты должен остаться в офицерском лагере. Пятый барак для тебя очень хорошее место. Товарищей себе ты уже нашел, однако тебе следует быть осторожнее. Старайся меньше говорить. Реакционеров тебе все равно не переубедить. Дадим тебе задание получше. По-русски говоришь?
— Говорю.
— И хорошо говоришь?
— Думаю, что да. По крайней мере, довольно бегло.
— Какое у тебя образование?
— Шесть классов гимназии.
— А как у тебя обстоит дело с немецким?
— Знаю не хуже русского.
— Испытываешь трудности с грамматикой?
— Да.
— Я так и знал. Я тебе дам учебник, будешь учиться.
К ним подошел Артур Дукес.
— Знаешь, Артур, я думаю назначить товарища Керечена курьером. Через него мы будем поддерживать связь с товарищами из города и городской парторганизацией.
— Правильно, — согласился Дукес. — Выдержанные люди нам нужны.
— Достанем для него постоянный пропуск. Для маскировки будем считать его закупщиком продуктов.
— А не опасно идти к лагерному начальству с просьбой выдать мне пропуск? А что, если они заинтересуются мной и узнают мою настоящую фамилию?
Людвиг усмехнулся и сказал:
— Ты что думаешь, у нас нет мастера — золотые руки? Он тебе сделает такой пропуск, что комар носу не подточит. Но если хочешь, мы достанем тебе и настоящий пропуск.
— Не нужно. Ты, конечно, прав.
— Итак, решено. Завтра ты пойдешь в город и найдешь там каменщика Силашкина. Он наш человек…
Вдруг Керечена осенило: оказавшись в городе, он может разыскать Шуру!
— Я согласен.
— Не спеши, — перебил Керечена Людвиг. — Пока ты еще ничего не знаешь… Наши люди есть и среди белочехов, и среди итальянцев. Наши люди из итальянского полка сообщили, что их полк направляют в Минусинск для борьбы с партизанами. Правда, мы их успели вовремя предупредить об опасности… В городе разыщешь кооперативную лавку.
— Разыщу.
— Утром дадим тебе нужные бумаги, — сказал Людвиг. — Вечером вернешься в лагерь. Только еще раз прошу: будь осторожен! Никакой самодеятельности! Никакого самовольства!
— Ясно.
— И еще одно! Ты никакой не Керечен, а подпоручик Йожеф Ковач. Благородный человек. Ты должен вести себя скромно и незаметно. Лучше всего прикинуться глупым, недалеким человеком. Такого никто не заподозрит…
УГЛИ ПОД ПЕПЛОМ
Оказавшись в объятиях Имре, Татьяна сразу обмякла. В глубине души она ждала этого. Сначала Татьяна пыталась убедить себя в том, что ей не стоит связываться с красноармейцем-иностранцем, да еще в такое неспокойное время. Однако так она думала только до тех пор, пока не видела Тамаша, а увидев, уже не могла устоять: ее влекло к этому красивому обходительному молодому человеку. Почувствовав прикосновение его губ, она ответила на поцелуй.
С этого дня Татьяна каждый вечер приходила к нему на свидание.
Незаметно пролетело десять дней. Нога Тамаша зажила, и его выписали в часть, которую предстояло догонять где-то на Урале.
Летом 1919 года войска Красной Армии освободили Пермь, Златоуст и Екатеринбург. В конце июля отряд красных, во главе которого стоял бывший кузнец Вентрецов, ворвался в Челябинск. Белогвардейцам не удалось удержаться на занятой ими линии обороны. В августе части Красной Армии вышли к берегам реки Тобол. Полуразбитая армия адмирала Колчака откатывалась на восток. Наступление Красной Армии походило на очистительную бурю. В это время Имре Тамаш и прибыл в свою часть.
Боевые друзья радостно встретили Имре. Здесь были Мишка Балаж, Лайош Смутни, Лайош Тимар и многие другие старые знакомые Имре. В полку появилось много новых товарищей, а среди них паренек по имени Билек.
Билек был родом из Праги, но несколько лет жил в Венгрии, где работал металлистом, и выучился свободно говорить по-венгерски. Яблочкина в полку не оказалось, так как его перевели в другую часть. Татьяна вместе с лазаретом тоже прибыла в полк.
Несмотря на отсутствие каких бы то ни было известий о Пиште Керечене, Имре почему-то был уверен в том, что они обязательно встретятся.
— Белых нужно бить до тех пор, пока не только их самих на земле не останется, но даже слова-то такого не будет, — любил говорить Имре.
А бить их может каждый, кто в состоянии подавить в себе страх. Чего греха таить, иногда еще хоть и редко, но встречаются люди, которые накануне боя начинают искать какую-нибудь причину (как правило, вовсе не уважительную), лишь бы только увильнуть от боя. Такие люди обычно любят бить себя в грудь и выступать с зажигательными речами на собраниях, но, когда нужно заглянуть в глаза опасности, мужество изменяет им. Тот же, кто не теряется на поле боя, когда над головой свистят пули, может не только сам воевать, но и вести в бой других, увлекая их своим примером. Настоящий командир не только вел своих бойцов в бой, но и заботился об их духовном и культурном росте. Во многих полках уже в ту пору создавались кружки художественной самодеятельности. В одном из таких кружков занималась Татьяна. Она пела, да еще как пела! У нее был звонкий, чистый голос.
Преследуя отступающих колчаковцев, полк, в котором служил Имре Тамаш, остановился на дневку в небольшом сибирском селе за Уралом. Бойцы были рады короткой передышке и использовали ее для того, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть.
Имре с несколькими товарищами устроились на постой в одной избе. Хозяйку звали Матреной.
Имре почти неделю не снимал сапог и теперь с удовольствием вымыл ноги теплой водой, а затем выстирал портянки и повесил их сушиться на большую русскую печь.
В кухне приятно ворчал самовар. Матрена поставила на стол хлеб, вареную картошку и соль. Имре хотел заплатить ей за продукты, но она наотрез отказалась. Он чуть ли не насильно сунул доброй женщине пятерку в карман.
— Не плохо б к этой картошечке мясца, — проговорил Мишка Балаж, запихивая в рот круто посоленную картофелину.
— А не хотят ли товарищи заказать банку икры? — изогнувшись в поклоне, как официант фешенебельного ресторана, ехидно спросил Смутни. — У нас в части, например, и икра была. А здесь на кухне только сухой суповой концентрат.
— Концентрат был, но уже сплыл… — заметил Лайош Тимар. — Съели и его. Я бы и от фасолевого супа не отказался, но где его взять…
— Есть такие, у которых все имеется, — не успокаивался Мишка. — Скажите, из скольких яиц жарили сегодня яичницу командиру роты?
— Из десяти, — ответил ему Тимар. — Да еще на сале! Если дадите мне яйца и сало, я и вам сделаю.
— Нехорошо как-то получается, — пробормотал себе под нос Имре. — Один ест от пуза, а у другого живот от голода подвело.
— Все у нас одинаково едят. И только ротный особо! — сказал Тимар.
Мишка облокотился на стол и, подперев голову руками, продолжал:
— Вот это-то и плохо! Как только погиб наш бедняга Серпухов, в роте все пошло кувырком. Стародомова и товарищ Игнатов недолюбливает.
— Зато гонору у него много! И все своими военными способностями хвастается!..
— Хвастайся не хвастайся, а раньше мы никогда не несли таких больших потерь! — вздохнул Тамаш. — Погиб наш Кузьмич и вместе с ним еще пять отличных коммунистов.
— Стародомов тоже партийный, — заметил Билек.
Тимар очистил картофелину, но в рот ее не отправил, а сказал:
— Эх, если б ты знал, какую клюкву купил он Татьяне!
— Кому, кому? — спросил Тамаш, вскочив с места, как ужаленный.
— Нравится тебе или нет, но я повторю еще раз: Стародомов купил целую тарелку свежей клюквы блондиночке-санитарочке, за которой ты ухаживаешь.
Глаза Имре метали молнии, а в горле перехватило дыхание.
— Это правда? — с трудом выдавил он. — Говори! Чем он ее еще угощал?
— Всем, товарищ Тамаш. Я давно хотел тебя предупредить. Не нравится мне эта женщина…
— И мне тоже… — послышался еще чей-то голос.
Имре весь побагровел и, стукнув по столу кулаком, закричал:
— Ну, чего вы не договариваете?! Выкладывайте все, что знаете!
Тимар, не обращая внимания на крик Имре, спокойно сказал:
— Сначала ты сядь! Потом — не кричи на нас: мы этого не заслужили! Ты сам попросил, чтоб мы тебе сказали свое мнение о ней. О твоей связи с этой женщиной шепчется вся рота, больше того, весь полк… А она каждый день получает продукты, которые ей вовсе не положены… И это в то время, когда бойцы идут в бой, рискуя жизнью… Нет, товарищ Тамаш, дальше так дело не пойдет… Бойцы возмущаются. Все говорят, что эта кобыла сразу с двумя жеребцами путается, а потом обжирается за наш счет… Разумеется, Стародомов считает, что, как он захочет, так и будет… Знаем мы, откуда у него денежки завелись. Он продает фураж кулакам, а денежки кладет себе в карман! Больше того, он и к солдатскому пайку руку прикладывает. Сказать же ему об этом боятся. А если кто отважится рот открыть, так он на такое задание пошлет, откуда вряд ли вернешься. Стародомов и тебя уберет, как только узнает, что ты ухаживаешь за Татьяной. Комиссар Игнатов пока еще ни о чем не знает… А я, как повар, хорошо знаю, сколько продуктов мне положено получать на день! Однако мне все время недодают их…
— Это точно?! — удивился Тамаш.
— Так же точно, как то, что ты сейчас со мной разговариваешь! У Стародомова в каждом селе есть знакомые. Им-то он и сплавляет фураж и продовольствие, а бойцы недоедают. Но если такие вещи позволяет себе ротный, то, выходит, и другим можно… И другие начинают поглядывать, где бы что стащить. А эта Татьяна, что тебя захомутала, со всего снимает пенки!..
Имре покраснел еще больше. Он даже дар речи потерял.
Балаж не спеша раскурил трубку, набив ее махоркой.
— Вот я тебе и говорю, — продолжал Мишка по-дружески, — брось ты эту девку, дружище, пока не поздно. Я понимаю, она тебе понравилась. Ничего не скажешь — лакомый кусочек! И ты ей пришелся по вкусу. Но ты пойми: нехорошая она!.. Она и другим не отказывает, не только тебе…
— Кому другим? — все еще сердитым тоном спросил Тамаш.
— Сказать?
— Не хочешь — не говори!.. Черт с тобой! А что же вы обо мне-то думаете?.. Кто я, по-вашему, такой?
Все молчали. Стыла очищенная картошка.
— А кто, собственно, этот Стародомов? — первым нарушил молчание Билек. — Кто его отец?
— Не знаю, — сказал Тимар. — Зато своими глазами видел, что ходит он в шелковом белье, а не в том, что выдают нам на складе. На нем и форма из другой материи, лучше, чем у всех. Каждое утро после бритья он душит физиономию духами. Барин какой-то!..
— Нужно поговорить с Игнатовым, — предложил Смутни.
— Я уже говорил ему об этом, — сказал Билек.
— Ну и что? — спросили несколько человек в один голос.
— Игнатов сказал, что ему все известно, но нужно немного набраться терпения… Он уже доложил об этом командиру полка…
— Когда? — спросил Тамаш.
— На прошлой неделе…
— И никаких результатов?
— Пока никаких… Не считая того, что Татьяна и мне не отказала…
Все дружно засмеялись. Не удержался от смеха и сам Тамаш. Когда смех утих, Смутни нервно постучал пальцами по столу.
— Можете мне поверить, дело здесь намного серьезнее, чем мы думаем. Нити хищений могут вести в штаб полка… Нужно что-то делать… Бойцы очень недовольны. И правильно. Число коммунистов в полку уменьшается. Стародомов верховодит в роте как хочет. А тем временем у лошадей наших все ребра пересчитать можно… Овса им вовсе не дают, его Стародомов забирает. В роте нужно все менять, или рано или поздно нас самих разбросают по другим ротам.
Тамаш постепенно успокоился, однако голос его все еще выдавал, что он взволнован:
— Нужно что-то делать! Но что?
— Знаете, товарищи, — перебил Имре Тимар, — я считаю, нам еще раз нужно поговорить с Игнатовым. Если хотите, я возьмусь за это… Он остановился на постой в соседней избе.
Бойцы немного помолчали, обдумывая предложение. Первым нарушил молчание Лайош Смутни:
— Комиссару обо всем нужно знать, на то он и комиссар!
Все согласились.
Тимар пробыл у комиссара недолго и вскоре вернулся вместе с Игнатовым.
— Что тут у вас, ребята? — спросил комиссар, присаживаясь к столу. Взяв одну картофелину, он посолил ее и начал медленно есть.
Все молчали. Никто не осмеливался начать разговор первым. Наконец заговорил Смутни, который лучше всех говорил по-русски, хотя время от времени и вставлял словацкие слова.
— Товарищ Игнатов, нас беспокоит вот что…
И Смутни подробно рассказал комиссару о проделках Стародомова. Чем дальше слушал Игнатов, тем гуще краснело его худое лицо, а глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит. Глядя на этого скромного человека, нельзя было подумать, что он обладает сильной волей.
Выслушав Смутни, комиссар жестом попросил тишины и заговорил густым басом:
— Товарищи, не удивляйтесь, что я вам до сих пор ничего не говорил. Я тоже многое замечал, но только ничего не мог сделать.
— А товарищу Михайлову об этом известно? — спросил Смутни.
— Известно.
— Ну и что же? — поинтересовался Тамаш.
— Велось расследование. Выяснилось, что в партию Стародомов вступил в прошлом году, что отец его — крестьянин, живет недалеко от Пензы. Не известно только, сколько у него земли. Вроде бы десять десятин. Сам Стародомов перед армией работал в Перми на кожевенном заводе. Он много ездил по стране, поскольку занимался закупкой сырья. До революции ни в какой партии не состоял. Окончил четыре класса гимназии, почему и попал сначала в штаб, а оттуда уже в роту. По социальному положению же он рабочий.
— Бывший, — заметил Тимар.
— Разумеется. Однако факт остается фактом: в революционном движении Стародомов принимает участие с семнадцатого года, с того же времени без перерыва служит в армии. Контрреволюционных заявлений от него никто никогда не слышал. Он хороший и смелый вояка…
— А солдатские продукты куда деваются?! — воскликнул Тимар.
— Я вам отвечу и на этот вопрос. Мне известно о хищениях продуктов и фуража, однако поймать кого-нибудь на месте преступления пока не удалось. Правда, с отчетностью в роте дела обстоят не очень-то хорошо. Не удалось собрать доказательств и относительно того, что Стародомов тратит деньги, приобретенные нечестным путем. Правда, кое-что от него любовницам перепадает…
— Татьяне? — вставил Тимар.
— Не только ей, но и другим, — продолжал Игнатов. — Если он и занимается хищениями, то делает это очень хитро. А не пойман — не вор, гласит пословица, так что мы пока не имеем оснований привлечь его к ответственности. В том смысле, что…
— Значит, ничего не изменится? — не дожидаясь, пока комиссар закончит, выскочил Тамаш.
Однако это не сбило Игнатова с толку, и он продолжал:
— Я беседовал по этому вопросу со Стародомовым… Он решительно заявил, что никогда не брал ничего чужого или общественного. Он не отрицал, что тратит много денег, но заявил, что может доказать: он их не ворует. Говорит, что продал часы, кольца и еще какие-то драгоценности и ему нет никакой необходимости урывать что-то из ротного рациона. Что же касается женщин, то сказал, что может вести себя как хочет, поскольку он человек холостой…
— Сказки все это! — недовольно пробормотал Тимар.
— И я так думаю. Стародомов же заявил, что нам нужно получше контролировать поваров.
— Ну и нахал же он! — не сдержался Тимар. — А что с Татьяной?
— С ней я тоже беседовал.
— Интересно. Ну и что? — спросил Тамаш.
— Она сказала, что никто ей, молодой и свободной девице, не запретит принимать небольшие знаки внимания от любовника. К тому же Стародомов обещал взять ее в жены.
— Мерзавец! — не сдержался Имре.
— И вы успокоились такими объяснениями и прекратили дальнейшее расследование? — поинтересовался Смутни.
— Нет, не прекратили. — Игнатов покачал головой. — Расследование продолжается. Выяснилось, что еще кое-кто нечист на руку.
— И каков вывод?
— Материалы расследования переданы командиру полка. Он дал разъяснения.
— Любопытно послушать какие? — спросил Имре.
— Он заявил, что Стародомов уже давно служит в Красной Армии, имеет заслуги, дважды был ранен в боях. Явных улик против него нет, и потому командир полка не может снять его или же возбудить против него уголовное дело. Главное внимание сейчас нам нужно сосредоточить на вопросах укрепления воинской дисциплины в роте и повышения ее боеспособности. А застрельщиками в этом деле должны быть прежде всего коммунисты.
Смутни мрачно рассмеялся:
— Короче говоря, все остается по-старому?
— Пока да.
— Значит, мы должны объяснить бойцам, что наш ротный — большевик и что он имеет право кормить своих любовниц икрой, когда бойцы от голода потуже затягивают ремень на пузе? Этим лучше всего заняться тебе, Лайош! — обратился Смутни к Тимару. — Во время раздачи обеда. Плеснешь бойцу черпак баланды и тут же короткую лекцию ему прочтешь о международном положении и тех трудностях, которые нам необходимо преодолеть.
Игнатову нравилась резкость Смутни, но, как комиссар, он обязан был защищать авторитет командира и способствовать выполнению его приказов. Игнатов, как мог, объяснил это бойцам и сказал, что сам он тоже находится в довольно затруднительном положении.
— Не подумайте, что мне легко, — продолжал Игнатов. — Я тоже не очень-то верю объяснениям Стародомова, но должен вас предупредить: это ни в коем случае не должно отразиться на дисциплине. Ведь многие здесь — коммунисты…
— Которых Стародомов скоро всех постепенно уничтожит! — перебил комиссара Тимар. — Думаете, мне очень хочется быть поваром? Не для меня эта должность!..
— Не ставить же на ваше место жулика, чтобы бойцам еще меньше перепадало? — заметил Игнатов.
— Хочу вам кое-что сказать, товарищ Игнатов, — обратился к комиссару Имре.
— С глазу на глаз?
— Нет, при всех. Перед вашим приходом товарищи устроили мне тут хорошую головомойку за то, что у меня со Стародомовым оказалась общая любовница.
— Слышал я об этом и хотел с вами поговорить, но только с глазу на глаз.
— Говорите здесь! Товарищи правы. Не скрою, мне Татьяна нравится. Красивая она очень, но я с ней порываю!
— Даете честное слово?
— Даю перед всеми!
— Вот вам моя рука!
— Спасибо.
Игнатов еще долго беседовал с бойцами. Было далеко за полночь, когда Тамаш наконец остался один. Бросив бараний полушубок на лавку, он лег. Призрачный свет керосиновой лампы тускло освещал бревенчатые стены избы.
Имре закрыл глаза. Ему казалось, будто все вокруг медленно кружится. Ему было нелегко расстаться с Татьяной. Как сладко она умела целовать! А тело у нее такое белое, такое упругое и душистое! Оттолкнуть бы ее с первого раза!.. Как приятно было положить ей голову на колени, коснуться горячими губами ее нежной руки… Особенно после стольких лет лагерной жизни!..
«Все! Конец! — думал Имре. — Конец раз и навсегда!.. Только бы она сегодня ночью не пришла… А если придет, что я скажу ей? Что?»
У Имре так разболелась голова, что он лег, обхватив ее руками. Самые противоречивые мысли кружились в ней.
«Что же делать?.. А может, все оставить, как было? Затаиться и скрывать от всех?.. Нет, лучше прогнать ее!..»
Вдруг он услышал, как скрипнула дверь. Промелькнула чья-то тень… Это она…
«А может, она по-настоящему любит меня?.. К черту всякую мораль!.. Все это не больше, чем выдумка!.. А человек — это человек, живое существо!..»
— Имре, ты спишь? — шепнула Татьяна, подойдя к лавке, на которой он лежал. И в тот же миг она всей тяжестью тела навалилась на него, припечатав свои губы к губам Имре.
Тамаш почувствовал, как по всему телу разлилась горячая волна, а сердце сжалось в комок.
«Уж не плачу ли я? — подумал он с ужасом. — Я никак не могу освободиться от нее… А может, еще раз распустить ее длинные волосы? Они так и потекут по плечам, по спине… Эх, Татьяна, Татьяна!.. Нет, я уже не имею права делать это!.. Ведь я дал честное слово!.. Я, красноармеец, дал честное слово своему комиссару!»
Стараясь не шуметь, Имре сел и, взяв руки девушки в свои, тихо зашептал:
— Татьяна, уходи отсюда… Мы должны расстаться… Ни о чем меня не спрашивай! Мы должны расстаться!.. Может, я сойду с ума без тебя, но я должен… Понимаешь? Должен!
Девушка вырвала свои руки из рук Имре. Глаза ее округлились:
— Расстаться? Что с тобой, мой Зайчик? Я тебя не понимаю…
Татьяна любила называть Имре Зайчиком.
— Уходи! — Имре встал. — И больше ко мне не являйся! С сегодняшнего дня мы больше не знаем друг друга!
Татьяна прищурила глаза, на лоб ее набежали морщинки. Она сжала руки в кулаки.
— Ты завел себе новую любовницу?
— Знаешь, Таня… — Голос Имре был удивительно спокоен. — Я знаю, что ты не любишь меня… Ты любишь Стародомова…
— Неправда это! — Татьяна ударила маленькими кулачками в грудь Имре. — Тебя обманули! Кто тебе это сказал?
— Об этом все говорят… — Имре опустил голову. — Только я один был таким глупцом и ничего не замечал, потому что любил тебя.
— А теперь уже не любишь?
— Нет, — тихо и неохотно произнес Имре.
Татьяна разрыдалась.
— Ты мне не веришь? — всхлипывая, спросила она.
— Нет.
— Я люблю только тебя!
— А Стародомова?
— Он меня заставил… насильно… А тебя я люблю… И ты хочешь меня бросить?
— Спасибо тебе, Таня, за все… За твою любовь спасибо… Я простой человек… бедный человек… У меня нет денег, чтобы покупать тебе золотые кольца, красивые платья или что-нибудь вкусное, как это делает Стародомов. Уходи, Татьяна!..
— Это твое последнее слово? — спросила Татьяна.
— Да.
— Прогоняешь, значит?
— Да.
— К Стародомову?
— К кому хочешь… Тебе у него будет хорошо.
— Ну ладно, я уйду. Если хочешь, уйду к Стародомову. Только не пожалей и не забудь, что ты сам прогнал меня!.. Стародомов — твой командир… Увидим, кто из нас пожалеет! — В голосе девушки послышалось возмущение и даже угроза.
— Ты права. — Тамаш горько усмехнулся. — Но я не боюсь его.
— Не боишься?
Теперь злость охватила Тамаша. От недавних сомнений не осталось и следа. Он пренебрежительно засмеялся и сказал:
— Представь себе, не боюсь! Беги к своему дружку и скажи: пусть он лопнет от тех продуктов, что ворует у своих бойцов, пусть забирает и овес у лошадей, чтобы купить тебе подарок! Теперь понимаешь, почему ты мне противна? Не бойся, я плакать по тебе не стану!
— Ты еще заплатишь за это! — не проговорила, а прошипела разгневанная Татьяна.
— Кому заплачу? Уж не Стародомову ли?
— Ему.
Только сейчас до Имре дошло, что перед ним опасная бестия, которая до сих пор скрывала свое настоящее лицо. Его так и подмывало ударить ее, но он сдержался.
— Убирайся отсюда, да поскорее, пока я не вышел из терпения… Зачем ты стала моей любовницей? Я ведь для тебя не воровал, не дарил тебе подарков… Убирайся!
Татьяна уже не владела собой. Она так разозлилась, что слова сами слетали с ее губ:
— Что ты городишь? Ах ты свинья! Ты еще меня не знаешь! Я тебе покажу! Я тебя в такое место упрячу, что твоя пещера покажется тебе раем!
— Куда, куда? Уж не туда ли, куда твой Стародомов многих бойцов отправил?
— Ты этого вполне заслуживаешь! — презрительно бросила Татьяна. — Я тебя ненавижу!.. — И, повернувшись, она пошла к двери.
— Спокойной ночи! — буркнул ей вслед Имре.
Громко хлопнула дверь. Во дворе залаяли собаки. Имре лег на лавку и, закурив трубку, задумался.
«Ну, Имре, докатился ты… Теперь у тебя враги и среди своих появились… Сейчас она пойдет прямо к Стародомову. Уж она ему все распишет! Как легко было в подобных случаях раньше: если двое любили одну женщину, то господа решали этот вопрос на дуэли, а простолюдины — на ножах… Правда, и это был не выход… Осторожно, Имре, осторожно!»
Трубка погасла, и вскоре Имре уснул.
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
На следующий день утром Керечен по пропуску вышел из лагеря и направился в город. Недалеко от лагеря он увидел мрачное здание тюрьмы и невольно подумал: а не попадет ли туда и он в ближайшем будущем? От этой мысли у него по спине побежали мурашки. Один вид лагерного забора с колючей проволокой и тот действовал ему на нервы, а уж о тюремной камере и говорить нечего! Товарищи рассказывали, что после Октябрьской революции пленные бросились разбирать забор лагеря. Вооружившись кто топором, кто киркой, они отрывали доски забора и жгли на костре, пока их не остановили русские охранники…
Керечен шел и полной грудью вдыхал воздух свободы. Казалось, что здесь, за пределами лагеря, воздух и тот был совсем другим. Иштван не спеша прошел по берегу Енисея, поглядывая с высокого обрыва на воду. Посреди реки зеленел большой остров. Погода стояла теплая, и вода манила к себе. Кругом не видно было ни души — лишь река да обрывистый берег.
Иштван спустился к реке, разделся и вошел в воду. По середине реки проплыл большой пароход. К берегу побежали волны.
Выкупавшись, Иштван вышел на шоссе. Сняв с головы фуражку, подставил голову солнцу. Идти было приятно. Никто его не останавливал. Никто не мешал.
Вскоре он увидел массивную церковь, построенную из красного кирпича. Собор украшали три громадных креста. На солнце и купола и кресты отливали золотом.
Чуть подальше, вдоль дороги, стояли кирпичные казармы, за которыми виднелся пустырь, вернее, не пустырь, а роскошный зеленый луг. Вскоре дорога пошла немного под уклон. До города оставалось верст шесть. Город как город, похожий на множество других городов. Золотые луковицы церквей, малиновый перезвон с колоколен, деревянные тротуары, по обе стороны которых выстроились бревенчатые избы. Чем ближе к центру, тем больше попадалось кирпичных домов.
Керечен шел, никого ни о чем не расспрашивая: ему хорошо объяснили, куда он должен идти. Довольно скоро он увидел здание, которое искал.
Сердце у Иштвана сильно забилось. Еще несколько минут — и он встретится с Шурой!
Перед Кереченом вырос белобородый голубоглазый великан с красной, как у младенца, физиономией. Мужчина такого возраста мог быть только Шуриным дедом, и Керечен, протянув руку, поздоровался:
— Добрый день, дедушка.
Старик протянул свою огромную руку и сказал:
— Добрый день, сынок. Кого ищешь?
— Добрых людей, — ответил Керечен.
— У нас есть и добрые, и злые, но есть и такие, про которых говорят: ни рыба, ни мясо.
— Я ищу хорошего человека — каменщика Силашкина.
— Он работает здесь, на строительстве. Я сейчас позову его. Все равно скоро обеденный перерыв. Что ему сказать? Кто его спрашивает?
— Скажите, что я привез ему письмо от свояка.
Это были не простые слова, а пароль. Иштвана провели в большую, похожую на зал, комнату. Ему еще никогда в жизни не приходилось видеть такой большой комнаты. Она была разделена пополам перегородкой высотой по пояс человеку. Внутренняя половина располагалась чуть выше внешней. Чтобы пройти в нее, нужно было подняться на несколько ступенек. Мебели в комнате было мало: широкий топчан да скамья, покрытая мохнатой шкурой. В одном из углов висела закопченная икона божьей матери.
Старик любезно предложил Иштвану сесть. Возле стола, сколоченного из неотесанных досок, стояло несколько табуреток.
Керечену очень хотелось узнать, что стало с Шурой, однако у кого и как об этом узнать? Он боялся, что его начнут расспрашивать, откуда он знает Шуру, а объяснять, как и что, Иштвану не хотелось.
— Вы один здесь живете, дедушка? — спросил Керечен.
Старик сел на стул и ответил:
— Нет, не один… Со мной вместе живут две внучки. Шура вот-вот придет обедать, а Маруся, солдатка… Знаете, что такое по-русски солдатка? Это жена солдата. Муж ее служит у Колчака, в унтерах ходит, но он сейчас далеко. Маруся на работе, дома будет только вечером. Шура же рядом на стройке работает. Здоровая девушка, любое дело ей по душе. Вот я ей крендель купил к обеду… Подождите, она сейчас придет. А уж меня извините: пойду по делу.
Проговорив все это, старик быстро поднялся и пружинистым шагом направился к двери.
Керечен потрогал свой сверток, где лежали купленные им по дороге небольшие копченые рыбки, которые буквально таяли во рту, а также пачка китайского чая и фунт карамелек. В лагере он с рук недорого купил тонкую золотую цепочку. Все это он принес Шуре в подарок.
От нечего делать Иштван начал разглядывать висевшую в углу икону. На ней была изображена пресвятая богородица с младенцем на руках. Позолоченная рама потемнела от времени и пыли. Странные существа эти люди! Кто может сказать, почему именно вот такое изображение будит в душе верующего религиозные чувства? Почему магометанин благоговейно застывает перед изображением Будды — вырезанным из слоновой кости уродцем с брюшком и отвислыми грудями? И люди будут им верить до тех пор,-пока однажды не прозреют и не разочаруются в своих идолах, как в свое время разочаровались и разуверились в Зевсе-громовержце. Ничего не поделаешь! Боги тоже стареют и умирают.
Неожиданно кто-то подошедший сзади шутливо закрыл Иштвану глаза руками. По прикосновению рук он почувствовал, что это была женщина. Иштван быстро обернулся и обнял Шуру. Он начал ее целовать и гладить ее волосы.
— Ты… ты… Бяка ты… Так долго не приходил, — шутливо шептала девушка.
— Раньше не мог…
— Останешься у меня?
— К сожалению, не могу.. Мне нужно вернуться назад.
— Останься!
— Пока не могу… Но, может, скоро я буду здесь работать.
— Хорошо… Приходи, нам каменщики нужны. Ты разбираешься в этом деле?
— Немножко… Но вообще-то я электромонтер.
— Тоже хорошо… Сколотим тебе топчан, доски у нас есть, и поставим его вон там. Застелем бараньей шубой. Хорошо?
— Хорошо, Шура, хорошо.
— Иосиф… Я так ждала тебя.
— Я тебе тут кое-что принес. Вкусную копченую рыбку.
— Мы вместе пообедаем.
В этот момент раздался топот ног на крыльце. В избу вошли дед и Силашкин. Старик показал Силашкину на Керечена.
Силашкин был не таким высоким, как старик, но таким же плечистым. Широкую грудь ладно обтягивала вышитая рубаха. Силашкин поздоровался с Иштваном за руку.
— Я привез письмо от твоего свояка.
— Я так и подумал, — улыбнулся Силашкин. — Я что-то давненько ничего не слыхал о нем. Здоров он?
— Здоров, — ответил Керечен.
— Гм… А вот тебя я что-то раньше не встречал… Ты, видать, новенький?
— Да.
Не зная, как незаметно передать Силашкину то, с чем он пришел, Иштван сказал Шуре:
— Я бы чайку из самовара выпил, а?
— Говорите, говорите. Я сейчас поставлю самовар, — спохватилась девушка.
Керечен нагнулся к Силашкину и зашептал ему на ухо:
— Через несколько дней итальянцы хотят провести против партизан карательную операцию в районе Минусинска. Нужно немедленно предупредить товарищей.
— А сколько будет итальянцев?
— До полка.
— С артиллерией или без нее?
— С пушками.
— Хорошо.
— Чего же тут хорошего?
— Хорошо, что у них есть пушки. Они нам очень нужны.
Керечен понял, что каменщик Силашкин мысленно уже видит, как пушки белых попадают в руки партизан. От удовольствия он даже улыбнулся.
— Спасибо за известие. Сегодня вечером я поеду к товарищу Кравченко. А белочехи не собираются нас беспокоить?
— Пока нет. Сейчас они заняты другим.
— Не смеют небось. Ну да ничего… Разделаемся мы и с итальянцами.
— Товарищи рекомендовали окружить их.
— Так и сделаем. Пусть не беспокоятся. А сегодня же ночью обо всем переговорим с ребятами. На телеге поеду к ним. Нет желания проехаться со мной?
— Не могу. Меня товарищи ждут. Как-нибудь в другой раз…
— А то пожалуйста. У них в отряде и венгры есть.
Керечен хотел было объяснить, что он и сам бывший красноармеец и сейчас лишь временно находится на гражданке, но решил пока не говорить этого.
Шура тем временем принесла чай. Застелив стол скатертью, она поставила на него тарелку с рыбками, положила булку и пироги.
Силашкин взял пирог с мясом.
— Из Венгрии до нас дошли нехорошие вести, — сказал он. — Подавили у вас революцию. Страна ваша небольшая. Окружили ее враги со всех сторон, и нам трудно было помочь вам.
— Знаю, — сказал Керечен. — Но мировую революцию им не задушить. Сил у них для этого не хватит.
Старик с шумом пил чай и грыз баранки крупными желтыми зубами.
— Знаешь, сынок, здесь, в Сибири, я служил многим царям, которые, собственно, и загнали нас сюда на поселение. Цари приходили и уходили, а вот мы до сих пор живы. Мне ведь до сотни годков немного осталось. Уйду я скоро от вас в другой мир… А вы останетесь! Молодые всегда должны оставаться!.. — проговорил старик с чувством собственного достоинства. — Вот и Колчак, наш сибирский правитель, недолго протянет… Об одном прошу: при Марусе не говорите о деле. Столько хороших людей у нас в артели — и из ссыльных, и из переселенцев, — а она вышла за этого белого унтера. Вот грех-то на мою старую голову!
— Ничего не поделаешь, дедушка, — старался успокоить старика Силашкин. — Глупых людей у нас хватает. Вот работают у нас на стройке четыре молодых каменщика, с ума посводили их колчаковцы. Вот увидите, как они сразу присмиреют, когда власть снова будет в руках красных!..
Поев, мужчины закурили. Керечен не выходил из избы, чтобы никто из соседей его не видел.
Шура не спускала с него глаз. Она любовалась им: и выбрит-то он хорошо, и причесан, и одет во все чистое… Словом, хорош и пригож… И умен к тому же!.. Свой, товарищ… Не беда, что он мадьяр. А как он хорошо говорит по-русски! Ради такого человека можно научиться и по-ихнему говорить!..
Она вспоминала ночь в поезде. Вспомнила, как он целовал ее… Разве такое забудешь?..
«Сегодня он весь день будет со мной, — думала девушка. — Я его от себя никуда не отпущу!.. Он как-то мне сказал, что он — офицер. Зачем он об этом сказал? Никакой он не офицер вовсе, но тогда почему выдает себя за офицера?.. А, не стоит ломать голову над этим!.. Раз выдает себя за офицера, значит, так нужно… А этот Бондаренко… Нужно будет рассказать об этом Иосифу, когда мы останемся вдвоем».
Когда они остались с Иштваном наедине, Шура обняла его за шею.
— Хочу рассказать тебе кое-что… Тот офицер, что тебя сопровождал, ну, который с тобой ехал в поезде… Бондаренко…
— Что с ним?
— Ты будешь смеяться. Он хотел меня забрать с собой. Позавчера я случайно встретила его в парке. Он ко мне так пристал, что я еле вырвалась. Он немного под хмельком был, наверно, поэтому и держал себя развязно. Сказал, что едет поездом во Владивосток, а оттуда — пароходом во Францию. В Париж он хочет попасть. Говорит, что тут у нас хорошей жизни не будет. Культуре нашей, как он сказал, пришел конец, и теперь в этой стране интеллигентному человеку жизни не видать, потому что всякий сброд пришел к власти… Я ему ответила, что я вовсе никакая не интеллигентка и хорошо себя чувствую дома… Тогда он заявил, что жить без меня не может… Я, разумеется, отказалась. Тогда он начал сулить мне бог знает что. Сказал, что я даже не понимаю, какое счастье от себя отталкиваю, что у него целый чемодан денег… Все доллары какие-то да фунты… И золото есть, и бриллианты… И все это — его… Я сказала, что он, видать, наворовал все это… И что ж ты думаешь? Он даже не обиделся… «Ну, а если и наворовал? — сказал он. — Что из этого? Правильно сделал. Не оставлять же такое богатство красным… Я не дурак…» И чего он мне только не говорил об этом Париже! И что жить-то мы с ним будем во дворце, и машина-то у нас будет, и что одевать-то он меня станет как герцогиню, будет возить в оперу, по театрам… Упоминал какую-то тетушку Анастасию, которая там живет… Ну и насмешил он меня!.. А я ему сказала, что меня не провести. Знаю я таких, как он… Довезет до Владивостока, да и бросит… Услыхав такое, он разозлился, а потом успокоился и полез ко мне целоваться, но я его оттолкнула… Да так оттолкнула, что он упал на землю, а я убежала… С тех пор я его не видала. Наверно, уже где-нибудь в Иркутске. У него, как и у других таких же, как он, полно фальшивых документов. Сбежать ему, конечно, удастся. Ну и черт с ним, пусть бежит!
Иштван с улыбкой слушал рассказ Шуры. Он допускал, что капитану Бондаренко, вполне возможно, удастся бежать из России. Ну и пусть бежит! В Сибири сейчас и без Бондаренко воров и мерзавцев хватает, в том числе и из белых офицеров. Пусть все бегут…
«Хорошо бы провести с Шурой вечер, но нельзя, — думал Иштван. — Дукес и его товарищи ждут меня, чтобы узнать, передал ли я их сообщение…»
Иштван встал и начал прощаться:
— Мне пора идти, Шурочка. Дорога неблизкая…
Шура обняла его.
— Дедушка знает, что я тебя люблю. Я от него ничего не скрываю. Он говорит мне, что я еще очень молода и мне нужно остерегаться, чтобы не попасться на удочку какому-нибудь проходимцу и обманщику… Он знает, что ты большевик. Силашкин тоже воевал у красных. Если б ты был плохим человеком, я бы с тобой и говорить-то не стала. Я молода, это верно, но это не значит, что мне нельзя доверять… В семнадцатом году я помогала товарищам распространять листовки на заводе. Меня никто не подозревал… Если тебе и твоим товарищам что-нибудь нужно будет, ты мне скажи… Я многих людей знаю, помогу…
Керечен провел рукой по шелковистым волосам девушки, а потом вынул из футляра золотую цепочку и надел ее Шуре на шею.
— Это ты мне купил, Иосиф?
— Тебе, Шурочка, тебе. Я тебя очень люблю.
Шура положила голову на плечо Иштвана.
— Спасибо, я ее все время носить буду.
— Хорошо, Шурочка… Но очень тебя прошу, не попадайся на глаза Бондаренко, вдруг он еще никуда не уехал…
— Не может быть!.. Сбежал он… А когда ты еще к нам придешь?
— Не знаю… Я ведь не свободный человек… Возможно, скоро я вообще перееду жить в город, если получу работу на стройке. Но все это зависит не от меня.
Шура крепко обняла возлюбленного и со слезами на глазах прошептала:
— Я боюсь… Я очень боюсь за тебя… Я так тебя люблю…
Керечен поцеловал ее и, чтобы успокоить, сказал:
— Не бойся за меня, Шурочка… Я буду беречь себя…
В Сибири в те годы вовсю шла свободная торговля спиртными напитками. И хотя в свободной продаже спиртных напитков не было, за хорошие деньги в столовой можно было купить пиво и даже водку… Множество интервентов, которым водка выдавалась, спекулировали ею, а колчаковские офицеры и солдаты буквально охотились за водкой.
Керечен быстро шел по улице, с любопытством посматривая по сторонам. Казалось странным, что кругом бурлит жизнь. Он разглядывал прохожих. Элегантные офицеры-иностранцы, красивые женщины прогуливались по улицам. Мода, правда, сохранилась старая: многие мужчины носили бороды и косоворотки. Колчаковские офицеры щеголяли в форме с золотыми потопами. Встречались священники с длинными волосами и в рясах. Было очень непривычно видеть попа с бутылью в руках или же с каким-нибудь свертком под мышкой.
Керечен с любопытством рассматривал все это множество людей, которые, видимо, по каким-то неотложным делам вышли на улицу в этот знойный июльский день. Ему хотелось узнать, о чем думают эти люди… Что их волнует? Чем заняты они сейчас, когда целые народы находятся на пороге новой исторической эпохи?..
И вдруг Керечену показалось, что он увидел привидение.
«Нет! Быть того не может! Но это же он! Ну конечно, он. В форме, погоны унтер-офицера… Нет, этого типа я не могу ни спутать с кем-то, ни тем более забыть… Это же Драгунов! Убийца Лаци Тимара!»
Керечен прошел рядом с унтером. Ошибки быть не могло, это был он. Тот же шрам под левым глазом — след от драки после попойки…
«Значит, контрреволюционный вихрь и Драгунова загнал сюда, в этот город, где сейчас полно всякой швали. А отсюда они побегут дальше, на восток…»
Керечен машинально пошел за Драгуновым. Идти долго не пришлось, так как унтер вскоре свернул в боковую улочку и вошел в харчевню.
Керечен остановился в раздумье: входить или не входить? Решив, что Драгунов ни в коем случае не узнает его в таком виде, Иштван тоже вошел в харчевню.
Драгунов, громко ругаясь, требовал себе водки, но молодая симпатичная официантка никак не хотела давать ему водки, так как по горькому опыту знала, чем это может кончиться. Обычно, напившись, эти типы затевали скандал и не хотели расплачиваться.
Керечен сел за столик в углу и заказал бутылку пива и жареное мясо. Официантка обворожительно улыбнулась и принесла ему то и другое.
— Принеси-ка мне, дорогая, бутылку водки, да побольше… Я сейчас же заплачу.
И достал кошелек, в котором была целая пачка денег. Заметив пухлый бумажник в руках у Керечена, Драгунов подошел к нему и сел за его столик.
— Пива выпьем или водки? — спросил Керечен Драгунова.
Унтер хотел водки. Иштван налил ему чайный стакан водки, а себе пива. Унтер не протестовал, решив, что так ему больше достанется. Они чокнулись. Драгунов залпом осушил стакан и громко крякнул.
Иштван смотрел на его опухшее багровое лицо, на заросшие рыжими волосами руки, на широкие плечи, обтянутые рубашкой. Все свидетельствовало о том, что унтер был физически очень силен.
«Как же мне завести разговор с этим зверем?» — думал Иштван.
— Хороша ли водка? — спросил он.
Унтер поднял голову, вперив в него полубессмысленный взгляд осоловевших глаз.
— Ничего, — буркнул он, — но раньше лучше была.
— Когда это раньше?
— А при царе-батюшке.
Керечену пришлось поддакнуть унтеру, заметив, что тогда многое было иначе. Драгунов кивнул. Керечен снова наполнил стаканы: унтеру — водкой, себе — пивом.
— А ты сам чего не пьешь водку? — спросил унтер Иштвана.
— Врач запретил.
— И ты ему веришь?
— Да.
— И тому поверишь, что сифилис можно вылечить?
— И этому тоже.
— А я вот ни за что не поверю!
Кобура унтера не была застегнута. Из нее виднелась рукоятка семизарядного револьвера. Керечен решил, что он либо похитит этот револьвер, либо разрядит.
— Ты англичанин? — спросил унтер.
Керечен хотел уже назваться англичанином, но вдруг ему на ум пришло, что такие головорезы иногда даже знают иностранные языки.
— Я мадьяр, — сказал Керечен.
— Пленный?
— Да, пленный офицер.
— А… Это совсем другое дело…
Керечен снова наполнил стаканы. Унтер дрожащими руками потянулся к стакану.
— Я не офицер… Я свинья… Сегодня все мы свиньи… Ты тоже свинья… Но у тебя доброе сердце: вот водкой меня угощаешь… У тебя много денег? Ты австрийский офицер? По-немецки говоришь? Да?
— Да, да, — ответил Керечен.
— Ты меня не поймешь… Я русский человек… а русского тебе не понять… Россия — большая страна, много земли, много забот…
— Понятно.
— Ни черта тебе не понятно! Как тебя зовут?
Керечен на миг задумался, не зная, какое имя ему назвать.
— Андрей.
— Андрей, Андрюша… Иди ко мне, поцелуй меня, — пробормотал пьяный унтер.
Керечен снова налил унтеру водки:
— Пей, Драгунов!
Унтер удивленно заморгал глазами:
— Откуда ты знаешь, что я Драгунов?
— Ты сам сказал.
— Ага… Я сам… Тогда так… — И вдруг запел:
То не ветер ветку клонит, Не дубравушка шумит…— Пей, Драгунов, пей… Не горюй! Ну ее к черту, вашу русскую тоску! Пей до тех пор, пока не придут красные!
Драгунов вздрогнул:
— Что ты сказал?.. Красные придут?.. Не беда!.. Тогда Драгунов станет красным комиссаром… Тогда я буду вешать бе… — Он не договорил до конца фразу, так как голова его упала на стол. Унтер моментально захрапел.
«Вот он, счастливый случай! Вот когда я за все могу рассчитаться с этим скотом!.. Но что же мне с ним сделать? Официантка ушла на кухню, она ничего не заметит… В кармане у меня острый нож. Пырну его несколько раз в сердце — и все. И нет Драгунова… Одним кровавым убийцей на свете меньше будет. Я же успею выскочить за дверь. Никто меня не догонит… А вдруг он умрет не сразу, а начнет орать? Тогда очаровательная официанточка легко опознает меня. Это уже нехорошо… Да и не для меня такое вероломное убийство. Вот Драгунов убил бы меня без зазрения совести…»
Рубашка на правой руке унтера завернулась, обнажив татуировку: православный крест. А как же спокойно спит этот ублюдок!
Керечен уже не мог теперь встать и пойти в лагерь, хотя нужно было сообщить товарищам, что он выполнил их поручение.
Как отвратительно храпит этот мерзавец! Интересно, помнит ли он о Лаци Тимаре? Для него Тимар — один из многих, кому суждено было умереть…
Ловким движением Керечен вытащил револьвер из расстегнутой кобуры унтера.
«А хорошо бы увести этого мерзавца куда-нибудь на пустырь… Стоп! Подожди-ка! Да он сам предложит мне прогуляться… Захочет забрать у меня деньги… А что, если он проснется и обнаружит пропажу револьвера? И бросится искать его?.. Нет, это не то! Револьвер нужно потихоньку положить обратно в кобуру, предварительно вынув из него патроны…»
В корчме в тот момент, кроме Керечена и Драгунова, никого не было, так как время обеда кончилось. А поскольку Иштван заранее расплатился с официанткой, она не обращала на них никакого внимания и часто надолго уходила на кухню.
Когда Драгунов проснулся, стало уже темнеть. Унтер оперся на стол и задумался, стараясь вспомнить, как он сюда попал.
— Вспомнил, вспомнил… — пробормотал он спустя несколько минут. — Это ты угощал меня водкой… Ты платил за нее… Сейчас вспомню, как тебя зовут…
— Андрей, — подсказал Керечен.
— Андрей… Андрюша… Вспомнил, ты офицер, а я всего лишь унтер…
— Так оно и есть, унтер Драгунов. А сейчас мне пора возвращаться в лагерь.
— Ах да, в лагерь… Вспомнил и это… Я сам тебя провожу. Согласен? Я не позволю, чтобы тебя кто-нибудь обидел по дороге… Ты мой самый лучший друг, Андрюша! Пошли!
Предположения Керечена оправдались: очнувшийся унтер первым делом схватился за кобуру, но револьвер оказался на месте.
— Пошли. Я за все расплатился, а то скоро совсем темно станет…
— Темнота — это хорошо, — откровенно признался унтер. — Подожди немного. В бутылке не осталось водки?
— Нет, все выпили. Пошли!
— Подожди, Андрей. Не суетись!
Драгунов встал и даже не пошатнулся, чем немало удивил Керечена.
«Ну и силен же этот бык! — подумал Иштван. — Ведь он был пьян еще тогда, когда я его увидел. В харчевне он один выпил целую бутылку водки, а теперь идет, как ни в чем не бывало…»
Со стороны Енисея дул свежий ветер. Керечен и Драгунов шли по дороге. Мимо них прошагали солдаты, не обратив на них никакого внимания. Шли к реке, где даже днем редко можно было встретить людей.
Спустившись к Енисею, они остановились. Недалеко от этого места Иштван искупался по пути в город. Они почти не разговаривали и шли по-военному быстро и решительно, как ходят люди, у которых есть определенная цель.
Керечен посмотрел Драгунову в лицо, на котором застыло точно такое же садистское выражение, какое у него было, когда он избивал Лаци Тимара. На этот раз Драгунов и Керечен были примерно равны по силе, и, как ни странно, оба они преследовали одну и ту же цель — отправить другого на тот свет. Только причины, которыми они руководствовались, были диаметрально противоположными.
Время от времени Драгунов, будто случайно, хватался за револьвер.
— Чего ты хочешь, Драгунов? — спокойно спросил его Керечен.
— Ничего, потом узнаешь, — мрачно ответил унтер.
— Небось на деньги мои заришься?
Унтер громко расхохотался:
— А ты, господин офицер, умный парень, как я вижу!.. Ну, раз ты сам отгадал мои мысли, то выкладывай-ка свои денежки сам, по-хорошему. Не дожидайся, пока я начну палить в тебя! — И с этими словами унтер выхватил револьвер и прицелился в Керечена.
— Не будешь ты в меня палить, Драгунов! — с легкой усмешкой проговорил Керечен. — Свинья ты порядочная!
Унтер нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Он нажал еще и еще, но безрезультатно. Иштван рассмеялся. Унтер, как дикий зверь, подскочил к Иштвану и, перехватив револьвер рукой за ствол, хотел ударить его по голове рукояткой, но не успел.
Керечен опередил его, вовремя схватил унтера за руку и, ловким приемом вывернув ее, бросил унтера на землю. И в тот же миг тяжелый солдатский ботинок опустился на грудь унтера. Драгунов вскрикнул от боли. Однако ему все же удалось высвободить руку, из которой выпал револьвер. Теперь унтер намеревался вцепиться Керечену в горло, но Иштвану и на этот раз удалось схватить правую руку унтера и заученным движением борца отшвырнуть его. Унтер мешком шлепнулся наземь.
Керечен понимал, что это еще не победа. И он оказался прав. Унтер ухитрился схватить его за ногу, и Керечен упал. Завязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Иштван долго не мог освободиться от цепких рук унтера.
Драгунов рычал, стонал, извергал из перекошенного злобой рта самые отборные ругательства.
— У, гад!.. Убью!.. Глаза тебе выколю!..
Однако в конце концов Керечен взял верх. Сказались его прежние спортивные тренировки. Положив унтера на обе лопатки, Керечен нанес ему удар в лицо. Унтер успел укусить его за руку. И тогда Иштван в припадке ярости разорвал пальцами рот унтера. Драгунов взвыл от боли и потерял на миг сознание.
Керечен выпустил унтера из рук, но, оказалось, преждевременно: тот, мгновенно придя в себя, схватил Иштвана своими волосатыми ручищами за горло.
— Задушу! — злобно прорычал Драгунов.
Взгляд Керечена упал на валявшийся рядом револьвер унтера. Он был не заряжен, но им можно было прекрасно воспользоваться как молотком.
Схватив револьвер за ствол, Иштван рукояткой ударил унтера по голове. Драгунов растянулся на земле.
Керечен, тяжело дыша, встал и посмотрел на неподвижно распростертого унтер-офицера Драгунова, на совести которого было множество человеческих жизней. Этот палач убил Лаци Тимара. Этот садист только что из-за денег собирался убить и самого Керечена.
«Что же мне с ним теперь делать? Бросить тело в Енисей?.. Он этого вполне заслуживает… По крайней мере на свете одним убийцей меньше стало… Если б в Сибири существовал правопорядок, унтера следовало бы отдать в руки полиции как убийцу. Но разве можно сейчас найти такого полицейского, который поверил бы пленному, выступившему с обвинением против колчаковского унтер-офицера?
И дернул же меня черт зайти в эту паршивую харчевню! — думал Керечен. — А ведь товарищи в лагере предупреждали меня, просили, чтоб я не вмешивался ни в какие скандалы и истории. А если б этот садист убил меня?..»
От одной этой мысли Иштвану стало не по себе. Он наклонился к унтеру и положил ему руку на сердце: оно не билось.
— Убил, — пробормотал чуть слышно Иштван. — Вот тебе за Лаци Тимара!
В руке Иштван все еще держал револьвер унтера. «Хорошее оружие… — Иштван повертел револьвер перед глазами. — Системы «Наган»… Когда-то и у меня такой был… А зачем он мне сейчас? — И, размахнувшись, бросил револьвер в воду. — Око за око, зуб за зуб… Так нужно поступать с каждым мерзавцем!»
Отойдя от унтера метров на сто, Иштван остановился и, хлопнув себя по лбу, мысленно сказал себе:
«Ну и глупец же я! Не револьвер нужно было бросать в воду, а труп унтера! Ведь когда его обнаружат, начнут искать убийцу. А река все смоет… Что же теперь делать? Вернуться и сбросить Драгунова в Енисей? А если кто увидит? Тогда конец всему!
Теперь уже поздно. Будь что будет… Главное, что Драгунов убит…»
ЗАПАДНЯ
Поругавшись с Татьяной, Имре Тамаш думал, что Стародомов и его любовница будут подстраивать ему разные каверзы. Однако он ошибся. Ротный вел себя как ни в чем не бывало, а Татьяна вообще не попадалась Имре на глаза. Снабжение же роты продуктами питания несколько наладилось.
Более того, комиссар порекомендовал Стародомову назначить Тамаша командиром первого взвода. На должность ротного кашевара вместо Лайоша Тимара был назначен другой боец, а Лайоша зачислили в первый взвод. Получилось так, что все интернационалисты оказались в первом взводе: Тамаш, Смутни, Тимар, Билек, Балаж.
Обстановка в роте несколько улучшилась. Успехи Красной Армии воодушевили бойцов. Белые все больше слабели, и борьба с ними в основном превратилась в преследование. Участились перебежки солдат из армии Колчака в красные отряды, однако офицеры и кулаки по-прежнему неистовствовали в своей ненависти против Советов. Белым офицерам все труднее и труднее становилось держать солдат в узде. Прежние разглагольствования и обещания уже не действовали на солдат, которые хотели мира и хлеба. Офицеры, правда, все еще надеялись на помощь стран Антанты, хотя на фронте воевали только русские части, а иностранных войск не было и в помине.
Миновав Челябинск, полк прибыл в деревню Ивановку. Солдаты очень устали от двухсуточного пешего перехода. Всем хотелось отдохнуть под крышей. Хотелось вымыться в баньке, сменить белье и, разумеется, вволю выспаться.
Конные дозоры, высланные вперед, проехали по всем улицам деревушки. Вдоль главной улицы стояли добротные бревенчатые избы. В них, судя по всему, жили состоятельные мужики. Началось распределение бойцов на постой.
Стародомов устроил роте короткий смотр. Все четыре взвода расположились в деревне, выставив от каждого из них дозорных на случай внезапного нападения противника.
Последним располагался на отдых первый взвод.
— Я это сделал специально, — объяснил Тамашу ротный. — Ваши люди разместятся в избах на главной улице. Места всем хватит. Только прошу вас не забывать о бдительности и выставить часовых! Я сам буду жить в здании управы. Если что случится, немедленно докладывайте… Да, насколько мне известно, село три дня назад оставили колчаковцы, так что отнюдь не исключено, что контрреволюционные элементы вновь поднимут голову. Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. В случае тревоги немедленно приведите взвод в боевую готовность. Понятно?
— Понятно, — ответил Имре Тамаш.
Стародомов по-военному щелкнул каблуками и уже хотел было уходить, но, передумав, остановился и жестом Подозвал к себе Имре.
Несколько метров они шли рядом. Имре впервые видел ротного командира так близко. Лицо у Стародомова было чуть полноватое с почти идеальными чертами. Про таких мужчин обычно говорят, что они пользуются успехом у женщин. Его нисколько не портила даже небольшая коричневая родинка на правой брови. Имре невольно подумал о том, что с такой внешностью совсем не трудно добиться расположения девушки. А может, все, что говорят о ротном, не больше чем самая обыкновенная сплетня?
Стародомов угостил Имре сигаретой.
— Ну, теперь, я надеюсь, вы как следует отдохнете.
— Хорошо бы, — согласился Имре.
— Пора уж и отоспаться…
— Конечно.
Тамаш понимал, что Стародомов собирается что-то сказать. Ведь не для того он его позвал, чтобы сказать несколько ничего не значащих фраз?
— Пойми меня правильно, — осторожно начал Стародомов. — Ну как бы тебе это объяснить… Скажи, можно с тобой говорить откровенно?
— А почему бы и нет?
— Ну, тогда слушай… Говорю с тобой как мужчина с мужчиной. Нам нет никакого смысла таиться друг от друга. Татьяна рассказывала мне…
— Меня это нисколько не интересует! — Имре махнул рукой. — Я с ней порвал…
— Татьяна — дрянная шлюха, — перебил Имре Стародомов.
— Хорошо, что и вы это поняли. Я это понял несколько раньше.
Стародомов натянуто улыбнулся.
— Видишь ли, человеку на фронте не приходится выбирать… Не знаю, как ты относишься… Я думаю, что… Ну да ты знаешь, как мужчины относятся к женщинам подобного рода. Одно могу тебе сказать: я в полковую казну не залезал… Все, что я подарил этой шлюхе, купил на свои деньги!.. Но сейчас важно не это… Давай не будем об этом говорить… Я хочу, чтобы в роте было спокойно, чтобы прекратились все сплетни. Пустая болтовня отражается на боеспособности подразделения. Нам, командирам, нужно с этим считаться! Мы бойцы, товарищи… Ну, пока… До свидания! — И он легкой походкой зашагал прочь.
Когда Имре вернулся к своим, то увидел, что Мишка Балаж бьет прикладом в дверь дома, куда их определили на постой. Дверь не открывали. Наконец в окошко высунулась девочка с льняными волосами. На вид ей было лет десять — двенадцать.
— Дома никого нет, — сказала она тоненьким голосом.
— Открывай! — крикнул девочке Сергей, новый друг Мишки Балажа.
— Папка сказал, чтобы я никого в избу не пускала, пока он сам но придет.
— Послушай, девочка, — проговорил Сергей, — если ты немедленно не откроешь, я сорву запор.
Хозяева, разумеется, оказались дома: толстопузый мужик Матвей Иванович, сухая, со впалой грудью, жена его и двадцатилетняя дочь Манька.
— Эту неделю мы всемером будем вашими постояльцами, — заявил Сергей. — Приготовьте нам место для спанья!
Хозяину дома можно было дать лет сорок пять — пятьдесят. Его густые рыжие волосы были подстрижены «под горшок». Он носил бороду и усы. Он был в длинной, чуть не до колен, голубой рубахе, подпоясанной широким красным кушаком. На ногах сапоги с короткими голенищами.
— Боюсь, вам не понравится мое скромное жилище, — с подобострастной улыбкой сказал хозяин. — Кроме хлеба, лука, картошки и соли, у меня ничего нет… Если б мы знали, что у нас будут гости, мы бы щи сварили…
— Нам ничего не нужно, — оборвал хозяина Сергей.
— Прошу извинения, я не хотел обижать товарищей. Я русский человек, а русские, как известно, люди гостеприимные. Я сам когда-то был солдатом и потому знаю, как солдатам иногда хочется попробовать чего-нибудь домашнего.
— Спасибо, — попытался смягчить грубость Сергея Смутни. — И мы не людоеды. Мы тоже любим мир и тишину, а обед нам скоро принесут.
Имре Тамаш осмотрел дом с крыльцом, украшенным резными наличниками. Из большой горницы можно было пройти в просторную кухню, в которой все так и блестело чистотой. Здесь находилась не только громоздкая русская печь, но и небольшой подтопок. На шкафу стоял начищенный до блеска самовар, на полках — различная посуда. Горница была обставлена по-крестьянски: у одной стены — изразцовая печь и кровать (наверняка для гостей), а у другой — широкие полати.
— Думаю, эта комната подойдет товарищам? — улыбаясь во весь рот, спросил хозяин. — А мы в другой комнатенке поместимся, чтобы вам не мешать.
— А где ваша комната? — спросил хозяина Смутни. — Вот та, что направо?
— Нет. В той живет моя дочь. У старшей дочери отдельная комната. Семья у меня небольшая. Кроме меня с женой и двух моих дочерей, в доме никто не живет. А младшая дочка еще совсем маленькая.
Худая, как вобла, хозяйка и ее пышногрудая дочь, низко кланяясь, пригласили бойцов к столу:
— Извольте к столу! Чайку попейте с нами!
Бойцы переглянулись, решив, что если они выпьют по стакану чая, то этим никак не введут хозяев в большой расход.
Только сели за стол, как зазвонил колокол.
— Что означает этот колокольный трезвон? — спросил Тамаш хозяина.
— Матвей Иванович, скажи, в честь какого святого этот набат? — поинтересовался и Сергей.
— Я, право, не знаю, — ответил кулак, стараясь придать своему лицу невинное выражение. — А вы не знаете? — Он повернулся к жене и дочерям.
Те молча переглянулись.
— А когда белые ушли из деревни? — спросил Сергей.
— Эти, как их… Да вчера вечером.
— Интересно, а мне сказали, что три дня назад, — заметил Имре. — Так когда же все-таки?
— По правде говоря, тогда и ушли, — нисколько не растерялся хозяин. — А вот последние из них только вчера ушли.
— И у вас в доме они стояли?
Хозяин начал дипломатично увертываться от ответа:
— Стоял какой-то офицер… Кажется, капитан… Фамилии его я и вовсе не знаю.
— Беги к Стародомову! — шепнул на ухо Балажу по-венгерски Тамаш. — Скажи, что в селе не все ладно. Пусть пока не распределяет бойцов по домам. Лучше пусть на улице побудут. Нужно выставить усиленные дозоры… а мы обыщем дом, да и по соседству посмотрим, что там делается…
Мишка сразу же ушел. Хозяин медовым голосом потчевал бойцов чаем.
— Спасибо, хозяин, спасибо, — с улыбкой остановил его Тамаш. — Нам сейчас не до чая… Тем более что вот-вот нам и обедать пора будет.
Бойцы тщательно осмотрели весь дом. Старшая дочь хозяина оказалась вовсе не дурнушкой. Она то и дело улыбалась, обнажая великолепные белоснежные зубы.
Имре отвел взгляд от девицы, решив, что сейчас не время заглядываться на девок. У младшей были такие же, как у сестры, крупные глаза. Однако не может быть, чтобы в доме, кроме хозяина, не было больше мужчин!
— А разве сынка у тебя нет, хозяин? — спросил Сергей, которого тоже мучили сомнения.
— Есть, как не быть, — тихо вымолвил мужик. — В солдатах служит. Двадцать четвертый год ему пошел.
— А где он сейчас?
Хозяин ткнул рукой на восток и сказал:
— А бог его знает! Забрали… Вместе с армией на восток небось идет, а может, и в живых-то его уж нету… Время сейчас такое неспокойное…
— Ничего, скоро война кончится, — сказал Тамаш. — Вот выгоним из России Колчака…
Матвей Иванович слушал молча. Тем временем бойцам принесли обед из полевой кухни — суп с мясом и кашу. Бойцы с аппетитом принялись за еду. В самом конце обеда заявился Балаж.
— Я все передал ротному, — по-венгерски, чтоб не понял хозяин, рассказывал Мишка Тамашу. — Стародомов сказал, чтоб мы не беспокоились. Колокольный звон ничего не значит. Он тоже спрашивал о нем. Это поп созвал народ, чтобы сообща помолиться богу и попросить его послать на землю дождь. Вот уже три недели на землю не упало ни капли дождя.
У хозяина был такой вид, будто он хочет что-то сказать, но не знает, как начать.
— Господин начальник, — робко проговорил он, обращаясь к Тамашу. — Как бы вам это сказать… Если хотите, можете ночевать в комнате дочери… Никто вам не помешает. Лампа там есть.
— Об этом мы позже поговорим, — ответил Имре хозяину и по-венгерски подозвал к себе товарищей. — Подозрителен мне этот тип. — Тамаш глазами показал на хозяина. — Да и в колокол, по-моему, они не случайно трезвонили, тем более что никакого религиозного праздника сегодня нет… По-моему, колокольным звоном местные кулаки подавали знак контрреволюционерам… И глаза мне у нашего хозяина не нравятся… Билек, оставайся здесь, а мы посмотрим, что делается вокруг. Оружие держать при себе! В случае чего стреляйте! Понятно?
— Понятно.
— Ну, пошли.
Бойцы вышли во двор. Хозяин хотел было пойти за бойцами, но Билек крикнул ему:
— Стой!
Первым делом бойцы осмотрели скотный двор. Там стояли две лошади, четыре коровы и два поросенка. Бойцы штыками прощупали все сено, но ничего подозрительного не нашли. В маленькой баньке за домом тоже никого не было. Затем они осмотрели курятник, погреб, кладовые и пустую комнату, в которой до недавнего времени жил квартирант. Нигде ничего подозрительного.
— Ни черта тут нет, Имре! — выругался Мишка. — Нужно пощекотать хозяину пятки, тогда он скажет, где и что спрятано.
Осмотрели двор и уже хотели было возвращаться в дом, как взгляд Тамаша остановился на свежесметанном стожке сена.
— Хо-хо! Посмотрите-ка сюда! А ведь наш Матвей сметал это сено в стог недавно, и это во время обмолота-то!
— Да, странно, — согласился Тимар. — Этот стожок сложен не раньше вчерашнего дня.
— Посмотрите-ка, сено с одной стороны сухое совсем, а с другой — сырое… Его, черт бы меня побрал, наверняка разбирали!
— А вот мы сейчас это проверим, — сказал Имре. — Вилы есть? Ну-ка, возьмемся!
Бойцы мигом взялись за вилы и начали разбрасывать стог.
— Стойте! Посмотрите-ка, что тут лежит, — вдруг воскликнул Лайош Смутни.
И действительно, в самой середине стога лежали ручные пулеметы, винтовки, пистолеты, множество патронов и ручных гранат.
— Ну, ребята, — Тамаш от удовольствия даже щелкнул пальцами, — вот это улов!
В этот момент во двор вошел комиссар Игнатов. Увидев оружие, комиссар, который раньше никогда не ругался, разразился бранью:
— Это оружие белые гады оставили кулакам. Если б не вы, то с этим оружием они ударили бы по нас с тыла…
— Пойду спрошу у хозяина, что все это значит, — сказал Имре, — а ты, Смутни, беги и доложи ротному, что мы нашли много оружия и патроны. Ты, Тимар, раздели взвод на три группы, и пусть они пройдутся по всем кулацким дворам. Найденное оружие собрать в одно место! Кулаков, у кого найдете оружие, арестовать!
— Все это так, но люди наши очень устали… Вот уже целую неделю сапог с ног не снимают. Отдохнуть бы им малость!
— Это мой категорический приказ! Если мы не хотим, чтобы нас перестреляли, как куропаток, нужно пошевеливаться! Время не ждет. Каждую минуту можно ждать нападения.
Тимар козырнул и побежал выполнять приказ.
— А ну-ка, выводи хозяина и всю его семью во двор! — приказал Имре Билеку.
Через минуту Матвей Иванович, низко опустив голову, стоял перед Тамашем. Жена хозяина тихо всхлипывала, а младшая дочка с вызовом смотрела на Имре.
— Ну, хозяин, теперь твоя жизнь зависит целиком от тебя самого. Скажешь, откуда взялось это оружие, будешь жить. Соврешь — окажешься на том свете!
Матвей молчал.
— Или, может, это не твой двор?
— Мой.
— Тогда почему ж ты молчишь?
— Я говорю, когда сам захочу, и только с теми, кто мне нравится. А с тобой говорить не желаю, потому что ты иностранец! Я буду говорить только с ротным командиром.
— Ничего, хозяин, ничего… Поговоришь и с ротным, если случай представится. А пока вопросы тебе буду задавать я. Еще вчера у тебя на постое были белые, которым ты, видимо, и предложил спрятать оружие на своем дворе. Господа офицеры не очень-то понимают в крестьянской работе, так ты сам помогал им… Сами офицеры стог не сметают… Раз у тебя во дворе спрятано оружие, значит, ты и есть самый настоящий контрреволюционер, а?
Хозяин продолжал упрямо молчать.
— Молчишь? И то дело!.. Может, ты, мать, чего скажешь? Сколько беляков у вас побывало? В каком направлении они ушли? Или, может, они еще в деревне?
— Смилуйся! — взмолилась женщина и упала перед Имре на колени. — Ради бога, смилуйся! Я ничего не видала…
— Выходит, оружие к вам во двор чудом попало? А вы, сударыня, что скажете?
Лицо девушки стало восковым. Заметно было, что она с трудом сдерживается. Натянуто улыбнувшись, она тихо пробормотала:
— Его и правда… спрятали белые офицеры… Они стояли у нас… Но мы их вовсе не знаем…
— Это уже кое-что… Тогда почему же вы не сказали нам об этом, когда мы пришли к вам? Вы что, не знаете, как карается незаконное хранение оружия?
Имре никто не ответил.
— Кто были те офицеры, хозяин?
— Я не знаю, — глухо ответил Матвей. — Что хотите со мной делайте — не знаю…
— Ничего мы с тобой делать не будем Такой мерзавец заслуживает только пулю… А ты еще предлагал мне комнату дочери! Может, ты и дочку прислал бы мне на ночь, а?
Хозяйка снова запричитала, заплакала:
— Смилуйтесь, ради бога!.. Нам пригрозили, что всех расстреляют, если мы не согласимся спрятать оружие… Мы уважаем любую власть… и вашу тоже…
Имре обвел взглядом присутствующих и спросил:
— А куда делась ваша младшая дочка?
Девчонка действительно куда-то исчезла, и притом так, что этого никто не заметил. Но куда? И когда? В какой момент?
— Отвечай, хозяин, куда делась дочка?
— Я не видал.
— Ну ничего, это мы еще узнаем! Словом, все вы ничего не видали и не слыхали?
Хозяин молчал.
— Ладно. — Тамаш вынул из кобуры револьвер. — Даю тебе на размышление десять минут… Чтобы все чистосердечно рассказал. Куда послал девчонку? К кому? Имей в виду, что сейчас идет война и нянчиться с тобой мы не собираемся!
Мишка Балаж не удержался и выругался по-венгерски.
— Да отдай ты мне, Имре, этого пузатого паука! — попросил он. — Я ему разок в пузо штык воткну, и уж больше у него во дворе никогда не будут прятать оружие. Живым он из моих рук не уйдет. Уж я ему покажу!
Проговорив это, Мишка направился было к хозяину. Матвей задрожал как осиновый лист. В этот момент к воротам дома подошли два мужика с топорами за поясом.
— Хотим поговорить с товарищем командиром, — сказал один из них, постарше, хотя и ему больше тридцати никак нельзя было дать.
— Я командир, — ответил Тамаш. — Что вам нужно?
— Мы пришли как свидетели, — проговорил второй, тот, что был помоложе.
— Какие еще свидетели?
— Это долгая история, товарищ. Мы местные…
— Говорите, я вас охотно выслушаю.
Матвей бросал отчаянные взгляды то на жену, то на дочь.
— Мы должны вам рассказать кое-что об этом человеке.
— Его и человеком-то назвать нельзя, — поправил младшего старший.
— А кто же он такой? — спросил Смутни.
— Черт!.. А жена его — чистая сатана!
— А кто же тогда их дочь?
— А дочь? — Младший в сердцах сплюнул на землю. — Змея. Вы их всех остерегайтесь. Матвей — самый богатый кулак в деревне. У него и сын есть, двадцати четырех лет. Служит офицером у Колчака. Мы и о нем можем кое-что рассказать… Нынче летом вся беднота работала на этого мироеда…
— Ты сейчас не об этом говори, а лучше покажи свою спину, — предложил старший.
И оба мужика, как по команде, стащили с себя рубахи. Спины у обоих были так расписаны плетью, что нельзя было смотреть без содрогания. Рубцами были исполосованы не только спина, но и грудь, плечи..
— Хорошо же вас расписали, — проговорил Тамаш. — Кто это сделал? Какой зверь?
— Он! — в один голос ответили оба мужика и показали на Матвея.
— Это правда? — Тамаш повернулся к хозяину.
— Нет… Не верьте ни одному их слову.
— Врешь прямо в глаза! — выкрикнул старший мужик.
Матвей на сей раз промолчал.
— Прошлым летом, когда белые вошли в деревню… Мы до этого служили у красных… А Матвей верховодил в селе. Собрал он всех, кто служил у красных, и приказал нас хлестать плетками… Многих он лично забил до смерти. Если хотите, раскопайте землю в конце двора, там много убитых найдете. Знаете, что он делал? Приказывал вырезать на спинах пятиконечные звезды! Может, и это неправда, Матвей Иванович?
— А сынок ихний — еще больший зверь! Перещеголял, так сказать, даже папашу… А вот эта ихняя дочка, Манька, со всеми офицерами в кровати валялась!
В глазах у Маньки загорелись злые огоньки.
— Врешь! — хрипло выкрикнула она.
— Это я-то вру? — Мужик помоложе встрепенулся. — Может, и то брехня, что ты сама принесла плетку отцу, чтобы он спустил с меня шкуру? Где та плетка? Где она сейчас?
— А вот это не она? — спросил Билек, показывая нагайку, которую он держал в руке. — Я ее на шкафу нашел.
Тамаш толкнул Билека в бок и сказал:
— Товарищ Билек, как ты думаешь, не дать ли нам попробовать этой самой плетки всей семейке Матвея?
— Разрешите мне его проучить! У меня на это полное право имеется! — попросил мужик помоложе.
— А у меня что же, нет такого права? — заспорил с ним другой мужик. — Давай уж тогда вместе, так будет по справедливости.
— Хорошо, — проговорил Тамаш. — Я даю хозяину десять минут на размышление. Если он не ответит на мои вопросы… Тогда я передам его вам, и делайте с ним что хотите…
Жена Матвея громко зарыдала. Глаза Маньки горели жгучей ненавистью к обоим мужикам. Ноздри ее красивого носа трепетали, как у породистой лошади. Грудь высоко вздымалась.
До сих пор комиссар Игнатов молча следил за разговором. Теперь же он сказал:
— Если вы меня спросите, есть ли у вас, мужики, человеческое право бить этого негодяя плетью, могу вам ответить: такое право у вас, бесспорно, есть — дать ему столько же ударов, сколько получили вы…
— Этого будет вполне достаточно! — обрадовались мужики.
— Но есть и другая точка зрения… — продолжал комиссар.
— Какая еще другая? — перебил его мужик. — Нас били, вот мы сейчас и расплатимся сполна. Если сдохнет, туда ему и дорога: он это заслужил.
— Советский закон запрещает проводить самосуд!
Мужик постарше засмеялся:
— Закон, говорите? А вы думаете, они считались с законом, когда расправлялись с нами?..
— Может, им еще и адвоката дать? Не вы ли их защищать будете?
— Бей! Чего смотреть?! — крикнул мужик постарше.
— Не сметь! — крикнул Игнатов. — Всю семью мы отдадим под суд военного трибунала.
— Плевал я на трибунал! — выкрикнул мужик помоложе.
— Снимай рубаху! — заорал на Матвея другой мужик. — А не то я сам ее с тебя сдеру!
Матвей, его жена и дочь затряслись от страха.
— Не забывайте, что здесь я — комиссар! — Игнатов встал перед мужиками. — Вы не имеете никакого права здесь распоряжаться. Я не позволю чинить самосуд! Мы во всем сами разберемся, а этот кулак нам может понадобиться. Я даже имен ваших не знаю!
Мужики сразу же притихли и даже шапки с головы поснимали.
— Простите нас, товарищ начальник… — начал тот, что был помоложе. — Меня зовут Андреем Максимовичем Лабадкиным, а моего товарища — Петром Ильичом Бухновым… Разрешите нам вступить в ваш отряд… Когда в руках оружие, совсем по-другому себя чувствуешь.
— Ты тоже этого хочешь, Петр?
— Если можно… — Второй мужик растерянно комкал в руках картуз.
— Хорошо. Сегодня же вам выдадут обмундирование. Нам нужны смелые, сознательные бойцы… А сейчас не будем терять попусту время! Оружие перед вами, патроны тоже! Берите себе оружие! И вот вам первый мой приказ: найти место, где зарыты замученные кулаками мужики! Отрывать их будут Матвей с женой и дочкой. Они лучше вас знают, где закопали убитых. В случае неповиновения разрешаю стрелять… И, повернувшись к Тамашу, комиссар строгим тоном продолжал: — Имейте в виду, я не потерплю никаких телесных наказаний! Кто ослушается этого приказа, будет отдан под трибунал! Я еще вернусь.
— Слушаюсь! — по-военному ответил Имре. — Балаж и Билек остаются здесь! Старший — Билек! Как только найдете захороненных, немедленно доложите!
Едва комиссар Игнатов дошел до ворот, как Мишка, приставив к груди хозяина штык, рявкнул на него:
— Бери лопату! Да побыстрее!
За лопатами идти далеко не пришлось, так как они находились во дворе.
Оба мужика подталкивали Матвея, его жену и дочку прикладами.
— Кажется, вот тут лежат, под этой вот березой, — проговорил Петр.
— Не знаю, — злобно огрызнулся Матвей, на лбу которого выступили крупные капли пота. Он был насмерть перепуган и весь дрожал от злости, что два самых бедных в селе мужика сейчас командуют им.
Начали неохотно копать. Мишку такая работа явно не устраивала.
— Пошевеливайся! — Мишка толкнул Матвея прикладом. — Я сам ходил в батраках. Знаю, как вы, мироеды, заставляете работать на вас! И ты, госпожа, пошевеливайся! — прикрикнул он на дочку хозяина. — Это тебе не в постели нежничать с офицером! А то вот поглажу тебя прикладом, будешь знать! А ты, старая ведьма, чем кормила господ офицеров? Небось мясом? Мясо я тоже люблю. А нам лук да картошку предлагали… Налегай посильнее на заступ!.. Смотрите у меня, с покойниками аккуратно обращаться, а не то перестреляю, как бешеных собак!
В этот момент во двор вбежал Смутни.
— Командир роты приказал сдать все оружие. Он пришлет подводу! — передал он.
Имре раздраженно сдвинул брови:
— Хорошо, хорошо. Пусть забирают, только как бы оно вот-вот здесь не понадобилось. — И, заметив, что кулак с женой и дочкой тянут время, Имре крикнул Мишке: — Что ты на них смотришь? Всыпь им по первое число! Мать их за ногу!
Мишка замахнулся нагайкой и всыпал по очереди Матвею, его жене и дочери. Матвей в ответ на это зарычал, как тигр, жена его запричитала, а Манька взвыла. Получилось своеобразное трио.
— Замолчать! Мать вашу за ногу! — прикрикнул на них Мишка.
Минут через десять с околицы послышалась оружейная стрельба. Матвей переглянулся с женой и дочерью и прекратил работу.
Имре Тамаш, заслышав стрельбу, выскочил на улицу, чтобы узнать, что случилось, однако ничего не увидел, а спросить было просто не у кого.
— Что это за стрельба? — спросил Мишка у Тамаша, когда тот вернулся во двор.
— А черт его знает! Однако ухо нужно держать востро. Билек, встань на всякий случай к воротам! Как что увидишь, докладывай.
— Добро, — ответил Билек.
Не успел Билек дойти до ворот, как вновь послышалась стрельба. На этот раз стреляли где-то поблизости. Билек остановился. Кулак опять бросил работу.
— А ну-ка, копай, да попроворней, если не хочешь, чтоб я тебя штыком прошил! — крикнул Матвею Мишка.
Глубина ямы уже доходила до полуметра, но, кроме жирного чернозема, в ней ничего пока не было.
И вдруг раздался выстрел у самого дома. Кулак выскочил из ямы и побежал к сваленному в кучу оружию. Мишка Балаж вовремя нагнал его и ударом приклада свалил на землю. Вывернув ему руки за спину, Мишка крикнул:
— Принесите мне веревку!
Меж двух деревьев была натянута бельевая веревка. Тимар обрезал ее и связал кулаку руки.
— Теперь он нам не страшен. — Мишка со злостью плюнул на землю.
— Он-то не страшен, а вот другие… Видать, кто-то из кулаков донес белым о том, что в селе остановился отряд красных.
— Это наверняка сделала младшая дочь кулака, — тихо заметил Билек. — Мне она сказала, что идет оправиться, а я, болван, и поверил. Обратно-то она не вернулась. Это ее рук дело… Теперь с минуты на минуту жди беляков… А за этим кулацким отродьем нужно смотреть в оба.
— Не беспокойся! От меня он никуда не уйдет! — заверил Тамаша Мишка. — Этому больше с беляками уже не калякать. — И, повернувшись к Маньке, он бросил: — Послушай, ты, офицерская шлюха! Если только пошевелишься, пущу пулю без предупреждения и в тебя, и в твою матку. Ройте дальше!
Связанный Матвей лежал на земле лицом кверху и то и дело ругался и барахтался, стараясь ослабить веревку. Лицо его покраснело от натуги.
— А ну-ка, перестань ворочаться и орать! — оборвал его Смутни.
Мишка Балаж подошел к Тамашу:
— Послушай, командир, разреши мне проткнуть эту гадину штыком. Вот увидишь, мы еще хлебнем с ним горя! Я кулаку только тогда верю, когда он мертв. — Мишка при этом сделал такой красноречивый жест, что все семейство кулака взвыло от страха.
— Я требую, чтобы обо мне немедленно доложили вашему командиру! Вы не имеете никакого права связывать честных граждан! — орал кулак.
Опять затрещали выстрелы. Совсем рядом послышались крики «Ура!». Однако никто не знал, кто кричит: белые или красные.
— По-моему, лучше всего пустить этих троих в расход, — сказал Мишка мужикам. — Нечего наших пуль жалеть. А когда перестрелка окончится, закопать, да и дело с концом.
— Прав ты! — обрадовался Сергей и поднял винтовку, чтобы выстрелить в связанного кулака.
— Не стреляй! — заорала Манька. — Иван, на помощь! Скорей!
— Не стрелять! Запрещаю! — крикнул Тамаш Сергею.
В этот момент грянул выстрел, и Сергей как подкошенный рухнул на землю. Все, как по команде, повернулись в сторону конюшни, откуда прогремел выстрел. Однако никто ничего не увидел. Бойцы недоуменно переглянулись.
— Ну-ка, иди ко мне, стерва! — сердито позвал Имре Маньку. — Ты кому кричала?!
Манька медленно вылезла из ямы и остановилась в самой похабной позе, в какой только может стоять женщина.
Имре изо всех сил старался сдержать себя и потому заговорил неестественно спокойным голосом:
— А ну-ка, отвечай! Скажешь правду — будешь жить! Не ответишь, я сам пущу тебе пулю в лоб!
— Спрашивай!
— Какого Ивана ты звала? Брата?
Манька молчала.
— Не хочешь говорить? Значит, это был твой брат?!
Манька и на этот раз ничего не ответила.
— Ну, что ж, хорошо… Даю тебе минуту времени…
Манька тяжело дышала, глаза ее округлились.
— Ну, скажешь? Нет?
Манька еще крепче сжала губы.
— Да расстреляйте вы ее! — крикнул Смутни по-русски.
— Ай! Я скажу! Все скажу! Иван — это мой брат…
— Где он?
— Иван — это мой брат! — снова повторила Манька. — Он…
Больше она ничего не сказала. Раздался выстрел, и Манька упала в яму.
НОВЫЕ ТРУДНОСТИ
Керечен спокойным шагом приближался к лагерю. Подойдя к открытым воротам, он отдал честь часовому. Проверив у Иштвана пропуск, часовой нахмурил брови и строго спросил:
— Где вы так долго шатались?
Иштван предвидел, что такой вопрос последует, поэтому ответ подготовил заранее. Он улыбнулся и игриво сказал:
— Когда рядом с тобой красивая девушка, время бежит незаметно.
Часовой усмехнулся в усы и махнул рукой: проходи, мол.
Иштван ускорил шаг, чтобы поскорее сообщить товарищам, что их задание выполнено. Единственное, чего он не знал, — как объяснить, почему он так задержался.
Первым на глаза Керечену попался господин учитель. Приторно улыбаясь, он спросил:
— Ну, молодой человек, где вы бродили весь день? Как можно было пропустить такой обед, как сегодня?!
— Тс-с… — Керечен напустил на лицо выражение таинственности. — Представьте себе, я был у девицы!
— И хороша она?
— Расскажи, какие девицы есть в городе? — вмешался в их разговор Пажит.
— Великолепные!
— А как же ты до лагеря добрался? Ведь ты совсем не знаешь города!
Шандор Покаи, поняв, что любознательные жильцы не скоро успокоятся и оставят Иштвана в покое, бросил на него многозначительный взгляд.
— Я никак не могу уснуть. Выйду немного воздухом подышу. Ты не хочешь со мной пройтись? — предложил он Керечену.
— Брось дурить! — набросился на Покаи учитель. — Уводишь его, когда он остановился на самом интересном месте!
— Извините, пожалуйста. — Керечен наигранно поклонился. — Мне действительно нужно выйти на несколько минут. Я обещал Эрне Клаусу принести эликсир для волос. Он небось ждет не дождется.
В длинном узком коридоре горела на стене одна-единственная коптилка, от которой пленные обычно прикуривали.
— Все сделал?
— Все.
— А где был до сих пор?
— Об этом после, в подробностях, а сейчас только скажу, что ввязался в драку…
— Что? В драку? Мы же тебя предупреждали, чтобы ты не вмешивался ни в какие драки!
— Это получилось совсем случайно… Представь себе, что я встретил того русского унтера, который на пароходе замучил до смерти много наших товарищей, а потом приказал сбросить их в Каму… Думаю, он дезертировал из армии… Унтер был пьян и бродил по городу.
— И ты с ним связался? Да ты с ума сошел! Где все это произошло?
— На берегу Енисея.
— Вас кто-нибудь видел?
— Думаю, что никто.
— Ну, и чем же все кончилось?
— Я его убил.
— А с трупом что сделал?
— Оставил на берегу.
— Ну и влип ты в историю… Такого у нас в лагере еще не случалось. Что-то теперь будет?
— А ничего не будет! Что может быть? Умер он, и все. Свидетелей не было.
— А почему же ты не бросил труп в Енисей?
— И сам не знаю, как это получилось… Все не так просто… Револьвер я, правда, в реку бросил и ушел, а когда вспомнил о трупе, то уже поздно было. Вернуться я не решился.
Покаи сразу же посерьезнел.
— Не знаю, что из этого получится… — все время повторял он. — А сейчас пошли к Людвигу. Они ждут тебя.
Молча они пошли в турецкую кофейню.
— Ну наконец-то! — с облегчением произнес Людвиг. Лицо его просветлело. — Передал?
— Передал. Товарищ Силашкин уже в пути.
— Где же ты бродил до сих пор?
Керечен подробно рассказал о том, что с ним случилось. Все внимательно слушали рассказ, не перебивая Иштвана.
— Как человек, я могу понять, чем ты руководствовался, — заговорил Кальман Людвиг, когда Керечен замолчал. — Но если взглянуть на твой поступок с политической точки зрения, то надо признать, что ты совершил ошибку. Ты забыл, что мы не анархисты. А вывод напрашивается вот какой: ты еще не умеешь мыслить так, как положено марксисту. До сознательного большевика тебе пока еще далеко…
— Не суди слишком строго, Кальман, — решил заступиться за Керечена Форгач. — В конечном итоге он действовал храбро…
Дукес покачал головой, не соглашаясь с ним:
— Действовал он неправильно. Он подвергал опасности и себя, и нас. С этим Драгуновым вообще не следовало связываться. Нужно было избежать встречи с ним. Наши судьбы отнюдь не зависят от результата вашего поединка с унтером. Ваш Драгунов — всего лишь марионетка в руках буржуазии.
— Хорошо еще, что Керечен вышел в город по фальшивому пропуску, — заметил Людвиг. — Белые наверняка начнут разыскивать преступника. Пропуск Керечена нужно немедленно уничтожить. А ты, Иштван, завтра утром первым делом сбрей усы. Одежду тебе тоже не мешало бы сменить. Особенно бросается в глаза твой темно-зеленый френч, который ты получил через Красный. Крест.
— У меня есть лишний френч серого цвета. Наденешь его и будешь носить, — предложил Покаи.
— Правильно. И смотри, будь осторожен в комнате… Придумай какое-нибудь объяснение…
— Я уже думал об этом, товарищ Людвиг, — проговорил Керечен. — Им я сказал, что был в публичном доме…
Людвиг тихо засмеялся:
— Ну, теперь тебе не избавиться от расспросов господина учителя… Некоторое время мы не будем посылать тебя в город. А когда пройдет время, снова будешь выходить. Сейчас иди быстрее в барак и хорошенько выспись!
В тот вечер Иштван долго не мог уснуть. Закрыв глаза, он долго лежал, вспоминая все, что с ним произошло днем.
«Убить Драгунова! Интересно, что сказал бы на это Имре Тамаш, если бы узнал? Увижу ли я его когда-нибудь? Смогу ли рассказать ему обо всем? Драгунов свое получил… Э, не стоит теперь об этом думать. Лучше вспоминать Шуру… Какая изумительная девушка!»
Однако как Иштван ни старался, он никак не мог отогнать неприятные воспоминания…
Порой перед глазами Керечена возникало искаженное злобой и ненавистью лицо унтера. Руки Иштвана вздрагивали, и кулаки сжимались, чтобы нанести удар… Более того, он даже что-то пробормотал.
В комнате был полумрак, горела лишь лампа на тумбочке у господина Зингера, который еще не спал и бросал любопытные взгляды на кровать Керечена.
Вдруг Иштван услышал шепот господина учителя:
— Скажи, какая тебе досталась женщина? Блондинка? Пухленькая или худая? Молодая?
— Лет восемнадцать ей. Стройная такая, черноволосая.
— Гм… Ты меня как-нибудь сводишь к ней?
— Свожу.
— Когда?
— Когда снова получу пропуск, и когда ты такой же получишь.
— Послушай, я расскажу тебе поучительную историю. Не так давно в лагерь ходила одна баба, Нюрой ее звали… Не гогочи, ее на самом деле так звали… Ну, скажу я тебе, дружище, тело у нее словно из розового мрамора высечено… Умаслили мы часового, что стоял на вышке, и он всегда пропускал ее в лагерь. А во втором бараке была маленькая комнатушка. Один заход стоил пятерку. Иногда к ней выстраивалась длинная очередь…
— Ну и как, она выдерживала?
— Умерла… смертью храбрых… Мы ведь как скоты себя вели. Забыли обо всем на свете, в том числе и о том, что часовые-то меняются, а мы давали взятку только одному из них. Однажды заступил на пост новый часовой, который о ней не имел ни малейшего представления… Нюрка захотела домой. И, как обычно, полезла через забор в том самом месте, где мы колючую проволоку специально сняли. Часовой, как ее увидел, закричал: «Стой!» А Нюрка его как покроет матом. Он ее и пристрелил… Нюрка наша, как подстреленный воробей, так и свалилась с забора. С тех пор уже никто из «нимф» в лагерь ходить не осмеливается…
— Хорошо, успокойся и спи, — прервал Керечен словоохотливого господина учителя.
На следующее утро Иштван первым делом пошел бриться. Лагерный цирюльник очень удивился, услышав просьбу Керечена сбрить ему усы:
— Вы просите меня сбрить вам усы? Такую просьбу я слышу впервые. Такие красивые усы! Не понимаю вас! Убей меня бог, не понимаю…
— Надоели они мне до чертиков!
— Конечно, конечно, как хотите. Мне все равно. Каких только людей на свете не встретишь! Многие специально отращивают бороды. Говорят, не будут бриться до тех пор, пока не вернутся домой. Зимой с бородой даже теплее… Должен вам заметить, что русские женщины любят, когда…
Иштван старался не слушать болтовни цирюльника. Сидя у него в кресле, он думал о том, что сегодня вечером вместе с Покаи пойдет в соседний барак, где некто Мано Бек будет читать небольшому кружку слушателей «Войну и мир» Толстого, точнее, не читать, а прямо переводить с листа.
Такие чтения Мано проводил не первый раз. Вокруг него образовалось своеобразное общество, в которое вошли учителя, инженеры, журналисты, врачи, юристы, студенты университетов. Был среди этих людей и Ене Хайтер, студент медицинского института, который любил повторять, что он, несмотря ни на какие ограничения, нигде не чувствовал себя так свободно, как здесь, в лагере: здесь он занимается чем хочет и тратит свое время на что желает…
Посещал этот кружок и чемпион по шахматам среди молодежи Иоганн, улыбка которого делала его похожим скорее на девушку, чем на юношу. Большинство посещающих этот кружок составляли молодые люди.
На таких собраниях читались произведения русских классиков, разгорались острые дискуссии. Однако больше всего спорили о Ленине…
— Вот вы и готовы, — сказал цирюльник, поднося к лицу Иштвана зеркало. Из него на Керечена смотрело почти незнакомое лицо заметно помолодевшего человека.
После бритья Керечен пошел в турецкую кофейню в надежде встретить там знакомых товарищей, но их там не оказалось.
— Йошка! — окликнул его Пишта Бекеи, сосед по комнате, сидевший за дальним столиком. — Садись ко мне, я как раз хотел поговорить с тобой. — Заказав две чашечки кофе, он повернулся к Керечену: — Речь идет о том, чтобы…
— Не случилось ли какой беды?
— Нет-нет, ничего… Я только хочу предупредить тебя, чтобы ты не очень-то дружил с этим Пажитом… Он, видно, обижается на тебя за что-то?
Керечен недоуменно пожал плечами:
— Право, не знаю, за что он на меня обижается…
— Он говорит, что ты мошенник, что ты и офицером-то никогда не был, не знаешь даже своих коллег по полку и дружишь с подозрительными типами…
— Пусть говорит что хочет… У меня документы есть.
— Так-то оно так… Что же касается взглядов, то я и сам не коммунист. По-моему, коммунист — это тот, кто состоит в их партии. А думать каждый волен как он хочет… А ты знаешь, тебе очень идет без усов. Ты теперь похож на врача, только очков тебе не хватает. Да, подожди, есть у меня где-то пенсне… Я ведь в театральном кружке играл, и роль у меня такая была.
Керечену понравилось предложение надеть пенсне. «Уж в пенсне-то меня в любом случае не узнают», — подумал он и засмеялся.
— Так на чем же я остановился? Ах да… Мне кажется, что очень многие пленные в этом лагере симпатизируют Ленину. Я, например, тоже очень многое в его учении считаю правильным. Например, разве можно не согласиться с его словами о том, что нам пора кончать с этой войной?.. Или, например, что необходимо провести раздел земли?.. Превосходные мысли! Если бы только это, то я хоть завтра стал бы коммунистом! Но жертвовать на имя принципов собственной шкурой… Это не по мне. Не такой уж я глупец.
— А ты думаешь, что народные массы слепо идут за Лениным? — спросил Керечен.
— Нет-нет… Так я вовсе не думаю… Но посмотри, что происходит в нашем лагере. Здесь идет открытая вербовка в различные организации. Есть у большевиков и смертельные враги. Вот, например, господин Пажит из нашей комнаты. У него свой круг знакомых, своя компания. Они печатают листовки, выдвигают лозунги, они тоже спорят до крика. В этом лагере, дружище, ты видишь представителей господской Венгрии. Здесь на особом учете держат каждого офицера, подозреваемого в большевизме. И солдат тоже. В лагере полно шпиков.
— Я знаю. Пажит тоже осведомитель.
— Пажит?.. Он главный антисемит, и один стоит всего «Венгерского союза». Этот господин между евреями и коммунистами ставит знак равенства. Разумеется, объяснить, почему он это делает, Пажит не в состоянии. Если бы ты знал, что за человек этот Пажит! Уважать со скотским подобострастием он может только одну нацию — немцев, и то не всех, а только офицеров. Пажит был бы счастливейшим человеком на свете, если бы умел разговаривать по-немецки…
— Но в школе-то он учил немецкий. Не может быть, чтобы у него в памяти ничего не осталось…
— Как же не осталось? Осталось… Он, например, часто повторяет: «Никс дойч», — мол, не понимаю я по-немецки. Однако он безошибочно может перечислить тебе всех важных лиц в округе. Он знает всех, кого считают величиной… Священников он обожает, с подобострастием целует им ручку, но вот господина Шооша ненавидит…
— А кто такой господин Шоош? — поинтересовался Керечен.
— О, это интересная личность… Это крещеный еврей. Раньше он был Зальцманом. Он подражает господам и потому охотно выполняет для них самую грязную работу. Есть у него никелированный портсигар, который он каждый день натирает до блеска, чтобы походил на серебряный. Все время околачивается возле господ. Смотреть на него смешно, да и только. Когда Пажит в двадцатый раз рассказывает один и тот же анекдот, Шоош все равно смеется так, будто слышит его в первый раз.
— Ну и в хорошую же компанию я попал…
— Особенно отчаиваться не стоит. Есть здесь и умные люди, они знают свое дело… Лагерь у нас большой. И все-таки от огромной австро-венгерской монархии пленные, попавшие на территорию царской России, составляют всего лишь маленькую частичку своей нации. Одни из них прозябают в лагерях, другие работают где-нибудь, третьи спят вечным сном на бескрайних просторах России. Здесь тоже происходят встречи представителей всех национальностей, населяющих нашу монархию. Здесь часто они вцепляются в горло друг другу.
— Любопытно.
— Дружище, этот лагерь, — с воодушевлением продолжал Бекеи, — напоминает мне большой и беспокойный город, населенный вечно голодными, нервными, страдающими от отсутствия женщин, ненавидящими друг друга людьми, которые и разговаривают и ругаются на многих языках… А сколько здесь садистов! Все мы здесь не похожи на нормальных людей… Если у кого заведутся денежки, он сегодня покупает вино из сахара и изюма, а завтра сидит голодный и готов перегрызть горло соседу… А какие глупые песни мы здесь поем! В какие глупые истории попадаем! Взять, например, меня. Сам того не желая, я поругался с господином подпоручиком Никелфалуши: как-то шутя обозвал его скотиной. И он обиделся. Слово за слово — и разразился скандал. Сначала я старался успокоить его, но сделать это было уже невозможно. А сегодня утром заявляются ко мне в барак два господина. Один из них — поручик Парог, другой — подпоручик Деваи-Мельцер. Оба — знатоки дуэльного кодекса… Особенно Парог… Сперва я хотел сказать, им, что не имею ни малейшего желания заниматься подобными глупостями, а потом подумал: а почему бы мне и не согласиться? Скажи, ты не хотел бы быть моим секундантом? С Патантушем я уже говорил, он согласен. Почему бы нам не позабавиться?
— Я в роли секунданта?! — рассмеялся Керечен. — Я ни разу в жизни не был секундантом, ничего не знаю из кодекса дуэлянтов да и вообще не имею ни малейшего представления, в нем заключаются обязанности секунданта…
— Тем интереснее для тебя… Патантуш все это знает, он тебе все расскажет, что необходимо… Согласен? Вот увидишь, это будет смешно. Посмеемся до колик в животе!
— Черт с вами, я согласен!
На следующее утро Керечен с невинной физиономией предстал перед инженером Белой Патантушем.
— Прошу извинить за беспокойство, но Бекеи просил меня быть его секундантом при решении одного дела. Я охотно согласился, но поскольку очень давно читал кодекс дуэлянтов, мне не мешало бы освежить в памяти кое-какие детали. Я слышал, что у вас он есть, дорогой брат.
Обращение «дорогой брат» понравилось Патантушу, и он сказал:
— Пожалуйста, только боюсь, что вам будет трудно читать.
— Почему? Плохо оттиснут текст?
Он засмеялся:
— Как вы наивны! У кого же здесь может быть печатный экземпляр? Не настолько мы культурны. Кодекс по памяти написал от руки один немецкий офицер, а мы перевели на венгерский язык. Переписали всего в нескольких экземплярах. Сами и переписывали. Я дам вам рукопись, только будьте с ней очень осторожны.
Пишта Керечен взял рукопись и начал ее читать. Это было довольно забавно: в лагере для военнопленных читать о «чести», о «факте оскорбления», о том, кто имеет право участвовать в дуэли, о «мирном примирении», о дуэлях на саблях и пистолетах, о так называемой американской дуэли. Читая все это, человек чувствовал себя так, словно попал в восемнадцатый век.
Читая эту белиберду, Иштван тихонько посмеивался. К вечеру он прочел всю рукопись и пошел в турецкую кофейню. Вид у него был такой, что Людвиг, подойдя к нему, сразу же спросил:
— Что с тобой, Пишта?
Керечен небрежным жестом вставил в глаз воображаемый монокль, потом окинул товарищей надменным взглядом и произнес:
— С сегодняшнего дня считайте меня благородным человеком.
— Но-но, не очень-то! — одернул его Матэ Залка.
— Я, извольте знать, назначен секундантом. И в данный момент изучаю кодекс дуэлянтов. Сегодня вечером мне предстоит беседовать с секундантами противной стороны: с милостивым господином Парогом и его светлостью Деваи-Мельцером.
— Ты, случайно, не тронулся? — со смехом спросил Залка.
Керечен, презрительно оттопырив нижнюю губу, сощуренными глазами посмотрел на Залку.
— Как ты смеешь? А ты, случайно, не боишься, что я пришлю к тебе своего секунданта?
Матэ Залка готов был так же шутливо ответить на шутку Керечена и разыграть сцену оскорбления, но не успел: к их столику подсел Дорнбуш.
По лицу журналиста бродила насмешливая улыбка. Друзья знали: это верный признак того, что Дорнбуш сейчас расскажет какой-нибудь остроумный анекдот. Однако на этот раз анекдота не последовало.
— Ребята, — начал Дорнбуш, и лицо его приняло серьезное выражение, — по-моему, приближается беда. Мне сказали, что сегодня утром у ворот лагеря стоял русский унтер-офицер, который внимательно рассматривал всех наших офицеров.
Керечен почувствовал, как краска залила его щеки.
— А тебе не сказали, как выглядит этот унтер?
Дорнбуш развел руками:
— Нет, больше я ничего не знаю. Возможно, это была ложная тревога. Но я вполне допускаю, что это тот самый мерзавец, с которым Керечен подрался на берегу Енисея. Может, у него железная башка и с ним ничего не сталось. Однако, как бы там ни было, нам нужно остерегаться!
— Осторожность, конечно, не помешает, — согласился с ним Людвиг. — Как только заметим что-нибудь подозрительное, Ковача немедленно переведем куда-нибудь в другое место. Быть может, даже в солдатский лагерь… Если это действительно унтер Драгунов, то по крайней мере несколько дней нам нужно соблюдать особую осторожность.
— Это верно, — согласился Дорнбуш. — Знаешь, что тебе за твой поступок полагается? — обратился он к Иштвану. — Расстрел! Но прежде чем расстрелять, Драгунов порядком тебя помучит.
Людвиг внимательно посмотрел на Керечена:
— Кто не знает тебя хорошо, вряд ли сможет узнать без усов… и форма у тебя теперь другая… Ты пока носи свое пенсне… Короче говоря, поживем — увидим…
Керечен ушел из кофейни со странным неприятным чувством, которое не прошло и вечером, когда он отправился на переговоры относительно дуэли, которая сама по себе была не чем иным, как комедией. Сначала он с улыбкой слушал пространные разглагольствования офицеров об «офицерской чести» и «моральном облике офицера», а потом, когда ему это надоело, заявил:
— Господа, есть ли смысл тратить целый вечер на разговор о такой глупости? Правда, времени у всех нас много, так что мы вроде бы ничего особенного и не теряем. Вся наша беда в том-то и заключается, что мы не знаем, куда девать свое время. А что, собственно, случилось? Давайте посмотрим на факт серьезно! Два офицера, у которых несколько сдали нервы, поругались, наговорили друг другу всяких грубостей. Ну и ладно! Так пусть же они теперь не делают из мухи слона, а попросту попросят друг у друга извинения — и делу конец. Такого подхода к этой ссоре требует здравый смысл. К счастью, здесь, в лагере, не разрешено проводить дуэли и убивать по никчемному поводу людей, увеличивая тем самым и без того большое количество жертв войны…
Поручик Парог вскочил, как ужаленный, и со злостью закричал:
— Я решительно протестую! Этот тон и…
— Извините, господин поручик! Я еще не все сказал. Мне кажется, если бы такая ссора произошла среди низших чинов, то мы бы не раздували дела, а ведь они живут в гораздо худших условиях, чем мы с вами, и, следовательно, их нервы испытывают большее напряжение…
Поручик Парог покраснел и, задыхаясь от злобы, выпалил:
— Это неслыханно! Этот господин позволяет себе говорить здесь тоном, который сам по себе недопустим при обсуждении столь щекотливого дела. Как можно проводить параллель между низшими чинами и офицерами! Особенно недопустимо подобное сравнение сейчас, когда красная зараза большевизма все больше и больше отравляет сознание низших чинов и даже распространяется среди…
— Прошу прощения, это не относится к делу. Мы здесь собрались для того, чтобы разобраться в вопросе офицерской чести. В данном же случае речь идет об инциденте мелком и повседневном, который ни в коей мере не затрагивает даже самого понятия «офицерская честь». Предлагаю зафиксировать в нашем решении, что никакого оскорбления не было, пусть спорящие стороны пожмут друг другу руки, и мы будем считать инцидент исчерпанным.
Офицеры зашумели, оживленно заговорили, обмениваясь мнениями.
Патантуш поддержал предложение Керечена. Парог некоторое время упрямился, но затем и он сдался.
Когда Керечен подходил к пятому бараку, навстречу ему вышел Бекеи.
— Ну, чего ты добился? — поинтересовался он.
Иштван рассказал ему о том, до чего договорились господа офицеры.
Бекеи выслушал Керечена, но с его лица так и не сошло выражение озабоченности.
— Все это так, да и времени ты на этот пустяк потратил не так уж много. Однако есть дела и поважнее…
— Что случилось?
— Пажит…
— Что с ним?
— Он рассказывает странные вещи. Говорит, будто бы какой-то венгерский офицер на берегу Енисея избил русского унтер-офицера…
Керечен побледнел:
— От кого он это слышал?
— От барона Кузмица, который, как известно, входит в руководство лагеря. К сожалению, этот неприятный случай произошел двадцать седьмого числа, то есть в пятницу, как раз когда ты очень поздно вернулся в лагерь…
— Ну и что? Говори, что дальше…
— Лагерное начальство решило провести расследование. Русский унтер-офицер рассказал, что он спокойно прогуливался по берегу Енисея. Услышав за своей спиной чьи-то шаги, он оглянулся и увидел пленного офицера. Он даже ничего подумать не успел, как вдруг почувствовал сильный удар чем-то тяжелым по голове. Он упал и потерял сознание. Когда пришел в себя, на берегу уже никого не было.
— Это он так рассказал?
— Да. Больше того, он еще заявил, что пленный украл у него револьвер… Пажит сказал, что в связи с этим все лагерное начальство сильно переполошилось. Оно требует, чтобы этот офицер был во что бы то ни стало найден…
— А унтер не говорил, как выглядел офицер, который напал на него?
— Он сказал, что точно не помнит, но если бы встретил его, то обязательно узнал бы.
— Что ты еще знаешь?
— Больше ничего. Лагерное начальство сразу же бросилось проверять по спискам, кто в тот день получил пропуск на выход в город. Оказалось, что в город выходили только постоянные закупщики продуктов.
Как благодарил Керечен в душе своих товарищей за то, что они снабдили его фальшивым пропуском, который, естественно, не был учтен у лагерного начальства! Товарищи решили подстраховаться на всякий случай и обеспечить Иштвану алиби, договорившись о том, что в тот день, с самого утра и до позднего вечера, Ковач якобы проработал в восьмом бараке, где делали пряжки для брючных ремней. Он и обедал там же; в тот день они сами готовили на керосинке голубцы, которые он так любит. Подтвердить это могла бы вся бригада, состоявшая из шести офицеров. Лагерное начальство не знало, что все офицеры этой бригады «заражены» коммунистической пропагандой. Короче говоря, дела Ковача обстояли не так уж и плохо.
Через несколько минут к ним присоединился Покаи.
— Ну, что нового? — поинтересовался он. — Ты уже слышал, о чем говорил Пажит?
— Слышал.
— И что скажешь на это?
Иштван уже взял себя в руки и теперь ответил совершенно спокойно:
— Глупости какие-то… Они меня ни в коей мере не интересуют, так как я в тот день не был в городе.
— Не был? — Бекеи вытаращил глаза. — Тогда почему же ты этим случаем интересовался?
— А я и сам не знаю… Хотелось поговорить с господином учителем. Я в тот день работал в восьмом бараке.
Бекеи недоуменно покачал головой:
— Ничего не понимаю… Тогда тебе нужно было сказать этому мерзавцу…
— Хватит об этом, — перебил его Покаи. — Я вам сейчас нечто более интересное расскажу. Русские партизаны окружили полк макаронников и разоружили его полностью, после чего направили в Красноярск. И вторая новость: белых выбили из Челябинска.
Тут же по случаю добрых новостей было решено пойти в турецкую кофейню выпить по чашке кофе.
На следующий день с самого утра Керечен занялся изучением грамматики русского языка. К своему удивлению, он убедился, что неплохо усвоил спряжение глаголов. Прозанимался часов до одиннадцати, пока за ним не пришел посыльный из лагерной канцелярии. Посыльный молодцевато отдал Иштвану честь и по-военному отчеканил:
— По приказу господина полковника вам надлежит немедленно явиться к нему в канцелярию!
Бекеи бросил на Керечена взгляд, полный ужаса.
Иштван почувствовал, как по спине у него пробежал холодок, однако он не показал и виду, что испугался, и спокойно сказал:
— Хорошо, сейчас приду.
— Я получил приказ вернуться в канцелярию вместе с вами!
— Хорошо…
Надев серый френч Покаи и нацепив на нос модное в те годы пенсне, Керечен сказал:
— Я готов, можно идти.
Каково же было удивление Керечена, когда в предельно скромно обставленной канцелярии рядом с поручиком Кальнаи, исполнявшим при полковнике обязанности адъютанта, он увидел Мано Бека.
— Сервус! — произнес Кальнаи, протягивая Иштвану руку.
Мано неохотно, но тоже пожал руку Керечену.
— А ты как сюда попал? — спросил Иштван у Мано.
Мано был причесан так, будто явился на дипломатические переговоры.
— Я исполняю обязанности переводчика… Знаешь, меня всегда приглашают, когда нужно разговаривать с русскими…
— Мы тебя пригласили сюда для выполнения некоторых формальностей. — Кальнаи улыбнулся. — Не знаю, слышал ли ты болтовню о том, что якобы какой-то венгерский офицер избил русского унтер-офицера. — И, не дожидаясь ответа Иштвана, адъютант рассказал ему о случае, который возмутил спокойствие в лагере.
Керечен молча выслушал Кальнаи до конца, а когда тот замолчал, спросил:
— А какое отношение это имеет ко мне?
По чисто выбритому лицу Кальнаи проскользнула улыбка.
— Видишь ли, дружище, мне поручено разобраться в этой глупой истории… До нас дошли сведения, что в тот день ты как раз был в городе и вернулся в лагерь поздно вечером… Устроить тебе очную ставку с часовым, который в тот день стоял у ворот, мы не можем, так как со вчерашнего дня охрана нашего лагеря поручена белочехам. Однако побитый русский унтер-офицер уверяет, что он опознает оскорбителя даже среди сотни людей… По приказанию начальника лагеря мне поручено провести эту очную ставку…
Керечен был убежден, что предложение устроить очную ставку исходит от господина Пажита.
— А где сейчас находится этот русский унтер?
— Он у господина полковника… Я ему сейчас доложу о том, что вы здесь.
Проговорив это, Кальнаи исчез за дверью. Появился он через несколько минут в обществе Драгунова, голова которого была забинтована.
Унтер сразу же впился глазами в сидящих в комнате людей.
— Скажите, пожалуйста, господин унтер-офицер, — начал по-русски Мано Бек, — как выглядел офицер, который вас избил?
Драгунов уставился на Керечена.
«Стоит только этой скотине ткнуть пальцем в мою сторону, как меня немедленно упрячут в тюрьму», — подумал Иштван.
— Спроси его, не знаком ли ему господин Ковач, который сидит перед ним? — обратился адъютант к Мано.
Мано перевел слова Кальнаи на русский.
Драгунов покачал головой и, заикаясь, произнес:
— Нет… У того были черные усики, он был без очков и к тому же превосходно говорил по-русски…
— А откуда вам известно, что офицер разговаривал по-русски? Вы же сами сказали, что он незаметно подошел к вам сзади и ударил чем-то тяжелым по голове… Разве вы с ним разговаривали?
Драгунов в сердцах плюнул прямо на пол и, смачно выругавшись, быстрыми шагами вышел из канцелярии.
Кальнаи бросил на Керечена выразительный взгляд и не без ехидства заметил:
— Ну, тебе, можно сказать, повезло… Откровенно говоря, я против тебя ничего не имею, даже если это сделал и ты… Представляю, как такой тип мог бы поступить с пленным, который попал бы ему в руки… Во всей этой истории, дружище, есть одна тайна… Но мы не будем о ней говорить…
— Что же это за тайна? — спросил Керечен.
— Загадочно то, каким образом ты в тот день достал Эрне Клаусу эликсир для волос…
К счастью для Иштвана, ему не пришлось отвечать на этот вопрос, так как в этот момент в комнату вошел, улыбаясь во весь рот, толстяк, который до армии имел в Будапеште свой небольшой заводик. В лагере его прозвали Добряком, так как он на каждом шагу подчеркивал, что очень любит рабочих.
— Сервус! — поздоровался Добряк со всеми присутствующими. — Какую новость я вам сейчас скажу!.. В Венгрии не сегодня-завтра окончательно разобьют революцию!..
— Слава богу! — обрадовался Кальнаи.
— В Венгрии нельзя устраивать революции, — продолжал Добряк. — У нас культурный народ и сильное национальное государство, не то что у русских. Само собой разумеется, что все те, кто участвовал в революции, понесут заслуженное наказание.
— А что будет с теми венграми, которые участвовали в русской революции? — спросил Керечен.
— Э, глупости это все… — Добряк сделал рукой жест, который свидетельствовал о том, что он больше не желает говорить на эту тему.
БОРЬБА С КУЛАЧЬЕМ
Первым опомнился Имре Тамаш.
— Быстро обыскать весь сад! — приказал он.
Смутни и Тимар бросились выполнять приказ. Через секунду они уже скрылись в кустах.
Жена кулака вылезла из ямы и, упав на труп дочери, заплакала. Ее худое угловатое тело содрогалось от рыданий.
— Боже, боже, как же ты нас покарал! За что ты на нас разгневался?.. Лучше бы в меня попала эта пуля!..
Вдруг она вскочила, словно подброшенная пружиной, и, в клочья разорвав на себе платье, предстала перед бойцами в чем мать родила.
— Убейте меня! Проткните меня штыком! Я хочу умереть! Понимаете? Умереть хочу!.. — Раскинув в стороны свои худые, как щепки, руки, она уже не кричала, а визжала: — Чтобы вам всем сдохнуть, проклятые!.. Безбожники!
— Тихо ты, старуха! — прикрикнул на нее Андрей. — Сдохнуть не так легко, как ты думаешь! — С этими словами он ударил жену кулака кнутом. — Если ты сейчас же не замолчишь, я тебя так исполосую, как вы меня в свое время полосовали! Или забыла уже?
— Андрей, прекрати! Не делай глупостей! — крикнул мужику Имре. — Свяжи ее, и дело с концом!
Связанный кулак не переставал кричать и ругаться.
— Будьте прокляты! Голытьба вшивая! — вопил он.
— Заткнись! — крикнул кулаку Петр и ударил толстяка прикладом.
— Убийцы! Негодяи! На помощь! — завопил Матвей.
Андрей и Билек подхватили тяжелое жирное тело кулака под руки и потащили к березе, которая росла возле сарая.
— Нечего с ним нянчиться, — сказал Петр. — Вздернуть его на дереве! Сук подходящий как раз есть…
— Такого борова этот сук не выдержит, — заметил Андрей. — Лучше ему пулю в живот пустить!
Петр накинул Матвею на шею петлю. Кулак хрипел, рычал, как дикий зверь…
Со стороны улицы доносилась редкая ружейная стрельба, и это вселяло в кулака, хотя и слабую, надежду на то, что белые вовремя подоспеют и освободят его.
Однако как только петля на его шее немного затянулась, кулака охватил панический страх и он закричал:
— Ради господа бога, не вешайте меня! Андрей, Петр, вы же христиане, смилуйтесь!.. Я и так наказан! Убита родная дочь!
— Не мы ее убили! Ты и сейчас привел белых в село! — выкрикнул Андрей.
Тамаш вплотную приблизился к кулаку и спросил:
— Будешь говорить, хозяин? Чистосердечным признанием ты еще можешь спасти свою паршивую жизнь!.. А если решил упрямиться, то я не стану удерживать мужиков, которых ты сам обижал! Пусть они рассчитаются с тобой за все!.. От кого ты узнал, что в село придут красные?
Кулак низко опустил голову и еле слышно произнес:
— Поручик Стародомов передал…
— Стародомов?! Значит, он с вами заодно?
Кулак молчал.
— Говори!.. Немедленно говори! Андрей, если он не будет говорить, вешай его, и все! Выходит, Стародомов — ваш человек?
— Наш.
— А зачем трезвонили в колокола, когда мы вошли в село?
— Это поп звонил, подавал условный сигнал белым… Они не совсем ушли из села, по другим дворам попрятались… Стародомов обещал нам, что он сам свою роту разгонит…
— Понятно… Вот почему он всю роту разбросал по селу. В случае нападения мы не смогли бы оказать белым организованный отпор… А куда убежала твоя младшая дочка?
— К попу, сказать ему, что командир первого взвода остановился в моем доме…
— Выходит, вы готовили нам ловушку?
Матвей молча кивнул.
— Все это предложил Стародомов? — спросил у кулака Тамаш.
— Конечно он.
— А как бы вы нас разоружили?
— Оружие у нас есть… а остальное мне не известно.
— Кто твой сын? Второй раз тоже он стрелял?
Матвей снова замолчал, не желая отвечать на вопрос. Тамаш толкнул Петра в бок, а тот дернул за веревку.
— Нет!.. Нет!.. — захрипел кулак.
— Будешь говорить?
— Если я скажу, вы меня все равно расстреляете.
— Сын твой знаком со Стародомовым?
— Знаком. Они вместе служили.
— Хорошо, Матвей, мы тебя не будем вешать. Однако развязывать пока ни тебя, ни твою старуху не станем. Когда перестрелка закончится, мы передадим вас в ревтрибунал.
Снова завязалась перестрелка.
— Быстрее! — крикнул Билек, который только что вместе со Смутни вернулся во двор. — Беляки теснят наших!
— Быстро затащить пулеметы на чердак дома! — приказал Имре. — Будем вести огонь оттуда!
— Скорее, скорее! — торопил бойцов Балаж.
— А этих гадов пристрелить надо! — проговорил Билек, показывая на связанных.
— Не смейте! — остановил Билека Тамаш. — Все на чердак!
Бойцы затаскивали на чердак пулеметы и ящики с патронами, относили наверх мешки с землей.
Имре Тамаш установил пулемет у окошка, из которого как на ладони была видна вся улица.
— Позиция неплохая, — заметил Имре. — Огонь открывать с близкой дистанции! Зарядить все пулеметы и винтовки! По одиночным целям стрелять из винтовок, по групповым — из пулеметов!
Бойцы укрылись за мешками с землей, и лишь один Билек на корточках сидел у люка, через который можно было попасть на чердак.
Выстрелы доносились откуда-то издалека. Бойцы чувствовали себя отрезанными от всего мира. Они не имели никакого представления о том, где находятся другие взводы их роты, не знали, какими силами располагают белые, откуда они двигаются.
Группа Тамаша была слишком малочисленной для того, чтобы рискнуть на прорыв. В данный момент бойцам казалось, что чердак — самое надежное место для них.
— Идут, — шепнул Петр. — Вон там, в конце улицы.
— Дай-ка я посмотрю, — сказал Имре и выглянул в окошко. — Да, человек двадцать, не меньше. Кто бы это мог быть?
— Кто, кто! Белые! — бросил Андрей. — А с ними кулаки. Вон тот, самый толстый, это Никифор Демьянович, один из самых богатых кулаков… Сейчас я его щелкну… Я ему задолжал малость…
— Подожди, — остановил его Петр. — Пусть подойдет ближе.
— Билек, что там поделывают наши хозяева? — спросил Имре. — С ними ничего не случилось?
— Нет.
Тем временем белые приблизились к дому кулака Матвея метров на сто. По-видимому, они не догадывались о засаде красных и шли, забыв об осторожности.
Андрей долго целился. Но вот прозвучал выстрел — и кулак Никифор свалился на землю, даже не успев вскрикнуть.
— Меткий выстрел! — похвалил Петр товарища. — Теперь моя очередь стрелять.
Винтовка дрогнула в руках Петра. Одновременно выстрелил и Имре. Ни тот ни другой не промахнулись.
Потеряв сразу троих, белые залегли. Они еще не заметили, откуда в них стреляли, и открыли беспорядочную стрельбу вдоль улицы.
Через несколько минут белые поднялись и пошли дальше. Снова раздалось сразу три выстрела, но ни один из них в цель не попал. Белые опять залегли.
— Товарищи, стреляйте не торопясь, — тихо заметил Имре. — Они пока еще не поняли, откуда мы стреляем… Пусть подойдут поближе, а тогда уж мы их из пулемета встретим.
Заметив, что стрельба прекратилась, белые осмелели и пошли вперед.
В этот момент раздался выстрел с лестницы, которая вела на чердак.
— Что такое?! Кто стрелял? — подскочил к люку Имре.
— Это я выстрелил в сад, — объяснил Билек. — Там что-то пошевелилось, я подумал, что человек. Наверное, показалось. Пусть Смутни сменит меня, я хочу быть с вами.
— Давай, я не против, — согласился Имре. — Сейчас он тебя сменит, потом ты его.
Смутни спустился вниз и уселся на самую нижнюю ступеньку, откуда ему было хорошо видно кулака и его жену. Смутни закурил и ехидно спросил у кулака:
— Не хочешь ли закурить, Матвей?
Хозяин молча бросил в его сторону взгляд, полный ненависти.
— А то дам разок затянуться. Кто знает, может, это твоя последняя цигарка в жизни. Хотя тебе теперь уже все равно.
— Всех вас тут сейчас перестреляют, — злобно прошипел кулак.
Смутни, как ни в чем не бывало, пожал плечами:
— Возможно… Но перед этим я прикончу тебя. Кто-кто, а ты уже не увидишь нашей смерти.
Матвей задумался.
— Ну, говори, чего хочешь, — разрешил ему Смутни.
— Ты не мадьяр, я чувствую по разговору. Ты словак…
— Ну и что из того, хозяин? Что, я спрашиваю?
— Дай закурить… Ты совсем не такой, как эти мадьяры… Сказывается славянская кровь.
Смутни почувствовал, что кулак, видимо, не зря начал этот разговор. Что-то, наверно, сказать хочет.
— Да, я из славян, Матвей. А все славяне — братья.
— Ты тоже так думаешь?
— Да, думаю, Матвей.
— Я не умею хитрить, скажу прямо: если бы ты был таким же, как те чехи и словаки, что с нами плечом к плечу сражались, то было бы хорошо… Я был бы тебе благодарен, если бы…
Лайош Смутни, казалось, нисколько не удивился предложению кулака:
— Я тебя понял, хозяин. Скажи мне только откровенно, не страшно тебе умирать?
Матвей осклабился:
— Дурак ты! Чего мне бояться? Не все ли равно, когда меня расстреляют: раньше или позже? А наши перебьют вас. А если не перебьют, тогда вы отдадите меня под трибунал… Надеюсь, ты понимаешь мое положение?
— А ты совсем не глупый мужик, Матвей, — заметил Лайош. — Ну, говори, чего ты хочешь?
— Сначала дай курнуть, а потом уж скажу.
Лайош сунул в рот Матвею цигарку. Тот несколько раз глубоко затянулся.
— Послушай, — попросил кулак, — развяжи ты меня и старуху. Своим скажешь, что мы убежали. А еще лучше, если и ты с нами уйдешь… Постой, не перебивай меня, я знаю, что говорю. У нас в селе столько сил, что вам с нами все равно не справиться. Все вы тут погибнете, до последнего… Мой сын приведет сюда своих людей. Может, это они сейчас и стреляли. А сын у меня шутить не любит… Подожди, я еще не кончил… Если пойдешь со мной, никто тебя не обидит. Глупые вы какие… Небось думаете, что теперь Колчаку пришел конец и вы дойдете до самого Владивостока. Не надейтесь! Весь христианский мир ополчился против вас: Америка, Англия, Франция, Германия… А уж со всем-то миром вам никак не справиться!
Лайош слушал кулака с серьезным выражением лица.
— Возможно, Матвей, ты и прав. Скажи, что ты сделал бы на моем месте?
Однако ответить кулак уже не успел: с чердака раздалась ожесточенная стрельба.
Когда белые подошли совсем близко к дому, Билек, лежавший за пулеметом, открыл огонь. Сначала пули ложились позади белых, но он сделал поправку и накрыл их. Удрать удалось всего троим-четверым. Но и тех уложили на землю меткие выстрелы Мишки Балажа и двух русских бойцов.
Первая атака белых провалилась. Однако в конце улицы уже готовилась к атаке другая группа белых. Учтя горький опыт своих предшественников, беляки на этот раз рассредоточились и приближались к дому кулака Матвея, прячась за стены домов и заборы.
С противоположной околицы села тоже доносилась стрельба.
— Стрелять? — спросил Билек у Имре.
— Подожди еще… Пусть поближе подойдут.
— Ладно, пусть подходят, — согласился Билек и начал, как ни в чем не бывало, высекать огонек для цигарки.
Наступили томительные минуты ожидания. Стрельба на околице усилилась. Видимо, там разгорелся ожесточенный бой.
— Сейчас начнем, — тихо сказал Имре. — Откроем огонь одновременно из трех пулеметов. Тимар, будешь подносить патроны! Смотри сам, чтобы ни у кого не было недостатка в патронах. А теперь… Огонь! — скомандовал он.
И в тот же миг заговорили три пулемета. Они стреляли недолго: оставшиеся в живых белые резво пустились наутек. Однако радоваться бойцам не пришлось, так как с противоположной стороны тоже показались белые.
— Осторожно! — успел крикнуть Петр. — Они стреляют по нас!
И действительно, пули свистели совсем рядом. Пришлось быстро перекладывать мешки с землей и изготавливаться для ведения огня в другом направлении.
— Ну, товарищи, покажем теперь и этим гадам, где раки зимуют! Огонь!
Затараторили пулеметы, защелкали затворы винтовок.
— Нет, так дело не пойдет! — прекратив стрельбу, крикнул Билек. — Что мы все стреляем в одну точку? Нужно проломить дыры в крыше!
Двое бойцов, взявшись за топоры, начали рубить деревянную крышу. Через три минуты широкая амбразура для стрельбы была готова. Петр подтащил к ней мешок с землей. Через пять минут была прорублена еще одна амбразура. Теперь огонь вели одновременно с трех точек.
Однако и белые зря времени не теряли. Забравшись на чердак соседних домов, они открыли огонь по дому Матвея.
— Черт возьми! — выругался Билек. — Меня ранили в ногу!
— Подними штанину, я тебя сейчас перевяжу! — крикнул Балаж.
Между тем белые изрешетили всю крышу.
— Ребята! — воскликнул Имре. — Смотрите, с крыш каких домов нас обстреливают, и из пулеметов давайте по ним! Ведь у них-то нет мешков с землей! И спокойно, без суеты!
На улице уже не было видно белых. Они залезли на чердаки соседних домов и стреляли оттуда, но уже значительно реже…
Смутни, охранявший кулака и его жену, вдруг заметил, что старуха вся как-то сникла.
«Не в обмороке ли она?» — подумал Смутни и, подойдя к ней, дотронулся до плеча.
— Что с тобой, мамаша?
Старуха открыла глаза и еле слышно прошептала:
— Воды!
Смутни пожалел старуху. Он пошел в кухню, нашел ведро, в котором было немного воды. Сняв с гвоздя ковш, зачерпнул воды и понес старухе. Напоил ее.
— Принеси и мне воды, — попросил Матвей.
Смутни уже повернулся, чтобы снова идти в кухню, как вдруг до его слуха донесся шепот.
— Они на чердаке засели, — шептал кто-то.
— Ничего. Сейчас мы их всех живьем поджарим. Давай быстрей! — тихо произнес другой голос.
— Как ты думаешь, сколько их там?
Кулак тоже прислушивался к шепоту. Больше того, он даже хотел закричать, позвать на помощь, но Смутни вовремя заставил его замолчать. Та же участь ждала и жену кулака. Старуха и пикнуть не успела. Теперь уже кулаки не могли выдать их, не могли позвать белых на помощь.
Широко раскрыв глаза, Смутни в оцепенении смотрел на дело рук своих. Невольно отошел шага на два, чтобы не видеть ужасной картины. И в тот же момент его фуражку пробила пуля.
Бросившись на землю, он развернулся в сторону кустарника, из-за которого только что доносился шепот.
«Ну, сейчас они бросятся на меня… а я один-одинешенек!.. Не трусь, Лайош, — попытался он утешить себя. — Но как же предупредить своих? А то ведь белые подожгут дом, и тогда пиши пропало… Мы как в мышеловке!»
Лайош прислушался, но больше ничего не услышал. Никто во двор не вошел. Затем раздались выстрелы, и снова все стихло.
«Возможно, белые не знают, сколько нас, и потому боятся… — думал Лайош. — Да и самих-то их, видно, раз, два и обчелся… Вполне возможно… Ну, если нам суждено вырваться отсюда, да еще попасть домой, то я лично, как только доберусь до дому, уйду в лес на целую неделю, чтобы не слышать никакого шума, не видеть людей… Буду только пение птиц слушать…»
Однако внезапно наступившая тишина была хуже перестрелки. Это была та самая томительная тишина, которая так страшно действует на нервы.
— Поползли назад! — снова раздался чей-то шепот. — Возьмем керосин — и тогда обратно.
Когда Смутни влез на чердак, товарищи с удивлением посмотрели на него.
— Почему ты оставил арестованных? — сердито спросил его Имре.
Лайош беспомощно развел руками и прерывающимся от волнения голосом проговорил:
— В саду белые были… Не знаю сколько! Они хотят поджечь дом. Скорее! Здесь нам больше оставаться нельзя!
— Во дворе никого нет?
— Сейчас нет… но только скорее! Я слышал, они пошли за керосином.
— Хорошо! Снести все оружие, патроны и мешки с землей вниз! — распорядился Тамаш. — Быстро только! А ты, Смутни, — бегом к арестованным!
— Нет никакого смысла… — Лайош пальцем показал на штык.
— Ты заколол их? — удивился Имре.
Смутни молча кивнул.
— Зачем? По какому праву? Я же не приказывал!
— Если бы я этого не сделал, — вымолвил Лайош, — они позвали бы белых на помощь. Нужно было действовать решительно. Все равно их ждала смерть…
Воспользовавшись передышкой, бойцы оказали первую помощь раненому Билеку. Спустя несколько минут все уже залегли в свежевыкопанной яме, укрепив бруствер мешками с землей. Более того, они даже успели перекрыть яму бревнами и досками, которые штабелями лежали во дворе. Теперь им не страшны были даже ручные гранаты.
На улице было подозрительно тихо. За пять минут не прозвучало ни одного выстрела.
— Черт возьми! — произнес Билек. — Беляки, видимо, дали драпака из села, а мы сидим здесь и трясемся от страха…
— Билек, прекрати молоть чепуху! — оборвал его Тамаш. — Рана болит?
— Еще как!.. Эх, палинки бы сейчас глоток. Все легче бы стало.
— Что надо? — спросил Андрей.
— Палинка — это, по-вашему, водка, — объяснил Смутни.
— У кулака в доме есть водка, — сказал Андрей. — Я сейчас принесу.
— Ты с ума сошел? — Смутни хотел дернуть Андрея за рукав, но не успел.
Андрей уже выскочил из укрытия и исчез в доме. Минут через пять Андрей вышел из дома, нагруженный провизией. В одной руке он нес мешок с продуктами, а в другой — кувшин с водой. В мешке оказались хлеб, лук, холодное жареное мясо и две бутылки водки.
— Ешьте, пейте, ребята!
Бойцы и на самом деле проголодались. Когда они вели стрельбу, то как-то и не чувствовали голода, а теперь вдруг у всех сразу засосало под ложечкой. Все дружно принялись за еду, прикладываясь время от времени к бутылке с водкой.
— Ребята, водки много не пить! — предупредил бойцов Тамаш. — Бой еще не закончился…
— Не вернутся они больше, — заметил Билек.
— Могу тебя успокоить, вернутся они, обязательно вернуться, — сказал Имре. — А тебе лучше еще раз перевязать ногу. Ну-ка, задери штанину!
Началась перевязка.
— Боже мой, да ты палач! Что же ты делаешь? — Билек от боли скрипел зубами.
Имре водкой промыл рану Билека, а затем со знанием дела перевязал.
— Ну и человек же ты! — бормотал Билек. — Водку жалеешь. Эх, закурить бы сейчас!
Прогремел одиночный выстрел, за ним другой… Стреляли по крыше. Через несколько минут на крыше заплясали языки пламени.
— Хорошо, что я успел вытащить жратву из дома, — сам себя похвалил Андрей. — Жаль было бросить все это.
Вдруг Петр вскочил как ужаленный и воскликнул:
— Ну и дурень же я! Ведь у кулака в доме деньги! Сгорит же все… Одежда, мебель… — И он помчался в дом.
Бойцы с удивлением смотрели ему вслед.
— Всю жизнь он бедствовал, нищим жил, — заметил Андрей. — Вот теперь и потерял голову.
Вбежав в дом кулака, Петр открыл дверцу шкафа с одеждой и начал выбрасывать на пол обувь, платье, рубашки, костюмы. Наконец в руках у него оказалась деревянная шкатулка, и он выскочил во двор. Лицо и руки его были перепачканы сажей. Он долго кашлял, освобождая легкие от дыма.
Через несколько минут крыша дома рухнула, и сруб превратился в один сплошной факел. Сухие бревна горели быстро и ярко. Такой пожар, даже если захочешь, не потушишь. Хорошо, что день выдался безветренным: пламя не грозило перекинуться на соседние дома. До сараев же от дома было довольно далеко.
Бойцы, словно завороженные, смотрели на пламя. Жара была такая, что им трудно стало дышать. Пот лил с них ручьем, они тяжело дышали, но покинуть своего убежища не могли.
— Зажаримся мы тут, — буркнул Тимар. — Заживо зажаримся.
— Ничего с нами не будет, — огрызнулся Смутни. — Дом уже догорает.
— Посмотрите-ка вон туда! — воскликнул вдруг Имре и показал рукой в сторону сада.
Все-посмотрели в указанном направлении.
— Что ты там увидел? — почти сразу раздалось несколько голосов.
— А вы разве не видите?
— Что?
— Погреб.
— Ну, погреб! — заметил Смутни. — Его и не видно даже.
— Неужели вы не понимаете?! — Имре перешел на крик. — Оно и хорошо, что его почти не видно из земли! В нем кулак небось картошку хранил!
— Ну и что из этого? — недоуменно спросил Смутни.
— Не понимаешь? Ведь в погребе может кто-нибудь спрятаться. Маньку откуда пристрелили?
— Да как же из погреба стрелять-то можно? — спросил Смутни.
— Как можно? А ты получше посмотри! Дверь-то подвала где находится? Вот то-то и оно! Вон и оконце виднеется, сбоку от двери. Туда может забраться только местный.
— Ну, хотя бы Иван, сын Матвея, — поддакнул Тимар.
— Точно! А может, он и сейчас там сидит?
— А и правда… черт возьми!
— Воды бы! — попросил Билек.
— Сейчас принесу.
Тимар выскочил из укрытия, подбежал к колодцу и зачерпнул целое ведро воды.
Все по очереди с жадностью напились воды.
— А хорошо, что я прикончил кулака-хозяина, а то ведь он просил меня отпустить его, — признался Смутни.
— Да ну? — удивился Тамаш.
— Просил отпустить, обещал горы золотые…
— Нужно немедленно что-то делать, — сразу же заговорил Андрей, узнав о смерти кулака. — Меня в селе все знают в лицо, но никому не известно, что я к вам перешел. Кроме Матвея и его жены, об этом никто и не знал, а они уж больше ничего никому не расскажут. Ну, может, еще Иван… Я думаю, мне стоит пойти посмотреть, что делается в селе, может, найду товарища Игнатова, и разобьем мы белых… Что вы на это скажете?
После короткого обсуждения решили: пусть Андрей пройдется по селу и посмотрит, что там делается.
Андрей вылез из убежища и вышел за ворота. И в тот же момент раздался одиночный ружейный выстрел.
— Убили его! — произнес Петр и побледнел.
— Еще неизвестно, — сказал Смутни. — А может, это он сам и стрелял?
Спорить долго не пришлось: со стороны сада послышались чьи-то голоса:
— Все сгорело… и они тоже…
— Так им и надо, этим красным!
— А я бы с ними немного поигрался!
— Жалко дом Матвея!
— Ничего, он новый построит.
— Важно, что конюшня цела осталась.
— Кони все целы…
— Иван, иди-ка сюда! Посмотри, что там такое?
— Что? Думаешь, кто-нибудь уцелел? Тем хуже для них. Оружие и патроны у них на чердаке были… До этого только красные могли додуматься!
— Посмотри-ка, они убежище себе сделали!
— Пару гранат — и дело с концом. Так мы убитых засыпали.
Кто-то громко и грубо рассмеялся.
— Сдавайтесь! — громко крикнул Иван.
— Имре, дай я его сниму! — попросил Мишка Балаж у Тамаша.
— Погоди! Видишь, он за деревьями прячется. Их, кажется, пятеро. Подожди немного, такую толстую березу пуля все равно не пробьет. Тихо, не разговаривайте! — шепотом приказал Имре.
— Оглохли, что ли, там?! Сдавайтесь, псы проклятые! — снова крикнул Иван. — А то все так и подохнете в своей яме!
Иван высунулся из-за дерева, чтобы бросить ручную гранату, но Мишка Балаж метким выстрелом тут же свалил его на землю. Иван, единственный сын и надежда кулака Матвея, так хладнокровно убивший собственную сестру, был теперь мертв…
ГЕРОЙСКАЯ СМЕРТЬ
На большой остров, расположенный посреди Енисея, Покаи и Керечен переплыли почти одновременно. День выдался жаркий, и безбрежное зеркало реки сверкало и переливалось в лучах солнца. Остров густо зарос вековыми деревьями и почти непроходимым кустарником.
— Вот здесь мы можем поговорить спокойно, — первым начал Шандор Покаи.
— Ну, рассказывай: что ты слышал? — спросил Керечен.
— Много чего, — ответил Покаи и по привычке огляделся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. Иногда пленных офицеров под конвоем водили купаться на Енисей. Находились смельчаки, которые отваживались доплывать до острова. Правда, некоторым это стоило жизни: если поднимался даже небольшой ветер, не всякому пловцу было по силам справиться с течением реки.
— Ну, говори же, не тяни, — торопил Иштван Шандора. — Нет же здесь никого. Сегодня, кроме нас, на остров никто не переплывал.
— Ну, тогда слушай, — начал Покаи. — Я думаю, скоро все мы станем очевидцами больших событий.
— Ничего нового в этом нет.
— Нет? А как ты посмотришь на то, если недовольные солдаты из колчаковской армии вместе с рабочими, партизанами и интернационалистами захватят власть в Красноярске?
Керечен немного помолчал, а затем сказал:
— Не думаю, что им это удалось бы, да и вряд ли это что-нибудь даст: фронт находится еще довольно далеко, так что долго им не продержаться. Боюсь, что жертвы будут на сей раз напрасными.
— Пожалуй, ты прав, — согласился с ним Покаи. — Сейчас вряд ли целесообразно проводить такую крупную операцию. Но когда линия фронта приблизится, тогда…
— Тогда, разумеется, такое выступление сможет в какой-то мере парализовать всю колчаковскую армию. Это приблизило бы конец войны в Сибири.
— Вот именно. Сначала взбунтуется гарнизон, одновременно с этим рабочие начнут всеобщую стачку, а партизаны со своей стороны предпримут наступление на городской гарнизон.
— А что будут делать пленные?
— Нас тоже вооружат, ну, если не всех, то по крайней мере тех, кто симпатизирует большевикам.
Иштван рукой отогнал от себя комаров. То, что сказал Покаи, казалось ему несколько фантастическим, и поэтому он спросил:
— Все это твои идеи, или слышал от кого?
— Учти, тебе я сообщил это под большим секретом… Нелегальный партком уже обсуждал этот вопрос на своем заседании, в курсе дела и партизаны. Деже Форгач тоже обо всем извещен. Я знаю товарища Форгача лично… Тебе я обо всем этом говорю потому, что мы на тебя рассчитываем. С оружием умеешь обращаться?
— Конечно.
— Возможно, получишь особое задание.
— Я не против… Скажи, а партизан под Красноярском много?
Покаи пожал плечами:
— Точно я, конечно, не знаю, но говорят, что партизанская армия Щетинкина соединилась с партизанской армией Кравченко, а это уже около сорока тысяч бойцов. Я, правда, лично этому не верю. Насколько мне известно, численность партизан не превышает двадцати тысяч.
— И это хорошо.
— Среди партизан находится много венгров, а вообще там есть и русские, и украинцы, и литовцы, и грузины, и татары, и китайцы, и поляки, и сербы, и чехи, и румыны, и немцы, и даже финны. Ты, случайно, ничего не знаешь об инженере Яноше Шмидте?
— Нет, не знаю, — признался Керечен.
— Подпольный горком послал его к партизанам. Шмидт — венгерский коммунист, начальник ружейной мастерской. Нелегальная группа, которая работает под его руководством, занимается изготовлением пороха. Или возьмем поляка Храбавки… Да что там говорить, таких много можно перечислить…
— А ты их откуда знаешь? — спросил Керечен.
Покаи загадочно улыбнулся:
— Знаешь, у нас с ними установлена неплохая связь… Мы о многом знаем, только не обо всем говорить можно. К сожалению, контрразведка Колчака тоже не бездействует… Я думаю, что она подозревает о готовящемся восстании…
— А что, много шпиков?
— Еще сколько! В том-то и беда вся… Но и белым сейчас нелегко. Знаешь, возле нас находятся казармы тридцать первого пехотного полка и третьего егерского полка. Так вот, я слышал, что новобранцев этого полка посылают на фронт, даже не дав им закончить обучение. Спешат белые, спешат…
Иштван Керечен все чаще и чаще стал видеть по ночам сны, которые переносили его в пору безоблачного, беззаботного детства. Проснувшись, Иштван сразу никак не мог отогнать от себя сон, да и не хотелось. Другое дело — когда приснился Драгунов, с разорванным окровавленным ртом, черными усиками и скрюченными пальцами, которыми он старался задушить Иштвана. Тут и спать не захочешь!
Атмосфера была неспокойной. Из Венгрии приходили невеселые известия.
В то лето в Сибири стояла почти тропическая жара. В солдатском лагере от жары и перенаселенности развелись клопы. Со стороны Енисея в лагерь прилетали целые тучи комаров. Солнце припекало даже через одежду. А дни стояли, как назло, безоблачные.
Разгромленные части армии Колчака беспрерывно отходили в восточном направлении. Буржуазные газеты были уже не в состоянии воодушевлять белых на борьбу. Стоимость денег катастрофически падала день ото дня. Росла спекуляция. Городские военные комендатуры практически не имели никакой силы. Белые с трудом удерживались у власти, опираясь в основном на части интервентов.
Тридцатого июля 1919 года в казармах, расположенных по соседству с офицерским лагерем, еще на рассвете поднялся невероятный шум и гвалт.
В комнату Керечена заглянул через окошко какой-то офицер и громко крикнул:
— Господа! Русские солдаты подняли мятеж!
— Что такое? Как вы сказали?
«Значит, восстали солдаты тридцать первого пехотного полка!» — мелькнула у Иштвана мысль.
— Слышали?! Они начали стрельбу. Быстрее вставайте!
Иштван вскочил с койки и вылез в распахнутое настежь окно, справедливо полагая, что идти по длинному коридору сейчас — уже никому не нужная роскошь.
Покаи выскочил вслед за ним и на ходу крикнул:
— Ты куда?..
Иштван остановился.
«А действительно, куда это я так разогнался?» — подумал он.
Мимо них в сторону распахнутых настежь лагерных ворот бежал молодой солдат с винтовкой в руках.
— Эй, что случилось? — спросил у него Керечен.
Солдатик на миг остановился и, ткнув рукой в сторону казармы, скороговоркой выпалил:
— Наши разоружают офицеров! Пошли с нами!
— Каких офицеров? Как? Зачем? — забросал солдата вопросами Иштван, но тот, уже не слушая его, бежал дальше.
Мимо них пробежали еще несколько русских солдат. Все они очень спешили. Сквозь открытые лагерные ворота можно было видеть небольшие группы вооруженных солдат, которые торопливо удалялись в сторону города.
— Боюсь, что новобранцы обоих полков несколько поспешили выступить, — с сожалением заметил Покаи. — Линия фронта еще довольно далеко от города. Восставших могут окружить и задушить… Риск слишком велик… А подмоги ждать, по сути дела, неоткуда… Подобные выступления напоминают мне средневековые восстания, когда восставшие добровольно шли на плаху, воодушевленные собственным фанатизмом.
Керечен считал, что сейчас не время болтать. Нужно как можно скорее доставать оружие. Весь вопрос заключается в том, где его достать…
Где-то совсем рядом послышалась ружейная стрельба.
Заслышав стрельбу, пленные в лагере начали собираться группами: отдельно венгры, австрийцы, немцы, турки, арабы.
— Какое безумие! — воскликнул один австриец. — Какое безумие! — повторил он. — Младенцы! Сопляки! Да их всех можно привести в чувство несколькими пулеметами!
— Вот когда нужно освобождать пленных! — философствовал в группе венгров какой-то офицер. — Да, если нас сейчас вооружить, мы можем разбить всю колчаковскую банду, а через месяц преспокойно поехать по домам.
— Да это не что иное, как коммунистическая пропаганда! — воскликнул какой-то старший офицер. — Честный венгр не станет городить такой чепухи!
— И это вы называете чепухой? А разве народ не имеет права изъявлять свою волю?
— Господин кадет, будьте осторожнее в выборе выражений! Смотрите, как бы вам не пришлось отвечать за свои слова!
— Господа! Господа! Умерьте свой пыл! Сейчас самое главное — сохранить полное спокойствие! Ведь мы находимся в офицерском лагере для военнопленных, а не на каком-нибудь митинге.
Стрельба, доносившаяся из-за забора, стала чаще и громче. Более того, через минуту несколько раз глухо ухнула пушка.
Австриец, который только что говорил о безумии, довольно улыбнулся:
— Ну вот, слышите! Так должны поступать настоящие солдаты! Пусть теперь попрыгают эти красные повстанцы!
Керечен толкнул Покаи в бок и шепнул:
— Разобьют они бедняг… Как бы мне хотелось заткнуть глотку этому паршивому австрияку!
— К сожалению, мы ничего не можем сделать! Оружия-то у нас нет, — ответил Покаи, метнув в сторону австрийца взгляд, полный ненависти и неприязни.
— Ну, что я вам говорил? — громко засмеялся австриец. — Довольно нескольких пулеметов, а уж если пушку, то… До десяти часов здесь будет тишина, как на кладбище.
В открытые ворота можно было видеть, как к казармам из города бежали русские солдаты, многие из них — уже без оружия.
— Пошли выйдем из лагеря! — предложил Покаи. — Нам нужно разыскать товарища Дукеса. У меня нет никакого желания выслушивать бред сумасшедших офицеров.
Однако ни Керечену, ни Покаи не пришлось выходить за ограду лагеря, так как Дукес, Людвиг и Форгач, которых они хотели найти, стояли около изгороди и о чем-то таинственно переговаривались. Вид у всех был довольно озабоченный.
— Удивляюсь смелости русских солдат, — со вздохом произнес Людвиг.
— Я бы охотно присоединился к ним, — откровенно признался Керечен.
— Да, это был бы самый лучший выход, — согласился с ним Дукес. — Уж если нам суждено умереть, то смертью героев. Ведь большинство офицеров в лагере настроено против нас.
Тем временем стрельба утихла, только где-то вдали татакал пулемет.
— Слышите? Быть может, это как раз наши… Наших несколько человек тоже там есть! Они действуют в заслоне, чтобы дать возможность русским товарищам отойти без излишних потерь.
— Разумеется, это настоящее геройство, — проговорил, ни к кому не обращаясь, Покаи. — Но где же партизаны и красноярские рабочие? В конце концов, чего мы тут ждем, как истуканы?
— Где? Этот вопрос и я могу вам задать. Вчера мы разговаривали с командирами трех красных полков: Никитиным, Кузнецовым и Шунько. Все трое говорили, что они уже не в состоянии сдерживать солдат, которых не сегодня-завтра собираются послать на фронт. Солдаты же готовы охотнее принять смерть здесь, чем на фронте. Будь что будет. Или они захватят город, или они погибнут. К сожалению, они не смогли предупредить ни партизан, ни городских рабочих. Если бы все это было организовано несколько лучше, можно было бы рассчитывать на твердый успех.
На крышу одного из бараков с самого утра залез кадет, чтобы хорошо рассмотреть все вокруг. Через несколько минут он спустился с крыши и подошел к группе венгров.
— Товарищи, если бы вы только видели, что там творилось! Русские солдаты сражались храбро. Но белых было намного больше. У села Старцева одному отряду удалось отойти… Хотя, откровенно говоря, еще не известно, далеко ли они ушли…
— А сколько их было? — спросил Дукес.
— Точно не могу сказать. В одном из отрядов было человек пятьдесят.
— Оттуда они могут переправиться на правый берег Енисея и уйти к партизанам, — сказал Людвиг.
Вскоре в лагерь прибежал запыхавшийся от быстрого бега пленный и еще издали закричал:
— Русских солдат окружили конные казаки! Кого догнали, всех порубили саблями. Пулеметчик-венгр, чтобы не попасть в руки белых, пустил себе пулю в лоб!
— Фанатики! — заметил один из подошедших к ним офицеров. — Это не что иное, как самый настоящий русский фанатизм. Сначала они восстают, а потом кладут голову на плаху. Ну да все равно. А почему они не сбежали в тайгу?
Керечен и Покаи отошли от группы офицеров. Они залезли на крышу пятого барака, откуда можно было наблюдать за событиями. С крыши было видно, как мятежные солдаты отходили к лесу. Вот только удастся ли им добежать до леса? Под прикрытием деревьев они спокойно могли бы пробиться в южном направлении, где их ждет свобода.
— Удалось! — с облегчением произнес Покаи, увидев, что солдаты уже дошли до самой опушки.
Несколько позже пленные рассказали, что восставших русских солдат уговаривал вернуться в казармы поп, обещая им всем прощение. Многие из солдат, призванные в армию из сел, где они обрабатывали землю, всегда верили попам. Поверили они и на этот раз, вернулись в казарму — и поплатились за свою доверчивость. Лишь очень немногие из солдат пробились к партизанам.
Жертв было очень много. Восставших казнили у стен монастыря. Их заставили копать себе могилу… Приказали раздеться до белья. Обмундирование забрали офицеры, чтобы одеть в него новых солдат.
Восставшие, в одном белье, стояли у выкопанного ими же рва. Стояли молча, понурив головы.
Самое страшное заключалось в том, что солдат не расстреливали, их рубили саблями…
Молодые, порубленные саблями тела падали в яму. Земля, пропитанная кровью, превратилась в липкую грязь. Те, в ком еще теплилась жизнь, стонали, кричали. Офицеры пристреливали их из пистолетов…
А поп в черной рясе стоял рядом и махал дымящим кадилом.
На церемонию казни красных мятежников были приглашены и гражданские лица: важные господа и элегантные дамы. Одна белокурая, сильно напудренная дама с напряженным вниманием в лорнет наблюдала за казнью. Другая не отнимала от глаз маленького театрального бинокля, украшенного перламутровой инкрустацией. Третья театрально взвизгивала, когда офицер заносил саблю над очередной жертвой. Таких переживаний не испытаешь ни в одном театре…
Но вот в ров свалился последний мятежник, простой крестьянский парень, смолкли пистолетные выстрелы, окровавленные сабли вложены в ножны…
Артур Дукес из-за забора наблюдал за кровавой расправой. Монастырская стена, выложенная из красного кирпича, проходила как раз напротив лагерного забора. Важные господа, присутствовавшие при казни, русские и иностранные, разделились на небольшие группы. Они не расходились, оживленно обсуждая детали. Здесь были офицеры, попы, важные дамы. Кое-кто решил запечатлеть это зрелище и устанавливал громоздкий фотоаппарат.
Одна элегантно одетая дама протянула затянутую в перчатку руку для поцелуя офицеру, который за минуту до этого вытирал паклей окровавленную саблю.
Шандор Покаи и Иштван Керечен, удрученные страшным зрелищем, поплелись в лагерь, чтобы поделиться с товарищами ужасной вестью…
Один из мятежных русских офицеров в поисках убежища прибежал в солдатский лагерь, но его там обнаружили. Всех пленных, которые жили в бараке, где скрывался офицер, выстроили на плацу и приказали рассчитаться на «первый — десятый». Каждого десятого расстреляли. В число расстрелянных попали и два венгра: Шандор Жедер и Карой Секер. Эта весть с быстротой молнии распространилась среди пленных.
— Сегодня они, завтра другие, — мрачно произнес Дукес.
— Быть может, положение не так уж и плохо? — спросил Покаи.
— Ребята, сейчас нужно быть особенно осторожными! — Лицо Дукеса стало еще строже. — Нам нужно где-то спрятаться и переждать некоторое время. Лучше всего уйти в город, найти там работу… Я, откровенно говоря, не питаю никаких надежд… Кто знает, не наш ли черед придет завтра…
— Ты беги! — Керечен дернул Дукеса за руку. — Беги, ведь тебя могут схватить первым! Спрячься где-нибудь! В первую очередь должны спрятаться товарищи Дорнбуш, Форгач, ты и Людвиг!
Дукес безнадежно махнул рукой:
— Сейчас это уже невозможно. За нами установлена слежка. Часовые оцепили и наш лагерь, и солдатский. Шпики быстро найдут нас там и тогда опять расстреляют каждого десятого. Такой грех мы на себя взять не можем.
— Что же все-таки делать? — с тревогой в голосе спросил Покаи.
— Ничего сделать мы не можем. Осталось только положиться на волю случая. Если нам суждено умереть, умрем как полагается: не мы первые, не мы последние. Я лично смерти не боюсь. — Все это Дукес проговорил спокойно. Немного помолчав, он продолжал: — Белые завтра же предпримут новое наступление. Сегодня вечером нам нужно выработать свой план действий. Мы должны быть готовы ко всему. В первую очередь нужно предупредить об опасности всех наших товарищей. Компрометирующие нас бумаги немедленно сжечь, если их невозможно спрятать. Все номера «Енисея» и «Эмбера» собрать и уничтожить! Кому-то из нас нужно во что бы то ни стало пробраться в солдатский лагерь и предупредить наших товарищей.
И, сразу как-то постаревший, он медленно пошел к своему бараку.
Покаи и Керечен обошли нужных людей и предупредили их об опасности. Все выпущенные в лагере газеты пришлось порвать на мелкие куски и выбросить в нужник. В тот же вечер документы и бумаги, которые хоть в какой-то мере могли скомпрометировать прогрессивно настроенных пленных, были уничтожены.
Керечен, пробравшись в солдатский лагерь, встретился там с Мишкой Хорватом и сказал ему, что террор, к которому прибегли белые в городе, может коснуться и их, пленных. Порекомендовал не терять попусту времени и скрыться.
— Ты-то можешь ничего не бояться, — успокоил Керечена Мишка. — Ведь тебя здесь, собственно говоря, и не знают даже. Приходи в наш барак. У нас живут надежные товарищи. Поживешь с ними, пока страсти не улягутся.
Керечен счел это предложение приемлемым. Он надеялся, что вряд ли кому придет в голову искать офицера в бараке, где живут пленные солдаты.
Когда Керечен и Мишка вошли в офицерский лагерь, все обитатели оказались в сборе.
— Где ты так долго бродил? — спросил Пишта Бекеи у Керечена. — Ну и денек сегодня выдался…
— Разве усидишь в такое время в бараке?
По лицу Михая Пажита бродила хитрая улыбка.
«Бежать нужно отсюда, — подумал Керечен. — И как можно скорее. Сегодня господин помощник судьи никакой пакости нам уже не подстроит, а завтра он первым делом пойдет к начальнику лагеря и скажет, что Керечен — заядлый коммунист, за которым нужен глаз да глаз. Может, все это только моя фантазия, рожденная под влиянием страха, но надо быть готовым ко всему. В конце концов, речь идет о жизни, а это не какой-нибудь пустяк. Уж если мне удалось благополучно пройти через столько препятствий и остаться в живых, то было бы глупо погибнуть из-за доноса какого-то негодяя. Завтра же переберусь в солдатский лагерь и поселюсь в бараке у Мишки Хорвата. Покаи будет держать меня в курсе всех событий».
Ночью Керечен почти не спал: сон никак не шел к нему, когда же он наконец задремал, то в голову полезли беспокойные сновидения.
Снилось ему, что он куда-то едет, а рядом с ним Шура… Наконец долгая дорога кончилась. Они приехали не то в Дебрецен, не то в Дьёр, однако сойти с поезда он никак не мог, потому что был только в нижнем белье, как те солдаты, которых порубили белые. Белье на нем было все в крови. Он осмотрелся, но никак не мог найти свой чемодан.
Тут Керечен проснулся. Нащупал рукой вещмешок, который служил ему подушкой. В мешке хранились все его нехитрые пожитки. Он протянул руку, чтобы дотронуться до Шуры, но ее рядом не было.
Керечен снова заснул и увидел Шуру. Она лежала рядом с ним. Они целовались. «Милый, милый», — тихо шептала ему на ухо Шура. Керечен счастливо улыбнулся и обнял Шуру за шею. Но тут перед ними, словно из-под земли, неожиданно появился поп с окладистой черной бородой и густым басом. У попа были чрезвычайно длинные черные руки, и он схватил Шуру за плечи. Шура заплакала…
Керечен снова проснулся. Он хотел забыть неприятный сон, но стоило ему задремать, как тяжелые, мрачные видения опять полезли в голову.
— Выходи строиться! Через пять минут всем построиться между четвертым и пятым бараком! — громко кричал кто-то в коридоре.
Этот крик сразу же избавил Керечена от дурного сна. Он вскочил и начал одеваться.
Все торопились, суетились, бегали. Во дворе уже начали строиться пленные.
Напротив пленных офицеров строем стояли белочехи. Все они были вооружены, имели даже несколько пулеметов.
Нерасторопных пленных чехи выталкивали из бараков прикладами винтовок.
— Быстрее! Что такое? Ах вы, вши барачные! Шевелитесь быстрее!
Перед строем пленных появился молодой чешский офицер. Он начал говорить по-венгерски:
— Хочу довести до вашего сведения, что в связи со вчерашним солдатским бунтом мне приказано провести тщательный обыск в ваших бараках. А пока мои солдаты будут проводить обыск, вы останетесь здесь, в строю. Всякий, кто осмелится сойти с места, будет арестован! Если же кто вздумает бунтовать, я прикажу открыть по вас огонь из пулеметов! — То же самое он сказал и по-немецки.
Белочехи спешно разошлись по баракам, чтобы обыскать все помещения. Разбрасывали все вещи, искали какие-то бумаги и прокламации…
Минуты тянулись томительно медленно. Пленные все стояли на одном месте, устало переступая ногами. Пытались отсюда, из строя, разглядеть, что делается у них в бараках. Но разве отсюда увидишь?
Некоторым из них казалось, что чехи устанавливают пулеметы, направляют их на строй пленных. Так ли это на самом деле, или только кажется уставшим, испуганным пленным?
«Неужели они отважатся на такое злодейство? Ведь еще совсем недавно они были, так сказать, нашими коллегами по судьбе. Сидели в лагерях для военнопленных, мечтали о свободе… А теперь? Как быстро белым удалось переманить их на свою сторону! Как быстро удалось отравить их ядом шовинизма и национализма! А яд этот действует чрезвычайно быстро и эффективно…» — думал Керечен.
— Разойдись! — послышалась наконец долгожданная команда.
Пленные направились по своим местам, чтобы собрать свои вещи, которые валялись по всему бараку.
Как только белочехи удалились, Покаи и Керечен вышли из барака во двор.
Лагерь медленно оживал. Пленные собирались небольшими группами, о чем-то тихонько переговаривались.
Через несколько минут по лагерю промчался чех Габор. Он подбежал к Покаи и, задыхаясь, выпалил:
— Их забирают!
— Кого?
— Дукеса, Людвига, Форгача и еще несколько человек.
— Куда забирают?
— В солдатский лагерь.
— Кто забирает?
— Белочехи.
Керечен, Покаи и еще человек пять пленных побежали к бараку.
Чешские солдаты на самом деле уводили группу пленных в солдатский лагерь. Кроме названных Габором товарищей среди арестованных оказались и руководители «Венгерского союза» — Катона, Пели…
Получилось так, что ненависть шовинистов вылилась не только на головы коммунистов, но и на националистов из «Венгерского союза». Довольно редкий случай, когда волк готов, перегрызть глотку другому волку…
Артур Дукес шел, не опуская головы. Он, как и всегда, держался на удивление спокойно и с достоинством. Арестованные, увидев, что навстречу им бегут товарищи, приободрились, не желая показать своей слабости…
Лицо у Кальмана Людвига бледное, бескровное. По всему чувствуется, что он с трудом держит себя в руках.
Рядом с ним бредет Форгач. Вид у него такой, как будто он только что вышел из солдатского барака, где читал «Манифест коммунистической партии»…
Вслед за ними идут другие товарищи: Павел, Гашпар…
Любопытно, как попал в группу арестованных Гашпар, этот тихий молодой человек с приятной улыбкой? Коммунистом он не был. Всего лишь месяц назад он начал посещать их беседы.
Офицеры-аристократы с удивлением смотрели на арестованных. Они никак не могли понять, как это их руководители оказались в одном ряду с коммунистами…
«Что же это такое? Мир, что ли, перевернулся? Если расстреливают большевиков и евреев, то туда им и дорога, они это заслужили, — думали пленные аристократы. — Но что эти чехи хотят от настоящих господ, верующих христиан?»
Через минуту арестованные оказались за лагерным забором. Их повели ко рву, перед которым обыкновенно производились казни. Через несколько минут со стороны рва донеслись выстрелы. Стреляли из винтовок, присланных интервентам Антантой. Патроны тоже Антанта прислала. Так было совершено очередное убийство. Одно из многих… Тела расстрелянных забросали тонким слоем земли — стоит ли особенно стараться?..
На глаза Керечена невольно набежали слезы. Рыдания перехватили горло.
Покаи стоял рядом с Иштваном. Оба они не могли смотреть друг другу в глаза.
— Пойдем найдем Дорнбуша, — тихо предложил Покаи, и в его голосе слышались с трудом сдерживаемые рыдания.
— Пойдем, — согласился Керечен.
Дорнбуш жил в третьем бараке, в крохотной комнатушке. У него было очень много книг. На полке, висевшей над кроватью, стояли книги: русские, венгерские, немецкие, французские…
Дорнбуша в комнате не оказалось.
— Его недавно увели куда-то белочехи, — сказал один из пленных, живущих в бараке.
Покаи и Керечен молча вышли во двор.
«Вот и Дорнбуша забрали… Кто же остался на свободе из коммунистов? Кто теперь будет руководить нами, давать указания? Врагам достаточно протянуть руки, чтобы схватить нас за горло. Вот и настало время для господина доктора Пажита. Стоит ему только открыть рот, произнести слово — и не бывать в живых ни Керечену, ни Покаи. Вполне возможно, что он уже сейчас сидит у начальника лагеря…»
Такие невеселые мысли бродили в голове у Керечена и Покаи.
— Скажи, — тихо начал Керечен, — ты не боишься, что Пажит может донести и на нас с тобой?
— Нет, — ответил тот, немного помедлив. — Начальнику лагеря сейчас не до Пажита, у него и без того забот полон рот. Ведь удар нанесен и по «Венгерскому союзу».
— А если он захочет выслужиться и принесет нас в жертву, чтобы спасти собственную шкуру?
Навстречу им шел Пишта Бекеи. Его тоже нельзя было узнать: всегда веселое улыбающееся лицо его на сей раз мрачно, серьезно.
— Боже мой! Вы еще здесь? — воскликнул он испуганно.
— Здесь, а что? — почти в один голос спросили Керечен и Покаи.
— Беда! Тебе, Покаи, ничего не грозит, а вот тебе, Ковач…
— Говори! Говори скорее!
— Тебя ищут, уже два раза приходили. Пришли от начальника лагеря и сказали, чтобы ты немедленно явился к нему. Обнаружены какие-то неточности. Говорят, что ты якобы и не офицер вовсе, а просто аферист… Потом пришли чехи. Те вообще хотели тебя забрать…
— Меня? За что?
— Якобы за то, что ты принимал участие в большевистском заговоре… Господин Зингер, который понимает по-чешски, тоже был с ними. Вел он себя развязно, орал на весь барак. С ними пришел чешский офицер. Он заорал на Зингера, чтобы тот заткнулся и через час нашел ему Ковача живым и невредимым, так как он должен забрать его. Патантуш насмерть перепугался…
— А Пажит что? — спросил Покаи.
— Он ничего не говорил… Сидел на кровати и молчал, опустив голову. Временами бормотал что-то непонятное… Господин учитель сказал, что это он учится. — Пишта Бекеи нахмурил брови. — Кто бы мог подумать?.. Скажу только одно: если тебе дорога собственная жизнь, спрячься! В барак ни в коем случае не возвращайся! Тебя сразу же схватят и расстреляют. Я не спрашиваю тебя, кто ты такой. Если большевик, это твое дело… Но только быстро спрячься где-нибудь! Хотя бы на пару дней, пока эти палачи немного успокоятся!
Керечен стоял в растерянности, не зная, как быть дальше. Он чувствовал, что в его жизни снова настал момент, когда нужно на что-то решаться.
«Что же делать? В солдатском лагере меня, видимо, не найдут, хотя уверенности в этом нет. Шпиков всюду полно… Ясно одно: здесь мне оставаться никак нельзя. Это было бы равносильно самоубийству. Вечером я обязательно пойду к Мишке Хорвату. Но что делать до вечера? Где спрятаться? А что, если у Мано Бека? Конечно, нужно немедленно пойти к нему и там переждать до вечера…»
— Сервус, друзья! — сказал Иштван. — Ты, Пишта, прав. Завтра все решится.
— Куда ты пойдешь? — спросил Покаи. — Нам нужно знать, где ты будешь… Если что, извести нас.
— Выбора у меня, собственно, нет. Думаю, что самым безопасным местом для меня будет солдатский лагерь. Там у меня тоже есть друзья. Я думаю, власти не проведут еще один обыск? А сейчас я пойду к Мано Беку. Есть у меня к нему один разговор.
В течение нескольких минут Керечен прохаживался за баней. Сейчас это было самое пустынное место. Немного успокоившись, Иштван пошел к Беку. Мано сидел в комнате один. Он усадил Керечена, угостил его крепким чаем. Иштван, не дожидаясь вопросов, рассказал Мано о создавшемся положении.
Выслушав Керечена, Бек начал нервно поглаживать свою густую бороду. Голос у Мано был молодой и звонкий, что никак не вязалось с его солидной, строгой внешностью.
— Видишь ли, я долго занимался твоим делом. Мне известно, что твоя фамилия значится в списках лиц, подлежащих расстрелу. Я как раз зашел в кабинет полковника, когда этот список зачитывали. Тебя обвиняют в том, что ты якобы напал на берегу Енисея на русского унтер-офицера и чуть не убил его. Помимо этого тебя обвиняют, в нелегальной деятельности. Оба эти обвинения очень серьезны. И хотя мы разобрались в той истории с унтер-офицером, но сейчас наше заключение по этому делу не имеет никакого значения. Такое обвинение в создавшейся ситуации вовсе не требует никаких доказательств. Через несколько дней террор утихнет, а до этого нужно быть очень осторожным… И никаких фокусов!
Керечен пил крепкий, несладкий чай, который так хорошо утоляет жажду. Слова Мано доходили до него, словно сквозь густую пелену тумана.
— Спасибо за чай, — поблагодарил Иштван Бека, с трудом ворочая языком. — И за информацию. Спрячусь в солдатском лагере… Не буду тебе мешать, у тебя и без меня посетителей достаточно.
Простившись с Беком, Керечен пошел по направлению к хозяйственным постройкам, где почти всегда было пустынно. Дождавшись темноты, он добрался до барака, в котором жил Мишка Хорват. Лег на топчан рядом с Мишкой, на какие-то лохмотья.
Некоторое время они тихо перешептывались. Настроение у обоих после ареста товарищей и расправы над ними было отвратительным. Обоим казалось, что они осиротели…
Кто знает, что ждет их завтра? Восстание гарнизона явно не удалось. Возможно, правда, что это всего лишь начало. Чем ближе подходили к городу части Красной Армии, тем больше зверели белые.
Кто предатели? В этом лагере они наверняка есть. Как не быть им среди тысяч людей?.. Основная масса, разумеется, мечтает о мире, спокойствии, а самое главное — все они хотят как можно скорее вернуться на родину. Как не хотеть оказаться в кругу родных, за столом, на котором стоят венгерские кушанья, а не эта осточертевшая каша?.. Там и стаканчик винца может перепасть. Домой, скорее домой! Здесь жизнь не стоит ни копейки. Уже завтра можно оказаться на кладбище… Кто может теперь возглавить прогрессивно настроенных пленных?
Наговорившись вволю, Керечен и Хорват уснули тяжелым, неспокойным сном.
На следующий день, к вечеру, в бараке появился Шандор Покаи.
— Ты умно поступил, что ушел от нас, — сказал он. — Сегодня в полдень тебя опять спрашивали белочехи. Я сам с ними разговаривал, сказал, что ты куда-то уехал… Потом тебя спрашивал какой-то твой знакомый, который принес тебе послание от Шуры. Девушка очень о тебе беспокоится. Спрашивает, почему ты не переходишь работать в город. Им так нужен каменщик. Разве ты каменщик?
— Так, приходилось. Вообще-то я электромонтер.
— Я на твоем месте не раздумывал бы, а немедленно ушел в город.
— Я и пойду. Раз им нужны рабочие, я обязательно пойду в город. Как ты думаешь, опасно это?
— Опасно. Сначала сходи забери свои вещи…
Когда Керечен пришел в офицерский барак за своими вещами, его встретили с радостью. Даже на лице господина помощника судьи появилась вежливая улыбка.
Господин Зингер и господин учитель по очереди обняли Керечена.
Иштван собрал свои вещички. Их было немного, они уместились в одном узелке.
И вдруг в то самое время, когда он собирал вещи, открылась дверь и на пороге появились два чешских солдата. Оба говорили по-венгерски, но с сильным чешским акцентом.
Присутствующие остолбенели. Сердце у Керечена забилось так сильно, что он даже потерял дар речи.
— Йожеф Ковач уже вернулся? — спросил один из чехов.
Все молчали.
— Ну, отвечайте же! — закричал другой чех.
— Нет, еще не вернулся, — наконец ответил Покаи. — Возможно, он сидит в турецкой кофейне.
— А это кто такой? — солдат ткнул пальцем в сторону Керечена.
Однако Иштван уже овладел собой. Не говоря ни слова, он достал из кармана удостоверение на имя Иштвана Керечена. Это удостоверение сделал ему Мишка Хорват.
Солдат внимательно посмотрел на удостоверение и вернул его Иштвану.
— А здесь вам что надо?
— Пришел в гости к землякам.
— Это можно, — проговорил один из солдат. — Ладно, пойдем заглянем в кофейню. Пошли!
Солдаты повернулись и ушли.
Когда они вышли, пленные долго не могли успокоиться.
— Ну и натерпелись мы страху! — первым нарушил молчание Бекеи.
— Я боялся, что они тебя сразу же схватят и уведут, — проговорил господин учитель. — А ты, как я заметил, и не испугался вроде?
— А чего мне пугаться? — улыбнулся Керечен, чувствуя, как подрагивают у него губы. — Находчивость — прежде всего. Я знал, что за мной охотятся, и потому заранее попросил у одного товарища его удостоверение.
— Хороший трюк ты выкинул, ничего не скажешь, — заметил Бекеи. — А ведь все могло кончиться очень скверно.
— Вам прямо-таки посчастливилось, — сказал господин Зингер и, подойдя к Керечену, пожал ему руку.
— А теперь нужно спешить! — заторопил Керечена Покаи. — Эти типы могут вернуться. Зайдут в кофейню, посмотрят, что там тебя нет, и вернутся.
Когда Иштван прощался, все протягивали ему руку. Даже господин Пажит снисходительно протянул ему кончики пальцев и деланно улыбнулся.
Кровавый террор белых и интервентов продолжался вплоть до пятого августа, пока белочешское командование, находившееся в Иркутске, не отозвало из города свои части. Но до этого дня они успели загубить много честных людей, которые попали им в руки.
В эти дни до лагеря дошло официальное известие о падении Венгерской советской республики. Члены «Венгерского союза» торжествовали, а все сочувствующие коммунистам ходили опустив голову.
Но коммунисты, несмотря на печальное известие, не прекратили нелегальную деятельность. Они понимали, что придет еще и их день и ради этого стоит бороться дальше. События в революционной России вселяли в них надежду на лучшее будущее.
Белые жестоко подавили восстание революционно настроенных солдат. Шестьсот молодых солдат были казнены, и среди них — один из руководителей красноярского подполья товарищ Исаев. Другой руководитель подпольщиков, товарищ Кузнецов, был ранен в ногу, но ему удалось бежать. Вместе с русскими солдатами были казнены сорок венгров. И среди них — соратник Бела Куна товарищ Деже Форгач, который в мае восемнадцатого года был арестован эсерами и сначала брошен в тюрьму, а несколько позже переправлен в Красноярск, в лагерь военнопленных. Жертвой белого террора пали товарищи Артур Дукес, Кальман Людвиг, Дьёрдь Павел, Янош Пап, Бела Гашпар, Лайош Мольнар, Деже Красовски, Бела Шкоф, Шандор Жедер и Карой Секер. В списке смертников числилось, кроме этого, еще сорок пленных. Им чудом удалось спастись. Среди этих счастливчиков оказался и Керечен.
Главный палач Сибири адмирал Колчак послал приветственную телеграмму начальнику красноярского гарнизона генералу Розанову, в которой благодарил его за расправу над восставшими.
ПУТЬ АНДРЕЯ
Андрей выскочил на улицу. Где-то в конце ее раздавалась стрельба, но людей не было видно. Лишь в пыли валялись трупы белых, которых бойцы скосили из пулемета, установленного на чердаке. У Андрея не было ни времени, ни желания пересчитывать их, но, даже не считая, можно было определить, что убитых не менее тридцати.
Соблюдая все меры предосторожности, он шел в нужную сторону, хотя и сам еще не знал, как доберется до роты, вернее, до товарища Игнатова, а добраться нужно было во что бы то ни стало: кто знает, как долго продержится Имре Тамаш со своими людьми, если не подойдет подмога?..
Из окон домов, расположенных по обе стороны улицы, на Андрея смотрели перепуганные жители.
«Хорошо бы поговорить с ними! — мелькнула у него мысль, но он тотчас же отогнал ее: — Да нет, на этой улице стоят дома только зажиточных мужиков, а говорить с ними опасно. Черт его знает, на кого нарвешься… Я хоть и не рассказывал никому о том, что был красноармейцем, но, как говорится, земля слухом полнится… Осторожность никогда не помешает. Мне бы только попасть на третью улицу да разыскать дом Ильи Морозова, а уж он-то знает, что творится в селе». Морозова ни в Красную Армию, ни в белую не забрали по той простой причине, что он потерял ногу во время русско-японской войны. Сейчас он ходил на костылях и потихоньку копался в земле возле своего дома. Содержали его сыновья…
Но до Ильи еще добраться надо!
Вдруг Андрей увидел, что в самом конце улицы в беспорядке начали разбегаться белые.
«Куда это они? — мелькнуло в голове у Андрея. — Почему? Или их кто преследует? И сюда тоже бегут!..»
Решив действовать осторожно, Андрей упал на землю и притворился убитым. Трюк явно удался. Беляки пробежали, не обратив никакого внимания на Андрея, и вскоре скрылись за поворотом.
Андрей не спеша поднялся.
«Нет, никто их не преследует, — размышлял он. — Тогда, видимо, они бежали к своим на помощь. Быть может, как раз к тем, кто окружил группу Тамаша? Правда, у ребят есть оружие, есть патроны и гранаты, но надолго ли их хватит? На помощь надежда маленькая, а без нее побьют их белые…»
Андрей хорошо знал всех кулаков, да и как их было не знать, когда он на многих из них гнул спину? Бывали годы, когда ему за сезон приходилось сменить пять-шесть хозяев.
«Хорошо бы выбить сейчас белых из села! Но как это сделать? И как узнать, куда они побежали? Ничего, как-нибудь узнаю», — успокаивал он себя.
Вскоре он подошел к дому Ильи Морозова. Илья, как всегда, копался в огороде. Поздоровавшись с Андреем, Илья протянул ему кисет с махоркой:
— Закуривай!.. Ну, расскажи, где до сих пор мотался?
Андрей несколько раз глубоко затянулся махорочным дымом, а потом сказал:
— Беда случилась, Илья.
— Понимаю… Ты, конечно, встрял в какое-нибудь дело?
— Точно… Прошу тебя, говори потише, а то, не ровен час, еще услышит кто.
— Не бойся, я один в избе. Могу тебя спрятать. Никто не видел, как ты ко мне шел?
— Никто. Разве что из окошка могли…
— Где воевал?
— Во дворе кулака Матвея.
— Ого! — Илья тихо присвистнул. — Я слышал, у него дом спалили. И все, кто в нем был, сгорели?
— Черта лысого! Матвей, жена его и дочка убиты. Мой друг Петр застрелил сына Матвея — Ивана, значит…
Илья выронил из рук нож, которым он вырезал топорище, не спеша разгладил густую темную бороду:
— Мне их не жаль! А тебе?
— У нас есть раненый. Но он еще держится. Пока стреляет…
— Ладно…
— Илья Федорович, скажи, что мне дальше делать?
Морозов задумался.
— Помочь им надо, — помолчав, сказал он. — И поскорее… Подожди-ка! Что же мне сосед только что рассказывал? Ах да… Беляки окопались возле колодца и оттуда будут обстреливать красных. А до них отсюда, если идти по прямой, и версты не будет. По ним можно ловко ударить, и так ударить, что конец им придет. Но есть и другой выход…
— Знаю! Понял! Если от дома выйти к ручью, а там к лесочку, а от него тропинкой до мельницы, то как раз и зайдешь к белым в тыл…
— Точно! Беги в березняк, если красные еще не успели уйти, как раз догонишь их…
Вновь вспыхнувшая перестрелка свидетельствовала о том, что бой еще продолжается.
— Я пойду с тобой, — вызвался Илья.
— Нет, ни за что на свете! Чего надумал!
— Оружие у тебя есть?
Андрей схватился за браунинг, висевший у него на боку.
— Есть.
— Тогда беги!
Они обнялись.
Огородом, через кусты, Андрей вышел к ручью. Он был глубоким, так что пришлось раздеться. Вода приятно охлаждала разгоряченное тело. Переправившись по пояс в воде, Андрей оделся и хотел уже идти дальше, но вдруг вспомнил, что лицо его перепачкано копотью. Он вернулся к воде и тщательно умылся. Теперь он выглядел поприличнее.
Кругом никого не было.
«Скорее! Скорее! — мысленно торопил себя Андрей. — Впереди никаких препятствий. Тихо, как будто никакого боя и в помине не было».
И вдруг тишину снова нарушила стрельба.
До березовой рощи оставалось не так уж много. Андрей уже видел тропку, ведущую в ее глубину, и вдруг чей-то строгий окрик остановил его:
— Стой!
Из кустов вышли двое в гражданском, у каждого в руках винтовка со штыком.
— Руки вверх!
Андрей машинально поднял руки.
«Что за люди?» — судорожно билась у него в голове мысль.
Стряхнув оцепенение, Андрей внимательно вгляделся в лица подошедших и узнал сельских кулаков. Одного звали Фомичом, а другого, худого как спичка и с голосом как у попа, — Максимом…
Кулаки тоже узнали Андрея.
— Ну, чего тебе? — спросил Максим. — Чего тебе тут понадобилось?
— Я… — запнулся Андрей, не находя, что бы такое сказать. — Да я так просто шел…
Кулаки ехидно рассмеялись.
— Что, грибков решил насобирать? — с издевкой спросил Фомич. — В такое-то время?
— Точно, захотел…
— Ну, тогда пошли с нами! Не удастся тебе удрать от нас к твоим красным дружкам. Шагай знай! А вздумаешь бежать, сразу же всажу в тебя пулю!
Максим повел Андрея по тропинке, а Фомич остался на месте.
— В прошлом году тебе, бродяге, удалось сбежать. — Кулак толкнул Андрея прикладом в спину. — Но уж сейчас-то не сбежишь. Небось думал, что нас выбили из села и ты захватишь мой дом и мою землю, а? Я тебя накормлю землей! Видишь ли, они захотели править Святой Русью! Отобрать у честных людей их имущество… Сколько тебе пообещали твои красные?
Андрей молчал, крепко стиснув зубы.
Максим снова толкнул его в спину прикладом, да так, что Андрей чуть не упал.
Андрей понимал, что ему во что бы то ни стало нужно убежать, иначе он не сможет предупредить красных.
«Бежать! Бежать! Но как? У этого щуплого на вид кулака столько силы! Если я просто побегу, он мне выстрелит в спину, и все. Нет, нужно выждать момент… Интересно, куда он меня ведет? К белым? А зачем? Наверняка чтобы расстрелять. Но тогда почему он не делает этого сейчас, здесь? Или они хотят меня сначала пытать?..»
Андрею больше не пришлось ломать себе голову: они вышли к лесной избушке. И тут Андрей вспомнил, что и этот участок леса принадлежит Максиму, и эта сторожка, срубленная из бревен.
— Стой! — приказал Андрею кулак.
Андрей остановился. Двери в избушке не было, вместо нее зиял пустой проем.
Кулак так ударил Андрея прикладом, что Андрей не вошел, а влетел в избушку. Схватился за поясницу.
— Раздевайся! Быстро! — приказал ему кулак.
«Максим — мужик сильный, но и я не слабее его, — думал Андрей. — Если дело дойдет до драки, еще неизвестно, кто из нас победит. Более того, Максим вооружен винтовкой со штыком, но и у меня в кармане заряженный пистолет. Казалось бы, что проще — выхватить пистолет и выстрелить в кулака, но острие штыка упирается мне в спину, и стоит мне повернуться, как Максим насквозь проткнет меня. А он еще раздеваться приказывает. Тогда я вообще останусь без оружия…»
— Ну ты, лапоть, чего не раздеваешься? — разозлился Максим. — Или дожидаешься, пока я тебя штыком проткну?
— Не сердись, Максим, — тихо начал Андрей, — дай полюбуюсь лисицей, что сидит возле куста… Уж больно хороша! Отсюда шагов ста не будет… Эх, если бы ружьишко! — С этими словами Андрей уставился в окно, за которым он якобы увидел лисицу.
Кулак даже не подумал, может ли возле избушки, да еще в присутствии людей, оказаться лисица. Он бросился к окну, а Андрей в тот же момент схватился за винтовку.
— Ах, мать твою так!.. — захрипел в злобе кулак.
Началась борьба не на жизнь, а на смерть. Кулак крепко вцепился в винтовку обеими руками и, как Андрей ни старался вырвать ее из рук Максима, это ему не удавалось. Они покатились по земляному полу. В момент, когда рука Максима оказалась недалеко от рта Андрея, он вцепился в нее зубами.
Максим взвыл от боли и разжал руку.
— Пусти, я тебя не трону! — хрипел он.
Однако Андрей еще сильнее сжал челюсти.
«Нет, негодяй, меня не проведешь!» — мелькнула у Андрея мысль. Он прекрасно понимал, что его спасение целиком зависит от полной победы. Он напряг все свои силы и подмял кулака под себя.
Максим, несмотря на адскую боль в правой руке, левой крепко держал винтовку за шейку приклада и извивался, стараясь сбросить с себя мужика.
«Долго я не выдержу, — подумал Андрей. — Нужно быстрее кончать с ним».
Разжав зубы, он вскочил на ноги и, выхватив из кармана пистолет, два раза в упор выстрелил в кулака.
Максим дернулся и застыл в неподвижности.
Андрей на какое-то мгновение словно окаменел. Однако нельзя было терять ни одной минуты, и он, схватив винтовку кулака, бросился бежать.
Запнувшись о корень дерева, он упал, но тут же вскочил и побежал дальше и вдруг услышал, как над головой у него просвистела пуля. Он обернулся и увидел вдалеке толстого Фомича, который целился в него. Видимо, пистолетные выстрелы насторожили кулака и он бросился на помощь Максиму. К счастью, расстояние между Андреем и кулаком было уже приличным, а поскольку Андрей бежал, попасть в него было не так-то легко.
Андрей не удержался от искушения и, погрозив Фомичу кулаком, побежал дальше. Фомич не рискнул догонять его и больше уже не стрелял.
Когда Андрей приблизился к позиции красных, они, не зная, кто к ним бежит, открыли по нему стрельбу. Он упал на землю и во всю силу легких закричал:
— Не стреляйте! Товарищи, я свой!
В ответ на стрельбу красных начали стрелять со своих позиций и белые.
Спасло Андрея только то, что его одежда полностью слилась с цветом травы и листьев и его невозможно было заметить на фоне зелени. Лишь одна из пуль, выпущенных из окопов белых, пробила ему фуражку, но этого он в тот момент даже не заметил. И лишь позднее, когда оказался в безопасности, он увидел дырку от пули и понял, что смерть прошла от него буквально в сантиметре.
Хорошо зная местность вокруг, Андрей понял, что красные выбрали великолепное место для своей позиции. Белые оказались в значительно худшем положении. Андрей по-пластунски пополз к красным, умело используя малейшую вымоину или складку местности.
— Кто такой? Откуда идешь? — спросил Андрея красноармеец, к которому он подполз.
Андрей объяснил, что ему немедленно нужно увидеть комиссара Игнатова.
— А винтовка у тебя откуда?
— У кулака отобрал.
— А где этот кулак?
— Убил я его.
— Убил?
— Да, из своего пистолета.
— Толковый ты парень! Пошли!
Комиссара Игнатова долго разыскивать не пришлось. Он находился в цепи роты возле пулемета.
Андрей коротко обрисовал комиссару сложившуюся обстановку и сообщил, что группа Тамаша срочно нуждается в помощи.
Игнатов внимательно выслушал Андрея, а затем спросил:
— Как ты думаешь, сколько они смогут продержаться?
— Не очень долго. Им нужна немедленная помощь. Ну, хотя бы человек десять. Дорогу туда я знаю хорошо и так проведу бойцов к дому кулака Матвея, что никто и не заметит. Сначала через рощу, а потом садами… Главное — отсюда выползти…
— Как же ты собираешься вести наших людей, чтобы их никто не заметил?
— Я поползу первым. За мной, на удалении четырех-пяти метров, бойцы. До кустов доползем, а там уже можно идти пригнувшись. Метров сто пройдем и очутимся в густом лесу… А дальше по тропке. Толстого Фомича обойдем стороной или снимем его пулей. А как разобьем белых, что Тамаша окружают, вернемся обратно и, зайдя с тыла к вашим белякам, вместе зададим им перцу. На все это уйдет часа два, не больше…
Комиссару Игнатову план Андрея понравился. Игнатов сам прополз по позиции, лично отбирая бойцов для предстоящей дерзкой операции.
— Ну, успеха вам, товарищи! — напутствовал комиссар красноармейцев.
Чтобы отвлечь внимание белых, комиссар приказал пулеметчикам открыть огонь по позициям врага и тем самым дать смельчакам возможность благополучно добраться до леса.
Белые, не поняв замысла красных, открыли ответный огонь. Под прикрытием этой стрельбы возглавляемая Андреем группа довольно быстро добралась до опушки леса.
Толстяк Фомич разинул рот от изумления, когда перед ним совершенно неожиданно предстал Андрей. Кулак сразу же схватился за винтовку, но выстрелить не успел: один из бойцов выстрелил ему прямо в лоб.
Теперь до самого села можно было идти без опаски. Андрей действовал строго по плану, который он изложил комиссару Игнатову. Более того, к сгоревшему дому кулака Матвея Андрей подвел бойцов сбоку, чтобы они случайно не оказались в секторе обстрела белых, которые, к слову говоря, бойцам были хорошо видны.
Еще по дороге Андрей условился с бойцами, что он будет подавать команды одними жестами.
Таким образом одиннадцать смельчаков зашли к белым с тыла и фланга совершенно неожиданно, словно с неба свалились. Помощь Тамашу подоспела в полном смысле слова в последнюю минуту…
После ухода Андрея со двора кулака события там развивались следующим образом. Белые бросили в убежище группы Тамаша ручную гранату, которая особого вреда не причинила. Только Смутни был легко ранен в руку. Тимар сделал Лайошу перевязку, разорвав на бинты одну из рубашек Матвея. Самому Тимару пуля слегка задела плечо. Петр был ранен в левую руку.
Мишка Балаж, не переставая стрелять, отчаянно ругался. Вскоре он почувствовал, что пуля обожгла ему лицо, и схватился за щеку: рука оказалась в крови. Пришлось перевязать и его…
Белые не спешили атаковать укрытие, чтобы не нести лишних потерь. Пока они ограничивались перестрелкой. Положение осажденных усугублялось тем, что бойцы сильно страдали от жажды, а выйти за водой не было никакой возможности. Андрей почему-то все еще не возвращался.
«Неужели Андрей не добрался до своих, неужели погиб в пути? — беспокоился Имре Тамаш. — А тут сиди и жди неизвестно чего. Да еще у Билека начали сдавать нервы: уж больно болезненная у него рана».
И вдруг Имре услышал стрельбу. Стреляли откуда-то сбоку, но не по ним, а по белым.
— Эй, Андрей! Это вы?! — громко крикнул Тамаш.
— Мы! Держитесь, ребята! — послышалось в ответ. — Сейчас добьем беляков и придем к вам!
И снова стрельба… Взрывы гранат… Белые почему-то не отвечали. Может, с ними уже покончено?
— Ура-а-а! — раздался громкий крик, и десять бойцов во главе с Андреем вскочили с земли и бросились в атаку на позицию белых. Бежавший рядом с Андреем боец упал на землю.
«Убит или ранен?» — мелькнуло у Андрея, но он не остановился, потому что понимал: останавливаться сейчас ни в коем случае нельзя. Широко размахнувшись, Андрей бросил гранату и крикнул:
— Ребята, ложись!
Через несколько минут Имре уже обнимал Андрея. Бойцы радостно хлопали друг друга по плечу.
Венгры первым делом бросились к колодцу и долго утоляли жажду. Затем они на скорую руку привели себя в порядок, перевязали раненых.
Андрей передал Тамашу приказ комиссара Игнатова двигаться в расположение роты и по мере возможности оказать ей помощь, зайдя в тыл противнику.
Имре Тамаш был готов выполнить приказ комиссара. Единственным, что затрудняло его выполнение, были раненые: Билек не мог самостоятельно двигаться, а другие раненые ослабели от потери крови.
Мишка Балаж решительно заявил, что хоть на край света пойдет с бойцами, а Тимар просто молча встал в строй. Смутни же так цветисто выругался, что все поняли: спорить с ним бесполезно. И лишь один Билек безнадежно опустил руки.
— Черт бы побрал этих белых! — проворчал он.
— Товарищ Билек, ты на время останешься в нашем укрытии, — распорядился Тамаш. — Мы вернемся за тобой…
Незаметно подойдя к белым с тыла, группа Тамаша и бойцы, которых привел Андрей, открыли огонь по позиции врага, и это так ошеломило белых, что они растерялись. Несколько человек даже бросились бежать.
Группа, которую возглавлял комиссар Игнатов, со своей стороны тоже открыла огонь. В рядах противника началась паника. Бой продолжался недолго: оставшиеся в живых белые предпочли сдаться.
— Товарищ Игнатов, большое спасибо вам за помощь, — поблагодарил Тамаш комиссара.
Игнатов по-дружески обнял Имре и ответил:
— Ты и не представляешь, какую услугу сам со своими людьми оказал роте. Противник захватил нас, можно сказать, врасплох: мы даже не успели собрать взвод в одном месте. Стародомов исчез неизвестно куда, словно в воду канул…
— Ясно, товарищ Игнатов. Кулак Матвей, в доме которого мы остановились, признался, что наш ротный был тесно связан с белыми.
— Интересно…
— Ну и куда же он мог деться?
— Кто его знает, — проговорил комиссар. — Возможно, убит, а может, и жив…
— Вполне возможно, что прячется где-нибудь. Нужно будет обшарить все село.
— Это ты верно говоришь. Нельзя ставить роту под новый удар.
Солнце медленно клонилось к закату, расцвечивая огненными красками облака. Красноармейцы спешили: нужно было успеть разоружить сдавшихся в плен белых, затем поместить их в надежное место и уж только после этого можно было начинать прочесывать село.
Обыск домов почти ничего не дал, потому что беляки успели сбежать. Зато многие кулаки сидели по своим домам. Им было приказано собрать и захоронить всех убитых.
Комиссар послал людей на розыски попа, но того нигде не могли найти. Между тем удалось узнать, что в заговоре он играл далеко не последнюю роль. Несколько позднее обнаружили труп: поп застрелился, когда узнал о разгроме белых.
На следующий день комиссар разрешил бойцам отдыхать до самого обеда, а после обеда красноармейцы привели пятерых рослых кулаков во двор дома Матвея. Руководил этой группой Лайош Смутни.
— Слушайте меня внимательно, — обратился Лайош к кулакам. — Вы будете продолжать раскапывать вот эту яму. В ней находятся тела расстрелянных белыми красноармейцев. Работать быстро, но осторожно, чтобы не повредить трупы… Если замечу, что кто-нибудь из вас нарушил это мое указание, тому без предупреждения пущу пулю в лоб!
Предупреждение Смутни оказалось кстати, так как очень скоро в разрытой земле показались трупы. Тлен еще не тронул их.
Из кармана одного убитого выглядывала бумага. Тамаш взял ее и развернул. Это оказалось письмо. От сырости буквы расплылись, но все же письмо с трудом удалось прочитать. Оно было написано неровным детским почерком и адресовано венгерскому солдату по имени Андраш, в лагерь для военнопленных, в далекую Россию. Домашние желали здоровья солдату, которого военная судьба занесла так далеко, и одновременно сообщали ему, что дядюшку Иштвана тоже забрали в солдаты, угнали на фронт и оттуда с тех пор от него ни слуху ни духу.
По другим документам удалось установить, что второй убитый был боец-украинец, третий — австриец Курт Шнайдер. На всех трупах виднелись следы пыток, у всех троих были отрезаны носы и уши. Четвертый труп был настолько изуродован, что только по разрезу глаз можно было предположить, что это или татарин, или китаец, или якут. В кармане френча пятого была найдена справка, выданная на имя некоего Вуковича. Следовательно, это был хорват… Затем откопали двоих русских и венгра по фамилии Бени Цитераш…
Во дворе кулака Матвея было закопано десять трупов. А кто знает, сколько таких ям с трупами замученных красноармейцев имелось еще в селе?
Рядом с жертвами белого террора положили и погибшего в бою русского. Только в одном дворе одиннадцать трупов — красноармейцы, жертвы белогвардейского произвола: русские, украинцы, венгры, немцы, хорваты, поляки, румыны…
Во взводе Тамаша был убит всего один солдат и несколько человек ранено. Зато в других взводах, особенно в тех, что закрепились за селом, потери были гораздо больше: пятеро солдат убито и двадцать ранено.
Пленные на допросе показали, что они уже давно поддерживали контакт со Стародомовым, который еще до революции приезжал к ним в село для закупки кож. Предателю Стародомову было хорошо известно, что в селе расположено довольно крупное подразделение белых, которые попрятались по кулацким дворам. На тайной встрече с белым командованием было решено перебить роту ночью, когда бойцы будут спать. За эту измену Стародомову была обещана приличная сумма золотом.
Сколько ни искали бойцы предателя, он словно в воду канул. Его не нашли ни среди пленных, ни среди убитых. Ходили слухи, что он бежал вместе с белыми офицерами…
Всех убитых и замученных красноармейцев было решено похоронить в братской могиле в самом центре села, а над могилой установить деревянную пирамиду, украшенную пятиконечной красной звездой. Андрей собственными руками смастерил и пирамиду, и звезду.
На похороны красноармейцев собралось много народу. Взвод красноармейцев был выстроен для почетного караула. На могилу, засыпанную свежей землей, легли полевые цветы.
Надгробную речь произнес комиссар Игнатов. Его голос дрожал, когда он начал говорить:
— Товарищи, дорогие друзья, мы собрались сюда, чтобы отдать последние почести…
КИПЯЩИЙ КОТЕЛ СИБИРИ
Магазин строили из красного кирпича. Стены здания возвели уже до второго этажа. Планировалось закончить само здание до наступления сильных холодов, а отделочные работы можно было производить и зимой.
На лесах, словно застыв, неподвижно стояли русские рабочие и каменщики из числа пленных. Бородатый громкоголосый подрядчик принимал работу, обращая особое внимание на качество кладки.
— Ну-ка, натяни шпагат! — время от времени покрикивал подрядчик, перегибаясь через возведенную стену, такую широкую, что, казалось, за ней не страшен никакой, даже сибирский, мороз.
Поскольку работа была срочной, пришлось допустить на стройку пленных немцев и венгров.
Керечен работал рядом с Дмитрием Павловичем Силашкиным, внимательно приглядываясь к каждому движению Силашкина, имевшего большой опыт такой работы.
— Ничего, опыт — дело наживное, — успокоил Иштвана русский каменщик. — Смотри на меня и делай все, как я. Не боги горшки обжигают. Пока не торопись, однако клади точно в ряд… Через несколько дней будешь работать так, будто всю жизнь только этим делом и занимался.
Сам Силашкин работал споро и красиво. Сначала он учил Керечена, подсказывал ему, а затем стал только приглядывать за ним.
Иштван оказался на редкость понятливым учеником: он очень быстро усвоил все основные операции и подгонял кирпичик к кирпичику ровнехонько. И если в первые дни десятник, наблюдая за Иштваном, недоверчиво качал головой, то теперь он даже не обращал на венгра ни малейшего внимания.
Никто на стройке не знал второго имени Иштвана. Перед уходом в город Керечен долго советовался по этому поводу с Шандором Покаи. В лагере шпики знали его под фамилией Ковач и разыскивали такового. А вот об Иштване Керечене никто не слышал. Все, кто вместе с ним плыл на пароходе, наверняка убиты, следовательно, под своей фамилией он будет чувствовать себя спокойно. Шура называла его Иосифом.
На стройке работало несколько китайцев. По-русски они говорили плохо, их очень трудно было понять. Работали они молча. Китаянок на стройке вообще не было видно. Наверно, одни мужчины бежали из Китая от голода и нищеты. А если все-таки и были женщины, то они, видимо, прятались по квартирам, предпочитая никому не показываться на глаза, потому что в те времена случалось, что китайцев избивали во время погромов.
— Помню я, — начал рассказывать Силашкин, — как пьяные царские офицеры после очередной ночной попойки на окраине города начали охотиться за «косоглазыми» — так они называли китайцев.
Занимался рассвет, а у офицеров все еще не выветрился хмель. Когда в конце улицы появился китаец, они открыли по нему стрельбу из пистолетов. Китаец упал, и снег под ним сразу же окрасился кровью. На помощь к нему поспешил второй китаец, нагнулся над лежащим, чтобы поднять его, но в этот момент пуля пробила ему голову. За несколько секунд — сразу двое убитых. Офицеры же, как ни в чем не бывало, довольно расхохотались, будто подстрелили не людей, а диких кабанов в дремучем лесу. Не думайте, что полиция пыталась найти убийц. Да об этом и речи быть не могло, потому что среди офицеров оказался сам начальник полиции.
Смерть китайцев никого не интересовала.
— Мне трудно поверить, что такие случаи возможны, — удивился Керечен.
— Еще как возможны! Ведь Сибирь при царизме была местом ссылки заключенных, главным образом политических. Для надзора за ними царские власти присылали, сюда самых грубых и жестоких полицейских и офицеров…
Силашкин долго рассказывал Иштвану, как русские большевики, уйдя в глубокое подполье, вели в годы войны революционную пропаганду и агитацию среди солдат, как в городе стоял пехотный полк, который не только нес караульную службу, но и охранял лагеря военнопленных.
Только теперь Керечену стало понятно, как Людвигу и его людям удавалось входить в контакт с русскими.
Дмитрий Павлович рассказал и о том, как в царской армии обучали молодых солдат. По программе на их обучение отводилось двести часов, за которые новобранцы должны были изучить оружие, вызубрить имена всех членов царской фамилии и уставы. Выходить в город солдатам, как правило, не разрешали. Их водили строем в церковь и лишь изредка отпускали на побывку к родственникам. Дисциплина в армии в полном смысле слова была палочной, так как солдат за малейшую провинность получал оплеухи и зуботычины. Большинство солдат, которые до призыва жили в селах и занимались землепашеством, были неграмотны. Царя-батюшку такое положение вполне устраивало. До 1916 года ссыльных поселенцев в армию не брали, а как только началась первая мировая война, начали «забривать» и их. Они же, попадая в часть, часто приносили с собой большевистские газеты и листовки. Возможно, в результате этого в 1916 году резко увеличилось число дезертиров из армии.
Он рассказал еще и о том, как большевики вели борьбу в Красноярске, восторженно отзывался о Лазо, Шумацком, Яковлеве и других…
В Красноярске в те годы было полно солдат-пехотинцев и казаков. Царское правительство старалось создать в самом центре Сибири свой опорный пункт, однако именно здесь зародились силы сопротивления. В этом городе берегли славные традиции пролетарской революции, и не случайно именно Красноярск был одним из первых городов Сибири, в котором вспыхнуло пламя революционного восстания.
Ни одна из существовавших в ту пору партий не пользовалась таким авторитетом у народных масс, как большевистская партия. Не страшась белогвардейского террора, народ шел за большевиками, которые одерживали над врагом одну победу за другой.
Обо всем этом Дмитрий Павлович Силашкин и рассказал Керечену. Он говорил неторопливо, спокойно. Никому и в голову не пришло бы, что двое рабочих, закусывающих прямо на лесах, могут говорить о таких вещах.
А потом рассказывал Керечен. Он ничего не утаил от своего нового русского друга. Силашкин слушал его с интересом. Единственное, что не понравилось Силашкину, — это драка, которую Иштван учинил с Драгуновым на пустынном берегу Енисея.
— Видишь ли, — начал он, — необходимости в ней не было. Ты действовал не из убеждений, а только из желания отомстить. Важно рассчитаться не с одним Драгуновым, а со всем белым режимом… В Венгрии подавлена в крови советская республика… Если вы настоящие коммунисты, то вы перейдете на нашу сторону. А Драгунов — это пешка. Из-за этого случая ты мог иметь крупные неприятности. Вот когда мы захватим власть в свои руки, тогда уничтожим и этих гнид!
— Если найдете их. Где тогда будет этот тип? В Иркутске, в Чите ли?
Черноволосый подрядчик, сложив ладони рупором, громко прокричал на всю стройку:
— Бросай работу! На сегодня хватит!
Силашкин неторопливо привел в порядок свой инструмент. Керечен ждал, пока он закончит.
— Хочу кое-что тебе сказать, — начал Силашкин. — Я вовсе не уверен, что твой знакомый Драгунов подался дальше, на восток. Знаешь, сколько дезертиров сейчас в армии Колчака? А долго ли скрыться такому негодяю? Достал гражданский костюм, фальшивые документы — и живи себе… И искать его никто не станет, сейчас не до того…
Шура тоже работала на стройке. Она подносила на леса кирпичи, раствор. Получилось так, что, обслуживая и Керечена, она, по сути дела, весь день была у него на глазах.
Попрощавшись с Кереченом за руку, Силашкин пошел домой. Шура догнала Иштвана и, ласково улыбнувшись, спросила:
— Иосиф, пойдем домой?
— Домой, Шурочка, домой!
— Дедушка что-то плохо чувствует себя сегодня. Жаловался, что сердце болит. До этого он никогда не жаловался… Сегодня мы леса разбирали, так он во-от такую балку один тащил. Может, надорвался?
— А зачем ты разрешаешь ему такое? — упрекнул Керечен Шуру. — В его возрасте беречься нужно…
— Ты правильно сказал, только не ругайся!
Они спустились с лесов, которые, словно живые, ходили под ними.
— Жидкие у нас леса, — заметил Иштван, — такие жидкие, что только и гляди, как бы не сорваться…
Когда они пришли домой, Шура, слышавшая часть разговора Силашкина с Кереченом, озабоченно спросила:
— Иосиф, скажи мне, кто такой Драгунов? Что ему от тебя надо?
— Ничего, ничего, не беспокойся, Шурочка! Ничтожный негодяй это, не больше… Я тебе о нем как-то уже рассказывал… Когда мы бежали с парохода «Чайка», помнишь? Этот негодяй был на пароходе…
— Он бил вас?
— Да.
— И сейчас он в городе?
Иштван усадил Шуру напротив, взял в свою руку ее теплые пальцы, изъеденные известковым раствором, и все рассказал ей.
— Это ужасно! — проговорила Шура, выслушав его. — Раньше ты мне этого не рассказывал.
— А зачем было рассказывать? Ничего приятного тут нет.
— Что же будет, если он случайно встретит тебя в городе и узнает?
— Этого я не боюсь. Не узнал же он меня в лагере, а там я стоял перед ним, как вот сейчас перед тобой.
— А кому из наших ты о нем рассказывал? — спросила Шура.
— Кроме Силашкина и Покаи, никому…
— Это хорошо. Ну, больше я тебя одного никуда не отпущу. Все время будешь со мной! Хватит, ты отвоевался, отстрадал свое, теперь пусть другие воюют, те, кто до сих пор скрывался… А с тебя хватит!
— Шурочка, я опасности не ищу, она меня находит сама.
— Ну, тогда я тебя беречь буду.
— Беречь? А я думал, что это мне тебя беречь нужно… Я думаю, Шурочка, будет лучше, если мы скроем от других наши отношения, хотя бы до тех пор, пока Красная Армия сюда не придет. Тогда другое время настанет… Я женюсь на тебе, увезу в Венгрию. У нас там климат хороший, тепло, а в саду растут черешни, абрикосы, виноград. Поживешь немного и станешь настоящей мадьяркой, а звать тебя будут Шарика…
— Как ты сказал?
— Шарика. По-вашему — Шура, по-нашему — Шари. Чувствуешь, какое ласковое, слово — словно шелк?.. Поедешь со мной?
Услышав его слова, Шура разрыдалась.
— Не могу, Иосиф… — заговорила она сквозь слезы. — Я не могу оставить деда одного. Лучше ты сам здесь оставайся. Зачем тебе туда возвращаться? Там сейчас коммунистов убивают, дедушка читал в газете, не в колчаковской, а в красной газете… Ты же знаешь, что у красных свои газеты. Правда, читать их можно только тайно. Прочтешь и передашь надежному человеку.
В дверь постучали. Шура тут же отодвинулась от Иштвана, вытерла слезы. Вошел Ульрих, знакомый Керечена по лагерю. Ульрих был другом Мано Бека. Мужчины пожали друг другу руки. Ульрих свободно с легким иностранным акцентом говорил по-русски.
— Я ненадолго заберу от вас этого человека, — сказал Шуре Ульрих. — Давненько я с ним не разговаривал.
Шура улыбнулась:
— Пожалуйста!
Ульрих сразу же заговорил по-венгерски.
— Ну наконец-то ты сделал умный шаг, — начал он, — ушел из этого проклятого лагеря. Ты сегодня занят?
— Нет.
— Тогда пойдешь со мной.
— Куда?
— Ко мне на квартиру.
— Охотно… Скажи, а чем ты, собственно, занимаешься?
— Меня направили помощником провизора в одну из городских аптек. Владелица аптеки осталась одна, некому было работать… А получилось это так. Поехал я как-то в город за покупками. Заболела у меня голова, и пришлось мне зайти в аптеку купить аспирин. Разговорился я в аптеке с хозяйкой и, разумеется, сказал ей о том, что я по образованию фармацевт. «Вас мне сам бог послал! — воскликнула хозяйка. — Мне позарез нужен провизор». Представь себе, как я обрадовался! Заниматься чистой работой, по специальности, работать у красивой вдовушки… «Согласен», — ответил я ей. Через неделю со всеми формальностями было покончено, и вот уже два месяца, как я работаю и живу в городе…
— У красивой вдовушки? — спросил Керечен.
— К сожалению, нет. У нее нет такой квартиры, но, откровенно говоря, мне даже лучше, что я живу на квартире у других хозяев. Когда придешь, увидишь, какая хорошая у меня комнатка.
Вечером, приведя себя в порядок, Керечен отправился к Ульриху.
Комната у Ульриха оказалась действительно неплохая, разумеется, по тому времени: кровать, застланная чистым бельем, круглый стол, красивый шкаф, четыре стула, на стенах несколько картин, писанных маслом, и целая серия небольших рисунков, снабженных шутливым стихотворным текстом, смысл которого сводился к высмеиванию забот женатого человека, а над всем этим был написан лозунг: «Не женись, брат Лука!»
— Ты что, сделался заядлым холостяком? — спросил Керечен.
— Черта с два! — Ульрих скорчил гримасу. — Все бы хорошо, да только я терпеть не могу хозяина. У него красивая жена, очень миленькая четырнадцатилетняя дочка. А сам он похож, скорее, если не на попа, то на дьячка. Один раз я специально пошел в церковь, чтобы послушать его. У него густой бас. Сам он здоровенный такой мужик, постоянно пьет да бьет жену.
— Хороша семейка! — заметил Керечен.
— Это еще не все! Этот зверь постоянно ругается с женой. Думаю, все это от пьянства идет. Девочка, разумеется, очень страдает…
— Неужели есть такие звери-отцы? — спросил Керечен.
— Такого я вижу впервые…
В этот момент из соседней комнаты донеслось торжественное пение.
— Это он, — шепнул Ульрих. — Когда он трезв, то поет псалмы.
— Выходит, он чтит бога, — заметил Керечен.
— По-своему только. Представь себе, что для меня он является своеобразным политическим барометром. Два месяца назад, когда я поселился в его доме, он был закоренелым антикоммунистом, готовым лично уничтожить всех большевиков. Тогда он вовсю распевал «Боже, царя храни». Но ты бы послушал, что он теперь говорит! Это свидетельствует о том, что не сегодня-завтра в городе будут красные.
Разговаривая, Ульрих достал из шкафчика банку французских консервов, чтобы приготовить ужин. Это была тушеная свинина, чем-то приправленная.
— Вкусная у тебя тушенка! — похвалил Керечен, подбирая куском белого хлеба подливку. — Ты, как я вижу, живешь в свое удовольствие, Фери!
— Не жалуюсь пока. Но на одно жалованье так, разумеется, жить не будешь. Я, дружище, занимаюсь торговлей.
— А именно?
— Торгую рубашками, штанами, поясами, консервами, коньяком… Знаешь, какой я ловкий! — С этими словами он достал бутылку французского коньяка и наполнил рюмки. — Твое здоровье!
— А это откуда? — поинтересовался Керечен.
— Сейчас расскажу… В плену я научился говорить по-французски. Я много читаю, но вот разговаривать мне не с кем. Правда, месяц назад зашел ко мне в аптеку один солдат-француз, попросил вазелина. По-французски попросил. Я понял его и ответил по-французски. И знаешь, он нисколько не смеялся над моим произношением. На следующий день он снова пришел в аптеку и спросил, умею ли я говорить по-русски. Я ответил, что умею. Тогда он протянул мне написанную по-французски бумажку и попросил перевести на русский, а перевод написать крупными буквами на куске картона. Я перевел, и получилось следующее: «Каждый вечер принимаю очень красивых и здоровых женщин. Плачу от сорока рублей и выше».
Вывеска удалась на славу. Француз — звали его Августом — остался доволен и в знак благодарности подарил мне бутылку французского коньяка. Меня разбирало любопытство, и я спросил, зачем ему понадобилось такое объявление. Француз объяснил мне, что вывеска нужна не ему, а его хозяину, господину лейтенанту Пьеру Дурану. Лейтенант не имеет времени ухаживать за женщинами, да и по-русски он не говорит, вот он и выставит это объявление в окошке, которое выходит на улицу.
Керечен засмеялся.
— Ну и каков же результат? — поинтересовался он.
— Август рассказывал, что объявление свое дело сделало. Августу тоже перепало кое-что.
— Ужасно! Что сказали бы французские офицеры, если бы нечто подобное творили в их стране иностранцы?
— Я и сам спрашивал об этом Августа, и он ответил, что в Париже можно обойтись и без объявления, там легкомысленных женщин хоть пруд пруди.
— Ну, а тебе-то какая от этого польза?
— Я подружился с Августом. Он начал продавать мне грязное офицерское белье, и даже не продавать, а отдавать даром, так как колчаковские деньги ему ни к чему… С тех пор я и торгую этим бельем. Тебе могу кое-что дать. Думаю, ты не обидишься.
— Нет, конечно. Белье мне действительно нужно.
— Ну так я тебе уже подготовил сверток, а внутрь положил несколько банок консервов и бутылку коньяку.
— Спасибо. Скажи, а ты не торгуешь с представителями других армий?
— Как же, конечно торгую… Интервенты крадут все, что им под руку попадет… Они растащили все склады. У англичан, например, ты можешь купить шерстяной плед, у американцев — консервированные ананасы и сигареты с опиумом, у белочехов — все, что пожелаешь: сапоги, ботинки, продовольствие. Итальянцы торгуют рыбными консервами. Они, пожалуй, беднее других. Что-то их уже не видно, не удрали ли они на родину?
— И что же они увозят с собой?
— Золото, драгоценности, старинные иконы. Девицы из богатых русских семейств дают по два кило золота за брачное свидетельство, по которому они могут выехать из страны. Ох, скольких же обманут эти иностранцы! Домчат их господа офицеры до Владивостока да и бросят там, а золотишко с собой увезут!
— А как ведут себя русские офицеры?
— Меня они не обижают, — ответил Ульрих. — Я человек маленький, чего мне с ними разговаривать? Денег у них, как правило, нет. Я заметил, что они не очень-то надеются на Колчака. А красных они просто боятся. Вчера я стал невольным свидетелем разговора моей хозяйки с одним офицером, поручиком. Из их слов я понял, что белые уже не верят в победу. Поручик рассказал, что новобранцы, которых посылают на фронт, дезертируют еще по дороге, а если попадают на фронт, то перебегают к красным…
От коньяка у Иштвана слегка закружилась голова. Поблагодарив Ульриха за угощение и подарки, он пошел домой.
Дед уже спал. Шура была в комнате одна. Иштван угостил ее коньяком, дал банку консервов. Когда Шура потушила лампу и легла в постель, он подошел к кровати, сел на краешек и поцеловал девушку в губы.
— Я очень люблю тебя, Шура, — прошептал Иштван.
— Я тебя тоже… Послушай меня, Иосиф, — Шура придвинулась к Иштвану. — У меня такое чувство, что я умру молодой… Что ты со мной делаешь? Боюсь, что, когда кончится эта война с белыми, ты уедешь к себе на родину, а меня оставишь…
— Я заберу тебя с собой, — решительно сказал Керечен.
— Но я не смогу оставить дедушку одного.
— А твоя сестра?
— Нет, на нее надежды мало.
— Почему?
— Она легкомысленная очень. Только мужчины у нее в голове. Подожди, она и тебе начнет голову морочить. Деда она не любит, пьет много, и муж ее тоже пьет…
На глазах у Шуры появились слезы. Иштван обнял ее, начал целовать. Шура отвечала на его поцелуи…
Они долго лежали молча, а затем Шура еле слышно спросила:
— Скажи, что мне делать, если у меня будет ребенок?
Керечен погладил ее по голове:
— Хорошо бы, но только не сейчас.
— Сыночка бы от тебя!
— Не надо об этом…
— Хорошо, не буду… Ты только люби меня!
— Я тебя люблю.
— А знаешь, что каменщики ревнуют меня к тебе?
— Не знаю…
— Они меня спрашивают, зачем я так подолгу разговариваю с «этим пленным», то есть с тобой… Упрекают, что я не найду себе ухажера из русских…
— И что же ты им говоришь?
— Говорю, что им нет никакого дела до того, с кем я разговариваю. С кем хочу, о тем и разговариваю…
— Гм…
— Что ты хмыкаешь, словно медведь? Иди ложись спать, завтра ведь на работу нужно. Спокойной ночи!
Едва Иштван ушел, проснулся дед и позвал ее.
— Я здесь, дедушка.
— Ну, тогда ладно… А то мне приснилось, что ты снова уехала в Екатеринбург к дяде Володе…
— Никуда я не уехала… Здесь я, рядом с вами, дедушка…
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕДЫШКА
Бойцы так устали за день, что сразу же повалились спать. Бодрствовали лишь дозорные, которых выставили для охраны роты. Но в ту ночь ничего подозрительного они не заметили.
И лишь один человек из тех, кто мог спокойно спать, не сомкнул глаз. Это был Петр. Он накормил и напоил оставшуюся без хозяина скотину кулака Матвея, почистил лошадей, подоил коров. Переодевшись в одежду кулака, Петр сразу стал почти неузнаваем. Вся семья Петра работала вместе с ним. Детишки с удовольствием пили парное молоко.
Имре Тамаш лег и заснул, но его разбудили. Открыв глаза, он увидел возле себя комиссара Игнатова.
— Сколько же я спал? — Имре вскочил.
— Целых три часа, — сказал Игнатов.
— Бойцы спят?
— Да.
— Прямо в обмундировании и сапогах?
— Конечно.
— Ну тогда все в порядке.
— Сейчас кругом тишина. Я тебе вот что хочу сказать: у нас гость.
— Кто такой?
— Дмитрий Сергеевич Акулов.
— Командир полка?
— Да. Его вторая и третья роты уже начали преследование отходящего противника. Нам приказано немедленно явиться к товарищу Акулову.
— И мне тоже? — удивился Имре.
— Тебе в первую очередь.
— Это почему же?
— Я и сам не знаю. Приказано, и все.
— Сейчас, я только умоюсь.
— Некогда умываться.
Тамаш пригладил волосы рукой и обтер лицо носовым платком.
— Быстрее! — торопил его комиссар.
Товарищ Акулов ожидал их в избе, где размещалась сельская управа. Он приветливо улыбнулся и за руку поздоровался с Игнатовым и Кереченом.
Акулов был красивым высоким мужчиной средних лет. Особенно красила его улыбка, открытая и добрая.
— Прошу садиться, товарищи! — предложил Акулов. — Я хотел бы немного побеседовать с вами. Сейчас принесут обед, так что вместе и пообедаем.
Через несколько минут стол был накрыт.
— Уж вы извините меня, но спиртного не будет, — проговорил Акулов. — Не то сейчас время. Вот разобьем врагов, тогда и выпить можно будет за здоровье оставшихся в живых и в память о погибших.
— Спасибо, товарищ командир полка, о выпивке мы и сами не думаем, — сказал Имре.
— Знаю… Мне рассказывали о вашей роте. У вас в роте был один любитель выпить — это предатель Стародомов, который так долго скрывал свое истинное лицо. А ведь вы, товарищ Тамаш, были правы, когда жаловались на ротного. Не скрою, мы виноваты в том, что вовремя не прислушались к вашему сигналу. Стародомова сразу нужно было бы снять с должности и арестовать. Я и сам не понимаю, как мы могли так оплошать… Заняты мы очень, забот полно, вот мы и не обратили должного внимания на Стародомова…
— Мерзавец этот Стародомов, — тихо заметил Игнатов.
В ходе расследования было установлено, что Стародомов за свою измену получал от кулаков деньги. Когда же красные захватили село, кулаки решили, что Стародомов их предал, и ему ничего больше не оставалось, как застрелиться, что он и сделал.
— Командование полка, — продолжал Акулов, — отмечает заслуги Имре Тамаша, взвод которого сражался героически. Я решил, товарищ Тамаш, назначить вас командиром роты, которой командовал Стародомов. Не возражаете?
Имре покраснел, услышав похвалу.
— Благодарю за доверие, товарищ командир полка!
— А троим вашим бойцам — Билеку, Тимару и Смутни — я объявил благодарность в приказе по полку. Правильно вы сделали, что перезахоронили останки красноармейцев-интернационалистов. Об этом я прошу доложить мне письменно с указанием имен и фамилий. Вашей роте предоставляю двухдневный отдых: пусть бойцы как следует отдохнут и приведут себя в порядок. В баньке помоются. Мыло им уже выписано. За чистоту тоже надо бороться.
— Слушаюсь! — ответил Тамаш.
— Имейте в виду, — продолжал Акулов, — что на войне сражаются не только с противником. — Командир полка развернул несколько плакатов, которые призывали вести борьбу с тифом и холерой. — Эти плакаты, товарищ комиссар, распространите среди бойцов. Наряду с политико-просветительной работой немалую роль играет сейчас пропаганда санитарии и гигиены. Я полагаю, что в этом отношении у нас далеко не все благополучно. А тиф сейчас косит людей, что твой противник. Вы, видимо, уже слышали, что в армии Колчака участились случаи заболевания тифом и холерой?
Игнатов беспокойно заерзал на стуле.
— Мы уже получили брошюры, в которых разъясняется опасность эпидемий, — ответил он, — но, к сожалению, бойцы, вместо того чтобы читать их, используют бумагу на курево.
— Об этом я тоже слышал. И так поступают не только в вашей роте. — Акулов покачал головой. — Виноваты в этом и командир, и комиссар — оба в равной мере. Завтра наш полковой врач расскажет бойцам о профилактике этих заболеваний. А как у вас в роте, вши имеются?..
— Бывает, попадаются, — признался Тамаш.
Командир полка снова покачал головой:
— Насекомые — это основной разносчик заразы. Белье и обмундирование при любой возможности следует кипятить. С заболевших тифом обмундирование сжигать! Случаи заболевания цингой в подразделении есть?
— Пока, к счастью, не было.
— Тут на счастье надежда маленькая. Пусть бойцы едят сырую репу.
— Товарищ командир полка, — начал Тамаш, — бойцы уже две недели спят не раздеваясь и не снимая обуви. Хочу разрешить им сегодня спать раздетыми…
— И правильно сделаете. Кроме того, пошлите людей на полковой склад, пусть получат на каждого бойца по пачке хороших папирос, по банке мясных консервов и куску сахара. Пусть едят на здоровье!
— Этому они очень обрадуются, — заметил Тамаш. — Товарищ комполка, разрешите доложить, что в боях за село особенно отличился Андрей Максимович Лабадкин, из местных, бывший красноармеец. В прошлом году его до полусмерти замучил кулак Матвей, во дворе которого мы обнаружили трупы жертв белого террора. Андрей хочет примкнуть к нам.
— Я о нем уже слышал. Храбрый человек! Я позабочусь о том, чтобы его тоже наградили… Докладывали мне и о Петре Ильиче Бухнове. Ему пусть отдадут одну корову из коровника кулака…
Игнатов радостно заулыбался:
— Для Петра большей радости и быть не может! Вся семья у него голодает.
— Вот, собственно, и все, о чем я хотел с вами поговорить… Не обольщайтесь одержанными победами: враг только дрогнул. Нам еще предстоят тяжелые бои… Правда, резервы у нас еще имеются. На фронт не сегодня-завтра прибудут новые части… Остальные распоряжения получите в приказе.
Спустя час рота была построена. Комиссар Игнатов сообщил бойцам о назначении Имре Тамаша командиром роты. Это известие было восторженно встречено бойцами. С не меньшей радостью восприняли они и сообщение о двухдневном отдыхе.
— Товарищи бойцы! — Тамаш стоял перед строем бойцов. — Сейчас я желаю вам приятного отдыха, после которого нам предстоят большие дела. Есть ли у кого из вас вопросы или просьбы?
С минуту стояла тишина, потом из строя вышел белокурый молодой боец.
— Товарищ командир, — начал он, — мы сделаем все, что от нас зависит… За отдых большое спасибо. Я вот только хочу сказать, что к нам сегодня еще с самого утра приходили местные парни. Говорили, что у них нынче вечером будут танцы на лугу, ну и нас, разумеется, пригласили. Вот я от имени всех бойцов и прошу у вас разрешения пойти повеселиться…
— Вы небось и девушек себе уже успели присмотреть? — шутливо спросил Имре.
— Так точно, товарищ комроты, — улыбнулся во весь рот белокурый парень.
Бойцы весело засмеялись.
— Неужели вы не устали? Может, вам лучше отдохнуть?
— Вот на вечеринке и отдохнем, — заметил один из бойцов.
— Хорошо, Гриша, согласен. Разрешаю всем вам сходить на вечеринку, только, чур, девушек не обижать! И чтобы в десять всем быть на месте! Кто опоздает, пусть пеняет на себя… Сегодня ровно в три часа я проверяю чистоту. Все. Разойдись!
Время отдыха обещало быть заполненным одними приятностями: мытьем в бане, переодеванием в чистое белье, гуляньем, пением песен под гармошку и балалайку.
Перед началом вечеринки Тамаш разговорился с Билеком, который, несмотря на ранение, тоже решил пойти повеселиться.
— Не хочешь ли ты найти себе здесь зазнобу? — спросил его Тамаш.
— Нет, и не собираюсь. У меня дома невеста есть… Эх, дружище, если бы ты видел, какие у нее глаза! Темные, бархатные, как ночь…
— Красивая, наверно? — заметил Тамаш. — Фото есть?
— Есть, — улыбнулся Билек и вынул из бумажника фотографию, аккуратно завернутую в пергаментную бумагу. С карточки смотрела на удивление красивая улыбающаяся девушка.
— Красивая, очень красивая, — похвалил Имре невесту Билека, — эх и славные детишки у вас будут!
В этот момент в избу вошел комиссар Игнатов, сел, помолчал.
— Я принес плохие известия, — наконец мрачно произнес он.
— Что-нибудь случилось?
— Случилось, и очень страшное. Во-первых, в Венгрии свергнута революционная власть. Антанта поддерживает какого-то офицера по фамилии Хорти. Думаю, дела там пойдут не ахти как ладно, товарищ Тамаш…
Имре помрачнел, услышав печальные новости:
— Я представляю, что наши господа сделают с теми товарищами, которые вернулись из революционной России! Да их же всех перевешают…
«Страшная вещь — смерть, — невольно подумал он. — Одно дело — умереть в бою, когда вокруг свистят пули и жизнь твоя висит на волоске. И совсем другое — умереть дома, на родине, после преследований и пыток… А ведь сейчас некоторые из моих товарищей по Соликамскому лагерю, наверное, уже добрались до Венгрии и, быть может, сразу же попали в руки палачей. Ну, например, товарищ Кендереши. А ведь у него трое детишек, жена. Он вернулся на родину еще в восемнадцатом году…»
— Я очень хорошо понимаю тебя, — тихо заметил Игнатов. — У нас в стране тоже не все хорошо. Сегодня в газетах сообщают о том, что белые разгромили в Красноярске вооруженное восстание революционных солдат. Казнено несколько сот человек…
Имре не сразу понял, где это произошло, и переспросил:
— Где это случилось?
— В Красноярске. Восстали солдаты, к ним примкнули военнопленные. Некоторые из них тоже казнены.
Имре невольно вспомнил о Керечене. «Где-то он сейчас? Может, в Красноярске?»
— Тогда не будет сегодня никакой вечеринки… — мрачно проговорил Тамаш.
— Я с тобой не согласен, — возразил ему Игнатов. — Этим ничего не изменишь. То, что свершилось, свершилось… Однако не нужно забывать о том, что Красная Армия победоносно наступает. Бойцы устали, они почти все время в боях и переходах. Сегодня пусть они сами потанцуют, а завтра заставят танцевать Колчака. Нам передают взвод латышей. Скоро у нас будет настоящая интернациональная рота. Я думаю, пусть ребята сегодня повеселятся, а уж завтра примемся за серьезные дела.
— Думаешь, так будет лучше, комиссар? — спросил Имре.
— Думаю, да.
— Ну ладно… Пусть потанцуют, но сам я не пойду. Лучше высплюсь.
— Знаешь, командир, а твои бойцы будут рады, если ты пойдешь вместе с ними. Поспать ты и после вечеринки успеешь. Комнатка у тебя тихая… В общем, смотри сам.
— А ты чем займешься? — спросил Имре комиссара.
— Я пойду вместе с бойцами.
Имре сначала отправился в баню, которую хорошо натопили хозяева. Раздевшись, он вошел в парильню и, плеснув шайку воды на раскаленные камни, разлегся на деревянной лавка, окруженный облаком горячего пара.
В голову лезли невеселые мысли.
«Столько событий за один день! Здесь одно, в Венгрии другое. А бойцы пойдут вечером на танцы, будут обнимать девушек… Когда только кончится эта война?.. — Имре вздохнул и улыбнулся. — Вот я и стал командиром роты! Эх, видели бы меня сейчас девушки! Ну хватит, размечтался, как мальчишка! Не заснуть бы мне в этой баньке…»
Встав с лавки, он вымылся и пошел одеваться.
Когда Имре вышел из бани, августовское солнце светило по-летнему, ослепительно ярко. Над селом кружили три аэроплана — советские, с красными звездами на фюзеляжах.
«Что-то сейчас дома творится? Венгерские господа офицеры расстреливают рабочих, как это делают здесь с русскими рабочими колчаковские офицеры. И в Венгрии появятся братские могилы, много могил. У нас — Хорти, в России — Колчак, Юденич, Деникин, Врангель, Семенов… Всюду враги… Нужно сражаться, бить их! А сейчас пора идти к бойцам, пусть они повеселятся, потанцуют. Выспаться еще успеют, а я вот только прилягу на полчасика и пойду…»
Имре вошел в избу и, не сняв одежды и сапог, прилег на диван, положив под голову подушку. Он закрыл глаза и моментально куда-то провалился…
Проснулся Имре только на следующее утро. Он так и проспал всю ночь, в форме, в сапогах.
НЕБО СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ
Работа на строительстве дома шла споро. Казалось, этот маленький спокойный островок мирной жизни отгорожен и от войны, и от всего мира.
Стены здания росли прямо на глазах. До окончания строительства оставалось совсем мало времени. В конце октября погода резко изменилась: похолодало, пошел снежок. Постепенно он становился все сильнее и вскоре повалил с такой силой, что сугробы выросли до высоты человеческого роста. Но наконец снег перестал сыпаться, показалось солнце, лучи которого с трудом пробились сквозь густую вату облаков. День выдался морозный, и снег ослепительно, до боли в глазах, сверкал на солнце. Столбик термометра упал до минус тридцати. Скрипел под полозьями саней снег, мелодично перезванивали колокольцы под дугой. В санях важно восседали седоки в меховых шапках, укрытые бараньими шубами. На бородах прохожих осел густой иней. Девушки и женщины ходили по улицам в шубах, меховых шапках и подбитых мехом сапожках. Щеки их лучше любой помады румянил мороз.
В один из таких дней Ульрих пришел к Керечену и поделился новостями:
— Американцы убираются восвояси.
— Французы тоже начали драпать.
— Вся Сибирь ходуном ходит.
— Румыны тоже уезжают.
— Скоро и…
— А ты не слышал, что сделали белочехи? — спросил Ульрих. — Нет? Тогда я тебе сейчас расскажу. Из Ачинска они привезли с собой молодок, красивых очень. Весь вагон был забит бабами.
— Ну и что?
— В Красноярске на станции они отцепили вагон и бросили их, а сами укатили дальше на восток.
— А что сталось с женщинами?
— Двери вагона были заперты, и к утру все женщины замерзли. Вагон до сих пор стоит на путях.
— Уму непостижимо!
— Я за эту гражданскую войну такого насмотрелся и наслышался, что больше ничему не удивляюсь.
— Выходит, сейчас в городе остались только колчаковские части? — спросил Керечен.
— Да плюс сыпной тиф! Ты, я вижу, отстаешь от событий, — заметил Ульрих. — Слышал, что случилось в лагере для пленных?
— Нет.
— Врачи придумали какое-то лекарство, которое они сначала опробовали на пленных. После уколов в живых осталось только двое. Один из них — медик Эршек, другой — Иштван Нойбауер.
— Ужасно… И много умерших в лагере?
— Много…
— Не знаешь, из девятой комнаты в пятом бараке в живых кто остался?
— Это где ты жил?
— Да.
— Всех скосил тиф.
— И Мишку Пажита?
— Это помощник судьи, что ли?
— Да.
— Он один и выжил.
— А остальные?
— Остальные все богу душу отдали.
Керечен ужаснулся. Он вспомнил сразу господина учителя Зингера, потом Пишту Бекеи, который любил, сидя по-турецки, читать книгу. Его кровать стояла у самого окошка… Иштван представил, как господин инженер раскуривает новую трубку. Вот господин учитель снял с себя серую китайскую шинель, развязав вещмешок, достал из него свой новый трофей — томик Цицерона на латинском языке — и тут же углубился в чтение. Бекеи курит папиросу за папиросой, не выпуская из рук книги, которую он жадно пожирает глазами. Голова его с трудом просматривается в густом облаке табачного дыма, которым он сам себя окутал.
«А теперь, выходит, из всей нашей комнаты остались в живых только Покаи, я да вот еще помощник судьи Мишка Пажит», — подумал Керечен.
— А как обстоит дело в других бараках? — спросил он и невольно подумал о том, что, быть может, его самого-то не было бы уже в живых, останься он в лагере: убили бы его или белые, или тиф.
— В остальных бараках дело обстоит немного лучше… Политзаключенных всех выпустили из тюрем на свободу. Дорнбуш здорово похудел, а так здоров.
— А Матэ Залка?
— Его в лагере нет. Не знаю даже, где он. Из коммунистов в лагере сейчас почти никого не осталось. Все они подались в город, устроились кто на какую работу. Лайош Сентдьёрди, Корнель Баняи, Бела Шугар, Янош Гал, Бела Вайншток, Йожеф Бернат — все они в городе. Там сейчас спокойнее и безопаснее.
— А ты-то сам как живешь? Как твои доходы? — поинтересовался Керечен.
— Деньги, которые легко приходят, так же легко и уходят. Меня они сейчас не интересуют… А вы-то тут как живете? — в свою очередь спросил Ульрих.
— Потихонечку. Шандор Покаи и Пишта Иоганн работают вместе со мной. Живы-здоровы пока…
— Ты бы послушал, что говорит мой квартирный хозяин! — улыбнулся Ульрих. — Он превратился в самого рьяного сторонника красных. Приходи сегодня ко мне, у меня и переночуешь. Захвати с собой и Шандора Покаи.
— Я не против.
Шандор Покаи и еще несколько пленных, работавших в городе, жили в другом помещении. Покаи охотно принял предложение Ульриха, надеясь услышать от него много интересного.
В комнате Ульриха его хозяин собственноручно покрыл стол красным полотнищем от флага, который он припрятал еще до начала белочешского мятежа. Предусмотрительный человек, он руководствовался своим жизненным принципом: «Авось пригодится», когда срывал полотнище с древка.
— Добрый вечер, товарищи! — Хозяин низко поклонился пришедшим. — Прощу вас, проходите. Располагайтесь как дома! Будьте моими гостями! — Хозяин так разошелся, что даже забыл, что гости пришли вовсе не к нему, да и угощать их будет не он, а Ульрих.
Закипел самовар, пуская под потолок клубы белого пара. На столе уже стояли банки с подогретыми мясными консервами, тарелки с солеными грибами, хлебом, маслом, сыром. В самом центре стола возвышались бутылки коньяка и ликера.
— Прошу вас, отец дьякон. — Ульрих вежливо предложил хозяину присесть.
— Благодарю, — пробасил дьякон, — я уже отужинал.
— Не грех пропустить по маленькой, — предложил Ульрих, наполняя стопки.
— За революцию! — нахально пробасил дьякон.
Все выпили.
— А ты неплохо живешь, товарищ Ульрих, — заметил Покаи.
— Не жалуюсь. Но, как говорится, не все коту масленица. С завтрашнего дня и для меня начинается великий пост: начну жить на одну зарплату.
Дьякон, несмотря на заверения, что он уже отужинал, ел с завидным аппетитом, умудряясь одновременно громогласно вещать:
— Я вам вот что скажу, господа хорошие: до победы революции остался всего лишь один шаг. Сейчас даже в колчаковских газетах не скрывают, что белые несут огромные потери. Народ полностью на стороне красных. Белые не осмеливаются заходить ни в города, ни в села, потому что население не любит их. Белые мрут как мухи, замерзают на морозе. Сыпной тиф косит их направо и налево… Позвольте попробовать вот этого сырку? Должен признаться, обожаю сыр… Буржуи бегут на Восток, увозят с собой добро. Короче говоря, бегут за границу, прихватив драгоценности. Я же, дорогие мои товарищи, и в политике являюсь слугой господа бога: пусть богу достанется богово, а царю — царево. Если к власти придут красные, значит, так угодно господу богу, ему и воздадим хвалу. Так выпьем же за красных! Моя разлюбезнейшая супруга, Прасковья Никифоровна, дай ей бог долгих лет жизни, любит повторять, что на все есть воля божья. Святая она женщина, хоть молись на нее. По велению божьему на нашу грешную землю идут красные… Ну и пусть идут, вместо «Боже, царя храни» будем петь «Интернационал». Хорошая песня, ее прочувствовать только нужно… Моя разлюбезнейшая супруга, Прасковья Никифоровна…
Как настоящий алкоголик, дьякон быстро опьянел и, опьянев, сразу же начал петь псалмы. От его громового пьяного баса дрожали стекла в окнах.
И тут появилась разлюбезнейшая Прасковья Никифоровна и довольно бесцеремонно вытолкала пьяного отца дьякона из комнаты постояльца в свою светлицу, где и уложила на диван.
Еще долго сквозь тонкую перегородку был слышен ее голос.
— Ах ты, пьяная свинья! — кричала она на мужа. — И не совестно тебе? Налакался, как скотина… И распоясался перед посторонними людьми…
— Прасковья дала правильную оценку своему супругу, — тихо заметил Покаи. — К сожалению, в городе много таких, как ее муж, грязных типов. Это не люди, а пародия на них…
— Есть еще и похуже, — перебил его Ульрих. — Видели бы вы, какие типы заходят к нам в аптеку! А я все слушаю да на ус мотаю. К хозяйке моей ходят важные господа и обсуждают с ней свои грязные делишки. Они хорошо знают, у кого сколько золота припрятано, кто куда хочет спрятаться, пока красных, как они выражаются, насовсем не выбьют из России, а уж в это-то они твердо верят. Им и в голову не приходит, что с разгромом армии Колчака всем им придет конец. Они полагают, что белые в настоящее время терпят временные неудачи, а окончательная победа все равно будет за ними, после чего они и развернутся…
— Все они при красных уйдут в глубокое подполье и оттуда будут наносить по ним чувствительные удары, — перебил его Керечен. — Легкой жизни нам ждать не приходится…
Затем разговор зашел о том, что новости поступают нерегулярно и это само по себе свидетельствует, что красные не сегодня-завтра будут в городе.
Керечен сказал, что Силашкин ушел к партизанам, а партизанские армии Кравченко и Щетинкина, одержав ряд внушительных побед над белыми, после долгих боев вошли в Минусинск, ставший своеобразной партизанской столицей. Оттуда они наносят по врагу ощутимые удары, помогая тем самим продвижению Красной Армии дальше на восток.
— Было бы лучше всего оказаться сейчас среди партизан, — вздохнул Покаи.
— Далеко мы от них, — заметил Керечен, — да и от лагерных товарищей оторвались. Даже не видим никого из них.
— Не горюй, — пытался утешить его Покаи. — Еще ничего не потеряно. Завтра как раз воскресенье, давай наведаемся в лагерь. Я слышал, что охрана там уже снята…
На следующий день Керечен и Покаи отправились в лагерь. Иштван хотел прежде всего разыскать Мишку Хорвата, и, к общей радости, встреча состоялась. Мишка тоже работал в городе и тоже пришел в лагерь, чтобы навестить друзей.
Они обошли все бараки, где у них были знакомые, с которыми им хотелось поговорить.
По дороге в офицерский лагерь они встретили сильно располневшего Дани Риго. Он приветствовал их с нескрываемой радостью.
— Не уходите, побудьте немного. Зайдем, посидим в кофейне, — предложил Дани. — Сегодня вы будете моими гостями.
— Нет, ни в коем случае! — решительно запротестовал Мишка Хорват. — Сегодня моя очередь. Я прекрасно помню, как вы меня в прошлый раз угощали. — И он повернулся к Керечену.
— Что это ты так рвешься заплатить за нас? Или разбогател? — поинтересовался Керечен.
Мишка Хорват хитро усмехнулся:
— Кто не пьет, тот и денежки имеет. Вот усядемся за чашкой кофе, тогда и расскажу.
В кофейне они уселись за стол. В одном из углов сидели пятеро венгров и громко пели венгерские народные песни. Весь стол их был заставлен пивными бутылками.
— Кто они такие? — поинтересовался Ульрих.
— Те, что сидят в углу, совсем нищими были еще недавно. Работали на Тунгуске и заработали там столько денег, что теперь не знают, куда их девать.
— Каким образом заработали? — спросил Керечен.
— Золотишко мыли. Платили им за работу золотым песком, вот они и превратились в тузов.
— Что сегодня поесть можно? — спросил Мишка Хорват у пленного, который выполнял обязанности официанта.
— Сегодня, господа, выбор прекрасный, — со сдержанной серьезностью ответил официант в белой куртке. — Мясо и жареное, и духовое, и с кашей, и с картофелем… извольте, пожалуйста…
— А с рисом нет?
— Риса, извините, нет. Месяц назад кончился…
— А выпить что есть?
— Пиво, извольте…
— Ну, теперь рассказывайте, как вы тут живете, чем занимаетесь? — попросил Керечен товарищей, когда официант ушел выполнять заказ.
— Я, собственно, живу в городе, да и питаюсь по-особому, — начал Мишка Хорват. — Я работал у французов в музее…
— Это в каком же музее? — удивился Ульрих.
— В красноярском, что на окраине города. Ты разве не слышал о нем? Так вот, французы установили там свою радиостанцию.
— Что такое?! — воскликнул Покаи.
— Радиостанцию, говорю, — повторил Мишка. — Во дворе стоят высокие столбы с проволочной антенной, а в самом музее у них находится радиопередатчик, который слушают во Франции. Изобретение это, можно сказать, новое. С его помощью во Франции, в городе Лионе, узнавали обо всем, что делается здесь, уже через несколько минут. Жаль, что я ни черта не понимаю по-ихнему.
— Они небось кодировали текст, — заметил Покаи.
— Конечно.
— А уж как мне хотелось бы узнать о том, что они передавали! — проговорил Керечен. — А среди вас никто не понимал по-французски?
— Почему же никто? — улыбнулся Хорват. — Французы не знали, что среди нас был один парень, который перед войной жил в Париже. Он все прекрасно понимал.
— Но что же он мог понять, если текст шифровали? — спросил Ульрих.
Мишка Хорват лишь рукой махнул.
— Да, но прежде чем зашифровать текст, его нужно написать на обычном французском языке, а его-то наш парень хорошо понимал.
— Да? — удивился Ульрих. — А как текст попадал ему в руки?
— Это совсем не трудно! Французы были уверены, что никто из нас их языка не знает, и потому спокойно оставляли тексты прямо на столе. Парень же все содержание передавал нам. Например, нам известно, что товарищ Самуэли погиб, а Бела Куну удалось эмигрировать за границу…
— Об этом и в местных газетах писали, — сказал Ульрих.
— А на каком же языке вы разговаривали с французами? — спросил Керечен.
— На русском. По-русски они говорили нисколько не лучше нас: сами тут учились. Несколько человек среди них говорили по-немецки. Подожди, как же звали их начальника?.. Кажется, Шарпантье. Французы терпеть не могли белочехов. Французы говорили, что они вовсе и не собирались приезжать в Россию. Меня они приглашали с собой, обещали потом увезти в Африку. Там, говорят, очень тепло… Я, разумеется, не согласился. Пусть катятся ко всем чертям! Большинство французов из Лиона. Я сдружился с лионцем но имени Камюн. Как-то я ему возьми да и скажи: «Посмотри, какой белый хлеб вы здесь едите, да и чехи тоже, а бедные русские солдаты едят только черный хлеб. Чего ради вы здесь появились? Русские вас не обижали никогда». А он мне на это и отвечает: «А мы ведь сюда не по своей воле пришли. Нас сюда наши офицеры затащили!» Тогда я ему начал петь наши народные песни, а он мне спел «Марсельезу», слова которой я узнал в лагере от товарища Форгача. Если бы вы только видели, как он обрадовался! Обнял он меня и спрашивает: «Ты коммунист?» Я ему отвечаю, что, мол, да. А как хорошо французов кормили! Но их офицеры все равно были недовольны. Они то и дело посылали нас в кондитерскую за пирожными, которыми они закусывали коньяки, ликеры и шампанское. Камюн и нам иногда давал что-нибудь выпить. С пивного завода все время свежее пиво привозили, благо до него было недалеко. Но как только красные взяли Омск, французы сразу же дали драпака. Забрали с собой все, кроме сухарей и спирта, которые Камюн оставил мне. На черта им нужен спирт? Они даже не знают, что с ним делать. Я же его продал на пивоваренный завод…
— Видишь, товарищ Ульрих, — усмехнулся Керечен, — другие тоже не растерялись, как и ты. — И, повернувшись к Мишке Хорвату, добавил: — А ты, я вижу, потолстел кило на десять.
— Не меньше, — признался Мишка. — А может, даже и больше. Оно и не мудрено на таких-то харчах.
— И сразу же стал выглядеть лет на десять моложе…
— Но не все французы уехали, — продолжал Хорват. — Остались два кондитера и один повар.
— А твой знакомый тоже остался?
— Тоже.
— А ты где работал? — спросил Керечен у Дани Риго.
— У итальянцев. Работа хорошая, жаловаться не приходилось. Ребята попались хорошие, мы с ними быстро нашли общий язык. Но среди них не только итальянцы были…
— А кто же еще?
— Были среди них один африканец, сицилийцы, несколько человек из-под Фиуме… Эти немного даже по-венгерски понимали. Были хорваты… Короче говоря, люди различных национальностей, но ни один из них воевать не хотел. Когда дело дошло до боя, они почти все отказались повиноваться своим офицерам. Заявили, что не будут стрелять в русских, скорее своих офицеров перебьют. Итальянцы побросали оружие и бежали, требуя от своего начальства, чтобы их поскорее отправили на родину. Удержать их было просто невозможно.
— А мы-то думали, что они просто трусы, — заметил Покаи.
— Они такие же, как и мы, — сказал Риго. — Самые простые люди… Один из них показывал мне фото своей жены и детишек, они совсем обычные. Колчаковские офицеры хотели бросить против партизан казаков, но не смогли и этого сделать, потому что итальянцы напоили всех казаков до того, что те даже пошевелиться не могли.
— Черт возьми! — выругался Покаи. — И откуда только буржуи не нагнали сюда народу, чтобы задушить Советскую Россию! Из Америки, с берегов Миссисипи, из Алжира и Марокко, из Лиона, Парижа и Лондона, с побережья Далмации, из Праги и Белграда, из Румынии, Сицилии, Японии…
— И из Японии! — воскликнул Ульрих. — А что эти японцы творят в лагерях для военнопленных, которые они охраняют? Я сам слышал, что рассказывали венгры, которым удалось бежать из этих лагерей. Японцы с пленными объясняются только жестами. Если им кто-нибудь не понравится, тому вешают на шею железное кольцо, а потом таких уводят и расстреливают. Подумать страшно, что было бы здесь, если бы контрреволюция победила! Эти интервенты сами перегрызли бы друг другу глотки. А японцы хотят здесь обосноваться и заселить эти земли.
— А если бы вы знали, — продолжал рассказывать Покаи, — в каком ложном свете белые стремятся представить красных! Кого они только не натравляют на них! Но толку от этого мало. Бросили они на борьбу с партизанами своих конников, но красные перебили их, ну, как это делается в честном бою. А колчаковцы что сделали? Взяли да и сами изуродовали трупы павших в бою казаков и выставили их на всеобщее обозрение. Смотрите, мол, что сделали красные со своими противниками. Правда, им мало кто поверил. Многие даже и смотреть-то не захотели.
Допоздна засиделись друзья в кофейне. Время за разговором бежало незаметно. Договорились, что в случае необходимости они снова встретятся в солдатском лагере. Двое гостей остались ночевать в этом лагере, а трое офицеров разошлись по своим баракам. Благо никаких часовых у ворот не было и в помине.
Покаи и Керечен навестили еще кое-кого из своих знакомых, в первую очередь, разумеется, товарища Дорнбуша, который тоже не терял надежды на лучшее будущее.
У настежь распахнутых ворот лагеря они случайно встретили старого знакомого Белу Цукора. Бела сильно исхудал, на его бледном лице выделялись только глаза, горевшие нездоровым лихорадочным блеском.
— Сервус, Бела! — поздоровался с ним Покаи. — Ты что, не рад встрече? Скоро здесь будут красные!
Цукор безнадежно махнул рукой.
— Меня это уже не интересует, — проговорил он еле слышно, и в его голосе не чувствовалось ни капли надежды.
— Ты же еще недавно так ждал их прихода!
— Ждал, да ждать устал…
— Это почему же?
— Они тоже хороши!
— Брось ты!
— Говорят, они разоряют церкви…
Они вскоре распрощались с Белой, и Керечен, выйдя за ворота лагеря, сказал:
— У меня такое впечатление, что наш Бела тронулся. Долго ему не протянуть: ведь он же серьезно болен чахоткой.
У дверей дома Керечена поджидала встревоженная Шура.
— Приехал муж сестры. Грозится убить меня. Ему насплетничали, что у меня есть любовник.
«Интересно, что это за человек? — думал Керечен. — То ли это глупый как пробка мужик, то ли хитрый и опасный проходимец… Всякие люди есть на свете. Конечно, мне он не страшен и сделать ничего не сможет, так как всем ясно, что колчаковцы доживают последние деньки. У него небось и оружие имеется, так что с ним придется вести себя осторожно. По пустякам рисковать собственной жизнью, конечно, не стоит. Сейчас в Красноярске, как в Ноевом ковчеге, всякой твари по паре: здесь собрались все, кто бежит на восток. Кто бежит по приказу, кто — по собственной глупости… Интересно, где сейчас проходит линия фронта? Да и имеется ли таковая вообще? Как бы там ни было, но нужно соблюдать осторожность, так как в городе пока еще белые. Они хоть и находятся при последнем издыхании, но еще могут пустить кровь…»
— А где сейчас муж твоей сестры? Чем он, собственно, занимается?
— Ничем! Водку пьет… Будет лучше, если ты сегодня переночуешь у Покаи… Очень боюсь я за тебя.
Керечен некоторое время постоял в нерешительности.
— Сколько дней он здесь пробудет? — спросил он потом у Шуры.
— Не знаю… Он с фронта сбежал и возвращаться туда не думает.
— Ну тогда я сам с ним поговорю!
— Не надо, Иосиф, не ходи! Я так боюсь за тебя! А что, если он начнет драться? У него ведь пистолет…
— Будь что будет!
Шура уже знала характер Керечена, знала, что если он на что решится, то его никто не сможет от этого отговорить. Поэтому она покорно пошла за Кереченом в дом.
Дмитрий, муж Шуриной сестры, оказался отнюдь не таким страшным, каким обрисовала его Шура. Это был молодой и красивый человек.
На столе стояла недопитая бутылка водки, лежали на тарелке соленые грибы.
— Добрый вечер, — поздоровался Керечен.
— Добрый вечер, — хриплым, пропитым голосом ответил Дмитрий, сверля налитыми кровью глазами вошедшего, но руку все же протянул: — Иди сюда, камрад, садись рядом… Ты австрияк?
— Нет. Мадьяр.
— Не имеет значения. Выпьем! — Дмитрий наполнил стаканы.
— Спасибо, я не пью.
— Пошел ты к черту! Как это не пьешь?.. Я был на фронте, стрелял в австрияков… а они стреляли в меня… потом перешли на нашу сторону… Выпили мы с ними… Австрияки пить умеют, мадьяры тоже пить умеют… А ты почему не умеешь?
— Я умею, но не люблю.
— Ну а я тебе говорю: пей! Хочу я посмотреть, что ты за человек такой.
— И без водки увидишь.
— Ах ты… Пей, когда тебе говорят!
Керечен понял, что Дмитрий вроде бы не собирается обижать его, и поднял наполненный до краев стакан с водкой. Отпил глоток.
— Нет, пей до дна!.. Русские любят пить до дна… Пей и ты!
Керечен заметил, что Дмитрий настолько опьянел, что уже клюет носом от водки и усталости. Улучив момент, когда Дмитрий на миг отвернулся, Керечен выплеснул водку из стакана на пол, а пустой стакан поднес к губам.
— Ну, теперь я вижу, что ты бравый парень! А говорил, что не можешь пить… Сейчас можно пить: скоро мир настанет. Белые и красные помирятся… Войне конец… Я останусь дома, а ты вернешься к себе в Австрию.
— В Венгрию, — поправил его Керечен.
— Ох, черт! Ну в Венгрию! Все равно… Красных у вас нет… Скажи, ты за кого стоишь?
Керечен не собирался ничего докладывать пьяному человеку и потому равнодушно произнес:
— Я политикой не занимаюсь.
Дмитрий наполнил свой стакан водкой. Он был сильно пьян, однако не настолько, чтобы позволить обижать себя. Залпом выпил водку и передернулся:
— Брр… Эх и хороша водочка! За душу так и берет! Так ты, говоришь, не занимаешься политикой? Да ты, я вижу, умный человек… Я тоже… тоже не занимаюсь… тоже не дурак… Ты похож на русского и язык наш знаешь. Я слышал, что Шура…
— Правильно слышал, Дмитрий. Шура любит меня…
— А я… не…
Керечен вылил из бутылки остаток водки в стакан Дмитрия и сказал:
— Пей, камрад! Время почти мирное, слышишь? Пей!
Дмитрий жадно выпил водку и уронил пустой стакан на пол. Падая, стакан ударился об угол скамейки и разбился. А Дмитрий, уронив голову на стол, громко захрапел.
Дед Шуры давным-давно спал, сестра тоже.
Шура обняла Керечена за шею и зашептала:
— Иосиф, я боюсь… Я очень боюсь… Я и тогда очень боялась, когда тебя из вагона увели белочехи. Береги себя! Если с тобой что случится, я умру.
Керечен погладил Шуру по голове:
— Не бойся, Шурочка… Этот человек нам не опасен… Пьяным он не рискнет напасть на меня, а когда протрезвится — тем более. А пьет он сейчас с горя. Ничего, это не беда. Главное для нас — сохранять спокойствие!
— У меня нехорошее предчувствие… Что нас ждет завтра? Что ты будешь делать, когда в город придут красные?
— Встану на их сторону.
— И этого я боюсь! Я же тебя тогда совсем потеряю! А что будет с нашим ребеночком? Слышишь, Иосиф? У нас же будет ребенок!
Керечен осторожно и нежно обнял Шуру.
— Не бойся ничего! Я заберу тебя с собой, домой заберу, в Венгрию…
— Это ты только сейчас так говоришь. Солдатам не разрешают брать с собой женщин.
— А я заберу, Шурочка…
— Нельзя… Да и не могу я отсюда уехать! Я же тебе говорила, что не брошу дедушку… а с ним не пустят… Ты так сильно рвешься домой, да?
Керечен низко опустил голову и тихо ответил:
— Я каждую ночь вижу во сне родной дом. Если я туда не вернусь, то, наверно, сойду с ума… Пусть меня бьют, мучают, калечат, но только бы увидеть родной дом!.. Поскорее бы приходила Красная Армия! Как только она сюда придет, мы с тобой поедем в Европу, в Венгрию. Мне бы еще хоть раз увидеть маму, поцеловать ее…
— Боже, как же мне жить?! — прошептала Шура и прижалась к Керечену. Она долго и страстно целовала его, пока не обессилела, и положила голову ему на грудь.
— Что с тобой, родная? — Керечен нежно погладил ее по плечу.
— Ничего… Ничего… Просто я люблю тебя больше жизни…
ВСТРЕЧА
На следующее утро Керечен пошел в лагерь, почти все обитатели которого высыпали из бараков во двор. Не усидели в своих комнатах даже старшие офицеры. В подбитых мехом шинелях они с важным видом расхаживали по двору, наблюдая за тем, что происходит. И лишь очень немногие предпочли остаться в помещении, наблюдая за происходящим во дворе через окна, к которым они прилипли, как мухи к липкой ленте.
В городе тоже происходило что-то необычное. Еще четвертого января забастовали рабочие, к ним примкнули солдаты.
Ходили слухи, что партизаны взяли Ачинск и соединились с регулярными частями Красной Армии, которые быстрым темпом приближаются к Красноярску. В подпольном горкоме жизнь била ключом. Коммунисты, ушедшие в глубокое подполье перед захватом Красноярска частями Колчака, развили активную деятельность.
Отступление белых превратилось в паническое бегство. Вдоль Транссибирской магистрали по обе стороны железнодорожного полотна валялись трупы солдат белой армии, умерших от тифа, замерзших или погибших в бою.
В лагере для военнопленных распространялись самые невероятные слухи. Многие говорили о том, что перед отступлением белые в первую очередь уничтожают лагеря вместе с пленными.
И вот однажды утром со стороны города послышалась ружейно-пулеметная стрельба. В лагере сразу же создали вооруженный отряд, в который вошло около сорока человек. Командовали отрядом унтер-офицер Йожеф Бернат и Аладар Мехеш. Перед строем стояла задача не дать белым возможности войти в лагерь, помешать им спровоцировать его узников на контрреволюционные выступления.
— Идут! Идут! — раздались вдруг голоса пленных, которые наблюдали за дорогой, ведущей в лагерь.
Пленные из вооруженного отряда моментально заняли свои места во рву, которым был окружен солдатский лагерь. К пленным присоединились русские товарищи. Керечен и Хорват получили пулемет. В руках у Дани Рига была винтовка.
— Они совсем близко! — прокричал молодой солдат, вбежавший в ворота. — Идут по Ачинской дороге!
На календаре — 5 января. Самая холодная пора в этих краях. Бараки в офицерском и солдатском лагерях и казарменные здания, сложенные из красного кирпича, занесены снегом.
Солдаты лежали во рву, в котором были засыпаны землей расстрелянные белыми пленные товарищи. Керечен находился рядом с Покаи. Ульрих в тот день в лагерь не явился.
Со стороны железнодорожной станции послышалась стрельба. Это стреляли белые. Им ответили восставшие рабочие и солдаты.
Из лагеря невозможно было определить, на чьей стороне перевес, а по звуку перестрелки нетрудно было догадаться, что бой идет жаркий…
Сначала из-за холма показался единственный колчаковский солдат, и только. Но не прошло и минуты, как весь склон холма покрылся множеством движущихся точек, которые с каждой минутой все удалялись в сторону города.
Стрелять по ним было бесполезно. Зачем попусту тратить патроны?
«Сколько же их? Несколько сотен или несколько тысяч?»
И вдруг эти движущиеся точки замерли. Они не двигались, и по ним легко было стрелять. Это были конники… Если бы они вдруг сменили направление и начали двигаться в сторону лагеря, их невозможно было бы остановить… Можно, правда, уложить несколько десятков человек, но это не даст нужного результата. А вслед за конниками двигалась еще и пехота.
Не отдавая себе ясного отчета в том, что делают, пленные открыли огонь по конникам.
— Эй ты, дурак, не стреляй! — закричал кому-то Дани Риго. — Все равно ведь не попадешь!
Однако предупреждать было напрасно: стрелять начали все поголовно. Ребята, подгоняемые ненавистью к белым, не могли удержаться от того, чтобы не выстрелить в ненавистного врага.
Белым ничего не оставалось, как продолжить движение по направлению к городу, тем более что они надеялись, что власть в Красноярске все еще находится в их руках.
И вдруг со стороны железнодорожной станции начали стрелять пушки.
Снаряды рвались в цепи казаков, и конники, как по команде, повернули обратно. Куда им теперь скакать, они, видимо, и сами толком не знали. Самое главное, считали они, — как можно дальше уйти от города.
Среди белых поднялась паника. Слышались дикие крики людей, ржали лошади. На белом берегу темнели неподвижные пятна: то ли лошадь, то ли человек, кто знает? А пушки все били и били. И только когда солдаты все до единого исчезли за склоном холма, откуда еще долго доносились дикие человеческие крики, канонада наконец прекратилась.
По-видимому, восставшим удалось спасти город от нашествия белых.
Красноярск готовился встречать части Красной Армии. На многих домах затрепетали красные флаги… Любопытно, откуда только в городе взялось столько красных флагов?
А сыпной тиф, независимо от событий, которые развивались по своим, казалось, никому не ведомым законам, продолжал свирепствовать в городе. В больницах и госпиталях не было свободных мест. Не хватало гробов, чтобы хоронить всех умерших от этой страшной болезни, и их стали хоронить в братских могилах. В редком доме, в редкой семье не было тифозного больного.
Как по мановению волшебной палочки, из магазинов и лавок исчезли все товары. Ни за какие деньги нельзя было купить мыло.
— Скорее к тюрьме! — крикнул Керечен, когда цепи белых скрылись из виду. — Нужно освободить политических заключенных!
— Пошли!
Но товарищи из подпольного горкома опередили их. Массивные железные ворота тюрьмы, прочное здание которой стояло рядом с железнодорожной веткой, были распахнуты настежь. Стены, которыми была обнесена тюрьма, были такими толстыми, что по их верху можно было проехать на повозке. Царское правительство на совесть охраняло своих узников.
Среди освобожденных оказались Карачони и дядюшка Тамаши. По исхудалому, бледному лицу Карачони текли слезы радости. В бороде Тамаши серебрились пряди волос. Тамаши выглядел нисколько не лучше Карачони. Оно и не удивительно: оба они попали в тюрьму сразу же после белочешского мятежа.
В кругу улыбающихся друзей-венгров оба довольно быстро обрели душевное равновесие.
— Ребята, а оружие у вас есть? — сразу же спросил Карачони.
— Конечно.
— Тогда и мне дайте винтовку или пистолет, — попросил он, а затем поинтересовался: — И еда у вас есть?
— Есть и еда, — ответил ему Мишка Хорват. — А чего бы ты хотел, папаша?
— Жареную яичницу, я так соскучился по ней.
— Тогда пойдем скорее в лагерь, там мы тебе и зажарим яичницу. Из скольких яиц хочешь?
Карачони на миг задумался и вдруг выпалил:
— Если можно, из полутора десятков. Только и моему другу тоже дайте!
Как только освобожденные оказались в лагере, их тотчас же обступили пленные.
Поданная Карачони яичница из пятнадцати яиц была съедена им в одно мгновение.
— Ну как, наелся? — спросил у Карачони Дани Риго.
Карачони не спеша вытер губы и спокойно ответил:
— Вот теперь я чувствую, что что-то поел.
— Несладко, видимо, вам было в тюрьме? — поинтересовался Покаи. — Поголодали небось?
Дядюшка Тамаши раскурил трубку.
— Ужасно… Но теперь все это уже позади… А как приятно, ребята, когда вот так светит солнышко!
— Для вас оно уже светит, — заметил Мишка Хорват, — но еще есть люди, которые не видят его из-за тюремной решетки.
Карачони тоже закурил и так глубоко затянулся, что даже закашлялся.
— Это мы прекрасно понимаем, — проговорил он. — Сидя в тюрьме, мы узнали о трагедии, которая произошла с нашими товарищами. Жаль товарища Дукеса и остальных…
— Еще как жаль, — согласился с ним Мишка Хорват.
— Они честно прожили свою жизнь!..
По дороге в город Керечену встретилось много вооруженных мужчин. Ни на одном из них не было военной формы, зато за плечами каждого висела винтовка.
«Что это за люди? — подумал Керечен и догадался: — Да ведь это, пожалуй, партизаны!»
В городе ничто не свидетельствовало о недавнем господстве колчаковцев, которые исчезли внезапно, словно сквозь землю провалились. Части Красной Армии еще не успели войти в город, а бесчеловечно жестокому режиму Колчака уже пришел конец. Однако не меньшую опасность, чем колчаковцы, представляла для жителей города эпидемия сыпного тифа, которая грозила унести в могилу каждого.
Дома Керечена ожидал Силашкин. Друзья обнялись.
— Мне пришлось сбежать со своей квартиры, — объяснил Силашкин. — Оказалось, у меня слишком много врагов. Кто-нибудь из них под горячую руку может сейчас шлепнуть меня…
Пока друзья разговаривали, Шура внесла и поставила на стол кипящий самовар. Приятно запахло крепко заваренным чаем.
Силашкин пил чай вприкуску, а сам все говорил и говорил:
— Ты даже не догадываешься, кто был в нашем отряде! Помнишь, у нас на стройке работали два китайца? Пао Ли и Пао Шо — так их, кажется, звали. Я никак не научусь правильно выговаривать китайские имена… Какие отличные они солдаты! Все могут выдержать: и холод, и голод, и жару, и ранение… А уж в беде друг друга они никогда не оставят. Они оба заявили, что хотят вступить в Красную Армию.
— Сделать это не так уж трудно, — сказал Керечен. — У нас будет формироваться подразделение интернационалистов. Скажи, товарищ Силашкин, среди партизан много венгров?
— Довольно много. Важно то, что они мастера на все руки: и электричество починят, и оружие исправят, и машину поведут. Если бы не война, они помогли бы нашим мужикам… Знаешь, сибирский крестьянин нисколько не похож на европейского. Земли у нас много — сколько твоей душе угодно, у ваших господ никогда в жизни не было таких поместий, как у наших помещиков… Наши крестьяне одно время не понимали наших целей, и белые быстро обдурили их. Когда же они увидели, как с ними обращаются белые и интервенты, и сравнили их поведение с поведением красных, то начали симпатизировать нам. В нашем партизанском отряде были представители многих национальностей. Сейчас, когда части Красной Армии дошли до берегов Енисея, мы поможем им…
— А ты не знаешь, когда в город войдут регулярные части Красной Армии? — спросил Керечен.
— Скоро. Сегодня я был в горкоме партии. Товарищи полагают, что красные части войдут в город завтра.
Сердце Керечена радостно забилось. Он все еще не терял надежды встретить в одном из отрядов своего друга Имре.
— Наши товарищи уже готовят транспаранты, пишут лозунги, — продолжал Силашкин. — Завтра город должен иметь праздничный вид. Выйдет газета. Все, казалось бы, хорошо, но вот только с партизанами немало хлопот будет. Большинство из них — честные и порядочные люди, большевики или сочувствующие, но есть среди них и анархисты. Черт бы побрал этих анархистов! Да и анархисты-то они липовые: нахватались кое-каких фраз — и давай крушить все на свете! Лучше всего было бы разоружить анархистов. Наиболее сознательных партизан нужно забрать в Красную Армию…
— И сколько примерно партизан?
— Кто их может сосчитать? Много. Возможно, тысяч двадцать.
— А где они берут продукты?
— Это для них довольно сложное дело. Они нападают на железнодорожные эшелоны белых и таким образом пополняют свои запасы оружия, боеприпасов и, разумеется, продовольствия. Однако в первую очередь их интересует вооружение. Продовольствием их снабжают крестьяне, несмотря на то что белые сжигают села, жители которых встречали партизан хлебом-солью. Особенно сильно зверствовали белые до тех пор, пока партизаны не окрепли настолько, что беляки стали бояться подходить к ним близко…
Было далеко за полночь, когда Шура напомнила мужчинам, что пора ложится спать, и Силашкин ушел домой.
На следующий день Керечен встал рано, ему не терпелось собственными глазами увидеть, как части Красной Армии входят в город.
На улице ему встретился Покаи.
— На станцию прибыл бронепоезд красных! — закричал он еще издали. — Части тоже подходят…
— Пошли скорее! — торопил его Керечен.
В городе было много народу, а центральная улица вообще была запружена людьми. Свободной оставалась только проезжая часть, по которой должны были пройти войска.
Издалека донеслись звуки духового оркестра, игравшего «Интернационал».
На глаза Иштвану набежали слезы. Он поймал себя на том, что губы его шевелятся, он негромко напевает революционный гимн.
Затем в конце улицы показался целый лес знамен. И в тот же миг тысячи людей громко закричали:
— Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Ленин! Долой буржуев! Смерть предателям!
Через несколько минут раздалось цоканье подков по мостовой. Первыми ехали красные конники, и над их головами колыхался лес пик, украшенных маленькими красными флажками…
Войска все шли и шли. От восторженных криков толпы содрогались стекла в окнах домов.
Один эскадрон ехал на лошадях белой масти, другой — на вороных, третий — на каурых.
Молодые конники ладно сидели в седле, постреливая глазами в сторону девушек.
Вслед за конницей шел духовой оркестр, непрерывно играя бравурные марши. За ним следовала пехота. В голове каждой колонны шел командир со знаками различия на рукаве. У политкомиссаров на рукаве алела повязка…
— Вот это армия! Какие молодцы! Не то что бандиты Колчака! — слышалось в толпе жителей.
Покаи и Керечен стояли рядом. Оба до боли хлопали в ладоши, охрипли от криков «Ура!».
— Смотри, как браво маршируют! — сказал Покаи.
Керечен обратил внимание на молодцеватых бойцов, проходивших мимо. Иштван вспомнил время, когда он сам был красноармейцем, только тогда им не приходилось вот так торжественно входить ни в один город. Да и одеты они тогда были не так, не так вооружены, хотя воодушевления и им было не занимать.
«Нет, такую армию никому не удастся победить, — мелькнуло в голове у Керечена. — Она способна сокрушить любого врага!»
Вот уже час шли войска: пехотинцы, артиллеристы, кавалеристы…
Впереди одной роты красиво маршировал статный молодой мужчина, и на поясе его кроме кривой сабли висели револьвер и несколько ручных гранат. На рукаве у него два красных кубика, означающих, что он командир роты. Походка легкая, какая бывает обычно у сильных, тренированных людей.
Керечен впился в командира глазами. Сердце вдруг забилось сильнее.
— Имре! Имре! Дружище! — закричал Керечен, энергично замахав руками.
Имре Тамаш услышал Керечена. Он повернулся в его сторону и радостно улыбнулся другу, сразу же узнав его. Но дисциплина есть дисциплина. Тамаш не мог нарушить торжественный марш. Он только глазами дал понять Керечену, чтобы тот следовал за ним.
Иштван пошел по тротуару, стараясь не отставать от роты, которую возглавлял его самый лучший друг.
Наконец они пришли на огромную площадь, где должен был состояться митинг. Посреди площади была сделана деревянная трибуна. Воинские части выстроились кольцом вокруг нее.
Начался митинг. Недостатка в выступающих не было. Каждого оратора встречали аплодисментами, а провожали бурной овацией и криками «Ура!».
Первым выступил представитель от горкома партии, вторым — от Советов, третьим — от профсоюзов… Затем на трибуну поднялся представитель от военнопленных, который от лица братьев по классу приветствовал Красную Армию — освободительницу.
Керечену с трудом удалось пробраться поближе к трибуне, на которой стояли командиры частей, а рядом с ней — командиры подразделений.
И вот он, долгожданный миг! Друзья крепко обнялись.
— Дружище, дорогой!
— Сколько же я о тебе думал!
— А я!
— Ну, рассказывай!
— Сначала ты!
— У тебя все в порядке? Ты здоров?
— Здоров… А ты?
Оба радостно смеялись, пожимали друг другу руки, хлопали по плечу.
— Имре, дорогой!
— Пишта!
— Когда ты сможешь освободиться хоть ненадолго, чтобы мы могли спокойно поговорить?
— Сегодня вечером, часов в девять. Вот устрою бойцов на ночлег и буду свободен. Не знаю, когда мы дальше двинемся: нужно разбить остатки бегущих колчаковских частей.
— Я хотел бы в вашу часть.
— Зачем? Разве здесь мало работы?
— Работы хватает, но я хочу быть с тобой!
— Я сделаю все, что возможно, — пообещал Имре. — Но ведь и здесь кому-то нужно вести работу среди пленных. Необходимо сформировать интернациональный полк.
— Создадим, Имре, обязательно! С завтрашнего дня и начнем. Костяк полка уже есть.
— Целого полка?
— Может, даже не одного. Полк мы сформируем и присоединимся к вам.
Пока друзья разговаривали, митинг закончился. Солдаты стали расходиться. Керечен назвал Имре адрес, где он живет, и они расстались до вечера.
Вскоре войска ушли с площади, но жители города еще долго не расходились по домам.
Перед домом Шуры Керечена ожидал Покаи.
— Иштван, ты мне очень нужен! — возбужденно сказал он.
— Что случилось? Беда?
— Никакой беды нет. Напротив, я хочу тебя обрадовать хорошей новостью. В лагере среди пленных ведется агитация за то, чтобы желающие записывались в интернациональный полк. На доске объявлений уже висит воззвание.
— Вот и прекрасно! Завтра я сам запишусь.
— А в доме тебя ждет Бела Гомба.
— Что ему нужно?
— А кто его знает! Он не говорит, но сам очень взволнован.
Они вошли в дом, и Бела сразу же, не дав Керечену и рта раскрыть, начал объяснять, что его послали сюда члены кружка Мано в связи с воззванием о формировании интернационального полка.
— Ради бога, не делайте глупостей! — продолжал Бела, умоляюще глядя на Иштвана. — В лагере все словно с ума посходили: хотят вступить в Красную Армию. Подумайте как следует. Разве вы не знаете, что делается в Венгрии? Коммунистов и евреев хватают на каждом шагу! Их мучают до смерти, как здесь колчаковцы мучили красных. Если вы попадете на родину, вы погибнете. В лагере офицеры давно внесли вас в черный список, так что вам лучше и не возвращаться в Венгрию.
— Ну и что? — махнул рукой Керечен. — А разве вы не являетесь свидетелем разгрома армии Колчака? Как этот адмирал ни старался, сколько ему ни помогали империалистические державы, а у власти он и года не продержался. Так неужели вы думаете, что Хорти удастся продержаться дольше? Разве вы не видите, что мировая революция близка?
— Я вижу, что все мы катимся в пропасть. Россия — страна огромная, ее невозможно победить, а Венгрия — крохотное государство… Да и не верю я что-то в быструю победу мировой революции.
— Так что же, ты предлагаешь бросить оружие, которое мы сейчас держим в руках? — разгорячился Керечен. — Нет, дорогой, мы будем бороться, для того чтобы здесь поскорее закончилась гражданская война. Мы должны помочь русским товарищам!
— Пойми, я же вам добра хочу, мне жаль вас. Ну, скажи, какой смысл умереть на чужбине или дожидаться, пока тебя ранят или искалечат? Вы что, этого хотите? Или сесть в русскую тюрьму? Неужели вы не знаете, что вас ожидает? Виселица, тюрьма…
— Мы вернемся на родину с оружием в руках! — с воодушевлением сказал Покаи.
Бела Гомба зажал уши руками:
— Неправда это! Никуда вы не вернетесь! Вместо оружия в руках у вас будут кандалы на руках! Мне вас очень жаль.
— Мелкий ты человечишко, Бела! — Покаи презрительно улыбнулся. — Да, собственно, ты всегда таким и был. Можешь возвращаться в Венгрию и служить лакеем у Хорти, но нас оставь в покое!
— Это ваше последнее слово?
— Да.
— Вы все с ума тут сошли! — Бела повернулся и, не попрощавшись, вышел.
Вечером к Керечену пришел Имре Тамаш. Несколько минут друзья сидели молча. Им так много нужно было сказать друг другу, что оба не знали, с чего начать.
— Ну, рассказывай! — попросил Керечен друга.
— Расскажи сначала ты, где побывал, как жил.
— А может, ты?
— Да рассказывай же наконец!
— Ладно. Только учти, что меня уже не Кереченом зовут. Могу представиться: офицер королевской армии Йожеф Ковач.
Имре всплеснул руками:
— Ну и молодец ты! Я тебя понимаю… Выходит, тебе все-таки пригодился личный знак, который ты мне показывал тогда в лесу?
— Да.
Керечен подробно рассказал другу о своих скитаниях, о встрече с Бондаренко и поездке по Сибири, о знакомстве с Шурой и встрече с белочехами, о лагерной жизни и подпольной деятельности коммунистов, о последней встрече с унтером Драгуновым.
— Значит, ты ему показал…
— Показал.
— И правильно сделал, дружище! Только не совсем так, как следовало бы. Я бы на твоем месте его в Енисей сбросил. Он только этого и заслуживает.
— Позже я сам об этом пожалел.
— Он бы тебя не пощадил.
— Знаю…
— Тогда почему же ты не сбросил его в реку?
— Знаешь, Имре, мне трудно ответить тебе на этот вопрос. Я решил, что он умер и этого достаточно. Кровь текла… Мне стало неприятно, и я торопливо ушел…
— Узнаю тебя…
— Ничего не поделаешь, Имре… Вот и в этом доме живет один негодяй, тоже унтер-офицер. Говорят, он никому не давал проходу. Если он осмелится обидеть мою невесту, я его просто задушу… Ну а теперь ты рассказывай!
Тем временем вернулась домой Шура, которая зачем-то уходила в город. На лице ее сияла счастливая улыбка.
— А вот и моя невеста, — представил ее другу Иштван.
Имре пожал Шуре руку.
— Я смотрю, дружище, у тебя неплохой вкус! — Эти слова Имре проговорил по-русски, чтобы их услышала Шура. — Смотри, береги ее, другой такой не найдешь!
Шура пошла ставить самовар.
Настала очередь Имре рассказывать о своих приключениях. Однако рассказ о жестоких и кровопролитных боях он превратил в нечто похожее на анекдот, в котором нелегкий путь от Урала до Красноярска в три тысячи километров превратился в легкую увеселительную прогулку. Правда, мимоходом Имре упомянул и о своей болезни, и о ранении, и об ужасных холодах, которые ему пришлось пережить.
Далее Имре рассказал о товарищах, с которыми он встречался.
— Всех своих земляков я сагитировал вступить в интернациональный полк, — закончил свое повествование Имре.
Шура угостила их чаем. Она ничего не понимала в их разговоре, потому что друзья говорили по-венгерски, и молча сидела на скамейке, глядя на них.
— Ты почему не пьешь чай, Иосиф? — спросила она у Керечена, который так внимательно слушал друга, что даже забыл о чае.
— Как это ты превратился в Иосифа? — удивленно спросил Имре.
— Я же говорил тебе, что здесь меня знают как Йожефа Ковача, а на русский манер Йожеф — это Иосиф. Так меня Шура и зовет. Товарищи советуют мне пока оставаться под фамилией Ковач. А как только я вернусь на родину, так сразу же возьму свою собственную фамилию. Ни полиция, ни жандармерия ничего подозрительного об Иштване Керечене не знают, а Йожефа Ковача местные шпики уже взяли себе на заметку.
— Пусть замечают, сколько им вздумается! Только не требуй от меня, чтобы и я звал тебя Иосифом! У меня язык не повернется так тебя назвать. Для меня ты как был, так и остался Пиштой Кереченом. А на родину мы вернемся с оружием в руках…
— Но тогда мне придется объяснить Шуре, что я вовсе не Йожеф. — Керечен подозвал Шуру к столу. — Шурочка, я что-то хочу тебе сказать.
— Ты уезжаешь? — испуганно спросила Шура.
— Нет… Просто я хочу тебе сказать, что я не Йожеф, а Степан… Иштван — то есть Степан…
Однако это нисколько не удивило Шуру, и она спокойно ответила:
— Это не имеет никакого значения… Я понимаю, ты был красноармейцем и потому сменил имя, чтобы тебя не нашли. Так, да?
— Да, Шурочка, так…
В боях за Красноярск и в ходе дальнейшего преследования отступавшего противника 30-я Уральская дивизия Красной Армии взяла в плен несколько десятков тысяч пленных, и бреди них — шесть тысяч одних только офицеров. Было захвачено два бронепоезда, восемь легковых автомобилей из штаба Колчака, тридцать тысяч лошадей, огромное количество вооружения, боеприпасов и военного снаряжения.
Это была значительная победа Красной Армии. Колчак, бросив армию, бежал дальше на восток, а остатками его войск пытался командовать генерал Каппель.
ТЕ, КОГО МЫ ЛЮБИЛИ
Жизнь в лагере в те дни бурлила. За несколько дней сотни пленных записались в интернациональный полк. Прийти к такому решению было нелегко, так как пленные знали, что на родине у них ширится кровавый террор, подобный белому террору здесь, в России. Записавшиеся в Красную Армию пленные были готовы к тому, что им, возможно, больше не придется увидеть ни родины, ни родных, ни близких.
В первые дни после освобождения города красными частями в полк записывались даже некоторые карьеристы. Среди них были и высокопоставленные офицеры, и лагерные спекулянты, которые таким образом надеялись добиться для себя каких-либо выгод и привилегий.
Однако все надежды подобных проходимцев рухнули, когда командиром вновь сформированного полка был назначен скромный, но решительный Иштван Варга. Спустя несколько дней после этого назначения был полностью сформирован штаб полка.
При формировании полка возникло много трудностей. Одной из них была трудность с обмундированием личного состава, но и эта проблема вскоре была решена, когда полк смог послать боеспособный взвод на борьбу с остатками каппелевских войск.
Какое убогое зрелище представляли собой эти полуразбитые отступающие подразделения белых, введенные в заблуждение своим командованием. Солдаты воспрянули духом, когда их нагнали красные, и добровольно начали сдаваться в плен.
Интернационалисты захватили эшелон с обмундированием, оружием и продовольствием.
Эшелон доставили в Красноярск. Чего там только не было: великолепное новое обмундирование, мука, сахар, соль, крупа, оружие, боеприпасы и даже несколько пушек. А какие там были сабли, кортики!
Интернациональный полк был полностью вооружен и обмундирован. Солдаты, имевшие хорошую выучку, выглядели браво и молодцевато. А как приятно было надеть новенькое обмундирование!
Жизнь их изменилась: у ворот никаких тебе часовых, иди куда хочешь. Хочешь — на вечеринку с танцами, хочешь — к девушкам, хочешь — в кино, на прогулку или на какое собрание… Наслаждайся всеми прелестями жизни!
Пишта Керечен уже целую неделю не появлялся на стройке. Все эти дни он проводил вместе с Имре Тамашем, который не только сам добился перевода в интернациональный полк, но и перетащил туда своих лучших товарищей. Задача интернационалистов состояла в том, чтобы выявлять скрывающихся контрреволюционеров, патрулировать по городу, сопровождать арестованных, охранять офицерский лагерь. Короче говоря, времени для отдыха почти не оставалось.
В полку была создана партийная организация.
Керечен был очень занят и не мог навестить Шуру в первые дни своей деятельности в полку. Он все время вспоминал ее, но увидеть смог лишь через две недели.
Когда Иштван подошел к уже готовому зданию, в которое была вложена частичка и его труда, сердце у него забилось чаще.
Шура с заплаканным лицом упала ему на грудь.
— Почему ты так долго не приходил? Я уже думала, что ты меня больше и видеть не хочешь… Если бы хотел, то пришел бы раньше!
— Не сердись, Шурочка, раньше я никак не мог прийти. У нас сейчас столько дел!
— Я думаю… Боюсь я, что скоро вас, пленных, отсюда куда-нибудь отправят и тогда я вообще останусь одна. А у меня уже живот заметен… Муж сестры заметил… Обозвал меня венгерской шлюхой, даже плюнул в мою сторону…
— Да как он посмел! — возмутился Иштван.
— Сестра Маруся тоже меня все время ругает… Уж как только она меня не обзывает! Говорит, что я получила то, чего заслуживаю.
— И она смеет так говорить!
— Муж ее хотел записаться в Красную Армию, но его не взяли… Маруся говорит, что у нее есть знакомый комиссар, который поможет им добиться, чтобы ее мужа взяли в Красную Армию. Он там и командиром взвода станет…
«Ну и пройдоха же этот Дмитрий! — подумал Керечен. — Хитрый и жестокий… В Красную Армию его, конечно, возьмут, так как никаких улик против него нет. Сейчас в городе такое столпотворение, что не до проверок… К тому же найдется немало и таких, кто, отвернувшись от старого строя, захочет честно служить новому».
— А где сейчас твой шурин? — спросил Керечен.
— Домой он приходит только поздно вечером, чтобы переночевать. Маруси дома нет. Я даже не знаю, на какие средства они живут, — рассказывала Шура по дороге домой. — А вчера Дмитрий откуда-то притащил целый мешок сахару. Позавчера он купил где-то мешок соли и сразу же перепродал ее. И так каждый божий день… Спекулируют то солью, то сахаром, то мукой, то маслом… Покупают, продают… Лавки и магазины все закрыты, что-нибудь из продуктов можно купить только на «черном рынке»…
— Эх! — Иштван с досадой махнул рукой. — Ну и житуха же сейчас для мерзавцев! Честный человек не знает, как свести концы с концами, а эти знай наживаются. Я сообщу об этом в ЧК!
— Ой, ради бога не надо! — воскликнула Шура. — Если шурин узнает об этом, он меня убьет. Да и не найдут они в доме ничего, так как товар здесь находится час-два, не больше. А порой Дмитрий его и вовсе домой не приносит. Купит на стороне и там же продаст.
— А у кого же он все это покупает? — поинтересовался Иштван.
— Да разве я знаю? У него столько знакомых! Большинство из них бывшие колчаковцы. Они почти все спекулируют на «черном рынке». Дмитрий и нам приносит продукты: крупу, картошку. А если бы не приносил, мы давно бы с голоду померли.
— А разве у вас нет продуктов? — удивился Иштван.
— Нет, конечно.
— И по карточкам вы ничего не получаете?
Шура горько рассмеялась:
— По карточкам! Что по ним дают-то? Полфунта сахару на месяц. Да и тот плохой: желтый и не очень сладкий. Его и на неделю не хватает.
Керечен знал, что положение со снабжением гражданского населения продуктами очень тяжелое. Белые разграбили все склады, насильно отобрали продукты у крестьян. А если у кого из крестьян и сохранились кое-какие продукты, то те меняли их лишь на сахар, соль или чай. В городе многие влачили жалкое существование на полуголодном пайке. Тиф косил ослабленных, истощенных людей. Помощи ждать было неоткуда. Контрреволюционеры тайком распространяли всевозможные ложные слухи. Обвиняли во всех бедах красных. Подчеркивали, что при Колчаке было все, а теперь, при красных, ничего нельзя достать. Люди, мол, пухнут с голоду. Вот он, рай, который обещали большевики…
— Ты еще работаешь? — спросил Керечен Шуру.
— Да, но что это дает? Зарплаты хватает всего на несколько дней…
Иштван понимал, что ему что-то нужно делать с Шурой. Быть может, скорее пожениться, чтобы она могла хотя бы питаться получше. Все-таки в полку были кое-какие запасы продуктов после захвата эшелона с продовольствием. А питаться ей сейчас нужно хорошо. Во что бы то ни стало надо вырвать Шуру из этой среды!
— Шурочка, — начал Иштван, — давай поженимся. Тогда я смогу помогать тебе. Все деньги, что я получаю, буду отдавать тебе, а если меня отсюда куда-нибудь переведут, ты на правах жены поедешь со мной.
— Я не могу этого сделать! — Шура печально покачала головой. — И ты от меня этого не требуй…
— Шурочка, да пойми же ты наконец, что ты моя жена! Скоро у нас родится ребенок. Не может же он быть без отца.
— Нет, нет! Никуда я с тобой не поеду!
— Шурочка, ты должна решиться. Кто для тебя важнее, я или твой дед? Решай!
— Нет! Никогда! Дедушку я никогда не брошу! Вы мне оба дороги, оба нужны. Останься здесь! Найдешь работу, я попрошу — и тебя примут электромонтером, будешь хорошо зарабатывать… Останься, Иосиф!
Керечен обнял Шуру и тихо, ласково сказал:
— Шурочка… Мне очень неприятно, что я причиняю тебе боль… Но и ты должна меня понять: у меня ведь тоже есть родители, которых я не видел столько лет. Я даже не знаю, живы ли они…
— А ты напиши им письмо. Сейчас во всей России — Советская власть, почта работает нормально.
— Ты меня не понимаешь, Шурочка… Я хочу увидеть своих родителей. Они оба старые люди, помощников у них, кроме меня, нет. У отца ревматизм, он даже лопату не может в руках держать, его мучают страшные боли. Но жить-то надо, работать. У нас есть небольшой клочок земли, и его нужно обрабатывать. А пока землю обработаешь, не одну кровяную мозоль набьешь на руках… Что же, мне теперь все это бросить? И никогда не увидеть родной дом?.. Давай поженимся, Шурочка! А потом уедешь со мной, вот увидишь, все будет хорошо!
— Ты надеешься, что у вас хорошо будет? Ты что, думаешь, я газет не читаю? Тебя расстреляют, как только ты вернешься в Венгрию. Меня с ребенком, может, даже не пустят в страну. Или убьют и нас! Убьют всех троих. Останься здесь, Иосиф! Здесь скоро мир будет. Тут нас никто не обидит. Останься! Дедушка так слаб… Позже, когда и у вас война кончится и не будет белых, тогда поедем к тебе. Дедушки, наверное, уже не будет… Хорошо, Иосиф? Останься! Разве ты не понимаешь, что я умру с горя, если ты уедешь? И сын твой так и не родится…
— Ну хорошо, я останусь…
Ласковые женские руки крепко обняли Иштвана за шею.
— Демобилизуешься?
— Нет. Просто попрошу пока, чтобы меня перевели в местный русский полк.
Оба немного помолчали.
Такое решение казалось им выходом, который устраивал обоих… Но не так-то просто было все это на самом деле. Легко пообещать что-нибудь, но не всегда удается выполнить обещание. Человек не всегда бывает господином своего слова. Особенно если человек этот солдат, которого связывают дисциплина и приказы…
«Не известно, переведут ли меня в русский полк, — думал Керечен. — А что скажут в нашем полку, когда я заявлю, что остаюсь здесь? Бывший отважный красногвардеец, в настоящем — красный командир, оставляет службу, часть, боевых товарищей, и только потому, что на него подействовали женские слезы… Разве это правильно? Я останусь тут, а мой друг Имре будет продолжать воевать, вернется на родину…» Иштвану казалось, что сердце его разрывается на части: одна часть остается здесь, а другая, словно на крыльях, летит домой, в Венгрию.
«Если бы Имре остался здесь… Но он не останется. Он уйдет вместе с полком, не завтра, так послезавтра. А Шура ни за что на свете не хочет оставить любимого деда одного. Она так любит старика! Да я и сам полюбил его… Какие же задачи порой задает жизнь! И решить их совсем не просто. Как же поступить?»
Иштван чувствовал свою беспомощность. Настроение у него ухудшилось. И даже Шура не могла развеселить Иштвана, хотя и ластилась к нему, обрадованная его обещанием остаться в России. В казарму он вернулся явно не в духе.
«Будь что будет, — думал Керечен. — Теперь я свободен, у ворот лагеря больше не стоят часовые… Но жизнь все равно почему-то не слаще… Что же важнее: мужская ли честь, или честь солдата, или… А тут первая и единственная любовь…»
— Что с тобой, Пишта? — спросил его Имре Тамаш.
— Ничего, Имре, просто подумал о том, что скоро мы с тобой снова расстанемся.
— Это как же? — изумился Имре.
— Да вот так… Я хочу остаться в Красноярске. Шура в положении…
— Ну и ну! — Имре даже слегка присвистнул. — Выходит, скоро ты станешь отцом? А я — крестным! Идет?
— Идет… Но мне придется остаться здесь. Шура не может поехать со мной.
— Как же это так? Вон сколько пленных увозят с собой жен… Ты тоже увезешь ее, а мы тебе поможем всем, что в наших силах…
— Хорошо, если бы так!
— Все так и будет! Сейчас, однако, нужно думать о другом. Партбюро ячейки полка решило с почестями перезахоронить, расстрелянных белыми коммунистов — Дукеса и его товарищей.
Выполнить это решение оказалось не так-то просто: мороз сковал землю. Работать приходилось киркой и ломом, но так, чтобы случайно не повредить трупов, которые вмерзли в землю. Когда добрались до трупов, у многих бойцов сдали нервы.
Керечен пришел проститься с товарищами, которые еще совсем недавно наставляли его на правильный путь.
Могилу для перезахоронения отрыли в лагере, на площади перед зданием барака для старших офицеров, которые на церемонию не пожелали явиться, зато с любопытством наблюдали за ней из окон. Вполне возможно, что кто-то из них даже записал об этом в своем дневнике, с тем чтобы доложить по команде, вернувшись на родину. Случай, что ни говори, редкий, когда можно увидеть сразу столько большевиков.
На перезахоронение приехали Матэ Залка, Иштван Варга и другие товарищи, которые до освобождения города красными скрывались где-то в тайге. Все они знали, что в случае возвращения в Венгрию им за одно это грозит преследование хортистского правительства и смертная казнь.
Опасаясь преследований после возвращения на родину, на перезахоронение не пришли многие младшие офицеры. Они боялись попасть в черный список, который, как было хорошо известно всем пленным, аккуратно вели старшие офицеры. Зато рядовые пришли почти все.
Бойцы интернационального полка выстроились перед могилой. Красные флаги были приспущены. Стояла тишина. Спазмы перехватывали горло…
Вместо венков на братскую могилу возложили сосновые и еловые ветки, от которых шел свежий запах хвои.
Те, кто был свидетелем недавнего расстрела коммунистов, в эти минуты невольно вспомнили ту картину.
А многие из присутствующих думали: «Почему суждено было погибнуть лучшим бойцам революции? Когда же настанет конец кровопролитию? Когда смолкнут пушки? Когда сожгут все виселицы? Сколько еще таких вот братских могил придется рыть?..»
НАШ ПУТЬ — НА ЗАПАД
Бойцы интернационального полка разместились в казармах, которые всего несколько дней назад занимали белые. В одном из зданий боец, бывший художник, нарисовал большой красочный плакат, на котором изобразил здание парламента и голубую ленту Дуная.
Едва Керечен увидел этот плакат, как сердце его больно сжалось.
«Может, я больше никогда не увижу ни Будапешта, ни Дуная… Застряну здесь, в Сибири… Буду носить тулуп и меховой треух… Через год-другой начну забывать родной язык. Но зато лучше буду говорить и писать по-русски. Русский язык богатый, красивый. Столько хороших, умных книг написано русскими писателями! Что ни говори, это язык великого народа. Но родной венгерский все же ближе и дороже мне…»
В соседнем помещении кто-то делал доклад для солдат.
«Завтра поговорю с командиром полка Иштваном Варгой… Попрошу его перевести меня в другой полк, а если этого нельзя сделать, то демобилизовать…»
Из задумчивости Керечена вывел красноармеец, который вбежал, размахивая газетой:
— Посмотри! Вышел первый номер нашей газеты на венгерском языке! «Вереш уйшаг»! «Венгерская газета»! Почитай!
Керечен с жадностью схватил газету. Это была уже не рукописная, а самая настоящая газета, отпечатанная типографским способом. А самое главное заключалось в том, что ее не нужно было ни от кого прятать, не нужно было читать тайком.
— Смотри-ка, на самом деле венгерская газета! — подошел к Керечену Имре Тамаш. — Радость-то какая! А как приятно ее почитать!
— Привет, ребята! — громко поздоровался подошедший Ульрих.
— Смотрите-ка, и Ульрих здесь! — обрадованно воскликнул Тамаш. — Каким ветром тебя к нам занесло?
Ульрих каждому из присутствующих пожал руку, а уж потом сел на табурет. Взяв в руки газету, он бегло пробежал ее глазами.
Тамаш несколько секунд молча разглядывал его, а потом сказал:
— А Ульриху здорово пойдет новая форма! Тебе небось об этом уже говорили? Наверно, затем и пришел, чтобы переодеться в красноармейскую форму?
Ульрих сделал вид, что не заметил укола, и спокойно ответил:
— Это не от меня зависит… Я бы, ребята, давно к вам переселился, но не могу. Начальница моя заболела тифом: вся аптека на моих плечах. Если бы я ушел, то ее пришлось бы закрыть. Я уже ходил в медицинский отдел при горсовете, но меня высмеяли, когда я попросил прислать на мое место другого провизора. «Что ты думаешь, — ответили мне там, — время ли сейчас заниматься перемещением, когда повсюду свирепствует тиф? Ты не имеешь представления, сколько врачей и провизоров унесла у нас эта эпидемия!»
— О, это совсем другое дело! Тогда извини… а то я подумал совсем другое, — проговорил Тамаш.
— Завидую вам, — продолжал Ульрих. — Вы теперь настоящие солдаты. На вас военная форма. От девиц, наверно, отбоя не будет. А в лагере вы уже были?
Керечен объяснил: у них сейчас столько работы, что они на время забыли о лагере.
— А я там был, — сказал Ульрих. — Ребята изнывают от нетерпения. Они хоть сегодня готовы уехать на родину. Некоторые разбегаются кто куда. Многие не хотят, да и не могут ждать официального разрешения на отъезд и потому пускаются в путь, в полную неизвестность, на свой страх и риск. Едут на открытых железнодорожных платформах. Мерзнут, голодают. Многие из них умирают в дороге, так что могилы и той отыскать невозможно…
— Все это, конечно, так, — тихо согласился Керечен. — Но и их понять можно: гонит их тоска по родине. Я сам не знаю, куда от нее деться…
— Пишта, дружище! Что с тобой?! — Имре с удивлением взглянул на друга.
— Да, я чуть было не забыл, Шура просила меня передать тебе… — начал Ульрих и, не закончив мысль, добавил: — Видно, мне теперь придется играть роль почтальона.
— Что-нибудь случилось? — испугался Керечен.
— Нет, ничего с ней не случилось. Шура просит, чтобы ты немедленно приехал к ней.
— Зачем?
— Старик заболел, дед ее…
— А что с ним?
— Что и у многих сейчас — тиф.
— Он дома лежит?
Ульрих низко опустил голову и тихо проговорил:
— Где же ему еще лежать? В больницах давным-давно все забито тифозными. Теперь люди умирают дома…
— А Шура… не заразилась?
— Пока нет.
— Я немедленно иду к ней! — Иштван надел шинель и уже направился к двери, когда в комнату вошел дневальный и громко сказал:
— Командир полка приказал без его личного разрешения никому из казармы не выходить!
— Ну, я тогда пошел, — начал прощаться Ульрих. — Скажу Шуре, что ты не можешь… Что ей передать?
— Скажи, что приду к ней, как только разрешат выйти. Больше того, я сейчас пойду к командиру полка и попрошу у него разрешения… Скажи, пусть она ждет меня…
В казарме царило оживление. Бойцы обсуждали текущие события.
Керечен направился в кабинет командира полка, чтобы отпроситься у него в город. Чтобы попасть к командиру, нужно было пройти через комнату, в которой располагались бойцы-китайцы.
Имре пошел вместе с Кереченом.
Увидев Тамаша, китайцы обрадовались старому знакомому: Имре не раз учил их петь венгерские народные песни. Пели они, забавно коверкая венгерские слова, и много смеялись.
Однако Керечену не удалось найти Иштвана Варгу в кабинете. Пришлось ожидать его более четверти часа.
— Это вы меня ожидаете? — спросил. Варга, увидев Керечена.
— Да, — ответил Керечен. — У меня к вам просьба.
— Слушаю.
— Мне нужно уйти на час к невесте.
Иштван Варга развел руками и сказал:
— К сожалению, этого я не могу вам разрешить. Сегодня мы выступаем.
— Куда? — изумился Керечен.
— В Москву. Наш полк направляется в столицу.
— В Москву? Зачем?
— Речь пойдет об очень важном задании… Вы, возможно, слышали, что красные в Иркутске захватили у белочехов золотой запас…
— Слышал, — вымолвил Керечен. — Но какое отношение имеет наш полк к этому золоту?
— А такое, дорогой, что оно сейчас находится уже в Ачинске… Нашему полку приказано доставить эшелон с золотом в полной сохранности в Москву и там сдать его в государственный банк.
— Так оно и будет! — воскликнул Тамаш.
— Но, товарищ Варга… я обещал своей невесте, что останусь здесь, с ней… — неуверенно начал Керечен, чувствуя, как кровь приливает к лицу.
— Очень сожалею, но ничем помочь не могу.
— Мы хотим пожениться.
— Пусть едет вместе с нами. Мы везем человек десять женщин.
— Она не может… У нее дед болен тифом…
Варга немного подумал и сказал:
— Тогда тем более я вас никуда не отпущу, так как посещать тифозных больных строго-настрого запрещено.
— В таком случае я прошу вас, — дрожащим голосом начал Иштван, — демобилизовать меня…
Иштван Варга дружески похлопал Керечена по плечу и сказал:
— Не горячись! К тому же я не имею права никого демобилизовывать. Это может сделать только командующий армией. Пока же мы получили боевой приказ. Я не хочу, чтобы ты расставался с нами, потому что хорошо знаю твое революционное прошлое и твердо верю в тебя. Я понимаю твое беспокойство, но сейчас ничем помочь не могу.
— А если я не поеду с вами? Я не хочу оказаться бесчестным в глазах девушки, которая носит под сердцем моего ребенка!
Однако командир полка был непреклонен:
— На твоем месте, само собой разумеется, и я бы переживал. Но тут ничего не поделаешь… Советую тебе, напиши своей невесте письмо. Объясни все, напиши, что потом вернешься за ней и заберешь ее. А сейчас готовься к дальней дороге.
— Пойдем, Пишта. — Имре взял Керечена за руку. — Приказ есть приказ, а мы с тобой солдаты.
Бойцы начали готовиться к долгому пути. На железнодорожную станцию потянулся обоз с полковым добром. Настроение у всех было превосходное: как-никак ехали на запад, то есть поближе к дому. От Москвы до Венгрии намного ближе, чем отсюда, из Сибири. К тому же всем хотелось побывать в Москве, в городе, где живет великий Ленин…
В Ачинске полк Варги должен был принять эшелон с золотом под свою охрану.
В роте Имре Тамаша собрались старые друзья: Смутни, Балаж и Билек. Последний привез с собой Татьяну, которая наотрез отказалась расстаться с ним. Однако женатым был в роте не один Билек. В отдельном вагоне оказалось несколько женщин — жен красноармейцев.
До Ачинска доехали без происшествий. На станции стоял «золотой» эшелон, состоявший из одиннадцати пульмановских вагонов, которые усиленно охранялись вооруженными бойцами.
— Сколько же золота в этом эшелоне? — спросил вслух Мишка Балаж.
— Сколько, спрашиваешь? — повторил Смутни. — А вот давай прикинем! Если в одном вагоне поместится сто пятьдесят тонн, я так считаю, то в одиннадцати, следовательно, — одна тысяча пятьсот плюс сто пятьдесят; значит, одна тысяча шестьсот пятьдесят в слитках, монетах и тому подобном. А поскольку в тонне содержится тысяча килограммов, а в девятьсот четырнадцатом году за килограмм золота платили тысячу пятьсот крон, то, следовательно, в общей сложности это составит…
— Довольно большую сумму, — перебил его Мишка Хорват. — Лучше и не считай! Не ты клал это золото, не тебе его и считать. А вот чтобы посторонние под вагонами не лазили — это уж наша с тобой забота.
— Поговаривают, — начал Смутни, — что белочехи отцепили в Иркутске три вагона и увезли куда-то…
— И правильно сделали, — вмешалась в разговор Татьяна, жена Билека. — Нам следует сделать то же самое: отцепить один вагон и разделить его содержимое. Если каждому перепадет по шапке золота, и то хорошо. Вы это заслужили, а разве не так?
— Закрой рот, несчастная! — прикрикнул на Татьяну Билек. — А не то я тебе его ладонью закрою!
Татьяна замолчала, зная, что в такие моменты с Билеком лучше не шутить.
Кто-то посоветовал взять в дорогу побольше соли, так как, мол, в России ее ни за какие деньги не достанешь, а здесь, в Сибири, ее полным-полно. Поговаривали, что в центральных районах кое-где вместо денег расплачиваются солью. Само собой разумеется, никто не мог сказать, насколько справедливы эти слухи. Однако разговор подействовал, и многие действительно запаслись солью.
Полковому начальству был предоставлен отдельный вагон. На коротком партийном собрании обсудили план мероприятий, которые можно было провести в пути. Вскоре выяснилось, что сделать можно многое, так как магистраль перегружена и составам приходится стоять на станционных путях не только по нескольку часов, но даже сутками. Во время таких вынужденных стоянок можно проводить политико-воспитательную работу с бойцами, свободными от наряда. Комиссары читали бойцам русские газеты, переводили прочитанные статьи и заметки на венгерский язык. Затем от руки писали короткие листки-бюллетени на венгерском языке, вывешивали их на стенах вагона.
Покаи и Мано в те дни много работали, выполняя обязанности переводчиков.
Шандор Покаи, подозвав к себе своих ближайших друзей и заместителя командира полка, однажды утром сказал им:
— Слушайте меня внимательно, товарищи. Вы все знаете, что в нашем эшелоне едет целая группа гражданских лиц. Это сотрудники государственных хранилищ, старые специалисты. Говорят, все они из Казани…
— Ну, и что же в этом интересного? — спросил Йошка Папп.
— А то, что все они едут с эшелоном от места отправления и хорошо осведомлены о цели нашей поездки и о грузе, который мы сопровождаем.
— Они знают, сколько золота перевозится в эшелоне?
— Видимо, знают. Этот государственный золотой запас хранился в сейфах города Казани. Во время войны его захватили белогвардейцы и вывезли сначала в Самару, затем в Омск…
— Любопытно… А что же дальше? — спросил Мано.
— Колчак закупил большую партию оружия за границей, расплачиваясь за него с Америкой, Францией, Англией и Японией, захваченным золотом. Много золота получили от него Деникин, Юденич, Савинков и атаман Семенов. Разумеется, самая большая сумма попала в руки американцев.
— Мерзавцы! — бросил Имре.
— Едущие с нами спецы знают подробности. Они рассказывали, а я кое-что записал. В июле девятнадцатого года из Сан-Франциско во Владивосток прибыло транспортное судно «Томас», в трюмах которого находилось стрелковое оружие, которым можно было вооружить восьмидесятитысячную армию. Много оружия было доставлено в Новороссийск. Помимо крупных поставок оружие белым продавали мелкими партиями различные зарубежные фирмы…
— Возможно, что и наше оружие американского происхождения: ведь мы захватили его у белополяков.
— Вполне возможно. — Покаи кивнул. — Но слушайте, что было дальше… Когда Красная Армия погнала Колчака дальше на восток, адмирал переправил золотой запас туда же…
— Куда именно? — спросил Тамаш.
— Куда-то под Иркутск. Там есть угольные шахты на одной из станций, где паровозы загружаются углем. Так вот, шахтеры и партизаны пронюхали однажды, что за груз везут интервенты в эшелоне, а главное — кого везут!
— Колчака? — вырвалось у Керечена.
Покаи далее рассказал, что в тех местах подпольный партком умело руководил деятельностью партизан. Партизаны установили Советскую власть задолго до прихода Красной Армии. Белочехам был предъявлен ультиматум: или они передают партизанам золотой запас и самого Колчака и тогда получают уголь для паровоза и едут дальше, или они не получат ни килограмма угля и, следовательно, никуда не поедут.
Шахтеры забастовали, наотрез отказавшись загружать паровозы белочехов углем. Белочехи пытались было продемонстрировать рабочим и партизанам свою силу, но эта демонстрация никаких результатов не дала. Части Красной Армии между тем продолжали победоносное наступление на восток. Белочехи, таким образом, попали в незавидное положение. Колчак и его приближенные сбежали из эшелона в Иркутске, где их поймали и расстреляли по приказу ревтрибунала.
Несколько позднее выяснилось, что Колчак разбазарил более двухсот сорока миллионов золотых рублей из золотого запаса республики. Большая часть этой суммы попала к Антанте…
— А сколько человеческих жизней он загубил! — вырвалось у Тамаша.
— Вы, наверное, не знаете товарища Косухина… — продолжал Покаи.
— Почему же не знаем? Знаем! — перебил его Мано. — Красивый парень, чекист. Он еще немного похож на нашего Дани Риго.
— Верно, только дайте мне рассказать до конца. Товарищи из Иркутска сообщили в Москву товарищу Ленину о том, что эшелон с золотым запасом республики захвачен и находится под охраной красных частей. По указанию из Москвы эшелон был передан под охрану двести шестьдесят второму Красноуфимскому стрелковому полку тридцатой стрелковой дивизии, которая настолько хорошо зарекомендовала себя в боях, что выбор, естественно, пал на нее.
Товарищ Косухин был назначен иркутским реввоенсоветом начальником эшелона. Двадцать второго марта эшелон отправился из Иркутска.
На следующий день он прибыл на станцию Зима. Двигаться дальше было невозможно, так как белые при отступлении взорвали мост через реку и он пока не был восстановлен.
Пришлось ждать две недели, пока восстановят мост. Он был настолько плох, что вагоны через него перекатывали по одному. В жуткий мороз, при сильном ветре бойцы с помощью местных рабочих перекатывали вагоны…
— Перекатили? — спросил Керечен.
— Да, на своих руках. Точно так же пришлось действовать еще дважды, уже на других реках… К тому же нужно было внимательно следить за тем, чтобы не напали белые. Добрались до Ачинска.
— А вот теперь нам нужно доставить эшелон в Москву, — проговорил Мано. — Понимаете, друзья, ведь для нас это большая честь!
Собравшиеся в вагоне примолкли, каждый думал о том ответственном задании, которое выпало на их долю. В этот момент раздалась команда:
— Строиться!
Митинг, на котором присутствовали бойцы Красноуфимского и интернационального полков, длился недолго.
Александр Афанасьевич Косухин попрощался с бойцами, которые охраняли эшелон до прибытия в Ачинск, поблагодарил их за службу, а затем поставил задачу бойцам интернационального полка.
«Золотой» эшелон двинулся на запад. Близилась весна, и кое-где из-под снега показались черные пятна земли.
Бойцы понимали, как важно доставить эшелон с золотым запасом республики в столицу молодого Советского государства, которое так нуждалось в нем, чтобы поскорее залечить тяжелые раны.
На одной станции эшелон стоял особенно долго. Бойцы буквально изнывали от безделья. На перроне, как правило, собиралось много любопытных. Из далеких сел и деревень на подводах приезжали крестьяне, прослышав, что на станции, дескать, можно достать соли. Установилась даже своеобразная такса: за ложку соли давали одно вареное яйцо, за пять ложек — фунт масла. Точно так же можно было приобрести хлеб и колбасу. Крестьяне жаловались, что им без соли тяжело вести хозяйство: страдали не только люди, но и домашние животные, о которых хозяева пеклись в первую очередь.
Каких только спекулятивных сделок не производилось в то время!
Все связанное с «золотым» эшелоном содержалось в глубочайшей тайне. Однако едва эшелон оказывался на станции, его тотчас же окружали любопытные, стараясь разузнать, что находится в вагонах, которые так бдительно охраняют неизвестные военные в серой форме. Да и кто они такие сами? В те времена каких только солдат нельзя было увидеть на просторах России! И все они говорили по-своему, на непонятных языках.
Первого мая «золотой» эшелон прибыл в город Уфу. На станции бойцов интернационального полка тепло встретили уфимские рабочие, назвавшие их иностранными пролетариями.
Бойцы радовались предстоящему празднику. Надеялись немного отдохнуть, погулять, потанцевать с девушками…
Но оказалось, что в тот год рабочие добровольно решили встретить Первомай ударным трудом, то есть организовать красный субботник. Бойцы, свободные от охраны эшелона, разобрали лопаты, кирки и тоже приступили к работе по ремонту пути.
А вечером, несмотря на усталость, молодежь отправилась на танцы. Играл духовой оркестр, улыбались девушки. Бойцы-интернационалисты, даже из тех, кто не говорил по-русски, прекрасно понимали девушек, объясняясь с ними жестами.
Не устоял перед соблазном потанцевать даже пожилой дядюшка Карачони. Оставив оружие и ручные гранаты в вагоне, он пригласил на танец какую-то девицу, смешно путая русские слова с венгерскими.
Имре Тамаш чувствовал себя превосходно: во время танца он без умолку болтал с девушкой.
Молодежь веселилась. Над головами с безоблачного майского неба ярко сияли звезды. Со стороны реки доносился шум ледохода. Весна вступала в свои права, будоража кровь молодых бойцов и девушек.
И только Иштван Керечен не танцевал. Он стоял в сторонке от танцующих и печально смотрел на них. Из головы не выходила Шура. Потом он увидел девушку, которая чем-то немного напоминала ему Шуру, и хотел пригласить ее на танец, но ноги не слушались его. Повернувшись кругом, Керечен пошел к эшелону. Навстречу ему попался Покаи.
— Уж скорее бы добраться до Москвы, — сказал Керечен, поздоровавшись с ним. — Надоела мне эта бесконечная поездка: кругом паровозная гарь, кипяток на станциях и давка на перроне.
Подошедший к ним Имре Тамаш поддержал Керечена:
— Мне тоже не терпится поскорее попасть в Москву. Такое раз в жизни может случиться! Я уже шесть лет не был дома, но прежде, чем попасть туда, очень хотел бы повидать товарища Ленина.
Покаи широко улыбнулся:
— Об этом пока говорить рано. Я только что беседовал с товарищем Варгой. Вы знаете, что он ежедневно телеграфирует в Кремль о продвижении эшелона. Товарищ Косухин лично отправляет телеграммы с каждой станции. А сегодня мы получили телеграмму, которая пришла десять дней назад, но ее хранили до поры до времени в тайне. В ней нам приказано доставить золотой запас в Казань, но не в одном эшелоне, а в двух и под усиленной охраной. А в Казани сдать его в государственное хранилище. Так что в Москву мы вряд ли попадем…
Керечен и Тамаш загрустили еще больше.
— Этак нас могут оставить в Казани для караульной службы! — Керечен тяжело вздохнул.
— Вполне возможно, — согласился с ним Имре. — Мы бойцы, а приказ есть приказ.
— Это точно, — заметил Покаи. — И еще одну новость скажу я вам. Жена Билека Татьяна сбежала, снюхавшись с каким-то спекулянтом.
— С кем именно? — спросил Имре.
Покаи развел руками и произнес:
— Говорят, с самым богатым спекулянтом этих краев.
— Об этом нужно заявить в ЧК, пусть разузнают, куда и с кем она исчезла. Странно только, что Билек ничего не сказал мне об этом.
— Его можно понять, — усмехнулся Покаи. — Стыдно ему очень, он сам мне об этом говорил. Показал свидетельство о браке и спросил, что ему теперь делать. «Вернусь домой женатым, — говорит, — а у меня там невеста есть. Я же с этой стервой даже развестись не могу. Кто мне разыщет ее в этой огромной стране?» Я посмотрел на него и расхохотался. Спросил его, заплатит ли он человеку, который выдаст ему свидетельство о расторжении брака. «Конечно, заплачу, — ответил он с готовностью. — Два десятка яиц отдам, не пожалею». Я и говорю ему: «А посмотри-ка ты получше на свое брачное свидетельство. Оно ведь недействительно: написано на простой бумаге, ни печати, ни штампа — ничего. Я тебе таких бумажек сколько хочешь выпишу». «Выходит, этот документ недействителен?» — обрадовался он да как бросится мне на шею и давай обнимать…
— А знаете, что за человек этот Билек? — перебил его Имре. — У него стальные нервы. Однажды он добровольно вызвался сходить в разведку и прополз на виду у белых. Полз и тащил за собой телефонный провод с телефоном, чтобы сразу же доложить нашим артиллеристам, какие цели видит. Наши артиллеристы в два счета уничтожили все огневые точки противника. Билека белые не заметили, а он лежал на высотке, совсем рядом с которой рвались наши снаряды. Оглушило его только сильно, и черный весь был от копоти и пыли. Мы уже думали, что он погиб. А он встал, как ни в чем не бывало, и начал ругаться, что так долго не подвозят обед. Смех, да и только! Билек никогда и никого не боялся, только одну Татьяну.
— И много таких солдат у тебя в роте? — с улыбкой спросил Покаи у Тамаша.
— Почти все! Ну, взять хотя бы Мишку Балажа! Сражается как тигр! Его время от времени приходится удерживать, а то, того и гляди, выскочит из окопа под огнем противника. А посмотри на Лайоша Тимара! Он и в самой трудной обстановке не теряет хладнокровия: знай посасывает свою трубочку. Один раз вынес с поля боя из-под пуль раненого. Взвалил себе на плечи и тащит, а кругом свистят пули. Однако вернулся ко мне без единой царапины. Правда, пулей у него выбило, трубку изо рта, так тут уж он страшно ругался.
— Шутишь? — удивился Покаи.
— И не собираюсь! Спроси у Лайоша! Ну, это еще ничего. А ты посмотрел бы на Смутни! Лучше него в бою товарища и желать не нужно. Только уж любит он поговорить. Иногда такое разведет, что и не поймешь толком, чего ему надо, а солдат он хороший…
Эшелон, мерно постукивая колесами, двигался на запад. Весна с каждым днем все сильнее напоминала о себе: солнце ласково светило с безоблачного голубого неба, на деревьях появилась молодая зелень.
Керечен тосковал. Ему хотелось побыть в одиночестве. Он залез на крышу вагона и, распластавшись на ней, с наслаждением подставил лицо солнцу. Закрыв глаза, он задумался. Все мысли его были только о Шуре. Потом он решил, что находиться на крыше вагона не так уж безопасно: недолго и свалиться. Он осторожно спустился по железной лесенке в вагон.
Поезд мчался уже по европейской части России. На паровозе были установлены два станковых пулемета, в каждом вагоне находились вооруженные красноармейцы. Местность была совсем не похожа на Венгрию: равнина без конца и края. Едешь целый день — и ни одного более или менее крупного города. Чаще попадаются села, возле домов — крестьяне, чем-то похожие на венгерских, да играющие ребятишки. Правда, земли здесь намного больше, чем в Альфёльде. Но и здесь и там землю обрабатывает земледелец… А сколько венгерских интернационалистов нашли вечный покой в этой земле! Сколько русских красных бойцов! Русская кровь смешалась с венгерской, а разве это не самый лучший залог будущей дружбы?
Через несколько дней на горизонте показались золотые луковицы казанских соборов. Накануне прошел дождь, и на земле то тут, то там стояли лужи, ослепительно блестя на солнце.
— Неплохо было бы недельки две отдохнуть в этом городе, — мечтательно проговорил Имре. — Поухаживать за черноволосыми татарочками…
— Татарочки с таким гяуром, как ты, и разговаривать-то не станут, — оборвал его Покаи.
— А ты меня не пугай! — Имре пригладил свои усики. — Я не из трусливых!
На станции эшелон уже ждали банковские служащие, они тотчас же приступили к приему ценностей.
Четверо суток продолжалась разгрузка эшелона. Все ценности оказались в наличии. Полк с честью выполнил возложенное на него задание. Молодому Советскому государству было возвращено то, что ему принадлежало.
БЕЗ ВЕСТЕЙ ОТ ШУРЫ
На каждой станции, где останавливался эшелон, Керечен бросал в почтовый ящик письмо для Шуры. Иштван объяснил ей причину своего столь неожиданного отъезда, а в последующем сообщал ей о том, где находится, и о предполагаемом времени, когда они могут встретиться. Он складывал письмо треугольником и бросал в почтовый ящик. Он не знал, выбирают ли письма из почтовых ящиков и вообще работает ли почта. И не только Керечен не знал этого, многие оставались в таком же неведении.
Он чувствовал угрызения совести, но не зная, как поступать дальше. Вся надежда была на то, что Шура все же получит его письмо и ответит.
А дни шли за днями. Миновал май, июнь, пошла первая неделя июля. Казань оказалась интересным полурусским-полутатарским городом.
«Что сталось с дедом Шуры? Выздоровел ли он? Не заразилась ли от него тифом Шура?» Ни на один из этих вопросов Керечен не мог найти ответа.
В газетах писали о войне с польскими панами, которые, выбрав удобный момент, напали на молодое, не успевшее еще окрепнуть Советское государство.
Ежедневно на фронт уходили все новые и новые эшелоны.
Интернациональный полк был расквартирован в лагере с деревянными бараками, где не так давно еще помещались инфекционные больные. Жили в тесноте, но не в обиде. В отдельном бараке разместились жены бойцов. Сердце у Керечена больно сжималось, когда он видел их. Его мучила мысль, что вместе с ними могла бы быть и его Шура, которой, по его подсчетам, как раз пришло время родить. Врач здесь был, а в отдельном бараке размещался госпиталь.
По вечерам продолжались бесконечные разговоры о событиях, о послевоенном житье-бытье, о недавних боях. Один начинал, другие дополняли, и рассказам не было конца и края. Иштван, погруженный в свои нелегкие думы, участия в этих разговорах не принимал.
В полном составе полк бывал довольно редко. Часть бойцов направили в Нижний Новгород, чтобы помочь достать горючее для одного из заводов, другую часть — в Тамбов для подавления вспыхнувшего там кулацкого мятежа.
Большую часть своего свободного времени Керечен проводил у Покаи, который выполнял обязанности библиотекаря. Под библиотеку отгородили угол барака, заставленный длинными деревянными полками. Книг было много. Их подарили интернационалистам городские власти, передав им несколько тысяч томов иностранных книг, оставшихся без хозяина после смерти старого казанского ученого.
Покаи, как мог, старался приободрить Иштвана:
— Не беспокойся, скоро получишь весточку от своей Шуры. Мы еще долго пробудем в этом городе. Думаю, скоро наладим телеграфную связь, и тогда ты все сразу узнаешь. Может, она и получила некоторые из твоих писем. Во всяком случае, наберись терпения…
Керечен слушал утешения Покаи. Он охотно поверил бы им, но не мог.
В библиотеку вошел Имре Тамаш.
— Ребята, пошли со мной! — предложил он. — Сегодня вечером перед зданием горсовета можно послушать радио.
Керечен знал об этом замечательном изобретении, но стеснялся признаться, что еще ни разу не слышал радиопередачи. Как-то он слышал, что радио принадлежит огромное будущее, что оно сделает безработными массу учителей, так как с его развитием достаточно будет установить в классе или в аудитории громкоговоритель, через который будут читать уроки или лекции самые известные педагоги страны, а уж в вопросах пропагандистской работы радио вообще незаменимо.
Друзья сходили в город и послушали радио. Из раструба, похожего на граммофонную трубу, раздавался хриплый голос диктора. Не всегда можно было понять, что он говорит. Затем по радио передали музыку. Казалось, что кто-то невидимый играет на громадном хриплом инструменте.
На следующий день, когда Керечен вернулся из города, к нему с сияющим лицом подбежал Тамаш:
— Пишта, дорогой, тебе письмо!
— Где оно?
— В штабе.
Керечен сломя голову бросился в штаб, где ему передали письмо. Оно оказалось не от Шуры. Надпись была сделана на венгерском языке. Дрожащими руками он надорвал конверт. Это писал Рихард Дорнбуш из Омска.
Рихард сообщал, что ему и товарищам наконец-то удалось наладить регулярный выпуск омской «Красной газеты», несколько экземпляров которой они будут высылать в полк. Далее Дорнбуш сообщал, что в Красную Армию он не вступил по двум причинам: во-первых, военная форма сидит на нем как на корове седло, а во-вторых, и это самое главное, «перо в этом революционном мире приравнивается к штыку».
В конце письма Рихард просил, чтобы Покаи, Мано Бек, Керечен, Матэ Залка и остальные соотечественники, владеющие пером, время от времени присылали бы в газету свои корреспонденции, за которые он будет им очень благодарен.
Покаи сразу же начал высчитывать, сколько экземпляров «Красной газеты» понадобится, чтобы в каждом подразделении имелось хотя бы по одной газете. В Казани находилось много интернациональных частей, в основном венгерских.
— Ну, теперь ты успокоился? — спросил Покаи у Иштвана.
— Почему ты так думаешь?
— Возьми-ка, закури! Правда, табаку хорошего нет, только махорка, но все равно закури… Завтра в Омск едет курьер, который привез нам газеты. Можешь написать письмо, он лично отвезет его в Омск, а оттуда пошлет в Красноярск, хоть по почте, хоть с посыльным…
Иштван сразу же встал, чтобы идти писать письмо, но Покаи задержал его, взяв за руку:
— Никуда не ходи, пиши здесь. Бумага и чернила есть. Я написал статью для газеты, вместе и пошлем…
— Спасибо, так и сделаю…
— И не благодари, не за что.
Иштван написал длинное письмо на двух листах. Сообщил о себе, попросил Шуру немедленно приехать к нему, однако, немного подумав, зачеркнул эту строчку.
«Как она пустится в такой долгий путь? Да еще не одна, а с ребенком… А может, она больна?..»
Иштван тут же разорвал этот листок и начал писать снова: «Дорогая моя, напиши мне, чтобы я знал, что с тобой. Чем я могу тебе помочь? Наберись терпения: вот увидишь, все будет хорошо. Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Потерпи немного».
Последние слова не понравились ему.
«Хорош хлюст, нечего сказать, — подумал Керечен. — Обманул женщину, а теперь призываю ее терпеть. Шуру нужно ободрить, но как, чем? Я и сам не знаю, что будет со мной завтра. Но написать что-то нужно».
Наконец Керечен закончил письмо Шуре и, запечатав, надписал адрес. Другое письмо он написал Дорнбушу, попросил его переслать первое в Красноярск.
— Завтра оно будет уже в пути, — заметил Покаи, — а через неделю — в Омске, а еще через неделю — в Красноярске… Таким же путем получишь ответ.
— Ответ… — Иштван тяжело вздохнул. — Еще неизвестно, найдет ли он меня здесь.
В импровизированной библиотеке ежедневно собирались интернационалисты. Мано Бек читал им русские газеты. Часто его сменял Покаи. По очереди читали они газеты и в клубе, где собиралось большинство личного состава полка.
В маленькой библиотеке собиралось «избранное» общество. Кроме уже перечисленных интернационалистов сюда частенько заходил Петрус, занимающийся в полку хозяйственными вопросами. Он отличался тем, что умел рассказать в любом обществе, даже среди женщин, нескромный анекдот, который, однако, в его устах звучал вполне прилично.
Частенько заходил сюда Иоганн, бывший лагерный чемпион по шахматам. На лице его всегда блуждала стыдливая улыбка, а однажды он удивил всех, заявив, что женился.
Заглядывал сюда и Йене Блауер, который знал все обо всем и обо всех. Непонятно было только, как такая масса всевозможной информации умещалась в его голове.
Бывал здесь часто и поэт Деже Баноци, самый неаккуратный человек, который не обращал никакого внимания на свой костюм.
По вечерам на огонек заглядывали начальник пожарной охраны Геза Олдал, Матэ Залка и другие товарищи.
— Я никогда не был хорошим солдатом, — рассказывал Покаи друзьям во время одной из таких встреч. — В четырнадцатом году меня забрали в армию. Пришлось идти: что я мог поделать… Однако кое-что я все-таки уяснил, а именно: что люди в форме обладают силой…
В этот момент в библиотеку вошел Дани Риго и попросил у Покаи дать ему какую-то русскую книгу.
— Тебе нужно русскую книгу почитать? — удивился Покаи. — В прошлом году ты и по-венгерски-то толком не умел читать. Когда же ты научился читать по-русски?
— Ты же знаешь, что я давно научился говорить по-русски, — смущенно улыбнулся Дани. — А венгерские книжки, которые тут есть, я почти все прочитал. Теперь вот за русские принялся.
— А кто тебя учил читать по-русски?
— Никто не учил. Есть у меня знакомый друг, украинец. Он меня научил русской азбуке, но больше всего я от Акулины научился.
— От Акулины? Она блондинка или брюнетка?
— Ни то и ни другое, да для меня это и не важно. Дело в том, что она сама научилась читать только после революции. У нее есть книга, называется она «Азбука».
— Ну вот вам, пожалуйста! — воскликнул Покаи. — Налицо содружество любви и культуры. А писать по-русски ты умеешь?
— Немного, — ответил Дани.
Взяв «Живой труп» Толстого, Риго ушел.
Керечен и Тамаш направились в клуб. В нем только недавно соорудили сцену, а художники из числа бойцов расписали стены картинами на темы из жизни рабочих и крестьян.
— Знаешь, Пишта, — начал Тамаш, — меня убивает безделье. Пока мы сражались против врагов, я понимал, зачем я здесь. А сейчас мне хочется уехать на родину.
Керечен опустил голову и тихо сказал:
— На родину? Я, быть может, никогда туда и не вернусь… А если попаду… Что нас там ждет? Нас станут преследовать, Имре, как диких зверей. Поймают — замучают до смерти. Из Венгрии сейчас коммунисты бегут, а мы с тобой, как дураки, туда стремимся. Тебе не терпится заняться нелегким трудом земледельца, а меня там что ждет? Беспокойная, голодная жизнь. В Венгрии нам с тобой счастья не найти: полицейские или жандармы поймают нас. Многие из бойцов здесь, в России, остаются. Только с годами, когда пройдет молодость, изведутся они от тоски по родине. Ну, будь что будет, а мы с тобой все-таки вернемся на родину…
Имре внимательно слушал друга, который говорил с грустью, со слезами на глазах.
— Знаешь, Пишта, — перебил он Керечена. — Давай вернемся домой вместе! Заберем с собой Шуру с ребенком. Подождем немного и поедем. Идет? Немного припоздаем, но это ничего. Может, даже лучше будет: обстановка изменится или хотя бы страсти улягутся.
— А ты слышал, что рассказывают наши товарищи, которые приехали из Москвы? Говорят, в Венгрии сейчас кровавый террор в самом разгаре… Как только не измываются над нами господа!
— Ничего, и их черед настанет, — сердито бросил Тамаш. — Придет время — они нам за все заплатят.
— Если действовать по принципу: «Око за око, зуб за зуб», то нам придется пролить целые реки крови… Но не забывай, что мы люди; врагов мы караем постольку, поскольку это диктуется обстановкой и целесообразностью… Иначе в кого же мы превратимся?
Сколько Керечен ни ждал, а ответа от Шуры он так и не получил.
В одном из номеров «Красной газеты» была опубликована статья Покаи. Дорнбуш прислал письмо, в котором сообщал, что переправил письмо Керечена Шуре. Время шло, но ответа от Шуры все не было.
Да, время шло. Многие из интернационалистов женились. Жизнь продолжалась. Дружеские связи бойцов-интернационалистов с местным населением крепли день ото дня. По вечерам в полковом клубе гремела музыка, устраивались танцы.
Вечера отдыха с музыкой и танцами организовывались в городском парке. От искушения сходить на вечер не могли удержаться даже пожилые бойцы.
В один из вечеров вслед за молодыми бойцами пошли в город и Керечен с Тамашем.
Перед входом в парк остановились. Рядом с ними оказался старый боец дядюшка Тамаши.
— В царские времена у входа висела табличка: «Вход солдатам и лицам с собаками воспрещен», — проговорил дядюшка Тамаши. — В войну писали другое: «Пленным и собакам вход воспрещен». Но теперь все запреты сняты: времена другие… Пошли! Там такие девушки гуляют — пальчики оближешь!
— Пойдем или нет, Пишта? — тихо спросил Имре, обращаясь к Керечену.
— Иди, Имре… Почему бы тебе не сходить? А я не пойду: что-то расхотелось…
— Ну, тогда и я не пойду.
Они отправились бродить по городу.
БЛОНДИНКА ТАМАРА И МОНАРХИСТЫ
Члены партбюро всегда активно интересовались жизнью личного состава. С их помощью в части открылась политшкола, которую охотно посещали жадные до знаний бойцы. Слушатели этой школы изучали азбуку коммунизма, политическую экономию, конституцию и много других дисциплин, которые расширяли их кругозор и о которых они еще вчера не имели ни малейшего представления.
В полку действовали литературный, музыкальный и театральный кружки.
По субботам в клубе негде было яблоку упасть — столько людей приходило туда. Огромным успехом пользовались театральные представления, на них охотно шли не только бойцы, но и местные жители. Особенно популярен был музыкальный спектакль под названием «Мирная конференция». Это был острый политический памфлет, в котором в самом неприглядном виде выводились видные политические деятели капиталистических стран.
После представления, как правило, до рассвета продолжались танцы. На одном из таких вечеров Имре Тамаш завязал знакомство, которое внесло в его размеренную жизнь беспокойство.
Организатором всех спектаклей и вечеров танцев был Покаи, который сам составлял программу, сам переводил пьески с русского языка.
Однажды к нему пришли две девушки — Катя и Тамара — и заявили о своем желании выступить на очередном вечере. Они тут же продемонстрировали свое искусство. В это время в клубе оказался и Имре. Он вместе с Покаи посмотрел номер, в котором выступали черноволосая Катя и красавица блондинка Тамара.
Имре сразу же влюбился в Тамару. Особенно хороша была Тамара в танце: ноги ее, казалось, не касались земли, гибкая стройная фигурка плавно двигалась в такт музыке.
Покаи понравилось выступление девушек, и он тут же включил их в список выступающих на полковых вечерах.
Имре Тамаш, не желая упустить случай, предложил Тамаре проводить ее до дома. Они долго прощались, пожимая друг другу руки, и обменивались красноречивыми взглядами.
Девушка сразу же поинтересовалась, кто он такой, откуда, женат ли, когда собирается домой. О себе она рассказала немного. Сообщила только, что работает машинисткой на одном заводе, что ей двадцать два года, замужем она не была и не будет, так как не может найти себе хорошего жениха.
У Имре после Татьяны не было серьезных увлечений, а сейчас он почувствовал, что Тамара очень нравится ему. И хотя он совсем не знал, что это за девушка, но, поддаваясь, какому-то безотчетному чувству, тянулся к ней.
Тамара не уклонялась от встреч, напротив, даже искала их.
Однажды после свидания Имре, как обычно, проводил ее до дома.
— Разреши зайти к тебе? — шепнул он на ухо девушке, обнимая ее.
— Заходи, — согласилась Тамара.
Дальше все совершилось с калейдоскопической быстротой… Осмотрелся он только тогда, когда вставал с дивана. Голова сладко кружилась.
Горела маленькая печка-«буржуйка», распространяя приятное тепло. В комнате стояли кровать, застланная белым покрывалом, старомодный шкаф, маленький столик на резных ножках и два мягких кресла. На стене висело несколько картин, написанных маслом. Что на них изображено, Имре не понял, но картины ему понравились. Судя по обстановке, семья Тамары была зажиточной.
Тамара поправила платье и скороговоркой сказала:
— А теперь уходите! Скорее уходите ради бога! Вот уж не ожидала… Я не люблю подобных приключений! Что это такое? Зашли и, как медведь, ни слова не говоря, повалили меня… Это ужасно! Немедленно уходите!
Имре не знал, как поступить. Тамара очень нравилась ему, и он не хотел бы потерять ее. Он обнял девушку и, прижав к груди, поцеловал. Тамара не сопротивлялась.
На следующий день Имре рассказал о своих приключениях Керечену.
— Из твоего рассказа я понял, что Тамара — дочь богатых родителей. Машинисткой она работает временно. Вполне возможно, что на эту работу она пошла для того, чтобы ее считали трудящейся. Возможно, она и к нам-то льнет только потому, что мы сейчас у власти. Нас она, разумеется, любить не может. Не обольщайся тем, что она отдалась тебе. Думаю, что это она сделала отнюдь не бескорыстно.
Имре понимал, что Керечен прав.
На следующий день Имре уехал в командировку в Нижний Новгород и вернулся в Казань только через две недели. За время отсутствия Имре полк из бараков перевели в город, в кирпичные здания, в которых раньше размещалось финансовое управление.
Шел апрель. В один из субботних вечеров в полку устроили танцевальный вечер, на котором появилась и Тамара. Вела она себя вызывающе, но Имре посылала обольстительные улыбки.
Когда они танцевали, Тамара, сделав обиженное лицо, спросила:
— Что это вы даже смотреть не желаете в мою сторону? А я как раз хотела вас кое о чем попросить.
— Пожалуйста, если это будет в моих силах.
— Знаете, я слышала, что вы, венгры, умеете превосходно обрабатывать свиные туши, — непринужденно защебетала Тамара. — У нас есть поросенок, и мы хотели бы его забить. Вы в этом деле что-нибудь понимаете?
«Еще бы я не понимал! — мелькнуло у Имре в голове. — Какие колбасы, какие окорока я делал!»
— Понимаю, — ответил он.
— Вот и прекрасно! — оживилась Тамара. — Я вас очень прошу, приходите к нам завтра домой и помогите!
— Охотно, тем более что завтра воскресенье. Утром я буду у вас, — согласился Имре.
Когда Тамаш на следующий день пришел к Тамаре, она встретила его более чем приветливо.
— Скажите, за что вы на меня сердитесь? — капризно надула она губки. — Я вас так давно не видела. Может, я чем-нибудь обидела вас?
Имре чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Он даже растерялся немного.
— Вы очень переменились, — продолжала щебетать Тамара. — В чем я виновата перед вами?
— Чего вы хотите от меня? — спросил Имре прямо.
На глазах у Тамары заблестели слезы.
«Эта девица — большая артистка», — подумал Имре и произнес:
— Не плачьте, Тамара, не надо!
Безотчетно он обнял Тамару, крепко поцеловал… Он даже позабыл о цели своего прихода, а когда вспомнил, сказал:
— А теперь лучше приняться за дело: время не ждет.
Тамара серной выскочила из комнаты, а через минуту вернулась, держа в руках тарелку, на которой лежало аппетитное колечко жареной колбасы и большой ломоть свежеиспеченного белого хлеба.
— Прошу отведать, товарищ командир!
Тамаш давно не ел ничего подобного и, конечно, не стал отказываться. Он даже не обратил внимания на то, что его обманули, заманили в этот дом под благовидным предлогом. Единственное, о чем он не забывал, — не показать Тамаре, что он голоден, и потому старался есть медленно и лениво, как это делают сытые люди.
— Нравится?
— Вкусно. Очень вкусно.
— Сама делала, — похвалилась Тамара.
— Ты хорошая хозяйка!
— Да, кое-что я умею. — Тамара приблизила свое лицо к лицу Имре и, обхватив его голову обеими руками, заглянула Тамашу в глаза:
— Скажи, а ты мог бы полюбить меня?
— А я разве не люблю?
— Э, не надо разыгрывать комедию! Целоваться ты умеешь. Но одного этого мне мало. Я хочу, чтобы меня любили так, как не любят ни одну женщину на свете! До гробовой доски… Как я умею это делать… Самоотверженно… — Проговорив это, она села к Имре на колени и обвила его шею руками. — Ты парень понятливый, — продолжала она. — Жаль только, что культуры у тебя маловато. Не вытирай рот носовым платком, когда перед тобой лежит салфетка! Словом, ты немного диковат и несколько неотесан, но мне ты и такой нравишься. Как ты посмотришь на то, чтобы жениться на мне, а?
«Да ты, красавица, просто обольстительница, — подумал он. — Хитрая обольстительница… Видимо, тебе что-то нужно от меня… Будь осторожен, Имре! — приказал он сам себе: — Смотри, будь осторожен! Не потеряй голову! Хоть и красивая она девка, но жизнью ради нее рисковать не стоит! Керечен был, видимо, абсолютно прав…»
— А если тебе придется уехать со мной? Или ты хочешь, чтобы я сам остался здесь, в вашем городе? — спросил Имре.
Тамара шаловливо укусила его за ухо.
— Подожди, послушай меня! У нас в Берлине есть очень богатые родственники. Ты меня понимаешь? Давай уедем отсюда в Берлин! Понимаешь? В Берлин!
— А почему ты не уедешь туда одна?
— Мне не дадут заграничный паспорт. Понимаешь?
— Понимаю.
— Все очень просто, — зашептала Тамара на ухо Имре. — Скоро ты поедешь к себе домой. А до этого времени мы поженимся. Ты заберешь меня с собой, а когда будем ехать через Германию, я сойду с эшелона и поеду в Берлин к своим родственникам. Если захочешь, можешь поехать со мной.
Имре захотелось ударить ее, но он сдержался, более того, он еще крепче обнял Тамару…
Пламя «буржуйки» освещало красивое тело Тамары, придавая ему бронзовый оттенок.
— Сейчас ни о чем не говори…
— Возьмешь меня в жены?
— Если ты так хочешь…
— Уедем отсюда вместе, хорошо?
— Хорошо, Тамара.
— Ой, как же ты плохо говоришь по-русски!
— Ничего, научусь у тебя.
— Наши родственники устроят тебя в Берлине на работу… Если тебе будет невмоготу со мной, мы разведемся и ты спокойно вернешься к себе в Венгрию.
— Об этом мы позже поговорим.
— Хорошо… Я хочу тебя предупредить, в Венгрии сейчас преследуют коммунистов. Не уезжай туда! В Берлине тебе будет лучше. Там мы сможем жить спокойно. У моей тетушки есть собственный завод и три дома, которые она сдает внаем. Если захочешь, будешь работать на заводе начальником смены… Самое главное — это переехать через границу!
— Но ведь для этого нужны деньги.
— А ты не глуп, — хихикнула Тамара. — Не беспокойся, денег у меня достаточно, и в валюте, и в золотых вещах. Еще есть бриллианты.
— Много?
— Ты, я вижу, любопытный.
— Конечно. У меня такой характер. Так сколько?
— Много.
— Это не ответ. Тысяча долларов?
— Больше.
— А золота сколько?
— Два фунта.
Тамаш тихо свистнул:
— Это, конечно, кое-что. С таким капиталом и в Берлине можно начать дело.
Тамара прильнула к Имре и, взяв его руку в свою, медленно заговорила:
— Не сердись на меня, милый… Я знаю, ты меня любишь. Женщины всегда чувствуют любовь. Ты мог принять меня за бездушную, бессердечную авантюристку, быть может, даже за контрреволюционерку… Но я не такая! Я, например, прекрасно понимаю рабочих. Понимаю, хотя и знаю, что я не из их мира. Мне здесь плохо, мне не хватает воздуха… Я задохнусь, если не уеду отсюда! Тебя я тоже боюсь. Ты дикий, как чужой! Но я тебя не пугаю. Мой старший брат рассказывал, что в Венгрии…
Имре перебил ее вопросом:
— У тебя есть брат? Раньше ты о нем не говорила.
— Не говорила… — Тамара несколько смутилась. — Он живет с мамой на другой половине дома. У него отдельный вход со двора.
— И чем он занимается?
— Да знаешь… — Тамара растерялась еще больше. — Он сейчас нигде не работает… А вообще-то он юрист…
— Он был офицером?
— У нас каждый дипломированный специалист был офицером, но брат…
«Осторожно, Имре! — подумал Тамаш. — Тамара — дочь богатого человека, брат ее — белый офицер. У них много золота. И тогда, когда рабочие голодают, они забивают свинью. Тут дело нечисто. Они, наверно, хотят втравить меня в какую-то авантюру… Брат ее, возможно, служил у Колчака, а она в это время «искала жениха»! Теперь же хочет бежать за границу… Ну, Имре, уноси отсюда ноги, пока не поздно!»
Набросив шубку на голое тело и сунув ноги в меховые тапочки, Тамара проводила Имре до двери. Поцеловала в губы и шепнула:
— Договорились, значит?
Имре кивнул. Тамара вернулась в комнату. И тут Имре услышал, как кто-то подошел к воротам и довольно громко произнес:
— Молот — серп.
— Молот — серп, — ответил ему чей-то бас.
Имре отшатнулся в тень, чтобы его случайно не заметили. Ему было видно, что у другой калитки стояли двое мужчин. Едва они скрылись в доме, Имре вышел на улицу.
По дороге в казарму Тамаш анализировал происшедшее. Тамара считает его недалеким, серым человеком и надеется, что он у нее в кулаке. Ненавидя Советскую власть, она намеревается бежать за границу, заключив для этого фиктивный брак с ним. В Берлине же она избавится от него, быть может, даже выдаст его полиции. Сейчас многие богачи бегут из Советской России…
«Но ей меня не провести. Да и я не посрамлю чести интернационалиста. А о подозрительных типах, которые ходят в дом к Тамаре, нужно поговорить с кем-нибудь из чекистов».
Имре первым делом пошел к Покаи, в библиотеке у которого сидели Керечен, Мано Бек и Бондарь, работавший в ЧК.
Вероятно, по лицу Имре можно было понять, откуда он пришел, потому что Керечен, ничего не спрашивая, сказал:
— Разумеется, ты идешь от Тамары…
Имре, словно провинившийся школьник, низко опустил голову. Вид у него был такой комичный, что все рассмеялись.
— Эх ты, полуночник! — с укоризной заметил Покаи.
— Братцы, я вам должен кое-что рассказать. — Имре тяжело вздохнул. — Только прошу, пусть это останется между нами. Словом, влип я в нехорошую историю…
Они внимательно выслушали Имре, а Бондарь из ЧК поинтересовался, на какой улице находится дом Тамары, сколько там выходов, кто живет, как выглядит брат Тамары, сколько лет ее матери.
Когда Имре кончил говорить, Бондарь переспросил:
— Так какой у них пароль?
— «Молот — серп». Я хорошо запомнил эти слова.
— А не «Серп и молот»? — спросил Мано. — Ты, может, слова переставил?
— Ничего я не переставлял.
— Странный у контрреволюционеров пароль, самый что ни на есть революционный. Тут что-то не так… А ну-ка, как это выглядит на бумаге? — Мано написал на листке бумаги эти слова и, повертев в руке, вдруг воскликнул: — Понял! Понял! Вот мерзавцы!
— Что ты понял? — спросил его Бондарь.
— А вы прочитайте эти слова наоборот! Получится: «Престолом»! Понятно? Это же монархический лозунг! Поздравляю тебя, Тамаш, ты напал на след зверя!
— Я немедленно доложу об этом в ЧК, — заявил Бондарь. — Тамаш, ты все сказал? Ничего не скрыл? Если можешь, постарайся познакомиться с братом Тамары, а с ней самой продолжай встречаться, будто ничего не случилось. Разыграй, что по уши влюбился в нее. Пусть Тамара думает, что ты простачок и клюнул на ее удочку. Узнай, где у них спрятаны ценности. Я полагаю, что мы напали на важное гнездо монархистов. А у тебя, Покаи, как обстоят дела с подругой Тамары?
— Мне кажется, она простая девушка, и все.
— Возможно, но и ты будь осторожен. В случае малейшего подозрения немедленно сообщай мне обо всем. Друзья, надеюсь, все вы и без моего предупреждения понимаете: об этом разговоре никому ни слова! — И Бондарь распрощался с ними.
Убедившись в преступных намерениях Тамары и ее брата, Имре искусно сыграл простачка. Ему удалось познакомиться с братом Тамары, Анатолием Михайловичем Гавриловым, и узнать кое-что о готовящемся заговоре монархистов.
В день, намеченный для свадьбы, чекисты неожиданно нагрянули в дом родителей Тамары и произвели обыск. Было обнаружено много иностранной валюты, золота, а самое главное — найдены монархические листовки, которые явились неоспоримым вещественным доказательством контрреволюционной деятельности.
Пока в доме Тамары шел обыск, Тамаш находился в казарме, не зная, что происходит в доме его «невесты».
Все новости он узнал только поздно вечером, когда в полк вернулся Бондарь, участвовавший в обыске.
— Черт бы вас побрал! — шутливо проворчал Имре, здороваясь с чекистами. — Шесть лет живу в России, наконец-то встретил девушку, которая пришлась мне по вкусу, и тут вы все испортили.
Бондарь, не поняв шутки, метнул строгий взгляд в сторону Имре и сказал:
— Все далеко не так просто, дорогой друг.
— А что такое?
— Скажу позже. Когда ты виделся с Тамарой в последний раз?
— Три дня назад.
— С тех пор ты о ней ничего не слышал?
— Нет, ничего… А почему ты спрашиваешь?
— А потому, что за это время произошли интересные события. Я почти час допрашивал Анатолия Гаврилова, брата твоей красавицы. Он много интересного рассказал. Девица была убеждена, что ты в нее по уши влюблен и женишься на ней. Между прочим, это не первый случай, когда девица из богатой семьи путем заключения фиктивного брака покидает родину. Ты, конечно, ничего не заметил, а из-за тебя в семье разразился настоящий скандал. Родители Тамары во что бы то ни стало старались отговорить дочь от ее плана. Они не хотели выдавать ее за коммуниста, простого крестьянина. Если бы ты был офицером, тогда другое дело…
— Ну, а дальше что?
— Получилось так, что верх взяли родители… Тамару они срочно отправили в Москву, к каким-то своим родственникам.
— Она сейчас в Москве?
— Да… По словам Гаврилова, ей оттуда легче уехать за границу, чем отсюда. Словом, отцу с матерью удалось сломить упрямство дочери и этим самым спасти честь семьи, как они полагают, оградив дочь от брака, пусть даже фиктивного, с большевиком.
— Тамара уже уехала из Москвы? — спросил Имре.
Бондарь пожал плечами:
— Не знаю. Мы послали телеграмму в Москву. Возможно, что твою красотку уже задержали, но ты ее не жалей…
Между тем Керечен ежедневно заходил в штаб полка за письмом, но напрасно. Иштвана в штабе все уже хорошо знали, и ему даже спрашивать ничего не нужно было: кто-нибудь жестом показывал, что письма нет.
Однажды в казарме, где размещались Имре Тамаш и его друзья, появился худощавый мужчина с широкой нарукавной повязкой, на которой был вышит красный крест.
— Ульрих! — обрадованно крикнул Имре, узнав друга. — Как ты сюда попал?
Ульрих по-дружески обнял Иштвана, а затем объяснил:
— Знаешь, получилось так, что я стал начальником городской аптеки. Хозяйка моя сбежала за границу, а я остался владеть аптекой. Но домой-то мне очень хотелось, и я возьми да заяви, что, мол, я офицер и хочу вернуться на родину. Мне сразу же предложили явиться в лагерь для дальнейшего, так сказать, прохождения службы. «Дудки, — решил я про себя. — Обратно в лагерь, да еще к офицерам, я не пойду». Отправился в военную комендатуру и заявил, что хочу добровольно вступить в Красную Армию. Рассказал коменданту, что все мои друзья-товарищи уехали из города с «золотым» эшелоном. Мне ответили, что им очень нужны медики.
— И тебя зачислили в часть?
— Конечно. Несколько месяцев я служил в Красноярске, а потом меня спросили, не хочу ли я демобилизоваться. Я ответил, что хотел бы попасть в интернациональный полк, где служат мои друзья. В штабе армии мне сказали, что вы в Казани, а я-то ведь думал, что вы уже давно в Москве… И вот я здесь.
— Ну-ну, рассказывай дальше!
— Получил я направление, продаттестат… деньги у меня были… и поехал. А Керечен у вас? Что с ним?
— Здесь, в полку, здоров, только очень уж тоскует…
— Бедняга Керечен, — тяжело вздохнул Ульрих. — У меня для него плохие вести… Жена его умерла при родах. В больнице мест не было, она рожала дома… ну и заражение крови…
— А ребенок тоже умер? — спросил Имре.
Ульрих кивнул.
— А когда скончалась Шура?
— Подожди, дай вспомнить… Вы в марте уехали… апрель, май, июнь… значит, в июне, в самом начале…
— Ты был на похоронах?
— Был.
— А дед?
— Дед умер.
— А шурин Дмитрий?
— Он сидит в тюрьме.
— Да, жаль Иштвана, — выдавил из себя Имре. — Как ему об этом сказать?
— Я сам скажу ему, осторожно… Если о таком можно рассказать осторожно… Услышав такие известия, человек или выздоравливает — постепенно, разумеется, — или погибает…
Через час Ульрих, как мог, дипломатично рассказал Иштвану Керечену о смерти Шуры.
Иштван выслушал его молча. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Трое суток Керечен молчал. И товарищи не трогали его.
На четвертый день Керечен подошел к Имре и, положив руку ему на плечо, сказал:
— Теперь и домой можно ехать, Имре!
ДОМОЙ, НА РОДИНУ…
Душевная рана Керечена постепенно заживала. Он винил во всем себя, терзался, его мучила мысль, что это он виноват в Шуриной смерти. Если б он находился рядом, может, все было бы по-другому. Но сколько он ни размышлял, так и не придумал, как бы он мог поступить иначе. С будущим дело обстояло яснее. Он ехал домой… Может быть, ему удастся избежать террора режима Хорти…
Имре Тамаш смотрел на все гораздо проще. Он все еще помнил жаркие объятия Тамары, но не терзался, как Иштван. Что ж, ему было хорошо с Тамарой, но этому пришел конец. Одного не понимал Имре: куда она исчезла? Даже ЧК не нашла ее. Может быть, Тамаре удалось бежать из Москвы? Вообще же против нее не было серьезных улик… Возможно, она уже в Берлине, у богатых родственников.
Однажды командир полка Иштван Варга вызвал их обоих к себе. Поздоровался за руку. Там же находились Янош Надь, представитель венгерского сектора Московского партийного комитета, и Першингер, комиссар полка.
— Садитесь! У меня для вас большие новости. Завтра вы едете в Москву.
Друзья переглянулись.
— Я только что получил приказ, — продолжал Варга, — о роспуске нашего интернационального полка. Скоро поедете домой, в Венгрию.
Известие взволновало друзей. Домой, после шести лет плена, борьбы, постоянной опасности! Наконец-то! Трудно расстаться со Страной Советов, где впервые в жизни они почувствовали себя полноправными людьми…
— Должен сказать, — снова заговорил Варга, — что возвращение домой чревато опасностями.
— Мы это давно знаем, — ответил Керечен. — Конечно, нам бы хотелось вернуться домой с оружием в руках, но, раз уж это невозможно, пойдем навстречу трудной судьбе.
Имре Тамаш был искренне рад сообщению.
— Наконец! Я счастлив, что еду домой. Сколько продержался Колчак в Сибири? Год или что-то около этого! Основательно поколотили его. А Хорти, как мне кажется, и года не продержится. Уж как-нибудь переживем это время. А убьют нас — беда будет не больше, чем если бы здесь мы пали в бою.
— Я не сомневаюсь, что вы и дома постоите за себя, — сказал Першингер. — Но я не такой оптимист, как Имре Тамаш. Не думаю, что Хорти не сегодня-завтра потерпит крах… Но у меня к вам один вопрос. У вас есть гражданская одежда?
Друзья улыбнулись. Откуда ей взяться? Солдаты не носят с собой ничего лишнего.
— Нет у нас гражданской одежды, — ответил Тамаш.
Делать нечего, пришлось ехать в солдатских мундирах. Трое суток добирались они от Казани до Москвы в переполненном вагоне товарного поезда. С ними вместе ехали и остальные: Лайош Тимар, Дани Риго, Лайош Смутни, Мишка Хорват и Янош Билек с женой. Надо сказать, что Билек женился снова. У его жены были волосы цвета соломы, веснушки, полная грудь. И звали ее Кипрития. Покаи объяснил им происхождение этого имени. Он сказал, что происходит оно, по всей вероятности, от греческой Киприды, а византийский вариант этого имени переделан на славянский лад. Просто Кипрития, и ничего больше. Но красотой она совсем не походила на богиню красоты и любви! Особенно по сравнению с Татьяной она и вовсе казалась недостойной представительницей прекрасного пола. Зато и голосистая была женщина! И был у нее с собой такой сундук, что четверо мужчин его еле подняли в вагон. Полный добра сундук, все ее приданое находилось в нем. Человек привязывается к привычным, даже лишенным всякой ценности, вещам, среди которых протекает его повседневная жизнь, и без них ему обойтись трудно. Напрасно твердили Кипритии, что в Чехии ей не понадобится ухват, потому что там стряпают обед не в русской печке, а на плите, но она везла с собой все, даже чугунные сковородки и черные печные горшки. Даже березовый веник захватила с собой, с которым дома ходила в баню. Были еще в сундуке корытце, деревянная ложка, нож с деревянной ручкой, топор, подвесной рукомойник, старый самовар, жестяной чайник, глиняный кувшин с отбитым краем, тарелки, вилки с деревянными черенками, большой плоский ковш, солонка, тулуп из овчины, валенки, лапти, меховые рукавицы, красный сарафан, — словом, все необходимое для жизни деревенского человека. Билек просил, чтобы она не везла за собой весь этот хлам.
— А ты помолчи, балда! — покрикивала она на мужа. — Я знаю, что нужно в хозяйстве, и не хочу опозориться перед твоей матерью.
Если бы Билеку пришлось драться с контрреволюционерами, он бы знал, что ему делать. Ну а как быть с ней?
— Ну и черт с тобой, вези!
— Хорошо холостому, — заметил Тамаш и вспомнил Тамару.
— Ванька! — крикнула мужу Кипрития после того, как они наконец устроились в переполненном вагоне. — Что ты рот разинул? Вот ведь горюшко мое! Вытащи из сундука тулуп. Ночью будет холодно.
Задача была нелегкая и даже опасная. Сначала надо было развязать три веревки, которыми огромный сундук был опутан, осторожно поднять крышку и вытащить из-под разного хлама засаленный тулуп, доставшийся Кипритии в наследство от бабушки.
— Вынь самовар! — приказала Кипрития.
— Зачем? На каждой станции есть кипяток, — попытался возразить Билек.
— А ты помолчи! Сказано тебе, вынь!
Билек достал все, что, по мнению Кипритии, могло пригодиться в дороге.
Трое суток шумел самовар. Кипрития не забыла захватить с собой и древесного угля. Захватила она в дорогу и фунтов десять подсолнухов. Щелкала она их очень ловко. Правой стороной рта захватывала семечко, зубами очищала его и выплевывала скорлупу с левой стороны. Еще она захватила с собой мешок кренделей, пирожки с капустой и картошкой, — словом, все, чего может пожелать муж при хорошей хозяйке-жене.
Демобилизованные красноармейцы, ехавшие в товарных вагонах, были одеты пестро. Среди военных мундиров виднелись гражданские рубашки. Выглядели демобилизованные так же, как и остальные, помятые и оборванные, военнопленные. Они уже не могли говорить ни о чем другом, как только о доме, семье, друзьях и знакомых. Каждый захватил с собой кое-какую провизию — сушеную рыбу, ржаной хлеб, немного сахару, — но этого едва-едва могло хватить на то, чтобы не погибнуть голодной смертью. По дороге невозможно было купить какие-нибудь продукты.
Наконец они приехали в Москву.
Теперь нелегко представить, что значит для демобилизованного красноармейца, коммуниста, революционера этот город, где высоко взвилось революционное знамя. Москва тогда голодала, трамваи не ходили, машин не было. Старые улицы центра города и исторические памятники, казалось, хранили в себе воспоминания о жестоком прошлом. Москва находилась в тяжелом положении, но уже начала свое нелегкое восхождение на непостижимые вершины.
Билек с женой везли свой сундук на тачке. Приехавших ожидали железные кровати с белыми простынями и подушками. И наконец после стольких лет домашний обед по-венгерски: картофельный суп и лапша с капустой.
— Лапша с капустой! — воскликнул Имре Тамаш. — Мое любимое кушанье! Ну и дураки мы, ни разу сами себе его не приготовили!
Одноногий парень-венгр на костыле пошел в кухню и принес Тамашу еще одну тарелку лапши.
Керечен с искренним участием взглянул на молодого симпатичного парня.
— Где ты потерял ногу? На фронте?
— Там.
— В Галиции?
— Да нет! На Украине. С Деникиным сражался.
— Значит, и ты был красноармейцем? Здесь все красноармейцы?
— Да.
— Нас отсюда отправят домой?
— Нет. Из Петрограда. Я ведь не еду… Там знают, что я был ранен, когда находился в Красной гвардии. Мне там конец. Сапожник я, и тут проживу, найду себе дело.
— Почему нас не сразу отправляют? — спросил Мишка Хорват.
— Не знаю. Может, потому, что дома такие ужасы творятся.
— Знаем, — сказал Мишка Балаж.
— Ничего вы не знаете, — грустно покачал головой одноногий. — Хотите почитать венгерские газеты?
— Есть у вас? — жадно спросил Керечен.
— Мы все газеты здесь получаем. Вот, например, «Соват»[5].
— А что это за газета?
— Шовинистическая, антикоммунистическая газетенка.
— Что-о? — удивленно протянул Тамаш.
Керечен начал читать газету. У него закружилась голова от злостных нападок, в которых людская глупость смешалась с кровожадностью. Показалось, что в двадцатый век ворвалось средневековье. Потом он взял газету «Уй немзедек» католической церкви. Тот же тон… «Эшт», «Мадьярорсаг», «Пешти напло»[6]… Все эти газеты словно старались перещеголять друг друга в кровожадности и ненависти.
Керечен отложил газеты. Ему показалось, что он испачкал о них руки.
— Очень печально, — проговорил он. — Может быть, все-таки лучше тут остаться?
— Мы должны ехать домой, Пишта. Поедем домой, даже если нам придется погибнуть.
— Ну что ж, поедем.
Первого мая демобилизованные красноармейцы участвовали в демонстрации на Красной площади. День выдался ясный, солнечный. Воодушевление и теплая погода выманили людей на улицы. Город, в будничные дни казавшийся пустым, наполнился людскими толпами. Огромная площадь пылала красными знаменами. Играли военные оркестры. Шумливая, выкрикивающая лозунги пестрая толпа. На трибуне у Кремлевской стены — руководители партии и правительства. В центре — подвижная фигура Ленина.
Друзья строем шли по площади, чеканя шаг по булыжной мостовой. Имре Тамаш покосился на Керечена и тихо произнес:
— Ленин.
Улыбаясь, Ленин аплодировал демонстрации.
Пишта Керечен увидел, как сосед Ленина слева тронул вождя революции за руку и показал на транспарант, который несли венгры. Ленин, улыбаясь, кивнул головой, словно сказал: «Знаю их… Молодцы, ребята!»
На другой день интернационалисты присутствовали на митинге в большом зале дворца австро-венгерского посольства. Они выслушали доклад товарища Ландлера о венгерской пролетарской революции. Их руки невольно сжимались в кулаки, когда он говорил о жестоких преследованиях рабочих. Они знали, что везде есть свои драгуновы и бондаренко, жертвы которых исчисляются тысячами…
После митинга многие остались в посольстве. Бела Кун разговаривал с собравшейся около него группой товарищей. Керечен толкнул локтем в бок Тамаша:
— Посмотри туда! Товарищ Бела Кун!
— Он совсем не такой, как на фотографиях, которые я видел в полку. Там он без усов и моложе.
— Да, усы его старят.
Бела Кун подошел к ним, угостил сигаретами. Друзья назвали себя.
— Вы где служили, товарищи?
Керечен перечислил.
Бела Кун выслушал, неожиданно улыбнулся:
— Много хорошего слышал я о вашем полке, товарищи! Рад, что могу лично выразить вам свое уважение. Вы уже погуляли по Москве? Здесь много интересного, стоит посмотреть. Развлекитесь немного, прежде чем ехать домой.
Дни в Москве пролетели быстро. Хорошо было гулять по столице революции, бродить среди свежей зелени парков, чувствовать себя свободными, как облако в небе. Их называли иностранными пролетариями. Даже милиционер приветствовал их широкой улыбкой, когда они предъявляли ему документы. Иностранцы, братья, пролетарии…
Они отправились в Кадетский корпус, в рощу на склоне холма. Отдыхали под густыми кронами деревьев, поглядывали на московских девушек.
На скамейке под цветущим душистым кустом сирени сидели две красивые девушки. В легких пестрых платьях они были похожи на бабочек.
— Сядем рядом, — шепнул Тамаш на ухо Керечену. — Поговорим с ними.
Керечен вежливо поклонился девушкам:
— Разрешите?
Девушки рассмеялись.
Слово за слово завязался разговор. Хорошо быть молодым! Цветет сирень, настроение чудесное! Не важно, какие слова произносятся; так выразительны шаловливые взгляды из-под густых мягких ресниц, играющая на губах улыбка, так прекрасны полные плечи, густые локоны — все то, что присуще молодости! И кто осудит двух собирающихся ехать на родину солдат за то, что не больше чем через час две пары целовались в укромных уголках парка!
Одну девушку звали Марусей, другую — Любой.
Они целовали русских девушек, целовали, прощаясь с Россией. Нелегкая жизнь, борьба, свобода… Настоящая мужская работа. Это им дала революция. Теперь, когда нужно расставаться с этой страной, они чувствовали, что оставляют здесь частицу своей души. Родина — великий магнит, притягивающий их к себе, а здесь другой магнит — свобода…
Девушки каждый вечер ждали их, но пришел день, когда Имре и Иштван не смогли пойти на свидание. Хотели еще раз побывать в Третьяковской галерее, но тоже не смогли. Сняли с себя военную форму, получили взамен гражданскую одежду, сели в поезд. Направление — на Петроград, затем путешествие морем и неопределенность, неуверенность в будущем.
В поезде Мишка Хорват лежал на верхней полке (впервые ехали они по России в пассажирском вагоне) и, свесившись, говорил Дани Риго:
— Эй, Дани, хорошо, что у нас нет жен! Полка такая узкая, что жена рядом со мной не поместилась бы.
— Ну это не беда! — так же шутливо отвечал Дани. — Прислал бы свою жену ко мне, а я уж как-нибудь устроился бы с ней.
— Это ты умеешь! — засмеялся Лайош Тимар. — Ты и в Москве все возле девушек кругами ходил.
— А несчастного Билека мне жаль. Я бы выбросил этот идиотский сундук.
— Оставь Билека. Ему хорошо, ему лучше, чем нам. Он чех, его не отвезут ни в Чот, ни в Залаэгерсег, где хортисты организовали огромные концлагеря, уж не говоря о тюрьме на проспекте Маргит… А из нас потроха повыпускают к чертовой матери!
— Зато у тебя есть надежда остаться в живых, да еще и отплатить кому следует! — сказал Тамаш.
— Но я не сдамся! — кипятился Дани. — Перед этими негодяями отрицать стану, что грамоту знаю. Пусть считают, что как я родился крестьянским олухом, так и остался им.
— Ты прав, — согласился Мишка Балаж. — Дураков бить не станут.
Пишта Керечен, услышав их разговор, тоже сказал свое слово:
— И еще постарайтесь как следует обрасти щетиной! Чем больше будете походить на бродяг, тем глупее будете выглядеть. Они не переносят людей культурных. А молиться вы еще не разучились?
Все расхохотались.
Лайош Смутни тоже ехал с ними. Ему нечего было бояться, он считался чехословацким подданным, но все-таки и он высказал свое мнение:
— Вот что я вам скажу, ребята. Вы видели в Москве в посольстве безногого солдата? Я не об одноногом говорю, а о другом, которому обе ноги начисто оторвало гранатой. Передвигается он с помощью двух маленьких костылей, переползает с места на место. На улицу выйти не может. Он тоже был красногвардейцем. Белые его так разделали под Екатеринбургом. Он никогда не поедет домой. Что же ему говорить? У нас по крайней мере хоть руки-ноги целы.
— И то правда! — согласился с ним Керечен. — Побои, пытки, голод — все может вынести человек; срок отсидки в тюрьме или в лагере пройдет, а вот бедного Лаци Тимара никто не подымет со дна Камы. Вот мы здесь находимся вместе с моим дружком Имре Тамашем. Разве мы надеялись, что выберемся живыми из этой заварухи?
— Мне только жаль, — грустно вздохнул Дани Риго, — что нам в Москве пришлось сдать партийные билеты. Не будет у нас документов, если дома снова вспыхнет революция.
— Вот о чем ты заботишься! — воскликнул Керечен, — Уж если мы снова возьмем в руки оружие, кое-кому не поздоровится, хоть мы и без документов.
— Послушайте, — сказал Мишка Хорват, — у меня ничего не осталось на память о Красной Армии, только ремень да деревянная ложка. Надо хоть их сохранить.
Билек со своей Кипритией устроились чуть подальше от них. Сундук пришлось сдать в багаж, не пролез он в дверь вагона. Жена всю дорогу ворчала, сердилась на мужа, не разговаривала с ним. Она едва успела вытащить из сундука мешок с продуктами и чайник. Кипрития, как хорошая хозяйка, и в Москве успела напечь пирожков с капустой. Бедному Билеку казалось, что сок жаренной в постном масле капусты течет у него, как пот, из всех пор. К счастью, на всех вокзалах был кипяток, и им не пришлось испытывать недостатка в чае.
В Петрограде пришлось ждать три дня, и они хотели использовать это время как можно лучше. Ночевали они в пустой квартире, могли свободно ходить по городу. Пустых квартир в Петрограде было тогда много. Война и революция опустошили город. Многие аристократы и буржуи бежали за границу. Петроград выглядел, как тяжелобольной, который уже перенес кризис, но еще очень слаб.
Старинные дворцы, стройные мосты над Невой, богатства Эрмитажа очаровали солдат. Керечен с Имре Тамашем ходили по городу, вечерами отправлялись погулять по Невскому проспекту.
По широким тротуарам проспекта текли толпы: солдаты и матросы, гражданские моряки с иностранных пароходов. На улице звучала немецкая, французская, английская речь. Из подвальчиков доносились звуки балалайки и гармошки. Рекой лились пиво и водка. Кошельки дельцов распухали от иностранной валюты, деньги доставались легко. Здесь собирались подонки, оставшиеся в стране и приехавшие из-за границы, процветала спекуляция. А рабочие фабрик и заводов, борясь с нуждой, голодные, оборванные, строили будущее, завтрашний день страны.
— Слушай, Пишта, — толкнул Керечена в бок Имре Тамаш, — не зайти ли нам в такой подвальчик?
— А деньги есть? — спросил Керечен.
— Есть. В Москве я продал сапоги, одеяло и солдатские башмаки. Идем!
Они остановились у входа в ресторанчик, откуда доносилась музыка. Оркестр играл вальс. Слышалось пение: хриплый хмельной бас пел грустную песню о гибели Святой Руси.
Имре Тамаш не понял слов песни, Керечен перевел, и Имре сердито заворчал:
— Пошли отсюда! Ну их к чертовой матери! О чем думает милиция? Забрать бы всю эту банду да отправить в тайгу рубить лес… Роскошествуют тут, пьянствуют… Оплакивают старый мир. Плачьте! Мы тоже многое сделали, чтобы он никогда не вернулся.
Иштван Керечен схватил за руку Имре Тамаша и кивнул на парочку, которая показалась в полосе света из дверей ресторана.
— Посмотри на них! — прошептал он и сделал Имре знак молчать.
Высокий мужчина в гражданской одежде вел под руку сильно накрашенную женщину. Керечен и Тамаш стояли в тени, и парочка не могла их видеть.
Мужчина, очевидно, знал по-русски всего несколько слов, да и те произносил с венгерским акцентом.
— Ты где живешь? — спросил он у женщины.
— Тут, близко.
— Пойдем к тебе. Харашо?
Крашеная чертовка шутливо хлопнула его по щеке.
— Харашо! — передразнила она. — Идем!
Друзья осторожно пошли за ними.
— Кто он? — полюбопытствовал Имре Тамаш.
— Венгерский офицер, — также шепотом ответил Керечен. — Я с ним в одной комнате шил в Красноярске. Уездный начальник… Он единственный из нас не заболел сыпняком.
— Как его звать?
— Михай Пажит… Возможно, он бежал из лагеря, а может, едет домой с офицерским транспортом. Одного не понимаю: как ему удалось удрать из лагеря?
— Отовсюду можно убежать, особенно если ловкий, — шепнул Тамаш.
— Знаешь, кто он? Мой смертельный враг. Это он выдал меня белочехам. Я чуть жизнью за это не поплатился… А теперь и он едет домой. И будет там осведомителем… А мы ничего сделать не можем!
— Надо заявить в комендатуру, — предложил Тамаш, — что он контрреволюционер, чтобы его домой не пускали…
Керечен покачал головой:
— Нет никакого смысла. Он из тех, кого по обмену отпускают. Лишь бы нам с ним в один транспорт не попасть — тогда мне сразу конец. В чотском лагере жандармы изобьют до смерти. Как же иначе? Если меня обвинит уездный начальник, станут ли они со мной церемониться?
— Останемся тут? — боязливо спросил Имре Тамаш.
— А ты остался бы?
Имре не ответил. Они молча шли за парочкой, но идти пришлось недалеко: в переулке мужчина с женщиной скрылись в первой же подворотне.
— Подождем? — спросил Имре.
— А зачем? Пошли лучше спать… Теперь уже все равно. Послезавтра едем домой.
На третий день их включили в группу военнопленных, в которой не оказалось никого из знакомых. С ними уезжали пятьдесят пленных офицеров.
У пристани их поджидал маленький немецкий грузовой пароход. В трюме были сооружены койки в несколько ярусов, где могли разместиться человек триста. Сначала грузили багаж. Керечен и остальные наблюдали с берега, как кран поднимал ящики вверх и опускал их на палубу парохода. С военнопленными были их жены и дети, человек двадцать. Кипрития с тревогой ждала, когда дойдет очередь до ее сундука. Наконец крючок подвели под веревку, которой был перевязан сундук. Легко как перышко взлетел он ввысь, понесся над морем, но на полпути вдруг стал крениться набок.
— Остановитесь, проклятые! — закричала Кипрития, но было уже поздно.
Сундук распахнулся, словно раскрыл огромную пасть, и все его содержимое с высоты полетело в воду. Медный самовар закончил здесь свой жизненный путь, за время которого он успел напоить чаем не одно поколение. Предметы полегче несколько минут еще держались на поверхности, но постепенно и они погрузились в соленую морскую воду. Кипрития молчала, как громом пораженная, только топталась на месте. Язык ее развязался лишь тогда, когда стоявшая рядом с ней женщина — жена возвращавшегося на родину военнопленного, — прижав руку к сердцу, вздохнула:
— Слава богородице, не наш…
Тут уж бедная Кипрития не смогла удержать наполнявшей ее сердце горечи:
— О боже, боже, что с нами будет? Это ты, негодяй, плохо завязал его! Ты виноват! Нищими нас сделал! Бедная я! И зачем я вышла за такого олуха? Что мне теперь делать? Черт тебя побери, неужели нельзя было как следует завязать сундук?
Билек не хотел смотреть, не хотел слушать. Он знал, что она теперь до самой смерти будет оплакивать свой сундук, а он действительно не виноват, он перевязал сундук основательно.
— Да перестань ты выть над этим хламом! — сказал он примирительно, но эти слова еще больше разозлили ее.
— По-твоему, это хлам? Последний ты человек, оборванец, нищий! Разорил меня!
— Успокойся, Кипрития! — прикрикнул на нее Билек.
Уж лучше бы он промолчал! Жена, как фурия, вцепилась в него, но Билек отшвырнул ее. Возможно, в это мгновение прорвалась вся накопившаяся в нем за короткий период супружеской жизни горечь. Женщина упала да землю, но тут же вскочила.
С головы ее свалился платок, светлые волосы растрепались, соленый ветер с моря шевелил их. Кипрития выхватила из-под кофточки лист бумаги, яростно порвала его и выбросила клочки в море.
— Меня посмел ударить, негодяй?
— Посадка начинается! — раздалась команда.
С палубы парохода спустили сходни. Военнопленные бегом стали подниматься на борт. Билек оказался последним.
— Пойдем! — позвал он жену, но Кипрития показала ему кулак.
— С тобой, мерзавец? С тобой, грабитель? Никогда, слышишь, никогда! Я и свидетельство о бракосочетании в море выбросила… Поезжай один!
— Посадка кончается!
Билек пожал плечами:
— Как хочешь! — И он одним прыжком вскочил на борт уже отходившего от берега парохода.
Швартовы отдали, машины заработали. Пароход трясся, пыхтел, все больше удаляясь от берега. Ветер трепал льняные волосы Кипритии, но голоса ее уже не было слышно. Может быть, она кричала, умоляя остановиться? Может, в ее маленьком мозгу пробудились наконец трезвые мысли? Пока она яростно металась по берегу, некоторые на борту парохода принимали ее сторону, другие смеялись, а потом о ней забыли, завороженные видом скрывающегося вдали Петрограда, его стройными голубовато-сероватыми очертаниями, которые все больше стирались и наконец исчезли за горизонтом. Старый немецкий пароход спокойно резал воду, тихо покачивая пассажиров. Маленькие шаловливые морские волны бежали к горизонту, который непрерывно менял цвет, становясь из синего зеленым, потом сиреневым, розовым, серым со множеством всевозможных оттенков. Над пароходом проносились чайки. Билек все еще стоял у перил. К нему подошел Тамаш.
— Жалеешь? — спросил он.
— Да ну ее к черту!
— Так почему же ты все назад смотришь?
— Боюсь, как бы она за мной на моторке не пустилась.
— Теперь ты дома сможешь жениться на другой, — утешал его Тамаш.
— Конечно. Если она еще замуж не вышла.
— Только вот в чем загвоздка, ты ведь теперь снова женат, а если женишься еще раз, тебя могут обвинить в двоеженстве.
— Черта с два! — засмеялся Билек.
— Что это значит?
— У меня на этот раз ума хватило, — объяснил Билек. — Я дал ей фальшивый документ. Это не настоящее свидетельство о браке было. Она не знала.
— Чего-то я тут не понимаю, — покачал головой. Имре Тамаш. — А что было бы, если б она с тобой поехала?
— Пришлось бы жениться на ней по нашим законам. Значит, повезло мне. Такой уж я удачливый человек. Родился я тринадцатого числа, тринадцатого же меня призвали в армию, тринадцатого попал в плен, тринадцатого навязал себе на шею эту женщину, и сегодня опять тринадцатое число. Я не суеверный, но посмеяться можно. Удача ко мне приходит тогда, когда я оказываюсь по шею в дерьме. Что ж, мне и это подходит…
Матросы парохода начали оживленную торговлю с военнопленными. Покупали на немецкие марки сапоги, одеяла, одежду, советские рубли и все, что им ни предлагали, лишь бы оно имело хоть какую-то ценность.
Тамаш отошел от Билека, тем более что пришло время обедать. Обед раздавали из больших котлов. Тамаш заглянул в котел. Рисовый суп с яблоками.
— Ну, этого я и пробовать не стану, — сказал он Керечену. — У меня от такой еды сразу морская болезнь начнется.
На другой день хорошая погода кончилась, налетела гроза. Пассажиры в испуге попрятались. На палубе остались одни матросы. Огромные волны обрушивались на палубу, пароходик страшно качало. Его совсем недавно приспособили для перевозки людей, помещения еще хранили затхлый запах. Дети плакали, женщины жаловались и ругались между собой. Некоторые из женщин молились, опустившись на колени. Мать успокаивала грудного младенца, который орал что было силы. Деревянные части парохода скрипели.
— О боже, неужели тонем!? — выкрикнул кто-то.
Буря постепенно улеглась. Открыли дверь. Светило солнце. Морская вода чисто вымыла палубу. Люди выбрались на воздух, и мгновенно была забыта буря, прекратились плач и крики. Все пели, шутили. Море сверкало в лучах солнца, словно и ему передалось хорошее настроение…
На третий день возникла в тумане пристань Свинемюнде. На песчаной косе, выдававшейся далеко в море, грелись на солнце отдыхающие. В море виднелось множество купающихся. Люди, с их маленькой жизнью, любовью, страданиями, самоотверженностью, счастьем… Чужие, незнакомые люди… Бескрайнее голубое летнее небо, безбрежное море, теплый щекочущий песок, очарование обнаженных молодых женских тел…
Перед пассажирами парохода, словно ужасающий призрак прошлого, на мгновение возникла картина: колючая проволока лагеря военнопленных. Они даже представить себе не могут, что им никогда не придется оказаться на свободе, купаться в море…
Сошли на берег, остановились на ночлег во временном лагере.
Керечен натянул на себя одеяло, но согреться не мог.
— Тебе холодно? — спросил Имре.
— Немного.
— Укроемся всем, что есть!
— Мы уже в Германии.
— Да. Все поближе к Венгрии.
Долго ворочались. Все здесь казалось странным. Немецкая речь звучит как-то не так, ничего не поймешь. На улицах — немецкие полицейские. На перекрестке нарисована огромная фигура полицейского, указывающего рукой в сторону пляжа. Приторно сладкие кушанья…
Как только транспорт прибыл на немецкую землю, офицеры повысили голос. Шесть лет плена не научили их человечности. Они снова почувствовали себя выше остальных, нашили знаки отличия, подтянулись, окаменели, с солдатами стали говорить сквозь зубы. Может быть, им удалось сохранить и записи о некоторых событиях? Списки заподозренных в коммунизме лиц они уж наверняка сохранили.
Пажита среди офицеров не было. Очевидно, уехал домой с предыдущим транспортом.
До Штеттина добирались поездом. Офицеры в вагонах первого класса, солдаты — четвертого. Видно, родина издалека раскрыла объятия сынам с золотыми нашивками на воротниках.
Вполне возможно, что на всем земном шаре люди нигде не путешествовали с такими неудобствами, как в четвертом классе старых немецких поездов. Кондуктору приходилось перебираться из одного вагона в другой по наружной стене, словно акробату. Перед самым Штеттином, когда поезд начал замедлять ход, два человека вылезли через окно на доску для кондуктора и оттуда спрыгнули на землю. Керечен подумал, что это, должно быть, товарищи, которые не хотят попасть в штеттинский лагерь для военнопленных, а оттуда — прямо в руки к Хорти.
Штеттинский лагерь охраняли жандармы. Тамаш подумал, что было бы романтично бежать отсюда с Тамарой, и, захватив с собой ценности, двигаться прямо к сердцу Германии. Он даже высмотрел для себя полицейского, который, безусловно, выпустил бы их за десять долларов…
В Штеттине они оставались недолго. Быстро, один за другим, последовали Пассау, Вена, Чот…
РОДИНА «ПРИВЕТСТВУЕТ» СВОИХ СЫНОВ
Венгрия…
Как странно, что тут все говорят по-венгерски. И так громко говорят. Почему в Венгрии разговаривают так громко?.. Мерзкий, неприветливый лагерь. Деревянные бараки, как в Сибири, с той лишь разницей, что, они не вкопаны в землю. Вернувшихся домой пленных охраняют венгерские жандармы.
— Что ж, Имре, — сказал Керечен, — теперь начнется то, чего еще не было.
— Знаю. Может, боишься?
— Ничуть. А все-таки лучше было бы с оружием в руках разговаривать с господами унтерами. Тогда они сразу поняли бы наш язык.
В бараках на стенах плакаты. На одном из них изображен Бела Кун. Подпись гласит: «Бела Кун, один из кровожадных вождей международного коммунизма».
С презрительной улыбкой смотрели друзья на глупые плакаты.
— Темнота здесь, Имре, — вздохнул Керечен. — Просветить их нужно… Для того мы и вернулись домой. Одна свечка дает мало света, но много маленьких свечей рассеют эту густую тьму.
— Маленькие свечки легче потушить.
— Правильно. Но зажгутся другие… А клопы уползают от света.
На кухне раздавали говяжий гуляш. К обеду каждому полагалось по стакану вина.
— Это нам благодарная родина отпускает за наши шестилетние страдания, — шепнул Керечен.
— Что же, выпьем с благодарностью.
Во время обеда жандармский унтер с острыми закрученными усами прохаживался между столов.
— Говорят, — шепнул на ухо Керечену сосед слева, — что этот унтер откармливает шесть свиней за счет пленных. И не только помоями, но и хлеб крадет.
— Ничего другого не крадет? — спросил Тамаш, услышавший шепот.
— Больше у нас красть нечего! — Незнакомец выразительно подмигнул.
На другой день состоялась месса. Лагерный епископ Задравец выступил с проповедью.
Если висящие в бараках плакаты свидетельствовали о высшей степени невежества, то можно сказать, что поток слов святого отца, пропитанный смертельным ядом, своей ограниченностью, ненавистью и угрозами оставил далеко позади тупость рисовавших плакаты. Кровожадный епископ, восхваляя Хорти, превратил крест сына плотника из Назарета в дубинку, в кнут, в виселицу. В его речи не было ни слова об идеях христианства. Словно никогда в жизни не читал он в Евангелии о всеобщей любви. Больше было похоже, что он копирует мстительного иудейского бога со всей его кровавой жестокостью. Его уста из-рыгали угрозы.
Вернувшиеся домой офицеры с тупым благоговением слушали слова епископа. Было очевидно, что они полностью согласны с ним и рады выразить ему свое одобрение. А ведь и среди офицеров были люди образованные, здравомыслящие, но среди волков они научились выть по-волчьи. А кто не хотел этому учиться, сжимал зубы.
Было воскресенье, день нерабочий. Сыщики не работали, они славили господа бога. На следующий день начался допрос пленных. Вопросов было много: где служил, где был, что делал, как попал в плен, привез ли домой дневник, что знаешь о красных? Кому удавалось, не возбудив подозрений, ответить, тот получал справку о демобилизации и проездной лист, чтобы ехать домой.
Здесь уже было не до патриотической болтовни. Ярость хищника Хорти проявлялась открыто. Сыщики его знали свое дело.
Дошла очередь до Имре Тамаша.
— Имя?
— Имре Тамаш.
— Имя матери?
— Розалия Надь.
— Религия?
Тамаш на секунду замолк, притворился, что не понимает.
— Говори! Онемел, что ли? Ты еврей?
— Я не еврей.
— Католик? Да? Дошли дальше! Где попал в плен?
— Под Коломыей, что на Буковине, в мае пятнадцатого года.
— В каком полку служил?
— В шестидесятом.
— В Красной Армии служил?
Тамаш ответил не сразу:
— Собственно, я…
— Говори! Опять онемел? Был красным или не был?
Керечен, стоявший сзади, вмешался:
— Простите, но Имре Тамаш туговато соображает.
— Ах так! — язвительно усмехнулся следователь. — В каком лагере ты находился в последний раз?
— В красноярском.
— А! В красноярском! Тогда ты многое должен знать. С кем ты был там знаком, болван?
Лицо Имре Тамаша от грубого оскорбления залилось краской. Руки сжались в кулаки. Он упрямо молчал, и следователь продолжал допрос:
— Ты знал в Красноярске подпоручика Йожефа Ковача? Что можешь о нем сказать?
— Не знал.
— А почему ты не побрился? Чтобы дураком выглядеть? Знаем мы эти трюки! Подозрителен ты мне… Этим типом я хочу еще заняться, — заявил следователь другим членам комиссии. — Отойди! Следующий!
— Иштван Керечен, пехотинец, шестидесятый пехотный полк, имя матери Эстер Гуйаш. В плен попал вместе с Имре Тамашем.
— А не с товарищем ли Тамашем? — спросил следователь.
Керечен ничего не ответил.
— Религия?
— В католической церкви крестили.
— А теперь?
— Я не менял религии.
— Скажи, а тебя всегда звали Керечен? Не был ли ты раньше Коном?
— Всегда был Кереченом.
— Гм… Ты тоже был в Красноярске?
— Да.
— Слышал ли ты о некоем подпоручике Йожефе Коваче?
«Что отвечать? Очевидно, Пажит все-таки опередил нас…» Он на мгновение задумался. И тут ему пришла в голову удачная мысль. Почему бы не устроить цирк? Все можно свалить на господина подпоручика Йожефа Ковача, ставшего большевиком. Он сразу вспомнил старый служебный жаргон королевской армии.
— Докладываю, что о нем я знаю много.
— Наконец хоть один разумный человек появился. Почему ты не побрился?
— Докладываю, что у меня было воспаление кожи на лице, заразное.
Может быть, удастся избежать пощечин? Ведь он «заразный»…
— Рассказывай о Йожефе Коваче!
— Докладываю, что господин Йожеф Ковач был коммунист!
— Был?
— Так точно, был!
— А теперь нет?
— Так точно, нет.
— Почему это?
— Потому что он, позвольте доложить, умер.
Сыщик взглянул на него с видимым замешательством:
— Врешь! Йожеф Ковач и сейчас еще в Москве. Правая рука Бела Куна. Раньше его фамилия была Клейн. Типичный еврей, кудрявый.
— Докладываю, что у Йожефа Ковача, которого я знал, были гладкие волосы. От тифа умер. Такой большой коммунист был, упокой, господи, его душу!
Сыщик что-то написал на бумажке.
— Словом, ты утверждаешь, что он умер? Расскажи это своей бабушке!
Керечен пожал плечами:
— Что я могу поделать, если вы не изволите мне верить? Я сам на похоронах был!
— Ты тоже был в Красной Армии?
Керечен и бровью не повел, ответил спокойно:
— Я, прошу покорно, не разбираюсь в политике, мирное житье люблю.
— Я не то у тебя спросил… Ты был красноармейцем? Отвечай!
Трудно сдержаться, когда с тобой говорят таким наглым тоном. У Керечена чесались руки. Эх, если бы можно было дать по морде этому скоту в мундире, этому подлому лакею! Но что может сделать человек, если он один, если борьба неравна? Теперь ему может помочь лишь трезвый расчет. Надо сдержать поднимающуюся к горлу ярость, даже если это и невозможно!
— Йожеф Ковач был красноармейцем и умер.
— А я о тебе спрашиваю, болван!
— Так я же вам ответил, прошу покорно.
Сыщик потерял терпение.
— Этот человек или симулянт, или идиот! Я еще с ним поговорю. Унтер-офицер, уведите обоих! — закричал он.
— Слушаюсь! — рявкнул жандарм. — Вперед шагом марш!
Они прошли вдоль деревянных бараков. Позади шел жандарм. На территории лагеря находилась церковь с высокой башней, а вблизи нее — тюрьма. Жандармский унтер передал арестованных другому, с такими же, стрелками, усами. Тот записал имена и втолкнул арестованных в большое помещение, где уже находилось человек тридцать. Они сразу окружили прибывших, забросали их вопросами.
— Только сейчас приехали?
— Позавчера.
— Вас Оливер сюда послал?
— Мы его не знаем в лицо, — ответил Керечен.
— Такой дылда, проклятый фараон! — возмущенно воскликнул человек в сером костюме, в берете, по виду — рабочий. — Он среди них самый большой мерзавец.
— Может быть, это он и допрашивал нас? — предположил Тамаш. — Обращался с нами страшно грубо.
Рабочий подошел к ним, угостил сигаретами.
— Мы не спрашиваем у вас, кто вы, красные или коммунисты, потому что к нам сюда подсаживают доносчиков. Но если мы узнаем, что кто-то нас предал, тому несдобровать. Отделаем его — лучше не надо. А сыщики здесь дело свое знают. Они и вас сегодня «приоденут».
Тамаш с наивным удивлением смотрел на говорящего. Рабочий понял, что перед ним люди порядочные. Даже сам не заметил, как перешел на «ты»:
— Ты не знаешь, конечно, что мы называем «приодеть». Я каждый день получаю новую «одежду». — Он поднял рубаху и показал покрытое синяками и кровоподтеками тело. — Красиво? А что вы скажете о покрое? Иногда они «подметки» нам подбивают, как сапожники. Бьют по голым ступням, но не молотком, а резиновой дубинкой. Это уже тонкость их ремесла, ведет прямо к цели. Во-первых, потому, что преступник после этих ударов с ума сходит от боли, а если ни в чем не признается, то это означает, что он или ничего не знает или очень порядочный человек. Второе преимущество заключается в том, что на теле не остается видимых следов, только врач может установить, но для этого надо сначала снять ботинки. Таких испытаний я никому не пожелаю. Имена свои вы можете назвать, их скрывать незачем.
Друзья представились.
— А меня зовут Михай Ваш. Красноармейцем был в Астрахани. Оливер это знает, так что никакой тайны я вам не открыл… Ну ты, шпион! — продолжал Михай, повысив голос. — Если ты здесь, слушай внимательно, а потом беги доносить Оливеру! Можешь даже ему сказать, что мне известно, какая судьба меня ждет! В Залаэгерсег пошлют меня.. Сегодня меня еще раз подкуют, а завтра я исчезну отсюда и сквозняка после себя не оставлю. Но и среди жандармов попадаются хорошие парни. Я как-то разговорился с одним, две черты у нас с ним оказались общими: оба мы, оказывается, любим красивых женщин и голубцы… Что же, черты вполне человечные, разве не так?
— Ты здесь давно, в этом вонючем лагере? — спросил Тамаш.
— Два месяца. В Залаэгерсеге пробуду полгода, потом домой, в Будапешт, на улицу Гернади. Год будут меня держать под домашним надзором.
— А это что такое? — поинтересовался Керечен.
— Так вы еще совсем зеленые юнцы! Даже не знаете, что такое домашний надзор! Вам еще учиться надо… Ну а потом весь мир будет мой. Зять имеет механическую мастерскую. Он хороший товарищ, даст работу.
— Как здесь кормят? — спросил Тамаш.
— Сносные помои. Меня и хуже кормили. Деньги у вас есть?
— Откуда же? — вздохнул Керечен.
— Это плохо. Без денег трудно. Иногда приходится и тюремщикам платить.
— Сколько тут держат?
— По-разному, в зависимости от того, как им твоя личность понравится. Некоторые до двух месяцев томятся, но обычно через месяц отсылают.
— Куда?
— Есть четыре варианта: или домой отпускают, только это большая редкость; или отправляют в тюрьму на проспекте Маргит, там можно и пять лет просидеть; или в Залаэгерсег, в лагерь; ну а еще…
— Что еще?
— Сук.
— А это что такое? — спросил Тамаш. Все столпившиеся вокруг заулыбались, а Михай Ваш потрепал Имре по плечу.
— Это самое верное место, и государству дешевле всего обходится. Ничего другого не надо, кроме намыленной веревки и крепкого сука. А еще проще — прикончить пулей в затылок. Так поступают с теми, кто, по их мнению, приехал домой с определенным заданием. Вы знали товарища Мехеша?
Имре Тамаш уже хотел ответить, что знали, но Керечен незаметно толкнул его локтем. Ваш заметил это и одобрительно улыбнулся, потом продолжал:
— Его убили. Если кого-то отсюда увозят, то уж обязательно навсегда.
Несколько минут все молчали. Может, и им суждена такая смерть? Наконец Михай Ваш заговорил:
— Вам еще повезло с именами. Тамашей и Кереченов обычно не убивают, хотя товарищ Мехеш тоже отвечал расовым требованиям. А вот если бы вас случайно звали Шварцем или Коном, так я и ломаного гроша не дал бы за вашу жизнь. Здесь, дружище, охотятся за евреями. Офицеров-евреев до крови избивают, даже если они никакого отношения к революции не имели, даже если контрреволюционерами были. Еврей не может быть витязем, пусть совершит хоть тысячу героических поступков!
Друзья услышали вполне достаточно и теперь ясно могли представить себе, какое их ждет будущее. Они уселись на нары, разложили вещи, осмотрелись. Теперь, когда они перестали быть центром внимания для остальных, можно внимательнее приглядеться к людям, с которыми их свела судьба. Им бросился в глаза бледный человек интеллигентной внешности, который грустно и апатично сидел на нарах в самом дальнем конце помещения и смотрел в одну точку, ни с кем не разговаривая. Керечен спросил у Михая Ваша, кто он.
— Это самое несчастное в мире существо, — ответил Ваш. — Честный служащий. Скромный, беззащитный, покорный. За всю свою жизнь и мухи не обидел. Сыщики его вот уже месяц избивают, и он, бедняга, помешался. Нервы отказали. Ночью он кричит во сне или трясется от страха. Никак не придет в себя после пыток. А ведь он не был ни красноармейцем, ни коммунистом. Стихи у него нашли. Сглупил, с собой привез, хотя и знает наизусть… Отто, — обратился Михай Ваш к человеку в углу, — что тебя так огорчает?
— Оставь меня в покое! Не видишь разве, что я думаю?
— О чем ты думаешь, Отто?
— О том, что верх котелка представляет собой закругленную линию. Сколько я ни провожу по нему пальцем, конца нет. Такая линия называется бесконечной. Такая же бесконечная, как избиения и страдания или как зарождение нового человека, которого снова будут бить, истязать, чтобы он страдал. Я ломаю себе голову, чтобы понять, окончательно ли я поглупел или только временно стал кретином.
— Над этим стоит подумать! — кивнул Михай Ваш. — Но что касается твоей глупости, об этом и речи быть не может. Ты поправишься. Будет у тебя красивая жена, ребенок…
— У меня?.. Не надо мне! Я не хочу производить на свет других оливеров, других отто… Не был я никогда коммунистом, я и теперь не коммунист, но они делают со мной такое, что и сельского священника могут превратить в большевика… Как тут не сделаться идиотом? Почки мне отбили, все тело у меня похоже на географическую карту. И все из-за этих стихов…
— Хорошие стихи. Прочитай их нам, Отто!
— Ладно! Теперь мне уже все равно.
Люди собрались вокруг него. Отто встал на нарах и начал декламировать. Выразительным баритоном он рассказывал о том, как коммунисты страдают в тюрьме, в той самой тюрьме, которую построили их отцы — рабочие-каменщики. Построили для своих сыновей и братьев… Старая толстая стена во дворе тюрьмы покраснела от крови. Возле нее расстреливают тюремных узников. Мрачное здание, словно огромное чудовище, питается человеческими жизнями, пьет людскую кровь. Каждый день оно требует своей порции, но никогда не насыщается. Мужчины, женщины, старые или молодые — ему все равно, лишь бы была кровь. Сколько еще других ужасов! И все это — кровавые побеги этой тюрьмы. Гремят выстрелы, угасают жизни. Их никто не возвратит назад, безымянные могилы поглотят их. Может быть, и дети забудут, что выросли без отца, без матери, кровь которых окрасила тюремную стену, которые отдали жизнь, чтобы построить лучшее будущее своим внукам.
Из глаз заключенных текли слезы. Стихи тронули их до глубины души. Это о них писал неизвестный поэт, это их судьбы переплетены рифмованными строками.
Отто в изнеможении опустился на нары. По его бледному лбу стекали капли пота. Из глаз хлынули слезы, и он громко, судорожно зарыдал…
Постепенно стемнело. Играющие в шахматы и шашки закончили свои партии. Боль в ступнях терзала их с удвоенной силой, на разбитых губах запеклась кровь, но, когда арестованные усаживались у самодельных шахматных досок, игра и бесконечные маты отвлекали их.
Сосед Керечена, Байер, тоже коммунист, был юристом. Оливер вытащил его из офицерского транспорта. Кто-то выдал Байера. Он протянул Керечену руку.
— Вы здесь новички. Никакого опыта, никаких практических знаний. Скоро узнаете многое. Сегодня у сыщиков было, очевидно, много работы, потому и позабыли о вас. Завтра вспомнят.
— Я тоже так думаю.
— Да… Странная тут жизнь. Словно это место полностью изолировано, словно мы и не в Европе вовсе, а, скажем, в Тасмании или в другом никому не известном месте земного шара. Здесь попраны все права, здесь наплевать на судебную процедуру, на уголовный кодекс. Здесь плюют на культуру, на то, что веками создавалось человечеством. Здесь без всякого правосудия человека лишают самого ценного — свободы, а часто и жизни. Этот лагерь для демобилизованных не что иное, как увеличенная копия отрядов Хейяша или Пронаи, хотя тут и стараются сохранить видимость законности, — например, решения об интернировании пишутся на специальных бланках с печатью и подписью… Но существует в этом лагере одна особенность…
— Какая?
— Которая отчасти нам на руку, — улыбнулся Байер. — Здешние жандармы невероятно невежественны… Не смейтесь, я это говорю серьезно. О политике у них представление еще меньшее, чем имеет инфузория. Кроме тупых высказываний Хорти, они ничего не знают. Поверьте мне, отсюда выходят только те, у кого нервы покрепче, кто сможет выдержать постоянные зверские побои. Я советую: что бы с вами ни делали, не признавайтесь ни в чем. У них нет данных относительно возвращающихся домой военнопленных. Доносы офицеров и шпионов основаны на догадках и ничего не доказывают. От побоев в большинстве случаев можно оправиться, но годы тюремного заключения оставляют глубокий след в организме человека, если ему вообще удается выжить. В тюрьмах тоже бьют.
— Слышал…
— Я уж не говорю о юридических последствиях. Судимость при режиме Хорти означает гражданскую смерть, нечто вроде существовавшего когда-то отлучения от церкви. Если кто-нибудь попадает под суд по обвинению в коммунизме, неправосудие…
— Правосудие…
— Я так сказал нарочно… Скажите, вы получили копию приказа о содержании в тюрьме?
— Ничего мы не получали.
— Вот видите! А ведь это самое элементарное требование закона. Вручение копии к чему-то обязывает следственные органы, а тут даже видимости не соблюдают. Но есть здесь один человек, советник полиции, вот его остерегайтесь. К нему поступают все донесения о расследованиях и протоколы допросов. В конечном счете он решает судьбу заключенных. Он не бьет. Предоставляет это известным своими зверствами жандармам. А если в своем рвении эти садисты переходят границы и подозреваемый посредством убедительных аргументов — кнута, веревки или револьвера — расстается с жизнью, господин советник подбирает юридическую формулу, чтобы покрыть преступление. Чаще всего люди умирают от «старческой слабости». Оливера он никогда не позволит и пальцем тронуть. И к врачу бесполезно обращаться, чтобы он дал заключение о причине смерти. Он вам такое заключение напишет, что придется головой о стену биться… Вам не жестко лежать на досках? У меня есть лишнее одеяло, я вам его охотно одолжу.
— Спасибо.
— Словом, господина советника опасайтесь. Внешне он очень вежлив. Полицейскую науку знает в совершенстве, превосходный юрист и отменный негодяй. Он вас ничем не оскорбит, но вы должны следить за каждым своим словом, чтобы не поплатиться.
Керечен ответил, что уже имел дело с одним из сыщиков и сделал для себя вывод о его умственном уровне.
— Подождите, — продолжал Байер, — сейчас, должно быть, около полуночи, все вокруг затихло. К этому времени с допросами обычно кончают, и господа сыщики идут развлекаться… Напиваются. А на другой день встают в плохом настроении, с тяжелой головой, дурным привкусом во рту. А потом вымещают злость на заключенных. Прислушайтесь! Слышите цыганскую музыку?
— Слышу, — шепотом ответил Керечен.
Издали донесся высокий визгливый тенор пьяного человека, выводивший слова песни:
Сегодня жизнь еще розовая, завтра белый сон. Не жалей же поцелуев, цветик мой прекрасный!— Это Оливер, — сказал Байер. — Знаю я его голос. Не хотелось бы мне завтра попасть к нему в лапы.
Расстояние несколько смягчило звуки музыки и высокий, невероятно фальшивый, прерывистый тенор, которому вторили басовитые грубые голоса пьяных собутыльников.
— Скажите, — спросил Байер, — вы можете себе представить, что такая вот скотина может прочитать сонет Шекспира или остановиться перед скульптурой Родена «Мыслитель», воображая, что и она человек, только потому, что может прямо держаться на задних конечностях? И вообще, что общего может иметь Оливер с человеческим обществом?
— Вы правы, — продолжил Керечен рассуждения Байера. — В наших глазах дикое животное, носящее имя Оливер, олицетворяет все то, что мы больше всего ненавидим: плетку господина. Такие вот оливеры убивали на плахе крестьянского вождя Дожу и его сторонников. Но их общество не находит в этом ничего особенного. Как раз наоборот. Они даже нашли для таких шутливые прозвища: «Молодчина», «Парень что надо»… Я еще не знаком с общественными отношениями режима Хорти. Возможно, я обнаружу здесь много общего с проявлениями кровавого строя Колчака… Вы не думаете?
— Вы, конечно, правы. Лишь национальные черты отличают их друг от друга. Одни бьют нагайкой, другие кнутом…
— И господь бог над тем и другим простирает благословляющую длань… А теперь попытаемся заснуть. Может, хоть во сне увидим нечто лучшее, чем этот грязный мир. Спокойной ночи!
Утром следующего дня в тюрьму привели Дани Риго и Мишку Хорвата. Теперь однополчан стало четверо.
— Если и дальше так пойдет, — проворчал Тамаш, — скоро весь взвод здесь окажется.
…На допрос друзей повели первыми. За письменным столом на стене висел тупо чванливый портрет Миклоша Хорти. Под ним распятие. На стенах выписанные большими буквами пропагандистские лозунги. Все в комнате было таким же, как и в других служебных помещениях. Арестованных ждали два следователя и дюжий полицейский. Один из них — Оливер. С высокомерным спокойствием прозвучал первый вопрос:
— Как зовут?
Имре Тамаш молчал.
— Ты что, оглох, пес вонючий? Тебя спрашивают!
Имре молчал.
— Не хочешь отвечать, негодяй? Ну, постой! Держите его! — крикнул он другим. — Снять сапоги!
Толстая трость взлетела со свистом.
— В лохмотья превращу твои ступни! — орал Оливер.
Имре Тамаша схватили трое. Его связали, стащили с него сапоги, перекинули ноги через палку, лежавшую концами на спинках двух стульев. Оливер тростью бил его по ступням и скверно ругался. Было невыносимо больно. Глаза Имре наполнились слезами. Хотел прижать кулак ко рту, чтобы не закричать, но руки были связаны… Он молча переносил жестокую пытку, не хотел, чтобы его стоны порадовали палача… Имре не помнил, сколько времени продолжались мучения, он лишился чувств.
Придя в себя, понял, что лежит на полу, руки и ноги развязаны. Услышал голос Оливера:
— Унтер-офицер, отведите в камеру! Я еще с ним побеседую! Приведите следующего негодяя, Керечена!
Полицейский помог Тамашу добраться до камеры.
— Ну ты, брат, силен как бык, — сказал ему по пути унтер. — Только с господином следователем шутки плохи.
Заключенные, столпившись вокруг, засыпали Тамаша вопросами.
— Иштван Керечен! — выкрикнул унтер. — Тебя вызывают.
— Ждут, гиены! — крикнул кто-то.
— Кто это сказал?! — заорал унтер.
— Далай-лама! — ответил тот же голос.
— Кто из вас далай-лама? Встать!
В ответ раздался лишь насмешливый хохот.
— Ведите его, унтер! И радуйтесь, что не вас ведут!
— Молчать!
Керечен потряс руку Имре:
— Молодец ты!
Унтер решил, что не стоит обострять положение, и поскорее ушел с Кереченом.
…В руках у Оливера свистела трость. На столе лежал кнут. Керечен остановился перед столом сыщика.
— Имя? — хмуро спросил Оливер.
— Иштван Керечен.
— Ты тоже большевистская падаль?
Керечен не ответил, и Оливер побагровел от ярости:
— Молчишь, негодяй? Хочешь, чтобы, я научил тебя почтительности?
Перед глазами Керечена стояло истерзанное лицо Имре. Жестоко его пытали. Теперь настал черед его, Керечена… Надо с ними как-то иначе, с этими скотами-хортистами, с этими палачами. Постарался успокоиться.
— Прошу покорно, господин старший инспектор, я ехал домой и был уверен, что со мной будут обращаться по-человечески. Нелегкое это дело — шесть лет на фронте, в плену! Столько страданий перенести! Вы здесь передо мной представляете родину, и это не может быть для меня безразличным…
— Ишь, каким образованным стал! Холоп!
Лицо Керечена не дрогнуло.
— Не для хвастовства говорю, — продолжал он, — но и я кое-чему учился. И нечего удивляться, что за столько лет пристало ко мне хоть немного культуры. Я настолько уважаю свою родину, что и от ее представителя жду, чтобы он говорил со мной культурно. Если желаете, могу продиктовать свои слова для записи в протокол, более того, у меня есть связи и я согласен обнародовать свое мнение в печати.
Оливер был поражен. Таким тоном с ним еще никто не говорил. Упоминание о печати ему не понравилось. «Правда, при курсе, взятом Хорти, печать помогала нам тянуть воз, но есть еще и подрывные газеты, например «Уйшаг», «Вилаг»[7]… «Эшт» тоже не заслуживает доверия. «Непсава»[8] продалась иудеям. Конечно, все это грязные жидовские листки, но печатаются в них иногда очень неприятные вещи», — подумал он.
— А у вас какая профессия? — спросил он чуть мягче, но подозрительно. Очень уж ему хотелось избить этого стоявшего перед ним умника.
— Электромонтер.
— Чиня электричество, научились так ловко языком трепать?
— Нет, прошу покорно, в школе.
— Что это за фамилия у вас? Вы не еврей?
— Это венгерская фамилия. Есть такая порода соколов-кереченов. В Венгрии есть село Кереченд. Может, мои предки были там крепостными. А может, я и ошибаюсь. По происхождению я крестьянин и горжусь этим.
— Гм… — скривился Оливер. — Никогда не слышал, чтоб кто-то крестьянским происхождением гордился! Вы не коммунист?
— А разве это очень важно? Мне известно, что вам поручили узнать, не занимаемся ли мы антипатриотической деятельностью. Наши убеждения не должны вас волновать. А если я скажу, что буддист? Или заявлю, что верю в переселение душ? По закону нельзя преследовать людей, если они ничего противозаконного не совершают.
Оливер начал терять терпение.
— Вы слишком много болтаете! Отвечайте на вопросы короче.
— Если вы таким тоном будете со мной разговаривать, я вообще перестану отвечать.
— В Красной Армии были?
— Я был, прошу покорно, обыкновенным военнопленным. Теперь мне очень хочется демобилизоваться и уехать домой. И оставьте вы меня, пожалуйста, в покое!
— Сначала мы должны кое-что выяснить. Вы были в Красноярске. Не встречали вы там офицера по имени Отто Брюнер?
— Я жил в солдатском бараке, из офицеров мало кого знал.
— А откуда знали Йожефа Ковача?
— На фронте был при нем денщиком.
— Много в Красноярске коммунистов?
— Очень много. Чешские легионеры перестреляли их. Я на похоронах присутствовал.
— Я вижу, от вас ничего не добьешься. Даю вам время на размышление. Если вы и впредь откажетесь откровенно отвечать на вопросы, я поговорю с вами на другом языке.
— С удовольствием. Кроме родного венгерского языка я говорю по-немецки, по-русски и понимаю почти все славянские языки.
Оливер нахально расхохотался:
— Ну, наш язык понять легче.
— Видите ли, — проговорил он медленно, чеканя каждое слово, — мои предки тысячу лет возделывают эту землю. Они венгры. Воевали, смешивались с печенегами, татарами, гуннами, турками. Может, кто из них и воровал, если голод толкал на это… Но чтобы кто-нибудь из них был доносчиком? Нет! Я уж, во всяком случае, не унаследовал от них такой склонности.
— Вон отсюда! — заорал Оливер. — Унтер-офицер, проводите этого человека в камеру.
Когда Керечен вернулся, Тамаш уже успел смыть с себя кровь и привести в порядок одежду.
— Сильно били? — спросил он.
Керечен улыбнулся:
— Пока удалось этого избежать…
Дани Риго пробыл на допросе целый час. Пришел окровавленный, но с улыбкой рассказывал о «потехе», как он назвал допрос.
— Этот идиот меня спрашивает, был ли я красноармейцем, и трах по правой щеке! Отвечаю: не был. Тут он меня по левой. «Почему не был, невежа?» — кричит он. «Неграмотный я, прошу покорно, даже не знаю, что оно такое, этот «комонизм». Так и сказал: «комонизм». «А почему не знаешь?» — спрашивает он и опять отвешивает мне пощечину. «Ума у меня для этого мало, уж поверьте мне. Зачем вы меня обижаете?» — спрашиваю его. А он давай мою мать поносить, такое сыпал, что даже самая последняя шлюха и та покраснела бы. Говорю я вам, здесь людей воспитывают, коммунистов из них делают. Уж если кто побывал в Чоте, до конца дней своих будет сознательным.
Отто, бледный, ломая руки, слушал рассказ Дани Риго.
Байер сказал, что согласен с Дани: характеры борцов выковываются в борьбе. И коммунистов закалять надо.
Михай Ваш заявил, что чувствует себя уже достаточно закаленным и теперь предпочитает покататься с красивой девушкой по озеру в городском парке.
Приволокли обратно и Мишку Хорвата. Его так избили, что он еле шевелил губами. У него нашли записную книжку, а в ней обнаружили номер его партийного билета. Оливер был страшно разъярен, что все отпущенные им до сих пор пощечины не принесли результата, и очень обрадовался обнаруженной улике. Вещественное доказательство: «Номер партийного билета 655677. Побывать у товарища Х.»… Оливер чуть не пустился в пляс от радости. Конечно, допрос был проведен со всем пристрастием.
Ночью из тюрьмы увели двоих. Одним из них был Мишка Хорват. Этих людей никто больше не увидел. Утром Отто сказал, что где-то далеко прогремели два выстрела, но, может быть, ему показалось. Может, стреляли в подвале. Цыганская музыка и пьяные песни снова доносились к заключенным. Оливер тянул модную тогда антисемитскую песню «Эргер-бергер».
Через неделю на допрос снова вызвали друзей из Красноярска. Избили всех троих, но никто из них ничего не сказал.
Отто увезли в тюрьму на проспекте Маргит.
В лагерь пришел новый транспорт. Из старых обитателей тюрьмы почти никого не осталось. Байера вызволили влиятельные родственники. Некоторых выпустили. Ваша с пятнадцатью товарищами увезли в Залаэгерсег, в лагерь. Ночами заключенных уводили по одному.
Прошла еще неделя. Их снова били. Потом миновала еще одна. Три недели они сидели здесь, похудевшие, измученные, избитые до полусмерти, с ноющими ступнями, горящей спиной, но не сломленные.
В конце четвертой недели военнопленных из красноярского лагеря вызвали к господину советнику. Он перебирал бумаги, лежащие на столе, с выражением официальной скуки на выбритом желтоватом лице. — Зачитываю имена: Имре Тамаш, Иштван Керечен, Даниэль Риго, Михай Балаж. Все здесь?
— По вашему приказанию все здесь! — ответили они в один голос.
Господин советник насадил на нос пенсне в золотой оправе и, словно читая скучные статистические данные, сухим голосом произнес «патриотическую» речь:
— Относительно вас возникло серьезное подозрение, что вы служили в русской Красной Армии. Я лично придерживаюсь мнения, что вас надо интернировать, однако во имя справедливости воздерживаюсь от применения этого строгого административного воздействия. Сегодня вам будут вручены справки о демобилизации, и в виде исключения вы будете отпущены. Не забывайте, где вы находитесь. Здесь вы должны отвечать за каждый свой шаг. Мы от всех подданных нашей родины требуем уважения к законам и патриотического поведения. Родина поступает с вами великодушно: дает возможность искупить совершенные грехи. Здесь мы обращались с вами гуманно, не так, как это в обычае красных. Но не забывайте, что и впредь мы не будем сводить с вас глаз. Понятно? Документы получите в конторе. Можете идти.
Четверо демобилизованных со счастливыми улыбками вышли из кабинета господина советника.
— Эх, хорошо бы сейчас выпить стакан холодного вина с содовой! — воскликнул Дани Риго, когда они оказались во дворе. — Я им наврал, что неграмотный. Как бы не так! Посмотрите! — Он показал им толстую брошюру — одно из произведений Ленина на венгерском языке. Дани быстро спрятал ее в карман. — Здесь взял, в передней господина советника. Должно быть, нашли у кого-то из военнопленных. Не завидую я тому человеку. А я решил, что хорошо будет почитать ее дома. Оливер ведь все равно не станет читать, слишком глуп для этого.
Друзья посмеялись над проделкой Дани Риго, но главной их заботой было поскорее очутиться за воротами лагеря. Получили справки о демобилизации, проездные листы, вскинули на плечо котомки. Все их имущество в этих котомках: кусок черного хлеба, рваные рубашки, портянки. На прощание следователь еще раз похлестал их кнутом по спине, палкой по ступням ног. Каждый шаг причинял боль. Легкая котомка давила на спину, как тяжелый груз. Молодыми, неопытными парнями вступили они в этот безумный мир. Многое испытали они за эти тяжелые годы, но земля родины всегда была для них святыней. Они не становились в позу, не падали на колени, не целовали землю своей родины, не произносили избитых фраз. Им было достаточно, придя домой, сказать на родном языке: «Отец, мать…»
По перрону разгуливал жандарм со штыком. Он строго проверил у них документы, махнул рукой: мол, можете идти. Поезд стоял на первом пути. Они вошли в вагон третьего класса, уселись на жестких деревянных скамейках. В купе кроме них находилась лишь одна старая крестьянка.
— Издалека едете, сынки? — спросила женщина.
— Издалека, мать, из Сибири, — ответил Мишка Балаж.
— О боже мой! И там тоже люди живут?
— Живут! — ответил Керечен, утирая слезу, набежавшую на глаза. Ему вспомнилась Шура. — Всякие люди живут: и хорошие, и плохие.
— Сказали мне, что и мой сын родной погиб там. В восемнадцатом году я от него последний раз письмо получила, из города Омска. Есть там такой город?
— Есть такой город, мать, — ответил Тамаш.
— Как хорошо ты это сказал мне, сынок. И мой сын так всегда говорил. Сказали мне, что убили его белые. Только я женщина темная, не знаю я, кто они такие, эти белые… И зачем они моего сына убили?
Дрогнул состав, лязгнули буфера. Керечен высунулся из окна. Трое демобилизованных солдат бежали к вагону. Жандарм крикнул:
— Черт бы вас побрал! В последний момент приходите! — И отпустил крепкое ругательство.
Солдаты на ходу вскочили в поезд. Ругань жандарма неслась им вслед.
Старушка перекрестилась.
Керечен глубоко вздохнул и сказал тихо:
— Ну что ж, милая родина, вот мы и дома…
Примечания
1
Самуэли Тибор (1890—1919) — видный деятель венгерского рабочего движения, один из руководителей Венгерской советской республики в 1919 году. В начале первой мировой войны был призван в австро-венгерскую армию. В 1915 году попал в плен к русским. После победы Великой Октябрьской социалистической революции вступил в Коммунистическую партию. Самуэли был одним из организаторов интернациональных полков из бывших военнопленных, сражавшихся в Советской России против контрреволюционных сил. В январе 1919 года он вернулся в Венгрию, где занимал ряд ведущих должностей в правительстве Венгерской советской республики, после падения которой в августе 1919 года был зверски убит агентами империалистической разведки. — Прим. ред.
(обратно)2
Лигети Карой (1890—1919) — венгерский писатель. В 1916 году попал в русский плен. В 1917 году стал членом большевистской партии. Вел революционно-пропагандистскую работу среди венгерских военнопленных. Один из организаторов отрядов Красной гвардии в Омске. Редактировал «Форрадалом» («Революция») — газету военнопленных, издававшуюся на венгерском языке. В июне 1918 года, будучи раненным, попал в плен к белым и был казнен ими в июле 1919 года вместе со 150 другими интернационалистами. — Прим. ред.
(обратно)3
«Человек» (венг.).
(обратно)4
Залка Матэ (1896—1937) — венгерский писатель. Будучи офицером австро-венгерской армии, принимал участие в первой мировой войне 1914—1918 годов. В 1916 году попал в русский плен. Вел революционно-пропагандистскую работу среди венгерских военнопленных. Участник гражданской войны и строительства социализма в СССР. В 1920 году Залка стал коммунистом. Геройски погиб в Испании во время освободительной войны, будучи командиром 12-й интернациональной бригады. — Прим. ред.
(обратно)5
«Призыв» (венг.).
(обратно)6
«Новое поколение», «Вечер», «Венгрия», «Будапештский дневник» (венг.).
(обратно)7
«Новость», «Мир» (венг.).
(обратно)8
«Слово народа» (венг.) — газета, орган венгерских профсоюзов. — Прим. ред.
(обратно)
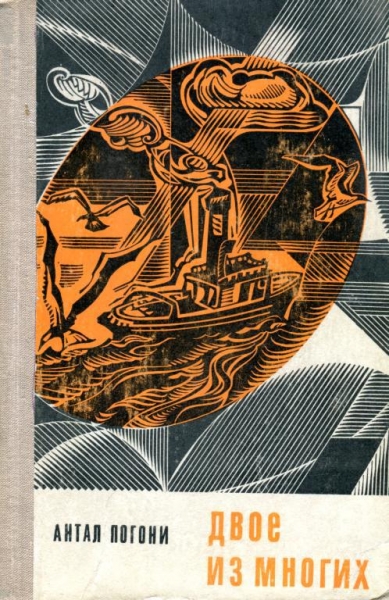


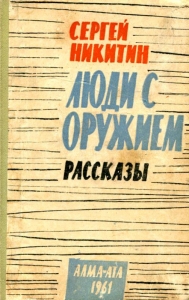
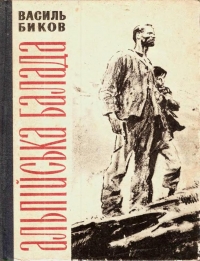

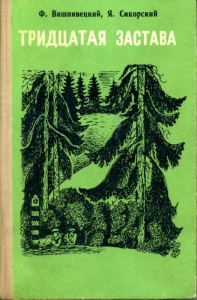

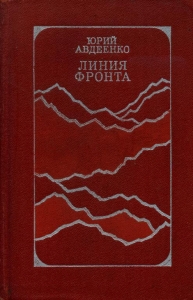
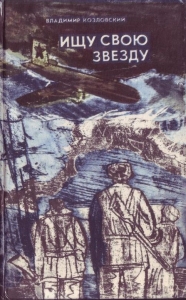
Комментарии к книге «Двое из многих», Антал Погони
Всего 0 комментариев