Г. И. Гончаренко - Годы испытаний. Книга 3. Разгром
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВРАГ У ВОЛГИ
Позови, полна тревоги. Волга-матушка река.
Дальше нет для нас дороги. Хоть Россия велика.
(ИЗ ПЕСНИ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
В сентябре 1942 г. Гитлер созвал в своей резиденции срочное совещание членов совета министров по обороне Германии, ответственных лиц и представителей генерального штаба и верховного командования германских вооруженных сил.
Гитлер не случайно разместил свою резиденцию во дворце Бисмарка. Он считал себя его преемником и продолжателем. Все во дворце осталось по-прежнему, как в те времена, когда жил и работал здесь «железный канцлер».
В приемную фюрера съезжались фельдмаршалы, генералы и штатские лица. Они стояли группами и парами, расхаживали и сидели, обменивались мнениями вполголоса и все с напряжением ждали, когда фюрер пригласит их к себе. Каждый раз собирались они в кабинете Гитлера, томимые тревожным ожиданием и чувством невольного страха. «Кого он сегодня возвысит? Кто попадет в опалу? Какую новую непредвиденную задачу выдвинет перед ними? Как ее решить так, чтобы Гитлер остался доволен их службой?»
В дверях кабинета Гитлера появился его личный адъютант — Гюнше. Он пригласил приехавших на прием следовать за ним.
Кабинет фюрера — высокий, просторный зал. Сколько бы раз ни входил в него, всегда поражаешься его размерами.
Широкие окна с низкими подоконниками и стеклянная дверь в сад. На окнах тяжелые зеленые шторы. Стены украшены картинами — собственным творением фюрера — акварельными пейзажами. На полу цветистые итальянские ковры. В конце кабинета массивный резной из черного дерева стол. На нем небольшой глобус. На приставном длинном столе фотоальбомы, огромные, в кожаных переплетах. (Гитлер очень любил фотографироваться в самых величественных позах.) На маленьком столике у окна в кубке из черного мрамора торчали гусиные перья, которыми когда-то писал Бисмарк. Гитлер с тщательной скрупулезностью хранил исторические безделушки тех времен и гордился своим единственным правом наследника.
На рабочем столе в хаотическом беспорядке разбросаны карандаши различных цветов. Можно подумать, что это стол не государственного и военного деятеля, а художника. В центре — чернильный прибор из черного, с золотистыми прожилками мрамора, два очень крупных пресс-папье такого же цвета и несколько почти плоских черных телефонов. По обеим сторонам кабинета тоже длинные столы, обитые красным сукном, и тяжелые черные кресла — для посетителей.
Гитлер стоял посредине огромного зала лицом к входной двери, чуть приподняв подбородок кверху. Это его любимая поза, такой он всегда — на трибунах, многочисленных фотографиях, портретах и плакатах. Сейчас у него сосредоточенное лицо и острые, пронизывающие глаза с нетающим ледком. Прибывшие входили, приветствовали его выброшенной кверху рукой. Он жестом приглашал их садиться, продолжая стоять.
У каждого из приближенных Гитлера имелось как бы закрепленное за ним пожизненно место. Справа от председательствующего сидел его первый заместитель доктор Йозеф Пауль Геббельс — глава имперского министерства пропаганды. Рядом с Геббельсом в светло-голубом замшевом мундире с золотым шитьем — командующий военно-воздушными силами Германии рейхсмаршал Герман Геринг. Это третье лицо в германской империи.
За Герингом — рейхслейтер, член совета министров по обороне государства Мартин Борман. Круглая голова, грубое, энергичное лицо с широкими скулами, гладкие черные волосы разделены пробором, темные глаза сверлят каждого входящего. По правую руку Бормана сидел Гейдрих, генерал войск СС, у него сухие и жесткие черты лица, одет в черный мундир с белыми нашивками, белую манишку с черным галстуком. Гейдрих обернулся и что-то говорил Риббентропу — имперскому министру иностранных дел и члену политического штаба фюрера при главной ставке. За ним с неподвижно-суровым лицом — грек — глава абвера, фашистской тайной разведки, адмирал Канарис. Его крючковатый массивный нос и сутулые поднятые плечи чем-то напоминали орла.
Слева от Гитлера находился начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер с гордо посаженной, седеющей головой. За ним — начальник штаба оперативного руководства вооруженными силами генерал-полковник Иодль с суровым, непроницаемым лицом. Рядом с ним — генерал артиллерии Вагнер, генерал-квартирмейстер (начальник тыла вооруженных сил). За ними вызванные срочно в ставку, прилетевшие сегодня утром на самолетах командующие группой армий «Б»— генерал-полковник барон фон Вейхс и командующий группой армий «А» генерал-фельдмаршал Лист.
— Господа, — сказал резко, почти выкрикнул Гитлер, и тотчас все, как по команде, устремили на него взгляд и замерли. — Я собрал вас по поводу Сталинграда и кампании на Кавказе. Генерал Гальдер, генерал барон фон Вейхс и фельдмаршал Лист доложат нам свои соображения. Прошу вас, господин генерал Гальдер.
Начальник штаба сухопутных сил, человек со строгим и спокойным лицом, хорошо знающий свои обязанности, поднялся и подошел к стене, на которой висела стратегическая карта Восточного фронта. Он взял указку и острием ее уперся в широкую голубую ленту — Волгу.
— Ввиду промедления с выполнением задач шестой армией Паулюса и четвертой танковой армией Гота обстановка в районе Сталинграда сложилась, мой фюрер, не в нашу пользу. Вследствие нерешительных действий этих командующих русские армии не были уничтожены восточнее Дона, как это было предусмотрено вашим планом, мой фюрер. Советские войска получили возможность вести маневренную оборону и выиграли время. Они сумели перебросить свежие силы из-за Волги, и это помогло им подготовиться к упорной обороне города. Начавшиеся наступления наших двух армий месяц тому назад также не привели к выполнению оперативной задачи. Взять Сталинград в «клещи» не удалось. Вместо того чтобы соединиться на берегу Волги, обе армии вышли западнее ее. Разрушенные в ходе боев крупные предприятия, расположенные к северу от города, остаются в руках русских. На берегу Волги немецкие войска находятся только в районе Купоросной, — ткнул он указкой в черный квадратик.
Командующий группой армии «Б» барон фон Вейхс, в чьем подчинении находились эти армии, сорвавшие выполнение плана, сидел суровый, нахохлившись, как большая усталая птица, и смотрел в развернутую перед ним карту. Он чувствовал, что на него бросает гневные взгляды Гитлер, смотрят все присутствующие, и умышленно не подымал глаз. «Ну каков Гальдер!!! Пытается все просчеты генштаба и главного командования вооруженных сил свалить на мою голову. Не выйдет, не выйдет, — мысленно твердил он себе. — Я доложу об обстановке фюреру все, как есть. Мне нечего терять, но я не позволю, не потерплю, чтобы со мной обращались, как с каким-то офицериком-службистом, вытягивающимся в струнку и заплетающимся языком лепечущим: «Виноват, виноват». Они еще узнают, кто я такой, тыловые штабные крысы».
Гальдер бросил изучающий взгляд на участников совещания, провел указкой по заштрихованным черным квадратикам и прямоугольничкам, обозначающим кварталы Сталинграда, и продолжил доклад:
— Некоторым немецким частям удалось пробиться на окраину Сталинграда, южнее реки Царицы и на севере, в районе села Рынок, и южнее его, но важнейшая часть города с паромной переправой остается пока в руках русских.
Вейхс не выдержал и прервал:
— Паромная переправа полностью парализована нашей артиллерией.
Но Гальдер, не обращая внимания, продолжал:
— Немецкие дивизии в Сталинграде с тактической точки зрения пока еще, мой фюрер, обращены в основном к Дону, а не к Волге.
Гитлер нетерпеливо перебил Гальдера:
— И в этом надо винить только генерала Вейхса и вас.
— Обороняющиеся русские армии в Сталинграде располагают неограниченными возможностями для того, чтобы, используя стабильную позиционную оборону, расчленить наши наступающие войска и не давать им покоя, нападать и уничтожать их, хотя потери наши в людях и технике.
Гитлер прервал его и раздраженно-повышенным тоном сказал:
— Я прошу не касаться потерь. Они не имеют значения для выполнения конечной цели — захвата Сталинграда. Ваши конкретные предложения, генерал Гальдер?
— Ради достижения решительного успеха на более важном оперативном направлении — Кавказе — считаю целесообразным отказаться временно от взятия Сталинграда и перейти к обороне, а все силы и резервы бросить на Кавказ.
Гитлер сидел, но когда он услышал это предложение, вскочил и, потрясая в воздухе кулаком, грохнул им по столу:
— Я слышал от вас подобные предложения, господин генерал. Да, да, уже не раз. Я решительно их отклоняю. Сталинград необходимо взять, несмотря ни на какие потери.
— Если мы намерены брать Сталинград, тогда, мой фюрер, нам придется хотя бы временно отказаться от Кавказа. Немецкие армии должны перейти к обороне на Кавказе до овладения Сталинградом — таково мое мнение. Но, как вам будет угодно, мой фюрер.
Гитлер резко поправил прядь волос, упавшую на лоб, сказал:
— Я давно уже слышу ваши глубоко ошибочные мнения, господин генерал. Но и от действий на Кавказе я не откажусь. Мне все ясно. Вейхс, доложите ваши соображения по этому вопросу.
— Господин фюрер, смею напомнить, я докладывал свое мнение и обращался с предложением в штаб верховного командования и. к вам лично.
Но Гитлер тут же оборвал его:
— Понимаю, вы хотите уйти от ответственности. Я вижу, вы разделяете точку зрения генерала Гальдера и предлагаете отказаться от захвата Сталинграда. Эти половинчатые суждения мне и раньше не нравились. О них мне докладывал генерал Иодль после боя под Калачом.
«Значит, начальник штаба оперативного руководства вооруженными силами Иодль умышленно предвзято информировал о моих намерениях фюрера, — подумал Вейхс. — После совещания придется просить у Гитлера личной аудиенции для доклада».
— Считаю это стратегическим недомыслием, — резко выкрикнул Гитлер. — Я заставлю всех выполнить мой приказ. Сталинград должен быть взят во что бы то ни стало, и притом в самое ближайшее время. Я, и только я предопределю дату его падения.
Гитлер был взбалмошной натурой. Все он любил и всем увлекался постольку поскольку: наукой, искусством, военными знаниями. Только люди, обладающие сверхъестественной интуицией (к которым он причислял и себя), были, по его мнению, способны рождать великие идеи и добиваться их осуществления решительно и бесповоротно.
Когда Гитлером овладевала какая-то новая идеи, он уединялся и замыкался в себе. Но стоило ему встретиться с возражениями или столкнуться с внезапным препятствием, он приходил в буйное неистовство. Он не старался отягощать себя глубокими знаниями, считая, что это вредно сказывается на рождении гениальных идей.
Но все это кажущееся, напускное и порой простоватое на первый взгляд, кто его не знал лично, могло лишь ввести в заблуждение. Иодль вспомнил, как однажды Гитлер небрежно исчертил туристскую карту Франции и Испании синими стрелами. Вызванные к нему в салон-вагон Кейтель и Иодль, переглядываясь, лишь пожимали плечами. Они хорошо понимали идеи фюрера, знали его военный талант и покорно отвечали одно: «Яволь» (Ясно). Хотя многое для них тогда оставалось загадкой. «Я даю вам идею, — говорил Гитлер, — и исхожу из того, что мне нужна важная английская база — Гибралтар. А как сделать, чтобы он был в наших руках, подумайте сами. На то вы и назначены на высокие военные посты. — Но тут же вскоре он как бы отходил от запальчивости и говорил, и приводил такие расчеты, что даже они, опытные военные генштабисты, только диву давались. — Я рассчитал, что для переброски наших войск потребуется три месяца. Переход франко-испанской границы мы осуществим за месяц до нападения. Остальное надо разработать штабу в деталях и доложить мне не позднее чем через месяц весь оперативный план».
Иодль, слушая Гитлера и вспоминая об этом, хорошо знал, что фюрер не преминет спросить у него мнение по вопросу предстоящего наступления на Сталинград. И он в своем предчувствии не ошибся.
— Генерал Иодль, — обратился Гитлер, — прошу высказать ваши соображения.
Иодль поднялся, неторопливо и уверенно подошел к карте и встал в позу самоуверенного ученика, отвечающего учителю у доски и поглядывающего с пренебрежением на однокашников.
— Считаю, мой фюрер, что надо непременно завершить начатое сражение нашей армии под Сталинградом. Мы не можем упускать инициативы на таком важном оперативно-стратегическом направлении. Иначе русские перехватят ее у нас. По моему глубокому убеждению, шестой армии надо в самое ближайшее время очистить еще не захваченные районы города от противника и окончательно перерезать Волгу, а с нею и все коммуникации, связывающие большевиков с южными районами страны. Нас обязывают утвержденные вами, мой фюрер, планы, требует наш престиж перед союзниками, да и международная обстановка. Мы должны выполнить ваши гениальные замыслы и быть непреклонными в достижении этих великих целей
Гитлер обвел сидящих острым вопрошающим взглядом.
— Вы правильно мыслите, Иодль. Вы, как я понял, настаиваете на необходимости выполнения директивы, отданной главным командованием? Мне ясно. Ваши доводы считаю единственно разумными.
Барон Вейхс поднялся и попросил слова. Гитлер покровительственно сделал ему знак рукой.
— Мой фюрер, я не против того, чтобы покончить со Сталинградом. Но сил наших двух армий для решения такой задачи в настоящий момент недостаточно. Резервы армии на исходе, тылы далеко остались позади. У нас очень затруднительное положение со снабжением.
Гитлер перебил его:
— Но вместе с вами, не забывайте, успешно воюют армии наших союзников: румын и итальянцев. Мы в свое время, Вейхс, усилили вашу армейскую группу танковой армией Гота. Однако пока я не вижу, чтобы это благоприятно повлияло на исход последних сражений. Я принял решение пополнить шестую армию и четвертую танковую свежими частями. Все вы видели, как ликовал сегодня народ в Берлине, провожая новое пополнение для окончательного разгрома большевистских войск на Волге. Мы должны сделать все, чтобы оправдать надежды великого немецкого народа. Но я жду от вас, барон Вейхс, решительных действий. Только захват Сталинграда может покрыть все ваши прежние промахи.
Слова попросил рейхсмаршал Герман Геринг. Гитлер поправил тыльной стороной руки снова упавшую на лоб косую прядь волос. Видно было, что он вошел в азарт, свойственный его неуравновешенной натуре.
— Прошу вас, господин рейхсмаршал.
— Считаю, мой фюрер, что со Сталинградом надо покончить навсегда. Это не только поднимет престиж германской армии в глазах союзников, но и потрясет мир. Падение города на Волге, носящего имя их вождя, главнокомандующего страны — это, прежде всего, политический удар по большевикам. Я приказал усилить воздушную армию Рихтгофена новыми бомбардировочными полками. В самое ближайшее время наша авиация сотрет в порошок остатки этого города. Он, клянусь, не будет существовать более на земле.
За ним поднялся доктор Геббельс. Он обвел всех присутствующих поблескивающими глазами.
— Рад сообщить вам, господа, благодаря военному гению фюрера наша пропаганда стала одним из самых мощных видов оружия. Оно метко разит наших врагов, поднимая дух народа и доблестной армии. По личному указанию фюрера министерство пропаганды подготовило широкую программу всенародного праздника, посвященного падению Сталинграда. Лучшие радиокомментаторы разосланы по всем фронтам. Сам Ганс Фриче будет вести передачу из поверженной крепости большевиков на Волге — Сталинграда. Мы увеличиваем количество передач последних известий для наших соотечественников. Наши репортажи с передовой линии фронта, подводных лодок, находящихся во вражеских водах, и бомбардировщиков, которые действуют на территории врага, приобрели огромную популярность немецкого населения.
Наши киностудии и знаменитые артисты примут участие в съемках фильмов о героях-победителях, сокрушивших большевиков в городе их вождя — Сталина. Я твердо уверен, господа, что гений фюрера ведет нас к победе, которая прославит немецкий народ и его великую армию в веках.
Гитлер нервно поглядывал на часы. Он не терпел долгих разговоров, чувствуя, что никто не может предложить лучшего, чем это сделал он сам в короткой беседе со своими подчиненными и ближайшими соратниками.
Все присутствующие на совещании высказались за овладение Сталинградом.
— Итак, господа, — обратился ко всем Гитлер, — наше совещание утвердило во мне окончательно уверенность, что Сталинград должен быть взят немецкой армией не позже конца сентября. Это главная цель для нас сегодня. Кавказом я предлагаю заняться вам, Иодль и Гальдер. Он почти в наших руках, его судьба решена, и он меня уже не волнует. Вы свободны, господа!
«Да, — подумал Вейхс, покидая кабинет фюрера, — триумвират поистине редкий». Он, как именитый прусский барон, оценивал каждого из них по-своему. Гитлера он ценил меньше всех и считал его менее культурным, но наиболее романтичным и авантюристичным до ребячьих глупостей. Но что взять с человека с преступным прошлым? Геббельс и Геринг — доктора философии, но оба, обуреваемые ненавистью ко всем народам, импонировали как нельзя лучше идеям Гитлера и готовы были прибегнуть к самым крайним мерам, чтобы рассчитаться с любой нацией, которая стоит, по их мнению, на пути к мировому господству немцев.
Барон фон Вейхс хорошо знал, что они не любят друг друга, но ради того, чтобы сохранить власть и свой высокий престиж, вынуждены терпеть и не подавать виду, что между ними постоянно вспыхивают серьезные разногласия, особенно сейчас, в вопросах ведения войны. Но Вейхс, как и многие высшие германские чины, был вполне удовлетворен службой. Им доверяют, их имена окружили ореолом славы, поручали самые ответственные военные операции и щедро награждали. А то, что иногда до унижения разносили и ругали, то это считалось обычным явлением во взаимоотношениях начальника и подчиненных.
Вейхс постепенно успокаивался. И теперь резко обвинивший его в своем докладе Гальдер и этот любимчик фюрера Иодль уже не казались ему такими негодяями, как он о них думал. Не так остро уже чувствовалась после окончания совещания эта обида, задевающая его полководческое самолюбие. «Они, как и я, на службе, — думал он. — Все же фюрер не только им, но и мне верит. Иначе он не стал бы вызывать меня в свою резиденцию, интересоваться моим мнением, как скорее покончить с этим проклятым Сталинградом».
За время командования группой армий, наступающих на Сталинград, Вейхс все больше озлоблялся, особенно с каждой неудачей, и теперь уже жгучая ненависть к Сталинграду распирала его. Он угадывал каким-то шестым чувством, что фюрер не случайно устроил ему этот самый трудный военный экзамен. Если он, Вейхс, его выдержит, то Гитлер наверняка его приблизит. (Давно уже поговаривали, что он недоволен службой генштаба). Кто знает, может, тот же Гальдер и другие высшие начальники будут ходить в его подчинении. Ради такой далеко идущей перспективы стоило отчаянно бороться, напрягая все силы, выжимая все из войск, которыми он командовал. Кто упрекнет его, если он пожертвует всеми ими и хотя бы с одной ротой солдат из личной охраны останется в живых после падения последней большевистской крепости на Волге? Важны конечные результаты. Победителя не судят. Придется по приезде дать основательную взбучку этому интеллигентному штабнику Паулюсу и встряхнуть спокойно-равнодушного Гота. Конечно, при этом надо обязательно их вдохновить, каждого заинтересовать. Рассказать им, как фюрер лично инспектировал новые резервные дивизии, которые он посылает к нам в Сталинград. Намекнуть об обещанной щедрой награде и повышении.
Тем же вечером, после короткого семейного ужина, барон фон Вейхс в прекрасном настроении вылетел с берлинского аэродрома Темпельсгоф специальным самолетом в сопровождении эскорта «мессершмиттов» в штаб группы армий южнее Старобельска.
А спустя неделю, после совещания поздним вечером, когда Гитлер ходил, вспоминал и посматривал на висевшую стратегическую карту, на которой толстые угрожающие клещи стрел смыкались за Волгой, к нему в кабинет вошел адъютант Гюнше. По его лицу было видно, что он чем-то расстроен.
Гитлер бросил на него подозрительный взгляд:
— Что случилось? Что-либо произошло?
Гюнше чуть кивнул:
— Да, мой фюрер, есть неприятные новости».
— Докладывайте. — Гитлер посмотрел настороженно, вскинул голову, чуть пригнулся, будто изготовился к прыжку.
— Русские переправили через Волгу свежие силы. Они оттеснили наши войска там, где мы контролировали их переправы.
Гитлер мрачнел, набычившись. Он бросал исподлобья злые взгляды то на Гюнше, то куда-то в потолок. И вдруг ударил по столу кулаком, взвизгнув от негодования:
— Бездельники, шарлатаны, поразъехались, сбежали с фронта. Почувствовали приближение победы, потянулись на отдых. Немедленно пишите мой приказ. Я отменяю все приказы барона Вейхса об отпусках офицеров. Всех немедленно вернуть в свои части. Я никого не пощажу, если кто не выполнит мой приказ о Сталинграде. Передать лично Паулюсу мой приказ — утраченные позиции на Волге вернуть во что бы то ни стало!
2
Вернувшись в начале сентября из госпиталя на прежнее место службы под Сталинград, командир дивизии полковник Нельте нежданно-негаданно получил отпуск. И вот он в пути. Поезд торопился, будто он знал, что Нельте уже был сердцем там, дома, и стремительно проносился мимо одиноких железнодорожных будок, опустевших станций, притихших, будто вымерших немецких деревушек с островерхими кирхами. Нельте глядел в окно, и все это давнее, знакомое радовало его душу, было ему близким и родным.
Стояли жаркие, по-летнему погожие сентябрьские дни, но осень уже заметно вступала в свои права, усыпая щедрым золотом листьев улицы станционных поселков и городов, все дороги и автострады.
В открытое окно врывался освежающий, пряно пахнущий увядшей листвой ветер, и он не чувствовал духоты, глядел и невольно вспоминал. Вспоминал, и не верилось, что с ним произошло.
Сутки тому назад он с большими трудностями, рискуя жизнью, вылетел с фронтового аэродрома, и, пока они не достигли старых границ России, «мессершмиттом», прикрывавшим их, пришлось много раз вступать в воздушные бои с советскими истребителями.
Он вспомнил, как неделю тому назад командующий корпусом генерал Мильдер, подписывая ему на своем командном пункте отпускной билет, трижды был вынужден прерваться, отдавая приказания. Русские контратаковали. Они то прорывались в стыке танковых дивизий, то обходили фланги, и советские автоматчики, перебив охрану штаба корпуса, чуть было не ворвались в генеральский блиндаж.
Нельте было крайне неловко, что в такое напряженное время, когда его дивизия в ожесточенных боях истекает кровью, он покидает своих подчиненных.
Генерал Мильдер, видно, понял его настроение и старался рассеять эту неловкость.
— Ничего, ничего, господин полковник, не унывайте, что оставляете нас. Вам надо подлечиться. Вы кровью заслужили этот отпуск. Когда будет взят Сталинград, вы будете достойным представителем нашего корпуса на торжествах в Берлине. Уверяю, мы не подведем вас, — сказал он шутливо
Даже суровый, сдержанный и не склонный к эмоциям Мильдер, пожимая руку Нельте, сказал на прощание:
— Я завидую вам. Скоро вы узнаете настоящую тишину, которой нет уже более трех месяцев, и увидите мирные земли нашего фатерлянда.
По дороге на фронтовой аэродром Нельте обеспокоили встречи с ранеными офицерами. Откуда их так много? Там, на фронте, в своей дивизии и корпусе он тоже видел их немало. Здесь же их везут нескончаемым потоком в эшелонах, на автомашинах и просто на русских телегах. Ранеными забиты все пригодные и непригодные для госпиталей помещения. Они лежат в хатах изгнанных из деревни местных жителей, а то и на соломе под открытым небом неподалеку от дымящихся, пыльных дорог, стонут, плачут, жалуются, проклинают и ругаются. Им уже некого бояться. Они вышли из подчинения всех своих начальников. Теперь их беспокоит лишь одно: когда же кончатся все эти мучения, и их перевяжут, напоят, накормят, а главное — обеспечат им безопасность.
Нельте изредка прислушивался к их разговорам. Большинство раненых с ужасом говорят о передовой, о Сталинграде, где каждая пядь земли распахана снарядами, минами, бомбами и нашпигована смертоносными осколками. Об огне русской артиллерии, особенно «катюш», раненые вспоминают с паническим страхом.
Да, это не начало того военного лета 1941 года, которое ничем не предвещало ужасы русского фронта.
Нельте знал, что многие из них уже начинают сомневаться в близкой победе. В станице на Дону (он не знал ее названия), где они сделали короткий и последний привал, ему довелось услышать разговор пехотного подполковника с солдатами, которые лежали, кто на земле, а кто на соломе, с потертыми ногами в лопнувших кровяных пузырях. Подполковник ругался:
— Солдаты называются. Солдаты великой армии! Натерли ноги и лежат, глазеют, довольные, что их не отправляют на фронт. Будь моя власть, я бы вас всех, мерзавцев, выпорол и заставил в тапочках идти до передовой.
Подполковник отошел, и тут Нельте услышал, как один из лежащих солдат сказал:
— Гениально придумал фюрер: послал нас топать от Ростова до Сталинграда пешком. Как это он еще не додумался отправить нас босиком.
Нельте покоробила эта насмешливая реплика, но он сделал вид, что ничего не слышит.
Неподалеку от колодца он увидел бывшего своего воспитанника — молоденького сержанта. (По фамилии, кажется, Хейде. Он чем-то был похож на сына — Отто). Нельте запомнил его как лучшего водителя и башенного стрелка. Тогда Нельте хотел взять этого красивого юношу в свою личную охрану. Ему нравилась его военная подтянутость и исполнительность.
Хейде сидел, полузакрыв глаза. Он без обеих рук. Вокруг него роем кружились мухи, духота, нещадно палило солнце, а он не мог ни отогнать мух, ни напиться, хотя рядом был колодец. Тут же сгрудились раненые и пили жадно, захлебываясь и обливаясь водой. А он сидел какой-то отрешенный и беспомощный и изредка облизывал потрескавшиеся, посиневшие губы. Нельте хотел подойти, принести ему напиться, но передумал. Он — полковник. Ему не позволяло это сделать его высокое положение.
И сейчас, вспоминая об этом, Нельте почему-то почувствовал угрызение совести. «Может, поэтому немецкие солдаты последнее время заметно теряют уважение к своим командирам».
Его размышления прервал твердый, уверенный голос диктора. От неожиданности он даже вздрогнул.
— Ахтунг, ахтунг, ахтунг!
— Ли лестен штунден фон Сталинград!
Ди дойчен трупен тратен ан ди Волга херан!
— Дер фаль фон Сталинград ист ун умгендли!
Берлин ошеломил его морем голосов, грохотом барабанных маршей. И он даже растерялся.
Каждый раз, приезжая в родной город — Берлин, Нельте имел привычку объезжать все любимые улицы и площади, любил встретиться со старыми знакомыми и друзьями. Но сейчас ему почему-то захотелось изменить старой привычке, не хотелось видеть никого из близких.
И то, что Берлин бушевал в торжествах неизвестно по какому поводу, и то, что это совпало с его приездом, раздражало и злило! Хотелось как можно скорее уединиться на своей загородной вилле.
Как бы там ни было, пусть сам того не желая, но он попал в праздничную стихию, как говорят, нежданно-негаданно.
Крики, гомон, возгласы радости и восторга берлинцев, разлившихся по площадям и улицам, сгрудившихся на тротуарах, заглушал стон и визг фанфар, улицы и площади грохотали от пулеметной дроби барабанов, солдатские песни и военные марши переполнили германскую столицу, выплескиваясь даже к ее отдаленным окраинам. И Нельте невольно вспомнил чем-то похожее на все это лето сорокового года. Да, так было после победы над Францией.
Тогда, в Тиргартене, как и сегодня, «зигель зойле», была ярко расцвечена национальными флагами и цветными гирляндами, площади и улицы были затоплены колоннами войск, идущими на парад, и жителями столицы. И повсюду цветы, цветы и улыбки берлинцев. Германия ликовала, встречая своих героев — победителей Франции и Польши. Сияющий блеск орденов и медалей на груди немецкого воинства: черные Железные кресты, золотые «дубовые листья», серебряные медали, медали, медали.
Нельте на всю жизнь запомнил тот памятный день. Тогда из Франции он вернулся командиром танкового батальона.
В ставке и в генеральном штабе, в войсковых офицерских клубах, ресторанах и варьете шли бесконечные приемы и банкеты. В тот год щедрого военного счастья многие генералы, участники военных кампаний, получили высокие воинские звания фельдмаршалов, и среди них их командующий группой войск «Ц» во Франции — фон Рунштедт. Нельте тоже повысили. Он получил чин подполковника и был награжден Железным крестом.
Ему вместе с женой пришлось побывать на многих приемах и банкетах.
Офицерам преподносили персональные подарки от фюрера — корзины с коллекцией лучших французских вин, наборы голландских сыров и итальянских сардин, шоколадные конфеты и фрукты. Для них были «забронированы» театры, цирки, рестораны и варьете. И все это бесплатно. Победители заслуживали высоких воинских почестей, щедрого угощения и веселья. И Гитлер не скупился. Он хорошо понимал, что за эту малую благодарность офицерство все с лихвой окупит и еще с большим рвением будет исполнять его волю.
Нельте подъехал к своей загородной вилле и будто очнулся от сна. Да, все это было так дорого для него, но с годами осталось как далекое воспоминание о добром невозвратимом прошлом. Теперь же, после похода в Россию, и особенно после того, что он видел и пережил в Сталинграде, и то, что он увидел сейчас, в Берлине, пышность этого военного карнавала раздражала его. «Мы там воюем, а здесь». Главное, его мучила загадка: чем все это вызвано, по какому случаю такие торжества? Может, удалось окончательно разбить русские армии и сбросить их в Волгу? Но ведь всего несколько дней тому назад их танковый корпус все еще вел бои под Сталинградом. Месяц бьется на одном и том же месте, несет большие потери, а продвигается медленно, десятками метров. От горьких воспоминаний заныла рана.
«Нет, нет, — сказал он себе, — творится что-то непонятное, но, по-видимому, серьезное. — Фюрер не посмел бы устраивать подобных торжеств без особых причин. Значит, что-то произошло».
Нельте почти бегом направился к дому. На большой застекленной веранде увидел жену. Она не ожидала его и несколько минут стояла молчаливая и беспомощная, опустив руки, сразу заметив и побелевшие виски, и желтовато-отечный, нездоровый цвет лица.
Они также молча, как-то сдержанно расцеловались, неловко обнялись и, ошеломленные неожиданностью встречи, недоверчиво глядели друг на друга.
— Ганс, милый. Неужели это ты? — сказала жена почти шепотом.
— Брунгильда, ты не знаешь, почему сегодня в Берлине такой большой праздник?
— Для меня этот праздник, — ответила она, чуть улыбнувшись краешками губ, — по случаю твоего приезда. А ты ничего, ничего не знаешь, милый? Сегодня выступал по радио фюрер. Он обратился к немецкому народу и заверил, что с большевиками будет покончено до наступления зимы. Наша армия успешно штурмует Сталинград.
Нельте взял со стола еженедельник «Imperia» с передовицей Геббельса.
— После трудной дороги, Ганс, приведи себя в порядок, отдохни, милый, тогда обо всем узнаешь.
Нельте подошел к библиотечному столику, взял пачку газет. Все передовицы были посвящены Сталинграду. «Крепость большевиков на Волге — Сталинград накануне катастрофы», «Немецкие войска разрубили большевистские армии в Сталинграде и достигли берегов Волги», «Последние дни Сталинграда», «Близится час нашей победы», «Русские уходят за Волгу», «Кавказ скоро будет в наших руках». Их автором был доктор Геббельс.
«Да, по-видимому, под Сталинградом произошел серьезный перелом. Чаша войны склонилась в нашу пользу, — подумал Нельте. — Но удивительно, всего этого не чувствуешь там, в России. На узком участке фронта — «кочке» не ощущаешь великих событий. Здесь же, в Берлине, где сходятся пути всех фронтов, видны, как с высокой горы, все ходы и перспективы гигантской войны».
Нельте облегченно вздохнул и, повеселевший, направился в ванную. «Может, мне не придется возвращаться в Россию?»
Вдруг он вспомнил о сыне.
— Где Отто, Брунгильда?
— Он мне сегодня звонил. Он весь в тебя, милый. Отто у нас почти солдат, — сказала она с гордостью. — Его зачислили в военизированный спецотряд. Их там будут готовить в военные училища.
Нельте вспомнил, что сын в прошлом году вступил в члены «Гитлерюгенд». Тогда он прислал ему письмо и фотографию, где он снят в военной форме со значком. И этот разговор почему-то невольно напомнил ему о солдате Хейде, без обеих рук, которого он случайно встретил там, в России. (Может, потому, что Хейде действительно был чем-то похож на Отто?)
Брунгильда прервала его раздумья:
— Отто примет участие на торжествах в Берлине. Там устраивают проводы солдат на Восточный фронт.
«На Восточный фронт? Но зачем такие многочисленные проводы, если фюрер и Геббельс заверяют немцев, что скоро конец войне с Россией?»
— Некоторые из старших сверстников Отто изъявили желание ехать на фронт добровольцами.
— А Отто?
— Ну что ты, милый? Он еще так молод. Ему же только семнадцатый год. Его не возьмут. Я не верю, чтобы забрали даже тех, кто двумя годами старше его. По-моему, просто так поддерживают их стремление к военной службе. — Брунгильда обняла мужа. — Очень жаль, что Отто не знает о твоем приезде. Он так хотел с тобой повидаться и угрожал сбежать к тебе на фронт. Тянется за старшими и подражает им. О, если бы видел, какой гордостью блестят его глаза, когда он показывает мальчишкам врученный ему кортик с «Бис цум Тод грай».
Нельте принял ванну, надел домашний просторный халат и легкие мягкие туфли. Он вышел на веранду, почувствовав легкость во всем теле, будто сбросил тяжелый груз напряженной дороги.
За столом, сервированным на двоих, было все по-домашнему уютным и приятным. Ему даже не верилось, что всего неделю назад он ходил по обвалившимся окопам на сталинградской земле, где каждую секунду ему грозила смертельная опасность.
На столике для журналов он увидел красивую, яркую рекламу.
— Откуда это, Брунгильда?
— Позавчера у нас был доктор Зульцман.
— А, Зульцман. Ну, а как его юридическая карьера? Не иначе как метит в личные советники к генеральному прокурору?
— Нет, Ганс, Зульцман изменил юриспруденции. Он пошел на повышение и работает старшим инспектором в министерстве пропаганды Геббельса.
Нельте невольно улыбнулся:
— Я давно замечал за стариной писательские наклонности. Помнишь, когда мы с тобой познакомились, он частенько выступал в газетах. На первых порах старику не повезло. А потом он написал нашумевшую статью «Гитлер как оратор». Его похвалил тогда сам доктор Геббельс. По-моему, это Геббельс составил старику удачную протекцию. Добрые услуги власть имущим, Брунгильда, никогда не забываются. — Нельте взял в руки броскую и яркую рекламу. — Это что, очередное произведение Зульцмана?
— Нет, Ганс, это министерство пропаганды готовит большие торжества по случаю падения Сталинграда.
— Интересно.
Нельте прочел вслух:
— «Программа и план манифестации на Адольфгитлерплац. Торжества великой победы над большевистской Россией откроются. (Дальше стояла дата — сентябрь 1942 года). В манифестации примут участие, — читал он, — части вермахта, СС, полиции и особой службы специального назначения. На всех площадях должны быть подготовлены трибуны. В празднике будут участвовать все военные оркестры. Торжественный фейерверк и салюты (указывались площади и улицы). Бесплатные сеансы для немецких воинов-победителей, посещение театров, цирков, варьете (перечислялись названия и адреса). В этот день все радиостанции будут работать по особым программам. (Тексты прилагаются)». О, это грандиозно задумано, Брунгильда.
Нельте налил в бокал вина и чокнулся с женой:
— За нашу победу! За скорую победу, Брунгильда!
Дальше Нельте читал про себя:
«Издательства, типографии должны подготовить чрезвычайные выпуски газет о взятии Сталинграда, плакаты, афиши. Немцы! Вывесьте ваши флаги! Сталинград пал!»
Киностудиям предписывалось создать специальные выпуски кинохроник о торжествах немецкого народа по поводу великой победы в России.
Эта же программа намечала проведение широких торжеств на захваченных территориях Франции, Польши, Норвегии, Югославии, Греции, Чехословакии, Болгарии, Румынии и, конечно, в самой России.
— Вот это размах. Потрясающе, — сказал Нельте, снова наливая рюмки. — Понимаешь, Брунгильда, когда я прилетел в Берлин, то был ошеломлен. Меня, если хочешь знать, даже злила эта парадная шумиха. Подумай только! Неделя, как я из-под Сталинграда, где кипит страшное пекло войны. Там дни и ночи идут непрерывные бои.
После ванны, за семейным столом, рядом с женой, которую он так давно не видел, Нельте очень хотелось рассказать обо всем, что испытал он там, на фронте.
— Ты о чем задумался, Ганс? — спросила жена, увидев, что он перестал есть и смотрит куда-то неподвижным, задумчивым взглядом. — Ты устал, милый, тебе немедленно надо идти отдыхать.
«Нет, ей не надо обо всем рассказывать, — подумал он. — Зачем ее расстраивать? Она живет сейчас радостью моего возвращения и скорой победы».
Он погладил ее красивую руку с тонкими пальцами.
— Да, Брунгильда, не верится, что все плохое уже позади, и я дома, и ты рядом со мной.
Они вместе направились в спальню, но у ворот раздался мелодичный, как пастуший рожок, гудок автомобиля.
«Кто бы это мог быть?» Брунгильда прикрыла дверь и вернулась на террасу. По дорожке, обсаженной пышными декоративными кустами, шел коротконогий, небольшого роста, полноватый человек. Это был доктор Зульцман. Он держал в одной руке шляпу-котелок, другой вытирал лысую голову платком. Близорукий, он остановился у порога, приподнял очки в толстой роговой оправе и раскланялся.
— Фрау Брунгильда, не сплю ли я? Ну, Ганс, я должен тебе сказать, у тебя чертовский государственный нюх. Ты родился в сорочке. Ты попал что ни на есть кстати.
Они присели. Прислуга стала накрывать на стол.
— Прямо не знаю, с чего начать? Мы так давно не виделись, Ганс! Ты видел, что творится у нас в Берлине? Войне скоро конец. Это уже твердо и бесповоротно, я говорю тебе, Зульцман, а ты знаешь, что я не привык хвастать. Это из самых авторитетных первоисточников. — Он наклонился и доверительно зашептал: — В управлении по восточным землям работают круглыми сутками. Подготовлена новая карта восточных земель — протектората Германии. Новые области, новые гаулейтеры. Идет грызня между нашими землевладельцами за украинские поместья. Я там был неделю назад — не управление, а сумасшедший дом.
— Был разговор, — перебил его Нельте, — что военных чинов тоже не обидят. Ну, конечно, генералам побольше, но и офицерам кое-что достанется.
— Ну, конечно, конечно, что ты, Ганс! Россия — страна неограниченных возможностей, на всех хватит земли. Поговаривают, что будут нарезать участки для младшего командного состава и особо отличившихся солдат. А мы в эти дни с ног сбиваемся. Я на прошлой неделе почти не спал три ночи. Готовил по приказу самого доктора Геббельса программу предстоящих торжеств по поводу падения города Сталинграда.
Нельте похлопал его по плечу:
— Видел, видел твое творчество. Грандиозно задумано.
— Это все пустяки, пустяки. Мы сейчас разрабатываем такое. Мы докажем всему миру, что немцы умеют не только воевать, но и праздновать достойно их великой славы. У нас в министерстве идут последние приготовления к выступлению участников боев в Сталинграде, удостоенных высшей награды — «рыцарского креста». А ты, случайно, не пожалован такой наградой?
— Нет. — И подумал: «Разве этот славолюбец Мильдер подпишет кому какую-то награду, если его не отметят первым».
— Но, может, ты еще сам не знаешь. Неделю тому назад подписан большой приказ о награждении командиров полков и дивизий, отличившихся в Сталинграде. Даже есть несколько комбатов. В их число попал мой племянник Курт Шпеер. Молодой, но отчаянный офицер.
Нельте разлил вино по бокалам.
— Давай, старина, за встречу.
— Нет, за нашу победу, а посему и за встречу. Ты хорошо воевал, был ранен. Думаю, что в большой победе Германии есть и твоя доля.
— Не буду скромничать. Разумеется, кое-что есть.
Нельте выпил и задумался. «Дело не в наградах. Они могут достаться и тем, кто ни одного дня не был на фронте, а в том, что я дома, и что свершилось то большое, задуманное фюрером, в чем иногда, в трудную минуту, не совсем уверен был он и те подчиненные, которые его окружали. Сейчас все это не имело никакого значения. Ясно как день одно — Германия победит Россию».
Зульцман аппетитно жевал, изредка бросая взгляды на молодую прислугу, привезенную из Белоруссии и купленную в «Бюро по найму». Немного хрупкая, застенчивая, она напоминала Зульцману первую любовь — Марту.
— Да, Ганс, я так и не рассказал тебе о самом интересном. Я даже думаю написать небольшую книжку. Она будет называться «День большой победы». Наш знаменитый радиокомментатор Ганс Фриче — твой тезка — сейчас проводит генеральные репетиции. Мы ждем с часу на час сообщение о захвате Сталинграда. — Зульцман покосился на дверь. — Это только между нами. Фриче готовит большую программу по радио о великой победе немецкого оружия на Волге. О, Фриче это может сделать хорошо. Он большой талант. Когда выступает Фриче, немцы, буквально все, прилипают к своим «народным приемникам». Он придумал особое вступление к своим передачам. Перед началом передачи оркестр фанфаристов исполняет близкую нашему сердцу мелодию. Это заставляет слушателей настораживаться. Даже тех, кто не проявляет особого интереса к передачам по радио. Такие повторяющиеся позывные с промежутками в несколько минут овладевают вниманием всех. Они прерываются маршевой музыкой. И затем главное. Фриче ведет передачу не как официальный пропагандист, а как контрпропагандист. Он твердым и убедительным голосом рассказывает обо всех сообщениях радио и прессы наших врагов и при этом апеллирует непосредственно к государственным деятелям противной стороны. Этим он у слушающих создает впечатление, что ему известно все, что происходит там, и что он имеет непрерывную тайную связь с нашими противниками. До чего же умный и ловкий малый! Его очень любит доктор Геббельс. Он считает его пропагандистским гением. И я вполне с ним согласен. Мне не раз приходилось встречаться с Гансом Фриче в товарищеской интимной обстановке. Гениальный человек!
Их разговор неожиданно прервал телефонный звонок. Брунгильда попросила к телефону Зульцмана.
Он вернулся сияющий, довольный
— Доктор Геббельс лично вызывает меня. Видно, предстоят какие-то неотложные важные дела.
3
Подполковник Бурунов больше месяца находился в госпитале, куда попал в начале августа после ранения. Дни тянулись медленно, по-черепашьи. В душе Бурунова нет-нет да и вспыхивала обида на начальника санитарной службы дивизии — военврача Аленцову. Это из-за «медвежьей услуги», как он назвал ее настойчивость, попал сюда и томился в бездействии вполне здоровый человек. Из-за нее расстался с боевыми друзьями и товарищами по дивизии и вот валяется, как никому не нужный, выкорчеванный пень. А каждый день сводки Информбюро приносят совсем неутешительные вести. Бурунов напрягся до предела, когда передавали о Сталинграде. Сообщения эти были тревожными, безрадостными.
Ему становилось особенно стыдно перед неподвижно лежащими тяжелоранеными, когда приходил врач на обход и долго ощупывал и ворочал до онемения его левую ногу.
Нога целехонькая, и только маленькая, потемневшая, будто привившаяся оспинка, точка — след от пулевого ранения.
Рядом лежат без ног, без рук, в лубках, а он? Когда ночью все спят, Бурунов от негодования так сжимает руками железные прутья спинки кровати, что они скрипят.
Но врач и слышать не хотел о его просьбе выписаться. Во всем теле такая сила, отлежался и откормился на госпитальных харчах, как укорял он себя. А вот встанет на злополучную ногу, так пронзительно ударит боль, что даже пот выступает на лбу. Поврежден нерв.
Правда, последние дни недели Бурунов, превозмогая боль, усиленно тренировал ногу: В начале сентября, вечером, он получил письмо от Канашова. Генерал находился в Москве, ожидая назначения. Он писал, что встретил в Главном управлении кадров Поморцева, и тот дал ему адрес Бурунова.
Канашов сообщал, что их дивизия выведена из Сталинграда на доукомплектование. В Москве он встречался с комиссаром Саранцевым, который дал ему номер полевой почты их дивизии. Командир еще не назначен, хозяйничают вдвоем — начальник штаба подполковник Бурлаков и комиссар Саранцев.
Бурунов старательно напрягал память. Фамилию Саранцева он слышал впервые, а вот Бурлакова он немного знал. Но только майора, командира батальона, который был призван из запаса. Бурлаков пришел к ним в дивизию с новым пополнением, когда отступали за Дон. До войны он был учителем математики. С виду совсем гражданский человек — небольшого роста, с острым лицом и высоким лбом с залысинами. Может, и однофамилец, а может, и тот?
Всю ночь не спал Бурунов, раздумывая о письме Канашова. Оно окрылило его, и он почувствовал неудержимый приток сил. К утру у него окончательно созрела мысль: «Надо выписываться из госпиталя немедленно и ехать в Москву за назначением. Могу еще в свою дивизию попасть, пока она доукомплектовывается».
Обхода врача он ждал с нетерпением.
Когда пожилой усатый врач с лохматыми бровями показался в дверях палаты, Бурунов вскочил со своей койки и готов был его обнять. Врач искоса поглядел на резвящегося больного и, надев пенсне, строго сказал:
— Вы что же это акробатические трюки выделываете? Вам противопоказаны резкие движения. Будете так прыгать, пролежите еще месяц.
Бурунова будто окунули в ледяную воду.
— Доктор! — Молящий голос Бурунова заставил врача обернуться. — Я совсем, совсем здоров. И нога. — Он встал с койки на раненую ногу и качнулся влево от боли.
Врач снял пенсне и покачал головой:
— Ну, вот что, подполковник. Командовать будете, когда получите назначение. А здесь командовать разрешите мне. Лежать, лежать и еще раз лежать.
У Бурунова помутилось в глазах — все его надежды рушатся. Печальный и отрешенный, лежал он, уставясь в угол потолка на облупленную штукатурку. От завтрака отказался, обедал без аппетита и съел только первое. Второе отдал выздоравливающему товарищу. И тут же принялся тренировать ногу. Вышел в коридор на костылях. Пройдет в одну сторону, передохнет в снова шагает. Нянечка из их палата, пожилая, седая женщина, Варвара Андреевна, с болью глядела на него и только тяжело вздыхала:
— И чего ты, сынок, себя мучаешь? Лежал бы и лежал себе. Успеется, навоюешься.
— Сердце болит, Варвара Андреевна. Здоров ведь я… Ну что с того, что хромаю?
— А что, сынок, если я тебя к себе определю? Сердце заходится глядеть на тебя, как ты мучаешься.
Бурунов не понял ее и удивленно поглядел: «Зачем?»
— Как к себе? Кто же меня отпустит?
Варвара Андреевна придвинулась к нему и зашептала:
— Ты только об этом никому. У нас в госпитале мест не хватает, вчера на врачебном совете так решили». Какие уже на ногах, выздоравливающие, по работникам госпиталя определять. Не все одно, где лежать. Койка — она везде койка. А у меня дома свой госпиталь. И массаж тебе будет и ванные процедуры. Я уже так пять человек выходила. Все разлетелись по фронтам, как птицы. Каждый день письма идут, не забывают меня, старуху. Да малограмотная я. Вот и будешь за меня письма писать им, — улыбнулась она.
Да, Варвара Андреевна была просто волшебница. Приходя после долгого утомительного рабочего дня, она успевала делать все по хозяйству и тут же начинала врачевать Бурунова.
— Терпи, терпи, милый, коль хочешь, чтобы нога тебе исправно служила, — Ее методы врачевания вскоре дали заметные результаты. Когда Бурунов предстал перед медицинской комиссией, он только слегка прихрамывал.
— Еще бы с недельку надо вылежать, — сказал неумолимый врач. Но, поглядев в печальные глаза подполковника, сдался. — Против совести своей иду, — ворчал он, выписывая медицинское свидетельство Бурунову. — Фронту надо выдавать здоровых людей, как говорится, первый сорт. А вы?
Уходя от доктора, Бурунов старался не прихрамывать, но это пока не удавалось.
В тот же день он распрощался с Варварой Андреевной, как с родной матерью. Бурунов остановил взгляд на портрете единственного сына Варвары Андреевны — лейтенанта. Он получил тяжелое ранение и умер здесь, в госпитале, на глазах матери.
— Мы еще встретимся, Варвара Андреевна, непременно встретимся. У меня мамы нет. Умерла она, когда мне было десять лет. Разрешите вас считать родной матерью?
Глаза Варвары Андреевны наполнились слезами. Она утерла их фартуком и, сунув руку в карман, протянула ему узелок. Он взял его и держал в руке, недоумевая.
— Возьми, сынок, это земля родная с могилы моего сына. Сказывают люди, помогает она. Иди, — обняла она Бурунова, — иди с богом и возвращайся. — И она перекрестила его на дорогу.
В тот же день Бурунов приехал в Москву. Посчастливилось: его подбросили на машине летчики, ехавшие в Монино, а затем пересел на электричку. Побывал он у тетки Канашова, познакомился с ее приемной дочерью Галочкой, увидел на комоде фотографию Аленцовой. И тут же заныло сердце: «Где она сейчас? Оставалась в Сталинграде».
— Пишет? — спросил он, глядя на фото Аленцовой, Но тетка его не поняла, подумала о Канашове.
— Да когда ему писать. Он дней десять, как на фронт умотал, непоседа. Можно было денек отдохнуть да и с дочуркой позабавиться. Как задумает что, его на цепях не удержишь. До генерала дослужился, а все как мальчишка непоседливый. И писать-то он не больно охоч: люди вон какие письма душевные пишут. А наш. — Она махнула рукой. — Открыточку пришлет: «Жив, здоров. Как живете? Как Галка? Что слышно про Наташеньку? Пишет ли Нина?» Не письма, а сплошь вопросы.
Бурунов слушал ее и улыбался.
Тетка была гостеприимная, добрая женщина. Он с трудом ушел. Не отпустила из дома, пока не накормила, и взяла слово, что Бурунов непременно будет обедать у них.
В Главном управлении кадров, раздеваясь, Бурунов сдал палку (а то, глядишь, получу отставку) и, взяв себя в руки, едва прихрамывая, вошел к начальнику. Но от начальника изъян не ускользнул. Генерал покосился на Бурунова и несколько минут смотрел, изучая. Потом предложил сесть.
— Так вот, товарищ полковник. — «Не оговорился ли генерал?» — подумал Бурунов. Он встал.
— Сидите, сидите, пожалуйста. Рапорт ваш с просьбой направить в дивизию доложен. — Генерал зашелестел, перебирая бумаги. А Бурунов стоял ни жив, ни мертв. «Откажут? Откажут?» Не найдя нужной бумаги, генерал вызвал адъютанта. Вошел молодой капитан высокого роста. Лицо знакомое. Бурунов чуть было не вскрикнул: это был Красночуб, бывший адъютант Канашова.
— Принесите мне. — Он назвал номер документа.
Эти минуты Бурунов сидел, как на горячей сковороде, а не на стуле. «Откажут? Откажут». — сверлила мысль.
Капитан быстро вернулся и подал генералу бумагу.
— Так вот, товарищ полковник, разрешите вас поздравить, — протянул генерал ему руку, — с присвоением звания и награждением орденом Красного Знамени.
«Это Канашов еще представлял, — сообразил Бурунов. — Не забыл, даром что уезжал поспешно».
Генерал помассировал пальцами переносицу, изучающе поглядел на Бурунова:
— Ваша просьба о назначении в дивизию удовлетворена. Приказ поступит в ближайшее время. Придется подождать. — И как бы невзначай сказал: — Вот ходить, вижу, вам еще трудно. Болит нога? А поедете в дивизию, крутиться придется. Она уже начала формироваться. Дел много, да и сроки подпирают. Сможете ли? Может, не будете торопиться?
— Смогу, товарищ генерал. — Бурунов встал. — Теперь я все смогу. Даже пешком до дивизии дойду. Вы извините меня за откровенность: истосковался я по делу, по людям, как по родному дому. Я же с этой дивизией от самой границы воевал. — И генерал понимающе кивал ему головой.
На следующий день Бурунов получил назначение и тут же, не заходя к тетке Канашова, уехал в дивизию. Опустил в почтовый ящик открытку с благодарностью за заботу.
* * *
Кажется, самой войной определено, как законом, и пора бы человеку с тем свыкнуться, что на фронте все приказы приходят для кого-нибудь невпопад, а главное, неожиданно, сваливаются как снег на голову.
Дивизия еще не закончила формирование, и командир ее, полковник Бурунов, не успел еще ознакомиться даже с командирами батальонов, как он намеревался сделать это по своему плану, когда пришел срочный приказ. «Вам предлагается немедленно погрузиться в эшелоны и следовать до станции Иловлинская. Там получите новый маршрут к месту следования». «Иловлинская, Иловлинская»— вспоминал он, но в кутерьме дел так и не припомнил.
Бурунову наскоро удалось познакомиться с командирами полков и своими ближайшими заместителями: комиссаром и начальником штаба дивизии. Из командиров полков узнал только майора Грайворона и подполковника Коломыченко — оба были ветеранами дивизии. С Бурлаковым — третьим командиром полка — ему так и не удалось поговорить. Комиссар дивизии Саранцев был новым для него человеком. Комдива немного смущал вид комиссара. Он был грузным, малоподвижным, и его сугубо гражданский вид, казалось, возмущенно говорил: «Ну чего вы от меня хотите. Нравлюсь я вам или нет, а принимайте, какой есть». Когда Бурунов высказал ему тревожащую его мысль: «Почему автомобильным батальонам приказано перебрасывать части дивизии строго на восток. В тыл загоняют». — Саранцев отделался несерьезной шуткой: «Солдат спит, а служба идет».
Ночь на автомашинах с выключенными фарами дивизия тряслась по пыльным дорогам, делая замысловатые повороты. Все, от комдива до рядового, изнывали от неизвестности. Саранцев, пытаясь подбодрить на коротких привалах, ходил от машины к машине, шутил:
— Нас, товарищи, видно, в гости везут. Даже поужинать не дали, торопят. Так в старину на именитые свадьбы возили.
И это, неизвестно почему, сердило Бурунова: «Нашел время шуточками заниматься». Но вот, наконец, приехали в село Ахтуба. Бурунов так и не успел все узнать про этот населенный пункт. Его вызвал к себе командующий фронтом. Потом еще час с лишним его вез офицер связи, пока он не увидел справа ярко вспыхивающие зарницы и не услышал непрерывный громоподобный гул. И тут же догадался: «Сталинград». Бурунов представился командующему, а тот все смотрел в пол на его ноги. Генерал-полковник протянул ему руку:
— Так, значит, повстречались два хромых. Давно? Садись.
— Да, давно, — ответил он. — Второй месяц пошел.
— Задачу и приказ получишь. — Он кивнул на генерала, по-видимому, начальника штаба. — Как настроение у солдат?
— Ну, теперь, когда все ясно. Приказ постараемся выполнить. — Бурунов замялся. — Да вот есть одна закавыка. Нам хотя бы еще сутки. Людей привести в порядок, подготовить переправу. Да и разведку не мешало бы. Чтобы наверняка.
Пока они говорили, забрезжил сероватый, робкий рассвет. Командующий фронтом подошел к окну.
— Видишь, полковник, — кивнул он на чернеющие коробки домов, среди которых вспыхивали огненные языки и убегали вниз к Волге. Бурунов молча в ответ кивнул головой. — Немцы прорвали оборону шестьдесят второй армии. Вот уже несколько суток жестокие бои идут в центре города. — И, помолчав, добавил: — Сегодня ночью форсируй Волгу в направлении Мамаева кургана. Завтра уже может быть поздно.
* * *
Только к вечеру, после получения приказа и ознакомления с ним командиров, Бурунову на машине удалось проскочить к месту переправы. Началось продвижение пеших колонн полков и тылов дивизии.
Передвигаясь от воронки к воронке, он, где ползком, где перебежками, выбрался ближе к берегу, чтобы осмотреть его засветло. Ныла раненая нога, к тому же он был голоден и очень устал за этот суматошный день. Но горящий город в огненных всполохах и тяжелые черные тучи дыма, нависшие над ним, заставили забыть о себе.
Мутные волны Волги сердито бились о берег, будто выплевывая на песок кучи мусора, щепы, остатки досок от разбитых барж, плотов, баркасов. Бурунов поглядел на карту, потом на противоположный берег. «Вон там надо форсировать. В центре города, где Царица рассекла волжскую кручу. Трудно будет, хоть и укрытие есть. Немец наверняка пристрелял выходы. А может, там уже и пулеметчики вражеские засели. Буду переправляться чуть левее, метров сто», — прикидывал он.
— Товарищ полковник, разрешите доложить о положении на том берегу. — К нему приблизился начальник разведки дивизии майор Король, маленького роста, юркий, подвижный, с постоянной улыбкой на пухлых щеках с ямочками.
— Чего же здесь докладывать. Давай, брат, поищем место поудобней. А то ведь мы у немца на виду.
В вырытом наспех блиндаже, перекрытом остатками разбитого баркаса и плащ-палаткой для маскировки, где помещался Саранцев и штаб, кипела оживленная работа.
— Ты что, мне разведсводку принес? — спросил Бурунов — Так я с ней знаком.
— Никак нет, товарищ полковник. Лично сам только что из шестьдесят второй армии.
Бурунов поглядел недоверчиво.
— Когда же ты успел? Ты смотри, какой шустрый, — обратился он к комиссару.
— А я с вами. Вижу, вы к командующему, и. я за вами. В штабе фронта из разведотдела на тот берег связных офицеров направляли. Ну и я с ними. — Майор раскрыл и положил на походный стол карту, исчерченную красными и синими значками. Бурунов и Саранцев склонились над ней.
— Положение, товарищ полковник. — Он махнул рукой. — Ад, да и только. Будто попадаешь, прямо вам скажу, в кратер вулкана. Днем туда переправиться и думать нельзя. Чуть какой смельчак попробует вплавь на плотике, огня батареи не жалеют. Засыплют минами и снарядами. У них в руках опорные пункты. Вот, — ткнул он, — отсюда и вся переправа под наблюдением и обстрелом.
— Ну, а ночью что ж, легче, по-твоему? — спросил Саранцев. — При таком дьявольском освещении и такой ширине? Волга тут не меньше полутора километров.
— А там, где нам предстоит плацдарм захватывать, немецкие автоматчики к Волге прорвались, — сказал майор. — Так генерал Чуйков, чтобы для нас очистить берег, из командиров штаба армии два отряда создал.
— Ну и как, удалось? — спросил Бурунов.
— Вышибли.
Поздно ночью стали подходить полки дивизии Бурунова. Изнуренные большим и тяжелым маршем по бездорожью, бойцы и командиры валились с ног и тут же засыпали. Подразделения перемешались, скучились Тьма кромешная — хоть глаз выколи. Бурунов выслал для наведения порядка командиров штаба. Ушел и Саранцев, хотя он его оставлял, не надеясь, что из этого будет толк.
Бурунов принял решение первым переправить через Волгу в город один батальон, как передовой отряд, с ротой автоматчиков и противотанковых ружей на бронекатерах. Вскоре к комдиву стали прибывать с докладами: «Порядок наведен, к переправе готовы».
— Командиром передового отряда назначаю вас, товарищ Мурадьян!
— Есть, товарищ полковник. Нам бы хоть за краешек того берега ухватиться.
Старший лейтенант Мурадьян ходит легко, пружинисто, четко командует людьми, подтягивая подразделения ближе к переправе.
— Кержов, ты чего голову повесил? — Идет он рядом с бойцом-новичком, положив ему руку на плечо. — Огня испугался? — кивает он на горящий город. — Эх, какой же ты пожарник? А еще начальником пожарной охраны был. — Среди идущих бойцов вспыхивает смех.
— Ну тогда давай автомат мне. Переправимся, я тебя брандспойтом обеспечу. Посмотрим, какой ты пожарник на практике.
Приближается берег. А вот и переправа. У береговых причалов лежат разбитые катера, рыбачьи лодки и повсюду воронки, наполненные водой. Мурадьян останавливает людей и рассредоточивает их под истерзанными осколками вербами и тополями, по канавам, воронкам. Взгляды всех устремлены за Волгу, на пылающий в пожарищах город. Туда предстоит им переправиться первыми из дивизии. Сердце сжимается от страха — вокруг сплошной огонь. Как же там воевать, если везде властвует пламя. Да и что там захватывать, что оборонять, если повсюду чернеют одни развалины.
— Товарищ старший лейтенант? — спрашивает бледный, с испуганными глазами боец. — А там кто есть?
— Есть, есть, сынок, наши люди там сражаются.
— Как же они? Земля горит. Там и дышать-то нечем.
— А мы Кержова впереди пошлем с брандспойтом, — вставляет реплику его товарищ, рослый крепыш с противотанковым ружьем.
Снова вспыхивает смех. Мурадьян поддерживает их разговор, хотя у самого на душе кошки скребут:
— А что нам огня бояться? У нас в запасе воды — целая Волга. Приедешь после войны домой, начальником пожарной охраны будешь. Хорошая должность. Туда людей особых назначают. Проверка нужна. Прежде чем принять тебя в пожарники, кормят крепко и спать кладут. Проспишь сутки, возьмут в пожарники.
Бойцы смеются.
— Нет, ему не подойдет. А вот Лева Малышев. Лев в самый раз. Выдержит экзамены. — И все поглядели на бойца, который похрапывал, свернувшись клубком в яме.
Среди бойцов батальона ходит, прислушиваясь к разговорам, комиссар Саранцев. Бурунов собрал в овражке командиров и дает им последние наставления. Адъютант раздал каждому из них по пачке небольших книжечек — «Памятки бойцу по действиям в городском бою». Вот уже подошли первые бронекатера, и люди потянулись на погрузку. В это время у носа одного из катеров разорвалась мина, и на борту что-то вспыхнуло. Бойцы ринулись на катер и остановились: «Куда же грузиться, катер горит?» И вдруг Бурунов увидел, как комиссар первым взбежал по трапу. «Ты погляди, какой проворный, а с виду неповоротлив». За ним, помешкав, бросился боец Кержов, еще двое. Они кинулись к носу катера и что-то стали рубить лопатой. Сбросили в воду загоревшийся промасленный пеньковый кранец. И все бойцы быстро побежали на катер.
Бурунов стоял и наблюдал за этой необычной переправой. Рядом с ним — комиссар Саранцев.
За передовым отрядом начал форсирование полк Коломыченко. Вот еще один полк сосредоточился здесь, на берегу. И на город смотрят с тревогой тысячи глаз. И каждый думает, что будет с ним и что будет со всеми завтра.
Связи с противоположным берегом нет. И только по взрывам и вспышкам на берегу, по неумолчной трескотне автоматов и пулеметов чувствовалось, что там идут жаркие бои.
Уже далеко за полночь направился к переправе полк Грайворона.
Бурунов, зябко поеживаясь от речной сырости и тумана, глядел на пылающий город, и одна мысль владела им: «Если бы я мог сейчас быть там. А то так вот стой и жди: либо будет, либо нет. Гадай и мучайся: что с ними, смогут ли они отбросить немцев и закрепиться? От успеха передового отряда и двух полков зависит сейчас судьба всей дивизии. А может, и армии».
Еще один день прошел в томительном ожидании. Еще одному полку, штабу и тылу дивизии предстояло следующей ночью переправиться через Волгу. А удастся ли эта переправа или нет, никто не знал: ни сам командир дивизии Бурунов, ни рядовой боец. Ранним утром, когда еще чуть рассвело, комдиву позвонил командующий армией.
— Твои орлы крепко дали тут немцам. Но их ждет тяжелый день. Немцы бросит всю авиацию. Устоят ли? — Он откашлялся. — Я не в том смысле. Не сомневаюсь. Всю ночь ведь воевали.
— Устоят, — ответил Бурунов.
— Я это, полковник, и без твоих подсказок знаю. Здесь — Сталинград. Это то, что не многие видели.
* * *
В следующую ночь Бурунов начал переправлять остатки дивизии в Сталинград. Теперь уже было ясно, что немцы превосходили нас на этом участке и в людской силе, и в боевой технике. К тому же они имели преимущество обороняющегося. Наши войска. Они по сравнению с немцами имели одно заветное желание — выполнить свой солдатский долг, выполнить приказ. Они шли на штурм во весь рост, не зная ни местности, ни системы обороны противника, ни его численности. Когда и кто мог узнать все это в бесконечно меняющейся обстановке двухмесячных кровопролитных боев? И тем более, что день тому назад немцы пробили эту единственную брешь к Волге.
Но все же бойцы дивизии Бурунова в первую ночь потеснили фашистов. Они заняли прибрежные позиции, захватили несколько домов в ближних кварталах. На военном языке это называется: «Зацепились за плацдарм».
Только спустились сумерки, скрывая наши войска от глаз и огня противника, к берегу реки стали подходить бронекатера Волжской военной флотилии. Машины подвозили понтонные мосты. Вскоре причалили баржи с буксирами и речные маленькие катера.
Бурунов отдал приказание к погрузке.
На переправе бушевал огненный шквал. Одни из солдат, не дойдя до берега, падали в сухом песке, обливаясь кровью. Другие шли настойчиво вперед, бежали короткими перебежками, стараясь укрыться от огня в воронках и ямах.
Волга бурлила и кипела от взрывов снарядов и мин. Пулеметные очереди огненным пунктиром трассирующих пуль прорезали темноту ночи и гасли в черных водах Волги.
На бронекатере, на котором переправлялись Бурунов и Саранцев, загорелся бак с горючим. Пламя расплескалось по палубе и будто языком слизало всех в воду. До берега еще было далеко. Двести или более метров. У каждого бойца тяжелое оружие и боеприпасы. Но разве это могло остановить кого-либо? Остановить их неудержимое желание идти вперед, добраться до правого берега?
Судорога свела больную ногу Бурунова. Он забарахтался и уже решил, что все кончено. Кричать было бесполезно: все равно никто бы его не услышал. Но рядом очутился Саранцев. Он резко рванул комдива на себя и, как буксир, поволок к берегу, гребя одной рукой. «Вот тебе и толстячок, а сила-то какая? Будто щенка схватил».
И когда Бурунов почувствовал под ногами дно и стал выходить вместе с Саранцевым из воды, горячая, упругая волна воздуха, с кислым запахом, отбросила его снова в воду: неподалеку разорвался снаряд или мина. В черной, прорезываемой вспышками выстрелов и взрывами тьме Бурунов снова упал и захлебнулся, но тотчас же вскочил на ноги. Будто тени на едва различимой полосе берега, мельтешили силуэты людей. «Наши. Добрались, — с радостью подумал он. И тут же мелькнула мысль:— А где Саранцев? Он был рядом».
— Комиссар! — громко крикнул Бурунов. — Виктор Георгиевич! — Но его крик потонул в грохоте и вое канонады.
Бурунов осмотрелся вокруг. Тьма, огонь и оглушительные взрывы. Горела Волга, и по ней тянулись, извиваясь огненными змеями, длинные светящиеся полосы. «Горит нефть, — догадался он. — Откуда она? Где штаб, где наша дивизия? Почти над самой головой взвилась голубовато-бледная, как далекая звезда, ракета, едва обозначив прибрежную косу.
Мокрый, обессиленный, не понимая еще, где он находится, шел Бурунов мимо темных стен, разрушенных зданий, каких-то причудливых перекрестий мостов под крутым берегом, из-за кромки которого выплескивалось пламя огня и доносилась неумолчная стрельба. К нему навстречу кто-то бежал, мигая глазком фонарика. Сблизились. Бурунов вынул пистолет из кобуры и снова положил его в карман.
— Вы кто такой? — спросил владелец фонаря. И тотчас почти в ухо крикнул: — Товарищ полковник, все в порядке. Вся дивизия переправилась на правый берег.
Это был начальник разведки дивизии майор Король.
— Я тут вас уже час разыскиваю. Меня послал комиссар Саранцев. Командный пункт недалеко, в водосточной трубе.
Полк Коломыченко выбил немцев из прибрежного квартала. Только что прислали донесение. Полк Грайворона застрял на одной из улиц, ведет бой. Третий полк, за исключением одного батальона, уже собран на берегу. Приводит себя в порядок.
Бурунов слушал майора, и чувство неловкости не оставляло его. Выходит, и без него все выполняется, как это предусмотрено планом, а он, как с завязанными глазами, бродит по берегу, блуждая в поисках дивизии.
Вскоре они пришли на командный пункт. Саранцев бросился к нему, крепко пожимая руку.
— Николай Тарасович, а я-то, я-то думал, что. Когда около нас раздался взрыв, меня отбросило. Встаю, ощупываю: вроде все на месте. Рядом наши бойцы. Я направил солдата тебя разыскивать, а сам скорее сюда, на командный пункт. Связной из штаба армии нас встречал.
— Ну и правильно сделал, — сказал Бурунов. — Мертвым отдадим почести после того, как выполним задачу, а сейчас надо о земных делах думать.
Бурунов внимательно осмотрел командный пункт. К круче обрыва приделана наспех покрытая горбылем, кусками досок, листами железа бревенчатая пристройка, через которую они вошли в большую штольню. У стен ее в три яруса нары.
— С комфортом подготовлено, — кивнул он. — Как в купе поезда. Надо организовать службу на командном пункте, — обратился он к подполковнику, начальнику штаба.
Прибежал запыхавшийся связной, утирая рукавом пот с лица:
— Товарищ полковник, вас вызывает командующий для доклада!
Бурунов вышел. Тьма — хоть глаз выколи, и только там, в городе, заревые вспышки и неумолчный грохот. Хотя до командного пункта армии не такое уж большое расстояние — километр, и того меньше, — идти было трудно и опасно. Пришлось и переползать, и перебегать под огнем, и спасаться от осколков в воронках, и пережидать в укрытиях. Бурунов несколько раз сильно ушиб ногу. И когда добрался до командного пункта, заметно хромал.
Командный пункт армии — длинный блиндаж-тоннель. Он, как и в дивизии, поделен на отсеки, будто пчелиные соты. Но отсеки крупней и с железобетонными ячейками.
— Переправа дивизии, товарищ генерал, закончена!
Член военного совета армии, бритоголовый, с мягким прищуром и добродушной улыбкой, поглядывал на комдива.
— А вам, видно, порядком досталось, пока добирались до нас?
Он дотронулся до порванного рукава гимнастерки.
Бурунов смутился: «Как же я так к командарму оборванцем?» И тут заметил грязь, какие-то масляные пятна.
— Немцы бешено рвутся к Волге, — сказал Чуйков. — Они уже несколько раз объявляли о падении города, об уничтожении армии. Наша с вами задача — не только оборона. Главная задача, пользуясь каждым удобным случаем, переходить в контратаки, навязывать врагу свою волю. — Он кулаком, будто молотом, ударял по столу. — Надо стараться держать противника в постоянном напряжении, срывать его планы. — Командующий поднялся. Высокий, с широкими плечами, с темными сердитыми бровями и крупными чертами лица, он выглядел могучим русским богатырем.
— Ну как, товарищ Бурунов, справитесь с задачей? Не дадите немцам еще раз прорваться к Волге?
— Я — коммунист, товарищ генерал, и из города не уйду. И люди, с которыми пришел сюда, думаю, будут сражаться за город до последнего дыхания.
— Что ж, тогда за дело. Теперь ты со всеми нами в ответе за город. Родина приказывает стоять насмерть!
— Времени у вас мало, — сказал член военного совета Гуров. — Управитесь?
Бурунов развел руками.
— Сколько есть. Больше немцы не дадут, — улыбнулся комдив.
Гуров пожал Бурунову руку.
— Да, хорошо сегодня сказал прославленный снайпер нашей армии: «За Волгой для нас земли нет».
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
6-я армия Паулюса напрягала все силы для расширения плацдарма у поселка Рынок. Перед ней стояла задача — овладеть берегом Волги в районе Сталинграда. Это означало, что надо было захватить всю полосу крутого правого берега Волги, контролируя огнем весь противоположный берег, лишить русские армии переправ.
Паулюс стянул сюда все, что имелось у него в распоряжении, усилил танковые части инженерными и противотанковыми подразделениями, оголяя даже слабые фланги армии. По воздуху из Германии к нему были переброшены несколько саперных батальонов, которые Гитлер пообещал на совещании Вейхсу. Наступление поддерживалось авиационным корпусом — свыше тысячи самолетов, которыми командовал генерал-лейтенант авиации Фибиг.
Даже скептически настроенный в отношении военных способностей Паулюса начальник его штаба генерал Шмидт, закоренелый холостяк, острый на язык, умный и энергичный, настойчивый до упрямства (недолюбливающий Фридриха главным образом за то, что тот был склонен к великодушию и тем самым поддавался влиянию), сегодня глядел на него одобряюще и был очень обрадован, когда Паулюс пригласил его к себе обедать. Паулюс часто оказывал своему начальнику штаба такого рода внимание, однако тот обычно без восторга относился к этим визитам.
Иное дело сегодня.
Начавшееся наступление шестой армии идет вполне успешно. Немецкие войска продвигаются, хотя и не так быстро, как бы этого хотелось, тем не менее, они настойчиво прогрызают оборону.
Генерал Шмидт любил вкусно поесть.
«Интересно, чем сегодня меня будет потчевать Фридрих? — раздумывал он. — Может, даже не поскупится на французский коньяк особой марки, несколько бутылок которого он бережет в личном сейфе. Посмотрим, посмотрим».
У Шмидта тоже был такой же редкий коньяк, но он предпочитал его употреблять в одиночестве. В минуты плохого или хорошего настроения.
Первый адъютант армии Паулюса, полковник Адам, пригласил Шмидта к обеду. У столовой командующего он уловил запах жареной свинины. Под ложечкой приятно заныло.
Первый взгляд он бросил на стол, а потом на Паулюса. На большом фарфоровом блюде красовался отличный молочный поросенок. Тонкая его кожа просвечивала, будто янтарная. Паулюс поздоровался за руку и жестом пригласил к столу. Они сели. Полковник Адам, получив ключи, отпер сейф и достал заветную бутылку французского коньяка.
«Значит, дела идут хорошо, и у Фридриха отличное настроение», — догадался Шмидт.
— Мне только что звонил барон фон Вейхс, — сказал Паулюс. — Из Германии сегодня вечером прибывает еще несколько батальонов саперов, а из Ростова направляется к нам новая дивизия. Кажется, из резерва семнадцатой армии.
— Для нас все это как нельзя кстати, — сказал улыбаясь, Шмидт, торопливо заправляя салфетку за воротник и поглядывая на жареного поросенка.
— Вейхс подчеркнул в разговоре со мной, что нам посылают личные резервы фюрера, и высказал надежду, что мы оправдаем его заботу и доверие.
— Теперь уже ясно, — сказал Шмидт, — что наше наступление благодаря вашему умелому руководству идет успешно. Для русских армий, обороняющих Сталинград, один выход — топиться. И мы им поможем, я уверяю вас, в самые ближайшие два-три дня.
Паулюс поднял рюмку.
Когда Шмидт уже отпил половину, он поперхнулся и испуганно произнес скороговоркой:
— За нашего гениального фюрера! За нашу победу.
Но Паулюс уже допил и отрезал заднюю поросячью ножку и лопатку. Он даже не кивнул Шмидту, жадно впиваясь зубами в ароматную поросятину.
Адам вошел, как всегда, легко и неслышно.
— Господин генерал-полковник, вас просит к телефону командир корпуса генерал Мильдер. Он чем-то взволнован и просит вас подойти поскорее.
Паулюс не спеша вытер руки о салфетку и поглядел снисходительно на Адама:
— А может быть, вы все же принесете радиотелефон сюда?
— Безобразие, — сказал Шмидт. — Никакого такта. Никакого уважения. Звонят, будто не они, а мы их подчиненные. Не мог позвонить в штаб.
Паулюс ничего не ответил, налил ему оставшийся коньяк и удивленно посмотрел на Шмидта.
— Я приказал генералу Мильдеру звонить мне лично и докладывать о каждой новой удаче и неудаче. Надеюсь, вы поняли меня?
Шмидт отвалил в свою тарелку большую часть поросенка, с аппетитом обгладывал косточки. Он только кивнул, продолжая прерванную трапезу.
Адам пришел вместе со связистами и, получив разрешение, установил рацию на прием.
— Слушаю, — подчеркнуто спокойно сказал Паулюс.
— Докладываю, господин командующий, — сказал взволнованным голосом Мильдер.
«Это что-то не похоже на Мильдера. Что случилось с ним? Неужели опять неудача?» Он видел, что Шмидт даже перестал жевать и настороженно глядел в его сторону, вытирая о салфетку жирные пальцы.
— Докладываю, — повторил с придыханием Мильдер. — В результате успешного наступления корпуса шестьдесят вторая армия Чуйкова, обороняющая Сталинград, разрублена моим корпусом пополам. На участке тринадцатой дивизии русских мы почти у Волги, а передовые наши подразделения вышли к Центральной пристани. Теперь мы получили полную возможность держать под наблюдением и огнем все тылы этой армии и весь противоположный берег.
Мильдер говорил быстро, глотая слова. И Паулюс несколько раз останавливал его, требуя повторить. Затем он приказал представить через час в штаб армии донесение.
— Благодарю вас, генерал Мильдер, за приятное сообщение. Передайте от меня лично всему составу корпуса благодарность. Фюрер высоко оценит ваши заслуги перед Германией.
Паулюс встал и приказал Адаму подготовиться к поездке в штаб группы армий.
— Надо доложить барону фон Вейхсу, что наконец-то мы выполнили волю фюрера. Корпус Мильдера вышел к Волге и сбросил тринадцатую дивизию армии Чуйкова в Волгу, захватив центральную переправу.
Паулюс надел поданную ему Адамом шинель и, поглядев на Шмидта, сказал:
— Вы получите через час от Мильдера донесение. Мне надо обо всем срочно доложить Вейхсу. Я поехал. — И Паулюс вышел, оставив начальника штаба одного.
Шмидт, допив коньяк, стал неторопливо доедать поросенка.
* * *
Мильдер, доложив Паулюсу об успехе корпуса, не торопясь пообедал. Настроение было приподнятое. «Не пойти ли мне сыграть партию в бильярд, — подумал он, лениво позевывая и потягиваясь. — Даст бог, дела идут хорошо. Паулюс наверняка остался доволен моим докладом». Мильдер позвонил в штаб и потребовал, чтобы его информировали обо всем значительном, а сам решил часок передохнуть. Ведь уже третью ночь он спит урывками. «Ничего, ничего, — успокаивал он себя. — Только бы нам поскорее закончить прорыв и сбросить их окончательно в Волгу, а там— и почести, и награды, и заслуженный отдых». С этой мыслью он прилег на свою походную койку
Вошел адъютант и протянул ему письмо.
Мильдер расстегнул ворот кителя. Письмо было от жены. Поспешно разорвал конверт и стал читать.
Марта писала об одном и том же, что хочет видеть его дома, что скучает и не находит себе места, и о том, как идут ее будничные, домашние дела. И вдруг, как бы между прочим. Мильдер даже встал с койки. Она просила его дать согласие обвенчаться дочери Грете с военным священником, неким Карлом. «Это замечательный и порядочный человек, — писала она, — думаю, что ты присоединишься к моему решению. Я благословила их».
«Нет, нет, — Мильдер никак не мог предполагать, что его дочь соединит свою судьбу с армейским священником — полувоенным человеком. В душе он всегда прочил дочери более завидную партию, и конечно, с военным, достойным их прусской юнкерской династии. — Да, Грета меня подвела. Видно, Марта что-то проглядела. Что значит не быть дома отцу.
И вот неудачное замужество дочери».
Это сообщение жены его очень огорчило. Он решил не идти играть в бильярд. Не мог и спать, хотя чувствовал, что все тело сковала усталость. Попросил адъютанта принести ему еще коньяку.
2
Поздно ночью командир дивизии полковник Бурунов был вызван командующим шестьдесят второй армией генерал-лейтенантом Чуйковым.
Командующий армией сообщил ему, что танковая бригада Сталинградского фронта прорвалась через оборону противника с севера, и что она вот-вот должна соединиться с частями дивизии Бурунова.
Комдив поднял всех на ноги. И всю ночь работали рации, звонили телефоны, бегали с распоряжениями и приказаниями связные и ординарцы, ожидая радостного известия о встрече с прорвавшимися частями. Взволнованные и уставшие под утро, многие, не выдержав напряжения, уснули, так и не дождавшись наших танкистов.
А с утра немцы обрушили на дивизию такой шквал огня, что даже бывавшие в подобных переделках командиры потеряли самообладание. То и дело с командных пунктов поступали вести одна тревожнее другой. И во всех донесениях говорилось о главном: «Перед фронтом обороны частей появилось много немецких танков».
«Откуда их взялось столько?» — подумал Бурунов, уже в который раз требуя от начальника разведки дивизии объяснить ему, как же, в конце концов, это произошло.
Майор Король, всегда такой подвижный и находчивый, докладывая, сник и только разводил руками.
— Товарищ полковник, уверяю вас, что в полосе обороны нашей дивизии новых танковых частей отмечено не было. И в резерве не было. — Он готов был поклясться, что это так, но только нервно поглаживал карманы руками, будто обтирал их. — Возможно, — пробовал предполагать он робко, — проглядела разведка штаба армии или фронта Немцы перебросили новые танковые части с других участков?
— Нам-то от этого не легче, — хмурясь, перебивал его Бурунов, — с других участков, иди с третьих, или сбросили их по воздуху. Что вот теперь будем делать? Почти сутки я ничего не знаю о батальоне полка Коломыченко. Последние сведения поступили, когда он сражался где-то у вокзала. Значит, или батальон полностью погиб, или же остатки его попали в плен. Как бы то ни было, но там образовалась брешь, в которую наверняка войдут танковые части противника.
«Что мне делать?» — говорил взгляд Бурунова. Майор Король тяжело вздыхал, но ничего конкретного не мог подсказать командиру дивизии.
Командующий армией непрерывно вызывал Бурунова, требуя наконец-то выяснить, что же случилось с одним из батальонов полка Коломыченко. А комдив каждый раз повторял одно и то же: «Батальон отрезан, окружен, сведений нет, принимаю меры, пытаюсь наладить связь». В конце одного из таких докладов генерал не выдержал и грубо оборвал:
— Что вы лепечете мне: «Отрезан, окружен, принимаю меры». Вы командир или провинившаяся девица? Мне надоело слушать ваш жалкий лепет. Если вы не доложите мне к утру, что с батальоном, я поставлю вопрос перед командующим фронтом о том, что вы не справляетесь со своими обязанностями.
Разговор прервался, и Бурунов, ослабевший от нервного перенапряжения, опустился на табуретку.
«Может, действительно у меня не хватает командирской хватки? Или же это один из тех критических военных моментов, который может быть у любого, даже самого достойного и опытного командира? Ведь я послал уже десятки связных, работает специально рация, которая ловит позывные только этого батальона, а все бесполезно».
Бурунов беспрерывно вызывал к себе связного. Батальон исчез бесследно.
«Не может этого быть, — убеждал себя Бурунов, мучительно раздумывая. — Не могут погибнуть все до единого. Да и связные — опытные ребята».
К Бурунову торопливо вошла Аленцова, за ней боец, небольшого роста, без пилотки, с перевязанной головой. Темно-коричневые бинты, спекшиеся от крови, съехали на правый глаз.
— Товарищ полковник, — строго взглянула она на бойца, — я прошу приказать ему немедленно идти в санбат. Дважды по дороге сюда падал без памяти. Начнем перевязку делать, а он в ход кулаки пускает, требует, чтобы его доставили к вам. А нам ничего не говорит. Матом ругается. Насилу привела его. Помогли санитары.
Боец бросил злой взгляд в сторону Аленцовой и заскрипел зубами.
Бурунов встал рывком, табуретка грохнулась на пол.
— Да вы что, — вскипел он, — не подчиняться врачу? Командиру? Кто дал вам право сквернословить, да еще при женщине, молокосос? Она дни и ночи тут под огнем вам помощь оказывает. А вы ее материть?
Аленцова никогда не видела Бурунова таким гневным. Она даже испугалась, когда он, сжав кулаки, двинулся на бойца. У нее сердце сжалось от мысли, что он ударит с трудом державшегося на ногах молодого солдатика, который стоял, как пьяный, пошатываясь.
Боец неожиданно взмахнул руками, будто пытался ухватиться за что-то в воздухе, и упал со стоном на пол.
Аленцова первая бросилась к нему, ощупывая запястье. У рта бойца пузырилась кровь.
Бурунов смотрел, все еще не понимая, что произошло, то на Аленцову, то на бойца, лицо которого передергивал нервный тик.
— Товар-товар-товарищ-щ-щ, — прошипел он последние буквы. И, облизывая языком кровь с губ, задыхаясь, сказал по слогам: — Я из пер-во-го ба-таль-она. Комбат у-у-убит.
Боец прерывисто дышал, широко открывая рот, он жадно глотал воздух. Аленцова приподняла его голову на колени.
Бурунов схватил бойца за руки. Его охватило желание расцеловать этого маленького умирающего солдата, исполнившего свой трудный и последний долг.
— Родной ты мой. Воды ему, воды! — крикнул он.
Адъютант Бурунова и пожилой санитар уложили бойца на койку комдива, Аленцова сделала укол новокаина. Боец, все так же тяжело дыша, приоткрывал веки, медленно оживая.
Губы его зашевелились, и у рта снова стала пузыриться кровь.
— Товарищ полковник, — чуть слышно, почти шепотом, сказал он. — Батальон ведет бой у вокзала. Командует лейтенант Еж. Он меня послал.
«Значит, предчувствие меня не обмануло, — подумал Бурунов. — Не мог батальон погибнуть. Я верил своим людям. Надо быстрее доложить командующему».
* * *
Бурунов возвращался к себе в блиндаж после доклада командующему. Будто кто снял тяжелый камень, и сразу отлегло от сердца. Первый батальон полка Коломыченко не погиб и не разгромлен, а продолжает сражаться. Шутка ли сказать, пропал батальон — сотни человек, и несколько дней ни слова о них, как в воду канули. За эти трое суток он даже постарел, глаза запали глубже, будто провалились.
У входа в блиндаж Бурунова догнала военврач Аленцова. Она была чем-то взволнована. Посиневшие губы ее дрожали.
— Товарищ полковник, — обратилась она, задыхаясь.
— Что вами, Нина Александровна?
«Нет, с ней что-то стряслось. Один на один она не называла меня так официально».
— Со мной ничего, — покачала она головой, поправляя выбившиеся из-под берета волосы. — Пропала Наташа Канашова.
— Как пропала? Где пропала?
— Если бы я знала где, не пришла бы к вам.
— Простите, когда пропала? — понравился он.
— Не знаю, товарищ полковник.
— Да вы шутите, Нина Александровна. Как это пропала? Что и теперь скажу Михаилу Алексеевичу? Это мне легче самому пропасть. — Бурунов сделал резкий жест рукой. — Сколько раз говорил и писал ему, советовал — забери. И с ней толковал. И слушать не желают. Упрямое племя. Что же теперь делать? Где ее искать?
Аленцова мяла что-то в руках, потупя взгляд.
Просвистели пули. Откуда-то бил вражеский пулемет.
— Войдемте в блиндаж, — произнес полковник. Она неохотно согласилась, вошла, села.
— Как только отыщется Наташа, мне надо, товарищ полковник, уходить из дивизии, — не то с сожалением, не то просто в раздумье ответила она.
— Это еще что такое? Почему уходить? — Бурунов недоуменно пожал плечами. — Постойте, постойте, я что-то ничего не понимаю.
— И понимать нечего. Ревнует меня к вам. — Аленцова махнула рукой. — Пришла вся в слезах, наговорила мне. Впрочем, к моему посещению это не относится Я не в обиде на нее, глупая еще девчонка. Любит отца, знает о наших отношениях с ним. Вот кто-то и сыграл на этом.
Бурунов слегка покраснел и прокашлялся, явно нервничая. Он хорошо понимал, что во всем случившемся и он частично виноват. Ну а в чем? В том, что сердце потянулось к этой женщине. Если только в том, что он иногда, пользуясь случаем, когда она докладывала по службе, умышленно старался задержать ее у себя или угощал чаем? Он даже не решился ее пригласить на скромный обед в день своего рождения. А как ему хотелось, у него был день рождения.
Аленцова со свойственной ей задиристостью обидчиво поджала губы, лукаво поглядела на него. «А я думала, вы не забудете пригласить меня». Тогда Бурунову хотелось сразу же сказать ей обо всем. Он хорошо знал, что она любит Канашова, что она относится к тем сравнительно редким женщинам, которые могут любить только одного мужчину, даже после его смерти. Ему было неловко, он осуждал себя, что пытается греться, хотя бы и на расстоянии, теплом чужого счастья. На большее он не рассчитывал и не предпринимал никаких шагов. Был как-то такой момент, когда ему было очень трудно по службе. Это было в то время, когда он только что принял дивизию от Канашова. Тогда Аленцова была для него настоящим товарищем. Придет и скажет: «А вы, Николай Тарасович, сегодня что-то не в духе. Опять какие-то неприятности? — Улыбнется, будто солнцем душу согреет. — Нет, нет, это вам не идет. Вы же наше зеркало. А в кривом зеркале мы сами себя не будем угадывать, верить в свои силы. Всем другим это можно, вам категорически запрещено». Никаких «лекций» не читает, не делает назидательно-поучительных наставлений, не навязывает их, а скажет — и задумаешься. Самому становится неловко за себя. Пришла как-то докладывать, посмотрела и говорит: «Прошу извинить, товарищ полковник, доложу попозже». — «Почему позже, я же свободен, вы забыли справку для доклада?» — «Нет, — отвечает, — ничего не забыла. Вы не успели, товарищ полковник. Побриться. Извините, не буду мешать». И в краску вогнала, а обидеться нельзя. Права. Вот так она и начальником санслужбы работает. Ни на кого не кричит, никого не наказывает, а все ее любят, уважают. Сама она не сторонится работы. Где не ладится, кто с чем не справляется — придет, поможет, посоветует. Даром что с виду нежная. А если на чем настоять захочет — умрет, а заставит сделать, как это считает правильным. Вот и не пришлась она ко двору там, во фронтовом, эвакогоспитале, когда раненых за Волгу эвакуировали. Поглядели на нее — врач хороший, как говорят, трудяга, да и женщина интересная. А попытались ею помыкать, не считаться с ее мнением, не говоря уже о легких флиртах, — не вышло. Она рапорт, другой, третий, десятый. Настаивает послать в свою армию. Билась, билась, а уж если она чем загорелась, тут ее не переубедишь и не сдвинешь. Горой стоять будет. Подленько поступили с ней тогда ее начальники. Решили за спиной облить грязью за строптивость, твердый характер и женскую честность. Состряпали характеристику — «не врач она, а выскочка, дилетант, и командовать старшими пытается, и в личном, бытовом отношении». Можно хуже, да некуда. Поэтому и начальник санслужбы армии не хотел ее в дивизию Бурунова посылать, отговаривал и даже торговался. «Я вам двух дам начальников служб, хотя это и не положено». Бурунов настоял на кандидатуре Аленцовой. Он позвонил начальнику штаба армии. Прислали. Заглянул кадровик в ее личное дело — и к нему. «Как нам быть, товарищ полковник? Глядите, кого нам подсунули. Должность ответственная. Вот и раскуси людей. С виду ангел, а в душе ведьма». Бурунов был разозлен не на шутку. Он написал жалобу в политотдел армии, потребовал клеветников привлечь к партийной ответственности. Легким испугом отделались — по выговору оба получили. А таких исключать из партии надо. Аленцова не знала ни о характеристике, ни о вмешательстве в это дело Бурунова. К чему ей знать об этом?
Обо всем этом вспоминал сейчас Бурунов и не знал, какое решение ему принять. «Прежде всего надо разыскать Наташу Канашову и попробовать их помирить».
Она тоже долго сидела, уставившись в одну точку, думая о чем-то своем, грустная и такая милая, милая и любимая. Потом свела к переносице красивые черные брови с изломом. Встала.
— Да, товарищ полковник, я уйду из дивизии. Что узнаете о Наташе, прошу, сообщите мне.
С утра немецкие танковые части, начав наступление, расчленили полк, захватили вокзал и вышли к центральной переправе Сталинграда.
Взвод разведки из полка Коломыченко получил боевую задачу пробраться как можно ближе к вокзалу и установить, с какими силами немцев сражается первый батальон, попавший в окружение.
Лейтенант Еж, выслушав приказ командира полка, ночью повел взвод оврагами, в обход вокзала. Взводу был придан один тяжелый танк КВ.
Разведчикам приходилось часто вступать в перестрелку с мелкими вражескими группами. Двое были убиты, а четырех легко ранило. Если трудно бывает воевать в полуразрушенном городе днем, то ночью труднее вдвойне. Попробуй определи, где свои, а где противник. Кругом грохочет бой. Тьму на мгновение разбрасывают вспышки выстрелов, а затем становится еще темнее, ну хоть глаз выколи! И бывалые, обстрелянные воины нередко теряются в ночном бою, а разведчики не имеют права. Они должны уметь действовать в любых условиях, и даже видеть ночью. Неунывающий командир разведчиков Еж подбадривал своих ребят любимой поговоркой: «Не посмотришь — не увидишь, не расспросишь — не найдешь». Подполковник Коломыченко не случайно пошел на такой риск, оставив полк без ядра разведки. Он был уверен, что только разведчики смогут выполнить это задание.
Лейтенант Еж неторопливо пробирался с бойцами к вокзалу, определяя на слух, из чего стреляют наши, где немцы, куда перемещаются очаги боя. Когда взвод почти подошел к вокзалу, Ежу стало ясно, что наши отдельные группы, полуокружая, обстреливают здание вокзала. Значит, вокзал обороняют фашисты. «Но почему они ведут эту глупую перестрелку и не действуют решительно? — думал он. — Что их задерживает?» Он быстро разослал попарно разведчиков к местам, где ведут бой наши подразделения. И вскоре узнал: командир батальона убит, командир первой роты тяжело ранен, боеприпасы на исходе, в батальоне много раненых. Таким образом, взвод разведки выполнил свое задание, собрал сведения о батальоне, теперь осталось одно — возвратиться в полк и доложить командиру о выполнении. Но не таков лейтенант Еж. Он решает: собрать всех бойцов батальона и попытаться выбить фашистов из вокзала. Разведчики по его приказу расползаются к разрозненным группам. Еж приказал оставить в каждой из них по нескольку человек, чтобы они вели перестрелку, отвлекая немцев. А остальных собрать и вести к железнодорожному полотну, где на путях валялись разбитые цистерны и вагоны. Отсюда рукой подать до вокзала. Разведчикам удалось собрать человек пятьдесят-семьдесят бойцов, два расчета с батальонными минометами. Это уже большая сила, особенно в ночном бою. Теперь надо умело направить эту силу туда, где меньше всего ее ожидают немцы, и взять вокзал. Сержант доложил, что у разбитого вокзального склада стоят два наших танка, у них нет горючего. Как быть? С танками атаковать куда сподручнее и надежнее — броневое прикрытие Еж приказал обследовать все пристанционные постройки. Не может быть, чтобы нигде не было горючего. Но поиски разведчиков ни к чему не приводят. Как же быть? И тут лейтенанту пришли на выручку минометчики. Доложили, что перед их прежними позициями стоит подбитый немецкий танк. Танкисты отстреливались до вечера, а потом все смолкло. Видно, сбежали. Еж послал туда группу танкистов и разведчиков. Вскоре они принесли два танковых бачка с бензином.
В глухую полночь перестрелка заметно ослабла. И наши, и фашисты устали от непрерывного боя. Лейтенант Еж пристально всматривался в ночь. Вспышки взрывов разрывают тьму. Они возникают и в пустых глазницах окон, и среди развалин ближних зданий, и где-то у берегов Волги.
Здесь, на привокзальной площади, немцы непрерывно напоминают, что отдавать вокзал без боя они не собираются. В отсветах разрывов Еж видит в центре привокзальной площади фонтан и скульптурную группу детей, которая, будто не обращая внимания ни на войну, ни на огонь, ни на смерть, витающую вокруг, водит веселый хоровод. До вокзала рукой подать двести-триста метров. А вот попробуй — пройди их. Головы не поднять. А надо пройти. Ежа как магнитом потянуло туда. Он понимает, что значит для нас эта полуразрушенная крепость. Лейтенант Еж лежал, прислушиваясь. Слева участилась перестрелка. «Это отвлекают наши», — догадался он. Пользуясь удобным моментом, он поднял бойцов в атаку. Фашисты не ожидали такой дружной напористой ночной атаки с мощным русским «ура». А когда опомнились и начали бить из минометов и перешли в контратаку, было уже поздно. Батальон стал хозяином вокзала. Лейтенант Еж тут же стал закрепляться. Он собрал всех командиров. Среди, них были танкист младший лейтенант Егоров и восемь сержантов и старшин.
— Товарищи командиры, я принял командование батальоном. Меня послал к вам командир полка. Наша с вами задача — продержаться до подхода подкрепления. Приказ не рассказ. Тот и ответ держит, кто приказывает. Ясно?
— Ясно-то ясно, — сказал долговязый сержант, с маленькой головой и оттопыренными, будто ручки кастрюли, ушами, на которых держалась пилотка. — Но как продержаться? Патронов нет, сутки не жрали, и раненых полно. Одна сестрица всех обхаживает. — Он махнул рукой: — Да что и говорить — воды и той нет, губы ссохлись:
Еж слушал сержанта, не перебивая. Пусть выскажется, раз у человека наболело. Может, что и дельное скажет.
С груды битого кирпича поднялся старшина. Пошатываясь, он пригладил бороду и, кривясь, поморщился.
— Да не слушайте нытика, товарищ лейтенант! Этого нет, того нет, — передразнил он его, гундося. — А кто тут для нас припас готовенькое? Фашисты тебе принесут на подносе? Есть приказ нам держать вокзал, будем держать. Не за тем мы тут вторые сутки бьемся, чтобы отступать. Расплакался, а еще сержант называется.
— Товарищ старшина, да я разве об этом, — перебил сержант. — Говорю, сложная ситуация.
— Не слепые, видим, какая твоя ситуация — передразнил старшина.
— Товарищ лейтенант, я. я.
— Кто хнычет — в того и пуля тычет. Слыхал сержант, присказку: «Не хнычь и не ной, когда в бой».
Все засмеялись.
Лейтенант Еж почувствовал, настало время проявить командирскую власть. Дальнейшие разговоры ни к чему.
— Ну вот что, товарищи командиры, — сказал он, пальцем пересчитывая каждого. — Тут шесть сержантов. Будете командирами боевых групп. Младший лейтенант Егоров, будешь моим заместителем. Командуй танками. Старшина, твоя фамилия?
— Шустов.
— Назначаю командовать батальонными минометами. Тебя, старшина? — обратился он к худощавому, с большими глазами, с плащ-палаткой через плечо.
— Я Печенкин, — ответил тот.
— Вкусная фамилия, — усмехнулся Еж. — Как оно, хлопцы, печенка поджаренная, с грибной подливкой и луком? — Все рассмеялись.
— Не в обиду, старшина. К слову так пришлось. Видать по глазам, проголодались все. Горе наше солдатское: кашу есть — не хочется, а оставить жаль.
— Так вот, Печенкин, назначаю тебя начальником тыла. А, как известно, нет тыла, где же сила.
— Гляди, какую должность отхватил, как по блату.
— Товарищ Печенкин, — сказал Еж, — ваша задача подсчитать и доложить мне, сколько у нас боеприпасов, что есть из продовольствия и медикаментов. Понятно?
— Понятно, товарищ лейтенант.
— В свое распоряжение берите четырех человек. Место для склада подышите в подвале вокзала. Немецкие трофеи соберите. А теперь пойдемте, товарищи командиры, наметим для каждой боевой группы позиции. Оборона должна быть круговой. Куда фриц ни сунулся бы, везде по зубам получит. Оно известно, нет обороны — заклюют и орла вороны.
Еж собрался идти с командирами по боевым участкам, когда к нему подошла санинструктор Наташа Канашова. У нее перевязана левая рука и ссадины на лбу и левой щеке. Глаза усталые.
— Ранены?
— Контужена, когда вокзал брали. Но сейчас ничего.
— Как же быть с вами? Подождите, вот дам задания командирам, отправлю вас обратно в полк, с разведчиками.
— Нет, нет, что вы, товарищ лейтенант. Я никуда не уйду. У меня там столько раненых. Что вы?
— Понимаю, понимаю. Ну что ж, тогда, Печенкин, помогите санинструктору место отыскать для раненых. Медикаментами обеспечить, воды достать.
— Спасибо, товарищ лейтенант, а то я прямо растерялась. Не знаю, с чего и начать.
— Ничего, ничего, сестрица. Мы все вам помогать будем. Никому не дадим в обиду. Вы одна у нас, как королева. Как, хлопцы? — взглянул он на командиров.
Еж распределил бойцов по боевым группам, с одним из разведчиков отослал донесение командиру полка и отправился разыскивать Канашову. «Ну и боевая девчонка. Другие за плечами таких отцов, как у нее, дома сидят, а эта в самое пекло лезет. Тут мужику, и тому страшно, а ей хоть бы что. И подранили бедняжку, красоту на лице попортили».
Наташу Еж нашел в одном из подвалов вокзала. Видно, раньше здесь был какой-то склад. Кругом валялись разбитые ящики, бочки, пустые бутылки. И только вторая половина за деревянной перегородкой, очищенная бойцами, была приспособлена под госпиталь. На полу, на немецких одеялах и красноармейских шинелях, лежали тяжело раненные бойцы. Тусклый свет мерцающей коптилки едва позволял различать людей по белеющим то тут, то там повязкам.
Канашова сидела на ящике, а рядом с ней, Еж даже не поверил своим глазам, маленький мальчик. Это что за диво? Откуда мальчонка? Лейтенант подошел к ней. Она откинула полу шинели, которой прикрывала ребенка. Мальчик пугливо косил глазенками в сторону Ежа, прижимался к Наташе, высовываясь из-под шинели, как цыпленок из-под крыла курицы. Лейтенант заулыбался, поискал в карманах и протянул ему галету.
— Ты откуда будешь, хлопчик? — Он погладил его по голове. Наташа обняла мальчика.
— Ну скажи, Саша, дяде, кто ты такой?
Мальчик насупил бровки и обидчиво поджал нижнюю губу.
— Ниоткуда, — резко ответил он. — Сталинградец я. Маму мою фашисты убили.
— Мы уже окрестили его, товарищ лейтенант. Он не просто Саша, а Саша Сталинградович.
У Ежа запершило в горле. Он вспомнил о своих детях и с трудом сдержал нахлынувшие слезы.
— Сынок ты мой, — снова погладил он его по свалявшимся, жестким волосам.
— Нет, — покачал головой мальчик. — Ты не мой папа. — И, помолчав, добавил: — Мой на Дону с фашистами воюет. Мне мамка сказывала.
— Изверги проклятые, — донесся из темноты голос раненого. — Детей увечат. Одну бы мне здоровую руку, — со стоном прохрипел он, — душил бы людоедов.
— Куда же мы его? — спросил вполголоса лейтенанта один из раненых. — Нельзя же тут держать детенка.
Наташа обняла мальчика и прикрыла полой шинели:
— Останешься со мной, Сашенька?
Маленький диковатый мальчик истосковался, видно, по материнской ласке и доверчиво прижался к Наташе:
— Останусь с тобой.
Лейтенант Еж обратил внимание на то, что и раненые вели себя гораздо спокойнее. Они сдержанно и глухо стонали, будто стеснялись ребенка.
— Медикаменты Печенкин достал?
— Индивидуальных пакетов принес. И две немецкие походные аптечки. Вода есть.
Еж снял с ремня помятую флягу и передал Наташе.
— Тут спирт. Пригодится для раненых.
Лейтенант ушел в горьком раздумье. Положение батальона тяжелое. Много раненых. Почти нет продовольствия. (Кое-что в вещмешках бойцов и немного из трофеев). Но главное, как быть с ребенком? Может, его отправить сейчас в полк с разведчиками? Но это тоже небезопасно. Они в окружении. Кругом немцы.
Еж поднялся на второй этаж. В угловой комнате разместился командный пункт. Оттуда винтовая лестница вела в подвал.
Ночь пролетела незаметно в перестрелке с немцами. На востоке заалела едва различимая полоска рассвета. Пришел старшина Печенкин и доложил, каким располагали оружием, и сколько осталось боеприпасов.
— В общем, скудновато, товарищ лейтенант. Вокзал — глядите, какая махина. Сюда батальон полного состава в самый раз. А у нас и тридцати человек не наберешь и столько же раненых.
— Ничего, старшина, не робей, продержимся. А там, глядишь, и из полка подмога придет. Нам бы гранат побольше.
— Собирают ребята. Уже три ящика трофейных натаскали
— Ножами неплохо бы обзавестись. В рукопашной в нашем положении все нужно, — сказал Еж. — И лопата, и граната, и русская винтовка.
— Лопаты и ножи почти у всех имеются. Вот только с харчем, товарищ лейтенант, плоховато. Галеты и консервы, что из немецких ранцев повытряс, раненым снес, сестрице.
— Ничего старшина, бог даст день, даст и пищу. На голодный желудок оно легче драться. Злее немца бить будем. Думалось попить да поесть, а тут плясать заставили. Ты сам-то чего сегодня жевал?
— Никак нет, товарищ лейтенант. Воды вот, правда, вдоволь налил в брюхо. Вроде и сыт.
— А зачем же мне пачку галет? Решил меня на особый паек зачислить?
— А как же, товарищ лейтенант? Что нам без вас тут делать? Ходил я по боевым группам, ребята рады, что вы к нам пробились. Без командира что без головы. Как дед любил мой говорить: не сильна засада огородою, а сильна воеводою.
— Ну уж так и без головы. У вас у всех головы на плечах. Возьми вот, — разделил Еж галеты, — подкрепляйся. Давай пожуем и с часочек дадим храповицкого.
Они улеглись рядом, подстелив одну и накрывшись другой шинелью. И тут же уснули.
Но спать им пришлось недолго. С рассветом начался артиллерийский и минометный обстрел вокзала.
Боевые группы оставили дежурные пулеметы с парными наводчиками, и сами ушли в укрытия и подвалы.
Вскоре над вокзалом повис немецкий разведчик «фокке-вульф», прозванный бойцами «рамой». Он неторопливо проплыл, высматривая наши позиции.
— Ну, теперь, ребята, нам здесь крышка, — сказал молоденький боец с худой шеей, в большой, не по голове, каске. Он похож был на гриб поганку. — Еще раз вернется, попомните мое слово, и начнут нас колошматить, как крыс в крысоловке.
Лейтенант Еж видел, что некоторые бойцы поддались паническому настроению. Стали поглядывать по сторонам: куда бы юркнуть понадежней. «Ох уж это не к месту сказанное в бою слово. Оно хуже пули».
— Гришаев! — крикнул Еж. — Давай бегом ко мне со своей «петеерией». И патрончиков к ней бронебойно-зажигательных. Только первого сорта, слышишь?!
— Есть, товарищ лейтенант, — отозвался глухой голос снизу. Бойцы стали поглядывать на Ежа: что же он будет делать?
— Чего притихли? Огонь надо по нему вести, — кивнул он на самолет.
— Оно можно, конечно, — соглашались одни и, прицеливаясь, открывали огонь по немецкой «раме».
— Ему от нашей стрельбы, — сказал боец в большой каске, — ни жарко, ни холодно.
Еж пристроил ножки противотанкового ружья в выбоину в стене, как в упор, и стал вести ствол за медленно летящим немецким разведчиком. Выстрел почти не был слышен. Он, скорее, был заметен только по тому, как дрогнуло правое плечо лейтенанта.
— Пустое дело по небу стрелять, — донесся голос сомневающегося бойца. — Из такой дуры разве попадешь?
— На винтовку нечего пенять, коли сам не умеешь стрелять, — крикнул Еж, целясь. Снова вздрогнуло правое плечо. Он быстро перезарядил и выстрелил в третий раз, когда немецкий разведчик уходил. И снова мимо.
— Точно наведешь, никогда не промахнешь, — сказал Еж. — Поторопился. — И стал снова целиться, когда самолет пикировал на него.
Все повскакали с мест и уставились в небо. У бойца-паникера даже каска свалилась: так он задрал голову. Немецкий разведчик, выпустив черный шлейф дыма, падал. От него отделилось и засвистело несколько мелких бомб.
— Подыхаешь, гад, а все нас норовишь ужалить, — сказал Еж. — Ничего у тебя не выйдет. А ты, — обратился он к бойцу, надевавшему каску, — как санинструкторшу вчера увидел, гляжу, такая перед ней походка львиная. А вот в бою храбрость куриная. — Бойцы весело засмеялись.
Несмотря на то, что немецкий разведчик был сбит, вскоре все же появились вражеские самолеты. Они обрушили свой смертоносный груз на здание вокзала. Оно загорелось. Люди задыхались от гари и едкого дыма.
Началась борьба с огнем. Пламя из нижнего этажа могло проникнуть в подвал, где лежали тяжелораненые. Связи не было, и Еж метался из комнаты в комнату, разыскивая командиров и предупреждая о готовящейся атаке немцев.
С утра до полудня фашисты предприняли пять атак. Но захватить вокзал не смогли. Небольшие группы немцев, прорвавшиеся в зал ожидания, были уничтожены в рукопашной схватке.
Немецкое командование убедилось, что ударами в лоб им не овладеть вокзалом. Они стали подтягивать пехоту и танки со стороны площади к одному из близко расположенных угловых каменных домов. Еж видел, что вот-вот снова начнется атака, а кроме пулеметов, ее отбивать нечем.
Только разошлись группы по позициям, к Ежу, задыхаясь, прибежал связной:
— Товарищ лейтенант, к нам пополнение пришло. Целая рота. Вот с такой радости курнуть бы малость.
Еж сунул ему кисет.
— Рад нищий и тому, что сшили новую суму, А была бы сума, наложить не надо ума.
— Так там на одну закрутку. А вам?
— Завертывай, друг, и кури, и давай бегом. Командиров ко мне.
На сердце у Ежа стало теплее, будто кто-то снял эту давящую тяжесть, и сразу тело расслабло, и захотелось спать. Он прислонился к стене, закрыл глаза, голова закружилась, словно на карусели, и уши будто кто закупорил, и пропали всякие звуки. Весь он погрузился в теплую, ласковую воду, припал к ней губами, пил, пил, пил и никак не мог утолить жажду. «Так это же Волга. Какая она широкая, берега не видно».
Кто-то тряс его за плечо.
— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! — Еж с трудом разжал слипшиеся веки и увидел перед собой маленького лейтенанта. Совсем еще безусый мальчишка. «Видать, из училища недавно».
— Так сколько у тебя в роте, лейтенант? — спросил он, с трудом вставая и поправляя съехавшую на ухо пилотку.
Тот лихо козырнул и доложил:
— Прибыл в ваше распоряжение. Личного состава тридцать человек, товарищ комбат, один станковый и три ручных пулемета, шесть ящиков гранат, и у каждого в вещмешке по двести патронов.
Еж будто невзначай распахнул шинель, руки за спину, расправляет складки под ремнем. Новичок лейтенант увидел у него на груди медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды, а слева гвардейский значок.
— О, да это не рота, а целый полк, — сказал Еж. — Мы еще повоюем, лейтенант! Будешь моим замом. Егоров у меня был. Тяжело ранило его. Величать-то тебя как?
— Воронин. Иван Иванович.
— А меня Еж Ефим Данилович. Вот, считай, мы с тобой и познакомились. А завтра поглядим, какой в бою будешь. Может, и подружимся.
* * *
Пятые сутки продолжался огневой штурм. На каменное четырехэтажное здание, где оборонялись остатки батальона под командованием Ежа, обрушилось столько снарядов и мин, что казалось, от него останется только щебень, и пыль. В здании сгорело давно все, что могло гореть. Казалось, в нем нет уже ни одной живой души. Но как только немцы подымались в атаку — оно вновь оживало.
Немцы не жалели боеприпасов и упорно, с методической последовательностью долбили дом, стараясь похоронить под его обломками непреклонных защитников.
Лейтенант Воронин, присланный с ротой в подкрепление батальону, был убит. Из восьми младших командиров остался в живых один — старшина Печенкин. Он был дважды ранен, но идти на медицинский пункт отказался.
Из-за угла полуразрушенного дома донесся угрожающий гул моторов, и вскоре появились приземистые коробки танков с черными крестами.
Еж с безнадежностью поглядел в их сторону. Не было патронов и гранат. Из тринадцати человек девять были тяжело ранены.
Старшина Печенкин торопливо царапал на стене последние слова: «Здесь сражались за Родину бойцы полка Коломыченко». В цинковую коробку из-под патронов уложили документы штаба батальона, партийные и комсомольские билеты. Немцы, видно, поняли, что замолкший дом уже больше не сможет оказать им сопротивление. Танки, выстроившись в колонну, как на параде, подходят все ближе и ближе. Из стволов вспыхивало ослепительное пламя. Одна из стен с грохотом обрушилась. В это время над домом два советских ястребка завязали воздушный бой с фашистскими бомбардировщиками. Один из немецких стервятников рухнул, окутанный черным облаком, другой потянул за собой шлейф дыма и скрылся за домами у Волги. Но тут же вспыхнул и наш ястребок. Он сделал разворот, и все увидели, как, объятый пламенем, он отвесно пикировал в гущу немецких танков.
Пламя расплескалось по улице. Раздался оглушительный взрыв, и дым закрыл все перед глазами.
Лейтенант Еж снял шапку. Бойцы последовали примеру командира. Неизвестный летчик, погибая, нанес последний удар и спас маленький гарнизон Ежа от неминуемой гибели. Но немцы, ошеломленные подвигом героя-летчика, не успокоились. На улице горели четыре машины, а они продолжали рваться к зданию. Немецкие орудия били в стены дома прямой наводкой, и вскоре стены были окончательно разрушены.
Лейтенант Еж очнулся от холода. Густые осенние сумерки скрыли улицы. Он стал пробираться по подвалу через завалы битого кирпича, задыхаясь от недостатка воздуха. Откуда-то доносились глухие стоны.
— Кто здесь? — крикнул он.
— Я, Печенкин, — ответили из дальнего угла подвала.
Еж зажег спичку. В полутьме он увидел старшину. Слабый свет выхватил на миг тело старшины, заваленное кирпичом и мусором. Еж подполз к нему и стал раскидывать битый кирпич.
— Товарищ лейтенант, — прохрипел Печенкин. — В углу, в люке, санинструктор Канашова с ребенком и два бойца. Спасайте их, я не выживу. Меня раздавило.
Еж бросился в угол, поджег газету и стал с яростью разбрасывать кирпичи. Из люка доносился детский плач. Еж искровянил себе пальцы острыми камнями, разгреб мусор и с трудом сдвинул тяжелую металлическую крышку.
— Товарищи, вылазьте. Скорей наверх.
Кто-то подал ему плачущего ребенка.
— Тише, Саша, не плачь. Тут кругом фашисты. Придут и всех нас убьют.
Саша продолжал всхлипывать. Он просил пить. Из люка вылезли раненая Канашова и два бойца. Они вытащили Печенкина.
На улицах Сталинграда ночь, и только кое-где тлеют обуглившиеся остатки домов. У Волги горят нефтебаки, и тьму пронизывают светящиеся трассы пулеметных очередей. Оставшиеся люди вместе с Ежом ощупью пробираются к берегу реки. Там единственное спасение — вода, без которой уже больше нет сил двигаться.
По берегу бродят немецкие патрули. Их силуэты хорошо видны при вспышках осветительных ракет. Дальше идти нельзя. Надо ползти. Двое бойцов тащили на шинели теряющего сознание Печенкина. Сделали короткую передышку. Один боец по заданию Ежа ушел за водой. Остальные сидели в полуразрушенном блиндаже. На руках у Канашовой спал Саша.
Боец вернулся с каской воды. Жадно пили пахнущую керосином волжскую воду. Еж послал двоих в разведку. Они принесли нерадостную весть: пробраться дочти невозможно. Обессиленные, голодные, раненные, они легко могут попасть о плен. Еж снова послал бойцов. Надо во что бы то ни стало добыть оружие. Бойцы возвратились под утро. Один из них был ранен в перестрелке, но у каждого из них висело по немецкому автомату.
На рассвете группу Ежа разбудил шум частой перестрелки со стороны Волги. Еж послал одного из бойцов в разведку, и тот вскоре прибежал, радостно крича:
— Товарищ лейтенант, товарищи, там наши. Моряки десантом высадились. Немцы отступают по Набережной улице.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Приемная командующего бронетанковыми войсками представляла собой большую продолговатую комнату. Мягкий матовый свет. Массивный резной дубовый стол, покрытый зеленым сукном. На стене карты театров военных действий. У стен, параллельно письменному столу, мягкие кресла. Канашов вошел и доложил генералу армии. Тот сидел и что-то писал, но, когда услышал его голос, слегка прищурился и, выйдя из-за стола, пожал ему руку.
— Итак, товарищ Канашов, мы решили вас послать заместителем командира танкового корпуса. Как вы на это смотрите?
Генерал армии, не по годам молодой, с приятным лицом, наклонил голову влево. Для Канашова все это было неожиданным: и вызов сюда, в Москву, и эта новая должность.
— Я солдат. Куда пошлют, там и буду служить. Постараюсь оправдать доверие.
— Мне, товарищ Канашов, приходилось встречаться с вашими статьями в военных журналах, Чувствуется, что вы остро ставите многие вопросы тактики и использования боевой техники в современной войне. И эта ваша последняя статья о применении танков непосредственной поддержки пехоты. Нельзя не согласиться с вашей точкой зрения. Распыление или равномерное использование, танков в наступлении приводило наши войска, как правило, к неудачам. Таково мнение боевых офицеров и официальное — Генштаба. Опыт наступательных боев под Москвой и на ряде других фронтов заставил Генштаб ввести в действие новое Наставление по боевому применению танковых войск.
Вполне согласен с выдвинутыми вами положениями, отмечающими серьезный недостаток в использовании танков НПП (непосредственной поддержки пехоты). Вы правы, что пока еще неумело организуют взаимодействие с танками, артиллерией и саперами. И что досаднее всего отметить, прошло более полугода с момента выхода этого наставления, а мы до сих пор еще не можем преодолеть эти недостатки. Они повторились, к сожалению, и в Харьковской операции в летней кампании тысяча девятьсот сорок второго года.
— По-моему, товарищ генерал, это все еще, «отрыжки» наших предвоенных взглядов. К тому же перестройка проходит в тяжелых военных условиях. До сих пор мы наблюдаем такую безотрадную картину: танковые части направляются на фронт, не имея полного штата и достаточного количества боевых машин. Танкисты прибывают в действующие войска без должной боевой подготовки.
Генерал армии сидел, задумавшись и изредка делал какие-то пометки в блокноте.
— Теоретическая подготовка наших танковых да и общевойсковых командиров, прямо скажу, еще слабая. Как вы думаете?
— Был у меня, товарищ генерал, такой случай, когда наша армия наносила контрудар на Сталинградском фронте. Прислали ко мне в дивизию для поддержки батальон танков. Знакомлюсь с командиром батальона, майором Кобылкиным. Разговорились по душам, а он танки видал издалека. Сам кавалерист, командовал эскадроном, в батальон прислали ему командиров рот, призванных из запаса. Служили они в танковых частях еще в тысяча девятьсот тридцать пятом году: Немного изучали танки БМ-4, а пришли воевать на Т-34. Откуда им толком знать боевые возможности этой замечательной машины? И опыта у них в этой войне никакого. Помню, как мы спорили с майором. Я настаиваю: давай весь батальон используем в полку, где наносили главный удар, а он нет. Лучше дать в каждый полк по роте. Немцам страху больше нагоним. Если бы мне танковый батальон придали, я заставил бы его действовать, как хочу. А раз он только поддерживает и не подчинен, то пусть делает, как пожелает его хозяин. Распылил он танки (да и батальон был неполного состава), и вышло по два-три танка на километр фронта. Ну, какая это плотность? Степь кругом, все как на ладони. Пошли они в наступление, вырвались вперед без поддержки нашей артиллерии, а немец выдвинул противотанковые орудия и давай их щелкать как орехи. Гляжу, один горит, другой дымит, а остальные повернули обратно. Танки потеряли, а приказ не выполнили. Не поддержка вышла, а слезы. Майор говорит мне после боя: «Что проку, полковник, в этих железных коробках? Мне бы лучше эскадрон коней лихих, казацких, вот бы посмотрел, как мы всыпали бы перцу немцу».
— Да, у майора вашего мышление лошадиными нормами, — сказал главнокомандующий, — вы правы. И фамилия у него типичная кавалерийская — Кобылкин, — усмехнулся он. — Сейчас, товарищ Канашов, положение во многом изменится, и в очень скором времени. Производство танков у нас растет. Это позволит нам совсем по-другому взглянуть на их использование. В недалеком будущем у нас будут не только танковые корпуса, но и армии. Совсем недавно мы внесли изменения в организационную структуру танковых частей и соединений. Вместо танковых бригад смешанного состава, у которых были на вооружении танки КВ, Т-34 и Т-60, мы стали формировать целиком бригады Т-34 и лучшими, чем Т-60, легкими танками Т-70. А вместо отдельных танковых батальонов, у которых на вооружении находились танки всех типов, стали создавать отдельные танковые полки прорыва из тяжелых танков КВ. Их мы будем использовать для усиления стрелковых соединений при прорыве особо прочной обороны противника.
Генерал армии встал, дам понять, что разговор окончен.
— Ну, в общем, товарищ Канашов, нам придется со всеми этими изменениями и новшествами основательно познакомиться. Вы как бы меняете свою прежнюю военную профессию, — И он слегка улыбнулся. Канашову показалось, что он вспомнил его рассказ о Кобылкине. — М-да, я отдал распоряжение, зайдите в орготдел, со штатами нашего соединения ознакомитесь. Пока будете ждать приказ о назначении, прослушайте цикл лекций в бронетанковой академии, да с техникой новой повозитесь. Так сказать, краткосрочные курсы. Думаю, они нам пойдут на пользу.
Попрощавшись с генералом армии, Канашов вышел из приемной в приподнятом настроении, с желанием поскорее войти в курс новой, большой и ответственной должности.
Хотя командующий бронетанковыми войсками не сказал ему ни слова о ближайших планах, но, судя по той перестройке, которая уже шла полным ходом в танковых войсках, и новых изменениях в организации их, в Ставке, по-видимому, разрабатывались, как догадался Канашов, уже большие наступательные операции.
* * *
Получив предписание, генерал Канашов не терял ни одного часа В тот же день он оформил документы и тут же решил уезжать, как его ни уговаривала тетка остаться хотя бы на денек погостить. Он несколько минут глядел на фотографию Аленцовой.
— Ты бы хотя ей-то написал, — сказала тетка. — Человек ни фронте, в каждом письме половина о тебе, половина о твоей Наташе. А ты.. Черствый сердцем ты, Миша. Чего зазря человека обижать. Женщина она, видать, стоящая. Тебе бы за нее только бога молить,
— А я, Степанида Евлампиевна, так и делаю, — сказал он улыбаясь.
Тетка усомнилась, подперла рукой щеку, вздохнула:
— Когда так думают, человека не обижают.
— Ну, усовестили, усовестили, хватит. Напишу. Да о чем писать? Я бы лучше сказал ей все при встрече.
— Э-э, милок, вон моей соседке Гале ухажер цельными тетрадками пишет. Вот это, я понимаю, любит. Мы, как засядем вместе, до полуночи читаем.
Канашов написал короткую открытку и оставил на столе.
Степанида Евлампиевна покачала головой:
— Твоей любви и хватило-то на десять слов. Ну, гляди, Миша, потеряешь такого человека, будешь локти кусать. Мимо такой женщины какой мужчина пройдет, чтобы не позариться? Фу-ты, совсем запамятовала, — всплеснула она руками. — Тебе же письмо от Нины Александровны. Погоди. Что-то уж больно толстое, тяжелое. Вот какие письма пишет человек — а на фронте. Значит, любит.
— Не любила б — не писала. — сказал он и, радостно улыбаясь, распечатал конверт. В нем короткая записка от Аленцовой и еще письмо. «По просьбе твоего дяди пересылаю это печальное известие. Дядя тяжело ранен и эвакуирован за Волгу. Работы так много, что некогда толком написать письмо. Постараюсь написать подробней в самое ближайшее время».
«Бедняга, — подумал он о ней. — Достается там. Ни днем, ни ночью нет покоя».
Дядька — двоюродный брат отца — писал ему о расстреле немцами отца. Отец, оказывается, вместе с подрывниками участвовал в уничтожении шахтного оборудовании, когда отступали наши войска. Немцам кто-то донес об этом и о сыне — командире Красной Армии. Канашов прочел и не мог уже оставаться дома. Надел фуражку, шинель и вышел. Хотелось побить наедине с собой. Время уже было позднее, после одиннадцати. Он пошел вдоль набережной Москвы-реки. Изредка ему попадались парочка влюбленных. «Ну вот в не стало тебя, батька. Обрублена последняя ветвь в потомственной шахтерской династии Канашовых. Глубоко корнями уходил наш шахтерский род в прошлое столетие. Канашовы в числе первых закладывали эти шахты. Прости, отец, а я, грешным делом, думал, как бы тебя, влюбленного в профессию, не принудили немцы на них работать. Прости, что так плохо о тебе подумал. Обид на тебя у меня нет. Тебе я обязан многим. Ты меня увлек шахтерской романтикой. Там, в шахтах, наливались мои мускулы силой, а тело — здоровьем. В армию ушел, пригодилось оно мне, в финскую воевал — ох как здоровье выручало меня. А первые дни отступления, а в окружении? И раны на мне, как на собаке, заживали. И упорству трудовому, рабочему, шахтерскому научился я у тебя. Тоже пригодилось оно мне в жизни, в армии, в военной науке, на командных должностях. Помню, как говорил ты: «Не уступай никому и ничему, коль цель у тебя святая. Не гляди, что иной с виду форсистый, бывалый, ученый, а в каком деле ты супротив его сопляк».
Канашов остановился, поглядел на замерзшую реку. Он физически ощущал, даже слышал хрипловатый отцовский голос, видел, будто все это было вчера: желтые, прокуренные его усы и синеватый рубец с правой стороны лба — отметина, оставшаяся у него после завала. Канашов пошел дальше вдоль набережной.
«Кто знает, может быть, это упорство заставило в 1941 году помериться силами с Мильдером. Многие наверняка считали это безрассудством. Против этого петуха я был неоперившимся птенцом. И я тогда знал, что он не из тех, кто уступит. Знает, как и куда бить, и царапать не будет, ударит — так насмерть. Знал я, а вот с нашим шахтерским упорством полез на него и дал по морде. И в 1942 году на Дону ему устроил сабантуй. И не так, как в 1941 году, еще не уверенный до конца — выйдет не выйдет, как бы из-за молодого петушиного озорства, а сам петушиные шпоры имел. Больше трех десятков подбитых и сожженных танков ты оставил тогда в донской излучине, господин Мильдер. Здоровье и упорство, которым я обязан тебе, батя, в первую очередь позволили мне вынести трагедию отступлений, окружений, они мне позволяли ощутить верные радости побед под Брянском и Москвой. Во многих моих удачах тогда и теперь — твоя заслуга, батько, малограмотный, выбившийся из вечной нищеты благодаря Советской власти в люди, русский рабочий, потомственный донецкий шахтер».
Продрогший, пришел Канашов далеко за полночь. Тетка уже спала, чему он был рад (не будет расспросов и вопросов), и сам лег спать.
На другой день Канашов облегченно вздохнул, когда распрощался с ворчливой теткой. Он недолюбливал ее за это. По пути к новому месту службы его удивляло одно: зачем его направили на Брянский фронт? Там уже год как глухая оборона. И это разочаровывало его. Неужели на этом оборонительном фронте нужны танковые войска? Или Ставка замышляет там какую-либо наступательную операцию? А как же Сталинград? Почему там ничего не делается? Сегодня утром он слушал тревожную сводку Информбюро. Немцы прорвались в районе Мамаева кургана к Волге. Если для гражданских людей это было малопонятным фактом, то он отдавал себе отчет, что это значило. Немцы разрезали где-то участок обороны и овладели господствующей над городом высотой. А это уже опасно. Они могут полностью установить контроль над переправами и оказаться хозяевами положения в Сталинграде. Как же это могло случиться? Видно, командование фронта, да и Ставка, где-то допустили серьезный промах.
Исправить его нелегко. И если исправлять, то надо без промедления. Иначе мы сведем к нулю все наши почти трехмесячные усилия, удерживая город. С такими безрадостными мыслями он и приехал в город Плавен. Штаб танковой армии он отыскал быстро. Командующей уехал в войска вместе с членом военного совета.
Канашов познакомился с начальником штаба — худощавым, стройным генералом Геворкяном. Черные широкие брови генерала как два крыла, срослись на переносице, а из-под бровей глядели на Канашова, будто маслины, улыбающиеся глаза.
— Значит, в нашем полку прибыло, — сказал он с заметным акцентом. — Вот и хорошо, вот и хорошо. Обедал, товарищ генерал?
Канашов сказал, что торопился, не стал задерживаться в столовой, хотел поскорее попасть сюда.
— Очень хорошо, очень хорошо, — проговорил начальник штаба, — не могу один есть. Скучно, люблю компанию. Одному ничего не лезет, — улыбнулся он сахарно-белыми, ровными зубами. — Разрешите пригласить вас к себе на обед.
Канашов замялся. Он не против был пообедать, но хотелось поскорее представиться новому командующему, а потом уже все остальное — обед, устройство на новом месте.
Генерал Геворкян, видно, угадал его замешательство.
— Вы хотите быстрее увидеться с командующим?— Он шевельнул черными разлатыми бровями. — Раньше чем к ужину он не будет, а может, и до утра задержится. Он у нас человек обстоятельный. Куда поедет — до всего докопается, все на ноги поставит. Не любит парадных шумих. Это не то что прежний.
Канашов понял, что командующий с начальником штаба живут душа в душу, а вот с прежним у него что-то не ладилось.
— Ну тогда пойдемте обедать, — согласился Канашов. — Я, признаться, проголодался
И они направились к небольшому деревянному домику, стоящему в густом саду. Им попадались щели, траншеи и даже позиции. Видно, начальник штаба был настоящим хозяином и знал хорошо свою службу. Позаботился об обороне командного пункта.
Геворкян жил в двух просторных комнатах, чистых, со светлыми широкими окнами. На стене, у койки, большой, во всю стену, гобелен. На нем выткана гора Арарат и внизу озеро Севан. Заметив, что Канашов заинтересовался гобеленом, Геворкян сказал:
— Жена прислала. Пусть, пишет, над кроватью у тебя будет кусочек нашей солнечной Армении.
— Красивый, — сказал Канашов и тут же увидел на фаянсовой тарелке портрет молодой девушки-армянки. «Неужели жена? Она не старше моей Наташки».
— Девушкой любуешься, генерал, думаешь, какой у начальника штаба молодой жена? — спросил Геворкян. И улыбнулся: — Нет, это не жена. Дочь моя. В университете училась.
— Окончила?
— Ушла со второго курса на курсы медиков. Сейчас в госпитале работает.
«Как и моя Наташа. Где она сейчас, неугомонная?»
Геворкян был очень доволен, когда узнал, что у Канашова тоже есть дочь, и что она тоже имеет отношение к медицине.
— Значит, мы с вами подружимся. Такое совпадение: тезки мы и у нас обоих дочери, все это — к дружбе, говорят у нас в Армении.
Пока они разговаривали, стол был накрыт со щедростью восточного гостеприимства. Геворкян достал бутылку коньяку.
— Наш лучший, ереванский, — подмигнул он. И, открыв шкаф, принес блюдо с виноградом и яблоками.
— О, да это не обед, а банкет, — сказал Канашов.
— А как же иначе? Сегодня вы у меня гость. А для гостей все надо ставить на стол, что есть у тебя получше.
Они выпили за знакомство, а второй тост Геворкян предложил за дружбу.
— Понимаешь. Михаил Алексеевич, слабость одну имею, людей хороших люблю, друзей люблю. Хочу, чтобы у меня их было как можно больше.
— Вообще неплохо настоящих друзей иметь Нам, военным людям, особенно на фронте, Михаил Андреевич, никак нельзя без дружбы. Я так понимаю.
— Эх-х-х, — вздохнул Геворкян. — А мне вот никак на дружбу с начальниками не везло. Долго не везло. Ну что ни начальник, то... — Он махнул рукой. — А новый ничего, хороший человек, умный, строгий, но душевный. Прежний был — только и молил бога, когда меня от него переведут. Генерал Пастушенко. Слыхал такого?
— Нет.
— Ну и хорошо, что не слыхал. Ничего не потерял. Врагу своему не желаю под его началом служить. Не пойму, как такие люди в большие начальники попадают? Ну ты пойми меня, Михаил Алексеевич, правильно пойми. Не думай, что я жалуюсь. Насолил мне? Нет. Но не уважаю я таких людей. Бой идет, люди кровь проливают, а он только думает о себе. Уйдет с наблюдательного пункта в свой блиндаж и давай свою голову брить. Побрил, за гармонь, и давай пиликать
— Еще Суворов говаривал: «Никакой баталии в кабинете выиграть нельзя». Так ему бы в ансамбль идти надо, а не командовать.
— Какой там ансамбль! Ничего он путного играть не может. Заведет, как шарманку, на одной ноте: «Ты калина, ты малина, ты малина, ты калина», — и вот так и скрипит полдня, душу вытянет. А с подчиненными как он обращался! Попробуй доложи ему по-уставному: «Товарищ генерал», так он тебя так отбреет. «Генералов, — крикнет, — у меня в армии много, а командующий один». Это чтобы его милость величали командующим. Работники мои в штабе, как на эшафот, шли к нему докладывать оперативные сводки. Подпишу я, подпишет член военного совета, приходит к нему работник нашего оперативного отдела. Стоит, руки на груди сложит, как Наполеон. Приказывает: «Читай вслух». Сам он никогда не читал ни одного приказа, ни одного документа. По-моему, и газет не читал. Прочитает он ему сводку. Требует обязательно потери немцев исправить. Как это его армия уничтожила за неделю только сто двадцать человек? Переправляет сто двадцать на тысячу двести. Ну, ко мне опять сводку несут. Но я не терплю неправды. Зачем пыль в глаза пускать? Отказываюсь подписывать сводку. Зачем такая чехарда? Что я ему, мальчик? Член военного совета тоже отказывается. Ну, он тогда возьмет красный карандаш и через три фамилии один распишется. И вот так подписывал, подписывал, получал ордена за эту филькину грамоту и доподписывался. Приезжает как-то к нам на командный пункт командующий фронтом, а с ним представитель Ставки. Пастушенко так это с кандибобером ему докладывает:
— Товарищ командующий фронтом, генерал Пастушенко решает боевую задачу.
Генерал-полковник поглядел на него и обратился к представителю Ставки:
— А он, Александр Михайлович, никогда не решал и не может решать боевых задач. И кстати, по уставу надо докладывать, обращаясь по званию, а не по должности, товарищ Пастушенко. Доложите мне о силах противника. Кто обороняется перед фронтом вашей армии? Ну, тот давай глядеть в карту. Читает номер немецкой дивизии.
— Так, так, — говорит генерал-полковник. — Дивизия, значит. А почему вы до сих пор не улучшаете своих позиций, не наступаете? Не выполняете моего приказа?
— Противник не пускает, товарищ команд... товарищ генерал-полковник.
— Не пускает, говорите, — покачал головой генерал-полковник и кивнул стоящему рядом капитану адъютанту. Тот передал ему пачку бумаг. Это были оперсводки нашей армии.
— Вот по вашим оперсводкам, товарищ Пастушенко, вы уничтожили не одну противостоящую, а три дивизии. Так кто же тогда вас не пускает?
— Товарищ командующий, товарищ генерал-полковник, ваш приказ выполню.
И выполнил. Не подготовил серьезно армию к наступлению. Вперед, вперед. Говорю ему: нельзя так, людей погубим и толку не добьемся. Да разве такой послушает или будет считаться с чьим-то мнением?
— Так это же самодур, а не командир, — сказал Канашов.
— А что сделаешь, Михаил Алексеевич? Самодур, типичный самодур. Повел людей в бой, погубил, а ничего не добился.
— Сняли его?
— Сняли. Для таких самодуров — это что с гуся вода. Его совесть не мучает. И вот боюсь, снова куда-нибудь назначат. Плохо тому придется, кем он будет командовать.
— Да-а-а, — сказал Канашов, — мне тоже приходилось, Михаил Андреевич, встречать таких. Кстати, на этом фронте. Тот, правда, был чуть поменьше чином. Но дивизию тоже по-дурацки угробил. Приехал на фронт за славой. Звание генеральское получить захотел. Счастье еще наше, что единицы таких в армии. Но и этих единиц не надо бы. Слишком дорогой ценой, жизнями людей приходится расплачиваться за таких дураков.
— Нет, сейчас в нашей армии хорошие люди, сильные командиры. Командующий наш новый долго их подбирал. На него в Ставке даже обиделись. Как невест выбирает. А правильно делал, очень правильно.
Дверь распахнулась, вошел генерал-лейтенант Кипоренко. Геворкян и Кана шов встали.
— А я в штаб — начальника нет. Думаю, дай загляну, и не ошибся. В самый раз попал на обед.
— Товарищ генерал, — доложил Канашов, все еще не веря своим глазам, — генерал Канашов прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы.
Кипоренко крепко пожал ему руку, оглядел с добродушным прищуром.
— Поздравляю с первым генеральским чипом, Михаил Алексеевич. Надеюсь, не последний, — усмехнулся он. — Идет тебе форма. Выше ростом стал, приосанился и зарумянился, как девица на выданье.
— Это меня, видно, коньяк подрумянил, — улыбнулся Канашов.
— Давайте с нами обедать, товарищ генерал, — предложил Геворкян. — Чем богаты, тем и рады.
— Ну как тут отказаться, — развел руками Кипоренко, садясь за стол.
— Значит, Михаил Алексеевич, — подмигнул командующий, — из пехоты на стального коня пересадили? Танкистом будешь?
— Попробую. — Канашов смущенно одернул китель и подумал: «А не Кипоренко ли это рекомендовал меня в танкисты? И не говорит. Осторожен».
— Нет уж, друг, тут без всяких проб. Завтра же выезжай в корпус и берись за дело. Время не терпит. Ну, об этом еще поговорим. Так что, — поднял он рюмку, — давайте выпьем за рождение нового командира-танкиста! Мы ему, — подмигнул он Геворкяну, — теперь спуску не дадим. Пусть только не оправдает наше доверие. У меня сегодня удачная поездка была. Завтра, Михаил Андреевич, я тебе дам работку.
* * *
Сегодня Канашов поднялся спозаранку. Не спалось. Хотелось поскорее отправиться в назначенный корпус. Вспомнил о вчерашнем обеде у начальника штаба, о Кипоренко. «Повезло мне». Генерал Геворкян — душа человек, и с Кипоренко служить одно удовольствие. Надо же так, столько не видались, и вот опять столкнула судьба на дорогах войны. Умный человек, чуткий, а в службе требовательный. Истинно военного склада человек. «Люблю таких начальников, — признался Канашов себе. — Пока время есть, надо Нине написать. Она будет рада за меня». Он написал письмо, еще раз проверил как выглядит (в восемь надо было быть у командующего), и уже собрался идти, когда начали передавать последние известия. И чем больше он слушал, тем становился мрачней и суровей. Судя по тревожному голосу диктора, над Сталинградом нависла смертельная опасность. Таким суровым и подавленным и вошел он в кабинет к Кипоренко.
Тот взглянул на него:
— Садись. Ты что, Михаил Алексеевич, заболел?
— Утренние известия слышали?
— Слышал.
— Хочу в Сталинград, — сказал Канашов.
— Ишь ты какой. Мне тоже хотелось бы. Или ты думаешь, я сам себе такую спокойную службу выбрал: во фронтовом тылу людей обучать? Сколько я просился. Обрадовался, когда уважили мою просьбу. Сдавай, говорят, дела штаба «тихого» фронта (это я наш Брянский так называл), посылаем тебя армией командовать. Ну, думаю, теперь пошлют на Сталинградский. Сдал и вот принял. Еще поглубже в тыл переехал. Так что мы теперь друзья по несчастью. Но мы с тобой сюда не загорать приехали. И здесь не дом отдыха, как ты думаешь. Задача нам поставлена ответственная. Надо переломить у наших войск отступательные и оборонительные настроения и подготовить их к большому наступлению.
— Да какое там наступление, товарищ генерал. Немцы нас к Волге прижали. Тут хотя бы уж дальше их не пускать.
— Не пустим. Когда наступать — не знаю, и где будем — тоже не знаю. Что нам с гобой гадать на кофейной гуще, а раз готовить приказано, наступать придется. Наступать, — провел он пальцем по горлу, — вот так нам надо. Нельзя нам дальше терпеть. Ростов, Тихвин, Москва показали, что можем и мы наступать.
— Что будем, то будем, но терпения не хватает. Скорей бы. Зимы, что ли, нам опять дожидаться?
— Поверь, в Ставке лучше об этом знают, когда. А у нас сейчас дело конкретное: учить людей наступать. Понятно тебе? Вот и давай разворачивайся. Сам учись и людей учи. И не забывай одного: не год нам на это отпущено. Через месяц приеду погляжу, как ты с задачей этой справился.
— Через месяц?
— Да, через месяц.
Кипоренко пристально смотрел на Канашова, и он почувствовал на себе его пристальный взгляд.
— Мучает тебя, Михаил Алексеевич, совесть, вижу, мучает.
Канашов встрепенулся, весь подобрался. «Неужели он догадывается, что я о Нине думаю. Как быть мне с ней?» И, взглянув в глаза Кипоренко, смутился.
— Месяц для такого дела, конечно, мало, — покачал головой Канашов. — Но раз надо — постараюсь уложиться.
Командующий положил ему руку на плечо, заглянул в глаза.
— Да я не о том.
«Значит, понял, что я о Нине думал».
— Живой же я человек, товарищ генерал, — лицо, его стало строгим, непроницаемым.
— А я бы и не думал о такой, — бросил Кипоренко.
Канашов вскочил как ужаленный и встретился с ним взглядом.
— Ты садись, не взрывайся. Я не об Аленцовой так думаю.
У Канашова сразу ослабли ноги, будто они лишились костей и стали резиновыми, и он опустился в кресло.
— О жене твоей бывшей. Довелось мне случайно с ней встретиться. Концертная бригада приезжала к нам, когда я начальником штаба фронта был. Ну и штучка с ручкой, — покачал он головой. — Видишь, Михаил Алексеевич, однолюб я по натуре. И парнем был, не глядел на девушек, как на предмет удовольствия, не соблазнял по прихоти. Вот, скажешь, святой какой. — Он улыбнулся. — Не в этом дело. Матери я своей тому обязан. Она мне глаза открыла на святое это чувство — любовь, воспитала во мне бережное отношение к женщине, за что ей всю жизнь благодарен. Лет десять-одиннадцать мне было, когда она меня в прекрасный мир жизни и любви ввела. Учительницей она сельской была. Взяла меня однажды с собой в поле. Едем на таратайке, а кругом весна. Все цветет и к жизни тянется. Вот она мне предметно все так объясняет, все — от природы до человека. «Вся природа, — говорит, — живет, и вся эта красота вокруг нас от необычной и вечной ее любви». Рос я, и с годами росло это чувство, которое я берег по совету матери, как самое дорогое для человека в жизни. Понял я, когда возмужал и созрел, что любовь мужчины к женщине не самоцель для удовлетворения страстей, а очень многогранное и сложное чувство, которое трудно найти и сберечь, чтобы оно было твоим постоянным стимулом в жизни. Вот поэтому, признаюсь, я очень придирчив к людям по этой части. И за службу спрошу, накажу, если к ней недобросовестно относятся подчиненные, но помиловать еще могу. А вот в семье разлад, тут я беспощаден. Сколько я тебя знаю по службе, у меня к тебе серьезных претензий нет, а вот за семейную жизнь я чуть было тебя не ударил. И ударил бы — так намертво. Ты не улыбайся, слушай. Стали идти мне на тебя анонимки насчет Аленцовой, потом как-то с Хариным мне довелось беседовать. Он меня накрутил, и я чуть не поддался. Да потом, спасибо, полковой комиссар Поморцев помог мне разобраться во всем и удар мой от тебя отвел. А все же у меня какой-то осадок и недоверие к твоим отношениям с Аленцовой еще были вплоть до того, как я с твоей бывшей супругой не столкнулся. Тогда я понял, что правильно ты поступил, порвав с ней. Думаю, это навсегда? Канашов утвердительно кивнул головой.
— Она себя так вела, когда с концертной бригадой приехала, что начальник политуправления и я сам вынуждены были вмешаться. Днем и вечером выступления и поиски любовников. Ночами напролет пьяные оргии. Харину дал выговор за то, что он от имени начальника Отдела кадров выманивал продукты и водку для их пьяных сборищ. И по партийной линии ему выговор дали. А ее предупредил, если будет дальше вести себя так, выгоним из фронтовой концертной бригады. Вот после всего этого и стал я на твою сторону. По-товарищески советую: расторгни с ней официальный брак, не мучай себя и человека, которого любишь. Даю тебе два дня, езжай в Тулу и оформи законно развод.
Канашов от радости готов был обнять Кипоренко. Но только сдержанно сказал:
— Спасибо, Иван Кузьмич, спасибо за все.
На следующий день Канашов поехал в Тулу, подал заявление о разводе. Об этом он написал письмо Аленцовой».
2
Полковнику Бурунову, несмотря на неоднократные переговоры с Наташей Канашовой, не удалось примирить ее с Аленцовой.
И как ни пытался Бурунов удержать Аленцову в дивизии, она подала рапорт и вскоре ушла в армейский полевой подвижной госпиталь, а затем в эвакоприемник. Он располагался неподалеку от переправы и принимал основную массу раненых армии, число которых росло с каждым часом.
Немцы несколько суток подряд вели наступление, пытаясь прорваться к Волге. Неподалеку от эвакоприемника, в овражке, окопался немецкий танк, ближний к берегу дом захватили автоматчики, но эвакоприемник продолжал работу. Медицинские работники, спасая раненых, постоянно рисковали жизнью. Аленцова была назначена ведущим хирургом эвакоприемника. У нее были две помощницы-санитарки — Тамара Федотова и Лена Кольцова, Тамара, стройная смугловатая девушка, с черными, чуть косящими глазами, хрупкая и подвижная, была неутомимой и бесстрашной. Она лезла буквально в самое пекло боя, туда, куда невозможно казалось, пробраться живому человеку, и, лежа рядом с ранеными, под обстрелом делала перевязки. Если раненый находился в безопасном месте, и его нельзя было вынести днем, она оставляла ему продукты и воду, а вечером переносила на медпункт. Если рана была опасной, она, невзирая на огонь и близкие разрывы снарядов, клала раненого, который был нередко во много раз тяжелее ее самой, на плащ-палатку и тащила его волоком. Когда Аленцова пришла работать в эвакоприемник, на счету Тамары было больше тридцати человек, вынесенных с поля боя. Она уже была награждена медалью «За боевые заслуги» и представлена к ордену.
Вторая санитарка, Лена Кольцова, была внешне прямой противоположностью Тамары. Небольшого роста, но плотная, сильная девушка, с крупными мужскими чертами лица, бывшая физкультурница — метательница диска. В эвакоприемнике Лена больше всех вынесла раненых — более пятидесяти — и ревниво оберегала свое первенство. Два ордена Красной Звезды горели на ее гимнастерке. Лена и Тамара были подругами и хорошими помощницами Аленцовой. При сложных операциях она привлекала их как ассистенток. Как-то в самый разгар работы на эвакоприемник приехал генерал, командующий армией. В овражке, неподалеку от берега Волги, он увидел большую группу бойцов и командиров. Генерал заинтересовался, подошел, удивленный: «Почему здесь так много народу?» Это были тяжелобольные. Некоторые из них, кто мог, приползли сюда сами, некоторых принесли санитары.
— А почему вы здесь, товарищи? — спросил генерал. — Там ведь, — показал он рукой на бывший склад с подвалом, — куда безопаснее ожидать эвакуации.
Раненые молчали, не зная, что ответить.
Генерал направился в подвал. «Неужели там нет для них места? Такой большой подвал!» Он помнит, как они вместе с начальником санитарной службы армии осматривали его для эвакоприемника. Он открыл дверь. Из подвала в ноздри ударил запах гнили, спирта, эфира и йода. В подвале душно, как в бане, слышны сдержанные стоны. На полу сплошные ряды раненых. Плащ-палатками огорожена часть подвального помещения — это операционная. На операционном столе лежал человек без ног. Рядом военврач второго ранга, красивая молодая женщина. Возле нее две девушки: одна хрупкая, стройная, другая плотная, небольшого роста. «Видно, ассистенты врача». Врач доложил: «Военврач Аленцова». Генерал обратил внимание, что подолы их халатов и рукава в кумачово-бурых пятнах и только колпаки белые.
— Много прибывает раненых? — спросил генерал.
— Аленцова, продолжая работать пинцетом, кивнула головой на тумбочку, где лежала толстая тетрадь регистрации.
Генерал посмотрел и не поверил: «Более трехсот человек за один день?» Он ожидал, что его о чем-то попросят, на кого-то пожалуются. Ничего подобного он не услышал. Можно было подумать, что они работали в нормальных условиях, и рядом не рвались снаряды и мины, а сами они не подвергались ни малейшей опасности.
Генерал обратил внимание на то, что у одной из ассистенток врача, у стройной санитарки, перевязана левая рука, на бинте свежие пятна крови.
— Товарищ Аленцова, — спросил он, кивнув головой в сторону девушки, — она ранена?
— Да, ранена. Она только что вынесла с поля боя нашего летчика. — Аленцова показала кивком головы в сторону. На полу лежал с перебинтованной ногой летчик — молодой старший лейтенант с восковым лицом. Его красивый черный чуб, растрепавшись, почти закрывал глаза.
— Как его фамилия?
— Можаев.
— А фамилия санинструктора?
— Федотова.
Командующий попрощался и, уходя, сказал ей:
— Если вам что-нибудь надо, товарищ Аленцова, обращайтесь прямо ко мне.
Аленцова, продолжая делать операцию, кивнула ему в ответ головой.
* * *
Генерал Чуйков вернулся в штаб армии в сумерках. И только он вошел, сразу смолк шумный штабной «базар».
Он кивком головы отвечал на приветствия знакомых и незнакомых ему подчиненных. На его лице была печать озабоченности.
Не говоря ни слова, командарм сел и тут же приказал вызвать к себе начальника санитарной службы армии.
Гуров не стал расспрашивать, давать оценку, предлагать что-либо, проявляя осведомленность, активность, свойственную недалеким людям, желающим, нередко по-медвежьи, угодить начальнику, чтобы в его глазах заслужить одобрение или похвалу. Дивизионный комиссар знал обо всем не хуже командующего, был сам «там» и не раз принимал все зависящие от него меры.
— Слыхал, Василий Иванович, новость?— проговорил Гуров. — Василевский из Ставки прилетел в штаб Юго-Восточного фронта.
Чуйков очнулся от одолевавших его мыслей, посмотрел на Гурова.
— Да, это не случайно. Видно, Ставка что-то думает предпринять, — кивнул командарм, и на лице разгладились тяжелые складки.
— Но что интересно, — сказал Гуров. — Одна деталь. В штабе фронта он был недолго и вскоре уехал в 57-ю, а затем в 51-ю армию. Наверно, там что-то неблагополучно.
Чуйков тут же развернул карту. Долго, молчаливо бродил глазами по красным и синим линиям, обозначавшим положение противника и наших войск, пожевал губами и ткнул пальцем в голубой изгиб Волги.
— Опасные места тут. Правый фланг наступающей немецкой группировки. К тому же здесь действует 4-я танковая армия. Если они форсируют Волгу, положение создастся крайне тяжелое. И не только для нас, Кузьма Акимович.
Гуров подсел к столу, тоже склонился над картой.
— Да-а-а. Настало время что-то решительное предпринимать. Удивительно. Сам своими глазами видишь, на себе все испытываешь, а порой не верится. Как только наш солдат держится? Рубеж окопчиков, кругом развалины, а за спиной полкилометра до берега и километр воды волжской.
— За землю, — скупо улыбнулся уголками рта командарм. — Умирать, он понимает, нельзя. Родина без него погибнет. А наши солдаты верят в Россию, как в мать родную.
Гуров пошевелил бровями, прокашлялся. Душила просачивающаяся гарь, ела глаза.
— Да, наступила, я бы сказал, самая суровая проверка нашей партийной работы в народе. За все годы после гражданской войны.
Гуров посмотрел на два ордена Красного Знамени на груди командарма. Он знал, что их получил генерал в гражданскую войну, когда еще девятнадцатилетним юношей командовал полком на Восточном фронте против белых армий Колчака, а затем на Польском фронте. И уверенно сказал:
— Выдержим.
— Непременно выдержим, Кузьма Акимович, — командарм сжал крупные пальцы в кулаки и положил их решительно на стол.
* * *
Несколькими днями позже после этого разговора между командармом и членом военного совета, когда уже оба забыли о нем, захваченные круговоротом боевых будней, снова тот же вездесущий Гуров рассказал, что на Сталинградский фронт прилетел из Ставки Жуков. И они пришли к единому мнению: «В Ставке думают что-то предпринять. Значит, появление Василевского на нашем фронте было далеко не случайным».
Никто в то время, кроме нескольких доверенных лиц в Ставке и членов Государственного комитета обороны, не знал о том, что еще в сентябре 1942 года зародилась дерзкая, вряд ли кому показавшаяся реальной идея о нанесении решительного удара по немецко-фашистской группировке под Сталинградом. Не все, даже участники совещания в Ставке, верили в возможность ее осуществления.
Для нашей страны то был трагический период лета и осени 1942 года, мало чем отличавшийся от потрясшего всех, еще очень живого в памяти лета 1941 года — начала Великой Отечественной войны. Как и минувшее, нынешнее лето началось разгромом войск Юго-Западного фронта под Харьковом, когда немцы, окружив несколько наших армий, ринулись через Дон к Воронежу и Сталинграду, а через Ростов — к Кавказу.
Но и в этот тяжелейший период поражений и отступлений советских войск не была подавлена воля Верховного Главнокомандования и Ставки Вооруженных Сил. И если несведущие в этом были склонны обвинять Ставку в неспособности и более страшных грехах, то, вопреки всем сомнениям, мнениям, возмущениям и радости явных и тайных врагов, она спокойно делала, конечно, не без срывов, промахов и ошибок, ту работу, которую считала необходимой, порой, казалось, в безнадежных условиях.
Г. К. Жуков и А. М. Василевский по приказу Ставки вылетели на самые «горячие» фронты — Сталинградский и Юго-Восточный, но не как высокодоверенные уполномоченные, чтобы разобраться, а что же там происходит, почему войска отступают и вот докатились до Волги. Обо всем этом Ставка была достаточно осведомлена. Она принимала соответствующие меры, направляла туда резервы, стараясь всеми силами приостановить надвигающуюся катастрофу. Оба представителя уже тогда, выехав на фронты, искали на местах те реальные возможности для выполнения зародившегося замысла — решительного контрнаступления под Сталинградом. Жуков изучал войска — свои и противника, наши плацдармы на правом берегу Дона у Серафимовича и Клетской. Василевский проводил большую работу с командующими 57-й и 51-й армиями, нацеливая их на захват у немцев выгодных нам выходов из дефиле между озерами Сарпа, Цаца и Барманцак.
Никто из командующих фронтами и армиями, с кем они вели эту подготовительную работу к контрнаступлению, не знал и не мог знать, для чего все это делается. Когда генералы Жуков и Василевский вернулись в Москву, Ставка утвердила в основном план будущего контрнаступления. Были окончательно определены основные направления ударов, силы и средства для их осуществления, выбраны районы и примерные сроки сосредоточения войск.
Решено было образовать в районе Сталинграда два самостоятельных фронта: Донской под командованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского и Сталинградский (до этого Юго-Восточный). На этом же совещании Ставкой был предрешен вопрос о создании Юго-Западного фронта, командовать которым решено было поручить генерал-лейтенанту Н. Ф. Ватутину.
После выработки основных решений по плану контрнаступления детальная разработка его в конце сентября была передана ответственным работникам Генерального штаба.
Руководство подготовкой командования и войск на местах Ставка поручила по Юго-Западному и Донскому фронтам Г. К Жукову, а по Сталинградскому — А. М. Василевскому. Последнему было приказано ознакомить с планом контрнаступления командующего Сталинградским фронтом А. И. Еременко, заслушать его мнение, но к практическим делам по подготовке наступления до ноября не привлекать, оставив за ним основную задачу — оборону Сталинграда.
Затем Василевский вместе с Н. Н. Воронцовым и В. Д. Ивановым в сопровождении заместителя командующего Г. Ф. Захарова выехали на наблюдательный пункт 51-й армии, где заслушали доклад командарма Н. М. Труфанова о состоянии и вооружении его войск.
Так было положено начало тогда никому не известному плану сталинградского контрнаступления. Он остался «тайной тайн» для всех, и в том числе и для наших войск, которые, не зная о нем, выполняли его согласно поставленным перед ними задачам.
3
Это был самый тяжелый день Сталинграда. Обозленное неудачами, немецкое командование бросило на город всю свою авиацию. Казалось, фашистские бомбардировщики решили сровнять город с землей. В воздухе шли непрерывные бои. Огонь зенитных батарей обрывался, замолкал. Орудия отказывали, а люди продолжали вести бой. Земля дрожала и дыбилась, как при землетрясении. В городе был поврежден водопровод, и тушить пожары было нечем. Сильный западный ветер помог огненному морю залить городские кварталы. На Волге полыхала нефть, выпущенная из резервуаров. Немецкие самолеты засыпали Сталинград листовками. Они издевательски вещали, что Гитлер будет считать дезертиром каждого красноармейца и командира, который уйдет на левый берег Волги, что войска Сталинградского фронта не смогли пробиться к окруженной армии с севера, в беспорядке отступают и тысячами сдаются в плен. На листовках была красочно разрисована зажатая в кольцо фашистских танков и артиллерии 62-я армия. До наших бойцов доносились истошные крики немецких солдат: «Рус, буль-буль Вольга. Рус, тебя предали комиссары. Они сдались нам в плен». Но бойцы, сжимая зубы, только посмеивались над их угрозами и примитивными агитками.
В эти трудные часы для армии, оборонявшей Сталинград и горожан, на улицах появились воззвания городского комитета партии. «Дорогие товарищи! Родные сталинградцы! Не отдадим родного города, родного дома, родной семьи. Покроем все улицы города непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом, каждый квартал, каждую улицу неприступной крепостью».
В этот день Аленцова работала в эвакоприемнике. Раненых было особенно много. Они лежали под открытым небом, в оврагах и просто на берегу реки. Эвакуировать их было невозможно. От разрывов мин, снарядов и авиабомб Волга бушевала, будто горная река, вздымаясь седыми столбами воды. В отчаянии Аленцова хотела звонить командующему, просить его о помощи, но, выходя из операционной, еле держась на ногах, жадно дышала приторно-угарным воздухом, с ненавистью глядела на стаи фашистских бомбардировщиков, проносящихся над головой, и принимала другое решение. «Чем командующий может сейчас помочь?» Оставалось одно: ждать наступления темноты. И снова уходила и возвращалась она в подземелье, делала операции, ампутировала руки, ноги, вынимала осколки и, обессиленная, снова выбиралась наверх и падала в изнеможении на землю. Потом она сама удивлялась тому, откуда у нее берутся силы. Тамара Федотова пыталась уговорить ее пойти в блиндаж поспать, хотя бы час. Аленцова ласково гладила ее по голове:
— Ничего, Тамарочка. Вот закончим обработку этой партии раненых и тогда пойдем вместе.
Но партии раненых и одиночки прибывали без конца, Адская машина войны беспощадно убивала и калечила людей, а грохот, свист и завывание ее дьявольского механизма ежесекундно, ежеминутно напоминали о себе. Раненые с молчаливой покорностью и отрешенным безразличием смотрели на городские пожары, артиллерийский обстрел и бомбежки. Казалось, они привыкли, и больше ничто не волновало их. Человек может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному.
Лена Кольцова долго смотрела на изможденное лицо Аленцовой и, когда она отошла от операционного стола, сунула в карман ей бутерброд.
— Нина Александровна, нельзя же так! Вы что, хотите упасть у стола? А что мы тогда будем делать?
Она чуть ли не силой вывела ее за руку из подвала.
— Как хотите, Нина Александровна, а пока не поедите, не пущу обратно.
Кольцова загородила дверь, не пуская ее. Девушки любили Аленцову и старались друг перед другом. У нее были всегда свежие, стираные простыни, а стоило ей хотя бы на некоторое время пойти отдохнуть, появлялась горячая пища или чай. Они были неутомимыми, а когда она чем-либо была расстроена, пытались отвлечь и развеселить. Ей они поверяли всё свои скупые девичьи радости, как с матерью, делились с ней своими печалями. Когда Тамара получила письмо-треугольничек от спасенного ею летчика Можаева, она счастливая прибежала к Аленцовой. Письмо было короткое — страничка.
«Всю жизнь буду вас разыскивать. О вас рассказал мне друг Василий. Словами не передать моих чувств к вам. Вы стали самым дорогим для меня человеком. Простите, писать пока трудно. До свидания. Виктор».
Тамара махнула рукой, обидчиво поджала губы:
— Не верю я, Нина Александровна, в эту любовь с первого взгляда. Когда его принесла, думала, мертвый, а он вот с письмами.
Аленцова рассказала ей о Можаеве все, что она знала со слов Самойлова.
— По-моему, Тамара, это хороший человек. А любовь, она у кого как. Некоторые годами объясняются в любви, а сами в ней ничего не понимают. Приходит время — женятся, замуж выходят и даже детей имеют, а все без любви.
Тамара сидела раскрасневшаяся, задумчивая.
— А я, Нина Александровна, замуж никогда не пойду.
— Это почему?
— Не нравится никто мне. Сколько со мной дружили. И я будто привыкну, ухаживают за мной, страдают некоторые. А мне скучно с ними, особенно как в любви начнут объясняться. Ни к чему все это.
— Видно, человека ты еще такого не встретила, — тяжело вздохнула Аленцова. — А вот встретишь — и жизнь без него тебе будет не мила.
Федотовой не терпится спросить: а любит ли кого Аленцова? Но Тамара не решается: обидишь человека. Зачем хороших людей обижать? Вечером Аленцова ушла на переправу. Раненых скопилось много, а катера подходили медленно. Немцы продолжали обстрел переправы.
В стороне от причалов, у разбитых лодок и баркасов, она заметила показавшуюся ей знакомой женщину в темном костюме. Это была Беларева — ее свояченица. Аленцова обрадовалась. В одном городе столько месяцев, а видеться пришлось всего два раза. Она подошла к ней. Беларева отдавала распоряжение шоферу «скорой помощи» и медицинской сестре.
— Надо, надо разыскать. Как же это вы не нашли? Возле нашей районной бани на складе угольном четверо ребятишек. Ко мне Таня райкомовская сегодня приходила. Они там со старичком сторожем.
— Разыщем, привезем, — сказал шофер, молодой парень в вылинявшей гимнастерке. — Не беспокойтесь, Татьяна Ивановна, все будет в порядке.
Аленцова обняла Белареву.
—A-а, Нина. Ты чего здесь?
Аленцова кивнула на столпившихся у крутого берега раненых:
— Вот и я с ребятишками.
— Какими ребятишками? Из детсада?
— Ну что ты, детсады мы давно эвакуировали. Это девушки наши из райкома комсомола подсказали мне. Они ходят по разрушенным домам, подбирают раненых бойцов и бездомных детей. Мы уже больше пятидесяти человек их вывезли.
Аленцова поглядела на стоящих у баркаса маленьких сталинградцев, в лохмотьях, чумазых от дыма, копоти и грязи.
— Ты чего же не навестишь меня? Приходи, мы с тобой посидим, почаевничаем. У меня самовар на ходу и варенье есть.
Аленцова пристально смотрела на нее.
— Чего разглядываешь? Старуха?— сказала Беларева. — Сединой моей любуешься? Сердце что-то стало последние дни пошаливать. Вот и глаза припухшие, да ноги отекают. Вечером приду, упаду на кровать, думаю: завтра не подняться тебе, Татьяна Ивановна. А утром вскочу, и опять как заведенная. Некогда нам, дорогая, болеть. Да ты что-то, Нина, совсем, голубушка, осунулась. Что с тобой?
— Ничего. Как и со всеми. Устаю. А так ничего.
К ним подбежал шофер.
— Татьяна Ивановна, ваше распоряжение выполнено, — отрапортовал он по-военному. — Ребятишки доставлены в целости и сохранности.
— Вот и молодец. Поезжай немедленно в райком. Там у нас еще в подвале женщины лежат раненые.
Шофер козырнул и ушел. К ней подошли какие-то женщины.
— Так как же нам с продуктами быть, Татьяна Ивановка? Сегодня последний магазин и склад сгорели после бомбежки. Людей кормить надо. Я сегодня пошлю человека на мельницу.
—Ну, я пойду, Нина. Надо поглядеть, как моих малышей там устроили. Забегай, очень буду рада тебя видеть.
Они обнялись и разошлись каждая по своим делам.
Но больше встретиться им в Сталинграде не пришлось. Вечером, при отправке раненых, Аленцова попала под артиллерийский обстрел и была тяжело ранена. Последним моторным баркасом ее эвакуировали за Волгу.
4
С радостью включившись в новую работу по обучению танкистов, Канашов не замечал, как летели дни. Его начальник — командир танкового корпуса генерал-майор Соколов, в отличие от Кипоренко, принял Канашова холодно. Соколов, человек очень замкнутый и малоразговорчивый, не стал даже знакомить с корпусом, штабом, командным составом. Минут двадцать он сидел, молча уставясь в одну точку, а потом сказал:
— Товарищ генерал, нам надо готовить танкистов, сколачивать подразделения и части. С планом боевой подготовки ознакомьтесь у начальника штаба.
Канашов вышел от него с чувством разочарования и даже обиды. «Он не поинтересовался, кто я, откуда, и не спросил даже моего имени, отчества. (А может, и не знает фамилии?) Сухой и странный человек».
Но когда Канашов познакомился с начальником штаба, начальниками служб и командирами танковых бригад, у него отлегло от сердца. И к тому же выяснил, что командир корпуса их всех тоже не балует вниманием. За неделю службы в корпусе Канашов услышал от Соколова две короткие фразы — во время своего доклада. Когда Канашов после поездки по бригадам познакомился с ходом боевой подготовки танкистов, он увидел главный ее недостаток: очень уж вольготно шла боевая учеба. Это он обнаружил во всех звеньях — от рядового танкиста до командиров всех степеней. Много времени затрачивалось на второстепенные вопросы, будто корпус может учиться не месяцы, а годы
И хуже всего, по его мнению, шло обучение частей взаимодействию танков с другими родами войск. Канашову пришла мысль: «Надо программу обучения пересмотреть». Он предложил большую часть времени отвести на практическую отработку вопросов взаимодействия в экипаже, взводе, роте и батальоне. Внимательно слушавший его Соколов, не проронивший ни единого слова, только сказал: «Согласен». А по поводу предложения Канашова провести недельные сборы с командирами полков и батальонов, чтобы поднять их теоретический уровень (так как среди командного состава танкистов было много призванных из запаса), поморщился и сказал: «Так сказать, краткосрочная академия. Смотрите, генерал, сами».
И Канашов принял это как одобрение: бери, мол, но только на свою ответственность. И он смело взял на себя. Вместе с начальником штаба полковником Грибом, с которым он быстро сдружился, они разработали план сбора, назначили, кто и какую должен провести лекцию. Чертежникам штаба было дано задание подготовить схемы. Полковник Гриб был хорошо подготовленным командиром. Перед войной он окончил бронетанковую академию, командовал полком, а потом танковой бригадой, участвовал в сражении под Москвой. Там его тяжело ранили. Гриб имел как большую теоретическую подготовку, так и боевой опыт. И Канашов предложил ему прочесть лекцию о роли танков в наступательном бою и составить памятку-инструкцию о способах применения танков и о тактическом использовании. Ее Канашов решил отпечатать и раздать каждому командиру, начиная с командира взвода. Полковник Гриб был небольшого роста, коренастый крепыш с вечно смеющимися глазами. Он выслушал генерала и растерялся.
— Ну какой из меня теоретик, товарищ генерал? Есть наставление. Его ученые люди писали. Комиссии обсуждали, нарком обороны утвердил. Куда нам, — махнул он рукой.
— Ничего, ничего, Сергей Иванович, нам не только надо всего этого держаться, как слепой стены, но развивать и дополнять основные положения наших наставлений новым боевым опытом.
Сам Канашов прочел для командного состава лекцию по организации взаимодействия танков с другими родами войск в наступлении и обороне. На сборы были привлечены командиры бригад и начальники штабов. Не всем пришлась эта инициатива Канашова по душе. Некоторые из командиров стали жаловаться командиру корпуса: «И так времени нет, а нас в академиков превращают, от боевой подготовки войск отрывают».
Генерал Соколов, по-прежнему молчаливо выслушивая доклады своего заместителя о ходе сборов и боевой подготовке танкистов, сказал ему как-то: «Не слишком ли, генерал, вы увлеклись теорией? По схемам воевать не научишься. Практика — это дело».
Канашов покраснел от его неожиданной реплики и пришел в негодование: «Кто-то ябедничает. И ябедничает именно отсталый дурак, которого уму-разуму учат». Он весь вскипел и хотел резко ответить, но сдержал себя.
— Теория практике не помеха. А вот практика без теории — лишняя кровь, товарищ генерал.
Соколов беззвучно пожевал губами, приподнял кверху одну бровь.
— Начальник штаба наш неделю не выезжал в войска. Все какие-то научные труды пишет. Совсем исписался полковник. Побриться некогда.
«Неужели и полковник Гриб на меня нажаловался?»
Вчера Канашов предложил написать еще одну работу: «Памятка по тактике немецких танков в наступлении и обороне». Ее он тоже решил довести до каждого танкиста.
— Ваши замечания, товарищ генерал, будут учтены, — ответил Канашов подчеркнуто официально.
Взволнованный, он вернулся в штаб и тут же встретился с полковником Грибом. Они поздоровались, как всегда, за руку, но начальник штаба заметил, что генерал чем-то недоволен. «Наверно, тем, что вчера не доложил о выполнении приказа: «Составить памятку».
— Товарищ генерал, как хотите судите, но с памяткой зашился. Приходил к вам, хотел доложить, но вас не было. — Канашов действительно был в бригаде и приехал поздно ночью. — Но сегодня я вам доложу. Составил и больше половины отпечатал на машинке.
— А мне передавали, что вы совсем тут с этой писаниной зашились. Даже не бреетесь.
Полковник Гриб смутился.
— Командир корпуса заходил ко мне, увидел схемы, поинтересовался, чем занимаюсь. А я, товарищ генерал, признаться, сам не больно охотно шел на ваши предложения и, больше сказать, думал: кому они нужны? Да вот сегодня убедился, что вы правы. Был у меня начальник штаба бригады подполковник Тузлов. Так прямо обиделся: почему мы их бригаде дали меньше памяток-инструкций, чем другой. Командиры полков у него еще требуют.
Лицо Канашова просветлело, отлегло от сердца.
— Ладно, товарищ полковник, отпечатайте для них еще. Пусть пользуются нашей добротой. А у меня есть к вам предложение. Поедемте-ка в войска. Поглядим, как они нашу новую программу боевой подготовки выполняют.
Полковник Гриб обрадовался:
— Охотно поеду. Меня и Соколов спрашивал, когда я намерен поехать в бригады.
* * *
Вернувшись поздно ночью из войск, генерал Канашов, утомленный поездкой, решил не идти ужинать в столовую. Можно было попросить, чтобы принесли, но он передумал. Лучше никого не беспокоить. И лег спать. Но тут же постучал ординарец. Он принес ужин и два письма. Сон будто рукой сняло. Он вскочил с койки. Одно письмо было от Аленцовой, другое от Марины Саввишны Русачевой. Он торопливо вскрыл конверт и стал читать.
«Дорогой Михаил! Мне кажется, — писала Нина, — что ты где-то воюешь в Сталинграде, рядом. И каждый день и надеюсь, не сегодня-завтра мы с тобой увидимся. И я обманываю себя, убеждая, что мы не встретимся никак потому, что этого не позволяют не прекращающиеся день и ночь бои. И эту надежду во мне подкрепляет сама жизнь, когда на медицинском пункте и при эвакуации раненых случайно встречаешь бойцов и командиров из твоей дивизии. Я была невольной свидетельницей разговора между двумя ранеными бойцами. Один из них с гордостью сказал сестре, что он из канашовской дивизии. «Слыхали ли вы о нашем комдиве?» Сестра ответила, что о Канашове она не слышала. И это обидело бойца. «Да как же так? Эх, милая, — сказал он, — значит, ты еще новичок и сталинградского пороха не нюхала».
И боец, чтобы устыдить сестру, обратился к рядом лежащему товарищу: «О комдиве Канашове слыхал?» — «Не только слыхал, — ответил тот, — а воевал вместе. В полку его был от самой границы. Два раза из госпиталя к нему убегал. А вот удастся ли сбежать в третий, не знаю». Я заинтересовалась их разговором, стала расспрашивать. Он серьезно меня уверял, что по твоему приказу они отбили один опорный пункт у немцев в Сталинграде. Он видел тебя на командном пункте, когда его доставили туда после ранения. Я и впрямь поверила ему, даже сердце замерло от волнения. Я стала допытываться, где он воевал, где был ранен? Этот молодой боец-сибиряк прибыл в Сталинград совсем недавно, когда уже ты не командовал дивизией, но товарищи — ветераны твоей дивизии — сказали ему, что он попал в канашовскую дивизию. И видел он на командном пункте, надо полагать, не тебя, а Бурунова, думая, что это ты».
«Вот это женщина. Ни одного намека на трудности, опасность».
Марина Саввишна писала, что долго не получала от него писем, и забеспокоилась. Но Степанида Евлампьевна, спасибо ей, прислала новый адрес. «Это упрек мне», — подумал он. Дома у них все благополучно. Она сообщила о том, что в их госпитале, где она работает, лежит после ранения жена врача Заморенкова, и Мария Саввишна просила разыскать, где находится Яков Федотович.
Канашов задумался. «Как же ей помочь? Посоветовать обратиться в Главное управление кадров? Но она и без меня знает и, возможно, уже обращалась туда. А что, если попытаться разузнать через Кипоренко? Ведь он был начальником штаба фронта. Яков Федотович остался в окружении. И если он не погиб, то в партизанах. А с партизанами штаб фронта поддерживает непрерывную связь. Какой человек, какой человек! — вспоминал Канашов. — Нет, он не должен погибнуть — так без следа, — убеждал он себя. — Надо все сделать, а разыскать его непременно».
Утром Канашов был обрадован неожиданной новостью. Из Тульского городского суда пришел документ о его разводе с Валерией Кузьминичной. Канашов был готов плясать от радости. Тут же об этом написал дочери и Аленцовой. Генерал Соколов, выслушав его доклад о вчерашней поездке в бригады, ничего не сказал ему, но, когда он уходил, как будто невзначай спросил:
— Так, значит, вы развелись, генерал?
— Да, развелся.
Соколов ни о чем больше не расспрашивал.
И Канашов так и не понял, как воспринял это его начальник: то ли осуждал, то ли одобрял.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Капитан Миронов приехал к новому месту службы под вечер. Вместе с братом добирались они на попутных машинах до штаба дивизии.
Маленькая русская деревушка, затерявшаяся в лесах Брянщины, ничем не напоминала о войне.
По улицам во главе куриного войска важно расхаживали петухи, в лужах барахтались свиньи, жалобно мычали телята. В воздухе глухая, пугливая деревенская тишина. «Вот где жизнь», — подумал Миронов, невольно вспомнив непрерывно грохочущие сталинградские дни и ночи. Он шел по деревне, разыскивая «хозяина»— командира дивизии. По неписаным армейским законам для старшего начальника всегда выбирали лучший дом. У небольшого искусственного пруда за крашеными заборами стояло четыре одинаковых рубленых дома. В окнах цветы, занавески.
— Нам, видно, сюда, Евгений! Вот они, дома начальства, как на подбор.
У ворот часовой проверил документы, оглядел их удивленно:
— Свернете по переулку, второй дом направо. Комдив там.
В просторной комнате, с лежанкой, образами в углу, на лавке за столом сидел худощавый полковник с острыми чертами лица, короткой прической бобриком и забинтованной головой. Он просматривал какие-то бумаги. Когда братья вошли, он не обратил на них внимания.
Они переглянулись: не вовремя попали. В дверях появился лейтенант с бумагами, по-видимому, адъютант.
— А где начальник штаба? — не поднимая головы, спросил полковник.
— В полк уехал, товарищ полковник.
Лицо комдива передернулось от досады:
— Завтра к нам приедет командующий. Разыщите его, пусть срочно позвонит мне.
И, оглядев вошедших командиров, спросил:
— Кто такие?
Братья Мироновы доложили.
Полковник, продолжая о чем-то думать, изредка бросал то на одного, то на другого оценивающий взгляд.
— А я вас вторые сутки жду. Не очень что-то на службу торопитесь — Начальник отдела кадров вчера мне докладывал. Выехали и пропали. И младший лейтенант с вами, товарищ капитан?
Миронову не хотелось оправдываться, что в пути их много раз бомбили, и оттого задержались в дороге. К чему это?
— Товарищ полковник, — набрался храбрости Миронов-старший, — Пошлите младшего лейтенанта в один полк со мной.
— Это что, ваши особые условия? Запомните, товарищ капитан, я не люблю, когда мне диктуют — Куда найду нужным, туда и пошлю. Вы, младший лейтенант, можете идти, а вы, капитан, останьтесь.
Евгений козырнул и вышел, удрученный таким неожиданным разговором. (Ведь он спал и видел служить вместе с братом.) «Да, комдив, видно, человек с крутым характером», — размышлял он, поджидая брата.
— Приехали вы с запозданием, товарищ капитан. А для нас сейчас каждый час дорог. Каждый час, поймите! Не время для прогулок. Садитесь, — кивнул он ему на табуретку. — Ваш начальник — командир полка подполковник Грылев. Сколько командовали батальоном?
Миронов ответил.
— Три ранения имеете? Неплохо.
«Чего же в том хорошего», — подумал Миронов, не понимая полковника.
— Курсы комбатов на «Выстреле» окончили? Неплохо. Так вот что, товарищ капитан, мне нужны решительные и любящие свое дело командиры. Если приехали очередное звание выслужить — сразу предупреждаю: или сами уезжайте, или выгоню. Наша задача — в короткий срок сколотить боеспособные подразделения. Пополнение у нас новое, малообстрелянное, бойцы-сибиряки молоды, но народ крепкий. Мы должны по-новому научить их наступать. А поэтому к черту всякие условности. Все как в бою, не взрывпакетики, а под артиллерийским огнем надо научить их наступать
«Наступать? Не ослышался ли я? Какое наступление, если в Сталинграде еле сдерживаем натиск немцев, а на Кубани и Кавказе отступаем
— О новом приказе, вводящем новые боевые порядки, слышали?
Миронов кивнул годовой.
— Главное, нам надо, — продолжал полковник, — научить наши подразделения тесному взаимодействию с танками, артиллерией и саперами. Без этого сейчас в наступлении успеха не добиться. Вот тут-то и происходят казусы. Под огонь попадают, ранения получают по глупости, хотя мы только учимся. Командир полка у вас в прошлом немного сапер, немного штабной работник, — произнес он с нескрываемым недовольством. — Придется ему много помогать. С вас я спрошу вдвое больше, вы общевойсковой. Пехота-матушка — ваша родная профессия.
Полковник говорил, а Миронов сидел задумавшись: «Что это он ко мне так? Командир полка есть, а спрашивать с меня собирается. Или не поладили в чем?»
— Вы почему скисли, товарищ капитан? Трудностями вас напугал?
— Да нет, товарищ полковник, о другом. Братья мы, в одной дивизии воевали. Вместе хотелось бы служить.
— Ну ладно, — сказал он примирительно, — забирайте его с собой в полк, да только запомните, не люблю, чтобы ставили мне условия. И чтобы без всяких поблажек. Для вас он брат, а для нас командир. К тому же совсем юнец. Служба прежде всего.
* * *
Капитан Миронов не вышел, а будто вылетел от комдива на крыльях.
— Наша взяла, Женька! Давай поскорее отсюда. А то, глядишь, еще передумает.
До штаба полка их отвез шофер комдива. Он и рассказал им, что комдив был ранен на занятиях. «Лезет, извините меня, к черту в зубы — не удержишь. Машина новая, а побита хуже чем на фронте».
Из командования полка никого не было. Все разъехались по батальонам. Шофер сказал: «Подействовало, видать. Им тут вчера комдив такой разнос дал!» Миронов-старший хотел было просить шофера отвезти их в батальон, но тут их окликнула девушка-связистка, небольшого роста, с красивыми темными ресницами и русой косой, уложенной калачиком. Пилотка едва держалась на голове, и она то и дело поправляла ее рукой.
— Товарищ капитан, заместитель начальника штаба вернулся. Он в избе.
Из-за стола поднялся высокий, худой, чуть сгорбленный старший лейтенант. Длинные руки его висели, как плети, чуть ли не до колен.
— Старший лейтенант Ванин, — отрекомендовался он. — Да я тут, товарищ капитан, временно замещаю начальника штаба. У него аппендицит вырезали. В медсанбате лежит.
Лицо у Ванина продолговатое, строгое, и густые лохматые брови срослись на переносице. Говорит он грубоватым, рокочущим басом, медленно, будто с трудом подбирает слова. Внешне он выглядел угрюмым и не располагал к откровенному разговору.
— С братом, значит, товарищ капитан. Вам повезло. А у меня месяц, как убили родного брата под Ростовом.
И братьям невольно стало жалко этого сурового с виду человека. Может, и суровость эта пришла к нему после тяжелой утраты?
— А вы где остановились, товарищ капитан?
— Пока нигде. Еще не осмотрелся.
— Если желаете, давайте ко мне, — предложил Ванин, — У меня большая комната, чистая, и хозяйка хорошая.
— Спасибо. Но я хотел бы представиться командиру полка.
— Хотите, поедемте вместе. Сейчас машина будет.
В третьем батальоне они застали подполковника Грылева, отчитывающего за что-то командиров.
— Здорово, здорово, капитан, — улыбаясь, тряс он руку Миронову, будто они были уже давно знакомы. — А ты с дороги, и сразу меня разыскивать? Вот познакомься с товарищами. — Он представил комиссара полка — невысокого человека, с большими залысинами, с болезненно-желтоватым цветом лица, батальонного комиссара Зайченко и пожилого капитана Крузова с седыми висками и пышными усами, — командира третьего батальона.
— У нас дел тут, капитан, невпроворот. Завтра, Крузов, предупреди своих орлов. К шести часам без опоздания. Гляди у меня. Перед комдивом подвели, теперь не дам спуску.
Миронов обратил внимание на то, что командир полка был очень подвижным человеком, разговаривал громко и при этом непрерывно жестикулировал, обращаясь то к одному, то к другому.
На обратном пути в штаб полка машина то и дело останавливалась, и подполковник Грылев, завидев бойцов или командиров, расспрашивал, кто они и куда идут.
— Это все крузовские. Бродят по деревням. Я ему завтра дам жизни. Подраспустил людей.
«Если он будет останавливаться и разговаривать с каждым разгильдяем, то мы и до утра не доберемся до штаба», — подумал Миронов. Наконец, машина остановилась у большого рубленого дома под оцинкованной крышей.
— Айда ко мне, хлопцы, обедать, — пригласил всех Грылев. — У нас сегодня гость. Новый мой зам. Надо его принять. Да, как с планом боевой подготовки, Ванин? Расписание готово?
— Уже на две декады. Завтра еще одну закончу.
— Ох и достанется нам скоро! Придет приказ, давай на фронт отчаливай, а мы мало еще сделали. Слыхали сегодня сводку? Снова немцы прорвались к Волге. Но вы ответьте мне, братцы: почему в крузовском батальоне так туго новой науке о боевых порядках учатся? И занятия мы с командным составом проводили. А толку от этого никакого. Вот, например, в батальонах Игнатьева и Шульги дела идут ничего. И с танками взаимодействие у них отработано, и дисциплина лучше, а народ у всех один и тот же. А у этого на учебе раненых больше, и при обкатке танками одни ЧП.
— Крузов — педагог до мозга костей. Ему все давай последовательно, не торопясь, — ответил Ванин. — Он привык от четверти к четверти, строго по годовому плану. А с нас темпы бешеные требуют. Хоть двадцать часов в сутки занимайся и то едва уложишься в программу.
— Вот тебе, капитан, — обратился Грылев к Миронову, — и надо к этому отстающему батальону присматриваться. Человек ты свежий, для тебя любой недостаток видней. А я всего без году неделя как в пехоте. Вот о документах инженерных войск спроси меня. Там другое дело.
«Зачем же его тогда послали стрелковым полком командовать?» — недоумевал Миронов.
— По-моему, — сказал комиссар полка, — нам не надо, товарищ подполковник, подменять комбата. Вот мы весь день с тобой прокомандовали, а что это дало? Покричали и уехали.
— Ишь ты какой, — сказал Грылев. — А не кричи на таких, они бы целый день загорали или дрыхли в кустах.
Капитану Миронову многое было непонятно из этого разговора. Кто из них прав, кто виноват и почему не ладится с боевой учебой в одном батальоне полка, которым командует капитан Крузов. Грылев прервал, видно, надоевший ему до чертиков разговор.
— А ну их, — махнул он рукой, — садимся за стол. Семь бед — один ответ. Завтра поедешь, капитан, и сам увидишь, а тогда потолкуем, что нам с ними делать.
За обедом Грылев был весел, рассказывал анекдоты и все время поглядывал на Евгения Миронова.
Прощаясь со всеми, он как бы невзначай спросил у капитана Миронова:
— А что, если и твоего братишку к себе возьму? В адъютанты?
Миронов-старший не хотел, чтобы его родной брат, начавший свой путь в армии боевым командиром-разведчиком, менял свою профессию на легкую адъютантскую жизнь мальчика на побегушках.
— Смотрите сами, товарищ подполковник. Но меня предупредил полковник Андросов.
Грылев перебил его:
— Знаем, знаем его причуды. Из-за зависти все это, что у меня адъютант лучше его замухрышки будет. Но пока я хозяин в полку.
«О, да он не такой уж простой и покладистый, как показался с первого взгляда, — подумал Миронов. — К нему надо присмотреться повнимательнее».
Братья Мироновы по приглашению Ванина остановились у него.
— Мне сегодня в штабе дежурить. Завтра поверку хочу им устроить, — сказал он.
Евгений тут же уснул. Александру не спалось. Беспокойные мысли одолевали его. Было немного боязно: «Справлюсь ли с новыми обязанностями? Одно дело батальон на фронте, где все было привычно, другое — полк. Да еще и командир дивизии вроде: «С тебя спрошу», и Грылев тоже будто обрадовался, что хочет спихнуть все на меня. Или они на испуг берут, или проверяют меня? Хорошо, что я еще там, в отделе кадров фронта, на полк не согласился идти, — подумал он. — Не надо зарываться. А вот что делать с тем, что я перед всеми комбатами, не говоря о командире и комиссаре полка, выгляжу мальчишкой? Все они мне в отцы годятся. Казалось бы, пустяковый вопрос. У меня звание, должность. И почему я должен быть старше их? А вот поди же, смотрят они на меня снисходительно-покровительственно, а некоторые и удивленно-пренебрежительно: такой мальчишка — и замкомполка. «Посмотрим, посмотрим, как ты будешь командовать нами, сынок желторотый. Ты еще под стол пешком бегал, когда мы и в Октябрьской революции участвовали, и в гражданскую воевали, и раньше тебя узнали, что такое война». Вопрос стоял открытым: или они примут над собой его власть, и он будет их товарищем, или они примут эту власть под давлением его служебного положения. И все это сейчас зависело только от него.
2
Утро выдалось теплое, солнечное, хотя уже появлялись первые осенние заморозки. И от опавших листьев, и осенней прохлады веяло грустью увядания. Солнце всходило лениво, будто знало, что ему некуда торопиться, так как не оживить умирающую природу.
Машина командира полка Грылева вместе с капитаном Мироновым подъехала к землянке командира третьего батальона Крузова. Возле землянки стояли командиры. Капитан Крузов доложил о готовности к занятиям. Батальон стоял, построенный в лесу.
— Ну как, орлы, сегодня воевать будем? — «Орлы» — любимое слово Грылева, и с ним обращался он, когда был в хорошем настроении. — Вчера у вас не получалось, — сказал он. — Плохо отработали новые боевые порядки.
Затем Грылев представил батальону своего нового заместителя.
Миронов от взглядов сотен изучающих его глаз слегка смутился.
Командир полка подал команду начать занятие. И батальон зашевелился, ожил. На опушке взревели моторы танков, и лес окутался голубоватым дымком.
Командир танковой роты, широколицый капитан в синем комбинезоне, поправил шлем, взмахнул флажками, отдавая команду танкистам, и танки дружно рванулись с места и, грохоча гусеницами, стали выползать на дорогу. Дорога была условным рубежом для развертывания танков. Вслед за ними, рассыпавшись в цепи, пошла пехота, переходя с ускоренного шага на бег, скучившись, подразделения перемешивались. Первая волна этой цепи захлестывала вторую, и все это при продвижении вперед превращалось в неорганизованную, копошившуюся массу людей, будто на ярмарке.
Командиры взводов и рот бегали, суетились, делая знаки руками, чтобы бойцы разомкнулись и держались дистанции, но гул моторов и лязг гусениц невозможно было перекричать.
Миронов смотрел и никак не мог понять, почему получается такая неразбериха.
— Стой, стой! — кричал Грылев, подавая ракетой сигналы комбату
Крузов подошел к нему медленной, враскачку походкой, какой ходят пожилые, уверенные в себе люди.
— Опять куча мала. Чего они жмутся друг к дружке? Они еще бы за руки взялись. В приказе ясно, сказано, что в цепи — семь-восемь метров между бойцами.
Он достал часы с массивной серебряной цепочкой. Такие обычно носят старые железнодорожники и называют «луковицей»
— Засекаю время, капитан! Давай начинай весь концерт сначала. Веди людей на исходные позиции.
Батальон вывели, расставили бойцов по-уставному и снова повторили атаку, и снова она была неудачной.
Грылев и Миронов стояли, наблюдая за действиями батальона в бинокли. Старший лейтенант Ванин и комиссар полка были в боевых порядках.
— Ни черта не получается, — тяжело вздохнул и сплюнул Грылев. И, махнув рукой, обратился к Миронову: — Останься здесь, потренируй их, а я наведаюсь в другие батальоны.
Миронов дал команду Крузову остановить батальон и снова отвести на исходные позиции. Крузов недовольно пожевал губами:
— Чего людей попусту гонять. Отработали бы последовательно по отделениям, взводам, а потом и батальоном можно. А то третий день туда-сюда бегаем, а толку чуть.
Комиссар полка подбодрил комбата:
— Трудно в учении — легко в бою. Знаешь суворовское правило?
Миронов поглядел на Крузова: «А он, пожалуй, прав».
— Бойцам объявить перерыв, а командиров давайте ко мне, товарищ капитан.
Он решил проверить, как же все-таки знают приказ о новых боевых порядках командиры. Но, спросив нескольких, он убедился, что приказ знают плохо, а отсюда и чехарда на практике.
Миронов подозвал Крузова:
— Бойцов ведите в подразделения. Сержанты пусть займутся отработкой с ними одиночной подготовки. До двенадцати часов занятия провожу с командирами взводов и рот, а с двенадцати до шестнадцати они проводят занятия с младшими командирами.
Крузов недоуменно развел руками:
— Не знаешь, кого слушать. Чьи приказания выполнять.
— Выполняйте последнее, — сказал Миронов, чувствуя, что Крузов упрямится, испытывая характер нового начальника.
— Ну, товарищ капитан, мы и так отстали от других батальонов. Через неделю проверка, а мы. — Он замялся и смолк.
— Идите, выполняйте приказ, — повысил голос Миронов. «Нет, я ему не уступлю, напрасно он затеял со мной пререкание. Все равно будет по-моему».
Миронов собрал командиров и приступил к занятию. Крузов безучастно стоял в стороне и обиженно поглядывал на Миронова и командиров.
Миронов разбил командиров на два отделения и распорядился:
— Всем надеть снаряжение и иметь полную боевую выкладку. «Что это он еще придумал?» — недоуменно посматривал Крузов.
Миронов вызвал к себе командира взвода танкистов и поставил ему задачу, а командирам объявил: «Я — ваш командир взвода. Делай все, как я». Надел все положенное командиру в бою.
Подошел комиссар полка Зайченко. Вместе с Крузовым смотрели они, что же будет дальше?
Миронов подал команду, развернул взвод командиров в цепь и повел в атаку.
Четыре раза возвращал он их на исходный рубеж, показывал, а затем повторял все сначала.
У всех уже были мокрые гимнастерки. Казалось, этим учебным атакам не будет конца. Но вот, наконец, Миронов остановил взвод и дал команду танкистам на отбой. Усталые, в грязи, с запыленными лицами, командиры смотрели на Миронова неприветливо. «Может, я и увлекся, — думал он. — Загонял людей». Миронов приказал Крузову завтра проводить занятия с бойцами так же повзводно. «А с ротами, — сказал он, — проведем через несколько дней».
— Ну этот капитан и дает жизни! — после занятий разговаривали между собой командиры.
— Молодой, молодой, а мужик зубастый. Видать, с повышением к нам.
— Новая метла завсегда так. Сначала все в новинку, побегает с наше — остепенится.
Возвращаясь, Миронов думал о том, что комдив был прав. Надо учить людей, как он выразился, выжимая их до пота. Не в белых перчатках в бинокль смотреть, а самому уметь показать. «Удивляется Грылев, почему не получается, а батальоны гоняли напрасно, не обучив главному всех командиров, горючее зря жгли, время тратили впустую, а при боевой стрельбе раненые были. Необстрелянным бойцам, конечно, страшновато. Только ругаясь и грозясь, как делает Грылев, ничему людей не научишь».
* * *
Вечерами, а то и вернувшись поздно ночью после занятий в батальонах, Миронов, несмотря на усталость, нередко скучал. Служба его на новом месте началась хорошо. В крузовском батальоне к нему стали относиться с заметным уважением, хотя комбат держался подчеркнуто официально холодновато. «Ничего не поделаешь— терплю, поскольку ты начальник». Прошло больше месяца, как он служил в полку и, как все военные, скоро прижился, хотя в разговоре с товарищами не раз вспоминал и сравнивал с теми порядками, какие были в полку Канашова, где начинал он службу. Видно, эта привычка у всех военных одинакова. Штабные командиры любили его за точность и аккуратность в делах. Были такие командиры и его возраста, но меньшие по званию и тем более по должности, которые завидовали ему. Он видел, как они на глазах подхалимничают перед ним, а за глаза откровенно завидуют и поносят. Но разве только так было с ним?
Сегодня Миронов в плохом настроении. Наташа где-то совсем пропала. Ни слова о себе. От родных ждать писем бесполезно — они в оккупации. Грылев со вчерашнего утра укатил развлекаться и взял с собой Евгения.
Вошла полковая связистка Галя Ланова.
— Товарищ капитан, вас просит прийти в штаб командир полка. «Объявился, наконец-таки, нагулялся за сутки. Надает мне сейчас приказов, сошлется на плохое самочувствие и пойдет отсыпаться».
Большие глаза Лановой глядят почему-то всегда на Миронова виновато, а губы припухлые, будто надутые от обиды. Снова вспоминается Наташа. Она не такая. А уж такой улыбки, как у нее, ни у какой девушки не сыщешь. Солнце разве сравнится с ее улыбкой.
Грылев навеселе. В такое время бывает обычно добрый, покладистый.
— Ты что же мне, капитан, срываешь в полку боевую подготовку? — Нет, сегодня он чего-то сердитый. И глядит куда-то в сторону, стараясь не встречаться взглядом с Мироновым. — Кто тебе давал право отменять мои приказания? Ты, капитан, не забывайся! Пока в полку хозяин я.
— Я не отменял, товарищ подполковник, — сказал растерянно Миронов, поглядев на Галю, и покраснел. Она потупила взгляд. — Но кому нужна такая учеба?
Грылев резко перебил его, махнув рукой.
— Ты не бери на себя много, мальчишка! — И подошел к Миронову, слегка пошатываясь.
«Пьяный. — В Миронове от негодования все клокотало. — За что он меня оскорбляет? Что сделал я плохого?»
— Товарищ подполковник, я тоже ответствен за боевую подготовку.
Грылев грузно сел на скрипящий табурет, рассмеялся.
— Ха-ха, смотрите на него, «ответствен». Да хочешь, доложу — завтра здесь и духу твоего не будет. Ты знаешь, что такой я?! А, что говорить, с тобой, — махнул он рукой. — Пошли, Ланова.
И, схватив ее за плечи, вытолкнул из помещения. — Я завтра займусь тобой, — пригрозил он Миронову.
Миронов смотрел ему вслед с обидой и думал: «За что он изругал меня? Поехать доложить комдиву? Нет, это не выход. Пожаловаться в политотдел? Ведь он — коммунист. Но что смотрит комиссар Зайченко? Он хорошо знает обо всем, а вот молчит. А почему, ты думаешь, молчит?»
Грылев снова вошел пошатываясь.
— Тебе чего надо в полку, капитан? Ты что, за славой приехал? Полком, сосунок, командовать задумал? Не выйдет! — закричал он. — Я не тот, чтобы мной мальчишки командовали! У меня жена — дочь генеральская! Понял, дурачок ты этакий?
Миронов молчал, ему был омерзителен этот человек. «Кому война, а этому праздник». Хорошо, что таких немного. Первого за всю войну встретил. Нашел чем хвастаться: женой — дочерью генеральской.
— Ты не гляди на меня так, капитан! Я еще, я себя покажу. Я, если захочу, я все умею. Ты меня еще не знаешь. А ты знаешь, капитан, я тебя в люди могу вывести. Ты можешь меня проводить?
— Меня не на должность провожатого к вам прислали. — А сам подумал: «Дать бы ему, пьянице, по морде и идти скорее спать. Пора уже к этому привыкнуть. Командир не жена. Его не выбирают. В женах и то нередко ошибаются».
Грылев будто сразу отрезвел, уставясь на Миронова.
— Ты гляди, гляди, а ты с характером, мальчик. Это мне нравится. А хочешь, я из тебя… Зн-н-а. — И, посмотрев вокруг мутными глазами, закричал: — Галька где? Где она, стерва?
— Товарищ капитан, — зашептала Ланова, — я не хочу с ним. Уведите его от меня. Не хочу. — И заплакала.
— Пойдемте, — решительно сказал Миронов и взял Грылева под левую руку. Он усадил его в машину и приказал шоферу везти домой. Пока доехали, Грылев, ругавшийся всю дорогу, уснул.
— Оставьте его, пусть спит в машине, — приказал Миронов. «Вот тебе и душа человек, покладистый, хороший, как все его считают, — думал Миронов, возвращаясь. — А выпьет — самодур».
Он приехал ночевать к Ванину. Его встретила пластинка с раскатистым, громоподобным шаляпинским басом:
«Сади во всю силу. Ты пьяный? Не тронь! Не смей! Глуши их, Гаврила! Это же Гаврила-архангел конец миру трубит!»
«О, да это из «Егора Булычева», — вспомнил Миронов. — Чего это он пьяные монологи слушает?»
На пороге стоял старший лейтенант Ванин.
— Это я вас, чтобы привыкали. Наслушались, поди, от Грылева? Заходите, товарищ капитан, ждали вас. Он, как пьянеет, всегда такой. Ну что с ним? Где он?
Миронов посмотрел на стол, где стояла бутылка и лежала нехитрая армейская закуска, и сказал:
— Ничего. Спит. Пойду тоже спать.
— Как же так, товарищ капитан? Ждал вас ужинать. — На лице у Ванина неподдельная обида. Того и гляди, расплачется.
Вошла Ланова. Осторожно прикрыла дверь и прошла, крадучись, с опаской поглядев на окна.
— Ну что с ним? Где подполковник?
— Ничего. Спит.
Она кивнула головой, смутилась.
— Ну, я пошла.
— Нет, нет, Галя, только я тебя не отпущу, — сказал Ванин, но сам смутился и заметно растерялся.
«Ванин, видно, ухаживает за Галей», — мелькнула мысль у Миронова.
Ванин налил Миронову и Гале рюмки.
— А что же себе? — спросил Миронов.
— Да можно и себе, — сел он, сутулясь и не зная, куда ему деть свои длинные руки.
Галя украдкой поглядывала то на Ванина, то на Миронова. «Конечно, Ванина она обожает».
Миронов выпил и задумался. На душе тоскливо и пусто от разговора с Грылевым. Саднило душу, и было обидно. «Неужели все они такие? Идет война, а каждый думает о своем: Грылев — о славе начальника, Галя — как бы выйти замуж за Ванина, комиссар полка Зайченко закрывает на все глаза и смотрит сквозь пальцы, что творится с командиром полка, Крузов собственное самолюбие ставит превыше всего, и на все ему начихать. А я, я что? Я в их глазах — мальчишка. За славой приехал, со всех требую, ругаюсь со всеми, а сам в жизни ничего не понимаю. Ну и пусть так думают. Вот Ванин другой — у него душа как на ладони. Женька — тот наивный малый и рубаха-парень, но и его может испортить Грылев. Но есть у меня светлое и теплое в жизни — Наташа». Он даже обрадовался этой мысли.
Миронов взял гитару и задумчиво запел:
Темная ночь.
Только пули свистят по степи.
Только ветер шумит в проводах.
Тускло звезды мерцают.
«Да, это была любимая песня Наташи». Он пел и чувствовал, будто был с ней наедине, видел ее солнечные косы и чуть грустноватую улыбку.
… Глубину твоих ласковых глаз.
Как я хочу
К ним прижаться сейчас губами.
Галя, зябко подергивая плечами, посмотрела на него печальными глазами, потом снова перевела взгляд на Ванина. Он, поймав ее взгляд, смущенный, прокашлялся и стал снова наполнять рюмки.
Темная ночь
Разделяет, любимая, нас,
И широкая темная степь
Пролегла между нами.
Миронов думал сейчас только о Наташе. «Наташа. Где она? Может, уже и забыла меня? Столько времени прошло, как мы виделись... Нет, она не забудет! Она любит».
— Тревога, тревога! — вбежал к ним боец-связной. — Сбор у штаба полка.
Во тьме, ругаясь, падая, бежали к роще бойцы штабных подразделений, командиры, штабные работники. Каждый должен был занять место, определенное планом по боевому сбору.
Боевую готовность полка проверял комдив Андросов с группой работников штаба дивизии. Он остался недоволен всем и уехал, не простившись ни с комиссаром полка, ни с Мироновым. И Миронов понял, что он виноват, и главным образом виноват в том, что штаб так плохо, долго собирался по тревоге.
* * *
«Нет, — сказал себе Миронов, — надо смотреть правде в глаза. Не могу я быть заместителем командира полка. Чего стоят мои осуждения Грылева, если я сам с себя снял ответственность, обидевшись на него. Ну, а при чем тут дело и те сотни людей, которых доверили мне? Сейчас эта проверка учебная, в тылу. А что было бы, если напали немцы? На кого мне кивать, когда погибнут люди? На Грылева? Может, формально верно — он командир, с него и спрашивайте. A совесть где моя? Не перед вышестоящими начальниками, а перед бойцами, командирами, которые мне верили, — я же их начальник».
Долго проворочавшись с боку на бок, Миронов встал и зажег лампу. Ванин тоже не спал, кашлял, курил. «Только бы ни о чем не спрашивал. Не до него мне сейчас. Надо разобраться с самим собой».
Самое правильное — это подать рапорт комдиву, изложить все так, как он думал только что, и просить перевести в батальон. А впрочем... Ну, это пусть он сам решает. Его власть. Когда он закончил писать, Ванин сел, свесив длинные худые ноги, скручивая цигарку. Вздохнув, он сказал:
— Как же он полк весь подвел, осрамились мы. Приказ завтра наверняка будет.
Миронов сердито посмотрел на Ванина, встал.
— Не он виноват, а я. я, я, я, — повторял он, со злостью задул пламя в лампе и лег на кровать. Лежал, слышал, как кашляет Ванин, ждал, хотел, чтобы он спросил, сказал что-либо, может, поспорил с ним. Но Ванин молчал, и только вспыхивал на стене отсвет, когда он затягивался, да потрескивала махорка. Миронов ждал, ждал. Ванин молчал. «Значит, он согласен, что виновен. Ну и хорошо. Он честный, не врет мне и не успокаивает». С этой мыслью он и уснул.
Утром следующего дня Миронов уехал с рапортом к комдиву Андросову.
Но пройти на прием сразу не удалось. Повалили с бумагами, документами. Миронову казалось, что каждый проходивший к полковнику глядел на него как-то жалостливо. «Сочувствуем, что сняли. Что ж, бывает», — говорили их лица. Он даже решил возвращаться в полк. «К чему мой рапорт, когда и без меня все решено?» Миронов вышел и направился к машине, на которой приехал, когда его окликнул адъютант комдива. Сердце екнуло в груди. Он вошел, доложил.
— Я знал, что приедешь, — сказал полковник. — Здорово у вас получается. Один пьянствует, а другой за его спиной прячется.
Миронова от этих слов будто опалило огнем. Дрожащими руками подал он рапорт.
— Оправдываться приехал? — спросил Андросов. — Оправдание не принимаю. Перед судьей оправдывайся, когда дойдет до суда. А ты на, мою бумагу читай и думай.
«Ясно, — мелькнула у Миронова мысль. — Сняли. Ни к чему мой рапорт». Он прочел сразу копию приказа, «заместителю командира полка за безответственность и безынициативность объявляю выговор». «А где же? Легко отделался».
Комдив прочитал рапорт, встал. «Ну вот сейчас он и отстранит».
— Ты опять за свое? И какой же ты упрямый, капитан! Я же тебе говорил, когда знакомились, не люблю, когда мне диктуют. Иди, свободен.
Вечером того же дня связной из штаба дивизии привез две срочные секретные бумаги на имя Миронова. Сердце сжалось от тревоги. «Вот и приказ о снятии с должности. Так лучше, чтобы долго не мучиться». В одной говорилось, что завтра приезжает командующий армией проверить полк. Об этом ставил в известность командир дивизии и требовал подготовиться к проверке. Вторая бумага — приказ по дивизии. В нем Миронов назначался временно исполняющим обязанности командира полка ввиду болезни Грылева. «Какой болезни?» — удивился Миронов. Обе бумаги подписаны Андросовым.
Миронов вызвал в штаб командиров батальона, рассказал им, как надо готовить свои подразделения к проверке, отдал распоряжение работникам штаба. И тут зашел комиссар полка Зайченко.
— Ну как дела, Александр Николаевич?
— А все дела, Иван Андреевич, позади. Отчитываться нам за них завтра придется. — Он подал бумагу комиссару.
— Волнуешься?
— А как же,
— То, что волнуешься, хорошо. — Помолчал, закурил и добавил: — Тут тебя некоторые наши осудили за беспокойный характер. Слыхал?
— Кое-что.
— В батальонах часто бываешь. Говорил я перед отъездом с Грылевым, и с комиссаром дивизии Калмыковым в который раз толкуем, не нравятся мне методы работы нашего Сергея Сергеевича. Четыре месяца вместе работаем, казалось бы, пора привыкнуть. Не могу. Штурмовщина, а не командование у него получается, и все: «Давай, давай». Приедет, покричит и уедет. Разве так людей учат? Мундир начальника — это еще не авторитет. Если командир со своими солдатами умеет тянуть лямку и в грязь не брезгует лечь, когда надо, и руки в масле вымазать, а не кричать попусту — этим и авторитет завоевывается. Я к чему это, Александр Николаевич. Люди к тебе повернулись лицом, а вот ты тоже излишне горяч бываешь.
Миронов с досадой поглядел на комиссара.
— Это с Крузовым-то, что ли? Какой же я командир, если на своем не настою?
— Нет, нет. Ты погоди. Что настоял, правильно. А как же иначе? А вот что прикрикнул на него. По-моему, это нервы тебя подвели, погорячился. Ты по должности старший, а он по возрасту тебе чуть ли не отец. Тут надо считаться. Настаивай, требуй, но делай это без крика. У каждого человека самолюбие. Угрозы, выговоры только слабость твою обнажают. Подчиненные это хорошо понимают. Ты знаешь такого русского генерала Драгомирова? Вот что он сказал по этому поводу. Я даже записал себе: «У иных грубость считается силой характера. Требование, которого цель ясна, исполняется более от сердца».
— А я ему не мальчишка, чтобы он смотрел на меня свысока. Молодой, так, значит, на мои приказы можно плевать?
— Нет, нет. Плевать никогда не позволяй, да и я тут тебе — первый помощник. Ну и людей надо уметь выслушать, а кое-чему и учиться не грех.
Зайченко сидел, курил, рассматривал свои руки, будто он видел их впервые. Потом хлопнул по коленям.
— Ну да ладно, капитан. Давай о проверке потолкуем. Скажи мне, чем могу помочь? С коммунистами сегодня говорить будем. Оно неплохо бы и тебе побыть на нашем собрании, если не занят.
Миронов посмотрел на него. «Шутит или так прощупывает, какова моя партийность?»
— Какая же тут может быть занятость? Намечал съездить к танкистам. Позже съезжу.
Миронов остался наедине со своими мыслями Он задавал себе вопрос: «Все ли сделано для завтрашней проверки? Не упустили ли чего? — И делал заметки в полевой книжке: — Собрать комбатов, командиров рот, политработников и послушать их. Помощнику по тылу обеспечить людей питанием и боеприпасами. Начальнику санитарной службы дать указание о медицинском обеспечении. Доложить командиру дивизии о готовности». За тонкой перегородкой, отделяющей его от штаба, доносился басовитый голос Ванина, хлопали двери, спорили штабные работники. «Как же у нас получится завтра? — думал Миронов. — Смогу ли я сделать так, чтобы полк наш не опозорился, как штаб, по боевой тревоге? — И тут же ответил себе: — Если буду только на себя надеяться, ничего не выйдет, а если командиры и бойцы поймут, что требуется, всем вместе это под силу».
* * *
На наблюдательном пункте полка, расположенном на высоте, толпилось много людей. Тут были командиры, штабные работники, бойцы пункта управления. С нетерпением ожидали командующего, то и дело поглядывали на часы. Волновался и Миронов. Отдавая приказания, он часто смотрел в бинокль в сторону дороги, откуда ожидали генерала. И вдруг был передан приказ Андросова по радио: «Начинайте. Чего ждете, капитан? Батальоны давно вышли на исходное положение».
Миронов услышал взрывы. Это началась артиллерийская подготовка. Старший лейтенант Ванин подбежал к Миронову:
— Товарищ капитан. Я давно уже послал к вам связного с докладом о готовности, а его «убил» посредник. Хотел доложить по телефону, но взрывом бомбы уничтожен узел связи.
Миронов с досадой махнул рукой: «Вот тебе и начало. Все пошло шиворот-навыворот». — Так можно было ввести в действие запасной узел связи, — сказал он, — у нас же об этом в приказе оговорено.
— Развертывают, — ответил Ванин. — Но батальоны ждут сигналы к «атаке».
«И без твоих подсказок знаю, — подумал Миронов и подал сигнал двумя красными ракетами. — А где же все-таки командующий? Да и комдива не видно». Он облегченно вздохнул, увидав, как поднялись и побежали бойцы, рассыпаясь в цепи.
— Товарищ капитан, — тронул его рукой радист. — Вас вызывает «Слон».
«Слон» — условный позывной командира танкового батальона. Батальон придан полку. Комбат доложил Миронову, что танки вышли с исходного рубежа. «Успеют ли, — подумал Миронов, — пехота уже поднялась, а батальон Крузова на полпути к переднему краю обороны «противника». И чего он торопится? Возьмут посредники и выведут батальон из строя огнем артиллерии».
Миронов приказал радисту вызвать капитана Крузова.
— Не бегите. Попадете под огонь артиллерии «противника».
Крузов ответил недовольно: «Есть». Батальон приостановил движение, танки перегнали наступающие цепи пехоты, но в этот момент к Миронову подошел генерал-лейтенант. Миронов, наблюдая за действиями полка, и не заметил, откуда он взялся. Миронов стал докладывать, но генерал остановил рукой.
— Товарищ капитан, — сказал генерал. — В вашем третьем батальоне из-за остановки бойцов выведена из строя рота. Батальон несет большие потери. Ваше решение, капитан?
Миронов отдал приказ Крузову ускорить движение и броском выйти из-под огня, догоняя танки.
Генерал-лейтенант наблюдал за действиями полка в бинокль. Первый батальон ворвался с танками на позиции «противника», а второй и третий отстали. Он тронул рукой плечо Миронова. «Где я видел этого генерала?» — старался припомнить Миронов.
— Товарищ капитан, давайте команду «отбой».
«Значит, ничего у нас не вышло. Столько готовились — и все впустую», — подумал Миронов. Он просигналил ракетами «отбой». Черные и красные ракеты, ушедшие в небо, остановили наступление полка.
— А что это у вас столько людей на наблюдательном? — вдруг спросил генерал. — По вас открыл огонь снайпер. «Убиты». — Он показывал пальцем то на одного, то на другого, третьего». Миронов пригнулся за бруствер. Оставшиеся командиры прятались и рассредоточивались бегом по ходу сообщения, по нишам.
Снова была дана команда на атаку. На наблюдательный пункт полка пришли полковник Андросов и комиссар дивизии Калмыков. Все теперь смотрели, как развертывается в цепи пехота. Их обогнали танки, и «атака» началась дружным и мощным «ура».
— Вот теперь ничего, — сказал генерал-лейтенант, обращаясь к комдиву.
Миронов поглядел на генерала. «Как же я запамятовал? Это же генерал-лейтенант Кипоренко. Командующий нашей армии, а потом начальник штаба фронта. Чего это он пошел на понижение — танковой армией стал командовать?»
Миронов и сам был доволен, любуясь организованной «атакой». Пехота броском выскочила на гребни высот за танками. Он бросил взгляд на командующего. Тот улыбался. Видно, ему понравилось это слаженное, хорошо отработанное действие пехоты и танков. Но тут же лицо его помрачнело.
Миронов быстро передал команду командирам батальона. И вскоре все увидели, как бойцы пехоты вместе с артиллеристами дружно выкатывали на гребни высот противотанковые пушки. Командующий отдал распоряжение адъютанту. Подъехала машина, и они с Андросовым уехали.
«Хотят увидеть, как будет вести бой полк в глубине обороны», — догадался Миронов. Он приказал Ванину начать смену наблюдательного пункта. Сам он остался ждать, когда развернут новый пункт управления.
Проверка под вечер закончилась. Командующий приказал собрать командный состав полка и сделал разбор.
— Ну, что вам сказать, товарищи... Почти хорошо. Но еще чувствуется нерешительность у некоторых командиров в управлении своими подразделениями. Я бы сказал, что одиночная подготовка бойца проведена неплохо. Нельзя сказать, что одни батальоны действовали хуже, другие лучше. В целом впечатление удовлетворительное.
Миронов подумал: «Значит, не зря нажимали на Крузова, подтянули батальон».
— А по сравнению с другими полками вашей дивизии, — обратился он к Андросову, — пожалуй, этот полк действует слаженнее. Вот, правда, командир полка. Кажется, Миронов? — спросил он у комдива. — Вначале он проявил, я бы сказал, нерешительность, но потом управлял боем нормально.
Миронов услышал, как капитан Крузов зашептал рядом сидящему комбату Игнатьеву: «Это ему не стихи писать, а полком командовать. Тоже мне, Лермонтов».
Миронов покраснел, не сдержался, обернулся и вспылил.
— Вы в батальоне порядка навести не можете, а еще о стихах.
Зайченко услышал пререкание и сжал локоть Миронова.
После разбора они возвращались домой вдвоем. Зайченко сказал ему:
— Ну, капитан, признаться, я тоже волновался и за полк, и за тебя. По-моему, экзамен выдержан.
Эта сдержанная похвала обрадовала Миронова.
— А вот с Крузовым опять сорвался, — добавил он. — Будь ты посолидней. Ты же начальник!
Вернувшись из госпиталя, Грылев остался недоволен, когда Миронов и Зайченко докладывали ему о проверке.
— Это не оценка, — сказал он, — «лучше других, удовлетворительно». Порадовали, называется. Вот если бы командующий сказал «хорошо, орлы», тогда другое дело. Лежу я, а у самого сердце болит. Да-а-а, скоро нам на фронт, а в полку некомплект, людей не хватает. И никого из вас это не волнует.
Зайченко возразил:
— А тут волнуйся не волнуйся, а если нет нам приказа, так что, будешь людей на улицах ловить?
— Ловить не ловить, а надо ехать добиваться. Знаешь, комиссар, под лежачий камень вода не течет. Я отвечаю за полк, с меня будут спрашивать. Вам-то что. Ну вот что, капитан, — обратился он к Миронову, — пора мне по-настоящему помогать, а не сидеть сложа руки. Я приказал Ванину выписать тебе командировку. Сегодня я говорил со штабом дивизии. Поезжай-ка за рекрутами на фронтовой пункт распределений.
Миронов доложил Грылеву о том, что он наметил завтра провести в полку разбор проверки с командирами. Грылев поморщился, как от зубной боли.
— Ох, какой ты! Думаешь, без тебя разбора не проведем?
Зайченко пожал плечами. «Ревнует Грылев Миронова, за авторитет свой боится. А против Миронова он явно слабак».
Только Миронов пришел в штаб, как к нему навстречу Ванин с сияющим лицом.
— За командировкой, Александр Николаевич?
Он подал ему документ.
«Чего это он так обрадован моему отъезду?»
— Жаль, жаль, а то бы мы сегодня… того… — Он почесал затылок.
— Миронов прочитал предписание и вернул обратно Ванину:
— Тут ошибка. Звание не мое.
— Дай бог, Александр Николаевич, так почаще ошибаться. Поздравляю. Вам присвоено звание майора. — И он протянул ему выписку из приказа.
«Так вот чем недоволен Грылев. Он даже меня не поздравил».
3
Сентябрьское утро было по-летнему солнечным, теплым. И по выжженной степи в голубоватой дымке дрожал, переливаясь, и растекался на горизонте, будто расплавленное стекло, нагретый воздух. На опушке леса деревья в золотисто-багряных нарядных платьях стояли притихшие, задумчивые. Осень разоткала на траве серебристую шелковину паутины, на которой цветами радуги сверкали бисеринки росы. Земля пахла сыростью, прелой корой, и от прозрачной синевы неба с севера тянуло холодком. Бабье лето — прощальный праздник умирающей природы — навевал грустные мысли на только что проснувшегося Миронова. Позевывая и поеживаясь от осенней прохлады, он направился к лесному ручью умываться, раздумывая.
«Ну и удружил мне Грылев командировочку. Неделю болтаюсь без дела в ожидании». Во фронтовой пункт распределения пополнения приходят круглые сутки: бойцы, командиры из различных запасных полков, с курсов, из батальонов выздоравливающих. Но все это не то. Слишком высоким требованиям должны отвечать эти люди. Набирать надо только кадровых, молодых и преимущественно воевавших, обстрелянных. Миронов надоел начальнику пункта с одним и тем же вопросом: «Когда ожидается новая партия людей?» И начальник надоел ему до оскомины, хотя человек он неунывающий и шутник. Круглолицый, с бритой круглой головой, маленький и плотный, он похож на мяч. И фамилия у него под стать внешности — Толстенький. «Куда ты торопишься, майор? Не каждому такой счастливый случай выпадает в наш фронтовой дом отдыха попасть. Загорай, поправляйся, а скучно, пойди развлекись. Ну где ты найдешь столько красавиц, как не у меня?» Но тут же подполковник после такого лирического вступления долго тяжело вздыхал и доверительно признавался, что он согласен принимать круглосуточно в десять раз больше мужского пополнения, но при условии, что ему не пришлют ни одной «юбки». Миронову тоже надо было получить пятнадцать медицинских работников — фельдшеров и санинструкторов, но он не торопился. Командир полка обещал прислать ему для отбора медиков командира санитарной роты полка.
— Тебе повезло, майор, — сказал он и пожевал пухлыми губами. — К девяти утра прибывает пополнение. Курсанты из полковых школ. Сибиряки. Так что подожди. Мне вчера звонили из штаба фронта. Попало за твоих молодцов. А где я их возьму?
Обнадеженный возвращался Миронов к себе в землянку. «Наконец-то кончается мое безделье». Он заметно скучал по полку, по брату, по Ванину. И Ванин, наверно, как всегда, наслаждается трубачом из пьесы Горького «Егор Булычев и другие». Ланова сидит часами в штабе и не сводит с Ванина глаз. Грылев «лечится». Он и перед отъездом Миронова был хорош.
В десять утра, как ожидали, пополнение не пришло. И в одиннадцать, и в двенадцать нет. Так томился Миронов в ожидании пополнения до обеда, а после обеда до того рассердился, что пошел поругался с Толстеньким и твердо решил уехать вечером. Он отдал приказание командирам подготовить людей к маршу, для погрузки их в эшелон. В дивизию он послал телеграмму с просьбой подать к станции назначения машины на утро следующего дня.
Усталый и злой вернулся он в землянку и стал поспешно собирать свои нехитрые фронтовые пожитки. К нему пришел капитан медицинской службы Нарышкин — командир санитарной роты полка.
— Товарищ майор, а я вас обыскался тут.
— Не знаю, кто кого искал. Я уже неделю вас жду, а где вот вы прохлаждаетесь — не знаю.
Капитан помолчал. «Пусть отойдет», — подумал он.
— Товарищ майор, а я уже подобрал. Тут, спасибо, мне ваша одна знакомая помогла.
— Какая знакомая?
— Она говорит, что с вами служила. Черненькая такая, боевая. Лейтенант медицинской службы.
— Интересно.
У Миронова потеплело на душе. И он улыбнулся.
— Ну что ж, капитан, пойдемте посмотрим, что за «черненькая».
Они направились вместе к землякам медицинских работников, прошли лесом и вышли на поляну.
«Что это, сон?!» Миронов от неожиданности даже остановился и от волнения сунул папироску горящим концом в рот. Обжег губы, но не сводил глаз с небольшой группки людей, где рядом с майором-медиком у кустов стояла Наташа Канашова. Она что-то объясняла и показывала руками.
Капитан тронул Миронова за руку:
— Вот она идет сюда. Глядите!
— Кто «она»?
— Та, черненькая.
Миронов повернулся и поглядел в ту сторону, куда показывал капитан.
К ним шла легкой, плавной походкой его навязчивая знакомая — цыганка, в форме лейтенанта медицинской службы.
«Ну, хитрая бестия, — подумал Миронов. — Втерла капитану очки. Служила со мной. Ну и пройдоха». И, махнув рукой, к удивлению капитана, он торопливо направился к Наташе, которая по-прежнему стояла вполоборота к нему, занятая разговором с майором-медиком. Миронов ускорил шаг, сдерживая себя, чтобы не броситься бежать. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Подошел, пригнулся и спрятался кустами. Никто из стоявших его не заметил. Рывком приблизился к Наташе и закрыл ей глаза руками. С нее слетела пилотка, и светлые волосы, пахнущие созревающей пшеницей, защекотали ему лицо и шею.
— Кто это? — рассердилась Наташа. И тут же, обхватив голову Миронова руками, вся задрожала. Прижимаясь к ней, и он ощутил эту дрожь. Кто-кто, а она хорошо знала привычки человека, которого любила.
— Сашенька, — задохнулась она и принялась целовать его глаза, щеки, губы, будто они были здесь одни. И то, что делала она это смело, у всех на виду, даже смутило Миронова. Он растерялся и покраснел. Девушки-медички улыбались, завидуя счастливой встрече. И только майор медицинской службы сердито нахмурил брови и стоял отчужденный.
— Это, это… — засмущалась Наташа, не зная, как ей, представить Миронова — мой товарищ, мой друг. Мы в одном полку с ним служили. Вот. Познакомьтесь, — обратилась она к врачу. Тот небрежно подал руку.
— Майор Кремнев.
— Сашенька, майор Кремнев — мой начальник. Мы с ним только что приехали отбирать пополнение для нашей части.
Миронов только сейчас увидел, что неподалеку от них стояли командир санитарной роты их полка и улыбающаяся цыганка.
— Да ты уже майор, Саша, — осматривала она его, держала за руки и старалась найти в нем что-то ей еще незнакомое. — А ты как здесь очутился?
Она чувствует, что голос ее срывается от волнения.
— Пойдем, Наташа, все расскажу.
— Товарищ майор, разрешите мне, — обращается она к своему начальнику. Тот, по-прежнему отчужденный, молча кивнул ей головой.
И когда они уже идут рядом, взявшись за руки, и бросают молчаливые взгляды друг на друга, доносится голос ее начальника:
— Не забудьте, Канашова, сегодня мы должны вернуться в часть.
Но Наташа даже не оборачивается, будто ее это не касается.
Сейчас ничего для нее больше не существует, кроме «Мирончика», как она ласково называла его в письмах.
— Ну и бука у тебя начальник, — говорит он. — Он, наверное, один раз в год улыбается, да и то сам себе, а не людям.
— Нет, нет, что ты, Сашенька! Он очень хороший человек. Он всегда почему-то сердится, когда видит около меня кого-нибудь из мужчин.
— И часто он сердится?
— Ах, Сашка, ты все такой же неисправимый. Опять за свои подколки. Ну если тебе так хочется — часто. Очень часто. — И Наташа, обхватив руками шею, целует его. — Не поцелуй тебя, сам не догадаешься.
Миронов видит, что цыганка и капитан стоят и смотрят в их сторону и тоже улыбаются. Цыганка и тут не может не созорничать. Она кричит:
— Девушка, не целуйте его так часто. С ним может быть плохо.
Миронова злит ее нахальство. Тоже взяли «кадр» в полк.
— А кто эта красавица? — спрашивает Наташа.
Миронов, не отвечая, только машет рукой.
— Ты расстроился? Признайся, стыдно, что я тебя целую при всех?
— Нет, что ты, Наташа! Я просто обалдел. До сих пор не верю, что ты.
— А мне ни чуточку не стыдно, — лукаво улыбается Наташа. — Пускай все, все смотрят. Я так счастлива. — Она обнимает его, закрывая глаза. — Ты же мой.
Миронов тоже улыбается и с силой сжимает ее.
— Ты медведь, Сашка! — говорит она, — Ты хочешь, чтобы я умерла в твоих объятиях?
— Нет, зачем же. Я хочу, чтобы ты только жила. И была всегда такой.
«Она такая же, — думает он, — как в первый вечер знакомства в полковом клубе. Веселая и озорная, острая на язык».
«Он такой же, — думает она, — смущается, как красная девица. Скромница — ни слова о себе и службе. Моему начальнику майору под шестьдесят, а он-то в двадцать майор. Я-то все у него выведаю, все узнаю».
Они падают оба в сухую траву и радуются, как дети, и смеются, и глядят, глядят друг на друга счастливые. И кажется, нет ничего: ни войны, ни опасности — ничего, а только над головой бездонная синь неба, шуршащий шорох леса, пшеничный запах волос Наташи, губы, пахнущие парным молоком, и ее частое прерывистое дыхание.
* * *
Миронов вернулся в полк, доложил Грылеву о выполнении задания, передал пополнение. Вот теперь бы и за работу, соскучился он там в ожиданиях, а приехал, из рук все валится. Мысли невольно возвращаются к Наташе. И не верится, что была эта встреча. Будто сон, и сердце болит, и весь он там с нею. Коротко счастье влюбленных.
«Неужели мне больше не придется встретиться с Наташей?». И от этой мысли становится так невыносимо тяжело и больно, навертываются слезы. Какая глупость: расписка о браке. Чего стоят эти штампы и печати? Ровным счетом ни гроша. Можно иметь их, состоять даже несколько раз в официальных браках и ни разу не быть по-настоящему, по-человечески счастливым. «Саша, — сказала она, — ответь мне честно. Ты не будешь меня презирать?» — «За что?» — спросил он. «Ты можешь любить дезертира?» Он не понял ее: «Какого дезертира?» Она пояснила: «Хочу уехать с тобой». Никто из них еще ни разу в жизни ничем не нарушил друг перед другом собственной чести, но в эту минуту Миронов впервые заколебался. Он почувствовал, что она готова совершить этот преступный шаг во имя их любви. И он не мог его оценивать как прихоть или бесшабашность. И все это не так уж сложно. Она уедет с ним — и вот пришло их счастье, к которому они стремились оба столько трудных лет. Они долго молчали. А потом... Потом Наташа поехала с ним. И вот, казалось, они вместе, счастливые, любящие друг друга, они достигли того, к чему стремились. Но вместо светлой радости их обоих охватило грустное раздумье и чувство какой-то непонятной неловкости, будто оба они сделали очень скверное в жизни. Они ехали, сидели вместе, но почему-то стыдились глядеть в глаза друг другу.
— Не надо нам так начинать нашу совместную жизнь. Это ужасно, — сказала Наташа. — Если мы будем с тобой всю жизнь друг перед другом честными, мы сохраним нашу любовь. Вот я подружилась так близко с Аленцовой, знаешь, врач нашей дивизии. Я очень привязалась к этой женщине. Она была для меня старшей подругой. Я знаю, ее любит отец. И она его будто любила. Но вот я услышала от одного, другого, что она поддалась на ухаживание Бурунова. И я возненавидела ее. Она это поняла и даже ушла из дивизии. Не будем и мы, Сашок, ты мой Мирончик, начинать нашу жизнь так.
И он с полпути отвез Наташу в часть, где она служит. Ей попадет, конечно, за «самоволку». Накажут, но теперь у него к ней, да и у нее к нему, родилось еще более сильное и светлое чувство.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
У генерала Мильдера сегодня большой праздник. За успешно проведенную операцию — прорыв танкового корпуса к Волге — он награжден Большим Железным крестом. Командующий армией генерал Паулюс хотя и был болен, но нарушил постельный режим, вручил Мильдеру награду, поздравил его и пожелал здоровья и новых боевых успехов.
Паулюс сам надел Мильдеру на шею крест и, любуясь золоченой оправой, сказал:
— Ваши заслуги, генерал, высоко оценены фюрером. Барон фон Вейхс просил меня передать от него личное поздравление. Вы удостоены высокой чести.
Никогда в своей жизни так не волновался Мильдер, как в эту торжественную минуту. И он заверил командующего, что его корпус очистит сегодня центр города и переправу от русских войск. Уезжая утром в штаб армии, Мильдер с нетерпением ожидал сообщения от своего начальника штаба. Поэтому он отказался подписывать очередное донесение об успехах, достигнутых его дивизиями. «Лучше уж удивить всех сразу». Мильдер отдал распоряжение адъютанту подготовить банкет и пригласил даже начальника штаба армии генерал-лейтенанта Шмидта. Паулюса приглашать он не решился, так как его адъютант сказал Мильдеру, что Паулюсу во избежание серьезных осложнений вторые сутки категорически запрещено вставать. Он и так уже нарушил порядок, приняв Мильдера для вручения награды.
У себя на командном пункте Мильдер увидел на столе любимые цветы его супруги — белые хризантемы. Его приходили поздравлять офицеры и рядовые солдаты. Да, это был настоящий праздник. Единственно, кто его еще не поздравил, — начальник штаба. Но у того всегда много дел. Закрутился полковник. Адъютант принес ему письмо от друга — Ганса Крейца. Генерал Крейц пошел на повышение: он назначен для особых поручений при командующем 17-й немецкой полевой армией — генерал-полковнике Руоффе.
«Дорогой друг, — писал Крейц, — трудно выразить словами те счастливые минуты, когда был прорван фронт под Ростовом-на-Дону. Командующий пригласил японского военного атташе и меня на высокий пролет взорванного моста через Дон. Широкая река простерлась под нами. В городе еще шли бои. Руофф протянул руку к синему от дыма Батайску: «Ворота Кавказа открыты доблестной армией фюрера и моими гренадерами. Недалеко то время, когда германские войска и войска вашего императора встретятся в Индии». Японский атташе поддержал Руоффа. Он улыбнулся и прищелкнул языком: «Сбудется великое предсказание фюрера. В Европе и Азии будут хозяевами две великие нации — немцы и японцы».
Командующий был в отличном настроении, и я не замедлил воспользоваться его расположением ко мне. Руофф обещал мне: как только наша армия достигнет Кубани, я получу отпуск. До меня дошли слухи, что тебя представили к высокой награде. Поздравляю».
«О, Крейц уже узнал о моем награждении. Может, и я получу отпуск после успешного завершения боев?»
Но почему задерживается начальник штаба с докладом?
Мильдер забеспокоился, набрал номер. По встревоженному голосу Кранцбюллера он понял: что-то произошло.
— Я требую, господин подполковник, личного доклада. Не играйте со мной в прятки. Я не люблю этого. Вы должны знать.
Через несколько минут раскрасневшийся Кранцбюллер стоял перед Мильдером навытяжку. По вискам его стекали ручейки пота, и он промокал их платком.
— Русские потеснили два наших танковых полка, господин генерал. Я получил донесения от командиров, — он взглянул на часы, — в четырнадцать тридцать пять, но не хотел вас расстраивать. У вас сегодня такой день.
Мильдер побагровел и порывисто встал:
— Почему вы скрыли от меня?
— Я приказал, господин генерал, немедленно восстановить потерянные позиции. Одному из полков их удалось вернуть. Они даже захватили еще два крупных здания, но русские перешли в контратаку, и полк отошел к оврагу. — Кранцбюллер тщетно пытался показать на карте то место, куда отступили немецкие полки. Карандаш не слушался в его руках и плясал по карте. Мильдер схватил трубку:
— Полковника Баблера. Немедленно разъединить! Что-что? Докладывает лично Паулюсу? Полковника Нельте. Нет? Поехал к нам?
«Значит, и командующему стало известно. А я, я ничего не знаю», — злился Мильдер.
— Господин Кранцбюллер! Я не прощу вам этого! Понимаете, не прощу! Вы свободны.
Паулюс, узнав о неудаче в танковом корпусе Мильдера, сказал Шмидту:
— По-моему, мы поторопились с награждением.
С Мильдером он говорил сдержанно, но с иронией:
— Не по-джентльменски с вами поступили русские, господин генерал. Вместо того, чтобы добровольно признать себя побежденными, они взяли и ударили. Надо, надо срочно выправлять положение.
А Шмидт, тот не стал церемониться. Он тут же позвонил Мильдеру и без обиняков, резко выразил свое неудовольствие.
— Имейте в виду, не восстановите утраченные позиции, мы отстраним вас от командования. И тут вам не поможет Большой крест. Гитлер не простит потерю позиции в Сталинграде ни нам, ни вам.
«Вот оно, военное счастье, — размышлял Мильдер. — Как оно непрочно и обманчиво. Утро для меня было солнечным, а сейчас над головой сгустились черные тучи. Быть грозе».
Меряя кабинет шагами, заложив руки за спину, Мильдер ходил расстроенный. «Надо предпринимать срочные меры. Если придется оставить всех солдат на поле боя, и сгорят все танки, я должен пойти на это. Иного выхода для меня нет. Или я сброшу русских в Волгу, или меня отдадут под суд».
Мильдер слышал, как ординарец Питер Шульц сказал адъютанту лейтенанту Вельтэ:
— Мне с каждым днем все больше и больше не нравится в этом проклятом Сталинграде. У меня такое предчувствие, что нам по-хорошему отсюда не выбраться. Русские заманили нас сюда как в крысоловку. — Питер Шульц почесал затылок и полез доставать клетки и капканы для ловли крыс, которых много развелось на командном пункте.
Лейтенант Вельтэ похлопал Шульца по плечу:
— Не унывай, старина, расправимся с русскими, поедем с тобой в отпуск в родную Баварию. (Они были земляками).
Питер Шульц улыбнулся, забрасывая крысоловку за спину.
— Мне навряд ли придется ехать в Баварию. Пока крыс не переловлю, отпуска генерал не даст. У него вчера погрызли новую портупею и за лакированные сапоги принялись. И откуда их столько здесь появилось? Прямо миллион. Выживают они нас.
Пришел почтальон из штаба, протянул конверт лейтенанту Вельтэ.
— Передайте срочно генералу. Письмо из Германии.
— Сейчас я его порадую, — сказал Вельтэ. — Эти русские хамы сегодня омрачили ему праздник.
— Господин генерал, вам письмо, — вошел к нему адъютант.
Мильдер сидел над картой Сталинграда печальный и сосредоточенный. Не посмотрев в сторону лейтенанта, молча взял письмо и положил рядом с картой. Вельтэ спросил разрешение идти и удалился.
Письмо было от жены Марты. От листка пахло чем-то домашним, близким, и на сердце стало теплее. Он стал читать, и лицо его нахмурилось. «Грета вышла замуж. Муж ее— военный священник, из хорошей семьи. Его имя Карл, фамилия Вурнат. Ты не огорчайся, что все решилось без тебя. Даст бог, все будет хорошо. После медового месяца Карл уезжает на Восточный фронт. Грета решила ехать с ним вместе. Может, вам удастся увидеться».
«Этого еще недоставало».
Мильдер вскочил, смял конверт и швырнул письмо на стол.
— К черту! — крикнул он в бешенстве, сам не зная кому. «Это издевательство надо мной. Мне военному человеку, отдавшему лучшие годы жизни армии, иметь зятем священника». Этой кровной обиды он не мог простить ни жене, ни дочери.
Долго еще сидел Мильдер, размышляя о неудаче, постигшей его танковый корпус, намечал удары и переносил их на новые направления, стирал и рисовал стрелы, обходящие позиции противника и упирающиеся в синюю ленту Волги. Уже окончательно устав от работы, он в полночь записал кратко в дневнике:
«Мы понесли большие потери и имели незначительный успех. Оборона русских и стойкость их солдат не позволили до конца довести задуманный план: прорваться и овладеть берегом реки, а затем нанести танковый удар по флангу и тылу армии Чуйкова вдоль Волги. Перед нами снова стоит та же задача: хотя бы удержать захваченные позиции».
Когда полковник Нельте, прибывший из отпуска, вошел, чтобы доложить, генерал Мильдер сидел у стола перед картой, похудевший и заметно осунувшийся. Одной рукой он держал у носа платок, а другой — чертил что-то карандашом. Генерал то и дело громко сморкался и подносил к носу стеклянную пробирку, нюхая какой-то белый порошок.
— Не подходите ко мне близко. У меня сильный грипп. Рад вас видеть, полковник. Вы приехали как раз вовремя. На днях мы намечаем такой удар, после которого русским уже не оправиться.
Мильдер был по-прежнему неисправимым оптимистом. «Какой там удар, — подумал Нельте. — Сегодня мне показывали положение нашего корпуса и позиции. Мы зажаты с флангов, на участке моей дивизии вклинились два русских полка, а он мечтает о каком-то ударе».
— У вас, господин полковник, такой вид, будто вы чем-то расстроены.
— Надеюсь, вы хорошо отдохнули в фатерлянде. Вы остались довольны отпуском?
— Берлин меня встретил парадно. — Нельте рассказал о том, что ему довелось видеть в день приезда.
— Значит, на нас надеются. — Генерал снова громко высморкался. — Мы скоро докажем, что оправдали доверие великой империи. Фюрер почти каждый день говорит по прямому проводу с Паулюсом. Мы не подведем нашего непобедимого полководца. Доставайте свою карту, мне надо ввести вас в обстановку. — И как бы между делом сказал: — Черт знает, как мне не повезло. Лишь бы не свалиться совсем до того, как мы захватим, наконец, город. Вам, Нельте, предстоит завтра с утра провести рекогносцировку на своем участке дивизии и доложить, где, по-вашему, лучше нанести удар по русским позициям.
Они расстались. Выходя из подвала, Нельте слышал, как громко сморкался генерал, и думал: «Что это за непреклонный человек. Даже когда болеет, и то думает только о своем долге, о службе».
Утром, на рассвете, полковник Нельте вместе с офицерами штаба лежал на наблюдательном пункте, устроенном в конце балки, и рассматривал дымящиеся развалины зданий, овраги и подходы к русским позициям. Повсюду разбитые машины, танки, орудия и трупы, трупы, еще не убранные с поля боя.
«Куда наносить удар, все равно. А вот сможет ли моя дивизия наступать, когда у нее третья часть состава?» Это озадачило его. Он набросал карандашом на карте свое решение и передал его оформить начальнику штаба для доклада Мильдеру.
Тем же утром Нельте доложил генералу свои соображения и в конце добавил, что вряд ли наступление будет успешным.
Мильдер все так же нюхал противогриппозный порошок и часто сморкался. Услышав, что Нельте сомневается в успехе наступления, он сказал:
— Вам, должно быть, уже известно: я отстранил Баблера за подобные сомнения. Мне нужны командиры с железными нервами, а не хлюпики. Как бы ни была тяжела наша задача, мы ее выполним. И советую вам держать себя, как подобает немецкому офицеру. Идите. Вы сегодня мне не нравитесь, полковник, с вашими упадочническими настроениями.
«Старик железно верен своим прежним надеждам, уверен, что можно свершить что-то великое. Но почему во мне нет прежней уверенности?»
2
Полковник Нельте после неудачной попытки пробиться к Волге пришел к генералу Мильдеру с повинной головой.
— Мы делали все, что было в наших силах, господин генерал. Я положил там не меньше пятисот человек. У меня в дивизии несколько сот раненых. Русские подожгли восемь танков, и четырнадцать стоят подбитые, которые сейчас эвакуируются с поля боя.
Мильдер долго смотрел на него, прищурившись, и вдруг резко ударил кулаком по столу.
— Меня не интересуют ваши похоронные доклады. — Он встал. — Что ж, вы хотите мне доказать, господин полковник, что позиции русских были прикрыты стальной стеной? Или, по-вашему, они сидят в укрепленном районе типа Зигфрид или Мажино? Вы сорвали выполнение задачи, и за это я буду вынужден привлечь вас к ответственности. А чем вы объясните успех двух соседних пехотных полков? Ведь им все же удалось вклиниться. Или, по-вашему, русские отдали им свои позиции без боя? Черт знает что. Я не узнаю вас, полковник. Я выделил лучших пропагандистов на участок наступления вашей дивизии.
«Какой толк в этих крикливых болтунах», — со злобой подумал Нельте. — Писать бумажки и кричать в рупор каждый дурак сможет. Пусть бы они сходили хоть раз в атаку».
Их разговор прервал телефонный звонок. Нельте облегченно вздохнул.
— Да, я сейчас прибуду к вам, господин генерал-полковник. Минут через пятнадцать-двадцать. — Он взглянул на часы и бросил сердитый взгляд на Нельте: О чем, я спрашиваю вас, я сейчас буду докладывать командующему? Что у меня беспомощные командиры? — Его глаза зло сверкнули: — Мне стыдно, полковник, за вас, кавалера «рыцарского креста».
Но к величайшему удивлению Мильдера, Паулюс встретил спокойно, будто в корпусе ничего не произошло, и наступление развивалось вполне нормально. Он стоял, положив руки на карту Сталинграда, и что-то насвистывал. «Чем же объяснить его поведение?» — недоумевал Мильдер.
— Подойдите сюда, к карте, господин генерал. Я прошу без малейшего промедления разработать и представить мне свои соображения. Мой план состоит в следующем: сковать боями главные силы шестьдесят второй армии в районе заводов тракторный и «Баррикады». Они наверняка примут наш маневр за главное направление и стянут свои основные силы. В это время наша разведка будет брошена на поиски слабого участка их обороны. Сейчас, когда нашим войскам удалось частично расчленить армию Чуйкова, они не располагают достаточными силами, а переброска резервов из-за Волги приостановлена активными действиями авиации.
Мильдеру понравился новый план командующего. Он был, по его мнению, оригинален.
— Господин генерал-полковник, идея плана весьма привлекательна. По-моему, это будет... Это даст нам возможность окончательно рассчитаться с последней надеждой русских — задержать нас в Сталинграде.
— Это будет, — перебил его Паулюс, — последней каплей в переполнившейся чаше терпения. Она медленно, но верно склоняется в нашу пользу.
Проводив командиров корпусов и дивизий, Паулюс приказал Шмидту немедленно отправить Гитлеру его личное донесение и план нового наступления. Подписывая донесение, он поправил слово «вклинились» на «разрублена пополам» и дописал: «62-я армия русских не в силах сдержать наш натиск. Она разрублена пополам и не имеет связи между этими двумя группировками. Ее часы предрешены окончательно и бесповоротно».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Майор Миронов получил приказ приступить к исполнению обязанностей командира полка.
Подполковника Грылева по требованию Андросова отозвали в отдел кадров штаба фронта.
В тот же день пришла выписка из приказа по армии о присвоении военного звания лейтенанта Евгению Миронову. И он сразу же, узнав об этом от Ванина, направился к брату.
— Ни одного часа больше не хочу быть мальчишкой на побегушках. Даже у тебя, — заявил он ему категорически.
На петлицы Евгений уже нацепил еще один кубик, и Миронов-старший, еще ничего не зная о его повышении, сказал:
— Ты опять вырядился? (Евгений как-то надел форму брата-капитана, и командиры взводов и рот, не знавшие еще заместителя командира полка, докладывали ему, а он их гонял и отсылал, требуя четкости и уставных докладов). Когда ты, Женька, бросишь эти мальчишеские замашки? Стыдно за тебя. Меня срамишь. И так о тебе в полку слава ходит, что ты не командир, а помощник и первый заместитель по пьянкам и гулянкам Грылева. Нашли время развлекаться. Один старый дурак — тому трын-трава. А ты чего на веселую жизнь клюнул? Не посмотрю, что ты мне брат, отдам приказ и к чертям из полка выгоню, понял? — пригрозил он. — Ну чего, чего ты улыбаешься, думаешь, пугаю?
— Да нет, чего же. Ты теперь в полку хозяин: все можешь.
— Не все, а не терплю, когда нечестно. Заслужил — получай, а сам себя не возвеличивай. Сними кубик и иди. Чтобы я этого никогда не видел. Не то больше ты мне не брат.
— Товарищ майор, — вошел Ванин, — прислали новое пополнение. Распределил, да хочу, чтобы вы еще поглядели. — Он положил бумажку на стол. — Вот списки.
Миронов стал просматривать и наткнулся на фамилию Каменкова. «Не тот ли, что был у нас?» — подумал он.
Ванин стоял и о чем-то говорил с Евгением. Миронов-старший недовольно бросал взгляд в их сторону. «Мальчишка сопливый. Ставит всегда меня в неловкое положение. Вырядился. Сегодня он один кубик нацепил, а завтра в глупом тщеславии и четыре шпалы нацепит, хвастунишка».
— Товарищ старший лейтенант, — сказал он, — по-моему, вы распределили правильно. Но Крузову можно и меньше дать. У него батальон лучше всех укомплектован. У Шульги не хватает пулеметчиков. Всего два пулеметчика — командир и наводчик. Подыщите ему. И бойца Каменкова ко мне пришлите.
— Товарищ майор. У меня к вам просьба, — сказал Ванин. — Давайте на взвод разведки полка вашего брата назначим.
— Здесь, товарищ старший лейтенант, нет братьев, а есть командиры, — оборвал его Миронов-старший. — И давайте об этом говорить только так.
Ванин замялся, смущенный, одернул гимнастерку.
— Да вы меня неправильно поняли. Я не в том смысле.
— А я в том, — твердо сказал Миронов.
— У нас же нет командира разведки. Я знаю, не пришлют его нам. Вот проект приказа. Подпишите. Евгений Николаевич ведь разведчиком был. Чего ему в адъютантах ходить? Лейтенанта ему присвоили, — улыбнулся он.
Миронов-старший встал. «Значит, правда. Чего же я ему выговариваю?» Хотелось подойти и обнять брата, поздравить от души. Но он сдержал себя.
— Без утверждения в дивизии приказа подписывать не буду. Поезжайте, представьте. Утвердят — подпишу. И чтобы без всяких этих «брат-сват». Понятно? Я сейчас в батальон Шульги поеду. Погляжу, как они программные стрельбы выполняют. А где Зайченко?
— Он спозаранку уехал к Крузову.
«Молодец, а я здесь прохлаждаюсь».
Миронов остался один. «Это неплохо, что Женьке присвоили очередное звание, но как у него искоренить эти мальчишеские замашки? Себя срамит, и меня подводит. Эх, Женька, Женька, ну какой ты еще, ну совсем ребенок. — И тут же себе ответил: — А что с него взять в семнадцать лет? Вот он в разведку рвется, а какая у него подготовка для этого? Никакой. То, что он в дивизии Канашова немецкого офицера в плен взял, это еще не все. Это дело случая, а о нашей войсковой разведке и о тактике немцев у него скудные познания. Вот если б учиться его куда послать на разведчика».
Размышления Миронова прервал шум у дверей. Вошел начальник отдела кадров — лейтенант Щукин, а за ним растерянный Кузьма Ерофеевич Каменков с большим мешком, который высовывался из-за плеч.
— Товарищ майор, вот к вам привел из пополнения. Скандалит. Дают ему новый вещмешок, а этот сдать приказывают — не подчиняется. Хоть силой отнимай. «Ведите к самому старшему командиру». Вот привел. — И, наклонившись к Миронову, зашептал: — Мы тут уже двух мародеров выявили. Где-то склад ограбили. Этот тоже, видно, из таких.
— Хорошо, товарищ лейтенант, идите, я поговорю с ним.
Лейтенант, бросив на Каменкова сердитый взгляд, сказал:
— Не хотели добром, как вам приказывали. Получите сейчас десять суток строгой гауптвахты, — и ушел, оставив их вдвоем.
Каменков, переминался с ноги на ногу, виновато поглядывая из-под насупленных бровей
— А что у вас в мешке, товарищ Каменков?
Каменков тяжело вздохнул, недоверчиво поглядел на Миронова и стал развязывать мешок, неторопливо выкладывая на стол содержимое. Достал толстую конторскую книгу в плотном, будто фанера, переплете, обгорелую, с обуглившимся корешком. Миронов удивился:
— Это что у вас за библия? Зачем вы такую пудовую книжицу таскаете?
— Книга эта, я вам скажу, товарищ майор, ежели разобраться, очень даже ценная. В ней налицо весь как есть дебет и кредит нашего колхоза.
— Зачем вам эта бухгалтерия?
Каменков пожал плечами:
— Так-то вроде он мне и ни к чему. Да колхоз-то мой, при нем я состою. Войну кончим, в колхоз надать вертаться? Вместе со счетоводом из нашего колхоза в одном отделении были. Он энту книгу из огня выхватил, когда немец колхозную контору снарядами зажег, и при себе имел. Под Москвой тяжелое ранение получил и помер. А перед смертью наказывал: «Пуще ока береги, Ерофеевич, энту книгу. В ней экономика колхоза нашего расписана до копеечки».
Миронов полистал книгу бухгалтерского учета, исписанную аккуратным почерком, с мурашками цифр, построенными ровными рядами, как войска на параде. В конце книги карман, а в нем листки тетрадные, клочки бумаг с рваными краями — расписки армейские, заверенные воинскими печатями, — должники колхоза: кому чего и сколько выдано из колхозного добра.
Каменков извлек из мешка уздечку с серебряным затейливым набором. Она была старая, с потрескавшейся кожей, и пахла конским потом.
— Подарок от деда. У цыгана он проезжего на курицу выменял. Поглядите, товарищ начальник, антуражная сработка. На добром коне она как украшение на невесте. Оденешь — глаз не оторвешь, красотно. Мне за нее командир конной разведки — лихой кавалерист— коня предлагал. И конь, я вам скажу, товарищ начальник, редкостный. Картина — не конь. Высокий, тонконогий, вороных мастей, а голову лебедем держит. И на ходу он ветер. Старший лейтенант в атаке немецкого офицера срубил, а конь ему достался.
— А чего же вы не сменяли? — с любопытством допытывался Миронов.
Каменков ухмыльнулся, приглаживая рукой усы:
— Увидел, глаза загорелись. Да не положен мне конь. Все одно приглянулся бы какому начальнику, забрал бы. И ни коня, ни уздечки. — Каменков тяжело вздохнул, покрутил усы. — Войну окончим, — сказал он, — я за мою уздечку пару коней-работяг выменяю. Энтот конь-красавец мне ни к чему, а рабочие кони — колхозу подмога.
Кузьма Ерофеевич еще порылся в мешке, достал пачку лотерейных билетов, вывалил на стол десяток ребристых, похожих на черепашек, ручных гранат, круглую печать колхоза, перевязанные бечевкой несколько пар ношеного белья и новое хлопчатобумажное командирское обмундирование.
— У вас тут в мешке целый склад боеприпасов и вещевого имущества. Только вот пулемета не хватает, — сказал, улыбаясь, Миронов.
— Лотереей меня земляк-счетовод одарил, не на тот же свет, говорит, мне ее брать. Человек ты многодетный, для тебя они сгодятся. Сказывал мне, не знает, на какой номер, а точно не то лисопед, не то граммофон он выиграл. Война помешала, не получил, А с кого получать, так и не уразумел я толком. А эти яйца железные, — подбросил Ерофеевич на ладошке и поймал гранату, — я вам скажу, товарищ начальник, в бою толковая штука. Они меня от погибели выручили. Зимой было дело. Прихватили меня немцы, а я в лесу коней начальников стерег. Кругом такое светопреставление. Хватаю полмешка патронов, новенький у меня самострел был.
— Какой такой самострел? Автомат?
— Нет, не автомат. У того диска под пузом и патрончики малюсенькие что желуди. Это я разумею.
— Самозарядная винтовка — «СВТ»?
— Вот, вот. Она самая. У нас ребята такое ей прозвище дали: «сам воюй, товарищ». Зарядил я мою «СВЭТЭ», положил мешок с патронами рядом. Ну, думаю, Ерофеевич, пока припас есть, ни одному фрицу тебя живым не взять. Жму на курок, аж палец хрустит от боли, а она молчит, проклятая. Сызнова заряжаю. Затвором туды-сюды, не стреляет, стерва, хучь плачь. А немцы уже тут недалечко. Гомонят: «Рус, капут, рус, капут». У меня аж в животе похолодело. Как бы не так, думаю, дамся я вам. Один на меня набег, в упор автомат направил, а он молчит. Осечку дал или патроны вышли, не знаю, Я своим «СВЭТЭ», как колом, охрестил его. Он тут же плюхнулся. А немцы гомонят, меня окружают. Кинулся я до коней. Знал, что начальник штаба нашего полка лимонки в седельном кармане держал. Шутник был. Это, говорит, фрукт для немцев вроде анатасы. И давай я эти анатасы в немцев пулять. Кидану, плюхнусь наземь, погляжу, а их будто корова языком слизала. Пока я от них отбивался, наши подоспели. Спасибо, выручили, а то пропал бы ни за понюшку табаку,
— Ну а белье старое вам к чему? Вы же сейчас у нас новое белье и обмундирование получишь.
— За новое, оно, конечно, спасибо, товарищ начальник… А вот старенькое бельишко да новую командирскую форму домой отошлю. Девкам оно все сгодится, У меня их девять душ. Это меня прежний начальник оделил. Душевный был человек. Корки хлеба не съест, глотка воды не выпьет без меня, в том бою немцы убили. Жаль было его, как сына родного. Никогда не думал, что своими руками буду в землю закапывать. — Каменков потер кулаками покрасневшие глаза,
Миронов слушал Каменкова, глядя на него с восхищением и думал: «Вот он, наш горем и нуждой тертый русский мужик. Простой и честный человек, Много ли ему надо? На таких вот Россия держится. А из-за сукиных сынов и таким веры нет. Пришли же к нам с пополнением два подлеца... Один сберкассу ограбил, набил мешок деньгами, а другой санитаром подвязался, с убитых и раненых часы снимал и коронки золотые. К немцам думали перебежать, откупиться. Вот и приказали к пополнению приглядываться внимательнее, подозрительные мешки трясти».
— Давайте, товарищ Каменков, мойтесь и приступайте к службе. Передайте лейтенанту мое приказание: мешок пусть при вас оставит. Скажите, что майор проверил. Государственного добра не обнаружено. После бани идите в штаб, пусть лейтенант оформит вас приказом ко мне, ординарцем. Согласны?
— Я солдат, товарищ начальник. Куды назначат, я готов служить. Мы с вами на Сталинградском воевали. Я вас, как увидал, сразу признал.
Миронов отдал распоряжение Ванину к концу недели закончить укомплектование батальонов прибывшим пополнением, а сам тут же уехал в батальон.
2
В полк Миронова прибывает каждый день новое пополнение, доукомплектовывают подразделения молодыми, крепкими бойцами из сибиряков. В штабе полка полно работы писарям. Своих полковых не хватало, и Ванин распорядился, чтобы для подкрепления прислали по три человека из каждого батальона. Писаря заняли все столы в штабе, вытеснили всех помощников Ванина и связных. Они сидят, скрипят перьями, шуршат бумагами, переговариваются друг с другом. Тут же сидят новый ординарец командира полка Кузьма Ерофеевич Каменков и шофер Василий Сучок.
Каменков встретился с земляком из соседней деревня. В детстве они вместе мальчишками пасли лошадей у помещика. Земляк постарше Каменкова года на два-три. Он учился грамоте еще у попа, а в империалистическую войну, имея красивый и аккуратный почерк, служил писарем.
Новички-писаря из батальонов то и дело обращаются к нему за советом:
— Захар Авдеевич, а что мне с Ивановыми делать? У меня их более десятка набралось, и почти у всех то имя совпадает, то одинаковое отчество. Запутается командир, коль они в одно подразделение попадут.
Захар Авдеевич приглаживает пышные, буденновские усы, снимает очки, улыбаясь, щурится.
— А чего же тут сложного? Они какого года? Какого ВУСа?
— Они еще все безусые. На свой аршин, значит, все меряешь, Авдеевич, — улыбается старший писарь штаба полка сержант Скитов-Неминущий, прозванный за находчивость и острый язык Вездесущим.
— Да не об усах я. Специальность у них какая?
— Специальности-то у них разные. Есть стрелки, пулеметчики, бронебойщики. А вот все почти с одного года.
— Разбрасывай их по ротам, а лишние будут — с другими батальонами обменивай. С одинаковыми фамилиями этими, дружок, издревле еще канитель ведется. В России раньше целые села однофамильцев были. Да и сейчас в городе с ними путаницы хватает. В справочной и то ошибаются.
— Чудаки, будто фамилий нельзя попридумывать разных, — усмехнулся молоденький с чубчиком писарь Анашкин. — А интересно все-таки, Захар Авдеевич, кто фамилии людские выдумывал?
Захар Авдеевич снимает очки, трет лоб, лезет за кисетом и, сворачивая цигарку, закуривает. От табачного дыма усы его у верхней губы желтые, будто кто медом вымазал.
— Из рода в род фамилии вроде по наследству переходили, — говорит он. — А вот некоторые, знаю, сами помещики давали своим крепостным. Особенно разные обидные прозвища. А прозвища с годами, как родимые пятна, фамилией становились. Был у нас в деревне случай такой, мне отец рассказывал. Дал помещик одному кличку Балда. И по сей день в деревне от него потомство Балдов живет. Один из них председателем колхоза был у нас, толковый человек, орден имеет, и никуда не денешься— по фамилии Балда Порфирий Порфирьевич. В царской армии вместе служил с одним Полторабатько, а у другого — ужас, а не фамилия — Могила. Были и такие фамилии, что срам называть, особенно при женщинах.
— Чего только на свете не встречается по части фамилий, — вмешался Каменков. — У нас фининспектор в районе был Хрен.
И стали тут все вспоминать, кому какие в жизни странные фамилии довелось встретить или услышать.
— А в том полку, откель пришел, — добавил Каменков, — у меня командир мой земляк был, по фамилии Еж. А командир взвода боепитания в том же полку, по фамилии Заяц, а у него оружейные техники подобрались, ну ты скажи, чистый зверинец: Медведь, Лев и Волк. И ребята хорошие, а прозвища у всех зверячие.
Бойцы-писаря смеялись. Один из них вспомнил, что у них в сельскохозяйственном техникуме в одной группе учились Гусев, Уткин, Цыпленков и Петухов.
— И у меня, — говорит Большаков, — тоже две птичьих фамилии есть — Птица и Курица.
Сержант Скитов замечает:
— Из курицы такая же птица, как из Васи Сучка — шофер. День ездит, а месяц в ремонте.
Сучок сердито глядит в сторону Скитова.
— А мне довелось встретить целую рыбью династию, — сказал писарь с чубчиком. — В полковой школе учился, так у нас старшина был Сом, а курсанты в роте по фамилии Окунь, Плотвичкин и Щукин.
— Но теперь не то что раньше, — сказал Захар Авдеевич. — Советская власть разрешила людям всякие обидные прозвищные и паскудные фамилии на новые менять. Фамилия — она для человека много значит.
* * *
Приказ из дивизии о подготовке полка к передислокации пришел неожиданно.
Майор Миронов и батальонный комиссар Зайченко с утра уехали по вызову командира дивизии. Они получали окончательные указания, а в полку готовились к отъезду.
Вчера только намечали провести показательные занятия по управлению ротой в наступательном бою и командирские занятия по организации взаимодействия. Ванин собирался всю неделю посвятить штабной тренировке своих помощников — и вот получен, как это нередко случается в армейской жизни, приказ, навсегда похоронивший окончательно все личные и служебные планы и замыслы.
3
День 13 октября 1942 года начался как все рабочие, будничные дни в Генеральном штабе.
Но его начальник — генерал-полковник Василевский, всегда до подчеркнутого безразличия спокойный человек, заметно волновался. Первыми, кто заметил это, были начальники фронтовых направлений. Василевский придирчиво и детально уточнял их данные о положении фронтов за истекшие сутки. И особенно на сталинградском направлении.
Нет, это происходило отнюдь не по случайному совпадению с роковым числом «тринадцать», магически действующим на настроение начальника Генерального штаба.
По донесениям, полученным от командующего Сталинградским фронтом, он знал, что короткое затишье, наступившее с 8 октября после ожесточенных боев 62-й армии в Сталинграде, только кажущаяся идиллия фронтового спокойствия в канун надвигающейся бурной грозы. Кто-кто, а Василевский представлял по последним разведсводкам, что немцы подтянули свои резервы и произвели перегруппировку, нацелив удар на Сталинградский завод, с тем, чтобы здесь разрезать пополам войска 62‑й армии и выйти к Волге.
Знал, правильно оценивал, но не мог предотвратить этого удара, как и Ставка, поскольку ни время, ни те силы, которыми мы располагали, не позволяли организовать надежный заслон. Оставалось надеяться только на самих обороняющихся. Да они не бездействовали и не полагались на помощь «свыше».
Командующий Сталинградским фронтом приказал 62-й армии силами дивизии Жолудева и одним полком Горишного нанести контрудар по западной окраине поселка «СТЗ» с целью сорвать подготовку нового наступления противника. Это было правильно и разумно: заставить врага перейти к активным действиям раньше, чем намечает он сам.
Да это был не только риск, а разумная боевая дерзость. Одной дивизией — против пяти. Из них две танковые. И вот вчера, утром 12 октября, начался дерзкий контрудар частью сил 62-й армии.
Немцы оказывали ожесточенное сопротивление. Весь день дивизия Жолудева атаковала на своем левом фланге и в центре, но продвинулась всего на 300 метров. А соседний полк Горишного и того меньше — на 200 метров.
Гитлеровцы не ожидали удара, но плотность их боевых порядков, нацеленных на решительную схватку, пробить было невозможно. Весь день шли встречные бои с переменным успехом.
А далее что? Дальше как и те, кто наносил контрудар с обозначившимся незначительным успехом, так и начальник Генерального штаба, понимали: в ближайшие дни противник придет в себя после внезапных ударов и сам обрушит на войска 62-й армии в пять раз превосходящий по силе удар. И тогда?! Впрочем, можно, не гадая, ясно представить, что будет тогда. А сейчас вот через несколько минут он должен, как и всегда, в 12 часов дня сделать очередной доклад Верховному Главнокомандующему обо всех изменениях и боевых действиях, происшедших за ночь на советско-германском фронте.
В Кремле, в кабинете Верховного собрались представители Ставки. Неторопливо, молчаливые, какие-то замкнутые в последние дни, они заняли свои места, поглядывая то на Сталина, то на начальника Генерального штаба с тревожным ожиданием.
Василевский, как обычно, спокойным голосом начал доклад. И только по пальцам рук можно было понять, что все же он чем-то взволнован. «Сталин один из первых заметил это. И когда начальник Генштаба стал последовательно докладывать о положении фронтов, начиная с самого северного участка — Карельского фронта и Северного флота, затем перешел к Ленинградскому, Северо-Западному фронту, Сталин, казалось, с безразличием слушающий его доклад, вдруг перебил его:
— Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, и на других фронтах также тихо?
— Исключая Сталинградский и смежные с ним фронты. И кавказское направление.
— Вот-вот, мы и послушаем о них. Остальные окопались, сидят, ждут у моря погоды. Ну и, как всегда, просят у Ставки какой-нибудь помощи.
Василевский сказал, что выписка из сводки о положении на советско-германском фронте готова для каждого участника совещания, и тут же стал подробно докладывать о Сталинграде.
Все заметно оживились, заинтересованно глядели на карту, изредка обменивались мнениями друг с другом.
Сталин на протяжении всего доклада сосредоточенно думал, молчал и курил.
Когда Василевский окончил доклад, он встал и медленно прошелся, заложив руки за спину, будто разминаясь. Но все понимали, что чрезвычайно тяжелая обстановка, сложившаяся в Сталинграде, его серьезно взволновала. Остановившись у карты, где была нанесена обстановка за истекшие сутки на всех фронтах, он несколько минут рассматривал и, обернувшись, чуть приподняв левую бровь, сказал:
— Нам, я думаю, всем хорошо понятно, что там происходит. — И он жестом руки показал в сторону Сталинграда. — А вот командующему фронтом — непонятно. По моим данным, он, вместо того чтобы нацеливать усилия на помощь 62-й армии, занялся не той работой. — Все переглядывались, еще не представляя, чем же занимался командующий фронтом. И Сталин, уловив это недоумение, кивнул генералу инженерных войск. — Доложите, товарищ генерал.
Из доклада стало ясно, что, опасаясь возможного форсирования немцами Волги, командующий продолжает оборудование левого берега, подготавливая его к обороне. При этом привлекает части соединения, направленные для помощи 62-й армии.
— По-моему, — сказал Сталин, — нельзя распыляться и ослаблять и без того слабую оборону 62-й армии. Товарищ Василевский, передайте немедленно распоряжение Ставки и обяжите от ее имени товарища Еременко выехать лично к товарищу Чуйкову. Пусть он там на месте, в войсках, изучит положение и доложит нам, что надо сделать, чтобы оказать на деле помощь армии. Наши позиции в городе надо удержать во что бы то ни стало.
Полмесяца спустя после этого совещания по директиве Ставки был создан Юго-Западный фронт. Генерал Ватутин был переведен с Воронежского фронта и назначен командующим. Членом военного совета прибыл с Донского фронта Желтов. На должности командующих родами войск стали подбирать и направлять опытных командиров — участников войны.
С этого момента и началась практическая работа с войсковым командованием по проведению предстоящих операций непосредственно на местности. Для помощи к этому времени в район Сталинграда снова приехали представители Ставки: Г. К. Жуков, А. М. Василевский и Н. Н. Воронов,
Перед отъездом на фронт Ставка установила ориентировочные сроки начала операций контрнаступления под Сталинградом: 9 ноября — для Юго-Западного (ему отводилась главная роль) и Донского фронтов, и 10 ноября — для Сталинградского фронта.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОНИ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
За Волгой для нас земли нет!
Василий Зайцев
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
С каждым днем становилось все холоднее. По утрам травы были, будто сахарной пудрой, припорошены октябрьской изморозью. Редкие солнечные дни уже не могли прогреть озябшую, потерявшую тепло землю. Нередко сутками моросили мелкие холодные дожди. Все живое в природе готовилось к зиме, к длительному сиу и отдыху.
А люди, казалось, не обращали внимания на времена года и по-прежнему были заняты одним — войной. Они сражались без устали, днем и ночью, непрерывно, ожесточенно, самозабвенно, и каждое новое сражение, бой были похожи чем-то на предыдущие, с той лишь разницей, что и них участвовало больше или меньше людей и тех смертоносных средств, которые они применяли друг против друга.
В Сталинграде в первые недели октября продолжались незатихающие бои с переменным успехом для обеих сторон. И порою казалось, что с каждым новым днем они ослабевают, и вот-вот придет, наконец, спокойный день без единого выстрела, и над городом воцарится долгожданная тишина.
Но все это было только внешним, ошибочным признаком того, что ждал, о чем думал каждый воевавший. Нет, война не устала, не угомонилась и не собиралась на отдых. Скрытые от всеобщего видения, ее злые резервы копились, набирали новую силу, как дремлющий дымящийся вулкан, готовый вот-вот разразиться огнем, грохотом и смертью.
6-я армия Паулюса, ведя отвлекающие бои на всех участках фронта, скрытно перегруппировывалась. Отовсюду, где только можно, стягивались новые пехотные, танковые, инженерные и противотанковые подразделения и части.
Начальник штаба 6-й армии генерал-лейтенант Шмидт, пользуясь неограниченными полномочиями Паулюса в подготовке к решающей наступательной операции на Сталинград, в эти дни октября неистовствовал и был одержим одной целью — стянуть все, что было можно, на узкий участок, намечаемый армией для прорыва. Он, как зарвавшийся карточный игрок, вошел в азарт. То и дело докладывал Паулюсу:
— Господин генерал-полковник, танковая дивизия, сформированная из... — Он перечислял номера многих танковых полков и батальонов, которые удалось ему снять с других участков танкового корпуса генерала Мильдера, — составит теперь мощный клин из пятисот боевых машин. Этим бронированным топором мы сможем не только разрубить чуйковскую армию, но и изрубать ее на куски.
Паулюс, сидевший над картой Сталинграда, не успевал сообразить, куда ему нацелить главный удар, как Шмидт докладывал снова:
— Только что получено сообщение. Из Керчи, Миллерово и самой Германии переброшены к нам транспортными самолетами пять саперных батальонов. Они десантированы на аэродромы. Три батальона уже ждут ваших указаний, в состав каких дивизий они вольются. Два уже находятся на марше. К вечеру будут здесь.
С каждым докладом Шмидта Паулюс заметно оживлялся. У него появилась уверенность: теперь можно выполнить приказ фюрера. Русские не продержатся.
В тот же день Шмидт доложил о прибытии в армию еще двух свежих пехотных дивизий.
Но Паулюс, хотя и был доволен оперативностью своего начальника штаба, вынужден был его сдерживать. К нему посыпались одна за другой жалобы от командиров соединений, находящихся на Дону и в калмыцких степях.
— Господин генерал-полковник, но это же разбой среди белого дня. У меня из дивизии остался один полк, да и то неполного состава. Если русские предпримут даже частную контратаку на моем участке, я вынужден буду сдать свои позиция и спасаться бегством со штабом.
Вечером позвонил ему генерал Мильдер:
— Господин генерал-полковник, я возмущен и буду жаловаться на действия вашего начальника штаба. Нельзя же не считаться со мной как с командиром. Он буквально раздел меня донага и взял танковые подразделения с очень активных участков действий русских. Если они узнают об этом, я не удержу прежних позиций. И ко всему прочему он просто ограбил меня, забрал без разрешения мой резерв — танковый батальон. Это чудовищное самоуправство. Я не могу командовать, ибо не имею в своем распоряжении ничего, кроме собственных кулаков.
Паулюс почувствовал по отрывистому и резкому тону доклада Мильдера, что он взбешен до предела, и, чтобы поддержать авторитет своего начальника штаба и успокоить выведенного из терпения командира корпуса, прервал его:
— Господин генерал, пора бы знать, не Шмидт, а я командую армией. Это мои распоряжения. Я отвечаю за все свои действия перед фюрером и Германией. — Потом он сделал паузу. — Танковый батальон — ваш резерв — будет вам возвращен. Я прикажу Шмидту. — Паулюс позвонил тут же начальнику штаба и приказал вернуть батальон Мильдеру. И добавил: — По-моему, господин генерал-лейтенант, вы слишком увлеклись, выполняя мои приказы. Мы не можем так безрассудно оголять соединения армии, и особенно фланги.
Начальник штаба, выслушав упрек Паулюса в свой адрес, обиделся: «Стараешься изо всех сил и вместо похвалы получаешь пинки. Если бы не моя настойчивость и решительность, он бы сам не сумел взять у своих подчиненных ничего. Они бы, зная мягкотелость командующего, уговорили его, доказали, что не могут дать ему для наступательной операции не только какое либо подразделение, но даже одного солдата».
Тем же вечером Паулюсу позвонил командир авиационного корпуса генерал Фибиг:
— Мои броневые орлы готовы к действию, господин генерал-полковник. Вверенный мне корпус находится в полной боевой готовности. Жду вашего распоряжения. Мы придавим с воздуха, как прессом, русскую армию, сражающуюся в Сталинграде. Только что мне звонил господин рейхсмаршал Геринг. И я заверил, что оправдаем его надежды.
Поздно вечером, когда была закончена подготовка к наступлению, Паулюс вызвал к себе на командный пункт командиров корпусов. Мильдер, омраченный разговором с Паулюсом, сурово и холодно глядел в сторону Шмидта, который стоял рядом с командующим и бросал на Мильдера презрительные взгляды.
«Ничего, — думал Мильдер, — закончим благополучно операцию, я побываю на приеме у барона фон Вейхса и при удобном случае пожалуюсь ему, как этот выскочка-штабник помыкает боевыми, заслуженными командирами». Он знал, что Вейхс недолюбливал Шмидта.
— Господа генералы, — обратился к собравшимся Паулюс, — завтра мы с утра начинаем наше решающее наступление в Сталинграде. Судьба его в ваших руках. Я уверен в благополучном исходе. Мы сделали все зависящее от нас, чтобы удар нашей армии оказался последним и смертельным для русских войск. Фюрер приказал мне завершить сражение в Сталинграде и очистить от противника оставшиеся районы города до праздника большевиков — седьмого ноября. Мы выполним свято приказ фюрера. Хайль Гитлер!
Прощаясь с Мильдером, Паулюс, желая смягчить их натянутые отношения, сказал ему:
— Надеюсь, вы правильно поняли меня, господин генерал! В больших делах нельзя размениваться на мелочи. — Он едва улыбнулся краешком губ. — Остались последние усилия, господин Мильдер, поймите это. И мы будем праздновать нашу трудную, но славную победу. Желаю вам успеха.
2
Утро было ясное, безоблачное. После нескольких непогожих дней с дождями и холодами день обещал быть солнечным, радостным для уставших от войны людей. Так казалось и так хотелось всем, кто дни и ночи сидел в окопах. Но тем погожим утром вулкан войны, тайно набравшийся скрытых активных сил, разразился небывалым до сего времени извержением. 6-я армия Паулюса, закончив подготовку к наступлению в Сталинграде, с утра 14 октября начала боевые действия. Атаки обрушились на узкую прибрежную полосу городских кварталов Сталинграда, идущую от переправы в Ерманском районе до завода «Баррикады», где оборонялись войска 62-й армии. Глубина этой обороны составляла от пятидесяти до восьмисот метров. Паулюс бросил в наступление против истощенных непрерывными боями чуйковских войск около тридцати тысяч солдат пехоты, тысячу танков и пятьсот самолетов. Чтобы представить силу удара, достаточно заняться элементарной арифметикой: на каждый метр обороняемых нашими войсками позиций наступало шесть солдат, на каждые пять метров — один танк, а на каждые десять метров — самолет. А метр в военных измерениях — малая величина — это одиночный окоп бойца.
Надо учесть и другое требование военного искусства. Ни мы, ни противник, готовясь к наступлению, не распределяем свою пехоту, танки и самолеты равномерно по фронту. В направлении главного удара концентрируются основные силы, увеличенные от минимально тройного до десятикратного превосходства.
Этот день — 14 октября — был самым тяжелым из всех дней, какие пришлось пережить защитникам Сталинграда. Неумолимо решался главный вопрос: или немцы сомнут и уничтожат все живое и сопротивляющееся, сбросят редкие разрозненные и обессиленные части в Волгу, или мы выстоим и выдержим этот чудовищной силы удар, а значит, победим.
Около восьми часов утра Бурунов сидел за столом. Он услышал нарастающий гул с запада, и тут же земля задрожала, затряслась от множества взрывов.
Бурунов выскочил из блиндажа, когда над его головой со свистом, заставляющим пригибаться, стали падать, увеличиваясь на глазах, темные каплеобразные авиабомбы. Бурунов кинулся обратно в блиндаж, но зацепился раненой ногой и упал. Неподалеку разорвалась бомба, обсыпала его землей, в ноздри ударил кислый, серный запах взрывчатки. Он вскочил в блиндаж, схватил телефонную трубку и попытался вызвать начальника штаба Бурлакова. Но телефон молчал. К нему вбежал Саранцев, по его лицу текли грязные ручейки пота.
— Немцы ведут артподготовку на нашем участке. Видишь, прихватило меня. — Отряхивался он, вытирая лицо платком. — Почти рядом разорвалась бомба. — Из правого уха его текла кровь. По блиндажу, как град по крыше, глухо стучали осколки, скрипели и разлетались во все стороны бревна накатника, и весь блиндаж трясло, как при землетрясении.
Бурунов вызвал радиста и приказал соединить его с командующим. Он не отвечал. Комдив приказал соединить его с командиром полка Коломыченко.
— Товарищ «сотый», — докладывал Коломыченко, — перед фронтом моего полка вижу до тридцати танков с пехотой. Правый сосед вступил в огневой бой с немцами. Идут, как на параде, во весь рост.
— Где ваши противотанковые батареи?
— Я их в овраге спрятал. Дал команду выдвигаться на прямую наводку.
— Докладывайте непрерывно обо всех изменениях обстановки, товарищ «тридцатый», — потребовал Бурунов. — Я буду на своем наблюдательном.
Комдив потребовал связать его с командующим армией. Вскоре он услышал его грубоватый, будто простуженный голос.
— Жив, «сотый»? А я уже потерял надежду. Докладывай.
Бурунов доложил ему то, что знал из доклада Коломыченко.
— А как остальные полки? Какие о них сведения?
— Никаких, товарищ генерал. Пытаюсь установить связь. Прошу вашего распоряжения дать залп «катюш» по прорвавшимся танкам на участке Коломыченко.
К нему подошел Саранцев. В двери стучали ломы и лопаты.
— Пойдем, кажется, откопали нас.
Они вышли из блиндажа.
Неподалеку от наблюдательного пункта им повстречались два наших бронебойщика. Один из них, небольшого роста, с лукавой усмешкой, отрекомендовался Шашиным, другой, высокий, смуглый, худощавый, — Панковым.
— Ну как дела, хлопцы?— обратился Саранцев.
Шашин неизвестно для чего потрогал затвор противотанкового ружья и, усмехнувшись, сказал:
— А дел-то у нас, товарищ старший батальонный комиссар, пока нет. Безработники. Вон, — кивнул он головой в сторону приближающихся немецких танков, — подойдут поближе — начнем работу.
Он сказал это с таким поразительным спокойствием, что и Саранцев, и Бурунов удивились его хладнокровию.
— А не страшно? Гляди, их сколько, — спросил комиссар.
— Страшно-то оно страшно. Да должность наша такая солдатская. Кто же за нас эту работу делать будет?
Саранцев подумал: «Как люди привыкли к войне. Работой ее называют».
— Оно бы неплохо, товарищ комиссар, — сказал второй, — за такую вредную работу хотя бы лишний котелок каши с мясом давать, а то и положенное вот уж сутки не получаем.
— Ох и здоров ты жрать, Никифор, — сказал Шашин и подтолкнул напарника. — Гляди, а то из нас немцы кашу сделают.
Немецкие танки приближались. Расчет приготовился к бою. Саранцев записал себе на заметку фамилии бронебойщиков.
— Ну, хлопцы, ни пуха вам, ни пера.
Шашин, улыбаясь, подмигнул ему: спасибо, мол, за доброе слово.
— Жаль, что вам не до этих смотрин, а то поглядели бы, как из немцев сейчас будут лететь огненные перья и пух черным дымом.
Бурунов, пока комиссар говорил с бойцами, всматривался в поле боя. Большая часть немецких войск скопилась перед позициями полка Коломыченко. «Значит, здесь они наносят главный удар».
Бурунов и Саранцев заторопились на наблюдательный пункт. Он был выбран удачно. Бурунов хорошо видел почти весь участок полка Коломыченко, в центре, где немцы наносили главный удар, и весь правый фланг другого полка. Участок третьего полка закрывали полуразрушенные здания завода. «С ними надо установить более надежную связь», — подумал комдив. Над головой бесконечно шли вражеские бомбардировщики. «Откуда их столько взялось у немцев сегодня?» Они не давали поднять головы и засыпали бомбами, пикируя на наши позиции с завывающим свистом, от которого все внутри холодело.
— Сдельно, видно, работают, — бросил реплику Саранцев. — Премиальные хотят получить от Гитлера.
Комдив не ошибся. Немцы сделали несколько заходов, нанося удар по полку Коломыченко, а затем, в который раз (на этот вопрос не смог бы дать ответа и сам командир полка), перешли в танковую атаку.
Бурунов приказал начальнику артиллерии дивизии весь огонь сосредоточить по немецким танкам, не дав им прорваться к кургану. Но немцы хоть и медленно, но упорно продвигались вперед. Он видел, что танки вклинились на участке полка Коломыченко. «Если им удастся продвинуться хотя бы еще на сто пятьдесят — двести метров, — подумал Бурунов, — они снова разрежут дивизию и выйдут к Волге».
Этой тревожной мыслью он поделился с Саранцевым.
Их разговор прервал радист. Бурунов взял трубку.
— Товарищ полковник, — докладывал Коломыченко, — немецкие танки и пехота прорвались к моему командному пункту. Прошу дать залп «катюш» по мне. Это моя последняя просьба. Иначе немцы выйдут к Волге. Прощайте, товарищи!
Бурунов стоял несколько минут в нерешительности. Он сказал о просьбе Коломыченко комиссару и тут же обратился к командующему армией. Он тоже помедлил и, прокашлявшись, сказал:
— Приказание дам, но, сам понимаешь, и мне нелегко это сделать. Твой Коломыченко — герой, настоящий коммунист.
Бурунов, чуть не втиснув голову в амбразуру, глядел в сторону задымленных скатов высоты. Там были немецкие танки и большое скопление пехоты. Вдруг нарастающий громоподобный гул послышался за спиной, и огненные мосты пролегли из-за Волги. Высоту охватило пламя и заволокли черные тучи земли и дыма. «Это «катюши». Коломыченко погиб. Погиб». Бурунов снял шапку, за ним Саранцев и бойцы-связисты из группы управления. Они стояли, склонив головы, молчаливо и торжественно отдавая почесть всем тем, кто вместе с командиром полка сражался до последней капли крови и принял на себя огонь «катюш». Траурную минуту прервал вызов. Срочно просил комдива начальник штаба Бурлаков.
— Товарищ полковник, — докладывал он. — Третий полк смят немецкими танками. Немцы захватили заводские здания. Один батальон полка пока продолжает сдерживать. Только что прибыл связной от них, раненый боец, принес донесение. Вас срочно вызывает к себе командующий армией.
— Подготовьте мне карту с последней обстановкой. Виктор Георгиевич, остаешься за меня. Я на командный пункт. Чуйков вызывает.
* * *
Полковник Бурунов, вызванный на командный пункт командующего армией, не ждал для себя ничего хорошего. Он догадывался, что генерал вызывал по поводу захвата немцами нескольких зданий завода. Но что мог сделать он, Бурунов? Третий его полк не отступил ни на шаг, а большинство бойцов и командиров этого полка погибли, защищая до последнего свои позиции.
Пока Бурунов добирался до командного пункта, который размещался в старой, заброшенной штольне в полукилометре от противника на берегу Волги, два бойца из его охраны были убиты, а один автоматчик ранен.
Командующий армией, не отрывая глаз от карты, только кивнул головой в ответ на доклад Бурунова о своем прибытии. Он, как пояснил адъютант, разговаривал с членом военного совета фронта.
Из этого разговора Бурунов понял, что член военного совета фронта интересовался, как можно удержать тракторный завод. Командующий ответил ему:
— Если мы бросим все силы армии на защиту тракторного завода, то это только будет немцам на руку, и завода не удержим, и Сталинград сдадим.
Видно, член военного совета согласился с мнением командующего. Потом он, видимо, спросил, в чем нуждается армия, так как Чуйков сказал:
— Прошу дать, товарищ генерал, побольше боеприпасов, без них армия погибнет и не выполнит задачи. — Поглядывая на Бурунова, командующий докладывал о том, что создались большие трудности в управлении войсками.
«Значит, он хорошо знает обстановку в войсках», — подумал Бурунов. Управлять действительно было очень трудно. Связь беспрерывно рвалась, провода горели, а командные пункты если и имели радиостанции, то и они уничтожались вражеской авиацией и артиллерией. Прощаясь, командующий заверил члена военного совета, что армия задачу выполнит, а сам, все так же поглядывая из-под насупленных бровей на Бурунова, положил трубку и обрушился на него:
— А ну доложи, полковник, как это ты отдал немцам часть заводских зданий на своем правом фланге обороны? Немцы от Волги теперь в одном броске.
Бурунов не мог поднять глаз на командующего. Он знал, что ни третий полк, ни его командир, который сложил голову в этом бою, не виновны в том, что немцы отбили у них несколько зданий завода. Понимал он и то, что вернуть эти позиции нет сил ни у него, ни у командующего.
— Чего же вы молчите? — спросил генерал. — Отдать сумели, а отвечать не можете?
Бурунов с трудом сдерживал себя. Ему было досадно за свою беспомощность, а главное, он не мог согласиться с тем обвинением, которое падало на людей полка. Они почти все погибли. Разве бойцы виновны в том, что противник по их трупам прошел и захватил здания, которые защищали до последнего дыхания, до последней капли крови, пока были живы и могли держать оружие в руках? Уж если кто должен отвечать, так это он, Бурунов. Он часто терял связь с командными пунктами, а с третьим полком ее не было до конца дня. С большими перерывами она поддерживалась только одними связными.
— Товарищ генерал, — хрипло ответил Бурунов, чувствуя, как дрожит его голос. Он прямо смотрел генералу в глаза. — Никто из полка не отступил, и почти все остались там. Погиб и командир полка майор Грайворон. Даже тяжелораненые отказались покинуть позиции, когда я настаивал на эвакуации. Во втором полку, когда немцы прорвались на командный пункт, командир полка Коломыченко вызвал огонь «катюш» на себя. Они сражались честно, по-солдатски и задачу свою выполнили.
Генерал сидел, слушал, подперев голову руками, но в этом месте доклада перебил Бурунова: — Знаю, знаю, полковник! Очень трудно всем нам в эти дни. Враг кидается на нас, как разъяренный зверь. Погибших не виним. Вечная им слава. Но мы не имеем сейчас права отдавать врагу ни одного метра. Держитесь. И ни шагу назад.
У Бурунова выступили на глазах слезы, и он едва сдерживал себя. Генерал был человеком с жестким и твердым характером, с неумолимыми требованиями. Бурунов понимал, что командующего обязывало его положение и та небывалая ответственность, которая легла на его плечи. Но все же он был справедливым, потому что сам здесь, в Сталинграде, был таким же солдатом и находился на передовой, как и все. И это всегда помогало ему почти безошибочно понимать тех, кто сражался под его командованием. Член военного совета армии дивизионный комиссар Гуров молчаливо прислушивался к их разговору.
— А ты думаешь, полковник, нам здесь легче? — спросил Чуйков. — Сегодня, когда в этом пекле было потеряно управление войсками, я обратился к командованию фронта и просил перевести временно некоторые отделы штаба армии за Волгу с условием, что военный совет армии останется здесь, в Сталинграде. И знаешь, что мне ответили, полковник, на это? «Не разрешаем!» Вот оно как.
Дивизионный комиссар погладил бритую голову и добавил:
— И правильно, что не разрешили. И знаешь почему, товарищ Бурунов? Мы беспрерывно получаем тревожные донесения из частей и соединений. И я уверен, что, посылая их, командиры полков и дивизий хотят убедиться, на месте ли командование армии, не ушло ли оно за Волгу.
А если бы мы ушли, это дало бы им моральное право отводить войска в случае вынужденной необходимости. Но мы хорошо знаем, что ни войска, ни мы не имеем права делать ни одного шага назад. Иначе армии грозит гибель, и немцы захватят Сталинград.
Прощаясь с Буруновым, генерал Чуйков сказал:
— Если бы Паулюс сейчас знал наше катастрофическое положение, то ему было бы достаточно бросить всего один свежий батальон для захвата штаба армии со всеми нами. — И, скупо улыбнувшись, добавил: — По-видимому, у Паулюса сейчас нет уже ни одного свежего батальона.
Возвращаясь на командный пункт, Бурунов думал: «Все остальное, что ни случилось бы со мной, какие бы неприятности ни пришлось мне вынести сегодня в бою и во время доклада командующему, — все это сущие пустяки по сравнению с тем, что армия наша все же выстояла против смертельного удара наступающей шестой армии немцев. Выстояла, несмотря на десятикратное превосходство, они не смогли сломить упорство нашей обороны и своей задачи не выполнили.
И главный секрет наших успехов заключается не в «неприступных крепостях», которые мы якобы построили, как болтает об этом геббельсовская пропаганда, а в тех людях, которые защищают Сталинград. Это Коломыченко и Грайворон, Еж и Шашни, Бурлаков и Саранцев, которые сражались сегодня, в самый тяжелый день сталинградской обороны, это те, кто сражался летом на подступах и в самом Сталинграде: Канашов и Миронов, Аленцова и Наташа и многие, многие другие бойцы и командиры — фамилии их не вместит самый объемный алфавитный справочник».
Когда ушел Бурунов, командующий армией и член военного совета долго сидели, совещались между собой. Генерал Чуйков сказал:
— По-моему, Кузьма Акимович, с этого дня мы должны выбросить из своих приказов такие слова, как «отход», «отступление», чтобы никто из наших подчиненных командиров и не подумал, что войска можно отводить на новые позиции.
— А что, Василий Иванович, ты прав! Мы должны просто забыть, что такие слова существуют в военной терминологии. Это придаст еще большую прочность нашей обороне.
Вернувшегося из штаба армии в дивизию Бурунова встретил с радостной вестью начальник штаба Бурлаков. Подполковник Коломыченко не погиб при огневом налете «катюш», а только ранен, но отказался ехать в госпиталь.
На другой день, ранним утром, комиссар Саранцев вошел в блиндаж Бурунова. В руках у него шелестела бумажка.
— Ты обратил внимание, Николай Тарасович, вот на эти слова приказа, полученного из армии: «Сражаться до последней возможности, назад ни шагу!»?
— Да, для меня вчера многое прояснилось после того, как я побывал у командующего армией и члена военного совета.
И Бурунов стал рассказывать комиссару об их разговоре. Сквозь глухие далекие взрывы и трескотню пулеметных очередей до слуха Бурунова доносилась немного грустная, но уверенная песня под гармонь. Где-то пели. Он приоткрыл дверь блиндажа. Один молодой, по-мальчишески звонкий голос выводил мелодию. Он прислушался.
Позади, полна тревоги,
Волга-матушка река,
Дальше нет для нас дороги,
Хоть Россия велика.
— Кто это поет? Совсем где-то близко, — сказал комдив.
— А это наши боевые хлопцы. Я вчера вечером, когда ты был в штабе армии, отдал распоряжение командирам полков, чтобы они легкораненым, особо отличившимся в бою, дали суточный отдых. Пусть люди придут в себя, помоются, отдохнут. Нам же не последний день воевать тут. Одобряешь?
Бурунов кивнул головой, и глаза его посветлели.
— Одобряю, Виктор Георгиевич.
— А песню поют два бронебойщика, Шашин и Панков. Помнишь, вчера, когда шли на наблюдательный пункт и их встретили? Я только что заходил к ним. Они герои. Три танка подбили. Сегодня в дивизионной газете о них заметку даем с фотографией. Ларионов заснял их в момент поединка с немецкими танками. Вот, погляди, — достал он фотокарточку из полевой сумки.
Бурунов сказал:
— Надо Шашина и Панкова к наградам представить.
— Обязательно, — поддержал Саранцев.
— Ты знаешь, Виктор Георгиевич, я после вчерашней встречи с командующим многое продумал. Нельзя нам оставаться пассивными и ждать, когда немцы нам бой навяжут.
— А чем активничать? — тяжело вздохнул Саранцев. — От бывшего полка Гайворона осталась одна треть. А в других и половины нет.
— И все же кое-что можно сделать. Немцы после дневных изнурительных боев сил набираются, а мы не будем давать им отдыха. Минометным огоньком будем их нервы щекотать. А перед рассветом, когда они нас соберутся атаковать, будем упреждать их контратаками.
— А что, мысль дельная, давай испробуем.
— Я уже отдал распоряжение Бурлакову и командирам полков. Они совместно разрабатывают план беспокоящих контратак. Сегодня доложат мне. Поглядим сначала, что у них на бумаге получится, а завтра с утра проверим на практике.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Командующий 6-й немецкой армией генерал-полковник Паулюс уже вторые сутки не в духе, а причин для этого больше чем достаточно.
Можно было подумать, что Вейхс и ставка Гитлера сговорились его мучить беспрерывными звонками, телеграммами, приказами, директивами с одним и тем же надоевшим до оскомины требованием: «Взять Сталинград во что бы то ни стало ко дню большевистского праздника — седьмого ноября — и устроить парад победы». Кто-кто, а он, Паулюс, хорошо знал, что его армия за месяц беспрерывных боев выдохлась окончательно, и резервы истощены до предела. Нет, русскую армию нельзя представлять, не будучи наивным дураком, слабенькой и неспособной не только к сопротивлению, но и к решительным действиям. Он невольно вспомнил бой двух тяжеловесов — боксеров на первенство мира по боксу в 1934 году в Берлине. Паулюс любил этот вид спорта и не пропускал ни одной интересной встречи. Тогда в разгар чемпионата исход командного первенства решался поединком тяжеловесов. Конечно, немцы были предельно уверены в победе земляка. Он остро и уверенно атаковал соперника, нанося ему беспрерывно один за другим мощные удары. Еще один, два таких удара — и противник упадет бездыханным, и судья, подняв руку победителя, объявит о конце поединка. Немец, как машина, работал кулаками. Он был, казалось, неистощим в своей силе и выносливости. Но с каждым новым ударом заметно слабели его атаки, скользили ноги, удары не достигали цели. Противник отражал их все увереннее и увереннее и, умело защищаясь, наносил чувствительные ответные удары, от которых его партнер уходил покачиваясь, слабея, а подчас, не успевая нанести ответного удара, сближался, повисая и тормозя каждое движение соперника. Такая же картина наблюдалась и в действиях 6-й армии. Вчера она только получила несколько таких контрударов от, казалось бы, до предела истощенного противника и была потеснена и потеряла ряд выгодных опорных пунктов. Нет, Паулюс уже не расценивал врага как слабого, разбитого, неспособного к сопротивлению и активным действиям. С каждым днем он все больше убеждался в том, что бой ведут почти равные и мощные гиганты, ни один из них не сдаст без жестокого боя своих позиций. И те недальновидные полководческие иллюзии скорой победы, которые еще питали Вейхс и в особенности ставка, он не только не разделял — они просто раздражали его. А бесконечные звонки приводили в ярость. И, чтобы избавиться от надоевших ему звонков, он объявил себя больным и официально переложил командование и переговоры с высокопоставленными лицами на начальника штаба — Шмидта. Он знал, что честолюбивый, с карьеристскими замашками Шмидт польщен его доверием и будет лезть из кожи вон, чтобы выслужиться перед командованием. Ну что может сделать он, Паулюс, когда его армия — некогда исполин, силач — измотана, растратила запас былой энергии. Ей нужен отдых, отдых и еще раз отдых или хотя бы передышка. В нее надо вливать новое добротное питание — свежие боеспособные дивизии, новую технику. Отдельные, даже удачные удары не свалят этого русского гиганта в Волгу, как это казалось прежде. Через него не перешагнешь, пока он стоит, не уступая ни пяди, без точных и сокрушительных ударов.
И хотя Шмидт состряпал хитрую сводку, где оправдал все неудачи последних дней боев, явно преувеличивая силы контратакующих русских войск, и обосновал их успехи новыми танковыми пополнениями, Паулюс не верил этим данным, сознательно уклоняясь их подписывать. Правда, его неверие было нарушено личным докладом генерала Мильдера. (Мильдеру он верил больше, чем своему начальнику штаба.) Он уверял Паулюса, что русские действительно потеснили его дивизию на ряде участков танками, но сколько их было, он не мог доложить точно. Одни командиры сообщили, что их было более двух десятков, другие — до пятидесяти. Мильдер объяснил это тем, что атака проходила в тумане. Точно установить число русских танков было не так-то просто. Паулюс слушал его доклад, сомневался, в какой-то мере верил ему и снова сомневался. И для этого были свои причины. «Если русская армия имела столько танков, то почему она ограничила свое наступление в пределах первой позиции? Почему она несколько улучшила свое положение, но не пошла дальше? Нет, тут что-то не то. По-видимому, русские не располагают, как и мы, достаточными силами и резервами». Так объяснил он сам себе происшедшее наступление 62-й армии на ряде участков. Усталый, малоподвижный, с задумчивым лицом, он, попрощавшись с Мильдером одним кивком головы, сказал ему:
— Мы еще сразимся с русскими и постараемся доказать им преимущество немецкого военного искусства. У меня еще есть одна заманчивая идея. Если мне удастся ее осуществить, мы наверняка выиграем эту многомесячную битву. Об этом вы узнаете, генерал, в самое ближайшее время.
В голосе его чувствовалась какая-то тайная надежда.
По вечерам Паулюс выходил из душного, пахнущего сыростью подземелья, и, прохаживаясь, останавливался, глядел на восток, вдыхал холодящий, свежий воздух через широкие ноздри, будто принюхивался к первым осенним заморозкам, стараясь, как волк, учуять желаемую, но недоступную добычу.
Наступило заметное похолодание. Как-то вечером к нему привели местного жителя, бывшего кулака, который сбежал из лагеря и пристроился работать бакенщиком. Он подробно рассказал Паулюсу о режиме Волги, о том, что скоро по воде пойдет шуга — ледяное сало, которое затем перейдет в сильный ледоход.
В такое время, обычно в начале ноября, связь водным путем через Волгу прекращается. Паулюс сидел, внимательно слушал бакенщика, завернувшись в теплый плед, и изредка отхлебывал маленькими глотками кофе с коньяком.
У него зрел новый, ему казалось, реальный план: как окончательно разделаться с войсками 62-й армии и остатки ее сбросить во время ледохода в Волгу. «Я стяну сюда все мои дивизии, всю артиллерию, брошу авиацию и завершу это трудное сражение. Мой противник не сможет противостоять этому таранному натиску. У него не будет связи с тылом. Для него я приготовлю два, нас устраивающих выхода. На нас будет работать природа, климат и те реальные преимущества в силах, которыми мы располагаем».
* * *
После посещения Паулюса Мильдер приехал к себе в штаб корпуса с радостным чувством скорых перемен к лучшему. Командующий не случайно намекал на то, что в армии ожидаются изменения. «По-видимому, к нам идет новое подкрепление. Мой корпус теперь, наверно, пополнят танками и артиллерией. Армейский интендант обещал, что завтра мы получим зимнее обмундирование. Это не то, что было в прошлом году. Кое-чему научила нас русская зима».
Но не успел Мильдер, войдя к себе в блиндаж, снять шинель, как адъютант доложил ему, что приехал полковник Нельте и просит его принять по очень срочному и важному делу. Мильдеру не особенно был приятен визит Нельте по многим причинам. Во-первых, он сильно в нем разочаровался и злился за его прежние панические настроения, во-вторых, он намеревался побыть сам с собой наедине, поразмыслить над тем, что же вокруг происходит, и, в-третьих, он порядком проголодался. Но в сложившейся обстановке ничего не оставалось делать, как вопреки желаниям и настроениям принять своего подчиненного. Нельте вошел к нему хмурый, озабоченный. Верхняя его губа вздрагивала,
— Господин генерал, разведка корпуса вас обманула, — сказал он скороговоркой. — Русские не имели столько танков, как вам доложили. На участке моего соседа, где они атаковали и захватили трехэтажное здание, у них был всего один танк.
— Что? Один танк, полковник? — Мильдер вскочил и вышел из-за стола. Он подошел к ному вплотную. — Вы, господин полковник, заблуждаетесь. Откуда у вас такие сведения?
— Нет, господин генерал, я не заблуждаюсь. Один танк, и то не русский, а наш легкий танк атаковал наши позиции. Они захватили его у нас.
— Да вы что, полковник? Вы больны? А откуда же столько шума? Я слышал сам своими ушами. По крайней мере, их было не менее десяти.
— Это, господин генерал, русские нас снова провели. Они пустили тягачи, которые маневрировали перед нашими позициями ранним утром, воспользовавшись туманом. Их было пять. Все это нам сообщил пленный, захваченный на участке моей дивизии.
Мильдер пристально глядел на Нельте, то щурился, то закусывал губу, сверлил его холодными, злыми глазами. Его обуял приступ ярости, лицо его почернело.
— Негодяй Беккер. Негодяй. Он опозорил меня и честь нашего корпуса. — И сам тут же с ужасом подумал: «А что, если об этом узнает начальник штаба армии Шмидт? Мне несдобровать. Да и перед Паулюсом я буду выглядеть дурачком, которого обводят, как хотят, подчиненные. Что же делать? Паулюс донесет командующему группой Вейхсу, а он сообщит эти сведения в ставку».
Мильдер весь содрогнулся при мысли, что будет с ним, если об этом узнает высшее командование. Тело его бессильно расслабло, руки безвольно опустились. Он сел, опустив голову. Нельте глядел на него и не узнавал прежнего Мильдера. Ему стало его почему-то жалко. «Может быть, напрасно я доложил ему об обмане разведчиков? Все равно уже нельзя что-либо изменить. И ничего нельзя исправить. Нет, но почему же поздно? А что, если я попрошу генерала разрешить мне атаковать русских? У них нет резервов задержать нашу внезапную атаку. Мы сможем возвратить потерянные позиции. И тем самым поправим свои дела и восстановим свой боевой авторитет в глазах командования».
Мильдер почувствовал, что Нельте понял его растерянность и, возможно, начнет ему сочувствовать, попытается советовать, а то и просто будет в душе радоваться тому, что наконец-то за долгие годы совместной службы увидел слабость своего начальника, слывшего непоколебимым, не теряющимся, казалось, в самых безвыходных обстоятельствах. Он крайним напряжением воли сосредоточил взгляд на фамильном перстне с гербовой эмблемой щита с перекрещивающимися мечами — это всегда помогало ему, когда он старался собраться с мыслями и хотел взять себя в руки. Он быстро встал. Теперь это был тот же Мильдер, которого знали долгие годы его подчиненные. Спокойно-сосредоточенный, тяжелый, властный взгляд, тонкие, будто поджатые, губы, морщинки, от уголков рта скобочками сходящиеся на подбородке.
— Этой подлости я никогда не прощу Беккеру. Если бы мне было известно все это чуть пораньше, я расстрелял бы его, не задумываясь. Но я думаю, что еще не поздно, и не хуже меня это сделает военно-полевой суд. Я благодарен вам, полковник Нельте. Ваше отношение сегодня к службе меня радует. Собственно, я узнаю в вас прежнего Нельте, а не того, что вернулся из отпуска.
«А генерал все же затаил на меня обиду, — подумал Нельте. — Может, я напрасно с ним тогда был излишне откровенным? Он по-прежнему живет иллюзиями доброго прошлого армии, когда она уверенно шла только вперед, и не пилит, что и армия не та, и даже ее офицеры не те. Беккер — первый пример тому».
— Господин генерал, я пришел доложить вам не только о возмутительном обмане Беккера. Я — солдат и буду выполнять свой долг, пока ношу мундир великой германской армии. Но я уверен, что нам можно исправить нашу ошибку По данным моей разведки, наступающие русские войска на моем участке выдохлись. Захватив трехэтажное здание и ряд дзотов на нашем переднем крае, они более суток не проявляют никакой активности,
— Вы надеетесь, что они не предпримут нового наступления? — спросил Мильдер, просматривая лежавшую перед ним карту. — Но из штаба армии мне сообщили, что русское командование перебрасывает на свои позиции новые резервы, — Он помедлил, постучал карандашом по столу. — Не менее двух дивизий. Отдельные части сосредоточены на левом берегу — восточнее острова Спорный, — Генерал снова ткнул карандашом в карту. — Пока намерения противника нам неизвестны, но мы должны быть готовы к тому, что они могут нас атаковать. Наш поединок не окончен. И опять русские предлагают нам этот остров Спорный и спорный вопрос: кто кого одолеет, мы их или они нас?
Нельте сделал решительный жест рукой:
— Вот нам и надо. Вернее, разрешите мне воспользоваться этой короткой паузой. Я хочу контратаковать на своем участке сегодня вечером.
Губы Мильдера дрогнули, едва обозначилась улыбка:
— Что ж, полковник, попытайте счастья. — Я не возражаю.
И тут же сам подумал: «Если Нельте удастся захватить хотя бы одну траншею, дзот и даже несколько огневых позиций и на десять-двадцать метров потеснить русских, это спасет мой престиж командира, да и ложные сведения Беккера о больших танковых силах русских уже не будут играть того значения. Все же мы действуем. И пусть даже маленький успех оставляет за нами право победителей».
Нельте ушел, и тотчас Мильдер вызвал Беккера.
— Вы подлец и негодяй, — крикнул он, не давая ему доложить о своем прибытии. — Мне стало известно, что данные о русских танках ложь. Вы трус и паникер, и вам служить не в разведке, а чистить навоз в конюшне. Впрочем, сейчас я не доверю вам и этого.
Вытянутое бледное лицо Беккера было похоже на гипсовый слепок. Но, выслушав с виду спокойно все обвинения в свой адрес, он вдруг прорвался:
— Господин генерал, господин генерал, но у меня документы из дивизий. Я был во время боя в штабе полковника Нельте, и начальник разведки дивизии подтвердил, и артиллеристы тоже подтвердили.
Мильдер перебил его, сделав резкий жест рукой:
— Хватит морочить мне голову! Я не ребенок. Я не желаю слушать ваших оправданий. Вы подвели меня, корпус. Опозорили честь мундира великой армии. Приказываю вам сдать личное оружие дежурному по штабу. И передаю дело в военно-полевой суд. Идите, господин Беккер.
Беккер покачнулся, сделал движение, будто хотел подойти к генералу, но тут же быстро повернулся кругом и вышел.
Мильдер подошел к сейфу, достал бутылку, коньяку, онемевшими, непослушными пальцами открыл пробку и плеснул в рюмку. И тут же за дверью раздался выстрел. Бутылка выскользнула из рук, зазвенела разбитая посуда, и ручеек янтарной змейкой прополз по карте, в нос ударил знакомый запах спирта и дубовой коры. Мильдер машинально схватился за пистолет. В двери показался адъютант.
— Господин, генерал, Беккер застрелился.
— Черт с ним. Туда ему и дорога, мерзавцу. Принесите мне коньяку. Поручите дежурному офицеру составить акт о самоубийстве. Это лучшее, из того, что он, мог сделать и на что он еще, к счастью своему, оказался способен.
2
Немецкое командование, как и генерал Мильдер, было недалеко от истины, когда получило данные от разведчиков о свежих войсках, появившихся на левом берегу Волги и, по их предположению готовящихся к новому наступлению. Но немцы имели явно преувеличенные данные. Не две дивизии, а одна по решению командования фронта передавалась 62-й армии.
За ночь на 27 октября удалось переправить всего два батальона, а остальные во избежание напрасных жертв были отведены снова за Ахтубу.
И хотя по приказу Паулюса на свежие силы, переправившиеся в заводской район, обрушилась немецкая авиация и непрерывно в течение дня сбрасывала тонные бомбы, а затем начались атаки пехоты и более трех десятков танков, батальоны устояли. Они отбили все три атаки и, потесненные превосходящими силами противника, закрепились в трехстах метрах от Волги.
62-я армия была истощена до предела. Подсчет сил уже вёлся не десятками тысяч, не тысячами и не сотнями людей, составляющими подразделения. На учете был каждый солдат не только на переднем крае, но и в ближайших тылах. Немцы с неистощимой настойчивостью рвались в атаки, несли большие потери, но не добились заметных успехов, а право навязывать свою волю противнику оставалось в руках русских. Они маневрировали, наносили неожиданные удары, парализуя действия врага, заставляя постоянно сомневаться, придет ли этих боях к ним удача завтра, удержат ли они то, что отбили с таким трудом и жертвами сегодня.
Командующий 62-й армией понимал, что нельзя выиграть сражение пассивной, выжидательной тактикой, нельзя зависеть от действий врага. Поэтому он требовал от своих командиров и войск проявлять активность. Все знали, что иначе нельзя. Надо держать врага в постоянном напряжении. И они добивались маленьких побед на своих участках. И вот поэтому им удалось более двух недель удерживать узкие прибрежные позиции, глубина которых не превышала сто-двести метров.
Бурунов, ходивший все эти последние дни октября хмурый, озабоченный, сегодня заметно повеселел. А для плохого настроения было также немало причин. Во-первых, немцам удалось снова захватить дзоты, которые отбила у них штурмовая группа сержанта Куралесина. Хотя она подбила два немецких танка, но и сам командир был ранен. Во-вторых, ему крепко попало от командующего за оставленные позиции. А главное, здесь немцам удалось прорваться к реке. В это время наступило значительное похолодание, и связь с левым берегом почти прекратилась.
По Волге поплыла шуга. Приближался осенний ледоход.
В землянку Бурунова пришел Саранцев. Раскрасневшийся от мороза, он протянул комдиву большой сверток:
— Получай, Николай Тарасович, зимние подарки. Наши хозяйственники хорошо позаботились. Ушанки, валенки, теплое белье, стеганки, рукавички меховые привезли.
Бурунов сдержанно улыбался:
— Как же это они ухитрились? Авиация помогла? По Волге не пробиться. Говорил с командующим. С боеприпасами у нас туго.
— На бронекатерах, представь себе, пробились.
— А боеприпасов ни ящика?
— Боеприпасов, кажется, нет.
Бурунов тут же позвонил своему заместителю по тылу:
— Василий Семенович, когда будут боеприпасы? Я же говорил вам. Это же для нас что воздух. Что-что? Снова обмундирование зимнее и продовольствие? Да они что, с ума сошли? Нет, это черт знает что. Ты подумай, Виктор Георгиевич, установочку дал армейский интендант: «Харч в обороне — основное».
— Надо немедленно вмешаться и прекратить это безобразие. Поговори с командующим, а я сам съезжу к члену военного совета Гурову, он им устроит головомойку. Но пока что решится, предлагаю свой план. Выделяем своих снабженцев. В каждой роте, каждом батальоне найдутся рыбаки, моряки. Создадим из них транспортный флот дивизии. Сделаем несколько плотов и лодок и отправим их за снарядами на склады армии за Волгу. Конечно, дело рискованное. Но без боеприпасов смерть. Коммунистов подберем, хороших ребят.
Бурунов сидел, задумавшись, потом встал и согласился:
— Давай рискнем, комиссар! На бога надейся, а сам не плошай.
Их разговор перебил подполковник Коломыченко. Он тут же с порога выпалил:
— Боеприпасов ни ящика, товарищ полковник! И людей негусто. Когда же придет к нам обещанное пополнение?
— Пополнение, — тяжело вздохнул Бурунов. — Оно бы, конечно, не мешало его получить. Там вон немцы до Волги пробили «коридор».
— Ну а как сосед? Восстановил позиции? — спросил Саранцев.
— Восстановил.
— То-то я слышу, севернее целый день грохочет. Думал — немцы, а это наши, — заулыбался Саранцев. — Это хорошо. Пусть знают нашу армию, сталинградскую.
— Новосельскую улицу заняли, — склонился над картой Бурунов. Все сгрудились у стола. — И на заводе «Красный Октябрь» отбили у немцев три цеха: мартеновский, калибровочный и сортовой.
— Сильная дивизия, видать, прибыла. Здорово поперли.
— Знаменитая дивизия, — подтвердил Бурунов. — Имени Николая Щорса. У нее полки именные: Богунский, Таращанский и Донской.
— Да, товарищи, это большая наша предпраздничная победа. Через неделю четверть века Советской власти отмечать будем, — сказал Саранцев. — Представляю, как там Гитлер из кожи вон лезет, чтобы испортить нам праздник.
— Парад наверно, будет, — сказал Коломыченко, — на Красной площади в Москве. Вот бы поглядеть. Люблю военные парады.
— Сталин выступит перед войсками, — сказал Саранцев, — и торжественное собрание будет. Перед войной, в сороковом, я был на таком собрании. Сталина слушал.
— Посчастливилось вам, Виктор Георгиевич. А мне ни разу не приходилось Сталина видеть, — с сожалением сказал Коломыченко. — Как думаете, скажет он что-нибудь о положении в Сталинграде?
— Обязательно. Я уверен в этом, — сказал Бурунов. — Быть нам именинниками.
— Оно бы неплохо к тому празднику немцев погнать от Волги, — сказал мечтательно Коломыченко. — Как, товарищ полковник, по-вашему, не готовит фрицам такой подарок Сталин?
— Вполне возможно, — подтвердил Бурунов. — Вот замерзнет Волга, глядишь, подбросят и на наш фронт дивизий.
— Да, — поддержал разговор Саранцев, — судя по всему, события назревают. Это затишье не случайное. Быть буре. В самом деле, Николай Тарасович, как думаешь, почему нам не дают пополнения? Не верю, что нет у нас свежих сил. Берегут, наверно, для большого наступления. Ожидают, когда немцы окончательно выдохнутся.
— Они уже, по-моему, и так на последнем, издыхании, — сказал Бурунов. — Да ты сравни, как они полмесяца назад бешено перли на всех участках. А теперь, как и мы, наскребут по мелочи резервишек и если наступают, так на куцем, одном участке.
— Да-да, военная машина у немцев уже не та, — подтвердил Коломыченко, — Последнее время заметно забуксовала.
— Погоди еще маленько. Вот зима настоящая ударит. Они еще не так забуксуют в наших степях, — сказал Бурунов.
— Разрешите, товарищ полковник, мне идти в полк! Вот посидели, помечтали — и на душе легче. Пойду своих солдат подбодрю. Не знаю почему, но я, товарищ полковник, уверен, что лучше моих хлопцев нигде нет. Железные ребята
Саранцев и Бурунов переглянулись, улыбаясь.
— Эго хорошо, Михаил Дмитриевич, что ты людей своих так высоко ценишь, — сказал Саранцев. — Вот и мы с Николаем Тарасовичем такого же мнения о своей дивизии. Нам тоже кажется — нет ее лучше.
— А если бы можно было задать такой вопрос Чуйкову? — сказал Бурунов. — Как дума ешь, Виктор Георгиевич, что бы он ответил?
— Наверняка, что лучших дивизий, чем в его армии на Сталинградском фронте, нет.
— Будет день — рискну, спрошу у генерала, — пообещал Бурунов.
3
С рассвета до полудня дивизия Бурунова отбила несколько атак немецкой пехоты с танками. И когда затихли яростные схватки, и до слуха доносились лишь редкие орудийные выстрелы да отдельные автоматные очереди, комдив, стоявший у амбразуры наблюдательного пункта, положил голову на бруствер и тут же заснул. Положение дивизии с каждым днем, начиная с 14 октября, ухудшалось. За десять дней упорных боев немцы не раз, казалось, были близки к намеченной цели. А на участке полка Коломыченко им удалось прорваться к Волге, и только ценой больших потерь их снова оттеснили. Но недалеко. Всего лишь на пятьдесят метров.
И в других полках было не лучше. Самое большое расстояние — триста метров — было в стыке двух полков, на правом фланге. В основном же передний край проходил в двухстах метрах от берега. За это время немцы разрезали армию на две части, захватили Сталинградский тракторный завод, но все же уничтожить северную группу и главные силы армий не сумели.
Бурунова разбудил басистый говор майора Короля. Он открыл глаза, поглядел вперед. Тишина. Земля впереди покрыта трупами, черными громадами сожженных танков, разбитыми орудиями.
— Ты чего там басишь, майор? Сводку о потерях послали в штаб?
— Давно уже, товарищ полковник. Не только послали, но и кое-что хорошее получили. Вот, глядите. — Он протянул ему бумагу. То был приказ командующего армией.
«Ввиду того что немцы за последнее время стали реже проводить ночные атаки, в которых они понесли значительные потери, но не добились заметных результатов, они изменили свою наступательную тактику. По данным нашей разведки, немцы используют ночное время для приведения своих сил в порядок, отдыха и подготовки к дневным боям. Приказываю командирам (дальше шли номера дивизий, в том числе и Бурунова) использовать этот выгодный момент. Надо срывать плановую подготовку немцев к наступлению, не давать им покоя, держать в постоянном напряжении. Для выполнения этих задач привлекать специально подготовленные штурмовые группы, производить внезапные огневые налеты артиллерии и минометов. Для усиления ночных действий частей и соединений будет привлечена армейская артиллерия, гвардейские минометы и легкие бомбардировщики По-2. Командирам соединений в течение двух суток разработать план ночных действий штурмовых групп, подготовить их и доложить мне».
Бурунов прочел приказ и задумался. Подпись командарма. «Значит, все же я был прав в оценке ограниченных возможностей немцев».
— Товарищ майор, срочно вызовите ко мне подполковника Коломыченко и разыщите Саранцева, он, кажется, уехал в левофланговый полк. И сами со всеми разведданными через полчаса ко мне.
Бурунов развернул карту и стал прикидывать, откуда можно взять и какие подразделения чем усилить. Да, было над чем поломать голову. Каждый человек, орудие, пулемет были на строгом учете. Все это можно было пересчитать по пальцам. «Коломыченко поручу формирование, обучение и тренировку ночных штурмовых групп, — решил он. — Упрямый, требовательный и с богатым опытом командир. Король подготовит данные разведки о противнике. Сегодня к вечеру надо бы доложить обо всем командующему. Удастся ли? — Бурунов поглядел на часы: четырнадцать часов, — только бы немцы не помешали, не перешли снова в атаку». Вошли Саранцев, Коломыченко, Король и доложили, а за ними появился Ларионов.
— У тебя нюх, редактор, — сказал комдив, — Кстати пришел, присаживайся, дивизии поставлена новая задача.
Бурунов коротко изложил приказ командующего.
— Так вот, товарищи, настало время нам переходить к активным действиям. Сейчас сила наша в том, что, стойко обороняясь, мы должны непрерывно наступать. Да, да, не удивляйтесь, товарищи, я не оговорился — наступать в меру своих сил и возможностей. — Ларионов тут же записал что-то в блокнот. — Такое наступление мы можем организовать и подготовить только небольшими штурмовыми группами: шесть-восемь, не более десяти человек. Их надо усилить пулеметами, минометами, орудиями и саперами. Неплохо бы иметь и танки, да где их возьмешь?
Коломыченко почесал затылок, у губ его проскользнула улыбка:
— Разрешите, товарищ полковник? У меня найдутся танки.
Все обернулись, поглядывая на Коломыченко. «Шутит или насмехается?» Все знали, что в дивизии нет ни одного танка. Бурунов с досады поморщился:
— Я серьезно, товарищ подполковник, а вы?
— Вполне серьезно! У меня в овражке стоят два немецких, легких. Горючего нет, а так машины исправные. Механик-водитель лазил в танк, докладывал: все в порядке.
— И на левом фланге дивизии, говорят, огнеметный немецкий подбит. Гусеница, — сказал майор Король,
— Ну, если мы сумеем их вытащить на свои позиции, тогда это мощь, — сказал Саранцев. — Разреши, Николай Тарасович, я это дело организую? Подберу смельчаков.
— Вам, подполковник Коломыченко, приказываю создать две штурмовые группы из подразделений своего полка. Желательно из состава одного подразделения. Штурмовая группа должна состоять из атакующей группы, группы закрепления и резерва. Кого вы можете рекомендовать?
— Роту старшего сержанта Шашина.
Ларионов усмехнулся:
— В роте-то всего два десятка наберется. И один баптист.
Коломыченко косо поглядел на Ларионова,
— Это тот, что ты на воспитание взял?— усмехнулся Саранцев.
— Он самый. Но с ним еще долго провозишься. Он для такого важного задания не подойдет.
Бурунов сидел, подперев голову руками: «Два десятка людей. Маловато. А где их больше взять?»
Связной передал трубку комдиву.
— Слушаю, товарищ генерал. Подготовку начал. Да, да. Прикидываем. Завтра утром доложу. Тороплюсь. Две будут. Три надо? Но с «единичками» плохо, бедновато. Службы? Да какие там у меня резервы. А за совет спасибо, товарищ генерал. Обязательно. Да, да. Всего доброго.
— Командующий правильно советует. Поглядеть в медицинском батальоне. Может, наберем еще из выздоравливающих.
Бурунов тут же позвонил начальнику штаба и отдал распоряжение.
— Вам надо, — сказал Саранцев, обращаясь к Ларионову, — выпустить несколько номеров о действиях штурмовых групп. Используйте «Памятку Чуйкова. Это наши первые опыты ночного штурма. А уметь штурмовать обязан каждый взвод, каждое отделение, каждый боец.
— Верно, — подтвердил Бурунов. — Опыт лучших бойцов и штурмовых групп надо пропагандировать. Коммунисты и комсомольцы должны быть в этом деле запевалами.
* * *
В полночь пришел Коломыченко, усталый, запыленный, и тяжело плюхнулся на самодельную табуретку так, что она под ним рухнула, и сам он свалился на пол.
— Тяжеловат ты что-то стал, Михаил Дмитриевич, не держит тебя наша фронтовая мебель. Садись поближе к столу, — пригласил Бурунов и приказал Игорю принести ужин и чай.
— Дома отужинаю, спасибо, товарищ полковник, — отряхиваясь, он достал карту. — Разрешите доложить план действий штурмовых?
— Докладывай, докладывай. А от ужина зря отказываешься. Пустое брюхо к делам глухо.
Коломыченко тер лоб ладонью и водил карандашом по карте.
— Здесь, на трехэтажку, наступает группа лейтенанта Ежа. Главный удар наносит с юго-востока, а демонстрируют его с севера. Группа старшего сержанта Шашина без артподготовки за пять минут броском преодолевает «нейтралку», пользуясь канализационной трубой. Часть группы, забросав гранатами ход сообщения, атакует с тыла. И когда завяжется бой, и немцы отвлекутся, наносит главный удар со стороны оврага на дзот. Группа сержанта Куралесина выйдет берегом на участок соседа справа и через заводские развалины пройдет до бывшей водонапорки. По ней открывают огонь наши минометы. И как только закончится налет, врываются и закрепляются в развалинах водонапорной башни. — Коломыченко вытер платком взмокший лоб. — Вот и все.
Ординарец принес ужин. Сели за стол. Молчали. Каждый сосредоточенно думал, медленно пережевывая.
Позвонил командующий. Бурунов доложил ему, что подготовка штурмовых групп закончена. Пришел Ларионов и положил на стол еще влажный, пахнувший типографской краской номер дивизионной газеты. Аншлагом через всю полосу был написан призыв: «Сила нашей обороны в упорстве и активности. Обороняясь, мы должны непрерывно контратаковать».
Бурунов кивнул головой:
— Правильно. Очень правильно вы поняли нашу задачу, Ларионов! Газета должна быть у каждого бойца. А главное — за нами, — обратился он к Коломыченко. — Завтра увидим, на что наши штурмовики способны.
* * *
Получив задачу, лейтенант Еж прикинул по времени, сколько ему надо для изучения объекта атаки. К полудню он установил, что гарнизон дома небольшой — человек пятнадцать. У немцев четыре легких и один станковый пулемет. Завтракают немцы между восемью — девятью часами. Гарнизон поддерживает минометная батарея. Обо всем этом он доложил командиру полка, нанес все разведданные на карту. Его сведения совпадали с теми, что были у помощника начальника штаба по разведке, который дополнительно сообщил, что с южной части дома, из дзота, гарнизон прикрывает фланкирующий пулемет, а с восточной стороны заминированы подступы.
В три часа дня Коломыченко доложил Бурунову о том, что штурмовые группы полностью укомплектованы, провели тренировочные атаки, каждый боец знает свою задачу, а командиры групп закончили разработку планов атаки своих объектов. Бурунов пригласил к себе командиров и посвятил их в общий план действий, по которому предусматривались с наступлением темноты, между девятью и двенадцатью, вылеты По-2 и бомбежка артиллерийских позиций врага и ближних тылов. В промежутках между вылетами, когда самолеты заправляются, огневые налеты производят гвардейские минометы и наша артиллерия. С двенадцати ночи и до рассвета, около пяти часов, артиллерия и минометы периодически обстреливают, держат в напряжении врага и мешают ему в подготовке к дневным действиям. А утром три штурмовые группы переходят в атаку. Причем группа Шашина и Куралесина с предварительным огневым налетом артиллерии по дзотам, а группа лейтенанта Ежа без артиллерийской подготовки.
Бурунов доложил подробно план действий штурмовых групп дивизии командующему армией. Тот одобрил, но порекомендовал начать атаку не утром, а на рассвете.
4
Последние минуты перед рассветом тянулись томительно. Небо плотно заволокло тяжелыми черными тучами, и, может, поэтому с трудом пробивался рассвет.
Тишина. Такая редкая, непривычная тишина в Сталинграде, что от нее можно оглохнуть. Лейтенант Еж скрупулезно осматривал каждого бойца. Сейчас главная задача — не спугнуть противника, подойти как можно ближе к его позициям.
И вдруг эту пугливую тишину раннего утра нарушил тонкий голосок ребенка из ближних развалин дома:
— Ма-а-а-ма! Ма-а-а-ма!
Все замерли. Бойцы настороженно подняли головы.
— Ма-а-а-ма! Ма-а-а-ма! — тянул, будто вырывал из груди сердце, детский голосок. Он звал, просил, захлебываясь в бессилии и в слезах, самого близкого и родного человека, который есть у каждого рожденного на земле.
«Что же это могло быть? Откуда там взялся ребенок? Где его мать? Или немцы какую подлость придумали?»
Лейтенант Еж сжал кулаки, будто собрался биться на кулачки, и нахмурился: «Вот тебе и внезапность. Пропало все к черту: подготовка планы. Но при чем же здесь ребенок?» К Ежу подошел заместитель сержант Шванков:
— Что будем делать, товарищ лейтенант?
— Надо спасать ребенка.
— Но как?
Рядом с ними стоял Владыко. Его передали на воспитание Ежу, а он, зная его трусливый характер, решил держать при себе связным, подносчиком боеприпасов: все на глазах будет.
— Разрешите мне, товарищ лейтенант?
Разорвись здесь граната, Еж не вздрогнул бы, как от этих спокойных, с дрожью в голосе слов Владыко.
— Я постараюсь найти ребенка.
Он стоял растерянный, часто моргал, в короткой, выше колен, шинелишке, похожей на юбочку, без оружия.
— Как же без оружия-то? — кивнул Еж в сторону немцев. — А вдруг засада там? Схватят.
Владыко помотал головой.
— Разрешите?
— Валяй, — согласился Еж.
И когда Владыко собрался бежать, сержант Шванков схватил его за борт шинели и сунул две гранаты Ф-1 — «черепашки», как их называли бойцы.
— Боевое задание, чертова ты кукла. К немцам идешь. Они не сделают скидки на то, что ты божий человек, баптист.
А среди развалин зданий, пустых, сожженных коробок метался зовущий, жалобный детский голосок:
— Ма-а-а-ма! Ма-а-а-ма!
Владыко бежал какими-то замысловатыми скачками. Он будто прыгал из стороны в сторону, то скрываясь, то снова показываясь. Но его, видно, заметил немецкий дежурный наблюдатель. Из окна четвертого этажа ударяла хлесткая, звонкая очередь. Все увидели, как Владыко ткнулся в землю лицом и замер.
— Убит, — пронесся глуховатый ропот по рядам бойцов.
Еж смотрел в бинокль.
— Не шевелится. Убили. — Еж хотел уже послать другого бойца, и увидел, как медленно, неуверенно пополз Владыко.
Земля пахнет холодом осенних цветов, сыростью и горьковатой кирпичной пылью. Владыко полз вдоль основания разрушенной стены, с короткими остановками, вытирал рукавом щиплющий глаза, едкий, соленый пот. Изредка он ухмылялся своему открытию и в душе был благодарен за солдатскую науку лейтенанту. Он даже страшился этих слов «мертвое пространство». В военном деле это означало место, недоступное для огня противника. И ему было радостно думать, что это «мертвое пространство» уберегает его от пуль немцев.
Владыко разглядывал каждый разбитый дом, кучу битого кирпича и камня, каждый бугорок, каждый камень. Все они для него подозрительны.
Немец снова оживился. Хлесткая очередь подняла рядом с Владыко несколько фонтанчиков из песка и пыли. Смерть будто предупреждала его: «Уходи, пока не поздно». Но Владыко полз. В ушах у него звенит молящий, пискливый, хрупкий голосок ребенка.
— Ма-а-а-ма! Ма-а-а-ма!
Теперь он уже различал надрывное всхлипывание. Во рту сухо. Страшно, а что, если там немцы в засаде? Владыко лег на бок, ощупал ребристые, холодные, лимонообразные гранаты. «А что толку? Я не умею с ними обращаться». Впервые пожалел, что не учился, отказывался.
Еж не отрывал глаз от бинокля. Пулеметчикам, прикрывающим Владыко, на всякий случай он подал рукой сигнал: «Приготовиться».
Владыко дополз. В развалинах среди битого кирпича лежала лицом вниз женщина. Растрепавшиеся волосы закрыли лицо. На спине старенького, вылинявшего пиджака рваные дыры от пуль. «Будь он проклят на веки веков, тот неизвестный убийца, рука которого поднялась на эту ни в чем не повинную женщину-мать. Что он думал, когда стрелял в нее, беззащитную? Неужели у этого садиста-убийцы тоже есть мать?»
Владыко вскочил от этих рвущих сердце мыслей и, не укрываясь, бросился в подвал. Когда Владыко выбежал оттуда с ребенком, обнимавшим его за шею, ему навстречу из за угла кинулся немец.
У Ежа аж сердце похолодело, и он чуть было не крикнул: «Огонь», но стрелять было нельзя. Можно поразить обоих.
Владыко вынул лимонку и бросил в немца. Фашист шмыгнул снова за угол, а он, прижимая к груди ребенка, бежал к позициям штурмовой группы.
Его окружили бойцы, смотрели восхищенными глазами, будто он спас сейчас от смерти их родное дитя, а он гладил прижавшегося к нему лохматого, чумазого мальчугана, и на глазах его блестели слезы.
Лейтенант Еж подошел к нему, обнял:
— Хороший ты человек, Владыко. Настоящий солдат из тебя получится. Перевяжите ему руку.
И тут только все заметили, что из рукава шинели медленно капает кровь, а у плеча рваная дыра.
Приближался рассвет. «Пора начинать». Волга дохнула зябким холодком, и степной заволжский ветерок на позиции натянул туман.
Лейтенант Еж подал долгожданную команду: «Вперед!». И будто пятнистые ящерицы, в маскхалатах, поползли вперед разведчики и саперы, а бойцы атакующей группы по одному исчезали в норе. Труднее приходилось артиллеристам. Маленькая с виду пушчонка-«сорокапятка», а в ней более полутора тонн. И снаряды — что не ящик — пуд. Но артиллеристы — смышленый народ. Лямки пристроили, по паре с каждой стороны, запряглись по-бурлацки и тянут. А чтобы не гремели станины, обвязали тряпьем. Рядом с одним из орудий шел, пригибаясь, лейтенант Еж.
— Туман нам что бог в помощь, да как бы не сбиться с направления. Тут, как говорят, делай то, что враг почитает за невозможное.
Он шел торопливо, делал короткие остановки, прислушивался. Вот слева забарабанила автоматная очередь. Немцы ли обнаружили, или часовой для успокоения на всякий случай дал. И вскоре справа и слева над головой проносится свистящий поток. И вот раскололи предрассветную тишину первые громыхающие близкие взрывы. Еж и его бойцы знают: наш артналет обозначал для них сигнал сосредоточиваться на исходной позиции для броска в атаку. Сейчас группа закрепления поднимет шум и стрельбу слева. Это — ложная атака на здание с юга, а наступающая группа одним броском должна ворваться с востока в дом. Еж поторапливал артиллеристов. Они уже подготовили орудия к бою. Их задача: как только обнаружится любая огневая точка врага, подавить ее с первых выстрелов прямой наводкой. Слева поднялась стрельба. «Начали», — догадался Еж и поднял группу в атаку. И тотчас же рядом с ним ударила тяжелая очередь из крупнокалиберного. Ёж упал и сполз в воронку. Артиллеристы выжидают. Туман мешает им увидеть, откуда стрелял крупнокалиберный. Еж помогает им. Он дал короткую очередь и отполз в сторону. Немец тут же послал ответную. И не успел он замолкнуть, как загремел звонкий, оглушающий выстрел «сорокапятки», и еще спустя минуту-две — второй. Вражеский пулемет замолк. Наши бойцы бросились в атаку. Слышно, как с хрустом лопаются гранаты, осколки, как град, колотят стену дома, и сразу одновременно несколько взрывов потрясают воздух. И тут из дома в ответ бьют хлесткие автоматные очереди немцев. Лейтенант Еж подполз уже близко. Видна стена дома. Проломы окон и входы замурованы. «Значит, в лоб их не возьмешь, — сообразил Еж. — Поглядим с севера». И передал команду атакующим по цепи обходить здание справа. Он посылает саперов проделать проходы в минных полях. Пять-десять минут — и мины обезврежены. Теперь путь свободен. Группа атакующих ворвалась справа вместе с Ежом. «Надо очищать подвал». Летят гранаты и глухо рвутся в подвале. Подбежали отставшие бойцы. Стена в подвале проломана на всю ширину здания. «Чтобы проникнуть во вторую половину подвала, надо спуститься в первую, а она простреливается немцами из глубины», — решил Еж. И снова неожиданность: немцы замуровали все проходы в здание, оставив лишь лазы к огневым позициям через подвал. Как туда проберешься? А дом, оказывается, разделен пополам глухой стеной, а за стеной — противник. «Вот тебе изучение объекта, — думает Еж. — Кто мог предположить, что немцы подбросят нам здесь такие неожиданные сюрпризы?» Но раздумывать некогда. Немцы почувствовали, что произошла заминка, и усилили огонь. Еж быстро сообразил, что делать дальше. Он послал связного к минометчикам и приказал бить по второй половине здания, отгороженного глухой стеной. Крыши-то нет. Немцам там не усидеть. Обязательно уйдут в подвал. Он вызвал группу закрепления и приказал ей кирками и взрывчаткой проделать проломы в замурованных стенах и проемах окон. Здание обложили со всех сторон, а ход сообщения в тыл подорвали. А чтобы немцы не подбросили подкрепление, выдвинули вперед танк.
Туман с наступлением рассвета стал рассеиваться, видимость улучшилась. Справа и слева от здания шла ожесточенная перестрелка. Это вели бой штурмовые группы Шашина и Куралесина. Немцы начали артиллерийский обстрел соседей. По зданию они стрелять не решались — там свой гарнизон. И это было выгодно группе Ежа, Через полчаса бойцам, прокладывающим себе путь гранатами, удалось загнать немцев в подвал и очистить все здание. Двух раненых пленных отослали в штаб Коломыченко. Оттуда прибыли боеприпасы и термос с горячим супом. Лейтенант Ёж подбадривал бойцов: «Давай, давай, хлопцы, еще один удар, и домик наш! Закрепимся, а тогда и новоселье устроим. Старшина не поскупился и по двести граммов нам отпустил за гвардейскую работу. Для победы первое дело — воевать умело».
Но проникнуть в подвал не удавалось. Немцы отчаянно сопротивлялись. Гранаты, которые забрасывали в пробоину, немцы выкидывали обратно. Еж позвал бойца, немного владеющего немецким языком, и предложил остаткам гарнизона сдаться. Стрельба временно прекратилась, но вскоре опять завязалась с прежней силой. Немцы бросали связки гранат, надеясь пробиться к западной части стены. Лейтенант Еж еще раз предложил им сдаться, но немцы отказались и, забросав проход гранатами, кинулись в контратаку. Она была сорвана дружным автоматным огнем с трех сторон. Немцы снова скрылись в подвале и стали оттуда швырять гранаты. Тогда Еж приказал саперам подложить под стену подвала тол и подорвать. Иного выхода не было. К тому же с западной части здания усилился пулеметный огонь, и была сделана попытка перейти в контратаку, отбить которую помог танк. Но и у него снаряды на исходе.
В шесть часов утра лейтенант Еж послал донесение Коломыченко: «Задание выполнено. Здание захвачено. Закрепляемся. Боеприпасы кончаются. Танковая контратака немцев отбита. Сожжены три немецких танка. Наш танк подбит противником. Остатки вражеского гарнизона в подвале отказались сдаться в плен и были нами подорваны».
Тем же утром немецкое радио сообщило, что русская армия предприняла большое наступление с танками, в результате чего им удалось потеснить немецкие части на некоторых участках.
Бурунов, Саранцев и Коломыченко сидели за картой, когда радист полка включил им это сообщение.
— У страха глаза велики, — сказал Саранцев. — Они два своих легких танка и наши тягачи за целый танковый батальон, приняли.
— Это они перед своим высшим командованием оправдываются, — усмехнулся Бурунов, — Если бы они знали наши скудные силенки, уверяю вас, тут же бросили бы против нас все резервы. Но мы им ночной артиллерийской и авиационной симфонией нагнали страха, вот они и паникуют.
Позвонил командующий армией:
— Молодцы твои хлопцы. Надо продержаться еще. — Он сделал паузу — Хотя бы еще двое суток. Считай, день-то мы у немцев уже выиграли.
— Постараемся, товарищ генерал! Народ-то мой ожил, уверовал в свои силы.
— Читал я тут вашу «дивизионку». Хорошая газета. Герои у вас есть. Надо награждать людей. Подумай и присылай списки.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
На фронте нет ничего хуже и томительней, чем неизвестность. И большого воинского начальника, отвечающего за сотни тысяч людей, и каждого солдата, отвечающего только за себя, заедает эта неизвестность, как обжившаяся расплодившаяся вошь. Чем бы ты ни занимался, что бы ни делал, а мысль, как стрелка компаса, поворачивается к одному и тому же больному, как заноза, вопросу: «Что же впереди, когда и какой получим приказ?» Когда он приходит, все вздыхают с облегчением. Потому что приказ для воина — жизнь, действие, а ожидание — душу холодящая мертвечина и беспросветная тоска.
Майор Миронов, как и все, кто находился в эшелоне, был подавлен этой гнетущей неизвестностью. «Почему мы, долгие месяцы готовясь к наступлению, вдруг погрузились в эшелон и едем на восток? Не на парад же готовились». Новой техники пришло столько, что за всю войну никто не видывал. Танковые бригады, корпуса с пахнущими свежей краской «тридцатьчетверками» и КВ, а в их дивизию и в полки сколько новой артиллерии и минометов дали! Да и пополнение бойцов отборное. Сибиряки. Народ весь молодой, крепкий, кряжистый. Старше тридцати пяти нет. Хоть на слово верь, а не веришь — по документам проверяй, а не сыщешь, Да что тридцать пять? Таких «стариков» больше в службах да в хозяйственных подразделениях найдешь, а в боевых — разве только командиры встречаются, а бойцы все лет двадцати, редко кому четверть века от роду. И что там думают высшие начальники, кто ответит на этот мучительный для всех вопрос? Не на отдых же везут — воевать, а вот куда, на какой фронт? Никто этого не знает: ни солдат, ни сам комдив. Приказ короткий и туманный: «Погрузиться в эшелоны и следовать до станции Иловлинская». Там ждет новый приказ, а куда направят дивизию, никто не знает. И все же есть в этом таинственном какая-то особая, интригующая каждого сила — ожидание чего-то большого. «Наташа, Наташа, если бы ты сейчас знала, как грустно у меня на душе и что бы я мог отдать за то, чтобы ты была рядом со мной, может быть, в последний раз. Впереди бой, а в бою все бывает. Кто поручится за то, что для любого из нас этот бой не будет последним?» Миронов встал и с силой сжал пальцы в кулак так, что захрустели суставы. «Хватит нагонять тоску заупокойную. Хорошо, что сейчас меня никто не видит». Он достал папиросу, быстро прикурил и подошел к стене, снял гитару.
И чтобы развеять нахлынувшую грусть, энергично, залихватски ударил по струнам плясовые цыганские переборы. И сразу, как степным ветром, освежило и будто развеяло мрачную нависшую тучу и на синем до боли в глазах небе выплеснулось солнце, а ноги сами по себе заходили, притопывая, увлеченные веселым порывом, отбивая такты под перестук колес.
Вот она, музыка! И что она только делает с человеком? Так пройдет по всему телу, будто электрический ток. Встряхнет тебя так, что каждая жилка в тебе затрепещет, оживет, и все в тебе просит жизни, света, тепла, любви, и так встрепенется сердце, будто птица, почуяв перед полетом упругость крыльев. Взмахнул бы руками и улетел в бесконечную даль, откуда все видно, где так легко и просторно, где привольно дышится. Там, под животворными лучами солнца, тепло и так ясно вокруг, что глядел, век глядел бы в прозрачный, как стекло, воздух, голубовато-дымчатый вдали, и ни о чем не думал, кроме жизни, — вот единственное, что надо любить и беречь. О, какое это большое, настоящее счастье — быть полезным людям!
2
Полк Миронова выгрузился ночью на станции Калач-Воронежский. Там же, на станции, он получил пакет от комдива, в котором указывался маршрут движения в район сосредоточения. Просматривая красную змейку на карте, Миронов так и не мог представить, куда же направят полк воевать? Если судить по полученному в приказе маршруту, то на Воронежский фронт. Заветная мечта снова попасть на Сталинградский фронт не сбылась. «Но что поделаешь? Желания военных редко сбываются».
Октябрьские осенние ночи стояли холодные, темные. Но для выполнения задачи пора была, пожалуй, самая благоприятная. Бойцы не так скоро устают, лучше переносят длительные переходы, да и враг не сможет изнурять людей своими бесконечными налетами и бомбежками.
Майор Миронов ехал на лошади в голове колонны основных сил полка. Вместе с ним находился и начальник штаба Ванин. Из густой и плотной тьмы до них доносилось гудение автомашин, тарахтение повозок, сливающиеся с приглушенным топотом походных колонн. Миронов не случайно сейчас выбрал для себя это место — впереди. Надо было строго выдерживать заданное направление. А в такое темное время легко сбиться. Кроме дорог, которые указаны на карте, в степи к осени появляется много новых. Сколько за лето протоптали их местные жители, да и войска, следующие к фронту. Через каждые тридцать-сорок минут к Миронову приходили очередные донесения от разведки полка и из авангардного батальона. Они подтверждали: полк выдерживает график движения и следует по установленному для него маршруту. Миронов подумал: «Надо бы поглядеть, как совершают переход тыловые подразделения. Не отстают ли? И заодно навестить комиссара». Он находился в арьергарде. Миронов осветил фонарем карту, просмотрел новый отрезок пути и обратился к Ванину:
— Километров через пять начнется самый сложный и запутанный участок. Как бы нам не сбиться. Поезжай в первый батальон и веди до переправы. До рассвета надо переправиться через Дон. Кстати, почему-то запаздывают донесения о подготовке переправочных средств. Может, ничего не готово?
Ванин думал о том же. Мысли о переправе волновали и его, но, не желая показаться беспечным перед командиром полка, он возразил:
— Не может быть, товарищ майор! На переправу я давно выслал полкового инженера. Они на машинах.
— А если не успеют?
— Должны. Надо на всякий случай подготовить распоряжение командирам батальонов о готовности переправляться на подручных.
— На нашем берегу у Дона, — сказал Ванин, — есть леса. Там можно переждать до ночи, а полку сделать большой привал.
— Дневку устроить неплохо, — согласился Миронов. — Люди бы передохнули, привели себя в порядок. Да надо разрешение комдива получить. А вот артиллерию нашу необходимо дотянуть до правого берега во что бы то ни стало. Там она пробудет до вечера, а затем присоединится к полку.
Ванин получил распоряжение от Миронова и ускакал, а вскоре пришло донесение от полкового инженера: «Переправа на понтонах будет готова через три часа. Мобилизовал у местных рыбаков двадцать лодок».
«Молодец, — подумал Миронов, — тогда успеем». И тут же отправил донесение комдиву.
За четыре ночных марша полк Миронова добрался до указанного дивизии района сосредоточения. В последнюю ночь он сменил ранее оборонявшиеся на этом участке наши подразделения и занял их позиции.
Трудно было поверить, что такое большое количество людей, техники так быстро и незаметно разместится по траншеям, окопам, займет огневые позиции, подготовит новые и закопается в землю за одну ночь, ничем не нарушив обычные фронтовые будни прежней обороны.
Комдив позвонил, похвалил: «Молодцы, быстро заняли новые квартиры. Не тесно?» — «Добавляем, где тесная жилплощадь», — ответил Миронов. «Завтра тебе полдня на благоустройство, майор, прими участок по акту, ознакомься с обороной противника, с местностью и к тринадцати часам — ко мне на доклад».-
Миронов, скучавший все эти дни в эшелоне и на марше по настоящей командирской работе, поднял бывшего хозяина обороны — капитана — на рассвете.
— Эка вам не спится, майор, — говорил он, протирая кулаками сонные глаза. — А вот мне за три месяца, что тут торчим, все надоело до оскомины. Пойдемте на мой ближний наблюдательный. Там все хорошо видно.
Идти по узкому, в пояс глубиной, ходу сообщения было не слишком удобно. «Чего это они не сделали его как следует? Ленились, или капитан мало пользовался этим наблюдательным», — думал Миронов. Добрались они, порядком намаявшись.
— Давайте отдохнем, перекурим, — сказал капитан, утирая рукавом взмокший лоб. — Сколько ни говорил начштабу, так и не выполнили приказ. Не ход сообщения, а бороздка, хоть ужом по нему ползай. Да у нас тут последнее время полная тишина. Будто передышку война сделала. Днем еще мы их пугаем. Шарахнем из миномета, из автоматов потрещим, а ночью спокойствие. Они спят и мы тоже. Месяца два назад буйствовали здесь немцы. А сменили их румыны и вроде перемирие наступило. — Он поднялся, протянул в амбразуру руку. — Вон на ту высотку — она на левом фланге полка господствует и на карте обозначена 200.0, — так в день по семь-восемь атак предпринимал немец. А потом выдохся. Сменили их румыны и в первые дни захватили высоту, мы снова отбили. Так немцы, рассказывал пленный румын, за это их на голодный паек посадили Двести граммов хлеба и кукурузной похлебки по черпаку на нос. И условия им поставили: пока не возьмете высоты, сидите голодные. Вот они, союзнички. Ну а румыны сидели, сидели на этих харчах и с голодухи к нам побежали, в плен сдаваться. Немцы, видя, что дела плохи, выставили свои пулеметные охранные посты. Как увидят, кто из румын к нам, бьют по перебежчикам.
— Ну и что ж, не стали перебегать? — спросил Миронов.
— Какой там! Теперь ночью переходят. «Юнкерсы» он много раз пускал на ту высоту, а не отдали. Держите и вы ее покрепче, пригодится. Я на ней все хотел свой наблюдательный сделать. С нее весь передний край как на ладони.
Пока они беседовали, к ним подошел Ванин. Миронов познакомил их. Ванин положил перед собой карту и стал наносить все данные, о которых говорил капитан.
— Вон у оврага они понатыкали много мин сюрпризных. И всю ночь овраг освещают. Боятся, чтобы наши разведчики не просочились.
Пока капитан знакомил их со своим участком, Миронов стоял, смотрел на эту «знаменитую» высоту с отметкой «двести», густо заросшую бурьяном, на овраги, перерезающие наши и вражеские позиции, и думал: «А может, совсем скоро, через несколько недель, месяц, нам придется помериться силами на этой земле? Вот и надо как можно больше знать о противнике, его слабые места».
— Надо, — сказал он, обращаясь к Ванину, — вызвать сюда наших разведчиков, полкового инженера, а я пойду готовиться к докладу комдиву. Принесете мне все данные и акты о смене.
Трудно ночью на незнакомой местности, изрезанной балками и оврагами, отыскать одинокий блиндаж комдива, который ничем не отличается от сотни других. Миронов недоумевал: «Неделю назад, хорошо помню, был здесь. Или перешел куда комдив?»
— Значит, долго разыскивал? — спрашивает полковник Андросов. — Вот что значит маскировка, — с нескрываемой радостью обратился он к своему начальнику штаба подполковнику Выгловскому. — Ну ладно, садись, отдыхай. Ты еще скоро меня отыскал. А вот твои орлы из батальона Крузова неделю свой батальон не могли найти, хорошо, пленный румынский солдат дорогу им показал. — В блиндаже все смеются. — Ты за Крузовым смотри! Чудаковатый он у тебя. Наблюдательный пункт выбрал на самом пупке высоты. Два дня румыны по нему из минометов колошматят. Вроде солидный пожилой мужчина, а ведет себя, как мальчишка.
«Опять мне этот Крузов. Там горя хватил с ним, когда полк готовил, и на фронте снова: не успел прибыть — отличился, замечание от комдива», — думал Миронов.
— Как у тебя дела с подготовкой? Идут?
— Изучаем противника, в землю зарываемся. Что нам еще делать? Сегодня вечером два перебежчика пришли. Румыны.
— Скоро, скоро работа будет, — сказал задумчиво Андросов. — Не на отдых приехали.
Миронову очень хотелось спросить комдива: «А когда же будем наступать?»
— Завтра буду у тебя в полку. Погляжу, как живете, — сказал комдив.
3
С утра, после почти недельных заморозков, вдруг повеял южный ветер, и пришла внезапная оттепель.
Машина натужно завывала, петляя по разбитой дороге. В ней ехали два генерала — командующий танковой армией Кипоренко и заместитель командира танкового корпуса Канашов.
— Успели вовремя проскочить вы с танками, — сказал Кипоренко. — Просто не верится, будто с богом связь держали, от него узнали об оттепели. А вот как мне с другим корпусом быть, ум за разум заходит. Техника у тебя в порядке? — спросил он Канашова.
— Вся в порядке, Иван Кузьмич. (В который раз он задает этот вопрос. Будто не верит). Вчера только сам объезжал, проверял. Бензовозы, правда, наши застряли. Но я надеюсь, зима скоро потеснит оттепель.
— Да-a, для нашей тяжелой техники сейчас весна ни к чему.
Генерал Кипоренко, томясь в ожидании прибывающих артиллерийских частей резерва Главного командования и еще одного танкового корпуса, решил проехать в переданную ему вчера Юго-Западным фронтом стрелковую дивизию полковника Андросова, побывать на переднем крае.
— Чует мое сердце: тебя, как исконного пехотинца, тянет поглядеть на матушку-пехоту? — спросил он Канашова.
— Не откажусь, товарищ генерал!
Вот они и поехали к Андросову вдвоем. Но не только знакомство с новой стрелковой дивизией было целью посещения ее Кипоренко. Командующий фронтом генерал-полковник Ватутин в беседе с ним дал понять, что надо быть готовым к наступлению. Ну а раз так, то Кипоренко хорошо знал, что прорывать для его танков оборону будут стрелковые соединения. Ему хотелось поделиться своими мыслями с Канашовым. Но его предупредили: никому ни слова, строго хранить тайну.
Канашов чувствовал по тону разговора, что командарм что-то скрывает от него важное. Он видел, что Кипоренко был в приподнятом настроении, но положение младшего по званию не позволяло ему даже при самых добрых товарищеских отношениях задавать какие-либо вопросы.
Петляя долго по раскисшим вязким дорогам, они, наконец, добрались до штаба дивизии.
— Ну что ж, полковник, веди нас, знакомь со своим хозяйством.
Андросов, высокий, сухощавый, с острыми чертами лица, выглядел до удивления спокойным. Лицо полковника показалось Канашову знакомым. «Где это я его встречал?» — подумал он, припоминая. Андросов тоже иногда задерживал взгляд на Канашове: «Неужели это тот майор, которого я знал на войне в Финляндии? Какой солидный! И в звании-то как шагнул! Закончим дела с начальством, непременно спрошу».
Комдив хотел было познакомить командующего, представив ему штаб дивизии и его работников, но Кипоренко возразил:
— Штаб от нас не уйдет, полковник! Давайте везите нас на передний, в батальоны.
Но в это время вбежал капитан — оперативный дежурный. Он замешкался, увидев большое начальство.
— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к полковнику? — Кипоренко кивнул. — Товарищ полковник, в землянке оперативного отделения кто-то выключил все телефоны. А мне надо срочно доложить.
Кипоренко заинтересовался:
— Как же это так? Оперативное отделение, мозг штаба, и без связи.
Андросов и на этот раз спокойно ответил:
— Это мы, товарищ, генерал, умышленно. По инициативе начальника штаба. Он работает с картой. Данные мне готовит. С ним помощники. Так вот, чтобы никто не мешал ему, добровольно посадили их под замок. Они и особую таблицу скрытного управления войсками разрабатывают. К ним, кроме меня и комиссара, никого часовой не пускает.
— Ну что ж, в этом есть свой резон. — Он подмигнул Канашову. — Оно и нам не мешает их опытом воспользоваться. Как думаешь, Михаил Алексеевич?
— Хорошему учиться всегда пригодится, — ответил Канашов.
По пути к передовому наблюдательному пункту комдива почти в стыке двух полков, в траншеях, Кипоренко разговорился с бойцами.
Ну как, товарищи, настроение? Не надоело в окопах сидеть?
— Ох, как надоело!
— Да вы же здесь только вторую неделю
— Да мы, товарищ генерал, три месяца в тылу болтались.
— Те же траншеи и окопы, только что без противника впереди.
— Оно бы не мешало по фрицам ударить, — сказал молодой боец. — Там, в Сталинграде кровью исходят, а мы чего-то ждем.
— Ну, на это приказ будет, коль решат, что надо ударить, — Кипоренко весело улыбнулся. — Сил, наверно, еще не поднакопили для большого удара.
Он говорил, а сам думал: «Наивно думают некоторые наши командиры, что боец неспособен оценивать обстановку и положение дел на фронте. Он особым солдатским чутьем примечает все, что вокруг происходит. Раз накапливают боеприпасы на огневых позициях — это неспроста. Появились большие начальники на переднем крае — значит, ожидай вскоре важных событий».
Пожилой сержант — командир отделения, видать, побывавший в боях, осмелел и подошел ближе к Кипоренко.
— Разрешите, товарищ генерал?
— Пожалуйста.
— А нельзя ли нам фрицев в «клещи» взять?
— Это как же в «клещи»?
— А так. Нам с Дона пойти им в обход, а они от Сталинграда нам навстречу. Я же вот эти места сталинградские как пять пальцев знаю. В облземотделе до войны работал, вдоль и поперек проехал и прошел.
— А что, товарищи, план неплохой, — обратился он к окружившим его бойцам. — Как думаете? Примем его? Из вас хороший стратег выйдет. Быть вам генералом.
Бойцы и командиры весело рассмеялись.
Над головой прошуршал снаряд. За ним другой, третий.
— Врассыпную, ложись! — крикнул Кипоренко, присев на корточки. И тут же грохнуло слева, обдавая всех мокрой грязью и песком.
— Готовьтесь, товарищи, бои не за горами. А где нам ударить, скажут.
Бойцы, довольные, расходились по своим позициям. Доносились их веселые реплики и смех.
— Ну что ж, полковник, теперь давай заглянем к артиллеристам.
Позиции артиллеристов были хорошо замаскированы. Нигде ни души. Пришли на наблюдательный пункт артиллерийского полка. Командир полка, щеголеватый подполковник с усиками, четко отрапортовал. Приятно было глядеть на его молодцеватую, подтянутую фигуру.
— Данные для ведения огня готовы? — спросил Кипоренко.
— Так точно.
Командующий попросил карту.
— Кто ведет огонь по этому оврагу?
— Шестая батарея второго дивизиона, — отрапортовал подполковник.
Кипоренко, хитровато улыбаясь, сказал:
— В овраге скапливается противник. Шестой, беглый, тремя, огонь! — и поглядел на часы.
Подполковник схватил трубку, передал команду.
Прошло пять, десять томительных минут. Батарея молчит.
— Из оврага до роты пехоты противника перешло в атаку. Беглый, тремя, огонь! — командует генерал.
Подполковник растерялся, засуетился, снова позвонил.
Проходит пять, семь минут. Слышно, один м другим идут над головой снаряды. Кипоренко смотрел в стереотрубу.
— Ну, голубчик мой, разрывы, погляди, куда ушли. На тридцать тысячных влево.
— Простите, товарищ генерал. Понадеялся, не проверил. Командир батареи заболел, а я вместо него вчера из взвода управления новичка послал.
— Противник вам даже спасибо скажет. А вот пехота, которую вы прикрываете, она вам не простит. Кстати, а какой батальон поддерживает ваша батарея, знаете?
Подполковник пожал плечами.
— Нет, так не пойдет. Надо, товарищ Андросов, вашему начальнику дивизионной артиллерии серьезно делом заняться, да и его штабу. Не мешало бы переселить командиров-артиллеристов из штабных землянок на боевые позиции. А общевойсковых командиров с артиллеристами подружить.
Первое знакомство командующего с дивизией Андросова, начавшееся так хорошо, было омрачено. Андросову казалось, что и его знакомый по финской генерал Канашов поглядывал на него осуждающе: «Что же ты, полковник, подкачал». И теперь напоминать Андросову о себе, о том, что они воевали вместе в Финляндии, было просто неуместно.
На обратном пути в штаб армии Кипоренко сказал Канашову:
— Ты присмотрись поближе к дивизии, с которой тебе здесь воевать придется. Наступление танков в сильной обороне противника без надежного обеспечения его пехотой будет обречено на провал.
И Канашов догадался, что вся эта поездка не случайна. Значит, готовится что-то большое.
* * *
В городе Серафимовиче в начале ноября проходило совещание в штабе Юго-Западного фронта. На него пригласили командующих армиями, командиров корпусов и дивизий. За длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидели представители Ставки: генерал армии Жуков, генерал-полковник артиллерии Воронов, командующие фронтами — генерал-полковник Ватутин, генерал-лейтенант Рокоссовский, член военного совета генерал-лейтенант Желтов, генералы и старшие офицеры из Генерального штаба. Заслушивались доклады командиров. Когда генерал Кипоренко вошел по вызову, его ослепил блеск мундиров, сияние на них звезд и пуговиц. Он уверенно подошел к карте и четко доложил обо всех подготовительных мероприятиях, которые были проделаны войсками его армии. Потом перешел к характеристике плацдарма. Один из представителей Ставки попросил подробней доложить об оперативной обстановке, и особенно о противнике.
Кипоренко охотно сообщил о том, что противостоящие части 3-й румынской армии в основе своей боеспособны и имеют хорошо подготовленную оборону. Но вот на участке совхоз Ферма № 3 — Большой — Верхне-Фомихинский обороняются очень деморализованные, неустойчивые подразделения. Все присутствующие заинтересовались этими сведениями.
— Вот, чтобы не задерживать ваше внимание, — положил на стол Кипоренко листы допроса захваченных в последнюю неделю пленных и перебежчиков. — Число перебежчиков непрерывно растет. Только на участке дивизии Маринина за прошлую неделю их было свыше полусотни человек.
— Чем вы это объясняете?
— Немцы, недовольные действиями румынских частей, как бы посадили их на голодный паек. Двести граммов кукурузного хлеба и половник похлебки.
— Да, — сказал генерал Ватутин, — от такого питания, особенно в холодную пору, сбежишь не то что к противнику, а к черту в зубы.
— На нейтральной полосе, — продолжал Кипоренко, — остались некошеная пшеница и картофель. И как только стемнеет, румынские солдаты, как голодные крысы, бегут и ползут, чтобы добыть пропитание. Немцы и тут остались верными себе. Они расставили свои пулеметные расчеты и освещают ракетами позиции. Если обнаруживают румынских перебежчиков, расстреливают их из пулеметов.
— Ну и друзья союзники, — Переглянулись участники совещания.
— Получается так, — сказал Ватутин. — Избавь бог от таких друзей. К врагам лучше идти спасаться.
— Очень ценные для нас сведения, — похвалил генерал Воронов. — Спасибо вашим разведчикам передайте. Хорошо они поработали. Вполне не заслуживают наград.
Кипоренко доложил свое решение. Главный удар он наносил правым флангом. Рассказал о плане взаимодействия в предстоящей операции.
— Какое количество танков вы имеете?— спросил Жуков.
— Всего триста семьдесят шесть. Сто тридцать в одном и сто семьдесят восемь в другой корпусе. Кроме того, шестьдесят восемь будут действовать как танки непосредственной поддержки пехоты со стрелковыми дивизиями.
— Да, увесистый броневой кулачок, — сказал Воронов.
Когда закончилось совещание, к Кипоренко подошли Ватутин и Желтов:
— Передайте от имени командования фронта и военного совета нашу благодарность разведчикам. По-гвардейски они потрудились.
Ночью генерал Кипоренко возвращался к себе в штаб, в Избушинский. Радовался, прислушиваясь к многоголосому разнохарактерному шуму, царившему в донских степях. Днем безжизненно голая, кое-где с белесыми латками снега, однообразная равнина, с небольшими высотками, оврагами и балками, словно вымерла. Но только начинали сгущаться сумерки, вокруг все оживало. Лязгали гусеницы танков, ворчливо и надсадно выли тягачи, шли колонны автомашин с боеприпасами, продовольствием, обдавая его генеральский «газик» струями воды и грязи. На дорогах переругивались бойцы, застрявшие с повозками или орудиями в колдобинах. И к знакомому запаху размокшей земли примешивался запах бензина, горелого масла и добротной солдатской махорки.
Советские войска торопились в назначенные им районы сосредоточения.
А в это время немецкая армия Паулюса скованная действиями армии Чуйкова под Сталинградом, не предполагала, что на нее с севера надвигается стальная огневая громада мощных ударных группировок новых дивизий и армий Юго-Западного фронта. И то, что с каждым днем и часом приближался этот удар, с таким нетерпением ожидаемый всеми — от бойца до самого высшего военачальника, — не могло не радовать генерала Кипоренко.
На следующий день представители Ставки — Жуков и Воронов — провели такое же совещание в 21-й армии с участием командующего, его командиров корпусов и дивизий. На нем присутствовал недавно назначенный Ставкой командующий Донским фронтом генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский и член военного совета К. Ф. Телегин.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
В большой просторной землянке, обитой трофейными суконными одеялами, стоит сизый туман от табачного дыма. Только и видно сидящих у стола, а остальные мелькают, будто призрачные тени. Уже второй час командир дивизии рассматривает и утверждает решения командиров полков на наступление. Тут же находятся начальники служб штаба дивизии, командиры средств усиления, штабные работники. Докладывает майор Миронов.
Неподалеку стоят два командира полка. Майор Черняев немного удивлен, подполковник Столяров явно недоволен. Каждый из трех командиров полков хочет, чтобы его полк был назначен на главное направление. Столярову комдив даже сказал в первый день, когда они сменялись: «Будешь открывать наступление». И вот почему-то передумал и поставил Миронова. «Или не доверяет, думает, подведу. Ну пусть, пусть. Посмотрим, что у Миронова получится».
— Так, так, значит, главный удар решил наносить правым флангом на Клиновой, совхоз номер «восемьдесят шесть», — говорит комдив, просматривая карту, и прикидывает расстояние по глубине обороны противника. — Можно согласиться. — Он глядит на Миронова. — Ноты еще подумай. Не лучше ли перенести на левый фланг, ближе к полку Черняева? Он правым, а ты левым. Так удар будет более мощный, скорее взломаем главную полосу обороны противника, скорее войдут в прорыв танковые корпуса. Меня, признаться, вот что беспокоит. Хорошо, если на правом фланге, на высоте 188.0, боевое охранение, а если передний край? Тогда одному будет прорывать трудно. Как думаешь, Выгловский? — обратился комдив к начальнику штаба.
Выгловский, мужчина средних лет, с широким, скуластым лицом, спокойно глядит на всех голубыми детски-добродушными глазами, поглаживая бобрик коротких волос. И, опираясь обеими руками о стол, смотрит в карту.
— Чтобы окончательно утвердить решение Миронова о подготовке полка к наступлению, ему надо будет провести разведку боем, поскольку удар будете наносить правым флангом. Командующий утвердил ваше решение. Только что звонил начальник штаба генерал Геворкян. Пусть Миронов продумает вопрос о разведке боем, а завтра доложит вам.
— Разрешите, товарищ полковник? — попросил слова Миронов. — Я могу доложить сейчас.
— А не торопишься?
— Нет, я уже думал. После короткого огневого налета артиллерии и минометов захватить высоту 188.0, обходя ее с северо-востока и северо-запада. К высоте ведут скрытые подступы — овраги.
— Но они заминированы, — сказал Выгловский.
— Это не беда, — вмешался комдив. — Саперы сделают проходы.
— А какими силами думаешь, майор, разведку боем вести?
— Одним стрелковым батальоном.
— Не много ли сил на одну разведку боем? Тебе же прорыв еще надо делать.
Но начальник штаба поддержал Миронова:
— Пожалуй, товарищ полковник, надо не меньше батальона. Во-первых, противник может принять этот бой за наступление. А во-вторых, наверняка, если пустить одну роту, а у него там крепкий опорный пункт, мы можем зря положить людей и не достигнуть цели.
— Если батальон, товарищ полковник, успешно справится с задачей, я могу оставить на высоте одну роту для закрепления, а ночью отвести остальные силы на исходные, — сказал Миронов.
— Согласен. Время на подготовку разведки боем — двое суток. Окончательное решение со всеми выкладками сил и средств доложишь завтра в девятнадцать часов. Ну что ж, Миронов, быстро ты отделался, можешь идти. Да, постой. Забыл тебя познакомить с командиром танкового батальона, что будет тебя поддерживать при прорыве. Как его фамилия, Выгловский? Где он?
— Майор Кряжев. Здесь был. Подышать воздухом вышел. Позовите, — приказал комдив связисту.
«Неужто Василий Кряжев, тот, с кем в первые дни на фронте встретились?» — подумал Миронов.
Вошел плотно сбитый, маленького роста танкист-майор, с красными пятнами от ожогов на лице.
— Василий.
— Сашка.
Они обнялись крепко, по-мужски.
— Ну, тогда, — сказал комдив, — и карты в руки, им организовать взаимодействие. А завтра доложат, поглядим, что у них получится.
От Кряжева Миронов узнал, что их танковым корпусом командует генерал Канашов, и это известие его очень удивило и обрадовало.
С мутным холодным рассветом на высотку, занимаемую врагом, перед правым флангом полка Миронова обрушился артиллерийско-минометный огонь, раскалывая степную тишину, поднимая в воздух черные клубы земли.
С наблюдательного пункта командира первого батальона, где находился Миронов с начальником артиллерии капитаном Хватовым, взлетели две красные, а за ними зеленые ракеты. Это был сигнал для начала разведки боем. Миронов смотрел на поросшую бурьяном полоску земли, с продолговатыми, желтовато-серыми бугорками. Там была наша исходная позиция для атаки, и там появились бойцы — группками и поодиночке, растянувшиеся в цепь. Атака началась. Артиллерия перенесла огонь в глубину вражеской обороны, и за ее разрывами торопливо пошли пехотинцы. Они бежали так стремительно, будто им надо было во что бы то ни стало догнать эти разрывы. В цепях Миронов увидел одно, второе, третье орудие. Четвертого не было. Отстало где, что ли? Десять-пятнадцать минут противник, подавленный огневыми ударами, молчал. Но вскоре и он оживился. Просвистели и глухо разорвались у оврага первые снаряды. Потом их стало больше. Они собирались гуще и ближе к правому и левому флангу атакующих. Дым заволок черной стеной высоту. «Неужели пехота залегла, не дойдя до окопов врага?» — с тревогой подумал Миронов. Связь с комбатом Григорьевым прервалась. Миронов отдал распоряжение связистам восстановить связь и решил переменить свой наблюдательный пункт, выдвинув его вперед. Здесь ничего не видно. Пока он занимался своими делами, артиллерийские наблюдатели засекли много новых, неизвестных по нашим данным целей: пулеметов, дзотов, огневых позиций батарей.
Миронов заметно волновался, поглядывал на часы. Прошло полчаса, сорок минут, от Крузова никаких сведений. Он послал своего связного к нему, но напрасно. От комбата принесли первое донесение: «Батальон ворвался в первую траншею, в центре. Одна рота ведет бой в блиндажах, на обратных скатах высоты. Мой наблюдательный пункт на вершине». «Чего он снова придумал, вылазить на самый купол? — подумал Миронов. — Засечет артиллерия и уничтожит». И будто в подтверждение его мыслей через несколько минут стала бить по вершине артиллерия врага. Надо было выручать комбата. Он послал вперед разведчиков и артиллеристов, чтобы выявить, откуда бьют вражеские батареи. Через час он получил новое донесение от комбата: «Батальон захватил еще одну траншею на обратных скатах высоты. Противник бросил в контратаку до двух батальонов пехоты и пытается сбросить нас с высоты». Да, теперь Миронов не сомневался. Это было не боевое охранение врага, а его передний край.
Наша артиллерия преградила путь контратакующему противнику. Миронов отдал приказ батальону закрепиться. Но когда после удачных налетов наших артиллеристов сильно поредевшие цепи врага стали отступать, комбат Крузов поднялся и повел бойцов за собой в атаку.
— Смелый мужик, — сказал Хватов. — Даром что старик, а с огоньком.
Но вскоре пришло новое донесение: комбат тяжело ранен. Миронов тут же послал связного, чтобы вынести Крузова. Но он отказался уйти со своего наблюдательного пункта.
— Товарищ майор, — докладывал старший связной, — не хочет уходить категорически. Ординарец его убит, а он один засел в окопе и бьет.
— Да, настырный старик. С норовом, — сказал Хватов. — Как бы его не захватили в плен.
Вечером на наблюдательный пункт Миронова принесли раненого Крузова. Он лежал с забинтованными ногами и правой рукой, осунувшийся, еще более постаревший, но со спокойным лицом, будто ничего не произошло, и он после обычного трудового дня лежал отдыхал — и только. Миронов подошел к нему, пожал здоровую руку:
— Спасибо вам, товарищ Крузов! Вы настоящий командир. Не обижайтесь на меня за прошлое. Все бывает.
Комбат поджал губы и покачал головой. Синеватые его веки закрыли слезящиеся глаза. Но не успели унести Крузова, на наблюдательный пункт пришел полковник Андросов.
— Молодцы твои ребята, Миронов! Видал, как они высоту быстро окружили? А Крузов, Крузов твой, смотри, отличился. Представляй достойных к наградам. Решение твое наносить удар правым флангом оставляю в силе. Средства усиления у тебя есть. Кто будет тебя поддерживать, получишь приказ сегодня вечером. Готовься, — сказал он, помолчав, глядя в сторону притаившегося противника. — На днях наступать. Понял?
— Понятно, товарищ полковник.
— Ну, бывай здоров, а я к твоему соседу наведаюсь.
И комдив ушел.
Миронова охватило чувство радости. Оно распирало грудь, и хотелось петь. «Наконец-то наступать. Сколько ждали мы этого приказа?! Вот он, канун долгожданного праздника».
Возвращаясь к себе в блиндаж, Миронов не шел, а летел, будто на крыльях. «Наступать, наступать», — повторял он бесконечно это слово. Свернул в овраг и тут заметил, как в воздухе кружатся белые хлопья. Что это такое? В вечернем сумеречном небе он едва различил серебристый немецкий самолет-разведчик, прозванный по-фронтовому «костылем». «Это он сбросил листовки на наши позиции», — догадался он. У промоины оврага сидели четверо бойцов и чему-то смеялись. Он прислушался.
— Спасибочко фрицу, — сказал один из них. — До чего справно службу несут. Тилько учора кинчылась отхожа бумага, а вин тут як тут. Зараз треба до витру сходить.
«Правильно они говорят, — думал Миронов, поднимая одну из немецких листовок. — Покажу комиссару, пусть будет в курсе». В листовке было написано: «Бойцы и командиры! Не верьте продажным комиссарам и коммунистам! Бросайте оружие и переходите к нам. Сталинград взят немецкими войсками. Армия Чуйкова разгромлена, взята в плен, а остатки ее сброшены и потоплены в ледяной Волге».
2
Полковник Андросов вышел из кабинета командующего Кипоренко довольный, так как доклад его о подготовке дивизии был одобрен, как и его решение о наступлении.
В узком коридорчике он чуть не столкнулся с генералом Канашовым, поприветствовал его, и Канашов протянул ему руку:
Кажется, вы, полковник, будете открывать ворота моим танкам?
— Выходит, мне приказано. Только что докладывал генералу Кипоренко. Решение утвердил.
— Вы, смотрите, не подведите меня, полковник, — улыбнулся Канашов. — Бывает же так: ждешь в ворота, а тебя пускают в калитку. Застряну я со своими танками. А застряну, будем ругаться, и, главное, дело провалим.
Андросов пожал плечами:
— Разрешите курить?
— Пожалуйста!
— Вроде не принято знакомых подводить, — сказал он. — Мы, если мне не изменяет память, в Финляндии вместе с вами воевали?
— Припоминаю, припоминаю, — морщил лоб Канашов. — Да что мы тут стоим, давайте присядем вон на скамейке и покурим. — Они сели, молчаливо раскуривая.
— Вы ко мне пришли, кажется, ротой командовать. В октябре?
— В ноябре. Собственно, в конце октября. Разжаловали меня. Но мало нам пришлось воевать вместе. Вас через две недели ранило.
— Помню, помню теперь. И приказ вашего бывшего начальника: «Зажми его там, такого-сякого».
— Да я и сам, товарищ генерал, тогда решил — конец моей службе. Когда первая атака не получилась, все, думаю, расстреляете вы меня, как собаку. Погорячился, вечером — приказ, разведку не успел провести и на дот попер.
— Дурное дело нехитрое. Расстрелять ума не надо. За каждую неудачу командира расстреливать, так с кем воевать тогда солдатам?
— Д-а-а, — вздохнул тяжело полковник.
— Вспоминаю, будто вчера это было. А вот уже два года прошло.
— Вот и опять нам вместе воевать довелось. Ну а как у вас командиры полков? Не подведут при прорыве?
Андросов помолчал, обдумывая, притушил папиросу:
— Не должны вроде. Столяров неплохой, волевой, боевой опыт имеет, да медлительный по натуре. Черняев, тот в обороне — стена, скала. Воевал он у меня комбатом. А Миронова совсем плохо знаю. Правда, во время боевой подготовки дивизии зарекомендовал себя. Энергичный, хороший организатор. При проверке командующего его полк первое место взял. Да вот больно горяч он по натуре.
Канашов слегка улыбался, слушая характеристику Миронова.
— Так молодо-зелено, полковник! Древняя житейская истина.
— Я как рыцарь на распутье трех дорог. Надежным тараном надо пробивать такую подготовленную оборону. Вот и думаю, кого из них на главном направлении ставить.
— Товарищ генерал, — подошел молодой лейтенант, — Вас командующий вызывает.
Они поднялись. Канашов пожал руку Андросову:
— Дело, как говорят, хозяйское, но я бы поставил командира с горячим характером. Молодость делу не помеха. Знаешь, полковник, как раньше опытные ямщики запрягали? Коренного в центре погорячей и ретивей. А на пристяжку объезженных да постарше. Твоя ямщицкая обязанность — держать вожжи в руках.
Канашов вошел к генералу Кипоренко. Он сидел за столом, заваленным картами, штабными документами, папками. Кругом цветные карандаши. На столе дымился чай,
— Ну, проходи, проходи. Чайку хочешь?
— Только что чаевничал, товарищ генерал! Спасибо.
— Завтра собираю всех вас. Будет большой разговор. Тебе неплохо бы в дивизию съездить. Помнишь, в которой были с тобой? Она будет для тебя прорывать коридор. Сегодня окончательно решил и доложил Ватутину.
— А я с ней знаком. Но завтра еще съезжу.
— Когда же это ты успел?
— Мы с комдивом земляки по финскому фронту.
— Вот как? Это хорошо. Тогда не подводите друг друга. А ты чего последнее время ходишь как в воду опущенный? В корпусе что-то случилось, или от дочери нет вестей?
Канашов задумался: «А стоит ли сейчас об этом?» Но искреннее доверие к человеку взяло вверх. Он достал письмо Аленцовой и положил перед ним.
— Что это?
— Читайте, Иван Кузьмич. Тут все ясно написано.
Читая письмо, командующий крутил головой, хмурился, восклицая:
— Да. Ну и да. Вон оно как. Жестоко. Но честно.
Задумался, встал, подошел, положил руку на плечо Канашова:
— Утешать в таких случаях бесполезно. Крепись, крепись, старик! Большие дела нас ожидают, за многое отвечаем. О своем личном некогда думать. Аскетически жить приходится. Ну а с нею, что ж, видно, и впрямь, как говорится в народе, не судьба.
Канашов и сам последнее время так думал. Но что-то такое в нем не соглашалось. Не верилось, что она окончательно потеряна для него, и что все хорошее между ними оборвалось так нелепо и случайно.
3
Девочкой, лет шести, Нина Аленцова впервые услышала в разговоре матери со своей подругой (говорили они о незнакомом ей человеке) это непонятное ей слово «не судьба». Многие из непонятных ей слов в детстве она забыла, а многие раскрыли для нее свое значение с годами. Но это слово «не судьба» таило для неё пожизненно таинственный, а подчас и трагический смысл.
У нее был дедушка, отец, ее матери, которого она очень любила. Отца она почти не знала, пока не пошла в школу. Служил он далеко на границе, бывал в доме редко. А вот дедушка, веселый, ласковый приходил под вечер с работы, целуя, щекотал ей щеки пышной шелковистой бородой, приносил большие, вкусные, пахнущие медом тульские пряники. Серебристая борода дедушки тоже пахла медовыми пряниками. Это открытие впервые сделала Нина еще тогда, в детстве. Но как-то дедушка не принес ей пряника. Она обиделась, надулась и спросила его: «А ты не любишь пряники?» Он ответил: «Нет». — «А что ж твоя борода пряником пахнет?» Как-то дедушка захворал, его положили в больницу. Его долго не было. Нина каждый вечер спрашивала у матери, когда он придет. Она, задумавшись, отвечала: «Скоро, доченька». Но скоро это тянулось очень долго. Нина так и не дождалась его.
Ее увезли жить к тете, сестре матери. Там она узнала, что дедушка умер. И это слово ей было непонятным. Тетя пояснила: «Дедушки больше не будет никогда, никогда». И Нина поняла, что теперь не будет ни пряников, ни ласковой бороды дедушки, пахнущей пряниками. Уже в первом классе она узнала, что дедушке делали операцию. Многие выживают, а вот ему «не судьба». Тогда еще она решила, что, когда вырастет, будет врачом, чтобы люди не умирали. Но по-прежнему остались для нее загадочными слова: «судьба», «не судьба». Вот с этого времени ей в память врезались эти слова, которые преследовали ее постоянно. Слышала она их и в школьные годы. Но никто не мог разъяснить, что это такое. Весной она пришла с экзаменов радостная, сдала все на «отлично», а мать рыдает: «Папу нашего убили». Погиб в пограничной стычке. И снова, в который раз услышала эти слова от родных матери и отца, утешающих мать: «Значит, не судьба ему». И после этого Аленцова уже всю жизнь страшилась этого коварного слова, с которым приходит самое плохое к человеку. Может, любовь к дедушке и сделала ее врачом, а любовь к отцу, вернее, уважение к его почетной профессии, о которой она много слышала и читала, заставили пойти замуж за командира-пограничника, которого она не знала как человека, не питала к нему никаких чувств и, выйдя замуж, не нашла в нем друга?
И она как-то смирилась с мыслью, что личная ее жизнь, без радости любви, — та же «не судьба», в которую она верила. Но вот она встретилась с Канашовым. Произошло то, чего она не ждала, во что не верила, чего не узнала, выйдя замуж, имея двух детей. Пришла любовь. Разочарованная, не узнавшая в девичестве ее глубоких, окрыляющих чувств, выйдя замуж, она с первых дней замужества встретилась с грубой, непонятной силой, вызывающей только физическую боль, приводящую к отвращению при мысли, что это и есть любовь. Ей непонятно было, как это могло быть: он любил ее и не хотел от нее ребенка, уговаривал и принуждал избавиться от него, когда она сказала, что он ожидается. (Она-то как врач хорошо знала, чем может окончиться избавление от ребенка в подпольных условиях. А иначе не разрешалось).
Все, что произошло в прошлой ее жизни, не могло не повлиять и на любовь к Канашову. Она любила его, вся тянулась к нему, как тянутся к солнцу пробившиеся сквозь темную толщу земли первые, увидевшие свет ростки. Он нужен был ей как воздух, вода, без чего не может быть жизни. Но прежние мысли о «не судьбе», прежнее неудачное начало семейной жизни на каждом шагу давали о себе знать. По укоренившейся привычке она относилась к мужчинам с недоверием, которое перенесено было и на него: она держала его на расстоянии и даже мучила его физически, будто он был виноват во всех тех неудачах, которые стряслись с ней ранее. «Ну зачем? Зачем я так поступала с ним?» — сотни раз спрашивала она себя и не находила ответа. Все эти мысли приходили к Аленцовой назойливо, осаждая ее, когда она лежала в госпитале. Не оставляли они ее и сейчас, когда выписалась и стала снова работать врачом там, где она лечилась. Порой ей казалось, что все ее переживания, связанные с разлукой, любовью к Канашову, привели к тихому помешательству. Все дни напролет она думала о нем. Ночью он заполнял ее сны, бредила его именем (как ей сказали после операции). А вот сейчас, сталкиваясь по службе с мужчинами, непременно мерила их всех канашовской меркой.
А он? Он прислал за весь месяц, что она находилась в госпитале, два письма. Она знала, где он, чем занят, и то оправдывала, то сердилась на него. Получив письмо, она впервые за долгие дни в госпитале почувствовала себя счастливой. Но, ожидая новой весточки и перечитывая его письмо, все больше разочаровывалась. Они то казались ей сдержанными, больше похожими на товарищеские, то вовсе холодными, предназначенными кому угодно, но только не любимому человеку. Потом проходило какое-то время, и она убеждала себя, что зря придирается к его письмам, напрасно ищет в них невозможное, зная канашовский, далеко не мягкий, даже подчас суровый характер, напрасно подозревает в этом его дочь, которая после ссоры могла бы как-то повлиять на ее отношения с ним.
Так она постоянно занималась самоистязанием, ходила с головными болями, стала заметно раздражительнее и нетерпимее к людям. «Наверно, старею», — говорила она себе и чаше смотрелась в зеркало и оставалась недовольной цветом лица, находила какие-то морщины, которых в действительности не было. Порой ей казалось, что глаза потускнели и утратили прежний задорный блеск, так нравящийся в ней мужчинам. Расчесывая волосы, с тревогой глядела на выпавшие и уверяла себя, что с каждым днем они заметно редеют. И так продолжалось каждый день.
Уверовав в неизбежность только худшего в жизни, она ждала его почти смиренно, меньше терзаясь и мучаясь, боясь признаться самой себе, что в жизни ее в действительности появлялись признаки поворота к лучшему. Если в госпитале за месяц она получила от него два письма, то сейчас за одну неделю три. С каждым новым письмом она все больше и больше не узнавала прежнего Михаила. В его военном, сухом и официальном языке появлялись такие инородные для его характера слова, как «родная моя», «Нинуся» (хотя за все время, сколько она знала его, он называл ее только Ниной). Начинались они, как с привычного девиза: «Все будет хорошо». Делами по службе он был доволен. Пошел на повышение. Намекал на близкие радостные события на фронте и. как правило, заканчивал, как клятвой: «Твой навсегда».
Дочитывая, она с прежним чувством недоверия спрашивала: «А так ли?» И снова, одолеваемая сомнением, говорила себе: «Не верю».
Сегодняшнее письмо принесло ей впервые за все время радость. Он писал: «Хлопочу о тебе, и небезуспешно. Скоро будем вместе. До скорой встречи». Она, прочитав, подпрыгнула, закружилась в вальсе: «Скоро, скоро, скоро», прижимая письмо к груди.
На пороге ее врачебного кабинета появился главный хирург госпиталя. Среднего роста, с приятным лицом и, несмотря на свои пятьдесят пять лет, с буйной шевелюрой. Он улыбался:
— Нина Александровна, да вы, голубушка, совсем помолодели! — Оглядел ее с головы до пят — Поверьте мне, старику, это не очередной дежурный комплимент.
Она смутилась от неожиданного его появления, зарделась.
— Поглядите, поглядите на себя в зеркало!
И он взял ее за локоть в подвел к зеркалу. На нее глядело слегка растерянное молодое лицо, прежним задорным огоньком светились глаза. Она узнала себя в лучшие годы, до замужества, в дни встречи с Михаилом. И отошла, будто не веря своим глазам.
— Вы всегда мне нравились, Нина Александровна, — сказал он. — Вы знаете, я человек прямой и острый, как скальпель — основное оружие моей профессии. Но сейчас я искренне обрадовался, увидев вас. Ну, вы не обижайтесь на меня, увидел вас девчонкой. И огорчился.
— Чему же вы огорчились, Михаил Алексеевич?
Называя его по имени-отчеству, она всегда невольно вспоминала Канашова. Ей это даже доставляло удовольствие чаще называть его при разговоре. Он поправил рукой красивую волнистую шевелюру.
— Главное огорчение — годы, голубушка. Чем дальше они уходят, тем больше ставят перед человеком, я бы сказал, не барьеры, которые можно, поднатужась, перепрыгнуть, ну, в крайнем случае, обойти, а стены. И такие стены, что никакие, самые высокие и хитрые лестницы не помогут перелезть. Глухие стены.
Главный врач потерял с первых дней войны всю семью на границе. Жену и троих детей. Старшая, замужняя, дочь жила далеко, на Дальнем Востоке, где служил ее муж на флоте. Аленцова знала о его трагедии от сослуживцев. Знала она и то, что благодаря его на редкость удачной операции она так быстро оправилась от тяжелого ранения в голову и вернулась к жизни. Его настойчивыми хлопотами она была оставлена работать в том же госпитале, хотя, согласно заключению военно-врачебной комиссии, ее хотели демобилизовать (чего она боялась больше всего). Временно, до демобилизации, ее решили оставить при округе. Главному врачу она обязана и маленькой, но все же своей комнатой. Не могло от нее укрыться и то, что главный врач неравнодушен к ней, помогает всячески ей осваиваться на новой для нее службе.
— А не кажется вам, Михаил Алексеевич, что эти самые стены, о которых вы говорите, часто создает человеку не жизнь, а он сам?
— Ну что ж, голубушка! Бывает и так. Но это у неуравновешенных людей. Молодых, конечно, в первую очередь. А возраст. — Он откашлялся. — Возраст, он эти стены все же имеет. Как и с какой стороны к нему ни подходи.
Он молчал и смотрел в окно на вихрящиеся пушинки снега.
И вдруг спросил:
— А вы могли бы, Нина Александровна, к примеру, выйти замуж за человека в два раза старше себя?
— А к чему мне выходить замуж? Я замужняя, — вздохнула она. — Да и разве в возрасте дело, Михаил Алексеевич. В человеке.
— В человеке, — повторил он мечтательно. — Вы правы, пожалуй. В человеке — это верно. — И тут, как бы спохватившись: — Если не секрет, скажите, что вас так сегодня помолодило, обрадовало? Может, и со мной поделитесь этими стимулирующими средствами?
— Поделюсь. С вами охотно поделюсь. Письмо я получила с фронта. От... — Она слегка смутилась. — От друзей своих.
— Хорошие вести?
— Хорошие. Очень даже хорошие.
— Что, наступать собираются?
— Наверно, наступать.
— Ну, это приятные, приятные сообщения, — вздохнул он. — А я не знал, что вы танцуете, любите вальс.
— Люблю. Очень люблю. Но какие сейчас танцы, когда война столько горя приносит каждый день.
— Да, да, голубушка, танцы многие позабыли. А я вот, грешный, жизнь прожил, а танцевать не научился.
— Пускай поскорее война закончится. Тогда, тогда, я обещаю, Михаил Алексеевич, я научу вас. Хотя я танцами никогда не увлекалась. Разве вот только девушкой.
— А не поздно ли мне учиться?
— Не поздно, не поздно. У меня есть друг, который любит повторять: «Учиться всем пригодится».
Главный врач прошелся по кабинету, заложив руки за спину, будто обдумывая, принять ему или нет ее предложение. Остановился, призадумался.
— Что, Михаил Алексеевич, испугались?
— Нет, нет. Как же я могу отказать вам, голубушка? Я не о том. Сегодня вечером медицинская конференция, большой профессорский консилиум с участием высшего медицинского командования, представителей округа. Он состоится в госпитале. Там будут демонстрировать последние достижения хирургии, нейрохирургии. Вам придется меня сопровождать. Для вашего будущего как хирурга это будет полезной школой. Я вот все думаю, что бы нам показать там? У Верховцевой есть интересные операции, у Зильбер тоже. Правда, надо кое-что еще проверить, не торопиться. Да и ваша операция последняя. Откровенно, позавидовал. Я бы и то не решился так дерзать.
— Ну что вы, Михаил Алексеевич, — смутилась она. — Пока еще нет данных анализа. Я все же не сама ее делала. Вы мне кое-что подсказали.
— Именно кое-что. Нет, нет. Тут я не имею права с вами делить славу. Скромность мне ваша нравится, конечно. Будьте и впредь такой. Это всегда помогает. Но операцию вы провели блестяще. Я говорил уже со многими академиками в этом деле. Одни сомневаются, а другие не верят. Ну, так я пошел. Готовьтесь. И не забудьте.
— Нет-нет, что вы, Михаил Алексеевич. Быть на такой конференции для меня большая честь. Но при одном условии.
— Каком?
— Ни слова о моей последней операции.
Он откашлялся, поправил пятерней густую шевелюру. Так он всегда делал, когда волновался.
— Хорошо, хорошо. Даю слово, — и, помолчав, добавил: — Ну вы и женщина, я вам скажу!
4
Корсаков встретил Аленцову в гардеробной. Она сняла шапку, стряхнула густо набившийся снег. С мороза, с серебристыми снежинками в темных волосах, с высокой прической, она была красива. И сразу как вошла в вестибюль, много мужских взглядов потянулось к ней, как бы между прочим заинтересовавшись входной дверью, будто все они кого-то с нетерпением ожидали.
— Почти опаздываете, голубушка, — сказал Корсаков, помогая ей снять шинель.
— Почти не в счет, — ответила она, смотрясь в зеркало и поправляя прическу. И, щурясь, как все близорукие, оглядела вестибюль.
Он взглянул на ее новый темный джемпер, плотно облегающий грудь, и смутился, как мальчишка.
— Да, не судьба, как говорят.
— Михаил Алексеевич, а вы верите в судьбу?
Он остановился, удивленный ее вопросом, раздумывая, шутит ли она или спрашивает серьезно. Но, уловив ее задумчивый и строгий взгляд, сказал, беря под руку:
— Пойдемте, пойдемте, неудобно опаздывать.
Многие глядели в сторону Аленцовой. Она держалась просто и непринужденно, как и должна держаться каждая женщина, знающая о своих достоинствах. Она оставалась всегда и везде сама собой: дома, на службе, в знакомом или незнакомом ей обществе — независимой и одинаковой со всеми окружающими ее людьми. И это… Пожалуй, это главное, что бросилось в глаза Корсакову, когда он впервые увидел, а потом, присматриваясь, убедился окончательно. Наверно, это и заставило полюбить ее. Она умела сохранять данную ей природой красоту, не подчеркивая ее искусственно, пренебрегая косметикой и безвкусными побрякушками.
Доклады на конференции она слушала рассеянно, глядя по сторонам. «Неинтересно», — подумал он, изредка поглядывая на нее.
Когда закончились теоретические выступления, вышли в коридор, ожидая демонстрация почти безнадежных раненых, которым были сделаны сложные, но удачные операции.
— Скучно? — спросил он.
— Нет, Михаил Алексеевич! Я, признаться, не все поняла. Еще многое мне неизвестно. Но вот некоторые из «новинок», о которых докладывал молодой врач — черненький, с усиками, не запомнила его фамилии, — на мой взгляд, наивные и донельзя примитивные. Вот, к примеру, его «открытие», что новокаиновая блокада действует не на всех раненых, знакомо любой санитарке на фронте. Или еще другое его «открытие»: сильный физически человек в два, а то и три раза легче переносит желудочные операции. Ведь это же дважды два. А разве операции других органов такие люди переносят хуже? Это аксиома. И вообще, откровенно говоря, скучно.
Корсаков глядел на нее улыбаясь.
— Ну, голубушка, вы тогда ничего не понимаете в медицине. Да, да, не глядите на меня так! Ничего! Этому товарищу нужна ученая степень, звание. Право же, вы наивны. Так было и так будет. Всю жизнь мы ходим учиться, все учатся у академиков и профессоров, а лечатся у рядовых докторов и врачей. Пойдемте, пойдемте. Видите, приглашают. Поглядим, что они покажут.
— Только бы не показывали то, что некоторые рассказывали, — бросила она.
— Ну, у вас и характер!
— Неуживчивый.
— Трудно будет жить.
— Другой быть не могу.
— А вы попробуйте. Не усложняйте свою жизнь. Вам наверняка повезет.
— Не могу и не хочу.
— Настырный, настырный характер. Поплатитесь. Верьте моему житейскому опыту. Поплатитесь!
Участники медицинской конференции окружили койку раненого. Ему сделана редкая хирургическая операция. Удалены осколки из черепной коробки. Многие искренне удивлены, расспрашивают хирурга, делавшего эту операцию, записывают в блокноты, просматривают рентгеновские снимки, задают вопросы больному. Но Аленцова ловит себя на мысли, что Корсаков сделал ей более сложную операцию. Она вполголоса говорит ему об этом. Подошел черненький, с усиками новый кандидат, которого критиковала недавно Аленцова. Его все поздравляют. На лице у него самодовольная улыбка. Он подошел к Аленцовой и стал нахально ее рассматривать:
— Разрешите познакомиться, коллега! Я что-то вас встречаю впервые. Вы откуда?
— Оттуда, откуда и вы, — ответила она ему, протягивая руку.
— Кротов, — представился он. И. видя, «то она заинтересована больше обменом мнениями между врачами у койки больного, бросил небрежно: — Ничего особенного! Вот в моем госпитале была операция куда сложнее.
— Я бы не сказала, что эта операция простая, — сказала Аленцова и подошла ближе к койке больного, чтобы отвязаться поскорее от этого самонадеянного, наскоро испеченного ученого мужа.
Корсаков, чтобы помочь ей избавиться от него, взял ее за локоть.
— Пойдемте, Нина Александрова а.
— Михаил Алексеевич, вы знаете, это несправедливо. Столько почестей этой операции, которая не идет ни в какое сравнение с той, что сделали вы мне. Почему так?
— Ничего, ничего, голубушка. Так надо. Нам в ближайшее время тоже предстоит отличиться. Только что мне сказал об этом представитель округа. А вот идемте поглядите, какие чудеса сделали наши коллеги. С того снега вернули. И из состояния паралича — абсолютной неподвижности, сделали его нормальным, жизнедеятельным человеком. Я откровенно восхищен. Преклоняюсь, преклоняюсь.
Он провел Аленцову через ряды впереди стоящих, оставил ее и, подойдя к ведущему хирургу, пожал ему руку, а затем обнял его. «Какой благородный человек», — думала она о Корсакове. Она поймала себя на мысли, что он ей нравится. Но в этот момент она поглядела на больного. В глазах затуманилось. Это был Саша — ее муж. Она провела по лбу. На нем выступили капли пота. Саша глядел на нее, глаза ее суживались. К ней подошел Кротов, взял ее за руку, сказал все так же самонадеянно:
— Во все эти чудеса господа бога я не верю. Пойдемте со мной, я вам покажу рентгеноснимки уникальной операции. Ее делал английский хирург с мировым именем.
Но она резко выдернула руку.
— Прошу вас, отойдите!
Она видела, как Саша привстал на постели, неловко потоптался на месте. И закричал, как безумный:
— Нина, Нина, Ни-ни-на! Ты ли?! Нина!
Все растерялись, пугливо переглядываясь. Ведущий хирург подошел к нему, положил ему руку на плечо.
— Чем вы взволнованы? Что с вами?
Но он небрежно оттолкнул его и, покачиваясь, как пьяный, пошел ей навстречу.
— Товарищи, друзья хорошие мои! Это моя жена! — И, подойдя к Аленцовой, неловко обнял ее и стал целовать. И вдруг смяк, пошатнулся и, схватившись за нее, сел тяжело на койку.
Корсаков бросился к нему, помог ему сесть, а сам смотрел на безмолвную и бледную Аленцову, ничего не понимая. Но, когда она обхватила его голову и прижалась к нему, гладя его по спине, приговаривая: «Саша, Саша! Ну, успокойся! Ну, что ты, Саша. Это я», Корсаков вдруг почувствовал себя безвольным и беспомощным, с трудом управляющим своим телом. Аленцова заметила его подавленность и, гладя мужа по голове, сказала Корсакову:
— Михаил Алексеевич, вам плохо? Что с вами? Присядьте!
— Нет, нет.
Было видно, как он с трудом брал себя в руки.
— Кто он? Чего ему надо?
Вот первые слова, которые она услышала от мужа, и все внутри будто оборвалось. Но, чтобы не привлекать внимания, сказала, обнимая его:
— Это врач нашего госпиталя.
Аленцова вглядывалась в лицо мужа и не находила в нем никаких изменений, кроме шрама на правой скуле и бледности, какая появляется у всех людей от долгого пребывания в больницах. Она поймала себя на мысли, что не испытывает того волнения, какое, представлялось ей, будет при встрече. Казалось, между ними не было разделившего их времени, что вызывает в людях болезненное ощущение разлуки, и будто расстались они только вчера.
— А ты, Нина, все хорошеешь и выглядишь, как в тот счастливый день, когда я с тобой познакомился. Помнишь?
Она кивнула ему. По лицу ее блуждала грустная улыбка.
Участники медицинской конференции ушли смотреть и слушать сообщения о новых успехах в лечении раненых. И ей хотелось быть там. В комнате, где он лежал, было всего две койки. Одна из них была пуста.
Вот встретились, не виделись почти полтора года, а ею овладело такое чувство безразличия, что вспомнить и говорить было не о чем.
Неловкость установившегося молчания разрядил вбежавший Кротов.
— Товарищ Аленцова, товарищ Аленцова. Оторвитесь на минуточку. Такой редкий случай операции вряд ли удастся вам увидеть. Пойдемте, — улыбаясь, приглашал он, кивая головой.
Вошла средних лет женщина с приветливым лицом, по-видимому, санитарка.
— Товарищ Кротов, вас срочно просит главврач в ординаторскую. Бывают люди, — сказала санитарка, — не люди, а деревяшки. Никакого у них чутья. Врач, а без сердца. У людей счастье-то какое. Встретились, а ему похвастаться собой охота.
— Нина, Нина, — сказал муж, — познакомься! Это мне мама родная. Марина Саввишна, старшая сестра палаты. Не она бы, честное слово давно с собой покончил. Ночи напролет со мной просиживала.
— Ну, будет, будет вам, Александр Андреевич, какие тут мои заслуги. Врачи наши. Не люди — чудесники.
Перед Аленцовой стояла чуть смущенная женщина. Белый крахмальный халат оттенял, смугловатую кожу лица и рук, блестящие черные глаза и приветливая улыбка сразу располагали к себе, чем-то напоминали Аленцовой родную мать. Она пожала руку Марине Саввишне.
— Очень рада нашему знакомству! Спасибо вам за вашу заботу о Саше.
Марина Саввишна нахмурила брови, две глубокие поперечные морщины разошлись у переносицы, и лицо ее стало решительным, волевым.
— Уж он так страдал по вас, бедняжка, так отчаивался, глядеть на него — сердце болит. Ну а я ему говорю: обязательно встретитесь. Ну что, Александр Андреевич, моя правда?
— Ваша, ваша, Марина Саввишна. Для меня вы самый родной человек!
5
Маленькую комнатку, где теперь жили Аленцовы, кто бы к ним ни заглядывал, называли райским уголком. Аленцова уютно ее обставила. Все здесь располагало к любви, добрым делам и отдыху. «Ты у меня не жена, а клад, посланный мне самим богом», — говорил он. Везде и всюду они были только вместе. И соседи по утрам, когда они уходили на службу, с завистью глядели, как он нежно поддерживал ее под локоть, нес сумку и не сводил с нее счастливых глаз. А вечером встречал. «Вон жених и невеста пошли, — шептались соседки. — Ты гляди, гляди, как он за ней ухаживает. Ну, такую красавицу каждый будет на руках носить. Она — и женщина, и врачиха хорошая. Любят ее в нашем госпитале все. Умная, добрая».
Капитан Аленцов, выписавшись из госпиталя, прошел военно-врачебную комиссию, где ему предлагали уволиться по состоянию здоровья. Но он не хотел. Главный врач Корсаков — председатель комиссии — по просьбе Нины Александровны комиссовал ее мужа по статье ограниченно-годного второй степени и через знакомых в округе помог ему определиться служить на курсы командиров, преподавать огневое дело.
Буйно-радостными, будто весеннее половодье, пролетели первые недели жизни Аленцовых. И она постепенно раскаивалась и корила себя в душе, что была несправедлива к нему. Чем-то эти дни напоминали ей первые недели их знакомства. Он был так ласков с ней и нежно-предупредителен, что она потянулась к нему с открытой душой, решив простить ему прежние издевательства и постоянную ревность. «Но как же быть с Михаилом?» — мучил ее вопрос. И она решила, не обманывая ни его, ни себя, написать обо всем, что случилось. Написать всю правду об их новых хороших семейных отношениях, о том, что Саша неузнаваемо переменился, что она всем довольна в жизни и счастлива. Заканчивая письмо Канашову, она просила его простить ее. И дописала: «Значит, не судьба, Михаил, нам быть с тобой вместе». Но когда она написала, ее вдруг охватил какой-то страх за него. Ведь она знала, что он ее любит, страдает не меньше ее и к тому же сейчас находится на фронте. Не слишком ли это жестоко? «Я наношу ему удар в спину из-за угла, по-бандитски. За что? За то, что он меня любит?» День она мучилась, не решаясь послать письмо, обдумывая, как ей лучше поступить. Но не могла ничего придумать. Он по-прежнему оставался для нее любимым человеком. Но и скрывать нечего. Писать правду. Да, так лучше. И в самые лучшие минуты жизни с мужем она была сердцем с Канашовым, любила его, а к Саше испытывала только уважение, которое, если и будет так продолжаться их жизнь, перейдет в привычку, да и только.
Аленцова честно рассказала мужу все об их отношениях с Канашовым, стараясь не утаивать ничего. Рассказала о Бурунове и о своем начальнике — главном враче Корсакове. Когда она ему «каялась в грехах», как в шутку сказал он ей, Сашу интересовал только один вопрос: сожительствовала она или нет? Ее коробило от этих вопросов, но раз уж она пошла на откровенность, то честно говорила обо всем. С Канашовым она не сожительствовала. Что касается остальных, то, кроме хороших дружеских отношений, у нее с ними ничего не было.
Рассказывая обо всем, что интересовало его, она мучительно переживала, краснела, как девушка, и задавала себе один вопрос: «А надо ли мне об этом ему говорить? Какое это имеет отношение к новой для нас, так хорошо начавшейся жизни, без подозрений, обвинений, ревности? Саша пережил столько за войну, искалечен, едва с трудом вернулся к жизни». Она была на фронте и тоже дважды тяжело ранена. Оба плакали, когда она рассказывала о гибели детей в первые дни войны. И, спрашивая себя сотни раз, мучаясь и стыдясь, стыдясь и сомневаясь, правильно ли она сделала и имела ли она право на любовь к Канашову, она все же решила быть искренней и честно рассказать все, как было. Он слушал ее с напряженным вниманием, вытирая с лица выступивший пот. Она видела, что он не верит ни тому, что она рассказывает о прошлом, ни тому, что происходит в их жизни в настоящем. «Зачем, зачем я говорю ему все это?» Но, пересиливая и переубеждая себя, отвечала на все его вопросы. Они были и унизительными, и пошлыми, с холодком недоверия и подозрительности, звучали как официальные, судебные. Будто это шел разговор не в семье, а на допросе. Он сказал подчеркнуто резко, зло кривя губы: «Не верю. Впрочем, какое это имеет значение».
Ее больно кольнуло в сердце. Но когда он к тому же добавил, щурясь презрительно: «Знаю я тебя, ангела», у нее потемнело в глазах, будто он ударил ее по лицу, наотмашь, больно, а главное — обидно, ни за что. Она заплакала, встала и собралась уходить. Он удержал ее. Стал целовать, просить прошения. И клялся, что больше никогда не вспомнит о прошлом, никогда ни о чем не будет спрашивать.
— На этом поставили крест, Ниночка, родная ты моя! Забудем и начнем жизнь сначала. Будем считать, что мы с тобой только встретились и вот поженились. У нас будут дети. Кончится война, поедем ко мне на родину. Я хочу быть лесником. Выучусь, построим себе домик. И будем жить-поживать и добра наживать. Как в сказке.
Ей хотелось возразить против многих обывательских его желаний. И жизнь свою она не представляла счастливой только в мещанском уюте. Но чему возражать, когда идет война и все так неопределенно. И снова семейная жизнь их потекла спокойно. Он провожал и встречал ее, целовал и ласкал. На первую получку накупил аляповатых, безвкусных платьев, модные туфли. Но, чтобы не обижать его, она благодарила и поспешила переделать все у портнихи.
Написанное Канашову письмо лежало у нее в сумке, а она все не решалась его посылать. И может быть, и не послала бы, если бы не случай. В госпиталь пришло письмо от Бурунова. Вернувшись с работы (в этот вечер муж не встречал ее, так как был на собрании), она написала Бурунову ответ и оставила письмо и ответ на столе, а сама отправилась в магазин. Когда вернулась, тут и началось:
— До каких пор ты будешь путаться с этими кобелями?
И дальше отборные площадные оскорбления. И сразу перед ней всплыли прежние, довоенные годы, сцены ревности, унижения. Это был он, прежний, довоенный. Письмо Бурунова было не более как товарищеским. И если уже по этому поводу затевать такой скандал, то как же жить дальше?
Она, зная, что он читал, прочла ему вслух письмо и ее ответ. Ничего нет в этих письмах, что могло бы служить поводом к скандалу и ссоре.
— Ты меня не проведешь, — кричал он. — Я понимаю его намеки. «Хорошо, если бы вы были здесь». Заскучал? И ты, я вижу, о своих фронтовых кобелях скучаешь.
— Саша, Саша, — молила она, — но зачем оскорблять честных людей?
— Знаю я их. Знаю и тебя. Ты скрываешь от меня, а сама только и думаешь о своем Канашове. И переписку тайную ведешь. Я докопаюсь еще до тебя, я разоблачу твои шашни. И с Корсаковым разберусь, почему это он тебя пригрел, и с пижоном этим Кротовым. Чего я его видел у вашего госпиталя? Хотел ему морду набить. Набью. И твоему старому хрычу начальнику не поздоровится. Переломаю ноги, будет знать, как таскаться. Да и сама хороша. Говорили мне сестры, как с ранеными кокетничаешь.
Он сыпал, сыпал на нее обвинения, оскорбления, и она сидела подавленная, убитая, растерянная. Ей не хотелось ему возражать, доказывать. Делать это — значит оправдываться. А она была ни в чем не виновата. Все его обвинения построены на песке — плод больной фантазии.
К вечеру «буря», громыхавшая в их маленькой комнате, стихла, но впервые она для Аленцовой стала чужой и неуютной. Он опять клялся, целовал, обещал, что жизнь будет светлой, счастливой. И она снова ему поверила. Дала слово, что не будет поддерживать никакой переписки ни с кем. Прочла ему письмо к Канашову и на другой день отправила. Несколько раз подходила и отходила она от почтового ящика, никак не решаясь опустить. Теперь она знала, что все, что написала в нем, — ложь. Мужа она любит, семейная жизнь у них — идиллия. В действительности было все наоборот: ни любви, ни семейной жизни. Снова он настаивает иметь ребенка. Зачем? К чему ребенок, если она его не любит? Бросить службу — единственное место, где она чувствует себя человеком, где ее все уважают, где у нее наметились успехи в сложных операциях. Но, верная своему слову, она послала это письмо, надеясь, что так будет лучше. Зачем она будет мучить любимого человека, обнадеживать, обманывать, если она живет с законным мужем? «Такой хороший человек, как Михаил, еще повстречает достойную женщину, и пусть хоть он будет счастливым, если нам «не судьба» быть вместе».
В этот вечер она припозднилась. Размышляя весь день о Канашове, так ли она поступила, Аленцова мучилась, не зная, куда себя деть. Все валилось у нее из рук. Ходила она как в воду опущенная, чего не могли не заметить все, и в первую очередь Корсаков.
— Нина Александровна, что с вами, голубушка? Приболели?
— Да, Михаил. Алексеевич. Что-то, как говорят, занедужила.
— A я хотел, чтобы вы мне сегодня ассистировали. Понимаете, ответственная операция, а Зильбер опять не вышла на работу. Снова мальчонка заболел. Квелый он у нее после ленинградской голодовки — дистрофия.
— Я с удовольствием, Михаил Алексеевич!
— Но вам же плохо?
— Ничего, ничего. Пройдет.
— Смотрите, не сделайте себе хуже. В крайнем случае, перенесем на завтра. Может, вам лучше будет тогда.
— Нет, нет, откладывать не будем. Я обещаю вам, Михаил Алексеевич, все будет хорошо. — И она улыбнулась своей грустной улыбкой.
Операция окончена. Они сидят в кабинете Корсакова, обмениваются мнениями, рассматривают рентгеновские снимки. В дверь ворвался муж Аленцовой. Расстегнутый, без шапки, пьяный. Волосы свалились на глаза. Он смотрит исподлобья, сжимая кулаки.
— Любезничаете, милые голубки! Думали, я вас не найду!
— Александр, — строго сказала она. — Выйди и обожди меня у подъезда.
— Нет, не пойду я никуда. Помешал любезничать, извините, но имею право как законный муж. И ты меня, сука, не гони!
— Саша! – вскочила она, подойдя к нему и взяв за руку: — Пошли!
— Нет, я не уйду никуда, пока не набью морду этому старому хрычу. Пристроился в теплом местечке, сволочь! Боится фронта.
— Саша, — тащила она, выталкивая мужа за дверь. — Ты с ума сошел!
Корсаков спокойно наблюдал за семейной сценой. «Так вот оно что, — думал он. — Такая женщина и мучается с ним». Аленцов вырвался у нее из рук, схватил стул и занес над Корсаковым. Но тот не пошевелился. И это, наверно, остепенило скандалиста.
— Я из тебя, старый кобель, котлету отбивную сделаю. Знаешь!
Аленцова вырвала у него стул и вытолкнула за дверь, потащив за собой.
— Не стыдно? Напился, вломился, ругаешься! Немедленно идем отсюда! Или я больше тебя не знаю и знать не хочу.
Ее угроза подействовала на него отрезвляюще.
— Ниночка, Ниночка, — лез он к ней лобызаться. — Просто так, сгоряча. Пошли, пошли, дорогая!
Она вела его, он еле держался на ногах, шатался. В коридорах их встречали знакомые сотрудники, няньки, сестры. Аленцова сгорала от стыда. Вышли на улицу.
— А я все равно этому старому кобелю переломаю ноги!
* * *
Аленцова сидела грустная, подавленная, просматривала медицинский журнал. Но в голову ничего не шло. Несколько дней после скандала, устроенного в госпитале, она не могла прийти в себя. А сегодня три хулиганские выходки, еще похлеще. Зашел сосед, молодой парень — студент, попросил у нее учебник хирургии, а он набросился на него с кулаками и ударил: «Знаем мы эти штучки-дрючки. С книжек начинается, а свиданиями кончается». В трамвае встретил врача Кротова, оскорбил и хотел столкнуть с подножки, да вмешалась публика. Милиция составила акт и передала в военную комендатуру. Ходила в магазин, он за ней подследил и, когда она разговаривала с продавцом, обругал его и обещал намять бока. Какой-то ужас! Она не может никуда выйти одна. Теперь он не провожает ее, как прежде, а стоит, следит за ней из-за угла, когда она возвращается со службы. И во всем недоверие, подозрительность. Роется в ее сумке, книгах, осматривает вещи. И вид у него какой-то ненормальный. Враждебный взгляд исподлобья всегда прищуренных глаз и эта, противная ей, презрительная ухмылка.
— Ну так порешили на том, Нина! Давай мне сына. Родишь сына — на руках буду тебя носить.
— Саша, ну какой ты, право, навязчивый! Как что захотел, вынь и положь. А к чему все это, не соображаешь. Ты посмотри, в каких мы условиях. Комнатка — не повернуться. Война. Сами живем полуголодные. А ребенку надо много. И как мы будем жить на твою зарплату, если я уйду? Ты совсем не думаешь. И твои последние систематические выпивки. Что, мне по миру ходить тогда с ребенком?
Он лежал на кровати, заложив руки под голову.
— Знаю, знаю, не отговаривайся! Ребенка ты не хочешь не потому. Хвостом тогда нельзя крутить, вот ты чего боишься.
— Саша, как тебе не стыдно? Измучил ты меня своей глупой ревностью. Нельзя же издеваться над человеком и называть это любовью. Пусть наладится жизнь, а тогда и о детях будем думать. Ты мне только клянешься все и обещаешь, а ни одного обещания не выполнил. Учиться обещал — не учишься, пить бросить — не бросаешь. И главное, эта глупая ревность!
— Не любил бы, не ревновал. Вот ты не любишь, и тебе все равно, где я и с кем. А я могу завести себе кралю, будь здоров. Мужики сейчас в цене.
— Ах, оставь меня в покое! Заводи, ходи, делай как тебе угодно.
— Ну вот-вот! Я давно чувствую, что хочешь от меня отвязаться. На фронте путалась, здесь путаешься. Тебя кобели больше устраивают, чем порядочные мужья. Все знаю, и давно знаю! Меня не проведешь.
— Ну а зачем нам жить, если я такая? Давай разойдемся по-хорошему, как люди!
— Ишь чего захотела! «Разойдемся». Меня пока устраивает. А надоест, так меня не удержишь. Уйду. Просить будешь, молить, да поздно будет.
В дверь постучались.
— Войдите!
Вошла улыбающаяся Марина Саввишна.
— А где тут мой бывший подопечный? Как поживает?
Он вскочил с постели, стал обнимать ее.
— Проходите, проходите, Марина Саввишна! Забыли вы нас совсем. Сколько раз Риту встречал, приглашал вас в гости. Сам заходил на днях, никого дома.
Он суетился, не зная, куда ее посадить.
— Присаживайтесь прямо на кровать мою. Ну, Нина, давай угощай дорогую гостью!
— Спасибо, спасибо! Я отобедала только что.
— Что же это вы в гости с обеда? Нет, нет, Марина Саввишна, я вас так не отпущу. Рюмочку, моя добрая мамаша, мы с вами выпить должны. Я и слушать ничего не хочу.
Русачева глядела на печально улыбающуюся Аленцову.
— А что это, Ниночка, на вас лица нет? Бледные. Похудели вроде.
— Да вот не слушает мужа. Горит на работе. У всех регламентирован день рабочий, а она готова ночевать в госпитале.
— Нельзя, нельзя так, дорогая! Загубите вы себя.
— Раненых много прибывает последнюю неделю. Сталинградцы. И все со сложными ранениями. Ну и вот. Врачей не хватает. Одна с мужем уехала, две в декретный пошли. Вот так и приходится, когда за двоих, а то и за троих тянуть.
— А я от Канашова, моего старого доброго друга, письмо получила.
Она с радостью достала письмо из сумки. Аленцова еще больше побледнела. Он глядел, не сводя с нее глаз.
— Эх, Марина Саввишна, — вздохнул он. — Канашов не только ваш старый друг.
Она удивленно поглядела на Аленцову, на ее мужа.
— А вы его знаете?
— Я-то нет, а вот она, — кивнул в ее сторону, — до сих пор не может забыть.
— А что? Он человек хороший, порядочный, умный. Я-то его еще до войны знала: мужчина что надо.
Аленцова то холодела, то жар охватывал ее.
— Ну ладно, я вас оставлю на минутку, — сказал он, — схожу в магазин, а вы поскучайте пока одни. — И, одевшись, вышел.
Аленцова чувствовала, что он стоит и подслушивает под дверью, обняла Марину Саввишну и зашептала ей жарко в ухо. «Ох, что вы наделали, Марина Саввишна? Он же теперь мне жизни не даст. Изведет ревностью и подозрениями». На глазах ее показались слезы. Она почувствовала, как он, крадучись, уходил от двери. «Ушел», — сказала она.
— Подвела я вас, ох как повела! Не знала, честное слово, не нарочно! Не подумайте, что плохого хотела.
Аленцова махнула рукой, вытирая слезы.
— Теперь уж все равно. Как будет, так будет. Вы тут ни при чем.
Марина Саввишна глядела на нее, чувствуя себя виноватой.
— Вот так, невзначай, принесла людям неприятность, когда и так их много в жизни у каждого. Нина Александровна, я, конечно, не знаю ваших семейных отношений, но думаю, что все обойдется хорошо. Любит вас, вот и ревнует. Женщина вы видная. И оно вполне понятно. Сам он сколько выстрадал, бедняга. Чудом к жизни вернулся. Он мне о вас все уши прожужжал. Может, это и помогло ему в его тяжелом недуге. Сколько он мне о вас рассказывал.
— Простите, не понимаю, Марина Саввишна, я такой любви. Не понимаю.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
10 ноября 1942 года в селе Татьянка, что южнее Сталинграда, в штабе 57-й армии состоялось совещание. Председательствовал представитель Ставки генерал-полковник Василевский. На совещании были: член военного совета Сталинградского фронта, представитель Ставки генерал армии Жуков, командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко, командующие армиями: 57-й — генерал-майор Толбухин, 51-й — генерал-майор Труфанов, 64-й — генерал-майор Шувалов, командиры корпусов: 4-го кавалерийского — генерал-лейтенант Шапкин, 4-го мотомехкорпуса — генерал-майор Вольский и 13-го механизированного — генерал-майор Танасчишин, командиры дивизий.
На этом совещании командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко, учитывая общий план контрнаступления трех фронтов, о котором сообщал Василевский, доложил участникам замысел Сталинградской операции. Было подробно разобрано: соотношение сил по этапам боя и по дням наступления с учетом резервов противника и их возможных контрдействий и направлений главного удара, состав ударных группировок 57-й и 51-й армий, подвижные группы фронта и основные этапы их операций.
Чтобы подготовить и доложить это решение командующему фронтом, потребовалось почти полсуток непрерывной работы. Надо было теперь только оперативно проводить его в жизнь.
* * *
Вечером 16 ноября полковник Бурунов был на докладе у командующего армией. Здесь, в блиндаже командарма, находилась все его 6лжайшие помощники. Обсуждался вопрос о возможностях дальнейших активных действий армий. Силы ее были истощены до предела, неоднократные просьбы о маршевом пополнении оставались гласом вопиющего в пустыне.
В это время позвонили из штаба фронта и предупредили: «Ожидайте приказ». Все переглянулись. «О чем мог быть приказ из штаба фронта?» — подумал каждый.
Член военного совета встал взволнованный.
— Я знаю: это приказ о большом контрнаступлении!
Никому не верилось, что вот так придется вдруг наступать. Да и с чем наступать армии? Все силы на пределе. На учете каждый боец. Все молча, задумчивые и ожидающие, пошли на узел связи армии. Нервы напряжены, и тишина такая, что слышно дыхание.
В приказе говорилось: «Войска Юго-Западного и Донского фронтов 19 ноября утром переходят в наступление в общем направлении на Калач».
Как по команде, присутствующие вздохнули с облегчением, глаза засветились, появились улыбки. А «Бодо» продолжал свою работу, отстукивая слова приказа.
«Войска Сталинградского фронта переходят в наступление 20 ноября в направлении Советский, далее на Калач. Задача: прорвать фронт противника, окружить и уничтожить». Присутствующие как по команде «смирно» стали, расправив плечи, пожимали от радости друг другу руки.
— Вот и пришел на нашу улицу праздник, — сказал командующий. — Дождались мы с вами, товарищи, радостных дней. А теперь за работу!
Никто не мог уснуть в ту ночь. Бурунов, выскочив из блиндажа командарма, бежал до штаба, будто кто за ним гнался. Адъютант не поспевал за комдивом, с тревогой думая: «Что же такое стряслось? Рванул, как рекордсмен к финишу». Когда прибежали в блиндаж комдива, адъютант не выдержал, спросил с испугом:
— Что случилось, товарищ полковник?
Бурунов обнял его и расцеловал, обнял Саранцева.
— Стряслось, стряслось, товарищи, великое чудо! Фронты Дона и Волги переходят в наступление. Мы с вами тоже будем наступать.
2
Окончательно день начала наступления фронта стал известен генералу Кипоренко за двое суток.
Вернувшись от командующего фронтом Ватутина, он вызвал к себе Геворкяна.
— Ну так, Михаил Андреевич. Через два дня в прорыв. С тебя лезгинка и бутылка коньяку за то, что первым узнал эту весть.
Худощавый, подтянутый Геворкян блеснул воронеными, умными глазами. Черные, сросшиеся на переносице брови поднялись вверх, будто размахнулись крылья птицы.
— Да за такую новость, Иван Кузьмич, бочку лучшего нашего ереванского мало. Жаль, Армения далеко. А бутылку обеспечу.
— Хочу посоветоваться с тобой, — сказал Кипоренко, раскладывая карту. — Как думаешь, если мы нашу армейскую операцию с командным составом проиграем на картах?
— Само собой, Иван Кузьмич, — пожал он плечами. — Всегда так делали. Подготовим макет на ящике с песком. И…
— Ты подожди, подожди, не торопись! Всегда, да не всегда. Я задумал провести проигрыш по-новому. На местности и на ящике с песком одновременно.
— На местности, — задумался Геворкян. — Можно и на местности. Все в наших силах. Прикажите — сделаем.
— Понимаешь, это будет поучительнее и нагляднее. Каждого командира можно легко перевести от макета к стереотрубе, на реальную местность и проверить, как он понимает свою задачу, решения его будут для всех зримыми. Увидят они своими глазами и направления наступления, и рубежи, которые необходимо достигнуть согласно приказу. Главное для этого проигрыша — установить, как понимают взаимодействие наши командиры соединений. Посмотрим, как будут вводить в бой вторые эшелоны, как думают использовать артиллерию в глубине обороны. А в таком ответственном наступлении — это первостепенные факты для нашей глубокой, таранящей операции.
— Очень правильно, товарищ генерал! Хорошо задумали.
— Поддерживаешь, значит? Тогда слушай, что надо делать. На высоте 217.4. Вот, — показал он карандашом, — где наш вспомогательный пункт. Завтра к рассвету подготовить полевой кабинет для занятий с макетом местности и обстановкой. Неподалеку от макета иметь достаточное количество щелей с легкими перекрытиями. На всякий случай. Налет или воздушный наблюдатель появится. От макета метрах в пятидесяти. Вот тут, где овражки, расставить стереотрубы. Ну и само собой, полная маскировка, скрытность и тайна. Командиров вызовем особым распоряжением, врасплох. Никто, кроме нас с тобой и члена военного совета, об этом не должен знать.
— А представителям штаба фронта будем докладывать?
— Само собой разумеется. Набросай план, и доложим.
Вошел член военного совета полковой комиссар Поморцев, поздоровался. Он совсем недавно был назначен в армию. Пошла вторая неделя, а он пропадал большую часть времени в частях и соединениях, знакомясь с командирами, политработниками и политотделами. В первый же день приезда в армию он оговорил себе такое право у Кипоренко. «Без знания людей и войск, их настроений я тебе не помощь, а обуза», — сказал он. Кипоренко согласился с ним. Без его организаторской работы в политотделах и партийной направленности трудно было рассчитывать на успехи войск в такой ответственной операции, которую предстояло провести армии.
— Как идет знакомство? — спросил Кипоренко. — Успешно?
— Где как. Со всеми перезнакомился. С кем и подружился, а с кем и поругаться пришлось. В дивизии Маринина был. Только что оттуда! Так все у них идет хорошо, подготовку к наступлению закончили, народ по-боевому настроен. А вот политработников некоторых пришлось подстегнуть. Самоуспокоенностью повеяло, Чего, мол, нам агитации разводить, все без того рвутся в бой. Приказа только ждут. Противника недооценивают. Румынские войска — это не немцы. А перебежчики приходят, они не используют их в интересах контрпропаганды.
— В общем, как говорит, шапками закидаем, ногами потопчем, — бросил Геворкян. — А не учитывают того, что немцы больше двух месяцев оборону эту создавали. И румыны сменили их — тоже не сидели сложа руки.
— Самое опасное на войне — предполагать, что враг глупее тебя, — сказал Кипоренко, — Мы тут с Михаилом Андреевичем, Константин Васильевич, посоветовались и решили с командным составом проигрыш операции провести. План Геворкян разработает и познакомит тебя. Как твое мнение?
— Думаю, это только на пользу нашему большому делу. Убедимся своими глазами, как командиры действовать станут. Не мешало бы и комиссарам их кой о чем послушать.
— Давай, я не против. Больше ответственности друг за друга и единства в бою будет, — поддержал Кипоренко.
* * *
Ранним утром на южных скатах высот на наблюдательном пункте собрался высший командный состав армии. Представители штаба фронта, ознакомленные с планом предстоящего проигрыша операции, пытались доказывать, что все это ни к чему, мотивировали свои соображения и излишней потерей времени, а дел еще у войск-де немало, и что все это небезопасно, противник может накрыть огнем, и даже тем, что в других армиях такие проигрыши не проводятся, а достаточно сделать это на картах и ящике с песком.
Но Кипоренко настоял, взяв всю ответственность на себя. Под раскинутыми маскировочными сетями, трепетавшими от порывов холодного ветра, начала работу «полевая армейская академия». Воздух по утрам родниково-прозрачен. С высоты как на ладони видны прячущиеся в лощинах населенные пункты, отдельные долинки, горбы высот до дымчато-голубого горизонта. Кипоренко стоит вполоборота к своим позициям, чтобы видеть большинство присутствующих.
— Перед тем как начать занятие, товарищи, я хотел бы вам напомнить полезную для всех истину: «Самое опасное на войне — считать врага глупее себя». До меня уже дошли такие мнения: «Мы их танками передавим быстрее, чем они очухаются», «Наша артиллерия сровняет их позиции с землей» и тому подобные шапкозакидательские настроения. Как, Константин Васильевич, есть кое у кого такие настроения? — обращается он к Поморцеву.
— К счастью, не у многих, но есть.
— Опасны эти настроения по двум причинам: ошибочное мнение одного командира — это деморализация сотен и тысяч его подчиненных, и другое: такое мнение может сложиться только у командиров, не знающих хорошо противника. Оборона врага, которую нам предстоит прорывать, построена продуманно и, я бы сказал, искусно. Посмотрите на последних примерах разведки боем наших батальонов. В дивизиях Маринина, Сундукова, Гребнева, как удалось установить разведке, передний край обороны противника нередко проходит по обратным скатам высот, с хорошо продуманной системой огня и, что особенно важно для нас, танкистов, противотанкового огня. Оборона противника активна. Вон в полку Миронова на батальон было брошено два батальона пехоты, и трижды враг переходил в контратаку. Ясно, что артиллерийская и авиационная подготовка сделает свое дело, но и представлять так, что дальше предстоит нам прогулка по вражеской обороне, — ошибочно. И вредно. Можно дорогой ценой заплатить за такие заблуждения. Командиры, слушая Кипоренко, переглядывались, стараясь догадаться, кого же из них подразумевает командарм.
— Послушаем полковника Андросова, — сказал Кипоренко.
Андросов подошел к ящику с песком и стад докладывать, переходя от ящика с песком к местности. И многие с завистью глядели на его умение спокойно и правильно решать предстоящие задачи. Но тут вмешался генерал Геворкян.
— Разрешите, — спросил он, обращаясь к командарму, — один вопрос?
Кипоренко кивнул головой.
— Вы ввели в бой второй эшелон, успешно наступаете, все идет как по нотам. Но вашу дивизию контратаковали с обеих флангов силою до батальона с танками, — Он показал на местность. — Видите, безымянная высота? Полки завязали бои и приостановили наступление. А один из полков продолжает успешно наступление. И отрывается на два, три и более километров. Вы получаете приказ обеспечить ввод в прорыв танков для развития успеха. Что будете делать?
— Отобью контратаки и обеспечу ввод.
— А танки вас будут ждать? Они же в движении. И скорость, вам известно, у них немалая.
— Ну, ну, — погрозил пальцем Кипоренко, косясь на Канашова. — Без подсказок. Учеников и тех из класса за это просят. Да и в бою некому подсказывать. — Андросов замешкался. — Артиллерию вы забыли. А ее у вас достаточно. И главная ошибка — нельзя две трети сил останавливать для отражения контратаки. Хватит и по батальону со средствами усиления, а остальные четыре батальона только вперед. Иначе задачи дня вам не выполнить.
Теперь слово за командирами-танкистами. Полковник Коноплев! Ваша танковая бригада прорвалась в оперативную глубину, соседей у вас нет. Разведка вам донесла, что в стороне от вашей полосы наступления обнаружена колонна автомашин врага. Силой до пехотного батальона. Ваше решение?
— Нанести внезапный удар и разгромить, а потом продолжать наступать в заданном направлении.
— Неверно. А задачу кто будет выполнять за вас?
— Разрешите, товарищ генерал? — обратился Канашов. — А если я принял бы решение уничтожить одним батальоном.
— Так, так, — сказал Кипоренко. — Но вскоре к вам поступают данные разведки, что слева, тоже не в вашей полосе, обнаружен аэродром противника.
— Я бы нанес удар и по этому аэродрому, еще одним батальоном.
— Ну, вот и опять неверное решение.
— Почему неверное? Иду, значит, зеленой улицей, против меня никого нет, и оставляю все соседу справа и слева.
— Но есть же другой выход, — сказал Кипоренко. — Вызвать авиацию, а против батальона пехоты и артиллерия может многое сделать. Нельзя, отвлекаясь от главной задачи, решать второстепенные. Представьте, пока вы били направо-налево, а противник подтянул силы к пункту, который вам предстоит захватить по приказу? Вы подошли к нему, а он вас отбросил.
— Все равно не согласен, товарищ генерал!
Мнения разделились, начался спор, выдвигались новые решения, но в конце концов большинство поддержало Кипоренко. Канашов остался при своем мнении. Но, когда закончился проигрыш, все же согласился:
— Вы, товарищ генерал, правы. Тут я погнался за двумя зайцами, которых вы мне любезно подсунули.
— Хорошо, хоть ошибки признал, и то польза. Здесь пока все безобидно, без крови и жертв обходится. Поспорили, но потерь не имеем. Главное — там с горячим сердцем да с холодным умом все решать.
Кипоренко призадумался, сказать ли Канашову об одной новости. Она стала ему известна сегодня накануне их занятий. Из штаба Юго-Западного фронта в армейский подвижной госпиталь приехала служить Аленцова. Он сам был удивлен, как она могла уехать, бросив семью и службу? И подумал с беспокойством: «Не сама ли она убежала? Надо будет все выяснить, может, даже вызвать поговорить. Или попросить Константина Васильевича? А Канашова, пожалуй, не стоит волновать. Сейчас не время решать любовные вопросы, когда предстоит такое ответственное наступление».
— Ну что ж, иди занимайся делами. Проверь еще раз, как у тебя подготовлено. Подумай, что брать с собой из материально-технического обеспечения. О материальной части танков не забывай. Зима. Техника в бою должна работать без перебоев.
«Грустный он, страдает по ней, видно, подумал он о Канашове. — Как бы его отвлечь? Чем можно помочь? Может, поговорить по душам, по-мужски?»
— А если не устанешь после проверки, заезжай ко мне на огонек. Сыграем в шахматы. Давненько я не играл.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
У командующего группой армий «Б» приподнятое настроение. Давно уже подчиненные не видели его таким добродушным. Но никто из его ближайшего окружения не понимал, чем это вызвано. Правда, он долго говорил сегодня с Паулюсом и после разговора с ним повеселел. Но в штабе Вейхса все, начиная от его начальника до рядовых штабных офицеров, недоумевали. Чему радоваться? Вот уже несколько дней подряд агентурная разведка сообщает тревожные вести: «Севернее в северо-восточнее Дона появились новые части в соединения русских. Советское командование что-то замышляет. По железной дороге Лиски — Новохоперск — Самойловка — Камышин обнаружена усиленная переброска войск противника». А сегодня данные аэрофотосъемки и воздушного наблюдения снова подтвердили ранее полученные сведения. В донесениях говорилось: «Русские подтягивают танковые войска к левому берегу Дона. Замечено оживление и перегруппировка отдельных частей на правом берегу Дона и юго-западнее Клетской».
Барон фон Вейхс просматривал сводки, донесения, новые сведения о сосредоточениях советских войск и снисходительно улыбался. Когда начальник штаба предложил усилить все виды разведки и главным образом воздушную, Вейхс сказал ему:
— Я вполне убежден, господин генерал, все эти передвижения русских всего лишь хитрый маневр. Перебрасывая одни и те же части и соединения, они пытаются ввести нас в заблуждение. Они пугают и думают, что мы клюнем на их приманку и отведем основные силы 6-й армии из Сталинграда. И тем самым хотят спасти задыхающуюся 62-ю армию, зажатую нами в тиски. — Вейхс встал и погрозил неизвестно кому пальцем. — У них ничего не выйдет. Им не удастся обмануть нас. Фюрер правильно делает, приказывая нам не распылять сил, сосредоточить их в Сталинграде и раздавить остатки шестьдесят второй армии. Я говорил с Паулюсом, и он меня заверил, что они очистят от остатков чуйковских войск последние кварталы города в ближайшие дни этой недели.
Начальник штаба не мог возражать компетентному мнению своего высокоавторитетного военачальника, который пользовался благосклонностью фюрера и был почитаем в высших военных кругах. До кого-кого, а до начальника штаба дошли слухи, что Вейхс представлен к высшей награде — «дубовые листья к рыцарскому кресту». Вот по этому случаю Вейхс находился в прекрасном настроении, вызывая недоумение подчиненных.
Позвонил командующий 3-й румынской армией. Голос взволнованный. Чувствуется, что он чем-то серьезно обеспокоен.
— Последнее дни, господин генерал, русские войска ведут разведку боем на ряде участков моей армии. По данным нашей разведки, отмечено появление танковых частей южнее Бобровского и Усть-Хоперского.
— Нам известно, — ответил Вейхс. — Не придавайте всему этому большого значения. Все это не более как хитрость русских. Если они и попытаются что-то сделать на отдельных участках малочисленными силами, мы быстро локализуем их. Поверьте мне. Я привык быть хозяином своего слова.
— Но, господин генерал, если они начнут наступать с танками? Вы же знаете, у меня в частях некомплект в людях, и главное, нет надежных противотанковых средств. 37-миллиметровые орудия на конной тяге. Их пробивная сила незначительна. Бить из них по русским танкам — что горохом в стену.
— Ну, ну, господин генерал, пока стены я не вижу. Не надо ее создавать из весьма еще некомпетентных фактов. Кой-какие меры мы примем. Могу вас порадовать. У ваших соседей справа дела идут хорошо. Они, как никогда, близки к цели. А с ее осуществлением вы будете дышать совсем легко. Спите спокойно, господин генерал! Я позвоню вам, когда надо будет готовить к параду в Сталинграде ваши доблестные румынские войска.
* * *
В тот час, когда командующий группой «Б» находился в великолепном настроении, многие его подчиненные были обеспокоены надвигающимися, как они чувствовали, грозными событиями. Сигналы, поступающие из различных каналов разведки, не могли их не беспокоить. Да и непосредственно в соединениях и частях обстояло все не так уж хорошо, как хотелось этого некоторым немецким военачальникам. По отдельным сведениям и личным неудачам в бою они хорошо знали, что 6-я армия топчется на месте — на одних и тех же позициях в Сталинграде. Реальных признаков, приближающих победу, пока не видно.
Мильдер возвратился из штаба Паулюса в подавленном настроении. Паулюс никогда еще не был таким рассерженным. Он бил кулаком по столу и кричал: «Отдам всех под суд, если кто посмеет не выполнить моего последнего приказа. Из-за вашей нерешительности я выгляжу идиотом перед фюрером. Мы уже обещаем взять Сталинград два месяца».
«Но что можно сделать, — думал Мильдер, — если русские стоят, будто железобетонная стена, о которую разбиваются все наши стратегические планы и решения. Нужно перенести главный удар армии куда-либо севернее или южнее Сталинграда. И это определенно принесло бы нам быстрый успех. Здесь же мы теряем бесполезно силы.
Неудачи в Сталинграде — это не просто досадные случаи. Во всем этом надо разобраться основательнее, пока еще не поздно, и принимать быстрые и решительные меры, — размышлял он. — Иначе это может привести нас к далеко идущим и непоправимым последствиям. Так мы можем проиграть войну». От этих мыслей он весь похолодел, сжался, оглядываясь в испуге по сторонам. Он развернул газету «Фёлькишер беобахтер» и увидел рядом с рекламными объявлениями большое количество извещений в траурных рамках, лаконично сообщающих о гибели офицеров и генералов под Сталинградом. Последние дни их печатали часто.
— В штабе корпуса Мильдера ожидала еще одна неприятность, от которой он, совсем пал духом. Телеграмма извещала о том, что тяжело заболевшая жена его Марта находится при смерти.
2
Командир штурмовой группы сержант Горицвет из батальона лейтенанта Ежа ходил с утра расстроенный, сердитый и придирался к бойцам. У Савкина обнаружил несвежий подворотничок, а он его только вчера вечером подшивал. У Сироткина — оторванную пуговицу на рукаве гимнастерки, — и как он только ее заметил? Обозвал его неряхой. На лице копоть и грязь — так это мина близко разорвалась и прикоптила. Сироткин постарался отшутиться: «К чему умываться, коли не с кем целоваться?». Пригрозил нарядом. Авердяна дважды посылал добриваться. И хотя тот пытался уверить, что, пока он бреет правую щеку, на левой уже растут волосы, сержант не хотел слушать его объяснений.
«Ой, джан, ой, джан, — ворчал Авердян, — не знает, кавказский мужчина всегда неприятность от волоса имеет». Кубисову крепко попало от сержанта за ручной пулемет: густо затвор смазан. (Так оно же, масло, густеет от холода.)
И даже своему заместителю, первому номеру, бронебойщику ефрейтору Кукуеву сделал Горицвет замечание. (Кукуев снял сапог с раненой ноги. Жмет, не дает уснуть, а он вернулся с дежурства, из ночной смены).
— Вы бы еще до трусив рассупонились. Нимиц у суседним пидвале, а вин спит, як с жинкой, на кровати.
Бойцы привыкли к жестокой требовательности своего отделенного командира. И только Авердян пытался возражать, доказывая свою правоту, за что нередко получал взыскания на предельную уставную норму.
А для Горицвета, как он говорил: «Чи стреляют по тоби, чи ни, в казарме ты или в окопе — все одинаково, солдатская служба. Во всем прежде всего треба порядок».
Странный характер у этого Горицвета. Когда на войне бойцу за своим внешним видом смотреть? Да еще здесь, в Сталинграде. В день в атаку ходишь по стольку раз, что и забываешь. Обстрелы, бомбежки беспрерывные. Света белого не видать: в дыму, в пыли, в грязи, в воде. — Поесть, и то свободной минуты не выбрать.
Хотя и бойцам иногда приходилось видеть как, попав в кутерьму боя. Горицвет не брился, не мог подшить подворотничка, тогда очень злился, поглаживая заросшие щеки, подворачивал ворот. Ну, в такие моменты не подступись к нему, не заикайся, что пора, товарищ сержант, отращивать бороду и усы.
Но сегодня все знают, что Горицвет был не в духе совсем по другой причине. Долго — а для сталинградских защитников это очень долго, вторая неделя пошла — ожидал Горицвет желанного пополнения. Комплекты теплого обмундирования выдали, и оно лежало без пользы. Его засыпало землей при обстрелах и бомбежках. И, проходя мимо кучи солдатской одежды, командир не мог не сплюнуть от злости, а то и выругаться: «Добро народное пропадает зря».
А когда упала зажигалка, и сгорели две ушанки и стеганые брюки, так он так материл фрицев, что бойцы, никогда не слышавшие от него грубой брани, от удивления глаза таращили.
Вечером штурмовой группе Горицвета лейтенант Еж поставил боевую задачу: выбить немцев из полуразрушенного каменного особняка. И тем же вечером пришло пополнение. Как сказал сержант своему заместителю: «Два с половиной человека». Попробуй выполни с ними задачу. Вот и рассердился Горицвет, а потому и придирался к подчиненным.
— Микола, а, Микола, — подошел к Горицвету сосед, командир штурмовой группы сержант Куралесин. — Ты чего сердитый? Аль давно не битый?
С Куралесиным Горицвет крепко породнился в Сталинграде. Во время последнего большого наступления немцев, месяц тому назад, контуженного, закопанного взрывом Горицвета отыскал ночью и приволок на себе Куралесин. Крепкий здоровяк Горицвет быстро пришел в себя и через две недели сбежал из медсанбата в свою дивизию. Получил взыскание. Но в тот же день в бою захватил двух «языков», и комдив наградил его медалью «За отвагу», а подполковник Коломыченко назначил командовать штурмовой группой.
Горицвет был не в духе, мог бы и сейчас схватиться со своим дружком Куралесиным, но тот имеет к нему особый подход и знает, как остудить его горячность. Молча достает он пачку любимой Горицветом духовитой уманской махорки и протягивает ему. Горицвет молча берет пачку, обнюхивает и облегченно вздыхает. И по мере того как происходит эта важная подготовка к закуриванию: сыплется на ладонь табак, оценивается на качество, отрывается расчетливо газетка, насыпается в нее табак, слюнявится цигарка — лицо Миколы постепенно проясняется, добреет. А когда сделаны уже первые две-три жадные затяжки, оно становится умиротворенным, и только топорщатся лохматые, удивленные брови.
— Бисив хлопец. Ума не приложу, И де вин достает такий гарный тютюн? Пахне, як мэд.
Куралесин лукаво подмигивает ему:
— Иду к тебе, гляжу, лежит цельная пачка.
Горицвет грозится толстым, крючковатым после ранения пальцем.
— Не морочь головы, Артэм, — И, отворачиваясь, добавляет: — Меня и без того тошно, як с похмилья.
Куралесин делает серьезное лицо, бьет себя в грудь,
— Говорю — нашел! Кто-то обронил. Или, может, с немецкого «юнкерса» выпала. Они последнее время частенько своих с парашютов подкармливают.
— Та брось дурака валить. Не до шуток.
— А что у тебя стряслось?
Горицвет неохотно возвращает начатую пачку махорки, но Куралесин рукой отстраняет.
— Возьми, пригодится.
Горицвет бережно распечатывает, достает объемистый кисет, расшитый яркой украинской вышивкой, с петухами — подарок невесты — и осторожно ссыплет, выбивая рукой до единой крохотной табачинки.
Кисет Миколы служит предметом частых насмешек Куралесина. Он называет его и чувалом, в который полпуда муки войдет, и девичьим кокошником, и даже чертовой рукавицей. Но Микола привык, не сердится.
Куралесин тянет руки к его кисету,
— Дай-ка из твоего табачного вещмешка закурить, а то дома позабыл спички, — Они снова закуривают.
— Пытаешь, чого мени сумно, а чому радуватись? Прийслали учора пополнение. Насмешки творят. Матроса-калику. У его рука на пидвязки ще высить, та двух хлопчиков. Курсантики. Шо у мэнэ, флот якись чи дитячий сад?
— Ну, это ты, Микола, напрасно. Матрос для Сталинграда — солдат первый сорт. Их фрицы боятся, полосатой смертью называют. Мне приходилось с ними воевать вместе. В штыковой перед ними никто не устоит.
— С виду вин глыба — не чоловиче. Та шось сумный и вовком на усих дивиться. Мабуть, думку мае, як ему на флот податысь.
— Чего ему флот, раз пришел сюда раненый воевать. Ты это зря, А что хлопцы молодые — не беда! Здесь все быстро воевать учатся.
— Знаемо мы цих морякив. Ты мени нэ кажи за них. Був у мэнэ одын. Хватанув я з ним горя.
Горицвет сердито стряхнул пепел с цигарки, подозвал заместителя.
— Пиды, Кукуев, поприглядись до нового пополнения. Спытай, хто воны, откель, взнай, шо за настроение. Завтраво нам з ними в атаку идти. А мы с Куралесиным над планом помаракуем.
Кукуев ушел выполнять приказание.
— Як думаешь, Артэм. Чи мени удоль проулка одарить на цей особняк, чи, можэ, с подкопа. Е тамичко норка годна. Саперы для сэбэ рыли, та бросилы. А я запримитыв. Думаю, сгодится на случай.
Куралесин почесал затылок.
— С переулки тебе особняка не взять. Мои совались. Не вышло. У них огонь перекрестный, вон из того дома, — показал он рукой. — Из дзота бьют. Если бы подавить их, тогда можно. Данай с подкопом бери. Оно вернее будет.
Он широко зевнул, и, устроясь удобней у дыры, откуда пробивались ласкающие лучи осеннего солнца, блаженствуя, зажмурился.
— А что у тебя за моряк был? Не помню что-то. О нем ты мне не рассказывал.
— Та чого о ем казаты? Меня и споминэть про его претить. Хватив я з ним лиха.
— Не верю, — подзадоривал Куралесин. — На флоте нет таких моряков.
— Вот тоби хрест. Не бачить меня рядной маты и батько. Ну и брехун був, у всим святи не найдешь. Одурачивал усих, та и мэнэ. Писля розибрались, то вин такий моряк, як я маршал. Брехав, як по нотам грав. Це ще я пяд Харьковом взводом командовал.
— Взводом?
— А шо тут такого? Командира, лейтенанта, убыло, а я за него оставсь. Як бы согласивсь на курсы ихать, давно бы вже кубари носив. Так слухай, раз зачепив. Прийслали до менэ пополнение, и той моряк з ним. Росточка маленького, з волосу червоный та конопатый, а нис в гору. «Шо меня туточку пыляку глотать у пихоти». Росхристанный, тельняшку усям каже. Над хлопцами надсмихяется: «Эй вы, пузолазики, шо вы бачили на свити, а я де тилько не плавал, яких стран не надивувавсь». Я, дурный, поверив. Жалкую об ем. За яке таке дило наказали хлопца, с воды на землю послалы воеваты? А як начнэ про жизнь свою балакать. Судьба моя морска. Родила менэ маты пид Одессой, у лодки, в штормягу. Звати его було Жора, а хфамилия чудна — Булыжный. А хлопцы ему писля другу приляпали — Бултыжный. Пока мы по степам отступали та ричок не устричали, стилько ляп баек набрехав о своей морской житии — на книгу толсту хватэ. А стали подходить до Дону, литом цего году, от туточки с ним и приключивсь конфуз. Намаялись уси, жара, як у пичи, за день сорок вэрст протопали и спать полягали. А Жора той поглядит на Дои и бига туды-сюды. А напарник его — Иван Федорчук, из донских казакив. — пытае: «Чого ты, Жора, бигаешь, будто тэбэ бжолы покусали?» — «Сни мени, каже, дурни спаться третью ничь пидряд. Будто вода менэ не держить, и тону я». А сам Федорчука издалече пытае: «А што, Иван, глубокий ваш Дон?» Той смекнув, шо Жора злякавсь, и давай его стращать: «Туточки шо, цэ ще не Дон. А вот тамочки, де нам форсировать прийдется, так и берега ни побачиш, як море Чорнэ». — «Ну, тамо корабли е, — отвеча Жора, — та и лодки». Корабли в Ростове, а лодку де найдешь? Поховали, мабуть. На другий день пишлы удоль берега и ускоре приказ получили командира полка: «Форсировать на спидручных средствах». Вот туточки и началось — и смих, и грих. Нимцы, як скаженни, налети роблят. А Жора як побачит самолет, голову у яму, а зад доверху. Хлопцы шуткуют. Каску ему на сидальник положили. Начали переправу, а вин отказывается у воду лизты. Приказываю хлопцам: «Спущай у воду». Отбивается руками и ногами. Они шуткуют над ним: «Мы, Жора, с тобой, як риба с водой. Ты на дно, а мы на той берег».
— Ну и как же вы переправили?
— Бочонок зализный найшли, привязали, а двое на бичевках тяглы до того берега. Шо ты думаешь, Артэм. Моряк цэй у писках, в Средней Азии, уродивсь. Вин до армии и рички не бачив. Кннчив техникум товароведов, а в армии каптенармусом при морской базе пислали его в Одессу. Флотску справу выдавал.
— Так это же не моряк у тебя служил, а самозванец. Давай-ка еще закурим. Отметим в твоей жизни счастливый случай, как ты моряком липовым командовал.
— Товарищ сержант, — обратился Кукуев. — Все как есть разведал. Разрешите доложить? Фамилия моряка Чобот.
— Чобит? Не земляк вин? Були в нашим сели на Полтавщине Чобиты.
— Не знаю.
— А шо ж докладаешь — усе разведал?
— Сам он с Тихоокеанского флота. Доброволец. Воевал здесь, в Сталинграде, бронебойщиком. Ранило, а в госпитале письмо получил. Жену его и дочку немцы расстреляли. Вот он и убег из госпиталя и упросил командира полка нашего Коломыченко. А он к нам его.
— Це так, а шо ж вин с одной рукою тут булз робить. Можэ, оставить. Заживэ рука. Тоди возьмэм. У Сталингради на усих войны хватит.
Никто из троих не заметил, кок к ним подошел Иван Чобот. Он стоял, широко расставив ноги. Шея упрямо набычена, глаза с прищуром.
— Товарищ сержант, — сказал он тихо, хрипловато. Но все вздрогнули, услышав его голос. — Завтрево я пиду в атаку. У меня, окромя годной руки, голова е на плечах. Не можу не ити. — Он ударил здоровой рукой в грудь. — Горить у мэнэ усэ.
— Возьми, — сказал Куралесин, — человек не на гулянку просит тебя, а в бой. А боишься отвечать — давай его ко мне.
— Ты, ты шо, сдурив? — Горицвет ссучил кукиш и показал Артему. — На вот, выкуси.
* * *
Штурмовая группа Горицвета ранним утром начала атаку. Легкий ветерок потянул с левого берега волги и натащил в город будто дыма тумана. И хотя это затрудняло действия наших бойцов, командир их Горицвет был доволен. Эта маскировка позволит незаметно сблизиться и атаковать внезапно. Теперь не надо было долго подбираться ползком по норе саперов, которую облюбовал накануне Горицвет.
Наши минометы с берега ударили по полуразрушенному особняку, как было спланировано, и тут же, пока еще не рассеялся дым от взрывов, во вражеские пулеметы полетели гранаты. И бойцы ворвались в полуподвал. Одним из первых был Иван Чобот. Он сбил ударом ноги рванувшегося к нему немца и добил его автоматом. Но к нему кинулись еще двое. Одного из них скосил молодой курсант, а со вторым разделался сам Чобот, орудуя автоматом, как кувалдой. Но немцы сражались отчаянно, так как очутились в ловушке, из которой нельзя было выбраться. Когда Чобот выскакивал из двери, его сбоку ударил штыком солдат. И хотя Иван успел отбить прикладом автомата гибельный удар, но расколол приклад. Штык скользящим острием пробил фуфайку, ранив лопатку, отчего боль сжала сердце и левую сторону груди, где еще не поджила рука. Он сцепил зубы, чтобы не крикнуть, схватил солдата за ворот и рванул на себя, нанося ему удар головой в подбородок. Немец свалился, а подоспевший курсант (его закрепил Горицвет в помощь раненому Чоботу) добил его автоматной очередью.
— Ну, сынок, гарно подсобляешь ты мэни. Бей! — крикнул он, показывая рукой на потолочную дыру, откуда показались два автоматных ствола, а сам отскочил в дверной проем.
Курсант срезал одного очередью и шмыгнул за стену.
— У вас кровь на спине, товарищ матрос. Ранило? Давайте погляжу.
Лицо у курсанта было бледное, испуганное. В настоящем бою он был впервые.
— Та то пустяк, сынок, чуток ковырнул немец штыком.
Они и сами не заметили, как стихли взрывы гранат и стрекот автоматов и навстречу им, когда они вышли наружу, плелись с поднятыми вверх руками три фашистских солдата, а за ними боец Савельев и сержант Горицвет.
— Товарищ Чобит, — сказал командир, увидев окровавленную спину матроса, — доставить пленных у штаб. Самому на мэдпункт!
Шея Чобота набычилась, он бросил гневный взгляд на немцев.
— Я нэ лакей таку погань водыть.
— Боец Чобит, — повысил голос Горицвет, — я вам приказываю!
— Товарищ командир. Я нэ можу. Нэ ручаюсь за сэбэ. Побью я их.
— Та вы шо? Цэ ж «языки»! — И, взглянув на Чобота, понял: пленных сейчас ему доверять нельзя.
— Савельев! Одна нога тут, друга там. Донесение лейтенанту Ежу. И бутылок с «каэсом» захватить. Сдается мени, дэсь грохотят немецки танки.
Слух не обманывал командира. Где-то уже скрежетали гусеницы танков. Все припали к амбразурам, пробоинам, вглядываясь в рассеивающийся туман, туда, где торчали остатки труб и разбитые остовы зданий, чернеющие проемами бывших окон. Тут же ударила вражеская артиллерия. Два снаряда разорвались со стороны западной стены особняка, обдав всех горячим, смрадным запахом взрывчатки и забросав землей и битым камнем. Но, на счастье, никто из бойцов не пострадал.
— В подвал! — закричал Горицвет. — Пулеметчики до амбразур! Бронебойщики по углам! Командиру орудия (у них была одна «сорокапятка», которая действовала со штурмовой группой) приготовиться к отражению танков прямой наводкой!
Но боевые расчеты еще не успели разместиться, когда вдоль переулка и со стороны одинокой трубы показались четыре танка. Они открыли с ходу огонь, приближаясь к особняку.
— Не спешить, — предупредил Горицвет командира орудия, подползая к артиллеристам. — Слухай мою команду.
Расстояние между движущимися танками и притаившимися бойцами быстро сокращалось.
— Огонь! — дернул за рукав наводчика Горицвет.
Первый снаряд ударил рикошетом и, взвизгнув, исчез, не достигнув цели. Второй попал и башню. Но танк двигался. Третий, четвертый. Снаряды летели мимо. Танк маневрировал, делая короткие остановки. Наши артиллеристы заметно волновались, Но когда танк очутился почти под прямым углом, ударили бронебойщики ему в бок, и танк задымился. Тем временем орудие открыло огонь по другому ближнему танку. Он был подбит вторым снарядом. Следовавшие за ними дна немецких танка открыли одновременно огонь по нашей «сорокапятке». Один вражеский снаряд разорвался вблизи орудия. Двух человек убило и одного ранило.
Из переулка показались еще три танка, за ними уже бежала немецкая пехота. Зацокали о камни пули. Тяжело ранило наводчика и убило командира орудия. Горицвет пополз к орудию — и еще один вражеский танк загорелся. Но враг наседал. Он во что бы то ни стало пытался вернуть потерянную выгодную позицию. Он чувствовал, что сил у защитников мало.
Один из танков стал обходить слева.
Чобот глядел беспомощно на бой с танками, видел, как выносили одного за другим тяжелораненых, и тугой комок застрял в горле. Но что он может сделать? Стрелять из бронебойной с одной рукой невозможно, подползти, бросить связку гранат, когда жжет старая рана в руке и новая разламывает спину — нет сил. Да далеко ли бросишь связку лежа? Навстречу ему бежал и тащил волоком ящик бутылок с «КС» боец Савельев. «Вот это другое дело», — мелькнула мысль у Чобота. Он схватил три штуки, рассовал их по карманам и за пояс и, прячась за развалины, стал приближаться к обходящему слева танку. Отдышался. Танк громыхал рядом. Спрятался за остаток стены. И когда танк уже прошел, метнул одну за другой все три бутылки по жалюзям. Танк вспыхнул, загорелся. Из него выскакивали объятые пламенем танкисты, падали, катались по земле, сбивая пламя. «Так, так вам извергам! За жинку, за ридну доню, за погубленных людей наших, — шептал он. — Где же мой сынок с автоматом, докончил бы, а то уйдут?». Орудие молчит. «Неужели все убиты? И командир наш». Бегом бросился он обратно к подвалу. Савельев лежал раненный в обе ноги и стонал.
— Где Горицвет?
Савельев едва пошевелил губами: «Ранен. У орудия». Чобот снова схватил из ящика бутылки, торопливо распихал их по карманам и за пояс. «Надо поспеть. Танки раздавят наших раненых вместе с орудием». Добежал до развалин. Зацокали пули немецких автоматчиков. Упал на правый бок и пополз. Бутылки мешали ползти, цеплялись за землю. «Скорее, скорее». Вот уже он почти у цели. Сполз в воронку. Танк уже грохочет рядом. Он, кажется, идет через него. Чобот поднял голову из воронки. «Надо кидать, а то не поспею». Неудобно одной рукой. Вынул бутылки, ткнул их в землю, чтобы не мешали. Поднялся во весь рост, размахнулся, и вражеская пуля ударила в бутылку. Чобота охватило мгновенно огнем. Но глаза еще видели, одна рука была послушна его воле. Он еще не потерял сознание.
Немецкий танк был в десяти метрах. Он шел на одинокое, молчавшее орудие. Чобот спрыгнул в воронку, схватил новую бутылку, и бойцы штурмовой группы увидели, как человек — пылающий костер — добежал до танка, ударил по решетке моторного люка. И в тот же миг раздался оглушительный взрыв. В небо рванулся факел огня, окутав вражескую машину черным дымом.
У края воронки сиротливо лежала обгорелая бескозырка. Ее рваные ленты ласково шевелил ветер.
* * *
Положение советских войск в Сталинграде продолжало обостряться не только с каждым днем, но и часом.
А то, что оно обострялось до предела, свидетельствовали такие события. 11 ноября немецко-фашистские войска после непродолжительной передышки вновь возобновили ожесточенные атаки против войск 62-й армии. Они отвели ранее действующие против Донского фронта части и бросили их в решительное наступление. Несмотря на героическое сопротивление наших войск, им удалось к исходу дня занять южную часть завода «Баррикады» и выйти к Волге. Обстановка для 62-й армии, и без того тяжелая, еще больше осложнилась начавшимся на Волге ледоставом.
В то время генералы Жуков и Василевский закончили свою работу на участках Сталинградского фронта, где они уточнили план операции для доклада Ставке. План был отработан до деталей на карте.
Они доложили Ставке о следующем.
Силы сторон на сталинградском направлении, по данным разведки фронтов, почти равны. На направлении главных ударов, намеченных для наших фронтов, созданы мощные группировки за счет резервов Ставки и ослабления до предела на время операции второстепенных направлений. Эта перегруппировка дала возможность создать превосходство сил над противником. И это позволяет рассчитывать на успех. Подхода значительных вражеских резервов не обнаружено. Не отмечено и существенной перегруппировки в войсках противника. Основная группировка немецких войск остается прежней: их главные силы — 6-я и 4-я танковая армии — по-прежнему втянуты в затяжные бои в районе города. На флангах этих армий (т. е. на направлениях наших главных ударов) обороняются румынские части.
В целом соотношение сил на сталинградском направлении весьма благоприятно для успешного выполнения поставленных здесь Ставкой задач.
В ходе операции необходимо уделить особое внимание дальнейшему усилению фронтовой авиации, своевременному пополнению потерь в войсках, особенно в танковых и механизированных корпусах, и накоплению новых резервов Ставки на этом стратегическом направлении для успешного окончания намеченных операций и последующего их развития.
Сосредоточение всех войск и необходимых ресурсов заканчивается.
В результате огромной политической работы, проведенной в войсках, моральное состояние войск хорошее, их боевой дух высокий.
Боевые задачи на проведение операции всем командным составом фронтов, до командиров полков включительно, не только правильно и точно поняты, но и практически отработаны на местности во взаимодействии с пехотой, артиллерией, танками и авиацией. Особое внимание уделено выполнению задач танковыми, механизированными и кавалерийскими корпусами.
При разработке и принятии решений по плану Сталинградской операции на местах никаких дополнительных существенных поправок оперативного порядка в прежний, принятый Ставкой план командующие фронтами, армиями и корпусами не внесли.
Мы лично уверены в успехе предстоящей операции.
За этими официально сухими, по-военному скупыми словами из доклада исполнителей воли Ставки не были видны ни та огромная работа в тяжелейших фронтовых условиях сотен тысяч людей, ни понесенные в непрекращающихся ни на минуту боях потери, ни трудности, в которых рождались эти умные и дерзкие замыслы и планы, ни то многое, что препятствовало их воплощению. Самые дотошные исследователи истории великой битвы на Волге еще долгие годы будут изучать, удивляться и восторгаться тому, как и почему случилось то чудо высокого военного искусства, перед которым преклоняются народы всего мира. Но все, кто тогда делал эту великую историю на берегах Волги и Дона, не думали о славе. Они спасали Родину от катастрофы и гибели, и каждый отдавал этому святому делу всё лучшее, что он имел, и самое дорогое — жизнь.
А военная обстановка в Сталинграде оставалась до предела напряженной и опасной. И Ставка направила в те дни Василевского на Сталинградский фронт, поручив ему продолжать начатую работу по подготовке к контрнаступлению в войсках, освободив Еременко от этих задач и поручив ему только руководство обороной города.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РАЗГРОМ
А слава тех не умирает,
кто за Отечество умрет.
В. ДЕРЖАВИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
От Рубежинского до Мело-Меловского, на стокилометровом расстоянии, растянулись вдоль правого берега Дона, укрылись, залезли в землю войска Юго-Западного фронта, будто гигантская тетива, натянутая в излучине Дона, нацелив стрелы ударов своих армий на юг и юго-запад.
В ночь на 19 ноября на всем фронте работали первопроходчики во вражеской обороне — саперы, делая проходы в заграждениях и минных полях, очищали позиции от затаившейся, невидимой в земле смерти. Делали они свою опасную работу под густым покровом тьмы, кое-где под огнем противника, не имея права ошибаться. Каждая ошибка — верная гибель, каждая ошибка — сигнал для врага: «Здесь ожидаются действия противной стороны».
В вязкой, будто смола, тьме время от времени возникала беспорядочная ружейно-пулеметная перестрелка, вспугивая дремавшую тишину. Разноцветными метеоритами проносились с шипением ракеты, освещая изрезанную окопами местность,
В эту ночь не менее опасной была работа и у разведчиков. Нужны последние сведения, что думает о нас враг, какое у него настроение, что он делает и что знает о предстоящем прорыве.
Пленные, захваченные разведкой в эту ночь, не рассказали ничего нового, неизвестного и подтвердили данные, добытые накануне. Перед готовыми к наступлению войсками фронта стояли те же подразделения, полки дивизии и корпуса союзников Гитлера — румынские войска маршала Антонеску. И, может, единственно новым были кое-какие, мало чем влияющие на подготовленный нами удар сведения — это некоторые меры, предпринятые немцами. Обеспокоенные прошедшей в предыдущие дни разведкой боем, они выставили, как подпорки к падавшему забору обороны, свои заградотряды, не надеясь на его прочность. Об этом позаботился командующий группой армий «Б» барон фон Вейхс, хотя все захваченные в ту ночь пленные румыны и немцы на допросах показывали одно: они не ожидают от советских войск серьезных боевых действий. Какое там наступление, если русские армии выдохлись и не имеют резервов, а в Сталинграде войска Паулюса добивают остатки чуйковской армии.
Разведку боем, проводимую нашими армиями на ряде участков, они принимали за неудавшиеся наступательные бои с ограниченными целями: улучшения позиций или как хитрость для дезориентации. И видели во всем этом прежде всего пропагандистский маневр — поднять настроение засидевшихся в обороне, истощенных до предела русских войск. И немцы, и румыны, одураченные пропагандой, непоколебимо верили своим военачальникам.
Эти грязные, вшивые, сгорбленные от холода пленные румыны и немцы, захваченные накануне дня прорыва, уничтожавшие с волчьей жадностью красноармейские щи, с наслаждением курившие русский самосад, с легкостью, граничившей с детской наивностью, на допросах и в беседах искренне сомневались в силах русских войск и наших возможностях. Не знали они, что все позиции, все огневые точки, блиндажи дзоты различные заграждения уже распределены для уничтожения. Один бомбами и снарядами, другие снарядами и минами, третьи минами, четвертые гранатами и пулями, именуемыми кратким и беспощадным словом на войне — огнем: огнем пехоты, артиллерии, авиации, танков, огнем, уничтожающим все живое и мертвое.
До самых последних минут начала артиллерийской и авиационной подготовки идут приготовления к атаке. Непрерывно проверяется готовность всех: от рядового бойца до самого высокого военачальника.
Эта ночь в канун 19 ноября перед наступательной бурей прошла для командиров и штабов в бессоннице. Бойцы получили право уснуть, чтобы накопить силы, но редко кто из них спал в ту полную тревог и ожиданий ночь. Одинокие наблюдатели и часовые на своих постах всматривались с беспокойством во тьму, прислушивались к любому шороху. Каждый по-своему оценивал одиночные выстрелы, следил за огненными трассами пуль, вспышкой каждой ракеты. Но противник все же по самой придирчивой фронтовой оценке вел себя спокойно.
Чего беспокоиться? Никаких признаков грозящей опасности. Изредка, распугивая тьму, озаряет небо холодная вспышка далекой ракеты да пробарабанит частую дробь пулемет или автомат дежурного наблюдателя. И опять все затихает, и степь будто вымирает. Ни души в ней, ни звука. А на войне тишина всегда подозрительна.
Восток замутился туманным, суровым рассветом. Когда глядишь на него, на душе становится особенно тоскливо, острее ощущаешь холод, пробирающийся под одежду.
Евгений Миронов — командир взвода полковой разведки — в ночь перед прорывом был назначен дежурить на наблюдательном пункте командира полка. Вот уже несколько дней у него полно забот с разведкой, да и в ату ночь они снова ушли на передний край. Сейчас Миронов-младший не против был бы уснуть по-настоящему накануне трудного дня прорыва. Но брат его — беспокойный человек. Сам не спит и другим не дает. «Подежурь, подежурь. Ночь-то больно ответственная. Как бы на чем не промахнулись. Ночь накануне исторических событий. Дорожить таким доверием должен, устало улыбаясь, сказал он ему. Так за всю ночь только и удалось Евгению вздремнуть часок. Пришел, подменил души в нем не чающий помощник. «Евгений Николаевич поспите, не подведу».
Вот и сейчас, вздрагивая от предрассветного холода, он ходит у амбразуры, всматриваясь вдаль, зевает, прикрывая рот ладонью. Брат вернулся из батальона совсем недавно, перед рассветом. Пристроился в углу блиндажа на соломе и спит. А вот пришел, протирая сонные глаза, начальник штаба Ванин. Капитана получил на днях. И будто сам тому не верит. Без конца дотрагивается до горла рукой и нет-нет зацепит пальцами шпалу на петличке, будто проверяет, цела ли она, на месте? За Ваниным появляется комиссар полка Зайченко. Обращаясь к Евгению, спрашивает, кивая головой в сторону спящего брата:
— Давно?
— Час-полтора, как пришел.
— Вот человек неугомонный. Договорились же с ним с часу до четырех спать. Не сдержал-таки слова.
Ванин стоит у амбразуры и пристально вглядывается, поглаживая рукой шею и заодно петлицы. Поворачивает голову к Зайченко. Говорит хрипловатым, шаляпинским басом:
— Спят, окаянные, а все же пулеметами шебуршат. Ничего, ничего. Скоро «бог войны» сыграет им подъем.
— Командира полка к телефону! — кричит дежурный телефонист.
Миронов вскакивает, будто подброшенный взрывом, трет глаза, нахлобучивает шапку и берет трубку. Все замерли и глядят на него. Глаза у Миронова просветлели, губы раздвинула улыбка. Он возвращает телефонисту трубку, продолжая улыбаться, и говорит вполголоса, но все слышат его:
— Через пятнадцать минут начнется.
Миронов-младший становится рядом с братом.
— Чего, Федул, губы надул? — кладет Александр ему руку на плечо. — Не выспался? Как сказал поэт: «Покой нам только снится».
— Да нет, ничего. Я вздремнул малость. Подменил меня помощник.
— Он, как мать родная, о тебе печется! Знал, кого в помощники брать.
— Хороший парень. Душа. А в деле незаменим. Разведчиком родился. Мне, Саша, сон нехороший приснился. Мать какая-то вся в черном, худая. Пришел я вроде домой к ней, а она молчит, будто чужой я. Отец где, спрашиваю, снова молчит.
— Сны снами, — вздохнул Миронов-старший, — а четвертый месяц от стариков никакой вести.
2
У каждого на войне кроме самого главного и крупного счета с фашистами за поруганную родную землю были и личные счеты. Были они и у генерала Кипоренко. Самый его близкий по армии друг — комдив, полковник, с которым они прошли долгий путь службы, — погиб в начале войны на границе. Погиб геройски, как ему рассказывали, с горсткой оставшихся в окружении бойцов, которых никак не могли взять в плен немецкие автоматчики. (У них был такой приказ). И, не сумев захватить их в открытом бою, пустили на наших раненых бойцов танки и раздавили. Если для немецких пехотинцев наши воины оставались неприступными даже с винтовками, то танкам винтовки не помеха.
И сейчас, сидя за столом, когда перевалило уже далеко за полночь, Кипоренко в который раз смотрел на красные и черные овалы и круги, нанесенные на карте, означавшие его стрелковые и танковые войска. Будто тем самым он пытался еще раз убедиться в том, что все они находятся на своих местах, определенных его приказом.
Все время, пока он находился здесь и изучал сведения о противнике, и особенно его танковых войсках, ему почему-то казалось, что эти танки где-то здесь, близко, перед фронтом его танковой армии, изготовившейся к прорыву. Кипоренко курил, пил холодный чай и все чаще поглядывал с беспокойством на часы, бросая изредка взгляд в окно. «Нет, не светлеет еще. Рассвет будто умышленно задерживался.
Перед утром прислал донесение Поморцев, который уехал на левый фланг армии: «Противник нервничает. Всю ночь освещает ракетами и ведет перестрелку».
Кипоренко позвонил комдиву Андросову:
— Сергей Петрович, как жизнь?
— Нормально! Все наготове. Ждем приказа.
— Ну а точнее?
— Подготовка закончена. Разведчики привели «языков». Саперы сняли мины, сделали проходы.
— Ну что «языки»?
— Они нас в гости не ждут. Угощать нечем. Сами впроголодь, с хлеба на воду перебиваются.
Кипоренко позвонил Канашову:
— Как дела? Как твои стальные кони?
— Все в порядке. Вывезли из конюшен. Ждем приказа седлать.
— Приказ будет. В галоп не пускай сразу. Оглядись получше. Запалишь коней.
— А мелкой рысцой, Иван Кузьмич, долго трусить. Сами же будете подстегивать.
— Поживем — увидим.
Над донскими степями занималось хмурое, неприветливое утро. Тишина.
— Почти как по пословице, но наоборот: бог не в помощь. Погода скверный какая, — пробурчал Геворкян, вбирая голову в плечи, подергивая зябко плечами.
У оптических приборов стояли Кипоренко, Поморцев. С нетерпением поглядывали то на часы, то вдаль. Ничего не видно. Туман плотно обложил степь. Но вот прилетевший из-за Дона ветер порывисто тряхнул, будто выбивал тугие темные подушки обозначавшихся над головою туч. И снег, шурша, закружился, падая на подмерзшую землю. Подошел представитель воздушной, армии, подполковник.
— Товарищ генерал, — обратился он к Кипоренко. — Погода-то нелетная. Авиация не пойдет.
Кошки заскребли на душе у Кипоренко. «Не все, как надо. Планировали, надеялись — и вот тебе на».
Беспокойно ведут себя и наши артиллеристы. Им тоже туман мешает. Как начинать артиллерийскую подготовку? Наугад? Была не была!
Кипоренко поглядел на часы, на суетящихся штабистов. Все в эти минуты заметно нервничают. Оно и понятно. Ответственный момент. Приближается начало такого невиданного доселе по мощности и задачам стратегического наступления. Почти год Советская Армия не наступала по-настоящему. Частные тактические успехи не в счет. А сейчас? Или мы их сомнем и уничтожим, или снова затяжная оборона, неизвестность. И вообще отодвинется на неопределенное время ответ на мучивший всех вопрос: «Когда же кончится война?».
Кипоренко подошел к командующему артиллерией:
— Чего мандражишь?
— Куда стрелять? Ни черта не видно.
— А ты что, месяц здесь и все еще приглядываешься?
— Приглядеться давно пригляделись. Но у нас, артиллеристов, закон: лучше раз поглядеть, чем десять услышать.
— Так-то оно так. Да носа не вешай! Если подготовили твои артиллеристы данные, бей, не сомневаясь,
— Удар-то будет надежный. А вот что надо добавить: куда — не видно.
— Добавки не жалеют, если есть чем добавлять.
Адъютант подбежал к Кипоренко:
— Товарищ генерал, командующий просит к телефону.
— Ну как видишь?
— Как слепой в очках. Туман. Разрешите подождать, товарищ генерал-полковник, рассеется — и начнем?
Командующий фронтом прокашлялся, отвечая медленно, но твердо, будто клал каменные, несдвигаемые глыбы:
— Начинать, как приказано. Успеха боевого вам. Ждите меня в гости. Загляну.
3
В дни и часы, предшествующие сталинградскому контрнаступлению, от рядового солдата до Верховного Главнокомандующего — все болели одной, томившей каждого «болезнью» — ожиданием наступления.
Представитель Ставки генерал-полковник Василевский вернулся вечером с наблюдательного пункта армии в штаб Сталинградского фронта с надеждой еще раз уточнить отдельные детали с командованием фронта, чтобы завтра снова поехать в войска и убедиться в том, что все в порядке и люди готовы выполнять то, что предписано им директивами, приказами и распоряжениями. Озябший, проголодавшийся после напряженной работы, он собрался было поесть и отдохнуть, когда его потребовали к ВЧ. Он сразу же узнал в трубке хрипловатый, неторопливый, но властный голос Сталина. Он выслушал доклад о подготовке Сталинградского фронта к наступлению и задал несколько интересующих его вопросов. Потом, помолчав, будто раздумывая, он, к удивлению Василевского, предложил ему 18 ноября прибыть срочно в Москву.
Окончив разговор, начальник Генштаба задумался. «Лететь в Москву, когда через сутки начнется контрнаступление?! Надо еще в последний раз проверить, убедиться, что все готово. Что же такое стряслось там, в Ставке? Чем вызвана такая срочность и строгая категоричность в голосе Сталина?» — в недоумении размышлял Василевский и, перебрав в памяти возможные причины, так и не мог окончательно утвердиться в какой-либо из них.
На заседании Государственного комитета обороны Василевского ознакомили с письмом генерала Б. Т. Вольского — командира 4-го механизированного корпуса, предназначенного для выполнения решающей роли в операции Сталинградского фронта.
Он писал Сталину: «По моему глубокому убеждению, запланированное наступление под Сталинградом при настоящем соотношении сил и средств, которое сложилось к началу предстоящих боевых действий, не позволяет рассчитывать на какой-либо успех и, безусловно, обречено на провал, со всеми вытекающими отсюда для нас последствиями. Я как честный партиец, зная мнение и других ответственных участников наступления, просил бы вас, товарищ Сталин, немедленно заняться этим делом, тщательно проверить реальность всех принятых по предстоящей операции решений, отложить, а затем и отменить ее».
«Так вот она, причина, которая заставила лететь сюда и срочно собрать Государственный комитет обороны».
— Вы, Александр Михайлович, докладывали, насколько я помню, с Жуковым Ставке, — сказал Сталин, — что в осуществлении плана контрнаступления никто не сомневался и никаких серьезных предложений не вносил. Как же тогда понимать письмо товарища Вольского?
Василевский, размышляя, напрягал память.
— Товарищ Сталин, — сказал он, — я крайне удивлен поведением Вольского. Я просто его, мягко говоря, не понимаю. Как он может судить о подготовке всех фронтов и армий к наступлению и решать за командующих, которые сами участвовали в разработке своих операций и прислали согласованные и утвержденные ими планы в Генеральный штаб? По-моему, товарищ Сталин, никаких оснований для отмены операции, как и пересмотра срока, нет и не может быть.
Жуков сидел хмурясь, сжимая кулаки. Он порывался встать. Когда Василевский закончил доклад, он не выдержал и вскочил.
— Да как он может так легко и безответственно решать такие серьезные вопросы? Или все и Ставка шагают не в ногу, а он один… Сталин строго посмотрел на Жукова, и тот недовольный и рассерженный, сел, вытирал платком с лица выступивший пот.
— Соедините меня, пожалуйста, Александр Михайлович, сейчас с Вольским.
Он спокойно, к удивлению членов Государственного комитета обороны, говорил с ним, не повышая голоса, не упрекая, а только изредка лицо его морщилось в насмешливых складках. Закончив разговор, Сталин сказал:
— Будем считать, что письма от товарища Вольского не было. Просто произошло досадное недоразумение. Он извиняется. Обещает задачу выполнить. Переутомился товарищ. Бывают такие в жизни печальные истории. На вас, товарищ Василевский, Ставка возлагает непосредственную ответственность за проведение операций трех фронтов и координацию их действий.
Утром 19 ноября Василевский прилетел в Серафимович, где размещался штаб Юго-Западного фронта, но опоздал. Контрнаступление уже началось,
В полдень того же дня он прибыл в войска б-й танковой армии Кипоренко, которая наносила главный удар. Там он не нашел командарма, уехавшего в наступающие войска, но встретился все же с командованием фронта.
4
«Через пятнадцать минут начнется» — эти слова Миронова были главными в первые секунды для каждого, кто присутствовал на его наблюдательном, кто их слышал, думал, стараясь представить себе, как все это будет в действительности.
Как долго, беспредельно долго тянутся эти оставшиеся пятнадцать минут. Но никто сейчас, услышав эти слова от Миронова, не стоит сложа руки в ожидании.
Короткие распоряжения, напоминания, последние замечания летят повсюду быстрокрылыми птицами: по проводам, эфиру, в устных приказах. «Всем, всем, всем!!!» Из батальонов — в роты, из рот — взводам, из взводов — в отделения. И так до каждого солдата. Зашевелилось все, ожило в траншеях, на позициях. Бегут на места солдаты, сержанты. Слышно, как щелкают затворы винтовок, автоматов, как часы маятника, отсчитывают время загнанные в стволы патроны. У орудий и минометов тоже снуют бойцы. Молча, торопливо передают по цепочке друг другу из рук в руки снаряды, мины и складывают их бережно горкой и штабелями подле. Из траншей доносятся приглушенные команды. Командиры, как бы еще раз проверяя себя и своих подчиненных, всматривались в лица бойцов. «Не подведем», — отвечали молчаливо-уверенные, настороженные взгляды.
По телефону, радио текут непрерывно отовсюду на наблюдательные пункты доклады о готовности. Они приходят с переднего края, начиная от командира отделения, и растекаются по глубине наших позиций на десятки километров, устремляясь к командующему фронтом. Вот уже по ходам сообщения идут и идут ближе к переднему краю бойцы-санитары, фельдшеры, медицинские сестры с красными крестами на брезентовых сумках. Винтовки, автоматы то тут, то там появляются на брустверах окопов, позиций и замирают неподвижно в ожидании команды. А кругом, в заснеженной, замершей степи, по-прежнему тишина. Такая мертвая тишина, что слышно стук собственного сердца и дыхание рядом стоящего товарища. Сердца десятков тысяч наших бойцов и командиров бьются сейчас на одинаково тревожной волне, а глава слезятся от напряжения.
Крадучись, из плотных, холодных туч медленно занимается рассвет. Майор Миронов стоит рядом со своим начальником штаба. И одна мысль гнетет его: «Только бы никто, никто в эту минуту ни о чем не спрашивал, ничем не отвлекал ни зрения, ни слуха. Все полны одним желанием, у всех одна мысль — скорее увидеть как же свершится то, чего ждали столько дней недель, месяцев?»
Телефонист судорожно, до боли в руках сжимает трубку, радисты оглохли от напряжения. Они-то будут первыми счастливчиками, кто услышит эту команду: «Вперед!!!» Ждут, извелись все в ожидании заветного сигнала.
Зазуммерили телефоны, будто в воздух выпустили тысячи мышей, и они заполнили его своим писком. Это летят сотни, тысячи радиосигналов. И началось.
* * *
Из глубины, где десятки тысяч бойцов, командиров сейчас пристально всматривались в степь, высоты, овраги — туда, где проходили позиции врага, пронеслись шипение, свист, угрожающий гул, распугивающий тишину. Земля вздрогнула, как от озноба, и забилась в лихорадке, в хаотичном переплясе, огненных вспышках. В воздух ворвалась воющая, стонущая, свистящая симфония взрывов. В небе провисли полудуги огненных мостов «катюш». И насколько может охватить человеческий взгляд, землю окутал густой дым, а ввысь вздымались черные, веерообразные разрывы. Огненные языки мечутся по вражеским траншеям и окопам, будто вылизывают искалеченную землю. Она дрожит и качается, как палуба корабля в шторм, выскальзывая из-под ног. Порой казалось, что земля не выдержит этих ударов, расколется на огромные глыбы и похоронит все живое и мертвое.
Безмолвно, напряженно ожидая, смотрели на разразившийся артиллерийский ураган бойцы и командиры. Пыльно-дымное зарево занавесило горизонт, сеялось в воздухе. Дышать становилось все трудней и трудней. Мелкий песок хрустел на зубах, а в горле першило, саднило, и от кислых угарно-вонючих запахов взрывчатки подташнивало. Но вот разрывы неторопливо скучились и неуклюже поползли дальше, в глубину вражеской обороны. Противник не проявлял ни малейших признаков жизни. Всём, кто наблюдал за разбушевавшейся бурей, казалось, что противника там и не было и что такая щедрая артиллерийская подготовка вовсе ни к чему. И тут огонь, будто натолкнувшись на какую-то, преграду, снова вернулся назад, будто захотел проверить, все ли им сделано как надо, и еще с более яростной силой стал метаться по переднему краю, по позициям врага, расчищая его огненными метлами.
Рушились траншеи, окопы, с треском и грохотом разлетались брызгами щепок накатники блиндажей, укрытий, будто игрушечные, отлетали и кувыркались по земле пулеметы, минометы, орудия.
В бинокль были видны на брустверах траншей и окопов вражеские трупы, они лежали, словно свернутые, пожухлые листья. Так «бог войны» беспощадно расправился с вражеской обороной, расчистив дорогу нашей пехоте и танкам.
Но вот сплошная стена разрывов, удаляясь, ушла за высоты, и только изредка на горизонте вспыхивали ее прощальные залпы. А на брустверах наших позиций засверкали штыки, вылезли тупорылые, стволы автоматов с пузатыми дисками, и, будто выкатываясь волной из траншей, поднялась пехота и пошла, и пошла перекатами через ложбины, бугры, то пропадая в оврагах и балках, то появляясь вновь.
Прошло около часа после начала атаки нашей пехоты и танков, когда стал оживать противник. Редкие ответные выстрелы, автоматные очереди и, наконец, первые артиллерийские разрывы в третьей, четвертой волне цепей наших войск. Но уже поздно. Наша пехота пустила в ход свою «карманную артиллерию» — гранаты.
Все яснее и четче доносятся частые, сухие, будто выстрелы детских хлопушек, разрывы гранат, короткие автоматные очереди, одиночные выстрелы винтовок. Бой как бы на какое-то время ослабевает, замирает.
Майор Миронов вскидывает бинокль, всматривается с беспокойством вперед. Нет. Бой не затих. Он продолжается Просто его обманул слух. В окулярах бинокля промелькнули полу, согнутые фигуры наших бойцов. Было видно как они в ярости сшибаются в рукопашной с врагом. И повсюду на припорошенной снегом земле трупы, трупы убитых, чужих и своих. А вон по овражку наш автоматчик ведет уже змейку пленных румынских солдат. Они идут все сгорбленные, в высоких белых конусообразных овчинных папахах, в коротких, выше колен, шинелях цвета хаки.
— Товарищ майор, — обращается к нему связист. — Вас комдив к телефону просит.
Миронов торопливо идет по узкому ходу, цепляясь за провода, чуть не падает. У телефона стоит Ванин. В руках у него донесения, он протягивает их Миронову. Разговаривая, Миронов быстро читает донесения. «Из первого и третьего батальонов. А почему же нет донесения из второго?»
— Товарищ полковник, первый батальон ворвался на северную окраину хутора Клиновой и ведет бой. Третий обошел хутор слева и вышел оврагами южнее на минометные позиции. Захвачено восемь минометов. Второй? Пока нет сведений. Да, да, товарищ полковник, разрешите? Меняю наблюдательный. На высоту 188.0. Есть. Доложу.
Он отер рукой вспотевший лоб, обратился к Ванину:
— Наблюдательный готов?
— Так точно, товарищ майор! Там уже комиссар. Только что звонил.
— Останьтесь здесь до моего перехода на новый. Разведчики где?
— Лейтенант Миронов прислал донесение. Они впереди третьего батальона. — Ванин расстегнул планшет с картой. — Вот у этих высот. Сообщили, что в оврагах замечено скопление вражеской пехоты.
Майор Миронов спросил:
— А не контратаку ли готовят? Ты давай уточни, чтобы они не ошарашили нас из-за угла. А я пошел. Каменков, — крикнул он, — со мной!
Адъютант Миронова младший лейтенант был убит, когда возвращались с переднего края, при артиллерийском налете.
— Есть, товарищ майор, с вами.
Кузьма Ерофеевич разгладил усы, огляделся по сторонам и спросил:
— Лошадок подавать, товарищ майор?
— Ты езжай за мной верхом, а я пойду вон до оврага. А там видно будет.
Миронов решил заодно поглядеть на места бывших вражеских позиций, можно ли будет там развернуть полковой пункт боепитания и медицинский пункт.
— А где военврач Лиманова?
Ванин пожал плечами.
— Только что тут была.
— Скажите, чтобы шла за мной. И Слесареву передайте, пусть туда же идет.
Военврач первого ранга Валентина Ивановна Лиманова — старший врач — назначена была в полк за два дня до начала прорыва.
Миронов приближался к оврагу, рассматривая частые, будто мелкие кратеры, воронки, развороченную землю, думая о том, где бы удобней расположить полковой пункт боепитания. Он не заметил, как к нему подошел боец.
— Товарищ майор, как бы мне ближе на медицинский пройти?
Миронов обернулся и, оторопев, невольно вздрогнул. Перед ним стоял простоволосый боец. Он держал шапку за уши, прижимая ее к животу. А по полам полушубка змеилась ручейком кровь. На иссиня-белом лице бойца проступали капельки пота. За одним плечом бойца — вещмешок, за другим — винтовка.
Это был первый тяжелораненый, которого встретил в первые минуты боя командир полка и удивился. Удивился не потому, что не видал раненых, а потому, что раненый был необычный. Он восхитился истинно солдатским характером бойца. «Сам полуживой, а оружие не бросил и вещмешок тоже. Знает, что без заплечного солдатского склада на фронте нельзя». Миронов быстро снял полушубок, бросил в канаву скинул с бойца винтовку, снял вещмешок. Миронова охватило холодом, хотя на нем еще была меховая телогрейка.
— Ложитесь, ложитесь. Куда же вы идете один?
— Иду, товарищ майор, на медицинский. Сестра послала. Ничем не могу, говорит, помочь. Да и сам вижу, не может. Кишки наружу. Вот и добираюсь помаленьку своим ходом. — Боец закрыл глаза. Лицо его передернул нервный тик. — Кисет у меня где-то затерялся. — И, будто извиняясь, сказал:— Закурить бы мне, товарищ майор.
Миронов увидел, что ватные брюки бойца изорваны у левого бедра и висят клочьями. Было видно голое тело. «Должно быть, в рукопашной», — подумал он, прикуривая для него папиросу. Боец затянулся. На лице его появилась улыбка, а синеватые веки устало закрылись.
— Товарищ майор!
Миронов вздрогнул от неожиданно близкого голоса. Перед ним стояла Лиманова.
— Разрешите доложить?
Он кивнул ей, еще не понимая, откуда она взялась.
— Передовой медицинский пункт — две санитарные машины и санитарный взвод — развернут тут, в овраге, — показала она рукой.
«Молодчина. Хватка у нее фронтовая».
— Действуйте! — И тут же увидел подъезжавшего верхом на лошади Каменкова.
— Товарищ майор, помогите приподнять раненого.
Раненый по-прежнему лежал, закрыв глаза. Казалось, он умер. Потухшая папироса упала ему на грудь.
— Вы не думайте, товарищ майор! Он жив. Нервный шок. — Она сделала раненому укол
Каменков слез с лошади и подошел к ним Боец очнулся, тяжело вздохнул .
— Никак ты, Кузьма Ерофеевич? — сказал боец. — А я уж подумал, отдам концы.
— Ну, ну, что ты, Бубенков. Живы будем — не помрем. Гляди, какая ладная врачиха тебя охаживает. С ней не пропадешь, браток. Она солдатам что мать родная.
Но лицо бойца исказила боль. Он поджал посиневшие губы и снова закрыл глаза. К ним подбежали санитары с носилками. Каменков стал оттирать снегом кровь на полушубке командира полка. Миронов, продрогший, стоял, всматриваясь в дорогу. По ней уже шли наши автомашины, телеги с ящиками боеприпасов, артиллерия. Все они торопились, обгоняя друг друга, туда, где то нарастал, то замирал гром войны.
Лиманова склонилась над бойцом, гладила его большую жилистую кисть руки, пока санитары укладывали его на носилки.
— Потерпи, потерпи, милый! Теперь будет все в порядке.
Миронов надел полушубок.
— Давай, товарищ Каменков, галопом на дорогу за машиной. Вон, видишь, идет. Иначе мы на твоих рысаках останемся в обозе третьего разряда.
Каменков обидчиво поджал губы.
— За нашими-то конями ветер не угонится. Но раз машина, то мне все одно.
И он поскакал. Миронов торопливо направился к дороге.
К нему навстречу мчалась, взвихривая снежную пыль, машина. Заглушая шум мотора, краснощекий улыбающийся шофер Василий Сучок кричал еще издалека: «Наши взяли, наши взяли! Взяли Клиновой, товарищ майор!»
— Давай жми, Василий, жми на всю железку, — сказал он, садясь с ним в «виллис». — Пускай попробует нас Ерофеевич на своих рысаках обскакать.
— Он выговор мне закатил. Откуда, говорит, тебя черти взяли? А у меня свеча забарахлила, товарищ майор. На энпе приехал, а Ванин говорит, что вы впереди. Каменков меня с толку сбил. Сказал, что на коне вам сподручней да и теплее.
5
Кипоренко стоял в траншее, с тревогой всматриваясь вдаль. Туман плотной завесой закрыл все впереди. «Ни черта не видно, — думал он. — Как же управлять боем?» Он с тревогой поглядывал на часы. Секундная стрелка отсчитывала двадцать минут восьмого и будто задержалась, так как в этот момент раздался мощный свист и рев, и огненные хвостатые кометы мелькнули и растаяли в тумане. И вскоре до слуха донеслись гулкие тяжелые разрывы.
Залпами гвардейских «катюш» началась артиллерийская подготовка. Вслед за «катюшами» ударили артиллерия и минометы. Рядом с Кипоренко стоял начальник штаба Геворкян. Он что-то говорит командующему, но слов его не слышно, и губы его шевелятся, как в немом кино.
В воздухе сплошной гул, грохот и вой мин и снарядов. Серый кисель тумана окрашивался в оранжево-багровые цвета с темными всплесками раздробленной земли, выбрасываемой взрывами то тут, то там по всему горизонту.
На наблюдательном пункте командующего армией царит напряженное ожидание. И хотя внешне этого никто не показывает, волнуются все — от командарма до рядового бойца-связиста, прижавшего до боли трубку к вспотевшему уху.
Час двадцать минут бушевала огненная стихия на вражеских позициях, но вот уже в артиллерийскую канонаду все настойчивее вплетаются пулеметная дробь, автоматные очереди, треск винтовочных залпов. Это наша пехота готовилась к броску в атаку, прижимая к земле уцелевших солдат врага.
Снова ударили «катюши», как заключительный аккорд огненной симфонии. И сразу все стихло, и, насколько хватало глаз, белая полоса нейтральной земли между нашими и вражескими позициями покрылась темными согнутыми фигурками поднявшихся на штурм бойцов.
Кипоренко прильнул к холодным наглазникам стереотрубы. Какое-то мгновение он видел, как бойцы, выскакивая из траншей и укрытий, бежали вслед за темными коробками танков, и растворялись в тумане. «Ну пошла, матушка пехота», — вздохнул он облегченно, радуясь, что все началось так, как было задумано.
Это были части Андросова, открывавшие танкам армии ворота для прорыва в центре. Справа наступала гвардейская дивизия, слева — стрелковая, но их боевые порядки Кипоренко уже не мог видеть, даже если бы была сейчас ясная, солнечная погода, так как фронт наступления армии тянулся на десятки километров. Он знал, что оборона противника построена по принципу отдельных опорных пунктов, связанных между собой траншеями. Что ни высота, деревня — сильное укрепление. Овраги, балки, лощины заминированы, опоясаны несколькими рядами колючей проволоки. Да и противник после того как придет в себя, начнет сопротивляться, подбрасывая из глубины обороны туда, где не достала наша артиллерия, свежие резервы, и будет непременно переходить в контратаки. То, что так быстро, будто волна за волной, бежали в атаку бойцы полковника Андросова, еще не означало, что дальше пойдет все гладко.
Его размышления прервал подошедший начальник оперативного отдела.
— Слышите, товарищ генерал? — сказал он, показывая рукой вправо. На участке дивизии доносились лающий голос немецких шестиствольных минометов, участившаяся трескотня пулеметов и автоматов. Да, там, видно, ожили вражеские огневые точки. Но где они? Сколько их? Кто мог им сказать?
— Давай вызывай к телефону комдива сорок седьмой. Что у тебя происходит, Рыжаков?
— Прижал, сволочь, с высоты огнем два полка. Головы не поднять.
— Помогу твоей беде. Давай целеуказание!
— Да я сам ничего не вижу. Выслал вперед разведчиков. Ждем с минуты на минуту. Как передадут данные, тут же доложу.
Кипоренко подозвал к себе стоявшего в стороне командующего артиллерией армии.
— Готовься, дорогой! Надо выручать пехоту сорок седьмой дивизии.
Тут же подбежал радист.
— Товарищ генерал, Рыжаков вас просит!
— Ну как дела? Рассмотрели твои разведчики где что?
— Все в порядке, товарищ генерал! Высота 228.0. Шестнадцать дзотов. Мой правофланговый полк залег в лощине с кустарником.
— Через десять минут поддержу огнем, а вы совместно с танковым батальоном обходите высоту и наступайте на совхоз Ферма № 3. Ваш левый сосед уже вышел на дорогу.
Кипоренко поглядел на часы. Прошло уже два часа боя. «А как там у Андросова? Надо узнать». Он попросил связать его с дивизией, наступавшей в центре.
— Ну как дела, Андросов? Далеко ушли твои?
— Не больно далеко. Правофланговый полк Миронова ничего идет. К хутору Клинову подходит. Но и его, только что звонил, прижал противник. А два других полка продвигаются медленно. Много дзотов.
— Артиллерию, артиллерию подтянуть в боевые порядки. Без нее они долго на месте протопчутся. А для нас сейчас важны темпы, темпы и еще раз темпы. Понял?
Кипоренко, обеспокоенный медленным продвижением стрелковых дивизий, позвонил и в левофланговую дивизию. Там положение было таким же. Войска продвигались еле-еле, сопротивление врага нарастало. Все это грозило армии серьезными последствиями. Она, по существу, не взяла планируемого разбега, продвижение войск было незначительным, и это могло привести к тому, что танковые войска, как эшелон развития успеха, тоже завязнут на первой позиции врага. Замысел блестяще разработанной и разыгранной операции мог остаться на бумаге. При этой мысли, зябко поеживаясь Кипоренко вздрогнул. К полудню по плану операции танковые корпуса должны были выйти на рубеж развертывания — Калмыковский. Танки уже вышли колоннами из своих исходных районов, и остановить их было невозможно. Остановить — значит сорвать операцию. К тому же в случае улучшения погоды и прояснений это навлечет на них удары вражеской авиации. А это — катастрофа и напрасные жертвы нескольких десятков тысяч наших людей, напрасные потери такой дорогой, с большими трудностями созданной рабочим классом современной техники, из-за недостатка которой отступали, терпели поражения и вот очутились у Волги.
В эту минуту Кипоренко совершенно не думал, что будет с ним как с командующим, если он проиграет это большое сражение. Он чувствовал одно: он один из тех немногих, кому доверены сотни тысяч людей, и все они до единого ответственны за судьбу своей Родины. Кипоренко весь подтянулся, распрямил плечи и стоял, как на высокой трибуне перед миллионами глаз, перед народом, чувствуя на себе эти невидимые вопрошающие взгляды незнакомых, но самых близких и дорогих ему советских людей.
Решение, что же делать дальше, пришло мгновенно: «Рвать, рвать оборону врага, не теряя ни минуты, в центре одним единым и мощным ударом стрелковых дивизий и танковых корпусов». Он подозвал к себе генерала Геворкяна:
— Передать мой приказ командирам танковых корпусов. Ввести в бой танковые части в центре, между реками Цуцкан и Царица, обходя опорные пункты, и совместно со стрелковыми дивизиями завершить прорыв.
— Без помощи танкистов пехота слаба тут, — вставил реплику Геворкян.
— Она не так-то и слаба, Михаил Андреевич, да время не ждет. Располагай мы большим временем, и пехота одолела бы эту оборону. Но сроки операции у нас жесткие. Ничего. Так будет надежнее.
Подбежал офицер связи.
— Товарищ командующий! Только что звонили из штаба фронта. К нам едет генерал армии Жуков.
— Жуков? — удивился Геворкян. — Какой великой чести удостоились! Представитель Ставки. Высокий гость.
— Подожди, подожди радоваться, Михаил Андреевич! Знаю Жукова давненько. Волевой он военачальник, умный, да порой бывает слишком крутой.
Геворкян беспокойно забегал глазами.
— А у нас что, Иван Кузьмич, у нас все как по нотам! Операция по строгому графику.
— График, конечно, — дело хорошее. Главное — надо присмотреться, какие коррективы вносит в него противник. Он-то нам может подсунуть такое, что график ни к чему. А нам приказом фронта и Ставки на всю операцию трое суток отпущено. Тут всем надо держать ухо востро.
К ним подошел член военного совета Поморцев. Приложил ладонь к уху, поворачивая голову на север.
— Слышите богатырскую поступь наших стальных коней?
Все умолкли, прислушались. С севера доносился громыхающий гул танковых колонн. Отпустил бы ты меня, Иван Кузьмич, с ними!
— Ты, как конь боевой, заслышав сигнал тревоги, навостряешь уши и готов ринуться в атаку. Если надумал, поезжай. Куда собрался, в какой корпус?
— Навещу Канашова. Погляжу, как он на новой должности командует.
— Давай, давай поезжай! Привет ему от меня и скажи, спуску ему не дам, коли что не так. Признаться, тревожно мне за него. Не оправдала себя его надежда и любовь. Сможет ли он все это перенести? Пересилит ли себя?
6
Поморцев раньше командующего узнал о тяжелом ударе, свалившемся на Канашова. И по долгу старшего товарища, и по долгу службы он не мог смотреть на разрыв Аленцовой с Канашовым как на обычный случай, который мог произойти с каждым человеком. Зная довольно хорошо Канашова как человека и командира, он все же не делал поспешных выводов, прав он или нет. И, почти не зная Аленцову, не пытался строить догадок, правильно поступила она или нет. Чтобы убедиться во всем этом и, главное, помочь им обоим в этом сложном деле, Поморцев решил поближе присмотреться к ним. С Аленцовой у него произошла недавно встреча, но не по вызову для беседы по ее семейным делам, а случайно. Ее назначали на должность. Начальник дал ей рекомендацию в партию. Вот тогда и произошел между ними непринужденный разговор, из которого для него кое-что прояснилось. Она была комсомолкой, когда училась в медицинском институте, и даже членом бюро комсомола. По семейным обстоятельствам выбыла из комсомола. Что же это за семейные обстоятельства? Что случилось такое в ее жизни, что она отошла от комсомола? Чем больше он слушал ее, тем заметнее ощущалась у него искренняя человеческая жалость к этой молодой, красивой женщине, которой много пришлось испытать за короткую семейную жизнь. И хотя обо всем этом она рассказывала скупо, медленно, будто размышляя вслух и обдумывая: «А можно ли довериться этому человеку?», он о многом из того, о чем она умалчивала, догадывался. После первых неудачных родов она долго и тяжело болела, лежала в больнице около трех месяцев. Попросила мужа уплатить членские взносы. Но он вскоре уехал в командировку по отбору пополнения. А когда приехал, то оказалось, что членские взносы не уплачены. «Говорит, забыл». Так она выбыла из комсомола. Ей не хотелось ни обвинять его, ни оправдываться. Она видела по лицу Поморцева — он догадался. Забывчивость мужа не была случайностью. Ревниво относился муж, когда она уходила на комсомольские собрания. Так было и в медицинском институте, так было, когда жили на заставе. Нередко он ее отговаривал. А когда появился первый ребенок, с радостью сказал: «Ну, теперь ты мать семейная женщина, и все эти девичьи общественные увлечения ни к чему». Были между ними на этой почве частые ссоры и разлады. Она не могла мириться с его обывательской точкой зрения. И только одного она всю жизнь не могла себе простить: почему она не отстояла тогда свою комсомольскую честь? Почему не рассказала все, как было? Вроде примирилась со случившимся. Может быть, и по гордости это произошло. Секретарь комсомольской организации, старший сержант, встретил ее и, поглядев холодно на запеленатого в ее руках ребенка, очень сдержанно поздоровался и, ни о чем ее не спрашивая, прошел мимо. А она так ждала, так надеялась, что он спросит ее обо всем.
Товарищеское расположение секретаря к ней тоже не обошлось без подозрений и упреков мужа. Потом. Много было потом такого, о чем не могла она рассказать Поморцеву. Просто скороговоркой рассказала о погибших детях, о своем плене, о службе в армии с первых дней войны на разных фронтах. Молчала долго, видно, тяжело переживая эти неприятные воспоминания. «Вот и все», — сказала она, как бы подчеркивая, что говорить больше не о чем. Встала, нервно хрустнула пальцами: «Разрешите идти?» Но он задал ей еще один вопрос: служила ли она в дивизии Канашова. И она сразу насторожилась. В прищуренном ее взгляде, строгом лице все говорило о том, что не хотелось ей отвечать на его вопрос. «Служила», — только и сказала она. «Ну а после тяжелого ранения, куда вы попали и как очутились снова на фронте?» Она скупо ответила, что лежала в госпитале, потом случайно встретила в Уфе мужа и вот. Замялась. «Послали снова на фронт». — «Послали?— спросил он ее. — Вы сами захотели поехать?» — «Сама». Он не стал восторгаться ее высоким патриотическим поступком — ограниченно годной, знал он, вернуться на фронт почти что невозможно. И спросил: «Вы что, поссорились с мужем?» Она зло и резко ответила: «А какое это имеет отношение к нашему разговору? Это мое личное дело. Если вы не верите, проверьте. Разрешите мне идти?» Беседуя с ней, он понимал, что ей больно было вспоминать об этом и тем более говорить ему, чужому человеку. Люди всегда охотно говорят о хорошем, а то, что плохо в их жизни, стараются скрывать от посторонних, каким был для нее он сейчас. Нужно расположить человека, а выпытывать его, неволить было бесполезно. Искреннего разговора не получится. И он отпустил ее. Сказал, что поддержит, посоветовал вступать в партию. Прощаясь, он извинился за то, что невольно обязан был по своему положению интересоваться ее семейной жизнью. Но она грубовато ответила ему, что это, по-видимому, доставляет ему удовольствие, будто подчеркнула этим: «Преступлений я за собой никаких не чувствую, но ты прежде всего чиновник, а потом уже человек. Поэтому тебе и не понять меня, моих горестей и обид и всего того, что пережила я. Мне наплевать на ваши вопросики».
Поморцева обидело все это, но что он мог сделать в своем служебном положении? Нельзя же притворяться и выдавать себя за друга человеку, которого он знал понаслышке, да из официальной беседы? Может, поэтому отпускать Аленцову ему не очень-то хотелось. Что-то подсказывало ему: «Надо с душой отнестись к ней, она нуждается в твоей помощи». Его только насторожила холодность в ответе, знает ли она Канашова? Она замялась, сникла, стала задумчивой. «Знала, служили вместе», — ответила она как-то небрежно. С чувством неудовлетворенности, что он, по существу, ничего не сделал для нее полезного, ехал Поморцев в корпус Канашова, размышляя об этой встрече. Ехал, досадуя, что не рассказал об этом Кипоренко, будто скрыл от него. И все же он искренне желал чем-то помочь этим двум людям, ставшим для него вдруг такими близкими. Ему хотелось разобраться во всем по большому человеческому счету, как человеку, убежденному в том, что он делает сейчас для счастья двоих, он должен делать для всех людей, сердца, мысли и чувства которых доверены ему как партийному работнику. Без этого его ответственная должность в армии ничего не стоит. Ибо жизнь людей, их судьбы, настроения можно узнать и уметь чувствовать только тогда, когда разбираешься и понимаешь не только тех, кто тебе по душе, а каждого человека.
7
Канашов томился в ожидании приказа. С началом атаки танковые колонны его корпуса вышли с исходного положения в сплошном тумане. Плохая видимость вполне устраивала танкистов: полная скрытность и отличная маскировка от воздушного наблюдения противника. Но тут же появились неизбежные в таких случаях затруднения. Нелегко было выдерживать точно маршрут. В степи много новых, не нанесенных на карту дорог, проложенных войсками. Это лишало войска возможности быстро ориентироваться. Приходилось делать частые остановки и сверять маршрут с местностью, чтобы не сбиться с пути.
Вместе с Канашовым в машине ехал Поморцев. Его приезд накануне марша и удивил, и насторожил Канашова. «Хочет посмотреть, как буду командовать. Кипоренко, наверно, беспокоится за меня. Вот и прислал на всякий случай. Погляди, мол, Константин Васильевич, как пойдут дела у нашего наскоро испеченного танкиста». Мысли о том, что его как командира вздумали опекать, сердили Канашова. «Константин Васильевич — неплохой человек. Но если он приставлен ко мне как нянька — это уже слишком». К его удивлению, Поморцев не задал ему ни одного служебного вопроса. Даже не поинтересовался, где находятся его танковые бригады. Он поздоровался и стал рассказывать армейские анекдоты, будто затем и приехал к Канашову. Все это выглядело странно. Канашов хорошо знал, что Поморцев безразлично относился к этой разновидности устного народного творчества. А однажды, когда Канашов посетовал на то, что не запоминает и не может пересказывать анекдоты, которые ему мастерски рассказывают другие, сказал: «Это, Михаил Алексеевич, у тебя хорошее свойство мозга — не держать в голове дряни». «Чего это сейчас Поморцева прорвало на анекдоты?» Канашов слушал, смеялся, но так и не мог догадаться, к чему все это. Поморцев ловил недоуменные взгляды Канашова.
— Что-то, Михаил Алексеевич, сегодня не в духе! Меня, наверное, осуждаешь? Чего, мол, приехал чудить, развлекать побасенками. А у меня сегодня настроение праздничное. Все рвется наружу. Песни пел бы, да голоса нет. А душа поет. Не осуждаешь?
— Что вы, Константин Васильевич! За то, что у человека на душе радость, судить грех.
— Ну а если печаль?
— Тоже не судят.
— А как же не радоваться, дорогой. В наступление какое перешли! Сколько ждали этого праздника! А твой вид, Михаил Алексеевич, прямо скажу, мне не нравится. Что-то гнетет тебя. С дочерью плохо, или по службе какие неурядицы?
Канашов поглядел на него. Суровые складки легли у рта. В опечаленных глазах — настороженность. «Сказать или промолчать? Не к месту сейчас эти личные дела». Поморцев положил ему руку на плечо.
— Напрасно ты себя мучаешь, Михаил Алексеевич! Аленцова приехала.
Разорвись сейчас бомба, может, и она бы не встряхнула сильней Канашова, чем это известие Поморцева, которое он сообщил тихо и просто.
— Аленцова?
— Да, Аленцова.
— Здесь?
— Здесь.
— Константин Васильевич, — сжал он с силой его руку. Он глядел на него, не веря и боясь, что его разыгрывают, как мальчишку. И вдруг обмяк, нервно облизывая губы. Снова сжал руку Поморцева и стыдливо потуши взгляд. — Спасибо вам, Константин Васильевич. Спасибо!
Поморцев глядел на него и не узнавал. Лицо Канашова озарилось юношеской просветленной улыбкой, в глазах светились молодые, озорные огоньки. Канашова вызвал к рации командующий армией.
— Есть, товарищ генерал. Постараемся. Есть.
С чувством важности полученного сейчас приказа командарма прорвать румынские боевые позиции, на которых задержалась стрелковая дивизия Андросова, и со смутным чувством тревоги вернулся он к Поморцеву. Он был весь там, в бою, стремился как можно скорее начать боевые действия танкового корпуса, но что-то невольно беспокоило его. Почему наши пехотинцы не взломали вражеской обороны? Не случайно он накануне предупреждал Андросова. «Не подведите нас. Не сделаете надежных ворот для танков — и прорыв может не удаться. А что же такое случилось с Мироновым, на которого он так надеялся и советовал Андросову поставить его полк на главном направлении, выходит, тоже не оправдал его надежды?»
Поморцев подошел к Канашову, всматриваясь в задумчивое лицо, пытаясь угадать его настроение.
— Путевку получил, Михаил Алексеевич?
— Все в порядке. Бьем совместно с пехотой на Клиновой и на Усть-Медведецкий.
— А что же пехота, не взяла, значит, с ходу?
— Что-то застопорились.
— Давай выручай. Они тоже тебя выручат. Поморцев обнял Канашова за плечи.
— Да только не зарывайся! По-умному. Не очертя голову.
— Есть, товарищ полковой комиссар!
Канашов влез в командирский танк, помахал Поморцеву шапкой.
Танк рванул с места, заскрежетал гусеницами и, вырвавшись, обогнал грохочущую колонну, понесся вперед, грозно покачивая орудием.
«Вот бы нам теперь встретиться в этой просторной степи с генералом Мильдером, — подумал Канашов. — Потягались бы силами, померились кто кого. Это не сорок первый и не лето сорок второго».
За командирским танком Канашова неслась стальная армада — сотни новых боевых машин последних марок, грозных танков Т-34, КВ. Попробуй останови их. Какая сила их остановит? Нет сейчас такой силы. Это хорошо знал Канашов. Вот справа от дороги вздыбились разрывы земли. Противник открыл огонь. Это бьют минометы из хутора, спрятавшегося в лощине.
— Шумейко, — командует Канашов. — Дай-ка им по-гвардейски. — Башенный стрелок, смуглый, коренастый танкист, быстро работает у орудия. Выстрелы звучат часто, один за другим. В ушах долго разносится их звон, до глухоты, которая, будто вата, забивает уши. Во рту становится кисло от газов, наполнивших танк.
Танковые бригады с ходу ворвались в хутор Клиновой вместе с пехотой и захлестнули последние траншеи врага. Уцелевшие солдаты бегут к обрывистым оврагам, но там уже засели наши стрелки. И вот уже тянется гуськом колонна пленных в бараньих островерхих папахах.
Канашов доложил Кипоренко об успешной атаке. Отдал распоряжение командирам бригад ускорить темпы движения. Свернув с дороги на обочину, он пропускал танкистов, придирчиво осматривая каждую машину.
Рассматривая в бинокль впереди лежащую местность, у балки с кустарником он увидел Миронова. Он стоял в «виллисе» и махал рукой, показывая кому-то, что надо идти вперед. Канашов приказал развернуть танк и подъехал, загораживая дорогу машине Миронова. Миронов увидел Канашова и растерялся.
— Чего же это твои орлы топчутся на месте? Выдохлись? Рановато. Дорога нам предстоит дальняя.
— Огонь сильный, товарищ генерал. Артиллерия моя позиции меняет.
Канашов понимающе кивнул головой.
— Не горюй. Мы сейчас дадим жару! Доколачивайте здесь остатки и от нас не отрывайтесь далеко.
— Постараемся, товарищ генерал!
Канашов помахал рукой, танк взревел, выбрасывая черные клубы дыма, вырвался на дорогу и, обгоняя другие танки, исчез в снежном вихре.
8
Майор Миронов ехал в «виллисе» в Казачий Лог, довольный успехами своего полка. И как ему было не радоваться? Полк первым в дивизии с ходу захватил деревню Курашово, богатые трофеи, в том числе и автомашины, которые он решил использовать для подвижного отряда. Теперь вместе с танковым батальоном Кряжева они вырвались вперед на несколько километров. И благодаря успеху его полка в коридор, пробитый ими, будут вводить кавалерийский корпус. По сведениям из дивизии, танковый корпус Канашова был где-то у Перелазовского. Командир дивизии Андросов похвалил его за смелое решение и пообещал: «Если дивизии присвоят гвардейское звание, первое знамя буду вручать твоему полку». «Вот сейчас приедем в штаб, в Казачий Лог, — думал он, — объявлю всем об этом». И хотя иногда приходила мысль: а не слишком ли рано, не воспримут ли все это как хвастовство. Ведь приказа-то нет. Но радость распирала его, и он улыбался, ему не терпелось всем рассказать об этом разговоре с комдивом.
— А что ты скажешь, Вася, если наш полк гвардейское звание получит?
— Да ну, товарищ майор! — Вася Сучок хлопнул себя по шапке, надвинув ее чуть не на глаза.
— Вот и ну! Занукал, будто Ерофеевич на коней. Вот только какой из тебя гвардеец, Вася? Шапка сидит на тебе что кастрюля, шинель прожженная, рыжая. И подворотничок не менял, видать, давно. А гвардеец ты знаешь, каков на вид? Орел, и все у него в порядке и взгляд, и хватка у него орлиная. Не то, что у тебя: машина едет не едет, будто на ромашке гадаешь.
Вася нахмурился, обиделся.
— Мне, товарищ майор, не на парад. Я воевать должен. Мне не к девкам свататься. Гвардию я не подведу. Такого, как я, шофера вам не найти. Это не четырехногие двигатели Ерофеевича. Тпру и но. Здесь техника, в ней разбираться надо.
Миронов не раз уже слышал от своего шофера хвалебные тирады в собственный адрес, знал, что Вася был о себе самого высокого мнения и для подкрепления еще не существующего авторитета всегда рассказывал своему командиру о шоферах-портачах, как величал он своих товарищей по баранке. «Слыхали, как шофер командира пятьдесят второго полка перевернул машину в кювет? Еле живы остались». Или: «Зачем Трушину дали новый «виллис», если он ездить боится? Больше двадцати километров не выжимает. Вот бы мне новый, я бы прокатил вас, как на самолете».
Но знал Миронов, какие грехи водились за Сучком, несмотря на то, что он с ним ездил недавно, два месяца. Сучков — шофер-самоучка. Опыт у него небольшой. За год до войны дядька научил его водить трактор. А когда он купил мотоцикл, Василий, улучив момент, взял без спроса, поехал, подавил гусей, врезался в плетень. Крепко тогда досталось отчаянному мотоциклисту. Но он упорно тянулся к технике. Как-то подкараулил у сельсовета пустую машину и увел. День катался, осваивал, а вечером задержала милиция, хотели передать дело в суд. Но выручил тот же дядька, прославленный тракторист района. Отца Василий лишился рано, и мать умерла вскоре. На воспитание его взял брат отца. Увидел, что парень тянется к технике, и решил отдать на курсы шоферов. Учился Василий хорошо, но мало. Всего три месяца. Помешала война. В армию он пришел и заявил о шоферской специальности. И хотя ездил плохо, но каждый раз, получив замечание от командира автороты, давал клятвенное обещание освоить машину не меньше, чем на первый класс. На сиденье у него всегда лежал учебник шофера, который он раскрывал редко, да и когда тут, на войне, было заниматься учебой? Из автобата попал он к Миронову. При первом же знакомстве с его шоферским мастерством Миронов приобрел синяки. Обгоняя лихо машину, Сучок поехал не по мосту (ручеек пересох), а свернул в густую осоку и напоролся дифером на столбик от старой сваи. «Ну кто мог думать, — оправдывался он, — что какой-то дурак там замаскирует сваю». Случались и более мелкие происшествия. То они попадали в глубокий кювет, то на крутом повороте как-то занесло машину, и она сбила телегу, помяв крыло и оцарапав правый бок. «Нам еще не хватает с тобой сбивать телеграфные столбы у дороги», — говорил Миронов. Но Вася никогда не унывал и всему находил оправдания, постоянно убеждая при этом Миронова, что такого шофера, как он, на фронте не сыскать. Хвастовство Сучка скоро стало предметом насмешек его товарищей по службе, особенно его друга Скитова. Если с кем случалась какая оказия, шутили: «Так он ездит по-сучковски. Васина, видно, школа. Узнаем сучковский почерк». Называли его и «автоасом», и шофером «ВС», что означало при расшифровке «всегда смерть», и многими другими насмешливыми прозвищами. Но Вася твердо верил в свои недюжинные шоферские способности. Особенно яростные перепалки происходили у Васи с Каменковым. Тот удивлялся и говорил всегда ему: «И как тебя только майор терпит? На его бы месте давно прогнал бы тебя в пехоту. Для машины умные руки нужны, а у тебя не руки, а грабли и башка половой набита. Не иначе. Ты не шофер, а хулиган на колесах».
Ехали молча. Миронов в который раз вспоминал служебную биографию Васи и удивлялся сам, почему он не отдал Сучка на переучивание, хотя командир автороты не раз предлагал ему.
— Так, значит, товарищ майор, — спросил Вася, — выходит, что из меня не выйдет гвардейца?
— Не выйдет, — подтвердил Миронов, усмехаясь. Они, разговаривая, замедлили скорость. — Ты давай поднажми! Чего мы плетемся?
— Это можно, — неохотно пробурчал Вася, прибавляя скорость.
Они въехали на пригорок. С него была видна площадь с расходящимися в стороны чернеющими лентами дорог.
На площади машины и какая-то колонна. «Подтягивается второй эшелон, — подумал майор. — Медленно идет третий батальон. Надо поторопить».
Сучок въехал в село и тут резко притормозил.
— Чего ты? — спросил Миронов. — Опять заело?
И, взглянув вперед, увидел, что по обеим сторонам улицы стоят мотоциклы и бронетранспортеры, а возле них прогуливаются румыны в островерхих барашковых шапках.
— Вот это да-а, — протянул Вася. — Приехали к черту в гости.
Поворачивать назад было поздно. Выскакивать из машины — верная гибель. Далеко не убежишь.
— Рви на полном вперед, — скомандовал Миронов и, вынув пистолет, сунул в карман полушубка.
«Виллис» влетел на площадь и, проскочив толпящихся румын, которые разбежались в стороны, резко повернул вправо в переулок за спасительные дома.
Это произошло так неожиданно, что первые винтовочные и автоматные выстрелы раздались, когда они свернули вправо. Но теперь Сучок, вцепившись в руль и пригибая голову, несся на предельной скорости. Выезжая из села, он сбил мотоцикл с двумя румынскими солдатами и понесся в гору. «Еще километр, два — и мы спасены, — мелькнула мысль у Миронова. — Вот это была бы добыча для них. Сам командир полка пожаловал добровольно в плен». По спине Миронова пробежал мороз.
На окраине хутора их встретил начальник штаба капитан Ванин. Он махал им рукой. Подъехали, остановились.
— Товарищ майор, неужели вы через Казачий Лог ехали?
— Через Казачий.
— Так там же передовые части румынской танковой дивизии. Сейчас наша артиллерия встретит их.
Миронов огляделся. Повсюду в селе стояли противотанковые орудия. Возле них в белых маскхалатах копошились артиллерийские расчеты.
Сучок вылез из машины и, деловито осматривая ее, разводил руками.
— На чем мы ехали, товарищ майор? — Он показывал рукой на спущенное левое колесо и на изрешеченные, о дырках, канистры.
Миронов подошел и обнял Сучка, дружески похлопал по плечу.
— Ну, Вася, теперь, считай, ты выдержал первый свой экзамен на гвардейца.
* * *
Сучок, осторожно крадучись, вошел в штаб полка. «Хорошо, что никого нет. Можно будет со Скитовым поговорить откровенно. Как подумаешь, сердце занимается от обиды. Медаль заслужил, приказ есть, а майор не вручает из-за этого старшины. Нажаловался. Надо было повиниться майору, и дело с концом. И Федора косо поглядывает. Прослышала, что наказан за неточное выполнение приказа. И товарищи подсмеиваются».
Скитов что-то писал. «Он что-то тоже на меня сердит», — подумал он.
— Здорово, Гриша!
— Здорово, здорово, штрафник. Чего пожаловал?
Сучок мял в руках ушанку.
— Гриш, а, Гриш?
— Что?
— Ничего там нет нового?
— Чего уж новей. Старшина просит майора на губу тебя посадить.
— На губу? Да брось ты? А мне ничего старшина. Вот, скажи, вражина. Осмотрел машину, сказал, все в порядке.
— Вася, Вася, ну почему ты такой нескладный? Все награжденные медали получили, а ты… Я бы сказал, недотепа. Сейчас бы собрались, обмыли, как все порядочные люди. И за что тебя только Пампуша любит?
— Брось, Гришка, шутки, и так муторно. Сам не знаю, куда себя деть.
— А мне, думаешь, весело? Сам за тебя болею. Надо было тебе, дураку, старшине перечить. Все за тебя переживают. Кузьма Ерофеевич приходил, справлялся, Федора твоя вчера была.
— Да ну?
— Вот тебе и ну!
— И что ты ей?
— Утешил.
— Что сказал?
— Такого, говорю, анархиста и разгильдяя в штрафной батальон давно надо направить.
Сучок горестно покачал головой.
— Ну, я так и знал. Оступился человек, а ты давай топи, радуйся, что он ко дну пошел.
— А чего же мне плакать по этому поводу? Раз не сумел готовую на блюдечке медаль взять. Глядишь, майор ее мне вручит, скажет: «Вот вы, товарищ Скитов, действительно достойны награды. Документы у вас что книга, отпечатанная в типографии. Карты рисовать вы блестяще умеете. Приказы исполняете исправно. А что героизма не проявили, так это не беда. Еще проявите при определенных обстоятельствах».
По мере того как Скитов входил в роль, восхваляя свои достоинства, Сучок мрачнел, нервно кусал цигарку и сплевывал откушенные бумажки. И, не выдержав, направился к выходу.
— Куда же ты, друг Вася?
— А ну тебя к черту. Волк тебе друг.
В дверях показался майор Миронов
— Где пропадали, товарищ Сучок? Тут ваш друг, — кивнул он на Скитова, — переживает за вас.
Сучок косо, исподлобья поглядел на Скитова.
— Просил меня вас на гауптвахту посадить, а медаль все же выдать. Открывай, товарищ Скитов, сейф! Вручим ему медаль или еще погодим?
— Товарищ майор, ну чего ей в сейфе лежать? Она еще затеряется, — сказал Скитов, — И вообще, на человека горе надвигается.
— Это какое же горе? — насторожился Миронов. Он вынул из коробочки с ребристой красной муаровой планкой медаль «За отвагу».
— Любимая девушка отставку ему грозится дать.
Все заулыбались. Миронов подошел к Сучку, приколол к гимнастерке медаль. У Васи от волнения сдавило горло. И он не сказал, а почти прошептал: «Служу Советскому Союзу».
— Приказы только точно надо выполнять, — сказал Миронов. — Поняли?
— Есть, товарищ майор!
Из штаба Сучок не вышел, а вылетел пулей. Он высоко поднял голову и все время косил глазом на медаль. «Пусть поглядит Ерофеевич. А потом заверну в санроту, к Федоре».
9
Мечтам комдива Бурунова, его комиссара, как и многим тысячам тех солдат, что воевали в эти дни у Волги, в Сталинграде, о кратковременной передышке сбыться не довелось. Немецкое высшее командование, как и командующий 6-й армией Паулюс, в те дни не теряло надежды окончательно разгромить армию Чуйкова и захватить полностью город на Волге, который стоил им столько жертв. Каждый день сражений прибавлял новые кресты с солдатскими касками на немецких кладбищах.
Выносив замысел нового наступлении одобренный как Вейхсом, так и главным командованием германских вооруженных сил с благословения самого Гитлера, Паулюс в последних числах октября стал ускоренно готовить свою армию к решительной схватке. Каждый жаждал нового наступления и падения Сталинграда, руководствуясь разными целями. Гитлеру надо было основательно поднять подорванный политический и военный престиж непобедимой империи, Паулюсу— авторитет командующего перед фюрером, высшим командованием и своей армией, Мильдеру — авторитет генерала, не знающего поражений, и военного теоретика, каждому немецкому солдату хотелось дожить до желанного часа долгожданной победы. Но нового наступления накануне 7 ноября, как все ожидали — и наши, и немцы, — не последовало. И хотя немецкое командование и войска тщательно готовились, старательно накапливая свежие силы и резервы, а Вейхс перебросил на самолетах новые дивизии и части усиления из Россошки и Миллерово, вся подготовка затянулась, расчет и ожидания не оправдались.
На рассвете 11 ноября после ураганной артиллерийской подготовки и штурмового удара авиации пять пехотных и две танковые дивизии обрушились на позиции чуйковской армии. К полудню Паулюс ввел в бой свежие резервы, и немцам удалось лишь на узком участке в полкилометра прорваться к Волге. 62-я армия третий раз за время боев в Сталинграде была разрублена, а дивизия Людникова отрезана от главных сил. И все же Чуйков в тот же вечер записал в своем фронтовом дневнике: «Паулюс не использовал своего превосходства в силах и не выполнил своего замысла. Сбросить 62-ю армию в ледяную Волгу ему не удалось. Это наша еще одна крупная победа, в которой вскоре все убедятся».
* * *
Уже далеко за полночь беспрерывный грохот артиллерийской канонады, не умолкая, потрясает воздух. Ружейно-пулеметная трескотня режет слух, оглушает. По после урагана, обрушившегося на рассвете 11 ноября на позиции дивизии Бурунова, танковых таранных ударов и непрерывных атак пехоты, потоков огня, когда небо закрыто тяжелыми чёрными тучами дыма и трудно было разобраться, наступила ночь или еще день, усталость сломила всех. Большинство работников штаба и командиров спят. Блиндажи, землянки встряхивала взрывная волна, будто предупреждала: не спите, рядом ходит смерть. С потолка струились ручьи песка, сыпались земля и щепки. Но никто не обращал внимания на такое обычное для защитников города явление. За долгие месяцы боев люди обжились и к этим адским условиям привыкли. Но спят не все. Штаб — мозг дивизии ни на секунду не прекращает своей работы по управлению войсками. Оперативный дежурный много часов подряд настойчиво добивался связи с частями и соседними соединениями, не теряя надежды разыскать исчезнувших «Каму», «Обь» и «Иртыш». Новый начальник штаба дивизии — вместо раненного при бомбежке подполковника Бурлакова — майор Король то засыпал у стола, то просыпался, тер слипавшиеся от усталости глаза, тут же брался за карандаш и продолжал наносить на карту новые сведения о немцах, полученные из донесений от полков. Иван Степанович внешне ничем не похож на военного человека. Он всегда спокоен и верен своим гражданским привычкам. Любит вспомнить родную Украину, любимые вареники с вишнями и до хрипоты будет доказывать сомневающемуся собеседнику, убеждая, что сам своими глазами видел Тараса Бульбу на Полтавщине с запорожским оселедцем на темени.
В углу сидел новый его помощник — он же начальник разведки дивизии — капитан Андреев. Невысокий, худощавый, в щегольском обмундировании, подогнанном, выутюженном, в блестящих, будто лакированных, хромовых сапожках со шпорами. Он ходил по землянке, наслаждаясь звоном шпор, и диктовал очередную оперативную сводку писарю-ефрейтору Чмыхало. Ефрейтор — молодой, кучерявый паренек. За пристрастие к поэзии и стихам собственного сочинения писари и связные называют его Пушкиным. Чмыхало тер красные, усталые глаза и сосредоточенно с ожесточением бил по клавиатуре машинки, изредка бросая взгляды на Андреева. Время тянулось медленно. Капитан мучительно долго обдумывал каждое слово, прежде чем оно ложилось в очередную сводку.
— В течение дня, — пауза пять-десять минут, — немцы предприняли десять. — Капитан рылся в донесениях, считал, шевеля губами. — Как будто двенадцать? Но пиши: десять атак.
Чмыхало, пока тот обдумывал, успел слазить в карман за куревом. Он не торопясь свернул огромную козью ножку. Ее вполне хватит на несколько часов.
— Так, значит, — говорит капитан, — на чем мы остановились?
Чмыхало перечитывает текст.
— Ах да. — Андреев взялся за голову, пригладил растрепавшийся хохолок и встал за спиной писаря. — Пиши дальше. За истекшие сутки подбито и уничтожено. — Снова шевеля губами и сгибая пальцы, он считал: — восемь танков. — Капитан склонился над сводкой. — Печатай: и три бронетранспортера.
Оперативный дежурный, дремавший у телефона, прервал его:
— А ты точнее почитай!
— Ну их, — широко зевает Андреев и потягивается.
Король сложил карту, подошел.
— Иди, Андреев, сосни часок, я сам со сводкой управлюсь. Меня сменишь, — он глядит на часы, — в три двадцать.
Андреев не заставляет себя упрашивать. Он тут же полез на топчан и накрылся шинелью. И пока Король перечитывает оперсводку, из-под шинели уже доносится мощный храп капитана.
— Чего тут восемь танков, три бронетранспортера? Зачем? Пиши, — обратился он к Чмыхало. — Отбили крупные силы немецкой пехоты и танков. По сводке Коломыченко, на его левом фланге было всего одно отделение и три противотанковых ружья. — Майор присел, шелестя бумагой. — Одно ПТР было разбито. Да, разбито. Значит. — Майор вдруг сник, уткнулся головой в стол и смолк. Чмыхало смотрел на него, раскуривая огромную козью ножку.
— Спит, — говорит он, обращаясь к оперативному дежурному. И, отложив цигарку, начал часто стучать на машинке. Дежурный с любопытством поглядывал на ефрейтора. А Король спал, спал по-детски беспечно, блаженно улыбаясь. Чмыхало — в прошлом сельский учитель. Человек он толковый, со смекалкой, аккуратный и честный. В штабе редко кто лучше знал обстановку в дивизии, разве сам Король. И тому он нередко подсказывал новости из армии. Чмыхало — не чиновник, он человек энергичный, интересующийся всем сам, а не перечитывающий готовые сводки и документы. С командирами он по-свойски, на «ты». Политработники ценят его. Он комсорг штаба. Тыловые работники побаиваются Чмыхало. С ними он строг. Видно, что он недолюбливал их.
Майор Король, очнувшись, вскочил и, протирая глаза, полусонным взглядом оглядел землянку.
— На чем мы остановились, Чмыхало? Майор отчаянно зевал. — Где сводка?
Ефрейтор продолжал раскуривать козью ножку, будто его ничего не касалось.
— Какая сводка, товарищ майор?
— Ну та, что я тебе диктовал.
— Она у Бурунова. Андреев подписал.
— Да ты что? — Майор Король сжал кулаки. — Ты что, ошалел? Я же не читал ее и не подписывал.
— Потребовали срочно. Адъютанта прислал. Ну я решил дописать. Не хотелось вас будить.
Майор Король сердито и недоуменно глядел на ефрейтора. Этот немой поединок прервал звонок.
— Вас, товарищ майор, — подал трубку связист.
— Слушаю, товарищ полковник! Да-да. Ясно. — Майор положил трубку и улыбнулся. — Подписал комдив сводку. Молодец! Ты не сердись, Чмыхало! Я беспокоился, вдруг что упустишь.
— Чего меня благодарить. Обязанность. Отдыхайте, товарищ майор!
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В штаб 6-й армии Паулюса во второй половине дня 19 ноября пришло сообщение из штаба группы о том, что русские утром перешли в наступление с плацдармов правого берега Дона. Паулюс стоял у карты с оперативной обстановкой и внимательно рассматривал положение войск группы и его армии. «Как же расценивать эти действия советских войск?» Сведения о передвижениях армий противника с севера к Дону, о его танковых колоннах отмечались в некоторых разведывательных сводках, приходивших из штаба группы армии. Но в беседах с Вейхсом, в частных разговорах о положении немецких войск и группы армий «Б» он никогда не придавал серьезного значения этим данным, считая все-эти передвижения не более как тактическими маневрами врага.
Паулюсу запомнился случай, когда Вейхс по этому поводу как-то сказал ему с иронией, перефразируя известную русскую пословицу: «Потеряв голову (половину России, ее важные экономические и политические центры), пусть не плачут по волосам (остаткам своих территорий, которые наверняка не в силах уже русских спасти)».
Паулюс разделял взгляды своего начальника. События и факты упрямо подтверждали все это как неопровержимую истину.
«Конечно, — думал он, — советское командование, чтобы поддержать свой пошатнувшийся престиж в проигранном сражении у Волги, в неудачах на Кавказе в летнюю кампанию тысяча девятьсот сорок второго года, пошло на такую отчаянную авантюру, как контрудар с донских плацдармов. Но кто-кто, а они-то хорошо знают, что нет сейчас у русских ни техники, ни войск. Да и обстановка не в их пользу. Но тем хуже для них. За это они жестоко поплатятся, не добившись даже каких-либо тактических успехов. Они думают отвлечь мою армию от Сталинграда. Ничего из этого не выйдет. Оборона наших союзников — третьей румынской и восьмой итальянской армий, как утверждает Вейхс, надежна. Она может задержать их до того, как моя армия покончит с остатками шестьдесят второй армии в Сталинграде и другими ее соседями у Волги. Если взять худший вариант и допустить, что они прорвут оборону на Дону в каком-то одном месте, то у Вейхса найдется достаточно резервов локализовать этот прорыв. Я не сниму ни одного солдата, ни одного танка и не позволю перебрасывать их из Сталинграда, если даже на этом будет настаивать Вейхс. У меня есть для этого все основания. Фюрер мне доверяет. Он меня всегда поддержит.
Паулюс вызвал первого адъютанта, полковника Адама, и приказал принести ему обед. Позвонил начальнику штаба Шмидту и отдал распоряжение подготовить к восемнадцати часам очередную разведсводку в штаб группы армии.
— Да, да, господин генерал-полковник, — повторил Шмидт с некоторым раздражением, услышав напоминание. — Я готовлю. Собственно, сводка готова. Но…
— Вам надлежит указать в разведсводке, — сказал Паулюс, — что наша армия завтра. — Он сделал паузу. — На двадцатое ноября нами намечается по плану продолжать действия разведывательных подразделений с тем, чтобы в ближайшее время перейти к самым активным и решительным действиям против шестьдесят второй армии согласно ранее намеченному фюрером плану.
Паулюс, как всегда, не изменял своим привычкам. Он принял душ перед обедом, надел вместо жесткого кителя мягкий, легкий пиджак, подарок жены, и сел за стол.
«Теперь все служебные заботы к черту». Он должен быть наедине сам с собою и отрешиться от будничных дел и забот.
Паулюс полистал красочные иллюстрированные журналы. Задержался на снимках венского балета, рассматривая безукоризненные фигуры балерин. Хорошо бы сейчас побыть на балете, а еще лучше поехать к семье, встретиться с друзьями. Он медленно жевал и ловил себя на мысли, что делал это механически, пища казалась ему невкусной. Даже любимый коньяк не возбуждал аппетита.
— Как вы думаете, господин Адам! Не злоупотребляет ли наш повар моим терпением?
Адам насторожился.
— Вчера я с трудом сжевал свиную отбивную. Она была жесткой, как подметка. Он сегодня преподнес мне ее под другим соусом, но та же подметка.
— Что-то и начальник штаба недоволен последнее время поваром.
— Принесите мне… Ну хотя бы копченой ветчинки. И маринованных патиссонов. Или горячих сосисок.
И когда Адам уже направился передать распоряжение, Паулюс спросил:
— Вы точно проверили, Адам, что утром наши транспортные самолеты доставили армии подарки — ящики с медалями и орденами?
— Проверил, господин генерал. Прибыли только эти грузы.
— И ни одного ящика с боеприпасами, и ничего более?
— Ничего, господин генерал.
Вопреки привычке — в личное время забывать о всем служебном — Паулюс снова задумался о положении своей армии: «Вейхс давно уже обещает мне две свежие дивизии: пехотную и танковую. Ни того, ни другого. За последний месяц ни одного солдата, ни одного офицера. К чему мне шлют в армию столько ящиков наград? Армия истощена, такие потери, кому вручать эти ордена и медали? А что мне делать дальше с Мильдером?»
Он снова вспомнил о вчерашнем неприятном разговоре с Вейхсом по этому поводу: «Подумать только. Отступили два танковых полка. Отступили, оставив позиции на берегу Волги. Сколько усилий потратила армия, чтобы захватить эти позиции. Почти полтора месяца непрерывных кровопролитных боев. Да, Вейхс был взбешен до крайности и грозил наказать не только Мильдера, но и... Он явно намекал на командование армии. Видно, Мильдера придется отстранять от командования. Не хотелось бы. Блестяще проявивший себя в сражения за Сталинград генерал. Я не в силах отстоять его. Вейхс за него получил выговор от фюрера. Меня еще ждет кара. С Мильдером предстоит сегодня вести суровый разговор».
Паулюс посмотрел на часы. Двадцать один тридцать две. «Через полчаса будет Мильдер». Он оделся по форме, привел себя в порядок. Стал просматривать лежащую перед ним карту Сталинграда. «Нет, отсюда нам уходить никак нельзя. У нас сейчас, как никогда, выгодное положение. Еще несколько мощных ударов, и мы опрокинем шестьдесят вторую в Волгу. Они в западне». Он встал, прошелся, заложив руки за спину.
Вошел Циммерман.
— Вас, господин генерал, вызывает срочно на провод командующей группой.
— Передайте генералу Мильдеру, чтобы он меня ждал. Я назначил ему встречу на двадцать два часа.
— Командующий группой барон Вейхс говорил с ним сдержанно, медленно, но Паулюс почувствовал заметную тревогу.
— Войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в контрнаступление. Примите незамедлительно меры к полной боеготовности. Обстановка складывается не в нашу пользу. Подробный мой приказ получите через тридцать минут. Его привезет вам специальный связной.
«Что же могло случиться? — недоумевал Паулюс. — Неужели за полсуток могла так резко измениться обстановка? Не могли ухудшить и довести до угрожающей только крупные танковые и механизированные войска. Но откуда они у русских? Или это осторожность Вейхса, это постоянное желание держать подчиненных в напряжении? О, это хорошо было известно всем, кто служил под его командованием. Наверно, о попытке наступать сообщили фюреру, а он со свойственной его характеру эксцентричностью предупредил Вейхса. Вот и напуган».
Но на всякий случай Паулюс все же отдал распоряжение о повышении боеготовности своих войск и приказал Адаму, чтобы он поставил в известность Мильдера. Сегодня он принять его не может.
Вскоре пришел и приказ командующего группой армий «Б», полученный в 22 часа.
— Обстановка, складывающаяся на фронте 3-й румынской армии, вынуждает принять радикальные меры с целью быстрейшего высвобождения сил для прикрытия фланга 6-й армии и обеспечения безопасности ее снабжения по железной дороге на участке Лихая (южнее Каменск-Шахтинского), Чир. В связи с этим приказываю:
1. Немедленно прекратить все наступательные операции в Сталинграде, за исключением действий разведывательных подразделений, сведения которых необходимы для организации обороны.
2. 6-й армии немедленно выделить из своего состава два моторизованных соединения, одну пехотную дивизию и по возможности одно моторизованное вспомогательное соединение, подчинив их штабу 14-го танкового корпуса, и, кроме того, как можно больше противотанковых средств и сосредоточить эту группировку поэшелонно за своим левым флангом с целью нанесении удара в северо-западном и западном направлениях.
Барон фон Вейхс».
Перечитав несколько раз приказ, в котором, подчеркивалось в двух пунктах слово «немедленно» и категорическое требование выделить крупные силы от армии, Паулюс чутьем опытного военачальника почувствовал, что положение для армии сложилось весьма угрожающее.
Медлить было нельзя. Надо было действовать, и как можно быстрее.
* * *
Так думали в первый день контрнаступления войск Юго-Западного и Донского фронтов наши противники: Вейхс, Паулюс, Мильдер, Нельте и тысячи других генералов и офицеров— от командующего группой армий «Б» до командиров немецких дивизий. Они больше верили сводкам и докладам своих подчиненных и не понимали подлинного хода событий, развернувшихся южнее Дона, в заснеженных степях большой донской излучины. И хотя отданные приказы привели в действие многие немецкие части и соединения, но боевые действия советских войск опередили планы и замыслы немецкого командования.
Мощный поток советских танков, пехоты, артиллерии прорвал, как бурный весенний поток, плотину обороны румынских войск и покатился на юг, безудержно, с артиллерийским громом, стальной армадой танков и пехоты, сметая на своем пути встречающиеся преграды, сокрушая и уничтожая вражеские гарнизоны. И остатки их, плененные советскими войсками, потянулись темными извилистыми колоннами на север, оставляя у дорог штабеля винтовок, автоматов, артиллерийские орудия и минометы — теперь уже трофеев.
Пожалуй, в этот первый день стремительного поступления советских войск лучше всех понимал, что поражение близко и неизбежно, командир 2-го румынского корпуса, принявший первый удар 6-й танковой армии русских, да командующий 3-й румынской армией генерал-полковник Дмитреску.
* * *
Как только Мильдеру стало известно о контрнаступлении русских, он долго изучал карту военных действий. «Нет, это уже не случайное явление, — сказал он себе. — Нам придется, по-видимому, вести с ними тяжелые сражения. Мой долг как командира предупредить корпус».
Мильдер тут же вызвал к себе адъютанта и, рассматривая район боевых действий, стал ему диктовать:
— Пишите приказ войскам корпуса! Не торопитесь и, прошу, не переспрашивайте меня. «Ставлю в известность всех — от рядового солдата до офицера. В ближайшие дни ожидаются сильные и, возможно, последние атаки со стороны русских. Мы должны непременно их отбить. В этом главная задача. Я ясно сознаю, какие трудности боевого напряжения перенесет каждый из нас. Возможно. — Мильдер сделал паузу, взглянул на адъютанта. — Возможно, некоторым из нас суждено погибнуть во имя Германии, от которой нас отделяют сотни километров. Но в этой схватке с врагом и предстоящих испытаниях никто так не разделяет вашу судьбу, как я, находясь с вами рядом и сочувствуя всем вам. Я знаю из боев прошлой мировой войны, что после длительного и изнурительного налета артиллерии врага стойкость одного солдата способна остановить наступление сотен. Сегодня происходит то же, что несколько десятков лет назад. Настоящий солдат — всегда и во все времена — солдат! Все, кто служит в моем корпусе, должны знать, что он никогда не терпел поражений. Корпус пронес свои боевые знамена через города и поля Франции. Он сокрушил последние остатки врага в Югославии. Боевые знамена его реяли в побежденной Варшаве. Помните об этом всегда, везде, в любых безвыходных положениях. Сегодня, как никогда, победа нужна нам, и ее творцами будете вы — солдаты! Мы хорошо знаем, что перед нашим корпусом ожидается сильный и решительный противник. И дело нашей солдатской славы — отразить все атаки до назначенного нам фюрером освобождения, к этом у нас обязывает великая армия Германии, обязывают... — Мильдер задумался, прошелся по комнате, — …обязывают родные и близкие, кто дорог нам, кто нас ждет с победой. Я как командир корпуса говорю нам перед решительным и тяжелым сражением, говорю в приказе, поскольку не могу сказать каждому лично».
Мильдер позвонил начальнику штаба:
— К вам принесут мой приказ. Размножьте его и доведите до сведения каждого в корпусе.
2
Офицер особых поручений из штаба группы Вейхса привез приказ Мильдеру об отстранении его от командования корпусом. Генерал прочел его дважды и, задумавшись, долго сидел, подперев голову руками. «Что ожидает меня? Позор и суд. А за что? Разве я не делал все, что зависело от меня, чтобы приблизить день победы? Но неумолимый рок преследует и подстерегает нас на каждом шагу, чем дальше продвигается немецкая армия в глубь России. И здесь, на берегу Волги, когда осталось сделать еще одно последнее усилие, и победа близка, русские войска вдруг обрушили на нас мощный удар с севера, и передовые танковые их войска, разгромив румынские соединения прикрытия Шестой армии на Дону, идут по тылам нашей армии и грозят отрезать ее. А что, если они нанесут встречный удар от Сталинграда и устроят нам «котел», который мы не раз устраивали им в тысяча девятьсот сорок первом году? Нет, нет. У Сталинградского фронта нет для этого сил, — утешал он себя. — Нам-то хорошо известно, что армии Еременко на Волге слишком истощены и не получали оперативных резервов. Они не способны выполнить такую задачу. И это наше спасение. Даже если придется Шестой армии временно отойти, а это еще не поражение, — думал Мильдер. — К весне мы накопим силы и снова перейдем в наступление. Фюрер не откажется от своего замысла захватить Сталинград и перерезать Волгу. Не откажется никогда. Это знают хорошо все, начиная от самых высоких начальников до солдата, сидящего в окопе, здесь, в городе. Ну а что же будет со мной? Может, на мое положение повлияло пленение русскими Нельте? Ни Паулюс, ни Вейхс больше не доверяют мне».
— Господин генерал, — тихо обратился к нему красивый высокий офицер особых поручений. — Прошу подписать приказ. Вы ведь ознакомились? Мне необходимо поставить в известность нового командира корпуса — генерала Дранке.
«Дранке, Дранке, — вспоминал Мильдер. — А, это тот, что из штаба группы Вейхса, молодой, услужливый, который всегда готовит ему карты и справки. Выскочка. Вздумал отличиться. Поглядим, поглядим, как вы, господин Дранке, будете воевать в этом сталинградском пекле. Это не карты подносить высоким начальникам, а воевать». И он вспомнил, что Дранке был когда-то порученцем в академии у начальника кафедры, где он преподавал. «Нет, дорогой, — сказал он себе, — вам, господин Дранке, не удержаться долго. Нет ничего у вас: ни командного, ни боевого опыта. Представляю, с каким гордым видом он приедет принимать от меня корпус. Пускай понюхает пороху.
— И недели ему не прокомандовать корпусом. Я уверен, — повторил он вслух и встал.
— Что, господин генерал? Какая неделя? Вы должны подписать приказ сейчас. Я тороплюсь, — сказал офицер особых поручений.
Мильдер поглядел на него с сожалением.
— Не смею вас задерживать. — И, достав авторучку, подписался размашисто у слова «ознакомлен». Посмотрел на часы, поставил дату и время. — Вы свободны.
Порученец артистически козырнул и скрылся в дверях.
Мильдер открыл портфель, вынул заветный дневник, чтобы занести эту скорбную в его жизни дату, и наткнулся на летописную военно-историческую хронику с дорогим сердцу именем.
16 ноября исполнилось более ста лет со дня смерти Клаузевица. «И я в суматохе службы пропустил это. Ну как тебе не совестно, Густав, упрекнул он себя. — Забыл о величайшем своем учителе и друге, которому всем обязан в своей трудной армейской жизни и славе, выпавшей на мою долю».
Он позвонил адъютанту. Вошел пожилой офицер, недавно взятый им из батальона разведки по совету Нельте. Он поклонился и четко, не по возрасту энергично козырнул.
— Ужин готов, майор Вернер?
— Готов.
— Принесите!
— Слушаюсь.
Мильдер достал походную фарфоровую флягу — подарок жены Марты. Долго рассматривал затейливые росписи, смотрел на закованных в доспехи и латы немецких ландскнехтов, скачущих в бой с пиками наперевес. Поболтал ее. Во фляге плескался коньяк. «А что сейчас с Мартой?» После последнего письма о тяжелом сердечном приступе он не получал никаких вестей. «Выпью за ее здоровье. Может, ей будет легче. Может, вспомнит меня».
Адъютант бесшумно поставил на стол ужин.
— Чем вы расстроены, господин генерал? Сейчас прибыл в штаб новый командующий корпусом Дранке. Он сообщил, что русские войска остановлены нашими оперативными резервами. На Серафимович брошена румынская танковая дивизия. Она задержала…
— Румынская дивизия задержала? — прищуриваясь и иронически улыбаясь, спросил он, — И вы верите этому? — Мильдер налил себе рюмку коньяку и, кивнув, сказал: — За успехи наших союзников. — И тут же прошептал вслед, как молитву: — За здоровье Марты.
— Да, но Дранке весел и бодро настроен. Он даже рассказал анекдот, как русские, понаделав танков из фанеры и впрягая о них лошадей, думали нас запугать
— Бросьте верить этим неуместным шуткам, майор, и постарайтесь посмотреть на Дранке после первой серьезной атаки русских. Там, в штабе группы, можно позволить себе развлекаться анекдотами. А здесь? — Он сделал паузу. — Здесь надо уметь воевать. И не думайте, бога ради, что я удручен тем, что сдаю корпус или завидую Дранке. Время покажет, кто на что способен. Сегодня, господин майор Вернер, меня мучает совесть по случаю непростительной для меня забывчивости — сто одиннадцать лет тому назад Германия потеряла самого выдающегося духовного отца немецкого военного искусства — Карла Клаузевица.
Вернер смотрел на жующего Мильдера, запах жареного мяса раздражал его, и он глотал слюну. Из-за служебных хлопот он не попал на обед. Он даже ощущал терпкий, обжигающий вкус коньяка.
— Отчего он умер? Где?
— Клаузевиц? От холеры, в Бреславле. Вы были когда-либо в Бреславле?
— Нет.
— Напрасно. Там благодарный немецкий народ поставил памятник Клаузевицу — великому военному гению Германии. — Мильдер отправил в рот очередную рюмку коньяку, продолжая: — Но Клаузевиц заслуживает большего. Если бы моя воля, я поставил бы ему памятники повсюду — во всех городах, где за этот прошедший век немецкая армия одерживала блестящие победы над своими противниками. И здесь, в Сталинграде, когда мы одержим победу, надо поставить ему памятник на Мамаевом кургане, чтобы он стоял на виду, над городом. Благодаря его светлому военному гению немцы стали непобедимыми солдатами.
— Я слышал, господин генерал, фюрер высоко его ценит!
— О да, наш фюрер — один из его великих последователей. — Мильдер снова выпил рюмку коньяку. — Фюрер продолжает лучшие традиции славной военной истории и учения Клаузевица. Разве вы не знаете, майор Вернер, с нашим Клаузевицем считался и высоко ценил его даже вождь большевиков Ленин. Он очень похвально отзывался о его военком таланте. — Мильдер поднял над головой указательный палец. Он слегка захмелел и чуть было не сказал: «Если бы Клаузевиц мог встать и руководить войной сейчас». Но, раскрыв рот, удержался от этого откровенного высказывания. И только добавил: — Клаузевица еще оценят наши потомки. Верьте мне! Принесите крепкого кофе и можете быть свободны! Мне предстоит еще написать обращение к войскам корпуса. Завтра оно должно быть зачитано всем солдатам при передаче мною командования Дранке и подписании акта.
Когда Вернер принес кофе и удалился, Мильдер долго сидел, раздумывая, и потом стал писать обращение, зачеркивая и переправляя, рвал написанное и снова писал:
«Солдаты танкового корпуса!
Командующий группой армий счел необходимым освободить меня с сегодняшнего дня от командования.
Прощаясь с вами, я продолжаю помнить и буду хранить до самой смерти в своей памяти эти три месяца нашей совместной борьбы за величие Германии и победу нашего оружия. Я с глубоким уважением солдата и вашего командира помню о тех, кто отдал свою жизнь за славу Германии. Я требовал от вас без сна и отдыха идти на штурм города, сражаться, несмотря на угрозу с флангов и тыла. И вы никогда не проявляли колебаний. С достоинством, заслуживающим подражания, с уверенностью в своих силах вы честно выполняли поставленные мною задачи, самоотверженно бились. От глубины души благодарю нас, дорогие боевые друзья, за ваше доверие, преданность, которую вы проявляли в течение совместной службы со мной. Мы были тесно связаны друг с другом, как солдаты одной семьи, и вместе разделяли наши успехи и неудачи. И для меня было самой большой радостью быть всегда с вами заботиться о вас, заступаться за вас.
Счастливо вам оставаться! Я уверен, что вы как и при мне, будете храбро сражаться и победите, невзирая на трудности зимы и временные поражения. Всегда я мысленно буду с вами, в одном строю. Идите смело к великой победе, за счастье Германии. Хайль Гитлер! Густав Мильдер».
Обращение Мильдера к бывшим его подчиненным было разослано в роты, батальоны, полки и дивизии. Его зачитал он сам перед офицерами штаба корпуса. Все слушали его с напряженным вниманием. Один лишь генерал Дранке, его преемник, морщился, почему-то нервничал и, не дослушав до конца, ушел. Это возмутило Мильдера. Он холодно попрощался с Дранке, не подав ему руки. И уже за спиной, уходя, услышал, как новый командир корпуса сказал: «Не терплю слюнявых сентиментальностей. Надо воевать лучше, а не читать молитвы». Мильдер был оскорблен. «Негодяй. Будь у меня власть, я бы показал этому выскочке. Пользуется тем, что я снят. Ну ничего, я ему еще припомню при случае».
В тот же вечер Мильдера вызвали в штаб группы армий Вейхса.
В штаб он ехал подавленный, с тревожным предчувствием неизбежных неприятностей. «Посадят под арест, отзовут в ставку и будут судить. Ну что ж! Что можно сделать в моем положении?» Но, к удивлению самого Мильдера, не произошло ни того, ни другого, ни третьего. Вейхс принял его спокойно. Он ни в чем его не упрекал и, что поразило Мильдера, назначил командовать танковой дивизией резерва группы армий. Да, конечно, это ущемило его самолюбие. Но хорошо, что дело не дошло до суда. Ему было приказано срочно выйти с танковой дивизией в район южнее Перелазовского и на этом рубеже совместно с румынской танковой дивизией остановить прорвавшиеся русские войска, Мильдер понимал, какая огромная ответственность ложится на него. «Или я оправдаю доверие и верну себе былую славу, или на этом моя карьера закончена, и мне надо подавать в отставку».
Он вышел в приемную Вейхса, развернул карту, прикинул расстояние до Перелазовской, посмотрел на часы. Времени оставалось мало «Но надо сделать все, чтобы выполнить приказ». Мильдер вышел во двор. На него с воем набросилась вьюга, облепив лицо мокрым холодным снегом.
Он сел в машину и приказал водителю немедленно ехать в штаб дивизии на самой большой скорости.
Он очень торопился. Нельзя было упускать последней возможности.
А в это время полковник Нельте шел по заснеженным степям с группой солдат и офицеров его дивизии под конвоем советских автоматчиков. Мокрый снег хлестал больно в лицо и таял, а холодные ручейки заползали за воротник. Нельте то и дело подымал ворот шинели, сутулился, сунув одеревеневшие руки в карманы. «Вот и все, вот и все. Отвоевался я, как и мои вчерашние офицеры и солдаты. Теперь мы в плену у русских. Что нас ждет? Или они нас где-либо расстреляют здесь в оврагах, или мы, обессилев, замерзнем в поле. Чего им сейчас считаться с нами?» Он вспомнил, как неделю тому назад он случайно услышал, о чем мечтали его солдаты, разговаривая между собой в штабе. Один собирался открыть парфюмерный магазин в Дрездене, другой — винный погребок в Берлине, третий мечтал получить землю в России и откармливать на бекон свиней, четвертый— торговать мехами, скупая их в Сибири, пятый — заиметь ювелирный ларек в самой Москве.
«Как только кончится зима, мы погоним «Иванов» в азиатскую глушь и тайгу, — уверял один из них. — Я сам слышал, как говорил об этом генерал Мильдер».
«Далеко сейчас Дрезден и Берлин, а еще дальше Москва, — думал Нельте. — И вот мы идем неизвестно куда, идем, не зная, что случится с нами через день, час и даже минуту. Хорошо еще, что не бьют и не издеваются как наши конвоиры».
Прошло не более часа с начала наступления, как полк майора Миронова при поддержке танкового батальона завершил окружение румынского гарнизона в хуторе Клиновой и, пропустив впереди себя танковые бригады корпуса Канашова, тут же ринулся вслед за пробившим оборону танковым тараном на юг и юго-восток к станице Новоцарицынской.
Миронов доложил комдиву Андросову о захвате Клинового и отдал распоряжение Ванину быстрее отослать в штаб оперативную сводку. К нему подъехал майор Кряжев. Раскрасневшийся от мороза, он, довольный, улыбался:
— Ну, как дальше, Александр Николаевич, служить прикажешь? Мне идти с моими хлопцами вперед, а ты за мной? Или вместе ползти нам, чтобы пехота твоя не отстала?
Миронов получил донесения от командиров батальонов.
Два батальона после взятия Клинового привели себя в порядок и втягивались колоннами поротно на дорогу. Благо, что низкие тучи, порошившие снегом, надежно маскировали с воздуха от налетов вражеской авиации. Но одиночные самолеты немцев гудели над головой и для острастки нет-нет да и сбрасывали наугад одиночные бомбы. Но они рвались впустую неподалеку от дороги, а то и просто в лощинах, не причиняя никому вреда.
Миронов не сразу ответил Кряжеву, обдумывая, как ему лучше действовать в дальнейшем.
— Подожди малость, надо прикинуть, — ответил он.
— Значит, Чапай думает? Это хорошо.
По прежнему приказу полку надо было в боевых порядках наступать в заданном ему направлении. Но третий батальон медленно приводил себя в порядок после боя. «Что они там копаются?» — подумал с досадой Миронов. Ждать, теряя напрасно время, было нельзя. По донесению, полученному от полковой разведки, прорвавшиеся вперед танковые бригады ушли на Перелазовский. «Вот горе-разведчик, — подумал он о брате. — Не донесение, а восторженный лозунг: «Танки идут вперед». А где координаты? Хотя самого Миронова распирало от радости. «Идут вперед». Решение созрело мгновенно. «Посадить первый батальон на танки и машины. (В числе трофеев было захвачено шесть исправных грузовых машин). Ох, как они сейчас нам кстати! — подумал он. — И нам надо вперед, не отрываться от танковых бригад. А второму батальону с полковой артиллерией в колонне следовать за первым. Третьему привести себя в порядок и тоже в колонне двигаться параллельно второму, на левом фланге полосы прорыва полка. Правда, там идет гряда высот, — он смотрел на карту. — И могут еще встретиться очаги сопротивления. Ничего, придам ему полковые минометы. Надо действовать быстрее. Скоро на дорогу выйдут тылы танковых бригад, тогда мы застрянем. Заполонят все дороги, и будешь путаться между их машинами и бензовозами».
Миронов встрепенулся, поправил ушанку, сложил карту в планшет.
— Ну, Василий Васильевич, — блеснул он глазами, улыбаясь. — А что, если ты на своих стальных конях прокатишь с ветерком моих орлов?
— А что, можно и с ветерком, — сказал Кряжев. — И для нас оно веселей и надежней. Самое тесное взаимодействие.
— Понял, — кивнул Миронов. — Давай команду, а я тут распоряжение разведке и комбатам отдам. — Он взглянул на часы:— Через пятнадцать-двадцать минут полный вперед!
— Есть, полный вперед!
Кряжев отдал распоряжение собрать к нему для получения новой задачи командиров танковых экипажей.
Миронова окружили сержанты-связные от батальонов. Он, чтобы быстрее передать приказ комбата, каждого связного обязал записать его приказ в командирские блокноты, уточнил маршруты на карте и велел немедленно догонять его. Связался по радии с полковником Андросовым и доложил обстановку и свое решение. Комдив одобрил, но предупредил: «Не зарывайся. Связь держи с соседями. Батальоны не растеряй. Видишь, заснежило. Как бы не заметелило. Помни, Миронов, степь бедна на ориентиры. Сбиться можно запросто. Да и на огонь противника нарваться. Людей зря погубишь, а нам еще далеко идти надо. Сам знаешь».
У Клинового только показались первые колонны бензозаправщиков и автомашин, когда Миронов махнул красным флажком Кряжеву, что означало: «Трогай».
Взревели танковые моторы. Бойцы первого батальона в белых полушубках густо облепили танки. Лица их сияли радостно. На одном из танков запели песню, придумав на ходу немудреные слова на старый армейский мотив: «Разгромили мы фашистов и румынских воевод, и до Волги, к Сталинграду, мы пойдем сейчас в поход».
— Ишь ты, какие скорые! — стоя рядом с Мироновым, ворчал Каменков.
— Ничего, ничего, — сказал, улыбаясь, Миронов. — Песня — это от радости. С песней, Кузьма Ерофеевич, врага бить сподручней. Смотри, рвутся люди в бой!
— Оно-то так, товарищ майор, — разглаживал он пожелтевшие, обкуренные усы. — Это я к чему? В нашем военном деле порядок должен быть. Теперь каждый, как конь, норовист. С горы куда легче бежать. Как бы не услыхали проклятые вражьи уши, куда планы наши идут. Не хотелось бы оглобли поворачивать, коль пошли мы на рысях вперед.
Миронов глядел на него, улыбаясь.
— Порядок, Кузьма Ерофеевич, никому не мешал. А что о планах узнают, беспокоишься зря. Теперь уже поздно. Не остановить нас.
Каменков соглашающе кивал головой. Он увидел, что Миронов машет рукой шоферу Васе Сучку.
— А куда мне, товарищ майор, с моими рысаками?
— Тебе, Кузьма Ерофеевич, за нами не поспеть. — Он похлопал его по плечу. — Трогай помаленьку со вторым батальоном. Потребуешься — дам знать.
Каменков поглядел грустными глазами на Миронова, на подъезжающий «виллис». И когда Сучок, улыбаясь, подмигнул ему, отвернулся, сплюнул и, подняв воротник полушубка, сутулясь, побрел к стоящим в ложбинке оседланным лошадям.
Миронов увидел молчаливую стычку двух старых соперников.
Сучок торжествовал. Каменков был явно обижен тем, что Миронов предпочел машину коням. (О них Ерофеевич говорил всем в полку, что и во всей кавалерии таких не сыщешь). Ему стало от души жаль старика.
Он крикнул вслед уходившему Каменкову:
— Кузьма Ерофеевич, будьте в полной боевой готовности. Сами знаете, у Васи частенько мотор барахлит. Дело не очень надежное. Думаю, вечером увидимся. Видишь, машина-то у нас одноглазая!
Сучок сразу помрачнел, бросил косой взгляд на Миронова.
— С чего это вы, товарищ майор? Опять припомнили, что позабыл бензину в запас взять? Подумали? Я же повинился перед вами. А что фара, так не я ее бил. Осколком вышибло.
Он пожал плечами, сел, откинув голову, точно проглотил аршин, пристыл руками к баранке. Миронов видел, что проборка Сучка за нерадивую службу пошла ему на пользу. Сзади «виллиса» висели прикрученные ремнями и проволокой несколько канистр с бензином. Миронов усмехнулся, садясь в машину,
— Давай трогай, Василий! В пути разберемся, что к чему.
Сучок все так же сидел с обиженным и независимым видом. Он повернул ключ и нажал на акселератор. Мотор фыркнул, чихнул несколько раз и заглох. Васю будто подбросило на пружинах. Он ударился головой о поперечную подпорку тента, открыл дверцу, кубарем вывалился наружу и бросился открывать капот.
Каменков обернулся и, качая головой, крикнул ему, широко улыбаясь:
— Слезай, приехали! Что, Василий Ардальоныч, опять искра в баллон ушла? На твоем примусе только молоко возить сподручно. Не расплескаешь, — И побежал трусцой. Проворно взобрался на своего коня, проехал мимо с гордой осанкой, подкручивая усы.
— Погоди маленько со своей колымагой! Я тебе зараз в подкрепление тягач подошлю!
Сучок, красный, потный, торопливо крутил рукоятку, бросая злые взгляды то на Каменкова, то на подведшую его машину. Миронов наблюдал за их поединком, улыбался и огорчался, поглядывая на уходившие танки и машины.
«Шутки шутками, — думал он, — а гляди, чего доброго, будем вот так стоять. Чего у него там не клеится?» В душе он пожалел, что не умел водить машину.
Мотор взревел, и машина, подскочив от резкого переключения скоростей, понеслась, обгоняя повозки и торжественно трусящего рысцой Каменкова. Но только она обогнала лошадей, и Сучок хотел что-то крикнуть своему сопернику, как мотор снова зачихал и заглох. Миронов вскипел:
— Вы что дурака валяете? Что у вас с машиной? Или мне выйти?
Сучок от злости, обиды, вытаращив глаза, шипел, как гусак, потеряв голос:
— Одну минуту, товарищ майор! Это у меня отстойник засорился, товарищ майор!
Трясущимися руками он быстро снял отстойник, слил бензин, включил зажигание, и мотор ровно заработал. Машина понеслась, ловко объезжая едущих, и вскоре вырвалась вперед, к головному танку, в котором ехал Кряжев.
«Здорово было бы, — думал Миронов, — если удалось догнать танковые бригады Канашова. А то ведь наверняка он остался о нас плохого мнения. Надеялся, что мы сделаем коридор для его танков, а вышло не так, как планировали».
Генералу Канашову прислали донесение, что правая группа — танковая бригада полковника Петрова — в районе артиллерийских позиций противника встретила сильное огневое сопротивление. «Если она задержится, — подумал он, — то нам задачу не выполнить». Он доложил Поморцеву и решил ехать на командный пункт бригады посмотреть, что там происходит. Поморцев, раздумывая, ответил ему:
— Тебе виднее, но правильно ли будет бросать корпус, если в бригаде есть командир? Прикажи, пусть решает. Привыкли с няньками.
Но Кана шов не мог согласиться с его доводами. Обстановка, по донесению, была неясной. Ждать и гадать он не мог. Его так и подмывало поглядеть, что же там происходит. Почему они толкутся на месте? И он тут же направился с группой управления на «виллисе». Видимость плохая. Туман рассеялся, но пошел мокрый снег. Они ехали по разбитой дороге, с трудом преодолевая глубокие выбоины. По обеим сторонам дороги тянулись заборы крестов с солдатскими касками и стандартными черными дощечками посредине креста. Это сплошное кладбище наглядно подтверждало, чего стоили немцам летние победы, о которых они так много писали, о чем хвасталась их пропаганда. «Вот показать бы немецкому народу эту истинную правду, — думал Канашов. — Может быть, тогда они все, кто еще верит и надеется, задумались бы, чего стоили успехи немецкой армии и насколько они близки к победе, как уверяли их борзописцы». Но это были все же «счастливые» мертвецы, похороненные с элементарными почестями. А вот сейчас у обочин и прямо на дорогах, в степи, заметаемой снегом, валялись десятки тысяч скошенных пулями и осколками, изуродованных снарядами и минами, замерзших и раздавленных танками и машинами немецких солдат. Валялись, будто мусор.
И кругом, куда ни посмотри, сожженные танки обгорелые машины, разбитые орудия, минометы. Вот все, что осталось от прежней вражеской обороны и тех войск, которые еще вчера представляли грозную силу, которые считались непобедимыми.
Канашов выскочил на высоту, где находился командный пункт бригады. Петров доложил ему: «Бригада ведет бой». Канашов недовольно поморщился. К чему докладывать, когда он и сам видел, как развернутые в боевые порядки танки наступали на впереди лежащие высоты в густых разрывах вражеских снарядов.
— Что же ты делаешь, полковник? Какого черта атакуешь в лоб?
— А здесь нет больше дорог, товарищ генерал. Одна только.
— Ты что захотел, чтобы тебе шоссе проложили? Немедленно отвести танки за эти высоты! — Он показал рукой. И, подойдя вплотную, тихо сказал, сжимая кулаки: — Не было бы здесь твоих подчиненных, дурак ты эдакий! Людей и технику губишь и думаешь — война спишет. Не выйдет!
Бледный, вытянувшийся по стойке «смирно», полковник Петров стоял, уронив взгляд в землю.
— Виноват, товарищ генерал, упустил. Они сами рванулись с ходу. Думал, сомнут.
— А ты кто здесь? Командир или наблюдатель? Думал. Думать надо до того, как делать.
Канашов рывком вытащил из полевой сумки карту. Оглядел местность. Танки, отстреливаясь, отходили за высоты.
— Вот сюда давай двумя батальонами оврагами — и к ним в тыл. А одним заходи лощиной с левого фланга. Так оно вернее будет.
— Так там, товарищ генерал, берега оврагов крутые. Не вылезти танкам.
— А чего тебе по берегам там карабкаться. Овраги что, не имеют выходов?
— Иметь-то имеют, товарищ генерал, да ведь это далёко обходить надо. Время потеряем.
— Время потеряешь, зато бой выиграешь. А ты что, привык по линейке? Где ближе, туда бьешь?
— Есть, товарищ генерал, действовать по вашему приказу.
«И кто его на бригаду назначил?— подумал Канашов. — Докладывает, а бригада ведет бой. Кому нужен такой бой с такими потерями! «Действовать по-вашему». Бравый солдат Швейк, а не командир».
Канашову пришло донесение от левой группы танковой бригады Санева: «Веду тяжелый, малоуспешный бой в тактической глубине обороны противника». «Да что с ними? Петров в лоб артиллерийские позиции вздумал брать, а Санев тоже завяз».
Канашов приказал радисту передать Саневу:
«Во что бы то ни стало сломить сопротивление противника. Выполнять поставленную задачу. Я в правой группе. Докладывать через каждые полчаса».
Петров поставил задачу командирам, как это требовал Канашов.
Танки, рассредоточившись, исчезали, как призраки в снежной замяти. Противник вел беспорядочный огонь, видимо, ожидая новой атаки с фронта. Но вот спустя минут двадцать послышались частые глухие выстрелы. На командном пункте все с напряжением ждали первых донесений. И радио передало первые вести от танкистов, обходящих противника с тыла: «Атака удалась. Румынские артиллеристы бросили орудия и разбежались». Петров стоял улыбаясь,
— Здорово вышло, товарищ генерал!
— Когда думаешь — оно всегда здорово. Отдайте, полковник, приказ! Пусть не задерживаются и жмут вперед. Надо прорвать еще один тыловой рубеж.
— Есть прорвать! Сейчас прикажу.
— Не торопись! Прорвать-то прорвать, но не в лоб, а пусть обходят узлы сопротивления! — Он развернул карту. — Видишь, тут полно высот. На них пусть не идут. Застрянут. А в обход, балками и лощиной. Так надежней.
— Есть, товарищ генерал! Разрешите выполнять?
— Выполняйте!
Канашов смотрел на удалявшегося торопливой походкой Петрова и думал: «Неужели я так и буду толкачом и нянькой то для одного, то для другого командира бригады? Где же их самолюбие и самостоятельность? Чины большие, а смекалки у другого командира взвода побольше. Все ждут каких-то указаний свыше, и ни шагу сами. С такими не воевать, а в канцеляриях распоряженьица отдавать».
Мысли его прервала пришедшая военфельдшер.
— Товарищ генерал, — робко обратилась она к нему, неловко переминаясь с ноги на ногу, поправляя санитарную сумку на боку.
— Что вы хотите?
— Вы ранены, товарищ генерал.
— Я? — Он рассмеялся и обнял ее за плечи. — Ну что вы? Вы ошиблись.
Она нахмурилась, торопливо достала из сумки тампоны и мазнула по лбу, показывая ему сгустки крови.
Канашову вдруг эта ничем не похожая внешне девушка напомнила Аленцову. Он взял ее руку.
— Нет, не может быть, — думая о Нине, сказал он, закрывая глаза и вспоминая разговор с Поморцевым о ней.
— Я серьезно, товарищ генерал! Видно, случайно задело вас осколком. Давайте перевяжу.
И он вдруг как-то обмяк и, соглашаясь, кивнул.
— Хорошо, перевязывайте!
Она обработала рану, и, когда стала забинтовывать, он почувствовал, что на лбу что-то жжет и саднит. «Когда же это? Вот еще оказия».
— Товарищ генерал, — подбежал к нему адъютант, — вот получен приказ, — он протянул бумагу.
«Ускорить темпы продвижения. Прошу доложить лично положение бригады», — читал Канашов.
Радист протянул ему трубку. Канашов доложил Кипоренко. Тот отругал его:
— Ты все по старинке ползешь на пузе, по-пластунски. Вперед надо, вперед рваться! Понимаешь?
— Есть, вперед! Постараюсь, товарищ генерал!
Канашов невольно схватился за лоб и почувствовал боль. «Вот как оно получается. Попробуй объясни ему, что меня подвели подчиненные. А если бы не приехал, послушал Поморцева, то они и до сих пор бы бились как рыба об лед. Ну ладно. Нажмем. Сейчас вечереет, впереди ночь, и серьезного сопротивления до Новоцарицынского не предвидится».
Канашов отдал распоряжение бригадам ускорить движение, а сам выехал в головную бригаду Петрова.
Совершать марш ночью, в степи, до бездорожью, было чрезвычайно трудно. Легко сбиться с пути. А тут еще вскоре пошел сильный снег. Темп продвижения значительно упал. Танки шли медленно, делая частые остановки. Канашов нервничал. Кипоренко часто запрашивал его, требовал ускорить движение. Не помогали и включенные фары. Видимость была очень плохой. Танковая бригада подходила к совхозу. Еще несколько километров, и надо готовиться к бою за Новоцарицынский. Канашов отдал распоряжение обходить станицу с северо-запада и северо-востока, перерезая дорогу на Перелазовский.
И тут же по танковой бригаде открыла огонь артиллерия. Рядом с танком Канашова разорвался снаряд, и осколки со скрежетом и визгом полоснули по броне.
«Значит, где-то поблизости вражеская артиллерия. Значит, нас обнаружили. Но кто это? Немцы или румыны? Может, мы прошли румынские позиции и наткнулись на немецкие резервы?»
Канашов отдал распоряжение выключить свет и продолжать движение колонны в прежнем направлении. «Надо выслать разведку, — решил он, — а самим продвигаться, не теряя напрасно времени». Противник молчал, огня не открывал. «Что бы это значило? Как бы нам не попасть в огневую ловушку». Канашов приказал остановить колонну, вылез из башни. Кругом тишина и обильный пушистый снег, как ватные хлопья. Он прислушался. Левее доносился приглушенный шум моторов. «Неужели это танки?» Да, шум не походил на известный ему шум автомашин. «Но куда они идут? Может, навстречу нам? Кто же это может быть? Или это бригада Санева? Но как она могла очутиться левее нас? Или мы сбились с пути?» Он запросил Санева. Командир бригады не отвечал. «А что, если Кипоренко потребует от меня доклада? Что доложу я ему? Потерял бригаду? Этого еще недоставало», — подумал он, и от этой мысли почувствовал, как его прошибло потом. Его размышления прервал подъехавший на «виллисе» майор, командир разведроты бригады. В темноте он не видел его лица. Зажег карманный фонарик, вынул планшет с картой.
— Товарищ генерал, разрешите доложить? Получены данные разведки.
— Докладывайте.
— Левее обнаружены танки противника.
— Сколько? Чьи танки?
Майор замялся:
— Не знаю.
— Вы что, майор?
— Товарищ генерал, — сказал он виноватым голосом. — Я доложу вам. Скоро все доложу точно. Поторопился. Сообщили мне, что танки противника. Это точно. Один застрял у ручья. Разведчики мои его обнаружили. А вот сколько и чьи — не знаю.
— Торопливость нужна знаете где?
— Виноват!
— Идите и выясните все точно, майор, как положено разведчику. И на будущее запомните!
Темный силуэт майора исчез в ночной тьме. Подъехал командир бригады.
— Товарищ генерал, — докладывал, захлебываясь, полковник Петров. — Разведчиками моей бригады установлено, что танковая румынская дивизия идет левее нас строго на север. Захвачен один румынский танк по причине его неисправности. Экипаж пленен. Сегодня утром они получили приказ, и дивизия вышла из района.
— Ваше решение, полковник?
— Какое же еще может быть решение, товарищ генерал? Разворачиваю бригаду на сто восемьдесят и бью в хвост.
Канашов спокойно, медленно и твердо сказал:
— Отставить! Вы что, забыли задачу бригады?
— Нет, почему же? На Новоцарицынский, Перелазовский.
— Помните? Это хорошо, что помните. Выставьте заслоны, ведите наблюдение. Вступать в бой запрещаю. Продолжать движение в заданном направлении и обо всем докладывать мне.
Петров козырнул и уехал на «виллисе».
«Ничего, голубчики, — думал Канашов о румынских танкистах. — Вас можно хорошо проучить».
А через час Канашов докладывал командующему обстановку.
— Танковая дивизия? Да чему ты радуешься? Спихнул ее нам, а сам мимо? — возмущался Кипоренко.
— Петров решил бить ее в хвост, повернуть бригаду на север, а я отменил, — сказал Канашов. — Идем на Новоцарицынский.
Командующий выжидательно помолчал.
— Ну и задал ты нам тут задачку со многими неизвестными.
— Так, как вы учили.
— Ишь ты, вспомнил, как на военной игре зарвался, а я тебя осадил. Что ж, это око за око?
— Нет, почему же? Я не злопамятный за добрые уроки. А бить их вам не так уж трудно. Тылы румынской дивизии я отрезал. Все продовольствие их, боеприпасы и бензин в моих руках.
— А что же ты будешь с ними делать? Они же свяжут тебя по рукам и ногам? Опять застрянешь на месте. К утру и то не разберешься что к чему.
— Чего мне с ними разбираться! Я приказал посадить к каждому румынскому шоферу по автоматчику из стрелкового полка Миронова и включил их в свою колонну.
Командующий весело рассмеялся:
— Значит, отрезал, как говорят, основной их орган.
— Вот, вот, пусть они без него против вас повоюют. Поглядим, как это у них получится.
— Умно задумано. Давай не отвлекайся и побыстрее вперед.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На рассвете 20 ноября, когда танковый корпус Канашова подходил к Перелазовскому, разведчики донесли ему, что в селе расположен большой штаб. Он выслал группу для захвата «языка». Вскоре привели штабного фельдфебеля. От него узнали, что в Перелазовском находится штаб 5-го румынского армейского корпуса. Канашову пришла мысль: «А почему бы не захватить штаб?» И он принял решение, вызвал командиров бригад и поставил им задачу окружить станицу со всех сторон без единого выстрела. Перед атакой — беглый огонь артиллерии. «По моему сигналу — две зеленые ракеты, атака одновременно всеми силами».
Зеленовато-мертвенным всполохом осветилось тусклое, предутреннее небо. И под гром артиллерийских раскатов танки, открыв огонь, с ходу ворвались в село. Противник вначале предпринял попытку остановить наши войска ружейно-пулеметным огнем. Румыны, отстреливаясь из винтовок и пулеметов, бросились из домов на огороды, надеясь организовать оборону. Но вскоре они натолкнулись на наши танки, стоявшие на окраине в засадах.
Не прошло и часа, как к Канашову один за другим посыпались доклады командиров бригад:
— Товарищ генерал, полностью захвачен штаб корпуса со всей документацией. Даже мундиры господ офицеров и генералов висят на вешалках.
— Хорошо, я сейчас буду у вас, — сказал Канашов.
Через десять минут его встретили наши часовые. Войдя в помещение вражеского штаба, он увидел обычную для каждого штабного учреждения рабочую обстановку. На столах лежали карты, раскрытые лапки, бумаги, документы. В открытых ящиках столов и в дверцах пузатых сейфов торчали ключи. На стенах висели графики и оперативные карты.
— Ну и ну, — сказал он, — так поспешно бежало доблестное воинство, что некогда было и ключом щелкнуть.
Его вызвали к телефону.
— Товарищ генерал, полностью захвачен армейский узел связи. — Не успел еще Канашов положить трубку, как вызвали к рации.
— Товарищ генерал, наша бригада захватила типографию. Машины работают на полную мощность. Можем хоть сейчас начинать печатать.
— Товарищ генерал, докладываю, — услышал он своего зама по тылу. — Тилько узяли в полон хлибопекарню, богато складов с продовольствием, оружием и боеприпасами.
— Организуйте охрану. И подготовьтесь к передаче армии.
— А шо, воны нам не треба?
Во время их разговора вошел Поморцев. Весело улыбаясь, пожал руку.
— Куда пленных девать будешь? Все дороги забиты. Насилу к тебе добрался.
— Пусть им там в тылу работу поищут, не до них мне, признаться, Константин Васильевич! Голова идет кругом. Сейчас по пути встретил начальника санитарной службы, просит из бригад медиков ей подбросить. Здесь, в Перелазовском, находится несколько румынских госпиталей, а их медицина разбежалась. Помрут же раненые.
— Ты прав, помрут. Этого допускать нельзя. Поморцев достал из кармана малоформатную газетку, подозвал переводчика:
— Прочти Михаилу Алексеевичу, что о нас румынская пресса пишет. К тебе в штаб ехал, захватил в их типографии.
Переводчик прочел на первой странице набранное жирным шрифтом сообщение: «Доблестные танкисты румынской армии королевской дивизии разгромили прорвавшуюся, армию русских и отбросили ее за Дон. Взяты богатые трофеи, много оружия и боеприпасов, которые подсчитываются».
Канашов улыбнулся:
— Тут почти все верно, за исключением одного: не они, а мы все это сделали. Ловко одурачивают они своих солдат. Нас разгромили, а их штаб и тылы находятся у нас в плену.
Разговор их прервал начальник разведки корпуса подполковник. С ним группа наших автоматчиков. Они конвоировали двух румынских генералов.
— Генерал Дамеску. Командир 5-го корпуса, — представился первый.
— Бывшего, — уточнил Канашов.
Он грустно, с сожалением покачал головой и развел руками. Вторым был его начальник штаба Попеску. Полный, холеный, он на всех смотрел презрительно маленькими, заплывшими жиром глазками, как бы говоря тем самым: «А мне сейчас все безразлично, поскольку мой хозяин сам тут». Он бросал в сторону Дамеску косые взгляды.
Поморцев задал им один вопрос через переводчика:
— Неужели вы надеялись, серьезно говоря, победить наш народ и его армию?
— Оба румынские генерала переглянулись, будто школьники: кому отвечать первому?
— Румыны ненавидят Гитлера, — ответил Попеску. — Наша армия не хотела воевать с русскими.
Канашов не стал дальше допрашивать. Штаб был разгромлен, и пленные генералы едва ли могли сообщить что-то новое. Поэтому, не теряя времени, он тут же приказал накормить пленных и отправить в штаб армии, а сам доложил о результатах боя за Перелазовский Кипоренко. Командующий остался доволен.
— Действуй так же дерзко, Михаил Алексеевич! Если так будете воевать — быть вам гвардейцами. Поворачивай своих стальных коней, держи путь на солнце. Булок, кренделей нам хватит. Послезавтра тебя ждем с Калачом.
— Понял вас, товарищ генерал! Постараемся. Он отошел от трубки помолодевший, с сияющим лицом. Поморцев уловил его хорошее настроение. Подошел и спросил:
— Ты не будешь сердиться на меня, Михаил Алексеевич?
— Смотря за что.
— У нас в армии медицинские подвижные армейские группы созданы. Так в твой корпус я рекомендовал Аленцову. Не знаю, правда, согласится ли? А ты сам как думаешь?
Лицо Канашова сразу помрачнело, в глазах появилась грустная задумчивость.
— Не могу решать за нее. Как решит сама, так и будет. С вами-то она охотнее советуется. А мне ей и позвонить некуда.
Поморцев обнял его за плечи, заглянул в глаза.
— Ну ты брось, Михаил Алексеевич! Чего уж на нее сердиться. А впрочем, ты, пожалуй, прав. Пусть сама решает.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Генерал-полковник Паулюс третьи сутки не смыкал глаз.
Сегодня, 22 ноября, он в шесть часов вечера передал в штаб группы армий «Б» личное донесение на имя барона фон Вейхса.
«Армия окружена. Стоит ли за счет значительного ослабления северного участка организовывать оборону на узкой полосе рубежа: Карповка, Мариновка. Голубинский — сомнительно. Дон замерз, по льду переправляться можно. Запасы горючего скоро кончатся. Танки и тяжелое оружие в этом случае будут неподвижны. Положение с боеприпасами критическое. Продовольствия хватит на шесть дней. Командование армии предполагает удерживать оставшиеся в его распоряжении пространство от Сталинграда до Дона и принимает необходимые меры. Паулюс».
Вейхсу доложили донесение командующего 6-й армией. Он нервно отодвинул шторку на оперативной карте, висящей на стене.
«Армия окружена, — думал он, внимательно просматривая карту. — Это неверно. Точней, она блокирована. И это должно заставить командующего серьезно подумать о том, как ликвидировать угрозу окружения».
Вейхс вызвал к себе начальника штаба — Шульца, поделился с ним тревожными мыслями о положении 6-й армии и, главное, по его мнению, о паническом настроении самого командующего.
— Возможно, господин генерал-полковник, — сказал Шульц, — на Паулюса подействовала строгая телеграмма фюрера по поводу смены им без разрешения командного пункта и переезда в Нижне-Чирскую? Смею напомнить вам, что фюрер приказал вчера штабу Шестой армии направиться в Сталинград, армии занять круговую оборону и ждать его дальнейших указаний.
Вейхс хорошо понимал, что Гитлер давно уже фактически, не считаясь с обстановкой, командовал армией Паулюса через головы всех штабов и командующих, в том числе и его.
— Кстати, господин генерал-полковник, только что штаб Шестой армии получил приказ фюрера именовать занимаемый армией район «Сталинградская крепость».
«Если вся эта затея с Шестой армией и Сталинградом удастся — Гитлер небывало упрочит свою славу полководца и государственного деятеля. А если нет, боюсь, на наши головы и всех его ближайших помощников свалится тяжкий груз его ошибок. Несомненно, это подорвет наш прежний престиж в глазах союзников», — думал Вейхс.
Телеграммы и распоряжения от Гитлера шли бесконечным потоком. Они дублировали подчас одна другую или отменяли предыдущие. Кому-то эти распоряжения угрожали, на других давили, третьим категорически приказывали — и все они требовали одного: держаться и обещали помощь.
Ранним утром следующего дня пришла очередная радиограмма, в которую больше всех верил сам автор, питал еще надежды Вейхс, в какой-то мере надеялся и Паулюс, но меньше всех верили солдаты. Она гласила: «6-я армия частично и временно окружена русскими. Я решил сосредоточить армию в районе северная окраина Сталинграда, Котлубань, высота с отметкой 137,0, высота с отметкой 136,0. Мариновка, Дыбенко, южная окраина Сталинграда. Армия может поверить мне, что я сделаю все от меня зависящее для ее снабжения и своевременного деблокирования. Я знаю храбрую 6-ю армию и ее командующего и уверен, что она выполнит свой долг. Адольф Гитлер».
Вейхс, узнав о радиограмме фюрера, распорядился через Шмидта: «Мой приказ о выходе из окружения 6-й армии передавать не следует».
Ознакомившись с радиограммой Гитлера, Паулюс долго раздумывал, поглядывая на откровенно насмешливое выражение лица своего начальника штаба. «Он всегда при случае подчеркивает, что у меня недостаточно силы воли и мягкий характер. Ничего, я ему докажу, на что способна моя воля». В тот же вечер на стол Шмидту был положен приказ.
«За последнее время русские неоднократно пытались вступить в переговоры с нашей армией и с командирами подчиненных ей частей. Их цель вполне ясна — путем обещаний в ходе переговоров о сдаче надломить нашу волю к сопротивлению. Мы все знаем, что грозит нам, если армия прекратит сопротивление: большинство из нас ждет верная смерть либо от вражеской пули, либо от голода и страданий в позорном сибирском плену. Но одно совершенно точно: кто сдастся в плен, тот никогда больше не увидит своих близких. У нас есть только один выход: бороться до последнего патрона, несмотря на усиливающиеся холода и голод.
Поэтому всякие попытки вести переговоры следует отклонять, оставлять без ответа и парламентеров прогонять огнем. В остальном мы будем и в дальнейшем твердо надеяться на избавление, которое находится уже по пути к нам. Главнокомандующий Паулюс».
Так была упущена последняя возможность хотя бы отдельным частям армии Паулюса выйти из окружения, и они с этого момента были обречены на гибель от огня, голода или, в лучшем случае, на пленение.
2
Генерал Мильдер торопился. Времени до начала решительных действий оставалось очень мало, а его танковая дивизия должна была пройти за ночь около ста километров, выйти к Перелазовскому и, соединившись с 1-й румынской танковой дивизией, нанести контрудар по прорвавшимся русским подвижным группам, отбросив их на север. Задача предстояла нелегкая. Но Мильдер дорожил тем последним доверием, которое оказал ему сам командующий группой армий барон фон Вейхс. В разговоре с ним Вейхс подчеркнул два момента: «Я отдаю под ваше командование, господин генерал, мой самый сильный резерв — свежую танковую дивизию. Русские подвижные группы, надо полагать, будут стремиться нанести удар в тыл 6-й армии Паулюса или 4-й армии Гота. Они хотят помочь обреченной, доживающей последние часы своего существования армии Чуйкова и отвлечь наши сражающиеся войска в Сталинграде. Этого вы, генерал, не должны допустить. Я полагаюсь на ваш полководческий талант, на богатейший опыт войны с русскими. И, между нами говоря, я не очень верю в боеспособность наших союзников. Они не умеют воевать. Эти несчастные кукурузники не могли продержаться даже суток на позициях, которые мы строили и укрепляли все лето и осень. — Вейхс поправил пенсне и ткнул указкой в висевшую на стене карту. — Это — предатели. Они поставили под угрозу успех, которого мы добились почти за пять месяцев упорных боев, стоивших жизни сотен тысяч лучших солдат отборных наших дивизий. Я докладывал лично фюреру мои соображения по атому поводу. Он разговаривал с маршалом Антонеску. Я уверен, что командующий 3-й румынской армией дорого расплатится за все это. Правда, генерал Дмитреску заверил Антонеску и меня, что он исправит положение. Он уже бросил против русских танковую дивизию. Но я не могу полагаться на этих горе-вояк и поэтому поручаю вам возглавить ударный танковый кулак и разгромить подвижную группу русских».
Мильдер в который раз вспоминал об этом разговоре с Вейхсом. Он очень оперативно и пунктуально выполнял приказ. Сейчас, следуя впереди главных сил дивизии, он торопил своих командиров, жестко требовал выполнять график движения и нередко угрожал им. Но вопреки всем его желаниям и планам из-за плохих дорог и резко ухудшившейся видимости (туман сменился обильным мокрым снегом) темп марша был слишком медленным. Дивизия шла тремя колоннами. Ночью один из полков сбился с маршрута, ушел на северо-восток и там ввязался в бой. Полк потерял половину личного состава. Было подбито и сожжено 23 танка. Дивизия вынуждена приостановить движение и ожидать этот «блудный» полк. Все это привело к тому, что дивизии Мильдера не удалось ворваться и Перелазовский, где накануне был пленен штаб румынского корпуса. В это время танковая дивизия румын, не дождавшись Мильдера, ушла в неизвестном направлении.
Вся эта непредвиденная неразбериха прицела Мильдера в растерянность, Он доложил Вейхсу обстановку. Вейхс пришел в ярость и грозился расстрелять Мильдера за невыполнение его приказа. Хотя справедливости ради надо сказать, что у Вейхса до доклада Мильдера уже были сведения о том, что 1-я румынская дивизия вышла с исходного района раньше, чем Вейхс приказал сделать это командующему 3-й румынской армией. Знал он и о том, что сам Дмитреску отстранен от командования с согласия ставки и личного распоряжения фюрера.
А спустя час после разговора Мильдера с Вейхсом последнему стало известно и то, что вся румынская танковая дивизия была пленена русскими, так как не имела горючего. Мильдер пришел в отчаяние. Он был близок к мысли покончить с собой, хорошо сознавая, что если это не сделает сам, то его непременно расстреляют по приговору. Об этом он записал в своем дневнике: «С того момента, как я побывал в Сталинграде, меня преследует злой и неумолимый рок. Моя жизнь находится в постоянной опасности. Как мне удалось еще остаться в живых, знает один бог. Все мои надежды на счастливый исход сражения у Волги рухнули. Я не знаю, кого винить в том, что военное счастье окончательно отвернулось от нас. И все наши усилия, и все жертвы приносят нам только горькие плоды разочарования. Конечно, не фюрер, но кто-то из тех, кому доверены наши судьбы, кто командует нами, по-видимому, недостаточно подготовлены или успокоились, обольщаясь прежними успехами. Как это могло случиться, что мы, имея такую разведку и такие возможности, до последней минуты ничего не знали о готовящемся наступлении русских с плацдарма правого берега Дона? Кто виновен в том, что такие опытные военачальники, как немцы, доверились армиям «союзников», которые неспособны не только воевать, но и поддерживать порядок среди русского населении, неся оккупационную службу. Если мы не взвесим, не оценим все это и не примем суровых и решительных мер…». Он вдруг вспомнил о Нельте. Ему он доверил, как никому другому и возлагал на него большие надежды, как на своего верного преемника. Он высоко ценил его военные способности. И тут Мильдер впервые пожалел, что так круто обошелся с ним, отстранил и чуть было не отдал под суд за пораженческое настроение. «А ведь он в чем-то прав». Но в чем — трудно ответить на это.
Мильдер задумался. Его мысли прервал вызов к рации. Говорил Вейхс. Мильдер захлопнул дневник, словно остерегался, что барон мог заглянуть в него, и отложил ручку. На столе у него лежал парабеллум. Он поглядел на него. «Может, лучше именно сейчас, в эту минуту, покончить с собой и не отвечать Вейхсу. Я знаю, он сейчас прикажет мне сдать оружие и явиться к нему. А там. Там ничего хорошего меня не ждет». Мильдер брал и снова клал трубку, не решаясь заговорить с Вейхсом. Но в комнату вошел начальник штаба. На лице его испуг и тревога.
— Господин генерал, — обратился он к Мильдеру. — Вейхс передал мне приказ разыскать вас где бы вы ни были. Он разгневан и спрашивает, почему вы не отвечаете ему, — Мильдер быстро схватил трубку.
— Господин генерал-полковник, я… я болен.
В трубке послышалась брань, угрозы.
И вдруг глаза его прояснились.
— Слушаю, господин генерал. Слушаю, господин генерал, идти с дивизией на Калач. Постараюсь, господин генерал, нанести удар с тыла русской подвижной группе.
Вейхс уверял его, что там прорвалась и действует всего одна танковая бригада русских. «С бригадой, — подумал Мильдер, — как-нибудь справимся».
* * *
Четверо мальчишек из Новоцарицынского детдома отправились на заготовки продуктов. Казалось, какие могут быть продукты, когда по донским полям и селам прошла война, и землю продолжают топтать враги. Прослышали мальчишки, что неподалеку от их района осталась неубранная кукуруза. Бывший сторож школы дед Савелий, инвалид, сказал им, что у совхоза есть силосная яма. Так в ней картошку и другие овощи колхозники спрятали еще осенью. Посудили, порядили и решили направить туда четверых самых смышленых ребят. Старшим назначили Колю Хорькова. У него отец на фронте, а мать немцы повесили. Коля — боевой парнишка. Гранатой двух немцев ранил и сбежал, когда они стали его ловить, приняв за партизанского разведчика. У партизан Коля не был, а вот когда немцы подошли к Дону, он выводил из окружения санитарные машины с ранеными бойцами и командирами. Хотя что с него взять? Война застала его в седьмом классе. За ним по старшинству — Сенька Кошелев, круглый сирота. Он учился в пятом. Не война, был бы в шестом, учился он отлично. Два их товарища, Артем и Гриша, — одногодки. Они бывшие четвероклассники. Оба потеряли родных, отступавших с войсками из Ростова через Дон к Сталинграду. Отцы их в армии. А как знать, где они теперь?
Одежонка на ребятах не ахти какая. Со взрослого плеча перешита. Кто в чиненых-перечиненных ботинках, а кто в стареньких валенках.
Морозно, ветрено, и метет по степям, будто сахарный песок, поземка. Щеки у ребят разрумянились наливными яблоками. Едут на двух самодельных неказистых санях. Лошаденки — клячи тощие и худые. Да и тем спасибо скажешь. Все же сани они везут и поклажу. Едут, едут ребята, соскочат с саней и давай греться, друг за другом бегать, бороться. Все веселей и быстрей время идет. «Командировкой» они довольны. Съездили не зря, хотя и далековато. Кукурузы наломали почти два мешка. Правда, больше малые и подгнившие початки. Да три мешка хотя и мороженой, но все же картошки. В такое голодное время все сгодится. Раньше помогали детдому продуктами колхозники, а после, как прошли тут немцы, а за ними румынские войска, — кругом хоть шаром покати. Чем они помогут? У кого был свой какой огородишко, на том живут, и то впроголодь.
— Ну и прижимистый этот старик, Каменков, — говорит Сенька. — Как ни уговаривал его нам коня посытней дать, так и не дал.
— Он-то мужик, видать, хороший, но скуповат, — подтвердил Артем.
— А знаешь, что сказал он мне? — перебил Сенька. — Вы останетесь здесь дома. Любите коня, так найдете, чем подкормить. А нам, хлопчик, далеко идти, и чем дальше, тем хуже. Знаю я, как немец хозяйничает. Видал от самой границы.
— А что, ребята, дед по-справедливому говорит. Нам на конях не на скачки вперегонки. Тянут — и хорошо. К весне травка пойдет, тогда лошадок выпасем. — Колька показал большой палец на ноге. — Вот хромоту надо лечить. Кузьма Ерофеевич мне мази оставил.
— Подлечим, — дружно сказали они.
Один маленький Гриша шел молчаливо, прихрамывая. У него ранение в коленку при бомбежке. Кто говорит — нет осколка, а кто — есть. Врача, где найдешь его? Коленка изредка опухала, и тогда ходить было больно. Но Гриша не из тех, кто жалуется К тому же ехать с ребятами сам напросился.
— Гриша, ты чего ковыляешь? Садись в сани. В тебе и пуда нет.
— Мне холодно, озяб я, — отвечал он.
— Давай поборемся! — Артему валит Гришу в солому на мешки с картошкой. Только ойкнул Гриша сквозь зубы.
— Больно?
— А ты думал.
— Ну и сиди. Залазь под солому. Теплее будет.
Трое идут впереди первой лошади.
— А любит наш почетный шеф Кузьма Ерофеевич нашего брата.
— А ты откуда знаешь?
— Когда последний раз был у нас в гостях. Марфа Ивановна, учителька, сказывала, у «его детей восемь или десять.
— Вот это да!
— Ну и хлеба вкусного он нам приносил. И консервы — колбаса в банках. Вот бы сейчас по краюхе и банку на всех.
— Неплохо бы.
— Ну, скоро домой приедем. Горячего нам, наверно, сварили. И картошечки с кукурузкой на второе сладят.
Надвигались сумерки. И дальние высоты сливались на горизонте, громоздясь, будто тучи. А ехать еще далеко.
— Вот проедем ту узкую насыпь и отдохнем в овражке, — говорит Коля. — У меня еще остались сухарики. Погрызем чуть-чуть — и айда дальше.
За спиной в тихой степной стыни доносится шум моторов и лязг гусениц.
— Неужто наши? — спрашивает Артем. — Как думаете, ребята?
— Откуда здесь быть чужим, — отвечает Коля. — Их сейчас, наверно, до Сталинграда отогнали. Чьи бы ни были, давай через насыпь поскорей и в овраг на отдых. Пусть себе идут, куда им надо.
Гриша подстегнул коня, он оступился и упал. Сани занесло поперек дороги. Ребята кинулись к саням, дружно развернули. Но коня не поднять. Сам он силился встать, но ноги не слушались его, и он снова падал.
— Фашистские танки! — крикнул Коля, и все обернулись. На передней машине — белый крест. Танк осветил их ярким светом. Ребята снова засуетились у лошади.
— Кто впереди? Что за люди? — крикнул Мильдер механику-водителю.
— Дети, господин генерал. Но вправо есть дорога.
— Не командуйте мной! Я знаю, куда мне надо — прямо или вправо. Огонь! Огонь! — кричит он башенному стрелку. Тот медлит. Механик остановил танк.
— Дети, господин генерал.
— Вы барышня, а не солдат. — Мильдер отпихивает стрелка и стреляет сам. — Вон из танка, — кричит он. — Я отдам вас под суд за невыполнение приказа.
Башенный стрелок выскакивает из танка будто пробка.
— Вперед! — командует Мильдер. Механик-водитель видит в щель: поперек дамбы лежит убитая лошадь. Сани разбиты, и рядом мальчишка. «Ранен он или убит?» — мелькнула мысль у механика-водителя. Он сбавляет ход и чувствует, как холодный пистолет тычется ему в шею.
— Вперед!
И танк, подминая останки лошади, мальчика и сани врывается на дамбу. За ним грохочут другие машины. И вот уже колонна вползает на высоту. Проехали два или три километра, а в глазах механика-водителя русский мальчишка. Мильдер молчит. Но только сделали остановку, обратился к водителю:
— Вы, Куртмайер, тоже трус, а не солдат. Я разочарован в вас. Ни Шнайдер, ни вы не поняли, болваны, что все это сделано умышленно. Они хотели задержать нас. Русские танкисты или артиллеристы не успели воспользоваться этой ловушкой партизан. Я сообразил это быстрее вас. Иначе они бы расщелкали нас на дамбе, как привязанных зайцев.
Куртмайер думал об этом не так: «Дорога в обход дамбы была куда более удобной. Он, жестокий человек, решил доказать нам еще раз свою непреклонную твердость, хотя она не была вызвана какой-либо военной необходимостью».
* * *
— Господин генерал, — ворвался растерянный адъютант. — Нашей разведкой установлено, что в пяти километрах севернее прорвалось много русских танков.
— Сколько?
— Не меньше ста.
— А где наш сводный танковый полк?
— Приказом Вейхса его перебросили на участок прорыва. Сейчас у нас, кроме тридцати танков, что направлены в ремонт, нет ни одного. Начальник транспортного дивизиона предлагает нам, господин генерал, штабную машину.
Мильдер задумался.
«Да, теперь все кончено. Мы окружены. Пути отрезаны. Я лишился последних войск. Да, для меня машина, но как поступить с подчиненными штабными офицерами? Бросить их и удрать? Нет, я не могу так. Я пойду вместе со всеми, кто остался из моей дивизии. Кто бы они ни были — офицеры или солдаты. Машина пусть идет за нами. На машине надо вывозить документы».
Мильдер вышел во двор. Темная ночь. На небе ни звездочки. Вьюжило. Он стоял и смотрел, как мимо проходили редкие остатки его еще недавно боеспособных войск. Головы большинства повязаны шарфами, платками и просто каким-то тряпьем. Какое это жалкое зрелище. У некоторых за спиной болтались эрзац-валенки из соломы. За несколько десятков лет службы впервые Мильдер сам нарушил форму и поднял воротник шинели, повязался шарфом. И вот темнеющая лента колонны, человек шестьдесят, растянулись по полю. Впереди идет раненный в руку подполковник Бухер. Он опытный командир и хорошо ориентируется.
С каждым часом ветер усиливался. Идти становилось все труднее. Мокрый снег облепливал, таял и стекал за воротник. У Мильдера начала болеть раненая нога. Адъютант несколько раз предлагал ему сесть в машину, но он упрямо отказывался и шел все вперед и вперед. По его расчетам, через двенадцать километров они будут в штабе корпуса. И самое близкое — через семь километров — в первой дивизии. Но вот по цепочке глухо пронеслось: «Русские танки». Все бросились кто куда. Загремели орудийные выстрелы. Мильдер бежал тяжело, задыхаясь и падая. Рядом с ним адъютант Бросбург. Они очутились в каком-то овраге.
Мильдер окончательно выбился из сил. В поле, как собака по покойнику, выла метель. «Напрасно я не уехал тогда, — подумал он. Генерал почувствовал, как постепенно у него дубели руки и ноги. Обжигая огнем, горело лицо. Обессиленный, он сел на снег. Но холод вскоре поднял его. Сил нет, как хотелось спать. Он снова спустился в овраг — тут хоть затишье.
— Там, кажется, виден огонек! По моим расчетам, Бросбург, мы прошли не менее десяти километров. Где-то рядом наши войска. Я пока останусь здесь, а вы идите разыщите кого-либо. Я больше не могу двигаться.
Бросбург исчез в снежном вихре, как привидение.
Генералу надоело ожидать. И он стал кричать. «Пусть даже русский плен», — в отчаянии подумал он. В степи по-прежнему властвовал зловещий вой вьюги. И тут впервые понял, что его неминуемо ожидала смерть. «Лучше уж поскорее приблизить ее самому, чтобы не мучиться так долго». Он приставил пистолет к виску. Прощай, дорогая Марта, прощай Грета! Все, что мог, я сделал для вас и армии великой Германии. — Он нажал на курок. — Осечка! Значит, расстреляны все патроны».
Мильдер бросил пистолет, беспомощно осел и погрузился в мягкий, рыхлый снег. «А вот он и дома. Весна. Навстречу ему торопливо шла жена — Марта. Возле веранды стояла с детской коляской Грета. Интересно, кого она родила? Сына или дочь? Только бы не женское племя. Германии еще нужно будет много, много солдат».
Бушующая над бескрайней донской степью метель вскоре бесследно замела замерзший труп генерала.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Два разведчика, присланные с донесением к Миронову, застали его за чтением сводки Совинформбюро в кругу штабных работников.
«Существенных изменений не произошло. Партизаны отряда «Смерть фашизму» подорвали водонапорную башню на станции. Убито десять и ранено тридцать солдат и офицеров противника». Заметив двух вошедших бойцов, Миронов прервал чтение.
— Вот так, товарищи! Газеты и радио ни слова о нашем наступлении.
— Значит, еще не заслужили, — сказал Ванин.
— Не в этом дело, — возразил Миронов, — не знают еще точных результатов прорыва. Проверяют и уточняют сведения. Вы к кому, товарищи?
— К вам, товарищ майор! — Боец вынул из бокового кармана и отдал ему бумагу.
— Ага, Ванин, наконец, откликнулись наши разведчики, зашевелились. А я думал, они отдыхают или загуляли на радостях.
— Что вы, товарищ майор, — сказал один, покраснев и поглядев на другого. — Взвод наш за Максарями. — И махнул рукой с досады. — Пусть меня старший лейтенант накажет, но я все же скажу. Его утром легко ранило в руку.
— Ранило? А чего же он в донесениях ни слова? Придется взгреть за эти штучки-дрючки.
— Да нет. Вы не шибко волнуйтесь, товарищ майор! Немножко в двух местах, в руку и ногу. Овраг переходили, а там немцы прятались. Ну, один гранату швырнул, а старший лейтенант... Они впереди были с заместителем и три бойца с ними. А граната прямо к ним и кружится волчком. Старший лейтенант схватил ее и к немцам обратно. Ну и не успел. Те, что с ними были, — все целехоньки. Они раньше его попадали.
— Ну, тогда другое дело, — подмигнул майор. — А я думал, он в героя сыграл, влез куда, не зная броду.
Миронов продолжал читать донесение. «Войска генерала Канашова разгромили штаб румынского корпуса в Перелазовском. Мы только что прошли Перелазовский. В станице пока тылы нашего танкового корпуса и полевой госпиталь. В балке обнаружили шесть исправных и три требующие небольшого ремонта трофейные автомашины. Оставил одного часового. Продолжаю движение по заданному маршруту. Остановлюсь в Максарях. Жду ваших указаний. Грозный».
— Тоже мне новоявленный царь — Евгений Грозный. На, читай, — передал Миронов донесение Ванину. — Пусть повара покормят орлов боевых, — кивнул он на разведчиков.
«Они, — подумал Миронов о корпусе Канашова, — как таран, пробивают нам путь. За ними мы как за каменной горой. И Евгений — молодчина. Девять машин. Нам они очень нужны». Звонок прервал его размышления. Это был Андросов.
— Когда будешь в Перелазовском?
— Путь свободен, товарищ полковник! Разведка только что донесла. Пять километров мы одолеем за час, ну самое большее — полтора. Есть, товарищ полковник, выступать, а завтра к утру быть в Калмыково.
— Слыхал, Ванин? Иди сюда с картой! — Майор стал объяснять задачу, полученную от комдива. — Как пройдем в Перелазовский, разведчикам идти на Зотовский. Ясно? — Ванин только молча кивал. Пока они беседовали, Каменков несколько раз заходил и выходил.
— Ты чего, Кузьма Ерофеевич, мечешься? Что случилось?
— Случилось, товарищ майор, случилось! Вы вчерась ужинали. А сегодня не завтракали и не обедали. Как же так? Оно вот взять, к примеру, коня. Конь — она крепкая скотина. А ежели не пожрет, и не спросишь с него работу. Будет себе так ни шатко, ни валко топать. А двое ден еще так, а за трое и копыта кверху.
— Все понятно, Кузьма Ерофеевич. — Миронов подтянул еще на две дырки поясной ремень, поправил портупею. — Учтем твое замечание. Давай, товарищ Каменков, закладывай нам с Ваниным своих рысаков в сани. Опять у Сучка мотор барахлит. А приедем в Перелазовский, тут уже ты нам сразу тройной обед подготовь. За все дни, что не доели.
Вошел шофер Сучок. Побелевший с лица с подрагивающей верхней губой, он исподлобья бросил на всех сердитый взгляд. Будто именно они были виноваты перед ним.
— Ты чего, товарищ Сучок? — спросил Ванин. — Мотор барахлит?
— Подмерз, товарищ капитан! Я вот паяльную лампу у Шведко возьму, враз отогрею.
— Да не мотор, товарищ капитан, а Сучок барахлит, — вмешался Каменков. — Он думает, ежели техника, то двинул, сунул рычагами — и на тебе, поехали.
— Ладно, Трофеевич, — махнул рукой Сучок, — без тебя тошно.
— Валяй за двери сплюнь. Тошно. Дурья башка. В мозге твоем нет шевеления. Зима. Капот надоть одевать. А то как приедешь, и сам шмыг в теплую хату, а мотор пускай себе стынет. Тебе до него нет дела. Железный он, а и его железного терпения не хватает. Как ты к нему, так и он к тебе.
— Ну, завелся, затарахтел, дед! Хватит. И такое загибает. Шмыг. — Он прищурился. — Ты на что намениваешь?
— Сам разумей. Не к корове же, а норовишь к бабе какой добротной пристроиться. Ты молчи, не вводи меня в грех при начальниках, — погрозил пальцем Каменков.
— Ты, Ерофеевич, ну прямо с пол-оборота заводишься. Мне бы такой мотор к машине. Сиди тут со своим мотором, подогревайся! А я повезу начальников, куда им надобно. Замерзнешь шибко, заходи на огонек. Я тебе еще за эту загранишную бабу мозги вправлю.
— А может, нам, Ванин, машины дождаться? — подмигнул Миронов ему.
Каменков развел руками.
— Как желаете, товарищи начальники! Мой транспорт будет подан, — он вытащил большие серебряные часы-луковицу, — минутов через десять, а може, и семь.
— Чего же, это вполне подходяще, — снова подмигнул Миронов Ванину. — Тогда давай, пожалуй, поедем с Каменковым. Нам же харчеваться еще надо, а Сучок со своим капризным мотором может еще отложить наш обед на сутки.
К вечеру майор Миронов и капитан Ванин добрались до Перелазовского. Всю дорогу Каменков рассказывал им о том, какие на свете бывают породистые кони, и как они по-ученому выводятся.
— Вот ежели взять, к примеру, англичанов. Мне один ветеринар, знающий человек, сказывал: битюга посильнее трактора. Он может зараз один тридцать тонн тянуть.
На эту сногсшибательную новость живо откликнулся Ванин:
— Как думаешь, Александр Николаевич, зачем нам тягачи иметь артиллерийские? Один такой битюг десять гаубиц утянет.
На это Миронов, сдерживая улыбку, ответил:
— Да такой битюг и танк «тридцатьчетверку» потянет.
Каменков, долго прислушиваясь к их разговорам, вдруг остановил лошадей.
— Ну и конфуз, ну и позор какой. Вот подвел он меня, срамота-то какая. Тут я не по своей воле набрехал. Винюсь. Не тридцать тоннов, должно быть, а тринадцать. Вот оно как. — И с досады на свою промашку подстегнул коня.
Потом он сидел долго, задумчивый и молчаливый, а когда уже завиделась станица, спросил у Миронова:
— Прошу вашего совета, товарищ майор! Мысля у меня последнее время одолевает. Думал после войны в колхоз свой податься. А вот теперича так прикидываю, пора мне выбиваться в люди. Как думаете, товарищ майор, возьмут меня на конезавод? Давеча рассказывал мне наш Мелешкин — ветеринарный фершал, будто в Ростовской области такой завод имеется. Имени самого Семена Михайловича Буденного.
— А почему же не возьмут? Приедете героем войны, с наградами. Кто же вам откажет? А жена как? Согласится поехать? Семья у вас, Кузьма Ерофеевич, большая?
— У меня не жена — золото! Как хвост у коня. Куда я — туда и она.
Доехали они до Перелазовского благодаря стараниям Каменкова быстро, за час. Квартирьеры полка распределили уже между подразделениями улицы и дома, отвели несколько хат и для штаба и его служб.
— Вот что значит организация.
Ванин улыбался довольный. Миронов сказал ему:
— Не забудь, пошли своего пома по тылу. Надо привести в полную готовность те девять трофейных машин, что захватили наши разведчики. Мы их в подвижной отряд передадим. Вот находка будет для преследования!
Ванин ушел, а к Миронову приехал офицер связи с радиограммой. «Срочно отправить в распоряжение Канашова Добринка хозяйство Кряжева. По приказанию Кипоренко передано Андросовым».
Радиограмма огорчила Миронова. Действовать полку с таким надежным броневым кулаком, каким был батальон Кряжева, было очень кстати. И тем более необходимо это сейчас, когда полк, прорвав первую оборонительную полосу, выйдет на оперативный простор. Там всегда можно ожидать встречи с контратакующими резервами противника. Но что поделаешь? Приказ есть приказ. И хотя отсутствие танков нельзя ничем заменить, все же ему пришла мысль создать подвижную группу, используя трофейные машины и бронетранспортеры. «Им для усиления можно придать минометную роту и артиллерийскую батарею. Пожалуй, поручу это дело комбату-три», — решил Миронов.
В то время, когда Миронов и Ванин, втянутые в обычные служебные дела, позабыли о своем распоряжении Каменкову «устроить тройной обед», он как исполнительный и заботливый человек, любящий своих начальников не по-служебному, официальному, а по-человечески, обходил улицы станицы, выбирая подходящий дом.
Во многих он побывал, но все они пришлись Ерофеевичу не по вкусу. Один дом грязный, другой тесный от семенного народа, в том детишек много — какой там отдых. Встречал он и подходящие места, да уже занятые командирами или небольшими подразделениями. Так намаялся Каменков с этими поисками, что ноги стало ломить от усталости. Но не такой он солдат, чтобы, имея поручение, не выполнить его или, наметив себе цель, отказаться от нее. «Ну, не найду лучше, можно и в той небольшой хатенке, где оставил за себя Чевокина с лошадьми», — думал он, продолжая поиски. И тут Каменков увидел древнюю старушку с лицом, будто печеное яблоко. Она ему и посоветовала: «Иди, сударик служивый, через овраг, что с рощей. Там есть хорошая хатенка. Во всей избе одна-одинешенька проживает вдовица-молодица. Коли не занял кто — лучше и не найти». Каменков чуть не бегом заторопился туда. Пришел, запыхался, постучал. Вышла молодая женщина, лет тридцати. Косы темные венком, широколицая, с узкими, тонкими губами. С виду сердитая.
А что ему, Каменкову, свататься к ней? И его начальникам тоже. Отобедают, отогреются — и снова в путь-дорогу.
— Здравия вам, хозяюшка, доброго, — поклонился он. — Не глядите так на старика, не о себе пекусь. Можно к вам моих начальников? Молодые хлопцы, а по такой войне они намаялись. Двое суток не спали, не ели.
— А у меня нечем кормить, — блеснула она остро глазами. — Сама голодная. — И хозяйка уже повернулась уходить, когда Каменков схватил ее за локоть.
— Постой, постой, хозяюшка! Об чем ты кручинишься? У нас едова своего полно. И трофеи имеются. Не обидим и тебя за доброту твою.
Но хозяйка будто и не слыхала Кузьму Ерофеевича.
— Не могу. Понимаешь, хворая я и не до постояльцев мне. С ними возиться надоть. Недавно как сама с постели поднялась.
И неизвестно, сколько бы продолжались эти так неудачно начатые переговоры, не вмешайся в них проезжающий верхом капитан Малков, командир приданного их полку дивизиона. Он окликнул Каменкова, спрашивая, где штаб и Миронов. А Каменков в свою очередь попросил капитана помочь уговорить хозяйку. Малков был человеком настойчивым, шутник по натуре и неравнодушный к женщинам. Звеня шпорами, он сдвинул полукубанку из серой смушки лихо набекрень и, развихрив черный чуб, вошел в дом.
— Что же, хозяйка-молодица, своих казаков не признаешь? Аль не рада нам? Помешали чем? — Улыбаясь, он подмигнул ей.
Хозяйка улыбнулась в ответ глазами. Видно, Малков пришелся ей по душе. Парень что надо.
— Больная я. А мне что. Не пусти вас, сами войдете.
— Такая красавица и больная! У нас лекарство имеется, полечим.
И уговорил Малков больную и не совсем гостеприимную хозяйку.
Тем временем, когда велись эти переговоры, Миронов занимался своими служебными делами. Он ставил новые боевые задачи командирам батальонов: «К утру следующего дня быть в Калмыкове». Тут в штабе и застал его Малков.
— Очень кстати, — сказал Миронов, здороваясь. — Садись, заодно получи, как и все, сполна. Тылы твои с боеприпасами не подошли?
Малков помотал головой:
— Знаю уже, чего они задержались. — И, подойдя близко, тихо сказал: — Водку трофейную не допили. Ну подожди, — погрозил он кулаком. — Послал я проверить. Подтвердится — голову сорву и скажу, что так было.
— Ну, ну, ты не горячись, Андрей! Не руби, как саблей казак, сплеча, — остановил Миронов.
Каменков прервал их разговор. У него был такой умоляющий вид, что отказать ему было невозможно.
— Товарищ майор, вы же обещались откушать. Все как есть готово. Надоть ехать. Тут недалече, за овражком. Побыстрей надоть. Кабы не перепарилось. Лежели припозднитесь, вкусу не будет того.
— Что, а может, прав Кузьма Ерофеевич, махнем пообедаем, Андрей? — обратился Миронов к Малкову.
— Я, как штык, к бою готов. Приказание старших — радость для подчиненных, — вскочил он, звякнув шпорами, и стал по стойке «смирно», навытяжку.
— Жаль, Ванина нет, — сказал Миронов. — В третий батальон уехал подвижную группу формировать.
Они вошли в дом: Миронов, за ним Малков и Каменков. В ноздри ударил аппетитный запах борща и жареной свинины. Комната сияла чистотой. Хозяйка встретила их, как и в первый раз, сдержанно, но более приветливо. Она кивнула головой, пригласила раздеваться, а сама вышла в другую комнату.
— Хворая она, — прошептал Каменков. Малков широко улыбнулся, потер руки.
— Ничего, мы подкрепимся малость, а тогда займемся и хозяйкой. Знаю я их, казачек. Скромничает, стесняется нас.
По такому торжественному случаю, как успешное наступление, Каменков разлил командирам фронтовые сто граммов.
— Нет, так не пойдет, — запротестовал майор. — Наливай и себе, Кузьма Ерофеевич. Да и хозяйке не мешало бы по хворости.
— Оно, конечно, — поддержал Малков. — Для прочного знакомства. — Хозяйка вышла из соседней комнаты такая же озабоченная и хмурая. От вина она отказалась. Но Малков, неугомонный и настойчивый ухажер, обняв ее за талию, уговорил все же выпить полстакана. Она торопливо закусила и снова ушла в соседнюю комнату. Обед был в разгаре, когда приехал связной за Малковым. Вернулся начальник группы обеспечения боеприпасами старшина Допченко.
— Я мигом, Александр Николаевич. Одна нога — здесь, другая — там. Мы еще с хозяйкой споем и спляшем, — подмигнул он. — Всю хворь как рукой снимет. Я аккордеон свой захвачу.
Миронову чем-то понравилась эта строгая и скупая на улыбку женщина. Казачка. Слышал он о них немало, знал о большой человеческой красоте души из романов. И сейчас он подумал о том, что, потянись она к нему, он, пожалуй, не устоял бы перед ее лаской. А Наташа как же? Значит, обмануть ее? За что? Только потому, что она далеко и не узнает? Но все же что-то тянуло его к этой красивой казачке.
После сытного, вкусного обеда, отогревшись с мороза в чистом, уютном доме, Миронов стал дремать. «Хорошо часочка два передохнуть», — подумал он.
И Каменков, не сводивший с него глаз, будто угадал эти мысли.
— А что, товарищ майор, лежели вам передохнуть какой часок? Ну, пока Малков возвернется. А я тем разом — в штаб. Чевокина пошлю за капитаном Ваниным. Може, он возвернулся из третьего.
Миронов утвердительно кивнул головой.
«Откушает, отогреется, сердешный. Больно уж человек он хороший, как сынка, жаль мне его», — подумал Каменков.
Он вышел в соседнюю комнату, передал просьбу хозяйке. И она стала разбирать и стелить постель.
Миронов писал записку Ванину для Чевокина, а Каменков убирал со стола. И вдруг Миронову показалось, что кто-то говорит глуховатым голосом в соседней комнате. Он насторожился, прислушался. Да, хозяйка с кем-то шепталась. «Ясно, Малков устроил номер, — догадался Миронов. — Но как он проник в ту комнату, минуя нас? Вот дьявол, не мужик. Как понравится какая — любые заслоны преодолеет, а своего добьется».
Миронов встал и, нарочито громко гремя сапогами, направился к двери соседней комнаты. И тут же ударила автоматная очередь, обдав его известковой пылью, щепки больно впились в лицо и шею. Из двери выскочил в гражданской одежде черный горбоносый мужик с немецким автоматом. Каменков бросился ему навстречу, закрывая майора. Короткая автоматная очередь прозвучала одновременно с выстрелом Миронова. Каменков упал у двери. Скорчившись, он прижал руки к животу. Рядом с ним свалился неизвестный с автоматом. Миронов понял, что это был фашистский вояка, которого скрывала хозяйка.
— Так вот кого ты пригрела, гадина! — Миронов с перекошенным от ненависти лицом выхватил пистолет и направил на нее. Но в этот момент вбежали часовой и Чевокин и опередили его, выстрелив оба.
Каменкова уложили в постель. Он тяжело хрипел, кусал губы, кровь пузырилась в уголках рта. Миронов стоял рядом, слезы затуманили глаза. Каменков, делая короткие передышки, торопливо излагал свои последние просьбы:
— Поклон пропишите, товарищ майор, женушке и девкам моим. Хорошая у меня жена. И девки ничего, справные. Вот от меня вам на памить, Александр Николаевич, уздечка с набором, цыганская. Она мне теперича ни к чему.
Миронов взял его за широкую мозолистую ладонь, пожал.
— Все сделаем, Кузьма Ерофеевич!
— Коней, лежели чего, Чевокину могете доверить. Он справный мужик. Дело знает. Ты, Чевокин, их гляди не перекармливай. Всему мера нужна.
Вошел с испуганным лицом Вася Сучок и тут же расплакался, растирая грязные разводы по щекам и по подбородку.
— Как же так, друг ты мой, Ерофеевич? Кто же на тебя, такого справедливого человека, руку поднял?
Вася кинулся целовать Каменкова в щетинистые с подпалинкой усы.
— Ну фашисты, ну враги они наши лютые, но неужто к старикам отцам своим нет у них жалости.
Каменков облизывал кровь на губах.
— Васенька, дорогой ты мой сынок! Смерть, она жалости ни к кому не имеет. Не меня, так тебя, его, его, — показал он корявым, дрожащим пальцем на стоящих подле людей. — Я уже пожил свое, сынки мои. Но и мне бы хотелось хоть денек при победе пожить. Ну что ж, коль не довелось, помяните и меня в той день, «Трофеевича». Всем, чем мог, служил я людям. А кого обидел по неразумению, не обессудьте старика.
Вбежала военфельдшер. Строго оглядела всех.
— Ну что же вы, товарищи, так поздно сообщили мне?
Все рассеянно молчали, а она быстро вытряхнула все из сумки на стол и принялась за свои, такие обычные для нее обязанности. И тут же по селу ударили орудия. «Кто это? — мелькнула мысль у Миронова. — Неужели какие-либо бродячие вражеские группы?» А их в то время было немало. Они укрывались по балкам и нередко нападали на небольшие подразделения, но больше всего на обозы, охотясь главным образом за продуктами, но не отказываясь и от обмундирования.
— Немецкие танки! Немецкие танки! — ворвался запыхавшийся связной.
«Откуда они?» Миронов подбежал вместе с Сучком к «виллису». Радист тут же связался со штабом, и майор передал распоряжение Ванину выдвигать на прямую наводку полковую артиллерию.
— Сколько танков? — опросил он.
— Сказать трудно. Они обходят село с востока и запада. Пытаются взять в клещи. Понятно?!
Миронов тут же приказал Малкову разделить дивизион на три подвижные артиллерийские группы. Одну прислать ему как резерв, а две — по одной батарее — поставить в засады на восточной и западной окраинах села.
Вечером Миронов докладывал комдиву:
— Товарищ полковник, полк отразил атаку немецких танков. Подбито семь машин. Допрошенный пленный немецкий офицер-танкист сообщил, что это был заблудившийся батальон из танковой дивизии Мильдера. Протокол допроса и пленные направлены к вам в штаб.
К Андросову зашел Фруктов и положил перед ним проект приказа на отстранение Миронова от должности.
— Я говорил вам, товарищ полковник, мальчишка он бесшабашный. Пришел в Перелазовский, не организовал охранения, а разведку послал к Зотовскому и Калмыкову. Взвод разведчиков полка, конечно, погиб. В этом я не сомневаюсь.
Андросов сидел, подперев кулаками голову.
Он рассматривал карту, молча слушал, потом взглянул на Фруктова:
— Ни черта вы, майор, не разбираетесь в людях. Ну пусть, по-вашему, он мальчишка, а вы ему папа по возрасту. Но ответьте на вопрос? Кто из дивизии первым успешно прорвал оборону?
Фруктов молчал.
— А сейчас, если бы не Миронов, может, и нам с вами не быть здесь, в штабе новоцарицынском. Чем мы с вами отбивали бы танки?
3
Аленцова вошла, остановилась на пороге, как сказочное привидение.
— Вот и я, Михаил. Здравствуй!
У Канашова расплылось в глазах ее далекое туманное очертание. Потом оно стало приближаться, будто он смотрел в бинокль, и сосредоточилось, как в фокусе, на ее лице. «Такая же — подумал он, и вдруг стало так, будто не было ни тягостной разлуки, ни мучительной ревности, ни тревожных дум и бессонных ночей. — А как мне жить без нее? Как же быть дальше? Как прожить на свете без ее умных и красивых глаз, без ее по-девичьи сдержанной ласки, смешных ее причудливых капризов, без ее простых, целительных и обнадеживающих: «Все будет хорошо, Миша». Как в сказке, пришла она и сняла тот постоянно давивший его сердце камень, и стало так легко и хорошо, что невольно хотелось запеть.
Она нарушила нелегкую, чуть затянувшуюся молчаливую паузу:
— Не веришь, что я пришла? Не признаешь или не принимаешь?
Канашов улыбнулся своей широкой улыбкой и быстро пошел ей навстречу.
— Верил, верю, признаю и принимаю. — И он схватил Аленцову в свои сильные руки, обнял и прильнул к губам.
— Тише, тише, Михаил! Слышишь! Мне-то известно, не обидел тебя бог силенкой. Горько мне, Михаил!
— А мне что, — перебил он,-задыхаясь, — сл-ад. — Она зажала ему рот ладошкой.
— Вопросы еще будут? Только давай все сразу. Я готова ответить. — Она отняла руку ото рта.
Канашов поглядел в ее черные, будто омут, бездонные, с золотой искринкой глаза. Снова в который раз увидел, как чуть косил от контузии левый глаз. Оглядел ее, придирчиво еще раз. «Как она похудела. Но стала стройней, будто девушка. И только в волосах, у висков, пробивается редкая изморозь. Вот как ее потрепала жизнь». И он, взяв ее лицо в широкие ладони, помотал головой.
— Вопросов не будет. Но есть предложение. Вернее, их несколько. Можно?
Она обняла его за плечи, согласно кивнула головой.
— Первое. Теперь, Нина, навсегда, и только вместе. — Он взял ее руку и, сжимая, снова повторил, как клятву: — Навсегда вместе. Как ты?
Аленцова смотрела на него доверчивым, понимающим взглядом. Глаза ее излучали тот слабый свет, который бывает у очень счастливых людей. Она потянулась к нему жадными губами. И вдруг заплакала.
— Что с тобой, Нинуся? Что, дорогая моя женушка?
И тут Аленцова заплакала навзрыд. Плечи ее вздрагивали, и вся она дрожала, будто от холода.
Канашов растерялся, не зная, что подумать. Может, он чем-либо ее обидел? Он обнял ее, прижимая к груди, гладил по голове.
— Это я, Михаил! Это я, ты пойми!
— Понимаю. Понимаю, Нина!
— Но ты не обидишься? — Она взглянула ему в глаза. — Мы с тобой всегда, сколько знали друг друга, говорили только правду. Я счастлива, но не могу скрыть от тебя.
— Ты любишь другого?
— Нет, нет. Что ты!
— Ты ожидаешь ребенка?
Она грустно улыбнулась.
— Нет, милый, нет. Может, и будет он у нас, — сказала она задумчиво. — Понимаешь, вот что-то, ты не сердись, Миша, что-то говорит мне. Не будем мы вместе.
Канашов рассмеялся, обнял ее снова.
— А-а, как же, помню, помню! Ты мне писала: «не судьба». Так, что ли? — Она закивала в ответ. — Да брось, Нинуся, все это чепуха. Мы же вот вместе с тобой. И судьба наша, верю, теперь в наших руках. Так? — Она крепче прижалась щекой к его плечу. — Теперь мое предложение. Давай сфотографируемся вместе. Признаться, давно хочу. Но. — Он взял трубку. — Коржиков? Аппарат с пленкой? Заряди и мигом ко мне! Побыстрее! А то здесь есть опасение, кое-кто раздумает, пока ты соберешься.
— А вот и не раздумаю, тебе назло! Михаил, ты снова вредничаешь?
— Чтобы наше хорошее с тобой вспомнить. Ты же вредничала. А почему нельзя мне?
— Разрешаю, разрешаю! Постоянно вредничай. Может, скорее я пойму, какой во мне черт сидит и подмывает на эту вредность.
— Разрешите, товарищ генерал? — быстро вошел запыхавшийся адъютант. Он был маленького роста, будто мальчишка, этот молодой лейтенант.
Канашов спросил его:
— Что случилось? Докладывайте побыстрее!
И тут же с фотоаппаратом появился Коржиков. Канашов сделал ему жест рукой.
Одну минутку. Докладывай, товарищ Чубенко.
— Товарищ генерал, во фланг корпуса нанесла удар немецкая танковая дивизия.
Канашов быстро достал карту из полевой сумки, развернул, кинул на стол.
— Танковая дивизия? Откуда она взялась? Ладно, где? Давай, если знаешь, показывай!
Лейтенант шарил беспомощно глазами по карте. От волнения он потерял ориентировку.
— Ну вот, кажется, здесь, — ткнул он пальцем. — Вот тут штаб корпуса. Здесь бригада Чураева. А вот тут Крамара.
— Значит, немцы нанесли удар по нашему штабу и чураевской бригаде.
Канашов резко поднялся из-за стола, взглянул на Аленцову. Лицо его было суровым и решительным, как и всегда в минуту опасности.
— Где начальник штаба корпуса?
— Тяжело ранен. Его только что привезли в медсанбат из бригады Чураева. Он мне рассказал, что случилось в бригаде, и просил передать вам.
Канашов ударил кулаком по столу так, что все, что находилось на нем, очутилось на полу.
— Самоуспокоились? «Ура! Победа!» На вот, выкуси, — показал он кому-то кукиш. — Приказывал иметь надежное охранение и передовой отряд. И прежде всего разведку, разведку, разведку! Вот бестолочи. Доложите, куда нанесли удар немцы бригаде.
— С тыла и правого фланга.
— Вот, вот. Ну ты подумай, Нинуся, что за беспечные люди! Чуть небольшой успех, и у них голова кружится, слепнут они и глохнут. Забывают, что мы с немцами воюем. Неужели годы войны ничему не научили? Прорвали удачно, и некоторые думали— дорога скатертью. Ан нет, олухи, шалишь! Развесили уши, а тут как тут и долбанули. Да, знакомьтесь, товарищи. Моя жена, Нина Александровна Аленцова. Прошу жаловать, а любить сам буду. — Присутствующие улыбнулись. — Только решил побыть с ней часок по-человечески за столько месяцев разлуки, и на тебе — сюрприз от немцев. Ну ты нас, Коржиков, все же запечатли для семейной истории!
Они стали рядом. Он обнял ее за плечи и чуть наклонил голову, спрашивая: «Так, ничего?»
— Хорошо, товарищ генерал! Только улыбка требуется. А то оба сердиты вы больно.
— Не на нее сердит, а на некоторых дураков. Да и на немцев крепко злой. А целоваться нам, при всех не положено.
Коржиков, улыбаясь, щелкнул.
— Я пойду, Нина. Давай прощаться!
— Миша! — Она обняла его.
— Что ты?
— Не горячись, Миша! Спокойней! Ты сильный, ты все можешь. И тогда все будет хорошо. — Аленцова поглядела ему в глаза умоляюще.
— Хорошо, хорошо, НинаI Чубенко, немедленно группу управления ко мне! Выполняйте!
— Есть, товарищ генерал! — Чубенко ушел.
Кана шов сложил карту в полевую сумку. «Надо прощаться».
— Подожди, Миша, прошу тебя! Не иди! Еще подожди минутку! Давай присядем. Ты такой, лица на тебе нет. Успокойся, родной! Ты же можешь. Я знаю. — Она стала гладить его по лицу, волосам, прильнула к щеке, обнимая. — Тебе нельзя сейчас идти! Как бы…
— Да что ты? — Канашов грубовато отстранил ее. — Я же не мальчишка!
— Не ходи, Миша, я прошу тебя! Слышишь, прошу!
— Нина, да ты с ума сошла! Это же танки. Они прорвутся сюда. Ты не понимаешь, что говоришь.
— Я молю тебя, Михаил! Сердце болит будет, будет что-то недоброе.
— Брось, Нина, причитать! Не задерживай меня! Отпусти, прошу тебя!
В дверях появился адъютант.
— К отъезду все готово, товарищ генерал!
Канашов освободился из цепких объятий Аленцовой и решительно направился к выходу.
За спиной услышал ее рыдания. Больно кольнуло в сердце. Хотелось вернуться, просить прощения за грубость. Но, пересилив себя, он исчез за дверью.
Голова ее лежала на столе. Она плакала. Прислушалась. Загудел мотор. Будто что-то больно сжало сердце.
— Убьют же тебя там! Куда же ты, мой глупенький, — закричала и забилась в рыданиях и снова уронила голову на стол.
4
Никогда еще за все время войны Канашов не был так взбешен, так обеспокоен случившимся. Встретился бы ему сейчас подполковник Чураев — комбриг, он бы, не раздумывая, расстрелял его. И не потому, что он получил обидный разнос от Кипоренко. (Тот отругал его, как не ругал никогда). Но главное — ткнул его командующий в навоз, как щенка. Мол, нюхай сам, что наделал, генерал без войск. Как же дальше думаешь? Как задачу будешь выполнять? Да, нелегко было исправить положение. Бригада Чураева завязла в бою с немцами. Вторая бригада двумя батальонами сбилась с маршрута. Один батальон ее почему-то остался в распоряжении Канашова. Сила-то велика. Десять исправных танков. А вот удачная контратака немцев грозила сорвать развитие операции на окружение, которую обязан был завершить корпус Канашова и соединиться с войсками Сталинградского фронта в районе города Калача. Ну а если мосты через Дон будут взорваны, тогда и совсем плохо. По неокрепшему льду танкам не пройти. «Зря я так грубо поступил с Наной, — думал Канашов. — Разве она виновата в наших военных неудачах?» Он так расстроился, что готов был сейчас бросить все и хотя бы на полчаса, даже на несколько минут, вернуться и успокоить ее. Канашов тронул шофера рукой, хотел приказать: «Поворачивай». Тот замедлил скорость «Что, товарищ генерал, сбились с пути?»— «Останови». Машина стала. Ему казалось, что он и сейчас слышит рыдание Аленцовой. «Ладно, — в раздумье приказал он шоферу, — давай жми побыстрее до совхоза-фермы». Там теперь находился вспомогательный пункт управления Канашова после налета на его штаб немецкой дивизии. Туда согласно радиограмме Кипоренко был направлен танковый батальон Кряжева. Через час Канашов приехал на вспомогательный пункт. Много неприятных новостей встретило его там. Представитель Ставки, генерал, грозил передать дело в суд и отстранить от должности. Начальник штаба скончался от большой потери крови. Командир бригады Чураев был тяжело ранен. «Штабные документы наверняка попали в руки врага», — думал он. Штабных машин не было. И его фронтовые записки тоже метут попасть к ним. И хотя в них не было никаких секретов, они представляли для него несомненную ценность. Там его высказывания и взгляды на военное искусство, отношение к тактике, рост командиров и рядовых солдат в годы войны. Хорошо, что я сумел сохранить фронтовые тетради, — подумал он. — В них ведется хроника боевых действий и имеется ценный материал по боевому опыту. Разве нельзя было мне взять с собой Нину, — вдруг пришла ему мысль. — А вдруг мне не удастся разгромить контратакующую немецкую дивизию? И я могу погибнуть. Погибну? Почему? Верить Нининым предчувствиям, — сказал он себе, — глупость. Она просто взволнована нашей встречей, беспокоится обо мне, поэтому такие мрачные пророчества о моей гибели.
А впрочем, на войне никто не застрахован от смерти».
Его размышления прервал командир второй бригады полковник Лавров.
— Товарищ генерал, батальоны в полном составе сосредоточены в оврагах, — он наклонился над картой, лежавшей на столе перед Канашовым. — Готов, товарищ генерал, к выполнению боевой задачи.
Комкор пожал ему руку, заглянул в глаза и резко бросил:
— А где ты блуждал пять часов? Кто за тебя задачу выполнять будет? Нам же завтра надо быть в Калаче.
— Будем, товарищ генерал!
Канашов схватил за плечо Лаврова, обошел его, осматривая со всех сторон.
— Завтра? Чураев завяз с немцами в бою. Ловко они попутали нам, дуракам, руки. А ты полки по глупости растерял. Теперь не только руки, и ноги они нам связали. А с чем идти на Калач? Отвечай!
— Товарищ генерал, простите, туман нам напортил. Ну как в молоке плавали.
— Ну и бензину пожгли, конечно!
— Нет. Я, как заплутались, сразу дал команду вести только разведку, а остальным на прикол.
— Хорошо, что хоть до этого додумался. Иди, готовь бригаду! Через два часа пойдем штурмовать Калач.
«А все же Кипоренко прав. Упустил управление из своих рук, — думал Канашов. — Почти с пустыми руками остался. А он мне в помощь дал танковый батальон. Вот так-то, думай, Канашов. Надо оправдывать большое товарищеское Доверие и поддержку».
Он прикинул по карте, оценил обстановку. Пока бригада Чураева будет сражаться с немцами, сдерживая их, он сможет выбросить вперед батальон и захватить переправу через Дон. И бригада Лаврова через эту переправу пойдет на Калач, на соединение с войсками Сталинградского фронта.
Если мысленно провести линию в сорок километров от хутора Ефремовский до станины Добринка, то все дороги, которые шли от этой линии в юго-восточном направлении, были сплошь усеяны разбитыми автомашинами и мотоциклами, обозами немцев и румын. Нередко попадались и целые обозы, груженные ящиками с боеприпасами, продовольствием и разным имуществом. И повсюду по полю, а особенно ближе к дорогам, лежали трупы вражеских солдат и офицеров. Будто по этим дорогам прошел смертоносный ураган. Об этом думал Кана шов, вспоминая путь своего корпуса. И вот предстоял последний рывок. Его надо совершить умно, продумать во всех деталях. В районе Калача для форсирования Дона имеется одна-единственная мостовая переправа у хутора Березовский. «Конечно, немцы понимают ее важность для себя и для нас. Наверняка мост этот подготовлен к взрыву. Значит, брать его надо ночью и внезапно. Чтобы подкрепить передовой отряд, выделю одну-две мотострелковые роты. А чтобы немцы не завязали бой с передовым отрядом и не сорвали нашего замысла, прикажу отряду двигаться на самой большой скорости, с включенными фарами».
В час ночи майор Кряжев как командир передового отряда получил задачу от Канашова захватить мост. В три часа отряд выступил и начал действовать.
На другой день генерал Канашов разыскал майора Кряжева в селе Новом.
— Ну, герой, здравствуй! — Он протянул ему руку и обнял.
Кряжев смутился, пожимая плечами.
— Что я? Как все. Народ у меня хороший, вот и удалось.
— Нет, нет, ты расскажи, майор. Садись ко мне в машину.
— Замысел ваш, товарищ генерал, очень правильный. Немцы приняли нашу колонну за своих, и оборона их была пройдена без единого выстрела. Когда мы очутились в их тылу, мой разведчик привел местного жителя. Он вез на повозке трех немцев. Их уничтожили, а жителя привели как проводника. Он оказался довольно сведущим человеком, показал путь к переправе и рассказал о расположении немецких позиций.
— Разыскать его надо, товарищ майор! К награде представим.
— Есть, товарищ генерал! Так вот,
— Товарищ генерал, есть поговорка: аппетит приходит во время еды. Вот и у меня. Дай, думаю, попробую. Рванули мы с ходу на Калач. А они уже поняли, что с мостом что-то не в порядке. Да и гарнизон у них на Калаче дай бог. Полка два пехоты, и артиллерии было много.
— Так уж и два полка? — усомнился генерал. — А что же дальше было?
— Дальше? Они, как и следовало ожидать, ринулись на нас. Вижу, дело плохо. За двумя зайцами погонюсь — все упущу. Ну и принял решение отойти к мосту и занять круговую оборону. Что поделаешь, надо ждать главные силы корпуса. Немцы нас окружили, хотели мост вернуть, остальное вы сами знаете.
— Молодец, майор Кряжев! Представляю вас к высшей награде — званию Героя Советского Союза. Великое дело вы сделали. Рад, что в вас не ошибся.
5
После встречи с Канашовым Аленцова вернулась в Подвижную госпитальную группу корпуса. Она еще ходила от машины к машине, одновременно счастливая и подавленная, убитая горем внезапной разлуки в такой опасный момент, когда немцы смяли части корпуса Канашова. И вот туда, в самое пекло боевых событий, уехал он. Уехал, не послушал ее совета обождать хотя бы полчаса, разобраться, что же там все-таки происходит. Бросился туда очертя голову. Может, он поступил правильно, а она? Но беспокоиться за его судьбу сейчас она уже имела право. Теперь они любящие друг друга, после долгих мучительных противоречий вновь вернули прежнее утраченное счастье. И он сказал ей, что отныне и навеки считает ее своей женой. И она согласилась. И дело же не в той пустой формальности, когда они скрепят свой брак подписями и печатями. Если бы и не свершилось подобного, все равно она твердо решила быть всю жизнь везде только с ним.
Думая об этом, она подошла к машине, из которой доносились стоны. «Что там такое?» Она вошла в операционную. Подошла к хирургу.
— Андрей Федорович, почему без наркоза?
— Не берет, Нина Александровна. Видать, крепенько пьет, — прошептал он ей на ухо.
— Кто это?
— Офицер связи из штаба армии.
— Давайте вот сюда еще один укол новокаина.
Когда делали третий укол, раненый поглядел на Аленцову и сказал:
— Бесполезно, товарищ военврач. Прошу срочно принять меры. Мой шофер знает где. У хутора в овраге разбита машина, тяжело ранен генерал. Его шофер убит.
«Канашов. Канашов. Хутор этот неподалеку, где мы повстречались с ним». Лицо Аленцовой стало белее бумаги.
— А почему же вы не взяли его с собой, если сами находились в машине? — спросила она оперируемого. Но тот молчал.
— Что с ним? — Она нащупала пульс раненого. Пульс пропал.
— Андрей Федорович, я должна ехать немедленно! Это он. Он, — схватилась она за голову. И кинулась к вешалке, стала надевать шинель, не попадая в рукава.
— Неужели, голубушка, у нас некому съездить за раненым генералом?
— Андрей Федорович, поехать должна я, только я! Подготовьте мне все, что надо на крайний случай, — обратилась она к старшей медсестре.
Аленцова вскоре выехала с шофером умершего офицера связи. Шофер не особенно охотно отнесся к ее предложению ехать на поиски раненого генерала. За день он изъездил сотни километров и очень устал. Изголодавшийся, замерзший, подавленный тяжелым ранением и смертью своего начальника, шофер выглядел ужасно, голова и руки его тряслись, как в ознобе. А ехать на место ожесточенных боев нашей танковой бригады с немецкими танками небезопасно: можно было наверняка лопасть в плен. Разбитые нашими войсками, они еще были достаточно-вооружены и продолжали отчаянно сопротивляться. Шофер пытался убедить в этом Аленцову. Она же ответила, что он трус, и приказала ехать. А если откажется, она возьмет еще с собой одного санитара и заставит его ехать с ней под конвоем. «Вот черт, а не баба», — выругался шофер, но подчинился.
В пути их застала поземка. Усталый шофер сбился с дороги. Он стал упрашивать ее вернуться. Хотя бы до любого ближайшего села, но Аленцова настаивала на своем: ехать дальше, и только туда, где находится раненый генерал. Сердце ее предчувствовало, что Канашов находится в опасности. Если она не поспеет к нему вовремя, он умрет. Умрет от потери крови или шока. «Ну почему не взял его в машину офицер связи?»— сколько раз спрашивала она себя. Шофер на ее вопрос отвечал односложно: «Не могу знать. Мое дело выполнять приказания начальников. Я подчиненный». И эти ответы ее бесили. «Но это же был генерал, — снова и снова спрашивала она шофера:— Как же вы могли его бросить?» Рассерженная, она сказала, что будь она там, сама бы расстреляла такого. Она сжала зубы и так прикусила, губу, что стало больно.
На рассвете после долгих блужданий шофер сказал, что они приехали к тому месту.
— Вот только свернуть влево, товарищ военврач!
Они остановились. Он стал всматриваться вдаль. И тут же по ним из кустов ударила автоматная очередь. Шофер, испуганный, так нажал на газ, что машина будто подпрыгнула и понеслась вперед, не разбирая дороги.
Аленцова схватилась за бок. Ее будто обожгло. Во рту стало сухо.
— Вас ранило? — крикнула она шоферу.
— Нет. Вот он, наш овраг. Теперь я точно знаю. Вон кусты. — Они свернули в сторону, поехали по недавно наезженной колее. — Вон там за высоткой.
И тут Аленцова увидела разбитый, без задних колес «виллис».
Сердце похолодело от мысли: «А что, если Михаила захватили в плен? Или умер от раны».
Шофер рванул машину и понесся. Когда уже выехали к высоте, она очнулась и попросила остановить машину. «Дайте вздохну, дайте вздохну! Миша, Миша, как я хочу посмотреть в твои родные глаза».
Но только они свернули за кусты, как раздалось подряд два пистолетных выстрела. Шофер резко рванул машину влево и застрял в канаве.
— Чудак, ну что ты с перепугу по своим палишь?
— Кто это?
— Да ваш генерал. — При этих словах у Аленцовой сердце вздрогнуло: «Нашла, нашла Мишу».
— Где вы видите его? — блуждала она беспомощным взглядом.
— Вон там, в окопе, глядите, — указывал он рукой, — веточками закрылся, думает, его не видят.
Аленцова выскочила из машины, и ее больно кольнуло в правый бок. Она и до этого ощущала что-то теплое и мокрое. «Ранило, кровоточит», — но старалась не думать об этом.
— Михаил, Михаил! — крикнула она и побежала в кусты к окопчику, забыв сразу об опасности, которую она пережила этой ночью, и о ранении. Теперь для нее все, чем она жила, слилось в нем. Как хорошо, что она успела, что может оказать ему помощь. Она была счастлива, как никогда. «Я пришла, когда он ожидал меня. Как же он здесь, бедный, на морозе всю ночь? Наверно, обморожен?» Ну теперь она все сделает для того, чтобы спасти от всех недугов и бед. Теперь они навсегда будут вместе. И никто никогда не разлучит их, как это случилось недавно.
Она подошла к окопу, счастливая, улыбающаяся. Ей протянул руку человек. Это был незнакомый ей генерал.
Доченька моя, сам бог послал тебя мне. —
И он вдруг заплакал. Он был ранен в обе ноги, лежал, закутанный в цигейковое одеяло, опушенное, как кружевами, тонким инеем, и трясся от холода.
Раненый стонал и плакал, пока Аленцова делала перевязку и накладывала шины. «Наверно, у него перелом», — думала она. Вдвоем с шофером перенесли они генерала в машину. И когда поехали, Аленцова подумала об одном: «Правильно, что я приехала. Хорошо, что не с Михаилом случилось все это. Значит, у него все хорошо. Ну а если бы это и не генерал, — спросила она себя, — все равно, такая наша профессия». Они возвращались обратно. Теперь уже генерал торопил, умоляя шофера ехать быстрее, хотя тот гнал машину на большой скорости.
Они подъехали к тому повороту, где при спуске их обстреляли и ранили Аленцову. Шофер спросил ее: «Может, объедем опасный участок?» Она согласилась, но генерал возражал: «Быстрей, быстрей, прямичком, дорогой, давай». И тут, будто дробь барабана, рассыпалась по степи автоматная очередь из оврага. Аленцова схватилась за грудь и, ударившись лицом о стекло, упала на плечо шофера.
6
Канашов глядел на Аленцову, не отрывая глаз, завороженный ее угасающей красотой. С лица она сейчас была не той женщиной, которую он знал, любил, привык, как к родной, а будто это была девушка до замужества.
«Как скоро пролетело время, — подумал он. — Почти полтора года, как я ее знаю. Какое у нее свежее лицо, с нежным девичьим румянцем и ясные глаза с живой, насмешливой лукавинкой».
И только припухлые губы, которые так любил он целовать, сжаты и искривлены болью. Сейчас они подсинены холодом неумолимо надвигающейся смерти. Может быть, оттого лицо ее, то такое спокойное, то порой едва просветленное, выражало внутреннее напряжение, с каким она боролась со смертью.
Посиневшими, шуршащими губами, почти потом сказала она, гляди на Канашова:
— Напрасно, Миша, тебя не слушала, остерегалась нашей любви. Больше уже ничего не будет. Ни тебя, ни…
— Что ты, что ты, Нинуся! Мне никак нельзя без тебя. Понимаешь, нельзя!
Канашов приподнял ее голову с подушки, ощутив холодеющие шею и щеки. Она смотрела, не отрываясь, глазами, полными любви, в них заметно угасали признаки жизни. Он порывисто наклонился и поцеловал ее безвольные, стынувшие губы. В отчаянии прильнул щекой к щеке, снова поцеловал губы, глаза, лоб. Они похолодели. Как закат, угасал румянец щек, и они тускнели, становились матовыми, серыми.
«Умирает» — больно кольнуло в сердце, мгновенно пронеслась мысль. — Умирает. Что же мне делать? — спросил он себя, оглядываясь в пустой комнате. — Умирает».
Не в силах больше сдерживать себя, закричал:
— Нина! Нинуся! — И, обняв за плечи, приподнял ее. Она будто с немым укором безвольно покачивала головой, широко открыв испуганные глаза, затем отяжелевшая голова откинулась вправо, где он стоял, и на неподвижные, немигающие глаза стали сползать, как медленно спускающиеся шторы, потемневшие веки.
Канашов очнулся от внезапного потрясения, бережно положил ее на кровать, будто боялся разбудить. «Умерла, умерла. Все, все. Нет больше ее, нет! И не будет. Как она сказала: «Никогда». Не уберег я ее, не уберег».
Он сел на стул, который заскрипел под его тяжестью, охватил голову руками и тупо уставился в пол, боясь смотреть в ту сторону, где лежала она. Ему почему-то не верилось, что ее уже нет. Изредка приходила обнадеживающая мысль: «Вот она сейчас поднимет голову и скажет: «Я здесь, с тобой, Миша! Это мне просто было плохо. Ничего, милый, все будет хорошо». При этой мысли Канашов снова вскочил со стула и подошел к ней, взял ее холодные безвольные руки, и тогда слезы затуманили глаза.
«Неужели это все?» — в который раз спрашивал он себя и не находил ответа. Теплилась еще надежда, что, может быть, придут врачи, что-то сделают и она оживет, заговорит, улыбнется ему своей доброй улыбкой и скажет. Нет, она уже ничего не скажет.
Открылась дверь, вошел его адъютант, лейтенант Чубенко. И хотя Канашов стоял спиной к двери, он знал, что пришел именно Чубенко, так как услышал скрип его щегольских хромовых сапог. Сейчас этот скрип раздражал его, и он продолжал стоять, по-прежнему не оборачиваясь, хотя, чувствовал, что, если пришел в такое время адъютант, значит, что-то очень важное.
— Товарищ генерал, — тихим, извиняющимся голосом обратился он. — Вас срочно требует генерал Кипоренко. — И, помолчав, добавил: — Говорят, прорвались немецкие танки. Они пробиваются к окруженной армии Паулюса.
Канашов выслушал его доклад, не оборачиваясь. Как все это было неуместно именно сейчас, в эту тяжелейшую для него минуту жизни. Он обернулся и сказал:
— Идите, я сейчас!
Левая рука Аленцовой бессильно выскользнула из его руки. И тогда он вдруг окончательно понял, что она умерла. Он сложил ее руки, убрал с правой стороны лба темные локоны влево, как всегда делала она, поправляя волосы, прикрыл одеялом до подбородка, поцеловал в глаза и губы и вышел осторожно, на цыпочках из комнаты.
Когда он сидел в своем командирском танке и ожидал механика-водителя, мысли его невольно вернулись к Аленцовой. Его мучила одна загадка, которую сейчас ему хотелось непременно отгадать. «Почему она, умирая, стала помолодевшей и особенно красивой?» И тут вдруг вспомнился ему случай.
В начале лета этого года, когда они отступили к Волге, в одном селении, опаленном пожаром (он забыл его название), у разрушенного дома стояла обгорелая, с обуглившимся стволом, без единого листа акация. И цвела. Да, цвела летом. Аленцова первой обратила внимание на нее и показала Канашову. Ординарец начальника штаба, пожилой человек, в прошлом лесовод, объяснил им, что это извечно распространенное явление в природе — борьба за жизнь. Акация цвела — она боролась со смертью.
«Вот так же мужественно, до последнего дыхания боролась и Нина, напрягая все свои силы, — подумал он. — Поэтому и была она такая молодая и красивая».
* * *
Война с каждым днем и часом отнимала беспощадно у Канашова самых близких ему людей. И, может, поэтому, последнее время его чаще посещали сомнения, а иногда появлялось неверие в себя и свои силы. Сколько боевых товарищей, друзей, однополчан уже сложили головы! Родная земля заботливо оберегала своих сыновей в ту трудную для них минуту, укрывала в каждой яме, колдобине, овраге, прятала от воздушных хищников под раскидистыми шатрами зеленых лесов, реки преграждали путь тупым стальным коробкам вражеских танков. Земля принимала своих сыновей-воинов на теплую грудь, когда они валились, подкошенные усталостью, чтобы завтра снова идти навстречу солнцу» но смотреть от стыда только в землю. Сколько длинных, бесконечно длинных верст осталось за плечами. И нет ни одной, где бы не осталось могильного холмика. Война подобралась к нему вплотную, не раз угрожая ему смертью. Пока расплатился ранениями. Но она шла неотступно поводырем его судьбы и судьбы его близких и родных. Отца расстреляли немцы, родной его брат — комиссар — убит при атаке. Поднялся по старой привычке, как в гражданскую войну: «Вперед, за мной!», на немецкий пулемет. Его и срезала очередь. И вот самая близкая, любимая женщина, хлебнувшая сполна в личной жизни и на войне, дарованная Канашову на несколько часов женой, умерла у него на руках.
«Но все ли это жертвы, принесенные мною войне? Есть ли предел ее алчной жадности? Пока она идет по земле, жертвы ее неисчерпаемы. Значит, надо умнее воевать, чтобы скорее закончить ее нашей победой.
Горем полна наша родная земля, не я один несу ее тяжелый крест». Его размышления прервали пришедшие танкисты-разведчики. Они положили ему на стол фотографию — скрючившийся труп замерзшего Мильдера.
«Так вот он каков, мой постоянный противник. С ним я воюю уже второй год, а увидел впервые. Вот он, один из тех многих, кто служил верой и правдой Гитлеру, кто готовил офицерский корпус фашистской Германии к войне, а в скрытых дьявольских кухнях генштаба разрабатывал уничтожение й порабощение целых наций, народов мира. Вот он, один из тех, кто на своем пути сеял горе и смерть в Европе, а потом сжигал и стирал с лица земли наши города и села.
А что делали в это время мы? Чем занимались, о чем мечтали? Кто мы? Мы были разные. И мы — кто отвечал за организацию обороны страны, и мы — рядовые в войсках. Как все же мало сделал я тогда! Как мало проявил настойчивости, отстаивая новое, что приходило в военную науку и военное искусство, порождаемое второй мировой войной. Я всегда верил народу, нашему солдату и был убежден, что мы имеем более сильную армию, чем фашистская Германия.
Я был убежден, что мы должны хорошо знать наших вероятных врагов. А меня обвиняли в преклонении перед зарубежными авторитетами. Кто сейчас ответит за наши жестокие неудачи и поражения лета 1941 года? На чью долю достались муки и страдания тех месяцев? На долю армии и народа. А с кого спросишь за это?» Он закрыл глаза, и ему представились тысячи, десятки, сотни тысяч убитых, раненых, раздавленных на дорогах.
Канашов открыл глаза и сказал вслух:
— Да-а-а, далековато пустили их. Дальше некуда. К самому сердцу России подходили.
— Что, товарищ генерал? — спросил притихший адъютант Чубенко. — Машина давно готова.
Канашов поднялся, сутулясь, вышел во двор:
— Поехали!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Задача предстояла не из легких. И, получив ее от командующего Кипоренко, комдив полковник Андросов, опытный и бывалый командир, выполнивший многие сложные задания, на этот раз основательно призадумался.
Танковые корпуса армии ушли на восток, чтобы замкнуть кольцо окружения совместно с армиями Сталинградского фронта, а стрелковая дивизия Андросова должна была за трое суток марша по бездорожью, ведя бой с остатками разбитых немецких войск, пройти около пятидесяти километров, перерезать железнодорожную магистраль Сталинград — станция Лихая и захватить Суровикино.
И когда Андросов вместе с начальником штаба Фруктовым изучал предстоящую задачу по карте, у последнего зародилась мысль: «Полк Миронова надо пустить первым. Задача почти невыполнимая. Провалится он — лишний козырь в мою пользу. Так и скажу Андросову. Говорил вам, полковник, нельзя доверять этому мальчишке, выросшему, как на дрожжах, от лейтенанта до майора. Но как это сделать? Не предлагать же мне самому. Подожду, возможно, и комдив предложит кандидатуру Миронова. Тогда будет все в порядке».
Андросов опередил его:
— Ну, что думает начальник штаба? Какой полк пустим первым?
Фруктов наморщил лоб, почесал затылок. Хотел сказать Миронова, а сказал осторожно, выжидательно:
— Может, Уткина?
Андросов удивленно посмотрел на него сверху вниз:
— А может, Курицына? И не привыкай, майор, на вопрос начальника отвечать вопросом. Я же серьезно, а ты…
— Я, товарищ полковник, вполне серьезно. У Уткина в полку меньше всего потерь. Тут свежие силы. — Ты брось мне голову морочить. Чего же ему быть несвежим. Укрывается за спиной других полков. Да и то, поставили ему задачу с левым соседом локтевую связь установить — не смог. Истинно Уткин. Ходит вперевалочку, сам собой любуется.
Комдив снова замолчал, обдумывал, кого бы послать. Как жалко, что в первые дни прорыва были ранены и опытный подполковник Столяров, и майор Черняев. Андросов сейчас бы, не колеблясь и ни с кем не советуясь, назначил бы Миронова идти в авангарде дивизии, но по замыслу в этой задаче он хотел отвести ему более ответственную роль. Когда головной полк завяжет бои севернее станции Суровикино, пустить мироновский полк в обход станции с северо-востока и северо-запада. Если поставить эту задачу Уткину, он наверняка затормозит действия всей дивизии своей медлительностью и неповоротливостью. А потом найдет тысячи причин для оправдания.
— Нет, товарищ начальник! Придется все же полк Миронова пускать впереди.
Фруктов вздохнул с облегчением.
Две ночи полк Миронова шел на юго-восток, делая лишь короткие остановки у балок и оврагов, подальше от дорог и редких населенных пунктов. Отдых десять минут, перекур, и снова скрипит снег под ногами, гудят моторы, пугая глухую тишину ночи. Впереди колонн батальонов попеременно шли то Миронов, то Ванин.
В ночное время сбиться легко, и можно заплутаться и попасть в лапы к противнику. Повстречаться с ним здесь было довольно просто. По степи бродили остатки разгромленных подразделений немецкой пехоты, по лощинам и балкам прятались артиллеристы и минометчики. Нередко на большой скорости проносились мимо автомашины.
Частые остановки по каждому такому поводу (чтобы не быть замеченными противником и не ввязываться с ним в бой), обходы, объезды очень переутомили всех бойцов и командиров.
На четвертые сутки прорыва это был уже довольно глубокий вражеский тыл многотысячных разгромленных, деморализованных, но еще не уничтоженных румынской и немецкой армий.
Полк прошел более половины маршрута, и, казалось, цель была уже совсем близка. Но как ни маневрировал своим полком Миронов, как ни избегал он стычек с противником, стараясь как можно быстрее достичь Суровикино, все же обойтись без столкновения с немцами ему не удалось.
Первый батальон только вышел на дорогу, как на него обрушился огонь вражеской артиллерии. Батальон вынужден был развернуться. Бойцы разбежались по оврагам, залегли в кювете. Противник оценил выгодный момент и, воспользовавшись временным замешательством, поднял в атаку пехоту и автоматчиков. Немцы шли в полный рост, прижимая к земле нашу пехоту шквальным огнем автоматов. Из села показались три танка. Это уже было опасно. Степь — и никаких укрытий. Миронов тут же приказал выдвинуть дивизион на прямую наводку. Когда немецкая пехота подошла на триста метров, над головами наших войск зашуршали первые снаряды. Атака немцев была отражена. На заснеженных степных просторах, будто кочки на болоте, валялись трупы. У дороги дымились два горящих танка.
Миронов доложил о бое у хутора Попова комдиву. Фруктов, узнав об этом, не преминул упрекнуть Миронова. А в конце разговора сказал: «А мы на вас надеялись. Как же так вышло? Виновного надо отдавать под суд». А сам торжествовал. Теперь ему Суровикино не взять, раз спугнул противника.
Но Фруктов жестоко ошибся. Той же ночью подвижный отряд полка Миронова с ходу ворвался на станцию Суровикино. Об этом и сообщил в своем донесении Миронов в штаб дивизия. Из штаба дивизии — в штаб армии, из армии — во фронт, из фронта — в Ставку.
Кто был повинен в преждевременной переоценке едва обозначившегося успеха? То ли случай, перепутавший данные из донесения Миронова писарь, то ли радист. Или, может, какой тщеславный штабной работник. Но мироновское донесение со словами «подвижный отряд с ходу ворвался на станцию Суровикино» в сообщении Совинформбюро прозвучало в радиопередачах по всему Советскому Союзу и миру и вскоре появилось на страницах газет совсем по-иному.
«В течение 24 ноября наши войска под Сталинградом продолжали развивать наступление. На северо-западном участке фронта наши войска продвинулись на 40 километров и заняли город и станцию Суровикино».
Сам Миронов, совершенно не ведая об этом, что его маленькое, обычное очередное донесение (а сколько он их отправил за время командования на фронте — попробуй сосчитай, донесение, будто снежок, каким играет детвора, прокатившись сотни, тысячи верст, превратилось в огромнейший снежный ком — событие всесоюзного и даже мирового значения. А для него лично и первой инстанции его начальников оно было всего лишь снежком, рассыпавшимся внезапно, в ту же ночь.
Война на каждом шагу преподносила воюющим самые неожиданные и подчас коварные загадки. Одной из них была и эта «загадка», которую попытался, но не решил в ту ночь Миронов со своим полком.
Как только подвижный отряд полка ворвался на станцию Суровикино, Миронов приказал батальонам занять исходное положение для наступления. После короткого налета артиллерийского дивизиона он поднял полк в атаку. Вначале все шло хорошо. Немцы вели редкий огонь, и слышно было, как усиливал огонь наш подвижный отряд. Но когда приблизились к вокзалу метров на триста-четыреста, немцы открыли шквальный огонь. Они не давали поднять головы нашим бойцам. Миронов еще раз повторил беглый огневой налет и еще раз сделал попытку атаковать полком. Повторилась та же картина. Губить людей понапрасну и лезть напролом, не зная, что перед тобой за противник, и какая у него оборона, было по меньшей мере безрассудством, а по-честному говоря, преступлением. И Миронов принял решение отвести полк на исходный рубеж. «Но почему же подвижному отряду удалось ворваться на станцию? — недоумевал он — Почему?» Успех отряда и неудача при этом атак полка оставались для него теми загадками, которые нередко подсовывала нашим командирам война.
Миронов позвонил в штаб и доложил о неудавшемся наступлении.
Полковник Андросов был очень удивлен докладом и впервые за всю совместную службу грубо выругал его.
— Да-а-а, майор, подвели вы дивизию! Так подвели, что и представить трудно. Что теперь я буду докладывать командующему? Почему подвижный отряд полка сумел захватить станцию, а вы всем полком не смогли взять Суровикино? — удивлялся он.
Если бы Миронов мог сам себе ответить на этот вопрос, то не надо было бы ему краснеть и докладывать (о, как это трудно всегда!), что приказ им не выполнен.
Комдив долго молчал. Можно было догадаться, что он переживал, думая, как выйти из создавшегося трудного положения.
— А что, если тебе попробовать еще раз атаковать ночью? Подошлю тебе в Верхне-Осиновку два гаубичных дивизиона. Огневой налет. Штурмуй и бери непременно.
Расстроенный Миронов повеселел. «Два дивизиона, да еще гаубичных, — это настоящая сила».
Глухую ночную тишину потрясли мощные залпы гаубиц. Они открыли огонь по Суровикино. В поселке вспыхнули очаги пожаров. Полк с прежних исходных позиций в третий раз ринулся в атаку. Но его снова встретил шквальный огонь немцев, и он понес большие потери. И на этот раз пришлось отойти. Радоваться, как понял Миронов, было преждевременно. Оборона в Суровикино осталась не прорванной. Для него в дивизии она была по-прежнему трудноразрешимой загадкой.
2
Пожалуй, на войне нет ничего опаснее тупого упрямства. Это оно толкает на неоправданные жертвы, на действия вслепую, когда, «не зная броду, суются в воду».
На следующий день, поддаваясь тщеславным настроениям ущемленного самолюбия и ревностно охраняемого начальниками престижа, полетели радиограммы, телеграммы, начались устные переговоры сверху вниз и снизу вверх с единственной целью — найти виновника ошибочного донесения, вместо того чтобы начать обычную деловую подготовку к очередному наступлению. А главный промах произошел от недооценки противника. Может, первые успехи вскружили голову? Скорее всего, было именно так. Хотя каждому — от рядового до командира полка, всем, кто находился на переднем крае, — было ясно, что без определенной подготовки этот сильно укрепленный узел немцев взять не удастся. А если бы командующий армией не поддался хмельному головокружению успехами, а оценил по-серьезному обстановку, которая сложилась в наших войсках в результате высоких темпов наступления, он бы понял, что стремительное наступление нарушило управление и взаимодействие между атакующими и поддерживающими подразделениями и частями. И о противнике они знали разве то, что он находится перед ними, и не более.
Двое суток бесплодных атак не дали никаких результатов, а только увеличивали ничем не оправдываемые потери. К концу вторых суток подошли еще две дивизии — одна справа от полка Миронова, другая слева. На третьи сутки уже несколько дивизий штурмовали Суровикино, но по-прежнему безуспешно. Обстановка накалялась с каждым часом и днем. Люди гибли, боеприпасы выбрасывались впустую, а Суровикино стояло, будто неприступная скала.
Днем, в затишье боя, Миронов изучал эту «скалу». Она была укреплена довольно основательно. Доты и дзоты, колючая проволока. Наверняка есть мины. А вот где, какие у немцев укрепления за пределом видимости, где их артиллерия и минометы, кто какие обороняет участки и какими силами — узнать было трудно. Ну кто мог точнее ответить сейчас на этот больной вопрос для всех, как не разведчики.
И дивизионные разведчики делали неоднократно такие попытки, как и разведка полка Миронова, но они не нашли слабых мест во вражеской обороне. С каждым днем Миронова все больше беспокоило положение людей из полкового подвижного отряда. Где они? Или все погибли, или находится в плену? От них не было никаких вестей. Ходил в эти дни хмурый и озабоченный командир разведки полка Евгений Миронов. Вместе с подвижной группой ушла его любовь — военфельдшер Галина Муратова. Вот и томился Евгений, постоянно думая о том, как ему пробраться в Суровикино. И ушел.
Миронову сообщил эту новость Ванин:
— Братишка твой с группой ушел. Пойду, говорит, попытаю счастья, просил не говорить вам, но я не могу. Не шуточное дело. А вдруг что…
Четвертый день под Суровикино прошел в перестрелке. А на рассвете на пятые сутки в полк вернулся со своими разведчиками Миронов-младший. Они принесли очень важные сведения и привели «языка». И стало тогда известно, что Суровикино и ближние к нему деревни обороняются силами до двух немецких полков. А в главном узле сопротивления — вокзале — находится до двух батальонов офицеров-штрафников. Станция и город Суровикино были хорошо укреплены еще нашими войсками при отступлении. Немцы каждую ночь подбрасывали свежие силы и перегруппировывали их. На соседнем разъезде Секретево у них имеется бронепоезд, а в самом Суровикино — танки. Был получен приказ самого командующего группой армий «В» барона фон Вейхса: в случае если сдадут Суровикино — все до единого офицеры и солдаты будут расстреляны. А удержат — каждого ждут большие награды и возвращение домой.
Как только полковнику Андросову доложили о том, что в полку Миронова успешно проведена разведка, и достали «языка», он приказал Мироновым немедленно прибыть к нему.
— На тебя я сердит, — сказал он, махнув рукой на майора Миронова, хотя подал руку и пригласил садиться. — А вот брат твой сегодня у нас в дивизии — герой.
Андросов по-отечески обнял Евгения и посадил рядом, положив руку на плечо. Миронов-младший явно чувствовал себя неловко перед комдивом.
— Ну, рассказывай, дружок, о том, как ты пробрался через их неприступную оборону.
— В Верхней Осиновской мне встретился местный житель. Я обратил внимание, что он многих расспрашивал. Значит, не из этой деревни. Оказывается, он пришёл к брату из совхоза номер семьдесят девять. Совхоз здесь, товарищ полковник, – показал Евгений на карте. — Колхозник рассказал, что в их совхозах и ближайших сёлах немцы часто мародерствуют. Я спросил, как он перешел линию фронта. И он показал место, где нет ни наших, ни немецких войск. Это и навело меня на мысль, что можно ночью пробраться в совхоз, подкараулить группу мародеров и захватить ее. У меня был простой план: проскочить туда на трофейной легковушке, а обратно — как подскажет обстановка. Взял с собой двух разводчиков, колхозника-проводника, проехали линию фронта, замаскировали машину и засели в кустах. Утром от нас неподалеку остановилась крытая машина. Из нее вышел офицер и пошел прямо к нам. Решили напасть на него. Но немец-офицер не дошел до нас метров тридцать, сделал свое дело и стал возвращаться. Медлить было нельзя. Мы выбежали вдвоем, один прикрывал нас и должен был в случае чего стрелять по кабине и кузову, если кто покажется из машины. Услышав наш топот, офицер обернулся и выстрелил. Пуля попала мне в левую руку выше локтя, навылет. Мой товарищ очередью уничтожил офицера, и мы бросились к машине. Шофер включил мотор, но я убил его. В это время второй разведчик подскочил к кузову и, дав очередь из автомата, закричал: «Хенде хох!» Из кузова показались две пары коровьих рогов, а потом и морды, а за ними прыгали с поднятыми руками гитлеровские мародеры. Обыскав и связав, мы посадили их в кузов с одним из разведчиков, а сами сели в кабину вдвоем. Надвигались сумерки, а нам хотелось проскочить линию фронта засветло.
Когда мы были близки к цели, и оставалось не более четырех километров, на дороге показался бронетранспортер с немецкими солдатами. Я приказал шоферу-разведчику не пропускать его, а прижимать к одной из сторон дороги, стараясь на большой скорости зацепить бортом. Если его не таранить, то бронетранспортер мог остановить машину, и тогда все пропало. Прижимая бронетранспортер к кювету и поравнявшись с ним, я дал по нему очередь, а наша машина задела его бортом и была отброшена в сторону. Оглянувшись, я увидел, что бронетранспортер лежит на боку в кювете. Немцы открыли огонь. Шофер рывками бросал машину из стороны в сторону. Может, благодаря этому мы отделились легкими потерями — была убита одна корова в кузове. Линию фронта немцев мы проскочили незамеченные, но когда стали приближаться к своим — наши пулеметы и автоматы открыли бешеный огонь. Машина была приведена в негодное состояние, два «языка» ранены, а охранявший их наш разведчик убит. Оставив шофера-разведчика охранять «добычу», я пополз к нашим. Это оказалась часть соседней с нами дивизии, которая сегодня днем растянула фронт своей обороны, о чем мы еще не знали. Так и попали впросак. Вот и все, товарищ полковник. Обычная наша работа.
— Обычная, говоришь? — поглядел на него Андросов. — Оно, конечно, так. Даю тебе двое суток на отдых. Спасибо за службу, старший лейтенант! — Андросов дружески похлопал Евгения по плечу, подал руку. — Идите. Хочу командующему доложить о вас. Это дело орденом пахнет. Вот так-то, — обратился он к Миронову-старшему, — учись, как воевать надо! Побил тут тебя в соревновании братишка. Далеко пойдет парень. Нюх у него отличного разведчика. А теперь разворачивай карту! По горячим следам разведки нам бы не ударить в грязь лицом и взять Суровикино.
3
Много атак пришлось видеть Миронову за время войны, участвовать самому, но четвертой она была по счету или нет, кто же знал точно? Может, и шестой. Огненный фейерверк трассирующих пуль, взрывы снарядов и мин менялись от ослепительного, режущего глаза до сплошного, слепящего мрака, а в отблесках взрывов мелькали полусогнутые силуэты бойцов. Шипели и свистели осколки, гремели разрывы гранат, и все они щедро сеяли смерть, смерть и смерть.
Полк Миронова, как и многие другие, штурмовал Суровикино с ожесточенным упорством. Немцы не жалели ни снарядов, ни пуль.
Бывает у каждого человека предел нервного напряжения. Такой предел наступил и у Миронова. Неудачи первых атак, ругань и упреки Андросова, явное желание Фруктова всеми путями доказывать его неспособность как молодого командира командовать полком довели его до отчаяния. И когда, какая уже неизвестно, атака на Суровикино захлебнулась в ста метрах от станции, он не выдержал. Приказал капитану Ванину остаться за него и пополз в первые цепи атакующих. Руки до крови резали битые осколки льда, холодный снег обжигал лицо, когда он во время обстрела тыкался и землю. Вот еще, еще несколько метров. Рядом бойцы первой роты. «Вперед, вперед, товарищи, ползком до насыпи, а там уже нас не взять». Люди не шевелятся.
Или они не признали его?
— Где командир роты?
— Убит, — доносится глухой ответ. — А вы кто?
— Майор Миронов.
И тут же по солдатскому радио поползли слова: «С ними командир полка Миронов». От напряжения болели глаза, виски. Сквозь шум боя Миронов расслышал, что из района станции доносится скороговорка наших пулеметов, «Неужели до сих пор жив наш подвижный отряд?» Он стремительно вскочил с земли с криком:
— Вперед, товарищи, там наши!
Оглянулся. За ним бежали. Сколько — не определить: тьма. И слышны сухие хлопки гранат.
— У-рр-рр-а-а-а! У-рр-рр-а!. — рвется из охрипших глоток. Нарастала и усиливалась трескотня автоматов, выстрелы винтовок. Мелькали в отсветах пламени бойцы. Вот и здание станции. Первые ступеньки. Прямо двери. Нет, лучше по лестнице на второй этаж.
— Братцы, свои. Ребята, родные! — донеслось из выбитых окон. Они высовывали с улыбками почерневшие лица, забинтованные головы и перевязанные руки.
По левой ноге Миронова будто пробежал ток высокого напряжения. И сразу ногу обожгло, как кипятком, и она стала тяжелой. И тут же будто кто вывернул левую руку, и она повисла, как плеть. Он оперся спиной о стену и, не удержавшись, свалился. В глазах поплыли огненные круги, как от падающего в тихую воду камня.
— Товарищ майор, товарищ майор, — откуда-то издалека доносится чей-то голос. — Немцы. Давайте вниз, в подвал. Я тоже ранен, но мы доберемся. Брат меня за вами послал. Я сержант Кульков.
«Кульков — помощник Евгения», — вспомнил он и тут же потерял сознание.
Миронов очнулся в медсанбате дивизии. Возле него сидела фельдшер Галя Муратова. Она рассказала ему о том, что там, в подвале станции, где оборонялся полк, а вернее, его остатки, до того как выбили из Суровикино немцев, он командовал людьми, лежа на носилках, как он подбадривал тех, кто несколько суток не ел и не спал, а многие были ранены, и даже пел им матросскую песню «Варяг». И самое главное, как мастерски его эвакуировала санинструктор Пампуша. Но сам Миронов, как ни странно, многое не мог вспомнить. Консилиум врачей определил у него признаки гангрены левой ноги. Требовалась срочная операция. Он отказался. Предложили эвакуировать в стационарный госпиталь.
Перед отъездом пришел полковник Андросов. Поздравил с присвоением полку звания гвардейского и представлением Миронова к ордену Красного Знамени. Он попрощался с Мироновым и просил не вспоминать прошлое, не обижаться: «На то и война. Эх, майор, майор, — с сожалением покачал головой Андросов. — Я согласие на тебя получил у командующего. Заместителем хотел тебя взять к себе. Ну, не горюй. Поправишься — приезжай. Должность попридержу до твоего возвращения». Но самым радостным все же в эти дни было для Миронова письмо, полученное от Наташи, в котором она писала: «Я напала на твой след, мой любимый, неуловимый и очень противный Мирончик. Ты совсем забыл меня, Сашка, и поскольку я тоже имею ограничение по ранению и, можно сказать, почти цивильная, непременно тебя отыщу».
«Вся в отца», — подумал с радостью Миронов.
И боль в ноге ослабла и притихла, и на сердце стало теплее. Впервые за эти дни больших, тяжелых испытаний захотелось, как никогда, жить. Вечером Миронова навестил Вася Сучок и Федора Пампуша. Нельзя без улыбки было глядеть на эту любящую пару. Сучок был начищенный, наглаженный, чисто выбритый, новенький, как на свадьбе жених. На груди красовалась его гордость — медаль «За отвагу». Пампуша, раскрасневшаяся, мощная, с круглым сдобным лицом, смущенно моргала, поглядывая то на Миронова, то на Васю. Грудь Пампуши выпирала из тесноватой гимнастерки, расстегнув две пуговицы, кирзовые сапоги, туго затянутый пояс делали ее малоподвижной. «Как же она, молодчина, ловко действует там, на поле боя, вынося раненых. Здесь она, закованная, как рыцарь в латы, в армейское обмундирование, такая неуклюжая и неповоротливая. Больше тридцати раненых, вынесенных из боя, у нее на счету».
— Вот пришли, товарищ майор, попрощаться, — наконец, после длительного молчания сказал Вася.
Миронов протянул руку Пампуше:
Спасибо вам, Федора! Мне рассказали, как вы меня…
— Та что там, товарищ майор, — и она смутилась. — Как всех, так и вас.
Миронов уже прослышал о их любви:
— Желаю вам счастья. — И, соединив их руки, пожал.
Она еще больше раскраснелась. А Сучок осмелел:
— Жаль, что свадьба без вас, товарищ майор! Вы бы за отца нам были.
Миронов улыбнулся:
— Поправлюсь, встретимся! Если на свадьбу не попаду, то на крестины обязательно!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Никто из близко знавших генерала Канашова никогда не видел его таким подавленным и отчужденным, каким стал он после смерти Аленцовой. Смерть ее наложила на его лицо тяжелую и мрачную печать задумчивости, пышная шевелюра заиндевела серебром. В речи Канашова появилась не свойственная ему медлительность, а в отношениях с людьми проскальзывала мягкость. По мнению тех, кто знал его раньше, он стал совсем другим человеком, потерявшим прежние качества военного, и превратился в мягкотелого интеллигента. И это не замедлило сказаться на дисциплине в корпусе и его бригадах. Участились случаи ЧП и грубых промахов командиров в бою. Командующий Кипоренко, несмотря на давние добрые отношения с Канашовым и уважение к его таланту военачальника, решил, не откладывая, вызвать его для основательного разговора, посмотреть, как он будет себя вести.
«Ну а если станет оправдываться — взыщу самым суровым образом». Накануне Кипоренко плохо спал, мучительно обдумывая предстоящую встречу. Проснулся рано, пил чай, поджидая Канашова. Но тут его срочно вызвал командующий Юго-Западным фронтом генерал Ватутин.
— Сегодня, — сказал он, — после сильной авиационной и артиллерийской подготовки группа Манштейна перешла в наступление. Немцы наносят главный удар в полосе железной дорога Котельниково — Сталинград. Цель этого наступления — прорваться к оружейной группировке Паулюса. — Ватутин сделал паузу, наклонился над картой. — Положение тревожное. Наши успехи, достигнутые в большой излучине Дона, могут свестись к нулю, если им удастся прорвать кольцо нашего окружения. — Он умолк, задумался, подошел к окну. — Верховное Главнокомандование приняло решение силами двух фронтов, Воронежского и нашего, срочно провести глубокую наступательную операцию.
Ватутин остановился у карты, висевшей на стене, осмотрел ее, будто видел впервые. Взял в руку указку, обвел овал.
— Вот отсюда, из района Новая Калитва, Верхний Мамон на Дону, начнется наступление наших войск в направлении Богучар, Морозовская, Котельниково с задачей выйти в тыл и на фланги группировки Манштейна.
Кипоренко смотрел, обдумывая каждое слово командующего фронтом, стараясь как можно скорее понять и осмыслить грандиозный замысел операции.
Ватутин уловил в его задумчивости невольный вопрос: «Ну а что же предстоит сделать моей армии?»
— Перед танковыми и механизированными соединениями обоих фронтов, — продолжал Ватутин, — стоят сложные по своим оперативным целям задачи: наступать от Верхнего Мамона в общем направлении на юг и юго-восток, действуя по тылам восьмой итальянской армии и выходя на тылы третьей румынской и немецкой армий. Нанося глубокие удары по флангам и тылам, мы должны не допустить осуществления замысла гитлеровского командования по освобождению группировки Паулюса, окруженного в Сталинграде и у Волги.
Ватутин ходил неторопливо по кабинету, изредка останавливался у карты, резко подчеркивая указкой предполагаемые удары. Он показывал направление задуманного маневра.
Кипоренко, слушая командующего, понимал что сложная и напряженная обстановка потребует быстрых и внезапных ударов.
— Тут надо провести серию стремительных ударов и делать это в высоких темпах. Я бы сказал так: появляться перед противником по-суворовски, внезапно, и громить его так же по-суворовски, умно и наверняка.
Ватутин прищурился и посмотрел пристально на Кипоренко:
— Найдется у вас такой решительный и гибкий военачальник? Только скажите честно и прямо.
Кипоренко поколебался. Кого же ему предложить из двух командиров корпусов его армии? Канашов опустил руки, смерть любимой потрясла его. Он вряд ли сможет сейчас командовать уверенно. Генерал Годин Афанасий Сергеевич — хороший исполнитель, но безынициативный человек. Только исполнитель, не более.
— Найдется, товарищ генерал-полковник!
— Кто?
— Генерал Канашов.
Ватутин наморщил лоб, перебирая пальцами, барабанил по столу в задумчивости.
— А, это тот, что замкнул кольцо окружения? Ну как же, помню! — И, чуть улыбнувшись, добавил: — Тот, у которого в корпусе последнее время дисциплина хромает и ЧП? А что с ним стряслось, Иван Кузьмич? Зазнался?
Кипоренко помедлил, не зная как ответить. Ну, а что таить?
— Жена его была военным врачом. Представителя Ставки — генерала — вывезла. И вот на обратном пути была тяжело ранена. Скончалась она.
Лицо Ватутина стало озабоченным.
— Теперь мне все понятно. Чего же молчал? Правильно решил ты, Иван Кузьмич. Правильно. Если Канашова сейчас в тишину, во второй эшелон, он совсем пропадет. Встряхнуть его надо, увлечь большим ответственным делом. — И, что-то припоминая, щурясь и массируя левый висок, добавил: — Когда умирает близкий человек, никто, даже самый большой друг, не в силах ему помочь. Только в круговороте боя и можно забыться.
2
Танковым соединениям Канашова предстояло пройти долгий путь, свыше трехсот километров. Это была тяжелая и сложная задача. В декабре значительно посуровела зима, участились метели. Снегу навалило в рост человека, а в оврагах и балках и дна не достать. На ровной и гладкой, как стол, степной местности снег очень демаскировал войска и особенно боевую технику — орудия, машины, танки. Возникали и другие трудности. Холод понижал работоспособность людей, требовал специальной подготовки техники. Зима позволила местным жителям свободно передвигаться вне постоянных дорог, появилось такое множество новых, что даже самим местным жителям было нелегко в них разобраться. Все это неизбежно усложняло ориентировку, замедляло скорость действий.
Канашов, получив задачу от Кипоренко, решил наступать корпусом по двум маршрутам, в двух эшелонах. Чтобы не сбиться с намеченных им маршрутов, он приказал выделить специальных, наиболее подготовленных, командиров-колонновожатых. Они могли по своему усмотрению привлекать в селах проводников из местных жителей.
Перед тем как выступать, Канашов достал из полевой сумки фотографию, подаренную ему корпусным фотографом Коржаковым. Помолодевшая от счастья, будто девушка, Нина сдержанно улыбалась. Да и он выглядел молодцевато в тот день наметившегося счастья, казалось, навсегда определившегося в их жизни.
«Ну, Нина, — говорил он себе и смотрел на фотографию, — помогай мне, родная, как помогала на войне под Калачом и Советском. Знаю, мне будет трудно, но мысль о том, что ты рядом, поддержит меня».
Он положил ее фото в левый нагрудный карман. Вызвал адъютанта лейтенанта Чубенко.
— Ну вот что, дорогой! Перед корпусом поставлена сложная задача. Мне не до писанины, а тебя обязываю: все, что важное будет происходить в боевых действиях корпуса, бери на карандаш, записывай в полевую книжку. Понял?
И полевая походная книжка адъютанта Канашова заговорила. В редкие свободные минуты Канашов сам читал эти записи и вносил в них свои поправки.
17 декабря (утро). В деревне Кожухово наш передовой танковый батальон разгромил колонну немецкой пехоты. Их было не менее шестисот человек с артиллерией и хозяйственными обозами. По сведениям пленных, они направлялись к фронту.
17 декабря (вечер). В боях за Калвинскую бригада корпуса уничтожила свыше тысячи немецких солдат и офицеров. Захвачены большие трофеи: склады боеприпасов, горючего, инженерного имущества. Кроме того, восемьдесят исправных автомашин, бронетранспортеров и мотоциклов.
18 декабря (утро). Боковой отряд корпуса в районе станции Гутково перерезал железную и шоссейную дороги, взорвал четыре железнодорожных моста, прекратив движение поездов по главной магистрали Чертково— Миллерово.
18 декабря (вечер). Обе бригады обошли Гутково с востока и запада, разгромили маршевый полк немцев и заставили остатки его отходить на юго-запад. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются.
19 декабря. Корпус в течение дня и ночи преследовал отходящие части противника. Уничтожено до четырехсот солдат и офицеров, пятнадцать бронетранспортеров. Захвачено пятьсот машин и десять бензозаправщиков, четыре исправных танка.
20 декабря. После небольшого привала корпус ночью продолжал преследование немцев двумя бригадами. В районе Бурново бригадой Гришаева были разгромлены частя и обозы 161-й дивизии немцев. А бригада Синева встретила остатки 22-й пехотной дивизии и разгромила их, взяв в плен тысячу двести пятьдесят шесть человек.
Но Канашова уже не привлекали эти, как он считал, обычные бои, хотя знал, что они наносили большой ущерб тыловым частям противника. И он мечтал, как бы нанести противнику более ощутимый удар.
Ненависть к войне и к тем, кто навязал ее нам, особенно после смерти Аленцовой, переполняла его сердце.
Утром 23 декабря разведчики сообщили, что километрах в двадцати — двадцати пяти, у станции Цинской, находится фронтовая база немцев. Там склады боеприпасов, есть вещевое имущество, технические склады и даже горючее. Неподалеку от станции находится аэродром немецкой боевой и транспортной авиации, снабжающей окруженную армию Паулюса. С него вылетали немцы бомбить наши войска в Сталинграде и у Волги.
В Канашове боролись два противоречивых и мучительных желания. Он хорошо понимал, что после длительных тяжелых боев надо корпус привести в порядок, дать отдохнуть уставшим от многодневных боев людям. В то же время обстановка не позволяла делать этого. Нельзя было упускать таких счастливых военных возможностей. Шестым чувством ощущал все это Канашов. И решил: хотя и мало времени, а все же дать небольшой отдых людям и заодно подготовить танки к движению.
Утром степь заполонил сплошной туман. Ни зги не видать. Что делать? Но туман стал союзником корпуса и помог скрытно подойти к Цинской.
Танковый корпус развернулся перед немцами неожиданно и быстро. Солдаты противника отдыхали, артиллеристы-зенитчики были далеко от орудий — немецкий гарнизон мирно и беззаботно спал.
По сигналу— залп гвардейского минометного дивизиона — танковые бригады рванулись в атаку на Цинскую и прилегающий аэродром.
К вечеру Кипоренко получил от Канашова донесение:
«В 17.00 окончательно очищен от противника поселок Цинская, аэродром и станция. Захвачено и раздавлено свыше трехсот самолетов различных марок, много складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольственными товарами, несколько эшелонов с оружием».
Кипоренко, довольный, улыбался, читая Поморцеву канашовское донесение.
— Выходит, Константин Васильевич, не ошибся я, рекомендуя его Ватутину. Ты смотри, какой классический разгром он им устроил! Всю фронтовую базу и самый крупный аэродром разнес.
— А как же можно ошибиться в таком человеке, Иван Кузьмич, когда он умно и толково воюет. Честный коммунист, сколько мы его с тобой знаем.
— Горе у него большое, вот и смутило меня. Дисциплина у него в корпусе пошатнулась. Вижу, руки опустил, а тут такая ответственная задача.
— Как говорит русская поговорка: «Горе вымучит, горе и выучит», — сказал Поморцев. —
А к тому же, если ненависть человека на пользу направить, она хорошие, замечательные плоды может дать.
— Просит разрешения продолжать глубокий танковый рейд. А боеприпасы у него на исходе. Если Ватутин поможет в доставке авиацией, пусть идет-гуляет по вражеским тылам. С окруженными в Сталинграде без его корпуса покончат. Еще не одно кольцо, Константин Васильевич, придется нам делать, чтобы очистить нашу землю от врага.
— Но этот разгром, Иван Кузьмич, я так понимаю, будет переломным в ходе войны. Таких битв еще не знала история человечества. Отброшенные армии Гитлера разгромлены и повержены у Волги.
Тем же вечером было передано сообщение Советского информбюро «В последний час»:
«Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск, окруженных западнее центральной части Сталинграда. Нашими войсками взят в плен вместе со своим штабом командующий группой немецких войск под Сталинградом, состоящей из 6-й армии и 4-й танковой армии, — генерал-фельдмаршал Паулюс и его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт». Далее глухо... радио прерывалось и снова продолжало сообщение: «Фельдмаршальское звание Паулюс получил несколько дней назад. Кроме того, взяты в плен следующие генералы: командир 14-го танкового корпуса генерал-лейтенант Шлеммер, командир 5-го армейского корпуса генерал-лейтенант Зайдлиц».
— Сколько их?
— Мать честная, — почесал затылок шофер генерала Кипоренко. — Вот это да! А я думал, Паулюс, и все!
Радио продолжало перечисление захваченных немецких генералов:
— «Командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант артиллерии Пфеффер, командир 100-й легкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Санне».
— Пошли, — обратился Кипоренко к шоферу. — Надо торопиться.
— Сколько же этих военных китов-генералов наши захватили? Со счету собьешься.
— Шестнадцать, — ответил Кипоренко. — Главное не в этом. Уничтожено за двадцать дней свыше ста тысяч вражеских солдат и офицеров. Понимаешь — сто тысяч. Генералов еще можно из офицеров наделать. А вот где взять стотысячное войско? Они же под Сталинградом уже десять раз по сто тысяч потеряли. А миллион потерять — это, брат, полный разгром и поражение.
Нет, война не свела, видно, всех счетов с Канашовым. Она хлестала и била его наотмашь, не давая передохнуть и опомниться.
После разговора с Кипоренко, ободренный его похвалой за успехи корпуса по разгрому немецкого аэродрома и обнадеженный, что жизнь постепенно начинала налаживаться, он сидел и, насвистывая, просматривал очередное донесение. И тут ему принесли извещение о гибели его дочери Наташи. У него зарябило в глазах, буквы запрыгали, как блохи, а строчки слились в сплошные черные полосы.
«Ваша дочь геройски погибла на боевом посту, во время бомбежки немцами аэродрома она оказывала медицинскую помощь. Искренне скорбим вместе с вами. Группа боевых товарищей». Далее шли десятки разных подписей. Канашов пытался подняться со стула, тело не слушалось его. Он закрыл глаза и, подперев голову, сидел, отрешенный, не в силах совладать с собой. Мысли больно жалили его, будто раздразненные осы.
«Я, я, больше никто не виновен в ее гибели. Почему я не оставил ее возле себя? Она же могла после тяжелого ранения остаться и не воевать. Нет, этого она не могла, — ответил он себе. — Она рвалась на фронт, надеясь на встречу с Мироновым. Плохой я был для нее отец, мало занимался ею, редко она видела мою ласку. И трудное, полусиротское ее детство, и обиды от моей неудачной жены-артистки. Много пришлось ей вынести, бедняжке. Ей бы жить и жить! И любить она не успела, и материнского счастья не изведала. Жизнь стороной прошла мимо ее детства и молодости девичьей и, еще наивную, светлую, чистую, бросила в пекло войны. И вот убила ее — мою последнюю надежду и радость в жизни. Война убила жестоко, и попробуй с нее спроси. Война, она ни перед кем не в ответе. — Канашов опустил тяжелые кулаки на стол. Война не в ответе, так мы, люди, за все в ответе, что она приносит. Так что же, война хочет свалить всю вину даже за смерти моих близких на меня? Нет, нет. Я спрошу с нее. Спрошу сполна, по большому счету».
Глаза щипало, будто едкий махорочный дым раздражал их. Он часто моргал, устало закрывая веки, но слез не было. — Война выдавливала из него последние остатки жалости. Канашов почувствовал вдруг себя собранным, бодрым, как после отдыха и сна.
Чубенко пришел и поставил перед ним стакан водки и закуску. Канашов с яростью ударил по стакану. Он со звоном разлетелся.
— Запомни или на носу заруби, как угодно. Чтобы дурмана этого не приносил мне никогда. Понял, никогда! Нам еще много воевать. Для такой войны нужна чистая и светлая голова.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
7 января 1943 года Верховное Главнокомандование Красной Армии сообщило по радио командующему 6-й армией Паулюсу, что в их штаб будут направлены три советских парламентера. Командование 6-й армии согласилось их принять.
На следующий день с северного участка было передано сообщение, что наши парламентеры приближаются к переднему краю. В это время советские громкоговорители начали передачу советского предложения об условиях капитуляции, а с самолетов были сброшены листовки. Часом позже офицер, прибывший из корпуса, передал генерал-полковнику Паулюсу эти условия.
Тут же вскоре приземлился прилетевший от Гитлера на самолете генерал Хубе. С аэродрома он, украшенный дубовыми листьями и мечами к рыцарскому кресту, награжденный лично фюрером, явился сияющий к Паулюсу и в присутствии начальника штаба Шмидта доложил о беседе с Гитлером и его ответственном поручении. Командующий 6-й армией, отпустив всех, долго ходил задумавшись, потом пригласил к себе полковника Адама.
— Я хочу познакомить вас, Адам, со сведениями, которые привез сегодня генерал Хубе. Вы должны быть в курсе намерений главного командования сухопутных войск. Фюрер решил предпринять новое деблокирование. По докладу Хубе, это будет мощное наступление. Оно планируется в середине февраля. Гитлер обещал улучшить наше снабжение с воздуха. Конечно, Адам, такие меры можно только приветствовать. Но это будет зависеть от того, как успешно пойдут дела на Кавказе. Наша же задача прежняя — как можно больше сковывать силы противника.
— Разрешите, господин генерал, задать несколько вопросов? Какое положение вне котла, на участке расширяющегося прорыва? Где проходит линия фронта на юге? Какие имеются силы, чтобы закрыть брешь, образовавшуюся при отступлении армий наших союзников?
— Странно, Адам, но те же самые вопросы я задал Хубе. Однако он не мог дать мне ни на один из них ответа. Самое печальное, что армии и в дальнейшем придется терпеть страшные лишения. Обещание улучшить снабжение — несбыточно. Но, скажите, Адам, а что мне остается делать?
— Чтобы продолжить сопротивление, надо прежде всего накормить армию. Ну и перебросить сюда самолетами боеприпасы, горючее и медикаменты. Капитан Тёпке вот уже восемь дней, как вылетел из котла. Я убежден, что он делает все, чтобы улучшить наше снабжение. Пока наше положение не изменилось к лучшему. Простите, генерал, но обещание Гитлера мне кажется просто... Ну, я считаю его несбыточным.
Паулюс удивленно посмотрел на Адама:
— За последние дни вы сильно сдали, полковник. Где ваш обычный оптимизм? Разумеется, армия еще сможет продержаться. У меня настроение тоже не из радужных. Но, тем не менее, капитуляция фюрером отменяется.
* * *
Адам пришел к себе в блиндаж. Ему захотелось самому без высокого начальства разобраться в том, а что же предлагал противник. Он достал мятый листок. «Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу — и холодное оружие.
Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам в солдатам немедленно будет установлено нормальное питание».
«Неужто наш противник, которому немецкая армия причинила столько зла, столь гуманен? Не пустые ли это посулы, самые соблазнительные для каждого немца, находящегося здесь, в котле?» — подумал Адам. Не верилось.
«Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь».
Послание заканчивалось словами: «Ваш ответ ожидается в пятнадцать ноль-ноль по московскому времени 9 января 1943 года в письменном виде через лично вами назначенного представителя».
«А что, если снова пойти к Паулюсу и попытаться его убедить?» — мелькнула у него мысль.
И тут же отказался от нее, безнадежно махнув рукой. Он снова продолжал читать: «...ему надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге разъезд Конный — ст. Котлубань. Ваш представитель будет встречен русскими доверенными командирами в районе «Б» в полукилометре юго-восточнее разъезда 564 в пятнадцать ноль-ноль 9 января 1943 года.
При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск».
От этих, казалось, привычных слов «на уничтожение», которыми пестрили все военные приказы, Адам ощутил, как холодок пробежал по спине. «А за их уничтожение вы будете нести ответственность». «И я тоже», — подумал он.
Послание было подписано двумя лицами: представителем Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии генерал-полковником артиллерии Вороновым и командующим Донским фронтом генерал-лейтенантом Рокоссовским.
Адам размышлял над прочитанным. Он считал, что предложение о капитуляции было вполне приемлемым. И в то же время мнение Паулюса довлело над ним. «Нам нельзя сдаваться».
Будет разгромлена группа армий «А» на Кавказе. Значит, нас выбрали той неизбежной жертвой, ценой которой в ставке хотят поправить сильно пошатнувшиеся дела на Восточном фронте».
2
Первый адъютант 6-й армии полковник Адам вел дневник. Он регулярно отмечал в нем, что считал важным.
26 января 1943 года он записал: «В двенадцать часов мы выехали на двух легковых и одной грузовой машинах к нашей последней главной квартире. Штаб нашей армии состоял теперь из командующего, начальника штаба, начальника оперативного отдела, начальника связи армии, первого адъютанта, а также нескольких офицеров для поручений. На улицах возле разрушенной больницы уже шла стрельба из автоматов и винтовок. Вдруг сопровождавший нас офицер из 371-й пехотной дивизии доложил: «Приближаются танки русских!» Улицы Сталинграда были оживлены. Раненые и больные тащились к комендатуре центральной части города. Согласно приказу по армии там было место их сбора. Но в действительности этой комендатуры не было. Там был лазарет, переполненный несчастными жертвами. Когда остатки штаба 6-й армии разместились в подвале универмага, в городе не оставалось ни одного подвала, не забитого до отказа ранеными».
В подвале универмага полковник Адам находился вместе с Паулюсом. В другом подвале, напротив них, разместился начальник штаба Шмидт с начальником оперативного отдела полковником Эльхлеппом.
Адам помог разместиться Паулюсу и уговорил его прилечь отдохнуть, а сам пошел осматривать новое прибежище. «Да, это был в прошлом большой магазин», — заключил Адам, осматривая здание. Через подвал проходил широкий, как улица, проход. В него со двора могли въезжать грузовые машины. С обеих сторон подвала располагались складские помещения с окнами.
Теперь они были заложены мешками с песком. Верхние этажи были разрушены, и внутри дом, до верхнего этажа, сгорел. Уцелела только каменная лестница. Она вела на чердак. С высоты третьего этажа хорошо просматривалась прилегающая площадь. Напротив находились руины театра, а прямо на восток между развалинами блестела лента Волги.
Штаб 6-й армии расположился в районе действия 71-й пехотной дивизии. Ею командовал генерал Роске. Дивизия имела хорошо оборудованные позиции, отапливаемые убежища и даже достаточно продуктов. Осмотр Адамом был прерван присланным от Паулюса офицером связи. Когда Адам вошел к командующему, тот сидел, охватив голову руками.
— Адам, вы можете мне объяснить, что это значит? Ко мне поступили сведения из бывшей городской тюрьмы. Там находятся наши генералы, оставшиеся без войск: фон Зайдлиц, Пфеффер, Шлёммер, Дебуа, Лейзер, Элер фон Даниэльс и полковники Штейдле и Болье. Они собираются капитулировать. И хуже того, мне доложил недавно Шмидт. Он говорил только что с командиром 14-го танкового корпуса. Он также намерен капитулировать. Боеприпасы на исходе.
— Что же вы ответили им, господин генерал-полковник?— спросил Адам, пристально взглянув на Паулюса.
— Я еще раз напомнил генералам о приказе Гитлера. Важен каждый день, каждый час, которые позволяют сковывать крупные силы противника.
— Вы действительно верите, господин генерал-полковник, что русские продолжают держать в районе города все те же армии, которые сражались здесь в конце ноября? Ведь размер котла значительно сократился. Чтобы нанести нам смертельный удар, достаточно небольшой части прежних войск. Русское командование хорошо знает о нашем положении. Оно не хочет жертвовать ни одним человеком.
— Да-а-а, вы правы, Адам. Русские отвели часть своих сил. И все же у них здесь еще немало войск. Я был в подвале тюрьмы, где укрываются генералы-капитулянты.
— И вы рисковали жизнью ради этого?
— А что же делать в моем положении, Адам? Вы знаете, что они мне заявили? «Гитлер — преступник!» А кто-то из них, когда я уходил, бросил вслед: «Как обманывали нас, так обманут немецкий народ. Ни газеты, ни радио не расскажут об ужасах, которые мы переживаем. Геббельс постарается изобразить нашу гибель как героический подвиг».
Адаму казалось, что командующий подсознательно разделял эту точку зрения. Трагедию, постигшую армию, постараются скрыть от народа. Но, зная, что это так, Паулюс продолжал слепо повиноваться. Во время беседы между ними офицер связи принес радиограмму главного командования сухопутных сил. В ней говорилось: «Если котел будет разрезан, каждая часть его будет подчинена лично Гитлеру». Надвигались сумерки. Паулюс вызвал своего адъютанта Циммермана.
— Адам, я иду к Шмидту. Прошу вас до моего возвращения уточнить сводку о потерях.
Полковник Адам, оставшись один, долго вышагивал в тяжелом раздумье. Вскоре он вызвал офицеров связи и поставил задачу доставить донесения о потерях из дивизий ему лично.
С улицы доносился гул боя. Он прилег на топчан, устало закрыл глаза, вздремнул.
— Господин полковник! — Адам очнулся. Перед ним стоял офицер связи. — Донесение от 76-й пехотной дивизии.
Адам взял листок бумаги, пробежал его глазами. Ничего конкретного. «Дивизия понесла весьма тяжелые потери». Потом, спустя еще час, на стол ложились новые и новые донесения: «44-я пехотная дивизия разгромлена окончательно», «371-я, 305-я и 376-я пехотные дивизии истреблены», «3-я моторизованная дивизия ведет сдерживающие бои, располагая слабыми группами сопротивления», «С 29-й моторизованной дивизией связи нет».
Адам растерянно перекладывал в папку для доклада командующему эти неопределенные донесения. Что он мог доложить Паулюсу? Главные сведения отсутствовали. Сколько солдат еще оставалось в живых, боеспособных? Сколько танков и самолетов оставалось в распоряжении командующего? Сколько раненых и больных? Сколько в наличии боеприпасов? Имеется ли еще продовольствие? Видно, теперь уже никто не мог дать ответ на эти мучительные вопросы.
Поздним вечером, в темноте, когда Адам шел по подвалу к начальнику штаба армии, чтобы с ним посоветоваться, прежде чем докладывать эти сведения командующему, его кто-то тронул за рукав. Адам зажег карманный фонарик. Перед ним стоял ординарец Шмидта. На вопрос, где начальник штаба, он ответил:
— Генерал Шмидт ушел к генералу Роске. Он докладывал Паулюсу, что будет обсуждать с ним план обороны командного пункта 6-й армии в универмаге. Проходите, господин полковник, — обер-ефрейтор провел Адама в комнату, где жил его начальник. Он указал на стоявший в углу маленький чемодан и открыл его. Адам наклонился и, пораженный, взглянул на солдата. А гот, усмехаясь, сказал с пренебрежением: — Всем подчиненным он приказывает: «Держаться до последнего, капитуляции не будет», а сам уже готов сдаться в плен.
Да, видно, Шмидт считал, что требование драться до последнего человека на него не распространяется. Адам тут же, возмущенный, явился к Паулюсу и доложил ему:
— Я никогда не питал к Шмидту дружеских чувств, но все же считал, что он по-своему последователен. Но в последние тяжелые минуты для армии он показал свое подлинное лицо. Приходится сожалеть, что вы следовали его советам.
— Теперь, Адам, поздно говорить об этом. Конец близок.
* * *
30 января 1943 года, в десятую годовщину взятия власти Гитлером, Шмидт составил в его адрес две телеграммы, а Паулюс подписал их без исправления. Первая из них гласила: «6-я армия, верная присяге Германии, сознавая свою высокую и важную задачу, до последнего человека и до последнего патрона удерживает позиции за фюрера и отечество! Паулюс».
Вторая телеграмма-радиограмма содержала поздравление: «По случаю годовщины взятия вами власти 6-я армия приветствует своего фюрера. Над Сталинградом еще развевается флаг со свастикой. Пусть наша борьба будет нынешним и будущим поколениям примером того, что не следует капитулировать даже в безнадежном положении. Тогда Германия победит. Хайль, мой фюрер. Паулюс, генерал-полковник».
Да, это было ни чем иным, как надругательством над жестокой и трагичной судьбой 6-й армии. Гитлер незамедлительно ответил, поддерживая видимость пафоса умирающей армии: «Мой генерал-полковник Паулюс! Уже теперь весь немецкий народ в глубоком волнении смотрит на этот город. Как всегда в мировой истории, и эта жертва будет не напрасной. Заповедь Клаузевица будет выполнена. Только сейчас германская нация начинает осознавать всю тяжесть этой борьбы и принесет тягчайшие жертвы.
Мысленно всегда с вами и вашими солдатами. Ваш Адольф Гитлер».
Начальник штаба 6-й армии генерал-лейтенант Шмидт ушел от Паулюса, и тут же к нему вошел генерал-майор Роске. Он был бледен.
— Господин генерал-полковник, дивизия больше не в состоянии оказывать сопротивление. Русские танки приближаются к универмагу. — Это конец.
— Благодарю вас, Роске, за все. Передайте мою благодарность своим офицерам и солдатам.
Шмидт уже просил Паулюса начать переговоры с представителями Красной Армии. Полковник Адам сидел неподалеку от Паулюса и бросал в открытую печь служебные бумаги, ордена — рыцарские и немецкие кресты.
— Разрешите, господин генерал-полковник,
Паулюс послушно вытянулся на своем матраце и тут же закрыл глаза, будто бы только ждал этого предложения. Адам решил зайти к генералу Роске. На улицах продолжали грохотать бои.
— Что нового, господин генерал? — обратился он, войдя к нему. Генерал был занят уничтожением теперь уже ненужных ему вещей. Он попросил сигарету и закурил сам.
— Совсем близко, в переулке, метрах в пятидесяти, не более, — сказал Роске, — стоит красный танк. Орудия русских нацелены на наши развалины. Я доложил уже об этом Шмидту. Он просил меня сделать все, чтобы русский танк не открывал огня. Иначе нас ждет верная гибель. Шмидт рекомендовал послать к танку переводчика с белым флагом, чтобы начать переговоры о капитуляции. «Я сам, — уверял меня начальник штаба, — позабочусь об этом».
31 января 1943 года. Семь часов утра. Медленно пробуждается хмурый рассвет. Паулюс еще спит. Адам собрался встать с топчана. Уснуть ему так и не удалось за всю ночь. В это время в двери постучались. Паулюс проснулся. Вошел Шмидт. Он подал командующему лист бумаги и сказал:
— Поздравляю вас с производством в фельдмаршалы. Телеграмма пришла только что.
— Должно быть, это приглашение к самоубийству, — сказал Паулюс, — но я не доставлю им этого удовольствия, — и, побледнев, резко встал. Шмидт переждал переживание своего начальника и добавил:
— Вместе с тем я должен доложить вам, господин генерал-фельдмаршал, русские у нашего порога. Они ждут вашего приглашения. — Шмидт сделал шаг назад и открыл дверь. Вошел русский генерал Ласкин с переводчиком и объявил:
— Все, кто находится здесь, военнопленные!
Адам подошел к столу и положил три пистолета.
— Подготовьтесь к отъезду, — сказал Ласкин, — я заберу вас часов в девять. Если хотите, вы можете поехать на своей машине.
Ласкин и переводчик ушли. Адам попросил у Паулюса его солдатскую книжку и вписал в нее последнее звание после «генерал-полковник» — «генерал-фельдмаршал» и скрепил печатью. Ее он тут же бросил в горящую печь.
Полковнику Адаму не терпелось узнать подробности пленения, и он тут же отправился к Роске, который ему рассказал. Шмидт приказал переводчику пойти к командиру советского танка. Переводчик помахал белым флагом и подошел к танку.
— Прекратите огонь! У меня есть для вас чрезвычайно важное дело. Повышение и орден вам обеспечены. Вы можете пойти со мной и взять в плен командующего и штаб 6-й армии.
Генерал Роске задумался. Потом продолжил: «В пять часов сорок пять минут была передана последняя радиограмма: «У порога дверей русский, все уничтожено!» Тут же радиостанция была разбита».
Полковник Адам вернулся в штаб. Все сели в приготовленные немецкие автомашины. В первой Паулюс со Шмидтом и генерал Ласкин с шофером. Во второй полковник Адам со старшим лейтенантом советских войск. В грузовую сели офицеры и солдаты из охраны бывшего штаба 6-й армии.
Когда следовали среди развалин города, полковник Адам смотрел и не верил своим глазам. Он увидел, как самые яростные враги, которые только что истребляли друг друга, мирно объяснялись жестами. Советские солдаты давали немцам хлеб и, улыбаясь, делились махоркой. Для него, как и для офицеров, наблюдавших эту картину, оставалось все непонятным: и эта страна, и ее люди.
Шум боя окончательно затих, и установилась мертвая тишина.
Южный котел больше уже не существовал.
3
Велика у человека сила привычки не только в обычной жизни, но и на войне. Она дает себя знать на каждом шагу. Привычка— это истина — сродни второй натуре. И никуда и никто не уйдет из-под власти ее незримых законов. Если говорить о прошлом воинов дивизии Бурунова, Да и только ли воинов этого соединения, это в прошлом почти все они имели самые различные мирные профессии. Но за время сталинградских боев, сами не зная и не ведая, превратились в одержимых воинов, желающих помериться с врагом военной силой. Одни воевали здесь с первых дней — почти полгода, а некоторые пришли с последним пополнением — два месяца назад, в канун наступления, но всех их объединяло единое чувство ненависти к врагу, и все они были пропитаны духом воинственности, приняв его на вооружение для себя как главную черту своего характера, как главную цель своей жизни.
Но вот уже прошла неделя, как в донских степях, под Сталинградом и в его окрестностях, да и на Волге, стояла мертвая до глухоты тишина. Немецкие войска были окончательно разгромлены, повержены их укрепления, разрушены и уничтожены позиции, а оставшаяся техника застыла неподвижной грудой мертвого металла на дорогах и полях. Впервые за долгие месяцы битвы она никому больше не угрожала. А те, кому она принадлежала, кто направлял ее смертоносную силу, змеехвостыми колоннами пленных плелись уже далеко от Сталинграда, в пункты последнего назначения — лагеря военнопленных.
В эти очень уж непривычные для сталинградцев дни все — от бойца до командира любого ранга — тяготились вдруг внезапно пришедшей тишиной и окончанием войны там, где сражались долгие годы и ночи, кто здесь не единожды пролил свою кровь, вспоминали с горечью и тех, кто на этой земле отдал свою жизнь. По-прежнему, как и во времена боевой страды, наши воины, когда спали, ходили во сне в атаку, поминая святое имя Родины-матери. По ночам многие нередко вскакивали сонные и били кулаками своих ни в чем не повинных рядом лежащих товарищей. А спящие стонали от боли когда-то полученных ран. По-прежнему солдаты проявляли жадность к пище и могли спать беспробудно по нескольку суток кряду, не в силах избавиться от сохранившегося чувства постоянной переутомленности. Командиры болели тяжелой фронтовой болезнью — боевая напряженность. Они водили в атаки и отбивали контратаки во сне, командуя только им известными войсками и людьми, которые уже подчинены другим, и даже теми, которых уже не было в живых.
Казалось бы, людям, испытавшим все тяготы войны, пережившим небывалые лишения, теперь только спать да набираться сил. Но они не в состоянии были справиться сами с собой и продолжали прежнюю боевую жизнь, подчиняясь силе и законам фронтовой инерции. Как ни странно, но многие приходили с просьбами поручить им какое-либо боевое задание. А какое можно было дать им задание, если фронт отодвинулся от Волги на несколько километров, а они получили право на короткий отдых до того, когда снова начнут формировать их в новые полки и дивизии. Пока не кончалась война здесь для одной профессии — саперов. Они еще долгие годы будут иметь боевые задания.
На следующий день после митинга победителей на площади Павших борцов в Сталинграде дивизия Бурунова, как и многие другие дивизии, была отведена за Ахтубу для отдыха и пополнения. Началось мирное и довольно-таки сложное «сражение» за внешний вид бойцов и командиров. В тех условиях оно было не из легких. Бань нет, обмундирование старое, а тут ввели в феврале для войск новое обмундирование и погоны.
Командир батальона старший лейтенант Еж вызвал к себе командиров рот и взводов. Среди них Горицвет и Куралесин, которым недавно было присвоено звание младших лейтенантов. Еж, в сапожках с короткими голенищами, со шпорами и в шароварах с напуском, в полушубке и новых погонах, сбитой на левое ухо ушанке, выглядел щеголевато. Довольный, он оглядел всех веселыми глазами.
— Товарищи офицеры! — Все переглянулись, заулыбались. (Слово «офицер» звучало тогда очень уж непривычно.)
«Чудно як-то слухаты такэ, Артэм, — зашептал Горицвет, — охвицэры».
— Говорят, в долгих речах и короткого толку нет, — обратился Еж. — Постараюсь короче. Нам дают две недели, чтобы привести себя в полный порядок. Двадцать вторую годовщину Красной Армии надо встретить, как положено гвардейцам. Вопросы?
— Ясно.
— Тогда свободны. За дело, товарищи! Все свободны!
Бывалым солдатам-фронтовикам смекалки не занимать. Привыкли они в армии, а тем более на войне все делать своими руками. Там, глядишь, докапывают воронку, приспосабливая ее под баню, там достраивают жилой блиндаж. В землянках идет вовсю портновская работа. Сапожники чинили разбитую до основания обувь. Все бойцы торопились сделать главное — пришить на гимнастерки и шинели новые погоны. Всем не терпелось посмотреть, как это выглядит. Впопыхах, бывало, пришивали и наоборот, не зная, как еще и куда их точно прилаживать. Бойцы осмеяли неудачливого товарища и не заметили, как к ним подошел их командир взвода Горицвет, а вслед за ним, как тень, комбат Еж. Горицвет поглядел на горе-портного.
— Це що такэ вы робите, товарищ…
— Ветров, — подсказал фамилию бойца подошедший Еж. Он потрогал бойца за погоны и сказал: — Пекла, кажись, пирожки, а вышли крышки на горшки.
Во взводе Куралесина был организован целый парикмахерский комбинат. Пять парикмахеров без устали работали по десять-пятнадцать часов подряд, но все же не успевали обслуживать желающих «омолодиться». Двое были настоящими мастерами парикмахерского дела: Бухбиндер и Аветисян. Они пользовались особым спросом. Оба до войны работали в первоклассных парикмахерских. Один — в Одессе, другой — в Ереване.
Старший лейтенант Еж подбадривал мастеров-самоучек:
— Не боги горшки обжигают. Учись у них, ребята, красоту делать!
— Больно коряво, товарищ старший лейтенант, у них получается, — жаловался один боец. — Постригли меня, глядите, голова будто в лестницах, ухо чуть не отстригли. — Он дергал рукой прилепленную бумажку.
Еж подморгнул, лукаво улыбаясь начинающему парикмахеру.
— Каков мастер, такова и работа! Кто как умеет, тот так и бреет.
Бухбиндер тоже заступился за коллегу:
— Вы что хотели, бесплатно да еще с массажем, одеколончиком и укладкой а ля Курьер? — Он весело подмигнул. — Приезжайте к нам в Одессу. О, вы не представляете, что в день победы будет твориться в Одессе!
— Давай кончай про Одессу! Гляди, какой у тебя хвост!
К расчувствовавшемуся в воспоминаниях одесситу стояла очередь человек пятьдесят или шестьдесят.
4
Две недели, отпущенные командованием на приведение в порядок дивизии, пролетели быстро. И вот выстроились войска Бурунова на парад. Наступили волнующие, торжественные минуты 23 февраля 1943 года. Стройные шеренги бойцов движутся к ровной площадке плаца. Впереди в новой форме офицеры. На плечах еще совсем для всех чужие, непривычные знаки различия — погоны. Оркестр гремит, полощутся по ветру знамена полков и дивизий. Небольшая, сбитая из досок трибуна. На ней командир дивизии Бурунов, комиссар дивизии Ларионов вместо отозванного в армию Саранцева, командиры полков: подполковник Коломыченко, подполковник Цветков и новый командир полка майор Маринин. А в строю, присмотрись только, стоят многие ветераны дивизии. Их не перечесть. В батальоне Ежа две роты — Куралесина и Горицвета — стояли рядом. Утро было солнечным, морозным. На душе у всех тепло и радостно. Вот он и наступил наконец, тот долгожданный, выстраданный, омытый кровью своей и павших в бою товарищей праздник. Вперед на трибуну вышел Бурунов. Он, улыбаясь, поприветствовал всех поднятой рукой.
— Дорогие товарищи бойцы, сержанты и офицеры! Поздравляю вас всех с праздником — годовщиной Красной Армии! — Его слова прерывали раскаты дружного «ура!».
— Может, некоторые сейчас, наверно, думают: а зачем нам этот парад? Мы отвыкли от торжества, наше дело солдатское — воевать, а не красоваться тут на парадах. Какое имеет отношение парад сегодня к тому, что мы завершили сражение на Волге?
Бурунов пристально оглядел шеренги бойцов.
— Самое прямое. Наша гвардейская дивизия, оборонявшая город в суровой, а нередко неравной борьбе с сильным, коварным врагом — отборными полчищами немецко-фашистских войск, сохранила свою боевую мощь, воинскую дисциплину, и этот парад является ее итоговым смотром после упорных сталинградских боев, смотром готовности для последующих сражений с фашистами, до полного изгнания их с родной Советской земли. Нашей дивизией командовал в прошлом полковник, ныне генерал-майор Канашов, которому в последних боях присвоено звание Героя Советского Союза. Десятки тысяч наших бойцов и командиров отмечены высокими наградами Родины, а четырем из них присвоено звание Героя Советского Союза. Так будем достойными той великой чести, какой удостоены мы, гвардейцы! Не посрамим перед народом и партией своего священного знамени!
Бурунов тронул за руку Ларионова. Тот подошел к перилам, широко улыбаясь, взялся руками, наклоняясь вперед.
— Дорогие товарищи гвардейцы! Дни самых тяжелых боев и испытаний остались позади. — Он махнул рукой на запад, в сторону города. — Во веки веков слава героям Сталинграда, чьей кровью завоевана победа! Слава нашим бойцам и командирам! Слава нашей большевистской партии! Разрешите, дорогие товарищи, прочесть стихи бывшего нашего однополчанина майора Миронова. Сейчас он в госпитале и прислал свои стихи в нашу дивизионную газету. Он посвящает их воинам-сталинградцам.
О, вы, штандарты прошлых лет России, войн былых награда,
Развеян нами гитлеровцев след,
Над миром плещет Знамя Сталинграда.
Огни его горят, как ордена.
Он боевой наследник нашей славы,
В нем ветер, залетевший от Полтавы,
И дым пороховой Бородина.
Бойцы родные! Перед Сталинградом,
Из уваженья к Знамени его,
Склоните головы, знамена для того.
Чтобы всегда они шумели с вами рядом
Чтобы, себя бессмертием покрыв,
За честь страны фашистов гнали бы ораву,
Священен в ярости наш боевой порыв.
Здесь честь рождает честь, а слава и славу.
Четким строевым шагом проходили ровные шеренги подразделений мимо трибуны, вдоль правого крутого берега Волги. На стене были выложены из камня белые буквы: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Бурунова». А дальше к переправе, против Мамаева кургана, светилась еще одна надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, они победили смерть!»
Каждый воин, проходивший мимо этих надписей, молчаливо, с горечью прощался с городом, с которым навечно связывала его судьба в дни самых тяжелых военных испытаний.
«Прощай, Сталинград, прощай, измученный, разбитый, разрушенный войной город. Удастся ли нам увидеть тебя, когда и каким? Прощай, Волга, прощайте, боевые друзья и товарищи, лежащие в земле, начиненной осколками и пулями, земле, пропитанной кровью народной. Скоро наша дорога повернет на запад. Нам предстоит еще долго идти по нашей и по чужой земле. Не всем нам удастся дойти до заветной цели, дожить до полной победы. Но все мы верим, если и не посчастливится кому-то из нас, то нашим товарищам по оружию удастся свято выполнить свой долг перед матерью Родиной».
Москва— Новосибирск — Бердск— Новый Поселок.
Москва 1960— 1965 гг.

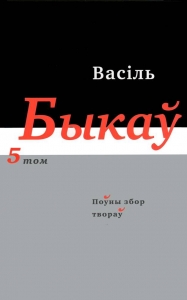



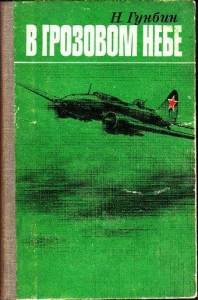
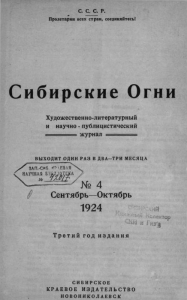
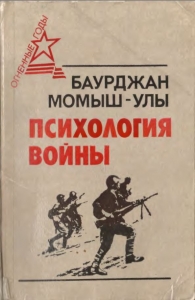



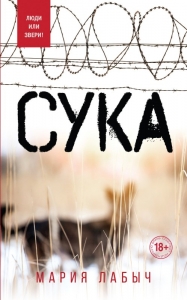
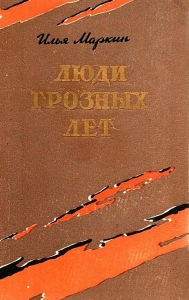
Комментарии к книге «Годы испытаний. Книга 3. Разгром», Геннадий Иванович Гончаренко
Всего 0 комментариев