Холодный апрель
ХОЛОДНЫЙ АПРЕЛЬ Роман
I
Казалось, всю Польшу завалило снегом. Едва поезд отошел от станции Катовице, тихой, пустынной, где долговязый польский пограничник без слов шлепнул в паспорте фиолетовый штамп, как окна вагона затянула серая муть, скрывшая исполосованные поля, редкие лесопосадки, хутора, одинокие, словно озябшие на этом не по-весеннему холодном ветру.
А час назад в Бресте было еще тепло и сухо. Вчера в Москве вовсю светило солнце, и Александр сердился на жену, совавшую ему в чемодан теплый свитер: все-таки едет он туда, где и зимой-то холодов не бывает. И вот как угадала жена: не успел пересечь границу, пожалуйста, снег.
Хоть и не видно было ничего, но Александр не отходил от окна, все стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу.
Встречи с этой границей он ждал еще в Москве. Брест! Трагической памяти река Буг! Нет, он не воевал тут, он вообще не воевал, под стол пешком ходил, когда была война. Но столько читал про войну, что стала она словно бы частью и его собственной биографии. А река Буг в особенности. Ему все казалось, что именно на Буге воевал отец. На немногих отцовских письмах не было никаких географических указаний, и можно было предполагать любое место.
И все-таки он прозевал, загляделся на пограничников, осматривавших стоявший на соседних путях товарный состав. Была насыпь, огороженная колючей проволокой, болотистые промоины, серая клочковатая щетина кустарников, серая же вода внизу. И когда замелькали перед глазами раскосины моста, он спохватился: батюшки, так это же и есть самая граница, это же и есть Буг! Пока ловил в себе необходимое волнение, которое, по его мнению, непременно должно было охватить его, мост кончился, неширокая река исчезла за кустами, и Александр с неожиданным для себя спокойствием констатировал: за окном — Польша.
У него застыл лоб от холодного стекла, но он все смотрел в снежную круговерть, выбелившую поля, скрывшую не то что горизонт, но недальнюю даль. И в который раз уже удивлялся: как это его угораздило поехать? Не просто к друзьям-славянам, не в какую-либо социалистическую страну, а в самую что ни на есть Западную Германию.
— Снег-то хорошо, пожалуй, — услышал хрипловатый голос. Оглянулся, увидел рядом человека из соседнего купе, одетого подчеркнуто аккуратно: в костюме, с ярким галстуком. Для вагона, где все ходят в чем попало, это выглядело необычно.
— Чего ж хорошего, холодина, — ответил Александр.
— Больше снега на полях — больше хлеба в закромах, — сказал сосед совершенно серьезно.
Александр промолчал. Он не любил и побаивался людей, говорящих расхожими формулами.
— Польше никак нельзя без урожая. Вы думаете, там кончилось? Ничего подобного. Любой хозяйственный срыв вызовет новую волну забастовок. Опять вводить военное положение?
Снова Александр не ответил. Никак не верилось, что в этом огромном, пустом, завороженном белизной и холодом пространстве могут гореть какие-то страсти.
— Вы далеко едете? — переменил сосед тему разговора.
— До Ганновера. Там пересадка.
— У меня тоже в Ганновере пересадка.
— А потом куда? — Александр было обрадовался: все-таки не один в чужом городе, в чужой стране. Его почему-то страшила именно эта пересадка в Ганновере, где надо было ночью дожидаться поезда на Ольденбург и где, как ему наговорили еще в Москве, нет никакого зала ожидания.
— Мне на Гёттинген. А вам?
— Мне в другую сторону.
— Жаль. А то ведь меня встретят на машине, вместе бы и доехали.
— Не судьба.
— Не судьба, — усмехнулся сосед. Улыбка у него была какой-то странной, кривобокой, словно он собирался заплакать. — В командировку?
— По приглашению.
— Родственники?
— Просто знакомые.
Сосед с интересом посмотрел на него.
— К знакомым не больно-то пускают. Нахлопотались?
— Было дело.
— Если всех ко всем пускать, кто кого ни позовет, это что же будет?
Александр пожал плечами.
— Добрососедство будет, — не дождавшись ответа, сказал сосед. — Доброжелательство будет, о котором у нас так много говорят. Недоверие всегда рождается незнанием, не так ли?
— Похоже, что так.
— А у нас не больно-то поощряется, чтобы люди общались на личностном уровне.
— Кому надо, наверное, общаются, — осторожно сказал Александр. Теперь его пугал этот человек. Кто знает, чего он хочет? Может, нарочно выспрашивает, чтобы потом поймать за язык. Сколько дома предупреждали, особенно жена: «Не болтай лишнего, заграница она и есть заграница, там в два счета заговорят, а потом спровоцируют». — «Кому я нужен!» — отмахивался он. А жена все свое: «Ты такой неосторожный, такой доверчивый…»
Он откачнулся от окна, потянулся.
— Теперь самое время поспать.
Подумал: «Ну его к дьяволу, этого соседа».
Постучал в дверь купе и вошел, не дожидаясь, когда откроют изнутри. Соседка — толстая яркая женщина — сидела на своей нижней полке и плакала. Ее в Бресте особенно трясли таможенники, заставляли выворачивать чемоданы, и теперь столик, и пол, и вся ее полка были завалены вещами. Ехала она к каким-то своим родственникам в Париж. Вчера в Москве, когда садились в поезд, провожавшие ее здоровенные ребята натаскали в купе коробок, свертков, чемоданов, вызвав в душе Александра глухое раздражение: и так купе тесное, а теперь и вовсе не повернешься. И он, не без злорадства перешагнув через нагромождения вещей, забрался на свою верхнюю полку с твердым намерением уснуть и не видеть ничего этого.
Вагон кидало на стрелках, и Александр побаивался, как бы не свалиться. Просунул правую руку в широкую щель между полкой и стеной и так, держась, постарался заснуть. Но не спалось. Удивление, что он таки выхлопотал эту поездку за границу, не проходило, и мысли все возвращались к тому первому дню, с которого, собственно, все и началось.
День был тогда жаркий, и он, помнится, достал из холодильника трехлитровую банку с квасом, налил себе большую керамическую кружку.
— Осторожней, — сказала жена, — горло заболит.
Но он так хотел пить, что глотнул сразу много и закашлялся.
— Я так и знала! — воскликнула жена таким тоном, словно был он мальчишкой, которого учить да учить. Самоуверенность его Татьяны не знала предела и всегда раздражала.
И тут зазвонил телефон.
Теперь он точно знал: с этого телефонного звонка все и началось. Не будь его, не было бы, пожалуй, и цепи событий, которые привели его в этот вагон, в этот поезд, бегущий через заснеженную Польшу на запад.
Он не сразу узнал голос Бориса Воробьева, своего старого приятеля.
— Случилось такое… такое… я пять лет ждал…
— Чего ты ждал?
— Это в двух словах не расскажешь, это надо встретиться.
— Ладно, встретимся как-нибудь…
— Ты что?! — завопил Борис. — Сейчас приезжай, прямо сейчас!
— Куда приезжать? — Он хотел сказать «зачем приезжать?», но употребил другое вопросительное слово и тут же понял, что великий русский язык подвел его: интонация, меняющая смысл фразы, не прозвучала по телефону и вместо удивленного возмущения получился заинтересованный вопрос.
— Давай ко мне.
Борис жил у черта на куличках — в Лианозове, и теперь у Александра вырвалось:
— Ты что?!
— Тогда давай посередине.
Посередине — значило в центре города, у метро «Кузнецкий мост», где они обычно встречались.
— Ладно…
Уже положив трубку, Александр подумал, что зря согласился на Кузнецкий, поскольку поедет на машине, а там в улицах некуда и приткнуться. Набрал номер Бориса, но телефон не отвечал, видно, звонил он не из дома. Подумал: не поехать ли на метро, но тут в прихожую влетела Нелька, промчалась на кухню, обдав его ароматом французских духов, которые она, стоило жене отвернуться, частенько открывала «только понюхать».
— Пап, я с тобой. Ты ведь до центра.
Нельке было уже шестнадцать лет, и все шестнадцать лет он мучился тем, что не мог ни в чем отказать дочери. Жена пилила его за «безволие», а Нелька бесстыдно пользовалась им. Бывали и семейные конфликты на этой почве («хочешь быть хорошим, а я всегда плоха перед дочкой?!»), были и его обещания перестроиться. И все напрасно. Лишь однажды в какой-то тяжкий для себя момент он резко возразил Нельке, даже шлепнул ее по мягкому месту. И до сих пор, вспоминая тот срыв, морщился, как от зубной боли, мотал головой и ругал себя последними словами.
— Так ведь мне встретиться надо…
— А я выскочу где-нибудь.
Машина только по названию была машиной — старенький «Запорожец», «консервная банка», по терминологии автомобилистов, — но бегала она безотказно, и Александр так привык к ее домашнему тарахтению, что его не прельщали даже кокетливые обводы «Жигулей». И если бы не Нелька… Впрочем, вопрос о новой машине частенько стоял на семейных советах.
— Да я еще не знаю, поеду ли…
— Не спорь, папочка! — Нелька чмокнула его в щеку, пробежала в комнату, что-то посовала в свою брезентовую сумку, которую считала страшно модной и которой Александр не переставал стыдиться, считая ее похожей на нищенскую суму. Потом Нелька снова пробежала на кухню, нырнула в холодильник, что-то выхватила оттуда, сунула в рот.
— Не хлопай холодильником! — крикнула из комнаты жена. — Это тебе не автомобиль!
Нелька что-то промычала набитым ртом и выскочила на лестницу. Сердитый на себя за то, что не смог отказаться от встречи с Борисом, не смог возразить Нельке, Александр спустился вниз, нарочито медля, начал отпирать дверцу автомобиля. Нелька нетерпеливо топталась с другой стороны, дергала ручку дверцы. Когда освободился запор, она быстро, словно ее там кусали собаки, нырнула на переднее сиденье, треснула дверцей.
— Не хлопай, это тебе не холодильник, — проворчал он.
— Ну родители!
Нелька захохотала так заливисто, что он сразу простил ей и тоже засмеялся тихо, счастливо. Когда смеялась, Нелька напоминала жену. Точнее, ту девчонку, в которую он влюбился двадцать лет назад. Влюбился как раз за такой вот смех. Но, став женой, его Татьяна никогда больше так не смеялась. И вот теперь это возмещала Нелька.
Бориса увидели, еще когда пробирались по забитому машинами Кузнецкому мосту. Едва Александр приткнул свой «Запорожец» к тротуару в тихой соседней улочке Жданова, как Борис уже открывал снаружи дверцу. Он втиснулся в машину, сдвинув Нельку.
— Что у тебя стряслось?
— Это в двух словах не расскажешь, — сказал Борис, покосившись на Нельку. И Александр понял: предстоит мужской разговор.
— Ты хотела выскочить, — напомнил он дочери.
— Еще успею.
— Посидим где-нибудь? — предложил Борис.
— Где посидим?
— Это же центр, тут полно ресторанов.
— Так я же за рулем.
— Э-э, можешь не пить.
— В чем хоть дело-то? Женился, что ли?
— Пока нет.
— Пока! Это уже кое-что, звучит обнадеживающе.
Борис был закоренелым холостяком, жил одиноко в своей крохотной кооперативной квартирке, и сколько ни приводили к нему невест, все уходили ни с чем.
Нелька, изогнувшись змейкой, скользнула на заднее сиденье.
— Тебе не кажется, что пора уже уходить? — напомнил ей Александр.
— Куда? — наивно удивилась она.
— Откуда я знаю?
— Не знаешь, а говоришь.
— Пускай сидит, — засмеялся Борис. — А мы пойдем.
— Что я вам, сторож? Я тоже пойду в ресторан.
— Не рано тебе по ресторанам-то ходить?
— Не рано. А то пригласят меня, а я не знаю, что там и делать.
— Кто пригласит? — спросил Александр.
— Кто-нибудь.
— Твоя мать до двадцати лет ни разу не была в ресторане.
— Моя мама в двадцать два года уже меня родила, — возразила Нелька.
— Да шут с ней, — сказал Борис. — Пускай идет.
— Мерси!
Александр промолчал. Он бы не возражал, да ведь Нелька не утерпит, сегодня же похвастается матери, и придется ему давать ответ дома по всей строгости.
— А, семь бед — один ответ! — махнул он рукой.
Ближним рестораном был «Берлин». Но там на дверях висела табличка: «Обслуживаются интуристы». В приоткрытых дверях стоял швейцар, солидный, как генерал в отставке.
— Энтшульдиген зи, битте![1] — сказал Александр.
Дверь приоткрылась.
— Майн фройнд мёхтет хир миттагэссен. Гештатен зи?[2]
Он шагнул в дверь, оттеснив швейцара, вынул из кармана шариковую импортную авторучку, купленную накануне.
— Битте, презент[3].
И прошел мимо зеркал к входу в зал. Услышал сзади жалобный писк:
— Па-а?!
Оглянулся. Швейцар держал дверь, загораживая Нельке вход.
— Дас ист майне тохтер[4].
— Пардон, — сказал швейцар и пропустил Нельку.
Ресторан был наполовину пуст. Они заняли столик, на котором не было таблички с надписью «Reserviert». Но подошел метрдотель и попросил их пересесть за другой столик.
— Майн фройнд, — снова начал он. Но Борис как-то по-особому подмигнул ему, и он сразу понял: метрдотеля надо послушаться. Потому что потом, кто бы что ни сказал, можно будет ответить: нас сюда посадил сам метрдотель.
— Ну ты даешь, па! — восхищенно прошептала Нелька, когда они успокоились за другим столиком. Собственно, это был даже не столик, а столище: по ту сторону широкой белой скатерти стояло еще четыре тяжелых стула. Нелька тотчас взгромоздила на эту белизну свою суму, но, видно, сама поняла, что ей тут не место, скинула сумку на стул. — Как ты хорошо по-немецки-то!..
— В школе надо как следует учиться, — назидательно сказал Борис. — Твой отец всегда был отличником. Поэтому он такой везучий.
— Ты везучий, па?
— Ему лучше знать.
— Да, мне лучше знать. — Борис откинулся на стуле, огляделся и закурил. — Но и мы тоже не лыком шиты. Мне сегодня тоже повезло. Точнее, вчера, — добавил он, почему-то покосившись на Нельку.
— Что у тебя, выкладывай.
— Ты занавески помнишь? — медленно, со значением выговорил он и снова покосился на Нельку.
— Какие занавески?
— Мои, конечно.
— Ну.
— Что «ну»? Помнишь или нет?
— Помню, кажется.
— Кажется… Ну, тебе простительно, ты не женщина.
— Говори яснее.
— Что тебе говорить, если ты все забыл. Я же тебе рассказывал про эти занавески.
— Ты много чего рассказывал, все не упомнишь.
— М-да, друг называется. — Он снова покосился на Нельку, и Александр догадался, что речь, как видно, об очередном романе старого холостяка, о котором при Нельке не расскажешь.
— Меняй пластинку, — сказал он.
— Менять так менять. — Борис закурил, еще больше сполз со стула, оглядел высоченный лепной потолок, широким жестом обвел зал и многозначительно изрек: — «Обслуживаются только интуристы»! Ты вроде бы знаток истории. Скажи, с каких это пор на Руси все лучшее — иностранцам?
— С петровских, — сразу ответил Александр. — Петр прорубил окно в Европу, но не догадался сделать ставни. И Европа хлынула на неподготовленную Русь.
— Петр — это же хорошо, — вмешалась Нелька.
— Хорошо, плохо… — поморщился Александр. — Я тебе уже толковал: нельзя так судить о людях, тем более об исторических личностях. — И повернулся к Борису: — Карамзин писал, что после Петра мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России.
Борис подмигнул Нельке.
— Ну, теперь нам не будет скучно. Твой папочка может сутками говорить на душеспасительные темы.
— Я знаю.
— Что ты знаешь? — изумился Александр.
— Все знаю.
— Скажи, пожалуйста! Откуда?
— Мама говорила.
Александр дурашливо развел руками.
— Ну, раз мама говорила… Она у нас все знает.
Наступила неловкая пауза. Вроде бы ничего не произошло, просто перекинулись несколькими шутливыми фразами, а непринужденность разговора исчезла. Борис пускал свои колечки дыма, Нелька глазела по сторонам, Александр скучающе разглаживал пальцами складку на скатерти, думая о том, что напрасно помчался по первому зову Бориса. Сидел бы сейчас в своем любимом кресле, читал начатый недавно толстый том материалов для биографии Петра I академика Богословского. Ему и в самом деле давно не давала покоя мысль: с чего началось увлечение Петра заграницей? Царь-преобразователь — умный и энергичный противник консервативной старины — это определилось потом. Но ведь с чего-то все начиналось? Месяц назад Александру удалось купить в букинистическом второй том этих материалов, толстущий, на 600 страниц, посвященный первому заграничному путешествию 25-летнего царя. И теперь он зачитывался этой книжкой, как в молодости «Тремя мушкетерами». При Петре что-то ушло плохое из жизни народа, что-то сломалось хорошее. И Александр все не мог отделаться от мысли, что многое хорошее и плохое в нашей сегодняшней жизни уходит корнями туда, в Петровскую эпоху. Словно между теми и этими годами натянута струна, которую в каком месте ни тронь, звенит вся, целиком…
— Па, чего они смотрят на нас? — спросила Нелька.
— Кто смотрит?
— Да вон эти. — Она мотнула головой куда-то налево.
Александр оглянулся и сам уставился на трех женщин, сидевших за соседним столом. Точнее, уставился на одну — симпатичнейшую иностраночку в мягкой — так и хотелось потрогать, — серебристой курточке. Лишь мельком увидел рядом с ней сухощавую пожилую женщину с очками на тонком вытянутом лице и такую же пожилую, только без очков, круглолицую. И снова глаза его сами собой перебежали к серебристой курточке. Он смотрел на них, они, все три женщины, смотрели на него, и было в этом взаимном рассматривании что-то неестественное, беспокоящее.
— Ишь как они на тебя уставились! — сказал Борис.
— Почему на меня? Я человек женатый.
— Они же этого не знают.
— Ничего, посмотрят да перестанут.
Подошел официант, и Борис увлеченно начал заказывать разные блюда: и салатик, и осетринку, и что-нибудь бодрящее.
— На меня не рассчитывай, я за рулем, — сказал Александр.
— А ты? — спросил Борис Нельку.
— Я как все, — бодро ответила она.
— Рано еще как все-то, — проворчал Александр.
— Та-ак, и чего-нибудь еще этакое…
— Карпа возьмите, — посоветовал официант. — Прекрасный карп.
— Сто лет не ел карпа. Давайте. И еще кофеечек, и на десерт что-нибудь.
— Ушки возьмите.
— Что это такое? Впрочем, неважно, ушки так ушки. А? Чего еще? — оглядел он своих сотрапезников. Бросил быстрый взгляд на соседний стол. — Все смотрят. Небось завидуют.
— Твоему купеческому размаху, — сказал Александр.
— Мне можно, у меня сегодня праздник.
— Что хоть случилось-то?
— Вот закажем и пойдем покурим, — пообещал Борис.
Но пойти покурить им сразу не удалось. Только собрались, как официант принес в сачке, вложенном в блюдо, три больших живых карпа, спросил, подойдут ли такие. Все трое они потрогали карпов, словно умели определить, какими карпы будут зажаренными.
— Зачем их нам показывать? — пожал плечами Александр.
Официант не удостоил его ответа, ушел. Ответил Борис:
— Вероятно, здесь считается, что приятней есть того, с кем ты был знаком.
— Как я узнаю, этих ли они зажарили?
— Неважно. Главное — удовлетворить твое тщеславие и оправдать высокую стоимость блюда.
— На кой ты его заказывал, если высокая?
— Сегодня — особый день. — Он легко встал, дурашливо поклонился Нельке. — Мисс, мы вас оставим на пару минут.
В коридорчике при входе, где за широкой загородкой темнели пустые зевы раздевалки, топтался швейцар, и, поскольку уединиться больше было негде, Борис потянул Александра в туалет, пахнущий сладковатым освежителем воздуха. Там, прижав его в простенок между раковиной умывальника и эмалированным рукосушителем, висевшим на стене, заговорил горячо и сбивчиво:
— Занавеску помнишь? Ту самую, что у меня на кухне… Да ничего в ней особенного! — махнул он рукой, словно Александр уже обсуждал интерьер Борисовой квартиры. — Занавеска как занавеска, грязная, не приведи бог. Я ее пять лет не снимал. И рваная с одной стороны, поскольку я ее за гвоздик цеплял каждый вечер. Неужели не помнишь? Я же тебе говорил.
— Помню, помню, — поторопился признаться Александр, чтобы сократить затянувшуюся тираду. Хотя, убей бог, не помнил он этой занавески, просто не интересовался обстановкой, когда бывал у Бориса. Как не всегда замечал изменения и в своем доме.
— Так вот, помнишь, я тебе говорил, что не сниму занавеску, пока это не догадается сделать женская рука?
— Ну-ну. — Он начал что-то припоминать, что-то конкретное всплыло в памяти из многочисленных Борисовых чудачеств. — Догадалась?
— Представь себе. Пять лет они, заразы, глядели на эту занавеску, иногда и говорили о ней, ругали меня за неряшливость. А я молчал, думал: погляжу, какие вы не неряхи. И хоть бы одна. А сегодня прихожу домой, — батюшки, голубая, с цветочками…
— Отличный метод. Теперь давай скатерть на столе или покрывало на кровати. Не пройдет и пяти лет…
— Эх, а еще друг, — обиделся Борис. — Когда ты ко мне приставал: женись, — я что отвечал? Смеялся? Я серьезно говорил: найдется такая, которая занавеску догадается сменить, женюсь. Мне хозяйственная и заботливая нужна, а не какая-нибудь вертихвостка.
— Поздравляю. Значит, женишься?
— При чем тут это?! Я тебе серьезно говорю, что есть, оказывается, заботливые и хозяйственные.
— И я серьезно: раз обещал — женись.
— Так это я тебе говорил, не ей же.
— Отказываешься от своих слов?
— Там видно будет. Это вообще неважно. Важно, что я дождался наконец. Пять лет ждал…
— Значит, не женишься и никакого праздника нету?
— Обижаешь, хозяин. Праздник — это само собой, а женитьба — дело десятое. Пока давай отпразднуем событие, а там будем думать…
Они вернулись в зал ресторана и еще от дверей увидели новшество: за их столом, напротив Нельки, сидели те самые три иностранки, что глазели на них из-за другого стола.
— Па, — сказала Нелька, — тут этот дяденька приходил, что нас сюда посадил, спросил, не будем ли мы возражать, если они к нам сядут. Я сказала, что не будем. Правильно? — При этом она стрельнула глазом на серебристую курточку напротив, и Александр понял: все дело в этой самой курточке. Не будь ее, Нелька наверняка не решилась бы отвечать метрдотелю столь категорично.
— Ничего, больше народу — лучше праздник, — сказал Борис.
— Праздник молчком. О чем с ними поговорить?
Очкастая что-то шепнула молодой, и та вдруг изрекла:
— Эпоха царь Питер.
Александр уставился на нее, как на диво заморское, забыв о приличиях. Она улыбнулась ему, мило приоткрыв рот, и провела пальцем по нижней губе. Получился этот ее жест двусмысленным, заговорщическим.
— Извините, пожалуйста, — сказала по-русски женщина, сидевшая рядом. — Я — переводчица, а эти две женщины, — она качнула головой направо и налево, — наши гостьи из Западной Германии.
— Это хорошо, что из Германии, — обрадовался Борис. — Мой друг говорит по-немецки.
— Мы это поняли, — улыбнулась переводчица. — И потому попросили разрешения сесть за ваш стол. Вы не возражаете?
— Мы очень рады, — жеманно поклонился Борис.
Александр молчал. Немецкий он и в самом деле немного знал. Не потому выучил, что так уж любил его. Просто в школе, где учился, другого иностранного не преподавали. Потом и в институте пришлось учить немецкий. Хотя в моде был уже английский. Было и еще одно обстоятельство, заставлявшее его оставаться верным немецкому, — письма отца, погибшего в войну. Он еще и читать не умел, а уже знал наизусть эти письма. Мать пересказывала их ему каждый День Победы, каждый день рождения отца и вообще каждый раз, как представлялся случай. До войны отец преподавал немецкий язык в школе и писал в письмах, что знание языка помогает ему бить врага.
«Учи Сашку немецкому языку, — писал отец матери в одном из писем. — Чтобы победить врага, надо знать его…»
— Кроме того, наши гостьи, — снова кивки направо и налево, — заинтересовались вашей беседой о Петре Первом. Дело в том, что…
— Позвольте мне, — с трудом складывая русские слова, перебила ее пожилая немка. Все это время она не спускала глаз с Александра и теперь прямо впилась в него своими большими, казавшимися выпуклыми под стеклами очков глазами.
— Позвольте мне, — в свою очередь перебил немку Борис. Он ловко открыл шампанское так, что и хлопнуло, и в то же время пробка осталась у него в руке, разлил пенящуюся жидкость в бокалы. — Позвольте провозгласить тост за дружбу народов.
Переводчица что-то коротко сказала немкам, и они заулыбались согласованно, пригубили свои бокалы.
— Позвольте мне, — снова сказала немка. — Мы хочем говорить царь Питер. Мы слышал, вы говорил царь Питер.
— Почему именно он? — спросил Александр, поскольку немка обращалась прямо к нему.
— Нам интересно царь Питер, потому что царь Питер начался дружба цвишен, как это? — между русскими и немцами.
— Да уж началась, — проворчал Александр. — Никак не кончится.
Борис толкнул его под столом коленом и снова поднял бокал.
— За любовь и взаимопонимание. — При этом он довольно бесцеремонно подмигнул молодой немке, и та ответила милой улыбкой, которая почему-то не понравилась Александру.
— Между немцами и русскими было больше конфликтов, чем контактов, — сухо сказал он. — И всегда не по вине русских, заметьте.
— Чего ты злишься? — зашипел Борис. — Они виноваты, что ли? — И заулыбался немкам: — Вы ешьте, ешьте, на одном кофейке далеко не уедете. Вот осетринка, салат, пожалуйста, сейчас рыбу принесут, замечательные, знаете ли, карпы. Вот такие. — Он потер ребрами ладоней о край стола, показывая размер карпов. — Считайте, что с этого момента у нас будут одни контакты и никаких конфликтов.
Переводчица что-то долго говорила своим подопечным. Стараясь унять вскинувшееся в нем раздражение, Александр оглядывал зал ресторана, иностранцев, сидевших за другими столами. Скосил глаза на Нельку, с аппетитом уплетавшую розоватые ломтики осетрины и исподлобья с любопытством поглядывавшую на своего невесть с чего разволновавшегося па. Потом взгляд его упал на молодую немочку, слушавшую переводчицу с опущенными глазами, и задержался на ее лице, каком-то чересчур уж мягком, нежном, как у юной гимназисточки. И губы у нее были мягкие, чуточку пухленькие, удивительные губы, от которых никак невозможно было оторвать взгляд…
…Очнулся он от тишины. Поезд стоял, и ниоткуда не доносилось никаких звуков.
«Никак застряли, снежный занос», — забеспокоился Александр и начал думать о том, что если поезд выбьется из расписания, то в Ганновере он не успеет на ольденбургский поезд и обещавшие встретить его на вокзале прождут понапрасну, уедут, и ему придется добираться самому. А чемоданы не маленькие, одних сувениров — до пуда…
Нарисовав себе страшную картину блужданий по чужому городу в чужой стране, он вскинулся, выглянул в окно. Шел снег, настоящая зимняя метель. В снежной толчее виднелись какие-то дома, окна светились, словно был уже поздний вечер.
— Варшава, — сказала толстая соседка.
— Варшава?! — ахнул он. — Так надо же посмотреть.
Но тут же и пропала в нем охота смотреть, потому что для этого надо было одеваться, выходить из вагона. А тем временем стоянка кончится. Да и что увидишь в такую непогодь?
«Удивительно, как легко можно отговорить себя, когда не хочется что-либо делать». Он снова отвалился на подушку и утонул в своих воспоминаниях.
Как он тогда дал уговорить себя — и сам до сих пор не понимает. Вначале его все злило. Может, потому злило, что больно уж красивая была немочка и ему все время хотелось глядеть на нее. А Нелька рядом, не очень-то поглядишь. Приходилось сидеть бука букой, вести чинный разговор с очкастой немкой. А та словно из отдела кадров, — все-то ее интересовало: кто вы да что вы? Когда он назвал себя — Александр Волков, — немка чуть в обморок не упала: «Ах, Александр! Ах, Волков!..» Но и симпатичную немочку почему-то весьма заинтересовал этот вопрос, уставилась на него своими глазищами, словно он назвал себя марсианином. И улыбнулась ему как-то странно, будто давно знакомому. Эта вот улыбка, похоже, и доконала его. Тут уж началось подлинное знакомство. Старшую немку звали Луизой, а у немочки было красивое имя Саския.
Эта самая Саския, Александр по глазам видел, уже горела желанием взять инициативу в беседе в свои руки, но в этот момент Луизу будто кто подтолкнул, вскочила, бросила сумочку на стул, заизвинялась, давая понять, что ей надо отлучиться, и ушла, утащив за собой Саскию. Переводчица побежала было за ними, но скоро вернулась, улыбнулась виновато и сказала, что женщины есть женщины, кто бы они ни были, им надо немного пошептаться по своим женским делам.
Шептались они довольно долго. Нелька себе чуть шею не свернула, все оглядывалась, а они, Александр и Борис, ели молча, думая каждый о своем, разглядывали золотую лепнину на потолке. Когда немки пришли, по их заговорщическим лицам видно было, что они-таки дошептались до чего-то. Саскию словно пришибли, она после того шептания все больше молчала, только смотрела на Александра как-то по-особому, словно жалела его. А Луиза, как села, сразу повела разговор о Волге. «Ах, Волга, всю жизнь мечтала увидеть великую русскую реку Волгу!»
— Я родился на Волге, — сказал Александр. — В Костроме.
Его признание вызвало новую волну восторгов, восклицаний. А потом Луиза заявила, что она хотела бы, она очень просит, чтобы Александр, именно Александр, показал им Кострому.
— С удовольствием, — не задумываясь сказал он.
Сказал и испугался. Язык — это ведь не только смысл слов, а и многое-многое другое, чему и названия-то нет. В его «с удовольствием» было больше иронии, так сказал бы приятелю, предложившему лететь, скажем, на Луну. Чтобы понимать это «многое», надо жизнь вместе прожить. Где уж было немке разобраться во всех интонациях! И она поняла, как и должна была понять иностранка, — прямо.
— Можно завтра? Хорошо? — сказала она.
Растерявшись, Александр начал мычать что-то насчет «может быть» да «надо посмотреть». Но было уже поздно. Переводчица сказала, что разрешение на поездку она постарается получить, надо только оплатить машину.
— О, мы заплатим! — сразу воскликнула Луиза.
Александр подумал: чего не съездить при такой оказии? И сказал, что сам собирался навестить мать.
— Там живет ваша мама? — заволновалась Луиза, вперив в него свои казавшиеся выпуклыми за очками глаза.
— Да, отец погиб в войну, а мама живет все там же.
— О, погиб в войну! — закатила она глаза и посмотрела на Саскию. Та сидела опустив голову и чему-то улыбалась краешками губ.
Ему подумалось, что она улыбается мечтательно и что это связано с ним. От этой его мимолетной думы растеклось в груди теплое и щекотное, похожее на то, что уже было с ним когда-то. И он подумал вовсе без беспокойства, скорее весело: «Не влюбиться бы».
Во время этого разговора и Борис, и Нелька, не понимая ни слова, но, как видно, все же догадываясь, что совершается нечто важное, смотрели на него глазами, полными муки и нетерпения.
— О чем договорились? — не утерпел Борис.
— Потом расскажу… — сухо ответил он. И добавил усмехнувшись: — Не одному тебе занавески вешают.
Оживленно беседующей толпой они покинули ресторан, вышли на всегда людную и шумную площадь у магазина «Детский мир». Александр взял Луизу под руку и галантно перевел через площадь. Хотел освободиться, но не тут-то было: Луиза цепко держала его. Пришлось вести дальше через подземный переход, мимо «Метрополя» до входа в метро «Площадь Революции», откуда немки и переводчица собирались ехать до Смоленской площади, где они жили в гостинице «Белград». И все это время Луиза говорила почти непрерывно, хвалила Москву, хвалила его, Александра, и всех русских оптом.
Лишь в широком вестибюле метро ему удалось освободиться. Улучив момент, он шепнул переводчице, кивнув на Луизу:
— Она не того?..
Та пожала плечами.
— Не обращайте внимания. Она вообще не в меру восторженная. Такая уж, должно быть. — И добавила огорченно: — Машину велела отпустить: непременно ей на общественном транспорте нужно. Причуда…
А Саския все улыбалась и загадочно молчала. А Борис все позевывал: он не умел долго слушать, он любил, чтобы слушали его. А Нелька все глазела на серебристую курточку и лишь время от времени поднимала глаза на своего па, в которых читался недоуменный вопрос о непонятном оживлении пожилой немки, вопрос безответный и для него самого.
Переводчица пообещала позвонить в тот же вечер, но позвонила лишь утром, когда он совсем уж перестал думать о Саскии. То есть не перестал, а вспоминал со сладкой печалью и сожалением, как о промелькнувшей и навсегда исчезнувшей радости.
— Возникли небольшие затруднения, — сказала переводчица. — Но если вы не возражаете, поездка может состояться завтра.
Договорились о раннем часе, когда он должен был быть на Смоленской площади. Но тут вдруг взбеленилась жена: «Чего это ты бросишь все дела и поедешь неизвестно с кем?» Он спорил с женой, а сам думал: в самом деле, чего это он? Но не идти же на попятную, не позориться же перед заграницей?..
Если бы он знал, какой поток забот вызовет эта поездка! Но каждый очередной шаг казался небольшим, каждая очередная забота незначительной, каждая трудность легко преодолимой. Каждая в отдельности. Но теперь, оглядываясь, он поражался себе: как его хватило? Может, и не хватило бы, да все звучала в нем словно бы ласковая музыка всякий раз, когда думал о Саскии. Может, она-то, эта музыка в душе, и помогла в долгих хлопотах, через которые пришлось пройти на пути к этому поезду, уносящему теперь его через заснеженные просторы Польши все дальше на запад…
И мать тоже пришлось убеждать. Она-то, пожалуй, больше всего и всполошилась. С первого взгляда почему-то не понравились ей немки, особенного старшая, Луиза.
— Чего за тобой увязались? — зашептала она Александру, когда они в кухне остались одни. И погрозила пальцем: — Я все вижу. — И неожиданно заключила: — Чего хорошего? Задницы и той нет.
— Ну это ты зря, — сказал он, косясь на приоткрытую дверь. — Все при ней.
— Не туда глядишь, бесстыжие твои глаза. Молодая и есть молодая. Я про старую.
Мать пилила Александра каждый раз, когда он приезжал. Ругала, как маленького, за каждую провинность. А он только посмеивался, довольный, ему нравилось ее незлобивое ворчание, это напоминало детство. И может, от этого ему всегда было покойно и радостно дома, как-то защищенно, что ли. Была мать еще не старой: шестьдесят пять — какой возраст?! Но ему она казалась старушкой. Луизе было немногим меньше, но то ли брючный костюм молодил ее, то ли особая манера держаться, только выглядела она куда моложе своих лет.
Он и не собирался везти немок к себе домой. Думал: покрутится по городу, покажет достопримечательности и, оставив их, смотается с Нелькой к матери. Но Луиза еще дорогой заговорила о том, что ей будто бы позарез надо поглядеть, как живут простые советские люди. И похоже, не врала: с таким неистовым интересом рассматривала дом, старенький, одноэтажный, почти деревенский домик, стоявший бог знает с каких времен над волжским откосом. Словно молодая, сбежала по тропке к Волге, помочила руки в воде, зачем-то понюхала пальцы и потерла ими себе лоб и губы. И все с каким-то непонятным Александру детским восторгом, приговаривая то и дело:
— Теперь буду знать…
Саскию тоже удивляла восторженность Луизы, она все ходила за нею хвостом, к огорчению Александра, почти не замечая его.
В доме Луиза все дотошно осмотрела: комод с выдвижными ящиками, старую кровать с металлическими шарами на спинках, которую мать ни за что не желала поменять на более современную, деревянную. Луиза, казалось, перенюхала все фотографии на стенах, а к семейному альбому прямо-таки прилипла, словно это была невесть какая музейная достопримечательность.
Под конец она вынула из сумки и подарила матери джинсовый брючный костюм.
— Что я, молодая, что ли, такой-то носить? — ахнула мать и засуетилась: — А мне и подарить нечего, ах ты господи!..
Она бегала по комнате, выдвигала ящики комода, а Луиза все ходила за ней и, с трудом подбирая русские слова, говорила, что мать не такая уж старая, а если приоденется, так и вовсе будет молодо выглядеть. Мать махала руками, прикидывала на себя костюм, смущенно смеясь, бросала его на кровать и снова принималась искать, чем бы отдариться.
С костюмом разобрались быстро. Нелька примерила его и заявила, что он ей как раз впору, чем несказанно обрадовала мать. А Луиза удовлетворилась глиняной кошкой с комода. Кошка эта была копилкой, со щелкой в черной голове, и Александр еще маленьким любил совать туда монетки. В копилке что-то позванивало, и Луиза заявила, что это очень дорогой подарок, поскольку в копилке — тайна, неведомо какие, может быть, золотые монеты. Мать махала руками: откуда у нас золотые, пятаки только. Но Луиза не сдавалась: кошку, и все. В конце концов мать успокоилась, но, когда Луиза отвернулась, показала Александру пальцем у виска…
Долго потом все это было предметом домашних обсуждений. Жена Татьяна прямо заявила: ненормально, и все тут. Он не возражал, поскольку тоже считал Луизу немного того… Только ее. О Саскии он этого бы не сказал. С Саскией у него были очень доверительные минуты. Особенно в Ипатьевском монастыре, куда они заехали, катаясь по Костроме. Пока Луиза, по-обыкновению восторженная, бегала по монастырскому двору, осматривая золотые купола, красиво выделявшиеся на фоне синего неба, росписи стен, окна, увитые каменной резьбой, они с Саскией сидели на скамеечке и беседовали. Нельки рядом не было: ей музейные красоты были ни к чему, и она убежала купаться на Волгу. Мать, которую Луиза все-таки вытащила из дома, удивив даже Александра своей настырностью, — обычно мать всем музеям и театрам предпочитала сидение в четырех стенах, — так вот мать, заявив, что если за Нелькой не присмотреть, то она обязательно утонет, тоже ушла на Волгу. И потому они с Саскией остались вдвоем. Александр так долго ждал этой минуты, что теперь попросту растерялся и молчал. И Саския молчала, только с любопытством все взглядывала на Александра и улыбалась чему-то своему. Они сидели так близко друг к другу, что ветер, временами ворошивший ее пышные волосы, кидал пряди ему на лицо, и он каждый раз жмурился и замирал, стараясь удержать в себе едва уловимый волнующий запах ее волос.
— А вы интересный человек, — наконец произнесла она.
— А вы… — Он задохнулся от этих слов, показавшихся ему полными тайного смысла, и вдруг выпалил: — А вы — просто красавица, не знаю, говорил ли вам кто-нибудь об этом…
— Говорил, — сказала она и снова улыбнулась.
— Говорил? — Ему не понравилось, что она упомянула это в единственном числе. Было бы очень странно, чтобы у такой красивой женщины не имелось если уж не мужа, то очень близкого человека. Хотя у красивых-то зачастую и бывают несчастливые судьбы.
— Говорил! — с вызовом повторила Саския, и засмеялась, и качнулась к нему мягким плечом. И, словно старого знакомого, похлопала горячей ладошкой его по колену. И он поймал эту ладошку, удержал, непривычно задыхаясь от мягкости ее ладошки, от близости.
— Ну, всё! — с деланным испугом воскликнул он.
Она засмеялась и, высвободив руку, снова похлопала его по колену.
— Ты совсем такой же, — сказала загадочно. И задумалась, погрустнев, и наклонилась к нему: — Приезжай к нам, хорошо?
Александр не сразу понял, о чем она говорит, заметил вдруг, что она с ним на «ты», и обрадовался.
— Хорошо бы!..
— Приезжай, тебе будет интересно.
— Не сомневаюсь. Только ведь это… не в Кострому съездить.
— Я знаю. Но ты приезжай. Мы пришлем тебе приглашение.
Она так и не сказала: хочу видеть, я приглашаю, или, на худой конец, мне было бы интересно. Ничего от себя лично, ничего. Но в тот момент это казалось ему малостью, которой не следует придавать значения.
Задумался он позднее, когда они уже уехали в свою Западную Германию и увезли его клятвенное обещание приехать.
II
Обещать было легко. Говорится же: звезду с неба пообещать легче, чем пятерку в долг. Он уж забывать начал приезжих немок, когда из Западной Германии пришло приглашение, форменное, напечатанное на немецком и русском языках, с подписями и печатями магистрата города Ольденбурга, странными чужими печатями, на которых вместо герба — изображение какого-то замка.
— Неужто поедешь? — забеспокоилась жена. — Чего ты там не видел?
Он и сам не знал, зачем ему ехать, но приглашение лежало на столе, звало. И он пошел в райотдел милиции, все более уверяясь в необходимости ехать, с радостью ощущая, что тонкое нежное звучание в душе, возникавшее при воспоминаниях о Саскии, не забылось, все волнует его.
Приглашение было от Луизы Кнауэр и ее мужа Ульриха. Возраст в приглашении не указывался, и первый же лейтенант, к которому он обратился в райотделе милиции, посмотрел на него с игривым любопытством и спросил, кем она, то есть Луиза Кнауэр, ему приходится? Когда узнал, что никем, снова посмотрел, но уже не игриво, а осуждающе.
— А жена знает?
— Конечно, знает… Да что вы себе такое думаете?! — взвился Александр. — Луизе уж под семьдесят.
— Богатая?
— Не знаю.
Ему и в самом деле ничего не было известно о ее доходах. Знал только, что она на пенсии, и считал, что все ее доходы пенсией и исчисляются.
— Богатая, — уверенно сказал лейтенант. — Иначе на какие деньги она стала бы содержать вас.
Он так и выразился — «содержать». Употребил бы какое другое слово, поговорил бы по душам, ну рассказал бы, что каждому приглашенному надо обменивать рубли на валюту, а государство дорожит каждой свободно конвертируемой единицей, сказал бы по-мужски: плюнь, не нервируй жену, — и наверное, убедил бы. А скабрезные намеки разозлили Александра, и он уж из принципа начал настаивать, чтобы у него приняли документы. А может, потому и разозлили, что лейтенант, сам того не зная, ходил возле истины. К Луизе Александр еще подумал бы ехать. Но там была Саския.
Кто-то властно потряс его за плечо. Открыв глаза, Александр увидел близко крупное строгое лицо и большую форменную фуражку. Ничего не сказав ему, человек в форменной фуражке наклонился к соседке, спавшей на нижней полке, и Александр понял: граница, проверка документов. Достал свой красный паспорт, протянул пограничнику. Тот, даже не подняв глаз, хлопнул штемпель и протянул паспорт обратно.
Александр спрыгнул с полки, приник к окну. Метели не было, метель, как видно, прошла полосой через центральные районы Польши и здешние места задела лишь краем: поля пестрели проталинами, а не белели зимними заносами, как было еще два часа назад.
И вдруг он вспомнил, что сейчас, совсем скоро, будет Одер — другая река военной памяти. На восточной границе Польши был Буг, река трагического начала войны, на западной — Одер, река триумфального ее окончания. Он только теперь подумал об этом странном сочетании: восток Польши — запад Польши как отражение наших самых важных исторических вех. Впрочем, странно ли это? Судьбы народов ныне так переплетены. И в прошлом, и в настоящем все взаимосвязано. А может, и в будущем?..
Одер он хотел рассмотреть повнимательнее, но, как и на Буге, ничего особенного не увидел. Пустые, пестрые от снежных наметов берега, кусты, серый простор воды… Впрочем, простора-то как раз и не было, — промелькнула не такая уж и широкая река, и снова пустынный берег, ничем вроде бы не отличающийся от противоположного. Больше запомнился немец-пограничник. На груди у него висел чемоданчик, который открывался этаким столиком. Шелест бумаг, строгий взгляд, глухой стук штемпеля, быстрый поворот к соседке по купе.
— Битте!
Шаг в сторону, к другому купе.
— Аусвайс, битте! Пас контроле.
Механизм. Было в этом что-то завораживающее, заставляющее глядеть и глядеть.
Ему стало как-то неуютно рядом с этими людьми. Подумал, что там, на западе, люди, может быть, еще суше, еще безотзывчивее. И пожалуй, впервые он всерьез задал себе давно задававшийся всеми вопрос: ради чего он помчался в эту Западную Германию? Саския? Но под множественностью впечатлений образ Саскии размылся, отступил, даже теплое звучание, эта ласковая мелодия, заглушавшая в нем голос рассудка, словно бы приутихла. И впервые ужаснула его безвозвратность решения. Дома, куда бы ни пошел, куда бы ни поехал, всегда оставалась возможность повернуть назад. Случись что в дороге, тут же телеграмма домой или друзьям, тут же билет на встречный поезд или самолет. А теперь словно бы и не было возможности возврата. Предстояло пройти эту дорогу до конца: доехать до Ганновера, а потом до Ольденбурга, жить неизвестно где, встречаться неизвестно с кем и все время следить за собой, чтобы не сделать что-нибудь не так. Вытерпеть все, не поддаться на провокации, о возможности которых его не раз предупреждали и в милиции, и на работе, и в приятельских напутствиях, выйти сухим из всех вод и снова сесть в этот же московский поезд, только идущий уже не на запад, а на восток, домой. Зачем все это ему? Сколько ездил, всегда зачем-то, а тут…
Пришла в голову спасительная мысль: ведь едет он почти в те же края, по которым без малого три века назад путешествовал царь Петр. Что он такое увидел, заставившее решиться переворошить всю Россию?.. Это была уже цель, а когда есть цель, пусть надуманная, все действия получают совсем иную окраску, все дорожные и прочие трудности оправдываются.
Берлин он узнал по знаменитой телебашне — шар, насаженный на длинную толстую иглу, — и удивился, как это близко от Одера. И вообще как она невелика, Европа. Еще утром были в Бресте, пересекли Польшу, миновали Варшаву, снова ехали через Польшу, а затем через ГДР. И вот уже Берлин. А ведь еще не вечер, совсем не вечер. У нас поездка в один день и за поездку не считается…
Александр поймал себя на том, что наивно удивляется всему. Так удивляются туристы, увидев очередной памятник архитектуры. Сто раз видели его на фотографиях, а увидели воочию и заахали. Потому что это совсем другое дело — увидеть воочию, совсем другое.
В Берлине очень хотелось походить по платформе. Но не пришлось. Потому что для поездов, идущих на запад, и платформа другая, отгороженная. Странно было видеть границу посреди города. Ну да ведь и в Бресте так было: слева от вокзала — Советский Союз, а справа — уже заграница. Эпоха, видать, такая: во всем мире размежевание. Словно единой живой клетке пришло время делиться. Города, государства раздваиваются, даже семьи, порой даже каждый человек сам по себе. Плохо? А может, это необходимый исторический процесс?..
Разложив этот свой, как Александр назвал его, «мыслительный пасьянс», он принялся читать вывески, которых было множество на платформах. Но тут поезд тронулся, выехал из-под огромной крыши вокзала. И вдруг в коридоре кто-то громко сказал:
— Смотрите, рейхстаг!
— Где, да где же? — заволновался Александр. Вот уж что надо было увидеть обязательно, так это рейхстаг. Много будет потом расспросов в Москве, многое он будет вспоминать, но все незнакомое слушателям, пустое, неинтересное. А если сказать, что видел рейхстаг!..
— Да вон же, смотрите, — показал ему куда-то пассажир из соседнего купе, как обычно одетый в свой отутюженный костюм с галстуком-бабочкой.
Рейхстаг совсем не был похож на рейхстаг. То исчезая, то вновь появляясь из-за домов, он ничем не выделялся среди прочих зданий, — обычно приземистый, широкий, по-чиновничьи гладкий. И с плоской крышей. Самого главного, что отличало известный по дням Победы рейхстаг — высокого купола, — не было вовсе.
— Теперь там музей, — говорил сосед. — Только не такой, как вы думаете. Наших знаменосцев — Егорова и Кантарию — вы там не увидите. Зато стоят манекены эсэсовцев во весь рост. Есть фотографии разных политических деятелей прошлой Германии, даже выступающего с трибуны Гитлера. И фотографии двух пожаров — тридцать третьего и сорок пятого годов. И нет никаких надписей на рейхстаге, — все стерто, вырублено. Теперь тут ресторан, обыкновенный ресторан, каких в Западном Берлине множество…
Александр пожалел, что не сошелся поближе с этим соседом, — человек, похоже, много знает и он, как видно, свой. Впрочем, поди-ка определи, кто тут свой, а кто не свой?
А рейхстаг все не отдалялся. Поезд шел по широкой дуге, и серое здание с плоской крышей поворачивалось то одним, то другим боком, давало рассмотреть себя со всех сторон.
Но вот поезд снова нырнул под низкий навес вокзала и остановился. На перроне, прямо перед окном вагона, молодой парнишка, никого не стесняясь, целовал такую же молодую девушку. Одной рукой он держал ее за талию, в другой у него была бутылка. Парень отпивал глоток, притягивал к себе девушку и целовал, словно закусывал. Рядом на скамье лежала пластинка, на упаковочном пакете была изображена то ли полуголая, то ли совсем голая певица, — парень все время заслонял пластинку своим обтянутым джинсовым задом, не давал рассмотреть.
В первый момент эта невозможность рассмотреть картинку Александра занимала больше всего. Он все ждал, когда парень оторвется или от бутылки, или от девицы. Потом до него вдруг дошло, что все это уже там, на Западе, в Западном Берлине…
Как-то сразу стемнело. Под навесом вокзала бледно горели лампы дневного света, а когда поезд тронулся, лампы, казалось, горели уже повсюду. Иногда поезд выскакивал на эстакады, и тогда проворачивались перед глазами длинные улицы, как реки с огненными берегами. Еще не ушли вечерние сумерки, а улицы уже вспыхивали многоцветьями реклам.
— Ложитесь спать, — сказал Александру сосед. — До Ганновера-то рукой подать.
— Но ведь интересно, — возразил он.
— Ложитесь. На эту пестрятину еще насмотритесь.
Он послушался, не потому, что согласился. Просто подумал, что первая ночь, которую ему предстоит провести на вокзале в чужой стране, будет нелегкой. Он почему-то больше всего боялся именно этой первой ночи.
Сон был беспокойный, урывками. Сначала одолевали думы, потом загремели двери — пришли пограничники ГДР, потом пришли пограничники ФРГ. И только снова начал засыпать, как проводник подергал за подушку:
— Пора собираться.
Собрался он еще с вечера, чтобы лишний раз не беспокоить спавшую соседку, вышел из купе и стоял в пустынном коридоре, пожимая плечами от озноба, смотрел в черноту ночи. Цепочки огней то сбегались в сгустки, то растекались ручейками, исчезали, чтобы возникнуть снова, то далеко, то близко. И казалось, что нет тут ни одного квадратного метра без огней, ни одного места, где не жили бы люди. Огней становилось все больше, вот уж и улицы начали проглядываться, пустынные, таинственные. Поезд подошел к крытому перрону и остановился. Всё!..
Стараясь не суетиться, Александр вытащил свои вещи на платформу, огляделся. Было пустынно и холодно. Из всего поезда кроме него да пассажира из соседнего купе вышла одна-единственная женщина. Пассажира быстро увел такой же щеголеватый господин. Женщину тоже встречали. Поцелуи, сбивчивые немецкие восклицания, и оживленная группа исчезла в тоннеле, ведущем куда-то вниз. Там, внизу, это даже издали было видно, горел яркий свет, и он решил идти туда же, вниз. Тем более что еще в Москве один знающий человек рассказывал ему, что, залов ожидания на немецких вокзалах нет, так что негде даже присесть, и что одно-единственное место, куда можно приткнуться, — это «Bahnhofmission» — небольшое подобие кафе, которое содержит некая миссионерская организация. Там можно подремать за столиком, можно выпить кофе, спросить о поездах на Ольденбург и вообще получить нужную справку. Это «Bahnhofmission» было для него как заветный островок для птицы, совершающей перелет через океан.
Поезд ушел, и он остался один на платформе. Горели витрины закрытых киосков, пестрели рядами бутылок и банок. Александр принялся читать вывески, чтобы хоть как-то разобраться, и тут увидел приближавшегося к нему человека в черной форменной куртке, в фуражке с красным околышем и с широким кожаным ремнем через плечо. Железнодорожник.
— Энтшульдиген зи битте! — как можно непринужденнее произнес он. — Во бефиндет зих Банхофмиссион?[5]
— Дорт[6], — махнул человек рукой на лестницу, ведущую вниз, и исчез в застекленной со всех сторон и занавешенной изнутри будке.
Чемодан, да сумка, набитая сувенирами, да картонная коробка с расписным электрическим самоваром, да еще авоська со всякой мелочью, — все это едва можно было ухватить руками. Но он все же умудрился ухватить и за один раз снести по лестнице. Остановился у стенки, огляделся. Сначала ему показалось, что он тут один, в этом огромном подземном зале. Потом разглядел вдали еще две-три фигуры. Ветра здесь не было и казалось теплее. Яркий свет лился от ламп на потолке, от реклам, витрин сувенирных киосков, огромных, во всю стену, окон, за которыми были то ли кассы, то ли какие пустующие ночью вокзальные конторы, и непонятно было, для кого все это обилие света. Под потолком крутились светящиеся изнутри большие кубы с рисунками и надписями, желающими счастливого путешествия без забот, разъясняющими, как стать миллионером с помощью лотереи, извещающими о разных благах, ждущих путешественников.
Не сводя глаз со своих вещей, оставленных у стены, Александр прошелся по залу, читая надписи. Бросилась в глаза необычная для вокзала фраза: «Fremdes Feuer ist nicht so hell als daheim der Rauch»[7]. Словно железнодорожники сами призывали сидеть по домам и никуда не ездить.
Потом увидел какую-то фигуру, двигавшуюся через зал, и поспешил обратно.
Это была девушка. Совсем еще молодая, лет восемнадцати, она тащилась донельзя усталой походкой. Держалась она прямо, даже с вызовом. На ней был старый мужской пиджак, длинный, спадающий с плеч, и брюки, короткие, по щиколотку, космами свисали длинные немытые волосы.
Только она прошла, как показался парень, тоже молодой и тоже одетый странно (в одной рубашке), похожий на пропившегося бродягу или измаявшегося наркомана.
Александр снова подхватил свои вещи и поволок по залу, ища укромный уголок, куда можно было бы их сложить. За лестницей, выводящей к другой платформе, увидел стену, увешанную расписаниями, и вполне пристойного вида мужчину и женщину. Поставив здесь вещи, принялся изучать расписание. Всяких таблиц висело множество, и он никак не мог найти нужную.
— Как тут доехать до Ольденбурга? — проворчал он и повернулся к мирно разговаривавшим мужчине и женщине, чтобы задать тот же вопрос по-немецки.
— Вы — русский? — спросил мужчина по-русски.
Это было так неожиданно, что Александр удивленно уставился на него. Молодой худощавый парень с веселыми и, как вначале показалось, хитроватыми глазами.
— А… вы?
— Мы из Польши. Поезд на Ольденбург в четыре сорок с десятой платформы. Мы тоже его ждем.
Теперь он и сам понял, что перед ним поляки, — выдавали типичные «пшиканья».
— Как Москва? — спросил поляк. — Я там учился.
— Тепло в Москве. Я-то думал, что в весну еду, все-таки Западная Европа, а тут холодней, чем у нас.
— Да, все перемешалось в последнее время, — сказал поляк, и прозвучало это двусмысленно. То ли о погоде разговор, то ли о политике.
— А как в Польше? — счел нужным спросить Александр.
— Сложно в Польше.
— Сюда что же, по делам?
— Нужно, — односложно ответил поляк.
Женщина что-то спросила, они оживленно заговорили, и Александр решил, что самое время ему отойти в сторонку. Он снова пошел по залу, удивляясь его пустынности, непохожести на наши ночные вокзалы.
Так и пробродил весь оставшийся до поезда час, рассматривая разные разности в витринах вокзальных киосков.
Когда поляки начали собираться, он тоже поспешил за ними. Подхватил свои вещи и направился к стоявшему по случаю ночного времени небольшому эскалатору, метров десяти в длину, намереваясь подняться по его неподвижным ступенькам. Но едва подошел, как эскалатор сам собой задвигался. Он поднялся на нем, отошел, оглянулся на вновь остановившийся эскалатор, удивляясь немецкой сообразительности: ведь и в самом деле, зачем гонять его всю ночь, когда проще простого устроить включающую автоматику.
Поезд был совсем маленьким — всего четыре вагона, но и те полупустые: за стеклянными дверцами купе сидели по одному-два человека. Втроем они устроились в купе, где сидел весьма оживленный господинчик лет сорока. Едва сели, как этот господин достал бутылку вермута, отвинтил пробку, отпил из горлышка и принялся угощать. Он так настаивал, что женщина не выдержала, полезла в свой баул, достала термос и, отвинтив колпачок, подставила его. Выпила, похвалила вермут и протянула колпачок снова. Господин все так же охотно налил, и женщина протянула колпачок Александру. Вино было сладким и терпким, с каким-то незнакомым ароматом.
Затем женщина налила ему в этот же колпачок черного кофе из термоса и что-то сказала по-польски.
— Пейте, пейте, — сказал поляк. — Ночь-то не спали.
«Откуда он знает, что ночь не спал?» — насторожился Александр. Хотя догадаться об этом было нетрудно: все знают, что при пересечении стольких границ пассажирам не до сна.
— А вы? — спросил он.
— И мы с удовольствием, нам тоже досталось.
После вина и кофе словно бы стало теплее в вагоне, и Александр, сказав свое «энтшульдиген» — «извините», вышел. Не терпелось поглядеть на немцев, дремавших за стеклянными стенами и дверями купе, и вообще посмотреть, что это такое — немецкий вагон. Да и требовалось заглянуть в одно место: мало ли какие передряги предстоят, не дай бог, не вовремя приспичит.
Потом он долго стоял в коридоре, смотрел в мелькание теней и огней за окном и перебирал в памяти впечатления первых часов, чтобы ничего не забыть. Похоже было, что ему повезло: сразу же увидел и наркомана, и проститутку, и алкоголика. Он не был уверен, отвечают ли увиденные им люди этим определениям, но ему хотелось так считать: дома придется рассказывать о поездке, и фраза «не успел сойти с поезда, как увидел», дополненная этими образами, будет звучать. Жена, конечно, тут же скажет: «Я так и знала!» Друзья на работе будут ахать и ерничать. Только Борька, пожалуй, поймет, пожалеет несчастных немцев и немок. И тут же сделает вывод, что наши бабы лучше и если он до сих пор не женился, то виноват только сам.
Резко распахнулась дверь, и в коридор вошли два железнодорожника, все в черном, шумные, уверенные и какие-то оба чересчур уж крупные, они разом разбудили весь вагон, наполнили его движением. Тот, у которого висел через плечо красный ремень, решительно отодвинул дверь крайнего купе и сухо потребовал предъявить билеты.
Александр поспешил к себе, чтобы если уж беседовать с представителями железнодорожной власти, то не в одиночку. Билет от Ганновера до Ольденбурга был куплен еще в Москве, и он не знал, какие вопросы могут возникнуть у контролеров в связи с этим.
Вопросов никаких не было. Даже не взглянув на Александра, контролер прощелкнул на билете дату проезда и занялся другими пассажирами.
Когда контролеры ушли, пьяненький господин достал еще одну бутылку вина, отпил из горлышка, уже никому больше не предлагая, и принялся рассказывать что-то недорассказанное о себе. Обращался он к женщине, сидевшей рядом, говорил, мешая немецкие и польские слова, и Александр понимал только общий смысл. Человеку этому было восемь лет, когда убили на войне его отца. Господин вскакивал с места показывал, как русские стреляли из автомата и как пуля попала отцу прямо в лоб. Заканчивал, отпивал глоток из бутылки и начинал рассказывать то же самое сначала. Женщина внимательно слушала, скороговоркой вставляя что-то свое. Поляк, сидевший напротив, откровенно дремал. Александра тоже тянуло в дремоту, но он боролся с ней, все ждал, когда немец накалит себя рассказом и начнет приставать к нему, русскому.
Он так и задремал, не дождавшись вопросов. Очнулся от шума в купе. Поезд стоял. Соседи собирали вещи.
— Бремен, — сказал поляк. — Нам сходить.
Он остался один во всем вагоне. Сидел тихо, забившись в угол, смотрел в окно на россыпи огней просыпающегося города, на темные провалы все еще не отступившей ночи, на освещенные пятна чужой земли, белесой, тронутой изморозью. Сидел и боялся задремать, проспать Ольденбург. Знал уже, что поезда стоят тут одну-две минуты и, если заранее не подтащить вещи к выходу, то можно и не успеть выйти.
Ольденбургский перрон был пуст: всего несколько человек топтались в отдалении, когда он сошел, встречали кого-то. Он искал глазами Саскию, такую, какой видел ее в Москве, и не находил. Вспомнил, что она и не может быть такой, поскольку тогда было лето, начал присматриваться к круглым, закутанным в пальто фигурам, и опять не находил. Потом увидел бегущую по перрону женщину и узнал: Луиза.
Она целовала его как родного, порывисто и смущенно обнимала, прижимая к своей плоской груди, отпускала, снова прижимала и все морщилась, готовая заплакать.
Он наклонился, чтобы взять вещи. Луиза опередила его, схватила чемодан, самый тяжелый. Он вежливо отобрал чемодан: старая, а туда же. Тогда она вцепилась в сумку и уж не отпускала, заявив, что непременно хочет что-то понести. В конце концов от отдал ей коробку с электрическим самоваром, легкую, но неудобную, больше всего мучившую его дорогой.
Быстро прошли через пустой, но ярко освещенный вокзал, вышли на площадь. Увидев их, от шеренги машин, прихрамывая, побежал навстречу худощавый человек, и он догадался: Ульрих, муж Луизы, которого она называла ласково — Уле. Но Александр не знал, как ему называть этого человека и, неловко ткнувшись, обнимаясь, ему в плечо, заторопился подхватить свои вещи, поскольку Ульрих-Уле уже наклонялся, чтобы взять их и нести к машине.
Такой горячей встречи Александр не ожидал, и, расслабившийся, отогревшийся то ли от того, что в машине было тепло, то ли от этой сердечности, он сидел, отвалившись на заднем сиденье, и мечтал о том, что вот так же встретит его и Саския.
Улицы были уже прозрачны от сумерек, но фонари все горели, и бесконечные ряды витрин светились пестрым разноцветьем. Витрины привлекали внимание, и Александр то и дело оглядывался, стараясь рассмотреть, что там на них. И почти в каждой было нечто нужное ему. И уже теперь, в свои первые часы, Александр ощутил смутное неудовольствие от того, что сувениров тут так много, а денег у него так мало. Вспомнил, как жена и дочь составляли для него длинные списки желаемых вещей с указанием размеров, ростов, даже сантиметров. «Денег-то у меня и на десятую часть этого списка не хватит», — возмущался Александр. «Ничего, сколько хватит, — успокаивали его. — Это чтобы ты знал и не покупал ненужного». Ненужным, надо полагать, было то, что хотел бы купить он сам для себя и для многочисленных друзей своих. Каждый, напутствуя, считал нужным напомнить: «Ты уж привези чего-нибудь на память». Он всем обещал. Но, когда получил в банке обменные небольшие свои марки, призадумался: как их делить? А в поезде, наслушавшись наставлений от толстой соседки по купе, которой все за границей казалось страшно дорогим, он и вовсе приуныл. Теперь ему все товары казались доступными, но все возвращалась мысль о крайней скудности кошелька. И если Луиза и Саския, как обещали, не возьмут его на полный пансион, то останется сходить только в «Bierhalle», или, по-русски, в пивную и скоренько ехать домой. Благо билет на обратную дорогу лежал в кармане, купленный еще в Москве на русские рубли. Правда, частично занятые у Бориса. Но дома-то он — дома…
— Вы не слушаете? — спросила Луиза, до этого что-то говорившая ему. И тут же начала его оправдывать: — Устали, конечно, ночь бессонная. Ну да сейчас немного поспите. А там за дела, за дела.
Он удивился: никакими делами заниматься тут не собирается. Решил, что она это просто так сказала, к слову.
Уле ловко ввел машину в узкий переулок и остановился возле трехэтажного кирпичного дома.
— Вот, узнаете? Я вам фотографию этого дома показывала.
Он промычал что-то неопределенное, поскольку совершенно не помнил никакой фотографии.
Кнауэры, Луиза и Ульрих, вдвоем занимали весь второй этаж, то есть первый, как считают немцы. Большой холл, средний, без окон был ярко освещен. Посередине стол под белой скатертью, а в стенах во все четыре стороны — двери. И надпись в простенке между дверями, сделанная красивой готической вязью: «Streben ist Leben»[8].
Скинув пальто, Луиза тут же начала показывать ему дом.
— Вот кухня, здесь туалет, рядом ванная, вот дверь в комнату Уле, правее моя комната, там дальше, днем обязательно посмотрите, — еще одна комната, мой зимний сад, вот это — гостиная…
В гостиной во всю стену был шкаф с книгами, и Александр сразу принялся рассматривать их. Были здесь в основном альбомы с видами разных стран, в том числе и Советского Союза.
— Потом все посмотрите. Вы сможете заходить сюда, когда захотите, — потащила его дальше Луиза. — А вот эта комната будет ваша…
Первой мыслью было, что комната эта Саскии, которая пока почему-то отсутствует. Но осмотревшись, он понял: ничего женского в комнате нет, ни того порядка, ни пузыречков, которые неизменно отличают женское жилье, хотя бы и кратковременное. Здесь, скорее, жил мужчина, так было все вокруг по-спартански просто: кровать, шкаф, умывальник с мылом и помазком и почему-то сундук, старый, с тяжелой плоской крышкой.
— Эта комната для гостей, — поспешила заверить его Луиза. И по тому, как поспешно сказала, словно боясь, что он подумает другое, Александр понял: это неправда. Тут кто-то жил, и, похоже, совсем недавно.
— Хорошая комната, спасибо.
— Через час будем завтракать, — напомнила она и упорхнула легко, как молодая, осторожно притворив за собой дверь.
Он не придал значения ее словам, думал: где час, там и другой. Спать не хотелось, и Александр открыл окно, выглянул на улицу. Было уже светло, на улице, совершенно пустынной, без единого человека, висел легкий туман. Дома стояли плотно один возле другого, небольшие дома, в один-два этажа. Перед каждым — невысокий заборчик, по пояс, калиточка, от калиточки — чистая дорожка к крыльцу, а между домом и забором — лужок или небольшой цветник, аккуратный, ухоженный. И так везде, ни свалок под окнами, ни сложенного стройматериала про запас. Чисто. И улица чиста, хоть глядись в лоснящуюся брусчатку. И машины, двумя сплошными рядами стоявшие вдоль обоих тротуаров, блестели разноцветьем выгнутых спин. Словно на них и не ездит никто, словно вся эта улица не что иное, как выставка, устроенная специально для того, чтобы Александр полюбовался ею из окна.
«Напустил холоду!» — обругал он себя и закрыл окно. Прошелся по мягкому паласу, вспомнив вдруг, что ведь во всем доме — сплошные паласы, нигде нет открытого пола. Но тут же и подумал: палас-то, наверное, дешевле паркета будет, того самого дубового, букового или иного, какой почти во всяком московском доме.
Теплый прием, оказанный ему здесь, как видно, сделал свое дело: теперь ему хотелось думать о Кнауэрах только хорошее. Повертел краник у батареи водяного отопления, подивившись, что он легко вертится и, самое главное, включается на любую температуру, какая нужна. И в умывальнике кран горячей воды работал так же, легко и точно выпуская воду нужной температуры. Сопоставляя все это с тем, что было у него дома, он разделся и забрался под пуховую перину, горой лежавшую на кровати. Поухмылялся, засыпая, что перину надо бы вроде не на себя, а под себя. Но Луиза сказала «укроешься периной»…
Ему показалось, что только закрыл глаза, как услышал стук в дверь.
— Александр Сергеич! — пела за дверью Луиза. — Пора вставать.
Глянул на часы — прошел точно один час. Обругав немецкую пунктуальность, начал одеваться.
Наскоро побрившись, вышел в центральный холл, увидел на столе чашки и миски.
— Когда мы были в Костроме, я говорила, что у нас вы будете голодать. — Луиза бегала из кухни к столу и обратно. — Но вы не бойтесь… Чувствуйте себя, как дома…
Он вспомнил, что и верно, было такое. Сидели за столом, по-русскому обычаю заставленным так, что уж больше и места не было, а мать все раздвигала тарелки, пытаясь пристроить еще хоть одну. Луиза тогда спрашивала: сколько же будет людей за столом? Александр ответил, что они только и будут. И Луиза сказала: у нас вы будете голодать. Он пропустил мимо ушей ту фразу, считая ее сказанной просто так, к слову, и теперь испугался, что Луиза все время будет беспокоиться, не мало ли ему еды, и счел нужным успокоить:
— Так это хорошо — не разъедаться-то, а то вон уж, — и погладил себя по наметившемуся под ремнем брюшку. Ему трудно было называть пожилую женщину просто по имени, без отчества, но у немцев величать не принято, и он заставил себя выговорить: — Луиза, сейчас тот случай, когда лучше, чтобы я не чувствовал себя, как дома. Мне хочется понять, как вы тут живете.
Она слушала его, остановившись, держа перед собой миску с какой-то зеленью, и глаза у нее были испуганны и печальны.
— Боже мой, как вы похожи!
— Да? — обрадованно спросил он, сразу подумав о Саскии.
Она грустно улыбнулась, неожиданно потерлась щекой о его плечо, заставив опешить от такой фамильярности, и исчезла на кухне.
Завтракали молча, ели салат и длинные сосиски, которые, как сказала Луиза, Уле только что принес из магазина, пили вкусное красное вино. Посчитав, что молчание слишком затянулось, Александр заговорил первым:
— Дом у вас хороший. Вы его купили или как?
— Это не наш дом. Мы снимаем этаж. Внизу живет семья с двумя детьми, а наверху — один студент.
— Не один, — буркнул Уле, молчавший все это время.
— Не один. К нему всегда кто-нибудь приходит.
— И танцуют. Топают.
— И у вас эта проблема? — оживился Александр, вспомнив постоянные пререкания с соседями насчет того, чтобы вели себя потише.
— У всех молодых во всем мире одна и та же проблема: девушки, танцы.
— В наше время были другие проблемы, — сказал Уле.
— Пусть больше не будет проблем нашей молодости! — с особым значением произнесла Луиза, и глаза ее округлились и словно бы засветились изнутри.
— Но и в этом, — он показал глазами на потолок, — ничего хорошего.
— Люди должны дружить, протягивать друг другу руки…
— Обнимать друг друга, — с невинной улыбкой подсказал Уле.
— Да, обнимать друг друга, целоваться, если нужно, верить друг другу до конца…
— Ты уже рассказывала нашему гостю о своем обществе?
— Нет, не рассказывала.
— Тогда он может неправильно тебя понять.
Александр настороженно слушал. Он и в самом деле понимал эти слова по-своему, думая, что Луиза догадывается о его отношении к Саскии. И он радовался разговору, хотя и сам не знал, чему тут радоваться. Он тянулся к Саскии, не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться.
Думал: увидит ее и успокоится. Знал, что встреча может все усложнить, но тянулся к этой встрече, как тянется стрелка компаса в одну и ту же сторону, полностью отдаваясь во власть магнитных полей. Собираясь в эту поездку, он всем талдычил об обычных туристских интересах. А думал о Саскии. Покупку множества сувениров в московских магазинах объяснял возможными многочисленными встречами. А думал об одной Саскии. Даже о Луизе не думал, пригласившей его. Луиза была как бы парламентером Саскии, не более того. Но уже здесь, увидев непонятно пристальный интерес к нему Луизы, он заподозрил неладное. Гнал эту мысль: ведь она ему в матери годится.
И вот теперь выплыло какое-то общество.
Луиза легонько коснулась его руки.
— Я вам потом все расскажу. Это доброе общество, выступающее за дружбу между нашими странами.
— Общество дружбы?
— Да. Оно называется Обществом содействия развитию отношений между народами ФРГ и СССР.
— Сложновато называется…
— Мы исходим из того, что географическое положение Германии — в центре Европы — налагает на нее особую объединительную миссию. Ни одна страна Западной Европы не имеет столько соседей. Прежде Германия протягивала руки на запад и на восток, чтобы схватить, отнять. Мы протягиваем руки для рукопожатия, для дружбы. Все, что объединяет, — от бога, все, что разъединяет, — от сатаны. Вы согласны с этим?
— Вероятно, — промямлил он, не привыкший к таким формулировкам.
— С этим нельзя не согласиться. Взаимное доверие можно обрести лишь в широком и откровенном диалоге. Зло часто порождается недоразумениями и предрассудками. Мы призываем к расширению и укреплению связей, преодолению предрассудков, искоренению «образа врага».
— Это похоже на пацифизм, — сказал Александр.
— Человечеству все равно, каким словом называть то, что служит укреплению мира и дружбы между народами.
— То, что вы искореняете, как вы говорите, «образ врага», — похвально. Русский народ никогда не был врагом немецкому народу. Даже в самые трудные годы войны мы заявляли, что воюем не против немецкого народа, а против фашизма…
— Да? Заявляли? — недоверчиво спросил Уле.
Это Александр знал точно: готовясь к поездке, покопался в книгах.
— «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, государство германское остается». Так сказано было в приказе Сталина двадцать третьего февраля сорок второго года. Или вот из газеты «Правда» от четырнадцатого апреля сорок пятого года: «Советский народ никогда не отождествлял население Германии и правящую в Германии преступную фашистскую клику». В первом случае немцы стояли под Москвой, во втором — русские под Берлином, а наши убеждения, как видите, не менялись.
— Это для меня ново, — сказал Уле.
— Плохо вы нас знаете.
— Вы нас тоже плохо знаете. То, что вы сказали, — это политика, а в жизни слово «немец» у вас еще очень часто — синоним слова «фашист».
— Неправда! — горячо возразил Александр. И замолчал, подумав: давно ли сам перестал так считать? Война оставила такой след, что не забывается и через десятилетия.
Наступила неловкая пауза. Чтобы переменить разговор, Александр оглядел стены, потолок и спросил:
— Сколько вы платите за эту квартиру?
По изменившемуся выражению лиц Луизы и Уле понял: спросил что-то не так.
— Извините, пожалуйста, — смутился он. — Но мне ведь интересно знать, как живут немцы.
— Мы платим шестьсот марок, — минуту помедлив, сказала Луиза и посмотрела на мужа. — Только должна вас предупредить, чтобы вы таких вопросов больше нигде не задавали.
— Каких вопросов?
— О личных доходах или расходах. Это неприлично.
— Почему?
Он все никак не мог взять в толк этой странной психологии. Сколько говорил себе, что за границей может быть все другое, что надо быть внимательнее, и вот в первый же день вляпался. Как тут угадаешь? У нас первому встречному отвечают на такой вопрос. А тут: судить о судьбах мира — пожалуйста, спрашивать о личных доходах — табу…
III
Первые впечатления — самые верные. В эту истину Александр верил и потому вертел головой на первой своей прогулке по городу, стараясь ничего не пропустить. Они уже целый час ходили по парку, чистенькому, как все, что он тут видел, с утками на прозрачных прудах, с зеленью лужаек. Зелень-то его больше всего удивляла: в Москве еще снег не сошел, а тут — трава зеленая. Даже ровненько подстриженные кусты маслено лоснились зелеными неопадающими листьями. Вот тебе и «московская параллель», на которой находится Ольденбург, вот тебе и близость Северного моря. В Москве — снега, а тут — вечнозеленые растения.
Он вел Луизу под руку, как она просила, едва касаясь мягкого меха ее пальто. Иногда встречные кивали им — ей и ему, — они оба кивали в ответ и все кружили по парковым аллеям. Александру хотелось бы одному походить тут, поглазеть на людей, на магазинные витрины, знал, как это интересно, впервые приехав в чужой город, смотреть на то и на другое. Ему нужно было уединение, чтобы привыкнуть, унять внутреннее беспокойство, не оставлявшее его, освоиться. Он вглядывался в глубину аллей, в конце которых скользили машины, виднелись дома, но Луиза не замечала его нетерпения, то и дело сворачивала на другие аллеи, а то просто на влажные тропы, указывала на кусты, на отдельные деревья, на изгибы длинного пруда.
— Правда, красиво?
Умолкала на минуту, давая ему возможность полюбоваться, и снова все говорила и говорила, рисовала перед ним «сияющие» перспективы давным-давно запланированных ею для него встреч, бесед, застолий. Словно он только за тем сюда и ехал, чтобы пить пиво за душеспасительными беседами. Но он ничего не мог поделать: это не Кавказ, где желание гостя — закон. И он изо всех сил изображал внимание, тут же забывая имена, которые она называла.
— Нас примет обер-бургомистр города доктор Хайнрих Ниверт…
Александр забеспокоился: влезать в чужую общественную жизнь ему, человеку, приехавшему с частным визитом, вроде бы не следовало.
— Вы считаете: это мне нужно?
— Это нам нужно, — решительно заявила Луиза, и он загрустил, поняв, что самостоятельно разгуливать ему не дадут.
Он даже приостановился, заставив Луизу укоризненно посмотреть на него. Как забыл, что ничего тут не делается бескорыстно? Если пригласили, значит, зачем-то он им нужен. Знал это, да, видно, не осознавал. Вот ведь как бывает! Мелькнула мысль: не удрать ли, пока не поздно? Взять чемодан и на вокзал. Билет до Ганновера, а там и до Москвы — в кармане… Но тут почти ощутимой болью прошла мысль о Саскии. Где-то ведь она должна быть? Уехать и не повидать?!
— А где Саския? — спросил он. Все не спрашивал, боялся выдать себя и вот не выдержал.
— Саския в Тюбингене.
— Где?!
— Это на юге, недалеко от Штутгарта.
— А чего она… там?
— Учится. В университете.
— Студентка? Она не говорила…
— Когда мы были в Москве, она еще не училась. Поступила потом.
— Но ведь она же… — Он чуть не произнес «немолодая для студентки», но спросил другое: — Разве у нее нет специальности?
— Она работала медсестрой. Ее ценили.
— Решила учиться на врача?
— Вроде этого. Решила врачевать души.
Он не понял, хотел переспросить, но Луиза, словно зная, чем можно отвлечь, решительно увлекла его в улицу. «Gartenstraße» — прочел он на углу, — «Садовая улица». Она и в самом деле вполне отвечала своему названию: с одной стороны парк за высокой железной изгородью, с другой — белые дома, утопающие в зелени. Машины тут сновали густо, пришлось долго ждать, пока они пройдут и на светофоре загорится бегущий зеленый человечек. Затем были прочие «Straße», которые уже не запоминались из-за их многочисленности. Но изгороди, вывески, выступающие балконы, углы, почтовые ящики на углах — все это западало в зрительную память, и Александр вскоре понял, что не просто так водит его Луиза по улицам, а дает возможность приглядеться, чтобы не заблудиться потом, когда будет один бродить по городу. Подумав так, он снова почувствовал тепло признательности к Луизе, исчезнувшее было, когда он подумал, что не из простого гостеприимства она пригласила его сюда. То подозрение, то признательность, как часто сменяли они друг друга в последние дни и ночи!..
— За прудом — замок, парк с другого конца близко подходит к нашему дому, впереди — вон там — конус кирхи, рядом — ратуша, слева белое здание — городской театр. Балетмейстером в этом театре Биргит Плауэн, активный член нашего общества способствования добрым взаимоотношениям. Сегодня вечером мы к ней приглашены…
Это было, конечно, очень интересно — посмотреть, как тут живут люди, — но это и пугало: кто он такой, чтобы с ним так носиться? Не успел приехать, а уже назначена куча визитов. Профессора какие-то, главный городской балетмейстер, сам обер-бургомистр пожелали повидать его. К чему бы это?
— К дождю, — вслух сказал он.
Луиза удивленно посмотрела на него.
— Да, дождь сегодня будет, — сказала, взглянув на сплошь серое небо. — Весна в этом году холодная.
Они оба устали, но все ходили из улицы в улицу, и Александр все думал о том, как хорошо умеют обставлять свой быт эти немцы. Старые дома не ломают, чтобы построить новые, а ловко достраивают их, так что получается и старое, и вроде бы современное. Так накапливаются ценности. Так вырабатывается уважение к сделанному нами ли, не нами ли. А это значит, что и у детей будет уважение к созданному, а в конечном счете вообще к труду созидающему. Богатство копится от поколения к поколению, когда не обесценивается нравственно то, что создано не тобой. Ведь если человек не бережет дело рук отца своего, может ли он рассчитывать, что его дети будут ценить созданное им? Круг замыкается. Добро, посеянное тобой, родит добро же. А от недобра чего можно ждать, кроме недобра же?..
Это было его слабостью — философствования по всякому поводу. А то и без повода. Часто он стеснялся этого. А теперь почему-то и стесняться не хотелось. От усталости? От бессонницы ли? Он подумал, что надо бы поспать хоть немного, а то опозорится у главной балетмейстерши, уснет на приеме. И он в шутку сказал об этом Луизе. И та, словно только и ждала этого, сразу заторопилась домой.
— Уле уже заждался. Обед приготовил…
После обеда Луиза оставила его в покое на целых два часа. Он хотел поспать, но не смог уснуть и вышел на улицу, побродил по тихим, словно вымершим, переулкам.
Потом дома церемонно пили кофе, как выяснилось, ежедневный и обязательный в это время. Затем Уле повез их куда-то, высадил и уехал. Уже темнело, и Луиза забеспокоилась, найдет ли нужный дом. Но нашла быстро, бодро взбежала на крыльцо.
Их встречали так, словно были они самыми дорогими родственниками. Тоненькая, как и полагается балерине, Биргит водила Александра по комнатам, церемонно представляла гостям, и он не знал, куда деваться от такого внимания. В конце концов решил, что неизбежного не избежать, что поскольку такие церемониалы предстоят и впредь, то не лучше ли будет, если он отнесется к этому как к должному? С важным видом Александр раздавал московские значки, которых навез целую кучу, мило улыбался женщинам, важно пожимал руки мужчинам и жалел только о том, что всего этого не видит его въедливая жена. Может, тогда она перестала бы иронизировать по поводу его неумения держать себя в обществе.
Пока гости шумно обсуждали свои проблемы: кто где бывал, да кто кого встретил, да кто кому что сказал, — пока длилась вся эта казавшаяся ему напускной радость, Александр с дотошностью квартиросъемщика осматривал дом. Сумбурно, вразброс повсюду понавешаны были картины, но не в золоченых рамах, как у московских снобов, а в тонких белых рамочках или вовсе без них. У окон стояли цветы, возле входной двери ярко горел огонь в печи. Печь была сделана из толстого черного металла, передняя стенка — сплошное стекло, и за ним вплотную — огонь. Александр засмотрелся на него, по привычке дав волю своим аллегориям: огонь настоящий, но вполне безопасный, — этакий символ театра, где бушуют вроде бы настоящие, но никого не пугающие страсти. Засмотрелся и не расслышал, когда позвали к столу. Он заметил, что все смотрят на него, лишь когда вполне молодая и весьма красивая женщина, лет этак тридцати пяти, подошла к нему и взяла за руку.
— Мы вас просим.
Он глянул на нее и вдруг заволновался: женщина чем-то напоминала ему Саскию. Смутился, но тут же по внимательным глазам, обращенным к нему, понял, что смущение принимается за волнение и что волнение его этим людям нравится. Почти все тут были люди искусства, эстеты, умевшие ценить любое — естественное и искусственное — проявление чувств. «Die Schwerste Kunst ist, sich selbst zu besiegen»[9], — поймал он глазами надпись на стене. И успокоился.
— Мы очень рады, что вы приехали к нам, — сказала Биргит, поднимая бокал. — За ваше здоровье. — Последние слова она произнесла по-русски, очень мило произнесла, будто проворковала, и улыбнулась ему сладостно и оголенно.
— Вы — прелесть! — весело сказал Александр, вызвав этим комплиментом совсем уж восторженную улыбку хозяйки.
Он покосился на ее мужа, сидевшего рядом, тоже артиста, про которого он знал только, что его зовут Клаус.
«Или они меня принимают за знаменитость, которой все позволительно, или…»
— Мы рады послушать вас, — все с той же зазывающей улыбкой сказала Биргит.
— Говорун-то я плохой, — счел нужным предупредить Александр. — Да и немецкий знаю неважно.
Гости поняли его церемониальную скромность, промолчали. Он протянул руку, чтобы взять свой бокал, и вдруг словно впервые увидел стол — совершенно пустой. Бокалы гости держали в руках, и на столе не было ничего. Снова вспомнились слова Луизы: «У нас вы будете голодать», — и ему захотелось рассказать этим вежливым людям, какие столы накрывают в России, созывая гостей.
— Рассказывайте, — поторопила Луиза.
— Что рассказывать?
— О Москве, о себе, о чем хотите. Нам же все интересно.
— Ничего себе программка, — пробормотал он по-русски. И дурашливо добавил по-русски же знаменитую фразу из старого фильма «Свинарка и пастух»: — Лошади в Москве имеются в ба-альшом количестве, и лошади имеются разные.
Ему показалось, что гости все поняли и в восторге от его остроумия. И тогда он догадался, что дело вовсе не в том, что сказать. Им просто хочется послушать, как он будет говорить, и вообще посмотреть на него. И тогда он начал рассказывать общеизвестное, что Москва — пребольшой город, из конца в конец добрых полста километров, что театры знамениты на весь мир, но он в них не ходит, поскольку некогда, что телебашня — самая большая в мире, что Волга впадает в Каспийское море, на Кавказе — сплошные горы, а в Черном море летом хорошо купаться…
Он уже освоился в этой странной компании, которая терпеливо слушает все что угодно, уже без тостов отпивал глоток за глотком вкусное белое вино, которое, едва бокал пустел, сразу же доливалось молчаливым Клаусом, и ему казалось, что лучше компании и не бывает. Не то что у нас, где говорят все разом и никто никого не слушает.
— Извините, — сказала женщина, напоминавшая ему Саскию. — Но самая высокая в мире телебашня не в Москве, а в Торонто.
— Не может быть!
— Да, да, я сама читала. — Она волновалась, словно речь шла бог весть о чем важном.
Александр подумал, что слушатели все же пытаются разобраться в его сумбурной речи, и решил перейти к чему-либо более серьезному. Первое, что пришло в голову, — школьная реформа в Советском Союзе, о которой только и разговоров было в последнее время. Он представлял ее этим немцам в идеальной форме, свойственной мечтательным журналистам, привыкшим выдавать желаемое за действительное. И опять все слушали со вниманием, хотя, как он полагал, едва ли что понимали. От школьной реформы перешел к своей любимой теме — к истории.
— История — самое главное, что необходимо знать человеку, — горячо говорил он. — Без понимания прошлого нельзя правильно ориентироваться в настоящем. Взять историю взаимоотношений немцев и русских. Да, да, не историю войн, а историю взаимоотношений. Разве нечего будет вспомнить? Говоря о прошлом, надо думать о будущем. Так вот, если исходить из потребностей будущего, то мы придем к выводу, что необходимо акцентировать внимание на добром, что было между нами. Чтобы добро прорастало в будущем, только добро…
Он совсем не собирался говорить того, что теперь говорилось словно бы само собой. Вдруг пришла эта мысль, и она показалась ему очень уместной, и он начал развивать ее, сам загораясь интересной и отчасти для него самого новой идеей.
— …В русской науке, в искусстве много было немцев, которые обрели у нас вторую родину и которыми мы гордимся. Были и другие, но среди каких народов их не было? А русские разве мало доброго сделали для немцев? В далеком прошлом ценой неимоверных жертв остановили на своем рубеже дикую степь, не пустили кочевников в Западную Европу, а в недалеком, опять же ценой неимоверных жертв, спасли немецкий народ от чудовища фашизма…
Им откровенно любовались, он видел это. А та, которая была похожа на Саскию, так просто ела его своими большущими глазами. Понимала ли она его? Скорей всего, ее заражала горячность, как заражает хорошая игра актеров.
Катрин. Да, теперь он вспомнил ее имя, ведь их же знакомили. Он даже понял, чем она напоминает Саскию, — точно такой же курточкой, серо-серебристой с тонкой золотисто-розовой полоской, лежащей под горлом, как ожерелье. И, уже обращаясь только к ней, глядя прямо в ее темно-фиолетовые глаза, сказал с пафосом:
— С взаимного уважения начинается взаимная симпатия. Само собой ничто не приходит, надо посеять зерно, чтобы вырос колос. Надо культивировать взаимное уважение, надо верить друг другу, любить друг друга. Надо делать только доброе, тогда будут доброжелательство, добрососедство, дружба…
Ему аплодировали. Катрин так прямо ладошки оббила, а Луиза даже всплакнула чуток, достала платочек, высморкалась и все порывалась что-то сказать. Но все уже задвигались, завставали, то ли поняв, что Александр уже выговорился, то ли решив, что пришло время антракта.
Гости разошлись по квартире, рассматривая картинки на стенах. Возле печки, заслонив ее, стояли двое, оживленно разговаривали о московских театрах.
— Объявили антракт, все как бросятся к выходу. Оказывается, в буфет.
— Голодные?
— Нет, не голодные. Когда спектакль кончился, все точно так же бросились в раздевалку…
Александр мысленно выругался: неужто ничего хорошего не увидели? Он же только что говорил, призывал же. Не поняли? Высокомерие — вот причина всех бед. Если не по-моему, значит, плохо? А надо пытаться понять, увидеть хорошее в том, что не по-моему. На том, к примеру, семьи держатся. Если не стараться понять ближнего, как сохранить семью?
Сердитый, он сел в свое кресло в углу, взял бокал, который снова был наполнен. И все другие, как по команде, тоже начали рассаживаться по своим местам. Только Биргит со своим мужем Клаусом уселись за отдельный столик у дверей, настроили магнитофон и заявили, что специально для этого вечера они подготовили литературно-музыкальную композицию и что она рассчитана на два часа с небольшим перерывом.
Александр поскучнел, захотелось на улицу, на воздух. Он думал, что званый вечер кончается, а оказывается, только начинается и гвоздь программы — вовсе не его трогательная речь.
Биргит долго читала отрывок из какого-то исторического романа, Клаус с выражением прочел длинное стихотворение, затем Биргит опять читала прозаический отрывок, наконец, была музыкальная пауза и снова чтение. Это было непривычно, хотелось спать, и Александр больше всего боялся закрыть глаза и уронить голову. Его удивляло, что все другие слушают это чтение с неистовым вниманием, как только что слушали его. В московской компании откровенно бы зевали, а тут слушают. Неужели им так уж интересно все это? Или они настолько завоспитаны, что не позволяют себе обидеть хозяев даже малейшим невниманием? «Что ж там такого интересного?» — думал Александр, вслушивался в монотонное чтение и снова, то ли оттого что чтение было быстрым и он не все понимал, то ли от неумения сосредоточиться, терял смысловую нить. Так бывает на собраниях при долгих монотонных докладах. Слушаешь и не слышишь, думаешь о своем.
«Может, у них информационно-эмоциональный дефицит?» — подумал он. И вдруг сделал неожиданный обобщающий вывод: немцы — рассуждающая нация, а мы, то есть русские, — страдающая, переживающая, все принимающая близко к сердцу. Усмехнулся от такой мысли, поймал на себе вопросительный взгляд крупноглазой Катрин, смутился, снова начал вслушиваться в чтение и снова потерял смысловую нить.
«Почему они такие правильные? — думал он. — Ну один-два могут быть, но ведь вроде бы все? Национальная черта? Но для возникновения национальной черты нужен исторически длительный период становления. Какое же единообразие, отличное от нашего единообразия, породило национальные черты немцев?..»
Бывало, и прежде приходили эти мысли, но теперь словно шампур прошел через известные ему исторические факты, нанизав их на себя в стройной последовательности. Была ведь много тысячелетий назад какая-то общность племен, и в той общности предки немцев и русских были почти родней. Недаром же их языки — от одного индоевропейского корня. Потом разделились, забыли, что они — дальние родственники. Известно, как быстро разобщаются народы. Русские и украинцы всего-то три века жили врозь, а уж и языками разошлись. Правда, здесь же, в Германии, в Китае и еще кое-где есть этнические группы, чьи языки разделяются еще больше. Но про те языки говорят — диалекты. А про русский и украинский так, будто они самостоятельные, отдельные языки. Почему так говорят, кому надо, чтобы русские и украинцы смотрели в разные стороны? Ну да не о том сейчас речь, не о том…
Разделились, разбежались исторические судьбы народов. Далеко ли? Даже между очень дальними родственниками всегда есть общее. Проанализировать бы это общее, поискать да сделать ставку именно на него в поисках взаимных контактов. Только мало ищется это общее, все больше разговоров об исторических разногласиях, о войнах.
Однако что же все-таки наложило печать на разность национальных черт? Разность условий жизни… Что же еще? У обоих народов одинаковая система нравственных ценностей, оба — исконные земледельцы и строители, для обоих Родина превыше всего! Потом гитлеризм, как и на многом другом, паразитировал на этой наследственной аксиоме, провозгласив лозунг «Германия превыше всего!». Но если прежде подразумевалось, что родина превыше всего личностного, частного, то гитлеровцы этим лозунгом попытались противопоставить один народ всем другим народам, и в первую очередь народам-братьям — славянам. Кому понадобилось это разобщение? Не такая уж сила гитлеризм, чтобы мигом подавить все добродетельное. Гитлеровцы — лишь отражение злой силы, подспудно существующей в раздираемом социальными противоречиями человеческом обществе. Так микробы, гнездящиеся в живом организме, вдруг набирают силу и множатся и травят все вокруг, если организм ослабевает от чего-либо — простуды, травмы, перемены условий существования. Им, микробам, наверное, кажется, что они и есть основа всего, а на самом деле их активность лишь приближает их же конец. Потому что микробы только и могут существовать, пока живет организм, на котором они паразитируют…
Александр перевалился на другой бок в своем глубоком кресле и усмехнулся, поняв, что его куда-то не туда занесло.
Хозяева-декламаторы все читали свои бесконечные цитаты, и гости с тем же интересом слушали их.
…Кочевники! Не они ли первопричина? Киевская Русь не рассматривалась азиатской страной: русские торговали и женихались с европейцами на равных. Хотя и тогда Русь испытывала постоянное давление кочевой степи. Волею исторических судеб стоявшая на порубежье между двумя формами хозяйствования, она должна была стать щитом земледельческой Европы. А у пахаря-воина психология иная, чем просто у пахаря. Степняки не миловали, а унижали хуже смерти. Им ничто не было дорого, ни твой дом, ни твои города. Для кочевника богатство не то, что в городе, а что в его кибитке. Открытая на все четыре стороны степь — его идеал, с этим идеалом он приходил на русские земли, не задумываясь над тем, что сохраненный город, живые его жители могут дать больше богатства, чем мертвые. Земля велика, считал кочевник, и можно сжигать, стравливать, вытаптывать все, поскольку завтра — откочевка на другое место, невытоптанное, нестравленное. Он не только не хотел, но и не мог понять земледельца, вынужденного терпеливо пахать, сеять, ждать, когда взойдет урожай, откладывать добро на зиму, на другой год. Психология земледельца вела к стабильности крепких селений и городов. Так было в Европе, так было и на Руси. Но если в Европе люди жили относительно спокойно, ссорясь только по мелочам с соседями, такими же как они сами, то Руси приходилось существовать на грани жизни и смерти. Чуждый мир бился о монолиты городских стен, часто сметал их, и у жителей не укреплялась уверенность, что содеянное может стоять вечно. Разорялись селения, сжигались хлеба, и руссам вновь и вновь приходилось начинать сначала. Не отсюда ли черты нашего характера — торопливость, готовность недоделывать, некоторая небрежность, вера в «авось»?
А они, немцы, обживались, прикрытые нами от степи, и вырабатывали свои хваленые благодушие и довольство, умение дорожить всем созданным, уверенность, что положенный сегодня камень завтра непременно послужит опорой для другого камня…
Александр сидел, усыпляемый монотонностью чтения, смотрел на умиление, написанное на лицах, удивлялся терпеливой благожелательности в каждом из этих людей и завидовал их исторической судьбе. У каждого народа своя судьба, и сетовать тут вроде бы не на что, но думалось, что ведь это все-таки благодаря нам они такие хорошие… Но ведь и мы не разучились понимать, что в них, немцах, хорошо, а что плохо. И может быть, сохраненное ими хорошее есть и наше благо?..
Он снова потянулся к бокалу: чего только не лезет в голову в полудреме под монотонное чтение! Поднял глаза, и Катрин, словно почувствовав это, посмотрела на него. И неожиданно улыбнулась. Улыбка у нее была открытая, зовущая…
И тут он разобрал, что такое читала Биргит. «Лореляй» Гейне. Лореляй! С этим стихотворением у него было связано нечто интимное. Когда-то, давным-давно, он даже переводил его. Специально для одного человека с пышной косой и строгими глазами. Переводил и видел себя рыбаком из этой легенды, который мчится на своем челноке через опасные воды, не сводя глаз с Лореляй, сидящей на горе и расчесывающей золотым гребнем свои драгоценные волосы. Забылась та история, и перевод тоже забылся. А вот теперь вспомнился. Не весь, а лишь приписанный от себя конец, холодный и назидательный:
Я знаю, беде навстречу Плыть суждено и мне. Пожалуй, и я не замечу Подводных черных камней!..IV
— Александр Сергеич, пора вставать!
— Я уже встал! — крикнул он, высунувшись из-под перины.
Бог знает, чего это Луиза величала его, когда будила. Так все — «Александр, Александр!». А утром с каким-то особым значением — по отчеству.
В комнате было холодно: вчера забыл прогреть батарею на ночь. Вставать не хотелось. Он посмотрел на часы и выругался: черт бы побрал Луизину педантичность! После вчерашнего полагается поспать всласть. Но у нее, видите ли, программа. Для этого он, что ли, сюда ехал, чтобы за кем-то ходить хвостом?!
Поднялся, передернулся от озноба. Помахал руками, но заниматься физзарядкой не хотелось. Хотелось пить. Открыл было кран, да передумал: столько пишут о загрязнениях рек в Западной Европе. Подумал: неплохо бы принести да поставить под кровать пару бутылок пива. О немецком пиве он наслышан был еще в Москве, знал, что пьют тут много. Мировой рекорд по потреблению пива принадлежит именно ФРГ — 150 литров на душу населения в год. Друзья, провожая, мечтательно говорили: пива там попьешь немецкого! А он еще и не пробовал.
— Александр Сергеич, завтракать!
Он торопливо начал бриться, ополоснул лицо холодной водой, надел свитер, чтобы не возиться с галстуком, удовлетворенно посмотрелся в зеркало: синий свитер с его синим костюмом смотрелся тоже неплохо.
Когда вышел на кухню, первое, что увидел, — большую бутылку минеральной воды на столе. Не утерпел, попросил разрешения попить.
— Конечно! — радостно пропела Луиза. — Пожалуйста! Берите все, что надо, чувствуйте себя, как дома.
— Дома я сегодня спал бы до двенадцати, — сказал он.
— Вы такой соня?! — с деланным ужасом воскликнула она и, словно извиняя, как вчера, доверительно прикоснулась щекой к его плечу.
— Вчера ж вино пили. Опьянел малость, — сказал он по-русски.
— Опьяне-ел! — пропела Луиза, и банальное слово это прозвучало у нее красиво, мелодично.
— И без закуси.
— Что такое «закуси»?
Он хотел оправдаться, говоря это, а вышло, будто укоряет.
— Это не переводится.
— Да-да, у нас тоже много таких слов.
«У вас таких слов нет», — подумал Александр. Немцы каждое слово втискивают в прокрустово ложе смысла, а у нас многое говорится просто так, лишь для эмоций, а то и ни для чего, «для балды».
Уле сидел уже за столом в холле, молча дожидался, когда они кончат разговаривать. Он был молчун, этот Уле. Оживлялся, лишь когда речь заходила о политике. Но Александр избегал разговоров о политике, и хозяину ничего не оставалось, как отмалчиваться. Зато Луиза говорила за двоих. И сейчас, едва сели за стол, она принялась разворачивать перед Александром программу дня.
— Скоро придет корреспондент. Потом мы нанесем визит в мэрию. На три часа назначена аудиенция у обер-бургомистра…
Из всего этого он понял только то, что и сегодня ему не удастся побродить по городу одному.
— Какой корреспондент? — спросил он.
— Из нашей газеты «Нордвест цайтунг». Будет брать интервью.
— У кого?
— У вас! — Ей казалось, что она доставила ему бог весть какую радость своим сюрпризом.
— Почему у меня? Что я — принц?
— Наши газеты пишут не только о принцах.
— Но я не могу давать интервью.
— Почему? — В ее голосе слышалась обида.
— Я не общественный деятель, я тут — частное лицо.
— Корреспондент знает об этом.
— Но я не могу…
Как еще объяснить? В Москве столько предупреждали, чтобы не ввязывался ни в какую политику, и больше всего, пожалуй, жена. «Ты такой доверчивый, тебя так просто обмануть». Вспомнив об этом предупреждении жены, он вдруг забеспокоился: откуда знает? Сама обманывала? Вот уж не поверил бы. Но червячок, шевельнувшийся в сердце, уже не давал покоя.
— А… можно в Москву позвонить? — неожиданно спросил он.
— Конечно!
Луиза кинулась к телефону. Но, когда заказ был уже принят, Александр вдруг подумал, что разговаривать-то, вероятно, будет не с кем: жена на работе, а Нелька наверняка где-нибудь крутится. Звонить надо было вчера вечером, как он и обещал, сообщить, как доехал.
К его удивлению, Москву дали быстро и дома оказались обе — жена и дочь.
— Ты чего дома? — с не остывшим еще беспокойством спросил он.
— Я сегодня попозже. Отпросилась. Как знала, что ты позвонишь.
Это «как знала» теплом прошлось по сердцу, и червячок сразу затих. И он снова почувствовал себя свободным и смелым. Только что вертелись мысли: не удрать ли домой, пока не впутался тут в какую историю. Теперь верил: не впутается. Можно далеко идти, когда знаешь, что есть куда вернуться.
— Ты чего? — спросил, не слыша жену.
— Да Нелька трубку отнимает.
— Па-а! — услышал радостный, взвинченный до визга голос дочери. — Ну как там?!
— Нормально. А у тебя?
— Нормально. А ты чего делаешь?
— Завтракаю.
— Так поздно? А сколько там времени?
— Отними три часа от московского.
— Па-а!
— Ну чего? Ты давай думай поскорее, это ж не домашний разговор, каждая минута дорого стоит.
— Па-а… Привези чего-нибудь.
— Чего?
— Ну, чего-нибудь…
Снова голос жены:
— Она наговорит, только слушай. Ты хоть доволен?
— Доволен.
— Ну, гляди там, не очень-то…
Положил трубку и минуту стоял, переживая. Словно год не был дома и вот навестил.
— Что сказали? — спросила Луиза.
Он пожал плечами. Ничего вроде бы не сказали друг другу, а что-то изменилось.
— Этот корреспондент писать обо мне собрался?
— Конечно.
— Зачем? Мне это не нужно.
— Это нам нужно. Вы — мой гость и гость нашего общества.
Стало понятно: она использует его в качестве рекламы своего общества, но подумал об этом не сердясь. Все прояснялось. Теперь даже на вопрос жены: «Чего она к тебе привязалась?» — он смог бы ответить. Сказал бы, что это у Луизы такая общественная деятельность — водить его за собой, показывать всем, как заморскую диковину, которую заполучило их общество. Дескать, видите, какое оно влиятельное, вступайте в него!
Корреспондент оказался тоненькой девочкой в джинсах, такой молоденькой, что Александр успокоился: видно, общественность Ольденбурга не очень-то интересуется его персоной, если газета прислала такую малоопытную журналистку. Но Луиза приняла ее по первому классу. Полчаса показывала сувениры, привезенные Александром, — уральские каменные безделушки, деревянные шкатулки, кедровые орехи, даже московскую водку, которой, как он успел заметить, и в местных магазинах немало. И все это обыкновенное вызывало у журналистки восторг и удивление.
«Умеют же притворяться! — в свою очередь удивлялся Александр, ставя по указанию Луизы электрический самовар специально для того, чтобы шикануть перед гостьей. — А еще говорят: немцы высокомерны. У нас бы подобный осмотр вызвал скептические пожимания плечами: я это видел, мы это знаем, у нас это есть…»
Под глухое бульканье самовара, стоявшего на журнальном столике в гостиной, пили чай, который после завтрака не больно-то пился, и Луиза целых полчаса рассказывала корреспондентке о своем обществе:
— Наше общество не зависимо по своему мировоззрению ни от каких политических партий. У нас одна цель — содействовать расширению культурных, экономических, научных, спортивных и каких угодно других связей между ФРГ и СССР, чтобы служить делу мира и взаимопонимания. Мы стремимся к живому обмену информацией, к непосредственным связям между гражданами обоих государств. Формы работы самые разные: выступления с докладами, организация базаров и выставок, путешествия с познавательной информационной целью. Мы исходим из того, что люди должны знать друг друга. Только знание ведет к доверию… Раньше нам говорили о наследственном враге — Франции. Теперь этот образ врага устранен. Мы стремимся, чтобы и с русскими у нас были такие же добрые, доверительные отношения, как с французами. Давайте понимать свое место в Европе как историческую миссию, как предначертание и протянем руки дружбы и на запад и на восток. Современная эпоха не оставляет народам альтернативы, либо мы живем в мире и дружбе, либо мы совсем не живем…
Самовар дважды переставал булькать, и дважды Александр включал его, удивляясь страстной речи Луизы. Казалось бы, чего понятнее? У нас даже в мультфильмах призывают: ребята, давайте жить дружно! Но, может, именно страстность-то и нужна в этом деле? Может, если уж правительства западных стран с таким трудом идут навстречу вроде бы ясным призывам Советского Союза, то «пусть идут навстречу друг другу простые люди? Если целое с целым не находит общего языка, так не помогут ли части этого целого?..
Она умолкала на миг, чтобы пододвинуть гостье печенье или вазочку с кедровыми орехами, и тогда было слышно, как в соседней комнате Уле шуршит газетами, как ходит наверху одинокий-неодинокий студент, как бурчит самовар, будто недовольный, что о нем забывают.
Александр взял со стола яркую книжку сказок Пушкина, выложенную Луизой специально для того, чтобы показать, что в этом доме читают русских писателей. Книга была на немецком языке. «Сказка о царе Салтане», изложенная скучной прозой.
— Так же нельзя! — возмутился Александр.
— Пожалуйста, — сказала Луиза. — Говорите.
— Что говорить?
— То, что вы хотите сказать.
— Я хочу сказать, что так переводить нельзя. Во-первых, стихи и по-немецки должны звучать как стихи или хотя бы как ритмическая проза.
— Говорите…
Он понял, что Луиза хочет, чтобы разговорился, как вчера, и, обрадовавшись возможности избежать интервью, начал читать на память стихи Пушкина, которые знал. Ему хотелось показать, как чеканно звучат поэтические строки на русском языке.
Они слушали со вниманием и, казалось, готовы были слушать сколько угодно.
— Русский язык очень мелодичен, русская поэзия певуча, в ее интонационности, часто даже больше, чем в содержании стихов, сила их воздействия на читателей, на слушателей. Пересказывать русскую поэзию прозой — все равно что искажать язык, извращать русский характер. Так нельзя, так вам никогда не понять нас…
Корреспондентка что-то записывала, а Луиза смотрела на него почему-то испуганными, блестящими от слез глазами и шептала тихо, будто заклинала:
— Я, я! Зо, зо! Их вайс! Их хёрте дизе!..[10]
От этого неистового, полуобморочного ее внимания веяло жутью, за всем этим чувствовалось что-то недоговоренное, какая-то страшная тайна, которой она сама боится.
На этом интервью и закончилось. Корреспондентка ушла, сказав неизменное «данке», так и не притронувшись ни к чаю, ни к кедровым орешкам, с которыми она не знала, что делать. А он удивлялся: неужто только затем и приходила, чтобы услышать его мнение о Пушкине? И Луиза ничего не сказала, казалось, она вообще тут же забыла о корреспондентке, засобиралась, заторопилась.
— Пора ехать к доктору Зиберту.
— Кто это?
— Заведует отделом культуры в магистрате. Собирайтесь, опаздываем…
Но они успели. Молчаливый Уле привез их к магистрату за пять минут до назначенного времени и уехал. Они поднялись на третий этаж, открыли дверь со скромной стеклянной табличкой. Девушка, сидевшая за дверью, вскочила из-за машинки.
— Раздевайтесь, вас ждут.
Они сняли плащи, влажные от моросящего на улице дождя, прошли в другую дверь. Улыбчивый, весь какой-то мягкий и совсем молодой человек поднялся навстречу из-за рабочего стола, заваленного бумагами, сел за другой стол, гостевой. Сразу вошла девушка, принесла поднос с чашечками кофе и крохотным молочником, и Александр удивился: когда успела приготовить? Оставалось снова уверовать в немецкую педантичность: она начала готовить кофе десять минут назад, точно зная, что посетители, то бишь он с Луизой, прибудут в назначенное время.
С настырностью антрепренера Луиза представляла Александра и свое общество. По ее словам выходило, что связи общества повсеместны и широки, что самые знаменитые люди приезжают по его приглашению и Александр — одна из таких знаменитостей.
— А я только что приехал из Советского Союза, — сказал доктор Зиберт. — Наша делегация ездила в Алма-Ату. Мы хотим дружить городами или, как по-русски, быть городами-побратимами.
— Чего ж Алма-Ата? — Его удивил такой выбор. Несмотря на все красоты, Ольденбург все же трудно сопоставить с Алма-Атой. — Думаю, географически вам лучше бы подошел Псков или, скажем, Смоленск.
Доктор Зиберт промолчал, но видно было, что ему не понравилось такое предложение.
— Мы готовы были бы развивать дружбу на всех уровнях. И если бы не советские ракеты… — Доктор Зиберт пожал плечами и умолк, опустив глаза.
— При чем тут советские ракеты? У вас американские под боком, они что — не беспокоят?
— Советские ракеты СС-двадцать все время ездят, угрожают…
— Советские ракеты не могут угрожать. Они — оборонительная мера. У нас просто некому заниматься угрозами, все поголовно за мир, даже военные…
Он понимал, что тут нужны бы какие-то другие, не столь избитые слова, но других он не находил.
— Я знаю вашу страну, не раз бывал там. И я знаю: вы не можете говорить за всех. У вас запрещены даже демонстрации в защиту мира.
Доктор Зиберт все время улыбался, словно говорил невесть какие комплименты, и это Александра особенно злило.
— Как это запрещены?
— У вас их никогда не бывает, не то что у нас.
— Значит, у вас они нужны, а у нас нет в них надобности. Вот если бы такую демонстрацию можно было устроить у Белого дома или у вас, будьте уверены, очень и очень многие захотели бы по-русски сказать вашим господам, что думают о них в России…
Он понимал, что его заносит. Не дело говорить такие вещи, да еще официальному лицу, но удержаться терпения не было.
— А вы можете демонстрировать у нас.
— Как это?
— Очень просто: выходите на улицу и демонстрируйте.
— У вас своих демонстрантов хватает.
Доктор Зиберт по-прежнему улыбался доброжелательно, но Александр ясно почувствовал, что доктор этот больше ими не интересуется. Почувствовала это и Луиза.
— Доктор Зиберт — занятый человек, — сказала она и зашевелилась на стуле, вставая.
— Да-да, демократическая форма жизни — очень тяжелая, — вдруг начал жаловаться доктор Зиберт. — Вчера мне пришлось работать до одиннадцати ночи…
Луиза кивнула понятливо, Александр кивнул понятливо, и таким образом они откланялись, оделись и вышли на улицу. Большая площадь перед зданием магистрата блестела, смоченная дождем. Люди шли под зонтиками, торопились, и казалось, что вдали, по ту сторону площади, бегают вдоль домов гномики в широкополых шляпах.
— С доктором Зибертом надо бы повежливее, — упрекнула его Луиза.
— Но он бог знает что говорит. Не мог же я соглашаться.
Некоторое время шли они молча. Александр думал о том, как избежать подобных разговоров у обер-бургомистра. Официальное лицо, и визит пусть будет официальным, взаимовежливым. Поклониться, представиться, и до свидания.
— А после этого бургомистра можно я один погуляю? — спросил он.
— Вы же сегодня в театр идете! — нервно, все еще сердясь, воскликнула Луиза.
Он совсем забыл об этом. Точно, вчера были какие-то разговоры о театре.
— Вы пойдете с Катрин, так сами пожелали.
Вот этого он не помнил вовсе. Был какой-то треп, вроде того: «С вами? С удовольствием!» Он этому и значения не придал. Мало ли как с дамами любезничают. Выходит, всерьез приняли… Впрочем, с Катрин все же повеселее, чем с Луизой.
— У нас есть немного времени. Может быть, вы хотели бы зайти в музей? Он как раз по пути.
Музеи были его слабостью, и Александр охотно согласился. В педагогическом институте учился на историческом отделении. Педагог из него не получился, а любовь ко всему музейно-историческому осталась при нем. Помотался по разным работам, пока не прижился в Институте археологии, пристрастился каждое лето ездить на раскопки.
— Мне бы хотелось походить одному, оглядеться, опомниться, — сказал он.
Луиза поняла, прижалась к его согнутой в локте руке, за которую все время держалась, сказала успокаивающе:
— У вас будет много свободного времени, обещаю вам. — И добавила непонятное: — Дайте мне самой опомниться.
Снова промелькнула эта тень тайны, окутывавшей его приглашение в ФРГ. Как-то Луиза обмолвилась, что сама хлопотала о его приезде, в советское консульство обращалась, куда-то еще. Отчего такая настойчивость? Кто он ей?! Почему она носится с ним как с писаной торбой? Спрашивать было неудобно, оставалось положиться на время, которое в конце концов все разъясняет, все ставит на свои места.
Городской музей, куда они вскоре пришли, был богатый, но в общем-то обыкновенный, каких Александр видел немало. Здесь не было нового, как в наших музеях, не стояли на стендах сапоги, выпускаемые местной фабрикой, — все только старое, старинное. Музей истории, он и отражал историю, тончайшие струны, тянущиеся к сегодняшнему дню из прошлого. Едва ли здесь в запасниках складировалась современная жизнь в расчете на то, что со временем она станет старой и приобретет историческую ценность. Сегодняшний день бушевал за окнами, и его лучше всего было смотреть на улицах и площадях, нежели тут, в омертвевшей музейной тишине.
Александр быстро освоился в тихих залах, отошел от внутренней скованности. Ходил и как бы вслушивался в таинственные звуки, издаваемые этими умозрительными струнами.
Ольденбург! Откуда это название, он так и не понял. То ли от «golden» — «золотой», то ли от «alten» — «старый», то ли от слова «Öl» — «масло». Возникший в 1108 году, город тихо и благополучно дожил до наших дней, оставшись сравнительно маленьким и теперь — 130 тысяч жителей. Может, и «масло», поскольку климат мягкий, луга вокруг и коров на этих лугах, наверное, всегда было немало. На одной из картинок, промелькнувшей перед глазами, Александр видел это слово «Oldenburg», которое держали на рогах девять коров.
И не было тут больших и разорительных войн, как на Руси. Только два события омрачили многовековую историю — чума 1667—1668 годов и пожар, случившийся восемь лет спустя. Счастливая судьба, если сравнивать с русскими городами. Москва столько раз превращалась в пепелище, пустела от моровых язв! Как не быть благодушными ольденбуржцам! При таком-то прошлом! Да и войны, происходившие тут время от времени, были не войнами в нашем понимании, а так, ссорами князей да графов. Бледный слепок тех трагедий, что под напором кочевой степи разыгрывались на Руси. Ни разу не возникало здесь необходимости, как у нас, всем, от мала до велика, выходить на валы и сражаться до последнего. У нас порой прерывалась связь времен потому, что некому было эту связь передавать от поколения к поколению. Так, ничего почти не известно об одном из крупнейших побоищ XIII века — сражении на Сити, потому что не осталось в живых ни одного свидетеля. Есть ли другой народ, на чью долю выпало столько бед?! Есть ли другой народ, столь же мужественно, раз за разом, встававший из пепла?!
Александр ходил из зала в зал и не видел картин, мраморных скульптур, рыцарей в латах, оружия, предметов быта, выставленных в светящихся витринах, искусных макетов Ольденбургов разных веков. Здесь, вдали от родины, он неистово любил родину, думал только о ней, видел только ее. Мученичество и величие народа своего давало ему столь необходимые теперь силы чувствовать свою значимость в этом мире видимой стабильности, благополучия и, что он уже успел почувствовать, — самолюбования.
Где-то он читал фразу: «Западная Европа была, да и остается сейчас, в неоплатном долгу перед нашей Родиной». Сейчас он верил в это, как никогда.
Неожиданным и странным было это ощущение: уехал из дома черт-те в какие дали, а словно и не уезжал никуда.
Вспомнил, что Петр I во время своей заграничной поездки был где-то здесь. Не в Ольденбурге, — после мора да пожара едва ли город был привлекателен, — но рядом. А другие цари да царицы наверняка бывали. Некоторые, может, и вообще отсюда родом. Вон оно, генеалогическое древо, — нарисовано во всю стену. Ветви немецких династий, ветви русских династий — все переплелось. И верхняя ветка обрублена. Николай II. Все!
Но ведь не только князья да цари общались, а и народы тоже. Это очень странно, что двадцатый век едва не оборвал не только династические, но и культурные, общественные, всякие другие переплетения. Первая мировая война больше всего разобщила именно наши народы. Вторая довела это разобщение до крайней степени вражды. Случайность ли, что главными воюющими нациями оказались именно немцы и русские? И может, образование дружественной нам ГДР есть не что иное, как проявление некой глобальной исторической потребности, осуществляемой уже на иных, социалистических, путях? Может, люди здесь, в ФРГ, так жаждущие расширения контактов между нашими народами, — наиболее чувствительные камертоны, звучащие в тон этой неслышимой пока глобальной гармонии слияния? И может, нынешние потуги черных заокеанских да и некоторых местных сил вновь противопоставить немцев русским не что иное, как стремление помешать этому слиянию, не дать соединиться в гармоничное единое двум великим народам? Может, кому-то надо, чтобы немцы и русские и впредь взаимно истощали друг друга?..
— Вам, должно быть, интересно, вы так задумались? — сказала Луиза.
Он посмотрел на нее с каким-то новым любопытством, и она заметила эту новизну, смутилась.
— Я бы не мешала, но нам пора.
Он опять ничего не сказал, не мог, послушно пошел вслед за ней к выходу.
Трепет, с каким Луиза, да отчасти и он сам, шли к обер-бургомистру, оказался совершенно напрасным. Когда вошли в просторный зал-кабинет старой городской ратуши, навстречу из-за стола поднялся высокий, прямо-таки здоровенный человек с каким-то покорным выражением на крупном лице.
— Хайнрих Ниверт, — представился он.
Александр назвал себя, они сели за отдельный столик, на котором уже стыли неизменные чашечки кофе, и Луиза заторопилась, защебетала, стараясь представить свое общество в наилучшем виде.
Потом обер-бургомистр вручил Александру альбом с видами Ольденбурга, а Александр ему — сувенирный металлический рубль, случайно оказавшийся в кармане, и на том они расстались, вполне довольные друг другом. Особенно ликовала Луиза и всю обратную дорогу говорила Александру, что вот теперь он понял, как себя вести с официальными лицами, теперь он полностью молодец.
А еще через несколько часов Луиза проводила его к театру и с рук на руки сдала Катрин.
Катрин была хороша. Что она сделала с собой, Александр понять не мог, но изменилась неузнаваемо. Ему казалось, что от вчерашней Катрин остались только знакомый прищур больших глаз да золотисто-розовая полоска курточки на горле. Ему нравилось, что она надела эту курточку, из-за нее было ощущение, будто он собрался в театр с человеком давно знакомым, которого можно не стесняться.
Сначала Катрин показала ему театр снаружи, обвела вокруг старинного белого трехэтажного здания с колоннами и аркадами. Потом они остановились перед большой современной пристройкой, где у входа в скорбной позе стояла на невысоком постаменте бронзовая девушка, похожая на безработную, по всей видимости, балерина. За огромными стеклами, в два этажа, просматривались зазывающие красные интерьеры, раздевалка внизу, прогулочный вестибюль вверху. Люди уже толпились и наверху, и внизу, и здесь, перед входом, и по этой толпе никак нельзя было подумать, что театр не пользуется популярностью.
— Моин, моин! — сказал какой-то парень, проходя мимо, и помахал Катрин рукой.
— Моин, моин!
— Что это — пароль? — игриво спросил Александр.
— Это не переводится.
— Но ведь что-то означает?
— Просто — привет. При-ве-тик, — неожиданно добавила она по-русски.
— Вы знаете русский? — удивился он.
— Нет, не знаю. Только хочу знать. У нас группа изучающих русский язык. Вместе с Луизой.
— Вам нравится русский?
— Мне нравится русский. — Она подняла к нему глаза, полные озорного блеска. — Знаешь, говори мне «ты».
— Мы же не пили на брудершафт, — так же игриво отозвался Александр.
— А, знаю, у русских надо целоваться, чтобы говорить «ты».
И прижалась к нему, спокойно поцеловала в щеку, возле самых губ.
Он метнул глазами направо и налево. Люди проходили мимо, не обращая на них внимания.
— Ну пойдем, еще внутри надо посмотреть.
Внутри смотреть было особенно нечего. Поднявшись на второй этаж по широкой лестнице, они оказались в том самом красном вестибюле, который только что рассматривали с улицы. На стенах висели огромные рекламные фотографии, в двух местах — у стены и посередине вестибюля — хлопотали за стойками буфетчицы в белых кружевных передниках.
Публика была в основном — молодежь. Были женщины в тяжелых вечерних платьях и девчонки, одетые, как кому вздумается. Все уживалось тут, никто никому не мешал.
А зал был старый, традиционными ярусами вздымался к высокому потолку. Повсюду — пестрота ламп и лепнины. Пухленькие амурчики висели над партером, приклеенные к ложам за золоченые крылышки. И он был полон, этот зал, можно сказать, переполнен. Но тем страннее было читать в программе целую страницу благодарностей: фирме Каузельман за предоставление театру одиннадцати игральных автоматов, фирме Хортен за выставочные модели. Театр, как видно, был все же на дотации меценатов-поклонников.
Сегодня давали «Фауста», спектакль, как говорили еще вчера, ставленый и переставленный. А люди шли. Значит, стоящее? И Александр, сидя в самой середине партера, оглядывал говорливый зал и предвкушал особое зрелище.
— Ты в Москве часто ходишь в театр? — щебетала Катрин.
— Не часто, — не глядя на нее, отвечал он.
— У вас, говорят, хорошие театры.
— Говорят.
— А я так без ума. Все смотрю.
— А ты где работаешь? — спросил он и только затем вспомнил, что о таком спрашивать не принято.
— В банке.
— Банкирша, значит?
Она засмеялась, наклонилась к нему и, щекоча дыханием, ответила:
— Банкирша с минимальным окладом.
Свет погас, занавес раздвинулся, и Александр увидел пустую сцену, стол посередине и обычного современного чиновника за ним. Это было неожиданно, поскольку он рассчитывал увидеть по-немецки изящную средневековую пышность декорации, но и любопытно: значит, не строго по Гёте, значит, современное переосмысление? Но содержание, насколько Александр помнил «Фауста», было все-таки гётевское. Монологи о смысле жизни, о старости и молодости, о человеческой тоске по уходящим радостям. Были и бутылка на столе, как последняя соломина отчаявшегося, и роковой призыв сатанинских сил. И сатана явился в облике обыкновенного бюргера, какие ходят по улицам. Александру понравилось такое осовременивание пьесы. Ведь и в самом деле: чужая жизнь кажется нереальной, она не воспринимается как своя, с которой ты сталкиваешься повсеместно, и может, и есть резон в замысле режиссера, может, таким путем легче донести до зрителя главный философский смысл гётевской трагедии? Недаром же ее называют бессмертной. Ведь это прежде всего потому, что бессмертны идеи, заложенные в ней.
Все было по Гёте. Фауст воспылал запоздалым желанием любой ценой вернуть себе молодость и хотя бы еще разок влюбиться в молодую и красивую, и чтобы молодая и красивая влюбилась в него. И явившийся в облике обывателя Мефистофель пожал плечами: нет ничего проще, надо только запродать душу. Но поскольку у Фауста душа и так еле держалась в теле, то он без раздумий предал ее, подписав подсунутую Мефистофелем бумагу.
И тогда Мефистофель начал переодеваться. Скинул с себя цивильный костюм и штаны тоже скинул, достал из принесенного с собой чемоданчика кожаный набедренный пояс с хвостом и всякими непотребными выпуклостями и превратился в форменного черта. И поволок он Фауста по прелестям современной жизни. Рестораны, истерика джазов, распутные женщины с такими манерами, какие со сцены обычно не показывают.
Все представил Мефистофель строптивому Фаусту и ничем не соблазнил. Любовь ему подавай, да и только. И вот явилась юная Гретхен, этакая неловкая простушка с фабрики, и любовь ее была настолько скромна, что Александр забеспокоился: не поймут такой неземной любви сидящие в зале. Но, как видно, понимали, хлопали. Он скосил глаза, стараясь разглядеть лица людей, угадать, как они расценивают такую трактовку пьесы: маразм современных «радостей жизни» — от сатаны. Ничего не угадал: лица были бесстрастны. Словно люди давным-давно знают все это, смирились с этим и принимают жизнь такой, какая есть, — от сатаны ли ее радости, от бога ли…
Белая девичья комнатка посередине сцены, маленькая, целомудренно-чистая белая кровать, белый таз-умывальник в углу, белый крест на черном заднике. Входит мечтательная Гретхен и начинает готовиться ко сну: медленно, еще вся в думах о своем возлюбленном, снимает платье, разувается, сбрасывает комбинацию и остается лишь в бюстгальтере и трусах. Присела на кровать, помечтала и начала раздеваться дальше. Бюстгальтер лег на стул поверх комбинации. Это было уже слишком, и Александр покосился на Катрин. Та повернулась к нему, улыбнулась. Когда он снова посмотрел на сцену, Гретхен уже снимала трусы. Совершенно голая, она постояла в раздумье, прошла к кровати, взяла белую прозрачную ночную рубашку. Зал молчал. Александр боялся оглянуться на Катрин, боялся вообще шевельнуть головой. Смотрел на сцену и изо всех сил старался убедить себя, что ничего особенного не происходит, что сейчас Гретхен наденет рубашку и все встанет на свои места. Но уже чувствовал: что-то сломалось. В унисон с пьесой бившийся в нем протест вдруг словно бы споткнулся, оставив в душе пустоту, заполненную легкомысленной игривостью.
Дальше, правда, все было по Гёте, точнее по осовремененному Гёте, но трагедия уже не казалась трагедией, все вывернул наизнанку этот стриптиз невинности, убивший единственный идеал.
«Может, так и следует понимать? — уверял себя Александр. — Может, постановщики хотели сказать, что, продав душу, нельзя рассчитывать на святость и Фауст получил то, что и должен был получить? Может, постановщики просто не могут подняться над привычным, и жрицы любви, даром отдающиеся толпе, для них идеал бескорыстия и святости?» Ему хотелось оправдать спектакль, постановщиков, артистов, эту Гретхен. Он выискивал мотивы, путаясь в них, убеждал себя, что ничего такого особенного не произошло, что его смятение просто с непривычки, но уже ничего не мог с собой поделать: досматривать спектакль не хотелось.
Так и прошли для него последние сцены — в муках нетерпения и откровенной скуки. Нервное состояние, поселившееся в нем, не дало ему выстоять до конца долгое бисирование публики, вновь и вновь вызывавшей артистов на сцену. Он начал протискиваться к выходу, не обращая внимания на Катрин.
Уже когда они были внизу, у раздевалки, увидели Клауса. Он увлек их куда-то под лестницу, в пустынные коридоры, и вывел в небольшой артистический буфет, усадил за столик.
— Хочу вас познакомить, — шепнул он, не объяснив, чьим знакомством собрался осчастливить их.
Сидели долго, пили пиво, закусывая бутербродами с ветчиной. Приходили какие-то люди, представлялись, присаживались. Потом пришел полненький невысокий господин, показавшийся Александру знакомым, сел рядом, молча впился губами в край пивной кружки.
И тут он узнал его: Мефистофель, тот самый, что бегал с кожаным хвостом и творил непотребное на сцене Вальпургиевой ночи, не черт, а обыкновенный бюргер по имени Карл Боузен. Конечно, сцена есть сцена, а жизнь — жизнь, но Александр все же чувствовал себя неуютно возле этого человека. Почему-то вспомнилась то ли быль, то ли легенда, будто, Шаляпин каждый раз после исполнения своего Мефистофеля ходил молиться.
Так он и не услышал голоса этого человека. Боузен молча выпил пиво, молча ушел. Как видно, он и был гвоздем этого пивопития: после его ухода все начали расходиться.
Ночь была холодной. Дождь, моросивший весь день, перестал. Поднялся ветер, разогнал тучи. В черном небе дрожала, словно мерзла на ветру, одинокая звезда. С шумом проносились автомашины. Одна промчалась с противным визгом тормозов: в освещенном салоне сидели орущие и поющие парни и девчонки. Публика из театра уже разошлась, и прохожих на улице почти не было. Возле ярко освещенной витрины целовались двое — оба длинноволосые, джинсокурточные, и не понять было, кто из них парень, а кто девушка.
— Чего тебе сейчас хочется? — спросила Катрин, плотнее прижимая к груди его локоть.
— Перекреститься, — буркнул Александр.
— Ты же неверующий.
— Был бы верующим, давно бы уж перекрестился.
Она засмеялась: то ли поняла, то ли подумала о чем-то своем.
Долго шли молча, поеживаясь от холода. Возле небольшого дома Катрин остановилась, посмотрела на него вопросительно.
— Здесь я живу. Поднимешься ко мне?
Она набрала шифр у запертой двери, и дверь сама собой открылась.
— Луиза заругается.
— Я ей сказала, что мы, может быть, зайдем ко мне.
— Нет, нет… Поздно уже.
Он почти бежал по пустынной улице, удивляясь паническому состоянию, вдруг охватившему его. На углу остановился, чтобы прийти в себя, и понял: Саския! Вдруг глянула на него глазами Катрин, и он испугался, что ласковая мелодия, все время звучавшая в нем, умрет, переступи он порог этого дома.
Из полумглы пустынной улицы потянуло холодом. Александр поежился и пошел, заторопился. Шаги гулко звучали в тишине, и чудилось ему, что кто-то все идет следом, догоняет…
V
— Александр Сергеич!..
Он снова выругал немецкую педантичность, выбрался из-под теплой перины, оглядел пустую холодную комнату: вчера забыл прогреть батарею, не привык к таким процедурам. С уверенностью, что Луиза не обидится, начал не торопясь приводить себя в порядок.
— Сегодня идем в театр, — первое, что сказала Луиза, увидев его, побритого и умытого.
— Опять?!
— Вам вчера не понравилось?
Прозвучало это двусмысленно, и он промычал в ответ что-то бессвязное.
— У нас об этом «Фаусте» много говорят. Редкая пьеса.
— Редкая. Я такой еще не видел, — сказал он.
— А сегодня — опера. Точнее, две оперы. Одна немецкая, а другая — русская, Гоголя.
— Гоголь опер вроде бы не писал.
— Пьеса Гоголя «Женитьба», а музыка композитора Мусоргского. Вам будет интересно. — Она убежала на кухню, крикнула из-за двери: — Звонила Катрин.
Он промолчал.
— Я сказала, что вы еще спите. Или надо было разбудить? Почему вы молчите?
— А чего говорить? Правильно, что не разбудили.
— Катрин — хорошая девушка. Или вы не согласны?
— Почему, я согласен. Я со всем согласен.
Он почувствовал себя загнанным в угол. Так рыбешка, соблазнившаяся червячком, мечется на крючке, еще не понимая, что в ее положении остается или смириться и дать себя вытащить на песок, или же рвать жабры.
— Давайте хоть посуду помою, — смущенно сказал он, входя на кухню. — Должен же я что-то делать в доме?
— Пожалуйста! — запела Луиза так радостно, словно всю жизнь только и ждала этого предложения.
Он взял у нее поднос, понес к столу.
— А для вас есть сюрприз, — сказал сидевший за столом Уле и, блеснув металлическим зубом, заворошил газеты. — Вот, читайте.
Александр сразу увидел крупный заголовок: «Zu Gast in Oldenburg»[11]. И ниже — портрет. Он сам, собственной персоной, улыбающийся, довольный собой.
— Что это?
— Там все написано.
Статья начиналась рассказом о том, как он распространялся о сказках Пушкина, возмущался и говорил, что для того чтобы понять русских поэтов, надо читать их в подлиннике, а не в нелепых переводах. А дальше было все об Обществе содействия развитию отношений между народами ФРГ и СССР, о том, как оно активно работает, и приводился пример этой активности — приглашение Александра в гости.
Все так и было, как написано, но статья Александру не понравилась. Сам факт интервью — уже нарушение тех норм, о которых ему уши прожужжали в Москве: «Вы — частное лицо, ваше дело ходить по музеям, по магазинам, если есть деньги, и не ввязываться ни в какие истории».
Он молчал, вконец расстроенный. И супруги Кнауэры весь завтрак не очень докучали ему разговорами. Когда уже понес чашки и блюдца на кухню, чтобы помыть их, сказал, лишь бы только не молчать:
— Мне бы хотелось купить джинсы.
Джинсы были его первой задачей. Можно было как угодно тратить свои куцые обменные деньги, но возвращаться без джинсов для Нельки он не мог. Будет более чем обида, будут слезы, а видеть, как плачет Нелька, — выше его сил.
— Я вам помогу, — сказала Луиза.
— Да я сам…
— Сами будете потом ходить, а это я вам помогу. Надо знать, где покупать.
Он разобрался в краниках над раковиной, — как включать газовую горелку для подогрева воды, — отрегулировал так, чтобы только не обжигать рук, и начал мыть тарелки.
— Что вы делаете?! — вдруг закричала Луиза. Он испугался всерьез, быстро закрыл краны.
— Кто же так моет?! Вы горячую воду спускаете в канализацию.
— А как же?..
— Надо сначала закрыть пробку.
Она отстранила его и перемыла посуду сама в мутной мыльной воде, набравшейся в металлической — из нержавейки — раковине. Потом спустила эту воду и уже холодной водой ополоснула тарелки. А он, смущенный, стоял рядом. Думал: богатые, а экономят на таких пустяках. Посмотрела бы Луиза, как Нелька моет посуду, — не прикасаясь пальчиками, одной струей кипятка. Кипяток вылетает в трубу, то бишь в канализацию, а не просто теплая вода. И как часто с ним бывало, случай этот мелкий заставил подумать о большом. «Может, не от жадности это, а от извечной немецкой экономичности, которую мы называем не иначе как крохоборством? Вот ведь она, Луиза, тратится на него, не жмется. Это нужно, без этих затрат не обойтись. Но немцу претят бессмысленные траты, неважно большие они или малые, как эта вода из-под крана. Не оттого ли они и богатеют быстро, что ко всему относятся с бережливостью? Нам бы так!..»
День был такой же хмурый, как и вчера, и пришлось тащиться с зонтом, который Александр терпеть не мог. Но брусчатка улиц была чистой, лужи нигде не застаивались, и от этого казалось, что моросящий дождь или только начался, или вот-вот кончится. Не было угнетающего ощущения бесконечности непогоды.
Как обычно под руку с Луизой, они прошли на оживленную Гартенштрассе, пересекли Казиноплатц. Казино тут были повсюду, но почему именно эта площадь удостоилась такого названия, было непонятно. Впереди вскидывались над домами высоченные конусы кирхи с часами и острыми шпилями громоотводов, но без крестов, как он ожидал. Здесь начинался старый город, отсюда во все стороны разбегались узкие ущелья переулков со сплошными рядами блестящих светящихся витрин первых этажей.
— Здесь мы найдем все, что нужно, — сказала Луиза и свернула к одному из магазинов.
Стеклянные двери беззвучно раздвинулись. Александр шагнул следом за Луизой, и двери закрылись за спиной, словно отрезали путь к отступлению. Здесь было светло, тепло, тихо. Откуда-то лилась еле слышная ласковая мелодия, нежила, убаюкивала.
— Что-нибудь хорошее и недорогое, — сказала Луиза подбежавшей к ним девушке, такой симпатичной, такой доброжелательно-отзывчивой, что Александру подумалось: потребуй она черт-те какую цену, и отказать невозможно из опасения обидеть это божество.
«Молодчина Луиза! — мысленно сказал он. — Конечно же недорогие нужны джинсы, ну и, конечно, неплохие».
Девушка прошмыгнула мимо него, отмахнула занавеску зеркальной комнаты и так зазывно-приглашающе улыбнулась, что он пошел, куда она звала, как завороженный.
— Примерьте вот эти, пожалуйста, — проворковала девушка, положив на столик аккуратно сложенные джинсы, и выскользнула за занавеску, как бы невзначай коснувшись его руки нежной ладошкой. Щекотные расслабляющие мурашки побежали от висков к затылку и ниже, на плечи, как иногда бывало у него в парикмахерских, когда попадалась очень уж ласковая и заботливая мастерица.
Джинсы были плотные, как и полагается джинсам, сочно-голубые и какие-то мягкие и теплые на ощупь. Он гладил необычную ткань и думал, что эти волшебные мурашки, так любимые им, должно быть, не просто от заботливых рук, а от каких-то биоволн. Не случайно же не всегда они бывают, а лишь изредка и воспринимаются как блаженство, как подарок.
— Александр, вы покажитесь нам, — пропела за занавеской Луиза.
Только теперь он спохватился, что вовсе не собирался покупать джинсы себе, но ему так захотелось посмотреть, как они выглядят на нем, что он тут же переоделся. Джинсы выглядели превосходно и сидели как влитые. С торжествующим видом он отмахнул занавеску, вышел.
Луиза любовалась им, будто произведением искусства, изваянным ею самою, девушка скромно улыбалась, стоя в сторонке, а он прохаживался взад-вперед, с наслаждением чувствуя, как ласково касается ног эта необыкновенная ткань.
— Сколько они стоят?
Ему самому было странно, что так поздно пришел в голову этот вопрос. Наверное, потому, что у нас о стоимости всегда спрашивают в последнюю очередь. Поглядел на этикетку и обомлел — 80 марок! Ему-то говорили, что тут джинсы можно купить за 30 марок, а тут — 80, по его капиталам — целое состояние.
— Пойдемте в другом месте посмотрим.
Луиза в ужасе закатила глаза.
— Что вы?! Здесь так нельзя! В этом магазине если уж пришли, то надо обязательно покупать.
Он вышел на улицу с пластмассовым хрустящим пакетом под мышкой и смешанным чувством в душе: с одной стороны — сплошное расстройство, с другой — сплошная радость от необыкновенных джинсов, от музыкальной тишины магазина, от волшебницы продавщицы, чья улыбка все стояла перед ним, не тускнела.
— Знаете что, — сказал он, — давайте я все-таки один похожу.
— Что вам еще надо?
— Сам не знаю. Погляжу — увижу.
Как было объяснить Луизе, что не привык он так. Дома в магазины он заходит чаще всего вовсе не затем, чтобы покупать, а чтобы посмотреть, не попадется ли что-нибудь этакое, чего давно не попадалось. Не дома, а в магазине определяется, нужна попавшаяся вещь или не нужна. Тут иначе, тут каждое утро вместе с газетами подсовываются в почтовый ящик красивые буклеты, на которых неподражаемые женщины и нереальные мужчины демонстрируют все, что душе угодно, — автомобили, мебель, хозяйственную утварь, обувь, одежду самую разную, вплоть до ночных сорочек и предметов, не предназначенных для всеобщего обозрения. И сообщается, что, заплатив столько-то марок, ты можешь стать таким же счастливо-красивым обладателем, как изображенные на картинках мужчины и женщины. И вот иная легковерная жена, глядишь, уже трясет за лацканы своего мужа, требуя денег, бежит в магазин, и, вернувшись, узнает у зеркала, что в купленном новом платье она вовсе не так красива, как на картинке. И вспоминает, что у нее в шкафу лежит другое платье, в котором ей даже лучше. Она, конечно, расстраивается, но лишь до следующего утра. Урок слишком часто не идет впрок…
Может, и не совсем так делаются тут покупки, но воспоминание о музыке и девушке-продавщице постепенно испарялось, а факт оставался: купленные не очень-то нужные ему джинсы пробили изрядную брешь в тощих финансах, и Александр поневоле переполнялся сарказмом.
Избавившись от Луизы, он долго ходил один по этим сияющим переулкам, стоял возле витрин, боясь заходить в магазины. Это было как в музее, переполненном вещами. Нужными и ненужными, всякими. Была обувь за двадцать марок и была за двести двадцать, рубашки за десять и за сто десять, часы за пятнадцать и за полторы тысячи. Товары переполняли витрины, проходы в магазинах, не умещаясь там, вываливались из раскрытых дверей на тротуары и лежали, стояли, висели тут вдоль стен. Люди ворошили эту уличную распродажу, выискивая, что подешевле. А в некоторых магазинах было пусто, и Александр без разъяснений понимал: тут свирепствуют цены ее величества моды.
Мучаясь нетерпеливым желанием поглядеть на этот блистающий содом вблизи, Александр придумал обезоруживающую фразу: «Их бин ауслендер. Их мёхте нур анзеен»[12]. С этой фразой, как с волшебным «Сезам, откройся!», он входил в магазины, и кидавшиеся к нему продавцы сразу отваливали: что толку от иностранца, который ничего покупать не собирается. В больших гешефтхаузах было проще. Там он вместе с другими покупателями терся у прилавков, копался в кучах маек, курток, мужских и женских туфель. В этих развалах были усредненные сниженные цены, и покупатели возле них соответствующие — попроще одетые, смуглолицые, говорящие не по-немецки, вероятно, иностранные рабочие. Его не смущала эта процедура выкапывания вещей из куч, поскольку был он тут не один. Временами усмехался, представляя себе, как сморщатся носики у некоторых знакомых женщин, когда он будет рассказывать о своих магазинных похождениях: походили бы сами без денег по этим магазинам, как минимум оказались бы в предынфарктном состоянии.
Что бы ни брал Александр — туфли жене или набор фломастеров за одну марку, — каждую покупку продавщицы или кассирши укладывали в пластмассовый пакет и вручали с неизменным «данке» («спасибо»), сопровождая эту простенькую процедуру обворожительной улыбкой. Когда таких пакетов набралось столько, что не убирались в одну руку, Александр запоздало вспомнил предупреждения знатоков: не торопись покупать, тратить деньги, — вырвался из объятий гешефтхауза и отдышался, стоя в простенке, где не было никаких витрин. И подумал: «Теперь бы самое время посидеть где-нибудь».
Он огляделся, определил по выпуклому трафарету на стене, что находится на Блюменштрассе — Цветочной улице. А под трафаретом как раз и было то, что ему нужно: маленькая надпись над сводчатым входом «Bier» — «Пиво». В его личной программе пиво было на одном из первых мест. В Москве Борька сколько раз говорил ему: «Пивка попьешь немецкого!» И мечтательно закатывал глаза. И другие приятели, если о чем немецком и были особо наслышаны, так это о пиве. И если он, приехав домой, скажет, что ни разу не посидел в пивной, его не поймут.
Пивная была небольшая — всего на три столика. Традиционная стойка у стены и бармен с галстуком-бабочкой, с прилизанным пробором на голове, улыбающийся так, будто к нему пришел долгожданный родственник. Бармен выбежал навстречу, отодвинул стул у стены, тот самый, какой приглядел Александр, как вошел, — спиной к стене, чтобы можно было видеть и всю эту пивную, и улицу в большое безрамное окно.
— Давно не заходили, — сказал бармен, беззвучно выкладывая на стол круглую картонку и так же беззвучно ставя на нее неизвестно откуда вдруг оказавшийся у него в руке высокий стакан с пенной шапкой пива.
— Давненько, — усмехнулся Александр.
Сказал он это по-русски, и бармен, удивленно посмотрев на него, ушел за свою стойку. Потом он и вовсе исчез, оставив его одного.
За окном неторопливо проплывали прохожие с раскрытыми зонтами: на улице опять моросил дождь. Над дверью, почти под самым потолком, висел телевизор, оттуда тихо лилась радостная мелодия, на экране мелькали красиво одетые люди, — передавали урок ритмической гимнастики.
Пиво было холодным, совсем ледяным, и он отпил всего несколько глотков, хотя хотел пить и думал, что проглотит разом все. Было уютно сидеть тут в мелодичной тишине, похожей на ту, какая была в магазине, где покупал джинсы. Блаженное состояние покоя овладевало им, никуда не хотелось идти, ничего не хотелось делать. Поставил локти на стол, закрыл глаза и начал думать о Саскии. Он представил ее сидящей напротив, улыбающейся одними глазами. Как это у нее получалось? Лицо без движения и губы сжаты, а глаза смеются.
«Не надо было тебе приезжать», — скажет она.
«Знаю».
«Зачем же приехал?»
«Не знаю».
И она засмеется. Одними глазами. И так хорошо будет. И больше ничего не надо.
Он открыл глаза и увидел перед собой господина в узкополой высокой шляпе. Лицо у него было круглым, розовым, а взгляд все ускользал куда-то в сторону и вниз, по чему Александр понял: господин пьян. Это было интересно, поскольку пьяных тут еще ни разу не видел, и он с любопытством стал его разглядывать.
— Чего молчишь? — спросил господин.
— А что надо говорить? — в свою очередь спросил Александр.
— Что молчишь?! — упрямо повторил господин и сердито пристукнул стаканом о стол. Но стука не получилось, поскольку под стаканом была картонная подкладка, и господин отвел руку, стукнул стаканом еще раз, погромче.
«Скандала мне только и не хватало, — подумал Александр, скосив глаза на стойку. Хозяин был на своем месте, что-то тер и со спокойным интересом посматривал в их сторону. — Если заодно, то дело пахнет керосином. Надо сматываться».
Он залпом выпил пиво — не оставлять же, как-никак три марки — и встал.
— Сядь! — повелительно сказал господин в шляпе.
И он сел, беспомощно оглядываясь на хозяина, на закрытую дверь, на окно, по которому ползли капли дождя.
— Ты почему меня не узнаешь?
Александр не сразу понял фразу, уловил сначала странно пережеванное «варум?» — «почему?», и лишь потом до него дошел смысл.
— Я вас не знаю, — сказал он как можно мягче.
Господин выпучил глаза.
— Видал?! — крикнул, оглядываясь на хозяина. — Как он там зазнался.
— Ну, хватит, — сказал Александр по-русски. Встал, решительно подошел к стойке, положил три монеты.
— Разве вы не Серж? — спросил хозяин.
— Мое имя — Александр.
— Вы так похожи…
— Похож! — закричал господин в шляпе, тяжело поднимаясь. — Да это он и есть, только почему-то притворяется. Н-найн! — промычал он. — Сейчас мы все вместе пойдем к Сабине, она узнает.
— Я никуда не пойду.
— Тогда жди тут. Я приведу. Если обманываешь, всем возьмешь по стакану пива, а Сабине два, она любит пиво.
И он вышел, погрозив бармену пальцем, что, по-видимому, должно было означать: гляди не выпускай этого обманщика.
Вернулся он раньше, чем Александр придумал, как улизнуть. Торжественно ввел в дверь маленькую старушку с безразличным, уставившимся в одну точку взглядом.
— Вот! — сказал многозначительно. — Сабину не обманешь.
Он подвел ее к Александру, все еще стоявшему возле стойки. Старушка уставилась на него своими белесыми глазами, и была в ее взгляде какая-то пронзительность, словно она рассматривала не его, а что-то внутри. И тут он понял: слепая. Подмигнул, чтобы проверить, и не увидел в ее глазах никакой реакции на такую фамильярность. Слепая! Интересно получалось. Двое зрячих просили слепую, чтобы она увидела то, чего не могли разглядеть они.
— Кто это? — спросила старушка, поводя носом, словно принюхиваясь.
— Это же Серж.
Она вскинула руки так быстро, что не успел отстраниться, мягко, почти не касаясь, обежала пальцами от лба к ушам и вниз, к подбородку.
— Нет, это не Серж.
— Извините, — промычал пьяный и попятился. Наткнулся на стул, сел.
— Ты пиво бери, — засуетился хозяин. — Всем по стакану, а Сабине два. Правильно, Сабина? Ты их честно заработала.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал Александр.
— Нет, нет! — решительно возразил хозяин. — Он проспорил, пускай покупает пиво. — И наклонился, вынул откуда-то из-под стойки полные стаканы, словно они сами собой наливались там.
— Право же, неудобно…
— Пейте!
Стараясь не торопиться, Александр выпил пиво и решительно взялся за свои пакеты.
— Извините, меня ждут.
— Ты откуда такой? — уже у двери остановил его пьяный вопрос.
— Из Москвы.
— Русский?!
Все трое они уставились на него. Даже у Сабины в ее белесых глазах засветился интерес. Она шевелила губами, словно бы вспоминая что-то, и дергала головой так резко, будто ее подталкивали.
— Русский!.. Что-то помнится…
— Заходите еще! — крикнул хозяин. — Для вас всегда найдется стакан хорошего пива.
Попетляв несколько минут по переулкам, Александр вышел на широкую площадь перед кирхой и остановился, раздумывая, куда идти. Здесь, прямо на улице, стояли чистые белые столики и белые гнутые стулья возле них. Он сел за один из столиков. Сразу же к нему подошла девушка в белом фартуке.
— Что хочет господин?
— Нет, нет!
Он вскочил и тут же снова сел: чего всполошился? Люди с кем-то спутали его, бывает. А потом заинтересовались. Русский же, как не заинтересоваться. Не так часто, наверное, по пивным Ольденбурга ходят русские. И приглашение заходить еще — самое естественное. Так что все в порядке и нечего нервничать и без конца оглядываться по сторонам, как мелкий воришка, у которого на лбу написано, кто он такой, и потому его везде ловят. Будет самое разумное — еще раз зайти в эту пивную, уважить людей. Очень может быть, что и зайдет. Вот будет в другой раз болтаться по этим переулкам и зайдет. Все-таки единственное, так сказать, общественное место в городе, где его принимают уже почти за своего.
Он вздохнул облегченно, по-русски спросил сам себя:
— Так что хочет господин? — И ответил: — Больше всего, пожалуй, господин сейчас желал бы поесть.
Тратиться на обед, когда на эти деньги можно купить приличный сувенир, ему казалось святотатством. Он собрал пакеты и пошел знакомым путем — через Казиноплатц, затем по Гартенштрассе. Обедать к господам Кнауэрам.
VI
Дорога убаюкивала. Ни толчков, ни тряски, не ехали, а летели со скоростью 120 километров в час. Справа и слева разворачивались зеленые поля, и на них там и тут — краснокирпичные крестьянские фермы, какие-то музейно-чистые, словно в них и не жили. Александра поражали не столько дома, сколько зеленые лужочки возле них. Ходили же тут люди, играли дети, что-то разбрасывали. Но никаких следов небрежности не было видно. Этот бытовой педантизм нравился, но чем-то и ужасал.
Ехали они в музей под открытым небом, знаменитый Клоппенбург, но и все вокруг было как музей. Ехали в уютном «форде». Хозяин его, как представила Луиза, — профессор местного университета, тоже член их общества Ульрих Кестнер, помалкивал всю дорогу. Молчал и Уле, сидевший сзади. Зато Луиза болтала без умолку. Рассказывала о вчерашних операх с таким восторгом, словно это были мировые шедевры.
— Правильно? — то и дело спрашивала она Александра.
Он пожимал плечами: понимай как знаешь.
Оперы ему не понравились. Первая с непонятным названием «Крапп», — то ли имя героя, то ли неизвестный Александру термин. На сцене — старый стол, старый человек и магнитофон. Человек включает магнитофон и слушает себя, молодого, пытаясь подпевать. Люди уходили из зала — скучно. Похоже, постановщики хотели выразить печаль, а выразили ужас отчужденного от людей одинокого человека. Александр сидел и сравнивал: у нас тоже всякое случается, но это одиночество было все же не нашим, не русским. Здесь человек тоскует лишь по себе самому, молодому. У нас — по тому, что ничего уже не может сделать для других. Старость у нас чаще всего печалится своей ненужностью миру, людям.
Сидел он вчера в театре и думал, что мы, русские, несмотря на все наши беды, не можем пожаловаться на духовную бедность.
А вторая опера его и вовсе возмутила. «Женитьба». Написано: «По Гоголю». Но у Гоголя — смех сквозь слезы, Гоголь печален и поэтичен, он всегда сострадает. Здесь же — пародия, и только. Пародия на русский народ. Русский человек в этой опере лениво ничтожен. Александр морщился, как от зубной боли, когда зрители хлопали.
Не о немцах думал он, сидя в театре, о своем народе, его корчуемой в веках и все-таки еще не выкорчеванной культуре. Часто называют русским народным искусство, созданное дворянским слоем. Но многие дворяне стыдились быть похожими на народ. И потому глашатаев благостей жизни народной на Руси почти не было. Даже выходцы из народа старались подражать дворянству. Народ творил культуру трудясь и для труда. Дворянская культура — надтрудовая. Не видя этой разницы, многие из нас и теперь не различают, где наследие истинно народной культуры и где привнесенной.
Он так и сказал вчера Луизе, что «Женитьба» — это не по Гоголю, что кому-то хочется представить русских людей дикарями, и это никак не в русле тех идей, во имя которых создаются и работают общества дружбы. Видно, не поняла. И вот теперь, чтобы прервать злившие его восторженные воспоминания Луизы, он демонстративно заоглядывался по сторонам и сказал:
— Глядите-ка, Германия-то, оказывается, красная.
В машине сразу повисло молчание.
— Вон же, справа и слева все дома — красные, кирпичные.
Смех был дружный и, как показалось Александру, облегченный.
— Стены у нас предпочитаются красные, — сказал Уле, — а идеи многоцветные.
Снова все засмеялись над каламбуром, и Александру захотелось спросить: не такая ли неразборчивость однажды привела к тому, что в Германии стал господствовать черный и коричневый? Не спросил, пожалел. Знал, как болезненно для них прошлое.
Они оставили машину на ярко-красной от толченого кирпича площадке перед большим, раскинувшим крылья навесов ярко-красным же зданием кафе и пошли по красной дорожке к широкому, напоминающему московский Манеж амбару, черневшему арочным зевом входа.
— Здесь вы можете увидеть, как жила трудовая Германия семнадцатого и восемнадцатого веков, — впервые произнес профессор. Голос у него оказался тихим, умиротворенным, чуть с хрипотцой, не голос, а воркование. И добавил, словно знал, что Александра интересовало: — Ваших допетровских и петровских времен. Можете сравнить.
Не те ли же слова говорили молодому царю Петру во время его первого заграничного путешествия: «Можете сравнить?» А можно ли сравнивать?..
— Вы уверены, что сравнение будет в пользу Клоппенбурга? — спросил Александр.
— Конечно, уверен. Иначе бы Питер не призвал Европу.
— Простите, господин профессор, но царь Питер, как вы его называете, не призывал Европу.
— Ну как же! — оживился профессор. — Все знают: Россия была отсталой страной.
— Отсталой в чем?
— Ну как же! — Он развел руками и оглянулся на Луизу и Уле, идущих сзади, словно призывая их в свидетели. — Все знают: Россия была полудикой страной. Еще Иван Страшный…
— Грозный, — подсказал Александр.
— О да, Грозный, еще он хотел отрубить головы половине людей в России, чтобы другую половину заставить жить по-человечески. Даже царь не верил в свой народ и собирался совсем бросить его и убежать в Англию…
— Вы профессор чего? — перебил его Александр.
— Профессор математики.
— Тогда вам простительно.
— После царя Ивана, державшего народ страхом и казнями, Россия совсем развалилась и Польша, о, даже Польша, — воскликнул он, не обратив внимания на замечание Александра, — чуть не сделала Россию своей провинцией!.. Потом пришел царь Питер и навел порядок с помощью Европы.
Александр качал головой, теряя самообладание. Хотелось сказать этому профессору пару ласковых и на том закончить дискуссию. Но что бы это дало?
— Сейчас я не могу вам всего объяснить, — сухо сказал он. — Разговор этот долгий, а мы собирались смотреть музей. Потом, пожалуйста.
— О да, да, надо смотреть музей!
Но Александр уже не мог ничего смотреть. Так человек, в присутствии которого оговорили его родителей, ничего уже не может делать, ни о чем думать, кроме как об этом оскорблении, и мысли его все отданы одному — как бы покороче и поубедительнее ответить обидчику. Даже и по-русски трудно было изложить все, что следовало сказать, а по-немецки, ему казалось, и вовсе невозможно. Не так хорошо знал он немецкий, чтобы отважиться на долгий и мудреный монолог.
Сколько корили Русь междоусобицей! Создали легенду, будто это чуть ли не чисто русское явление. Но и Германия была разделена на множество самостоятельных княжеств, герцогств и прочих. Дробление предшествовало объединению повсеместно. Если бы не нашествие степи, невиданное в веках, Русь развивалась бы, как и Западная Европа. И в конце концов нашелся бы князь, который не кровавой резней, а исключительно авторитетом своим объединил бы разрозненные земли. Так ведь в конце концов и получалось. Даже после бесконечных разорений и кровопролитий татарщины, когда, казалось бы, все наследственные добродетели забыты. Московский князь Даниил, с которого, собственно, и началось объединение страны. Не на меч уповал он, собирая разрозненные княжества под свою руку. При нем князья добровольно отказывались от власти во имя единства. И не насилие было в основе возвышения Московии, как еще и поныне клевещут враги наши, а осознание необходимости единения.
Куликово поле — величайшая святыня наша — показало, что русские способны идти и на смерть во имя свободы от иноземного управления. Но для глухих и лучшая симфония — не аргумент в пользу музыки. Всё твердят, что мы не способны жить в национальной гармонии, что русским нужны варяги…
А Иван Грозный?! Он меньше всего думал о России, а тем более о народе. В его царствование страна оцепенела от невиданных со времен татарщины зверств. Словно бы как отрыжка кровавого прошлого, вернулось чужеземное на Русь и принялось губить и рушить все без разбора и смысла. А может, и впрямь чужеродное, недаром ходили слухи, что царь — выродок. И недаром смута началась по существу при нем. Он унизил родовую власть, дал повод самозванцам поверить, что любому может оказаться впору шапка Мономаха.
А в смуту! Казалось бы, чего проще: если уж народ такой неспособный и только и призывает: «Приходите и володейте», — почему бы ему не примириться с властью поляков? Да и не поляков вовсе, а законного царя Дмитрия Иоанновича. Сама мать препублично признала чудом спасенного своего сына царевича Дмитрия. И его торжественно, по всем тогдашним правилам, короновали. Но восцарствование его было замешено на иноземщине, и народ сразу же назвал нового царя Лжедмитрием. И к кому возопил о спасении? К простым, но заведомо русским людям — Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Вот уж, казалось бы, где рухнуть теории романистов-прозападников, клевещущих на народ, будто бы не способный ни к чему без управителей-варягов! Не рухнула! Не благодаря ли многотерпению русскому, или, как мы сказали бы теперь, извечному его интернационализму, принимающему как друзей всех, приходящих с добром?
Немцы только теперь опомнились, заговорили, что срединное положение обязывает их быть миролюбивыми. Поняли: бодливой козе обобьют рога не те, так другие. А смирную, глядишь, покормят. И те, и другие. Да и то — все ли опомнились?!
А ты, Русь! Не ты ли всегда протягивала другим безоружные свои руки?! Что же за силы в тебе нескончаемые?! При стольких-то бедах не ожесточиться, не замкнуться в национальном исступлении, не озлобиться против соседей! И три века назад, когда развернулись во всю сибирскую ширь миротворческие деяния твои на востоке. Что вело ватаги за Уральский камень в суровые неведомые просторы, как не сознание великой исторической миссии освобождения от извечного давления кочевой степи? Это были не завоевательные походы, как до сих пор клевещут враги, это были освободительные походы. А то, глядишь, ставят их в один ряд с завоеваниями Америки. Народы той «доиспанской» Америки никогда не угрожали Западной Европе, а их вырезали едва ли не поголовно. А бывшие кочевые народы, много веков зорившие Русь, укрощенные невиданной добродетелью великого народа, все благоденствуют и поныне. Их облагороженные судьбы влились в единый интернациональный океан, именуемый ныне Союзом Советских Социалистических Республик.
Воздадим же должное русскому народу, России далеких времен, которые кое-кто до сих пор называет «дикими»!
Петр Первый отнюдь не первый засмотрелся на ушагавшую вперед Западную Европу. Веками Русь вынуждена была не отворачиваясь взирать на Восток, откуда шла главная опасность. К XVI веку Восток наконец-то перестал угрожать нашествиями. И Россия обратила свой лик на Запад. Удивительно ли, что и молодой, нетерпеливый царь Петр, к тому же воспитанный Немецкой слободой, помчался за наукой на Запад?.. Как раз в этот низинный край северо-западной Европы. Не в Ольденбург — в Голландию. Но это так близко отсюда — каких-нибудь сто километров. Там и тут одинаковые дома, мельницы, церкви. И если отбросить профессорскую предвзятость, на все это действительно стоило поглядеть. И сравнить с тем русским, допетровским…
Они осматривали одну постройку за другой, заглядывали в окна, заходили в дома, в которых когда-то жили люди, разные, богатые и бедные, большими и малыми семьями, мельники, сапожники, шорники, ткачи. И как содержались животные, тоже можно было увидеть воочию, — ютились возле крестьянских домов свинарни, овчарни, конюшни. Стояли ветряные мельницы с неподвижными, омертвевшими крыльями. И церковка была с неизменным кладбищем рядом, и маленькая сельская школа.
Поражали огромные амбароподобные дома из красного кирпича, фахверковые, изрешеченные типичными для всей Германии бревенчатыми рамами, крытые аккуратно выстланными толстыми слоями соломы. Как и в наших старых крестьянских домах, здесь под одной крышей было все — и жилье для людей, и стойла для лошадей, и клети для коров. Под этой же крышей был и широченный хозяйственный двор, стояли подводы, топорщились рычагами маслоделательные аппараты и еще какие-то приспособления непонятного назначения. Лишь пройдя через все это, хозяйственное, можно было попасть в жилую часть дома, где были комнаты, каморы для сна, домашние мастерские. Странны были эти каморы — как платяные шкафы. Забирались в них дети ли, взрослые ли, — у каждого своя камора, — задвигали дверцу и спали. Вся жизнь была под этой крышей, в этих четырех стенах. Труд и быт, радости и печали. Люди жили одной жизнью с природой, считали себя частью ее и не тяготились этим. Натуральное хозяйство, говорим мы теперь с оттенком снисхождения. Но это было естественное состояние человека. Все целесообразно в хозяйстве, ничего не делалось впустую, ничто не пропадало зря. Так сказать, полностью безотходное производство. В этом смысле крестьянский двор, может быть, самое гениальное, что создано человеком за всю его историю. Производство, надо полагать, довольно-таки производительное, если на доходы с него строились господские дома, на которые тоже можно было полюбоваться здесь, в Клоппенбурге, возводились крепости и замки.
Посетители встречались редко, и ходить в музейной тишине было тягостно, как в кладбищенской. Все они скоро устали, сели на скамьи, отнюдь не музейные, поскольку труженикам, жившим некогда в этих домах, было не до рассиживаний и они скамей, как видно, не делали. Едва сели, как Луиза тоном, предполагавшим определенный ответ, спросила:
— Вам здесь нравится?
— Нравится, — односложно ответил Александр.
— У вас такие музейные деревни есть?
— Есть, и довольно много.
Правила игры были нарушены, и Луиза вроде бы даже обиделась, помолчала минуту.
— А где у вас есть такие деревни?
— Да везде. В Прибалтике, на Украине, в Центральной России.
— Не может быть!
Зачем ей нужны были особые его восторги, Александр не понимал. Или она «выкамаривалась» перед профессором, с самого начала задавшим такой тон?
— Вы посмотрели бы, какие музейные села под Переславлем-Залесским, — сказал он. — Избы, мельницы, церкви — целые улицы…
— Такие, как эти?
— Многие лучше.
Луиза пожала плечами и отвернулась.
— Вы уж нас прямо ни за что считаете, — сказал Александр. — Возьмите Кижи. Знаменитая Покровская церковь в эти же петровские времена построена. Двадцатидвуглавое чудо.
Профессор заинтересованно повернулся к нему.
— Если царь Питер знал, на что способны русские люди, зачем он ехал учиться за границу?
— Царя Питера кто только не водил за нос, — ехидно ответил Александр. — Это уж потом, к концу жизни, он начал, кажется, соображать, что не все инородное лучше своего.
В стороне возле бывшего постоялого двора, где теперь была выставка, загомонили школьники, столпившиеся у входа, нарушили устоявшуюся тишину музейной деревни. Все четверо они обернулись в ту сторону. И престарелая пара, шествовавшая по дорожке, тоже оглянулась, укоризненно посмотрела на толпу молодежи. Это была примечательная пара: он в каком-то старомодном длинном сюртуке, она в столь же старомодном длинном платье. Словно оба были ходячими экспонатами музейной деревни.
Проходя мимо скамейки, господин снял шляпу и сказал свое «Гутен таг!»[13] таким тоном, словно здоровался со старыми знакомыми.
— Кто это? — спросил Уле у профессора.
Тот пожал плечами.
— По-моему, он с вами поздоровался, — сказала Луиза Александру.
— Вероятно, со мной, — согласился Александр. — Меня и вчера с кем-то спутали.
Он начал рассказывать о случае в пивной, и по мере того как рассказывал, лицо Луизы менялось, вытягивалось. Сначала на нем было ясно написано любопытство, а потом столь же ясно — вполне отчетливый страх.
— Сабина о чем-то расспрашивала? — спросила она.
— Я сразу ушел, некогда было расспрашивать. Но я пообещал еще прийти.
— Вы помните, где были?
— Чего там помнить? Центр невелик, Блюменштрассе — одна. Там книжный магазин напротив.
Он недоумевал: что так обеспокоило Луизу? Ну зашел в пивную, ну приняли его за кого-то не того, ну поговорил с людьми…
— Вы туда больше не ходите, — сказала тихо, наклонившись к нему.
Хотелось спросить: «Почему?» Но он не стал спрашивать, догадался: сейчас не ответит. А потом? Потом он и сам об этом забудет. Если, конечно, не замучает любопытство и он не решится еще раз зайти в ту пивную.
Налетела стая галок или ворон, — не разглядеть издали, — расшумелась в голых ветвях ясеней. И это был единственный звук, который мог иметь отношение к музейной деревне. Наверное, и в ту пору, когда дома эти жили, вот такой же галдеж стоял в путанице ветвей, будоража сердца людей весенним нетерпением. И усталые бауэры выходили из сумрака своих домов-крепостей, щурились на светлое небо и улыбались, вытирая пот со лба шершавыми ладонями.
— Я пойду к машине, — сказала Луиза. — Устала.
Профессор протянул ей ключи, и она побрела по дорожке к выходу. Уле задумчиво смотрел ей вслед, и было в его лице беспокойство. Потом он взглянул на Александра и отвел глаза.
— Мы вон там еще не были, — сказал, быстро вставая, указывая в сторону, где отдельно от других стояла группа построек. — Допетровское время.
Снова они ходили от дома к дому, заглядывали в окна, открывали тяжелые скрипучие двери, окунаясь в застоялые запахи нежилых помещений. И снова Александр все думал о своем.
…Нетрудно было понять Петра: крепкий устоявшийся немецкий быт не мог не обратить на себя внимания. Впрочем, едва ли его так уж интересовали простые мужики. Если бы Петр знал о возможностях своего народа, зачем бы отправился учиться за границу? Значит, не знал? Не хотел знать? Крепостник, он не мог себе представить, на что способно крестьянское хозяйство, если его не вконец разорять крепостническим грабежом. Ведь и в ту пору были на Руси крепкие хозяйства, были. Особенно на севере страны. И, оглядывая эту заграницу, он не мог понять, что благополучие ее состояло в относительно свободном труде, создавшем высокую культуру, по-немецки бережливую, педантичную, приветливую, уважающую чужой труд и достижения его потому, что было в народе уважение своего труда. Не мог он понять, что и обходительность, и аккуратность, да и сама роскошь местных князей — все от той же основы, от крестьянского и простого ремесленнического труда, способного порождать торговлю и в конечном счете богатство и силу страны.
Не поняв всего этого, Петр потащил на Русь западную жизнь, насильно насаждая ее внешние признаки у себя дома. Но насилие, какими бы благими целями оно ни прикрывалось, разорительно и унизительно. Насилие омертвляет.
И многое свое, даже то, что было отнюдь не хуже западного, зачахло на Руси. Много доброго принесли реформы Петра, но много и недоброго. И если о первом написаны целые библиотеки, то о втором историки помалкивают.
Почему так много клеветы вываливалось на Русь во все времена? Не потому ли, что мы сами поощряли это своей великой уверенностью, что грязное к чистому не пристанет, своим всепрощенчеством? Зло всегда паразитирует на добре, если чувствует свою безнаказанность. Не пора ли проснуться нашему самолюбию? Не пора ли?!
Сокровищница добродетелей интернационального общества будущего, на которое мы уповаем, — не божья благодать, она может сложиться только из того доброго, что накопил каждый народ за века своего развития. Доброго! А недоброе пусть канет в Лету, пусть отмирает и забывается. В этом мы должны отдавать себе ясный отчет. И мы должны понимать, что пропаганда и возвеличение национальных добродетелей — не национализм, а историческая необходимость. Добродетели эти в нашей истории, в наших традициях, в нас самих. Давайте же ценить их, развивать их, защищать их!..
Александр готов был повторять эти фразы, захватившие его. И чтобы не сорваться и не нагрубить самоуверенному профессору, он старался держаться поодаль от него. Ходил от дома к дому, из комнаты в комнату, трогал все эти потрескавшиеся от времени, поблекшие резные шкафы, сундуки, столы, стулья, люльки, котлы, висевшие над остывшими очагами, щипцы для головешек, изразцы печей, глиняные чашки, плошки, кружки и с горечью думал о том, что Луиза все-таки отчасти права, говоря, будто у нас нет такого. Есть, конечно, но, чтобы увидеть так вот возвеличенный крестьянский и ремесленнический быт и труд, надо еще поискать. Мы охотнее показываем туристам быт дворянский в былых дворцах, ставших музеями. Мы, провозгласившие труд первой своей святыней, вспоминая былое, почему-то чаще интересуемся жизнью нетрудовых слоев общества. Не потому ли иные наши молодые люди лучше знают такие отжившие слова, как, например, статский советник, фрейлина, гусар, чем, скажем, отнюдь не отжившие — шорник или бондарь. Ни в каком музее не увидеть, как они работали, эти шорник и бондарь, как крестьяне строили дома, копали колодцы, мастерили телеги, пахали, молотили, косили, шили обувь, пекли хлеб или, скажем, солили огурцы.
Не потому ли мы так часто ахаем по поводу культа потребительства, что маловато у нас культа труда? Человек имеющий, но не умеющий в большей чести у нашей молодежи, нежели человек умеющий, но не имеющий…
Когда миновали самый первый «входной амбар», в котором располагалась выставка, рассказывающая о приемах труда, профессор, до этого молчавший, вдруг сказал:
— Вам было интересно?
— Да, очень, — признался Александр.
— Есть чему поучиться?
— Конечно.
Это был уже другой разговор, ничуть не унижающий. Учиться всегда можно и нужно, всем у всех. Он ждал, что профессор опять заведет разговор об умном царе Питере, и готовился ответить не резко, но достаточно категорично. Но профессор о царе Питере больше не заикался, и так они и дошли до красной стоянки, перебрасываясь ничего не значащими фразами.
Луиза сидела на месте водителя, дремала, откинув голову.
— Ты куда-то ездила? — спросил Уле.
— Нет, нет, я тут сидела. Голова разболелась.
Уле посмотрел на нее внимательно: ведь видно, что ездила, машина стоит не так. Но ничего не сказал.
Было неловко от этой ее неправды, и потому, наверное, все в машине молчали. Лишь когда миновали крайние дома городка и выехали на шоссе, стрелой вонзавшееся в дальние перелески, профессор, сидевший за рулем, повернул голову к Александру.
— Вы хотели объяснить о царе Питере. Сказали: разговор долгий. Сейчас, пожалуйста.
И Александр начал рассказывать об истории России, сначала сбиваясь и путаясь. Слушали его скучающе. Но когда он заговорил о прогрессивности межнациональных контактов, все оживились. Даже Луиза, забыв, что у нее болит голова, затараторила, задыхаясь от возбуждения. И никто не заметил, что на этот раз речь идет не об одностороннем влиянии немцев, а о взаимном обогащении культур.
— О, да, — возбужденно говорил профессор. — Немцы сдержанны и расчетливы, русские — открыто щедры и эмоциональны. Мы отлично дополняем друг друга…
«Вот так, — думал Александр, — не одностороннее влияние, а взаимное обогащение. На этой основе можно пожать любую протянутую нам руку».
Вышли из машины возле дома, довольные друг другом. И ужинали с отличным красным вином, словно был праздник. И говорили весь вечер только о взаимопонимании, превращающем официальную вежливость в сердечность.
— Наш друг Александр открыл нам свое сердце! — торжественно провозгласил профессор, поднимая стакан. — И мы увидели, что русское сердце очень похоже на немецкое. За дружбу!
— За ваше здоровье! — сказал Александр по-русски.
— За ваше здоровье! — по-русски же сказала Луиза. — Я очень, очень любить русских.
Чокнулись и дружно принялись говорить о том, что поездка была интересной, беседа получилась душевной, что вообще день сегодня прекрасный и дай бог, чтобы и завтра было таким же.
— Завтра вы поедете в Бремен, — вдруг сказала Луиза. — Вы ведь хотели съездить в Бремен?
Александр сказал, что, конечно, он желал бы посмотреть Бремен, но это ее предложение довольно неожиданное и ему неловко каждый день утруждать людей.
— Наш друг Вальтер согласился поехать с вами в Бремен.
— Кто это?
— Член нашего общества.
Ему снова захотелось высказаться о том, что ничем он не заслужил такой чести, чтобы с ним носились как с писаной торбой, возили повсюду, но промолчал: в конце концов, не его это дело — определять пределы гостеприимства. Хотел пошутить, что Луиза, как видно, решила перезнакомить его с половиной Ольденбурга, но опять ничего не сказал. С половиной так с половиной, если это друзья. От избытка друзей еще ни один человек на свете ни разу не захворал.
VII
Скатилась звезда и погасла, и ничего нет. Но ничего ли? Пыль, оставшаяся от сгоревшего в атмосфере метеорита, невидимой порошей ложится на склоны гор, на океанские волны, на робкую листву лесов. Пылинка за пылинкой, микрон за микроном космическая пыль покрывает землю весомым слоем.
Вот так же, то яркими, то тусклыми звездами, мелькают перед нами люди. Проходят и исчезают бесследно. Бесследно ли? День за днем, встреча за встречей, человек за человеком незаметно наполняют жизнь опытом, любовью и ненавистью, определяют взгляды и привязанности, саму судьбу нашу…
Магнитофон воспроизводит лишь то, что услышит своим ухом-микрофоном, фотоаппарат изображает лишь то, что видит своим глазом-объективом. Живой организм перерабатывает пищу в аминокислоты. Только тем и может питаться живой организм, что переработано в свое. Потому он и живой, что всегда остается самим собою, что чужие радость и боль становятся своими радостью и болью, а чужие успехи или неудачи переосмысляются как возможность своих успехов и неудач…
Странно это было для Александра: оказавшись на чужбине, он только и думал о родине, ее месте среди других стран и народов, ее прошлом, настоящем и будущем. Он пытался найти этому объяснение и все придумывал разные сравнения со звездами, с магнитофонами, фотоаппаратами.
Они мчались на рыжем «фольксвагене» Вальтера к Бремену, и Александр не переставал удивляться немецким дорогам. Вчерашняя, когда ездили в Клоппенбург, казалась ему превосходной — гладкая, почти без разъездов, с частыми указателями и четкими белыми обозначениями осевой, обочин, поворотов-разворотов. Но автобан, по которому мчались теперь, казался прямо-таки аэродромной взлетной полосой. Точнее, двумя полосами, поскольку слева за стальным барьером была точно такая же дорога для встречного движения. Стрелка спидометра давно уже переползла цифру 120 и все не останавливалась. И ни тряски, ни беспокоящей вибрации. А слева «фольксваген» то и дело обходили другие машины.
— Какая же у них скорость? — спросил Александр.
— Двести или больше.
— Ограничений никаких, что ли?
— Каких ограничений?
— Скорости.
— Воздух ограничивает. Слишком большие скорости невыгодны. Бензина надо много.
Вальтер был спокоен и медлителен, как и большинство здешних немцев, с которыми Александр успел перезнакомиться. Он приехал рано, во время завтрака, и Александру пришлось поспешить: сказать немцу «подожди» столь же непочтительно, как сказать русскому «догоняй». Но утром Луиза все же успела сообщить ему новость, которую он ждал, хотя и не так скоро:
— Послезавтра мы уезжаем в Штутгарт.
— Вы вроде бы собирались попозже, — растерялся он. Такая срочность обязывала его ко многому: надо было побегать по магазинам, истратить оставшиеся марки и купить хоть что-нибудь из длинного списка. И требовалось побеспокоиться и о билете на обратный поезд Париж — Москва. Билет у него был, но в поезде может не оказаться места, так что место нужно было срочно бронировать. На ночь с послезавтра на после-послезавтра. Ехать с Кнауэрами в Штутгарт он не мог: успел убедиться, как дорог тут транспорт.
— Вы с нами поедете, — сказала Луиза. — В Штутгарте у нас живет дочь Эльза с мужем, у них свой дом. Мы погостим там немного и уедем, а вы можете остаться.
У него язык не поворачивался напомнить о куцых своих финансах. Он начал говорить, что с него и этого довольно: повидал Луизу, поглядел, как тут люди живут…
Луиза прервала, чего никогда прежде не делала.
— Вечером поговорим об этом. А пока поезжайте, Вальтер ждет.
Судя по темпераменту, Вальтер мог ждать хоть до вечера. Но это Александр понял лишь теперь, когда автобан стелил уже не первый десяток километров.
Дорогу стремительно перебежал темно-бурый заяц. Он мчался так быстро, что казалось, будто задние ноги отстают от него. Александр обеспокоился: на такой скорости столкновение даже с зайцем может дорого обойтись. Но Вальтер оставался таким же невозмутимым.
— Вы счастливый, — сказал он. — Я сколько езжу, ни разу зайца на автобане не видел.
Только теперь Александр разглядел в стороне сплошную металлическую сетку. За ней виднелась еще одна сетка, такая же высокая. Но этот заяц все же как-то проскочил. Значит, мог и другой? Он сказал об этом Вальтеру. Тот повернул голову, посмотрел на сетки и бросил коротко:
— Не проскочит. Починят.
И столько было уверенного спокойствия в его голосе, что Александр сразу поверил: действительно починят. А через минуту он уже и удивлялся своим страхам: если бы не чинили своевременно, как бы могли существовать такие сверхскоростные дороги?
Затем автобан пересек какой-то поселок, отгороженный от дороги двумя сплошными бетонными стенами, — и для того чтобы случайно кто не выскочил на дорогу, и как глухое ограждение от шума. А потом показались впереди шпили большого города. Бремен! Полста километров, а доскакали до него за каких-то двадцать минут.
Что он знал о Бремене? Только то, что сюда направлялись когда-то бременские музыканты из одноименной сказки братьев Гримм. И когда он увидел на улице бронзовое изображение этих музыкантов — осла, собаку, кошку и петуха, взобравшихся друг на друга, — то обрадовался им, как старым знакомым. И показалось: старина и сказочность тут на каждом шагу. Правда, прежде чем получить возможность делать эти шаги, Вальтеру пришлось долго колесить по городу в поисках стоянки. Суббота, город был переполнен машинами. Двадцать минут понадобилось, чтобы проехать от Ольденбурга до Бремена, и почти полчаса, чтобы найти место, где можно приткнуть «фольксваген». Зато, когда избавились от него и ушли не оглядываясь, почувствовали себя вольными птицами.
Это был не провинциальный Ольденбург с его тихими улицами: к старому центру Бремена и в обратном направлении двигались потоки людей. А в самом центре эти потоки разбегались по узким щелям старинных переулков. Здесь не ощущалось тесноты: лабиринты средневековых улочек каким-то образом умудрялись вобрать в себя современные массы людей.
Они долго бродили по этим невероятно узким — едва вдвоем разойтись — улочкам, словно по живописным ущельям с краснокирпичными стенами, с высокими и узкими — в три окна — домами. И самым интересным было то, что город этот не был музеем, в домах жили. Иногда удавалось заглянуть в окно или в раскрытую дверь и убедиться, что жили вполне по-современному, даже комфортно. А первые этажи сплошь были отданы крохотным магазинчикам, кафе, мастерским. За широкими окнами сидели девушки, не обращая внимания на глазеющую толпу, тянули что-то стеклянное в синем и длинном пламени газовых горелок. А в соседнем окне эти стеклянные поделки были уже выставлены для продажи. Чуть дальше в крохотном дворике стояли маленькие столики, люди отдыхали за ними, пили какие-то напитки из высоких бокалов. В тесных проходах возникали неожиданные скульптуры, бронзовые и мраморные, и фонтанчики, чудно подсвеченные витражами.
В одном месте дома отступали друг от друга, образовав небольшую площадь — десять шагов в длину и столько же в ширину. Здесь было не протолкнуться. Люди стояли вдоль стен и смотрели вверх, где между конусообразными крышами в три ряда висели колокольчики.
— Это же знаменитые бременские колокольчики! — восторженно говорили люди. — Сейчас играть будут.
Александр ничего не знал о них, но через минуту и ему начало казаться, что где-то слыхал об этих колокольцах.
И вот они зазвенели. Обыкновенно зазвенели, тихо и надтреснуто. Наши ростовские звоны, которые Александру пришлось слышать только в записи, в сравнении с этим треньканьем были могучим божественным пением хора ангелов рядом с надсадным хрипом пьяных забулдыг. Но это были старинные колокольцы, и им внимали с глубоким почтением. Как только они зазвенели, часть полукруглой башни, стоявшей в углу площади, вдруг начала поворачиваться, и там, где было окно, возник большой барельеф с надписью, рассказывающей об известном, о том, что человек с древнейших времен стремился покорить морскую и воздушную стихии. Барельефы сменялись один другим, сообщая замеревшим зрителям о первых самолетах и дирижаблях, о гигантских кораблях, переплывавших Атлантику. Этакий публичный телевизор дотелевизионной эпохи. Колокольцы тренькали незамысловатую мелодию, башня медленно поворачивалась, показывая свои простенькие картины, и люди внимали, и ни один не покинул площади, пока продолжалось это представление.
А расходились присмиревшие и, как хотелось выразиться Александру, просветленные. А самому ему было грустно. Он думал о том, какими простыми могут быть уроки патриотизма. Вот если бы в Москве была сохранена не музейная, а такая живущая часть старины, скажем в Зарядье, сколько бы огней каждодневно зажигала она у холодеющих алтарей любви к Родине?!
Узкая улочка вывела на площадь с красивой старой ратушей, возле которой с мечом в руке застыл каменный Роланд — символ независимости вольного ганзейского города Бремена. Справа от ратуши на примыкающей площади тянул к серым тучам свои позеленевшие шпили еще более древний Дом Святого Петра. А рядом, на широких ступенях современного административного здания, группа музыкантов, одетых во все красное, наяривала жизнерадостные ритмы. Но никто на переполненной площади не танцевал, — не для того музыка, а просто для веселья по случаю субботы. Народ толпился возле торговых павильончиков, явно временных, разбитых лишь на сегодня. В некоторых торговали горячими сосисками и какой-то похлебкой в пластмассовых мисках. Люди охотно брали, с завидным аппетитом хлебали этот суп, присев на ступени, а то и стоя.
— Перекусим? — предложил Александр. Завтраки у немцев не по-русски легкие, а он и того не доел и теперь все чаще посматривал на столики, стоявшие повсюду, на вывески мелких кафе, которые были на каждом углу.
— Не здесь.
— Почему?
Вальтер оглянулся, и Александр понял: здесь для него непрестижно.
— Это что, кормежка бедных?
По телевизору ему не раз приходилось видеть подобные раздачи еды на улицах, но здесь это как-то не вязалось: среди такой роскоши — уличная похлебка?! Да и не походило это на телевизионные кадры: люди, толпившиеся возле сосисочных киосков, одеты были вполне прилично, на его глаз, и вовсе даже безбедно.
— Почему бедных? Просто здесь можно поесть дешевле. Стоимость еды такая, чтобы только заплатить обслуживающему персоналу.
— Но кто-то же платит за продукты?
— У нас много благотворительных организаций.
Толпа медленно переливалась из конца в конец площади. Суетились дети, шумливые, как и везде на свете, гуляли какие-то девицы, элегантные и симпатичные, стайка школьников терлась возле киосков, торгующих мишурой. Их было человек десять, одетых в одинаковые серые куртки с большими крестами на спинах, — этаких сопливых крестоносцев. Александру подумалось, что это, возможно, и есть неофашисты. Но мальчишки вели себя вполне пристойно, и он перестал обращать на них внимание. И вообще он здесь, сколько ни искал, не видел ни одного фашистского знака. Видно, неофашизм не пользовался старыми символами. Зато голубей видел предостаточно — на окнах домов, на дверях, на почтовых ящиках. Но он знал уже: голубой голубь здесь может означать все что угодно — и пацифизм, и откровенный антисоветизм. Если уж неофашисты кричат: мы за мир, то что мешает им прикрыться крыльями голубков?
На элегантно одетого господина, упорно разглядывавшего его, Александр сначала не обратил внимания. Увидел, лишь когда тот подошел, преспокойно сунул ему в карман какой-то листок и как ни в чем не бывало пошел по тротуару, изредка оглядываясь. Листок был размером с почтовую открытку. В первый миг Александр ничего не мог понять: какая-то грудастая баба на одной стороне, изображенная в непристойной позе и перечеркнутая жирно крест-накрест, а на обороте двое голых мужчин, слившихся в танце.
— Гомосексуалисты, — с серьезным видом пояснил Вальтер. — Ищут партнеров.
Александр бросил открытку на брусчатку, словно она ожгла ему руки. Заметил укоризненные взгляды прохожих, но поднять открытку не мог.
Открытку поднял Вальтер, отнес к урне и бросил как ни в чем не бывало. А у Александра не проходило ощущение, будто только что держал в руках нечистоты, и он все ходил с растопыренными пальцами, не решаясь даже достать носовой платок.
— Купите, пожалуйста, воды, — попросил он.
Вальтер взял бутылку минералки и половину ее вылил на руки Александру, вслух удивляясь такому чистоплюйству русских: открытка же чистая, не грязнее всей другой печатной продукции.
Но Александр все не мог успокоиться. Случись подобное в Москве, он бы догнал этого типа и набил ему морду. За оскорбление, за то, что осмелился увидеть в нем своего. Здесь за такое не били, здесь за каждым признавалось право на любое пакостничество.
Маленький этот случай заставил вспомнить о разрекламированной сексуальной свободе Запада. В Москве с приятелями не раз говорили об этом. Он даже обещал, что хоть разок сходит на секс-фильм. Из любопытства. А теперь понял: не сходит. Не сможет перебороть себя, зайти вместе с прыщавыми подростками в зал кино и делать вид, что его, сорокачетырехлетнего старпера, ничего там не интересует, кроме искусства.
Но реклама секс-фильмов, как нарочно, теперь лезла ему в глаза. Правда, была она довольно пристойной — этакие сороконожки в витринах, похожие на рекламу заграничных колготок, что продаются в наших галантерейных магазинах. И только один раз в какой-то витрине резанули глаз растопыренные голые женские ноги. Он отвернулся и после все отворачивался от витрин, где были выставлены какие-либо журналы, боялся вновь увидеть подобное и хоть на секунду задержать взгляд на этих картинках. Он стеснялся Вальтера, стеснялся прохожих, равнодушными тенями шествовавших мимо, стеснялся самого себя. Но скоро сделал заключение, что немцы все же не лишены чувства меры: откровенно порнографические картинки больше не попадались.
Обедать Вальтер повел в универмаг. Переходя с эскалатора на эскалатор, через пестрые, яркие, многоцветные, шумные торговые залы добрались до пятого этажа, где была, как сказали бы в Москве, столовая самообслуживания. Прогулялись с подносами, взяли что-то мясное на больших глубоких тарелках, поставили по бокалу пива и уселись за пустующий столик. Обед был сытный, но довольно скромный, и Александр подумал, что немцы все же скупы. Приехал бы Вальтер в Москву, Александр непременно потащил бы его не просто пообедать, а основательно посидеть если не в «Берлине», то в каком-либо ином первоклассном ресторане. Выложил бы ползарплаты, но не ударил в грязь лицом. Иностранец как-никак, друг его друзей. Но он заставил себя не больно-то придираться и ел молча, утешая себя старой поговоркой о своем уставе, с которым негоже лезть в чужой дом.
— Вы могли бы жить у нас? — неожиданно спросил Вальтер.
— Как видите, живу, не хвораю.
— Нет, остаться и жить?
— Как это?
— Очень просто. Бывает же, остаются.
— Просто? Хм… А чего мне тут делать?
— Работать.
— Работать не могу. Посольство ФРГ разрешило мне въезд в страну как раз на том условии, что я не буду требовать работу. И штамп в паспорте поставили.
Он решил свалять дурака, и Вальтер прекрасно его понял.
— Я спрашиваю в принципе, — сказал он.
Александр задумался. Если и в самом деле мысленно примерить на себя эту жизнь? Не просто приехать, нахватать сувениров, попить пива и — до свидания, а жаться над каждой маркой, таиться от друзей, когда хочется отвести душу искренностью, рассчитывать каждый пустяк, прикидывая, нужно ли делать то или это?.. Не-ет!.. Безалабернее наша жизнь, но и открытее, нерасчетливее, но и душевнее…
— Пожалуй, не смог бы.
— Почему?
— Да вот ведь… — Он задумался, как бы сказать, чтобы не обидеть. — Живете вы, конечно, богато: хожу по магазинам и… балдею, — не найдя подходящего слова, добавил он по-русски.
— Что такое «балдею»?
— Ну, в общем, есть на что посмотреть. — Ему не хотелось влезать в лингвистические дебри. Да и как объяснишь? — Магазины богатые, ничего не скажешь, но к ним быстро можно привыкнуть…
— Да-да, привыкаешь.
— Вот ведь что любопытно: хожу я и думаю вовсе не о том, что бы себе купить. Ничего мне не нужно, понимаете? Хотелось бы купить и то и это, но — для родных, для друзей. Только и думаю, как приеду домой, да как буду выкладывать подарки, да как все обрадуются. А?..
Вальтер молчал. Понимал ли, нет ли, — не догадаешься. Очень хотелось разжевать эту мысль, сказать, что у них тут все живут собой, учитывая каждую сегодняшнюю трату, чтобы потом не оказаться в безденежье. А его финансовые заботы дальше одной получки не распространяются: есть деньги — можно тратить, нет — перебьемся. Ничего не сказал. Не был уверен, что хорошо это — не думать о завтрашнем дне. Не получилось бы, что кичится легкомыслием.
Порой человек видит не то, что вокруг, а к чему у него есть настрой. До этого разговора кидались ему в глаза одни красоты. Но когда возвращались к машине, он вдруг задержал взгляд на музыканте, игравшем на аккордеоне какую-то печальную мелодию. Стоял он в туннельном переходе под дорогой, где было сумрачно и холодно, — сквозило, как в трубе, — и Александру все казалось, что музыкант не сжимается над своим аккордеоном в такт музыке, а просто ежится от холода.
У выхода из того же туннеля они едва не запнулись за вытянутые поперек тротуара длинные ноги какого-то немытого и нечесаного парня, сидевшего у стены. Парень сидел с закрытыми глазами и, похоже, спал, но небольшую картонку с какой-то надписью держал крепко. Александр не наклонился, чтобы прочесть надпись: не любил алкашей.
— Там написано «Я голоден», — сказал Вальтер таким тоном, будто он все тут заранее знал. И добавил с мстительной иронией: — Вы ведь только и думаете, что о других, отдайте же ему свои деньги.
Александр оглянулся: парень был явно не в себе, не алкаш, так наркоман. Но назло Вальтеру захотелось бросить парню хотя бы одну марку. Он вернулся, но ни кружки, ни шапки рядом с парнем не нашел. Подумав, положил белую монету на острое обтянутое серой грязной брючиной колено и пошел прочь. Сзади кто-то засмеялся, но он не оглянулся. Он не чувствовал никакого удовлетворения от этой милостыни, ему почему-то было стыдно.
Когда проезжали через привокзальную площадь, Александр увидел на стене размашистую надпись: «Nur Banken sind frei!» — «Только банки свободны!» Сказал о ней Вальтеру. Тот мотнул головой в сторону, но ничего не ответил. И Александр не знал, что еще сказать. Надпись была, по его мнению, донельзя правильной, он искал в душе своей какой-либо отклик и ничего не находил. Пусто было в душе. Чужая боль не болит? Он оглянулся, но надписи уже не увидел: ее заслонил угол соседнего дома.
Обратно ехали так же быстро, не ехали — летели.
— Хотите посмотреть, как я живу? — спросил Вальтер, когда за обочиной промелькнул большой трафарет — «Oldenburg».
— С удовольствием.
— Только заеду, куплю молока к чаю.
— Молоко — это хорошо, — сказал Александр. Стакан молока — было как раз то, чего ему сейчас больше всего хотелось.
Рыжий «фольксваген» подкатил к небольшому магазинчику с единственной витриной, заваленной всякой всячиной. Через минуту Вальтер принес две крохотные, граммов по пятьдесят в каждой, бутылочки с молоком, кинул их в ящичек под приборной доской. А еще через несколько минут «фольксваген» остановился возле невысокого зеленого заборчика. От калитки к дому вела асфальтовая дорожка. Дом был одноэтажный, но довольно большой; на зеленый лужок глядели несколько широких безрамных окон.
Внутри дом показался Александру еще больше: прихожая, кухня, кабинет, спальня, комната для гостей, просторная гостиная с диваном, камином, телевизором, всякими радио-видео. А посередине — просторный вестибюль, что ли? — Александр не знал, как и назвать, — служивший столовой. Как у Луизы. Только здесь было широкое окно во всю стену и стеклянная дверь. Создавалось впечатление, что зеленый лужок там, за стеклом, был продолжением зеленого паласа здесь.
— С кем вы тут живете? — спросил он, оглядываясь вокруг.
— Один.
— Один? Зачем одному столько?.. Ах да, — догадался он. — Жениться, наверное, собираетесь?
— Пока не собираюсь.
— Ну от невест, наверное, у вас отбоя нет.
Вальтер пожал плечами и ничего не ответил.
— А где вы работаете? — только теперь догадался спросить он. И подумал, что в Москве спросил бы иначе: «Кем вы работаете?» Потому что у нас чаще всего от профессии заработки, а не от места работы.
— В банке.
— И вы в банке?!
Вальтер опять ничего не ответил. Он умел игнорировать вопросы, на которые не хотел отвечать. И ни один мускул не вздрагивал на его лице, словно никто ни о чем не спрашивал. Так не умел никто из множества знакомых Александра, даже Луиза не умела, не говоря уж о Катрин.
Разговор не клеился. Они пили чай, чуть-чуть забеливая его молоком, ели холодный пирог, испеченный, по-видимому, одной из приходящих невест Вальтера, и молчали.
Затрещал телефон. Вальтер взял трубку, ответил кому-то холодно и односложно.
— Катрин звонила, — сказал он через минуту.
— Вы ее знаете?!
— Я сказал, что вы у меня. Она сейчас приедет.
С Катрин, конечно, будет веселей, но пока тоже надо было о чем-то разговаривать. Его угнетала эта огромная квартира на одного. Все казалось, что там, в комнатах, еще кто-то есть. Он со своей донельзя ужатой планировщиками трехкомнатной квартирой в стандартном доме казался себе заморышем, которому остается только глядеть в рот этому «банкиру». Но унижаться не хотелось, хорохориться по принципу «у советских собственная гордость» тоже не хотелось, и он не знал, как себя вести. Еще несколько минут назад можно было поблагодарить за внимание и попросить подбросить куда-нибудь к центру, откуда он нашел бы дорогу домой. Но теперь приходилось сидеть и ждать Катрин.
— Вы, наверное, очень богатый человек? — спросил Александр, решив наплевать на приличия и спрашивать, что пожелается.
Думал, что Вальтер опять отмолчится, но он ответил:
— Я простой банковский служащий. Дом этот купили мои родители десять лет назад, тогда это было дешево. Перестраивать пришлось. Все делал своими руками…
И стало как-то проще. И Александр встал, снова прошелся по комнатам, вслух восхищаясь аккуратно выложенными керамическими плитками на кухне, необыкновенным рисунком на обоях спальни, продуманным интерьером гостиной, хитроумным запором стеклянной двери, которая, если нажать на рычаг, поднималась вся разом и только тогда открывалась. То, что сделано своими руками, по его всегдашнему убеждению, заслуживало восхищения.
— Хотите посмотреть телевизор? — предложил Вальтер.
О, конечно, он хочет посмотреть телевизор, это проклятие людей думающих и подлинный спаситель бестолковых компаний!
Вальтер взял со стола какую-то коробочку, нажал на кнопку, и телевизор сам собой включился.
— Дистанционное управление, — похвастал он. — Направьте на телевизор и нажмите кнопку. Любую.
Александр взял коробочку, нажал на кнопку. На экране появились цветы. Передавали что-то о садах и садоводах. Он нажал другую кнопку, и комнату наполнила веселая мелодия ритмической гимнастики. На экране танцевали, прыгали, извивались улыбчивые парни и девушки, мальчишки и девчонки, пожилые господа и молодящиеся фрау. Это был очень красивый урок, под такую музыку самому хотелось танцевать и прыгать. Но Александр все же переключился на другую программу, по которой шел фильм для школьников, страшный, сумбурный, бестолковый. Очень скоро он надоел, и Александр снова включил ритмическую гимнастику.
— Хотите видеофильм? Детектив, комедию? Что любите?
— Я люблю исторические.
— Есть и такой. Из жизни Древнего Рима. Американский фильм.
— Давайте.
Те американские фильмы, которые ему приходилось видеть, обычно грешили историчностью, зато были отлично сняты. Особенно массовки, битвы.
— Один из самых кассовых фильмов, — говорил Вальтер, копаясь в шкафчике под телевизором, переставляя кассеты. — Побил все рекорды сборов. Называется: «Калигула, взлет и падение тирана». Как о нем писали: «Фильм-исследование о власти и безумии, о терроре и извращении».
Об императоре Калигуле Александр знал только то, что это был один из самых отъявленных мерзавцев, в и без того богатой мерзавцами истории Древнего Рима. Он развалился по-барски в углу уютного дивана и приготовился насладиться высоким искусством, которое в сочетании с исторической достоверностью было для него, любящего все историческое, искусством вдвойне.
Он насторожился, когда увидел на экране бассейн, в котором плавали обнаженные девицы. Но успокоил себя: какой американский фильм без изюминки? Потом пошли сцены, где Калигула с помощью сообщника задушил отца и содрал с его пальца императорский перстень — символ власти. Потом Калигула приказал схватить этого своего сообщника и казнить вместе с другими, помогавшими ему прийти к власти. В сцене казни не было ничего исторического: постановщики фильма явно выдумали ее для устрашения зрителей. На поле огромной арены, напоминающей современный стадион, были закопаны люди, головы торчали над землей как кочаны. По полю с современным механическим шумом двигалась гигантская машина, большими серпами срезала головы. Они дергались, видя приближающиеся серпы, вскидывали белые от ужаса глаза на императора, моля о пощаде. Но император веселился, кидал чем ни попадя в головы, стараясь попасть побольнее. И толпа на трибунах улюлюкала и кидала камни в обреченных. И было во всей этой сцене механической безжалостности машины что-то мерзостное, унижающее. Хотелось закрыть глаза и не смотреть, но Александр заставлял себя не отворачиваться. Смотрим же мы, к примеру, кинокадры американских ковровых бомбежек во Вьетнаме. Летят бомбы, вспухают внизу частые пузыри разрывов. Только что не видим разорванных взрывами людей. Та же машина убийства, и летчики, будто зрители в этом фильме, с удовлетворением отмечают, что бомбы легли как надо. И современный Калигула сидит в штабе, радостно выслушивает сообщение об «удачно» проведенной бомбежке. Механическое убийство, когда убийца не испытывает ни состраданий, ни даже угрызений совести. Он лишь частичка властвующей машины убийства, выполняющая высшую волю.
А еще думал Александр, что фильм хоть и слишком натуралистичен, но все-таки правдив. Он и сам раньше верил: прежде чем развалиться, Древнеримская империя должна была основательно прогнить. Общество, где труд презирался как удел рабов, а бездеятельность и праздность считались высшими добродетелями, такое общество неизбежно должно было само себя отравить. Александр всегда считал, что не готы уничтожили Римскую империю, она сама себя уничтожила, а готы захватили лишь то, что не могло даже сопротивляться. О какой производительности труда можно говорить, если труд презираем? На запад и на восток отправлял Рим свои легионы, чтобы пригнать новые тысячи рабов. Но, оказавшись в рабстве, вчерашние свободные производители работать не хотели. Их или убивали, или гнали на работу палками. Но какая производительность у работающих из-под палки? И требовались новые тысячи рабов. И все повторялось: рабы под ударами бичей работали кое-как, свободные работать не желали, поскольку в обществе господствовала мораль, презирающая труд как удел рабов… Жестокость и безнравственность не могли не становиться нормой.
Каким же светом должна была показаться людям, потерявшим веру в самих себя, стремительно распространявшаяся в те далекие времена вера в высшее предначертание добра! Что же случилось с людьми? Не верящие ни во что, они вдруг начали самозабвенно верить в абсолютную истину. И никакие муки, никакие зверства тех же императоров не могли отвратить их от этой веры. Что случилось с людьми?.. Теперь Александр знал, что на этот вопрос мог быть лишь один ответ из двух: либо и в самом деле на Землю явился посланник высших сил, либо общество настолько скомпрометировало себя, что вера в необходимость иных начал стала всеобщей…
Он смотрел этот чем-то и пугающий его, и привлекающий фильм и словно бы не замечал того, что навязывали ему постановщики: обыденность садизма, безнравственности, жестокости.
У двери мелодично промурлыкал звонок.
— Катрин, — сказал Вальтер. Он протянул руку куда-то за диван, что-то включил. И Катрин влетела в комнату, веселая, разнаряженная.
— Эту гадость смотрите? — сказала она, усаживаясь рядом с ним на диван. — Конечно, что еще смотреть современным мужчинам.
И замолкла, сама стала смотреть сцены, по мнению Александра, отнюдь не предназначенные для женских глаз. А на экране Калигула повел целомудренную невесту одного из своих офицеров на кухню, чтобы там изнасиловать ее, и приказал этому офицеру быть рядом. «Смотри! — кричал он. — Именем сената и народа Рима — смотри!» И офицер смотрел, и Александр смотрел, и Катрин смотрела бесстыдно-натуральное. Все смотрели, что делает император с девушкой. От имени сената и народа Рима. Александру хотелось уйти, но он не знал, как это сделать. Было в этом смотрении что-то нехорошее, будто и он сам, как и те сенаторы, помалкивавшие при жестоких бесстыдствах Калигулы, своим молчаливым участием способствует его, Калигулы, существованию на белом свете.
— Хватит! — сдерживаясь, сказал он.
Вальтер удивленно посмотрел на него и выключил изображение.
— Смотрите, если хотите, — спохватился Александр. — А я пойду.
— Я обещал Луизе привезти вас, — сказал Вальтер.
До дома Александр не доехал, попросил высадить его возле театра. Катрин тоже вышла из машины, и после того как Вальтер уехал, они некоторое время шли рядом, не прикасаясь друг к другу.
— Пойдем ко мне? — неуверенно спросила она.
— Мне надо побыть одному.
— Побудь, — сразу согласилась. — Потом приходи. Дорогу помнишь? Я хоть тебя накормлю. У Вальтера этого не дождешься.
— Ты пирог ему пекла? — ревниво спросил он.
— Какой пирог?
— Это я так…
Ему полегчало от ее слов. Она была, право же, не глупа.
Было еще светло, но магазины все, как один, светились витринами. Он перешел улицу и углубился в паутину знакомых торговых переулков. Захотелось выпить. Зайти куда-нибудь и попросить водки? Вспомнил, что ему есть куда пойти, приглашали, и он направился прямиком на Цветочную улицу. Вот знакомый кондитерский магазин на углу. Он был еще открыт, но лотки с улицы все убраны. Александр постоял возле конфетной витрины, чувствуя, как затихает в нем внутренняя дрожь, не оставлявшая с того момента, когда он почти крикнул: «Хватит!» Что-то успокаивалось в нем, приходило знакомое умиротворение. От конфетных витрин ровно восемь шагов до витрин магазина модной одежды, где были выставлены совершенно фантастические цены. Дальше был хозяйственный магазин, затем книжный, а напротив — знакомая пивная. Он пошел по улице и вдруг увидел Луизу. Она рассматривала журналы в книжном магазине, но все время посматривала сквозь витрину на улицу и, увидев Александра, тотчас вышла. Затормошила его обрадованно:
— Чашечку кофе, чашечку кофе.
— Я бы чего-нибудь выпил, — сказал он, показывая на пивную.
— Не здесь, только не здесь…
Она потащила его обратно мимо хозяйственного магазина, и одежного, и кондитерского, свернула в совсем узкий переулок, куда он еще не заходил, и вывела на площадь возле театра.
— Дома все есть. И завтра рано вставать.
— Чего завтра-то рано? — удивился он. — Завтра же свободный день.
— Завтра мы последний день в Ольденбурге, — уточнила она.
— Последний день. Поболтаюсь по городу последний раз, куплю кое-что.
— Купите в Штутгарте.
Он даже остановился, пораженный ее бестолковостью. Нет же денег на дорогу, неужели не понимает?
Она порылась в сумочке, вынула белую картонку. Это был железнодорожный билет от Ганновера до Штутгарта и обратно стоимостью 160 марок.
— Вот, чтобы вы больше не говорили.
— Зачем, Луиза? — Он растерялся от такой щедрости. — Я же не смогу отдать марки.
— Пойдемте домой, пойдемте, завтра рано вставать, — простецки перевела она разговор на другую тему.
Он шел за ней, — со стороны посмотреть, вел ее под руку, на самом же деле, он это чувствовал, именно шел за ней, — и все думал о загадочном немецком характере. Все-таки не скопидомы они, просто расчетливы. И не такие уж сухари, просто сознательно сдержанны…
VIII
— Александр, пора вставать!
Сегодня этот зов не застал его врасплох. Вставший раньше и успевший побриться, он сразу же вышел.
— О-о! — изумилась Луиза и, сама еще не готовая, забегала по квартире.
В ожидании завтрака он вышел на лестницу. На столике у двери лежали газеты и несколько ярких рекламных проспектов. Полистав их, спустился на крыльцо, помахал руками, имитируя физзарядку, затем толкнул калитку и оказался на улице. Вдоль тротуаров вплотную друг к другу стояли машины. А людей не было ни одного, и окна во всех домах занавешены. Белый туман висел меж белыми домами, делая улицу призрачной, нереальной. Словно это была белая ночь и люди все спали.
Улица ничуть не изменилась и через полчаса, когда они выезжали. На этот раз ехали вдвоем. Луиза сидела за рулем, а Уле, как она объяснила, остался дома готовиться в завтрашнюю дорогу. Еще за завтраком Луиза торжественно объявила, что сегодня она на целый день возьмет Александра в плен и покажет ему свою родину.
— Вы же показывали мне свою родину, вот и я хочу показать, — капризно объяснила она, словно Александр возражал.
Впрочем, он бы, может, и возразил, — последний день в Ольденбурге, а он снова уезжает из города, — да что скажешь после вчерашней щедрости Луизы, по существу подарившей ему вместе с билетом до Штутгарта целое путешествие по стране.
— Я думаю, сегодня вам будет интересно.
Она все время думала за него, совершенно уверенная, что желаемое ею желательно и ему.
Александр молчаливо согласился, утешив себя тем, что любая здешняя местность для него такая же «терра инкогнита», как и улицы Ольденбурга, которые он как следует не успел посмотреть.
За городом туман еще больше сгустился: в трехстах метрах ничего не было видно. Наползая с близкого Северного моря, он затянул, казалось, всю Нижнюю Саксонию. Дорога вела через бесконечные кочковатые луга, там и тут пересеченные проволочными изгородями. Луга тонули в тумане как в молоке, но заблудиться было невозможно: дорога путеводной нитью вела в туман, в пустоту, но была она такой обихоженной, что все время оставалось ощущение близости какого-либо поселка, или отдельного, обозначенного на карте, домика, или дорожного указателя, по которому легко сориентироваться.
— Вот тут я и жила, — говорила Луиза. — Родители — крестьяне — были бедны. Бегала в школу за четыре километра. Теперь этой сельской школы уже нет, на машинах возят детей в город… А вот и мой дом.
Дом был большой, крепкий, краснокирпичный, по русским крестьянским представлениям, очень даже безбедный дом, почти помещичий. Над высоким крыльцом резная надпись — «Sieh regen bringt Segen», которую можно было перевести так: «Деятельность благословенна». И внутри он был довольно богат, этот дом, — большой коридор, гостиная с мягкими диванами и сервантами, две спальни, еще комнаты — для детей, большая умывальная комната со стиральной машиной в углу, отдельно душевая, отдельно туалет. Наверх вела широкая лестница, и там, наверху, тоже были две комнаты и хозяйственные помещения с полками для разных компотов и солений. И еще лестница — на чердак, огромный, с белыми дощатыми полами, подбитый под крышей толстым слоем пенопласта.
Александр дотошно, словно собирался купить дом, осмотрел все этажи, потом прошел в конец коридора и попал на хозяйственный двор, расположенный под той же крышей. Здесь были клети для трех десятков коров, с автопоилками и механическими приспособлениями для уборки навоза. Все, что полагается для маленькой, но вполне солидной семейной фермы. Но коровник этот был пуст. Живущие в доме две престарелые женщины, крестьянствовавшие когда-то, уже не могли вести хозяйство, а молодые не хотели. Молодые, муж и жена лет двадцати пяти — тридцати, каждый день ездят на своей машине в город, где и работают. Это выгодней. «Деятельность благословенна» — еще взывает старая надпись на доме, но дом уже умирает в бездеятельности. Для молодых благословенна не деятельность, а заработок. И неважно для них за что — за деятельность, бездеятельность или даже антидеятельность.
Теперь Александра угнетала обширность этого дома. Он думал о том, что производящий блага труд повсеместно перестает быть главным источником радостей для человека, что удовольствие, наслаждение отрывается от деятельности. Вспомнился вчерашний фильм. И опять пришла мысль, что если труд, созидание из ничего чего-то, перестает быть главным источником самоудовлетворения, то поиски абстрактных радостей, наслаждений становятся самоцелью. А отсюда один шаг до последнего действия исторической драмы, когда труд становится презираемым, даже аморальным. Это уже конец, общество катится к закату. Многие стремятся освободиться от труда. Но у человечества нет будущего на нетрудовых путях.
А старые стены еще кричали о трудовых традициях, пестрели выставленными, как в музее, символами труда. В коридоре висели на стене цеп и красивая доска с резной надписью, чтобы не стерлась и через века. Это был трудный разговорный оборот, который Александру удалось прочитать лишь с общей помощью: «Если ты доволен, то богат, как никто». Ясно было, что крестьяне пословицей этой выражали свое отношение к жизни, и Александру хотелось перевести ее по-своему: «Трудись, и ты будешь доволен жизнью». Но для молодых, живущих в этом доме, надпись, как видно, звучала иначе: «Главное быть довольным, и неважно, каким путем достигается богатство».
И вдруг он подумал о Нельке. Она ведь тоже вроде этих молодых. У нее тоже радость жизни никак не связана с собственными деяниями. Радости к ней приходят откуда-то сами собой, и если хорошенько поклянчить у папочки, то можно получить вдвойне. «Ну, я ею займусь!» — мысленно пообещал он. И вздохнул: ничего у него не выйдет. Потому что не научился ни в чем отказывать своей разлюбезной дочери. И пожалуй, еще потому, что в нем самом убеждения эти слишком умозрительны, сам вырос в среде, где радости жизни редко зависели от производимого им.
— Вы вздыхаете? — всполошилась Луиза. — Вам здесь не нравится?
— Нравится, — снова вздохнул он. — Только жалко, что умирает хозяйство.
— Теперь маленькие хозяйства нерентабельны. А за так работать кому хочется? Я вот на этом огороде, помню, копалась. Ой как не любила!
Она не поняла, что Александр имел в виду, а объяснять ему не хотелось. Да и как объяснить все это? Каждому отдельному человеку не дано самостоятельных путей. Человек лишь пылинка на гигантской волне исторической закономерности. И даже если он понимает, куда его несет, легче ему от этого не становится…
Снова они плутали в молочном пространстве, сворачивая с одной дороги на другую, пока не выехали на какой-то широкий перекресток. Здесь Луиза остановила машину и вышла. Было очень тихо, ниоткуда не доносилось ни звука, и черные, приподнятые над серыми лугами насыпи дорог, уходящих неизвестно куда, белые полосы и стрелки на асфальте, яркие дорожные указатели на обочинах, — все это как будто было в каком-то фантастическом, сказочном кино.
— Вот здесь он погиб, — сказала Луиза.
— Кто?
— Один человек. Русский… — Замялась на миг и добавила: — Немец. Русский немец. Такие жили у вас.
— Они и сейчас живут.
— Жили… На Волге… Он рассказывал мне о Волге, и я запомнила.
Она медленно ходила по перекрестку, осматривала указатели, заглядывала в кюветы.
— Дорог тогда таких не было. Но я запомнила место. Вон оттуда они прилетели, со стороны моря. В ясную погоду отсюда видно Бурхаве. Маленький городок на берегу. Мы туда сейчас поедем.
Еще раз оглядевшись, словно проверяя, не забыла ли чего, она полезла в машину. Но еще посидела, тяжело положив руки на руль, словно не решалась трогаться с этого места.
— Вам не интересно?
— Почему же? Интересно.
Мало, конечно, было интересного для него в этой истории, и вместо того чтобы торчать тут, среди болот, он предпочел бы теперь послоняться по центральным улочкам Ольденбурга. Но выказывать это свое настроение, он понимал, не следовало. Похоже было, что память об этом «русском немце» дорога Луизе, и требовалось хоть как-то выразить свою небезучастность.
— Когда это случилось? — спросил он.
— Я же говорю — в войну! — удивленно воскликнула Луиза. — Какой вы невнимательный. Я же говорю: они с моря прилетели. Английские, а может, американские самолеты, не знаю. А тут их вели…
— Кого?
— Заключенных! — Луиза почти выкрикнула это, и Александр удивился ее непонятному волнению. — Тут и англичане были, а они — бомбами!..
— Может, думали: колонна солдат?
Луиза нервно пожала плечами и тронула машину. Еще какое-то время ехали во все более редеющем тумане. Потом впереди показались дома, и машины откуда-то взялись, зачастили по нешироким улицам.
Когда пересекли этот крохотный городок, увидели на другой его окраине высокую земляную насыпь. Оставили машину на стоянке возле насыпи и полезли вверх по крутой лестнице. Сверху увидели море. Белесое, оно сливалось с белесым небом, и если бы не черная широкая отмель, то можно было подумать, что никакого моря нет, что это небо подступает к самому берегу.
К морю надо было подойти обязательно, — это Александр загадал, еще когда они ехали сюда, — и ополоснуть в нем руки. Шутка ли, этак небрежно сказать потом, в Москве: «Вымыл руки в Северном море…» Он пошел по скользкой дамбе, — был отлив и море ушло довольно далеко, — оглянулся на середине. Луиза стояла на месте, смотрела вслед. Ее фигура казалась очень одинокой на этом пустынном берегу, и он почему-то заторопился дойти до конца мола, чтобы поскорей вернуться.
— Летом тут масса народу, — сказала она, когда Александр вновь подошел к ней.
— Тут же холодно.
— Летом бывает жарко. Люди купаются… В сезон снять дом здесь, в Бурхаве, очень дорого.
— А теперь куда поедем? — спросил он.
— Вы все торопитесь? — укорила Луиза.
Он решил подыграть ее тщеславию, сказал весело:
— У вас здесь столько интересного. Хочется все посмотреть.
— Сейчас поедем в Норденхам. Там будем обедать. Я созвонилась с друзьями, и нас ждут. С вами желает поговорить одна женщина. Она родилась в России.
— Тоже из русских немцев?
— Другое, совсем другое! — Луиза даже сморщилась, так ей почему-то не понравилось это сравнение. — Она немка, приехала из России еще девчонкой, сразу после вашей революции.
В Норденхаме они были через четверть часа, возле реки нашли ресторан, где была назначена встреча. Приглашенные уже ждали. Четыре старушки, четыре «божьих одуванчика», смотрели на него, как на заморское диво. Он сразу узнал «русскую немку». То ли во взгляде ее был какой-то иной интерес к нему, то ли просто потому, что возле нее на тарелочке лежал хлеб. Он уже знал, что за обедом немцы предпочитают обходиться без хлеба.
— Адель Романовна Герман, — по-русски представилась ему эта самая старушка. Говорила она чисто, что сразу отличало человека, знавшего русский с детства.
И заговорила, заговорила обрадованно, словно век ждала этой минуты поговорить, отвести душу. В пять минут Александр узнал, что ее предки переселились в Россию еще в начале прошлого века, что отец был купцом, что дома они говорили только по-немецки, а на улице по-русски, что, когда переехали в Германию, все стало наоборот: на улице — немецкий, а дома — русский. Отец не хотел, чтобы дети забывали русский язык. Ее увезли из России в девятилетнем возрасте, но она все помнит. Помнит морозы. Потому что при 20 градусах дети не ходили в школу. Тогда на каланче вывешивались черные шары, и они, дети, все смотрели, есть шары или нет.
— Извините, — говорила она, — но воспоминания в основном кондитерские. Тут уж ничего не поделаешь, у всех детей сладкие воспоминания. Какие калачи были, а какие жаворонки из булочной приносили! И теперь непременно у нас калачи на пасху. Пост не соблюдаем, а калачи и обилие сладкого — обязательно. Объедаемся… А еще бульвары помню. Ходили гулять в Кремль. Царь-колокол, царь-пушка!.. А какой храм Христа Спасителя был! Что снаружи, что внутри — чудо из чудес. Как вспомню, душа слезами обливается…
Александр слушал не перебивая. Понимал: сладостно это путешествие в детство. «Дайте до детства плацкартный билет, — поет певица с нежным акцентом. Слезно поет. — Билетов нет, билетов нет…» А может, все-таки есть? Просто нужно, чтобы все совпало. И сладкое детство, и добрый родитель, помогавший не забывать прошлое, и такой вот терпеливый собеседник, готовый слушать наивные воспоминания и улыбаться понимающе.
Но улыбался он своему. Неожиданно захлестнуло его это чужое воспоминание тоской по дому. Ездил же в командировки, не больно тосковал, а тут почему-то стало невмоготу. И он уж вспомнил недобрым словом заботливую Луизу, подсунувшую ему билет до Штутгарта…
Эта «русская немка» совсем измучила ему душу своими воспоминаниями.
— Извините, можно я на минутку выйду, — бесцеремонно шепнул ей по-русски.
Думал, обидится: разве женщине такое говорят?
Глаза Адель Романовны сделались круглыми, но был в них не испуг, а скорее восторг. Она даже руками всплеснула, что уж никак не вязалось с хваленой немецкой сдержанностью.
— Конечно! — И посмотрела на него так, будто он только что сделал ей совершенно немыслимый комплимент.
Александр еще раньше приметил, что второй выход из ресторана выводит прямо на песчаную отмель, к реке, светлевшей метрах в ста. И он пошел к этому выходу.
У реки тянул слабый, но холодный ветер. Это был Везер — одна из главных рек Западной Германии. Здесь он разливался широким рукавом. На фарватере стояли большие морские суда. Александр походил по берегу, но так нигде и не смог подступиться к самой воде: отлив сказывался и здесь, берег был илистым и грязным.
Вернулся он не скоро. Болезненная тоска по дому переросла в сладкую печаль, и теперь он с нежностью смотрел на эту «русскую немку». Как-никак она была его землячкой. И она любила свою родину, как и он любит. И ее, как и его тоже, детские радости связаны с одними и теми же московскими улицами.
Адель Романовна, как видно, готова была купаться в трогательных волнах своих воспоминаний хоть до вечера, но тут заспешила Луиза, заговорила о том, что завтра им уезжать, что надо собраться в дорогу, а сегодня еще предстоит обязательно заехать в одно очень важное место.
— Обязательно! — со значением повторила она, явно рассчитывая на чье-то понимание. Но никто из старушек ни словом, ни взглядом никак не выразил, что понимает, о каком таком очень важном месте идет речь.
Снова они оказались на полупустынной дороге среди кочковатых сырых полей. Туман почти рассеялся, и теперь можно было видеть там и тут купы деревьев возле домов, стоявших, как хутора, отдельно один от другого. Далеко в стороне проплыли высокие трубы и огромные градирни электростанции, и снова была необычная пустота этих низинных мест.
— Сейчас мы заедем на мемориальное кладбище, — сказала Луиза. — Вам ведь интересно посмотреть?
Он сказал, что ему, конечно, интересно. Хотя ничего особенного он от этого неизвестного мемориала не ждал. Не за тем ехал в Западную Германию, чтобы болтаться по кладбищам. Но ведь дареному коню в зубы не смотрят. Вся его поездка в эту страну — как подарок за неизвестно какие заслуги.
Вскоре впереди показался канал, широкий, судоходный, а за ним — березовая роща, далеко растянувшаяся по берегу, похожая издали на лесозащитную полосу. На скорости машина перемахнула через канал по высокому мосту и остановилась возле рощи на небольшой укатанной, но совершенно пустой автостоянке. Никого не было вокруг, березовая стена стояла без движения, как декорация. Великая тишь висела над лесом, над свинцовой водой канала, над сырыми лугами, спрятавшими дали в серую дымку серого стылого дня. И Луиза была тиха, как никогда. Забыв захлопнуть дверцу машины, она пошла по утоптанной глинистой дорожке в глубину рощи. Оглянулась на Александра, но, ничего не сказав ему, пошла дальше.
Березы расступились, образовав широкую, уходящую вдаль поляну, поросшую бесконечными параллельными рядами какого-то колючего кустарника. В отдалении виднелась изогнувшаяся дугой стена, пестрая от надписей, а напротив нее — гигантский крест, сделанный из целого ствола дерева.
Шагая по дорожке вдоль этой кустарниковой заросли, Александр вдруг увидел сбоку небольшую табличку, на которой были написаны только две цифры — «1881—1892». Увидел другую — «1893—1904». И дальше были такие же таблички, совсем спрятавшиеся каждая в своей полосе низкого кустарника. И Александр понял, что это не годы рождения и смерти, обычные для кладбищенских надписей, а порядковые номера захоронений, и полосы кустарника — это братские могилы, размеченные с немецкой пунктуальностью.
— Кого здесь хоронили? — спросил он Луизу, все еще безмолвно идущую впереди.
Она не ответила, и Александр не стал переспрашивать. Тем более что стена с надписями была рядом и можно было прочесть и самому разобраться.
Луиза не остановилась у стены, прошла к кресту, а он стал читать. Но ничего из этих надписей не понял: все они в разных формах пережевывали одни и те же мысли, наподобие «Спите спокойно, дорогие товарищи» и «Ваши муки послужат предостережением для других поколений и, может быть, избавят их от мук». И большие, бесконечные списки имен, ничего не говорящих Александру.
Но он догадался:
— Здесь похоронен этот… «русский немец»? — спросил, подходя к Луизе.
Она кивнула, достала платочек, высморкалась и вдруг заспешила, потащила его за рукав обратно к машине. Оказалось, что в багажнике был приготовлен небольшой венок из навощенных папье-маше. И еще был букетик живых цветов, бело-красных, пестрых, названия которым он не знал.
— Возьми, — сказала она срывающимся голосом. Подала ему венок, а сама пошла рядом с букетиком в руках. — Не спеши.
Он и сам понимал, что суетиться здесь не следует, и шел почти торжественно, представляя себя похожим на телевизионного солдата, возлагающего венок к памятнику. Где-то на середине этого казавшегося ему отнюдь не скорбным пути вдруг толкнулась в него неведомая жалость, от которой впору было заплакать. С привычной для себя защитительной иронией он подумал, что если бы шел в два раза медленнее, то и жалости было бы в два раза больше. Но вдруг рассердился на себя за неуместное ерничание и с удивлением заметил, что ему и в самом деле невмоготу горько на этом чужом кладбище. Впрочем, бывают ли чужие кладбища? В каждом лежат предки, а значит, родичи, не в близком, так в дальнем колене. Все мы дети одной праматери, одного праотца. И может, не так уж не правы религии, отмечая этот факт как наиважнейший? Должно же на чем-то держаться чувство родства между разобщенными людьми, между народами?..
Он поставил венок к большому кресту. Луиза положила букетик сверху. Сели на скамью, помолчали.
Потом Луиза что-то тихо сказала, так тихо, что Александр не разобрал.
— Что? — спросил он. Обернулся к ней и увидел слезы на глазах. И удивился: такая чувствительность!
— Я видела все это, — повторила она громче. — Заключенные работали в болотах, копали торф. Страшно… Мой отец был социал-демократом, вот мы оба и попали сюда. Я не была заключенной, работала на кухне, где готовили для солдат охраны. Отец очень радовался за меня, все-таки питание…
Она покачала головой и надолго замолчала. Александр тоже молчал, знал: в таких разговорах не торопят.
— Здесь антифашисты работали из разных стран. Были и русские… «русские немцы»…
Она повернулась к нему и смотрела не мигая. И он увидел, как слеза скатилась по морщинистой щеке.
— Нас почему-то часто бомбили американцы. Наверно, принимали лагерные бараки за какой-нибудь завод.
— Заводы они не очень-то бомбили, — сказал Александр. — Наверно, просто старались помочь немецким фашистам избавиться от немецких антифашистов.
Она резко обернулась к нему.
— Вы так считаете?
— Чего там считать, — сказал он. И добавил по-русски: — И ежу ясно.
— Кому?
— Это так говорится.
— А-а…
Опять помолчали, слушая кладбищенскую тишину.
— Вы его любили? — спросил Александр.
— Он спас меня, — сказала Луиза, помедлив. — Что-то они несли мимо, а тут самолеты. Он толкнул меня в канаву, а сам лег сверху. Ранило его тогда, в спину. Если бы не ранило, его бы, наверное, расстреляли. Солдат, видевший это, сказал, что он хотел снасильничать. А я сказала, что он увидел, как летит осколок, и закрыл меня. Смешно, правда?
— Не очень.
— А они смеялись. А я кричала на них. Как я кричала! Что если бы не он, меня не было бы в живых! А начальник, добрый он был, сказал тогда: если ты такая дурочка, то сама и лечи его. И дал мне неделю. Всего одну неделю. Я опять кричала: разве можно за неделю человека вылечить? Тогда он велел отправить раненого в лазарет. А как там лечили, я-то знала. И я согласилась на неделю, взяла его к себе, положила в сарае, что был возле дома, где жила прислуга. Я бы и в доме положила, на свою кровать, да пришлось слушаться начальника. Холодно было в сарае, осень уж была, осень сорок четвертого года… И он вылечился за неделю, видно, рана была нетяжелая. Не вылечился, конечно, но смог встать на ноги, и я сама отвела его в барак… А уж потом, через полгода, когда колонну узников погнали к морю, чтобы куда-то эвакуировать, снова налетели самолеты и многих поубивали…
Она замолчала, уставилась в пространство, рассматривая там что-то свое. Александр тихо встал и побрел вдоль аккуратных рядов, вглядываясь в таблички с номерами. Ходили они тут рядами, эти люди, и зарыли их рядами. Чтобы и в посмертии не нарушали порядка.
По каналу, невидимая за березами, прошла самоходная баржа, заполнила тишину стуками, шорохами, всплесками. Словно проснулись вдруг шумы тех страшных торфоразработок. И когда самоходка ушла и совсем затихла вдали, все звучали в ушах эти скрежеты, всплески, вроде бы даже вскрики, ворошили воображение…
IX
«Achtung!
Atomwaffenfreie
Zone!»
Это было написано черным по белому на пластмассовой пластине, прикрепленной к двери. Александр дважды прочитал текст, усмехнулся. Что-то несерьезное было в этом слишком серьезном объявлении: «Внимание! Зона, свободная от атомного оружия!» И ниже помельче: «Производство, хранение и применение атомного оружия на этой территории запрещено!» Получалось, как в сказке: нарисовал на двери крест и обезопасил себя от нечистой силы.
Он подергал запертую дверь, с недоумением оглянулся на Луизу и Уле. Но тех ничуть не удивлял тот факт, что родные не встречают на пороге дома. Мало того что на вокзал встречать не приехали, так теперь еще стой возле запертой двери. У нас, если бы мать с отцом к дочке да бабушка с дедушкой к внучкам издалека приехали, так в доме был бы целый переполох, а тут…
Впрочем, что их судить по нашим правилам?
Ему было интересно, как поведут себя Луиза и Уле, встретив такой прием. Он снова начал читать странный текст на двери, краем глаза наблюдая за стариками. Но те, казалось, не были даже удивлены. Оглядев стену, Луиза откинула какую-то заслонку, сунула руку в открывшуюся нишу и сказала с игривой нежностью:
— Это уже мы.
В нише что-то пискнуло, и сразу дверь щелкнула и сама собой приоткрылась. Луиза засуетилась, бросив вещи на пороге, шагнула в тесный тамбурок. Навстречу сверху катился топот по деревянной лестнице, слышались радостные крики. Значит, все-таки ждали…
Две девочки повисли на руках у Луизы, аккуратненькие, умытые ангелочки лет восьми и пяти, затараторили быстро и непонятно. Вышла сухощавая, как и Луиза, молодая женщина, остановилась на лестнице, терпеливо дожидаясь, когда угомонятся девчушки. Александр узнал ее по фотографиям: Эльза, дочь Луизы, хозяйка этого дома.
Пользуясь тем, что на него пока не обращали внимания, Александр откинул щиток на стене, заглянул внутрь. Обычная кнопка вызова и рядом решеточка переговорного устройства. Все просто и целесообразно. Действительно, зачем бежать сверху и кричать через дверь: «Кто там?» Проще спросить, не спускаясь по лестнице, и, удостоверившись, что свои, нажать кнопку, освободить защелку замка. «Проще-то проще, — возразил он себе, — но уж больно не по-нашему. Издавна велось: гость в дом — радость в дом. А тут… Технизированная радость?..»
Все-то ему хотелось укорить этих немцев, педантичных, чересчур предусмотрительных…
Быстрее всего он сошелся с пятилетней Анике. Пока Луиза и Эльза обсуждали на кухне свое личное, Анике показала ему весь дом. Он был большой: четыре комнаты на первом этаже, холл, он же гостиная и столовая, — на втором. Крутая деревянная лестница вела еще выше. Анике ловко вскарабкалась по ней, торопя Александра настойчиво и капризно, как своего сверстника. Наверху под самой крышей было еще одно помещение, похожее на шатер. Здесь не имелось никакой мебели, и Анике уселась прямо на зеленый палас, приглашая его тоже сесть. Палас был чистый, как лужайка, развалиться на нем, казалось, одно удовольствие, и Александр, присевший на корточки возле Анике, вдруг откинулся на спину. Только теперь он почувствовал, как устал дорогой. В наших вагонах все-таки можно и полежать, а тут приходилось только сидеть, и это сидение, эта почти девятичасовая неподвижность вымотали хуже долгой физической работы.
Анике тоже повалилась на спину рядом с ним, но не улежала и минуты, вскочила, принялась выволакивать из углов игрушки.
— Это твоя комната?
— Моя, — горделиво ответила она.
— Ты тут спишь?
— Я сплю внизу, а здесь играю.
— А если я сейчас усну? Ты мне позволишь поспать?
Анике не ответила. Он полежал, борясь с дремотой, и открыл глаза. Увидел над головой белую полоску бумаги с красиво выписанной фразой: «Erst die Arbeit, dann das Vergnügen» — «Делу время — потехе час». Думал, только в Ольденбурге мода на поучения, а оказывается, в Штутгарте тоже. Вслух прочитал фразу, скосил глаза, ища Анике. Ее не было, исчезла как-то беззвучно. И тогда он расслабился совсем, провалился в быстрый сон, мельтешащий воспоминаниями.
…Еще в Ольденбурге спросил у Луизы: как будет с пересадками? Он уже знал, что прямого поезда до, Штутгарта нет, и пересадки его беспокоили. То есть не то чтобы беспокоили: здесь, в чужой стране, ему небезынтересно было бы поторчать и на вокзалах. Но, видно, сказывалась привычная боязнь дорожной неустроенности. Луиза показала ему расписание: вот поезд прибывает в Ганновер, а вот отправляется на Штутгарт. Через одиннадцать минут.
— Успеем? — спросил он.
— Что? — не поняла Луиза.
— Ну… — Александр замялся. — Пересадка ведь, платформу еще надо найти, да мало ли…
Она удивилась: сойти с поезда и сесть на другой, — чего ж не успеть? И он понял: немецкая пунктуальность — не напоказ, а норма жизни, естественное состояние. И уже не удивлялся, когда в Ганновере, после того как вышли из ольденбургского поезда и, пересев в другой поезд, отправились на Штутгарт ровнехонько через одиннадцать минут. Все-то тут было расписано, все предусмотрено, и никаких неожиданностей можно было не ожидать. Александру нравилось это, и его почему-то раздражало это. Все хотелось найти какие-то свои преимущества, чтобы доказать — не им, а хоть самому себе, — что и мы не лыком шиты. Во сне он вдруг понял, почему в нем весь этот день жило желание укорить немцев, оно было вызвано завистью к их умению четко выполнять предписанное. Так бывает, когда кто-то слишком расхвастается на людях. Хочется одернуть, сбить спесь. Чтобы не выпячивал свои достоинства, умение делать и то, и это. Хочется даже в том случае, если все, что говорится, — правда. Не в русском это характере — подчеркивать свою исключительность. По-русски — когда пропорционально заслугам растет скромность…
— Александр Сергеич!..
Он вскинулся в испуге, увидел над собой сходящиеся шатром желтые проолифленные доски, увидел голову Луизы, торчавшую прямо из зеленого паласа, и темная незнакомая жуть прошла через сердце. Не вмиг сообразил, где он, а сообразив, выругал мысленно Луизу, так не вовремя разбудившую его.
— Заснули? Пойдемте чай пить, и потом можете отдыхать целый час. Вечером будут гости, а до этого мы должны немного погулять.
И здесь, с первого часа, все было расписано у Луизы.
Он поднялся с пола с тяжестью в голове и во всем теле. «Не заболеть бы», — подумал обеспокоенно. Но знал, что не заболеет. Такая тяжесть наваливалась на него каждый раз, когда будили в момент сновидения. Разбудили бы минутой позже, и чувствовал бы себя хорошо.
Он спустился по лестнице, все еще мысленно поругивая Луизу. Дался ей этот чай! Потом можно было попить чаю, через час, и сразу пойти гулять, если ей это приспичило. Александр подумал, что он, видно, совсем уж привык к Луизе, если так часто ворчит на нее. Как на свою мать, которая все поймет и стерпит. На Уле он так вот никогда не ворчал, даже про себя. Уле оставался для него посторонним, чужим.
Стол был пуст, не уставлен блюдами в связи с приездом дорогих родственников. Только шесть обыкновенных фарфоровых голубых чашек стояло по краям и шесть десертных тарелок. А посередине — термос. Один единственный термос, литра на полтора, и тарелка с тонкими ломтиками белого хлеба. Эльза принесла масленку и сахарницу, не переставая скромно, почти виновато улыбаться, пригласила к столу. Включила тостер, стоявший рядом на полу, один за другим начала совать в него ломтики хлеба. Вкусно запахло жареными хлебцами, и девочки заторопились намазывать их маслом. Александр смотрел, ни к чему не притрагиваясь, и удивлялся: тоненько, не по-русски намазывают, масла совсем и не видно. Вспомнилась недавняя поездка в Туркмению. Там тоже говорили: пойдем чай пить. И действительно подавали сначала чай. А затем фрукты и овощи, жареное мясо и птицу, разные восточные сладости, которым Александр и названия не знал. И плов, огромное блюдо красноватого, маслено искрящегося риса с прослойками баранины и обложенного по краям мясным крошевом, которое ели прямо руками, казавшееся после нескольких рюмок коньяка необыкновенно вкусным. Все это называлось: «Чай пить»…
— Я говорила, что вы у нас голодать будете, — сказала Луиза, как видно, внимательно наблюдавшая за ним. — Может, вы есть хотите?
— Пожалуйста, — спохватилась Эльза. Она все время была какой-то задумчивой, и не раз Александр ловил на себе ее пристальный взгляд. Словно он напоминал ей кого-то и она силилась вспомнить — кого же.
— Александр спать хочет! — радостно воскликнула Анике, и все засмеялись.
— Совершенно верно, — сказал он, довольный тем, что не надо говорить о еде. И демонстративно взял ломтик поджаренного хлеба, принялся намазывать его маслом, стараясь делать это так же, как все. Но рука сама собой щедро поддевала масло, и ему приходилось сосредоточивать внимание на руке, чтобы она не своевольничала.
Говорили за столом мало. Эльза задала несколько вопросов о том, как доехали да как понравился город. Он ответил такими же дежурными фразами: доехали хорошо, город нравится, хотя он его почти и не видел, только из такси, когда ехали сюда. Но Луизе и этих ничего не значащих слов было довольно, чтобы завести разговор о красотах Штутгарта, который она намеревалась завтра же показать ему.
А затем девчушки повели Александра на первый этаж, в комнату, отведенную для него. Он вошел и увидел, что это детская. Двухэтажная деревянная кровать, у другой стены — детский мебельный гарнитур, шкафчик для одежды, полки, полные игрушек, столики, тоже уставленные игрушками, трапеция, веревочная лестница, наискось пересекающая комнату.
— Вы будете спать на моей постели, наверху, — сказала восьмилетняя Зильке.
— Нет, он будет спать на моей, внизу, — возразила Анике.
Девчушки заспорили о преимуществах своих постелей: на верхней свободней, на нижнюю залезать не надо…
— А вы где будете спать? — спросил он.
— Там. — Девчонки обе разом посмотрели на потолок, и он понял: в том шалаше для игры, что под самой крышей.
Он поднялся к Луизе и Эльзе и сказал, что ему негоже беспокоить детей и он вполне будет доволен, если устроится наверху.
Увидел, как сразу помрачнели мордашки девчушек, увязавшихся за ним следом, а Эльза засмеялась и сказала, что дети очень любят спать наверху, только это им обычно не разрешается. И если он, Александр, хочет навсегда завоевать их сердчишки, то должен уступить им «шалашик», как они называют комнату под крышей.
Девчонки завизжали, услышав такое, и кинулись было вниз, чтобы сейчас же перетащить все свое наверх, но мать строго сказала им, что они сделают это позднее, когда Александр и Луиза пойдут гулять.
Так, ко всеобщему удовольствию, разрешился этот маленький конфликт, словно бы снявший что-то с души Александра, сделавший для него этот дом милым, почти своим. Он спустился в детскую, разделся и забрался на нижнюю кровать, натянул до пояса традиционную перинку, повсеместно употреблявшуюся немцами вместо одеяла, и стал смотреть на близкие брусья верхней кровати, думая о том, как бы, проснувшись, не забыться и не стукнуться о них головой.
И поплыло перед глазами, поехало в сторону без колесного стука, без качки, словно он все еще ехал, не ехал, а летел низко над землей, оглядывая невысокие дома с большими квадратами окон, улицы, уставленные машинами вдоль тротуаров, дороги, прямые и гладкие, поля, перелески, снова поля, ухоженные, чистые. На коротких остановках пассажиры открывают окна, рассматривают редкую публику на перроне, читают сто раз читанные, повторяющиеся на каждой станции рекламные тексты, наблюдают за железнодорожником, по-хозяйски осматривающим поезд, закрывающим двери вагонов. Поезд трогается незаметно. Полное впечатление, что начинает двигаться перрон. Пассажиры закрывают окна, усаживаются на свои места и замирают в молчаливом созерцании бесшумно убегающих назад домов. Никто не читает. Почему никто не читает? Этот вопрос занимает Александра, он встает, идет по вагону, заглядывая в купе. Находит девушку, рассматривающую рекламный проспект, находит мужчину с пухлой многостраничной газетой, похожей в его руках на ворох старых бумаг. Удовлетворенный открытием, о котором он, впрочем, знал еще дома (что в России читают больше), он возвращается на свое место и видит рядом с Луизой и Уле нового пассажира — пожилого сухощавого господина.
— Русский? — строго спрашивает он.
— Русский.
Господин вдруг наклоняется к Александру, скалится желтыми зубами.
— Вы когда уйдете из Афганистана?
Александр делает вид, что не слышит, смотрит в окно на летящие столбы, деревья, дома. Он знает: если скажет хоть слово, то господин зарычит еще злее.
— Вы почему преследуете Сахарова?
Все быстрее летят за окном дома, столбы, сливаются в пеструю мельтешащую полосу. И оттого, что нет ни тряски, ни качки, ни обычных для поезда дерганий, ни даже стука колес, от всего этого становится страшно.
— Вы за что арестовали Щаранского?
— За шпионаж! — не выдерживает Александр.
Господин скалит волчьи зубы и шипит как-то странно, шипит и булькает, как унитаз…
Александр дернулся и открыл глаза. За стеной и в самом деле шумела вода, там находился туалет. Голова была тяжелой, веки закрывались сами собой, тянули в сон.
…Слабое, мелодичное треньканье звоночка катится по вагону. В проходе останавливается узкая и высокая тележка со множеством отделений, заполненных бутылками, бутербродами в пластмассовых пакетах, аккуратными упаковками с чем-то вкусным и сладким. Человек в сером халате ставит на столик два пластмассовых подносика с пластмассовыми же кофейничками, чашечками, с крохотными, в яркой обертке кусочками сахара и малюсенькими, с игральную шашку, пакетиками сливок. Это для Луизы и Уле.
— Я тоже хочу, — говорит Александр.
— У вас нет денег, — говорит человек.
Денег у Александра и в самом деле маловато, но уж на чашку кофе мог бы разориться. Он лезет в карман за бумажником. Бумажник толстый, никак не вытаскивается. Александр выдергивает его и видит, что он набит тонкими хрустящими упаковками женских колготок.
Человек смеется. Странно смеется, словно кашляет. Но смех этот и успокаивает Александра. Теперь он знает, что это всего лишь сон. Он встает, чтобы посмотреть, что это так тарахтит за окном. И видит Саскию. Она стоит в странной позе, прижав руки к груди, и вроде как молится.
— Ты здесь? — спрашивает он.
Саския прижимает сразу оба указательных пальца к губам и что-то говорит мужским голосом.
И тогда он окончательно просыпается.
В комнате уже темнело: долгий день этот наконец-то кончался. Втягивая голову, опасаясь удариться о рейки верхней кровати, он встал, подошел к окну. Во дворе высокий подвижный мужчина в спортивной куртке за что-то отчитывал Анике. И по тому, как девочка вела себя, — слушала и не слушала, переставляя игрушки на скамейке и лишь изредка вскидывая совсем не испуганные свои глазенки на мужчину, — Александр понял, что это ее отец, Хорст Крюгер, вернулся из института, где он работал.
Увидев в окне Александра, Хорст помахал ему рукой, как старому знакомому, и через минуту постучал в дверь.
— Вы отдыхали? — спросил он, входя в комнату. — Я вас разбудил?
Хорст тоже рассматривал его, как музейную диковину. Но Александр уже привык к такому пристальному вниманию и не страдал от этого. Пусть себе смотрят, если смотрится.
— Спасибо, что разбудили, — сказал он. — Снилась какая-то ерунда.
— Новое место — новые сны.
— Пожалуй, даже и не новые…
— Тогда не страшно. Пугаешься обычно неизведанного.
Александр помолчал, вспоминая сон. Ничего необычного, всего лишь повторение того, что на самом деле было в дороге. Фантастическое повторение. Так же подсел в поезде дотошный пассажир, задававший вопросы, на которые не хотелось отвечать. Так же ездила по вагону позванивавшая тележка с дорожной снедью, и он, чтобы не тратиться и не вводить Луизу в лишние расходы, говорил, что ничего не хочет. Только Саския привиделась как-то странно. Думал о ней, все время думал, но не о такой чужой и замкнутой.
— Ну раз уж проснулись… Луиза ждет.
— Ждет? — удивился Александр. Чего это она решила ждать? Прежде всегда будила точно в назначенное время. Посмотрел на часы. В его распоряжении было еще целых десять минут.
— Да, я знаю, еще десять минут, — сказал Хорст, совершенно уверенный, что так и должно быть — все по минутам, даже если торопиться некуда. — Но у нас сегодня вечером будут гости и вы должны вернуться с прогулки пораньше.
На улице пустынно и сумрачно. Была та переходная пора суток, когда тьма еще не окутала дома, и фонари не горели, но окна почти все светились. Тихий переулок с поэтическим названием Шметтерлингштрассе — улица бабочек — вывел на небольшую площадь со старой кирхой посередине. Порывами налетал ветер, пригоршнями кидал в лицо холодную морось. Крыши машин, стоявших вдоль тротуаров, поблескивали, как спины тюленей на лежбище. Редкие прохожие, низко опустив зонты, скользили в узких, исполосованных светом витрин, ущельях между домами и этими рядами автомашин. Деловой день кончился, и люди спешили к семьям, телевизорам, гостям. Зазывной свет магазинных витрин, высветивший первые этажи, не привлекал никого. Люди жили своими делами, своими домами, и ничто другое их, казалось, не интересовало.
— Вот здесь Эльза и другие стояли всю прошлую зиму, — сказала Луиза, обведя взглядом кирху, площадь перед ней.
— Как это стояли?
— Со свечами. Ставили большой крест и стояли. В любую погоду.
— Молились, что ли? — спросил он, смутно ощущая какую-то связь между приснившейся ему молящейся Саскией и этим образом Эльзы, стоящей на площади со свечой в руках.
— Протестовали, — нетерпеливо сказала Луиза, удивляясь такой его непонятливости.
— Протестовали? Против чего?
— Против американских ракет в ФРГ.
Он недоверчиво посмотрел на нее. Странный какой-то получался протест. Вроде таблички на доме — «Зона, свободная от атомного оружия».
— Крест ломали не раз, а они делали новый и опять стояли. Сотни людей. Со свечами. Выразительно?
— Простите, Луиза, но я этого не понимаю.
Она остановилась и уперла в него свои большие под очками глаза, как, наверное, смотрела когда-то на бестолковых детей.
— Они же «зеленые», как не понять?
— Кто?
— Эльза и Хорст. Оба в партии «зеленых». Должны же они как-то выражать свой протест.
Это было для него новостью, что чета Крюгеров — члены партии «зеленых». Хотя почему бы им не быть в «зеленых» или в какой-либо другой партии?
Они шли по тротуару под одним зонтом, прижимаясь друг к другу, и Александр все думал об этой открывшейся ему перспективе быть втянутым в какую-либо политическую игру. Ему не хотелось даже про себя произносить слова «политическая интрига», но думал он именно о ней и в который раз за эту поездку давал себе зарок ни во что не ввязываться. Его дело туристическое — смотреть достопримечательности, ходить по магазинам, по музеям.
— Какой же это протест — стоять со свечками? — сказал он, чтобы только не молчать.
— Форм протеста много. Эльза и Хорст сами расскажут, что они делают. И стоять со свечками — неплохо придумано. Люди видят, начинают понимать, что все это не просто так. Лютер тоже когда-то стоял возле церкви, протестуя против засилья папства, и родилось целое движение, целая религия — лютеранство.
— А это как будет называться?
Ему не хотелось язвить, но вопрос получился именно язвительным. К счастью, Луиза не поняла или не захотела этого понять.
— Они звали к протесту не только других, но и себя.
— Себя? — удивился Александр. — Они что же, не уверены в себе?
— В том-то и дело, что уверены. Но ведь это как молитва.
— Они что — верующие?
— Кто?
— Ну, эти «зеленые»?
— Есть и верующие.
— Интересно, — сказал он, не видя, впрочем, во всем этом ничего для себя интересного.
— Чтобы подвигнуться на подвиг, нужно пройти через испытание.
Теперь он понял. Понял и удивился, как на этом Западе умудряются запутывать словесами ясное и понятное. Так бы и сказать, что, стоя на площади со свечами и выражая этой молчаливой демонстрацией свой протест, одновременно занимались самовоспитанием. Непросто, конечно, оторваться от дома, от детей, от телевизора и целый вечер простоять на ветру, под дождем и снегом рядом с такими же, наверное, непонятными для прохожих чудаками. Стоять и наливаться злостью против правительства христианских демократов, не желающего слышать голоса народа. Писатель Горький говорил: «Даже маленькая победа над собой делает человека намного сильнее». Так у нас растились силы революционного протеста в бессмысленных, с точки зрения обывателя, рабочих демонстрациях. Их разгоняли, расстреливали, но это только усиливало возбуждение масс, их готовность добиваться победы. Так, должно быть, небессмысленно и молчаливое стояние со свечами…
— «Зеленые» придают большое значение самовоспитанию, здоровому образу жизни для себя и своих детей. Вы, наверное, заметили, что у Крюгеров нет телевизора?
— Телевизора? В самом деле…
Он не обратил на это внимания, поскольку дом без телевизора для него был так же неестествен, как без туалета или без кухни.
— Телевизор развращает, особенно детей. И вредными передачами, и главным образом тем, что искажает систему ценностей, делает человека созерцателем, потребителем чужих эмоций, приучает его к бездеятельности. В Древнем Риме был лозунг — «Хлеба и зрелищ!». Считалось: достаток того и другого гарантирует стабильность общества. Сейчас другие лозунги, но истина осталась той же. И наше общество стремится обеспечивать людям сытую жизнь и в избытке давать им телезрелища. Чтобы люди только работали и развлекались, развлекались и работали, забыв о своем человеческом предназначении. Как назовешь такое общество?
Он еще не слышал от нее подобных речей, не видел ее такой иступленно-убежденной. Очки Луизы, отражая желтый свет магазинных витрин, солнечно взблескивали, ее худое острое лицо, устремленное вперед, было полно незнакомой решимости.
Они вышли на широкую улицу, постояли, пропуская трамвай. По ту сторону улицы высилась редкая стена тополей, а за ней, похоже, был склон горы, поскольку там темнела пустота, в которой изредка мелькали далекие огоньки.
Трамвай проскользнул ярко светящимся, почти беззвучным призраком. Луиза проводила его взглядом и вдруг резко повернулась, не выпуская руки Александра, пошла назад по тому же тротуару, зажатому стенами, витринами, плотными рядами автомобилей. Ничего больше не говоря, дошла до кирхи и только тут, у каменных ступеней, освещенных лампочкой, горевшей под тяжелой дверью, остановилась.
— Интересно было бы посмотреть, — сказал Александр, понимая, что она собирается предложить именно это.
Луиза толкнула дверь, и они вошли в ярко освещенный храм. Сотни три людей, молодых и старых, разных, сидели на скамьях с высокими спинками, слушали певучие звуки органа, доносившиеся неизвестно откуда. Перед каждым лежала маленькая книжица, должно быть, молитвенник. Но книжки, все, как одна, были закрыты. Люди просто слушали музыку, словно это был не божий храм, а концертный зал. Правда, перед ними у стены высился большой черный крест, горели свечи, но на кафедре было пусто, и это усиливало впечатление обычного концертного зала.
Несколько человек оглянулись на них, вошедших, некоторые жестами приглашали сесть. Луиза бесшумно прошла и села, Александр же почему-то не решился идти через весь храм и продолжал стоять в дверях, что по укоризненным взглядам, бросаемым на него со скамей, многим не понравилось. А орган все пел, плакал, рыдал, захлебывался умиротворяющими звуками, замирал на мгновение и снова обрушивал на притихшую паству мелодичные переливы. Мир вам, люди! Мир и благодать во веки веков!..
Александр стоял и думал, что не так уж плоха протестантская месса, не навязывающая бога ни пышностью храма, ни строгими нормами богослужения, ни необходимостью коллективной исступленности. Веруй как можешь, ответствуй по силам своим, твори добро и любовь по таланту и способностям. Как писал Лютер: «Бог не может и не хочет позволять господствовать над душой никому, разве лишь самому себе». Чем не демократия в вопросах душеспасения? Правда, это напоминало шутливый лозунг «Дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих», но все-таки было лучше ситуации, когда душу человека «спасают», чтобы превратить его самого в бессловесное орудие чужой воли.
Когда концерт, то есть это странное богослужение, кончилось и они вышли на улицу, было уже совсем темно. Пустынный асфальт блестел под фонарями, под освещенными витринами магазинов, и было в этой пустынности и световой мозаичности что-то сказочное. А может, умиротворенность музыки так подействовала на Александра, что все ему начало казаться красивым и доброжелательным и самому хотелось делать что-то хорошее. Вспомнилась Саския, и такая сладкая печаль сжала сердце, что хоть сейчас же беги в этот Тюбинген, разыскивай ее.
— Далеко отсюда до Тюбингена? — спросил он.
Луиза посмотрела на него с какой-то грустью, сказала, разделяя слова:
— Не надо вам с нею видеться.
Это было неожиданно. Никогда прежде Луиза так категорично не говорила о Саскии. Хотелось спросить «Почему?», но он молчал, полный недоумения и даже обиды.
— Не обижайтесь. Я всем сердцем желаю вам добра… Но Саския…
Луиза недоговорила, и он опять ничего не спросил. Чувствовал: кроется за этими словами какая-то горькая правда, — и испугался ее.
Дома уже ждали гости — невысокий худощавый мужчина с пронзительными глазами на круглом подвижном лице, обрамленном редкой бородкой, и женщина, чем-то похожая на этого мужчину и, как в первый миг показалось Александру, отличавшаяся от него лишь печальными какими-то, погасшими глазами да еще разве тем, что у нее не было бородки.
— Штайнерт, — представился мужчина, обнажив в улыбке крупные зубы.
— Пастор, — сказала Луиза.
— Моя жена — Белита.
— Пастор, — повторила Луиза.
Александр удивленно посмотрел на нее.
— Женщина — пастор?!
— Бог не делает различия между мужчиной и женщиной, — быстро сказал Штайнерт. — Вы, вероятно, плохо знаете учение Лютера?
— Не сказал бы, что хорошо.
— Священнослужитель, по его учению, — не какое-либо особенное лицо. Он не посредник между людьми и богом, а простой мирянин, обладающий даром проповедничества. Почему же им не может быть женщина? Каждый человек общается с богом. И не одними только религиозными ритуалами служит богу, а прежде всего своей повседневной деятельностью…
Он замолк на мгновение, и паузой тотчас воспользовалась Белита.
— Не в бегстве от мира, а в земной жизни человек должен искать спасение, — произнесла она каким-то равномерно-бесстрастным голосом.
— Это мне нравится, — серьезно сказал Александр. — Мы тоже считаем главным призванием человека — честно жить и добросовестно трудиться.
— Приятно слышать, что в этом вопросе мы с вами солидарны.
— Ну, если разобраться, то мы солидарны во многих вопросах.
— Например?
— Например, в вопросах войны и мира. Насколько я знаю, религиозные деятели вносят немалую лепту в борьбу за мир.
Он нарочно перевел разговор на эту тему. Не было у него никакого желания путаться в религиозной догматике, которой он почти не знал, но хотелось поспрашивать о том, что беспокоит многих из его приятелей там, в Москве, — как простые немцы в Западной Германии понимают международную ситуацию, и в частности то, что их, по сути дела, снова толкают на путь конфронтации с русскими. Но Штайнерта оказалось нелегко отвлечь от привычного.
— Мы ежедневно читаем слова молитвы господней: «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Что это значит? Лютер отвечал так: «Все, что необходимо для тела и жизни: пища, питье, одежда, дом, дети, здоровье, мир…» Мир!..
Уже осушили не по одному стакану вкусного баденского вина. Неторопливо насаживали на длинные вилки кусочки сырого мяса и опускали их в горшочки с кипящим кокосовым маслом, стоявшие на спиртовках. Ели это вкусное горячее мясо, заедая его какими-то перетертыми салатами, чашки с которыми то и дело передавались из рук в руки. Переглядывались многозначительно, как старые знакомые, обменивались случайными репликами, отдавая должное хозяйке, блюдам, расставленным на столе. А высказываться не спешили.
Александр искоса поглядывал на гостей и хозяев, втайне завидуя такому умению вести беседу. В московских компаниях застольные разговоры совсем не такие: люди горячатся, не дослушивают, перебивают. Здесь беседа текла плавно, с паузами, словно каждому требовалось время, чтобы обдумать сказанное собеседником.
— И вот еще в чем мы солидарны с русскими. В вопросах веры. Между лютеранами и православными не было ни одного конфликта. Более того, известен случай, когда Лютер выступил в защиту православия. Однажды, отвергая обвинения восточной церкви в схизматизме, он сказал, что православная церковь Востока дала миру наибольшее число святых и христианских писателей и является лучшей половиной вселенской церкви…
Похоже, ссадить пастора с его конька было не так-то просто. И тогда Александр сказал то, что еще минуту назад не собирался говорить:
— Что же вы при таком с нами единодушии так развоевались в двадцатом веке?
Наступившая после его слов пауза явно затягивалась. Эльза вдруг вспомнила об игравших наверху своих дочках и вскинулась посмотреть, что они там делают. Луиза пошла за ней.
— Но до двадцатого века совместная история немцев и русских вовсе не является цепью военных споров, — тихим голосом профессионального проповедника заговорил пастор. — До двадцатого века ненависти между немцами и русскими не было и в помине. Оглянитесь на историю: столкновения редки, во всяком случае, не чаще, чем с другими соседями. Но были длительные эпохи плодотворных взаимоотношений, проникнутых пониманием и даже симпатией. Если отбросить современную пристрастность…
— Как ее отбросить? — перебил Александр.
— Трудно. Но надо. Если думать о будущем. Так вот, если отбросить пристрастность, то мы увидим деловые контакты, взаимное духовное притяжение едва ли не во всех сферах — в музыке, литературе, науках. И в религии тоже. Русское и немецкое христианство в восемнадцатом и девятнадцатом веках были особенно открыты взаимному обогащению духовным опытом. И сейчас успешно проходят богословские собеседования между представителями русской православной церкви и евангелической церкви Германии. Опыт сохранения братского общения и органической преемственности апостольского предания помогает разрабатывать основы воссоздаваемого единения в вере и церковном устройстве. И может быть, это единение — пролог будущего единения между народами — немецким и русским. Против этого, надеюсь, вы тоже не возразите?
Что было возразить? Все верно. Александр и сам не раз задумывался над этим. И его удивляла странная волна ненависти, захлестнувшая, опрокинувшая в двадцатом веке прежде спокойные взаимоотношения между немцами и русскими. Почему-то главным образом между немцами и русскими…
Белита разволновалась, слушая все это, и большие глаза ее странно замерцали. Она то закрывала их, то открывала, глядя перед собой в пространство, словно сигналила знаками морзе.
— Мой отец состоял в нацистской партии, — вдруг произнесла она, и было видно, что ей трудно это произнести. — Он погиб на фронте. Два брата были в гитлерюгенде и тоже погибли. Это наша семейная боль и семейная вина. Сколько лет прошло, а я до сих пор чувствую себя виноватой. Потому и стала заниматься религией…
Снова наступила пауза. Александр мог бы сказать, что и его отец погиб на фронте, но не хотел этого говорить. Тогда пришлось бы объяснять, что погиб он совсем не так, как отец Белиты. Иначе получилось бы какое-то равенство между двумя погибшими отцами. Сама мысль об этом оскорбляла. Считается: смерть уравнивает всех. Но живые не могут уравнивать своих близких даже в смерти. Получалось противоречие. Чтобы избежать новых обид, надо забывать старые. Но они не забывались, и сама мысль о такой возможности казалась святотатством. Вот когда он на самом деле ощутил этот страшный тупик! От прошлого нельзя было открещиваться. Но оно становилось гирями на пути к будущему. Только сумасшедшие могут желать новой войны между немцами и русскими. Да еще международный империализм, именно к этому подталкивающий Западную Германию. Но путь к миру может быть только один — через доверие. Значит, нужно размежевание даже в душе своей. Значит, надо убедить себя: немецкий народ не виноват в преступлениях фашизма, он — жертва. Значит, что же — протянуть руку дочери нациста?
Он поморщился от мысли, что уже сделал это: пожал сухую и почему-то горячую руку Белиты, когда знакомился. Сидел и мучился противоречивыми чувствами. Мысли неслись, обгоняя одна другую, сталкивались, образуя какую-то свалку в голове.
«…Есть ведь и другие немцы — в Германской Демократической Республике. У многих из них был в роду кто-либо, воевавший на восточном фронте… Не о прощении речь, о понимании исторического момента. И о справедливости. Не третируем же мы татар и прочих за то, что их предки жгли русские города. Почему же делать исключение для немцев?..»
— Не следует забывать прошлое. Но надо думать о будущем, — сказала Белита, приподнимаясь от волнения.
— Да, надо думать о будущем, — кивнул Александр.
— О, это символично! — воскликнул Хорст. — Но… — Он сделал паузу. — Если бы ваше правительство могло вот так же пойти навстречу.
— Наше правительство только и делает, что идет навстречу, — сказал Александр.
— Например?
Хорст произнес это как-то странно: вместо обычного «цум байшпиль» выкрикнул сокращенное «цебе!», как команду.
— Да все время… — Александр замялся. Это было всегда так ясно, что и доказательств не требовало. А вот понадобилось доказывать, приводить примеры, и он не знает, что сказать. — Каждый раз предлагаем: давайте разоружаться, давайте жить в мире, всякие односторонние моратории объявляем… А американцы что? Какие деньги тратят на вооружение!.. Да и вы тоже. — Наконец он догадался, чем пронять Хорста: — Ракеты вон поставили…
— У вас тоже стоят ракеты.
— А что нам остается?
— На западе ракеты, на востоке ракеты, и чем дальше, тем больше…
Хорст вскочил с места, схватил с полки какой-то журнал, раскрыл.
— Смотрите, вот кривая накопления американских и натовских ракет, а вот советских.
Такого графического изображения гонки вооружений Александр никогда не видел. Наверное, мог бы увидеть, если бы захотел, — несомненно, где-то они публиковались, — но его такая арифметика не интересовала. Да и уверен был: кому надо, тот знает. И делает все, чтобы спасти мир.
— А вы глядите, — нашелся он. — Ваша же схема показывает, что мы всегда догоняли, вынуждены были догонять.
— Кто-то должен остановиться.
— А мы и останавливались. Заявляли, что никогда не применим первыми атомное оружие. А мораторий на размещение ракет? А что американцы? Понатыкали ракет у вас под носом и всех вас, западных немцев, сделали заложниками…
Он понимал, что говорил излишне резко, но не сдерживал себя. В таких вопросах быть сдержанным можно ли? И видел по лицам, что не так уж они и обижаются на него за эту горячность.
— Остермарш! — вдруг выкрикнул пастор и направил на Александра длинный палец. — Вы будете вместе с нами участвовать в пасхальном марше мира.
— Я?..
— Мы очень рады такой беседе солидарных людей, и мы пойдем вместе к Мутлангену.
— Куда?
— К военной базе, где размещены американские ядерные ракеты. В пасхальный понедельник там соберутся десятки тысяч людей.
— Я не могу, — растерянно выговорил Александр.
— Почему? — Напряженный палец пастора согнулся, и рука легла на стол.
— Я тут только гость, имею ли право участвовать в ваших политических мероприятиях?
— Вам запрещено?
— Никто мне не запрещал. Но посудите сами… — Он, кажется, придумал, как выкрутиться. — Американцы и так без конца твердят, что ваше движение за мир инспирируется Москвой. А тут — русский в рядах демонстрантов.
Он решил до конца стоять на этой своей версии. Что иное придумаешь? Не скажешь ведь, что боишься. Он и в самом деле боялся. Не угрозы американского генерала Роджерса, о которой Александр совсем недавно прочитал в газетах. Сообщалось, что Роджерс отдал приказ в случае чего открывать огонь по демонстрантам вблизи базы Мутланген. Но влипнуть в скандальную историю ему совсем не хотелось.
— Жаль, — сказала за его спиной Эльза. Как она вошла, Александр не слышал. — Жаль. Мы на вас рассчитывали. И билет купили. Целый поезд пойдет из Штутгарта в Швебиш-Гмюнд, где эта база. Мы на вас рассчитывали…
И тут спасительным трезвоном раскатился телефон, стоявший на другом столе.
— Кто? Саския? Здравствуй, дорогая! — Голос у Эльзы был, как показалось Александру, слишком безразличный.
Ему сразу стало жарко от этого имени. Он замер, не поднимая глаз от тарелки, боясь, что все вокруг заметят, как он разволновался.
— Ты из Тюбингена?.. А у нас гость. Нет, нет, другой. Ты знаешь его, господин Вольф… Да-да, Вол-ков, Александр.
Он ждал, что Эльза сейчас же и позовет его к телефону, но она продолжала болтать о каких-то плакатах, текстах песен и речей. А потом позвала к телефону пастора Штайнерта. И пастор тоже говорил с Саскией, как с доброй знакомой, расспрашивал о каких-то проповедях. Терпеть этот долгий разговор не было сил, и Александр поднялся, шагнул к пастору, намереваясь попросить трубку. Очень хотелось хотя бы просто услышать голос Саскии.
— Все, отключилась, — сказал пастор и усмехнулся, обнажив свои редкие большие зубы. — Она вам привет передала.
— Спасибо.
— Она сказала, что рада будет видеть вас в Тюбингене.
— А больше ничего не сказала?
Пастор пожал плечами, и зубы его, снова обнаженные в улыбке, уже не показались Александру такими неприятными…
X
Утренний рынок раскинулся на той самой рыночной площади возле кирхи, по которой они ходили с Луизой. Солнышко проглянуло в этот день, высветило вуаль редких облаков, бросило мягкие блики на полосатые фахверковые дома, на кирху, и пестрота рынка, который Александру все время хотелось назвать колхозным, стала многоцветной, радостной.
— Два-три раза в неделю рынок приезжает, — говорила ему Эльза, когда они шли к этому неожиданному в тихих улицах многолюдью. — Удобно. Вышла утром, за полчаса купила все, что надо, на несколько дней.
— Пригород у вас, потому, наверное…
— По всему городу такие базары по утрам. Разве у вас не так?
— Примерно так, — отговорился он, вспомнив московскую рыночную гигантоманию, где все монументально, от кабинетов директоров до крытых торговых залов, равных стадионам. Для управителей такие торговые монстры, наверное, весьма удобны, для покупателей — нет. Рынков-гигантов немного, по одному-два на район, равный крупному областному городу. Пока доедет хозяйка да пока разберется в лабиринтах прилавков — полдня долой. Здесь дважды и трижды на рынок сбегает, если зараз все не купит, — три минуты от дома.
— А в одиннадцать часов все разъезжаются…
На рынок шли всей семьей, только Хорста не было, — уехал на велосипеде в свой институт. Анике и Зильке бежали позади, тащили за ручки большую сумку, дергая ее друг у друга. Луиза замыкала шествие.
Рынок был непривычно тих. Никто не торговался в голос, не кричал, стараясь с помощью голосовых связок повысить качество своего продукта. Совсем не по-рыночному одетые, даже нарядные продавщицы или фермерши, которых Александр про себя все время называл колхозницами, улыбались возле ящиков со всякой зеленью, свежими огурцами, редисом. Горками лежали яблоки, груши, гроздья прошлогоднего, чуть подсохшего винограда. Привлекали глаз сочная клубника, желтые связки бананов и еще каких-то неведомых заморских плодов. Прилавки, на которых лежала вся эта снедь, были легкие, переносные. В ряд стояли автофургоны с откинутыми вверх бортами. Борта эти служили крышами, а внутри открывались обычные магазинные холодильники, за стеклом в холодной изморози лежала всякая мясо-молочная снедь. И ряды бутылок, и россыпи конфет, и развалы кондитерских прелестей, — все открывали взору эти передвижные автомагазинчики. А справа и слева ярким обрамлением этого мини-рынка, вся длина которого не превышала ста метров, были цветы, мелкие и крупные, в россыпях и в букетах, с частыми белыми этикетками, указывающими цены.
Возле цветов Александр не останавливался — видел на московских рынках и большие цветочные завалы, — а все остальное рассматривал со вниманием. И не столько местное разносолье привлекало его — на московских рынках продовольственного обилия не меньше, — сколько организация этого мини-рыночного дела. Видно было, что легкие, даже изящные прилавки приезжают с продавцами и уезжают вместе с ними. Они, эти аккуратные и чистые прилавки, были немаловажной частью торговли. Чувствовалось: каждый торговец, приехавший сюда, думал не только о том, чтобы лишь продать свой товар, но и как продать.
А для покупателей все это было само собой разумеющимся. Не прошло и четверти часа, как хозяйственная сумка Эльзы была наполнена, и семейная процессия направилась к дому. Только теперь впереди бежали девчонки, Эльза и Луиза шли за ними, а Александр, тащивший тяжелую сумку, поотстал. Он не спешил. То ли солнце, редко баловавшее в этом холодном апреле, было виной, то ли растущее с каждый днем удивление, что вот он заехал в черт-те какую даль от дома и видит такую новую для него жизнь, то ли просто от того, что хорошо выспался, в душе у него что-то глупо ликовало в это утро, и он с новым интересом рассматривал витрины, людей, почему-то одинаково умиротворенно-улыбчивых, читал надписи, пестревшие повсюду — на углах улиц, над дверями магазинчиков, даже на стенах домов. «Kurze Rede, gute Rede», прочел он, что означало «Краткая речь — хорошая речь». «Mein Nest ist das best» — «Свое гнездо — самое лучшее». «Ohne Fleiß kein Preis» — «Без усердия нет награды». Знал о пристрастии немцев к расхожим премудростям, но только теперь убедился, как это широко распространено.
И вдруг взгляд его наткнулся на фразу, совсем уж необычную среди изречений, — «Собирайте алюминий». Призыв, похоже, не оставался без внимания: пластмассовый бак, стоявший рядом, был полон алюминиевой фольги, разных блестящих коробочек, комочков, обрывков.
Эльза и Луиза вернулись, увидев его внимание к плакату.
— Это мы собираем, — сказала Эльза. — «Зеленые» нашего района Дегерлоха.
— Партия «зеленых»?
— Да. — В ее голосе слышалось что-то вроде гордости.
— Партия занимается сбором металлолома?
В этом деле не было ничего необычного, но связывать такой пустяк с именем партии Александру казалось недостойным.
— Чему вы удивляетесь?
Он не знал, как ответить, чтобы не обидеть. Что это за партия! Вроде конторы «Вторсырья».
— Сбор металлолома — это такая мелочь.
— Мелочь?! Но ведь алюминий — самый энергоемкий.
— При чем тут энергоемкость?
— Как это при чем? — Эльза, казалось, совсем расстроилась, оглянулась на мать, словно искала в ней поддержки. — На его получение расходуется электроэнергия, чистый воздух, вода, и больше, чем на получение какого-либо другого материала.
— Вечером придет с работы Хорст, он все расскажет, — вмешалась Луиза.
И дома за завтраком он все думал об этом. В его представлении партия — нечто значительное, высокое. Но это лишь в его представлении. Как объяснить здесь, что слово «партия» у него не ассоциируется с бытовыми мелочами. Это как божество, имя которого не упоминается всуе… Но, может быть, это верно лишь для авторитарной правящей партии? Может быть, для таких вот новых движений, как «зеленые», именно мелочи-то, понятные всем, и нужны? Одними теоретическими трактатами, как бы они правильны ни были, убедишь ли массы?..
А после завтрака Луиза повела его показывать город. С холма, на котором раскинулся окраинный район Дегерлох, Штутгарт был виден почти весь. Половодье кубиков-домов затопило долины между зелеными горными склонами. Разноцветье стен, красных крыш вползало на склоны, оттесняя еще не очень сочную в эту апрельскую пору зелень гор. Местами леса словно бы прорывали плотные ряды домов, извилистыми ручьями сползали с вершин, растекаясь по дворам и бульварам. Он был очень красив, город Штутгарт, и можно было долго любоваться им, рассматривая, как бродят тени облаков по городским кварталам, как суетятся то и дело взблескивающие ветровыми стеклами разноцветные автомобильчики.
— Трамвай идет, — сказала Луиза и за рукав потянула его к остановке. Там она толкнула несколько монет в щель большой желтой коробки, висевшей на стенке, и билетный автомат выкинул две картонки. Одну она положила себе в сумочку, другую сунула Александру в карман, сказав: — Это вам на пять поездок. Чтобы не думали…
Он взглянул на картонку и обомлел: одна поездка на трамвае стоила две марки. По его деньгам это было очень даже много. На две марки можно было купить подарок, которых ему назаказывали в Москве целую уйму: набор фломастеров, пару зажигалок или те же колготки для дочки, которые, по словам жены, на Нельке почему-то «прямо горят».
«Буду ходить пешком», — подумал он.
Огляделся: если пойти направо через лес, то можно спуститься прямо к центру города. Километра четыре, не больше. Что такое четыре километра, когда человеку полагается в день проходить не меньше восьми? Вниз пешком, а обратно на трамвае. Луизиной картонки, глядишь, на пять дней хватит…
Голубой трамвай подкатил почти бесшумно, но дверей не открыл. Александр удивленно оглянулся на Луизу. Она отстранила его, нажала кнопку с надписью «Drücken» — «Нажми», и дверь отошла в сторону. Поднялись по ступенькам в почти пустой вагон, Луиза сунула картонку в ящичек у двери. Ящик хрупнул, отрезая уголок картонки, и оттиснул на белой полоске несколько цифр — дату и время поездки. Александр проделал то же самое со своей картонкой, испытывая такое чувство, словно он понапрасну выбрасывал деньги. Дома у него этого ощущения никогда не было: пятачок за проезд — такая малость!
За окном разворачивалась панорама города. Она то пряталась за домами, то открывалась вновь и каждый раз была по-новому интересной. Красив город Штутгарт со всех сторон, ничего не скажешь. И если бы не было этого трамвайного пути, вьющегося по склону горы, то его следовало бы построить специально. Для таких вот приезжих, как Александр. За две марки тут тебе и поездка, и экскурсия.
Спустившись с горы, трамвай нырнул в туннель и помчался под землей. И только тут Александр понял, почему на остановке была написана буква «U» — «Untergrundbahn» — «подземная дорога». Это был широко распространенный в Западной Европе подземный трамвай.
Сошли на остановке «Замковая площадь», поднялись по эскалатору и зажмурились от обилия света. Посередине площади торчал длинный палец колонны с зеленым бронзовым ангелом наверху, напоминающий Александровский столп в Ленинграде, только поменьше. За колонной высились желтые стены дворца, очень похожего на Зимний дворец — те же два с половиной этажа, те же ряды скульптур по карнизам. Такая похожесть была довольно примечательна, но Луиза не дала Александру поразмышлять над этим фактом, — у нее были свои планы, и она с настойчивостью и последовательностью истинной немки торопилась осуществить их.
Вскоре им преградил путь какой-то парень с кружкой в руках, в которой побренькивали монеты. Луиза бросила в кружку пару медяков, как видно, чтобы лишь отвязаться. И тут, словно именно этого ее пожертвования и дожидаясь, грянул оркестр, расположившийся в ажурной железной беседке. Возле беседки стояли автомашины с красными крестами по белым бортам, чуть дальше был навес, и под ним, точно так же как когда-то в Бремене, одетые в белые халаты люди продавали дешевую похлебку: шел сбор средств в фонд общества Красного Креста.
Остановились понаблюдать за бойкими продавцами похлебки. Прилично одетые люди подходили, брали небольшие мисочки и ели прямо тут же, примостившись на скамьях, на зеленеющих газонах, на ступенях соседних шикарных магазинов.
Чуть дальше внимание Александра привлекла стоявшая посреди улицы странная скульптура: огромная, в три этажа, металлическая конструкция громоздилась на растопыренной треноге из профилированной стали. Одна нога была покрашена в черный цвет, другая в белый, третья в желтый. Тренога держала некое нагромождение металла — листы, сваренные и скрепленные, казалось, кое-как. А наверху было что-то вроде огромного флюгера: на разных концах горизонтальной оси подрагивали на легком ветру большой красный круг и три неправильной формы ромба.
— Что это?
Луиза задумалась.
— Зачем это?
— Может, как раз затем чтобы вы остановились и задумались. — Луиза высказала это экспромтом и, весьма довольная собой, начала развивать свою мысль: — …Остановились и отвлеклись от монотонности жизни. Старое классическое искусство изжило себя, оно не способно сказать ничего нового. Поэтому художники и скульпторы ищут новые формы, с помощью которых можно было бы выразить новое содержание.
Это было знакомо. На некоторых московских выставках длинноволосые оболтусы проповедовали почти то же самое. Как видно, и те, и другие словесные формулы черпались из одного и того же источника.
Он оглянулся на уродливую скульптуру: странным образом она вписывалась в окружающие ее архитектурные ансамбли, была как бы декоративным пятном, подчеркивавшим прелести старинных построек.
— А вот это вам нравится?
Неподалеку посреди тротуара стояла еще одна скульптура: на постаменте высилось нечто человекоподобное, непропорциональное. Одна рука у этого обезьяночеловека была вскинута над безобразно маленькой, размером с кукиш, головенкой. Издерганное шишковатое туловище, короткие вывернутые ноги.
— Не нравится, — резко сказал Александр.
— Почему?
— Уродище.
— Не только красота достойна искусства.
— Искусство — это поиски совершенства, гармонии, а не разложение ее.
— Но чем виноваты некрасивые? Разве некрасивые не имеют права на существование?
— Когда уродство случается в силу обстоятельств, оно может быть даже и естественным. Например, инвалид, потерявший ногу при совершении героического поступка, уже вроде бы и не урод. Он даже по-своему красив…
— Вот! — обрадовалась Луиза.
— Хотя никто и никогда не скажет, что это хорошо — человек без ноги. Но творить уродство сознательно…
— Я вас не понимаю.
— Ну вот, скажем, немецкий народ создал высокую науку и культуру, но пришел Гитлер и все сознательно извратил, разрушил, осквернил…
— При чем тут Гитлер?
— Ладно, другой пример: вот, скажем, кто-то бросил на тротуар пластмассовый пакет. Хорошо ли это?.. Погодите, — махнул он рукой, не дав Луизе высказаться по этому поводу. — Почему нехорошо? Может быть, это красиво — пустой пакет на тротуаре? Присмотритесь хорошенько. Он шелестит, надувается ветром, опять опадает и самое главное — не теряет форму, ведь пластмасса не гниет. Чем не символ вечности? А? Зачем его убирать? Пускай себе лежит, может кто-то увидит в этом красоту…
— Я вас не понимаю. — В голосе Луизы слышалось явное неудовольствие, и это говорило о том, что она, по-видимому, кое-что все-таки понимала. — Вы упрощаете абстрактное искусство. А ведь оно нравится людям.
— Если нравится, почему же ни один хозяин магазина не поручает оформлять свои витрины абстракционистам?
— С вами трудно разговаривать! — воскликнула Луиза. Но в голосе ее теперь почему-то не было злости, а скорее, какая-то даже удовлетворенность. — Если бы я не знала вас, я бы этого не вынесла.
— А вы меня разве знаете? Мы ведь так мало знакомы, — поддразнил ее Александр.
— Я вас знаю очень, очень давно.
— Интересно. Откуда же?
Луиза загадочно улыбнулась и ничего не ответила.
Они пересекли площадь, зеленый лужок за замком, прошли по мостику через улицу, где в углублении струился поток автомашин, и оказались возле здания, сразу напомнившего Александру металлическую абстрактную скульптуру на площади. Это была гордость штутгартцев, как ему сказали еще вчера, — лишь недавно открывшаяся ультрасовременная картинная галерея. Те же красно-желтые полосы, косые ребра простенков меж узких и высоких темных стекол, зеркально отражавших людей, дома, небо. Необычность архитектуры, надо полагать, должна была подготовить посетителя к тому необычному, что было внутри.
Но внутри Александр ничего особенного не увидел: обычные раздевалки, лестницы. Разве только лифт, большой, стеклянно-прозрачный и очень медлительный, казался ненужной роскошью для трехэтажного здания.
Они поднялись лифтом на самый верх и оказались в обычном чистом ярко освещенном зале. Необычным было, пожалуй, только грязное пятно, кляксой черневшее на белой стене.
— Сейчас вы увидите такое, чего в ваших музеях нет, — торжественно сказала Луиза. — Дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм…
— А зачем грязь на стене? — спросил Александр.
Ничего не ответив, она провела его в другой зал и указала на водопроводную трубу, лежавшую на полу на невысоких подставках.
— А зачем тут труба валяется? — снова не без ехидства спросил он.
— Ну а вот это!
Восторженная, она указала на широкий проем, ведущий в соседний зал. Там, кое-как сколоченные, громоздились серые от времени палки и доски, напоминавшие огородное чучело.
— Что, тоже искусство?
— Деревянная пластика Пикассо!
— Того самого?
— Пикассо один.
— А я его художником считал.
Луиза всплеснула руками.
— Да знаете ли вы, что до двадцати лет Пикассо был самым обыкновенным реалистом?! Потом он понял, что этот путь бесперспективен.
— А может, в двадцать лет он просто поумнел? — язвительно спросил Александр. — Поумнел и понял, что на этом пути гигантов ему многого не достичь? Может, он решил соригинальничать, лишь бы не быть равным в толпе себе подобных ищущих и не находящих?..
Луиза задохнулась от возмущения. Стояла, не находя слов, и глаза ее за стеклами очков казались выпуклыми.
— Пикассо… это же модно…
— Вот-вот, все это именно мода, временное увлечение, или, я бы сказал, затмение. А искусство — вечно.
Глядя на эти грязные пятна, свалки досок, на расчлененные лица и фигуры людей, изображенные в самых невероятных расцветках, Александр чувствовал, как росло в нем глухое раздражение, захлестывало безрассудной злостью. Хотелось сказать что-то едкое и убедительное, но слов нужных не находилось, мысли метались вокруг одного и того же философского постулата о том, что живое, а тем более человеческое может быть познано лишь в целостности его. Сколь мелко ни дроби человеческое естество, как пристально ни рассматривай клетки, составляющие тело, феномена человека не познать. Это из высокомерной науки пришло желание все анализировать. Но что хорошо для науки, то совсем не годится для искусства. Там, где начинаются поиски частностей, в форме ли, в содержании ли, — искусство умирает. Оно лишь в целостности. Оно как душа, духовное начало в человеке, которое нельзя оценить ни в рублях, ни в марках, ни в чем-либо другом.
Ему захотелось уйти поскорей из этих раздражающих его залов, и он спросил:
— Можно я пойду вниз?
— Но мы потеряемся.
— Я вас подожду у раздевалки.
Луиза еще раздумывала, что ответить, а он уже пошел через залы, стараясь не глядеть на мишуру обесчеловеченной ерунды. Остановился лишь в одном месте, и то потому, что там толпилось десятка полтора молодых парней и девушек, оживленно споривших между собой. Спор шел по поводу большой скульптуры, напоминавшей человека в водолазном скафандре и крутящей по меньшей мере полсотни колец хулахупа. На фоне черной стены это черное вырисовывалось пунктиром электрических лампочек, ярко подсвечивавших кольца. Некоторые из спорщиков уверяли, что скульптура плоха уже тем, что слишком реалистична.
Через открытую дверь Александр вышел в уютный внутренний дворик и вздохнул облегченно: здесь не было никаких «произведений искусства», только небо, все более голубеющее к полудню, да плавные овалы высоких стен сочного красно-лимонного цвета. И это было по-настоящему красиво. Он постоял на ветру, постепенно отходя от темного озлобления, накопившегося в нем, и, уже нигде больше не останавливаясь, спустился вниз, в центральную ротонду, где была раздевалка.
Луиза пришла вскоре: то ли она все тут уже видела, то ли наслаждаться этим «искусством» в одиночку не могла.
— Куда же мы теперь?
— Пойдемте просто походим.
Переждав поток машин, они пересекли улицу Конрада Аденауэра, и Александр со злорадством подумал о знаменательности того факта, что музей так называемого «левого» искусства оказался на улице, носящей имя одного из первых лидеров крайне правых Западной Германии. Ведь если разобраться, то между крайне левым и крайне правым разницы никакой. Где-то в перспективе эти два щупальца смыкаются, образуя кольцо, а еще лучше сказать — петлю на шее всего гармоничного, здорового, истинно народного.
По ту сторону улицы начинался большой парк с чисто вымытыми весенними дождями асфальтовыми аллейками, и они молча пошли по одной из этих аллеек: к старому в разговоре возвращаться не хотелось, а новые темы не находились. Справа высилось здание театра, что было видно по своеобразной архитектуре и афишам, висевшим на стене, слева в отдалении блестел темными стеклами дом-куб, похожий на огромный аквариум, а впереди голубело зеркало небольшого озера с высокими, свисающими над водой ивами. И эти плакучие ивы, и фонтан, живописно серебрящийся посередине озера, и свежая зелень другого берега, — все это создавало своеобразный парковый уют, успокаивало. Хотелось сесть тут и молчать, слушать благостное позванивание фонтана да шелест свежей листвы. И он присел бы на скамейку у воды. Но Луиза не дала ему рассиживаться.
— К обеду надо домой успеть, — заторопила она.
Об обеде он не подумал. Он вообще не думал о необходимости возвращаться только для того, чтобы поесть. Привык в Москве: если уж уезжал из дома, то до вечера. И никто из его московских приятелей не ездит обедать домой, а ходят в столовые или кафе. Из-за какого-то перекус она терять время?!
Александр встал и неохотно пошел следом за Луизой, огибая озеро по плитняку, ровненько устлавшему берег.
— Это не по-божески, — сказала Луиза, не оборачиваясь. — Бог ко всем одинаково милостив, к красивым и некрасивым, к здоровым и увечным.
Как видно, ей не давал покоя незаконченный разговор. Почему она решила воспользоваться авторитетом бога, было непонятно, но Александр не стал задумываться над этим.
— Не по-божески — убивать в себе и в других добродетель, — сказал он, будто и не было долгого перерыва в разговоре. — Божеское — это красивое, целостное, гармоничное, доброе. Разложение в нас чувства красоты и целостности — дело злое, а сознательное разложение и вовсе преступное дело.
— Это вы об абстрактном искусстве?
— О нем самом.
— Но ведь это поиски новых форм.
— Модернизм — не поиски, а скорее отсутствие таковых. Поиски — всегда труд, порой тяжелый и неблагодарный. Так называемым «новым» художникам трудиться не хочется, а благодарность подавай немедленно… Вот и подменяют созидание шедевров болтовней о шедеврах. Дескать, я создал, а публике разбираться. А кто не разобрался, не разглядел в этой мазне гениальности, тот, значит, тупица. Никому не хочется прослыть тупицей, и люди изворачиваются, выискивая в модернистском бреде каждый свое. Никчемные мазилы, у которых пусто в голове, пусто в сердце и в душе тоже пусто, навязывают людям свою бездуховность. Это может быть названо кражей душ человеческих. А по всем религиозным легендам это прерогатива не божественного, а сатанинского. Разве не так?..
Он начал говорить спокойно, даже бесстрастно, но постепенно разжигал себя и под конец почти кричал, привлекая внимание прохожих.
— Но ведь картины модернистов высоко ценятся, — как-то подавленно, почти робко сказала Луиза, воспользовавшись паузой. — Некоторые платят за них громадные деньги.
— Это говорит лишь о том, что кто-то заинтересован в распространении бездуховности. Бездуховные покорны, это стадо, скот бессловесный. Кому-то, значит, надо, чтобы на земле поселилось не гордое и красивое человечество, а стадо рабов.
— Вы считаете: это мне надо?
Александр помолчал, досадуя на себя. Так и знал, что она не поймет, а примет его слова на свой счет, так и знал.
— Я считаю, что вы всего лишь — жертва моды, — сказал он извиняющимся тоном и в знак примирения взял ее под руку.
Луиза прижала его руку к своему боку, как бы давая этим понять, что прощает, сказала то ли обидчиво, то ли восхищенно, — не поймешь:
— Вы, русские, — диктаторы!
Не впервые слышал он эту непонятную интонацию. Казалось, что ей даже нравится видеть его таким непримиримым. Казалось, она знает нечто особенное и нарочно подзадоривает его, чтобы полюбоваться русской горячностью.
— Почему диктаторы?
— Вы навязываете свои убеждения, навязываете себя.
— А вы разве анархистка?
— Почему анархистка?
— Вы разве против порядка в жизни человека, человечества?
Луиза кокетливо улыбнулась.
— Вы же знаете: понятия «немец» и «порядок» неразделимы.
— Когда человек против порядка, гармоничности в духовной сфере, значит, внешний порядок, в котором он живет, — лишь видимость.
Она задумалась, и он не торопил, тоже молчал: пускай пораскинет мозгами.
Переулок, по которому они шли, кончался невысокой каменной лестницей, и там наверху было какое-то шумное движение. Поскольку они возвращались, то это движение, по предположению Александра, могло быть только на той самой улице — Кёнигштрассе, на которую два часа назад их вынес эскалатор от остановки подземного трамвая. А над лестницей во всю высоту дома разноцветными буквами светилась вертикальная надпись «Buchhandlung» — «книжный магазин». Еще издали Александр разглядел широкие витрины, сплошь уставленные книгами, и он, сам того не замечая, все прибавлял шагу. И к дверям магазина свернул, даже не подумав предупредить Луизу о своем намерении пойти туда. И если бы Луиза возразила, он бы, наверное, очень удивился: как можно не зайти в книжный магазин?! Так он всегда делал в Москве. Жена, да и Нелька тоже, давно к этому привыкли и уже не отговаривали, а зная, что это надолго, уходили домой или, договорившись о встрече через полчаса, через час, бежали в свои галантерейные, трикотажные и прочие.
Стеклянные двери магазина при их приближении сами собой разошлись в стороны, и Александр задохнулся от книжных богатств, открывшихся ему.
— Вечером придет Хорст, он вам расскажет, как мы понимаем жизнь, — сказала Луиза.
Александр, недоумевая, поглядел на нее: о чем речь?
— У них ясные представления о порядке в жизни и в духовной сфере.
— У кого?
Он уже забыл обо всем, жадно оглядывая книжные завалы.
— Я же вам говорила: Эльза и Хорст — члены партии «зеленых».
— Ну и что?
— Они лучше меня все расскажут.
— Хорошо, хорошо, — проговорил он, нетерпеливо подвигаясь к ближайшему стеллажу.
— Вы что-то хотите купить?
— Не знаю. Надо посмотреть.
— Там на столике справочники, в них записано все, что издавалось у нас в стране в последние годы. Можно заказать.
— Надо посмотреть, — повторил Александр.
Некоторое время Луиза ходила за ним от стеллажа к стеллажу, потом спросила, можно ли ненадолго отлучиться.
— Вам хватит десяти минут?
— Тут и дня мало, — удивился он.
— Надо возвратиться домой к обеду.
Опять этот обед! Да разве можно из-за какого-то обеда уйти отсюда?! Он ничего не ответил ей, потому что вдруг увидел целую стопу толстых и больших книг с яркой надписью на обложке «Der zweite Weltkrieg» — «Вторая мировая война». Очень было интересно посмотреть, как война представляется с этой, немецкой, стороны, и он взял увесистый том, присел к столику, стоявшему рядом. Снимки, большие и малые, тексты, короткие и длинные, карты со стрелами танковых бросков гитлеровской армии. Все шире раздувается пятно Германии на картах, все самоуверенней лица на снимках. Победы и снова победы!
Он долистал книгу почти до середины, а все не дошел до нападения Германии на Советский Союз. Когда же увидел трагическую дату — 22 июня 1941 года, начал листать медленнее. Как всегда было, когда брал в руки книгу о начальном периоде войны, сердце его сжалось, и снова ему начало казаться, что вот сейчас из очередного снимка или текста узнает он нечто такое, что хоть немного приоткроет завесу над тайной гибели отца. Ничего Александр не знал о его последних днях. Мать рассказывала: пришла похоронка, и все. Хоть бы кто-нибудь написал строчку. Значит, все, с кем он был в своем последнем бою, погибли? Мать, когда опамятовалась, письма повсюду писала, в военкомат ходила. Ничего. Вот и мерещился Александру отец в каждом военном снимке, где были убитые. И живого-то он едва ли бы узнал на снимке, убитого тем более, — знал ведь отца только по нескольким довоенным фотографиям, где отец был снят вместе с матерью, — но это стало для Александра прямо-таки наваждением: как увидит фронтовой снимок, так и вспомнит об отце, вглядывается в лица.
И тут, в этой чужой книге, он увидел снимки, на которых были убитые красноармейцы. Они лежали по краям дорог, а над ними — в бронетранспортерах ли, в повозках ли — возвышались улыбающиеся, смеющиеся немецкие солдаты и офицеры. Везде было торжество победителей над низвергнутыми побежденными, и это злило Александра, немало знавшего о войне по другим книгам, другим снимкам. Потом он увидел и вовсе страшную фотографию: развороченный взрывами окоп, разбитый станковый пулемет на бруствере, а на дне окопа — трое пулеметчиков, отброшенных друг от друга, лежащих в изломанных, неестественных для человека позах. Не люди — призраки, чьи контуры размазаны присыпавшей их землей и пылью. А над ними, над разбитым бруствером, над пулеметом — немецкие офицеры. Стоят, смотрят серьезно, не улыбаются.
Александр долго, разглядывал этот снимок, и снова все казалось ему, что один из убитых похож на отца. Чем именно похож, он и сам не знал, просто чувствовал, что этот, с подогнутыми ногами, с откинутой к стенке головой, словно он нарочно сделал это перед смертью, чтобы не видеть торжествующих врагов, вполне мог быть его погибшим отцом. Ему даже захотелось сказать об этом Луизе и посмотреть, как она среагирует, что скажет, но Луизы рядом не было, и он, заложив страницу пальцем, принялся листать дальше.
Все тут было навыворот. Страница о Севастополе, две страницы о боях под Москвой. Но даже и на этих страницах немецкая армия вроде как пострадавшая сторона. И снимки совсем не те, какие Александр привык видеть: советские люди получают похлебку от оккупантов, крестьяне получают землю, Дина Дурбин на экране…
— Надо идти.
Он оглянулся. Луиза стояла над ним, все такая же подчеркнуто спокойная. И он удивился ее спокойствию, потому что сам был уже взвинчен несправедливостью книги.
— Я хочу посмотреть, — сказал нервозно.
— Вам интересно? Книгу можно купить.
— Купить? Нет, нет…
Его возмутила сама мысль о покупке такой книги. Покупают ценное и нужное. Если купит, значит, пусть косвенно, признает книгу ценной и нужной. На такое он пойти не мог, даже если бы у него были лишние деньги. Мелькнула мысль, что книгу может купить для него Луиза. И это тоже покоробило Александра. Значит, он должен будет повезти ее в Москву? Положить в чемодан вместе с подарками? Да ведь рука не поднимется. Или он ни о чем другом и думать не будет, как только об этой грязной книге, извращающей то, что для него свято.
— Мы опоздаем к обеду.
— А вы идите, — сказал Александр. И смягчил резкий свой тон: — Поезжайте, пожалуйста, а я скоро приеду.
— Найдете дорогу? Не заблудитесь? — В ее голосе слышалась почти материнская обеспокоенность.
— Я же в Ольденбурге не заблудился.
— Штутгарт не Ольденбург.
— Москва в десять раз больше Штутгарта, а там, насколько я знаю, вы ни разу не заблудились.
Она засмеялась смущенно:
— Всегда-то вы меня уговорите.
Уже когда она ушла, он вспомнил, что хотел показать ей фотографию убитых пулеметчиков, одним из которых, как ему казалось, мог быть его отец. Еще раз открыл заложенную пальцем страницу, долго рассматривал снимок, в котором он видел отнюдь не победу тех, кто стоял над окопом. Недаром на большинстве фотографий немцы улыбаются, а тут им почему-то не до улыбок. Похоже, тут они поняли, что ждет их в России, если на каждом рубеже будет такое вот, до последнего патрона, сопротивление.
Потом в книге было несколько страничек о Сталинградской битве. Александра особенно возмутило даже не то, что важнейшему событию войны отводилось всего несколько страниц, но точно такое же внимание уделялось операции под Эль-Аламейном в Африке. Ему нестерпимо захотелось позвать кого-нибудь из продавцов, ткнуть носом: как такое возможно?! Эль-Аламейнская операция длилась 13 дней, и потери фашистского блока в ней составили 55 тысяч человек. А сталинградское сражение, не имевшее равных по ожесточенности боев и массовости участвовавших в нем войск, продолжалось 200 суток. Гитлеровцы потеряли полтора миллиона солдат и офицеров убитыми, ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести, четвертую часть всех войск, действовавших на восточном фронте…
Никого не позвал. Луизе еще мог бы выговорить, — привык к ее снисходительности: она почему-то с поразительной выдержанностью терпела любые его высказывания, даже капризы.
Он откинулся в кресле перед низким журнальным столиком, словно впервые оглядел магазин. Все было так же: пестрели яркими обложками книжные стеллажи, двое мальчишек копались в ящике, где навалом лежало разное дорожное чтиво, молодой парень рассматривал большой альбом, какой-то лысеющий господин топтался в дальнем углу, где, даже издали по картинкам на обложках было видно, находился отдел порнопродукции. Да еще молоденькая продавщица ходила вдоль стеллажей, поправляла книги, сдвинутые покупателями. Все было так же в магазине, как и полчаса назад. Но Александр уже без недавнего восторга смотрел на книжное изобилие, он уже не мог забыть, что все эти люди — немцы.
Захотелось уйти отсюда поскорей на свежий воздух, на солнце и весенний ветер. Но он заставил себя листать книгу: надо же было узнать, до каких еще извращений очевидного докатились авторы и составители книги. Страничка о партизанах, две страницы под заголовком «Курск и Орел». Он даже не сразу понял, что речь о Курской битве, окончательно решившей исход всей второй мировой войны. И подробно на тему: «Москва побеждает с помощью шпионов». Вот, значит, как! Оказывается, никаких постоянно действующих факторов войны не существовало, просто-напросто русские перехитрили, обманули простодушных немцев!
Он пролистнул сразу несколько страниц и наткнулся на заголовок «Der Weg zurück» — «Дорога назад». Этот раздел решил посмотреть повнимательней, надеясь хоть здесь прочесть о причинах отступления гитлеровских армий на всех фронтах. Но уже через пять страниц раздел кончился и пошли снимки и восторженные тексты о победах Японии на Тихом океане, в Китае, в других странах Восточной Азии. Затем началось повествование о втором фронте в подробностях, о каких в России не говорилось. Стало ясно, что это и есть основная задача книги — рассказать о второй мировой войне так, чтобы все самое главное, относящееся к роли Советской армии в разгроме фашизма, оставить в тени.
Александр даже не убрал книгу — много чести! — ушел, оставив ее на столике. Штутгарт жил своей жизнью, солнечной, улыбчивой, спокойной. Все так же трезвонил оркестр общества Красного Креста. Люди ходили от магазина к магазину, рассматривали шикарные витрины, ныряли в глубокие провалы дверей. Никто никуда не спешил, будто ни у кого из этих людей не было других дел, кроме как слоняться по этой умиротворенно-богатой Кёнигштрассе — Королевской улице. Зеленели чистые секторы газонов вокруг мраморной колонны на Замковой площади, лучились желтизной чистые стены замка, темнели голубыми провалами окна, перечеркнутые крестовинами рам. Теперь Александру казалось, что это и не окна вовсе, а ряды могил с белыми крестами на них.
«Так умирали города Германии», — вспомнил он один из заголовков книги. «Плохо они знают, как умирают города», — подумал Александр. Луиза говорила, будто бы и Штутгарт был сильно разрушен. Но вот стоит старый город целехонький. Восстановили? Но и этот замок, похожий на Зимний дворец, и через улицу от него старый замок, и дома вокруг — видно же, что не новой постройки. Все сохранилось. Показать бы Луизе снимки действительно разрушенных городов — Сталинграда, Севастополя, Новороссийска, Киева, Минска, многих, многих других. Чтобы ужаснулась, чтобы хоть она поняла, что в сравнении с разрушениями советских городов Германию война все-таки пощадила. Если не считать действительно варварских и бессмысленных бомбардировок Дрездена и некоторых других городов американской авиацией, то все прочие разрушения были вызваны лишь безумием войны. Чтобы осмыслила: по России шли сознательные разрушители, а по Германии те, кто хотел избавить себя и других от разрушителей. Почему-то ему хотелось, чтобы именно Луиза поняла это.
Еще час назад мечтавший побродить по этим ярким улицам в одиночку, теперь он рвался поскорей убраться отсюда. И он спустился по эскалатору на станцию подземного трамвая.
Уже когда трамвай выскочил из тоннеля и загудел на крутых склонах незнакомых улиц, Александр понял, что спутал маршрут. Хотел сойти на первой же остановке, чтобы не столь далеко было возвращаться, но увидел с высоты склона, что трамвай идет не в противоположную сторону, а поднимается на ту же горную гряду, где был Дегерлох, только левее. Это было даже кстати. Возвращаться домой ему сейчас не хотелось, бродить по городу — тоже. И лучше всего было прогуляться по лесу.
Трамвай прошел по высокой эстакаде, нависшей над обрывом, под которым ступенями, словно это была какая-то огромная лестница, спадали все ниже квадраты красных черепичных крыш. Потом рельсы резко повернули влево, и Александр, стараясь не суетиться и ничем не отличаться от степенных немцев, сошел на остановке. Отсюда было видно бо́льшую часть города, и он хорошо ориентировался. Но все же спросил у первой же немки, как пройти пешком к Дегерлоху.
Немка топталась возле невысокой металлической калитки, то ли отпирая, то ли запирая ее. Она была в брюках и лохматой теплой фуфайке, и если не считать нетипичной для немецких женщин полноты, очень походила на Луизу: та же короткая, чуть встрепанная прическа под легким платочком, те же очки на остром носу.
— Господин — не немец? — спросила она, с пристальным интересом рассматривая Александра.
— Нет, я русский.
— О, русский! — Она непонятно заволновалась, оглядываясь на дом, двухэтажный, блестевший в глубине двора большими безрамными окнами. На одном из стекол второго этажа было наклеено большое белое изображение голубя. — О, я так хотела увидеть русского! Может быть, господин зайдет, выпьет чашку кофе?
— Спасибо, но я спешу.
В другое время он бы и зашел. Почему не зайти, когда приглашают? Тем более если на доме — голубь мира. Но сейчас, после той книги, ему не хотелось разговаривать с немцами. Ни с кем.
— Очень жаль, очень. Мой муж был у вас в плену, в этой страшной Сибири, где так холодно, что птицы летать не могут. А люди там хорошие. Женщины хлеб давали. Вы только представьте: женщины, у которых мужей и сыновей убили на войне, жалели пленных немецких солдат. Муж так и говорил, если есть на свете ангелы, то они живут в России. Муж давно умер, остался сын. Он уже совсем большой, работает. Он не верит, когда я рассказываю ему об отце. Но русский язык изучает…
Она говорила быстро, словно боялась не успеть выговориться, и Александр не все понимал из ее скороговорки.
— Спасибо, я понимаю, спасибо, — повторял он, отступая. Подобные излияния, в которых чувствовалась скрытая вина за былое, Александр слышал здесь не впервые, и это, особенно после книги, казалось ему естественным. Ведь искажение фактов войны как раз и говорило о том, что кому-то в тягость это чувство вины и они желали бы от него поскорей избавиться.
— Может быть, вы согласитесь в другой раз прийти к нам? Мне бы очень хотелось, чтобы сын с вами познакомился.
— Я не знаю… Как будет время…
— Заходите. Вот мой дом. Мое имя Хильда Фухс.
Он попятился, откланиваясь. И только отойдя довольно далеко, вспомнил, что так и не расспросил о дороге на Дегерлох. Но спрашивать больше ни у кого не стал, решил, что сам доберется. Телевизионная вышка — вот она, возвышается над лесом, он видел ее от дома Крюгеров и счел, что сориентироваться не составит труда.
Лес был тих и чист. Голые серебристые стволы буков высились, как колонны в храме. Вдоль дорожек влажная и голая земля была устлана прошлогодней буковой листвой, почему-то не сгнившей, остававшейся ярко-желтой, отчего лес был наполнен золотыми бликами.
Александр присел на скамью, закрыл глаза, послушал тишину. Шум города, лежащего внизу, в долине, не доносился сюда, только сверху, где была телебашня, время от времени слышался шорох проносящихся автомобилей: там, вероятно, была какая-то не главная дорога, по которой мало ездили. Теперь ему было неловко за свое поспешное бегство от той женщины. Думалось, что, может, ничего дурного и не было бы, если бы он зашел в дом? Пожалуй, даже следовало зайти, чтобы подкрепить ту, похоже, искреннюю доброжелательность к русским, оставленную покойным мужем. И он с горечью думал о том, сколько препятствий возводят войны на пути сближения народов. Это как занозы, которые непременно нужно вытащить, даже если будет очень больно. Заноза, если ее не удалить, остается источником опасного воспаления. Значит, нужны дружеские врачующие руки. Нужно не убегать друг от друга, боясь ворошить прошлое, а делать все, чтобы дурное прошлое не вернулось, а хорошее росло и ширилось.
«Как бы не так! — вдруг всплыл из глубины сознания хитренький голос. — Может ли протянуть руку немцу тот, у кого немцы убили родных и близких?»
— Должен! — вслух сказал Александр и оглянулся. Вокруг было пусто, ни в лесу, ни на дорожках ни одного человека. Такой пустоты в первые солнечные весенние дни не бывает ни в Сокольниках, ни в Измайловском парке. Там в такую пору полно женщин с детьми, гуляющих пенсионеров.
— Должен! — повторил он, вставая. — Надо только ясно сказать себе: народ и политическое чудовище, прикрывавшее свои злодеяния именем народа, не одно и то же. Это обязательно надо сделать, иначе не миновать новых заблуждений, новых взрывов непонимания и злобы, новых войн…
Он снова оглянулся. Никто не слышал его монолога, только эти вот старые буки да, может, та вон птица, молчаливо сидящая на высокой ветке.
Странное дело: ничего нового он не сказал, — еще в Ольденбурге говорил себе то же самое, — а полегчало. И книга, испортившая ему настроение, уже не связывалась со всеми немцами.
Лесная дорожка, по которой он шел, раздвоилась, но аккуратные немцы и здесь были верны себе: стрелки на столбе указывали, что если пойти по правой, то можно выйти к Дегерлоху, а по левой — к телевизионной вышке. И только что собиравшийся идти прямо домой, он вдруг свернул налево. Хотелось ходить и ходить сегодня, находиться до устали.
Вышка возникла за поворотом дорожки сразу вся, от толстого бетонного основания до полосатого шпиля, вонзившегося в блеклое небо, и многооконного утолщения, висевшего на полуторасотметровой высоте. Она была очень похожа на московскую телебашню, только в два с половиной раза ниже. К башне подъезжали машины, шли люди. И Александр тоже пошел, еще не зная зачем. А когда увидел надпись, что подъем на вышку стоит 3 марки, то сразу, без колебаний купил билет и направился к лифту.
Зеленые цифры высоты на табло бежали одна за другой — 5, 6, 7, 8… На цифре 150 табло перестало моргать и дверь открылась. Перед ним была просторная, несколько шагов в ширину, смотровая площадка, обегавшая башню по кругу. Шумел ветер, упругий, порывистый, прозрачная вуаль облаков казалась отсюда совсем близкой — рукой достать. Барьер, ограждавший площадку, был утыкан длинными стальными зубьями, загнутыми внутрь, а за ними открывался живописный простор. Город, словно нагромождение игрушечных кубиков, лежал в долине. Без труда нашел Александр и Замковую площадь, по которой недавно ходил, и кирху в Дегерлохе, и серпантин дороги, связывающий эти два теперь хорошо знакомых ему места. А за серыми, только чуть позеленевшими лесами, шубой укутавшими пологие хребтины гор, в соседних долинах тоже пестрели ряды домов других окраинных районов. И справа, и слева были за горами такие районы. Штутгарт оказался куда больше, чем предполагал Александр. А еще дальше тоже темнели по увалам леса и леса, и не было им конца и краю.
Под стальными зубьями тянулась по окружности смотровой площадки сплошная медная пластина с выгравированными на ней названиями городов и расстояниями до них. С одной стороны было написано: «Вашингтон — 7500 км». С противоположной: «Москва — 2000 км». Там, где была Москва, темнели сплошные леса. И в тех лесах, это Александр знал точно, был недоброй памяти Мутланген, где стояли теперь американские ядерные ракеты. Вот тут, в этих цифрах, была и вся арифметика. Оставаясь в такой дали, Вашингтон старался дотянуться до Москвы отсюда, из этих Швабских гор. И снова, как не раз уже бывало в этой поездке по Западной Германии, подумал Александр о заговоре против его Родины межнациональных, а точнее, безнациональных злых сил. Эти силы опять пытаются противопоставить друг другу немцев и русских. И тут, как никогда прежде, почувствовал он себя не просто путешественником, глупо восторженным туристом, а вроде как полпредом, просто-таки обязанным внести пусть крохотную, но свою лепту в эту борьбу. Какую лепту? Этого он не знал. Может быть, пойдет к Хильде Фухс, поговорит с ее сыном, чтобы укрепить в нем веру в убеждения отца. Может, пойдет к Мутлангену в рядах демонстрантов. А может, сделает и еще что-то, чтобы самая добрая память осталась у немцев о нем, русском, а значит, и о его стране. Он старался не думать о том, что это кем-то может быть использовано в недобрых целях. Так солдат, сжавшийся в окопе перед атакой, гонит от себя мысль о смерти. Потому что не пойти в атаку для него — хуже смерти…
XI
— …Долгие годы человек уповал на всемогущество техники в наивной уверенности, что она избавит его от вечных угроз голода, холода, страха перед жизненными тяготами и опасностями. И он отгородил себя от природы, создавшей и взрастившей его, баррикадами машин, механизмов, всяческих технических устройств. Все было ясно для него, и будущее представлялось этаким технизированным раем, где полное изобилие и никаких проблем…
— Нажал на кнопку — чик-чирик — и человек готов, — неожиданно чисто по-русски сказал господин Каппес, весь вечер просидевший с равнодушным видом и не произнесший ни слова.
Он и пришел в дом Крюгеров прямо-таки по-русски — со своей бутылкой вина. Поставил ее на стол, сел в угол и будто исчез. Все оглянулись на него, когда он произнес эти слова, и, не дождавшись продолжения диковинной фразы, снова повернулись к Хорсту, склонившемуся над низким журнальным столиком, заваленным книгами и журналами, терпеливо и медленно, как школьникам, рассказывавшему историю появления «зеленых» на политической арене Западной Германии.
— …Давно уж многие догадывались, что происходит какое-то затмение умов, всеобщий самообман, что высокая рентабельность современной промышленности, эксплуатирующей природные ресурсы, — не более чем мираж. Как если бы решили разбогатеть от продажи камней из фундамента собственного дома. Подсчитано, что каждая марка прибыли, получаемой химическими концернами, сопровождается ущербом только от загрязнения водных бассейнов на сумму свыше одной марки. Наступает прозрение? Но ведь и в прошлом было немало подобных прозрений. Гёте, например, говорил, что люди — часть природы. Они повинуются ее законам, даже когда действуют против них. Или вот Бэкон: «Над природой не властвуют, если ей не подчиняются». Нужны марксисты? Ваш Вернадский считал, что вредное для одной части живого вещества не может быть полезным для других его частей. А вот и господин Энгельс, если угодно: «Мы отнюдь не властвуем над природой… Мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее…» Видение апокалипсиса, ожидающего современный мир, появилось не сейчас. «Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». Это Ламарк. Более полутора веков тому назад.
— Можно заглянуть и на два с половиной тысячелетия назад, — сказал Александр. Неизвестно зачем, ему хотелось подначить Хорста. — В Древнем Риме был закон, запрещавший держать петухов в центре города. Петухи слишком громко кричали.
Хорст уловил иронию.
— Сейчас дело зашло слишком далеко. Речь не о любителях поспать, а о том, чтобы человек не уснул мертвым сном.
— Какой человек?
— Обыкновенный.
— Человек человеку рознь.
— Конечно, человек еще слеп и эгоистичен, — согласно кивнул Хорст. — Многим сегодняшний пфенниг дороже завтрашней марки.
— Отдельно взятый человек…
— Отдельно взятых людей не существует. Все связаны со всеми. У каждого есть дети, внуки, свой народ, есть будущее, о котором он, человек, не может не думать. Но есть и заблуждения. То, о котором мы говорим, — опаснейшее.
— Технический детерминизм, — подсказал Александр.
— Марксист не может без подвохов, — подал голос из своего угла Каппес.
Кажется, он один и понял, что речь отнюдь не об экспансии техники, а о распространенной на Западе политической концепции, по которой социальные отношения вовсе не берутся во внимание.
— Апологеты технотронного будущего обманывают людей, — как ни в чем не бывало продолжал Хорст. — Нас уверяют в безграничных возможностях техники, успокаивают видениями космических поселений, эксплуатацией природных богатств других планет и даже звезд. Научная и ненаучная фантастика в этом случае играет роль сирен, завораживающих слух сладостным пением в то время, как корабль несется на рифы. Этим грешат и у вас, и у нас, и этот самообман не лучше самообольщения верующих, мечтающих о загробной жизни. Так вот, эти будущие космические поселения — не более чем сказка. Установлено, что способность человека к биологической адаптации никчемна. Мечта о превращении биосферы в техносферу — самообольщение. Техносфера нереальна. Если попытаться только рассчитать техносферу, то на один этот расчет потребуется больше времени, чем существует Земля как планета…
Слышал Александр подобные мрачные прогнозы: в советских газетах и журналах не раз печатались дискуссии на эту тему. Не то чтобы он не разделял их, но лично ему всегда претил нигилизм в любой форме. Как же тогда жить, если не верить в завтрашний день? Чудилось ему порой, что это его неприятие «трубного гласа» тоже смахивает на обольщение, но переменить себя у него не хватало сил. Все казалось: переступи этот порог и озлобишься, запутаешься в подозрениях всех и вся, превратишь жизнь свою в ночь недоверия, тоски и отчаяния.
— Что же остается человеку? Биосфера умирает, а техносфера невозможна? — спросил он.
— Лишь два выхода, — уверенно ответил Хорст. Видно, он давно уж разрешил для себя этот вопрос и отвечал не задумываясь. — Или всеобщая гибель, может быть, даже в ближайшем будущем, или самоконтроль, самоограничение, самовоспитание.
— Значит, одни займутся самоограничением и самовоспитанием, а те, кто не захочет этого делать, будут увеличивать экологический кризис?
— Мы имеем в виду всех. Всех без исключения.
— Принуждение?
— А разве мы не прибегаем к принуждению, например, для охраны общественного порядка, установленных норм жизни?
— Ага. Но ведь нормы жизни можно установить и такими и этакими. Скажем, выгодными для меньшинства и невыгодными для всех остальных.
Каппес нервно зашевелился и изрек опять же по-русски:
— Кто про что, а некоторые все про баню.
Это было уже слишком, и следовало бы одернуть «знатока пословиц». Но Каппес улыбался так приветливо, что у Александра не повернулся язык ответить резкостью.
— Вы правильно поняли, — по-русски же сказал он. — Я очень боюсь, как бы «зеленые» не выцвели и вместо борьбы за здоровые условия жизни для всех не начали бы хлопотать о здоровых условиях жизни для избранных.
— Это им не грозит. Не те лозунги.
— Дай-то бог. Только ведь национал-социалисты в свое время тоже пользовались «не теми» лозунгами.
— Это сравнение?
— Боже упаси!
— А то я бы сказал, что такое сравнение у нас не новость.
Хорст с напряжением вслушивался в непонятный для него разговор, но о чем-то все же, видно, догадывался: в глазах его Александру виделось беспокойство. И Эльза с Луизой, хлопотавшие на кухне, тоже, должно быть, почувствовали напряженность разговора, затихли там, прислушиваясь.
— Идите к столу, ужин готов, — позвала Эльза.
Хорст оглянулся на нее, но ничего не сказал.
Они, четверо мужчин, сидели, полуразвалившись на мягких диванных подушках. Перед ними на низком столике среди бумаг стояли бутылка вина, четыре тонких высоких стакана и сладкие орешки в вазочке. Еще до того, как они уселись здесь, Александр успел спросить у Хорста об этом Каппесе и узнал с удивлением, что он в этот дом пришел впервые и специально для того, чтобы поговорить с Александром по-русски, поскольку господин Каппес некоторое время жил в России. И в те же первые минуты знакомства Каппес сообщил, что да, жил в Советском Союзе и в ГДР, откуда уехал в Западную Германию, что теперь работает в музыкальном театре и вполне доволен собой. Последнее он сказал по-немецки и как-то странно: «Ich habe es satt» — «Довольно с меня», что можно было понять и как довольство жизнью, и в смысле «насытился, наелся, объелся». Александр подумал вначале, что человеку не терпится отвести душу за воспоминаниями. Но господин Каппес как уселся в угол, отвалившись на подушки, так и замолк, умильно-радостно улыбаясь Александру каждый раз, как глаза их встречались. Молчал, молчал и вдруг заговорил ехидными подначивающими поговорками.
— Я слишком мало знаю о «зеленых», чтобы делать какие-либо заключения, — сказал Александр. — Пока что эта партия представляется мне чем-то вроде нашего Общества охраны природы.
Каппес засмеялся и тут же не без иронии, как показалось Александру, счел нужным перевести Хорсту сказанное. Но Хорст не принял иронии и серьезно заговорил о том, что да, именно с охраны природы у них все и началось. В начале семидесятых годов группа ученых, обобщив сложившееся в мире положение, опубликовала труд под названием «Пределы роста». В этой книге было ясно показано, что в ближайшем будущем неизбежно прекращение всех показателей роста мирового развития — промышленного производства, использования ресурсов и, может быть, увеличения населения. Отсюда сам собой вытекал вывод, что если мы хотим думать о будущем, то должны уже теперь очень многое менять в своей жизни. Затем был опубликован другой труд большой группы ученых под названием «Мир 2000», где еще более обстоятельно рассматривалась та же проблема…
— Эти труды взбудоражили у нас общественную мысль, — терпеливо объяснял Хорст. — Повсюду, во всех городах и землях, начали создаваться группы борьбы за охрану среды обитания. Но… — Хорст, как обычно, сделал многозначительную паузу после этого слова, поглядел на Александра, на Каппеса, все так же, со скучающим видом, сидевшего в своем углу. — Нашлись люди, которые начали успокаивать нас, ссылаясь на увеличение средней продолжительности жизни в развитых странах, на то, что наука и техника открывают перед человечеством небывалые перспективы, что геологи находят все новые месторождения ископаемых. Это нас не убедило. Все на Земле конечно, и любой школьник с помощью обычного карманного компьютера в состоянии подсчитать это. Даже если предположить, что вся масса Земли состоит из нефти, то и в этом случае при современных темпах увеличения ее потребления через три века запас будет исчерпан…
Подчиняясь все более настойчивым требовательным жестам жены, Хорст встал, пошел к большому обеденному столу, на котором был приготовлен ужин. Замолчал на минуту, пока все рассаживались за столом, и снова заговорил с прежней страстью:
— Но дело не только в том, что наше неумеренное потребление, жизнь по принципу «чем больше, тем лучше» однажды оставит нас у пустого стола…
— У разбитого корыта, — вставил Каппес по-русски.
— У пустого стола, — повторил Хорст, непонимающе посмотрев на Каппеса. — Возникающее противоречие между нашими эволюционно-генетическими возможностями и средой жизни ведет к вымиранию человечества. Никакие социальные, экономические и другие механизмы, какие человек способен измыслить, не могут отгородить его от естественно-исторического закона соответствия организма и среды. Значит, наша задача должна состоять в том, чтобы изменить свой образ жизни, привести его в соответствие с законами, которые только и позволяют нам существовать… Вначале мы не собирались создавать подобие уже существующей партии. Думали: достаточно разъяснить людям, что дальше так жить нельзя. Потом поняли: без объединения не обойтись. И в семьдесят девятом году в Саарбрюккене была создана партия «зеленых». Вот и всё.
— Как всё? — удивился Александр. — А программа? Должна же быть у партии политическая программа?
— Пожалуйста. — Хорст шагнул к полке и положил на стол толстый журнал в зеленой обложке с белым голубем на фоне не то солнца, не то подсолнуха. Это была программа местных «зеленых», изданная перед недавними выборами в земельный парламент Баден-Вюртемберга.
Александр принялся листать, и все за столом молча наблюдали, на каких страницах он останавливается, что рассматривает. Программа была издана удивительно легкомысленно, как вначале подумалось Александру. Тексты о серьезных проблемах сопровождались рисунками, даже карикатурами. Но, рассматривая эти рисунки и подписи под ними, он все больше убеждался, что авторы не так уж и переборщили. Ведь текст этой рекламно изданной программы рассчитан на массы. Не прочтут, так перелистают. Но и перелистав, поймут, о чем же хлопочут «зеленые».
Программа открывалась рисунком живописного леса, рядом с которым был другой рисунок: то же место, но деревьев только два. Вместо остальных — черные ракеты. Первая глава — «Политика в тупике: смерть лесов». На рисунках ссорятся господа, представляющие разные западногерманские партии, сваливают друг на друга вину за гибель лесных массивов. А рядом черный дым из труб затягивает землю и санитары несут на носилках изуродованное дерево сквозь строй машин и небоскребов. Глава «Мир» начиналась с рисунка на всю страницу: атлант в противогазе держит на плечах огромный ком грязи. Изображение американских «першингов» и карта земли Баден-Вюртемберг с указанием расположения ракетных баз. Глава «Защита природы и охрана окружающей среды» и рисунок железнодорожной развилки: одна ветка ведет к зеленому пейзажу под чистым небом, а другая — к скопищу высотных домов, затянутых смогом. И карикатура: толстый господин за рулем с сигарой в зубах, а по обочинам валяются коровенки кверху ногами. «Симулянты!» — говорит о них господин. Глава «К положению женщин» тоже начиналась карикатурой: голая женщина, кормящая грудью ребенка, согнувшаяся в три погибели, одной рукой мешает ложкой в кастрюле, другой печатает на машинке. На ее спине стоит господин, вероятно муж, кричит в микрофон: «Нужно наконец покончить с дискриминацией женщин!» А за его штаны цепляется другая женщина и кричит: «Ты великолепен!» Рядом фотография женщины с плакатом на шее: «Женщинам не место в бундесвере». Глава «Хозяйство». И опять иллюстрации: Чарли Чаплин, зажатый в гигантских шестернях, Земля, изъеденная экскаваторами, похожая на изгрызенное яблоко. К переориентации всей жизни, всех хозяйственных форм призывают «зеленые». И словно опасаясь, что их не поймут, поскольку дело это непростое, дают броский лозунг: «У кого нет мужества мечтать, тот не имеет сил бороться». В вопросах социальной политики «зеленые» призывают к перестройке вместо сокращений и снижений и сопровождают текст фотографией двух пожилых супругов, вывешивающих плакат из окон своего дома: «Планируйте, наконец, для людей!» Глава «Демократия и право» тоже сопровождается карикатурой: человек с проводами вместо волос, которые он подключает к огромному электронному пульту. «Энергия». И фотомонтаж, где вместо газгольдера высится меж труб и кауперов гигантский голый череп. Глава «Образование». И рисунок строя школьников с шорами на глазах, и фотография девчушки с плакатом на груди, на котором написано: «Я — 39-я ученица в классе. Моя учительница уделяет мне времени самое большое одну минуту 9 секунд!» Была в книге и специальная глава «Движение», призывающая там, где можно, пользоваться велосипедами вместо автомашин. И главы, посвященные общественной дискриминации, сельскому хозяйству на границах дорог, дальнейшему развитию политики в отношении к развивающимся странам, которые, если судить по карикатурам, толстые господа основательно объедают…
О многом говорилось в этой иллюстрированной программе, кроме одного и, как считал Александр, главного — экспроприации экспроприаторов. Получались все те же разъяснения и уговоры вместо кардинального решения проблем. Или он что-то просмотрел?
Александр перевернул журнал и снова начал листать.
— Вы ищете мировую революцию? Ее тут нет, — по-русски сказал Каппес.
Ох, уж этот гость! Не пора ли осадить?
— А вы хотели, чтобы была? — спросил Александр.
— Я? — Он засмеялся. — Это вы хотите.
— С чего вы взяли?
— А к чему вы призываете весь род людской в главной вашей песне? К последнему и решительному бою, не так ли?
— Допустим.
— А программа «зеленых» отвергает насилие. Вот смотрите. — Он решительно подвинул к себе книгу, уверенно пролистнул несколько страниц. — Тут написано: «Мы требуем распространить свободные от власти формы решений конфликтов. Свобода от власти — наша сила… Мы призываем всех отдельных членов и все учреждения Европейского экономического сообщества не исполнять те мероприятия, которые прямо или завуалированно направлены на насильственные формы решения конфликтов».
— В той главной, как вы говорите, нашей песне мы зовем к тому же, — нашелся Александр. — Там поется: «Весь мир насилья мы разрушим». Как видите, наши цели во многом совпадают.
— Тогда вступайте в партию «зеленых», — засмеялся Каппес.
— У нас такой партии нет.
— Оставайтесь в ФРГ.
— У нас презирают даже футболистов, которые бегают из команды в команду.
Думал, что Каппес примет это на свой счет, — ведь сам говорил, что приехал сюда из ГДР, — но тот даже и ухом не повел, и никакая, даже самая слабая, тень не омрачила гладкое холеное лицо артиста.
— Вы разделяете наши взгляды? — впервые за весь вечер вступила в разговор Эльза.
— Почему же нет? Я беспартийный, но, насколько знаю, коммунисты ставят перед собой те же гуманные задачи, только призывают решать их более радикальными средствами.
Минуту все молчали, даже, казалось, перестали жевать. В тишине слышно было, как шелестел дождь на балконе, капли звучно шлепались обо что-то гладкое.
— Но у вас, пожалуй, больше общего с социал-демократами, — сказал Александр.
Эльза резко встала, шагнула к полке, заставленной журналами, торопливо положила на стол раскрытый «Шпигель». Карикатура, напечатанная на блестящей вощеной бумаге, изображала «зеленых» этакими бабочками, рассевшимися на облаке. Под облаком стояли несколько человек, недоуменно глядели на оторвавшихся от земли «зеленых». На животе одного из них были начертаны три буквы «SPD» — «социал-демократическая партия».
— У нас с ними нет ничего общего, — запальчиво сказала Эльза.
— Можно ли так категорично?
— Можно и нужно!
— Разобщенность действий. Это всегда было пороком демократических движений Германии.
Успокаивая или просто по привычке, Хорст взял жену за руку.
— Нельзя так решительно отворачиваться.
— Нельзя, ни в коем случае, — обрадовался поддержке Александр. — Знаете, чего больше всего боялись фашисты перед приходом к власти? Единства своих противников. В инструкции руководства нацистской партии местным организациям говорилось: «Необходимо противодействовать любой попытке КПГ установить единый фронт с СДПГ».
— Откуда вы это знаете? — спросил Каппес. В его голосе были недоверие и подозрительность.
— Почитал кое-что перед поездкой сюда…
О еде все забыли, сидели, с интересом вслушивались в разговор, хотя понимала по-русски одна только Луиза, да и то не очень. Что-то всем доставляло удовольствие в этом споре: то ли звуки русской речи, то ли волнение Александра. Или им, привыкшим к бесстрастности споров, это было в новинку?
Потом Эльза, спохватившись, побежала укладывать дочек спать. Луиза пошла за ней, оглядываясь, явно сожалея, что приходится уходить. Уле тоже встал, но, как оказалось, чтобы лишь пересесть на место Луизы напротив Александра. Эта недолгая суета погасила спор, и Александр воспользовался паузой, чтобы переменить тему разговора.
— В чем на практике выражается деятельность «зеленых»? — спросил Хорста.
Тот сразу вскочил, шагнул к полке и положил на стол другой журнал, более толстый. Решив, видимо, что таким образом ответил на вопрос, начал с Каппесом беседу о театре и театральных постановках. Минуту Александр прислушивался к их быстрой речи, малопонятной, полной сокращений и недомолвок, что вообще свойственно немецкому разговорному языку. А потом и вовсе перестал слушать, потому что увлекся перелистыванием журнала. Это был подробный фоторассказ об одном дне, когда население городов и поселков земли Баден-Вюртемберг вышло на улицы и в знак протеста против размещения «першингов-2» образовало непрерывную людскую цепь длиной в сто семь километров, от, Штутгарта до Ульма. Эти два города были выбраны потому, что в первом располагается штаб американских войск, а возле второго находится база американских ядерных ракет. «Nein!» — крупным кровавым заголовком требовала обложка. «Nein!» — звучало чуть ли не с каждой страницы. Страшный рисунок: мальчик и девочка, силуэтно освещенные ядерным взрывом в черном квадрате распахнутой двери. И снова «Nein!» — «Нет, не хотим этого!». Опять и опять рисунки: люди, бьющие, пинающие, выталкивающие за край страницы черную кляксу атомной бомбы, дети с голубями мира на палочках, руки, переламывающие ракету. И снимки, снимки: люди, взявшиеся за руки, на улицах, на железнодорожных насыпях, на загородных дорогах, бесконечные людские цепи, протянувшиеся через города, через леса, через пространства полей. Снятые сверху, эти уходящие за горизонт цепи производили внушительное впечатление. Казалось, вся Западная Германия собралась тут, чтобы крикнуть свое «Nein!».
— Это «зеленые» организовали? — спросил Александр.
— Не только, — ответил Хорст.
— А кто еще?
— Могу вас обрадовать. Были там и коммунисты, — сказал Каппес, повернувшись на стуле всем телом и, как обычно, приветливо улыбаясь. Только в сузившихся глазах проблескивало то ли насмешливое, то ли высокомерное.
— Я в этом не сомневался. Коммунисты повсюду первые борцы за мир.
— Вот еще одна точка соприкосновения коммунистов и «зеленых», — усмехнулся Каппес, и опять не понять было, то ли он иронизирует, то ли говорит серьезно.
— Я думаю, их немало, таких точек.
— Вы считаете, будет больше?
— Не исключено.
— Вы считаете, что «зеленые» со временем приобретут красный оттенок?
Нет, с ним положительно нельзя было разговаривать, с этим музыкантом. Что-то злобствующее присутствовало в нем постоянно. Не человек, а ходячая провокация. Но и промолчать нельзя было, никак нельзя.
— Каждый идет своей дорогой. А время всех рассудит, — ответил Александр. И демонстративно повернулся к Хорсту. — Вам не кажется, что перед вами, если будете последовательны, со временем встанет вопрос о перевоспитании человека?
Он не ожидал, что так попадет в точку. Хорст вскочил, снова кинулся к полке, но вдруг повернулся.
— Это… самое трудное. — И шагнул к выходу. — Пойдемте я вам покажу.
Но и сбегая по скрипучей лестнице, он продолжал говорить, то и дело оборачиваясь к Александру, идущему следом:
— Человек не должен быть неумеренным и бездумным потребителем. Больше и дешевле, дешевле и больше! Больше, больше! Торопимся приобрести, зачастую не потому, что нужно, а потому, что престижно, модно, торопимся произвести, чтобы было что приобретать. Порочный круг… Вот, например, как вы съедаете яйцо? — остановился он посередине лестницы.
— Ну как, обыкновенно. Разбиваю скорлупу…
— Разбиваете?! Неправильно. Есть специальный нож, чтобы среза́ть верхушку скорлупы. Он только для этого и существует, ни для чего более. Если следовать моде, так одних ножей специального назначения в доме должны быть десятки. А для их производства требуется металл, а для производства металла — вода, воздух, энергия. Порочный круг! Мы перестаем быть универсалами. Скоро разучимся шнурки на ботинках завязывать, будем покупать для этого специальные устройства. Так вырождается человек…
— Это уже не об окружающей среде речь, а о самом человеке, — сказал Александр.
Они стояли на узкой лестничной площадке почти лицом к лицу. Глаза Хорста блестели, похоже было, что затронутая тема особенно близка ему. Каппес стоял наверху и спускаться за ними, как видно, не собирался. За стеклом квадратного окна, темневшего прямо перед глазами, поблескивали тускло освещенные мокрые крыши домов, вдали горели красные огни на телевизионной вышке.
— О среде, о среде! Окружающая среда — не только то, чем мы дышим да питаемся, но и то, что создает наш внутренний мир.
— Социальная среда?
— Называйте как хотите, — отмахнулся Хорст. — Человек на протяжении истории создавался как творец. Пахал ли землю, работал ли топором, — в каждый миг своей жизни он был созидателем. Он все мог и все умел и потому достиг вершин величия. А теперь что происходит? Многие из нас умеют лишь покупать, без цели гонять на машинах, танцевать, смотреть телевизор. На работе исполнители, вне работы — потребители. Кто из людей ходит на работу для того, чтобы создавать нечто, производить? Цель каждого — заработать, получить марки. Неважно за что. Если завтра начнут выдавать марки просто так, то многих это лишь обрадует. Получаем и тратим, получаем и тратим! Очередной порочный круг замыкается. Человек перестает быть человеком, свободно творящим, для которого деяние — высшее благо. Человек теряет человеческое, превращается в робота, в механического гомункулуса. Хлеба и зрелищ, и больше никаких у него потребностей. Хлеба и зрелищ! А? Вам это ничего не напоминает?
— Напоминает.
Уставший стоять вплотную, лицом к лицу, Александр поднялся на одну ступеньку. Но теперь Хорст был внизу, это ему показалось неудобным — возвышаться, и он снова соступил вниз.
— Вам не кажется, что замыкается гигантский порочный круг всей истории человечества?
— Вы намереваетесь бросить вызов всей истории человечества?
— Да! — резко ответил Хорст. — Мы не хотим, как цирковые лошади, бегать по кругу.
— Что же делать?
— Всё! Человек должен хотеть и уметь делать всё. Своим умом, своей душой, своими руками!
— Ну, все-то не сможет. Например, реактивный самолет.
— Реактивный самолет никому не нужен!
— Забавно…
— Военные самолеты не нужны. Согласны?..
— Согласен. Но гражданские…
— Оттого, что приехали к нам поездом, а не прилетели самолетом, вы что-нибудь потеряли? Ничего не потеряли! — решительно мотнул он головой, не дожидаясь ответа. — Летая самолетами, мы экономим минуты для того, чтобы потом транжирить часы. Редко, чрезвычайно редко нам бывает действительно необходима экономия минут. Мы больше нуждаемся в правильной организации всей нашей жизни.
— Вы знаете, как это сделать? — заинтересованно спросил Александр.
— Знаю. И делаю!
Он побежал вниз, прыгая через две ступеньки, махнув рукой Александру, чтобы не отставал. В полуподвале показал верстак с двумя тисками, стену, увешанную инструментом. В прозрачных выдвижных ящичках, больших и маленьких, занявших полстены, хранились бесчисленные гаечки, болтики, гвозди, шпильки, прямые и гнутые пластинки разных назначений, запасные части водопроводных и газовых кранов и все прочее, что может понадобиться человеку, любящему мастерить. Александр и сам в охотку делал что-либо по дому, и теперь, рассматривая все это богатство, он с грустью думал о старом чемоданчике с инструментами, засунутом под кровать, о балконе, заваленном всякими «железяками», как неодобрительно отзывалась жена. Пределом его мечтаний был хотя бы крошечный гаражик. Но такое! Имей он подобную мастерскую, наверное, не вылезал бы из нее даже в выходные.
— Человек должен по возможности все делать сам, — говорил Хорст, наводя порядок на и без того прибранном верстаке. Делал он это быстро и с такой охотой, словно лишний раз притронуться к разложенным здесь предметам доставляло ему удовольствие. — Работа в мастерской мне не в тягость — в радость. Я своими руками перестроил весь дом. Был он одноэтажным, я надстроил второй этаж, все оборудовал, как хотел, сделал балкон…
Александр, как выразился бы друг Борька, «завидовал по-черному». Да будь у него!.. Да будь у кого угодно из его знакомых!.. Сколько раз в московских газетах поднимался вопрос о том, чтобы иметь одну на весь дом мастерскую, куда можно было бы прийти, сделать что надо. Для шахматных клубов отводят полуподвальные помещения, для спортивных секций, для так называемых красных уголков, в которых неизвестно кто чем занимается. А мастерских он не видел нигде. А ведь и дети, и подростки могли бы там что-либо мастерить. Под наблюдением, скажем, все тех же пенсионеров. А то ведь начни дома табуретку ремонтировать, сразу соседи бегут, — чего стучишь?
— Вы меня слушаете? — спросил Хорст.
— Извините, задумался, — признался Александр. — Хорошо тут. И как у вас времени на все хватает?
— Не человек зависит от времени, а время зависит от человека. Возьмите телевизор. Прибор для потребления зрелищ. Я уж не говорю о его несомненном вреде для детей, но он вреден и для взрослых. Подсчитано: человек проводит у телевизора в среднем до шести часов в сутки. Выбросьте телевизор — вот вам и время. У меня в доме, как вы заметили, телевизора нет. Сейчас ширится движение против телеоболванивания. Создаются даже клубы, в которые принимают тех, кто отказался от домашнего телевизора…
— Вы член такого клуба?
— Я и без клуба все понимаю.
— Ваш образ жизни вытекает из требований программы «зеленых»? — спросил Александр.
Хорст устало, вроде бы даже с сожалением посмотрел на него.
— Я бы сказал так: программа «зеленых» соответствует моим убеждениям и потому я с ними. Хотя требования программы заставили и меня сделать кое-что.
Он открыл дверь в другое помещение полуподвала, включил свет.
— Вот поглядите.
У стены стояли два больших бака, высотой в полтора человеческих роста. Полукружья толстого пенопласта, обнимавшие баки, говорили, что это, по существу, термосы.
— А наверху, на крыше, — солнечные водонагреватели. Один ясный день, и семья обеспечена горячей водой на неделю.
— Тоже сами делали? — спросил Александр. Спросил не без ехидства, потому что ясно было: тут без специалистов не обошлось.
— Сам, — серьезно, даже с гордостью ответил Хорст. — Баки и прочие нужные детали, конечно, заказал, привезли, а монтировал сам.
— Ну ясно, работа дорого стоит.
И опять Хорст не отреагировал на ироничный намек. Или он был такой уж толстокожий, все понимающий буквально и не признающий интонаций, или мера сдержанности этого немца превышала все нормы.
— Работа, конечно, дорого стоит. Но тут я должен был сам.
— Понятно, принцип — дело серьезное. А сколько она вам экономит, эта установка?
Хорст не понял, и пришлось повторить вопрос, упомянув о марках, с которыми, как считал Александр, ни один порядочный немец не расстанется даже из принципа.
— При постоянной эксплуатации этот солнечный водонагреватель окупится через тридцать пять лет.
— Сколько? — Александру подумалось, что он ослышался.
— Тридцать пять, — удовлетворенно повторил Хорст и для убедительности написал цифру пальцем на побеленной стене.
— Зачем же это вам?!
— Вы сами сказали: принцип. Программа нашей партии провозглашает необходимость широкого использования возобновляющихся и экологически чистых видов энергии. На первом месте экология, а экономика на втором — такой наш лозунг…
Вот тебе и расчетливые немцы! Что-то глубоко родственное проглядывало за этим фактом. Древняя верность коллективизму, общинности, даже если это в ущерб себе. Биологическая, неискоренимая забота о будущем рода-племени.
Слушая быструю речь Хорста, Александр снова думал о той, может быть, исторически предопределенной близости судеб русских и немцев. И мысленно отталкивал черную тень двадцатого века, так резко противопоставившего народы друг другу. Подсознательно он все искал другие исторические пути. Словно историю можно было переиграть, повторить в других сочетаниях фактов и событий.
— Судите сами, — продолжал Хорст. — Современные формы получения энергии выгодны лишь потому, что их совершенствованием занимаются давно и серьезно. А если такое же внимание развитию чистых и вечных видов энергии — солнечной, геотермальной, приливной, ветровой и прочих?! Пока что человечество послушно идет за теми, для кого экономика важнее экологии. Пока что недобросовестные люди кричат о процветании на этом пути. Но уже всем виден тупик. Очень скоро экологически нечистые пути станут экономически невыгодны. Из-за повышения стоимости сокращающихся запасов топлива. Что тогда? Атом? Одно нечистое заменить другим, еще более нечистым? Мы против этого. Авария на атомной электростанции в густонаселенной Европе равносильна взрыву атомной бомбы. Ученые предупреждают, что изменение теплового фона Земли может привести к глобальным катастрофам. А чем грозит изменение радиационного фона? Никакими целями нельзя оправдать покушение на естественную среду, в которой человек возник и в которой только и может существовать. Вы скажете: наука сеет яд, она же найдет и противоядие? — ткнул Хорст пальцем в грудь Александра. В запальчивости ткнул сильно, так что тот отступил на шаг и теперь стоял, прислонясь к косяку двери. — Это самообман. Тридцать пять лет назад Пауль Мюллер, швейцарский химик, получил Нобелевскую премию за создание универсального средства борьбы с паразитами на полях — ДДТ. Слышали? Все были уверены: наука наконец-то спасла человечество от голода. А что теперь? Теперь мы не знаем, как избавиться от остатков того ДДТ, которое успели рассыпать, разлить по Земле. Они, эти ядовитые остатки, повсюду: в травах, в рыбе, в молоке матери, кормящей ребенка. Спасительное ДДТ! Безобидное ДДТ! Нобелевская премия!.. Обожглись ведь, не раз обжигались, пора бы и задуматься. А мы с упорством тупиц лезем все туда же. Чтобы совсем сгореть, или замерзнуть, или задохнуться? Неужели же не ясно: человечество под угрозой самоуничтожения и пора, пора менять всю систему хозяйствования…
— Вы имеете в виду социальную систему? — спросил Александр.
— Политика, ориентированная на экологию, должна исходить из потребностей всего живого, — продолжал Хорст, не обратив внимания на вопрос. — Мы должны думать о будущем Земли как космического тела, о сохранении рек, морей, лесов, флоры и фауны, всей среды, в которой живем…
— Высокие речи должны звучать наверху. — Каппес стоял в дверях, указывая пальцем на потолок, и непонятно было, что он имел в виду — высоты власти или попросту верхний этаж.
— Конечно, конечно! — Хорст сразу пошел к лестнице. Он так и поднимался первым, не произнося ни слова.
Наверху женщины сидели за столом, тихо беседовали о своих делах. Уле безучастно сидел на диване в углу, читал газету.
— Девочки уже спят, — сказала Эльза.
Александр понял это как намек на то, что пора расходиться. Но Каппес, как видно, понял иначе.
— Можно покурить на балконе? — спросил он. И, не дожидаясь разрешения, словно бывал здесь не раз, открыл стеклянную дверь.
Александр вышел следом. Окатило влажной свежестью. Что-то было в ночном воздухе влекущее, — весной, что ли, пахло?
Дождь перестал и, похоже, больше не собирался: небо темнело, освобождалось от туч. И было совсем не холодно: то ли дождь обогрел землю, то ли ветер принес тепло с близкого отсюда Средиземноморья.
Балкон был своеобразный, в крыше вырезан квадрат и в нем — этакая ниша, закрытая со всех сторон. Широкий вид открывался отсюда только на небо: впереди громоздилась крутая крыша соседнего дома, из-за которого виднелся лишь небольшой участок освещенной улицы. По ней временами скользили машины, тихо, почти бесшумно проходили люди, все, как один, под зонтами.
Часы на кирхе хрипло пробили десять раз. И сразу, словно только и дожидался этого боя часов, Каппес придавил сигарету в пепельнице и повернулся к Александру.
— Вам здесь нравится?
— Нравится, — односложно ответил он.
— Хотели бы пожить подольше?
— Боюсь надоесть хозяевам.
— Пожить можно не только у Крюгеров.
— Увы, у меня срок визы…
— Визу можно продлить.
— А остальное?
— Что остальное?
— У меня ведь семья в Москве. Дочка там, Нелька, друзья, работа…
— Работа не волк, в лес не убежит, — по-русски сказал Каппес и засмеялся. — У меня правильное произношение?
— У вас великолепное произношение.
На языке вертелся вопрос: «Где вы так научились?» Но промолчал, не хотел развивать эту тему.
— А как вы оцениваете немецкую организованность? Ну, ту самую, которая в книге, — подсказал Каппес. — Где рассказывается о демонстрации протеста?
Александру не хотелось отвечать. Он с удовольствием бы просто постоял тут, послушал ночь. Но рядом был Хорст.
— Организовано здорово. Только больно уж протест пассивный. Ну собрались, ну подержались за руки. Кого обеспокоит такой протест?
— Мы же в демократической стране, — сказал Каппес. — Здесь правительство вынуждено считаться с мнением масс. Потому что они — избиратели.
— Когда-то социал-демократы убеждали людей, что с помощью избирательных бюллетеней можно остановить фашизм.
— Времена меняются.
— Прошлое всегда полезно вспомнить.
— Прошлое вашей страны?
— Нет, вашей. В двадцать втором году в баварском Кобурге восемьсот штурмовиков расправились с многотысячной антифашистской демонстрацией. Два дня после этого в городе буйствовал кровавый террор, и правительство не могло или не хотело заставить полицию помешать убийствам.
— Но что творилось у вас…
— У нас были свои беды, — перебил Александр. — Но совсем другие.
— Разве? — Каппес снова закурил, пустил дым в черное небо и положил сигарету. — У нас террор, и у вас террор. В одни и те же годы. Случайно ли? — Он усмехнулся. — Может, воздействие извне? Космические лучи?
— У нас — похоже, что так. На воздействие извне похоже.
— Интересно, что вы имеете в виду?
Конечно, интересно. Но не пересказывать же всего того, о чем говорят в московских компаниях. О безнациональной контрреволюции, обрядившейся в революционные одежды, пробравшейся к власти и извратившей светлые идеалы народа. Да и кому пересказывать? Разве они поймут?
Александр пожал плечами и зевнул.
— Извините, я хочу пойти спать.
— Мы с вами еще встретимся? — спросил Каппес.
— Не знаю.
— Обязательно встретимся. Нам есть о чем поговорить.
Александр снова пожал плечами, жеманно поклонился и вышел, сбежал по гулкой деревянной лестнице в свою детскую комнату.
Но как ни старался, долго не мог он уснуть, все думал о разговоре. Забирался под душную перину, через минуту откидывал ее, вставал, зажигал свет, открывал окно в пустой двор. Ниоткуда не доносилось ни единого звука, стояла совершенно глухая, гробовая тишина.
Часы на кирхе пробили двенадцать, и звон их показался оглушающим. Александр закрыл окно и, чтобы отвлечься от дум, начал листать первую взятую с полки детскую книжку. Книжка оказалась совершенно неожиданной для него: в картинках и коротких текстах рассказывалось о семье, о том, как и почему рождаются дети. Вот мама с дочкой моются под душем и девочка спрашивает, почему у мамы такой большой животик. На следующих страницах подробно рассказывалось, как сперматозоиды догоняют яйцеклетку, как один из них, изловчившись, проникает в нее, яйцеклетка начинает расти, превращается в маленького ребеночка, как он потом появляется на свет на радость сестренкам и братишкам. Вот на картинке во всю страницу папа и младший сынишка моются под душем, и сынишка спрашивает…
М-да!.. Александр с недоверием посмотрел на обложку: точно, книжка для детей младшего возраста. Положил ее поверх перины, задумался. Слышал он о такой теории, что детям, мол, все надо рассказывать, чтобы не было у них нездорового любопытства. И в Москве случалось: кое-кто при нем доказывал педагогическую целесообразность таких рассказов. Сунуть бы этим теоретикам под нос вот эту книжку, что бы сказали?! Ему, взрослому человеку, неловко было рассматривать эти картинки. Или с непривычки? А может, как говорится, каждый понимает в меру своей испорченности?..
Часы на кирхе ударили один раз. Давно пора было спать: у немцев не поваляешься утром, поднимут в восемь как штык. Он взял книжку, чтобы положить ее на полку, и… начал смотреть дальше. А дальше младший братик подглядывал из-за угла, как старший брат обнимает и целует свою невесту. И вот они, не понять — жених и невеста или уже муж и жена — лежат голые, пристраиваются друг к другу. И улыбки у обоих равнодушно-умильные, бесстрастные. Все обыкновенно, ахать и охать нет никаких поводов. Так было, так будет, смотрите, детишки, как все просто, и не задавайте глупых вопросов…
Только не верилось Александру, что после такой книжки дети не будут задавать вопросы. Всего скорей, они заинтересуются подробностями, захотят сами поиграть во взрослых, и обыкновенное чувство стыда умрет в них, так и не развившись. А ведь стыд — одна из немногих скреп, удерживающих коллектив от распада. Так же как совесть, сочувствие, сострадание и подобные качества души человеческой, истребляемые в веках и неистребимые. Неистребимые ли? Объявлял же Гитлер совесть химерой… А что будет, если исчезнет стыд, если человек перестанет сочувствовать человеку? Будет не коллектив, не общество, а стадо… То самое, чего добиваются те, кто мечтает о мировом господстве…
Часы на кирхе пробили дважды, а он все ворочался, все думал о пропасти, разверзшейся перед людьми. Хотелось вскочить и сейчас же рассказать все Хорсту, Эльзе, Луизе, открыть им глаза. Но он знал, что не сделает этого ни завтра, ни послезавтра. Разговор обязательно коснулся бы детской книжки, а ему стыдно было даже признаться, что он читал и рассматривал ее до поздней ночи. Да и непросто передать все те не очень ясные и вовсе смутные мысли, какие мучают его. Это скорее предчувствие, чем знание. До этого надо дойти своим умом. Верилось, что «зеленые» с их воинствующей человечностью в конце концов все поймут сами. Но страшно: вдруг не поймут, вдруг запутают их демагоги, собьют с пути истинного?..
XII
Луиза и Уле уезжали на аэродром, чтобы лететь к сыну в Милан, рано утром. Провожать их поехали всей семьей: Хорст за рулем, Александр рядом, Луиза, Уле, Эльза с девчушками на коленях — на заднем сиденье. День был ясный, первый по-настоящему весенний день в этом холодном апреле. Всем было весело, даже Александр, невыспавшийся, чувствовал себя превосходно. Или его бодрил крепкий кофе, которого он выпил утром целых две чашки?
Расставание получилось неожиданно быстрым. Дорога была недолга, и никаких ожиданий в аэропорту. Улыбчивая служащая (они все тут, в аэропорту, улыбались так, словно век мечтали повидаться с каждым из авиапассажиров) подхватила чемодан, толкнула его по роликам куда-то за загородку, быстренько перелистнула билеты, что-то тиснула в них, что-то доложила к ним и опять же с зазывающей улыбкой кинозвезды сказала, что пора прощаться с провожающими и проходить на посадку. Девчонки повисли на Луизе, и она через их головы поцеловала свою дочь, своего зятя. А потом оторвала от себя внучек, взяла за руку Александра и повела его куда-то в сторону.
— Вы на меня не сердитесь, — сказала она.
— За что мне сердиться? — удивился Александр.
— Я знаю, знаю. Хотела сама все рассказать, да не смогла. Я вам лучше напишу, хорошо?
— Конечно. И я вам напишу. Мы уж почти как родные.
Луиза испуганно вскинула глаза и, ничего не сказав, прильнула к нему, неловко поцеловала в щеку.
— Не сердитесь на меня, — повторила глухо.
— Да что вы такое говорите! Я вам кругом благодарен.
— Вы ведь ничего не знаете…
Он удивленно посмотрел на нее, на Эльзу, Хорста, Уле, стоявших в стороне и державших за руки девчушек, рвущихся к бабушке.
— Поклонитесь от меня вашей матери. Скажите, что я о ней очень хорошо думаю.
— Конечно, конечно… — Он недоумевал: чего она мать-то вспомнила?
— Пусть она простит меня.
— Да за что же?! Вы ведь ко мне так добры… Совсем по-матерински.
— Спасибо.
— Сыну привет передайте.
— Передам. — Она снова поцеловала его в щеку, плохо выбритую в утренней спешке, внезапно резко оттолкнулась и быстро пошла к двери, над которой белым по синему выпукло было написано «Glückliche Reise!» — «Счастливого пути!». Остановилась в светлом проеме, помахала рукой, вымученно улыбнулась и исчезла.
— Ну что же, поехали? — спросил Хорст, когда Александр подошел к ним. Словно от него одного зависело: ехать или нет.
Он еще оглянулся на светлый проем двери, в котором исчезла Луиза, и растерянно пожал плечами.
Ехали молча. И Александру тоже было почему-то грустно от этого расставания, словно попрощался с очень близким человеком. Знал ведь, и когда собирался сюда, в Западную Германию, и когда ехал, что все тут для него временное, преходящее. И здесь первое время он относился ко всем, как к попутчикам в вагоне: можно поболтать, даже излить душу, но знакомиться необязательно. А потом — привыкал, что ли? — ему становились все более небезразличны эти люди.
И вдруг Александр заметил, что едут они совсем другой дорогой, и вовсе даже не в город, а в сторону от него.
— Сегодня пятница, — сказал Хорст, заметив его внимание к дороге. — Хочу девочек за город вывезти. Вы не против прогулки?
— Да я что… А вы разве сегодня не работаете?
— Пасхальные праздники. Четыре дня… Я думаю, вам будет интересно.
— Да я что, — снова сказал Александр. — Мне все интересно.
— По горам погуляем. Красивые места. Замок на горе, старый, руины. Возле Ураха.
Александр заволновался, вспомнив, что Тюбинген, где была Саския, тоже в этой стороне.
— Урах — это на юге?
— На юге. Километров пятьдесят от Штутгарта.
— А Тюбинген… не по пути?
Хорст оглянулся на Эльзу и засмеялся.
— В стороне.
— А нельзя… заехать?
— Посмотрим…
И снова замолчали в машине. Даже пятилетняя Анике почему-то перестала прыгать на заднем сиденье. Или это только ему казалось, что все насторожились, недовольные просьбой? И Александр тоже молчал, чувствуя себя неловко. Была бы Луиза, — к Луизе он привык, — а этим что он? Незваный гость, да еще с претензиями.
Город Урах был маленьким и уютным. Поколесили по кривым улочкам, остановились ненадолго на площади, затем возле старого, но весьма ухоженного монастыря, затем возле речушки, бегущей вдоль тротуара в каменных берегах. Быстрая вода бурлила под широкими лопастями мельничного колеса, и колесо со скрипом проворачивалось.
Затем снова выехали на загородное шоссе. Вскоре «фольксваген» свернул с асфальта и побежал в гору по грунтовке, огибающей пологий склон. Справа простиралась обширная долина, слева громоздилась гора, поросшая густым лесом. Впереди показались небольшой домик с навесом открытого кафе и десятка два автомашин разных марок, стоявших двумя строгими рядами. Патлатый парень с сумкой через плечо остановил их, равнодушно бросил в сумку монеты, протянутые Хорстом, и пошел впереди машины показывать место парковки.
Анике выкатилась на лужок с такой радостью, словно никогда не видела зеленой травы. Зильке побежала за ней, Александр за Зильке, испугавшись, что девчонки убегут слишком далеко, и так у них сама собой получилась игра в догоняшки.
— Баловница ты, Анике, — по-русски сказал Александр, поймав наконец девчушку.
Она вырвалась и побежала к родителям, возившимся возле машины, с восторженным воплем:
— Баляница! Баляница!..
Дорога сначала вела по склону, пробивала плотный дубняк и еще какой-то безлистный разностой. Потом круто свернула, пошла в гору. И сразу изменился вид леса: теперь справа и слева, далеко отстоя друг от друга, словно мраморные колонны в храме, высились гладкоствольные буки. Солнцу было вольготно в этом лесу, вид ярко высвеченных белых стволов творил в душе праздник. Местами земля была густо усыпана желтой прошлогодней листвой, и там, где солнце пробивалось до земли, стволы буков, ветки и, казалось, сам воздух были пронизаны радостно-золотистыми отблесками.
Пока шли через этот храмоподобный лес, молчали. Даже малышка Анике перестала прыгать и кричать свое «баляница!». На высоте, перед очередным, еще более крутым подъемом, сели передохнуть на камни, густо обсыпанные желтой листвой. «Рыжая Швабия», — вспомнился Александру вычитанный где-то поэтический образ. И впрямь рыжая! Рыжая не только в пору осеннего увядания, но и зимой, поскольку снега тут редки. До новой зелени опавшая листва буков почти люминесцентной желтизной освещает леса.
— Красиво! — сказал Хорст.
— Красиво! — согласился Александр.
Восьмилетняя Зильке, сидевшая рядом, посмотрела на него, тряхнув головой, и пышные светлые волосы ее тоже блеснули золотом.
— Лореляй! — восхищенно сказал Александр и притянул ее к себе, рукой разворошил волосы. Зильке это понравилось, она прильнула к нему, замерла.
С высоты открывался чудный вид на долины, на зеленые увалы гор, так похожие на знакомые крымские. Белой тонкой полосой громаду соседней горы перечеркивал водопад. В синем безоблачном небе медлительными птицами парили планеры. Внизу, в долине, уже зеленой от свежей травы, пасся табун лошадей, и отара овец серой кляксой перетекала из одного места в другое.
— Не хочется верить, что вот этой красоты в один миг может не быть, — глухо сказал Хорст. — Представьте себе…
Александр представил… и пожалел Хорста: это же как жить с постоянным ожиданием беды, все равно — атомной или экологической. Это же как у религиозных фанатиков, ждущих конца света. Будет он или нет — еще вопрос, а жить уже неохота. И может быть, только сейчас как следует понял он великую силу надежды на будущее, какой пронизано все там, дома, в Москве. Ожидающий конца света — что он может? Это как анатом и в самой красивой женщине привычно видит прежде всего ее скелет… А с другой стороны, он задумался, поросячья восторженность — тоже ведь не выход. Остается все та же золотая середина, качели между плюсом и минусом, радостью жизни и тревогой за нее. Качаться, всю жизнь качаться! В одну сторону, чтобы не озлобиться, в другую, чтобы не превратиться в беззаботного идиота. Качели! Но ведь это и есть жизнь! Атомы в металлах и те все время колеблются и застывают в неподвижности лишь при абсолютном нуле. «Вечный бой! Покой нам только снится!» Вечный?!
Его совсем расстроили эти мысли. И может быть, впервые ощутил он, как тяжелы могут быть знания. И впервые, пожалуй, позавидовал безалаберному другу Борьке с его любимой присказкой: «Ничего не хочу знать!»
— Послушайте, Хорст. Представьте, что вы добились своего и все экологические проблемы решены. Что дальше?
Идиотский вопрос. Это Александр понял еще до того, как закончил произносить фразу. Но было интересно: что ответит Хорст?
— Все? Не знаю, не думал. Решить бы ближайшее, основное. Убедить бы людей, что экология важнее экономии.
— А ядерная проблема?
— Это прежде всего…
— Вон бабушка полетела! — закричала Анике, взметнув руки ввысь, где в синеве скользил сверкающий крестик самолета. Она вскочила и побежала по тропе в гору, в ту сторону, куда летел самолет.
Все поднялись и пошли следом. И хоть бабушка улетела на юг, а самолет летел на север, девчонку никто не стал разубеждать: пусть верит.
На самой вершине белели руины замка. Из туннелей, уходящих под скалы, несло сырой промозглостью, а у стен, в затишке, было совсем тепло, и несколько молодых парочек, взлетевших сюда, на верхотуру, на крыльях своего нетерпения, остывали на весеннем солнышке, раздевшись до маек и блузок. Перед замком на скамьях, сделанных из толстых бревен, сидели люди. Кто помоложе, ходили по стенам, выглядывали в полуразвалившиеся щели амбразур. Внизу под крутыми обрывами, под лесистыми склонами растекся по долине городок Урах — обычная мозаика черепичных крыш, ленты дорог, высокие пики кирх, голубые квадраты открытых плавательных бассейнов.
— Что за горы?
— Швабский Альб.
— Что за замок?
— Какого-то разбойника-феодала семнадцатого века…
Девочек не удержать, умчались в проходы. Эльза, а следом и Хорст ушли смотреть за ними: не свалились бы где? Александру не хотелось никуда идти, сидел в затишке, смотрел на горы, на город в долине. Вспомнился дом на площади, на котором по фасаду крупно написано, что в нем с 1479 года и по сей день находится аптека. 1479-й! Это же еще до нашего знаменитого стояния на Угре! Еще кочевая степь не перестала грозить Руси, еще не начался обратный процесс осаживания кочевых племен, великого просветления их светозарной оседлой земледельческой культурой.
Отсюда, издали, даже родная история просматривалась глубже. Какой же силой должна была обладать Русь, чтобы в течение долгих веков сдерживать бесчисленные набеги кочевников! Как же должна быть благодарна Европа народу нашему, оградившему Запад от азиатских орд! Здесь целехонькие стоят 500-летние жилые дома. У нас и каменные храмы такой давности — редкость. Кочевые разбойники, врываясь в города, не оставляли ничего.
Набеги кочевой степи были часты. Живя от набега к набегу, мы привыкли видеть вечность не в постоянстве и неизменяемости, а во все новых и новых возрождениях. И вырабатывалась привычка строить не на века, не слишком дорожить построенным. Не потому ли мы всегда с такой легкостью рушили построенное предками?
Страшные эти привычки — не дорожить содеянным предками. Если мы не дорожим, то и дети наши не будут дорожить содеянным нами…
Стоял он там, внизу, в Урахе, у мельничного колеса и думал. Минуту и стоял-то, не больше, а и поныне все крутится оно перед глазами, шлепает широкими плицами, все бежит вода, искрится на камнях, шевелит длинные волокна ярко-зеленых водорослей, устилающих ровное дно этой городской речушки. И все думается, думается. Такое уж свойство у текущей воды — будить мысли.
…Все тленно. Вот и в этих стенах жили люди, страдали тут, наверное, любили, может быть, думали о вечности. Умер тщеславный хозяин замка, мечтавший вершить судьбы из своей недоступности, прошли годы, и опустела обитель. Кому охота жить на такой крутизне вдали от земли, от воды? В долине удобнее и теплее. В городе другой замок, такой же старый, а выглядит моложе и новее. В нем музей. А здесь ветры хозяйничают да кустарники и грызут камни острыми корнями.
…История наказывает в полном соответствии с законами диалектики. То, что вчера казалось необходимым, сегодня никому не нужно. Повернулась история на другой бок, и верхнее стало нижним, и наоборот. Так и ныне суетится человек, творя несусветное, громоздит небоскребы на небоскребы, а случись катастрофа, пусть не военная, а экологическая, скажем энергетический кризис, и замрут высотные лифты, и вода не будет подаваться на сотые этажи. И никому уж не захочется жить на верхотуре, откуда в туалет не набегаешься. И через сто лет люди будут недоумевать: кому понадобились такие громадные дома, в которых нельзя жить?! Удивляемся же мы, скажем, египетским пирамидам: грандиозно, но зачем?..
Он поднялся и сразу почувствовал ветер, не порывистый, а какой-то настойчиво-непрерывный, прохладный. Никого из семьи Крюгеров рядом не было, и Александр пошел разыскивать их. Миновал длинную арку, в которой шаги гудели, как падающие камни, и очутился во дворе с толстущим дубом посередине. Под дубом топтался перед небольшим лотком предприимчивый торговец, продавал кока-колу и мелкие сувениры. Одна сторона двора горбилась арочными окнами, глядящими на дальние горы. Стены не было, только эти полудуги окон, как театральная декорация. Под окнами на скамье сидели Крюгеры, полдничали, ели принесенный с собой хлеб, запивая его теплым морсиком из термоса.
Он съел предложенный ему кусок хлеба, оказавшегося сладковатым, похожим на кекс, запил чашкой морса и, чтобы не молчать, заговорил все о тех же «зеленых».
— Как вы относитесь к прошлому, вообще к истории?
— Прошлое — это камни, на которых стоит настоящее, — ответил Хорст.
— А если вместо камня в фундаменте окажется мина?
— Вы говорите о фашизме? К нему у нас отношение однозначное: такие камни из фундамента вон.
— У вас в Западной Германии немало людей, призывающих относиться к периоду фашистской диктатуры как к одному из периодов истории, не более того.
— Я знаю об этом.
— Скоро сорокалетие Победы, и у вас даже в правительстве раздаются голоса, призывающие игнорировать этот праздник на том основании, что это, дескать, поражение, а поражения не празднуют.
— Партия «зеленых» потребует от правительства официально и торжественно отметить восьмое и девятое мая как Дни освобождения от фашизма. Вы это хотели услышать?
— Почти.
— А вы знаете, что в партии «зеленых» большинство — женщины, — сказала Эльза.
Этого он не знал и задумался над такой странностью.
— Ничего странного, — сказала Эльза, словно угадав его мысли. — Женщине самой природой предназначено быть проводницей в будущее. Мужчины больше озабочены настоящим. Они ведут войны, рушат основу будущего. Но неизбежно время, когда восторжествует великое женское начало.
Хорст, для которого эти слова, по-видимому, тоже были внове, возразил ей, они заспорили, бесстрастно, словно поддакивая друг другу. И Александру тоже захотелось поспорить на эту тему, чем-то задевающую его, но сдержался. Встал, потянул за руки Анике и Зильке, повел их смотреть в окна.
Внизу, за оконным проемом, был обрыв, глубоченный, метров на двадцать. По крутой дорожке, скользя на осыпающейся щебенке, шли и шли люди, молодые, пожилые и совсем старые, с собачками. Или замок этот был такой уж тут знаменитостью, или первый ясный день погнал людей на природу, в горы. А дальше снова был обрыв, поросший дубняком. Еще ниже щетинились верхушки буков, за ними до самого города стлались квадраты зеленых лугов. Девчушки, перебивая друг друга, начали расспрашивать его о хорошо видной сверху дороге, по которой ехали сюда, об улицах и площадях, где останавливались, выходили из машины, покупали мороженое. Он отвечал, не уверенный, правильно ли отвечает, и все думал о словах Эльзы. Может, не случайно процесс гуманизации общества идет об руку с эмансипацией женщин?..
Потом, когда спускались с горы и когда ехали в машине, разговор крутился все больше вокруг экологических проблем. Хорст говорил о кислотных дождях, ставших настоящим бедствием для Западной Германии.
— …Два года назад умирающие леса в нашей стране составляли восемь процентов. Теперь их почти треть. Раньше нас тревожила судьба только сосен и елей, теперь «эпидемия» затронула и лиственные деревья. Не многого стоит индустриальное общество, которое не в состоянии спасти свой лес! Что вы улыбаетесь? — неожиданно обернулся он к Александру. — У вас положение не лучше. У меня есть переводы некоторых статей из ваших газет. О злоупотреблении ядохимикатами, в результате чего погибают пчелы, опыляющие гречиху, и из ваших магазинов исчезает гречневая крупа. Или о том, как в Сибири опрыскивают леса. В результате исчезают грибы и ягоды, птицы улетают, звери погибают или уходят, и леса обрекаются на безмолвие, медленное умирание. Разве не так? Я покажу вам переводы этих статей. Везде одна беда, одна и та же. И потому мы рады, что вы у нас и с нами…
А потом Александр увидел на обочине дороги указатель «Tübingen 8 km». И сразу забыл обо всех экологических заботах, залитый благодарностью Хорсту: не забыл-таки, поехал через Тюбинген. Нежность к Саскии с новой силой захлестнула Александра, казалось, что вот сейчас, въехав в город, он сразу и увидит ее, и она сядет в машину и поедет с ними в Штутгарт, останется у Крюгеров на все эти пасхальные выходные дни, и они вместе вдоволь находятся по городу, по окраинным горам.
Тюбинген был посолидней Ураха, его дома заполнили не только долину, но и горные склоны. Со стороны казалось, что там и улиц никаких нет, такой плотной была застройка. На горе высились характерные башенки замка, не разрушенного, как над Урахом, а целехонького.
Машина пробежала на удивление пустынной улицей, перемахнула мост и остановилась на набережной.
— Пожалуйста, — Хорст повел рукой вокруг себя, широко улыбаясь. — Что вы здесь хотели увидеть?
Он смутился, не зная, что сказать.
— Тетю Саскию! — неожиданно выкрикнула Анике, и все засмеялись.
Александр перегнулся назад, поймал Анике за руку.
— Ах ты, баловница!
Хорст и Эльза засмеялись еще громче, и он вдруг понял, что выдал себя. Анике выразила свое желание, свое, а не его, Александра. Он покраснел, но тут же нашелся:
— Я тоже хочу повидать тетю Саскию. Давай поищем вместе?
— Поищем, — согласилась Анике и сразу полезла через колени матери к дверце.
Все вместе они вышли на мост, остановились, залюбовавшись водой, синей-синей от синего-синего неба. Вода была быстрой, крутила под сваями. Возле берега радужно поблескивавший селезень гонялся за утками. Посередине реки зеленел остров, поросший еще безлистными высокими деревьями, и кто-то, полураздевшийся, уже загорал на этой зелени. Другой берег был сплошь каменный. Выходящие из синей глубины тяжелые блоки вздымались метров на восемь и здесь превращались в стены домов, обычные стены с окнами и балкончиками, повисшими над водой. Это и был многократно воспетый поэтами знаменитый Неккарский берег. Только теперь, вспомнив этот термин, Александр вспомнил и название реки — Неккар. И то, что здесь гуляли когда-то друзья по студенческому быту Шеллинг, Гегель, Гёльдерлин. И поэт Шиллер, и сказочник Гауф, и романист, лауреат Нобелевской премии Гессе тоже воодушевлялись красотами этого берега.
А теперь берег был почти пустынен. И все окна были закрыты, иные ставнями, и все балконы пусты. Странное безлюдье на улицах, машинам вольготно у тротуаров, магазины закрыты.
— Сегодня выходной, люди уехали за город, кто куда, — сказал Хорст.
Александр похолодел от мысли, что и в университете, наверное, выходной и Саскию не так-то просто будет отыскать, если она вообще в городе.
— В Тюбингене треть жителей — студенты, — продолжал Хорст. — В выходные они хозяева города. Поднимемся в старый город — увидите.
В переулках машин и вовсе не было, и люди шли прямо по дороге, в основном молодые люди того счастливого возраста, когда человек только вырывается из-под надоевшей опеки взрослых, и задыхается от множества возможностей, открывшихся ему, и еще не знает, что на путях реализации любой из этих возможностей будет больше забот, чем радостей. Почти все, даже девушки, в вечных неистираемых джинсах, они шли отрешенными от мира парочками, иногда рядышком, как школьники, чаще полуобнявшись, скользили невидящими взглядами по темным витринам магазинов, по встречным прохожим и отводили глаза, уходя в свои грезы. Там, где переулок раздваивался, образуя небольшую площадь, весь тротуар загораживали столики, выставленные из небольшого кафе. За столиками сидели все те же молодые люди, только они. А на столиках — ничего. Лишь на двух-трех — по бокалу пива, по чашке кофе. Толпа возле кафе переливалась, перемешивалась, одни вставали, другие садились, но пива на столах не прибавлялось.
Пока шли в гору, Александр все оглядывался на этих молодых людей, стараясь понять, что они тут делают, возле кафе, если не дискутируют, не едят, не пьют, не поют. Добро бы, к экзаменам готовились, книжки читали, но и книжек ни у кого не было видно.
За очередным поворотом встала серая монолитная стена. Возле стены на пятачке солнца, пробившегося сюда сквозь частокол островерхих крыш, двое молодых людей играли на гитаре и на аккордеоне. Красиво играли, ритмичная, обволакивающе-ласковая мелодия будто раздвигала тесные стены. Солнца здесь было больше, чем там, внизу, и воздух словно бы пропитывался радостью, снимающей усталость. Никто не бросал музыкантам монет, да возле них и не стояло для этого ни коробки, ни банки, и непонятно было, ради заработка они играют или просто так веселят своих сокурсников.
Чуть дальше, тоже в солнечном квадрате, стоял лоток, заваленный листовками и брошюрами. Стена рядом увешана плакатами. Брошюры и листовки все были об охране окружающей среды. Парень и девушка, торговавшие ими, не торопились рекламировать свой товар, но, когда Хорст взял одну из брошюр, вдруг словно опомнились, наперебой принялись разъяснять, как это опасно, если нынешняя индустриальная экспансия против природы не будет ограничена. Они говорили с неожиданной для немцев страстностью, трясли перед носом улыбающегося Хорста, а заодно и Александра и Эльзы и даже восьмилетней Зильке ворохами листовок, показывали на плакаты, кричащие о плачевном состоянии горных лесов Западной Германии, об отравлении рек промышленными стоками, о загрязнении Мирового океана. На большой цветной картинке, висевшей среди плакатов, был изображен берег какого-то тропического острова, устланный умирающими морскими черепахами.
— Чего о черепахах-то хлопочут? — спросил Александр Хорста, когда они отошли, купив-таки несколько листовок и брошюр.
— Они обо всем хлопочут.
— Тоже «зеленые»?
— Сочувствующие.
Сколько уж он слышал о сочувствующих! И вдруг понял, прямо-таки почувствовал, какое это нешуточное дело — движение «зеленых». Они своими на первый взгляд наивными лозунгами заполняют «экологические» ниши в политике правящих партий, всегда полной недоговоренностей, двусмысленностей. И потому с «зелеными» смыкаются все, кто жаждет ясности и прямоты суждений и деяний. Так, наверное, Лютер пять веков назад разом завоевал сердца миллионов, заявив во всеуслышание то, о чем все шептались, что всем было очевидно, но о чем не принято было говорить. Что римская церковь с ее индульгенциями не может быть посредником между богом и человеком, что спасение души возможно лишь посредством веры, что мирская деятельность человека, его каждодневный труд и есть служение богу. Ничего вроде бы особенного не сказал, а потряс всю средневековую Европу…
Поднявшись выше по переулку, они оказались на широкой, залитой солнцем Ратушной площади, сплошь заполненной студентами. Здесь столики из нескольких кафе были выставлены прямо на дорогу. Возле них плотно сидели юноши и девушки, другие, как и внизу, топтались рядом, не пели песен, не зубрили конспектов, делали непонятно что. И у стен домов было тесно, студенты сидели на подоконниках, на широком бордюре фонтана возле здания ратуши, прямо на подогретой солнцем брусчатке, иные и лежали, то ли спали, то ли просто валялись от безделья. И снова непонятно было, зачем это им так вот ни для чего сбиваться вместе? Просто общение? Это было единственное, чем Александр мог объяснить такое поведение многих сотен людей. Коллективистское существо — человек не может без себе подобных? Что это — биологическая потребность, как, например, у пчел? Может быть, и молчаливое общение что-то дает людям? Ходят же разговоры о существовании единого информационного поля. А может, это какой-то эмоциональный обмен в еще не понятом нами пси-поле? Не понятом разумом, но прекрасно всеми ощущаемом. Ведь только под старость человек начинает нуждаться в одиночестве. Может, как раз потому, что в старости ослабевает способность настраиваться на общее пси-поле? Костенеют же суставы, твердеют сосуды, притупляется эмоциональность. А молодой человек, как чуткий резонатор, не может без источников резонанса…
Размышляя над этой невесть откуда навалившейся на него теорией, Александр шел через площадь, стараясь не отставать от Хорста и Эльзы, крепко державших за руки своих не в меру оживившихся дочек. И вдруг услышал голос:
— …Телесная природа соединяется в женщине с духовной сущностью, которая и является источником ее силы…
Пока шли, много отрывочных фраз слышал он, но эта почему-то заставила остановиться, и он постарался выделить из общего говора этот негромкий голос.
— …Истинные плоды материнской любви нельзя вполне оценить при жизни матери, так как они являют себя и в последующих поколениях…
Голос доносился из толпы человек в двадцать, топтавшейся на широких ступенях храма. И он был явно знакомым, этот голос. Если бы не легкая хрипотца, не проповедническая твердость, то можно бы поклясться, что это голос Саскии.
— …Один из путей борьбы против войны — это воспитание детей в духе миролюбия, сочувствия страдающим, уважения к жизни, ко всему, что уменьшает зло вокруг нас…
Явно Саския. Он еще не видел говорившей, но уже был почти уверен — она.
— …Оружие и войны являются врагами женщин и детей, ибо они враждебны Христову учению о мире и творении…
Александр остановился в недоумении: такая красивая, такая нежная, женственная — и вдруг о Христе!..
Слушатели были невнимательны, переговаривались друг с другом, переходили с места на место. В какой-то момент они расступились, и он наконец увидел — Саския. Ее волосы, ее глаза, которых он не мог забыть… И она тоже увидела его, узнала, ничуть не удивилась, помахала ему рукой так, словно не произносила речь, а болтала с подружками, и продолжала все тем же ровным спокойным голосом:
— Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь — от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает бога. Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь… Люди, как наиболее совершенные из видимой твари, должны любить все живущее. И чем шире и чище будет наша любовь, тем больше наше блаженство… Как ничтожны, как жалки вспышки нашей гневливости, взаимных неудовольствий и похотливости, которые ограничивают наш разум, засоряют сердце и отдаляют от необъятного, прекраснейшего, безбрежного потока любви во вселенной! О, как же велик ты, непостижимый творец и художник мира! Имя твое — Любовь — такое нам близкое, животворящее, блаженное!..
Он слушал, и недоумевал, и радовался за нее, за себя.
Парни и девушки, стоявшие на ступенях, хлопали ей как-то равнодушно, словно она не проповедовала, а пела. А потом вдруг вынырнула из толпы Зильке, кинулась к Саскии, повисла на ней. И Анике подбежала, ревниво затолкала сестру, освобождая себе место.
— Саския! — сказал он, глупо улыбаясь. — Саския, ты ли это?
Она протянула ему руку через головы девчушек. И он взял обеими руками ее ладошку, мягкую, теплую, податливую.
— Приехал-таки?
— Приехал. Крюгеры привезли.
Она вынула ладошку из его рук, легко вынула, словно рыбка ускользнула, и, держа на руках Анике и прижимая к себе Зильке, пошла по ступеням к Хорсту и Эльзе, дожидавшимся внизу. Похоже было, что все ее тут любили, Саскию.
Совсем забыв о нем, Саския вела девчушек за руки и о чем-то непрерывно болтала сразу со всеми — с Эльзой, с Зильке, с Анике. Александр тащился за ними в пяти шагах, не решаясь прервать своим вмешательством эту радостно-торопливую болтовню. Хорст шагал рядом, он тоже помалкивал.
Миновали лоточников с их экологическими брошюрами, музыкантов. И тут до Александра дошло, что ведь они идут назад, возвращаются к машине, что если он так вот и будет молчать, то у машины останется только пожать друг другу руки. И он решительно шагнул вперед, подхватил Анике на руки, чтобы таким образом получить право идти рядом с Саскией. Девочка выгнулась было, стараясь освободиться, но Саския поймала ее ручонку, успокоила. Так она и шла — одна рука вниз, к Зильке, другая вверх, к Анике. Ей улыбались встречные парни и девушки, видно, знавшие ее, и она сдержанно-величаво кивала направо и налево и каждым кивком как-то ловко давала понять непрерывно трещавшим девчонкам, что она их внимательно слушает.
— Ты поедешь с нами? — спросил он, так и не дождавшись, когда девочки замолчат.
— Нет, это ты останешься, — сказала Саския таким спокойным и уверенным тоном, словно наперед все знала.
— Мы можем подождать, — неожиданно предложила Эльза. — Мы часа два еще будем тут гулять. Хватит вам двух часов поговорить?
— Хватит, хватит, — сказала Саския, удивив и обидев его этими словами. — Вы идите, а мы через два часа подойдем к машине.
Она решала за него с уверенностью, словно знала что-то такое, чего не дано знать ему.
Понадобилось не меньше десяти минут, чтобы успокоить девчушек, не желавших отрываться от тети Саскии. Потом она решительно увлекла Александра в ближайший переулок, такой узкий, что двум машинам тут было явно не разъехаться, и через минуту они оказались на той же Ратушной площади, забитой студентами.
— Куда теперь? — спросила Саския.
— Куда хочешь.
— Я хочу в кафе. С утра ничего не ела.
Кафе, выходящее окнами на площадь, было полнешенько. Саскию звали за столики, но она властно поводила перед собой ладошкой, и приглашавшие больше не настаивали. Не выпуская руки Александра, она провела его на второй этаж и здесь, в темном углу, усмотрела совсем крохотный столик на двоих. Села спиной к залу, огляделась.
— Ты очень голоден?
Он замотал головой и тут же вспомнил, что, кроме кофе, куска хлеба да чашки сиропа, с самого утра во рту у него не было ничего. Но, вспомнив, снова отрицательно помотал головой. Голода он и в самом деле не чувствовал.
— Тогда я съем сосиску и сладкое, а тебе только сладкое, хорошо? И по стакану вина. Или пива?
— Все равно.
Официант скользнул все понимающим профессиональным взглядом по его лицу, по ее лицу и, Александру показалось, ухмыльнулся. Он был немолод, официант, почти того же возраста, что и Александр, и по свойственной лишь официантам манере держаться — быстроте и в то же время какой-то обволакивающей плавности движений — было видно, что работает он тут давно. Когда Саския заговорила с ним, как со знакомым, Александр с удовлетворением отметил свою наблюдательность. Но когда она, сделав заказ, одарила его обворожительной улыбкой и он ответил ей такой же, в душе Александра томительно и болезненно шевельнулась ревность.
— Ты часто тут бываешь? — спросил он.
— Да, конечно, часто, — с обезоруживающей простотой ответила она.
— И вы знакомы?
Она засмеялась беззвучно, одними губами и, вдруг положив мягкую ладошку на его руку, сказала успокаивающе, как говорят с детьми:
— Я со всеми знакома.
И словно в подтверждение ее слов, откуда-то вынырнул патлатый парень, кивнув Александру, наклонился к Саскии, зашептал:
— Сегодняшняя твоя проповедь была удивительна.
— Что ты, Рудольф, я только учусь.
— А это кто? Раньше я его здесь не видел, — еще понизив голос, спросил парень, не глядя на Александра.
— Он из России.
— О, у тебя и там поклонники?!
Саския строго посмотрела на него, и парень попятился, деланно кланяясь.
— Ты здесь популярна, — ревниво сказал Александр.
— Быть на людях и для людей — это моя будущая профессия.
— А какая твоя будущая профессия?
— Пастор, — просто ответила она.
— Не понимаю. — Он вдруг вспомнил Белиту, жену пастора Штайнерта. Еще тогда подумал, что в русском языке даже определения такого нет. Попадья? Но это — жена попа. Женщина — поп!.. Удивился, как очередной диковинке, и забыл. Что ему Белита? Но Саския!
Официант ловко, без стука, поставил перед ними вино в красивых золотистых бокалах и две вазы с горой громоздившихся на них сливок, вареньями и еще какими-то сладостями. Порции были слишком велики, и Александр ужаснулся: как съесть столько?! Оставлять на тарелках у немцев не принято. Но только на миг ужаснулся, потому что тут же забыл об этом, занятый захлестнувшим его странным чувством. Было впечатление, будто его обманули, обидели в самом интимном, чего он сам боялся касаться. Пастор! Как же с ней вести себя?
Растерянно и недоуменно пожал плечами:
— Зачем тебе это нужно?
Она пристально, с каким-то новым интересом, словно впервые увидела, посмотрела на него и не ответила.
— Что тебя потянуло?.. Такая красивая…
— Кто-то должен брать на себя грехи других, — сказала она тихо, проникновенно, словно разговаривала с ребенком.
— Брать на себя? Это еще зачем?
— Во имя спасения.
Она говорила серьезно, и никак не верилось, что странные слова эти произносят ее чувственные губы.
— Ты спасать кого-то собралась?
— Людей.
— Людей, — повторил задумчиво. — Всех не спасешь.
— Кого смогу.
— Начинай с меня.
Снова с пристальной заинтересованностью она посмотрела на него. И сказала непонятное:
— Поразительно, как ты похож.
— На кого?
— На самого себя.
— А все-таки?
— Это пока тайна.
Она отвернулась и принялась рассматривать людей в кафе. Здесь в основном была молодежь. Парни и девушки чинно сидели за столиками, не спорили, не горячились, устало перекидывались несколькими словами и замолкали надолго. Но видно было, что все они тут как дома и пришли сюда скорее по привычке, чем из желания поесть и попить. Подобное Александр замечал и в других здешних кафе и всегда удивлялся: как хозяин сводит концы с концами? Ведь доход его, по-видимому, зависит от оборачиваемости так называемых посадочных мест. А здесь можно часами занимать место и взять за это время всего стакан пива или одну-единственную чашку кофе. И никто тебе не намекает, что ты только зря занимаешь место…
— Иисус Христос смертью своей показал нам пример того, как страдать за других, — заговорила Саския, явно давая понять, что о тайнах сейчас говорить не намерена. — Иисус показал, что даже мученичество не должно отвращать нас от стремления брать на себя грехи других.
— Пусть каждый сам отвечает за свои грехи, — сказал Александр.
— Ты считаешь, что нужно принуждать людей страдать за свои грехи?
— Хотя бы и так.
— Но люди чаще всего не признаются в своих грехах. Уже это признак того, что они хотят избавиться от греха и не могут. Надо помогать людям в стремлении к добру, а не толкать их еще глубже во грех.
— Молодая, красивая, а записалась в монахини.
— Я не записалась в монахини, — все так же ровно ответила она. Казалось, вывести ее из себя не было никакой возможности.
— Все равно, поповщина — не женское дело.
— Мужское? — заинтересованно спросила она. — Что же ты, мужчина, в стороне от этого дела?
— Что я — ненормальный?! — Он всерьез начинал злиться. — У меня нет никакого желания уходить от жизни во имя пустых молитв.
— Я прощаю тебе эти слова только потому, что ты не понимаешь, что говоришь, — тихо сказала Саския и отвернулась.
— Чего я не понимаю? Просвети.
— Мир во власти сатаны. Люди растерянны, люди забывают свое божественное начало и предначертание. Разве мы не должны помогать больному поверить в выздоровление?
— Самообман? — спросил он.
— А ты разве совсем потерял веру в человека? Разве всеобщая гибель для тебя единственная альтернатива?
— Ни в коем случае.
— Тогда ты должен быть миротворцем.
— Но при чем тут религия?
— Истинно верующие, может быть, единственные в нашем мире, кто до конца верит, что божественное сильнее сатанинского.
— Все это слова.
— И дела тоже. Истинно верующие готовы свою жизнь положить на дорогах, по которым в нашу страну везут американские «першинги». В пасхальный понедельник ты это можешь увидеть. Но ты ведь не верующий, ты, говорят, боишься идти к Мутлангену.
Вон как повернула. Это уже запрещенный прием. Или они тут совсем не понимают его особого положения путешествующего иностранца? Или не хотят понимать?
— Это — другое дело.
Она покачала головой.
— Это только тебе кажется, что другое дело. Ты ведь больше думаешь о себе, чем о благополучии мира.
— При чем тут мир! — возмутился Александр и закашлялся. Обильное сладкое, хоть убей, не лезло в него.
— Я же говорю: потребность миротворчества еще не вошла в тебя. Мир сам по себе, ты — сам по себе. Именно это и угодно сатане, чтобы каждый человек был, как потерянная овца в степи, одинок и робок…
Нет, он определенно не был готов к такой дискуссии.
Давясь, Александр доел свою гору сладкого и заоглядывался тоскливо: уйти бы отсюда. Саския поняла, воткнула ложечку в недоеденное и встала.
— Пойдем, я тебе город покажу.
Солнце переместило тени на площади, но толпы студентов, казалось, не стронулись с места. Все так же пел аккордеон за углом, печально пел, ритмично-радостно.
Они пошли по крутому переулку, уводящему все выше, а красивая мелодия все догоняла их, заставляла прислушиваться и молчать.
— Музыка, — наконец выговорила Саския, — это дар, данный нам богом для того, чтобы все голоса на земле, смешав свои наречия, возносили соединенным, гармоничным гимном свои молитвы к нему.
— «Из наслаждений жизни одной любви музы́ка уступает», — игриво продекламировал Александр.
— О-о! — Саския удивленно вскинула на него глаза, и он только теперь заметил, что глаза у нее зеленые, как у кошки. Хотел сказать, что она счастливая, поскольку зеленые глаза — признак богатого воображения, решительности, терпеливости и сострадания. Да подумал, что это только оправдает ее пасторский выбор, и промолчал.
— Это не мои слова. Так писал Пушкин.
— О, Пушкин! Человек, отмеченный печатью бога.
Тоска холодной рукой сжала ему сердце. До сих пор эти понятия — Саския и пастор — как-то не связывались в нем. А тут он вдруг осознал, почувствовал всю безвозвратность случившегося и ужаснулся. Что ни слово у нее, то бог, и нет ее самой, Саскии, и никогда, никогда не будет.
Крутой подъем заставлял говорить прерывисто, часто останавливаться и переводить дыхание. Впереди открывался замок, громоздивший массивные стены на вершине этой сплошь застроенной горы. К замку вела брусчатая мостовая, такая истертая и старая на вид, словно ее не ремонтировали со средних веков.
— Почему только молитвы? — сказал Александр, воспользовавшись паузой. — Если мы так ничтожны перед богом, то зачем ему наши вопли?
— Молитвы обращены к богу, а нужны людям. Чтобы не забывали о своем божественном предначертании.
— О человеческом.
— Нет, о божественном.
— Мне порой кажется, что споры у нас скорее терминологические.
Она заинтересованно обернулась к нему, и снова он близко увидел ее глаза, зеленые, с солнечными искорками.
— Не понимаю.
— Ты все говоришь о божественном предназначении человека, но если это так, если человек создан богом по образу и подобию своему, то он богоподобен.
Саския снова глянула ему прямо в глаза.
— Но человек, такой, как есть, греховен.
— Я говорю не о конкретном человеке, а об идеальном.
— Но таких не существует, к сожалению.
— Мы хотим, чтобы они были. Значит, можно выразиться так: музыка — это дар, данный нам, чтобы в ее гармоничности люди разных наречий могли найти общий язык…
— Нет! — перебила она с каким-то странным нетерпением и остановилась. — Нет, нет и нет! — Саския выкрикивала свои «найн, найн, найн!», дергая головой, словно раздавала пощечины. — Ты зовешь к самоправедности.
— Что в этом плохого?
— Путь к самоправедности может привести только к разочарованию, к окончательной потере веры в возможность нравственного совершенствования, и в результате — или гордое отчаяние, или возвращение к служению страстям!
— Это уже, милая моя, казуистика.
— Праведный верою жив будет, сказал пророк, верою!..
Он снова потерял нить разговора, запутавшись в ее умствованиях, и не знал, что еще сказать, чтобы не выглядеть дураком. Но тут, к счастью, они вышли к небольшому скверику, разбитому возле ворот замка, на которых висела табличка, сообщавшая, что вход в замок закрыт по случаю ремонта.
Из скверика открывался весь Тюбинген: пестро-красные ковры черепичных крыш, сочная зелень вдоль голубой ленты реки, золотые искры солнца, отраженного окнами. Дома лепились на крутых склонах, как ласточкины гнезда. С другой стороны сквера, служащего, как видно, смотровой площадкой, за каменным барьером, увитым колючим кустарником, была почти стометровая пропасть, там, на дне, тоже стояли дома, в один, два, три этажа, по узким переулкам ходили люди. И странно было смотреть на все это сверху. Словно ты Хромой бес из знаменитого романа Алена Лесажа и можешь, оставаясь незамеченным, наблюдать скрытую от чужих глаз жизнь людей. И тут же вспомнилось Александру давным-давно, еще с институтских времен, позабытое определение, будто Лесаж своим романом подчеркивает, что в основе большинства человеческих поступков лежит корысть.
«И у тебя корысть, — сказал он сам себе. — Все умствования Саскии ты отдал бы за возможность обнять ее. Хотя бы вон там, на скамейке». Его ничуть не смутила эта мысль, и он взял Саскию за руку, чтобы повести к скамье. Но тут откуда-то вынырнула сухощавая старушка (как только она взобралась на верхотуру!) и уселась на скамью с таким видом, словно скамья была ее собственностью.
— …Свиток времени разворачивается перед каждым, — пиши, — услышал он слова Саскии. Она говорила уже несколько секунд, но он взволнованно думал о своем, и смысл ее слов не доходил до него. — Каждому назначено свершить нечто.
— Кем назначено? — спросил Александр и сам удивился своему вопросу: ясно кем, Саския не может не говорить о боге.
— Каждый понимает по своему разумению. Иные говорят — природой, иные — инопланетянами, мечта о спасительной миссии которых все более захватывает запутавшуюся в безбожии интеллигенцию. А я говорю — богом, определяющим законы гармоничного развития всего сущего. Что назначено? Это определяет каждый для себя. Некоторым как дар судьбы бог посылает учителя, и тогда время определения своего назначения на земле сокращается многократно. Но тогда повышается и ответственность. Если ты, узнав свое назначение, свой талант, не развил его, не создал с его помощью нечто высшее, не сотворил ничего, обогащающего общую копилку мировой гармонии, то нет тебе прощения ни на этом свете, ни где бы то ни было. Птица, ощутившая крылья, должна взлететь, иначе она погибнет. Человек, осознавший свой талант, проникнувшийся им, обязан использовать эту божественную благодать для блага мира. Обязан!.. Это не в тягость, а в радость!..
Александр перевел дыхание, будто сам произносил долгий монолог. Слова Саскии заинтересовывали, заставляли прислушиваться и волноваться.
— …У меня под окном растет тополь. Пылит, сеет семена по свету в расчете, что хоть одно сумеет укорениться, вырасти, обогатить мир радостью зелени, жизни, возможностью снова и снова засевать землю семенами. Борьба за существование? А может, всеобщий закон жизни как высшего проявления бытия? Человечество тоже сеет и сеет сынов своих по лону Земли, а теперь и космоса. Каждый наделен способностью прорасти, проявить себя, сотворить нечто благое, может быть, открыть новые пути для новых форм бытия, имя которым в их совокупности — божественная гармония. Каждый! Почти без исключения!..
— Ты удивительна! — сказал Александр и взял ее за руку. — Но почему «божественная»? Просто «гармония» — и я с тобой.
— Все мы — дети бога, призванные нести по миру плоды божественной благодати, — сказала она, решительно высвобождая руку. — Измена своему назначению — все равно что измена отцу своему, народу своему, родине своей. Это сатанизм, это гибель еще при жизни, а уж в посмертии тем более…
Она говорила быстро, торопясь и словно бы забывая, что он тут, рядом, слушает. Похоже, ее мало волновало, понимает ли он ее сбивчивую речь, привыкшая к проповедничеству экспромтом, она спешила высказать свою новую мысль, спешила и сама сбивалась…
Он снова схватил ее за руку, грубо сжал. Чувствовал, что лицо его искажается злой гримасой, но не мог справиться со своим лицом.
Саския замолчала, с удивлением и беспокойством посмотрела на него.
— Ты меня ненавидишь?
— Это не ненависть, — сказал он глухо, почти не разжимая губ. — Это хуже.
— Что может быть хуже ненависти?
— Влюбился, черт меня дери!
Она засмеялась тихо и счастливо. Старушка, сидевшая на скамье, обернулась, улыбнулась понимающе.
— Я знала, что ты влюбишься.
— Почему знала? Во мне что-то сексуально озабоченное?
— Совсем нет. Но ты… это ты… И вот немецкий выучил…
— При чем тут немецкий?
— При том… Еще там, в Москве, как увидела тебя, сразу поняла: и ты влюбишься.
— Не слишком ли самоуверенна?
— Я просто верю в наследственность.
— При чем тут наследственность?! — Его раздражала эта манера говорить загадками.
— Я знаю. — Саския была спокойна, даже насмешлива чуточку, как женщина, совершенно уверенная в своей правоте.
— Ну так скажи, если знаешь.
— Не могу.
— Ну и не говори!
В нем бродила злость, вспухала, как опара, подпирала под горло слезной спазмой. В этот миг ему хотелось ударить Саскию или, может быть, схватить грубо и сжать так, чтобы сползла эта ее обезоруживающая улыбка, заменилась гримасой страдания и мольбы. Или, может, взять да поцеловать, даже укусить… Он сам не знал, чего хотел. Бушевало в нем неведомое, лишало рассудка, обезволивало.
— Боже мой, как ты похож, — сказала Саския с непонятной грустью в голосе.
— На кого?
— На одного человека.
И вдруг в один миг все прояснилось в нем. Так внезапный луч света выхватывает из тьмы, в которой только что вроде бы ничего не было, предметы, лица, даже чувства людей, выраженные в жестах.
— Ты его любишь?!
Она кивнула и улыбнулась так, как ни разу не улыбалась ему, задумчиво, загадочно, печально.
— Все ясно!..
Вот, значит, почему они с Луизой углядели его тогда в Москве, в ресторане. Вот почему так настойчиво приглашали приехать. Несомненно, это было желание Саскии, которой не терпелось еще раз потешить себя. Непонятно только, почему она не приехала в Штутгарт сразу же, как узнала, что он тут. Впрочем, чего ж непонятного? Прошло время, поостыл женский каприз.
— Не сердись на меня, — сказала Саския.
— Я не сержусь. — В нем и в самом деле не было панического состояния, знакомого по тем временам, когда он приходил на свидание к своей Татьяне, а она опаздывала. — Чего ж ты мне голову морочила своими божественными откровениями?
— Твоя судьба мне небезразлична.
— Вот как? Почему же?
— Когда-нибудь ты это узнаешь.
— Не узнаю, если не скажешь. Скоро мне уезжать.
Как-то сразу перегорело в нем все — и недавнее влечение к Саскии, и желание непременно сейчас же узнать все тайны. Было даже неловко, что он вел себя, как мальчишка.
— Пора, пожалуй, Крюгеры заждались, — сказал он, посмотрев на часы.
И они пошли рядышком вниз по брусчатке. Вот когда был повод взять Саскию за руку, по-джентльменски поддержать на крутом спуске. Но он этого не делал. Шел и удивлялся самому себе, своему внезапно схлынувшему пылу.
«Глупец ты! — ругал он себя. — И бабник в придачу. Правильно жена говорит: больно много по сторонам глазами стреляешь…»
Обида, вскинувшаяся было в нем, быстро преображалась в ноющую тоску по Нельке, по Татьяне. И больше всего ему хотелось сейчас поскорей добраться до своей комнаты в доме Крюгеров и разбирать сваленные в угол пластмассовые пакеты с подарками, укладывать их в чемодан, вещь к вещи, чтобы не побились, не помялись в дороге…
XIII
В лесопарке было свежо и тихо. Солнце не пробивалось сквозь плотную завесу стволов и веток, лес заливало рассеянным светом, как от множества скрытых светильников, и это создавало впечатление чистоты, почти стерильности. Идти по этой прохладе, по этому светлому лесу было одно удовольствие, и Александр радовался, что не поехал в трамвае, а решился пройтись пешком. Местами меж стволов открывался город, и тогда Александр останавливался, всматривался в улицы, ища глазами главный ориентир — Замковую площадь, куда и собирался в конце концов выйти. Заблудиться тут было невозможно, — справа пологий подъем, слева — крутой уклон, иди ни вверх, ни вниз и как раз выйдешь к дороге, выводящей к центру города.
Однако не прошел он и километра, как догнали его думы о вчерашней встрече с Саскией. В городе отвлекся бы от них на первом же перекрестке, но здесь, на пустынной дорожке, он был как в ловушке. А думать об этом не хотелось, и вспоминать ничего не хотелось, поскольку выглядел он в своих воспоминаниях дурак дураком и стыдно ему было за свое поведение. Как ни старался убеждать себя, что всего лишь глупо увлекся, с кем не бывает, как ни хихикал над собой, боль не проходила. Будто раскаленный гвоздь застрял где-то между левой лопаткой и шеей (что там за орган такой, на этом месте?!). Была бы возможность, уехал бы из Штутгарта хоть сегодня. Но не мог он уехать сегодня, поскольку билет на московский поезд, проходящий через Германию, был заказан на среду. Оставались сегодняшняя суббота, завтрашнее воскресенье, послезавтрашний понедельник да еще добрая половина вторника. Приходилось терпеть.
Он прибавил шагу и тут увидел сидящего впереди на скамье человека. Человек читал газету, почти закрывшись ею, положив ногу на ногу. Серые брюки были отглажены до ножевой остроты, покачивавшаяся черно-лаковая туфля поблескивала зеркально, и это напоминало Александру занудливого музыканта Каппеса.
— Доброе утро! — сказал человек, сминая газету как гармошку. Александр остановился от неожиданности, увидев именно Каппеса, собственной персоной. На нем была спортивная куртка, но то ли она не грела, то ли Каппес давно сидел тут, только губы его совсем побелели от холода.
— Неожиданная встреча! — растерянно сказал Александр.
— Нет, почему же, я вас ждал.
— Ждали?!
— Вот именно. Позвонил Крюгерам, мне сказали, что вы отправились пешком через парк. А дорога тут одна.
— Я вам зачем-то нужен?
— Ох уж эти русские, — засмеялся Каппес. Он встал, бросил газету в урну. — Сразу быка за рога. Нет бы сначала поговорить о погоде. Такое чудное утро.
— Сегодня суббота, — сказал Александр.
— Ну и что же?
— По субботам магазины у вас работают до двух часов. А завтра выходной, послезавтра опять выходной — пасхальный понедельник. А во вторник я уезжаю.
— Ну и что же? — снова спросил Каппес.
— У меня осталось немного марок, надо их истратить, сувениры купить, всякое такое.
— Что вы хотите купить? — И спохватился: — Что же мы стоим, давайте сядем. — И сел первым, показал Александру место рядом с собой. — Что вас интересует в наших магазинах?
— Странный вопрос. Меня многое интересует, но, увы, денег — кот наплакал.
— Я мог бы вам ссудить.
— Как это?
— Очень просто. Я в Москве часто бываю, отдадите.
— Но ведь в Москве мне зарплату платят рублями, а не марками.
— Рублями и отдадите.
«Спекульнуть, что ли, хочет?» — подумал Александр и не удержался, спросил:
— По какому курсу?
— По обыкновенному. Он у вас в газетах печатается.
— А зачем вам это?
— Мне? — удивился Каппес — Это же вам нужны деньги. А мне все равно, где менять марки на рубли.
— Банку не все равно.
— Боитесь?
— Не люблю брать в долг, извините.
Он встал, намереваясь уйти. Не нравился ему этот человек, и разговор тоже не нравился. Лишняя сотня марок, конечно, не помешала бы, но если о каждом своем шаге в этом путешествии он мог рассказывать кому угодно, то о долге пришлось бы молчать. Даже жене не скажешь об этом, а уж Нельке тем более. «О каждом ли? — Словно чертик выскочил, задал этот ехидный вопросик. — Разве о Саскии расскажешь?»
Он покосился на музыканта, тот понимающе, с легкой усмешкой смотрел из-под бровей и молчал.
— Садитесь, садитесь, — сказал, отодвигаясь на скамье. — У меня тут машина недалеко, я вас довезу. Успеете в магазины.
Александр сел, проклиная свою деликатность. Надо было просто взять и уйти, как ушел тогда вечером.
— Вы, наверное, думаете: чего это я к вам пристал? Просто я люблю русских и не хочу, чтобы у вас осталось о нас, о нашей стране неправильное впечатление.
— Спасибо на добром слове.
— Да чего там! — простецки отмахнулся Каппес. — Я ведь знаю вас, советских. Вам все кажется подозрительным.
— Ученые, вот и кажется.
— Обжегся на молоке — на воду дуешь? — усмехнулся Каппес.
— Не совсем так.
— Да уж так. А давайте без предвзятостей. Хотите, чтобы мы вас поняли, попытайтесь понять нас. Мы ведь просто хотим жить по-своему, вот и все. Возможно, вы не знаете, но у нас, в ФРГ, разработана совершенно своя экономическая система — социальное рыночное хозяйство. Она, конечно, отличается от планового хозяйства вашей страны, ей противоречат и американские монополии. Это явление уникальное в истории народов, своего рода революционно-прогрессивное, позволившее преодолеть противоречие между трудом и капиталом.
— Слышал, — сказал Александр, недоумевая, зачем Каппес говорит все это. — Если не ошибаюсь, этой иллюзией тешат себя рядовые члены правящей ныне партии ХДС?
— Это не иллюзия, а факт.
— А я читал, что в ФРГ три четверти всех средств производства принадлежат узкому клану семей, составляющему меньше двух процентов населения.
— Теперь представьте себе наше положение между двумя гигантами — СССР и США, — продолжал Каппес, не обратив внимания на его слова. — Мы многого достигли, и мы не хотим потерять достигнутое…
— Давайте прекратим этот разговор, — решительно перебил его Александр. — Я не министр, чтобы решать такие вопросы.
— Я тоже не министр, но вынужден так говорить. Мы знаем друг друга по газетам, а газеты пишут только о большой политике.
— Давайте уж лучше о погоде. И пора бы идти, холодновато.
— Чудесная погода! — воскликнул Каппес, не двигаясь с места. Он даже поерзал на скамье и откинулся на спинку, давая понять, что намерен сидеть тут и дальше.
Вдали послышались крики, такие неожиданные в умиротворенной тишине леса. Крики приближались, и скоро на дорожке показался бегущий человек в черной нейлоновой куртке. За ним гнались трое парней, одетых в точно такие же черные куртки. Парни кричали непонятное, размахивали руками, и в руках у них взблескивало что-то острое, гибкое.
Беглеца догнали, сбили с ног. Александр вскочил, сам еще не зная, что делать. Каппес, спокойно сидевший на своем месте, потянул его за рукав.
— Сядьте, это не наше дело.
— Но ведь трое против одного!
— Не наше дело, — повторил он. — Это турки, со своим счеты сводят.
— Ну и что, что турки!
Все в нем дрожало внутри, он видел, как лежащего хлестали велосипедными цепями, как после каждого удара расползалась черная ткань, обнажая красную подкладку.
— Прекратите! — крикнул он, боясь сорваться с места.
Секундного замешательства хватило, чтобы парень вырвался и кинулся вниз по склону. Черно-красные пятна мелькнули раз-другой меж серых стволов и исчезли в кустах. Послышался шум под обрывом, и все стихло.
Парни не побежали в кусты, постояли, понаклонялись, подбирая что-то с земли. Потом один из них пошел к скамье, покачивая намотанной на руку велосипедной цепью. Остановился в пяти шагах, угрюмо из-под черных бровей рассматривая Александра и Каппеса.
— Пошел вон! — сказал Каппес.
Парень еще постоял, повернулся и пошагал обратно. Кивнул своим, и они, не оглядываясь, направились в ту сторону, откуда прибежали.
Несколько минут сидели молча. Александр думал о том, что избежал, может быть, весьма большой неприятности. Вмешаться в драку значило попасть в полицию, а там и в газеты. Расписали бы так, что и не поймешь, кто прав, кто виноват…
— Пойдемте-ка отсюда. — Только теперь Каппес вроде бы взволновался, встал, потянулся, вздрогнув от озноба, и пошел по чистой, выметенной с немецкой аккуратностью дорожке вверх, откуда время от времени доносился отдаленный шум пробегающих мимо автомашин. Спросил, не останавливаясь и не оборачиваясь: — Вам не страшно?
— За кого?
— За себя.
— За вас страшно. Что у вас творится?!
— Это же просто хулиганы. Они и у вас есть.
— Таких нет.
— Прохожих не избивают? Убивают даже, я читал в ваших газетах.
— У нас это мелкая шушера, презренные подонки.
— Я знаю, ваши помешались на реваншизме, который будто бы у нас поднимает голову. А ведь это миф, который вы сами и выдумали. Вы поездили по нашей стране, а скажите, видели где-нибудь фашистские знаки?
— Не видел, — признался Александр, только теперь с удивлением вспомнив, что и в самом деле на глаза ему ни разу не попадалось ничего такого. Ну да ведь меняются времена — меняется и символика.
— Сам федеральный канцлер Коль сказал недавно: «Я не вижу нигде в нашей стране признаков реваншизма».
— А карта? — нашелся Александр.
— Какая карта?
— Ваше же правительство Коля недавно приняло решение издать карту Германии в границах тридцать седьмого года.
— Это история.
— Но по ней школьников собираются учить географии.
— Все это пустяки, дорогой мой, пустяки и мелочи. — Он вдруг обнял Александра за плечи и остановил возле серебристого «мерседеса». — Вот моя колымага. Так, кажется, по-русски?
— Богато живете.
— У нас все богато живут. Заработки наших рабочих и служащих — одни из самых высоких в мире, так что машина ни для кого не проблема… Куда вас отвезти?
— Куда-нибудь в центр.
Он довез его до вокзала, откуда начиналась улица магазинов — Кёнигштрассе. Остановил машину, ухмыльнулся, повернувшись к Александру.
— Значит, боитесь?
— Чего?
— Бизнеса. Сейчас пойдете по магазинам, пожалеете. Наверняка захочется купить что-нибудь такое, на что не хватит денег.
— Ни к чему это. Думай потом.
— О чем думать? Вы ведь, когда ехали сюда, меняли в банке деньги?
— Сколько полагалось.
— Считайте, что обменяли еще. Берите марки, а в Москве отдадите рубли. Мне или кому-нибудь из моих знакомых, кто будет у вас раньше меня.
— Спасибо, что довезли.
Каппес протянул ему визитную карточку.
— Если будут какие затруднения, звоните, выручу.
— Благодарю.
Александр захлопнул дверцу и поспешил уйти. Перейдя подземным туннелем, оглянулся: серебристый «мерседес» стоял на том же месте. Он машинально помахал рукой и нырнул в широкий распахнутый зев ближайшего магазина.
Окунувшись в яркий, пестрый, шумный, ароматный мир универмага, он сразу забыл о Каппесе. Ему вообще нравилось ходить по здешним магазинам, оборудованным с истинно немецкой любовью к манерности и пышности. Магазины казались ему музеями. Жизнь и богатых, и среднего достатка, и бедных немцев была представлена здесь вещами, какие окружают их повседневно. Пышные дамские манто баснословной стоимости и дешевые нейлоновые куртки на распродаже, ковры и циновки, мебель, словно бы вывезенная из старинных дворцов, и завалы хозяйственной утвари повседневного употребления, телевизоры с видеоприставками и крохотные электронные микрокалькуляторы для домашних хозяек, хрусталь, фарфор, бронза, металл, дерево, пластмасса самых невероятных расцветок — все материалы, какими успела овладеть цивилизация, были представлены в этих магазинах. Во всех, от крохотных лавчонок, заполонивших первые этажи домов, до роскошных, в несколько этажей гешефтов вроде этого. Народу много, но толкучки нет, все товары доступны, и любую вещь можно брать в руки. Единственное, что мешало Александру, это излишнее, по его мнению, внимание продавцов: то и дело подбегали, спрашивали, что ему нужно. «Я хочу только посмотреть», — как в Ольденбурге, отговаривался он и, не вступая в дальнейшие переговоры, проходил мимо. Продавцы недовольно смотрели вслед, и Александру казалось, что они угадывают в нем не немца. Немцы «только посмотреть» не ходят, впустую тратят время лишь ненормальные иностранцы…
Он купил несколько ярких дешевых зажигалок для приятелей, выбрал наконец курточку для Нельки, ухнув на нее главный запас имевшихся у него марок. Увидел золотистые металлические пояски в виде змеек, долго ходил вокруг, мучаясь — купить не купить. Знал: Нелька спит и видит такой поясок. Но знал также, что если возьмет, то останется у него совсем мелочь. Правда, ему и не нужны деньги: билет до Ганновера в кармане, а там будет уже свой московский поезд, в котором принимаются родные рубли. В бумажнике лежали разрешенные для провоза через границу три червонца, до Москвы хватит.
Он все-таки купил этот поясок и, улыбаясь, представляя, как обрадуется Нелька, как взвизгнет и кинется ему на шею, пошел к выходу. Чтобы больше ни на что не смотреть, не расстраиваться. Вспомнил Каппеса, но отмахнулся от мыслей о нем, как от назойливой мухи: все не купишь, и с тысячами марок будешь ходить тут и страдать. Мало денег — выбираешь, что подешевле, много — что получше. Та же маета, только рангом повыше.
Теперь и по улице идти было легче: на витрины не заглядывался, смотрел по сторонам. Вот люди копаются в ящиках, выставленных возле магазинов, выдергивают из кучи связанные попарно туфли. Степенных немцев возле этих ящиков не видать, все больше люди восточного облика, должно быть, иностранные рабочие. Вот музыкант потешает публику игрой сразу на нескольких инструментах, руками тренькает на гитаре, губами выводит не слишком благозвучную мелодию на трубе, ногами жмет на педаль, соединенную с колотушкой, бьющей в барабан, локтями умудряется толкать какое-то приспособление, и тогда раздается металлический звон тарелок, прикрепленных — для смеху, что ли? — к тощему заду. Все это удерживается на громоздкой раме, и человек, вписанный в эту конструкцию, сам напоминает механическое устройство. Вот художник ползает на коленях по асфальту, рисует цветными мелками большой портрет Леонардовой Джоконды и то и дело поглядывает на жестянку для монет, возле которой крупно написано «Danke!» — «Спасибо!». Вот молодой парень изображает живую форсунку, дует на огонь керосином, и пламя факелом всплескивается над толпой. Его приятель бьет бутылки на положенной на асфальт дерюжке, а потом ложится на осколки голой спиной и делает вид, что отдыхает. Вот маленькая малайка прямо посередине улицы исполняет какой-то ритуальный танец с долгими статичными позами. Ставит ногу на пятку, медленно шевелит ступней, делает быстрый поворот, снова застывает в красивом изгибе, плавно поднимает руку, потом другую, разворачивает ладони… На ее лице маска полнейшего бесстрастия, это резко контрастирует с уличной сутолокой, заставляет прохожих долго остолбенело смотреть и смотреть, удивляясь такой необычной невозмутимости. Возле жестянки с неизменным «Danke!» надпись: «Покой — основа мира». Вот певцы — мужчина, невероятно толстый, видимо, больной, рядом худенькая женщина с ребенком на руках, качающая коляску с ребенком. Между ними еще двое детей — мальчик и девочка. Все вместе поют дурными голосами, вызывая скорее недоумение, чем интерес. Но монеты им бросают часто, жалеют. И лохматому немытому бородачу, то ли наркоману, то ли алкоголику, сидящему на асфальте под шикарной витриной, подают часто. Он неумело, всей пятерней, бьет по струнам гитары, скабрезно ухмыляется и хриплым пропитым голосом поет неприличные куплеты. Его обступили толпой, дружно хохочут после каждого выкрика и бросают, бросают монеты…
Каждый тут, на Кёнигштрассе, зарабатывает как может, ничто не предосудительно.
А вот нищей, похожей на цыганку, ничего не подают. Она сидит с ребенком на руках возле стены, и ее обходят. Не помогают ни жалостливый вид, ни подобострастное «Данке», написанное на картонке. Просто несчастных, неспособных на инициативу, здесь не любят, шарахаются от них, как от заразных. Даже если тебе очень плохо, улыбайся, смотри на жизнь насмешливо, как тот похабник-алкоголик, или смеши почтенную публику, как тот человек-оркестр, или просто пой, даже если нет голоса. Хочешь получать, должен что-то давать, думать должен, суетиться, стараться. Ни за что денег не платят. Простое сострадание тут не в моде. Таков суровый закон. Но, может, и разумный? Человек отвращается от нахлебничества, подталкивается к деятельности?..
Так думал Александр, рассматривающий эту непривычную для него жизнь чужой улицы. И соглашался с ее законами, и протестовал. Сострадание — это же важнейшая добродетель. Не будь ее, что станет с людьми, с общиной человеческой?..
А потом он увидел группу юнцов, живо напомнивших ему фашиствующих турок из парка. Их было человек десять, парней и девушек не старше восемнадцати лет. Все одеты в черные смокинги, но с брюками, вызывающе обрезанными выше щиколоток. У всех — галстуки-бабочки и блестящие цепочки на шее, крупные, похожие на цепочки от унитаза. И у всех столь же вызывающие прически: одни обриты наголо, у других короткие волосы, смазанные чем-то, стоят дыбом. У девушек прически таковы, что в сравнении с ними наши знаменитые, именуемые не иначе как «я у мамы дурочка», показались бы вполне пристойными. Как они это делают, трудно и понять, — склеивают, что ли? — только волосы торчат вертикально и образуют что-то вроде петушиного гребня. Эта экзотическая группка молча прошествовала по улице, и люди расступались перед ней, не выказывая удивления, — то ли привыкли к подобным «потрясателям общественного мнения», то ли побаивались их.
Александр пошел следом, ожидая, что они вот-вот вытворят что-то столь же неожиданное, как их вид. Но поведением своим эти парни и девушки не отличались от всех остальных прохожих, и это было непонятно: если уж вырядились, то зачем-то?
Они свернули с Кёнигштрассе налево в переулок, остановились возле витрины какого-то магазина, пообсуждали что-то и пошли дальше, туда, где в конце мельтешилась толпа. Александр тоже остановился возле этой витрины и застыл, завороженный: за стеклом лежали и висели на проволочках настоящие пистолеты и револьверы самых разных систем. Он не удержался, заглянул в настежь раскрытую дверь; маленькая лавчонка была сплошь увешана оружием, чистым, блестящим, смазанным. На прилавке под стеклом лежали всевозможные ножи, пчелиными сотами блестели в коробочках патроны. В лавке топтались два покупателя средних лет, и молодой, совсем молодой сухощавый продавец скучал за прилавком. Никто ни с кем не разговаривал, словно это был всего лишь выставочный зал, где каждый воспринимает экспонаты как хочет и может. На Александра тоже не обратили внимания, и он вошел, принялся рассматривать витрины с оружием. Оружие было его страстью все время, как он себя помнит. Они, мальчишки военного поколения, играли только в войну, мастерили мечи да автоматы, мечтали «заделаться» не иначе как разведчиками и очень сожалели, что война кончилась раньше, чем они успели вырасти. Военные и послевоенные тяготы, голод и слезы, даже слезы матери, убивавшейся над похоронкой всю войну и долго еще после войны не верившей в свое вдовство и часто плакавшей по ночам, — все это не задевало детской души. По малолетству он не мог помнить самой войны, но, как и все вокруг, долго жил военными страстями, переживаниями, бесчисленными рассказами, книгами, кинофильмами, и ему казалось, что вся война прошла перед его глазами, трагичная, но и романтичная, тяжелая, но и победоносная. Многое миновало и изменилось, но детское неравнодушие к оружию все было при нем. Да еще немецкий язык, который давался ему легко и в школе, и потом в институте и который выучился как бы сам собой, без особых усилий с его стороны. «Весь в отца», — говорила мать, когда об этом заходила речь, и он радовался, что в нем есть что-то отцовское…
От оружия трудно было оторвать глаз: револьверы с тяжелыми барабанами, не определишь, какого и калибра, пистолеты, каких Александр никогда и не видел, крохотные браунинги, черные, зовуще поблескивавшие безукоризненным воронением и никелированные, какие-то несерьезные на вид, словно игрушечные. В рукоятки некоторых были даже вставлены блестящие камни. Бриллианты? Но зачем они на пистолетах? Впрочем, украшались же драгоценными каменьями эфесы шпаг и сабель…
В душном полусумраке магазинчика вдруг ясно послышалось ему хриплое «Хайль!». Оглянулся. Сухощавый, с каким-то шишковатым лицом продавец все так же безучастно смотрел мимо покупателей. В самом конце магазина темнел прямоугольник раскрытой двери. Возглас мог доноситься только оттуда. Александр шагнул к самому краю стенда с оружием, заглянул в дверь и первое, что увидел, — медузообразное пятно Германии, какой она была до войны. Карта висела рядом с телевизором, на экране которого стоял кто-то с вскинутой в фашистском приветствии рукой. Но это было не кино и не хроника прошлого, человек на экране выглядел явно по-современному. Замелькали другие лица, столы, — передавали какое-то заседание, — затем телевизор зашелестел совсем тихо, и стали слышны голоса разговаривавших в комнате людей. Их было четверо. Сидели за низким столиком. Не все было слышно из их разговора, но Александр неожиданно уловил слово «русский» и навострил уши: не о нем ли разговор? Говорили о русских вообще, о России. Кругленький господинчик, сидевший спиной к двери, размахивая сигаретой, восклицал, что русские по природе своей всегда были агрессивны, что маленькое Московское княжество, захватывая земли соседей, выросло до сверхгиганта и теперь грозит всему миру. Он говорил быстро, многое было не разобрать, но Александр понял: кругленький господинчик оправдывает не только Карла XII и Наполеона, но также и Гитлера, которые явились-де жертвами русской экспансии в Европе.
— …Советский Союз использовал вторую мировую войну для расширения сферы своего влияния, — доносились разрозненные фразы. — Советская угроза беспримерная в мировой истории… Планы захвата Ганновера Советской Армией… Расшатывают нас изнутри, организуя разные демонстрации…
— Битте? — услышал Александр вкрадчивый голос над самым ухом и вздрогнул. Продавец стоял рядом, согнувшись в полупоклоне, готовый услужить. Или, говоря свое «пожалуйста», он предлагал войти в эту комнату с телевизором?
— Нет-нет! — сказал Александр и пошел к выходу. Оскорбляла сама мысль, что его могли принять за сочувствующего.
«Ну Каппес, ну демагог! — думал он, шагая по переулку. — Сюда бы его, ткнуть носом в это реваншистское гнездо! Русские агрессивны! Да есть ли другой народ с таким гипертрофированным чувством сострадания?! Не так ли вопили гитлеровские теоретики перед войной?! Корежили нашу историю, унижали. Чтобы развязать руки будущим эсэсовцам. Не затем ли и теперь извращают историю?!
Русские агрессивны! Надо же додуматься!.. Русские воевали много раз, но всегда защищая Родину. Не потому ли из русских никогда не получались наемники!.. — Он хмурился, напрягая память, все хотел вспомнить строки из одного написанного еще в начале века письма Куприна. Очень уж кстати были те строки. Как аргумент в споре. И вспомнил:
«Мы, русские, так уж созданы нашим русским богом, что умеем болеть чужой болью, как своей. Сострадаем Польше и отдаем за нее жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бурах, волнуемся за Болгарию, идем волонтерами к Гарибальди и пойдем, если будет случай, даже к восставшим ботокудам. И никто не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренно бросить свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как мы…»
Цитата успокоила. Словно некто большой и сильный замолвил за него свое слово в споре. И он снова мог смотреть по сторонам бесстрастными глазами путешествующего. А посмотреть было на что. Переулок вывел на широкую площадь, пеструю, заставленную разноцветными навесами от солнца, под которыми бойкие торговцы крикливо предлагали свои залежалые товары. Именно залежалые, это Александр сразу понял, как подошел ближе. На зыбких складных прилавках и прямо на брусчатке площади лежало все, что душе угодно, что переполненные всяким барахлом дома выталкивали из своих недр за ненадобностью. Это было подобие русских толкучек, с той лишь разницей, что место не было специально предназначено для базара, просто городские власти разрешали некоторое время поторговать тут с условием, чтобы через несколько часов площадь снова стала просто площадью. Легкие навесы были увешаны многоцветными шалями, мотками шерстяных ниток, кофточками, вязаными шапочками. Торговали тут всякими поделками из дерева и металла, ящичками, шкафчиками, куклами, ажурными каминными решетками и щипцами, радиоприемниками, старыми и новыми, видеокассетами, — всего Александр не усмотрел и не запомнил. Дети притащили сюда свои запасы старых игрушек и детских книжек. Сколько ни смотрел Александр, не видел, чтобы у них покупали, но они, похоже, ничуть не горевали от этого, радовались уже тому, что хорошая погода, что народу кругом много, что можно поиграть в самостоятельность. Повсюду звенели транзисторы и кассетные магнитофоны, дерганые заунывные мелодии плыли над толпой, создавая иллюзию веселого, бездумного восточного базара.
А потом Александр обратил внимание, что и продавцы, мужчины и женщины, тоже в большинстве восточного облика, то ли турки, то ли арабы, то ли еще кто. Похоже было, что восточные рабочие, которых в ФРГ в каждом городе тысячи и тысячи, и есть главные организаторы базара, а степенные немцы просто отдают им на распродажу свое барахло, старое и новое. Старье было интересней магазинной новизны, поскольку в нем хорошо просматривался быт почтенных штутгартских бюргеров. На это стоило посмотреть, этого не увидишь ни в одном музее. И Александр ходил от прилавка к прилавку, от лотка к лотку, рассматривая, трогая множество вещей, бесцеремонно отмахиваясь от назойливых продавцов.
Потом он долго копался в старых книгах, искал что-нибудь на русском языке. Ничего не нашел и расстроился: если не продавали, значит, нет на них тут спроса, значит, Советский Союз для всех этих людей «терра инкогнита» — страна неведомая, все равно что Луна? И значит, всякий, кто захочет оболгать нашу страну в своих нечистых целях, может это сделать и некому будет возразить, оспорить? Словно холодным ветром обдало, так стало знобко. Поверилось вдруг, что эти господа из оружейной лавки могут заморочить голову своим согражданам баснями о русской агрессивности, русской неполноценности и вновь, как было уже дважды в этом веке, напялить на них солдатские каски и откопать вроде бы уже давно похороненный пресловутый «Drang nach Osten».
И снова, который раз за эту поездку, почувствовал Александр тяжесть своего добровольного миссионерства. Если бы русских было тут побольше, если бы общаться почаще, работать вместе и вспоминать не столько периоды конфронтации, до двадцатого века все же довольно редкие и краткие, а взаимные контакты, торговые, научные, культурные, политические, до недавнего достаточно длительные, если бы осуществилось все это, с какой надеждой взглянули бы в будущее народы Европы, а может, и всего мира!..
Если бы да кабы!..
Он пошел назад к оружейной лавке, но та оказалась запертой. Разнокалиберные пистолеты и револьверы лежали в витрине, и странно было видеть боевое оружие столь доступным, никем не охраняемым. Стоя у витрины, Александр вспомнил группку вызывающе одетых юнцов, за которыми шел до этой оружейной лавки и о которых тут начисто забыл. И подумал, что, может, не случайно они шли сюда. Эти юнцы, и оружие в витрине, и рассуждающий господинчик с сигаретой, — соединение всего этого показалось ему знаменательно зловещим. Из таких вот оболтусов, воображающих о себе невесть что, готовых протестовать во имя голого протеста, рассуждающие господинчики запросто вылепят новых громил-чернорубашечников. И с невероятной ощутимостью вдруг представилось Александру бесформенное, безликое существо, поминутно изрыгающее из своего грязного чрева разного рода панков, поп-эстрадников, сексбитников, авантюристов-авангардистов, модернистов всех мастей, чтобы заполонили мир, обесчеловечили, чтобы всех превратили в таких же штампованных роботов, безмозглых и бесчувственных исполнителей чужой воли. Страшно!
Он мотнул головой и огляделся. Никто на него не обращал внимания. Проходили мимо пожилые и молодые немцы и немки, как ему показалось, равнодушные ко всему. Словно все они были так заняты собой, что и видели, ничего не видя, и слышали не слыша. Страшно! Пустота грядет в этом мире, пустота! Люди опустошаются мелочным, необязательным, нечеловеческим.
Он вышел на Кёнигштрассе, и холод прошел у него меж лопаток: еще недавно такая оживленная центральная улица была совершенно пуста. Ни бродячих циркачей, музыкантов, певцов, художников, ни зевак и покупателей, — никого. Не вдруг понял он причину: уже третий час и все магазины закрыты. Только вдали, где Кёнигштрассе выходила на площадь, мельтешили толпы: видно, туда, на площадь, стекался весь люд после закрытия магазинов. И за белыми столиками, где еще недавно было так много любителей пива, теперь сидел лишь один-единственный сгорбившийся человек в толстом свитере. Александр сел на тяжелый стул с белой плетеной спинкой, вытянул ноги и закрыл глаза, приходя в себя.
— Битте? — услышал вкрадчивый голос.
Официант стоял возле него, неизвестно откуда взявшийся, словно материализовавшийся из пустоты.
— Пиво, пожалуйста, — попросил Александр.
Официант исчез. Александр снова закрыл глаза, но через минуту услышал другой голос, хрипловатый, игривый:
— Простите, здесь свободно?
Не открывая глаз, он хотел сказать, что тут везде свободно, но все же взглянул на спрашивавшего и увидел пастора Штайнерта.
— Я знал, что мы с вами еще встретимся, — радостно сказал пастор, усаживаясь рядом.
— Знали?
— Чувствовал. И я рад.
— Я тоже.
А что было еще говорить?
— Все возвращается на круги своя! — глубокомысленно изрек пастор, и Александр вздрогнул, так резанула эта фраза похожестью на его раздумья.
— И вражда тоже? — спросил он.
— «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем… не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Так сказал Господь. Для Господа все народы — единая семья, единый братский союз, и война между ними является братоубийством.
Пиво, принесенное официантом, было холодным. Александр пил его маленькими глотками и думал о словах пастора. Его бы туда, в оружейную лавку, с этими словами. Впрочем, хороших весомых слов произносится очень много, а судьбы мира всегда определялись весомостью кошельков.
— Война — братоубийство, преступление! Хорошо звучит. Но нужно и возмездие.
— Было, есть и будет, — быстро заговорил пастор, обрадованный тем, что втянул-таки собеседника в богословский разговор. — «Не стало милосердных на земле, нет праведных между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть». Так?
— Увы.
— Так повели себя иудеи, и Господь наказал их. «Вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему, за то Я… объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду и отдам вас на озлобление во все царства земли».
— Рассеяние? — спросил Александр.
— Да, и Господь воздал иудеям, рассеял их среди других народов.
— Это называется — удружил. Вместо того чтобы помочь людям избавиться от пороков, он рассеял их.
Теперь задумался пастор, но ненадолго.
— Бога не судят, бога стараются понять.
— Вот я и стараюсь понять.
— Многим на это не хватает всей жизни.
— Значит, безнадежно?
Его совсем не интересовали умозрительные богословские ответы, и если спрашивал, то лишь потому, что не молчать же, когда сидишь с человеком за одним столом. Он потягивал пиво из высокого стакана и поверх его оглядывал улицу, пугающе пустынную, словно бы поблекшую без людей.
— Почему же безнадежно? Для сокращения пути к богу существуют пастыри.
— Проводники, значит? — И подумал: «Это еще ничего, а то ведь прямо «наследники бога на земле».
— Проводники, — подтвердил пастор. — Ныне задача всех религиозных общин и организаций — возжечь надежду и помочь людям бороться с уходом от действительности перед лицом технических, политических, экономических и военных сил, содействующих гонке вооружений…
— Это что-то новое в религии, — перебил Александр. — Прежде она только и делала, что уводила от действительности. Вы оригинальны.
— Это не мои слова, хотя я с ними полностью согласен, это провозглашено Международной конференцией религиозных деятелей и экспертов «Космос без оружия». Разве вы этого не знаете?
— Откуда мне знать?
— Странно, конференция проходила в Москве совсем недавно. Она призвала помогать разоблачению лживости образов врага посредством более полного участия в деле укрепления доверия между религиозными группами и между народами, взять на себя особую ответственность за нравственное сознание человечества. — Он уже не просто говорил, а проповедовал, возвышая голос: — Силы зла, не внимая рассудку и пренебрегая волею подавляющего большинства людей на Земле, в безумной гордыне толкают мир к катастрофе, используя для этого средства лжи, запугивания и провоцирования. Размещение у нас американских ракет с ядерными зарядами — одно из прискорбных проявлений недальновидности, безответственности и недоброй воли. Мир находится в небывалой доселе опасности. Умножение зла в мире побуждает нас к покаянию, к активному противодействию ему и к консолидации во Христе, который есть Жизнь мира…
Александр слушал и удивлялся, как это у них ловко получается: американские ракеты и покаяние, борьба за мир и консолидация во Христе, — не больно-то и разберешься, что к чему. Но, видно, и за это надо сказать спасибо. Рационализм сегодняшнего разлагающегося мира не пришел извне, он зародился в христианской Европе и прошел курс христианского воспитания. Когда-то церковь считала: все, что в ней, — хорошо. Теперь вынуждена говорить о лучших чертах нравственных традиций христианской школы и тем самым отсекать их от нелучших. Но, видно, и это не конец, раз заговорили о необходимости активного противостояния. От «не убий», глядишь, дойдет до призывов уничтожать носителей зла.
Тут все было ясно, и Александр переменил тему.
— Вы говорили о возмездии. А какое возмездие ждет нас за нарушение экологической цельности мира?
«Тут уж ему не обойтись без науки. На библию не сошлешься, поскольку там об экологии едва ли вспоминается».
Но пастора вопрос не смутил.
— Биологическая экспансия столь же гибельна, как всякая другая, — сказал он. — В истории Земли тому немало примеров. Шестьсот пятьдесят миллионов лет назад внезапно исчезло большинство одноклеточных водорослей. Следующая глобальная трагедия случилась через двести миллионов лет. Тогда вымерло большинство панцирных обитателей морей и океанов. Еще через двести двадцать миллионов лет столь же внезапно вымерли гигантские амфибии. Еще через сто шестьдесят пять миллионов лет — массовая гибель господствовавших на Земле динозавров. Замечаете цикличность? Что-то происходит через сравнительно равные промежутки времени. Кто на очереди? Люди? Вообще млекопитающие?..
— Погодите… — Александр растерялся от столь неожиданной информации. Мельком подумал о странном для верующего неприятии библейской легенды о сотворении мира, об Адаме и Еве. Но мысль эта мелькнула и растворилась в другой, более важной: — Динозавры вымерли что-то около шестидесяти пяти миллионов лет назад. Если следовать этой цикличности, то опасаться нечего. Получается, что у нас в запасе по меньшей мере сто миллионов лет.
— Это при естественном развитии. А мы искусственно изменяем среду, в которой только и можем существовать.
— Но вместе с тем развиваем науку. При всем нашем скептическом отношении к ней, нельзя не признать, что она кое-что может.
— Наука?! — с новым жаром воскликнул пастор. — Она уже доказала свою неспособность что-либо предотвратить. Научно-техническое стихийное знание объединяет человечество в механическое единство, но не дает ему средств стать единством органическим. И вот мы видим, что технически объединенное человечество находится на грани внутреннего распада и даже самоуничтожения. В этих условиях одна опора — на миротворчество нравственного предания Церкви…
— Почему же только церкви?! — Александр не выдержал, снова бестактно прервал пастора. — Коммунисты тоже опираются на своего рода нравственное предание. Все лучшее, что создано величайшими умами человечества, все наигуманнейшее лежит в основе коммунистического учения.
— Богу угодны все добрые дела. Доброделание богоугодно! — Пастор почти выкрикнул эти слова, и единственный, кроме них, в этом тихом уличном кафе человек заинтересованно оглянулся. — Мир есть дар божественной благодати. Но мир не только дар божий, но и плод человеческих устремлений и усилий. И то, что делают коммунисты во имя мира, для мира, — богоугодно.
— Слава богу, и коммунисты удостоились, — усмехнулся Александр.
— Человек призван к определенной миссии, к деянию. «Покажи ми веру твою от дел твоих», — сказано в библии. В этом божественная предначертанность. И по деяниям нашим воздастся нам. Бог создал человека по образу и подобию своему, то есть свободным творцом благодати. И не его вина, что некоторые отступают от божественного, творят зло.
— Зло злу рознь. Одно по неразумию, другое по умыслу.
— А как понять вас? — воскликнул пастор, уставив на Александра свой пронзительный взгляд. Редкая бородка его воинственно вздернулась. — Как понять ваш отказ от деяния?!
— Мой? Отказ?! — Он тут же и понял: речь о том приглашении участвовать в марше протеста к американской базе в Мутлангене. — Я не могу участием своим оказывать услуги тем силам, против которых мы все восстаем. Я объяснял.
— Ну, бог вам судья, — сказал пастор и встал. — Надеюсь, мы еще увидимся.
Он по-старомодному откланялся, резко наклонив голову и вытянув руки по швам, и пошел по пустой улице быстрым вкрадчивым шагом. Александр вертел в руках пустой стакан с остатками пены на дне, и на душе его было нехорошо.
«Может, они нарочно меня затягивают туда? — возникла мысль, и он ухватился за нее, как за спасительную соломинку. — Крюгеры, скажем, искренни, а пастор?.. Если и пастор искренен, то уж Каппес явно что-то замышляет. И вообще подозрителен этот Каппес. Незваным заявился к Крюгерам, вопросы задавал хитрые, двусмысленные. И сегодняшняя встреча в лесу. И эта драка подозрительная, словно по заказу организованная. Зачем? Чтобы напугать?»
Он оставил стакан и поднялся в волнении. Немец, сидевший через два столика, обернувшись, глядел на него исподлобья. А больше никого в этом уличном кафе по-прежнему не было. И эта неожиданная для субботнего дня пустота и тишина центральной улицы тоже показались Александру подозрительными.
«Что-то тут не так, — думал он, шагая мимо погасших витрин. — Ведь как прогнал этого турка с цепочкой, будто сам командовал шайкой. «Пошел вон!» — и баста. И тот послушался. Наконец, деньги. Отдашь в Москве! А потом придет темная личность: «Здесь продается славянский шкаф?» Бр-р… Тут уж не бизнесом пахнет. Сначала деньги, потом попросят газету с годовым статистическим отчетом, потом еще что-нибудь. Как в наших политических детективах…
«Да что с тобой?! — вдруг вынырнул отрезвляющий вопрос. — Откуда такие страхи? Разве здесь кто-нибудь был к тебе недоброжелателен? Дома-то и дня не проходит, чтобы не нахамили, в автобусе ли, в магазине ли. А тут? Что ты видел тут, кроме улыбок, готовности помочь, угадать твои желания?..» — «Люди разные. Могут быть и подосланные», — мелькнула мысль. «Да полно, кому ты тут нужен с газетными статистическими отчетами, в которые сам-то не больно веришь».
Совсем загрустил Александр от таких раздумий. Понял: крепко засела в нем подозрительность ко всему зарубежному, внушенная годами потребления бесспорных истин. Захотелось сейчас же содеять что-нибудь этакое. И вспомнил о Хильде Фухс, приглашавшей его, и обрадовался возможности переступить через свою боязнь.
На Замковой площади, куда он вышел, направляясь к остановке трамвая, было столпотворение. Парни и девушки и совсем мальчишки и девчонки сидели на скамьях, лежали на газонах, стояли группками, кое-где звенели гитары, кое-кто дергался в танце.
Спустившись эскалатором к подземной станции, Александр впрыгнул в подошедший трамвай, встал к заднему стеклу и принялся разглядывать убегающие вдаль цепочки огней, наслаждаясь облегчающим ощущением новой для него решимости.
Он сошел на повороте, неподалеку от запомнившегося дома. Постоял у железной калитки, всматриваясь в большие безрамные окна.
— Вам что-то нужно? — услышал за спиной голос. Оглянулся. Перед ним стоял человек среднего роста, у которого прежде всего бросались в глаза густая черная борода и высокие белые залысины.
— Нет-нет, ничего, извините, — сказал Александр отступая. И вдруг догадался: Фред, сын Хильды Фухс.
— А, я знаю, вы тот самый русский, — заулыбался человек, что можно было понять не по губам, скрытым в густой бороде, а по сузившимся, молодо заблестевшим глазам. — Мама говорила о вас.
— Вот… проходил мимо, — пробормотал Александр.
— Хорошо, хорошо, — ясно по-русски произнес Фред и открыл калитку. — Пойдемте в дом.
— Да я… тороплюсь…
— Пять минут. Чашка кофе. Потом я вас везу.
Они вошли в дом, ухоженный, как все немецкие дома, какие Александру приходилось видеть. Прихожая с вешалкой и фибровым ведерком для зонтов. Узкая лестница на второй этаж. Открытая дверь в кухню, где навесные кухонные полки и специальные полочки для мелких сувениров, похожие на соты, были уставлены матрешками и всякими, преимущественно деревянными, штучками, многие из которых были явно русского происхождения. Русский дух, принесенный сюда покойным хозяином этого дома, жил здесь и поныне.
И в комнате, куда Фред ввел его, на видном месте, на серванте, полном стекла и фарфора, тоже стояла большая матрешка. Здесь было все, что полагалось, — диван, телевизор в углу, стол посередине, покрытый цветастой скатертью, стулья вокруг стола, — но комната казалась свободной. И он знал уже, отчего это — от неизменной немецкой аккуратности, когда все предметы строго на своих местах и нигде ничего не разбросано.
Из открытой на кухню двери вкусно запахло кофе, и через минуту вошел Фред с подносом, на котором была бутылка красного вина, два бокала, две чашки кофе и крохотная вазочка с печеньем.
— За наше знакомство! — сказал Фред, поднимая бокал. — Я очень рад.
— И я рад, — улыбнулся Александр. Почему-то почувствовал он себя в этом чужом доме очень просто. — А где мать?
— О, она будет не скоро. Пасха.
— Вы хорошо говорите по-русски.
— А вы хорошо говорите по-немецки. Специально учили?
— Учил. И в школе, и в институте, да и сам. У меня отец хорошо знал немецкий, вот и я. Может, наследственное?
— Наследственное, — уверенно сказал Фред. — Мой отец говорил по-русски и меня научил. Он очень хорошо вспоминал русских. А ваш отец воевал?
— Воевал. Он погиб на фронте.
— О, извинить, извинить, пожалуйста.
— Ничего. Что было, то было. Слезы высыхают. Главное, чтобы не было новых.
— Надо дружить, а не надо — как это? — соль на раны, — сказал Фред и вопросительно поглядел на Александра.
— Надо дружить, — ответил он. Про раны промолчал, знал: они не заживают. И все же прав Фред: надо дружить. Чтобы кто-то третий, заинтересованный во вражде между народами, не разжигал озлобление. Чтобы не было новых ран.
— Вы кто профессия? — спросил Фред.
— Историк. Работаю в институте археологии. А вы?
— Учитель гимназии. Английский язык. Преподавал русский, когда была группа.
— Теперь нет?
— Русский язык учат по желанию.
— Желания нет?
— Раньше было много, теперь мало.
— Понятно.
Живо вспомнился господинчик из оружейной лавки. Видно, не он один такой. Кто-то усиленно старается порвать наметившееся сближение народов. Клевета в ходу, русофобия. Рассчитывают, что на презрение и ненависть будет ответ презрением и ненавистью.
— Фред, — сказал он. — Давайте дружить, а? Приезжайте в Москву.
— Вы приглашаете?
— Приглашаю. И давай на «ты».
— Давай. — Фред снова налил вина в бокалы, полно налил, по-русски. — За дружбу.
— За дружбу.
— Завтра пасха, прошу к нам в гости. Поедем куда-нибудь. Жалею, что сегодня вы заняты. Поехать можно сегодня.
Только теперь Александр вспомнил, что с самого начала сослался на спешку. Крюгеры просили не опаздывать к ужину, поскольку после ужина предполагалась поездка на какое-то их «зеленое» мероприятие. До ужина было еще время, но не говорить же Фреду, что соврал о своей спешке.
— Вы же выпили, как можно ехать?
— Ничего, тихо можно. — Он широко улыбнулся, обнажив белые зубы, резко контрастирующие с черной бородой. — Сейчас я вас… тебя везу, а завтра утро еду за тобой. Хорошо?
— Хорошо.
Фред снова налил вина и встал.
— Как это по-русски: на дорожку?
— На посошок.
— На посошок!..
Снова засмеялся, открыто, бесхитростно, поднял бокал, но отпил лишь глоток.
— Чтобы расставаться недалеко. Так?
— Ненадолго.
— Ненадолго…
Они вышли на крыльцо и оба остановились, залюбовавшись городом. Солнце спадало к горам, черепичные крыши домов, все, как одна, светились ярко-красно, словно горели…
XIV
Юго-западный пригород Штутгарта, куда Крюгеры приехали в этот поздний час всей семьей, походил на самую обыкновенную деревню. Вечерний сумрак вползал в пустые улицы и словно бы затягивал их туманом, отчего небольшие одноэтажные домики будто съеживались. Заря над пеленой туч, скрывших дальние горы, почти уже погасла, а фонари еще не горели, и все вокруг выглядело монотонно-серым, однообразным.
Хорст, сидевший за рулем, нервничал, сворачивал из одной пустой улицы в другую, не мог найти нужную. И как всегда бывает в таких случаях в семейных машинах, Эльза то и дело советовала:
— Налево, налево!.. Нет, направо. Куда ты поехал?!
— Где-то здесь, — сдержанно повторял Хорст и вел машину так, как считал нужным. Девочки — Анике и Зильке, — сидевшие сзади рядом с матерью, чувствуя нервозность обстановки, притихли. Александр, которого пригласили в эту поездку, пообещав «необычное зрелище», тоже помалкивал. Он вообще ничего не знал, куда они едут и зачем. Какое-то пасхальное мероприятие, как объяснила Эльза, но не религиозное, а вообще. «Сами увидите», — сказала она. Александр не расспрашивал, чтобы не показаться нетерпеливо-назойливым.
Наконец, выехав к какому-то полю, увидели вдали порхающий живой огонек, и Хорст и Эльза воскликнули почти разом:
— Что я говорил!
— Я же говорила!
И засмеялись, довольные тем, что поиски наконец-то кончились.
Оставив машину на улице, пошли в поле по влажной грунтовой малоезженой дороге, крепко держа девчушек за руки, чтобы не потерялись в темноте. Где-то в стороне мелькали фары машин, светились окна домов, но здесь, в поле, — из-за отсутствия близких ориентиров, что ли? — было особенно пустынно и темно. Единственным путеводным маячком был костер, порхающий впереди огненной бабочкой. Он становился все ярче и больше, то ли разгораясь, то ли просто вырастая при их приближении. Возле него похаживали какие-то люди. Их было много, не меньше ста человек, мужчин и женщин, парней и девушек. Много было детей, ошалело бегавших вокруг костра, такого редкого в распланированном вдоль и поперек бюргерском быте.
Когда подошли, увидели, что людей на той странной ночной сходке гораздо больше, чем казалось издали. Многие прогуливались в темноте по мягкой весенней траве. Костер был окопан аккуратной канавкой, чтобы огонь не распространялся по сухой подстилке дальше положенного. Вокруг костра похаживал человек с повязкой на рукаве, на которой белым по синему было написано «Ordner» — «Распорядитель». Все, кроме, пожалуй, одних только детей, были до удивления спокойны, словно встречались тут каждый день.
С Крюгерами здоровались то одни, то другие: видно было, что они тут свои люди. Откуда-то вынырнул пастор Штайнерт, потормошил Анике и Зильке, кивнул Крюгерам, поздоровался с Александром так, будто они давно не виделись.
— Не правда ли, есть в костре что-то языческое? — лукаво спросил его Александр.
Пастор пристально посмотрел на него, ответил сдержанно:
— Может быть. Но и христианское тоже. Огонь — символ домашнего очага. А к домашнему очагу собираются только близкие.
Он исчез в темноте так же неожиданно, как и появился. И Крюгеры через минуту куда-то запропастились. Александр ходил вокруг костра, приглядывался к людям. Сновала в толпе какая-то девушка, раздавала листовки. В стороне топталась группа молодежи, пробовала петь под гитару тихо и обрывисто, должно быть репетируя. Поближе к огню, так, чтобы видно было, стояла колясочка с бутылками минеральной воды и небольшими сверточками то ли конфет, то ли печенья. Воду покупали мало, видимо, все приехали сюда, хорошо поужинав. Александр специально подошел ближе, чтобы рассмотреть колясочку: нет ли в ней чего-либо кроме минералки. Ничего не увидел и подивился немецкой сдержанности, их серьезному отношению к делу. Когда митингуют, а потом выпивают, это так же несерьезно, как если бы сначала выпивали, а потом митинговали.
Ярко светя фарами, подъехал фургончик, вывалил кучу досок и ломаных ящиков — для костра.
Когда огонь взметнулся высоко в небо, сразу несколько человек стали сзывать людей к костру. И когда все собрались, встали плотной стеной вокруг жаркого огня, вперед вышел пастор Штайнерт, взобрался на ящик и, отвернувшись от огня так, чтобы листки, которые он держал в руках, были освещены, принялся читать:
— Сегодня, в канун светлой пасхи, мы вновь провозглашаем, что братство — основа христианской этики — определяет наши отношения со всеми людьми. Жизнь без единства неестественна. Восприняв этот принцип, связав себя добровольными узами братства, руководствуясь ими в практической жизни, мы обретаем взаимопонимание…
Пастор то и дело отрывался от текста, — видно, знал его наизусть, — оборачивался к костру, и тогда глаза его взблескивали отраженным огнем.
— …Все устремления к единению среди людей должны быть основаны на установлении единства в самом себе. Все, что составляет человеческую личность, основано на единстве тела, души и духа. Сущность греха — в эгоистическом обособлении. Вместо любви и братства появились страх, недоверие, которые ныне достигли в мире крайнего состояния… Грех приводит к рассечению человеческого естества, порождает противоречие между плотью и духом, между интересами духовными и материальными. В области взаимоотношений между людьми свобода греховного человека превратилась в ничем не сдерживаемый произвол, приводящий к возвышению одних за счет попрания прав и угнетения других…
Александр отступил несколько шагов и сразу почувствовал себя одиноким во тьме. Толпа впереди сомкнулась, загородив костер. Языки пламени беззвучно метались над головами людей, и казалось, что голос пастора рождается там, в этом огне.
— …К сожалению, даже христиане, сознавая себя чадами одного отца, часто оказываются противопоставленными друг другу. Нет необходимости говорить, что разжигание психоза войны, недоверия, подозрительности, вызываемого группами и лицами, располагающими огромными финансовыми и политическими возможностями пропаганды человеконенавистнических идей, не только укрепляет прежние и воздвигает новые препятствия на пути созидания справедливых отношений между государствами, нациями и народами, но искажает и самый дух человеческий, ранит души людей, помрачает их разум и волю. Поэтому перед человечеством, и в частности перед христианами, стоит задача первостепенной важности — найти эффективные способы и средства решительного устранения этого нароста на теле человечества, забирающего лучшие его силы и взамен не дающего ничего, кроме голода, нищеты и страданий…
«Ай да пастор! — восхищался Александр, слушая далеко разносившийся над пустым полем голос. — Прямо Лев Толстой. «Все, что вносит единение между людьми, есть благо и красота; все, что их разъединяет, — зло и уродство». Так говорил Толстой. Впрочем, вероятно, и он не оригинален с этой идеей».
Откуда-то из темноты доносился шорох машин. Взблесков фар не было видно, должно быть, близкая дорога проходила в выемке. Дальние огни домов казались отсюда совсем другой, нереальной жизнью. Реальней был этот голос, этот огонь, этот плотный круг людей с глазами, горящими отблесками костра.
А потом в кругу зазвенела гитара, и Александр подошел ближе. Долговязый парень бил по струнам так, точно хотел оборвать их.
Sag mir, wo die Mädchen sind? Männer nahmen sie geschwind…Это была не песня, а крик души, от которого веяло тоской и могильным холодом:
Скажи мне, где девушки? Их увели мужчины… Скажи мне, где мужчины? Их взяли в солдаты… Скажи мне, где солдаты? Они лежат в могилах… Скажи мне, где могилы? Они поросли цветами… Скажи мне, где цветы? Их сорвали девушки… Скажи мне, где девушки? Их увели мужчины…Люди слушали молча, взявшись за руки. Даже дети перестали бегать, завороженные печальным ритмом этой бесконечной песни. А певец без какого-либо перерыва вдруг повел другую мелодию:
Бог бомбы не делал. Он не хотел, чтобы мир погиб. Атомная бомба — во славу бога? — Что это за христианство?!И опять ни слова, ни реплики из толпы. Даже пастор, стоявший рядом с певцом, молчал, никак не отозвался на это кажущееся святотатство.
Александр снова отступил в темноту, отошел подальше. Языки пламени, мечущиеся над головами людей, песня, звучавшая в тишине наползающей ночи, — от всего этого веяло чем-то мистическим, и страшное предчувствие невольно заползало в душу, предчувствие каких-то необратимых глобальных событий.
А у костра уже пели хором о каком-то мастере Вёрнере, который спит и не слышит людей. Александр не понимал смысла этой песни, но завершение каждого куплета звучало ясней ясного, как команда.
— Абрюстунг! Абрюстунг! — выкрикивала толпа.
«Абрюстунг» — значит «разоружение». Одного этого слова было достаточно, чтобы понять все.
И снова звонким запевалой зазвучала гитара. И костер, словно встрепенувшись, вдруг высоко вскинул огненные руки. И голос певца вознесся вместе с языками пламени:
Наш марш — доброе дело, потому что добры наши цели. Мы маршируем не с ненавистью и местью, не с целью покорять чужие страны. Наши руки пусты. Наше оружие — разум. Все люди понимают нас.Запевала умолк на высокой ноте, оборвался и звон гитары, но какой-то звук все висел в воздухе, словно бы кто-то тянул одно обещающее «и-и-и…».
Marschieren wir gegen den Osten? Nein! Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Wir marschieren für die Welt die von Waffen nichts mehr hält…[14]Песня заражала боевым ритмом. Особенно громко и дружно звучало «Nein!». Это был общий вскрик, в котором выделялись тонкие голоса женщин и детей.
Александр заметил в отдалении какую-то темную массу, пошел к ней и остановился, не доходя нескольких шагов. Это была полицейская машина, стоявшая с потушенными огнями. Желтый блик сигареты, отраженный в ветровом стекле, говорил о том, что машина не пустая и что люди, сидевшие в ней, чего-то ждут.
Разыскав Хорста, Александр отвел его в сторону от поющего круга людей, шепнул:
— Там полиция!
— Ну и что? — спокойно спросил Хорст.
— Ждут чего-то!
— Правильно. Кто-то должен следить за порядком…
Вот так! Оказывается, ничем они не рискуют, распевая эти песни. Оказывается, протестовать тут вовсе не возбраняется, лишь бы не нарушали порядок. И все это знают? И все приемлют? Что ж получается: протест с согласия властей? А может, и с санкции властей?
Он решительно замотал головой, благо в темноте это можно было делать, никого не стесняясь. Не может такого быть! Так свыкся он с мыслью, будто все эти люди — борцы, способные до конца отстаивать свои идеи, что сама мысль об их возможном компромиссе казалась ему кощунственной.
«Они же немцы, — снова выскочил скептический вопросик. — Дисциплина у них в крови. Хорошенько скомандуют, и они так же дружно начнут маршировать, куда укажут…»
— Да нет же! — почти выкрикнул он.
Подошел Хорст, как видно, наблюдавший за ним.
— Вы что-то хотите сказать?
Александр неуверенно покачал головой.
— Может, хотите выступить? Пожалуйста.
— Нет, нет!..
О, он многое мог бы сказать им. Все, что думает о такого рода протестах под охраной полиции. Бунт в рамках дозволенности — все равно что кипяток в кастрюле — побурлит да остынет. Но как скажешь?..
«Никак не скажешь! — подумал он. — Да и нечего тебе сказать. Знаешь разве, как надо протестовать? Есть разве опыт? Самая большая кампания протеста, какую тебе когда-либо приходилось проводить, была направлена против жены, однажды попытавшейся, как показалось, прибрать тебя к рукам. Что ты можешь предложить этим немцам? Какую программу действий? Никакой? Ну и тверди свое «найн» и улыбайся многозначительно, чтобы не перестали тебя уважать. Потому что нельзя, чтобы тебя не уважали. Неуважение к тебе рикошетом ударит по престижу страны в глазах этих людей. Так-то вот, «дипломат безъязыкий».
Он снова ушел в темноту и там, в одиночестве, ругал себя за то, что возомнил о себе невесть что и пытается учить других. А нет бы ходить с разинутым ртом, как и полагается туристу, смотреть направо, смотреть налево, слушать да запоминать, чтобы рассказывать потом дома об увиденном да услышанном по возможности без привираний. Только в этом и состоит его задача, только в этом.
Горько стало от таких мыслей. И противно. Что уж, он и мнение свое высказать не решится? Витийствует дома, все мировые проблемы решает, как орехи щелкает, а вот представилось дело, практическое, не отвлеченное, и сказать нечего?
Он еще постоял, поколебался и совсем уж было решил пойти к костру, сказать во всеуслышание, что вот он, русский, случайно оказавшийся здесь, тоже призывает к миру и разоружению. И скажет, что призывает он от имени всех своих товарищей, от всего народа советского. Всерьез призывать к тому, что и без призывов ясно, вроде бы неловко, все равно как утверждать, что солнце светит днем, а луна ночью, но он все-таки скажет это. Одно дело там, дома, где всем все понятно, и совсем другое здесь, где есть силы, пудрящие мозги обывателю, называющие черное белым, а белое черным. И еще он скажет, что у него на родине нет ни одного, ни единого человека, кто был бы лично заинтересован в войне, в гонке вооружений, а здесь, в ФРГ, в других странах Запада, в Америке такие люди есть, и это лучший аргумент в споре на тему — кто виноват.
Он уже сделал шаг и другой к костру, неся свою решимость, как ныряльщики несут на глубину дыхание, страшась мысли, что его, дыхания, может не хватить. И, уже сделав эти шаги, мгновенным прозрением подумал, что следует сказать также о двух мировых трагедиях, отметивших двадцатый век, не нужных ни немцам, ни тем более русским, но в которых больше всего пострадали именно русские и немцы. Подумал, что скажет и о существовании заговора мирового империализма, снова натравливающего немцев в ФРГ на русских, на страну социализма. Поскольку уж он тут оказался, среди немцев, так все и скажет, чтобы знали и не болтали отвлеченно о добре и зле. В газетах напишут о коммунистической пропаганде? Пускай пишут. И пускай его потом дома ругают за неумение вести себя за границей, за то, что влез не в свое дело, дал повод и так далее. Пускай ругают…
«Как это — не в свое дело?!» — вдруг мелькнула мысль, и Александр даже остановился, не доходя нескольких шагов до толпы, окружившей костер. И в этот самый момент кто-то что-то выкрикнул, и толпа вдруг начала распадаться.
— Все кончилось, — услышал он голос Хорста, оказавшегося рядом.
— Кончилось? — удивленно переспросил Александр.
— Да, сейчас мы едем…
Тяжела мука невысказанного слова. Еще когда шли к машине, Александр начал говорить Хорсту и Эльзе то, что не сумел сказать там, у костра. И в машине, пока ехали домой, он все говорил и говорил, горячился, торопился выложить все разом. Уставшие от речей Эльза и Хорст слушали его невнимательно, но он не замечал этого.
Улицы были пустынны, как всегда в поздние часы. Вдоль тротуаров стояли плотные ряды машин, свет фонарей скакал по ним, то исчезая, то появляясь вновь, словно играл в прятки.
Он все еще говорил, когда Хорст притиснул «фольксваген» к тротуару и, обернувшись к Александру, бесцеремонно перебил его:
— Приехали. — И добавил не без иронии: — Все это следовало там сказать.
Состояние было такое, как после приятельского ужина: вроде бы полностью выговорились, а расставаться все не хочется.
— Чаю попьете? — спросила Эльза.
— Нет-нет, я спать.
Но он не лег спать. Открыл окно и стоял, всматриваясь в красный пунктир огней на телебашне, в блескучие пятна слабо подсвеченных крыш.
Часы на кирхе устало, нехотя пробили одиннадцать раз. И в этот момент в дверь постучали.
— Александр! — Голос у Эльзы был то ли удивленный, то ли испуганный. — К вам приехали.
«Саския!» — мелькнула мысль. Кто еще мог к нему приехать в этом чужом городе? И заторопился. Но то был Фред.
— Мама за вами послала. Пасха. Мама идет в храм, сказала, что и вы хотите.
— Я хочу? — удивился Александр.
— Да, в русский храм.
— Здесь есть русский храм?
— Да. Русское пасхальное пение. Поедемте?
Он оглянулся на Эльзу.
— Но как я потом? Неудобно ночью-то беспокоить.
— Ничего, — сказала Эльза. — Поезжайте.
— Вы можете у нас переночевать, — догадался Фред. — Если хотите.
Александр колебался. Православная пасха в протестантско-католическом Штутгарте?! Не поехать — всю жизнь жалеть.
Пока собирался, прошло еще четверть часа, и Фред гнал машину, торопился успеть к храму до полуночи.
Было без четверти двенадцать, когда они подъехали к высокой краснокирпичной церкви, похожей на костел, но с традиционными луковками над крышей. Приткнули «Ладу» в каком-то проходе, загородив выезд со двора, поскольку все прилегающие к церкви улицы и переулки были забиты машинами. Бросив мелкие монеты в расставленные у входа церковные кружки, они поднялись на высокое крыльцо. Храм был полон. Над головами людей блестел позолотой большой иконостас, оттуда доносилось жидкое хоровое пение. Пели по-русски, и было неожиданно и странно слышать здесь русское пение. Еще не охрипший от возраста баритон частил речитативом:
— …Явися еси днесь вселенней, и свет твой, Господи, знаменася на нас в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный…
— Смертью смерть поправ! — восклицал хор.
— К жизни вечной! К жизни вечной! — повторял баритон.
И все покрывал густой сильный голос, перед которым притихали поющие:
— В этот светоносный и радостный день святой пасхи всем вам изобильной милости божией, которая бы воскресила наши души и воздвигла их от греха и порока… В этот день, который сотворил Господь, мы с вами возрадуемся и возвеселимся. Первое слово воскресшего Господа мироносицам было «Радуйтесь!». Пасха — это праздник радости и нашего духовного ликования. Эту пасхальную радость, это ликование воспримем в свои сердца, чтобы она укрепляла в нас добродетели…
И в этот миг благолепный вдруг увидел Александр черные глаза в толпе, явно заинтересованно рассматривавшие его. Мало того, обладательница этих глаз, молодая оживленная женщина невысокого роста и, видимо, поэтому с весьма высокой прической, начала проталкиваться к двери, улыбаясь Александру, как старому знакомому.
— Это вы и есть? — спросила она по-русски, с каким-то странным, не немецким акцентом.
— Это я и есть, — улыбнулся Александр, не видя никакой надобности хмуриться и отворачиваться от такой женщины.
— Вы в самом деле из Москвы?
Он оглянулся на Фреда, стоявшего рядом с независимым видом. Но по деланной отрешенности, по искрящимся в хитринке глазам Фреда Александр понял: его работа.
— Можно подумать, что вы обо мне все знаете, — сказал он.
— Нет, в самом деле?
— Могу показать паспорт.
— Покажите.
В ней было столько искрящейся радости, что она, эта радость, прямо-таки ощутимо переливалась в Александра, и он уже чувствовал себя с ней, как с давней-давней знакомой.
Но тут как раз и ударил колокол полночь. На секунду все замерли вокруг, а затем ликующий хор, в котором не разобрать было ни слов, ни отдельных голосов, заполнил пространство под высокими сводами. Пели, казалось, все, кроме Александра, Фреда да этой странной женщины. И толпа вдруг начала напирать к двери, словно густому пению было тесно в храме и он начал выдавливать людей на улицу.
Втроем они сбежали по ступеням и остановились в стороне, чтобы не мешать крестному ходу, бесконечной колонной выползающему из разверстых дверей. Колокола торопливо отбивали свои восторги — один удар посильней и два потоньше, дребезжащие, — как видно, маленький колокол был надтреснут.
Шли и шли люди, мужчины и женщины самых разных возрастов, степенные, приодетые, с важностью, радостью, удовлетворением на лицах, несли иконы и кресты, пели нестройно. А колокола все подталкивали: бом-дзень, дзень! Бом-дзень, дзень! Шли и шли, и казалось странным, как они все помещались в этом небольшом храме.
— И все русские? — удивился Александр.
— Русских мало. Больше выходцы из Югославии и Румынии.
От толпы отделились трое — мужчина в поблескивающем под фонарями плаще, сухощавый, с подростковой фигурой, женщина в короткой белоснежной шубке и еще одна женщина, пожилая, повязанная платком по-русски, под подбородок. В последней Александр узнал Хильду Фухс, мать Фреда, и понял, что его хотят познакомить еще с кем-то. Или кого-то познакомить с ним?
«Бом-дзень, дзень! Бом-дзень, дзень!» — заливались колокола. Пение затихало: колонна, обходя храм, втягивалась в соседний переулок. Сотни окон глядели на это представление, безразлично темных, блекло светящихся отраженным светом уличных фонарей, похожих на бельма. Бюргеры спали. Какой смысл гомониться ночью, когда будет утро и можно с не меньшим чувством встретить пасху после завтрака?!
— Я знала, что вы придете! — еще издали заговорила Хильда. И обернулась, показала на своих спутников. — Это Бодо, наш друг, а это его жена Ингрид.
— Очень рад, — неожиданно по-русски сказал Бодо, пожимая Александру руку. И добавил: — Мы жили в Москве на набережной, Шевченко.
— Вот как? Что вы там делали?
— Я работал в нашем посольстве. Давно. Шесть лет назад.
— Ингрид, — протянула ему руку женщина в белой шубке и вытащила из кармана два крашеных яйца. Одно подала Александру, другое принялась быстро и ловко лущить.
— Да, пасха, конечно, — растерянно проговорил он, поскольку сам не догадался обзавестись крашеными яйцами.
— А меня зовут Мария, — сказала черноглазая маленькая женщина и тоже вытащила из кармана яйца.
— Христос воскресе! — с трудом выговорила Ингрид по-русски, откусив яйцо и протянув вторую половину Александру. И подалась к нему красивым холеным лицом. Целоваться? Александр покосился на Бодо. Тот стоял совершенно спокойный, щурился в добродушной улыбке.
Губы Ингрид были теплыми, вздрагивающими, волнующими, и он оторвался от них не сразу. Огляделся: похоже было, что никто не придал этому никакого значения.
И Мария тоже откусила яйцо и, протянув половину Александру, зажмурилась, подставила губы для пасхального поцелуя. Бросила быстрый взгляд на Ингрид и подставила губы второй раз.
«Ох уж этот растлевающий Запад», — игриво подумал Александр, без какого-либо смущения целуя Марию.
— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!
— Радоваться зовут нас пастыри, радоваться и ликовать, — сказал Бодо, все так же скромно, почти виновато улыбаясь. — Поедем куда-нибудь?
— Куда сейчас поедешь? Все закрыто, — сказал Фред.
— Я знаю одно местечко.
Вшестером они кое-как влезли в машину, и Фред лихо помчал ее по непривычно пустынным улицам, не забывая, впрочем, тормозить, а то и совсем останавливаться на перекрестках, широким жестом предлагая какому-нибудь одинокому пешеходу перейти улицу. В этих его остановках и жестах можно было усмотреть нечто деланное, если бы Александр не знал (успел заметить), что это просто такая галантная у него привычка, у Фреда.
В самом центре города долго колесили по улицам: автомобили стояли плотными рядами и не было между ними никакого просвета. В одном месте нашли свободный участочек — в полмашины. Фред ловко загнал в него «Ладу», заехав передними колесами на тротуар, с громкими шутками все выбрались из машины и толпой пошли к близкой площади, освещенной более ярко, чем эти пустынные улицы.
Кабачок, в котором они оказались, назывался странно: «Kachelofen» — «Кафельная печь». Посередине залы, редко уставленной столиками, и в самом деле возвышалась большая печь, блестевшая при свечах синим кафелем. Печь, похоже, была старинная и явно никогда не топилась в этом кабачке, а служила лишь рекламной достопримечательностью.
Все столики были заняты, лишь на одном, пустом, белела картонка «Reserviert». Александр так и не понял, то ли этот стол был специально для них и зарезервирован, то ли хозяин кабачка — невысокий шустрый господин с деланно-улыбчивым лицом — уступил просьбам Бодо, воспользовавшегося «московским гостем» как визитной карточкой, только через минуту они уже сидели за этим столом, и хозяин, назвавшийся господином Бернтхалером, склонившись над Александром, медленно, вставляя в речь отдельные русские слова, говорил, что очень рад видеть у себя такого знаменитого гостя из Москвы.
— Да какой же я знаменитый! — смеялся Александр, поглядывая через стол на оживленные лица Ингрид и Марии.
Хозяин ушел, а Александр стал рассматривать стены, увешанные традиционными немецкими изречениями. Прямо перед ним красивой вязью было написано: «Gut gekaut ist halb verbaut» — «Хорошо пережеванное — наполовину переваренное». Поскольку жевать пока что было нечего, он оглянулся и увидел другую надпись: «Besser heut ein Ei als morgen ein Küchlein» — «Лучше сегодня яичко, чем завтра курочка».
Официант, тихий, как тень, беззвучно положил перед каждым фирменные картонные кружочки и поставил на них по стакану красного вина. За его движениями, артистично-обволакивающими, следили все. Но едва он ушел, как все разом заговорили:
— С праздником!
— За встречу!
— Христос воскрес!
Принесли яйца, и все засмеялись, указывая на надпись за спиной Александра, потянулись к нему чокаться с таким видом, будто он сам сочинил эту поговорку.
Ели какие-то пироги со сладкой начинкой и снова пили вкусное красное вино. Ингрид тянула через стол белую тонкую руку, и Александр, снисходительно посмеиваясь над своей несдержанностью, не без удовольствия гладил ее. Мария что-то быстро рассказывала о своем бывшем муже, временами прижимала кулачки к груди и выкрикивала с непонятной страстью: «Немцы — это ж не люди, это — камни!» Бодо и Фред оглядывались на нее, когда она так вскрикивала, понимающе улыбались: видно, эксцентричность Марии была для них не в новинку. И только Хильда сидела молчаливая, задумчивая, неотрывно смотрела на Александра, пытаясь что-то в нем разглядеть, понять.
Временами этот говор и смех заглушала трезвящая мысль: кто будет платить? В Москве такого вопроса не возникало бы: он просто не позволил бы платить своим гостям. Но тут другие порядки, тут случается, что и парень, пригласивший девушку в кафе, платит только за себя. Ей, девушке, видите ли, неловко, когда за нее платят, как за несамостоятельную или, того хуже — за уличную…
Но все обошлось: Бодо (сказалось, видно, московское житье) расплатился по-русски. Прошел за перегородку и через минуту вышел в сопровождении господина Бернтхалера.
— Спасибо, спасибо! — повторял хозяин. — Приходите еще раз.
Все зашевелились, собираясь, и только тут Александр увидел, оглядевшись, что кабачок совсем пуст.
— Уже два часа, — объяснил хозяин. — Мы до двух часов работаем.
На улице было совсем тихо и пустынно. Спали темные окна домов, спали автомобили, словно бы еще больше съежившись на своих стоянках. Горели лишь редкие фонари, но свет их, многократно отражаясь от выпуклых стекол машин, от частых витрин, создавал иллюзию звездной ночи.
— Мы сегодня еще увидимся? — не то спросила, не то утвердительно сказала Ингрид. В своей мягкой шубке с черными волосами, спадающими на белый мех, она была очаровательна.
— С удовольствием! — воскликнул Александр.
— Поедем куда-нибудь за город, — поддержал Бодо и наклонился к Марии. — Поедем?
— С удовольствием! — в точности, как и Александр, воскликнула Мария.
— В два часа дня встречаемся у нас. Не прощаемся. — Бодо взял жену под руку и повел ее в темноту улицы. В десяти шагах они остановились, обернулись разом, молча помахали руками и пошли дальше, одинаково стройные, совсем молодые. Александр смотрел им вслед и все видел перед собой негаснущую, такую зовущую улыбку Ингрид, которой она одарила его на прощание. Может, она всех одарила, но Александру казалось, что лишь его. По мере того как Ингрид уходила, белый ряд ее зубов, чуть вздрагивающие подвижные губы словно бы приближались, заполняя собой всю улицу.
«Напился, — снисходительно обругал он себя. — Бабник чертов!»
И тут увидел приоткрытые в улыбке губы в соседней витрине. Огромные, в полный размах рук, они блестели густой помадой, белые, неестественно ровные зубы были в ладонь каждый, — то ли это была реклама зубной пасты, то ли губной помады. Гигантские эти губы-зубы погасили сжимавшее сердце очарование от улыбки Ингрид, и он сразу почувствовал, что устал и хочет спать.
— Они на такси, — услышал он голос Фреда. — А мы отвезем Марию и — к нам. Не возражаешь?
Больше всего Александру хотелось сейчас остаться одному в своей заваленной игрушками детской комнате. Но не заставлять же Фреда ехать на край города? Да и как будить Крюгеров?
— Поедемте к нам. Пожалуйста, — сказала Хильда. Худое лицо ее совсем осунулось и побледнело от усталости, и она держалась за сына обеими руками.
— Если не стесню…
— Да боже мой, да что вы говорите! — Отпустив одну руку, она ухватила Александра за рукав, явно давая понять, что уж не отпустит. Александр в свою очередь подхватил под руку Марию, и так шеренгой они пошли по улице разыскивать свою машину.
XV
И спать хотелось, и не спалось. Александр лежал один в большой комнате, похоже, гостиной, смотрел в потолок и вспоминал вчерашнее. О чем говорили? А ни о чем и обо всем сразу, как обычно в компаниях. Все время болтали, а вспомнить нечего. Говорили о литературе, о природе, о космосе с его летающими тарелками и прочими чудесами. Бодо что-то говорил о господине Бернтхалере, хозяине кабачка, будто он вхож в какие-то весьма влиятельные в городе круги и потому знакомство с ним небезынтересно. Мария рассказывала о своей жизни, как она, болгарка, вышла замуж за немца из ФРГ, но муж пил и вообще был слишком холоден («не человек, а камень»), и она с ним разошлась. Но так и прижилась в Штутгарте. Дважды в год ездит домой, в Болгарию, все уговаривает отца навестить ее, но отец не едет, не любит немцев…
— Доброе утро! — пропел за дверью вкрадчивый голос Хильды.
Александр хотел встать и поскорей одеться, но решил, что лучше будет притвориться спящим. Но было уже поздно и то, и другое: Хильда стояла в дверях с подносом в руках.
— Кофе, пожалуйста.
Она поставила поднос на стул возле дивана, на котором он спал, и вышла.
«Кофе в постель, — насмешливо подумал о себе Александр. — Во дожил!» Вскочил, быстро оделся. Было уже половина двенадцатого. Крюгеры до этих пор спать не дали бы, подняли бы в девять как штык. Завтракать.
Чашечка кофе была крохотной, на один глоток. Но она взбодрила. Он даже помахал руками, имитируя физзарядку. Потом подошел к окну и залюбовался городом. Дом стоял над склоном, круто обрывавшимся не далее как в двух десятках метров. Освещенная солнцем мозаика крыш казалась живописным цветником.
Солнце в окна еще не заглядывало, но, широкие, они пропускали столько света, что не было в комнате неосвещенных углов. Александр прошелся вокруг стола, стоявшего посередине комнаты под узорной скатертью с кистями до пола, сложил на диване тонкий матрасик, на котором спал, одеяло, простыни. Попробовал открыть окно, и оно открылось без скрипа, без стука. Холодный воздух взбодрил еще больше. Но тут Александр вспомнил, как берегут немцы домашнее тепло, и закрыл окно. Снова походил вокруг стола. Увидел на стене отрывной календарь, принялся листать его. На листке размером в две ученические тетради голубой краской крупно была обозначена дата — 22 апреля, воскресенье. А ниже, черным по серебристому фону, традиционное изречение. В этот день авторы календаря почему-то сочли нужным напомнить: «Das Wichtigste im Leben ist, sich selber treu zu bleiben» — «Важнейшее в жизни — не изменять самому себе». И на каждом другом листке были изречения: «Сначала думай, потом делай», «Поцелуя в знак уважения никто не может запретить…» Выходило, что каждое изречение в этом календаре словно бы специально для него и написано, — каждое кстати. Откинул очередной листок и прочел такое, что даже смутился: «Der Gast ist der Fisch, er bleibt nicht lange frisch» — «Гость, как рыба, свежим остается недолго». Он осторожно приоткрыл дверь. Хильда хлопотала у стола, накрывая его. Увидела Александра, заулыбалась радостно.
— Завтракать, пожалуйста.
— А где Фред? — спросил он, стараясь не выказывать своего нетерпения: есть все же хотелось.
— Фредик уже позавтракал. Он скоро будет.
«Та-ак, значит, выказал-таки себя соней», — подумал Александр, однако виду не подал, быстренько умылся в ванной, сел к столу.
На завтрак была какая-то сладкая простокваша в пластмассовом стаканчике, которую Александр, отвыкший тут от молочного, выскреб до донышка. Хильда сидела напротив и с неистовым интересом смотрела, как он ест, словно было это бог весть каким представлением.
— Может, молока хотите? — спросила она.
— Молока? Пожалуй…
Он покраснел, вспомнив, как друг Борька называл его за особую любовь ко всему молочному молокососом. Но Хильда вроде бы ничего не заметила, метнулась на кухню и принесла большой квадратный пакет.
Молоко было холодное, но он пил его большими глотками, так соскучился.
— Отто рассказывал, как он пил молоко у вас, — сказала Хильда.
— Кто?
— Отто, отец Фреда. Прямо из кувшина.
— Из кринки, — по-русски сказал Александр.
— Да-да, крин-ка… Очень вкусно.
— Очень. Особенно парное молоко. Или топленое, с пеночкой, густое, сладкое.
— Да-да, топ-ле-ное, — с трудом выговорила она русское слово.
И вдруг вскочила с места и через мгновение положила на стол старую пожелтевшую фотографию. Видно, приготовила ее, чтобы показать Александру, и потому не искала. На фотографии два немца в шинелях без ремней пилили на козлах березовое полено. Один был без шапки, на голове другого колом стояла сдвинутая на затылок пилотка с опущенными краями. Оба смотрели в объектив и смеялись. А за ними, как раз посередине, стояла женщина в стеганом ватнике, в платке, повязанном под подбородок, держала охапку дров и тоже улыбалась. Фоном был дощатый сарай и часть улицы, на другой стороне которой угадывалась русская изба.
— Вот. — Хильда ткнула пальцем в того, что был без шапки. — Отто. Это они в плену так, представляете?
Александр молча рассматривал фотографию, не зная, что и сказать. Согласиться: да, мол, весело жилось немецким солдатам в советском плену? Но плен есть плен. Хоть и совсем не такой, какой выпадал на долю советских военнопленных.
Он поморщился, разозлившись на себя за невольно получившееся сравнение. Только в названии и похожесть. Но немецкий плен для советских людей был дорогой к смерти, советский для немцев — дорогой к жизни. И вот доказательство. Смеются, радуются, что живы, что поумнели и перестали быть олухами Гитлера, что снег бел, дрова хороши и люди вокруг не злобствуют, а смеются вместе с ними.
— Так они жили в плену, — уточнила Хильда, и голос ее дрогнул.
У него не хватило сил поднять глаза на Хильду. Неужто ревнует? Очень может быть. Как ей, Хильде, понять, что русская баба по природе такая — переполнена жалостью ко всему на свете, даже к бывшим немецким солдатам.
Александр потянулся к чашке, но та была пуста, и он поспешно встал, пошел на кухню, чтобы налить себе чаю. Хильда вскинулась было за ним, но он так энергично замотал головой, что она снова опустилась на стул и растерянно, почти испуганно смотрела на него через дверь. А он, налив чашку, выпил ее залпом и медленно, долго наливал другую. Не первый раз за эти дни накатывала на него душная, хватающая за горло волна любви ко всему родному, но так — впервые. Сел бы сейчас же в поезд и помчался домой. К Нельке, к терпеливой своей Татьяне, к безалаберному другу Борьке, к московским улицам и подмосковным лесам, к добродушным русским мужикам и суетливым бабам, извечно надрывающим сердца свои неземным состраданием, к перенаселенным городам и пустующим деревням, к очередям за колбасой и очередям за книгами, к гудкам теплоходов над волжскими плесами и шуму ветра на крымских кручах, куда он неизменно, каждое лето, ездит отдыхать, ко всему хорошему и плохому, что отсюда, издалека, вовсе не делится на хорошее и плохое, а представляется чем-то единым, дорогим, неотрывно своим. И острой радостью избавления прошла мысль, что всего два дня осталось ему тут маяться, что послезавтра он поедет обратно и ночью сядет в Ганновере в московский поезд и вздохнет облегченно: почти дома!..
Хильда не утерпела, подошла с фотографией.
— А второй — Карл. Мы сегодня к нему поедем.
Александр опять промолчал.
— Они оба очень хорошо говорили о русских… женщинах. — Хильда снова словно бы запнулась на последнем слове. — Почему только о женщинах?
Так и есть — ревнует. Александр с удивлением посмотрел на нее. Глаза на бледном лице широко распахнуты, полны мольбы. Удивительно! Ведь столько лет прошло. Впрочем, что ж удивительного? Прошлое в сердцах любящих всегда живо. И его мать — вон как вспоминает каждое слово отца…
— Потому что русские женщины — явление исключительное, — сказал Александр назидательно, как школьнице.
— А Ингрид? — спросила Хильда. — Разве другая?
— При чем тут Ингрид?
— Она вам понравилась. Я видела.
— Не больше, чем всякая другая красивая женщина.
— Разве вы не могли бы влюбиться в немку?
Он деланно засмеялся и отвернулся, почувствовав, что краснеет.
— Не-ет, — задумчиво проговорила она. — Может, русские женщины и особенные… Наверное, особенные, я верю Отто. Но и все женщины особенные. Все добро в мире от них.
— А мы уж ни на что не годимся? — игриво спросил он, радуясь перемене разговора.
— Годитесь, — серьезно ответила Хильда. — Постольку, поскольку в вас есть величие женственности.
— А говорят: женщины любят в мужчинах именно мужественность.
— В определенном смысле. Но женщины любят в мужчинах еще и доброту, терпеливость, снисходительность, то есть нечто женственное.
Он пожал плечами, не зная, что и ответить. Разговор получался какой-то неловкий. С Саскией или, скажем, с Ингрид, Марией он бы еще мог побеседовать на эту тему. Там разговор подогревался бы недосказанностями, этакой фривольностью. С Хильдой же, годящейся ему в матери, можно было говорить только серьезно.
— Очень много женщин среди «зеленых», — невпопад сказал он.
— Верно! — Это был Фред. Как он вошел, Александр даже и не слышал. — Но именно это лично меня убеждает, что будущее за ними, за «зелеными».
— Почему?
Фред не ответил. Он подошел к столу, налил минеральной воды из большой рифленой бутылки, сел и стал пить частыми маленькими глотками.
— На днях пастор приходил, — тихо сказала Хильда. — Он очень интересно говорил о женщинах.
— Да-да, пастор приходил. Штайнерт. Вы его знаете. Так вот, женщины всегда играли незаметную, но решающую роль. Взять далекое прошлое, распространение христианства в Европе. Множество исторических примеров подтверждают влияние жен-христианок на своих мужей. Например, обращение франкского короля Хлодвига приписывается его супруге бургундке Клотильде, обращение англосакского короля Едильберга его супруге, франкской княжне Берте. Польский король Мечислав крестился под влиянием его жены Домбровки. Обращение венгерских королей Гейзы и Стефана также приписывается их супругам — Адельгейде и Гизле. Гейза и Стефан — современники вашего князя Владимира…
Фред говорил медленно, мешая немецкие слова с русскими. То ли практиковался в языке, то ли просто вспоминал слова пастора.
— Кстати, о князе, — перебил Александр. — Тут, вроде бы, обошлось без женщин.
— Нет, не обошлось. Я уж не говорю о княгине Ольге…
— Так она была ему бабушкой.
— Не о бабушке речь. Вначале-то Владимир был, как бы это помягче сказать, весьма любвеобилен. В летописном житии князя подчеркивается безмерное его сладострастие, превосходящее Соломоново. Да и сам он не отрицал этого. Летописец Нестор уверяет, что Владимир каялся такими словами… — Фред встал, покопался среди бумаг в шкафу, вытащил толстую тетрадь. — Вот как говорил о себе князь Владимир: «Акы зверь бях, много зла творя́х в пога́ньстве и живях яко скоти на́го».
Он торжествующе посмотрел на Александра, явно довольный тем, что прочел-таки мудреный старорусский текст.
— Это тоже пастор говорил? — спросил Александр.
— «Володимер залеже́ жену бра́тню грекиню, и бе непра́здна, — не отвечая на вопрос, продолжал Фред. — От нея́ же роди́ся Святополк. От греховного бо корене зол плод бывает, поне́же бо была мати его черницею». Так вот, предполагается, что именно эта монахиня-гречанка и послужила делу обращения Владимира.
— Откуда вы все это знаете?
— Интересуюсь. Вы ведь тоже интересуетесь историей?
— История необъятна, всем не поинтересуешься, — пожал плечами Александр. Он и в самом деле ничего подобного о князе Владимире не знал. Его образ сливался с образом памятника на днепровской круче в Киеве, где князь Владимир изображен этаким аскетом-монахом с большим крестом в руке. Но ведь и в самом деле, что-то конкретное должно было подтолкнуть его принять христианство?
— История необъятна, — повторил Фред. — Но есть поворотные моменты. — Он отнес тетрадь в шкаф, снова сел, взял бокал, наполовину налитый пузырящейся минералкой, и стал смотреть сквозь него, улыбаясь чему-то своему.
— Интересно получилось, — сказал Александр. — Начали с женщин, а кончили поворотными моментами истории.
— Все правильно. Если присмотреться, так женщины присутствовали на всех поворотах истории.
— Шерше ля фам?
— Это французское выражение «ищите женщину» извращает роль женщины. Так говорят, когда ищут виновников какого-либо события, как правило, бедствия или преступления. А женщины несли добрые начала. Я думаю, можно даже выявить закономерную связь между активностью женщин и общественным прогрессом.
— А может, просто общественный прогресс способствует женской активности?
— Может. Но связь несомненна.
— Грядет матриархат?
— Я говорю совершенно серьезно.
Александр смутился. Вот о чем он никак не готов был говорить серьезно, так это о женщинах. Они — неизменный предмет для шуток во всех мужских московских застольях. Даже на Восьмое марта о женщинах не говорят всерьез. Самые искренние комплименты в этот день звучат снисходительно: нате вам, раз такое дело. Так уж принято, и на человека, который заговорил бы на эту тему серьезно, посмотрели бы как на чудака, вздумавшего изрекать очевидное. Но тут… Или они, немцы, до чего-то не доросли, или что-то происходит в Западной Германии, чего он не разглядел, не понял. «Зеленые»? А что «зеленые»?..
И тут он вспомнил вычитанные из газет недавние высказывания о них представителей различных партий. Правые, так те прямо исходили бешенством. Некто Гайслер, помнится, крупный чин в правящей партии ХДС, чуть ли не обзывал «зеленых» фашистами. Но и социал-демократ Фогель, фигура немалая в своей партии, тоже пожимал плечами. Вот если, дескать, «зеленые» обретут способность вести определенную политику, научатся компромиссам и договоренностям, вот если они сумеют, мол, создать понятную всем концепцию, тогда они могут стать политической силой наравне с другими партиями… Н-да, не вписываются «зеленые» в систему, не принимают правила игры. Может, как раз потому, что среди них большинство женщин? Можно ли ждать от женщины понимания политической казуистики?
Он мысленно обругал себя за то, что и сам рассуждает как те Гайслеры-Фогели, посмотрел на Фреда. Тот все еще пил свою воду и через бокал внимательно наблюдал за Александром. Ждал, понимая, видимо, что тому надо собраться с мыслями.
В комнате еще больше посветлело. Александр оглянулся, увидел ослепительную солнечную полоску на белом подоконнике. И внезапно снова обрел привычную свою игривую самоуверенность, всегда выручавшую его в сложных ситуациях. Спросил:
— А почему ты не женишься?
— Потому, — медленно ответил Фред, рассматривая пустой бокал, — что отношусь к этому делу серьезно.
— Ты хочешь сказать: слишком серьезно?
Фред не ответил, опустил глаза, и по лицу, скрытому бородой, никак нельзя было понять его отношение к подобным вопросам.
— Пожалуй, нам пора ехать, — сказал наконец.
— Не рано? Вроде бы к двум часам собирались.
— Мы сначала в одно место съездим.
— Куда? Не секрет?
— Не секрет. — Он снова улыбнулся. — Я сейчас был у Крюгеров, они просили привезти тебя на одно пасхальное мероприятие.
— Ну, раз просили…
— Это на час, не больше.
— Да мне что…
Так, перекидываясь необязательными фразами, они вышли из дома в солнечное сияние и бодрящую прохладу этого пасхального дня, прошли по дорожке к воротам, к приткнувшейся у тротуара оранжевой «Ладе».
Проехали лесом, мимо телевизионной вышки, миновали центральную площадь Дегерлоха, и Александр понял: едут туда же, где были вчера с Крюгерами. Узнал и поле. Днем оно казалось не таким уж и большим, как вчера, в темноте. Проехали еще немного и, оставив машину в тесном скоплении других машин, пошли пешком по улице, тихой, почти безлюдной. В конце ее шевелилась, пестрела на солнце разноцветьем одежд большая толпа. Подойдя ближе, Александр понял, что пестрота не только от одежд, а главным образом от обилия плакатов, развешанных по низкой железной изгороди. Были тут и знакомые зеленые плакаты, призывающие идти к Мутлангену в пасхальный понедельник, и незнакомые с длинными текстами на разных языках и крупными, кроваво стекающими с полотнищ английскими «No!» — «Нет!». Плакаты были и в руках людей, и даже на их спинах. Одна женщина прямо-таки обмоталась большим листом бумаги с изображением шести грудных младенцев с сосками во рту. С краю этой вытоптанной сотнями ног площадки высился могучий дуб, и на его ветвях тоже висел плакат, не плакат — прямо-таки парус с изображением ладьи и креста вместо мачты под полукружьем радуги, по которой крупная надпись: «Vancouver». Одного этого было довольно, чтобы понять: собрание — религиозно-миротворческое. Потому что именно в канадском городе Ванкувере проходила недавняя Ассамблея Всемирного совета церквей, решения которой были как гвоздь в мягкое место агрессивным американцам, расистам, сионистам и всем, кто заодно с ними.
Под дубом, возвышаясь над толпой, стоял вездесущий пастор Штайнерт, рубя воздух какой-то брошюрой, зажатой в кулаке, произносил речь. Говорил он, должно быть, уже давно, потому что голос его был тонок, срывался на крик:
— …Почти сорок лет прошло после известной Штутгартской декларации, принятой по инициативе нашего недавно скончавшегося друга пастора Мартина Нимёллера. «Мы с глубокой скорбью отмечаем, — говорилось в декларации, — что из-за нас многим народам и странам причинены безмерные страдания. Несмотря на то что мы многие годы боролись против национал-социалистов, мы виним себя в том, что мы мало молились, не так сильно верили». Именно Германия была очагом двух военных катастроф двадцатого века. Вот почему мы должны стремиться уберечь свой народ и народы других стран от угрозы новой мировой войны. Для этого надо сделать все возможное, чтобы с немецкой земли никогда больше не началась война. «Я знаю только одно, — говорил пастор Мартин Нимёллер, — что нам нельзя брать в руки оружие…»
Александр прошел вдоль изгороди, рассматривая плакаты и стараясь ничего не упустить из того, что говорил Штайнерт. Это было нетрудно, потому что толпа возле дуба безмолвствовала, а движения машин на улице почти не было никакого. Изредка прошуршит по асфальту модный «мерседес» и исчезнет под аркой соседнего переулка, где топтался какой-то человек в форме, то ли солдат, то ли полицейский. О пасторе Мартине Нимёллере Александру приходилось слышать. Этот человек в самый разгар «холодной» войны бросил вызов подозрению и недоверию к Советскому Союзу, господствовавшим в Западной Германии в начале пятидесятых годов. Он был первым религиозным деятелем Запада, приехавшим в нашу страну в поисках доброжелательного диалога.
К черной машине, стоявшей на другой стороне улицы, подъехала еще одна точно такая же, и из нее вышли двое полицейских. И только тут Александр разглядел, что люди, стоявшие по ту сторону машин, словно бы прячущиеся за ними, — тоже полицейские. Приехавшие что-то сказали другим полицейским и пошли через дорогу, как показалось Александру, прямо к нему пошли. Сделав вид, что заинтересовался чем-то в стороне, Александр пошагал от них вдоль загородки, увешанной плакатами. Быстро оглянулся, увидел, что полицейские, перейдя улицу, тоже идут вдоль загородки, только с другой стороны. Тогда он отошел к толпе, втиснулся между женщиной с плакатом на спине и высоким мужчиной в очках. Человек этот оглянулся на него, и Александр узнал Хорста.
— О, вы тоже здесь? Как провели ночь?
— Хорошо…
Полицейские прошли вдоль всей загородки, поверх нее разглядывая толпу, и исчезли под аркой в переулке. Александр вынул платок и принялся вытирать вспотевший лоб. Оглянулся на пастора. Но над толпой уже стоял кто-то другой, провозглашал таким же тонким и высоким голосом:
— «Покажи ми веру твою от дел твоих», — сказано в послании Иакова. А я говорю: познается христианин не от слов «Господи, Господи!», а от подвига против всякого греха!..
«Неужто собираются перейти от слов к делу? — с беспокойством подумал Александр. — Может, и полиция это знает, недаром ее столько…»
Он снова отошел от толпы к загородке. На арке сбоку была надпись, но что там — издали не разобрать. От арки по ту сторону переулка тянулся высокий забор — металлическая сетка. За сеткой — зеленый луг с редкими черными стволами деревьев, а на лугу — два солдата в пестрых маскхалатах, с засученными рукавами и автоматами на груди. Ни дать ни взять — эсэсовцы из кино.
— Александр! — позвали его из толпы.
Толпа распадалась, растекалась от центра, образуя большой круг, как вчера у костра, только теперь в середине было пусто. Корявый ствол дуба тоже оказался в кругу, словно был одним из участников собрания. Фред тоже стоял там, махал Александру рукой, звал. Он подошел, чтобы не стоять одному в стороне, не привлекать к себе внимания. И тут увидел, что люди передают по кругу ковригу хлеба. Каждый отщипывал от нее кусочек. И Александр тоже отщипнул. Хлеб был самый обыкновенный, ну, может, чуточку пресноватый. Потом точно так же, по кругу, дошла до него большая деревянная миска с красным вином. Люди весело переговаривались между собой, смеялись, и никто не обращал внимания на полицейских, похаживавших за загородкой.
В центр круга вышел здоровенный парень с волосами до плеч и длинным лошадиным лицом. Вышел и пастор Штайнерт с гитарным футляром под мышкой. Вынув гитару, он подал ее парню, а футляр раскрыл и положил на землю. Началось очередное действие этого необычного представления. Парень играл что-то призывно-ритмичное, и люди выходили из круга один за другим, останавливались у раскрытого футляра, ярко горевшего на солнце красной подкладкой, бросали в него монеты. Монеты были все больше крупные, в пять и десять марок, они тяжело, звучно ударялись друг о друга в глубине футляра, и стук их ритмично вплетался в гитарный перезвон, словно тоже был частью призывной мелодии.
Вероятно, это и был конец мероприятия, поскольку круг стал распадаться, многие пошли к проходу в железном заборчике, к своим машинам. А полицейские все стояли, осматривали людей одного за другим, словно выискивали кого.
— Пошли? — спросил Александр Фреда.
— Подождем пастора, он с нами поедет. Впрочем, пошли, он подойдет к машине.
Они долго сидели в прогретой солнцем «Ладе», ждали, пока там, на площадке, соберут плакаты да пока пастор переговорит со всеми, кто подходил к нему с какими-то своими вопросами.
— А чего так много полицейских? — спросил Александр.
— Так ведь военный городок рядом.
— Где?
— За аркой. Штаб американских войск.
Стараясь не подать виду, что это сообщение обеспокоило его, Александр поглядел в боковое стекло. До арки было метров двести. Дальше высилась чуть тронутая весенней зеленью стена деревьев, над которыми виднелись крыши, мачта над ними и трепыхающийся на ветру флаг, не понять какой.
— То-то я вижу — солдаты за забором.
— Охраняют.
— А этот митинг, значит, специально у ворот?
— Специально. Пусть знают, что мы против.
— И терпят?
— Но мы порядок не нарушаем, за пределы площадки не выходим.
— Эта площадка что же — специально для таких митингов?
— Да, конечно.
— Вроде танцплощадки?
— Что? — не понял Фред.
Александр пожал плечами. Пожалел, что не было фотоаппарата. Поснимал бы из-за заборчика. Из-за заборчика можно.
Неожиданно открылась дверца машины и послышался чуть охрипший от долгого митингования голос, Штайнерта.
— Вот вы где. А я прошел мимо, почему-то думал, что твоя машина — красная. — И захохотал: — Теперь знаю, почему так подумал: красный в машине.
— Красное, зеленое… — проворчал Александр. И вдруг вспомнил и процитировал показавшееся к месту стихотворение Гёте: — «Порхает над родником изменчивая стрекоза… То темная, а то светлая, то красная, то зеленая…»
— Что вы хотите этим сказать? — спросил пастор.
— Не в красках суть, а в деяниях.
Пастор снова захохотал, широко обнажив неровные зубы, хлопнул Александра по плечу.
— Запомнили? «Покажи мне веру твою от дел твоих»? Только… мы протестуем, а вы в стороне.
— Вы протестуете против опасных действий своего правительства. Это ваше дело.
— Но это и вас касается.
— Касается, — вздохнул Александр.
Фред в разговор не вмешивался, он гнал машину, как обычно, почти на предельной скорости, не забывая, однако, притормаживать, даже останавливаться и оглядываться на перекрестках, отчего поездка напоминала передвижение прыжками.
— Берите пример с американцев. Они во все вмешиваются, у них все на виду. А у вас — все тайна.
— Смотря что на виду и что тайна, — буркнул Александр.
— Хотя бы права человека.
— У американцев их больно много, девать некуда.
— Не понял.
— Чего уж понимать. Почему-то все эти американские права, о которых столько криков, сводятся к праву одних развращать, оглуплять, обирать других. Обесчеловечивание человека — это ли благо? А без принципа блага подлинного права не может быть.
— О-о?!
— Что «О-о»?
Пастор удивленно смотрел на Александра и молчал. Потом подался вперед, что-то собираясь сказать, но Фред как раз затормозил, и он ткнулся подбородком Александру в самое ухо. Извинился и вдруг торопливо выговорил мудреный афоризм:
— Великая свобода — быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода — не быть в состоянии грешить. Так?
Александр увидел Хильду и Марию, стоявших на тротуаре, и дернул ручку, чтобы открыть дверь. Пастор удержал его за плечо.
— Обладают относительной свободой люди, способные делать добро. Потеряли свободу неспособные к добру. Так?
Александр все же вышел, помог женщинам сесть в машину.
Больше пастор не заговаривал. То ли все сказал, то ли его безграничной философии было теперь тесно. Ехали молча, и до самого дома, где жили Бодо и Ингрид, никто не проронил ни слова.
Дом находился на окраине Штутгарта. Здесь были в точности такие же, как в Дегерлохе, тихие улочки и небольшие дома, стоявшие впритык один к другому. Бодо вышел из дома с корзинкой, из которой торчали бутылочные горлышки, Ингрид — с большим деревянным подносом, накрытым салфеткой. От подноса вкусно пахло свежим пирогом.
Оказалось, что ехать больше никуда не надо, — место, где вся компания собралась отмечать этот пасхальный день, находилось в десяти минутах ходьбы, — и они толпой побрели по узкому переулку, а потом и вовсе по тропе между двумя сетчатыми заборчиками, за которыми свежей травой зеленели дачные участки, стояли редкие раскидистые яблони и вишни, усыпанные начинающими разбухать цветами, и высоченные старые груши, задернутые вуалькой частых, только проклюнувшихся листочков. Никаких грядок не было на этих дачных участках, только эти редкие фруктовые деревья на зелени не вспаханного, не перекопанного луга да кое-где цветники возле крохотных летних домиков.
Ингрид сначала никому не доверяла свое кулинарное произведение и несла поднос сама, но через пять минут она все же разрешила Александру помочь ей. Он нес на полусогнутых руках это вкусно пахнущее сооружение и все шутил, что теперь не боится потеряться в этом лабиринте дачных дорожек, поскольку никто из рядом идущих не заинтересован, чтобы он исчез вместе с пирогом.
— Это называется: завладел правом, — так же шутливо сказал пастор. И тут же заговорил серьезно о том, что право без соответствующих ему обязанностей есть средство морального разложения, развития сил стихийных, инстинктивных, более того, демонических, губящих и человека и общество.
Александр понял, что пастору захотелось продолжить начатый в машине разговор, и промолчал, предпочитая сегодня светскую болтовню серьезным спорам.
— …Говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо, становится все труднее из-за все более размываемых какой-то странной и страшной болезнью критериев истинности. Происходит это главным образом по причине все углубляющегося и расширяющегося отступления цивилизованных народов от основных начал христианской жизни.
— Сознательную ложь вы не допускаете? — не удержался Александр.
— А кто лжет? — обрадованно отозвался пастор.
— Тот, кому это надо.
— А кому надо?
Александр пожал плечами и, отвлекшись, запнулся. Он не упал, только чуть покачнулся, но Ингрид, все время ревниво наблюдавшая за своим пирогом, тотчас отобрала поднос.
— Не кажется ли вам, что одним из самых больших препятствий на пути взаимопонимания является невыясненность понятий и критериев? — Пастор подхватил его под руку, и Александр понял, что этот служитель божий сегодня от него не отстанет.
— Не кажется, — ответил он. — Зло есть зло, добро есть добро, одно заинтересовано запутывать понятия и критерии, другое — прояснять. В этом разница, а не в сложностях лингвистики.
— Но когда и те и другие говорят, что они творят добро, как разобраться?
— По делам судят, а не по словам. Наставили в ФРГ американских ракет, — вот вам и зло в чистом виде.
— Но ведь и у вас есть ракеты.
— Мы предлагаем убрать и те и другие.
— Для вас все подозрительно ясно.
— Конечно, ясно. Добро надо поощрять, зло ограничивать любыми средствами.
— Любыми? Но ведь это война. — Пастор даже приостановился.
— Война случается, когда зло не одергивается вовремя, когда оно наглеет в своей безнаказанности.
— Интересный вы человек.
— Какой есть.
— А как быть со свободой воли? Свобода воли — богоданное свойство всякой человеческой личности. Ни другой человек, ни общество, ни законы, ни государство, ни власть, ни демократия, ни тирания, ни ангелы, ни демоны, ни даже сам бог — ничто не властно над свободой воли.
— Даже бог? — удивился Александр. В устах служителя бога это звучало довольно-таки странно.
— Никто и ничто!
— Значит, любой человек волен делать все, что ему вздумается? О каких же понятиях и критериях вы говорили, если утверждаете, что их и не может быть?..
— Вот мы и пришли, — неожиданно сказал Бодо, остановившись у очередной калитки, сделанной все из той же металлической сетки, натянутой на трубчатый каркас. Он открыл калитку и первым вошел во двор, большой, зеленый, без единой грядки.
Навстречу по плитчатой дорожке спешила женщина, суетливо и тяжело переваливаясь, по чему сразу было видно, что она стара. В конце дорожки возле домика стоял человек, полусогнувшись, опираясь обеими руками на костыли. Женщины кинулись обниматься и целоваться. Мужчины обошли их и направились к домику. Церемонно поздоровались с человеком на костылях, представили Александра.
— Карл Гёрш, — назвал себя человек сиплым голосом, не подавая руки. Был он совершенно сед. Совсем поблекшие глаза убедительнее седины свидетельствовали, что ему уж за восемьдесят. Он неотрывно смотрел на Александра, кривя губы в какой-то виноватой улыбке и шевеля горлом так, словно силился что-то сказать и не мог.
Все тут были свои. Женщины тотчас нырнули в домик, затараторили там, перебивая друг друга. Бодо выставил бутылки из корзины на стол, прислоненный к наружной стене дома, и принялся крутить какую-то ручку, отчего над столом раскрылась ярко-красная ткань навеса с выцветшей надписью-поучением: «Ein ersparter Pfennig ist zweimal verdient» — «Сберечь один пфенниг — все равно что заработать два».
Домик был совсем маленький, тонкостенный, похожий на сарай с окнами, и это выглядело довольно странно после того, что Александр узнал о немецкой обстоятельности. Поскольку этот дачный участок находился, по существу, в черте города, — до центра четверть часа езды на машине, — то было непонятно, зачем он вообще нужен супругам Гёршам. Тем более что они, как, впрочем, и другие дачники-соседи, не занимаются тут огородами, оздоровительным трудом на земле.
— Вложен капитал, — тяжело переводя дыхание, пояснил Карл Гёрш, с помощью Бодо усаживаясь в кресло перед столом. — Пятнадцать лет назад мы купили эти десять соток за сто двадцать тысяч марок. Теперь участок вдвое дороже.
Стол отодвинули от стенки, в затишек забрался пастор, похлопал по стулу рядом с собой, приглашая Александра.
— Первое место женщинам, — отговорился тот и присел напротив на край скамьи, всем своим видом показывая, что готов встать, как только женщины выйдут из дома.
Пастор понимающе улыбнулся.
— Садитесь, садитесь, у нас просто. Понравился человек, заинтересовал, — приглашаем. Открыто и просто. Так вот и вас пригласили в нашу страну. Увидели — похожий, почему бы не пригласить? Интересно ведь.
— Кто похожий?
— Вы.
— На кого?
— На Сержа.
— На какого Сержа?
— На брата Эльзы Крюгер.
— Что значит — похожий? — спросил Александр, внезапно почувствовав что-то вроде головокружения.
— Ну просто вылитый Серж.
— Я?!
— Вы что, не знали об этом?
— Догадывался… Только не знал, на кого…
Он старался ничем не выдать себя, хотя внутри у него все кипело. Сколько было намеков: похож, похож. В Ольденбурге, в пивной, так прямо приняли его за Сержа. И Саския что-то такое говорила, и сама Луиза. Но чтобы его приглашение в ФРГ было вызвано только этим, такого он не предполагал. Значит, верно — всего лишь женская прихоть, желание поразвлечься? А он-то все всерьез: фройндшафт, дружба, мудреные разговоры… Игрушка для заскучавших немочек!
— А почему я его ни разу не видел? — спросил Александр с тайной надеждой, что это шутка.
— Так его здесь нет, он сейчас в Италии, в Милане.
— Извините, — сказал Александр и встал, отошел в задумчивости к кустам вечнозеленой туи, растущим неподалеку.
Можно было не обратить на это внимания, даже нужно было, — что уж теперь? Снова с затаенной радостью подумал он о том, что послезавтра уезжает. Снова томно замерло сердце от воспоминаний о Нельке, о Татьяне, о друзьях-товарищах, с которыми действительно просто: что думают, то и говорят, без затаенностей, тем более рассчитанных. «Интересно, решился ли Борька жениться на той, догадавшейся сменить занавески у него на кухне? Сосватать бы ему Марию. Вот был бы фокус…»
Его развеселила эта мысль, и он оглянулся. Все уже расселись за столом, не забыв оставить Александру место.
— Идите сюда! — позвала Ингрид.
Оглядываясь, делая вид, что осматривает кусты, он вернулся, сел на оставленное ему место между Ингрид и пастором, напротив Карла Гёрша.
— Христос воскресе! — сказал пастор, поднимая стакан.
Вино было вкусное, мягкое, с незнакомым терпким ароматом. Почти сразу мысли потеряли свою колючую остроту, и он уже удивлялся себе: чего разволновался из-за пустяка? Пригласили из корысти? Но и сам мог догадаться: чем-то привлек внимание Луизы и Саскии тогда, в московском ресторане. Сам вытаращился на Саскию, а возомнил, что она потеряла голову. Смешно. Смешно и глупо. Так что теперь уж терпи до послезавтрашнего…
Только поставив пустой стакан на стол, он заметил, что все выпили лишь до половины. Смущенный, повернулся к пастору.
— Вы что-то хотели сказать?
— Свобода воли — богоданное свойство личности, — сразу заговорил пастор, словно только и ожидал этого вопроса. — Однако, как только эта свобода из чисто духовной области переходит в область действования, так сказать, материализуется, она сразу же оказывается перед лицом бесчисленного множества явлений, ограничивающих или совсем исключающих это действование.
— Интересно, — сказал Александр. — Но это вроде бы противоречит тому, что вы говорили прежде.
Он совсем не был уверен, есть ли противоречие в словах пастора, поскольку сам запутался в его умозаключениях, но, видно, поддался духу противоречия. Когда люди долго и безрезультатно спорят, они, сами того не замечая, возражают не потому, что уверены в обратном, а просто по привычке. И бывает, довозражаются до того, что начинают оспаривать самих себя.
И вдруг ему подумалось, что пастор просто прощупывает его, подкидывает разные суждения и наблюдает: как-то русский отреагирует?
— Ничуть не противоречит, — ответил пастор. — Я лишь утверждаю, что права человека, о которых столько разговоров в последнее время, есть не что иное, как изменяющийся круг возможностей осуществления человеком своей свободы воли. Христианский взгляд на человека основан на двух положениях: богоподобном величии человека и настолько глубоком его падении, что самому богу потребовалось прийти, чтобы поднять его, падший воскресить образ. Если подлинно нормальный человек — это Христос, новый человек, а так называемый «обычный» человек далеко не нормален, не здоров, ибо все его свойства повреждены и искажены, то становится очевидным, что задачей общества является создание таких условий, которые не только не давали бы прогрессировать болезни, но, напротив, способствовали бы исцелению…
Карл приподнялся в кресле, как видно, собираясь что-то сказать, и вдруг закашлялся, задыхаясь и хватаясь за грудь. Фрау Гёрш обеспокоенно засуетилась возле него, расстегнула ворот, сунула ему в рот какую-то таблетку и принялась обмахивать салфеткой. Все замерли за столом. А Карл все кашлял, изгибаясь и багровея так, что было страшно на него глядеть.
— Он хотел сказать, хотел сказать… — повторяла фрау Гёрш.
— Я знаю, знаю, — обрадованно подхватила Хильда, когда кашель поутих. — Хотел сказать о том, как были в русском плену?..
Карл кивнул и махнул рукой, показывая на стол, что можно было понять как предложение не обращать на него внимания и угощаться.
— За встречу! — игриво сказала Ингрид, поднимая стакан.
Александр обнаружил, что его стакан снова полон.
— За дружбу! — сказал он и отпил половину.
— Русские — хорошие люди, — с трудом выговорил Карл.
— Ты расскажи, как из плена возвращались, — подсказала Хильда, но, увидев, что Карл снова побагровел, готовый вот-вот закашляться, принялась рассказывать сама: — В сорок шестом вас освободили?
Карл кивнул.
— Освободили, документы выдали, а все не отправляли домой. Тогда они, Карл и мой Отто, решили идти пешком. От Киева? — Дождавшись согласного кивка, Хильда потянулась через стол и положила на тарелку Александру второй кусок пирога. — Взяли молотки, ключи и пошли по рельсам, будто железнодорожные рабочие. Можно было и так идти, — документы-то в порядке, — да ведь каждый встречный интересоваться будет: чего это немецкие солдаты разгуливают? Так?
— Так, — словно кашлянул, выговорил Карл.
— Шли по рельсам, молотками постукивали, и никто их не останавливал… Да вы ешьте, пожалуйста, пирог вкусный.
— Вкусный, — подтвердил Александр.
— …Их не только никто не задерживал, а даже и кормили в деревнях…
— Русские — хорошие люди, — снова произнес Карл.
— Хочу за русского! — задорно выкрикнула Мария. — Немцы — это же камни!..
Все засмеялись, зашевелились. Мария вышла из-за стола, зачем-то скинула туфли и прямо в носках пошла по траве к большой груше, растущей посередине участка. Ингрид тоже выскочила из-за стола, тоже разулась и побежала по траве босиком.
— Резвятся, красавицы! — с непонятной завистью сказал Фред.
— Пускай поиграют, — даже не оглянувшись на жену, произнес Бодо и поднял глаза на пастора. — Вы что-то интересное говорили.
— Да-да, — словно опомнился пастор. — Наш русский друг, — при этом он игривым жестом показал на Александра, — очень хорошо говорил о принципе блага при подходе к вопросу о правах человека. Социальная свобода, выражающаяся в форме законов о правах граждан, призвана обеспечить самые оптимальные условия для развития добра и искоренения зла во всех его формах. Внешне свободы — не самоцель, но лишь одно из необходимых условий для достижения блага, которое немыслимо без нравственной чистоты. Поэтому там, где есть тенденция к пониманию и осуществлению свободы не в таком качестве, а как ценности самодовлеющей, безусловной, там эта свобода неминуемо превращается в свою противоположность, то есть становится произволом и ведет к нравственному, культурному, социальному и прочему анархизму, к духовному разложению общества…
— Как в Америке, — счел необходимым вставить Александр. Он думал, что кто-либо возразит, но все промолчали.
— Кому можно предоставить право получения информации о государственных тайнах, например, или право приобретения наркотиков, право владения огнестрельным оружием? Неужели всем без разбора? Разве можно кому-либо дать право развращать молодежь, проповедовать культ сатаны, пропагандировать расизм? В нормальном обществе — никому. Если не так, то уже не человек будет творить историю, а история уничтожит человека.
Пастор замолчал и потянулся к стакану, пригубил, искоса поглядывая на Александра и вроде бы чуть улыбаясь, будто спрашивая: все ли так в его речи? Александру хотелось сказать, что да, все, мол, так, но он молчал, думая, что пастор хитрит и вот сейчас вывернется и начнет задирать его какими-нибудь намеками.
Напряженная пауза затянулась. Выручил Фред:
— Один американский психолог сказал: «Когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека».
— Правильно сказал, — подхватил пастор. — Не прекрасна ли свобода телеинформации? Но, не ограниченная стремлением к благу человека, она может стать телевизионной чумой насилия. Школьник к восемнадцати годам умудряется стать свидетелем ста пятидесяти тысяч насилий, из которых двадцать пять тысяч — убийства. Разве не попирается этим правом пропаганды насилия самое главное право человека — на жизнь без насилия?!
Мария и Ингрид, сидевшие на зеленой травке спинами друг к другу, запели печально, будто заплакали:
Три розы я посажу в саду. Сама не знаю, куда пойду И где я суженого найду…— Загрустили, — сказал Фред.
— Играются, — сказал Бодо. И добавил по-русски: — Ду-ра-ка валяют.
Александр встал, отошел от стола и тоже разулся. Земля была совсем не холодной. Трава приятно щекотала ступни, и это почему-то смешило.
Плавно ступая, он прошелся по лужку. Женщины косились на него из-под прищуренных век и пели, будто манили:
Как осенние листочки На сыром дрожат ветру!.. А мне жить не дольше ночки: Ты уходишь поутру. Погоди, не уходи! Твой приют — в моей груди…Он подошел к ним, сел рядом.
— Вы сегодня какой-то не такой, — сказала Ингрид.
— Какой?
— Плохой кавалер.
— Фред виноват.
— Ох уж этот Фред! — вздохнула Мария.
— Он говорит, что к женщине нужно относиться серьезно.
— Дурак он, — сказала Ингрид.
— Фред говорит, что женщина — главная движущая сила прогресса.
— Да? Интересно, кого он имеет в виду?
— Будто женщина играла чуть ли не первейшую роль в распространении христианства.
— А святые — одни мужчины. А для нас только три «К» — кирхе, кюхе, киндер[15].
— А вы женаты? — спросила Мария.
— Разве я похож на холостяка?
— Увы, увы… Почему как хороший человек, так обязательно женатый?
И вдруг они обе, не сговариваясь, запели:
Я не чаяла разлуки, Веря слову твоему. Что ж ты молча жмешь мне руки?..Отпели куплет, замолчали. Бодо обернулся за столом, дурашливо погрозил жене пальцем.
— А вы могли бы здесь остаться? — спросила Ингрид.
— Здесь, на даче?
Только сказав это, он понял: получилось двусмысленно.
— Нет, не оставайтесь. Намаетесь. Как этот Ковалев. Ковалев? — толкнула она Марию локтем. Та кивнула. — Ваш он, из Москвы, в газете работал. Потом с женой сюда приехал. Два года ходил без работы. Жена устроилась в госпиталь, тем и кормились. Жена-то и упросила меня помочь, как раз вакансия открылась в нашей штутгартской газете. Повел его Бодо знакомить с кем надо. Посадил в ресторане за отдельный столик, сказал, чтобы ждал, когда надо будет, позовут. Дело это тонкое, сами понимаете. Прошел час, два часа, а все у Бодо нужного разговора не получалось, все не мог позвать Ковалева. И у него терпения не хватило, сам подошел к столику, где Бодо с нужными людьми сидел, да и спросил: «Ну, когда вы меня будете представлять?» Все испортил. По-моему, он и сейчас без работы…
Александр слушал и не жалел этого Ковалева. Но очень хорошо понимал его. Как же, привык дома капризничать. Наверняка считал себя непонятым гением, иначе чего бы на Запад подался? А тут такому «талантливому» устраивают многочасовую выдержку…
Захотелось плюнуть, но он сдержался: земля все-таки частная, кто знает, как это будет воспринято?
— Я сейчас вернусь, — сказал он и встал, пошел к столику.
Пастор все еще продолжал свою импровизированную лекцию:
— …Может ли свобода быть несвободной? Но именно это и утверждает произвол, ибо, с его точки зрения, и сам бог недостаточно свободен, так как не может совершить зла…
Александр подсел к столу и вдруг почувствовал, как же он все-таки устал. Поднял стакан с вином, посмотрел его на свет. Вино было темное, почти не просвечивалось. Отпил глоток, поставил стакан и, закрыв глаза, снова стал вслушиваться в слова пастора.
— …Не потому ли и все права именуются правами человека, — гудел монотонный голос, — что они призваны выражать, созидать и совершенствовать человека, а не болезни, его разрушающие?..
Александр попытался представить себе Сержа, из-за которого весь сыр-бор, но тот никак не представлялся. Крутился перед ним этаким фертом в узкополой шляпе и почему-то с пером, и все спиной, спиной, — лица не разглядеть. Решил, что сегодня же попросит у Эльзы показать фотографию Сержа. Теперь уж он знает, что уж теперь?..
XVI
Звон часов, донесшийся от кирхи, был долгим, радостным. А может, и в самом деле не время отбивал колокол, а благовестил по случаю пасхального понедельника? Открыв окно, Александр выглянул во двор, залитый солнцем. В песчаном коробе играли Анике и такая же пятилетняя соседская девочка с веселым именем Розвита.
— Гутен морген! — жеманно присела Анике, увидев его в окне.
— Да какое ж утро, скорее гутен таг, день уже. — Он потянулся: свежий воздух бодрил. — А мама что, уехала?
— Уехала. И папа уехал, и Зильке, все уехали, я одна осталась.
— Значит, ты сегодня за хозяйку?
— Я сегодня хозяйка, — серьезно подтвердила она.
— А кто тебя кормить будет?
— Тетя, — она махнула совком на соседский дом. — Позвать ее?
Ему стало грустно оттого, что все уехали. Такой день провести на природе было бы совсем неплохо. Этот марш мира все казался ему похожим на обычную загородную прогулку.
Тихо было во дворе, так тихо, что слышно, как шуршит воздух под крыльями ласточки, пикирующей под карниз крыши соседнего дома.
За этими ласточками Александр наблюдал каждое утро, все ждал, когда появятся птенцы в сером кульке гнезда. Но птенцов, по-видимому, все еще не было, потому что одна из ласточек сидела в гнезде, время от времени высовывая черную головку. Другая, надо полагать, это был самец, подлетала к гнезду и совала своей подружке какую-либо букашку. Но сегодня самец явно лентяйничал: подлетал, цеплялся за гнездо и глазел по сторонам. «Подружка» высовывала голову, но «дружок» отворачивался. Она тормошила его клювиком, и он улетал. Вскоре возвращался, но опять ни с чем. И все повторялось. Наконец «подружка» попросту начала клевать его. Тогда он улетел совсем.
Пока махал руками, обозначая физзарядку, пока брился, Александр все время смотрел в окно, но так больше и не увидел «кормильца».
Хотелось до конца досмотреть эту «семейную ссору», но тут он вспомнил вчерашний рассказ пастора Штайнерта и, высунувшись в окно, позвал Анике.
— Ты дядю Сержа знаешь?
— Не знаю.
— Как не знаешь? Он что, здесь не бывает?
— Не бывает.
— Но ты хоть знаешь, что у тебя есть дядя, которого зовут Серж?
— Не знаю.
Это было очень даже странно и непонятно. Вчера вечером Эльза призналась, что да, действительно, есть брат Серж, который живет в Констанце, а сейчас находится в Милане, но фотографию его не показала, сказав, что фотографии в доме нет. В это трудно было поверить: успел насмотреться на то, как бережно относятся немцы ко всему семейному. Луиза берегла дневники отца, которые он писал еще в двадцатые годы, Крюгеры в первый же день показали ему семейный альбом, где были все родственники и знакомые. Кроме Сержа…
«А может, и Серж был, да только никто тогда не сказал о нем?» — подумал Александр.
Он прошелся по пустому дому, оглядывая столы и полки. Альбома нигде не было.
«Может, этот Серж чего-то натворил и о нем стыдятся вспоминать?»
Он отверг эту мысль. Если бы стыдились, зачем бы приглашали его, по словам пастора, так похожего на Сержа?
— А ну их! — вслух сказал Александр. — Завтра уеду, и всему конец.
Он прошел на кухню, взял из холодильника коробку молока, о которой ему еще вчера говорила Эльза, отрезал ломоть хлеба и впервые за все эти дни позавтракал, не задумываясь о необходимости следить за собой во время еды.
Громко стуча каблуками, по лестнице поднялась соседка, пожилая женщина с непомерно толстыми, вероятно больными ногами, тяжело опустилась на стул.
— Вам что-нибудь приготовить?
— Спасибо, я уже позавтракал.
Она сидела напротив и смотрела, как Александр допивает молоко. Не предлагала поесть еще чего-нибудь, как делали бы русские женщины в аналогичных ситуациях. Это никак не задевало его, не то что вначале, когда он, не слыша настойчивых просьб поесть, стеснялся взять лишний кусок хлеба. Знал уже: немцы не предлагают, не настаивают. Не из жадности или невнимания, как опять же вначале думал он, а из уважения к человеку: захочет — возьмет сам.
— Вы пойдете куда или как?
Он не сразу ответил. Подумал вдруг, что соседке, пожалуй, поручено присмотреть за домом, за ним, загостившимся иностранцем. Понимал, что дело это обычное, житейское, так бы поступила любая хозяйка, но мысль неприятно задела его.
— Я уйду, на целый день уйду.
Куда идти, он еще не решил. Магазины, выставки по случаю пасхального понедельника были закрыты, а шататься по улицам надоело. Оставалось одно — снова уповать на Фреда. Вчера Фред предложил поехать куда-нибудь, но Александр отказался. Из скромности отказался, считая, что и так слишком злоупотребляет временем и вниманием Фреда.
И все же он подошел к телефону, набрал номер.
— А я сижу жду, — сказал Фред.
— А я сижу думаю. Последний день, как последние деньги, хочется получше использовать.
— До чего же додумался?
— Пока ни до чего.
— Тогда я сейчас приеду. Мама завтракать приглашает.
— Спасибо, я уже позавтракал.
— Тогда что ж, куда-нибудь?
— Это, наверное, как раз то, что надо.
Фред засмеялся и положил трубку.
Александр вышел во двор. Солнце припекало в затишке между домами. Девчонки все еще возились со своими «пасхальными куличами». Ласточка под крышей опять клевала своего ленивого «супруга» и никак не могла до-клеваться до его изнежившегося на солнцепеке сердчишка. Закрыв глаза, Александр прислонился к прогретой солнцем стене и вдруг с неожиданно острой тоской подумал, что он тоже вроде этого ласточкиного папы забывает о своей семье. Ладно уж Татьяна, — любовь ушла, как говорится, превратившись в привычку, — но Нелька! А ведь и о Нельке в последние дни не больно-то вспоминал. И снова с затаенной радостью подумал о завтрашнем отъезде домой. Начал представлять, как будет вести себя Нелька, увидев тот или иной заграничный подарок, но тут услышал шаги по плитчатой дорожке, ведущей к дому, и понял: Фред.
— Куда поедем? — спросил Фред, выводя машину из лабиринта узких улочек Дегерлоха.
Александр пожал плечами.
— За город?
— А можно за город?
— Куда угодно, я сегодня свободен.
— А что, если… — Александр замялся, не зная, как сказать. Который день мучили его мысли об этом марше мира. Нет, не сожалел, что не поехал вместе с Крюгерами, хотя страсть как хотелось поглядеть на все это. Но не мог так вот, дуриком, подставляться местным газетчикам. В том, что газетчики, узнав об участии русского в демонстрации, непременно напишут об этом, не сомневался. А с другой стороны, отказываясь от участия в марше мира, кем он выставлял себя в глазах Крюгеров, их знакомых?
Фред ехал медленно, не как обычно. Впереди была большая дорога, по которой, если свернуть направо, можно было попасть в город, если налево — в зеленые просторы предгорий хоть Швабского Альба, хоть Шварцвальда.
— Со стороны бы поглядеть, а?
— Можно, — сразу понял Фред и свернул направо.
Через десять минут они проскочили восточную окраину Штутгарта и выехали на шоссе, ведущее к небольшому городку Швебиш-Гмюнд. Александр сразу нашел эти два слова среди других названий на дорожных указателях и все смотрел, когда мелькнет роковое «Mutlangen». Но его все не было, видимо, был этот Мутланген, находящийся возле Швебиш-Гмюнда, совсем крохотным местечком. Казалось даже странным, что название, из-за этих проклятых американских ракет известное теперь всей Европе, даже не удостоилось попасть на дорожные указатели.
Машин было мало, и здесь Фред отводил душу на предельных скоростях. Но это не мешало ему разговаривать, даже жестикулировать, поочередно отрывая от руля руки.
— Швебиш-Гмюнд? О, старый город, восьмого века. Есть что посмотреть. Любимый город Парлеров. Не знаете? Это же семья знаменитых архитекторов четырнадцатого — пятнадцатого веков. Многие храмы Южной Германии и Чехии — их постройка. В Швебиш-Гмюнде увидите — уникальная зальная Хейлигкрёйцкирхе… А потом город прославился казармами. В восемьсот двенадцатом году отсюда отправился в поход на Россию пехотный полк. Шестьсот человек. Вернулись трое. Ну а в минувшую войну!..
Он поднял обе руки над головой, и Александр невольно сжался.
— Ничего, — успокоил, снова положив руки на руль, — «Лада» — хорошая машина.
— И хорошие, бывает, бьются.
— У плохих водителей. А я могу продемонстрировать…
— В другой раз, — сказал Александр и поспешил вернуть разговор в старое русло: — И опять здесь гарнизон? На этот раз американский?..
— Американцы всюду, — подхватил Фред. — Они хотят приучить нас к мысли о неизбежности их присутствия. Привыкли же люди к нечистой силе. Страшная штука, а куда денешься? Вот и американцы думают, что к ним тоже привыкнут. И ведь привыкнут. У нас многие считают, что произойдет это не без вашей помощи.
— Моей?! — Ясно было, о чем речь, но он нарочно валял дурака, боялся, что и Фред тоже, как Хорст Крюгер и Каппес, начнет мусолить любимую здесь тему о равной ответственности стран.
— Что — ты?! Маленький листок, занесенный случайным ветром…
— «Дубовый листок оторвался от ветки родимой, — перебил Александр. — И в степь укатился, жестокою бурей гонимый…»
— Это стихи?
— Лермонтов. Знаешь? Вот и я сейчас вроде того листка.
— Не-ет! — Фред покачал головой. — Я знаю таких, как этот листок. Но ты — нет. Ты скорее, как это? — колобок. Сказка такая, да? Даже сейчас я тебя везу, а ты вроде как сам едешь. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от тебя, волк, уйду». Так?
— А ты как бы хотел?
— Так, так! Отец рассказывал о русских, и я верил: умрут, а не выдадут. Душа большая, потому и прощают всем, даже вчерашним врагам. А тут приезжают от вас всякие, называют себя русскими, а ругают все русское, нехорошо ругают. Кому верить? А ты мне нравишься. Ты возвращаешь мне веру в слова отца.
— Не перехвали, — сказал Александр. — Аз есмь грешен, — сказал он по-русски, как мог, повторил по-немецки и замолчал, замаялся воспоминаниями о Саскии.
Фред засмеялся понимающе.
— То не грех.
— А знаешь, какой из семи смертных грехов самый страшный? Прелюбодеяние.
— Устарело.
— Что?
— Семь грехов. Теперь их больше. И самый страшный — унижение родины. Хуже, чем оскорбление матери.
— Интересно.
— Что интересно?
— Всё. И то, что именно ты это говоришь, и то, почему говоришь.
— Прелюбодеяние хоть и извращенная форма, но все же — любо-деяние. И я не знаю, что из двух крайностей лучше в общении с женщиной — оставаться холодным камнем или напропалую флиртовать. Вон как ты вчера взбудоражил наших женщин.
— Может, это ты их взбудоражил.
— Ко мне они привыкли.
— А знаешь ли ты, что я тут чуть не влюбился? А она оказалась пастором. Саския… — Он сам удивился, как легко произнес это имя. Еще несколько дней назад не решился бы никому признаться в своем увлечении. А теперь мог сказать даже «чуть». Это могло означать только одно: наваждение проходит. Или Фред на него так влияет? Легко и просто было перед ним опорожнять душу от невысказанного. Как перед исповедником.
— Любая любовь лучше любой ненависти, — сказал Фред.
— Но лучше высокая любовь.
— Кто спорит?
— А высокая ненависть?
— Что?
— Ну… лучше сказать: святая ненависть.
— Звучит все равно как «святой сатана».
— Это все умствования, Фред. — Он помолчал и заговорил медленно: — Я здесь избегал разговоров о войне, а сейчас скажу: именно ненависть дала нам силы победить. Святая ненависть.
— Нет, нет! — Фред замахал сразу обеими руками, оторвав их от руля. — Отец говорил о вас совсем другое.
— Другое он говорил об отношении к пленным. А о стойкости русского солдата разве не говорил? О его выносливости, самоотверженности, презрении к смерти? Если бы ничего этого не было, как бы русские оказались в Берлине? Задумывался над этим?
— Конечно. Большая территория, большие материальные и людские ресурсы, наконец, ваш общественный строй, позволивший максимально централизовать и направить все средства и возможности на войну. Разве не так?
— Так, да не совсем. Слышал ты о таком понятии — массовый героизм? Задумывался ли о том, почему, несмотря на колоссальные потери на фронтах, число самоотверженных людей, героев, не убывало, а скорее наоборот? Одни герои погибали, откуда брались другие?
— Наверное, русские такие воинственные?
— Воинственные? Совсем нет. Русские скорее безмерные добряки, отчего и страдают на протяжении всей истории.
— А вон сколько захватили…
— Что захватили?
— До Тихого океана.
— Это не захваты, дорогой Фред. Тысячу лет, а может, и больше Россия, Русь сдерживала напор кочевой степи. И сдержала, и этим, кстати сказать, спасла Европу от разорения. А потом, когда кочевой образ хозяйствования в результате закономерных исторических процессов изжил себя, начался обратный процесс, — распространение на восток более передовой земледельческой культуры. Только и всего. Немногочисленные кочевые народы, которые жили на этих территориях, перешли на оседлый образ жизни и существуют поныне, имеют самоуправление, автономию. Ну-ка найди что-нибудь похожее, скажем, в Соединенных Штатах Америки?
— Оставим американцев. У них свои грехи, у вас — свои. Захват есть захват, чем бы это ни объяснялось.
— Фре-ед! Да неужели это ты говоришь такое? — воскликнул Александр. — Когда бандит на ночной улице убивает человека, это одно, а когда человек, защищаясь, убивает бандита, это же совсем другое! Как можно равнять?!
— А чем объяснить тот факт, что маленькое Московское княжество за несколько веков превратилось в такого гиганта?
— Это же естественный процесс объединения. Германия когда-то делилась на десятки самостоятельных государств. Объединение их разве можно назвать чьим-то захватом?
Фред долго не отвечал, видно, такое сравнение было ему внове. Справа и слева от дороги разворачивались пологие зеленые горы с живописно раскиданными по склонам аккуратными домиками. Машина проскочила тихий городок с коротким названием Лорх, перемахнула по мосту через речку Ремс, и у обочины Александр вдруг увидел большую надпись: «Першинги-2» рядом, за окном». Невольно оглянулся, ища глазами темные силуэты ракет, так въелись в сознание плакатные образы. Светило солнце, прожекторно взблескивали окна домов на холмах, колками топорщились перелески в накинутых поверх прозрачных вуальках первой листвы. А впереди, в межгорье, поднимались над лесом островерхие, действительно похожие на ракеты шпили кирх Швебиш-Гмюнда.
Улицы и площади города были забиты плотными толпами, и Фреду то и дело приходилось сворачивать в переулки, объезжать. Наконец нашли стоянку, где можно было приткнуть машину. Городские кварталы остались в стороне, а здесь вплотную к стоянке подступали зеленые склоны, поросшие плотными зарослями кустов. Стояло под горой глухое краснокирпичное здание без окон и с трубой, похоже — котельная. У самого въезда на стоянку примостился домик пивбара. И еще по соседству были два-три одноэтажных домика.
Александр огляделся, прикидывая, куда отсюда пойти.
— В толпу-то не надо бы, издали бы посмотреть, — на всякий случай напомнил Фреду.
— Посмотрим, — неопределенно ответил Фред и полез напрямую в гору, через кусты, через какие-то редкие проволочные загородки. Наверху, оказалось, была дорога, они пошли по ней и скоро увидели впереди другую дорогу и людей, идущих по ней бесконечной колонной все выше и выше в гору.
Они стояли поодаль и смотрели на эту колонну. Люди были одеты кто как, по-простому — куртки, свитера, брюки в сапоги, и джинсы, джинсы на мужчинах и женщинах. И никого в костюме с галстуком. Александр знал, что вызывающе простой вид — первый признак членов партии «зеленых», которые демонстративно не надевают галстуков даже на заседания в бундестаге. И скоро он увидел их символ — белого голубя на фоне цветка подсолнечника. Люди несли и другие символические изображения — руки, разламывающие винтовку, силуэт человека, загородившего дорогу танку, голуби разных видов, даже поющий петух. Кому они принадлежали, он не знал, а спрашивать не хотел: трудно было оторвать взгляд от этой массы бредущих в гору людей. Так в кино: хочется спросить соседа о непонятном слове или сцене и трудно спросить, потому что тогда что-то еще упустишь, прослушаешь. Плыли над толпой разноцветные воздушные шарики, покачивались плакаты с самыми разными надписями и рисунками. «Entrüstet Euch!» — взывали плакаты. «Ohne Rüstung leben!» «Keine Atomraketen in unserem Land!»[16] Вот на плакате монашка с крестом на груди бьет зонтиком черный конус ракеты. Вот домохозяйка, словно заправский футболист, поддает ногой кувыркающуюся в воздухе атомную бомбу. А вот целая толпа навалилась на ракету, опрокидывает ее. И снова надписи: «Pershing — Tod!», «Es ist an der Zeit sagt «Nein!»[17]. И кресты, кресты, большие и малые, только что вытесанные, белые и совсем черные, будто обугленные на пожарище. На крестах было что-то написано, не разглядеть издали.
Люди шли и шли, текли бесконечным потоком все в гору, в гору.
— Куда они?
— Окружать американскую базу.
— Мутланген, значит, там?
Фред кивнул.
От колонны отделилась девушка, подбежала к ним, сунула Александру какую-то картонку и побежала обратно.
На картонке было силуэтное изображение детей, мальчика и девочки, освещенных вспышкой атомного взрыва, а рядом стихи:
«Мы живем после второй мировой войны в этом столетии. Мы уже имели две мировые войны. Правда, неясно, в послевоенное время мы живем или уже опять в предвоенное. Только после этого предвоенного времени послевоенного больше не будет. На первую мировую войну нам приказал идти кайзер, на вторую Адольф Гитлер. Они, дескать, диктаторы, что было делать. А на этот раз мы отговариваться не сможем».
Он подал картонку Фреду, ткнул пальцем в стихи: почитай. И снова стал смотреть на колонну, которой, казалось, конца не будет. Шла большая группа людей в национальных костюмах. Парни и пожилые мужчины в светлых рубахах под жилетами и короткими куртками. На некоторых были длинные широкополые кафтаны с обшлагами на рукавах. Все в узких штанах до колен, в гетрах и башмаках с пряжками. На женщинах и девушках — белые кофты с рукавами, корсажи со шнуровкой спереди, короткие, в сборку, широкие юбки под белыми фартуками.
И снова обычные современные костюмы, одежда по принципу — кто во что горазд. Снова плакаты и кресты, кресты. Один огромный крест, сколоченный уже не из палок, а из толстенных жердей, тащила на плече женщина, одетая в примелькавшиеся здесь джинсы и мужскую грубую куртку. Ветер трепал светлые волосы, рассыпал их по плечам, по темному дереву креста.
«Чего другие-то не помогут?» — подумал Александр. И тут же узнал: Саския!
И побежал к ней.
Саския так безумно глянула на него из-под рассыпавшихся волос, что он отшатнулся.
— Уйди!
— Это же я, — растерянно проговорил Александр. — Давай помогу.
— Не мешай!
— Я же хочу помочь.
— Нет! — Она выкрикнула это раздраженно, на них стали оглядываться. — Я сама, сама. Это мой… крестный путь!
— Ты что?! — удивился он и оглянулся, ища глазами Фреда. Фред шел неподалеку, не смотрел в их сторону. — Что ты говоришь?! Это же юродство!
— Юродство?! — Она остановилась. — Юродство! — повторила Саския и по-мужски рукавом куртки вытерла пот со лба. — Когда мир всею своею хваленою мудростью не познал бога в премудрости божией, то благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих. Юродство! — Она помотала головой, рассыпая по плечам волосы. — Мой крестный путь кажется мне достойным примером…
— Но ты женщина! — сказал Александр, обрадованный уже тем, что она заговорила с ним. — Не женское это дело таскать такие тяжести. Если так уж нужно втащить этот крест на гору, давай помогу.
— Что же получится, — недобро усмехнулась она. — Русский несет крест? А если узнают?
Он опешил от такого предположения. Конечно, узнают, да еще кто-нибудь сфотографирует, в газетах пропечатают. Вот уж скандал будет!
— Юродствуем мы повседневно, — сказала Саския. — И ты юродствуешь. Зачем вот приехал? Совесть заела? Или посмотреть захотелось? Все мы здесь во имя протеста, а ты? Боишься ведь.
— Чего это я боюсь?!
Она пожала плечами.
— Я знаю, почему ты так ко мне относишься, — хмуро сказал Александр.
— Интересно. Что же ты знаешь?
— Все. И почему я удостоился вашего с Луизой приглашения, и вообще все. Поиграли в похожего человека и надоело, да? Пощекотали нервы и в сторону?
— С чего ты это взял? — насторожилась она.
— С того. Мне пастор Штайнерт все рассказал.
Саския засмеялась.
— Он сам ничего не знает, твой Штайнерт.
— Он сказал: все дело в том, что я внешне похож на Сержа, сына Луизы.
— Не только внешне, — вставила Саския.
— Ну вот. И Эльза это подтвердила.
— Что подтвердила?
— Что мы с Сержем похожи друг на друга.
— Больше ничего?
— А что еще?
— Ну, я пойду, — облегченно вздохнула она и подлезла под перекладину креста.
— Так мы пойдем или будем с девушками разговаривать? — крикнул издали Фред.
— Так ведь помочь бы. Не женское дело — тяжести таскать.
— Она знает, что делает, не мешай ей.
— Не мешай, не мешай! — Саския словно бы нашла наконец нужное слово, повторила. — Не мешай мне, иди. Потом поговорим.
— Завтра я уезжаю, — напомнил он.
— Может быть, я приду к поезду.
Не обращая больше внимания на Александра, она потащила крест в гору. Длинным концом крест волочился по асфальту, оставляя белый след.
— В шесть часов поезд отходит! — крикнул ей вслед.
Она не обернулась и вообще никак не выказала, что услышала. Люди обходили ее, парни и девушки, мужчины и женщины, с сумками, с плакатами и вообще без ничего в руках. На Саскию оглядывались, но никто не предлагал свою помощь.
Еле отыскал он далеко впереди большую лысину Фреда, побежал догонять. Оглянулся на бегу и уже не увидел Саскии за толпами людей.
— Куда так торопишься? — запыхавшись, спросил Фреда.
— Ты хотел посмотреть? Расстояние немалое.
Он замолчал, все так же быстро шагая по обочине дороги. Что-то тревожное было в его молчании, в его спешке.
Дорога уперлась в колючую проволоку и здесь раздваивалась. На развилке стоял человек с мегафоном, кричал, чтобы люди расходились равномерно направо и налево. Фред повернул направо. Дорога была забита демонстрантами, люди стояли кучками и тонкими цепочками, взявшись за руки. Фред обходил эти группы лесом, и Александр, которому все хотелось рассмотреть получше, то и дело отставал и потом догонял Фреда быстрым шагом. Бежать не решался, чтобы не привлекать к себе внимания.
Проволочный забор состоял из трех колючих спиралей, положенных одна на другую и поднимавшихся выше человеческого роста. За ними, почти вплотную, стоял еще один колючий забор, на кольях. Дальше поднимался пологий склон, поросший все тем же сосновым лесом. Меж деревьев то тут, то там появлялись какие-то люди. Только остановившись и приглядевшись, Александр понял: американские военные патрули. В маскхалатах, с засученными рукавами, с автоматами в руках. Патрульные шагали размеренно, не обращая внимания на демонстрантов, но по их решительному виду было ясно, что они тут отнюдь не ради почетного эскорта.
Ракет не было видно, то ли они находились под землей, то ли где-то в другом месте. Александр хотел подойти ближе к проволоке, но вдруг увидел полицейских. Они стояли редкой бесконечной шеренгой возле самой проволоки, шагах в двадцати друг от друга, и никак себя не проявляли, одни мирно беседовали с демонстрантами, другие рассматривали свои ноги, словно впервые видели их. И если бы не одинаковая зеленая униформа да не тяжелые кобуры на поясе, их вполне можно было принять за «орднеров» — распорядителей, выставленных самими демонстрантами.
Он снова заспешил догонять Фреда, боясь совсем потерять его в толпе.
— Идите к нам! — позвали его из шеренги.
Он сделал вид, что не расслышал. Но вскоре опять остановился. Группа молодых людей громко пела под гитару о том, что люди — лишь шахматные фигуры в злой игре империалистов, что человек с человеком должны встать вместе и этой людской цепью связать ракеты, спасти радость человечества.
Фреда уже совсем не было видно. Это удивляло и тревожило. Почему все время уходит, оставляя его одного? Боится? Значит, ему, Александру, еще больше надо бояться? Подумал: не уйти ли подальше от греха? Вернуться к машине и там подождать Фреда. Но любопытство одолевало. Если уж столько прошел и на него никто не обратил внимания, то можно пройти еще немного.
Теперь он не торопился, шел, поглядывал по сторонам, стараясь не очень удаляться от движущейся, все время перетекающей с места на место бесконечной цепи демонстрантов.
Вскоре лес отступил от проволочной ограды и открылось огромное поле. Далеко впереди изгородь под прямым углом загибалась влево и там, в полукилометре от поворота, отсекала от чистого поля огромную толпу, растекшуюся до крутых крыш городка, видневшегося на горизонте, вероятно, того самого недоброй памяти Мутлангена.
До поворота изгороди толпы демонстрантов двигались как бы в коридоре, огороженном с одной стороны проволочным забором, с другой — метрах в сорока — стеной леса, густого, смешанного, с высокими соснами, зелеными елями и голыми безлистными вениками какого-то высохшего кустарника. Возвращаться отсюда, идти встречь движущегося в одну сторону потока людей значило обратить на себя внимание, и Александр шел вместе со всеми.
И вдруг он увидел Каппеса. Потому и увидел, что Каппес шел навстречу, всматриваясь в лица людей, искал кого-то. Александр отступил в кусты: с Каппесом встречаться, да еще здесь, совсем не хотелось. С Крюгерами или даже с пастором, Штайнертом — другое дело. Эти — открытые души, перед ними оправдаться не грех бы. Дескать, и я вместе с вами. Но Каппес был непонятен. С ним и оглянуться не успеешь, как окажешься в центре внимания. А там и газетчики подоспеют, не упустят такого случая. Да ведь и полицейские зачем-то стоят тут. В открытом поле весь их частокол — как на ладони.
Сзади что-то фыркнуло. Оглянулся Александр и обомлел: в метре от него качалась голова лошади. И всадник был хорошо виден за редкими кустами — полицейский. Нет, нельзя было отскочить, выказать страх, это Александр сразу понял. Полицейский мог заинтересоваться им, мог просто захохотать и тем привлечь внимание Каппеса. Отшагнув в кусты, Александр сделал вид, что справляет малую нужду. Покосился на полицейского и рядом с ним увидел другого. Должно быть, они давно тут стояли и он сам, прячась, напоролся на них. Мелькнула запоздалая мысль: а можно ли тут делать то, что делает он? В городе за такое запросто задерживают и крепко штрафуют. А здесь? Вдруг он своей малой нуждой оскверняет чью-то частную собственность? Но делать было уж нечего, и он все стоял в кустах, сквозь ветки выглядывая Каппеса. Потом пошел вдоль опушки, не выходя из леса. Оглянулся и увидел, что конные полицейские медленно движутся за ним, отводя от лица низкие ветки. Тогда он резко повернул, вышел на дорогу и затерялся в толпе. Хотел даже взять у одного из демонстрантов плакат на палке, изображающий черную ракету, перечеркнутую крест-накрест красными мазками. Но тот неожиданно свернул к проволоке и воткнул плакат в середину колючей спирали.
Только дойдя до поворота забора, Александр остановился и огляделся. Ни Каппеса, ни Фреда нигде не было видно. Конные полицейские выехали из леса и неподвижно стояли на опушке.
За поворотом проволочный забор был расцвечен еще больше. Много здесь было и крестов, местами они стояли в ряд, напоминая кладбище. За забором в открытом поле виднелись автомашины, легковые и крытые грузовики. И американских солдат здесь было больше. Кое-где они стояли кучками возле небольших окопчиков, обложенных мешками с песком. И забор стал повыше. К нему добавился еще один ряд колючки на высоких столбах, по верху которых тянулась проволочная спираль. А впереди, где, заполонив все поле, гудела, двигалась многотысячная толпа, были ворота — металлические, обтянутые все той же колючей проволокой. В этом месте полицейские, словно убоявшись толпы, стояли по другую сторону забора. За ними топтались какие-то люди — десятка два людей, военных и гражданских. Еще дальше, перегораживая широкую грунтовую дорогу, уводящую в поле, вплотную друг к другу стояли тяжелые армейские грузовики. На крыше каждого, опустив ноги на капот, сидел солдат с автоматом на коленях. Все были готовы, все чего-то ждали.
К воротам было не подступиться. Только один раз в образовавшийся просвет между людьми Александр разглядел двух человек в бумажных колпаках на головах, сидящих в пыли перед самыми воротами. Кто-то сказал, что это буддийские монахи, приехавшие то ли из Японии, то ли из Южной Кореи специально для того, чтобы выразить свои протесты против американских авантюр.
Потолкавшись в толпе, Александр понял, что она не аморфна, а делится на отдельные группы и в каждой — свой оратор. Это был грандиозный митинг, в котором говорили сразу многие. И пели. Под аккомпанемент гитар и просто так, без всякого аккомпанемента:
Видят люди: «першинги» стоят, «Першинги» на пустыре…Высокий голос запевалы, доносившийся из толпы, перебивался дружным хором:
«Першинги» — смерть! «Першинги» — смерть!! «Першинги» на пустыре…— Нечего обманывать себя! — гремело в центре другой, плотно сбившейся кучки людей. — Мы лишь заложники у Пентагона. Восемь тысяч ядерных боеприпасов разместила Америка в Европе. И три тысячи средств их доставки. Этого им мало, и они ставят еще «першинги» и крылатые ракеты. Нечего обманывать себя! Американцы давние провокаторы. Каждый год не меньше восьми раз используют они вооруженные силы в своих внешнеполитических целях…
Александр прошел еще несколько шагов и услышал другую речь. Этот оратор не старался перекричать других, но слова его почему-то были слышны четко и ясно. Голос этот чем-то напоминал голос пастора Штайнерта.
— …Страшна и отвратительна риторика презрения и ненависти, утверждающая, что цивилизованной является только чья-то одна группа, и клеймящая других как варваров. Для ответственных национальных руководителей оскорблять чувство наций и народов, приклеивая к системам, в которых они живут, ярлыки «средоточие зла», как это делает Рейган, — не только бесчеловечно, но и практически пагубно: это навлекает войну…
— …На обучение ребенка науке созидания сегодня тратится в шестьдесят раз меньше, чем на обучение солдата азбуке истребления! — долетал с другой стороны женский крик, прямо-таки вопль, доведенный до самых высоких нот.
И снова голос, похожий на пасторский:
— …Министр обороны США настаивает на производстве семнадцати тысяч единиц ядерного оружия к девяносто второму году. Мы не можем говорить, что это просто безумие. Это запланированная, методичная, бесчеловечная, демоническая манипуляция ресурсами мира и трудом масс для обогащения нескольких корпораций и тех, кто получает от них выгоду. Разве это не те же силы, которые толкнули мир к двум мировым войнам в этом веке и стремятся снова толкнуть в третий и, безусловно, последний раз? Разве это не те же самые силы, которые препятствуют делу справедливости на каждом шагу?.. Церкви должны как можно скорее выявить эти силы, разоблачить их бесчестность и двурушничество и начать отучать мужчин и женщин доброй воли от служения этим силам, потворствующим войне и угнетению…
Теперь Александр был уверен, что это именно Штайнерт говорит. Он хотел протиснуться вперед, чтобы убедиться в этом, но вдруг подумал, что пастор, увидев его, возьмет да и объявит о нем. И поспешил отойти подальше.
Солнце палило голову, хотелось пить, но он все ходил от группы к группе, слушал.
— …Ракеты — вынужденная мера, она удержит красных от рокового шага!..
Это было неожиданно слышать, и Александр подался к небольшой группе, в которой кричали, казалось, все, яростно спорили.
— …Лавины красных танков стоят на нашей границе! Несколько часов, и они могут быть на Рейне!..
— На завтрак в Мюнхен? — спросили оратора.
— Лучше быть мертвым, чем красным!
В толпе кто-то ударил по гитарным струнам и запел. Послышался смех: песню сразу узнали. И Александр знал эту песню, которая так и называлась — «На завтрак в Мюнхен». В ней говорилось об одном мюнхенце, который нигде не мог позавтракать, потому что радио перепугало людей мифическим сообщением о нападении русских. Всюду было пусто. Наконец на опустевшей автостоянке он нашел трех туристов из Москвы на своем «Москвиче», показал им дорогу к центру города и получил приглашение позавтракать вместе с ними.
Песня эта все звучала в ушах, пока Александр выбирался из толпы. Он шел и думал, что американская база охраняется, как видно, не только автоматчиками да полицейскими, но еще и провокаторами. Запутать демагогией единый порыв масс, увести в сторону бесплодных дискуссий. Подменить ведущего, закружить, чтобы никто не понял, куда стремиться, чего хотеть. Старый прием. Так останавливают табуны лошадей.
Там, куда он вышел, забор делал зигзаг. Но этот зигзаг был особенно опутан колючей проволокой. Здесь громоздились один выше другого сразу несколько проволочных заборов. А за ними, метрах в трехстах, никак не более, за зеленым лужком высились ангары, поблескивали на солнце металлическими рифлеными крышами. «Внимание! Запретная зона!» — взывала надпись с большого щита, установленного между заборами. На другом щите было написано, что это и есть военная база «Мутланген», и ракеты, нарисованные на обоих концах этой надписи, не оставляли сомнения, что именно упрятано в ангары. Было странно и страшно находиться в такой близости от ядерных бомб, представлять, как они там лежат в боеголовках ракет, маленькие куски урана, размером всего-то, наверное, с кулак, закрепленные на разных концах трубы размером, пожалуй, не более чем в размах рук, погруженной во что-то особо смертоносное. Плод мудрости человеческой, создавшей чудовище! Мудрости ли? Старая истина: когда бог хочет погубить человека, он отнимает у него разум…
Александр отдернул руку от проволоки, увидел на пальце кровь. Оказывается, он таки схватился за острые как бритвы колючки спирали. Пососал ранку, выплюнул кровь и снова подумал об отнятом у человека разуме. И еще подумал о том, что речи Саскии и пастора Штайнерта не проходят для него бесследно, если и он вспомнил о боге. «А о ком еще вспоминать? — попытался оправдать он себя. — Все, что происходит в мире, выше человеческого разумения. Да полно, — одернул он себя. — Правильно говорил тот, с голосом, похожим на пасторский: все это запланированная, методичная, бесчеловечная, демоническая манипуляция судьбами человечества для обогащения нескольких корпораций. Загнать бы этих представителей за эту вот проволоку, — места бы хватило для всех с излишком, — да взорвать всего лишь одну бомбу из тех, что наготовлены тут для людей. Одну-единственную. Вот бы народы вздохнули!»
Кто-то положил ему руку на плечо. Александр резко обернулся и увидел Фреда.
— Куда ты пропал? — спросил Фред.
— А я думал: это ты пропал.
То ли Фред не заметил его невежливого ответа, то ли ждал подобного. Спокойно повернулся и пошел вдоль проволочного забора, вплотную подступившего здесь к безлистному еще мелколесью.
На узкой лесной тропе было тесно. Люди непрерывным потоком шли навстречу, устремляясь все туда же — к воротам военной базы, где кипели митинги, и они, движущиеся в обратном направлении, вынуждены были то и дело пропускать встречные группы, отступая в лес. Но вот тропа пошла круто вниз, колючий забор, тянувшийся по кромке обрыва, ушел влево, и они остались одни: демонстранты предпочитали проламываться сквозь плотные заросли кустов, но не отходить от забора. Скоро тропа вывела на асфальтовую дорогу. Справа был пологий склон, поросший редким молодым лесом, слева — крутой. Наверху меж тонких стволов поблескивала колючка, и там, вдоль нее, пробирались через мелколесье люди. Видно было, как они цеплялись за ветки, чтобы не скатиться вниз. И здесь тоже забор пестрел плакатами, и здесь собирались группы, митинговали, пели.
— Ну как, понравилось? — не оборачиваясь, спросил Фред.
— Впечатляет.
И оба замолчали, словно этим сказали всё. Дорога здесь, в овраге, была почти пустынна, и вела она, судя по всему, на ту самую дорогу, по которой они шли сюда, поднимаясь в гору. Теперь, когда все страхи были позади, Александр сам удивлялся себе: обошел-таки этот Мутланген, кругом обошел! Будет что рассказать дома. А главное, можно теперь оправдаться перед Крюгерами, перед Штайнертом. Больше всего почему-то ему хотелось, чтобы об этом узнал пастор. Может, потому, что он бесцеремоннее других нападал на Александра?
— Жарко, сейчас бы пивка холодненького, — сказал Фред.
— Не помешало бы.
И снова замолчали, думая каждый о своем. Александру хотелось, чтобы Фред сказал что-нибудь о смелых и отзывчивых русских. Какая смелость — прятаться в толпе? Но сейчас, переживая эйфорию, он казался себе рисковым парнем. А риск, наверное, таки был. Не случайно же Фред все время убегал от него. Верняком хотел в случае чего остаться в стороне. Спросить об этом Фреда? Но как спросишь? Обидится, пожалуй.
Навстречу ехали по дороге две легковые машины с макетами ракет на крышах. Они отступили на обочину, чтобы пропустить машины, и увидели на ракетах большие буквы «SS-20».
— Что это значит? — удивился Александр.
— Разве непонятно? — в свою очередь спросил Фред.
Все было ясней ясного. Демонстрацией советских ракет «СС-20» кому-то не терпелось упрекнуть в атомной опасности для мира также и Советский Союз. Кому-то? Ясно кому. Бандит, напавший на прохожего, любит кричать: «А он сам!..» Бандиту это выгодно, это как бы снимает с него половину ответственности. А от суждения, что оба равно виноваты, недалеко до вывода: некого винить. И значит, весь этот марш мира — не по адресу. Значит, он с таким же успехом мог быть проведен, скажем, возле курортного Боденского озера.
Александр еще раз посмотрел вслед быстро удаляющимся машинам, по-русски, сквозь зубы, выматерился.
— Пацифисты, что ли?
— У нас многие боятся ваших ракет, — неопределенно ответил Фред.
— Что они — не понимают?!
— Вот бы и сказал там, чтобы поняли. — Фред махнул рукой назад и вверх.
Остудил. Эйфории как не бывало. И сам себе показался Александр отнюдь не героем, а робким мальчишкой. Было с ним такое когда-то в детстве. Стащил со стола конфетку и сделал вид, будто это не он. Сам себе казался ловким, пройдошистым. Ничего не помнил от того детства, а случай с конфетой все жил в нем. И вот теперь впервые подумалось ему, что память время от времени подсовывает этот эпизод не для того, чтобы он лишний раз погордился ловкостью юного сорванца, а чтобы устыдился и понял: ценно не то, что ухвачено у жизни исподтишка.
Они вышли к тому самому перекрестку, от которого три часа назад повернули направо. Нашел Александр и след на асфальте — от креста, который тащила Саския. Огляделся, ни креста, ни Саскии не увидел, но даже не пожалел об этом. Смута была в его душе, горестное осознание несодеянного. Едва поспевая за Фредом, быстро шагавшим под гору, он все думал о том, что зря напросился к этому Мутлангену. Что доказал Крюгерам, пастору, Саскии, Фреду? Что умеет бегать зайцем в толпе? Неучастие, оно и осталось неучастием… Впрочем, если бы и поехал с Крюгерами на поезде демонстрантов, если бы даже речи произносил у ворот, все это было бы с его стороны не более чем паясничанием. Завтра он уедет и успокоится в своем неведении. А они останутся и будут мучиться в ожидании апокалипсиса, распинаемые разноголосицей газет, слухами о «красной опасности» и о реваншистских выходках «вечновчерашних», вздрагивать от телефонных звонков, жаждать покоя и осознавать, что нужно, совершенно необходимо что-то предпринимать, иначе можно однажды оказаться под развалинами собственного дома или проснуться от грохота сапог очередных штурмовиков под окнами…
На стоянке, все так же забитой машинами, было безлюдно: вернулись они от Мутлангена одними из первых. Не сговариваясь, прошли в пивной бар, совершенно пустой, без единого посетителя, сели за столик. Из двери за стойкой выглянул хозяин, Фред показал ему два пальца, и он исчез. Через минуту появился снова, положил на стол два фирменных картонных кружочка и поставил на них высокие стаканы с пенными шапками пива. На стене, только рукой достать, висел беззвучно работающий телевизор. Передавали конные состязания. Хозяин потянулся к телевизору, чтобы включить звук, оглянулся на Фреда. Тот покачал головой, и хозяин опустил руку, ушел.
Пиво было холодным, почти ледяным. Они пили его маленькими глотками и молча смотрели на безмолвные медлительные танцы красивых коней на экране. Всего в двух-трех километрах отсюда десятки тысяч людей исходили в криках, а здесь были покой и умиротворенность, и это спокойствие хозяина, этот телевизионный нейтралитет казались странными, неестественными. И традиционный плакатик, висевший под телевизором — «Richtige Rechnung macht gute Freundschaft»[18], — казался нарочитым и неестественным. Александр был уверен: многие из тех, что окружали сейчас базу «Мутланген», имели иное, более широкое представление о дружбе, нежели только правильный денежный расчет.
— Скажи, ты — коммунист? — неожиданно спросил Фред.
— Беспартийный большевик, — усмехнулся Александр.
— Что это?
Не очень уверенный, что говорит правильно, он начал рассказывать о том, что Коммунистическая партия Советского Союза прежде называлась партией большевиков и те, кто не состояли в ней, но были, как говорится, обеими руками за, простецки назывались беспартийными большевиками, что термин этот, хоть и редко, и поныне используется в разговорной речи.
— А почему ты не коммунист? — прервал Фред его путаную речь.
— Так уж вышло. — Он внимательно посмотрел на Фреда. — А ты коммунист?
— Нет.
— Почему?
— У нас быть коммунистом не просто, — медленно, словно обдумывая каждое слово, ответил Фред. — О запрете на профессии слышал? Будь я коммунистом, меня бы уволили из школы. — Он вдруг наклонился вперед, почти лег на стол и, косясь то на хозяина, замеревшего за стойкой, то на телевизор, на экране которого все танцевали лошади, заговорил горячо и сбивчиво: — У нас многие душой с Германской коммунистической партией, многие принимают ее прямоту и бескомпромиссность, особенно в вопросах борьбы за мир. В демонстрациях протеста, вроде сегодняшней, коммунисты всегда вместе с «зелеными», социал-демократами, со всеми, кто против войны. Они не прячутся, нет! — раздраженно произнес он, словно Александр говорил обратное. — Но какой смысл выпячивать именно коммунистические лозунги, когда налицо целый антивоенный фронт организаций и партий? — Он помолчал, улыбнулся смущенно. — Что-то не то сказал, да? «Антивоенный фронт». Если уж фронт, то военный, а антивоенный — антифронт, что ли?
— По-моему, правильно сказал. Против сил войны и насилия нужно насилие же. Одними молитвами тут не обойтись.
— Молитвами?
— Ну, одними словесными протестами да призывами.
— Не знаю, не знаю…
Замолчали, будто все высказали, и говорить больше уж не о чем.
— Поехали? — устало спросил Фред. Положил на стол несколько монет и встал.
Уже выходя, они столкнулись в дверях с Каппесом.
— Я знал, что вы приедете. Искал, искал! — обрадованно воскликнул он. — Подождите меня. Сил нет, пить охота.
— Нет, мы пойдем, — сказал Александр. Очень не хотел он этой встречи, и вот пожалуйста.
— Я вас догоню.
Уже садясь в машину, он подумал, что Каппес, вероятно, решил, что они только что приехали и сейчас пойдут к Мутлангену, иначе бы просто так не отстал. Но ничего не сказал Фреду, только, пока выезжали со стоянки, все оглядывался на дверь пивбара. Проехали мимо его серебристого «мерседеса», стоявшего с краю, и Александр начал было жалеть о том, что дурно думал о человеке. Может, говоря «догоню», он имел в виду, что догонит по пути в Штутгарт? Но тут, оглянувшись очередной раз, увидел Каппеса выбегающим из дверей. Он что-то кричал, махал руками, но Фред этого не видел.
Через полминуты «Лада» уже набирала скорость на широкой, свободной от автомашин улице.
— Все! — сказал Александр, облегченно откидываясь на спинку кресла. И беззвучно засмеялся. В голове радостным вихрем крутились слова из детской сказки: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…»
XVII
Ночью прошумел ветер, и снова похолодало. Утром небо было затянуто сплошной серой пеленой; полосатый шпиль телебашни то появлялся, то исчезал в низких тучах. Нагромождения крутых черепичных крыш лоснились от туманной мокроты, висевшей в воздухе.
— Дождь в день отъезда — к счастью, — сказала Эльза, когда Александр вышел к завтраку.
Он ничего не ответил, только кивнул и грустно улыбнулся одними губами. Погода ли сказывалась или что-то на него нашло, только никакой радости он сегодня не испытывал. Не было чувства переполненности впечатлениями, наоборот, испытывалась какая-то опустошенность, будто он оставил здесь все, что имел, выжался как лимон и теперь мог жить одними только воспоминаниями. Но вспоминались не эти недели, прожитые в Западной Германии, а дом, Москва, институт с его бесконечной, всегда напряженной суетой. Лицо Татьяны с тонкими сжатыми губами все время стояло перед ним. То и дело его заслоняло лицо Нельки, смеющееся, хитроватое. И снова Татьяна, как всегда, молчаливая (слова не скажет), обидчивая.
После завтрака он долго болтал с Эльзой о разных пустяках, помогал ей мыть посуду на кухне, играл с девчушками. Понимал, что все это делал для того, чтобы отвлечься от дум о доме, скоротать последние часы, которые не знал куда деть. Потом пошел в свою комнату собирать вещи и только тут, рассматривая и укладывая в чемодан подарки, избавился от преследовавшего его все утро укоризненного взгляда жены.
Вещи не хотели укладываться и, как ни перебирал, снова громоздились горой. Приходилось безжалостно сминать их крышкой чемодана. И баул был уже полон, а на полу все лежали большие пластмассовые пакеты. Как тащиться с ними, он не представлял себе и злился, что увлекся барахлом, вместо того чтобы на эти деньги купить что-нибудь одно, небольшое, но ценное. Потом до него вдруг дошло, что таскаться с вещами ему, по существу, нигде не придется. Еще вчера вечером договорились, что Эльза отвезет его на вокзал на своей машине. А на вокзале полно тележек, — грузись и поезжай до самого вагона. Да и придет же кто-нибудь провожать. Поезд прямой, до Ганновера. Там на перроне тоже есть тележки. Ну а в Москве встретят. И он сдвинул пластмассовые пакеты в угол и решил последний раз пройтись по Штутгарту.
Было пасмурно и неуютно. Поблескивал мокрый асфальт. В магазинах горел свет. Александр пошел по серой сырой улице, не зная, куда деть оставшиеся часы. Свернул было к парковой аллее. Здесь было тихо и пустынно. Если бы не шум автомашин, можно было легко представить, что находишься в настоящем лесу. Но потом вспомнились Каппес, гогот черных парней, избивающих человека велосипедными цепями, и лесное очарование сразу пропало.
Он ушел из леса с твердым намерением вернуться домой и завалиться спать до самого обеда. Следующая ночь предстояла бессонная, и надо было отоспаться впрок.
Дома были только дети. Эльза куда-то ушла, Хорст уехал на работу, и девчушки своевольничали в спальне родителей, кувыркались на перинах, постеленных на полу. Одна стена в этой спальне была сплошь зеркальной, и комната казалась преогромной. Зеркало-то и привлекало девчушек: они принимали разные позы, смотрели, как это выглядит в зеркале, и хохотали одна громче другой. По верху зеркала красивой готической вязью было написано: «Wo Friede, da Glück »[19].
— Ух вы, баловницы! — заглянув в спальню, по-русски сказал Александр и шутливо погрозил пальцем.
— Баляница! Баляница! — радостно закричала Анике и попыталась встать на голову. Старшая, Зильке, последовала ее примеру, и они обе разом завизжали. Звякнули окна.
— Слышите?! — Александр сделал испуганное лицо. — От вашего крика стекла звенят.
— Так это от машины на улице, — догадалась Зильке.
— Я пойду спать, а вы не мешайте. Хорошо?
Его комната была напротив спальни, и Александр все прислушивался, ждал, когда девчушки снова расшалятся. Долго лежал без сна, смотрел на перекладины верхней кровати, вспоминал тех, с кем свела его судьба в этой поездке по Западной Германии.
Так и не уснув, потянулся к транзистору, покрутил колесико и вдруг поймал голос, сжавший горло слезной спазмой. Пахоменко пела фронтовые песни. «Бьется в в тесной печурке огонь…», «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет…» Слова ложились в душу как капли дождя на иссохшую землю, наполняя ее тихим ликованием. И странное дело, они ничуть не противоречили его здешним восторгам. Вспомнилось: «Песня — душа народа». Почему же эти фронтовые песни, рожденные в борьбе с немецким нашествием, так созвучны тому душевному складу немецкого народа, который он, Александр, узнал, почувствовал здесь?
…Неслышен, невесом слетает желтый лист, —пела Пахоменко.
И вспомнилось: «Как осенние листочки на сыром дрожат ветру».
Печаль и слезы у всех народов одинаковы. Любовь и радость — тоже.
И потекли мысли о любви — извечной силе, движущей людьми.
Любовь правит миром. Любовь, а еще голод. И когда миром вознамеривается править кто-то из людей, он непременно пытается взять в союзники любовь и голод.
С голодом проще, он верно служит сильному и богатому. Лишь на самом высоком духовном уровне человек способен противостоять голоду и не унижаться перед насильником, имеющим еду.
Любовь капризней, ее трудно сделать служанкой силы и богатства. Человек, мечтающий о власти над миром, давно понял, что любовь ему не приручить. И он начал ее унижать. В том числе и с помощью религий, провозглашающих любовь первейшей своей святыней. Женщина — первое божество любви — объявлена иудео-христианством недостойной религиозной святости. Католическому ксендзу и вовсе запрещено любить и иметь семью. Из любви к богу. Как будто без любви к женщине можно понять, что это вообще такое — любовь. Как и без любви к матери можно ли любить родину?..
— Свят, свят! — вслух сказал Александр, открывая глаза. Никогда он не думал о том, что теперь, в полудреме, пришло в голову.
Но неожиданные мысли эти показались ему небезынтересными. И он постарался удержать в себе рожденное этими мыслями щемящее чувство не то горечи, не то радости.
Любовь, друзья, вопрос такой, который всех касается, —пело радио.
Конечно, касается. Всех без исключения. Любовь насущна, как хлеб, без нее нет святости в душе человека. Только почему в некоторых странах люди, отвергнувшие религиозные догмы, продолжают служить растлителям человеческого рода? Унижение любви переходит там все границы понимания. Гнут строптивую любовь, превращают в служанку, в куклу для низменных неодухотворенных удовольствий. А человек без способности к высокой любви — раб…
— Александр, вы спите?
Он вскинулся, ударился головой о верхнюю кровать. Вылез, почесывая темя.
— Извините, детская кровать, — сказала Эльза, стоявшая в дверях.
— Сам виноват.
Ему было неудобно за свою оплошность, за свой помятый вид, за то, что чемодан, баул, пластмассовые пакеты — все не собрано.
— Можно вас попросить выйти?
— Конечно!..
Он вышел через минуту, поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж. Эльза возилась на кухне.
— Вы не будете возражать, если я отвезу вас на вокзал пораньше? — спросила она.
— Ну, если надо…
— Я должна уехать.
У нее был виноватый вид, и он сам смутился, глядя на нее.
— Милая Эльза! — Он взял ее за руку, впервые за все дни в этом доме. — О чем вы говорите? Я и так кругом в долгу перед вами.
Она не поняла его, спросила снова:
— Вы не будете возражать?
— Конечно, нет. Спасибо вам за все.
Он вдруг наклонился и поцеловал эту руку, пахнущую свежим печеньем. Почувствовал, как она на мгновение прижалась щекой к его голове.
— Пойдемте, пойдемте, — взволнованно заговорила Эльза. — Все равно уж. Я вам покажу.
Она легко сбежала по лестнице, открыла дверь в спальню, прямо по перинам, разбросанным по полу, прошла к окну, взяла с подоконника книгу, вынула из нее небольшую, в половину тетрадочного листа, фотографию.
— Узнаете?
Прежде всего он узнал Саскию. В белых брюках, в мягком пуховом свитерке, с волосами, спадающими на грудь, Саския смеялась заразительно счастливо, как никогда не смеялась при нем. Обхватив за плечо, ее прижимал к себе парень в короткой куртке с наполовину расстегнутой молнией. Парень держал за ремень сумку, перекинутую через плечо, открыв для всеобщего обозрения большие часы, повернутые циферблатом к запястью. Странные часы — с четырьмя рожками, торчащими в разные стороны. Это был, несомненно, Серж. Кому же еще быть похожим на него, Александра? Тот же широкий нос, те же глубоко посаженные глаза. Даже волосы такие же — прямые, темные, с пробором слева.
Нет, он не обрадовался, увидев наконец Сержа, а встревожился. Тень какого-то подозрения прошла по сознанию, родив смутное беспокойство.
— Правда, похож?
— Да, удивительно… Вы не дадите мне это? — Он помахал, похрустел фотографией.
— Возьмите. Вам фото понадобится.
Фраза прозвучала загадочно, но он эти слова принял за намек на Саскию и улыбнулся открыто, без всякого стеснения: конечно, понадобится. Всю дорогу он будет смотреть на Саскию. А дома… Дома, может быть, и порвет фото. Чего уж трепать нервы?
— Можно я отвезу вас на вокзал сейчас?
— Конечно, конечно!
Он сам маялся этими последними часами и был рад ее предложению. Уехать на вокзал — все равно что уже отправиться в путь. А в пути — наполовину дома.
Так, не упаковывая, он и покидал пластмассовые пакеты на сиденье машины. Наскоро попрощался с Зильке и Анике, повисших было на нем в непонятной то ли горести, то ли радости. И уже сидя в машине, он все думал о том, что печаль расставания очень похожа на радость встречи. Очень.
Эльза молчала всю дорогу. Иногда ему казалось, что она горюет о его отъезде, а иногда — что радуется избавлению от зажившегося гостя. Только уже когда подъезжали к вокзалу, Эльза вдруг сказала:
— Вы не обижайтесь на маму.
— Почему я должен обижаться? — удивился он. — В моей душе только благодарность…
— Она вам напишет, и вы все поймете.
Это было похоже на то, что говорила ему сама Луиза перед своим отлетом. Тогда он ничего не понял из ее слов. И сейчас понял только то, что от него что-то скрывают. Но поскольку мысль эта не раз приходила в голову, она не обеспокоила. Если разобраться, так совершенно открытых людей вовсе и не существует. Все что-нибудь недоговаривают, щадя уши и души слушателей. Все сортируют, отбирают информацию, прежде чем вывалить ее на собеседника. Ведь и сам он говорил не все, что знал, о чем думал. И не все будет рассказывать дома.
Подъехать к вокзалу оказалось непросто. Эльза не знала сложных привокзальных разъездов и никак не могла попасть на автомобильную стоянку: дорожные знаки все время уводили в сторону. Наконец, потеряв терпение, приткнула машину к обочине на стоянке такси, быстро помогла Александру вытащить вещи на тротуар, торопливо обняла и уехала, даже не оглянувшись. Он смотрел ей вслед, и на душе у него было прескверно. Теперь ему казалось, что от него именно отделались. Хорст еще вчера сказал, что будет на работе и проводить не сможет. Теперь и Эльза уехала так быстро, словно торопилась уехать. И никого провожающих. Обещали прийти Фред, Мария, Бодо, Ингрид. Но придут ли? И Саския обещала…
До поезда оставалось еще больше двух часов, и спешить было некуда. Он взял одну из стоявших у стены вокзальных тележек, похожих на те, что катают покупатели в московских магазинах самообслуживания, только больше размером, поставил чемодан и баул на нижнюю сетку, свалил пакеты в верхнюю корзину и поехал по вокзалу, читая по пути надписи и рекламные объявления. Вокзал был огромный и полупустой. Стеклянные витрины киосков, уставленные и увешанные всякой всячиной. Их Александр обходил, стараясь не заглядываться на сувенирные мелочи. Все бы купил и увез, чтобы раздать друзьям-приятелям. Вход в кинозал без единого человека у дверей. Пивбар с высокими круглыми тумбами-столиками. Тут, опершись локтями о столики, задумались над стаканами несколько человек. Поколебавшись, Александр прислонил тележку к стене, достал кошелек, без слов положил монету на стойку, взял высокий стакан с пенной шапкой, отошел к свободному столику, оперся локтями о белый пластик и тоже задумался. Собственно, и дум-то никаких не было, — пустота в голове и в сердце. Ничего уж не хотелось, только бы поскорей сесть в поезд и забыть обо всем — о Луизе, о Крюгерах, о Фреде, даже о Саскии. Не забудутся? Еще как забудутся. Ясно, что снова поехать сюда уж не предвидится. Чего это ты, скажут, зачастил к этим немцам и немкам. И в институте скажут, и дома. Дома-то в первую очередь. Жена даром что молчаливая, но чутье у нее прямо кошачье. А если еще эту фотографию Саскии и Сержа увидит…
Ему захотелось взглянуть на вызывающе счастливую улыбку Саскии, но фотография была в чемодане, и он решил сделать это в поезде, когда поедет. Всю дорогу будет смотреть и вспоминать. Чтобы потом уж не вспоминать никогда.
Пиво выпилось раньше, чем ему хотелось бы. Немцы как-то умудряются часами сидеть над одним стаканом. Но он к такому не привык. Когда с приятелями приходится заглянуть в какой-либо из московских подвальчиков, тоже, бывает, просиживают часами. Но сколько при этом выпивается кружек пива, никто и не считает. С такой практикой — что один стакан? Не успел оглянуться — только пена на дне. Побренчав кошельком, помаявшись, он решительно достал еще одну монету, так же быстро выпил пиво и отошел, чтобы уж больше не думать о нем.
Легко бежит корзинка на колесиках, хоть и большая. Взялся за ручку — едет почти без усилий, чуть тронул в сторону — разворачивается на месте, отпустил ручку — встала на тормоза. Вот бы такие на московские вокзалы. А то ведь назовешься носильщиков, которые давно уж не носильщики, а возильщики, громыхают тяжелыми не тележками, а прямо-таки телегами, наваливают на них горы узлов и чемоданов. Отвезут до стоянки такси, метров сто, и требуют, чтобы платили, как носильщикам — по тридцать, а то и по шестьдесят копеек за место…
Через широкие двери выехал к пустынным платформам, нашел ту, к которой подходит поезд Мюнхен — Ганновер. Даже номера вагонов, где какой останавливается, показаны на платформе. И время: прибытие в 17.57, отправление в 18.03. Ни раньше, ни позже. Нарушения графика тут редки, как землетрясения.
Он поставил тележку вплотную к большому плакату «Von Haus zu Haus — Gepäck voraus»[20] и пошел по платформе. Просто так, для моциона. Ветер тут был пронизывающий, холодный, — долго не погуляешь. Не прошло и минуты, как Александр снова покатил тележку в здание вокзала. Теперь его внимание привлекла комната игровых автоматов. Яркие коробки висели вдоль всех стен, поблескивали таинственными глубинами электронных панелей. И надпись над ними соответствующая — «Wer nicht wagt, gewinnt nicht»[21].
Возле одного из автоматов стоял, упершись в него лбом, лохматый парень, то ли дремал, то ли трудно думал, как обхитрить бездушный монетоглотатель. Вдруг парень встрепенулся, торопливо бросил в щель несколько монет и судорожно, словно боясь не успеть, начал передвигать какие-то рычажки. Автомат загудел, внутри его что-то зачмокало, забренчало и… затихло. Парень досадливо ударил по автомату кулаком и снова прижался к нему лбом.
На ближайшем автомате зажглась зеленая надпись: «Брось одну марку». Надпись погасла и зажглась другая, крупнее: «Выиграешь 1000». До автомата было — руку протянуть, до кошелька еще ближе. С каким-то озорным чувством Александр достал монету, толкнул ее в узкую щель и наугад нажал первый же рычажок. Автомат гудел долго, бренчал монетами, словно в нерешительности пересыпал их из одной горсти в другую, и вдруг вытолкнул несколько монет.
Парень сразу поднял голову, уставился безумным взглядом на расщедрившийся автомат.
— Повезло! — выдохнул он. — Бросайте еще. Надо сразу, пока везет.
Александр пересчитал монеты. Пять марок. Представил, как выйдет сейчас отсюда и купит что-нибудь в сувенирном киоске. На память. Но автомат снова призывно замигал зеленым глазом: «Брось одну марку… выиграешь 1000». Александр не устоял, бросил. Автомат проглотил монету, погудел для приличия и потребовал еще. Потом еще и еще.
У него хватило силы воли не лезть больше в кошелек и уехать со своей тележкой из этой комнаты, досадуя на себя, что не сделал этого сразу и не истратил выигранные деньги на что-либо дельное. Оглянувшись у дверей, увидел, что парень стоял теперь возле его автомата, торопливо передвигал рычажки.
До поезда оставалось полчаса, но никто из тех, что обещали проводить его, еще не приходили. Было грустно оттого, что так вот быстро, еще до отъезда, все забыли его, и он уже не ездил по вокзалу, стоял у входа, ждал.
Без двадцати шесть пришел Фред.
— Мама задержала, — сказал он, суя Александру сверток в пластмассовом пакете. — Пирожки на дорогу… Пока нашел, куда машину поставить…
— А я уж хотел идти к поезду, — не удержался Александр от упрека.
Фред посмотрел на часы.
— Так ведь еще поезда нет.
— Пошли поближе, на всякий случай.
Вдвоем толкая тележку впереди себя, они выехали на платформу и здесь увидели Бодо и Марию тоже со свертками в руках.
— На дорогу, — сказали оба, кладя свои свертки ему в корзину.
— Милые вы мои! — расчувствовался Александр, трогая всех за плечи, обнимая. Хотел спросить про Ингрид и постеснялся: вдруг Бодо не взял ее на вокзал из-за позавчерашнего? Обычное повышенное внимание к красивой женщине, чуть-чуть похожее на глупый флирт. Но ведь он муж, Бодо, а мужья к кокетничанию жен относятся по-разному… Впрочем, если бы обиделся, не пришел бы.
Саския! Он даже удивился тому, что позабыл о ней. Оглянулся на выход из вокзала.
— Ждешь вчерашнюю? — спросил Фред.
— Не знаю, может быть, — сказал Александр и вдруг почувствовал, что краснеет. Это было совсем по-детски, и он покраснел еще больше, уже от самой мысли, что краснеет. Чтобы скрыть смущение, наклонился к чемодану. И увидел из-под руки бесшумно приближающийся поезд.
Фред помог ему занести вещи в купе. Он успел еще выйти, неловко обнять всех троих, как вдоль состава пошел кондуктор с красным ремнем через плечо, по ходу шумно захлопывая двери вагонов. Немногочисленные пассажиры тянули руки к провожающим через открытые окна. И Александр, вбежав в вагон, рывком опустил окно, протянул руки. Но уже не видел никого, потому что все смотрел на выход из вокзала. Саскии не было. И когда поезд тронулся, он все смотрел, уверенный, что она хоть под конец, а появится. Не появилась.
Пассажиры дисциплинированно закрыли окна, разошлись по купе. А он все стоял, смотрел на убегающие назад дома, рощицы, на серые, затянутые ненастьем увалы гор, чувствуя странную расслабленность во всем теле.
Поезд быстро набирал скорость, и окно пришлось закрыть. Александр вошел в купе, сел на мягкую подушку сиденья, вытянул ноги и забылся не в дремоте, в какой-то опустошенности.
Всё! Кончена экскурсия!
Он начал перебирать в памяти то, что успел увидеть, узнать за последние недели, но это ему быстро надоело. Не хотелось ни вспоминать, ни думать ни о чем. Смотрел в окно на дома, столбы, деревья, и не было в нем никакого желания присматриваться, словно это кино и мелькающие за окном предметы — лишь фон, не имеющий отношения к содержанию фильма.
Обессиленный, он опустил руку и нащупал на сиденье какой-то листок. Это оказалось расписание движения поезда. С точностью до минуты были указаны все населенные пункты, мимо которых проходит поезд, и особо выделены те, где он останавливается. Остановок было немного: через час и девять минут — Хайдельберг, затем через тринадцать минут — Манхайм, где целых семь минут стоянки, затем через сорок четыре минуты — Франкфурт. Потом почти целый час безостановочного движения до Фульды и еще двадцать минут до Гёттингена, а там через час и Ганновер. Посмотрел и словно бы доехал, такой простой показалась эта поездка. Начал рассматривать рекламные надписи на расписании. Была тут все та же стихотворная реклама доставки багажа, восхваление особых качеств баденских вин. Ярко-красными буквами был напечатан призыв какой-то миссионерской организации вносить пожертвования в пользу страдающих от засухи.
Ничего особенного не прочитал он в этом рекламном расписании, а очнулся от странной навалившейся на него апатии. Оглядевшись, увидел, что точно такие же листки лежат на верхних сетках над каждым сиденьем, и который уж раз подивился местному сервису. В самом деле, если в купе будет шесть пассажиров, то ведь каждый захочет иметь себе расписание, и это возможное хотение пассажиров уже предусмотрено.
— Извините, пожалуйста!..
Александр вздрогнул от неожиданности, поднял глаза. За стеклянной дверью, чуть отодвинув ее, стоял пожилой господин в аккуратном синем костюме.
— Вы разрешите мне сесть здесь?
— У меня билет только на одно место, а здесь — шесть, — усмехнулся Александр.
— В вагоне есть, конечно, и свободные купе, но я не могу один, понимаете, не могу.
— Пожалуйста…
— Я хочу спать и вам не помешаю, — сказал он, устраиваясь в кресло напротив. — Вы далеко едете?
— До Ганновера.
— О, и я до Ганновера. Очень рад, очень, очень. Простите за смелый вопрос: где вы живете?
— В Москве, — сказал Александр и пожалел, что сказал: попутчик, похоже, попался болтливый.
— О, русский! — то ли в восхищении, то ли в ужасе воскликнул сосед. — Я очень люблю русских. Только не пойму, почему вы хотите нас уничтожить?
— Как это?!
— Я не знаю — как. Но об этом все газеты пишут.
— Газеты врут. И давайте не будем об этом, — сказал Александр. Он вдруг заметил, что на соседе точно такой же, как у Каппеса, галстук-бабочка, и насторожился: униформа? Специально подосланный провокатор?
— Жаль. Такой приятный разговор, такой приятный.
В этот момент в коридоре зазвенело и за стеклянными дверями появилась высокая тележка, уставленная бутылками, пластмассовыми стаканами, плоскими упаковками холодных закусок. Еще минуту назад не собиравшийся ужинать, Александр поднял руку, остановил продавца. Подумал вдруг, что за едой можно не отвечать на вопросы. А там разговорчивый сосед, может, и в самом деле уснет.
— Чай, пожалуйста, — попросил он, отодвинув дверь.
— Что-нибудь к чаю? — спросил продавец, поставив на столик пластмассовый чайничек и чашечку на пластмассовом же подносике.
— Нет, ничего, спасибо. — И сам смутившись малости заказа, пояснил: — У меня все есть, надавали на дорогу.
Продавца эта подробность ничуть не интересовала, профессионально кинув мелочь в коробку, стоявшую меж бутылок на его тележке, и сказав вежливое «данке» таким тоном, словно у него купили половину товара, покатил свою позванивающую тележку дальше по коридору.
А сосед не взял ничего. Молча сидел он напротив и внимательно смотрел, как Александр ест Эльзино печенье и Фредовы пирожки, запивая их чаем.
— Угощайтесь, — предложил он.
— Спасибо, я сыт, — сказал сосед и продолжал смотреть.
«Хоть бы отвернулся», — мысленно обругал его Александр. И вдруг разозлился на себя: чего застеснялся?!
— Вы разве спать уже не хотите? — спросил с вызовом.
— Нет, не хочу.
— А у меня так сами собой глаза закрываются.
Он допил чай, втиснулся поплотнее в угол и закрыл глаза. «Заговорит, не отвечу, — решил он. — Пускай думает, что сплю». И тут же поплыло все перед ним, заскользили лица, знакомые и незнакомые, случайно увиденные и почему-то запомнившиеся, улицы немецких городов, шпили кирх, клетчатые фахверковые дома, пестрая мишура магазинных витрин. Куда-то он все шел, шел и не мог дойти.
Очнулся от того, что кто-то тронул его за рукав. В дверях, заполнив ее всю своим крупногабаритным телом, стоял кондуктор. Красный ремень через плечо, сумка на боку, строгое неулыбчивое лицо — все подчеркивало его немаловажный официальный статус.
— Билет, пожалуйста.
Александр достал белую картонку, купленную для него еще Луизой, протянул кондуктору.
— Шесть марок, пожалуйста.
— Что?
— Вам необходимо доплатить шесть марок.
— Но у меня все оплачено до самого Ганновера.
— Ваш билет куплен больше двух недель назад.
— Ну и что же?
Кондуктор снисходительно улыбнулся и снова посуровел лицом.
— Сейчас вы должны доплатить шесть марок. «Плакало мое ганноверское пиво», — подумал Александр, доставая кошелек. Он высыпал монеты на стол, пересчитал. Было пять марок и тридцать пфеннигов.
— Одной марки не хватает, извините.
— Вы должны доплатить шесть марок.
— Но почему? — попытался выговорить свое Александр. Он понимал уже, что кондуктор не отстанет, и нападение казалось ему единственной оставшейся формой защиты.
— Если не заплатите шесть марок, вы должны будете сойти на ближайшей станции и пересесть в другой, не скоростной поезд, в котором проезд дешевле.
— Я не могу сойти. — Он хотел объяснить, что у него уже заказано место в московском поезде, что если он не сядет в него, то не успеет до окончания срока визы пересечь границу и вынужден будет оставаться в ФРГ незаконно. Хотел объяснить, но ничего не сказал, понял: тут не дома, слезой никого не прошибешь.
— Платите шесть марок, или я вас высажу.
Александр затравленно посмотрел на соседа, — может, даст одну марку, всего лишь одну, даже меньше. Но сосед безучастно смотрел в окно, в серый сумрак полей, за которыми в далеких домах уже вспыхивали огни. Он представил себя на ночном выстуженном перроне чужого города, без денег, без каких-либо надежд и поежился, словно его уже знобило от холода.
— Возьмите часы, — сказал он, стряхивая с руки металлический браслет.
— Часы мне не нужны. Мне нужно шесть марок.
— Может быть, вы купите? — спросил соседа.
Тот покачал головой и снова отвернулся к окну.
Александру подумалось, что все это совсем не случайно — придирчивость кондуктора, равнодушие соседа, только что клявшегося в любви к русским. Ждал ведь, все время ждал чего-либо подобного и вот дождался. Расслабился под конец, перестал осторожничать. А они и подловили в самый неподходящий момент, когда никого рядом, кто мог бы помочь.
Пошарил по карманам, вынул визитку Каппеса и похолодел: неужто им подстроено? «Если будут затруднения, звоните», — сказал тогда Каппес. Как знал. Или точно знал? Но нет, Каппесу звонить он не будет, лучше Крюгерам или Фреду. Только ведь, чтобы позвонить, тоже нужны деньги…
«Черт бы побрал эту заграницу! — мысленно выругался он. — Говорила жена, что добром это не кончится… И чего помчался? Чего тут не видел?.. Права Мария: не люди, а камни…»
— Так вы будете платить?
Ничего не ответив, Александр отвернулся к окну. Пасмурный вечер размазывал силуэты домов, затушевывал, смазывал грань, отделявшую темные холмы от темного неба. Долго глядел, напрягшийся весь в ожидании, что еще скажет кондуктор. Но тот молчал. Александр скосил глаза и не увидел никого. Стеклянная дверь была закрыта. Он отодвинул дверь, выглянул и увидел, что кондуктор разговаривает с кем-то в узком проходе возле соседнего купе. Потом кондуктор пошел в другой конец вагона и стал там проверять билеты, а его собеседник исчез в своем купе, тихо, почти бесшумно задвинув дверь.
Александр снова сел и притворился спящим. Сосед зажег свет, но сидел тихо, с разговорами не приставал. Чуть разлепив веки, Александр увидел, что сосед не спит и не читает, а выглядывает в щель двери.
«Ждет, когда кондуктор снова придет и начнет требовать шесть марок, — зло подумал Александр. — Видно, ему это в радость — русского прищучили».
И, не открывая глаз, он прямо-таки ощутимо почувствовал (будто айсберг приближался), как кондуктор остановился возле купе, как открыл дверь и вошел. Что-то зашуршало на столе, и дверь с легким шелестом задвинулась. Подождав немного, Александр открыл глаза и первое, что увидел, — удивленно вытянувшееся лицо соседа. Подумал: «Что его так удивило?» Оглянулся на окно. За окном совсем уже стемнело. Словно яркий свет здесь, в вагоне, горел за счет того, что высасывал свет оттуда, с улицы. Потом взгляд его упал на стол. Там лежал его, Александра, железнодорожный билет, а поверх — белый квадратик с какими-то цифрами. Он взял его и увидел, что это чек за уплаченные шесть марок. Кем уплаченные? Посмотрел на соседа, но спрашивать не стал. И так было ясно: этот из-за марки удавится. Сам кондуктор? Но с чего бы? И догадался: тот человек из соседнего купе.
Посидел в задумчивости, снова пересчитал рассыпанные по столу монеты. Не убавилось их и не прибавилось, — все те же пять марок тридцать пфеннигов. Александр решительно смахнул их в ладонь и, зажав в кулаке, встал.
В соседнем купе было сумрачно, свет, падавший из коридора, освещал только ноги сидевшего у окна человека — легкие полотняные брюки и мягкие туфли из мятой кожи. На человеке была куртка на молнии, — молния металлически поблескивала на груди, — но лица его Александр не мог разглядеть. Что-то знакомое чудилось ему в этой одежде, фигуре, в этом скрытом в тени лице, но он не задумывался над этой похожестью — так привык к мысли, что здесь никого знакомого нет и быть не может.
— Это вы меня выручили? — спросил Александр, присаживаясь напротив. — Спасибо вам.
Человек не ответил.
— У меня не хватило меньше одной марки. Возьмите то, что у меня есть, зачем вам тратиться?
Он высыпал монеты на стол, придержал рукой, чтоб не раскатились.
— Большое спасибо. Вы меня здорово выручили. Не знаю, как и благодарить.
Человек медленно, очень медленно, словно через силу, поднял руку, положил на стол, подвигал пальцами монеты. Блеснул металлический браслет, большие часы на запястье с четырьмя рожками, торчащими в разные стороны. Как на фото, что дала Эльза.
Александр похолодел от неожиданной догадки, привстал.
— Серж?! — произнес почти шепотом.
— Александр! — выдохнул человек и тихо то ли засмеялся, то ли закашлялся.
— Неужели Серж?!
— Александр!.. Когда мне мама сказала, я не поверил. А потом Саския позвонила, сказала, когда вы уезжаете, каким поездом… Прилетел самолетом, еле успел…
«Зачем?» — чуть не спросил Александр. В самом деле — зачем? Неужто только за тем, чтобы посмотреть на человека, случайно оказавшегося похожим на него? Или Саския рассказала подробности и Серж примчался, полный ревности? Тогда чего ж он платил эти злополучные шесть марок?
— Куда вы едете? — спросил, чтобы только не молчать.
— В Ганновер. С вами. — Голос у Сержа был глуховатый, перехваченный волнением.
— Со мной? Вы что же, специально прилетели?
— Специально. Я привез письмо.
— Письмо? — Он сразу подумал о Саскии. Не приехала на вокзал и вот теперь извиняется в письме.
— Письмо, — повторил Серж. — От мамы.
Он положил на монеты, рассыпанные по столу, синий конверт с маркой и написанным, как обычно, московским адресом. Видно, Луиза собиралась отправить его по почте, но почему-то передумала и передала с сыном.
Покрутив письмо в руках, Александр сунул его в карман.
— Прочтите сейчас, — сказал Серж и встал, включил свет.
Теперь Александр рассмотрел его: высокий лоб, глубоко посаженные глаза, скулы, особенно заметные при улыбке, ямочка на подбородке. Снова, как в тот раз, когда рассматривал фотографию, подаренную Эльзой, какое-то тревожное беспокойство тенью прошло по сознанию. Похож. Даже странно, до чего похож.
Письмо было напечатано на машинке, как и все письма, присылаемые Луизой в Москву.
«Дорогой Александр! Простите мою слабость, но я женщина, и вы должны меня понять. К тому же все случившееся — наша невероятная встреча в Москве, поездка в Кострому, а теперь ваш приезд, ежедневное присутствие рядом, в одном доме, ваше лицо, даже жесты, привычки, манера говорить, такие похожие… Вот видите, даже сейчас, в письме, мне трудно выговорить главное… Помните, мы были на кладбище под Ольденбургом, и я рассказывала вам о русском немце, спасшем меня. Это был просто русский, хорошо знавший немецкий язык. Это был ваш отец…»
Александр растерянно посмотрел на Сержа. Тот улыбался и кивал, словно тоже читал письмо.
«Это был ваш отец», — перечитал он, еще не поражаясь, не ужасаясь, не холодея сердцем. Подумал: перепутала что-то Луиза, отец погиб в сорок первом году, на границе. Похоронка была, и сейчас лежит она в комоде в старой картонной коробке, почти выцветшая от маминых слез…
«Это был ваш отец… Он похоронен на том кладбище, где мы были, только я не знаю точного места…»
Строчки поползли одна на другую. Совершенно ясно Александр увидел большой черный крест среди белых берез, бесконечные ряды колючего кустарника с цифрами возле каждого ряда, стену, исписанную именами, букет цветов, который он положил к этой стене… Он потер лоб, заставил себя сосредоточиться.
«…Серьёша умер…» Кто это? Ах, да, это же отец — Сережа, просто так уж странно написалось это имя по-немецки — «Serjescha».
«…Умер весной сорок пятого года. Меня тогда уже не было в лагере, и я не знаю точной даты. А летом сорок пятого родился Серж. Я назвала его именем отца, дорогой Александр… Он — сын вашего отца…»
«Сын моего отца?! — Мысли скакали, никак не могли выстроиться. — Кем же он мне приходится?.. Господи боже мой, да ведь братом!..»
Он поднял глаза на Сержа. Тот растерянно улыбался.
— Вы… знаете… что в письме?
— Я знаю. Мама мне рассказала.
— Только теперь рассказала?
— Только сегодня…
Серж все улыбался и молчал. И Александр молчал, не зная, что говорить.
В коридоре зазвенел колокольчик разъездного буфета, выручил. Серж бросился в коридор, и через минуту на столике оказались бутылка вина, пластмассовые подносики с кофейничками, пакеты с какими-то закусками. Александр пытался сдержать Сержа, говоря, что еда у него есть, надавали в Штутгарте, и в оживленной суете этой замирал сердцем от не новой, но все удивлявшей мысли: БРАТ!
Вместе они перетаскивали вещи Александра, к неудовольствию оставшегося в одиночестве соседа, вместе наводили порядок на столе, заставленном так, что не находилось места даже для стаканов, делали все это долго и тщательно, привыкая за суетой друг к другу, успокаиваясь. Наконец сели и оба разом взглянули друг на друга. И смутились, отвели глаза. За окнами была сплошная темень, мелькали близкие и дальние огни.
— Ну, — сказал Серж, плеснув вина в пластмассовые стаканы. И замер, ожидая.
— За отца! — выдохнул Александр.
— За отца!
Они долго смаковали эти несколько глотков вина, налитые в стаканы, долго молчали. Александру подумалось вдруг, что все это может оказаться неправдой, — ведь документов никаких нет. Мысль эта мелькнула и исчезла. Он и без документов верил: все правда. Не случайна внешняя похожесть. А может, не только внешняя? Саския! Почему-то ведь она понравилась им обоим. Может, сказалась одинаковость вкусов. Гены — их не обманешь. Да и Луиза еще тогда, в Костроме, рассказывала такое, что могла знать только со слов отца.
— У нас не приходилось бывать? — спросил наконец Александр.
— Не приходилось.
— Надо приехать.
— Я скоро приеду. Этим летом…
Они не хотели обращаться друг к другу на «вы», они еще не могли говорить «ты», и разговор шел как бы от третьего лица.
— Мы вместе поедем в Кострому.
— Поедем. Хочу увидеть родину отца.
— Надо побывать на кладбище…
— Утром я буду в Ольденбурге и сразу поеду туда.
— И я хотел бы. Жаль, что уезжаю.
— Мы еще будем там вместе. Положим цветы…
— Надо расспросить все об отце. — Он не сказал «расспросить Луизу», не повернулся язык. И не мог сказать: «расспросить мать».
— Она все расскажет. Я потом напишу…
Поезд летел через ночь, с немецкой педантичностью минута в минуту проскакивая маленькие городки, на самое короткое время замирая у крытых платформ больших городов. Поезд летел словно бы сквозь время, сдвигая, спрессовывая в один этот вечер все прошедшие десятилетия.
— А мне все говорят: похожий, похожий… Понять не могу… А слепая Сабина говорит: нет, не Серж. Кто эта Сабина?
— Так, грехи молодости. Дочка у нее красавица…
В Ганновере шел дождь, ветер заносил мелкие капли под навесы, мокрые платформы холодно блестели в свете ночных фонарей. Высадив пассажиров, поезд быстро ушел, дежурные с красными ремнями через плечо попрятались в свои застекленные, занавешенные изнутри будки, и уже через несколько минут на платформе стало пустынно и неуютно. Александр и Серж спустились в подземный зал, погрузили вещи на вокзальную тележку и поехали куда-то, только чтобы не стоять на месте.
Зал был все тот же, каким Александр видел его три недели назад. Так же пестрели мишурой всякой всячины витрины закрытых на ночь сувенирных киосков, так же вращался под потолком разрисованный рекламный куб с надписями, обещавшими богатую жизнь. Даже растрепанные парни и девчонки, время от времени угрюмо пересекавшие зал, казалось, были теми же самыми. Но тогда Александр был полон готовности удивляться и потому все видел, все замечал, теперь же чувствовал только холод и пустынность этого залитого светом подземелья. Была и надпись: «Fremdes Feuer ist nicht so hell als daheim der Rauch»[22]. Александр читал ее и перечитывал, и была она для него полна особого смысла, звучала совсем не так абстрактно, как в тот раз, когда он впервые увидел ее в этом зале.
Ходить надоело, захотелось посидеть где-нибудь в тепле. Вспомнили о вокзальных миссионерах, держащих тут комнатку специально для таких вот страждущих, и направились было к голубой вывеске «Bahnhofmission», но увидели за стеклянной дверью такое столпотворение, что они оба, не сговариваясь, прошли мимо.
Скоро с удивлением обнаружили, что говорить им, в сущности, не о чем. Такое было знакомо Александру по многим отъездам в командировки. Кто бы ни провожал, — жена ли, Нелька ли, обе ли они или кто из друзей, — всегда было одно и то же: перед самым отъездом темы разговоров почему-то иссякали, и было мучительно делать вид, что ты наслаждаешься последними минутами общения и не торопишь отъезд.
— Я напишу, — сказал Серж.
— Да, мы обязательно спишемся.
И снова молчание. Слишком неожиданным было для обоих вдруг обнаружившееся родство, требовалось время, чтобы к нему привыкнуть.
— Надо съездить на кладбище.
— Непременно…
Они возили заваленную вещами тележку из конца в конец зала, туда, обратно, снова туда, оба держались за ручку, искоса взглядывали друг на друга и снова отводили глаза.
Двое парней и девчонка, стоявшие у стены, — то ли пассажиры, то ли завсегдатаи ночного вокзала, — гудели голосами, хихикали:
— Ходят, как влюбленные.
— Может, и есть влюбленные…
— Братья, разве не видно?
В тихом пустом зале голоса разносились далеко, не хочешь, да услышишь. Не сговариваясь, они свернули к эскалатору, который, как подошли, сразу начал работать, придерживая тележку, чтобы не опрокинулась на ступенях, поднялись на платформу. Здесь можно было возить тележку, не привлекая ничьего внимания. Но они не стали ее возить, приткнули к видной отовсюду скамье и пошли по платформе.
— Выпьем пива? — предложил Серж. Не дожидаясь ответа, бросил две марки в щель автомата, взял банку в открывшемся окошечке, протянул Александру.
Теперь у них было занятие: обоим почему-то захотелось прочесть то, что написано на банке, потом Серж стал показывать, как надо срывать крышку, и Александр внимательно смотрел, хотя прежде не раз проделывал эту несложную процедуру. Они церемонно отпили по глотку, удовлетворенно покачали головами. И Александр вдруг начал рассказывать о Костроме, решив почему-то, что именно это сейчас больше всего интересует Сержа. Увлекаясь, горячась, он описывал белокаменные торговые ряды, старинную каланчу, Молочную гору — спуск к Волге, пристани, от которых чуден вид на мосты, на горы Заволжья, на старинный Ипатьевский монастырь… Здесь некому было слушать, кроме Сержа, и Александр говорил громко, сам восхищаясь и удивляясь из этого германского далека своеобычной красоте родного города.
До поезда оставалось четверть часа, и они пошли искать место, где должен был остановиться нужный вагон. Вернулись, привезли тележку к этому месту.
— Вест ист вест, дахайм ам бест[23], — сказал Александр, словно уже садился в свой московский поезд.
— Да, да, — закивал Серж. — У нас говорят: хороши запад и восток, а дома лучше.
— Лучше…
— И для меня лучше моей родины — земли Баден-Вюртемберг ничего нет.
— Разве не в Ольденбурге родина?
— Я родился в Штутгарте. А живу в Констанце. На юге, у Боденского озера. О, это такая красота!..
Только что не знавшие, о чем говорить, теперь, когда поезд должен был вот-вот подойти, они вдруг заторопились высказаться. Александр расхваливал свою Кострому, берега Волги ниже города, сравнимые по красоте, как он считал, по меньшей мере с видами Швейцарии. Стараясь не перебивать, ловя паузы, Серж рассказывал о красотах своей виноградной Швабии, где и вина самые лучшие, и памятники старины самые уникальные. А Констанц!.. О, Констанц, по его убеждению, — вообще не город, а чудо света.
— Боденское озеро! Это не озеро, это кусок неба, упавший в ущелье. Швабское море, как мы называем его в своей газете…
— В какой газете?
— «Зюдкурир». «Южный вестник», — повторил он по-русски и засмеялся.
— Вы изучаете русский? — удивился Александр.
— Да, изучаю. Мама разве не говорила? — повторил он.
— Ничего она не говорила.
— Только я не могу, как вы по-немецки. Но занимаюсь регулярно. И в Славянских днях участвую.
— В Славянских днях?..
— Они каждую осень проходят в нашем Констанцском университете. Занятия русским языком, доклады. В прошлом году принимал участие в дискуссии на тему «Герметические элементы русского романа двадцатого века».
— Что это за герметические элементы?..
Серж не успел ответить: из-за построек, загородивших платформу, как-то беззвучно выкатился поезд и зашипел тормозами, останавливаясь. Открылась дверь вагона, и Александр услышал русскую речь, показавшуюся ему почти музыкой:
— Куда вы лезете?! Ну народ!
— Да хоть пива купить!
— Какое сейчас пиво, ночью?
— Да хоть в автомате. Марки же остались.
Опережая проводника, из вагона выскочил полный мужчина в спортивном костюме, помчался по пустой платформе.
— Ну, прощай! — сказал Александр, беря чемодан и баул.
— Я помогу. — Серж взял в охапку все оставшиеся пакеты, шагнул к двери вагона, разделяя слова, сказал проводнику по-русски: — Я бра-та про-вожать.
— Да-да, мы сейчас выйдем, только вещи отнесем.
Проводник отступил, не обратив внимания на то, что братья, а так по-разному говорят по-русски. Не первый год работал он на заграничных линиях, всего нагляделся.
В купе было душно. Тускло горел плафон под потолком, в узкое окно вливался с платформы мертвенный свет люминесцентных ламп. Пассажир, занимавший верхнюю полку, крепко спал, сдавленно дыша открытым ртом. Проснулся на миг, спросил испуганно:
— Что, Ганновер?
Не дожидаясь ответа, повернулся к стене и почти сразу задышал глубоко и ровно.
Свалив все вещи на полку, они, ни слова не говоря, вышли из вагона. Потоптались возле проводника, не зная, что еще сказать друг другу. Сказать и спросить хотелось обо многом, но все требовало времени, долгих объяснений.
Отошли к скамье, стоявшей посередине платформы, но и там с разговорами было не легче.
— Пиши.
— Я напишу.
— Привет всем. — Он хотел сказать «Саскии», но не решился.
— Привет Костроме.
— Приезжай.
— Я обязательно приеду.
— Пиши…
— Садитесь, отправляемся, — сказал проводник. Пассажиров больше не было, и он не очень волновался: один успеет сесть в последний момент.
Поезд тронулся почти бесшумно. Александр торопливо схватил руку Сержа и прыгнул в открытую дверь вагона.
— Пиши!
— Я напишу!
— Проходите, надо закрыть дверь, — сказал проводник.
— Погодите же! — чуть не крикнул Александр.
— Давно не виделись, что ли?
— Никогда не виделись.
— Что, с войны?
Он не ответил, высунувшись из вагона, смотрел на быстро удалявшуюся, одинокую на пустой платформе фигуру Сержа и остро жалел, что не обнял его, не попрощался по-человечески.
Спать он не мог, стоял в коридоре, прижавшись лбом к стеклу, смотрел на частые, нигде не прерывающиеся цепочки огней и все возвращался памятью к одинокой фигуре на пустой платформе. Почему-то было жаль Сержа. Думал о том, как, приехав домой, удивит всех рассказом об объявившемся брате. Нелька, наверное, завизжит от восторга: как же — заграничный дядя. Жена, всего скорей, промолчит или выдаст свое коронное: «Я так и знала». А мать…
Ему вдруг стало страшно от мысли о матери. Отшатнулся от окна, огляделся, словно кто посторонний мог заметить его внезапное смятение. Вагонный коридор был пуст и тих, но в этой тишине чувствовалось присутствие многих людей. Казалось, что все они затаились и подслушивают.
На улице снова пошел дождь, капли наискось царапнули по окну. Он опять прижался лбом к стеклу, торопясь успокоиться и обдумать так внезапно открывшуюся ему истину.
Как же сказать матери?
Обрадуют ли ее новые вести об отце?
Он ведь и мертвый принадлежит ей. «Мой-то, бывало…» Сколько раз слышал Александр эту фразу. И вдруг… Все равно как снова принести похоронку… Способна ли будет она понять и простить?..
— А, утро вечера мудренее, — вслух сказал он и пошел в купе, принялся освобождать полку, складывая вещи на пол. Когда уже приготовил постель, вспомнил, что спать все равно не дадут: через полчаса — граница с ГДР и будет проверка документов.
Он вышел в коридор и снова стал смотреть в окно, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Поймет ли?.. Поймут ли?.. Он все думал и думал, уже зная, что думы эти ему на всю дорогу, а может, и дольше…
НА ВОЙНЕ ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ Повесть
Пулеметы ударили внезапно, когда солдаты, наломав ноги на снежной слякоти, выбрались наконец на дорогу и не просто поняли, а прямо-таки ногами и боками своими ощутили близкий отдых. Городок, открывшийся впереди, в каких-нибудь полутора километрах, был невелик, и название у него было необнадеживающее (Кляйндорф — Маленькая деревня), где уж устроиться всей дивизии, — но известно, когда ноги подкашиваются, и пеньку рад. И вот заспешили взводы и роты к черной ленте шоссе, обрадованно затопали по асфальту раскисшими ботинками, сапогами, а кто и валенками, забыв, что выпятились как мишени на этой шоссейке.
Комбат-один, капитан Тимонин, — инстинкт, что ли, какой подтолкнул, — как раз поднял глаза на темневший в стороне от дороги громадный дом с конусом кирхи над полукружьями башен и вдруг увидел сразу несколько мельтешащих вспышек. Это его спасло. Падая, он услышал над головой частые хищные посвисты. Усатый пожилой солдат, только что обрадованно топавший по сухой тверди, рухнул рядом с капитаном и все дергался, вскидывал плащ-палатку, словно собирался прикрыться ею от пуль. Сползая в снежную жижу кювета, капитан сообразил, что солдат был убит сразу, а вздрагивал, уже мертвый, от ударов пуль. Может быть, тех самых, что предназначались ему, комбату.
По всему полю застучали винтовки, зачастили автоматы. И уже «максим» откуда-то подал голос, не солидный, как обычно, а какой-то торопливый, дерганый, словно испуганный. Но что тем, наверняка хорошо укрытым пулеметам, эта беспорядочная стрельба? Похоже было, что тут и минометы не помогут, а нужны пушки, и не какие-нибудь сорокапятки, а потяжелее.
На шоссе вразброс лежало несколько солдат. Двое раненых сползали в кювет, выгибаясь от напряжения, и фельдшерица Катюша была уже рядом с ними, как всегда, высовывалась бесстрашно.
Тимонин мгновенно окинул глазом местность, оценивая обстановку. По всему выходило, что единственный путь к городку — эта дорога. А дорога нужна полку, а там и дивизии, — хочешь не хочешь надо атаковать.
Роты залегли в сыром кювете, растянувшись неровным пунктиром чуть ли не до самого леса, из которого они только что вышли, чтобы по прямой пересечь поле и поскорей выбраться на дорогу, серой, пустынной теперь змеей обегающую опушку.
Пулеметы уже не чесали дорогу, и с нашей стороны стрельба поутихла, затаились и те и другие, выжидали. Солдаты плотно набились в кювет. Никто не окапывался. Лежали скорчившись, чтобы не мочить и без того мокрые ноги в снежной жиже, накопившейся на дне кювета, посматривали в сторону городка, ждали команды. С мутного неба падал мокрый снег, таял на асфальте, на плащ-палатках убитых, лежащих на дороге.
— Матарыкин! — позвал Тимонин командира разведвзвода.
— Лейтенанта Матарыкина к комбату! — понеслось разноголосо в обе стороны.
Через минуту он увидел Матарыкина бегущим по кювету. Маленький, он почти не пригибался, но все равно наверняка виден был от кирхи. Но по нему немцы почему-то не стреляли.
— Ты докладывал, что впереди никого! — бросил Тимонин не оборачиваясь.
— Так точно. Сам прошел по этой дороге. Тихо было. Городок пуст, только бабы, и то немного…
— А церква?
— Церковь не успели. Но не стреляли ж…
— А ну давай своих в город! — закричал он. — Еще один такой сюрприз, и… сам знаешь.
Тимонин посмотрел вслед разведчикам, где ползком, где перебежками передвигавшимся по кювету, и махнул радисту:
— Командира полка мне.
Не прошло и минуты, как радист протянул ему трубку. Но на связи, Тимонин сразу узнал по скрипучему голосу, был заместитель командира полка майор Авотин.
— Давай сюда быстро, — сказал Авотин, не дослушав доклада.
Решив, что его не поняли, Тимонин снова начал говорить о положении, в котором оказался батальон, но майор опять перебил его:
— Немедленно сюда. Мы тут рядом, в лесу.
— А где сам?..
Предчувствие недоброго сжало сердце. Были они земляками с командиром полка, и может, потому или по какой-то взаимной душевной симпатии тянулись друг к другу.
— Приказ ясен?! — повысил голос майор.
Растерянно оглянувшись, Тимонин поймал вопросительный встревоженный взгляд своего начальника штаба лейтенанта Соснина и вдруг заторопился. Крикнув Соснину, чтобы оставался за него, он в сопровождении связного побежал по кювету, не замечая, что стылая вода порой захлестывает голенища.
Снова застучали пулеметы, снова заныли рикошеты в серой мгле, и пришлось сгибаться в три погибели, порой и просто ползти на четвереньках, погружая ничего уж не чувствующие руки в снежную мокрядь.
Штабные машины стояли за леском, заполонив шоссе. И дальше, сколько было видно, угадывались машины, повозки, люди. Образовывалась пробка, какие так любят немецкие летчики. Тимонин машинально глянул на небо. Тучи висели низко, без просвета, сыпал мирный мокрый снежок.
Возле штабных машин была непривычная суматоха: кто-то куда-то бежал, кого-то звал, громко, в голос. Заместитель командира полка майор Авотин, замполит подполковник Преловский и еще несколько офицеров-штабников стояли почему-то возле санитарной машины и смотрели, как Тимонин, разбрызгивая сапогами снежную жижу, шагал к ним, чтобы доложиться по всей форме. Это была странная пара — круглый от полноты Авотин и длинный, сухой от какой-то внутренней болезни, в круглых очках на большом горбатом носу Преловский — в точности Дон Кихот и Санчо Панса. Когда они стояли рядом, смотреть на них без улыбки было невозможно, но сейчас Тимонину было не до смеха, он искал глазами командира полка и не находил его.
— Иди, тебя зовет, — хрипло, с одышкой еще издали крикнул майор, кивнув на санитарную машину.
И тут Тимонин понял и остановился в растерянности, сразу почувствовав и холод в ногах, и мокрые прикосновения гимнастерки под ватником.
— Что?!
— Идите скорей, — поторопил его незнакомый офицер с узкими погонами медика на щегольской шинели.
Тимонин рывком влетел в раскрытую дверь санитарной машины, увидел на носилках белое лицо и не сразу узнал, что это и есть командир полка.
— Что ты там… топчешься? — услышал слабый голос.
— Я? — растерянно спросил он и шагнул ближе.
— Да не ты, а твой батальон.
— Так ведь пулеметы…
— Эка невидаль…
— Выбьем, товарищ майор, — торопливо заверил он.
— Выбивай. Видишь, что на дороге творится?..
Командир полка кашлянул тяжело, с надрывом и замолчал. Девушка-санитарка, сидевшая в углу, наклонилась над раненым, сердито за оглядывалась на Тимонина. Но раненый поднял руку, и санитарка отстранилась.
— Если что… тебя буду рекомендовать на зама. Заму по должности положено вместо меня. А ты на его место…
Минуту в машине было тихо. Снаружи переговаривались офицеры, вдали вразнобой стучали выстрелы. Тимонину казалось, что вот сейчас командир полка опомнится и скажет, что пошутил. Разве мало других офицеров?..
— Я знаю, что делаю, — тихо сказал командир полка, словно прочитав его мысли. — Знаю…
Тимонин вдруг ясно увидел перед собой серое заснеженное поле, огненные всплески пулеметных очередей, убитых солдат на черном асфальте, весь свой батальон, стынувший в этот миг в мокром кювете, и ему остро, до слез стало жаль своих ребят, которых, как ему в этот миг казалось, он навсегда покинул.
— Ну… что думаешь-то?
— А чего думать? Вот вызволю людей, тогда уж. Церкву брать надо.
— Церкву без тебя возьмут. — Он глянул на Тимонина из-под тяжелых опадающих век, добавил насмешливо: — Кстати, это не церква, а замок.
— Восемь пулеметов усек. Автоматов много. Рота, никак не меньше. Не пойму только, чего они из автоматов лупят на таком расстоянии?
— С перепугу, — послышался от дверей голос майора Авотина.
— Точно, с перепугу. И вообще огонь какой-то неприцельный. Восемью-то пулеметами да при такой неожиданности можно было полбатальона скосить. В воздух, что ли, палят?
— Может, и в воздух. Не тот теперь немец, пуганый…
— Авотин? — позвал командир полка. — Если что, бери Тимонина в замы. Он людей жалеет, не в пример некоторым.
— Вы уж…
— Да уж, — перебил его командир полка. — Не утешай, не барышня.
Он был ранен четыре дня назад при случайном воздушном налете. И небо-то открылось всего на час. И из этого синего окошка вывалился нежданный «мессер», один-единственный, обстрелял, сбросил две небольшие бомбочки. Осколок прошел через мякоть левой руки и застрял где-то в груди. Комполка наотрез отказался от медсанбата, посчитав ранение плевым, да, видно, осколок зацепил легкое: открылся кашель, началось удушье.
— Церкву брать надо, — невпопад повторил Тимонин.
— Надо, — согласился командир полка. — Дорога нужна.
— Артиллерию бы. Хоть наши сорокапятки.
Комполка кивнул и закрыл глаза. Санитарка сразу подскочила к нему, натянула шинель до подбородка. Он слабо отстранил ее рукой, поманил Тимонина пальцем.
— Ты не юли, знаю я тебя.
Разговор был все о том же, о переходе Тимонина в штаб полка. Который раз поднимался этот вопрос, а все, как считал Тимонин, не вовремя, все в такой момент, когда никак нельзя было бросить батальон. И опять — можно ли?
— Не могу я сейчас, товарищ майор, — взмолился Тимонин. — Люди в кюветах лежат, не подняться. Вот возьмем церкву…
— Ладно, час подожду, бери.
Тимонин вышел из машины, осторожно прикрыв за собой дверь.
— Ну, что будем делать? — спросил Авотин.
— А чего делать? Брать надо церкву, — сказал Тимонин и поморщился, как от зубной боли. — Пушки бы…
— Отстали пушки. Лошадей поубивало.
— К машинам надо цеплять сорокапятки, вот хоть к штабным.
— Не идут машины по снегу, буксуют.
— Так на руках, впервые, что ли?..
И как раз в этот момент из-за поворота дороги выскочила первая упряжка, за ней вторая и третья. Были они куцыми — в три-четыре лошади. Но по асфальтовой глади неслись лихо, как в кино. Им навстречу кинулись солдаты, чтобы остановить, не дать выехать под огонь.
Пока сорокапятки выкатывали на огневые позиции, пулеметы на стенах замка, в окнах, в амбразурах захлебывались огнем и дали возможность хорошо засечь их. Но с первыми же выстрелами пушек они умолкли. Затаившись в кюветах, батальон наблюдал, как снаряды долбили стены. Были отмечены прямые попадания в окна, в амбразуры, выдолбленные в стенах. Когда пушки умолкли, Тимонин приказал первой роте выдвинуться к замку и покончить с засевшими там гитлеровцами.
Двигавшаяся через поле цепь казалась до ужаса редкой. Солдаты то и дело проваливались в какие-то невидимые издали ямины, падали, тяжело вставали и шли, с трудом переставляя ноги. Снова ожили пулеметные точки, сначала одна, потом другая, словно пулеметчиками никто не командовал. Цепь залегла. Опять забухали от лесочка сорокапятки. И пулеметы снова умолкли. Но едва рота поднялась, как сырой холодный воздух вновь наполнился перехлестным треском. И без бинокля Тимонин видел, как оседали в снег раненые, как падали навзничь убитые. Отовсюду стучали винтовки, длинными очередями били по стенам и ручники, и станкачи, — все, что имелось в батальоне, но толку от этого, похоже, было мало.
Давно воевал Тимонин, с самого сорок первого. Тогда, да и позднее, не раз приходилось так вот идти на пулеметы. Потому что тогда рассчитывать на артиллерийскую, а тем более на какую-либо другую поддержку не приходилось, а приказ надо было выполнять. Но теперь-то не сорок первый!..
Он лежал на краю кювета, положив подбородок на снежный ком, неотрывно смотрел на черные стены, на церквушку посередине, чужую, бескупольную, и наливался злостью, не зная, что теперь предпринять. Поднять в атаку весь батальон? Но что от него останется после такой атаки?!
— Никак связной бежит!
Лейтенант Соснин привстал, вглядываясь в даль.
— Капитана Тимонина!.. В штаб!.. — донеслось до цепи.
Он даже обрадовался возможности не принимать пока никакого решения, махнул рукой связному, чтобы не отставал, и, почти не пригибаясь, побежал вдоль дороги.
Еще издали увидел: санитарной машины нет. Значит, уехала, увезла командира полка. Значит, новое начальство, новый приказ? Может, вообще не надо будет брать этот замок? Может, обойти, и делу конец? Разумнее не придумаешь. И совсем было поверил в это свое предположение, когда увидел майора Авотина, склонившегося над картой.
— Подойди сюда, — сказал майор, не дав Тимонину даже доложиться о прибытии. — Гляди, — указал на карту.
Карта была немецкая, выполненная с обычной для них тщательностью. Немецкими картами нередко пользовались и прежде, но здесь, на чужой территории, они были просто незаменимы: все нанесено с завидной дотошностью. Чужие буквы складывались в знакомые названия, встречавшиеся на дорожных указателях. Вот и Kleindorf — квадратики домов, вот и черный крестик замка в километре от городка. Вот она и дорога, с нарисованной на ней красной стрелой, указывающей движение полка.
— Дивизия пошла другой дорогой. Комдив приказал оставить тут один батальон.
— А полк? — спросил Тимонин.
— Полк не может задерживаться. Остаешься ты. Блокируешь этот узел обороны. И кончай с ним побыстрей, догоняй.
Вот чего Тимонин никак не ожидал, так это того, что ему придется тут одному уродоваться.
— Какая остается поддержка? — спросил он.
— Какая поддержка?! Комдив и роты не оставлял, а я выпросил батальон. Считай, повезло тебе, отдохнешь в городке, а там со свежими силами догонишь.
— Мы же с сорокапятками не можем взять их…
— Разговорчивый ты, Тимонин. Придется хорошенько подумать о предложении командира полка.
— Да разве в этом дело?!
— И в этом тоже. Пошевели мозгами, считай, что я даю тебе возможность самостоятельно развернуться.
— От батальона сами знаете что осталось…
— Гляди сюда, — перебил его майор и ткнул пальцем в черный крестик замка на карте, в сдвинутые плотно коричневые горизонтали возле него. — Тут поле, а по ту сторону — речка, скрытые подходы. Ясно?..
Все было правильно. Конечно, хорошо бы раздраконить этот дом бомбовыми ударами или тяжелой артиллерией. Хорошо бы атаковать, прикрывшись броней танков. Но авиация сидит, привязанная непогодой к аэродромам, но артиллерия и танки догоняют отступающего противника, и никто не будет возвращать их из-за какой-то группы фанатиков. Был бы он на месте майора, тоже бы удивлялся щедрости командира дивизии, оставившего тут целый батальон. Все было правильно. Только Тимонину не становилось легче. Он понимал: непросто будет разгрызть этот орешек, ох непросто.
Городок с этого краю казался совершенно пустым. Аккуратные одноэтажные домики выглядели игрушечными, словно кто-то сложил их из кубиков, огородил миниатюрные дворики, натыкал под окна березок да елочек. Перед каждым домом — калиточка в невысокой, по пояс, оградке, от каждой калиточки ведет к крыльцу дорожка, чистая даже сейчас, в снежную непогодь. Словно жители, все до единого, почистили, прибрали свои дворики, прежде чем бежать отсюда.
«Вот ведь, — зло думал Тимонин, оглядывая домики, выбирая, в каком разместить штаб батальона. — Наши деревни, отступая, жгли, города взрывали, а на свои рука не поднимается?!» Он толкнул ногой ближайшую калитку, открывшуюся легко, без звука, пошел к дому. В узком оконце над двустворчатой дверью увидел кружевную занавеску и почему-то еще больше разозлился. Уже не жалеючи пнул дверь, но и она раскрылась словно бы сама собой, — входи, располагайся. И в доме тоже все было чисто, прибрано. Белая кафельная печь пестрела синим замысловатым рисунком, одинаковым на каждой плитке. На окнах — длиннющие гардины. У стены — большой стеклянный шкаф, полный посуды.
Шустрый ординарец, сержант Поспелов, затопал мокрыми валенками по чистому полу.
— Здесь ночуем, товарищ капитан?
Только что сам намеревавшийся устроиться поудобнее, Тимонин вдруг подумал, что этот уют после полевой неустроенности может расслабить солдат. Было бы время, дал бы он славянам отоспаться на перинах. Но где оно, время? Эта возможность самостоятельно развернуться, о которой говорил майор, была лишь кажущейся. Надо было сейчас же организовать разведку, разузнать: что там за силы, в замке? И надо было выставить посты на дороге, а то, не дай бог, кто-нибудь выскочит под огонь. И требовалось немедленно блокировать немцев со всех сторон, чтобы никто не ушел. И бой надо было готовить немедленно. Когда уж на перинах валяться?!
— Нет, не здесь, — сухо сказал Тимонин.
— Жаль, домик-то богатенький. Хотя они все тут богатенькие. Мягко спят, зар-разы! Содрать бы занавески-то на портянки, а? Сколько портянок бы вышло. Или из автомата по этим шкафам. Чтоб не блестело…
— Ну-ну, — сердито сказал Тимонин и вышел, хлопнув дверью. В нем самом кипела эта злость на прилизанность немецкого быта.
Штаб батальона расположился в каменном сарае на окраине городка, откуда был виден замок. Сержант Поспелов приволок пару перин, бросил их в углу, растопил чугунную печь, и скоро в сарае стало невпродых жарко. Ротные, которых Тимонин собрал, чтобы поставить задачу каждому, разомлели в тепле, порасстегивались, заклевали носами.
— Может, не топить? — спросил Поспелов, каким-то своим чутьем уловив недовольство начальства.
— Топить, — сказал Тимонин, сам борясь с желанием расслабиться и поспать хоть немного. — Пускай каждый старшина устроит такую сушилку. Сушилку, не более того. — Последнее относилось к ротным, и они закивали понятливо, принялись застегиваться.
Когда командиры рот разошлись по своим подразделениям, Тимонин вышел во двор, остановился у забора. Снегопад прекратился, и небо светлело местами чуть ли не до голубизны. С севера задувало. Ветер был сухой, обещавший мороз.
Повернувшись, чтобы идти назад, он вдруг застыл от глухого вскрика:
— Хенде хох!
Привычным рывком перекинул из-за спины автомат, огляделся. Вокруг никого не было.
— Хенде хох! — снова услышал он. — Хайль Гитлер! — И леденящий душу сумасшедший хохот.
Теперь он разглядел сидевшего у крыльца человека — не человека, а какого-то карлика.
Держа палец на спусковом крючке, Тимонин пошел к этому странному человеку и еще издали увидел, что это инвалид. Он сидел на низкой колясочке, ног у него не было.
— Вот зар-раза! — выругался за спиной сержант Поспелов. Как он подошел, Тимонин даже и не слышал. — Ноги оторвало, так теперь руками размахивает.
— Вроде… и руки тоже, — выговорил Тимонин, отходя от напряжения, сжавшего его, как пружину, при этом вскрике.
Рука у инвалида была только одна, левая, да и та лишь с тремя пальцами, которыми он судорожно цеплялся за колесо. Вместо правой висела култышка по локоть. Редкие волосы на непокрытой голове слиплись от снега, по лицу стекали капли, отчего казалось, что инвалид плачет.
— Хайль Гитлер! — снова выкрикнул инвалид, выкинув вперед обрубок правой руки. И вдруг забулькал, как маленький, давясь желтой пеной.
— Там кто-то есть! — крикнул Поспелов, указывая автоматом на колыхнувшуюся занавеску.
Через минуту он выволок из двери невысокую женщину. Она цеплялась за косяки и что-то кричала. Тимонин разбирал только одно слово «besser» — «лучше» — почему-то помнившееся ему со школы.
— Ты понимаешь, что она кричит? — спросил лейтенант Соснин, наклонившись сзади к Тимонину. — Зачем, говорит, вам старая фрау, в деревне молодые есть.
— Чего болтаешь?! — отмахнулся он.
— Это не я, это она болтает.
— Погоди-ка. — Тимонин сразу забыл об инвалиде. — Надо разыскать всех, молодых и старых, может, кто-то расскажет о замке.
— Переводчика нет, — напомнил Соснин.
— Ты же учил немецкий?
— Самостоятельно.
— Вот и практикуйся. Объясни этой бабе, что мы не звери какие-нибудь. И пускай заберет своего… крикуна. Можешь объяснить?
С трудом подбирая слова, Соснин заговорил с женщиной, и по тому, как исчезал страх в ее глазах, как проступало в них осмысленное, Тимонин понял: доходит.
— Хайль Гитлер! — опять выкрикнул инвалид.
Страх снова метнулся в глазах женщины, но тут же погас. Она взяла инвалида за плечи, подтолкнула к крыльцу, неожиданно легко подняла его и внесла в дом.
— Хайль Гитлер! — послышалось из-за закрытой двери. И какой-то пустой хохот, от которого мурашки побежали по спине.
— Не знаешь, то ли злорадствовать, то ли жалеть, — сказал Соснин.
— Прожалеешь! — со злостью отозвался Тимонин. И хотел еще добавить что-нибудь этакое, но его позвал радист:
— Товарищ капитан! Вызывают!..
Тимонин с трудом узнал голос подполковника Преловского, удивился, почему именно он на связи, и потому совсем уж коротко доложил, что пока изучает обстановку, готовится.
— Долго собираетесь готовиться? — спросил Преловский.
— Вы же знаете, какие потери понес батальон в последнее время?! — кричал Тимонин. Слышимость была плохая. — И опять на пулеметы? Без какой-либо поддержки?! Замполита и того нет, — не упустил он случая напомнить каждодневное обещание Преловского прислать кого-нибудь вместо выбывшего по ранению заместителя командира батальона по политчасти старшего лейтенанта Ковригина. Замполиты в ротах были надежные, каждого можно было ставить на батальон, но не ему решать этот вопрос, и тут без согласия Преловского никак не обойтись.
— Будет замполит. И поддержка тоже будет.
— Какая? — сразу насторожился он. Замахал рукой, чтобы помолчали вокруг, не мешали слушать.
— Из армии направляется… подразделение майора Дмитриенкова. Встретьте там как положено…
Гнетущее настроение, висевшее на Тимонине целый день, вмиг исчезло. Поддержка аж из армии, подразделение под началом майора! Это не взводишко какой-нибудь. Может, «катюши»?!
— Кто такой майор Дмитриенков? — спросил Соснина.
Тот пожал плечами.
— Слышал, а где — не припомню. Что-то не рядовое.
— Вот и я думаю… Ну да ладно, дареному коню, как говорится… Дадут завалящую батарею или хоть один танк — и на том спасибо.
Он распорядился усилить посты на дорогах, чтобы подкрепление не выскочило под огонь или, не дай бог, не проехало мимо, приказал Соснину лично облазить все дома, расспросить о замке, а сам отправился на НП, облюбованный сержантом Поспеловым в одном из окраинных домов.
Дом этот был необычный — с башней непонятного назначения. Крутая деревянная лестница вела наверх, где на высоте третьего этажа была застекленная со всех сторон комната, уставленная горшками с цветами, — нечто вроде зимнего сада. Связисты, устанавливая телефон, столкнули проводом несколько горшков, и теперь под ногами хрустели черепки.
— Смети черепки-то, — недовольно сказал Тимонин. — А цветы поставь на место. Не дураки ж там, тоже небось смотрят за нами.
До замка было около километра, ну да пулемет достанет.
Стараясь не шевелить большие мягкие листья, он внимательно оглядывал местность. Отсюда хорошо просматривалось поле, замок, все подходы к нему. С той стороны, где была речка, близко к замку подступали редкие заросли кустарника на пологом склоне. От них до замка было не больше трехсот метров. Триста метров можно преодолеть броском даже и под сильным огнем. А потом начнется другой бой — гранатный, штыковой, — там можно будет драться на равных. В победном исходе боя на равных Тимонин не сомневался. Надо только решить вопрос: как преодолевать стену? Взорвать ее было нечем. Оставалось надеяться, что разведчики, в эту минуту изучающие замок со всех сторон, найдут какой-нибудь не заложенный кирпичом ход. Должен быть такой ход, обязательно должен.
Был и еще один способ преодолеть стену — с помощью лестниц и веревок с крючьями-кошками на концах. Как в древности. Вспомнился какой-то фильм, где солдаты в дыму и огне лезли по лестницам, размахивая саблями. Смешно, конечно, несовременно. Ну да на войне все способы хороши, даже и несовременные.
Пискнул телефон. Соснин доложил, что жителей в городке, похоже, немало: в первых же четырех домах, в подвалах, нашел семерых, женщин и девчонок, только женщин и девчонок, ни мужчин, ни мальчишек ни одного. Ну, мужчин, понятно, Гитлер в армию позабирал, а куда мальчишки, подростки подевались?
— Запуганы, страшно смотреть, трясутся, твердят «найн», и все тут.
— А ты расспроси как следует, других найди…
Он еще не положил трубку, как увидел что-то темное, катящееся вдоль дороги от лесочка. Вскинул бинокль и сразу поймал много раз виденную на пленных ненавистную кепочку и шинель без петлиц, типичную немецкую шинель. Сжался весь, как всегда при виде немцев, но тут же разглядел и наших — кого-то в щегольском белом полушубке и еще солдата в коротком ватнике — своего.
— Кажись, пленного взяли, — сказал Соснину. — Встреть там, я сейчас буду.
Он еще понаблюдал, — пленный со стороны, чем мог быть полезен? — и не спеша спустился вниз. Но когда увидел немца, насторожился: вел тот себя как-то странно, будто и не в плену был, прохаживался один возле сарая, покуривал. Тимонин остановился в десяти шагах от него, а рука сама тянулась к автомату за спиной.
— Здрав-ствуй-те! — сказал немец с акцентом, обычным для пленных, когда-либо изучавших русский.
И тут в дверях сарая появился лейтенант Соснин, а следом за ним тот самый человек в белом полушубке, которого он видел в бинокль. Знаков различия на полушубке не было, и Тимонин не знал, что делать — докладывать или дожидаться, когда доложат ему.
— Вот, пополнение прибыло, — почему-то ехидно сказал Соснин.
Человек в полушубке игриво, как могут только ни от кого не зависящие тыловики, махнул рукой возле шапки-ушанки и громко, почти радостно доложил:
— Командир ПВЗУ старший лейтенант Карманов прибыл в ваше распоряжение.
Тимонин так нетерпеливо ждал тех, кто должен был прибыть ему в помощь, в его распоряжение, что не уловил разницы в смысле слов, и тем более не обратил внимание на незнакомое ему словосочетание ПВЗУ.
— Какая техника? — машинально спросил он.
— Хорошая техника. Там, за леском, стоит.
— А мне говорили о майоре Дмитриенкове.
— Майор Дмитриенков — командир нашего отделения.
— Какого отделения?
— Седьмого, товарищ капитан. Седьмого отделения политотдела армии.
— И это всё? — изумился Тимонин.
— Никак нет. Со мной Курт Штробель, представитель НКСГ, Национального комитета «Свободная Германия». Он бывший лейтенант вермахта.
Вот, значит, почему занимался этим замполит полка, вот какое «пополнение» выпросил он в армии?! ПВЗУ — передвижную звуковещательную установку. Не будет ни танков, ни пушек, а будут эти говоруны вести душеспасительные беседы с противником. Как глухому анекдоты! То, что немцы туги на ухо, Тимонин усвоил давно и крепко, — они слышат, лишь когда рвутся бомбы и стреляют пушки… А эти поговорят и уедут, только разворошив улей. Чудес на фронте не бывает. Не на кого рассчитывать пехоте, кроме как на саму себя. О победных маршах только в песнях поется, а в жизни к победе приходится ползти на брюхе.
— Штробелей тут только и не хватает! — зло сказал он и повернулся, чтобы снова идти на свой НП. Но вдруг сообразил, что эти говоруны не чета Соснину в немецком-то. Опять же живой немец. Вот кто поможет вытянуть из местных жителей все об этом проклятом замке, а может, и о его гарнизоне. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок…
Старший лейтенант Карманов много поползал по передовой с громкоговорителями и хорошо знал, что делать. Лежали у него в кармане листовки с разными эмоциональными призывами, бери, используй вместо текста агитпередачи. Случалось, что так и поступал, и ночью, когда тихо и далеко слышно, давал какую-нибудь печальную песенку, чтобы растрогать, а потом: «Achtung! Achtung! Сдавайтесь в плен. Это единственное, что может вас спасти. Покажите путем выброса белого флага, что вы собираетесь прекратить боевые действия. Не дожидайтесь начала наступления. Не подчиняйтесь офицерам, которые принуждают вас драться до конца. Разоружайте лиц, пытающихся воспрепятствовать вашим действиям!..» Конечно, немцы сразу не бежали сдаваться. Но многие задумывались, это точно. Впрочем, бывало, сдавались и сразу. Даже целыми гарнизонами. Особенно в последнее время. В последнее время «пленоспособность» немцев что ни день, то выше. Это они, спецпропагандисты, хорошо знали.
Но это плохо знали в частях. Вот и комбат смотрит на него недоверчиво, как на театрального гастролера. Рассказать бы ему, как немецкие солдаты десятками и сотнями сдаются в плен, предъявляя как пропуска агитационные листовки. Десятками и сотнями! Если бы подсчитать, сколько пуль не выстрелено в наших солдат, сколько жизней спасено!.. Впрочем, возможно, он и расскажет все это недоверчивому капитану. Если будет время.
Карманов посмотрел на небо, очистившееся от туч, но уже темное, вечернее, увидел блеснувшую первую звезду и заторопился. Надо было засветло приготовить аппаратуру, надо было осмотреться на местности и решить, откуда вести передачу. А для этого требовалось еще добраться до машины, стоявшей по ту сторону поля, в лесу…
— Послушай, старшой, — прервал его раздумья капитан Тимонин. — Говорильня — дело твое. Но помоги ты нам за-ради бога. С языком-то у нас, сам знаешь, — только «Хальт!» да «Хенде хох!». Тут немки есть, по подвалам прячутся, расспроси ты их об этом проклятом доме или замке, чтоб его… Какие там входы-выходы? Может, и о фрицах что скажут?
Карманов задумался. Не любил он, когда намеченному плану работы мешало непредвиденное. Но отказать в такой малости не мог.
— Мы вот что сделаем. — И повернулся, позвал немца. — Я проведу агитпередачу, как намечено, а товарищ Штробель побеседует с немцами, с местными жителями… Да вы не беспокойтесь, Курт — человек проверенный, — добавил он, заметив, что капитан недоверчиво скосился на немца. — И по-русски он знает, так что договоритесь.
— А, пускай, — махнул рукой Тимонин. И подумал: «Приставлю-ка я к этому немцу лейтенанта Матарыкина». — Только ты, старшой, поторопись с говорильней-то. Нам ведь ждать некогда, разберемся — штурмовать будем.
Старший лейтенант ничего не сказал, словно бы даже и не слышал, повернулся к немцу, о чем-то поговорил с ним.
— Ну вот, задача ясна… Э нет, — замотал головой, догадавшись, что комбат хочет кого-то послать с Куртом. — Не надо, товарищ капитан. Он лучше сам.
Немец пошел один по брусчатке, спокойно пошел, словно был у себя дома. Оставшиеся молча провожали его глазами, одни с недоверием, другие с любопытством, пока он не скрылся за углом. Темнело, в пустынных улицах висела серая муть.
— Не передоверимся? — спросил Тимонин.
Карманов вздохнул.
— Если бы вы знали, скольких мы пленных отпускаем!
— Это еще зачем?
— А они возвращаются и приводят других. Иногда целыми подразделениями…
— В плену они, конечно, сразу перевоспитываются, — ехидно перебил Тимонин.
— Кто сразу, а кто погодя, но перевоспитываются. Даже такие, как фельдмаршал Паулюс. — Он порылся в планшетке, достал листовку. — Вот, совсем недавно написано, четыре месяца назад: «Мой долг по отношению к родине и лежащая на мне как на фельдмаршале особая ответственность обязывают меня заявить своим товарищам и всему нашему народу, что из нашего положения, кажущегося безвыходным, теперь остался только один выход — разрыв с Гитлером и окончание войны…»
— Остался один выход, — с прежним ехидством сказал Тимонин. — Приперли к стенке, вот и запел. Где Паулюс раньше был, в сорок втором?
— Вы правы, главную роль в этом перевоспитании играют наши победы. Но и слово — тоже оружие, особенно теперь, на заключительном этапе войны… Ну, мне пора к машине, товарищ капитан.
Шлепая по кювету следом за двумя солдатами, которых комбат выделил ему в помощь, Карманов обдумывал предстоящую передачу. Этот разговор подсказал ему тему, и теперь он почти точно знал, что говорить. Продумать только первые фразы, а там и читать ничего не надо будет, — на память знал одну весьма убедительную листовку. Сочинять особый текст было некогда.
Снежная гуща под ногами застывала, льдинки царапали голенища. Карманов морщился, жалея свои хромачи, но на дорогу вылезать не решался: замок громоздился за полем и теперь, в сумерках, казался совсем близким.
Лишь возле самого леса, в какой-нибудь сотне метров от него, Карманов не выдержал, вылез на дорогу, ровнехонькую, как танцплощадка, высушенную морозцем. Постоял на краю, в готовности снова нырнуть в кювет. И два сопровождавших его солдата тоже вылезли, медленно настороженно выпрямились. Тишина была какая-то звонкая, то ли льдинки потрескивали по всему полю, то ли под слабым ветром позванивали замерзшие ветки в близком лесу.
Они пошли, все убыстряя шаг, потом побежали. Пулемет застучал, когда все трое были уже за деревьями. Пули прошли высоко, не было слышно, чтобы хоть одна ударила в ствол или в ветку. Так можно стрелять либо спросонья, либо в стельку пьяным. «Может, там вообще никого нет? — мелькнула шальная мысль. — Может, стоят какие-нибудь автоматы и палят во все стороны для шума? Ерунда!» — одернул себя Карманов. Не потому одернул, что такой уж невероятной была мысль, просто в этом случае намеченная им звукопередача теряла смысл.
Но возникшее ощущение, что тут что-то не так, не проходило. И когда, уже в темноте, они тащили через поле громоздкие громкоговорители, ложась после каждой пробежки, выжидая, смутным раздражением все жило в нем это чувство напраслины. Нападавший за день тонкий слой мокрого снега смерзся, и наст кряхтел и вздыхал при каждом шаге.
Над замком вспорхнула белая ракета. Обледенелое поле заискрилось тысячами зайчиков. Едва эта ракета погасла, как взлетела другая, красная, и словно залила кровью белый простор. Ракеты взлетали одна за другой — зеленая, желтая, снова красная, — и непонятно было, какой смысл в этом фейерверке.
А пулеметы все не стреляли. Каждый раз, как гасла очередная ракета, солдаты вскакивали и бежали в темноте, сколько могли, стараясь подтащить громкоговорители как можно ближе. Потом солдаты отбежали в сторону, оставив старшего лейтенанта одного, спрятавшегося в неглубокой выбоине, где нельзя было даже встать на колени, чтобы не обнаружить себя.
Подключив микрофон, Карманов спрятал его за пазуху и стал ждать, когда немцы прекратят бросать ракеты. Он лежал на спине и глядел в небо. Низко висели звезды, одни дрожали в своей вышине, словно вот-вот готовы были сорваться, другие светили ровно и сильно. Великая тишь ощутимо заполняла пространство, не было слышно даже отдаленного грохота орудий, видно, фронт ушел далеко. На востоке светлело небо. Но это не было заревом пожара. Всходила луна.
А ракеты все вспархивали, взлетали беззвучно, трепыхались в вышине и падали подбитыми птицами. Хлопки ракетниц доносились глухими, почти не слышными.
— Ахтунг! Ахтунг! — потеряв терпение, сказал Карманов в микрофон и замер, прислушиваясь.
Ракеты, словно испугавшись, сразу погасли, и тьма схлопнулась над головой, густая, непроницаемая.
Он привстал, сел поудобнее и поднес микрофон к губам.
— Ахтунг! Ахтунг! Дойче зольдатен!
Неторопливо и спокойно он говорил о том, что русские армии ушли далеко вперед и сопротивление окруженных бессмысленно, говорил уверенно, заученно, как говорил уже много раз.
— …Единственное, что может спасти вам жизнь, — это сдача в плен. Не надейтесь на чудо-оружие, обещанное Гитлером. Гитлер обманывает вас, как обманывал много раз прежде. «Я столько раз в своей жизни был пророком», — говорил Гитлер. Немецкие солдаты! Вам хорошо известны эти слова Гитлера. Что ж, возьмите и проверьте: оправдалось ли хоть одно его «пророчество»?..
Дальше можно было говорить, даже и не думая, поскольку это было из листовки, которую он знал наизусть.
— В октябре сорок первого Гитлер пророчествовал: «Сегодня я могу сказать, что противник сломлен и никогда уже не поднимется». Красная Армия ответила «пророку» зимней битвой под Москвой. Потребуйте от фюрера отчета: сколько немцев погубил он под Москвой? В сентябре сорок второго года Гитлер говорил: «Мы ворвались в Сталинград, и никто не сдвинет нас с этого места». Красная Армия ответила «пророку» окружением и уничтожением шестой немецкой армии под Сталинградом. Потребуйте от фюрера ответа: сколько сгубил он немцев под Сталинградом?..
Старший лейтенант замолк, и сразу же, словно спохватившись, взлетели ракеты. Простучал пулемет, мельтешащие трассы скользнули высоко над полем, снова удивив такой неумелой стрельбой наугад. И опять все затихло.
— …О своих союзниках Гитлер пророчествовал: «Все надежды наших врагов, рассчитывающих разрушить наш союз, являются безумием». «Союзники» Гитлера ответили «пророку» тем, что один за другим порвали с ним, чтобы спасти себя от катастрофы. Так выглядят гитлеровские «пророчества» и действительные факты. У Гитлера что ни слово — то ложь. Таков фюрер. Солдаты! Миллионы немцев, которые верили этому банкроту, погибли понапрасну. Так погибнете и вы, если будете верить ему…
Всплеснулась белая ракета, а затем еще и еще, ярко осветив весь этот громадный треугольник — замок — лес — окраинные дома городка. И пулемет вдруг начал бить точно, прицельно. Хлесткие шлепки пуль прошлись совсем близко. В следующий миг Карманову показалось, что его ударили по руке, по боку. Он упал в спасительную выбоинку, подумав сначала, что камнем ударило или куском льда, отколотым пулей. Но тут же почувствовал горячую мокроту в рукаве.
— Эй! — крикнул лежавшим неподалеку солдатам. — Ползите сюда, меня вроде бы ранило!
— Если не уверены, значит, не ранило, — отозвался спокойный голос.
— Отчего ж горячо-то?
— Мало ли отчего бывает горячо, — засмеялся тот же солдат. И спохватился. — Мы сейчас, сейчас мы…
Карманов терпеливо ждал, стыдясь позвать еще раз — вдруг ранение пустяковое, — и смотрел в небо. Над лесом горело, расползалось бледное зарево лунного восхода.
Зревшее над лесом зарево медленно выдавило в блеклое небо багровый сгусток луны. Тимонин выругался: темноты, на которую он рассчитывал, не предвиделось. Правда, и ракеты могли превратить ночь в день, но они загораются и гаснут. А луна!.. Все равно что днем атаковать, — те же потери.
— Где там этот, Штробель? — спросил он, обернувшись к Соснину.
Как он и думал, агитпередача только переполошила немцев, — вон какой огонь открыли, закидали ракетами. Теперь офицеры не заснут, убоявшись, что солдаты будут слушать пропаганду, теперь уж не удастся незаметно подобраться к стенам.
— Не видать пока, — ответил Соснин.
— Надо разыскать.
Но тут он как раз и пришел, сам пришел, словно почувствовал, что долгое отсутствие беспокоит комбата. Темная фигура вынырнула из-за дома, заставив насторожиться.
— Стой, кто идет! — как положено окликнул часовой.
— Курт Штробель. Доложи командиру.
Через минуту он сидел возле печки, чинно сидел, не протягивая руки к огню, на довольно сносном русском спокойно рассказывал, где был да с кем говорил. И ничего хорошего не выходило из его рассказа: немки все больше сами расспрашивали о том, когда их будут выселять в Сибирь да что разрешат взять с собой. Когда же он заводил разговор о засевших в замке гитлеровцах, враз умолкали. Но все же ему удалось узнать, что замок специально приспосабливался к обороне, что там толстые стены и большие подвалы, в которых всю войну размещались какие-то склады.
— Они имеют много боеприпасов, — сказал немец.
— А входы, входы какие?!
— Выходить цвай, два. Грос тор, во-ро-та, заложен кирпич, кляйн тюр, малый дверь — от река… Туда нельзя, — вдруг горячо заговорил он. — Совсем нельзя. Там дети.
— Какие дети?
— Кнабе, юнге… маль-чи-ки. Местная фрау, женщины страх, страшиться за свои мальчики…
— Вот сволочи! — Тимонин понял это так, что затворившиеся в замке фанатики взяли детей в качестве прикрытия.
— Они мобилизовать детей, все, кто могут стрелять…
— Мы с детьми не воюем. Но если они будут стрелять, то и мы будем. Вы им об этом сказали?
— Я сказал. Они вам не верить. Пропаганда доктор Геббельс.
— Геббельсу верят, а нам нет?!
Штробель промолчал. Трещали дрова в печке. В оконце сарая вливался лунный свет, пробивал пелену табачного дыма, споря со светом фонаря «летучая мышь», висевшего под потолком.
— Боятся они. Не понять: как сами виноваты.
— Конечно, виноваты. Их детям суют в руки оружие, а они в стороне? Вот теперь и помалкивают. Чует собака, чье мясо съела.
— Мясо нет, хлеб нет, ничего нет.
— Тьфу ты, черт, — выругался Тимонин. — Поговори с тобой.
Он уже понял, что никакого толку от Штробеля не будет, как и от всей этой говорильни, и пора отдавать приказ об атаке. Одновременно со всех сторон — это, пожалуй, самое верное. Где-нибудь да прорвутся к стенам. Удерживало его от немедленных действий лишь то, что он до сих пор не знал толком, как пробиться в замок. «Жалостливый», — сказал о нем командир полка. А каким еще быть? Безрассудным? Бросать людей на пулеметы, не зная зачем? Ну, дорвутся до стен, потеряв многих. А дальше? В самом деле штурмовать с помощью лестниц? Хоть бы ящик тола. Но не было взрывчатки, только гранаты да немного мин у минометчиков. Затребовать? Ждать, когда привезут взрывчатку? А можно ли ждать?..
— Связался я с вами! — сквозь зубы процедил он, понимая, что несправедливо срывает на этом немце то раздражающе-непонятное, что мучило его.
— Я думать, вы зря сидеть шуппен, сарай, — вдруг сказал Штробель. — Офицер должен жить дом.
— Что за новости? — удивился Тимонин. — Я сам решаю, где мне лучше.
— Они много лет слышал: вы дикарь. И вы жить сарай. Подтвердить пропаганда Геббельса. Надо жить дом.
— Дело говорит, — сказал Соснин.
— Мало ли кто что говорит. Фельдшерица Катенька, медпункт пускай размещаются в доме на перинах. А мне не до того.
— Теперь все надо учитывать.
Он сердито посмотрел на Соснина и промолчал. Прав лейтенант, что тут скажешь? Всю войну воевал, не приспосабливаясь. Ну разве что к обстановке да к настроению вышестоящего начальства. А тут, за границей, надо еще приспосабливаться к местным нравам. Кто они такие, немцы, чтобы к ним приспосабливаться?!
Он возмущался, спорил, но и сам думал о том, что поворачивается война какой-то неожиданной стороной: к привычной фронтовой прямолинейности примешивается что-то въедливо-дипломатическое, и никуда от этого не деться.
— Там посмотрим, — сказал неопределенно. И хотел уж распорядиться разослать связных к командирам рот. Но тут услышал какой-то шумок во дворе, необычное движение.
И вдруг на пороге возник немецкий мальчишка лет пятнадцати, худой, с выпуклыми испуганными глазами. На нем была короткая куртка какого-то полувоенного покроя, — видно, мать перешивала из чего-то солдатского, — а на голове уж подлинно фрицевская кепочка, точно такая же, как на Курте Штробеле.
— У реки поймали, — сказал сержант, доставивший мальчишку. — Мы ему «Хальт!», а он бежать. Вот, у него нашли. — Сержант положил на стол парабеллум и отшагнул в сторону, давая понять, что его дело сделано и теперь разбираться начальству.
Глядя на пистолет, мальчишка заговорил что-то, заикаясь, не договаривая слова, словно у него для этого не хватало голоса.
— Он говорить жить тут, Кляйндорф. Его дом тут, — перевел Курт Штробель.
— Чего делал у реки ночью? — Тимонин даже привстал от неожиданной догадки: оттуда, из замка? Разведчик?
Это было так естественно: если засевшие в замке кого и пошлют на разведку, так только мальчишку. Подозрений меньше: мало ли мальчишек бродит? А самое главное было в том, что он как-то ведь вышел оттуда.
— Пускай идти домой, — сказал Штробель.
Тимонин сразу понял: отвести мальчишку домой и узнать, не врет ли он. Если врет, то сомнений не останется, что он оттуда, и, стало быть, разговор с ним будет совсем другой.
— Отведи его, — сказал Штробелю и оглянулся на Соснина: — Сходи с ними.
Городок казался совсем брошенным. Но Соснин знал: это не так. Он шел и оглядывался на окна, и все ему казалось, что занавески на окнах колышутся. Лунный свет перечеркивал улицу длинными тенями. Высушенная морозом брусчатка необычно позванивала под сапогами, эхо шагов металось от стены к стене.
Все дома в этом городке были целы, стояли двумя плотными шеренгами, как солдаты на смотру, поблескивали чистыми целыми стеклами, и никак не верилось, что и через этот город прокатилась война.
Шли долго, и Соснину начало казаться, что парень просто водит их по улицам, оттягивает время. Он уже хотел сказать об этом Курту, но тут мальчишка остановился у одного из домов, уверенно толкнул калиточку и взошел на крыльцо. Курт понаблюдал, как он открывает дверь, затем отстранил его и вошел первым. В окна сочился лунный свет, в доме было довольно светло. Поблескивал у стены стеклянный шкаф, стояла большая деревянная аккуратно застланная кровать, а посередине комнаты — стол, покрытый свисающей чуть не до пола скатертью. Парень снял шапку и, держа ее в руках, пошел вокруг стола, что-то все говоря, отвечая на вопросы Курта. Отвечал быстро, непонятно для Соснина, и Соснин насторожился: что-то уж больно разговорились эти два немца, будто нашли общий язык.
Потом вышли в коридор. Посвечивая фонариком, Курт открыл небольшую дверцу в стене. Вниз вела узкая каменная лестница, оттуда пахло сыростью подвала. Парень спустился на несколько ступенек, крикнул:
— Не бойтесь, это я!
Несколько минут снизу не доносилось ни звука, потом послышался шорох, тихий, словно мышь шевельнулась. На цементной стене возник слабый призрачный свет, качнулась тень, и вдруг показалась рука со свечой. Наверх поднималась женщина, замотанная платками по глаза, на вид совсем старуха.
— Это ты, Франц? — спросила она. — А где Алоиз?
Парень испуганно оглянулся на Соснина, стоявшего в темноте, а женщина, как видно, только теперь заметившая русского офицера, отшатнулась, свечка в ее руке мелко задрожала.
И тогда заговорил Курт. Он говорил долго, доверительно-тихо, не убеждая, не настаивая, а словно заговаривая, как заговаривают знахарки застарелую боль. И с каждым его словом свечка дрожала все меньше, старуха распрямлялась, превращаясь, к удивлению Соснина, в довольно-таки молодую, лет тридцати пяти, и весьма красивую женщину. Когда Курт замолчал, она опять повернулась к парню и совсем другим голосом, не испуганным, а требовательным, повторила:
— Где мой Алоиз? Он был с вами.
— Жив Алоиз, — пробормотал парень, покосившись на Соснина. — Он там, вместе со всеми.
— Почему?
Дальше Соснин уже ничего не понимал, такой скороговоркой зачастила женщина. Только и улавливал частые «варум?» — «почему?». Потом в их разговор вмешался Курт. Он расспрашивал довольно въедливо, и голос у него был требовательным и настойчивым.
— Аллее кляр, ясно, — наконец сказал он, обернувшись к Соснину. И заговорил, необычно волнуясь, то и дело вставляя немецкие слова: — Нет атака, найн. Юнге там, юноши, маль-чиш-ки. Только они. Их увел фельдфебель Граберт. Все из Кляйндорф и другие селения. Воевать не хочеют, нихт шисен, не уметь. Фон цен яре… от десять лет. Идут домой? Найн. Боятся фельдфебель Граберт…
— Та-ак, — угрюмо сказал Соснин. — Проясняется, только ты, товарищ Курт, мозги-то не пудри. Найн атака? Как бы не так. Гитлерюгенды — те же солдаты, и они уже показали себя. Двенадцать человек мы из-за них потеряли. Убитыми и ранеными. Двенадцать! Дет-тиш-ки!..
— Не можно с ним серьез война.
— А что делать? Пулемет не разбирает, всерьез нажимают на спусковой крючок или играючи.
Курт снова принялся быстро и напористо переговариваться, и мальчишка в конце концов совсем умолк то ли от испуга, то ли заупрямившись, а женщина заплакала.
— Я сказать, что они должны прекратить сопротивление или их уничтожат.
— Правильно сказал. И пускай… — Он вдруг подумал, что раз пацаны из этого городка, то здесь сидят по подвалам их родичи. Собрать бы их да заставить высказаться по «звуковке», чтобы отговорили своих пацанов. Вот была бы лафа — обойтись без штурма: и задача выполнена, и люди целы. Но тут же подумал о невозможности такого исхода. Силком к микрофону не потянешь, а если кто и согласится, что с того? И без агитации ясно: не разойдутся. Если бы могли и хотели, разбежались бы еще вчера. А они или ловко попрятались, когда разведчики Матарыкина подходили к замку, или заперлись здесь уже после них. Значит, этот Граберт умело командует, обманывает посулами близкой помощи, мусорит мозги сказками о геройстве, запугивает.
Надежда, неожиданно обрадовавшая его, угасла, оставив глухое раздражение. Нелепая получалась ситуация, нелепей не бывает.
— Айда к комбату, — сказал он. — Там разберемся.
Они вышли на улицу. Светила луна, пространство между домами словно было залито молоком. Сразу вспомнились Соснину любимые с детства сказки Андерсена. В книжках, которые он читал, были на картинках такие же аккуратные домики сказочного городка. Воспоминание задело нежной печалью, и он, понимая ее неуместность, заставил себя прикрикнуть на немчонка, тащившегося нога за ногу.
— Шнель, шнель!
Но, видно, было в его голосе что-то неуверенное, и все уловили это, только среагировали по-разному: мальчишка ничуть не прибавил шагу, а женщина, остававшаяся возле калитки, вдруг пошла следом, без требований, без понуканий, сама пошла. Соснин не оборачивался, но ясно слышал ее частые шаги и определял по звуку: так и тащится метрах в тридцати. Потом к этим шагам прибавился еще перестук, он оглянулся и увидел, что женщин уже две — целая делегация, и у Соснина вновь затлела надежда: а вдруг из этого что-нибудь да выйдет?
В просвете между домами искрилось поле. Замок, подсвеченный луной, исчерченный тенями, громоздился на фоне черного неба. Это было уже не из сказки Андерсена, а из какой-то другой, зловещей.
И вдруг замок словно облился кровью, сверху донизу залитый красным светом ракет. И где-то посередине стены замельтешил, затрясся огонек пулеметной очереди. И одновременно с далеким частым стуком пулемета Соснин услышал приближавшийся шум.
Через несколько минут в улицу на полной скорости влетела крытая машина и остановилась в тени дома. Курт бросился к машине, распахнул дверцу, быстро затараторил по-немецки.
— Что случилось? — спросил Соснин шофера.
Кругленький, в щеголевато сидевшей на нем куртке шофер стоял на подножке, с интересом оглядывал залитые лунным светом дома.
— Старшего лейтенанта нашего ранило, — сказал он спокойно, как о чем-то обыденном.
— Какого ж черта вы сюда-то ехали! — сдержанно сказал Соснин. — Знали ведь, что дорога простреливается!
— Так я чего. Товарищ старший лейтенант приказали.
Из машины выскочил солдат, — Соснин не успел разглядеть, кто именно, — крикнул на бегу:
— Фельдшера надо!..
В машине при тусклом свете автомобильной лампочки Соснин увидел улыбающегося старшего лейтенанта Карманова и вздохнул облегченно.
— Пустяки, в руку, — сказал старший лейтенант. — Испугался немного, а так ничего. — И засмеялся, счастливый тем, что легко отделался. — До свадьбы заживет.
Замолчали и услышали снаружи приглушенную немецкую речь. Женщины говорили что-то сбивчиво и торопливо, а мальчишеский голос деланным баском отвечал односложно.
Но тут женские голоса оборвал резкий окрик:
— Назад!.. Разговорились…
— Вот дурень, — выругался Карманов. — Лейтенант, скажите ему. — И сам крикнул: — Пускай говорят! — И сморщился от боли, вытянул перед собой руку, толстую, как полено, замотанную тряпками.
— Новичков! — в свою очередь крикнул Соснин, высунувшись из машины. — Гляди, чтобы парень не убежал, а баб не гони. Ясно?
— Так точно.
Снова они в машине замерли, прислушиваясь, не выболтнет ли кто чего. Но того разговора между немцами уже не было. Только кто-то из женщин запричитал, подвывая тоненько, как собака.
— Вот, значит, какие дела, — медленно проговорил Карманов. — Мальчишки. Что делать-то, а? Надумаешься.
— Думай не думай, а выбивать их оттуда придется, — сказал Соснин.
— Тут похитрей надо.
— Конечно, перехитрить бы…
— Послать к ним кого-нибудь, разъяснить.
— Вы уж доразъяснялись, — усмехнулся Соснин, кивнув на перевязанную руку.
— То ерунда… Мальчишку вот надо отпустить.
— Как отпустить? Разведчика?
Тут снаружи послышались голоса, и в машину втиснулись капитан Тимонин и военфельдшер Катюша.
— Послушай, что он предлагает. Отпустить, говорит, пацана-то.
Карманов поморщился то ли от этих слов Соснина, то ли от боли, и гримаса на его лице в тусклом свете лампочки получилась какая-то жалостливая. Сказал, боязливо косясь на девушку, сдиравшую с его руки тряпки:
— Что от него толку, от пленного. А вернется к своим — агитатором станет.
— Агитатор! С автоматом у брюха. Наагитирует, только отпусти.
— По-моему, вы, товарищ лейтенант, не понимаете главного. — Карманов говорил медленно. — Задача не в том, чтобы уничтожить…
— Интересно, — перебил его Соснин. — Задача у всех у нас одна — задушить зверя в его собственной берлоге.
— Зверь — это фашизм, а не немецкий народ, — в свою очередь перебил Карманов и вскрикнул от боли, укоризненно посмотрел на фельдшерицу. — Осторожней нельзя? Что у тебя руки дергаются?
— Потому и дергаются, — подал голос до этого молчавший Тимонин. — Спроси, что они с ее деревней сделали. Нет уж, старшой, ты эту песню брось. Нам не жалеть, а ненавидеть надо.
— Великодушием велик человек, великодушием, а не ненавистью, — тотчас отозвался Карманов. Видно, была эта тема для него не в новинку.
— Вот раздавим фашистов, тогда можем позволить себе быть великодушными. Хотя я не представляю, как это у меня лично получится. Я, наверное, до смертного часа их ненавидеть буду.
— Кого их?
— Немцев! — Тимонина начала раздражать эта болтовня.
— А немцы ли виноваты?
— Вот те раз! Кто же еще?
— Подумать надо. Не жертвы ли они, как и мы?..
— Ну, хватит, — прервал его Тимонин. — Болтаем впустую.
— Впустую ли? Нельзя отождествлять население Германии с правящей в Германии преступной фашистской кликой.
Тимонин промолчал. Знал он эти слова, да только думал: пускай словами воюют такие, как этот старший лейтенант, а его дело стрелять, убивать, и чем больше, тем лучше. Убивать, не задумываясь, кто перед ним — отпетый фашист или равнодушный немецкий обыватель. Нельзя на фронте жалеть врага, нельзя думать, что он, дескать, тоже человек и у него есть мать, детки малые…
Закончив перевязку, Катюша погладила Карманова по плечу и, ни слова не говоря, выскользнула из машины. Курт тоже собрался было выйти, но старший лейтенант удержал его, сказав что-то по-немецки.
— Дайте нам возможность поговорить с этим мальчишкой наедине, — попросил он Тимонина.
— Допросить? Почему наедине?
— Побеседовать. Попробуем его распропагандировать.
— Этого сопляка? Что он поймет?
Старший лейтенант пожал плечами и не ответил.
— Пропагандируйте, чего меня-то спрашивать?
— Нужно, чтобы вы подождали с наступлением.
— Как это? — изумился Тимонин. — Вы что, рассчитываете уговорить немцев сдаться? — Он засмеялся и оглянулся на Соснина, молча стоявшего у двери.
— Всякое бывало, — неопределенно ответил старший лейтенант.
Тимонин в упор посмотрел на него. В тусклом свете автомобильной лампочки бледное лицо старшего лейтенанта казалось плоским, ничего не выражающим. Подумал: подержать бы окружение недельку-другую, чтобы завыли в замке от голода или еще от чего, тогда можно бы и поверить в добровольную сдачу. Но чтобы сразу, такого не бывает.
Он открыл дверь и спрыгнул на землю. Луна светила вовсю, дома были залиты молочным сиянием. Задержанный немчонок и две женщины неподвижно стояли посреди улицы, возле них топтался, переступал с ноги на ногу часовой.
— Пойду сам посмотрю, как там подходы от реки, — сказал он спрыгнувшему следом Соснину. — Оставайся тут, вытяни из этого немчонка все, что можно, а я в первую роту.
Городок кончился сразу. Ни огородов, ни сараюшек на отшибе, как в наших городках и поселках. Только что был плитняк тротуаров и брусчатая дорога. Но за последним домом дорога раздвоилась, ушла вправо и влево, отсекая окраину от широкого, залитого лунным светом блескучего поля, на котором все было как на ладони. Тимонин и сопровождавший его связной сначала передвигались по полю перебежками. От замка не стреляли. Тогда они пошли в рост. Торопливо пошли, согнувшись по привычке, не сводя глаз с темных стен, каждую секунду ожидая мельтешащих вспышек пулеметных очередей. Потом спустились в овражек, облегченно выпрямились, удивляясь беспечности немцев.
«Дрыхнут небось, — подумал Тимонин. — Пацаны, что с них взять. Поиграли и баиньки…»
Овражек вывел к реке, где, рассыпанная по редким кустам, окопалась первая рота. Окопались, правда, для отвода глаз, не окопались — обозначились. Солдаты знали, что оборону тут не держать. Это было непривычно. Любой рубеж копался серьезно, начиная с индивидуальных ячеек и кончая, если позволяло время, окопами полного профиля, ходами сообщения, блиндажами. Но сегодня даже у Тимонина не поворачивался язык требовать такой работы. У себя-то в тылу? Да еще имея задачу штурмовать этот проклятый большой дом? Сегодня короткий отдых после непрерывных боев и изнурительных маршей последних дней был нужнее всего.
— Где командир роты? — спросил у первого же встреченного им часового. Конечно, следовало бы поднять и отделенного и взводного, но он этого не сделал: пускай поспят.
— В будке, пожалуй, — ответил часовой, махнув рукой в сторону реки, незамерзшей, лежавшей черной бездной меж забеленных снегом берегов.
Будка была неподалеку, стояла у самой воды, должно быть, предназначенная для водозабора. Тимонин направился к ней и увидел бегущего навстречу лейтенанта Кондратьева.
— Спите?
— Никак нет. Греемся пока. — Он подождал и, видя, что комбат молчит, ждет еще каких-то слов, добавил: — Вы же сами велели оборудовать обогревалку.
Лейтенант был молод, совсем молод и неопытен для ротного. Но кого было еще назначить, если за последние две недели батальон потерял столько офицеров и в ротах никого не осталось старше лейтенанта.
— А замок? — спросил сдержанно.
— Что замок? Стоит.
— А вы, значит, греетесь?
— Не совсем так, товарищ капитан, — заторопился ротный, уловив недобрую иронию в словах начальника. — Стережем как надо.
— Нам не стеречь, а штурмовать предстоит. К стенам придется прорываться. От вас до стен ближе всего, вам и первое слово.
— А чего к ним прорываться, подползем потихоньку.
— Подползете? Пробовали? — живо заинтересовался Тимонин.
— Лейтенант Матарыкин только что оттуда. Да вон он бежит.
От будки, застегиваясь на бегу, спешил командир взвода разведки.
— Спал? — спросил Тимонин.
— Никак нет. Подсушиться пришлось. Канава там у стены. С водой.
— Ну и что стены?
— Стены как стены, каменные, холодные. Понизу сплошь валуны, а повыше кирпич.
— Это и так видно. А вот как в замок попасть?
— Там калиточка есть, железная. Подорвем гранатами.
Они стояли у самой воды, словно на краю черной пропасти, и то и дело взглядывали вверх, где за склоном, поросшим кустарником, был невидимый отсюда замок. Луна тихо плыла в белесой пустоте неба, светила, как фонарь, и было непонятно, почему при таком освещении немцы из замка не увидели подползавших разведчиков. Может, и в самом деле спят? Мальчишки, какой солдатский опыт? Но тот, кто руководит ими, должен же знать, что не оставят их тут в покое, и ему-то спать никак не подобает.
А может, нарочно не стреляют по одиночкам, ждут, когда толпой полезем? Может, у них тут ловушка?
Ему нестерпимо захотелось обратно в городок, чтобы самому расспросить немчонка, вытрясти из него душу, но вызнать все.
— Покажи, — сказал он Матарыкину.
Кто-то сзади накинул на плечи Тимонина невесомое полотно маскхалата. Он продел руки в услужливо оттянутые рукава, запахнул пестрые, в пятнах грязи полы, стянул шпагатом на поясе. Белый капюшон сваливался на глаза, и Тимонин подогнул его, аккуратно завязал тесемки под подбородком.
— За мной, товарищ капитан. Делайте как я.
Матарыкин чувствовал себя уверенно, видно, исползал тут все вдоль и поперек. Он перебегал от куста к кусту, приседал, замирал на открытых местах, и Тимонин послушно проделывал то же самое. Следом таким же образом передвигался лейтенант Кондратьев. По мере того как они шли, замок поднимался из-за склона все выше, словно вырастал из земли. Разделенный светотенью на черную и серую половины, он громоздил высокие монолитные стены, казалось, к самому небу и лишь там, в вышине, пестрел рядами решетчатых окон.
— Где калиточка?
— Слева, в темноте не видать.
Отсюда до замка было метров двести пятьдесят — пустяковое расстояние, можно броском преодолеть. А дальше? Вся надежда на калиточку?
И снова все свелось к немчонку, который только и мог знать, как организована оборона.
Тимонин посмотрел на часы — было без четверти четыре, покосился на Матарыкина, на Кондратьева, лежавших слева и справа. Оба неотрывно смотрели на замок, то ли наблюдали за чем, то ли делали вид, что наблюдают, чтобы не мешать начальству думать.
— Н-да, на ура тут не взять, — сказал Тимонин.
— На ура не взять, — как эхо повторил Матарыкин.
— Не взять, — подтвердил Кондратьев, и в голосе его послышалась неуверенность, безысходность.
Теперь Тимонину было ясно: не со всех сторон атаковать надо, а лишь отсюда, и для начала не более чем одной ротой. Другие пусть прикрывают. Обложить замок, просочившись вдоль стен, не в пример легче, чем идти к ним под огнем через открытые поля. Одна трудность отпадала, — подобраться под стены можно. Оставалась другая, более сложная: как пробиться в замок? И тут у Тимонина не было никакой ясности.
— Пора, — сказал он и пополз назад тем же путем.
Матарыкин быстро обогнал его, и опять Тимонину пришлось проделывать за командиром разведвзвода приседания и пробежки. Смерзшийся за ночь снег громко хрустел, но теперь это не беспокоило, как не беспокоит знакомая дорога. Замок уменьшался с каждым шагом и скоро совсем скрылся за крутым склоном.
Давно позабытая на фронте, какая-то неестественная звенящая тишина висела над блескучими полями, над острыми крышами городка. Время от времени от замка доносились короткие пулеметные или автоматные очереди, — осажденные бодрили себя стрельбой, — но стук очередей словно бы не нарушал тишины, не заглушал этот неясный звон, доносившийся неведомо откуда.
Городок замер в оцепенении, все эти перечеркнутые тенями улицы, крыши, стены, окна, заборчики походили на нагромождение черно-белых квадратов, прямоугольников, параллелепипедов гигантской картины то ли гениального, то ли сумасшедшего художника. Городок был тих, но едва Тимонин приблизился к крайнему дому, как оттуда, из глубокой тени, послышалось неожиданно громкое:
— Стой, кто идет!
Связной, бесшумно двигавшийся следом, скользнул вперед, в тень, послышалось тихое переругивание: «Своих не узнаешь?» — «Так темно же…» Тимонин перебежал светлую широту поля, огляделся за домом. Другой конец залитой лунным светом улицы терялся в серебристой морозной дымке. Там, в отдалении, призраками шевелились какие-то тени. Уже не опасаясь обстрела из замка, Тимонин пошел по темной стороне улицы и увидел, что тени эти приближаются, все четче вырисовываясь из дымки, приобретая знакомые очертания. Он узнал своего Соснина и старшего лейтенанта Карманова, кругло перекошенного от перевязки, от подвешенной под полушубком руки, узнал и немца в куцей шинелишке и фрицевской кепчонке. К удивлению Тимонина, был с ними и немчонок, шел не впереди, а рядом, как равный. Было во всем этом что-то новое, непонятное, а потому тревожное.
— Франц согласился вернуться к своим, — сказал Карманов, увидев комбата.
— Что значит согласился? Он ведь затем и выходил оттуда, чтобы вернуться. Почему это вы вдруг решили помочь ему?
Фраза звучала двусмысленно, но старший лейтенант, казалось, не обратил на это никакого внимания.
— Так лучше для дела.
— Это вы считаете?
— Я и начальник нашего отдела майор Дмитриенков. Мы связались по радио. На эту операцию получено разрешение.
Тимонин посмотрел на своего начальника штаба. Соснин молча кивнул: да, мол, такое разрешение получено.
— Но этот немчонок нужен мне как «язык».
— Все, что знает, он рассказал.
Соснин снова кивнул.
— Чего киваешь? — взорвался Тимонин. — Говори толком.
— Рассказал, — опять кивнул Соснин.
— План этого проклятого замка? Входы-выходы? Калитка, что за ней?..
— Калитка — единственный оставленный выход. Подорвать дверь можно, но за ней — каменный мешок. Многих положим.
«Людей жалеет, не в пример некоторым», — вспомнил Тимонин слова командира полка. Он-то всегда думал о себе как раз обратное. Война, ужалеешь ли всех? Бывало, и на верную смерть посылал людей. Сам бы пошел, да не имел права. Где он углядел жалость, командир полка? И теперь, как он думал, не было в нем жалости. Просто не видел он возможности пробиться в замок, а то уж давно бы приказал атаковать. Но ведь прикажет. Через смертный мешок калитки, а прикажет…
— Я бы сам с ним пошел, да не разрешили, — сказал Карманов.
— Куда? — не понял Тимонин.
— Туда, в замок.
— Как это — пошел бы?
Курт, все время стоявший поодаль, вдруг шагнул почти вплотную, так что Тимонин уловил чужой одеколонно-табачно-шинельный запах. Так иногда пахло от взятых в плен немецких офицеров.
— Я иду. Это есть моя дело, — сказал он сбивающимся от волнения голосом.
— Тоже разрешение получено? — спросил Тимонин, отступая от немца.
— Так точно. Согласовано с политотделом армии. — Старший лейтенант привалился к стене дома, сказал торопливо и раздраженно, как всегда говорят раненые, которым боль не дает отвлечься. — Вам, видать, в новинку, товарищ капитан. А у нас, я говорил, это обычное дело. Многих пленных отпускаем обратно в свои части.
— То пленных. Если поверили им. А добровольно идут в плен знаешь кто?
— Он идет… вроде парламентера.
— Война капут, — снова вмешался немец. — Германия остается. Кто остается? Кто строит новая жизнь? Другой немцы нихт, нет. Дорт киндер, там дети — будущий Дойчлянд. Я иду разъясняйт. Это есть моя дело…
— Они тебе разъяснят, — проворчал Тимонин. Он понял: говори не говори — ничего не изменить. Старший лейтенант Карманов ему не подчиняется. Так пускай уж побыстрей делает свое дело. — Все выспросил? — повернулся он к Соснину.
— Все.
— Делай, как знаешь, старшой… Чем черт не шутит…
Ему вдруг остро захотелось поверить в успех этой, как он считал, авантюры. Не понадобилось бы штурмовать замок, не пришлось бы хоронить погибших, эвакуировать раненых.
Снова вспомнились слова командира полка о жалостливости, — вот ведь засели, не забываются, — но теперь они показались ему упреком, и он, рассердившись на свою нелепую мечту, начал думать о том, о чем только и были его думы все это время: как штурмовать, чтобы поменьше было потерь.
Соснин в сопровождении двух разведчиков увел Курта Штробеля и немчонка к реке, откуда они должны были проползти к замку, а Тимонин и старший лейтенант Карманов пошли по ночному городку к штабу. Сапоги сочно цокали на сухой вымороженной брусчатке, наполняя улицу перестуками, и Тимонину все казалось, что следом идет еще кто-то.
Молча они дошли до сарайчика, открыв дверь, окунулись в душное тепло хорошо протопленного помещения, и здесь, повалившись на перину в углу и отдышавшись, отойдя от своей боли, Карманов начал рассказывать, как удалось уломать Франца, то есть немчонка этого.
Вначале не верилось, что можно послать его назад, да Франц и сам не хотел возвращаться, боялся фельдфебеля Граберта. Бьет он их чем ни попадя, совсем запугал. Дорвался до власти и своевольничает, как хочет. Вначале хотел Карманов просто организовать агитпередачу, чтобы Франц этот или немка, у которой там сын Алоиз, выступили по звуковке. Но немка наотрез отказалась, побоявшись за судьбу сына. Тогда-то у Карманова и возникла мысль пойти вместе с Францем, попытаться открыть глаза мальчишкам или попросту застрелить Граберта. Рискованный шаг, да не рискованнее штурма. При штурме пацаны начнут со страху отстреливаться. Скольких погубят! Сколько их самих погибнет!..
Карманов умолк и несколько минут лежал неподвижно, словно заснул.
— Не разрешили мне идти. Из-за руки. Тогда Курт запросился: «Это моя дело…» Да и немка эта стала сговорчивей, когда узнала, что Курт пойдет выручать ребят. Письмо передала.
— Какое письмо?
— Алоизу. Я же говорил: у нее там сын, Алоизом зовут.
— Затея, конечно, глупая, — сказал Тимонин. — Кокнут этого Курта, только и всего. Но если уж надо идти, то ясно, что ему. Тебе-то, старшой, чего голову в петлю совать? А он немец, ему о немцах и заботиться.
— Не-ет, комбат, и нам не все равно. Войне месяц-другой остался. А что потом? Еще в сорок втором году Сталин говорил: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается». От того, каким оно будет, германское государство, зависит послевоенный мир.
Он снова затих на своей перине, и Тимонин тоже молчал, может быть, впервые за всю войну так вот задумавшись о послевоенном. Много было разговоров о прекрасной жизни, которая наступит после войны. Своей. А о том, какая жизнь наступит для немцев, дум не было. Чего о немце думать, когда сегодняшняя главная задача — убить немца? И вот теперь, когда до победы осталось всего ничего, на первый план вдруг выходит то, что лишь осознавалось как теория, негодная для практики, — не всякий немец — фашист. А таким, как Карманов, все время приходилось помнить: фашист и немец — не синонимы. Более того: немец — не фашист. Ведь именно так и должно быть после победы. Иначе какая же это победа?
Тимонин посмотрел в угол, где навзничь, с руками на животе, как покойник, лежал старший лейтенант, и вдруг остро пожалел его: это как же воевать, если заранее любить немца? И снова вспомнил сорок первый год, когда при виде немцев было больше недоумения, чем злости. Все казалось: под этими рогатыми касками и мышиными мундирами — обычные рабочие да крестьянские парни, которых обманули, запугали, погнали воевать. Не было нетерпеливой готовности убивать их, хотелось разъяснять, что они не туда стреляют. Сколько людей полегло от такого, сосчитать бы?! Не сразу поняли: чтобы побеждать, надо научиться люто ненавидеть. Научились. Сами же немцы своей бесчеловечностью и помогли избавиться от благодушия.
Но кому-то всю войну непозволительно было такое избавление. Кто-то и на самом лютом ветру должен был оставаться вроде как хранителем огня. И может быть, им-то и было труднее всего.
За стеной, где сидел радист, послышался приглушенный говорок, и почти сразу же громкий требовательный голос:
— Товарищ капитан, первый вызывает.
В трубке хрипел, пробивался сквозь шорохи и свисты встревоженный голос майора Авотина:
— Надо поторопиться. Утром дорога должна быть безопасной, понял?
— Так точно!
— Что «так точно»? Я говорю: к утру все надо сделать. Из дома не должно быть ни одного выстрела.
— Задача ясна.
— Ни одного, понял? Дорога должна быть открыта. Нужна будет дорога. Понятно тебе?
Майор повторялся, и это ясней ясного говорило, что утром по дороге пойдут свежие войска. Всего скорей, будут вводиться в прорыв новые части. И немалые, раз они заполнят все дороги. Ясно, что все, иначе бы обошли. Значит, и по тем, другим дорогам, тоже пойдут войска.
— Слушай, старшой, поторопились мы с Куртом-то, — сказал он, выходя из закутка радиста.
Карманов не ответил, должно быть, спал. Постояв возле него, Тимонин махнул рукой: все равно теперь уже не вернешь Курта. И шагнул к двери, вышел во двор. Морозец к утру еще усилился, но где ему было до русских морозов, — не хватал за лицо, только освежал. Луна переползла довольно далеко, и городок, как-то по-другому перекошенный тенями, выглядел совсем иным, незнакомым.
В глубине улицы промелькнули тени, затем послышались перестуки сапог и к штабу вышел Соснин с двумя разведчиками.
— Прошли? — спросил Тимонин.
— Там уж они, все в порядке.
— Н-да, все в порядке…
От замка донесся короткий треск автоматной очереди. Совершенно ясно было, что стреляли за стенами, так глухо, еле слышно, прозвучала эта очередь. Затем еще одна, такая же короткая, в три-четыре патрона. Тимонин и Соснин перебежали за соседний дом, откуда был виден замок. Темная громада его высилась за полем, и ни одна ракета не всплеснулась над ним. Ни одна.
— Ну гады! — выругался Тимонин.
— Погоди, — попытался успокоить его Соснин. — Еще ничего не известно.
— Да все ясно: кокнули того немца и немчонка тоже.
Не верил он в эту затею с парламентерами, а вот теперь понимал: в глубине души все-таки надеялся на чудо. Чуда не произошло, на войне чудес не бывает. Только кровью добывается победа, только кровью…
Справа от замка светлело небо, чистое, без облачка. День обещал быть солнечным и теплым. А это значит, что ледяная корка быстро просядет и славянам придется бежать через протаявшее поле. И ползти по снежной жиже. И сколько их не доползет, навсегда останется здесь?!
Он пнул ледышку, подвернувшуюся под ногу, и выругался.
— Не психуй, комбат, — сказал Соснин, — не все еще потеряно.
— Жалко, что не выгорело с немцем, — сказал Тимонин. — Приказ получен: к утру выбить их. К утру. А утро — вот оно.
Он посмотрел на черный куб замка, резко выделяющийся на фоне неба. Темно-серая муть насыщалась светом, и обледенелая гладь поля зловеще поблескивала.
— В общем так: собирай командиров рот, начальник штаба, будем ставить задачу.
Курт Штробель шагнул вслед за Францем в темную нишу калитки, и железная дверца с грохотом захлопнулась за спиной.
Они долго стояли в темноте, ждали.
— Кого ты притащил, Франц?
Голос доносился откуда-то сверху, должно быть, из одного из сводчатых окон. До окон было высоко, Штробель прикинул: даже если бы красноармейцы взорвали калитку и ворвались сюда, они все равно тут бы и полегли, расстрелянные сверху, забросанные гранатами.
— Я пришел с лейтенантом Штробелем.
— Откуда он взялся?
— Он сам скажет. У него к нам какое-то дело.
Помолчали. Сверху доносился шорох или перешептывание, словно мыши скреблись в глухой тишине замкнутого пространства. Наконец тот же голос сказал:
— Иди ты знаешь куда.
Почти в полной темноте, касаясь пальцами холодных стен, они прошли узким коридором, так же ощупью поднялись по лестнице с очень высокими ступенями и оказались на полуоткрытой площадке. Подвальный смрад остался внизу, а здесь был чистый морозный воздух полей. В открытые аркады под потолком — рукой не достать — вливался сумеречный свет.
В углу вспыхнул фонарик, луч метнулся, остановился на лице Франца.
— Не нагляделся, Хельмут? — спросил Франц, щуря глаза.
Луч перескочил на Штробеля, ощупал его с головы до ног.
— Ты тут один, что ли? — спросил Франц.
— Ребята спят. Всю ночь ждали, что русские полезут, теперь спят.
Рядом скрипнула дверь, послышался ломающийся голос подростка:
— Проснулись уже. Ты так орешь, Хельмут, мертвого разбудишь.
Фонарик погас, и через несколько минут, когда глаза привыкли к полумраку, Штробель разглядел перед собой долговязую фигурку Хельмута. Был он в очках, судя по голосу, ему можно было дать от силы четырнадцать лет.
— В войну играете? Ремень по вас скучает, шалопаи, — сказал Штробель.
— Ну ты, полегче! — взвизгнул парень.
— Тебя когда-нибудь учили со старшими разговаривать?
— А мы еще посмотрим, кто ты такой.
— Могу показать документы.
Он шагнул к нему, но Хельмут отскочил, крикнул истерично срывающимся на фальцет голосом:
— Не подходи! Стрелять буду!
Короткая, в четыре патрона, очередь оглушила. С потолка посыпалась кирпичная пыль. Хельмут, видно, и сам испугался, прижался спиной к стене, держа автомат перед грудью стволом вверх, словно загораживаясь им. Очки у него съехали на нос.
Штробель подошел к нему вплотную, протянул руку.
— Дай-ка сюда.
Еще одна короткая очередь плеснула близким огнем. Тогда он заученным движением дернул автомат так, чтобы палец соскочил со спускового крючка.
— Сдать оружие!
Он выхватил автомат, перекинул его Францу и, подтолкнув Хельмута вперед, вошел следом за ним в низкую дверь. За дверью была не комната, как он ожидал, а всего лишь коридор, который терялся во тьме. На столе горели две плоские свечки. У стены стояли три железные койки с матрацами и подушками. На одной полулежал вихрастый, лет двенадцати мальчишка, подпирал голову рукой, тер глаза и никак не мог проснуться.
— Устроились, как дома, — добродушно сказал Штробель и потянулся. — Эх, поспать бы сейчас! Проснуться и узнать, что никакой войны нет и можно выбраться из этого чертова замка и идти домой, к маме…
Все четверо заулыбались. Даже Хельмут, все время испуганно поглядывавший на свой автомат, висевший на плече Франца, посветлел лицом.
— Да, если бы не русские…
— Русские? Да они ждут не дождутся, когда вы уберетесь отсюда по своим домам.
— Так они и пустят. Вчера из пушек стреляли…
Из темноты коридора донесся топот. Штробель определил: бегут двое. Но на свет вышел лишь один, круглолицый, розовощекий парень, одетый в длиннющую, до самого пола, шинель, у которой ему пришлось подвернуть рукава. Солдатская пилотка на его голове сидела как-то вызывающе — на макушке.
— Фельдфебель Граберт послал узнать, что тут за стрельба?
— Что ты говоришь, Гюнтер? — ехидно спросил Франц. — Разве Граберт в это время не спит?
— Может, и спит, — неопределенно ответил Гюнтер. — Но служба великой Германии остается. Так что тут у вас случилось?
— Ничего особенного. Небольшой салют в честь нашего прибытия, — сказал Курт и протянул Гюнтеру руку. — Честь имею, лейтенант Штробель, член НКСГ. Садись, послушай. И приятеля своего зови, что он там прячется?
Его беспокоил оставшийся в темном коридоре человек. И в то же время он по реакции этих парней видел, что НКСГ ничего не говорит им и едва ли тот, спрятавшийся в темноте, знает больше.
— Пускай стоит, где ему приказано, — сказал Гюнтер и сел на койку, положив автомат на колени.
— Так тебя, значит, обижает, что вчера русские стреляли из пушек? — сказал Штробель, обращаясь к Хельмуту. — Стреляли потому, что вы открыли огонь по шоссе из пулеметов и убили у них несколько человек. Убили! Вы понимаете это слово?! И они снова будут стрелять. Днем подойдет тяжелая артиллерия, и от этого замка останутся одни камни, а от вас — одни воспоминания.
— Граберт говорит: эти стены никакая пушка не возьмет! — закричал Хельмут, и очки его огненно блеснули.
— Дурак твой Граберт.
— Посмотрим, как это вы ему скажете.
— Дурак твой Граберт, — повторил Штробель. — А вы все — олухи, каких свет не видывал. Ни он, ни вы ничего не смыслите в войне. Это для вас игрушки. Думаете, постреляли и по домам? Как бы не так. Теперь вам придется узнать, что война — это кровь и боль, это оторванные ноги, размозженные черепа, это калеки на всю жизнь. В Кляйндорфе инвалид живет, дурачок Отто Ноглер. Хотите быть такими, как он?
Штробель нарочно заговорил об этом Ноглере. Знал: смерть мальчишки еще не понимают, уродство для них страшнее смерти.
— Вы должны вернуться домой, к своим матерям не слепыми, не увечными…
— Германия превыше всего! — нервно крикнул Хельмут, и Штробель удивился: откуда в подростке столько глупого фанатизма? С автоматом в руках такой опасен.
— Да, Германия превыше всего. И уж, во всяком случае, превыше приказов вашего дурака Граберта…
— Он выполняет приказ фюрера: «Победа или смерть»!
— Вот и пусть умирает один, если ему не терпится. Но он хочет, чтобы прежде всего погибли вы, молодые ребята, нужные послевоенной Германии живыми и здоровыми. Вы нужны Германии! — повысил он голос и встал. Огромная тень вздыбилась за его спиной, затемнила полстены. — Теперь рассуди сам, Хельмут. — Он обращался вроде как лично к нему, зная, что такой маленький педагогический прием делает всех остальных не оппонентами, а просто слушателями и, может быть, сочувствующими. — Рассуди, Хельмут, о Германии ли думает Граберт, если хочет, чтобы все вы, так нужные Германии, умерли сегодня?
— Русские пришли уничтожить Германию! — В голосе Хельмута уже слышалась растерянность.
— Русские пришли, чтобы уничтожить фашизм, принесший им, как, впрочем, и немецкому народу, так много зла. Русские уйдут, а Германия останется. Кто же в ней будет жить, если все погибнут? Пошевелите мозгами, вы же неглупые ребята.
— Кто вы такой? — спросил из тьмы парень, остававшийся стоять за углом.
— Алоиз? Это ты? — обрадованно воскликнул Франц. — Выходи, чего там прячешься?
Несколько гулких шагов прозвучали под сводом, и к свету вышел здоровенный парень. Тот самый Алоиз? А Франц-то оказался молодцом, не сробел, не растерялся.
— Алоиз Мёллер? Вот ты какой! — Штробель с интересом рассматривал парня с руками взрослого мужчины и с мягким девичьим лицом, точь-в-точь такого, каким описывала его мать.
— Откуда вы меня знаете?
— Да уж знаю. И ты обо мне узнаешь, если прочтешь вот это.
Он вынул пачку листовок и начал раздавать всем по одной. Алоизу подал сложенную вчетверо, в которую было вложено письмо матери.
— А может, я не хочу это читать?
— Прочти, может, захочешь. В листовке говорится о Национальном комитете «Свободная Германия», о том, как он борется за будущее подлинно великой Германии…
Хельмут неожиданно метнулся к Францу, схватился за автомат. И вырвал бы его, если бы не очки, вдруг сорвавшиеся с носа и разлетевшиеся на кирпичном полу.
— Что вы стоите! — близоруко щурясь, заорал он. — Это же изменник.
Тишина, глухая подвальная тишина повисла под сводом.
— Фюрер приказал изменников расстреливать на месте!
Снова никто не пошевелился. Только мальчишка, так и не вставший с койки, испуганно засопел, натягивая одеяло себе на подбородок, и сопение это походило на всхлипы.
— Надо Граберту доложить! — снова истеричным фальцетом крикнул Хельмут. — Я сам доложу.
Он бросился к темному зеву прохода. Но то ли кто-то подставил ему ногу, то ли запнулся, — этого, Штробель так и не понял, — только Хельмут вдруг грохнулся на пол, едва не сбив с ног долговязого Алоиза, напряженно читавшего письмо при тусклом свете свечи и, как видно, не слушавшего всех этих выкриков.
— Пойдем уж вместе, — сказал Штробель, вставая. Он понимал: лучше явиться самому, застать Граберта врасплох.
Франц шагнул навстречу.
— И я пойду.
— Ну зачем же. Хельмут дорогу знает.
Конечно, явиться к Граберту с Францем было бы куда безопаснее. Но сейчас важнее оставить его здесь. Пусть рассказывает то, что говорил ему старший лейтенант Карманов, пусть агитирует. В конце концов не от Граберта, а от них самих будет зависеть: обороняться или выходить в поле с белым флагом.
— Хельмут на посту, пусть стоит, где приказано. Вы пойдете с нами. — Гюнтер ткнул Штробеля автоматом и повел стволом в сторону темного прохода, показывая куда идти.
— Пускай оружие отдаст! — крикнул Хельмут.
— Ты не умеешь с ним обращаться, — сказал Штробель и одного за другим оглядел всех столпившихся в узком коридоре. Никто не возразил. — Франц, остаешься тут за старшего.
Он положил на край стола стопку листовок и пошел в темноту коридора. Он был уверен, что листовки эти не останутся непрочитанными. Оказывавшиеся в подобных ситуациях солдаты обычно живо интересовались всем, хоть немного проясняющим их положение. Листовки всегда оказывались последней надеждой отчаявшихся, искавших спасения. Конечно, это были не те листовки, какие сейчас требовались, они не предназначались для юнцов, но других не имелось.
«Подумай о себе и о своей семье, — говорилось в них. — Гитлер привел преступную войну в твой дом, он рушится от бомб, и под его обломками могут оказаться погребенными и останки дорогих тебе людей; бесчисленные вереницы беженцев тянутся из конца в конец Германии, матери разыскивают своих детей, дети в отчаянии зовут своих матерей. Подумай, солдат! И помни: немецкий народ не будет уничтожен. В твоих интересах, солдат, скорейший разгром Гитлера, скорейшее окончание проигранной войны. Рви с Гитлером и сдавайся в плен! Время не ждет…»
Из темноты коридора они неожиданно вышли в широкий двор. Звезды уже гасли на бледнеющем чистом небе.
— День будет прекрасный! — сказал Штробель, оглядывая небо, глубоко вдыхая морозный воздух.
— Для кого как, — угрюмо отозвался Гюнтер.
— Для меня, для тебя, для всех… Сколько вас тут?
— Ишь чего захотел! — осклабился Гюнтер, и щеки его смешно надулись. — Тыща нас тут.
— Это хорошо, если тыща. Целая тысяча молодых ребят, обреченных на смерть, сегодня будет спасена для будущей свободной Германии…
— Сорок восемь нас всего-то, — сказал шагавший сзади Алоиз.
— И сорок восемь немало. Тут сорок восемь, да там, да еще где-то. Глядишь, когда кончится война, в немецких городах будут и мужчины, а не только одни женщины.
— Разговорился, — буркнул Гюнтер, впрочем совсем беззлобно, и ловко, как заправский солдат, сдвинул автомат за спину. — Что-то еще Граберт скажет.
— Главное — что скажете все вы.
— А мы что? Мы — как прикажут.
Парнишка в такой же, как у Хельмута, длинной, стелющейся полами по земле шинели, к которому они подошли, встал со ступеней крыльца, потянулся, зевнул звучно. Все было непомерно велико на нем.
— Ну чего? — снова зевнул он.
— Фельдфебеля зови.
— Спит он.
— Так ведь только что не спал.
— А теперь спит. Будить не велел. Сказал, что до вечера русские все равно не полезут.
— Имя! — властно спросил Штробель своим хорошо поставленным командирским голосом, которому, бывало, завидовали и старшие офицеры.
— Обер-ефрейтор Кунце! — вытянулся паренек.
— Я спрашиваю, как твое имя?
— Пауль.
— Вот что, Пауль, проводи-ка меня к Граберту. Дело неотложное.
— Да-а, он дерется.
— Как это дерется?
— Обыкновенно. У него плетка…
Штробелю хотелось смеяться. И плакать тоже хотелось. Солдаты! Вояки с мокрыми носами! Выпороть бы их, и делу конец. Мелькнула мысль: выбраться как-нибудь отсюда да уговорить советское командование оставить их в покое. Посидят недельку-другую, от скуки сами по домам разбегутся. Но уже не выпустят его отсюда. Остается одно: во что бы то ни стало выполнить то, за чем он сюда шел. Еще два часа назад думал о возможной смерти. Не первый он и не последний. Сколько погибло членов Национального комитета «Свободная Германия»! Сколько не вернулось бывших солдат и офицеров вермахта, попавших в плен и согласившихся возвратиться в свои части с русскими листовками! Но теперь даже погибнуть он не имел права.
Штробель подошел к окну и сильно, так что едва не вылетели стекла, постучал кулаком по раме.
— Тут он?
Пауль кивнул и попятился от крыльца. За закрытой дверью что-то упало, послышалась ругань, и на пороге появился здоровенный парень лет восемнадцати в накинутой на плечи шинели. На голове его красовалась новенькая фуражка, снятая, должно быть, с какого-то эсэсовца: под серебряным орлом поблескивала кокарда — мертвая голова.
Все застыли на месте, когда он вышел, и даже Штробель опешил на миг: Граберт был похож на Гитлера, каким его рисуют на советских плакатах-карикатурах, — те же усики, те же блеклые выпученные глаза. Только косая челка, смятая во сне, топорщилась редкой щеткой. Он был смешон, этот карикатурный двойник фюрера. Но для запуганных мальчишек он, как видно, и такой был страшен: лица у всех, — это Штробель заметил краем глаза, — сразу вытянулись.
— Я что приказал?! — спросил Граберт часового, похлестывая себя плеткой по голенищу.
— Это я тебя разбудил, — сказал Штробель.
— С тобой разберемся. А дисциплина должна быть дисциплиной, и этот щенок свое получит.
Голос у него был хриплый, низкий, какой-то звериный рык, а не голос. Штробель подумал, что взывать к разуму этого полузверя, дорвавшегося до власти над людьми, ослепленного этим, совершенно бессмысленно, а самое верное было бы просто застрелить его. Пистолет лежал в кармане, и он успел бы выстрелить раньше, чем Граберт расстегнет свою кобуру. Удержало не опасение за себя, — могли изрешетить пулями на месте, — а сознание, что такая смерть Граберта многим показалась бы геройской смертью. И тогда все, с чем, Штробель шел сюда, оказалось бы напрасным. И тогда боя не избежать.
— Фельдфебель! — повысил он голос. — Не забывайтесь! Перед вами лейтенант. Как старший по званию, я приказываю…
— Приказываю здесь я, — перебил его Граберт. — А с тобой… Еще неизвестно, кому ты служишь, лейтенант.
— Я служу Германии.
— А фюреру? — осклабился Граберт и победно оглядел всех, стоявших внизу, у его ног. Он явно нравился себе сейчас, этот фельдфебель, и всячески хотел показать свое превосходство над ним, лейтенантом. Мальчишеская бравада? Но за ней был и расчет: поднять свой, как видно, не такой уж и крепкий авторитет в глазах ничего не соображающей команды. И было в этом глупое упоение своей властью. Так кошка тешится с пойманной мышью: может съесть сразу, а может и позволить себе поиграть.
— Германия превыше всего, Германия! — сказал Штробель, радуясь тому, что разговор получался здесь, на площади. Хуже было бы в помещении, в присутствии только этого ублюдка Граберта да двух-трех запуганных им охранников.
— А ты кто такой? Почему ты тут? — спросил Граберт, словно только теперь увидел постороннего в расположении своего подразделения.
— Я пришел спасти вас, разъяснить ваше положение…
— Наше спасение в сопротивлении до конца. Так сказал фюрер.
— Вас ничто не спасет. Фронт уже под Одером, под Берлином. Вы остались в глубоком тылу русских армий, и вам никто не поможет. Вы обречены…
— Три года назад наши войска стояли под Москвой, на Волге, на Кавказе. Теперь русские наступают, но скоро они опять побегут. Фюрер обещал новое чудо-оружие…
— Фюрер, как всегда, лжет! — выкрикнул Штробель и замер, прислушался к реакции тех, кто был рядом. Оглянулся: возле него стояли уже не меньше десятка человек. И все они молчали, никак не выказывая своего отношения к такому святотатству — публичному оскорблению самого фюрера.
— Я тебя расстреляю за такие слова, лейтенант! — прорычал Граберт.
— Ни тебе, ни обманутым тобою мальчишкам это невыгодно. — Штробель нарочито громко произнес последние слова, чтобы все слышали. — Этим вы подпишете себе смертный приговор.
Граберт переступил с ноги на ногу, сошел на две ступеньки и остановился, все еще возвышаясь над всеми. На смятом после сна лице его выразилось крайнее напряжение. Он мучительно думал, выдавая этим свою неопытность. Кадровый военный, даже если он в чине фельдфебеля, не позволил бы вести такую дискуссию перед своими подчиненными. У него хватило бы ума понять, что не для него предназначены эти слова. А Граберт думал, как поступить. И должно быть, пришел к выводу, что может взять верх в этой дискуссии.
— Фюрер — величайший пророк! — с пафосом выкрикнул он.
— «Я столько раз в своей жизни был пророком». Так говорил Гитлер, — подтвердил, Штробель.
— Слова фюрера всегда сбываются! — обрадованно провозгласил Граберт.
Не подозревая, Граберт сам напрашивался, чтобы ему ответили в духе листовки, уже знакомой этим недоросткам-солдатам, той самой, которую недавно читал по «звуковке» старший лейтенант Карманов. Листовка эта, как и многие другие, была у него с собой. Он выхватил из внутреннего кармана шинели стопку бумаг, мигом отыскал нужную.
— «Я столько раз в своей жизни был пророком». Солдаты! Вам хорошо известны эти слова Гитлера. Что ж, возьмите и проверьте: оправдывалось ли хоть одно из его пророчеств?»
— Арестовать! — крикнул Граберт, спрыгнув с крыльца.
Ствол автомата уперся Штробелю в ребра. У него выхватили листовки, выдернули из кармана пистолет. Но он знал листовку наизусть и, уже схваченный кем-то сзади за руки, кидал в пространство перед собой фразу за фразой своим хорошо поставленным еще в офицерской школе ораторским баритоном, заботясь только об одном, чтобы не сорваться на крик:
— Гитлер пророчествовал каждый год, и каждый год получалось наоборот!..
— К стене!
Граберт кричал истерично, торопясь и задыхаясь, видимо, поняв наконец всю опасность этого публичного спора.
Удар в спину прикладом был сильным, но не болезненным, не удар, а толчок. Штробель отбежал несколько шагов, но устоял на ногах, подумав, что не должен, ни в коем случае не должен упасть на глазах у этих подростков. Такой уж это возраст безжалостный, не сочувствующий униженным. Оперся руками о кирпичную стену, выпрямился и обернулся. Перед ним был только один, один-единственный солдат, толстогубый, остроносый. Он-то, видать, и был главным исполнителем приказов Граберта. Из-под каски, в которой прямо-таки тонула его маленькая голова, выглядывали пустые, ничего не выражающие глаза. Остальные — а было их теперь на площади не меньше двадцати человек — стояли безучастные, кто с испугом, а кто с любопытством смотрели на происходящее. Сумрак все светлел, и двор теперь просматривался весь, до самых дальних углов.
Граберт снова поднялся на верхнюю ступеньку крыльца, прихорашивался, оправлял на себе шинель.
— У Гитлера что ни слово, то ложь. Таков он, фюрер. Миллионы немцев, которые верили этому банкроту, погибли понапрасну. Так погибнете и вы, если будете верить ему…
Штробель махнул рукой, указал на Граберта. Это получилось невольно, но получилось хорошо, наглядно. И до Граберта дошла эта наглядность. Он спрыгнул с крыльца и пошел к Штробелю, судорожно дергая из кобуры пистолет…
— Ты еще не в доме?
Голос у майора Авотина был какой-то спокойный, словно он и не ждал, что приказ о взятии замка к этому часу будет выполнен.
— Никак нет.
— Не дается?
— Готовимся. Скоро начинаем.
— Погоди.
— Как?
— Погоди, говорю.
Он помолчал, и Тимонин во время этой короткой паузы надумался всякого. Может, отпала надобность в этой дороге? Может, батальон будет сменен каким-нибудь тыловым подразделением? Может, в политотделе армии решили продолжать уговоры?..
— Повезло тебе, небо открылось. Утром самолеты прилетят, жди.
— Там же одни мальчишки! — вырвалось у Тимонина, и он поморщился: видно, и в него влезли слова Карманова о будущих гражданах будущей Германии.
— Гитлерюгенды? Ну и что? Укажешь цель красными ракетами, и пускай поработают славные соколы. А ты не зевай, используй проломы в стенах после бомбежки. Понял? И чтобы потом ни одного выстрела оттуда не было, головой отвечаешь.
— А если получится раньше?.. — Он замялся, понял: глупо сказал. На что надежда? На того немца, которого, может, и в живых-то нет? Смешно. Смешно и глупо.
Майор понял по-своему, хмыкнул сердито:
— Ты там до бомбежки не рыпайся… А еще говорят — жалостливый. — Помолчал и добавил: — Если бомбежка не понадобится, дашь серию зеленых ракет. Авиаторы только рады будут. У них этих целей — знаешь?.. Серию зеленых, ясно? Но смотри у меня…
Тимонин отдал трубку радисту, медленно повернулся.
— Такие дела-а…
В сарае было тесно. У стола рядышком, как школьники, сидели командиры рот, которых он собрал, чтобы поставить задачу на атаку.
— Что случилось?
Карманов первый забеспокоился. Качавший руку перед грудью, как куклу, он словно бы забыл о ней и встал с перины, на которой неслышно сидел в углу все это время.
— Отменяется атака, — сказал Тимонин. И поправился: — Не отменяется, а переносится.
Он стал пересказывать то, что сообщил ему майор Авотин, и по ходу пересказа формулировал задачи ротам. О создании штурмовых групп, о согласованности действий, о быстроте и решительности, которыми только и можно покончить с этим узлом обороны.
— Другой помощи, кроме бомбежки, не будет. И за это спасибо — вспомнили. А то бы не знаю, что и делали бы.
— Распропагандировать можно, — подал голос Карманов.
— А-а! — Тимонин махнул рукой. — Это дело не скорое, а нам ждать некогда, приказ. После бомбежки замок должен быть взят сразу.
— Надо еще что-то попробовать…
— Попробовал один…
— Еще ничего не известно.
— Известно. Сам слышал автоматные очереди.
— Мало ли какие бывают очереди…
— Ну, хватит! — поморщился Тимонин. Ему вдруг подумалось: как бы командиры рот не сочли, что он колеблется, дискутируя с этим политотдельцем. А ни у кого не должно возникнуть и мысли о возможности другого исхода, кроме штурма. Чем ближе подобраться к замку во время бомбежки, тем быстрей потом добежать до стен, нырнуть в проломы, тем меньше потери. Но легко ли ползти под падающие бомбы? Тут нужна особая готовность, и всякая закравшаяся в душу обманчивая надежда может оказаться гибельной.
В небольшое оконце сарая, словно светлый дым, вливался сумрачный рассвет. В наступившей тишине слышно было хриплое простуженное дыхание кого-то из ротных и хруст ледышек под ногами часового, размеренно ходившего снаружи.
— Нужно провести еще одну агитпередачу, — сказал Карманов. — Надо сказать им, что они будут разбомблены.
— Как это — сказать? — удивился Тимонин. Хотел добавить еще, что сообщение противнику о предстоящей операции называется выдачей военной тайны, что, узнав об этом, немцы, или немчата-гитлерюгенды — один черт, — попрячутся, а потом встретят бойцов организованным огнем… Но промолчал: страшно было выговорить такое обвинение.
— Они ведь и так попрячутся, увидев самолеты, — сказал Карманов, еще больше удивив и возмутив Тимонина таким непониманием очевидного: офицер, политработник, а не понимает. — Но будет лучше, если наши слова не разойдутся с делом. Мы предупредили о бомбежке, и на тебе — бомбежка. Такое убеждает или, если хотите, переубеждает. А переубежденный солдат, согласитесь, уже не тот солдат.
В словах старшего лейтенанта, Тимонин чувствовал, было что-то разумное, но соглашаться не хотелось.
— Вы можете говорить и делать все, что угодно, но нам не мешайте.
— Хорошо, — сказал Карманов и вышел.
Тимонин сразу забыл о нем, потому что командиры рот все еще сидели перед ним, ждали. Но когда во дворе заурчала машина и шум ее стал удаляться, он вдруг спохватился, что Карманов мог истолковать его слова как согласие на передачу, и крикнул стоявшему в дверях дежурному по батальону:
— Остановите их!
Дежурный выскочил на улицу, оставив дверь открытой, и Тимонин не выдержал, тоже выбежал следом. Пестро раскрашенная «звуковка» уже выезжала на шоссе, ведущее мимо замка к лесу. То ли там, в машине, не слышали криков, то ли Карманов решил действовать совершенно самостоятельно, только «звуковка», набирая скорость, понеслась по дороге, четко выделяясь на сияющем в утренних отсветах белом фоне полей. И Тимонин, и все выбежавшие следом за ним к крайнему дому, стояли и ждали, что вот сейчас, сию минуту зачастят пулеметы и машина заюлит, кувырнется в кювет. Но от замка не стреляли. Тишина разливалась над полями, над немецким городком, над угрюмой глыбой замка, и только затихающий вдали вой машины единственной сквозной нотой пронизывал эту тишину. Был он долог и надсаден, как вой бормашины в тиши врачебного кабинета…
Вот когда Штробель пожалел, что не выстрелил раньше, не убил фюрероподобного фельдфебеля и этого дегенерата, его помощника. Теперь ему совершенно было ясно, что на этом «тандеме» — фанатике-командире и его помощнике, несомненно до конца послушном и жестоком исполнителе самых гнусных приказов, — и держится странный гарнизон. Убрать бы их, и вся команда расползется по домам. Если, конечно, дать мальчишкам время опомниться.
Мысли торопились, обгоняя одна другую. А Граберт уже достал пистолет и теперь не шел — крался, пританцовывая, наслаждаясь беспомощностью жертвы. Его помощник стоял поодаль, вскинув винтовку, готовый выстрелить. Это был конец. Несколько раз Штробель ходил так вот в окруженные немецкие части и убеждал в необходимости прекратить сопротивление или приводил с собой тех, кто предпочитал сдаться в плен. А теперь, как видно, его слова бессильны. Мальчишки, что с них возьмешь? Им еще не осточертела война, они, по молодости, еще не способны представить себе неизбежность смерти.
Он ждал выстрела, и все-таки выстрел прогремел неожиданно. Пуля ударила в стену над головой, осыпала кирпичной пылью. Граберт засмеялся, его деланное «ха-ха-ха» после выстрела казалось писком. Он стоял в четырех шагах от Штробеля, покачивался с пяток на носки, поигрывал пистолетом. Еще несколько человек, видимо привлеченные одиноким выстрелом во дворе, выскочили на площадь. Штробель увидел и Франца с автоматом в руке. За ним, как привязанный, бежал Хельмут. Посередине площади Хельмут догнал Франца, сзади повис на нем, стараясь отнять автомат. Франц замахнулся на него, и парнишка отстал.
— Подумайте о себе! — крикнул Штробель. — Убьют эти двое, а отвечать придется вам всем.
Он специально крикнул это погромче, чтобы Франц побыстрей разобрался в обстановке. Впрочем, отважится ли он на решительную меру?
— Раздевайся! — громко скомандовал Граберт.
— Стреляй так.
— Раздевайся!
Он подошел и больно ткнул стволом пистолета в бок. Не следовало выполнять его приказы перед этими юнцами, но другого способа тянуть время не было, и Штробель начал расстегивать шинель. Не торопился, внимательно глядел на мальчишек. Под немецкой шинелью была красноармейская гимнастерка, и он не знал, какую реакцию вызовет его новый вид.
— Ну!..
Шинель полукругом легла у ног. Толпа загудела, зашевелилась.
— Переодетый враг! — обрадованно закричал Граберт. — Теперь вы все видите: никакой не немец.
Штробель резко повернулся к нему, блеснул начищенной бляхой офицерского ремня.
— Снимай ремень!
— Понравился?
— Быстрей! Ну!
Медленно, очень медленно, Штробель расстегнул ремень и вдруг, не размахиваясь, сильно ударил бляхой по руке Граберта. Пистолет отлетел, загремел по брусчатке. Штробель ударил еще раз, уже с оттяжкой, попал по воротнику мундира, торчавшего из-под шинели. Граберт покачнулся, и, Штробель резким ударом ноги по щиколотке подкосил его.
Прогремел выстрел, пуля ударила в стену где-то наверху и ушла с завыванием. Метнув в сторону взгляд, Штробель увидел, как Алоиз отнимал винтовку у остроносого.
Он снова ударил Граберта тяжелой бляхой, не давая ему подняться.
— Ты что?! — заорал Граберт, извиваясь. — Больно же! — И вдруг, как был на карачках, побежал в сторону.
— К стене! — приказал Штробель, продолжая хлестать по туго обтянутому заду. Граберт послушно повернул к стене. В толпе засмеялись.
Он не оглядывался, боясь, что Граберт опомнится и поднимется. Нельзя было позволить ему встать. Команды униженного фельдфебеля мальчишки выполнять не будут…
И вдруг красные кирпичи стены перед его глазами пошли трещинами от ударов пуль. В тот же миг его ударило по боку, по ногам.
Очнулся он, должно быть, сразу, поскольку увидел перед собой все те же кирпичи. Стояла пугающая тишина. И в этой тишине звучал далекий знакомый голос:
— …Ваше положение совершенно безнадежное. Советское командование приняло решение подвергнуть замок бомбардировке. Но вы еще можете спастись, если немедленно сложите оружие. Поторопитесь, ваши матери и сестры ждут вас в Кляйндорфе…
Первая мысль была — выпрямиться, немедленно выпрямиться, чтобы юнцы не посчитали его поверженным. И он сделал это, сжимая зубы от боли. Левая нога подкашивалась, он оперся спиной в стену, боясь снова упасть. Солдаты, эти желторотые юнцы, стояли перед ним в нескольких шагах, плотно прижавшись друг к другу, вытянув длинные шеи, испуганно смотрели на него. Двое держали за руки бледного, совершенно белого как полотно Пауля. Автомат валялся у его ног. Мальчишка дрожал и все дергал ногой, отпихивая от себя автомат.
— …У вас есть только один выход: немедленно вывесить белый флаг, немедленно…
Голос не убеждал, а торопил, в нем чувствовалась тревога, и Штробель ясно понимал это. Значит, там что-то изменилось, значит, надо спешить.
Он переводил взгляд с одного лица на другое, искал Граберта. Но его нигде не было. Потом догадался глянуть себе под ноги и увидел большие, мутные от боли, затягивающиеся пеленой беспамятства глаза фельдфебеля. Значит, и он тоже? Значит, Пауль стрелял по ним обоим? Или, всего скорей, по кому-то одному стрелял, а попал в обоих? Разбираться было некогда. Боясь снова потерять сознание, он глотнул воздух и выкрикнул:
— Франц!.. Вывесь белый флаг!..
— А где его взять? — отозвался Франц.
— Рубашку… вывешивай! Быстро!..
Темная муть заливала двор, словно снова наступала ночь, и лица ребят странно смещались, наползая одно на другое.
— Алоиз! Принимай командование!.. Построить всех. Выходить наружу… с белым флагом. Оружие складывать у входа!..
Сдвинув в сторону горшки с цветами, Тимонин рассматривал белое поле, замок, мертвой глыбой темневший вдалеке, склон, уходящий к реке, хорошо видный отсюда, с НП. Тихо было вокруг, только далеко-далеко звенел неразборчивый голос старшего лейтенанта Карманова да откуда-то из-за домов доносились еле слышные выкрики инвалида.
Все команды были отданы, все роли распределены, и теперь оставалось только ждать. Бледная заря растекалась все шире, розовела над лесом, вот-вот готовая вытолкнуть красный шар солнца. Небо было совершенно чистым, без облачка, и Тимонин внимательно оглядывал горизонт, боясь прозевать момент, когда появятся самолеты. Бояться было нечего: если он проглядит, то другие наверняка увидят, — десятки глаз следили за небом, — и без дополнительной команды просигналят самолетам. Во все ракетницы, какие имелись в батальоне, были заложены красные ракеты, чтобы указать цель. Но он все глядел и волновался. Сколько прилетит самолетов? Сколько будет заходов? Этого он не знал и беспокоился, как бы не промедлили славяне, как бы не поспешили и не сунулись в проломы раньше времени.
— Ждем, ждем, а прилетит один самолет и сбросит листовки. Вот будет номер! — послышался сзади голос сержанта Поспелова, разговаривавшего, как видно, с телефонистом.
Поспелов был ординарцем, но его все в батальоне называли адъютантом, и он вел себя соответствующе бесцеремонно.
— Один раз нам уже прислали «подкрепление». Почему бы и теперь такое же…
Тимонин сердито двинул горшок с цветком, и сержант каким-то своим чутьем угадал недовольство начальства, замолчал. Но мысль, зароненная им, теперь не давала Тимонину покоя. «А что, очень даже может быть… А этот говорун Карманов уже объявил о бомбежке. Вот будет смеху, когда мы без бомбежки начнем прыгать под стенами. Смеху сквозь слезы. Поскольку тогда-то уж наверняка гитлерюгенды начнут отбиваться по-настоящему. Это только так говорится — подростки, а на самом деле — безжалостные звереныши, не прощающие тем, кто смешон».
Он крутнул телефон, потребовал Соснина.
Соснин находился в будке у реки и должен был руководить боем оттуда. Тимонин сам так распорядился, посчитав, что его место на НП, откуда лучше видны все подходы к замку. А теперь ему хотелось туда, где лежали, изготовившись к броску, штурмовые группы. Теперь ему казалось, что на НП он окажется как бы отстраненным от боя.
— Как там у тебя?
— Все в порядке, — ответил Соснин. — Ждем.
— Ракетницы заряжены?
— Так точно, у всех красные ракеты, проверил.
— Наблюдатели?..
— Наблюдатели на месте… Да не беспокойся, комбат, не проглядим.
— В доме тихо?
— Тихо. Были какие-то выстрелы, но это там, внутри.
Тимонин хотел сказать, что это, не иначе, расстреливали Курта Штробеля, но вспомнил, что были другие выстрелы, когда тоже думалось, что расстреливают Курта Штробеля, и промолчал. Положив трубку, он подошел к окну. Ничего не изменилось ни в поле, ни в замке. Разве что заря стала шире, совсем избагровелась от натуги, как перед родами. Замок был подозрительно тих. И вообще после того, как туда ушел Штробель, что-то изменилось. Всю ночь оттуда светили ракетами, а теперь их нет ни одной. Посветлело? Но ведь и ночью было светло от полной луны. И не стреляют из окон, хотя всю ночь тешились стрельбой…
— Товарищ капитан, глядите!
Сержант Поспелов показывал на самый верх замковой башни. Там мельтешило на ветру что-то розовое.
— Красный флаг вроде?
Но Тимонин уже понял, что это такое, и обрадовался и тут же похолодел от новой мысли.
— Не красный, а белый, заря подсвечивает, — сказал он, хватаясь за телефон. — Соснин, видишь? — крикнул в трубку.
Соснин словно и не отходил от телефона или только что сам подошел к нему, — ответил сразу, не ответил, закричал взволнованно:
— Самолеты идут, слышно!.. И они выходят!
— Кто выходит?
— Они, из калитки, с белым флагом…
Не опуская трубки, Тимонин другой рукой ударил по раме. Стекла осыпались, и он сразу услышал низкий отдаленный гул. Словно громы гремели за краем неба.
— Давай зеленые! Зеленые ракеты давай!
— А если…
— Бегом к замку! Оттуда должны быть ракеты. Зеленые!
В нем самом билось это «а если!», и он, словно боясь сомнения, выхватил у сержанта ракетницу, переломил, выкинул картонный патрон с красными пупырышками на пыже, вставил другой — с зелеными и выстрелил в окно.
— Поспелов! Хватай зеленые ракеты и к замку! Стреляй непрерывно, чтобы с самолетов видели, не перепутали… У кого еще ракетницы? Бегом за ним!
От НП побежали трое, Тимонин даже не разглядел, кто еще кроме Поспелова. На белом поле темные фигуры выделялись четко, как мишени. А навстречу, обтекая стену замка, выползала редкая растянувшаяся колонна людей, на глаз — человек пятьдесят. В голове эта колонна уплотнялась. Тимонин разглядел в бинокль белый флаг или, во всяком случае, что-то белое, привязанное к палке, в руках впереди идущего долговязого парня, а за ним четверых с носилками. Видно было, что носилки эти тяжелые для них, парни гнулись, спотыкались.
А гул уже был отчетлив и черточки самолетов хорошо различались на фоне светлой зари. Много их было, очень много, и по низкому надсадному гулу определялось, что гружены они под самую завязку.
Люди, идущие от замка, сбились плотнее и побежали. Приостановились, увидев бегущих навстречу бойцов, но, когда те пробежали мимо, снова затрусили через поле, оступаясь на неровностях, проваливаясь в занесенные снегом ямины, то и дело падая.
От массы самолетов отделилась небольшая группа — штук девять, — пошла по широкой дуге к замку. Тимонин замер: вдруг сверху не разглядят цвета ракет? Теперь уж немцев там нет, теперь свои у замка. Ноги мелко и противно дрожали: хотелось самому побежать туда, в поле. Он ухватился за раму и так стоял, смотрел.
Зеленые ракеты взлетали одна за другой. Сначала их дуги сходились к замку (ракетчики стреляли на бегу), потом ракеты стали взлетать из-под самых стен. Они образовывали в небе причудливый цветок, яркий и праздничный на фоне розового восхода.
Девятка самолетов снизилась, сделала круг над этим цветком и с набором высоты пошла на запад.
— Хайль Гитлер! — услышал Тимонин.
Выглянул, перевесившись через край разбитой рамы, увидел инвалида. Видимо, упавший со своей коляски, он полулежал на дороге и раз за разом вскидывал обрубок руки.
— Хайль Гитлер! Хайль!..
Мальчишки в длинных, не по росту, солдатских шинелях испуганно шарахались от него, жались к стенам, торопились пробежать мимо…
Примечания
1
Извините, пожалуйста! (нем.)
(обратно)2
Мой друг желает здесь пообедать. Разрешите? (нем.)
(обратно)3
Пожалуйста, подарок (нем.).
(обратно)4
Это моя дочь (нем.).
(обратно)5
Извините, пожалуйста! Где находится вокзальная миссия? (нем.)
(обратно)6
Там (нем.).
(обратно)7
«На чужбине огонь не так ярок, как на родине дым» (нем.).
(обратно)8
«Стремиться — значит жить» (нем.).
(обратно)9
«Самое трудное искусство — победить самого себя» (нем.).
(обратно)10
Да, да. Так, так. Я знаю. Я слышала это… (нем.)
(обратно)11
«Гость Ольденбурга» (нем.).
(обратно)12
Я иностранец. Я хочу только посмотреть (нем.).
(обратно)13
Добрый день! (нем.)
(обратно)14
Маршируем мы на восток? Нет! Маршируем мы на запад? Нет! Мы маршируем за мир, который не хочет больше держать оружия… (нем.)
(обратно)15
Церковь, кухня, дети (нем.).
(обратно)16
«Протестуйте!» «Жизнь без оружия!» «Нет атомным ракетам в нашей стране!» (нем.)
(обратно)17
«Першинг — смерть!», «Пришло время сказать «Нет!» (нем.)
(обратно)18
Правильный расчет укрепляет дружбу (нем.).
(обратно)19
Где мир, там и счастье (нем.).
(обратно)20
От дома к дому багаж доставляется (нем.).
(обратно)21
Кто не рискует, тот не выигрывает (нем.).
(обратно)22
На чужбине огонь не так ярок, как на родине дым (нем.).
(обратно)23
Запад есть запад, а дома лучше (нем.).
(обратно)

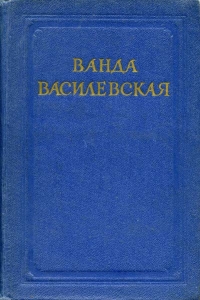

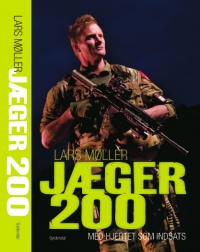

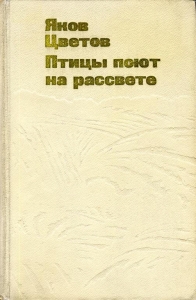
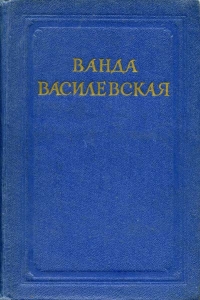



Комментарии к книге «Холодный апрель», Владимир Алексеевич Рыбин
Всего 0 комментариев