ВАСИЛЬ БЫКОВ. АТАКА С ХОДУ
1
Мы наступали.
Погода выдалась такая, что хуже не придумаешь: весь день шел дождь пополам со снегом. Не подсохшие еще от весеннего разводья поля совсем раскисли, мутная вода залила канавы, грязь на дороге перемешалась со снеговой кашей, в которой противно хлюпали наши промокшие ноги. Под вечер к тому же поднялся суматошный напористый ветер. Все время меняя направление, он ошалело крутил над проселком, вперед порой невозможно было взглянуть - промозглая снеговая мокрядь залепляла глаза. Пригнув голову, я видел только, как мелькали заляпанные грязью кирзачи командира роты Ананьева, мокрая плащ-накидка на его спине то и дело угрожающе вздувалась, он шагал во главе колонны, хватаясь рукой за капюшон, накинутый на самодельную, с матерчатым козырьком фуражку.
На исходе дня рота перешла заболоченную, с чахлым ольшаником низину, грязный, в колдобинах проселок выполз на голый косогор. Ветер тут стал ещё неистовее, но под ногами вроде сделалось тверже. Надо было подтянуть роту, и Ананьев, обернувшись назад, полминуты прошел так, лицом к колонне. Он оглядывал строй, но, кажется, не много чего увидел в ненастных, начинавших сгущаться сумерках. Автоматчики к тому же здорово растянулись, и старший лейтенант, морща костистое, с бачками на висках лицо, негромко позвал:
- Старшина Пилипенко!
Командир первого взвода Пилипенко, наверно, не услышал, - он сосредоточенно брел раскисшей дорогой.
- Глухарь старый! - буркнул Ананьев. - Спит, что ли?
Не дожидаясь приказания, я выскочил из колонны и подбежал к старшине. Пилипенко недоуменно поднял немолодое, слегка обрюзгшее лицо, но тут же увидел впереди долговязую фигуру командира роты и все понял. С запоздалой поспешностью старшина подался к своему взводу. Автоматчики устало брели, где кому вздумалось - по обочине, возле широкой, подвой талой волы канавы и даже за канавой, краем облепленного снегом поля.
Вполголоса, чтобы не услышал ротный, Пилипенко начал подгонять бойцов. Трое или четверо передних зашевелились (или, может, только сделали вид, что зашевелились), другие же просто оставили без внимания понукание взводного.
Ананьев, разумеется, такого стерпеть не мог и со алой решимостью крикнул:
- А ну подбери сопли! И шире шаг!
Комроты - не взводный, с ним приходилось считаться, автоматчики зашевелились, задние пустились догонять передних, рота заметно оживилась, и строй мало-помалу начал выравниваться.
Пилипенко покорно остановился в некотором отдалении от командира роты. Ананьев, подчеркнуто не замечая старшину, все тем же строгим, категоричным голосом бросил в колонну:
- Ванина ко мне!
Команду тут же подхватили, передали дальше, комроты внимательно проследил за этим, придирчиво вглядываясь в измокшие, закутанные палатками тени автоматчиков.
Он ждал командира второго взвода, но вместо него на дороге появилась Пулька - маленькая вертлявая собачонка, которая неделю назад невесть откуда прибилась к роте и которую приютил в своем взводе младший лейтенант Ванин. Ананьев к этому, в общем, отнесся терпимо, будто даже с каким-то снисходительным любопытством, и вот уж несколько дней второй взвод забавлялся этим лохматым, по молодости глупым щенком.
Резво пробежав краем дороги. Пулька вдруг остановилась, взглянула на неподвижную в дождливых сумерках фигуру командира роты и, будто испугавшись чего-то, со всех ног кинулась назад. Боец в длинной палатке, угол которой волочился по грязи, с силой притопнул ногой - снежная слякоть широко плеснула в стороны, Пулька, обиженно взвизгнув, отпрянула за канаву и по самый живот провалилась в грязь. Выскочив на противоположной стороне, она встревоженно заметалась, не зная, как выбраться на дорогу.
Бежавший поодаль младший лейтенант Ванин круто повернулся к бойцу в длинной палатке:
- У тебя голова на плечах или котелок немытый?
- А чего она лает!
- На дурака лает! Лезь теперь – доставай!
Лезть в воду бойцу, разумеется, не хотелось, и он тихонько забирал в сторону, подальше от командира чужого взвода.
Тогда Ванин решительно вошел в воду и взял собачонку на руки.
- Напрасно! Надо бы того пентюха заставить, - сказал командир роты, и как это часто делал, вдруг повернулся и, будто забыв о присутствующих, быстро зашагал по дороге.
На ходу уже нас догнал Ванин с Пулькой, которая в счастливой покорности притихла на его груди, высунув из-под оттопыренной полы телогрейки глупую черную мордочку. Младший лейтенант коротко доложил, но комроты и ему не ответил - из ветреных сумерек впереди появился наш замполит лейтенант Гриневич. Присоединяясь к командирам и шаркая новой, длинноватой для его скромного роста палаткой, он спросил негромким, с хрипотцой голосом:
- Что случилось?
- Да вон балбес один Пульку в воду загнал, - сказал Ванин.
Гриневич неожиданно сильным движением палатки стряхнул налипший на плечах снег.
- А вообще - зачем вам собака?
- Как зачем? - не понял Ванин.
Замполит, не отвечая ему, продолжал:
- Тоже нашли занятие... Уж хотя бы собака, а то...
- А то щенок шелудивый, - закончил за лейтенанта Ананьев.
Гриневич, ободренный поддержкой комроты, с уверенностью подтвердил:
- Вот именно. На месте командира я бы приказал застрелить, и все.
- Пусть живет! - с мрачной решимостью сказал Ананьев. - Или боишься: нас переживет?
Прежде чем ответить, Гриневич помедлил:
- К нам это не относятся. А вот лает на марше вовсе некстати.
- Если на Пилипенковых, то кстати. Командир взвода не командует, так хоть Пулька полает.
Мне сзади было хорошо видно, как устало бредший Пилипенко поднял голову в каске.
- Усе вам Пылыпэнко! - сказал старшина. - Що я буду гнаты кожного? Бачытэ, яка дорога?
- При чем дорога? Командир размазня.
- Командир…
- Да, командир! - оборвал его Ананьев. – Потому - командовать надо!
Все замолчали. Как всегда в таких случаях, гнев комроты подавлял не только виновного, но и тех, кто был рядом. Казалось, после Пилипенко Ананьев возьмется за следующего, и каждый невольно чувствовал себя этим следующим. Правда, на этот раз Ананьев замолчал. По грязному оснеженному склону рота выходила на вершину пригорка, ветер тут стал еще сильнее. Крупчатый снег с мелким дождем звучно сек по капюшонам и плечам палаток. Мы быстрым шагом обгоняли колонну.
- Под носом немцы. - После минутной паузы спокойнее сказал комроты. - Подтянете людей! Удвойте наблюдателей по сторонам! Назначьте слухачей! Пилипенко, сменить головной дозор!
Старшина, широко оттопыривая палы палата, удивленно развел руками:
- Так мои ж от пивдня шлы. Ще его час не выйшав. - Он повернулся к Ванину.
- Что - его! - Ананьев повысил голос. - Я тебе приказываю!
Командир роты злился, хотя причиной его злости вряд ля был Пилипенко. Старший лейтенант нервничал уже с полдня, когда роту автоматчиков выделили из полкового резерва и повернули на фланг, чтобы затянуть какую-то прореху, образовавшуюся в боевых порядках наступающих. Батальоны двинулись большаком, а мы попали в грязь на проселке, перешли болото, намокли, измучились и вдобавок ко всему лишились нашей единственной повозки, отставшей вместе с полковыми тылами. Правда, ПНШ обещал, как только подойдут тылы, направить подводу за ротой, но, судя по всему, где-то произошла заминка, подводы не было, и перед нами замаячила совсем уж безрадостная перспектива остаться без боеприпасов.
Пилипенко ворчал:
- Кого я назначу? Попрыставалы уси.
- А мне наплевать! - объявил Ананьев. - Сам отправляйся, если назначить некого.
- Ну и направлюсь.
- Только без ну!
Старшина замедлил шаг и оказался со мной рядом. Вид у него был совсем страдальческий, как всегда после стычек с начальством, что, в общем, случалось нередко. Дело в том, что Пилипенко раньше служил хозяйственником в дивизионной АХЧ и только перед наступлением за какую-то провинность был переведён в роту автоматчиков. Здесь его поставили командиром взвода, но взводный из старшего интенданта получился неважный. Пилипенко был многословен, часто командовал невпопад, а самое главное – совершенно не мог не пререкаться с начальством, когда то, как ему казалось, поступало неправильно или несправедливо.
Как всегда, дав выговориться командиру роты, в спор вступил его заместитель.
- Как это вы рассуждаете, старшина, - оборачиваясь, сказал Гриневич. - У вас же взвод.
- Взвод, взвод! Який цэ взвод: двадцать человик, та и ти нога за нагу чыпляются.
- Будто одни ваши чепляются? - сказал Ванин.
- Так у тэбэ скилькы? Тридцать два? А у мэнэ двадцить три.
- Мои ночь в охранении были.
- А мои копалы.
Вообще слушать это было не очень приятно, но спорили взводные не впервые, и Ананьев относился к их ссорам не строго. Правда, он почти всегда был на стороне Ванина, который и сам мог постоять за себя, только иногда у младшего лейтенанта не хватало на это терпения. Пилипенко же спорить мог бесконечно.
- Ладно! - ни к кому не обращаясь, сказал Ванин. - На этот раз я сменю. Только надо бы и совесть иметь.
Пилипенко опять завелся:
- А шчо я, для сэбэ выгадую! Ви гляньтэ, яки у мэнэ ваяки. Та й бисова дорога...
Пригибая голову от ветра, Гриневич на ходу снова оглянулся на старшину.
- Ну и что же - боевая обстановка! А в присяге как сказано: стойко переносить все тяготы и лишения военной жизни.
- Та чулы!
- От и плохо, что сами чулы, а бойцам не внушаете.
На это Пилипенко не ответил, мы остановились. Командир роты с трофейной сигаретой в зубах начал шарить по своим многочисленным карманам - искал зажигалку. Ветер осатанело рвал полы его накидки, под которой у старшего лейтенанта была коротковатая шинель, подпоясанная обвисшим комсоставовским ремнем с трофейным «вальтером» в кобуре. Другого снаряжения - портупей, сумок, компасов - Ананьев не имел и ходил во всем красноармейском, выделяясь среди бойцов разве что погонами с замызганным просветом (звездочек, разумеется, на них не водилось) да своим долговязым ростом.
- Что мораль читать, - раскурив сигарету, сухо сказал комроты. - Сам не дурак. Отставаки есть?
- Нэмае. - с некоторой заминкой ответил Пилипенко. Из под капюшона накидки Ананьев испытующе покосился на взводного.
- Проверял?
- Ну, - настороженно ответил старшина, и всем стало ясно, что не проверял. Командир роты быстрым взглядом окинул бойцов - устало хлюпая по лужам, они проходили мимо.
- Где Чумак?
- Тут був, сдается.
- Був. А теперь где?
Пилипенко страдальчески хмурился, подергивая под палаткой плечами, и мне было жаль старшину. Он был самый старый в роте из всех командиров и держал себя даже с некоторым достоинством, которого, впрочем, не признавал Ананьев.
Я вглядывался в фигуры его автоматчиков, однако, как на беду, Чумака нигде не было.
- Вот так и получается, ядрена вошь! Найти и доложить! - приказал комроты и выругался.
Пилипенко, молча повернувшись, послушно зашлепал по снеговой слякоти. Он отошел уже шагов на пятнадцать, когда Ананьев неожиданно смягчился:
- Отставить! Веди взвод! - и легонько подтолкнул меня в спину. - Васюков - бегом! И заодно глянь повозку.
2
Разбрызгивая в стороны снежные лужи, я бежал по дороге. Остерегаться мокряди уже не имело смысла - и так на мне все было мокрым, не спасала и худенькая немецкая палатка-треуголка. Навстречу устало брели автоматчики - знакомые, что уцелели в зимних боях, и новички, за неделю до наступления прибывшие в роту. Я знал далеко не каждого - меня же тут знали все. Как-никак я был на виду - всегда с командиром роты, в колонне, на привале или в цепи. При Ананьеве они, конечно, вели себя сдержаннее, а теперь, завидев меня одного, дали волю своему любопытству:
- Что, Васюков, немцы?
- Куда бежишь? Может, ночуем, да?
- Ординарец, ком сюда - перекурим!
Я никому не отвечал: на бегу скользя взглядом по их нестройным рядам, я надеялся увидеть Чумака. Но его нигде не было, и я мчался все дальше по склону пригорка вниз.
Ординарцем к Ананьеву я попал полгода назад, в тот самый день, когда прибыл в роту. Ананьев тогда прошелся перед строем молчаливых неуклюжих, в необмятых шинелях новичков и, остановившись возле меня, приказал: «Пойдешь ординарцем. Понял?» - «Понял», - сказал я, хотя в то время понял не много. Со временем, однако, приучился, сложного в этой должности оказалось не много. Иногда было неспокойно, иногда страшновато, особенно под огнем, когда все лежали, втиснувшись в своя ячейки, а Ананьев посылал меня в какой-нибудь взвод, или с донесением к командиру батальона, или просто посмотреть, кто занимает лесок, или позвать старшину. Правда, комроты и сам не очень берегся и бегал не меньше меня, а часто и вместе со мной.
Чумака я тоже искал не впервые - этот Чумак был просто наказанием нашим. Из-за него Пилипенко почти ежедневно получал нагоняй от начальства - то он потеряется, то станет не в свой взвод при построении, то не успеет вовремя пообедать, потому что не имеет ложки, то под огнем вылезет на самое убойное место - ползи тогда, сгоняй его оттуда в укрытие. На марше же он отставал, наверное, уже раз десять, не меньше.
Я вглядывался в тусклые, намокшие, облепленные снегом фигуры автоматчиков, на дороге их становилось все меньше и, наконец, не осталось ни одного.
Я остановился, послушал, собираясь уже догонять колонну, как поодаль заслышал шаги. Действительно, через минуту из сумерек вышли двое: Чумак, который, подоткнув под ремень полы шинели, едва тащился по грязи, и замыкающий сержант Цветков. Кажется, Чумак и ему уже основательно надоел, потому что Цветков, не скрывая своего раздражения, ворчливо говорил:
- Тебе трудно, да? Силы не хватает? А мне вот легко тащиться с тобой?
Я подошел ближе, и Цветков, узнав меня, заметно обрадовался:
- Ты не за этим?
- А за кем же!
- Надоело толкать. Прямо безногий! - пожаловался сержант.
Я его, конечно, понимал, но таковы уж были обязанности замыкающего, чтобы подталкивать тех, кто отставал. Обычно этим занимался старшина, который теперь где-то пропал вместе с повозкой.
- Что, отстал?
- А черт его знает! Отстал или притворяется.
- Так что же делать?
И тут, будто впервые поняв всю затруднительность нашего положения, Чумак обернулся:
- Пусть бы вы шли. Я уж сам как-нибудь.
- Ну да! - сказал Цветков. - Мы пойдем, а ты в кусты? Знаем таких.
- Ей-богу, нет. Я потихонечку. Мне бы только водички глотнуть. Нету во фляжке, а?
- Нету, - сказал я.
Чумак с недоверием оглядел меня - низенький, кривоногий, в обвисшей мокрой шинелке, с тощим вещмешком на спине - и уже совсем жалобно попросил:
- А может, у товарища сержанта есть? Дай, будь ласков.
- Это не вода, - сказал Цветков. - Это водка.
Чумак смолчал, с заметным усилием вытаскивая из грязи ноги и по-утиному переваливаясь с боку на бок. И вдруг с неожиданной для него решительностью сказал:
- А дай водки!
- Еще что надумаешь?
Цветков широко шагнул через колдобину, блеснув из-под палатки комсоставской пряжкой, которую он аккуратно каждый день натирал фланелью. Так же ежедневно он находил возможность подшить свежий подворотничок, надраить сапоги. И вообще своим внешним видом сержант напоминал скорее какого-нибудь расторопного штабного писаря, чем санинструктора роты автоматчиков, которым был.
Я на минуту смутился. Конечно, было жаль Чумака, но не было и уверенности, что водка пойдет ему на пользу.
- Ладно, - сказал я примирительно. - Дай. Может, поможет.
- Что дай? Моя это разве? Старшины фляга, - с обидой проговорил Цветков.
- Обойдется твой старшина. Не последняя, наверно.
- А может, и последняя. Когда уже ее выдавали? В субботу.
- Однако ж сберег. Так поделись!
Цветков надулся и замолчал.
Вот зануда, подумал я. Для старшины или командира роты он достал бы из-под земли, а бедолаге Чумаку жалел пару глотков.
Наткнувшись в темени на длинную, полную снеговой каши лужу, мы разошлись по обе ее стороны, и когда снова сошлись, Цветков вдруг отстегнул трофейную, обшитую войлоком флягу.
- На. Только глоток, не больше.
- Не, не…
Чумак остановился, слегка запрокинул голову - водка тихонько булькнула дважды, и Цветков тут же ухватился за флягу. Но прежде, чем он успел ее выхватить, булькнуло еще раз.
- Сказал же: глоток! - закричал санинструктор. - Дорвался!
Я молчал: что уж там один только глоток! И Чумак, наверное, заметил это мое молчаливое заступничество.
- От спасибочко, - тихо сказал он, вытирая рукой подбородок и как бы не замечая Цветкова. - Спасибочко тебе, товарищ ординарец.
- А мне за что? - сказал я. - Его благодари.
Чумак промолчал. Цветков начал пристегивать флягу да что-то завозился с застежками на ремне, и мы опять остановились. Чумак повернулся ко мне:
- У тебя кирзовки, да?
- Кирзовки. А что? - полюбопытствовал я. Прежде чем объяснить, боец нерешительно переступил с ноги на ногу.
- Так это... У меня вот, сапоги. Немецкие, правда. В случае чего, так это... Пусть тебе будут.
Я взглянул на его заляпанные грязью трофейные солдатские сапоги с низенькими голенищами и еще не совсем понял смысл его слов, как Цветков иронически хмыкнул:
- Хохмач! Будто на фронте угадаешь! Вот завтра как врежет, так оба вверх копытами.
- Так я говорю...
- Да, ты уж скажешь! - оборвал его санинструктор. - Молчи уж.
- Ладно. Посмотрим. Давай догонять, - сказал я.
Мы быстро пошли по дороге. Цветкову я не возражал: вообще-то он был прав. Каждый раз, однако, как только заходил о том разговор, делалось не по себе. Кто раньше, а кто позже - не угадаешь, но вряд ли стоит подтрунивать над этим дядькой, который по простоте душевной сделал попытку совершить нечто доброе, конечно, на свой манер и в пределах своей солдатской возможности.
Чумак зашевелился вроде живей. И, будто оправдываясь, на ходу говорил:
- Нет, я ничего... Если что, говорю. Хорошие же сапоги...
3
Только он сказал это, как небо над пригорком огненно вспыхнуло. На несколько секунд в воздухе замельтешили рои снежинок, вспышка, широко разгораясь, пошла вниз, неверный, мерцающий отсвет ее лег на вершину холма, погорел немного, потом как-то вдруг потускнел и погас.
- Ого! - сказал я, сразу поняв, что это для нас значит.
- Напоролись! - упавшим голосом подтвердил Цветков.
Ракета была не очень чтоб близкой, при этом ненастье вряд ли она осветила колонну, но все же немцы что-то могли заметить. Значит, погодя надо ждать выстрелов. Обычно в таких случаях со стрельбой кончалась гнетущая неизвестность, и начиналась изматывавшая огневая борьба с противником. В общем, на войне все это было делом обыденным, хотя и каждый раз новым. На этот раз, однако, стрельба не начиналась, и, наверно, потому Ананьев не останавливал роту, которую мы вскоре и догнали.
Минут через пять в том же месте засветило снова - на светловатом мерцающем фоне вырисовалось несколько теней автоматчиков, что брели по дороге. Ближе к голове колонны они, видимо, сами, не дожидаясь команды, останавливались и в молчаливой тревоге поглядывали вперед, где собрались командиры.
Размахивая мокрыми концами своей треуголки, я пробежал в голову колонны и перешел на шаг. Ананьев, Гриневич, командиры взводов Ванин и Пилипенко настороженно всматривались в моросящий дождем полумрак.
- Да, не дозор это, - обеспокоенно сказал Ананьев.
- Дозор был ближе, - подтвердил Гриневич.
Они помолчали, прислушиваясь, и Ананьев с досадой сказал:
- Какого же хрена тогда он молчит? Может, сигналы проворонили?
- Этого не могло быть. За сигналами я сам следил, - уверенно объявил Ванин.
- Разгильдяи! - проворчал командир роты. - Сидят и молчат! А ну бери человека и дуй сам! - приказал он Ванину. Тот живо повернулся к строю:
- Кривошеев!
- Я.
- За мной!
Слегка пригнувшись, они побежали дорогой и скоро скрылись в сырых, ненастных сумерках.
- Пилипенко, наблюдай! В случае чего - душу вытрясу. Понял?- угрожающе прошептал Ананьев.
- Поняв. Шо тут нэ понять, - обиженно отозвался старшина. - Тильки ни бисова батька нэ выдна.
- Без разговоров мне!
Некоторое время все молчали, напрягая слух. Смотреть против ветра было не очень приятно: мокрым снегом залепляло лицо, все время хотелось отвернуться, спрятаться за спину товарища. Набрякшие влагой палатки, как жестяные, гремели в темноте. В мокрых сапогах начали стынуть ноги. Вдруг в той стороне, куда шла дорога, опять загорелась ракета, правда на этот раз несколько дальше прежних, и Ананьев вполголоса выругался.
- А ну пошли!
Он стремительно шагнул в темень, за ним - Гриневич, несколько помешкав, я. На ходу уже я снял из-за спины автомат и накинул его на плечо поверх палатки. Пилипенко остался с ротой.
Быстрым шагом втроем мы шли по середине дороги. Широкий косогор полого спускался вниз, растекаясь в размытых колеях, бежала вода. Чем дальше мы отходили от роты, тем тревожнее становилось на душе, ощущение одиночества все плотнее охватывало нас в этом ветряном поле. Я уже подумал, что надо бы остановиться, что совершенно нелепо так рисковать командирами, как навстречу из сумерек как-то бесшумно и неожиданно появился боец в густо облепленном снегом бушлате. Мы узнали в нем автоматчика Щапу. Кажется, он бежал из дозора и от усталости едва переводил дыхание.
Ананьев остановился.
- Ну?
- Немцы, товарищ старший лейтенант!
- Новость! Где Ванин?
- Там, - густо дыша паром, Щапа показал в темень. - Наблюдает. Немцы за лощинкой на бугре копают.
- Что копают?
- А черт их знает. Оборону, видно.
- На бугре?
- Ну да.
- А село далеко?
- Какое село?
- Ну это, как его...
- Рудаки, – подсказал Гриневич.
- Нет, села не видели. Вот тут под горой речка. Но не очень чтоб. Перейти можно. А дальше бугор, а на бугре копают, - негромко говорил Щапа, заметно шепелявя оттого, что спереди у него не хватало одного зуба.
Мы поглядели в ветреную темень, послушали. Всюду было тихо - ни стрельбы, ни ракет, лишь по мокрым палаткам мелко стучал дождь да рядом слышалось шумное дыхание Щапы. Тогда Ананьев откуда-то из-под накидки вытащил карту.
- А ну заслони.
Присев на корточки спиной к лощине, он натянул на себя полы накидки. К нему склонился Гриневич. Поверх их голов я накинул еще полу своей палатки, и Ананьев блеснул там слабым светом фонарика. Сверху в щелку возле плеча ротного мне видны были их руки и уголок трофейной карты, отпечатанной по немецкому обычаю одной чёрной краской. Пыхтя от неловкости, командир роты начал разбираться в ее запутанных знаках:
- Кажись, тут дорога? Ага?
- Какая дорога! Это горизонталь. - глуховато поправил его замполит. – Вот, смотрите - Рудаки. А дальше на склоне должна быть дорога. Вот она.
- Да? А это что? Ну-ка прочти. А то язык сломаешь...
- Это река. Река Светлица - так, кажется. До нее мы еще не дошли.
- Так. Значат, мы вроде тут, да?
- Вроде так. Холмик, дорога. Ну, а мы приблизительно вот тут.
Ананьев повел светлым пятаком фонарика дальше, большим пальцем разгладил складку бумаги.
- Тогда получается, напротив высота 117,0. Так?
- Вроде так.
- Хорош бугорок, ядрена вошь! Гэ! - вдруг обрадованно воскликнул ротный. - Да за ним же станция?
- Да, станция, - подтвердил замполит.
Действительно, на изгибе карты пробегала черная жирная линия железной дороги с кубиком станции на краю, у самого обреза листа. От нее до высоты было совсем близко, и я подумал, что этой станции нам не миновать. Тут уж как ни крути, а к станции выйдешь, и начнется такое, что не дай бог. Совсем недавно еще, в феврале, одна такая станция стоила полку за две недели боев восьми братских могил, в самой малой из которых закопали тридцать убитых.
У Ананьева, однако, это открытие вызвало совершенно иную реакцию:
- Вот оно что! Сыромятников утром: станция, станция. А я никак в толк не возьму, где эта станция, - радуясь своему открытию, сказал он и чуть тише добавил: - Вот бы захватить!
- Еще чего! - сухо ответил Гриневич.
Старший лейтенант выключил фонарик. Оба встали. Вдруг замполит встревоженно вскинул голову - послышалось, будто кто-то бежал по дороге снизу. Ананьев машинально сунул карту за пазуху и сделал три шага по дороге. Я снял с плеча автомат. Минуту погодя совсем рядом из темноты выскользнула фигура автоматчика. Увидев своих, он с бега перешел на шаг.
- Кривошеев, ты? - негромко окликнул Ананьев.
Кривошеев еще издали взволнованным шепотом заговорил:
- Товарищ старший лейтенант, надо ударить! Копают на бугорке, охранения с этой стороны никакого. Мы их голыми руками, как цыпленков, возьмем. Младший лейтенант говорят: только быстрее!
Он выпалил все это, оживленно тыча в темень рукой, с таким счастливым видом, будто то, что они там увидели, было для всех радостью. И, как ни удивительно, это его чувство риска и радостного воодушевления сразу передалось командиру роты - тот сразу подобрался, выпрямился и круто обернулся к замполиту:
- Может, сначала разведать? - не сразу, без особого подъема сказал Гриневич, осторожно погладывая в ночь.
- Тоже скажешь: разведать! Всполошишь только. А так пока тихо.
- Ну! Пока охранения не выставили, - подхватил Кривошеев. - А ракеты ни черта не светят - снег с дождем забивают. Мы подползли к самой траншее, видно, как землю выкидывают, - дрожащим от возбуждения голосом твердил дозорный.
Ананьев, казалось, уже не слушал - его самого охватило явное нетерпение: как всегда, предчувствие боевой удачи вытесняло все другие соображения.
Гриневич, однако, по-прежнему оставался сдержанным и, втянув голову в плечи, неподвижно стоял в двух вагах от Ананьева. Будто вслушиваясь в беспорядочные порывы ветра, лейтенант сказал:
- А соседи? Третий батальон вон где. И со вторым разрыв на два километра.
- Подтянутся ночью твои соседи! Никуда не денутся.
- Допустим, подтянутся. А патронов у вас хватят? Положим, собьем, а удержим? - поеживаясь, спросил Гриневич.
Действительно, патронов могло не хватить, их у нас было маловато, и это обстоятельство со всей очевидностью разрушало такой соблазнительный замысел ротного. Ананьев на минуту замер, что-то про себя прикинул, - показалось, сейчас скомандует развертывать взводы в оборону. И на самом деле он было повернулся к тылу, послушал, снова взглянул в сторону невидимой высоты. И вдруг с внезапной решимостью взмахнул кулаком:
- А - была не была! Рубанем - посмотрим! Васюков, дуй за ротой!
Гриневич молчал: возражать в таких случаях было бесполезно.
4
Спустя десять минут я привел роту.
Полсотня автоматчиков сбежала с пригорка. По обочине, радостно обгоняя строй, мчалась Пулька, пока кто-то не выскочил из колонны и не сгреб собачонку, чтобы лишний раз не попадалась на глаза начальству. Не успели мы поравняться с командирами, как Ананьев скомандовал:
- За мной, марш!
То шагом, то бегом рота быстро двигалась вниз. Теперь она подтянулась, собралась в одно целое и снова, будто не было ни боев, ни потерь, ни всяческих мелких я больших неувязок, стала чутким, согласованным механизмом, подвластным единой воле командира. Она была лучшей ротой в полку, и командир ее с замполитом были лучшими среди других. Перед наступлением на митинге сам генерал хвалил нашу роту, восемнадцать автоматчиков из которой получила тогда награды, в том числе и я - медаль «За отвагу». Как и многие, я очень гордился своей такой удачливой военной судьбой. Впрочем, я всегда был доволен и почти счастлив оттого, что довелось попасть в такое подразделение и к такому командиру, как старший лейтенант Ананьев. Иногда, правда, это чувство слабело, притупляясь, но в такие вот минуты всеобщего воодушевления оно становилось особенно сильным. Никто не спрашивал, что случилось, куда мы движемся: впереди бежали командиры, и мы готовы были на все, лишь бы в конце была удача.
Ананьев с Гриневичем и двумя дозорными бежали во главе роты. Щапа молчал, а Кривошеев твердил возбужденным шепотом:
- Мы к ним сбоку зайдем. Они вправо развернулись, а мы с фланга. Ей-богу! Так в землю зарылись, ни черта не видят. Турнем, что и не пикнут.
- Ладно, - устало дыша, оборвал его Ананьев. - Молчи пока.
На бегу оглядываясь, он отдавал распоряжения:
- За речкой - в цепь! Комиссар - с Пилипенкой, я - с Ваниным. И бегом!
- Ясно!
Сдерживая дыхание, автоматчики сбежали в низинку. Дождь вроде перестал, снежинки, наоборот, - посыпались гуще. Сумерки стали как будто светлее: по обе стороны темной от грязи дороги раскинулось серое с мокрыми пятнами поле. Ананьев все время посматривал по сторонам и вперед, да и Гриневич тоже - понятно, их тревожило: а вдруг загорится ракета? Нам бы еще минут десять-пятнадцать, главное, чтобы перебраться через речушку, которая уже шумела рядом с дорожной насыпью.
Погодя мы увидели перед собой и мостик. Впрочем, это был не мостик, а то, что от него осталось: высоковато над водой лежали три мокрые балки-бревна, по которым надо было перейти роте. На той стороне откуда-то появились двое: одни в плащ-палатке, другой в знакомой, опоясанной ремнями телогрейке - в нем нетрудно было узнать Ванина. Младший лейтенант ловко перебежал по бревну на эту сторону и присоединился к Ананьеву.
- Копают. Давайте быстрей!
На минуту они остановились, вполголоса обменялись несколькими фразами.
- Пойдешь направляющим! - Он подтолкнул Ванина и сам, не останавливаясь, довольно уверенно перешел на ту сторону. За ним перебежал Кривошеев, потом, подавив в себе страх, перебрался я. Гриневич сошел с насыпи и начал пробовать сапогом берег, чтобы перейти вброд. Ананьев стоял у мостка и нетерпеливыми жестами подгонял бойцов. Автоматчики по одному, не очень, правда, решительно, перебегали по двум бревнам, третье было потоньше и оказалось не совсем для того удобным. Мы с Ваниным страховали ребят в конце их не слишком безопасной пробежки. Некоторые лезли в воду и вслед за Гриневичем переходили речушку вброд.
- Быстро! Быстро! - громким шепотом повторял Ананьев. - И в цепь!
Бойцы, на ходу снимая автоматы, разбегались вширь. Цепь привычно выстраивалась на сумеречном склоне. На том берегу оставались уже немногие, и мы, не дожидаясь последних, бросились от моста догонять роту.
Дорога свернула куда-то вправо, под ногами вдруг зачавкал раскисший, вспаханный с осени участок, в котором по щиколотку завязли наши сапоги. Кто-то негромко выругался, Ванин круто взял в сторону, увлекая за собой автоматчиков, конец цепи оттого запутался, несколько человек сбилось в кучу, и Ананьев отчаянно замахал руками, рассредоточивая бойцов. Его, однако, не очень понимали в этой промозглой темени. Тогда Ванин немного растянул взвод вправо и бегом вернулся к ротному.
Мне с ними двумя было почти спокойно, казалось, пока они тут, ничего плохого не случится. К тому же я втайне любовался Ваниным, его ловкостью и даже некоторой лихостью, в глубине души сам мечтал стать таким же: ведь он был ненамного старше меня.
На склоне было чуть светлее, под ногами тихо шуршала полегшая прошлогодняя стерня, высохшие стебли бурьяна и репейника цеплялись за полы шинелей. Постепенно склон становился все круче, чувствовалось, недалеко была вершина, но сумерки все еще скрывали ее. Напористый ветер по-прежнему сыпал на землю снежной крупой.
Наконец, Ванин, бежавший впереди, взял наизготовку автомат, и я услышал в тишине, как щелкнул его затвор, поставленный на боевой взвод. Ананьев выдернул из-под накидки «вальтер». Я также поудобнее перехватил ППШ, подумав: «Скоро начнется».
Наверно, уже вся рота разбежалась в неровную, почти невидимую в ночи, беспорядочную цепь. Один ее фланг бесследно пропадал в сумраке, а на другом автоматчики опять стеснились в плотную, неудобную для атаки шеренгу. Склон между тем понемногу выравнивался, бежать стало легче, но впереди в сером, оснеженном полумраке угадывалась новая крутизна, и там же что-то темнело - кустарник или опять пахота. Возможно, однако, там были немцы. Чтобы не оказаться в такой момент за спиной у Ананьева, я слегка обежал его и пошел почти рядом. Он резко повернул в мою сторону:
- Гранаты есть?
В карманах у меня было две «лимонки», которые я берег на какой-нибудь крайний случай. Теперь пришлось достать одну, Ананьев тут же выхватил ее из моих рук.
В это время спереди донесся чужой тревожащий звук. Похоже, будто кто-то стучал деревом о дерево - может, насаживал на черенок лопату или счищал с нее грязь. Ананьев на секунду остановился, задержал дыхание, но тут же опять устало, широко зашагал по снежной траве.
Так мы добежали до самого крутого места и, хватаясь за мокрый колючий кустарник, боком, чтоб не поскользнуться, неловко полезли в гору. Кто-то все же не удержался, упал, но тут же поднялся. Ванин, тонкий и подтянутый, несколько раз взмахнув руками, первым взлетел на пригорок. Мы с Ананьевым немного замешкались и отстали от взводного шагов на десять. Я старался изо всех сил, однако едва поспевал за ротным: в бою тот тоже проявлял удивительную для его нескладной, долговязой фигуры ловкость.
На самой бровке обрыва я, к несчастью, поскользнулся и упал. Хорошо еще автомат был на шее и не загремел в ночи, каска также удержалась на голове, а то бы не миновать беды. Ананьев уже выскочил на ровное место, я, поправляя каску, высунулся из-за обрыва и тут же присел в испуге.
Впереди не более чем в двадцати метрах была траншея.
Видимо, мы наткнулись на самый ее фланговый конец. Раскопанная земля резко чернела в серовато-заснеженном поле. Судя по невысокому, широко раскиданному брустверу, траншея была еще мелкая, только начатая. Черная ее извилина бросалась в глаза с первого же взгляда, и я сразу заметил, что в ней шевельнулось что-то живое. В следующее мгновение стало понятно, что это немец, и что он уже увидел нас, но не меня и, пожалуй, не Ананьева, а кого-то еще, кто оказался там, рядом с траншеей. Немец, полусогнутый, с лопатой в руках, испуганно вскрикнул и уронил лопату. Тотчас к нему через бруствер пружинисто метнулся кто-то из наших (я не сразу понял, что это Ванин), коротким ударом опрокинул немца, и тот беззвучно исчез в траншее. Ванин тоже пропал, несколько мучительно долгих секунд там никого не было, потом за бруствером проскользнула и скрылась его едва различимая тень. Мы с Ананьевым широкими прыжками кинулись к траншее.
Мы не успели добежать до нее каких-нибудь пяти метров, как невдалеке хлестко щелкнуло - сумеречное поднебесье над полем прорезал огненный след осветительной ракеты. Ракета распустилась несколько в стороне от высоты, небо вокруг широко загорелось холодным, лихорадочно мельтешащим светом. Ослепленные ее неестественно-химической яркостью, мы все же успели заметить, как в изогнутом зеве траншеи в самых различных позах замерли немцы. И тогда где-то рядом с пронзительным треском ударил автомат.
Стараясь не потерять командира роты из виду, я вслед за ним ринулся в траншею. Впотьмах ноги наткнулись на что-то устрашающе мягкое, с брезгливым испугом я отпрянул в сторону, едва не наскочив на командира роты. Ананьев выстрелил, прясел, потом сильно взмахнул оравой рукой - бросил гранату. Не дожидаясь взрыва, я бросился вперед, но Ананьев сильным рывком за палатку осадил меня вниз, в грязную темноту траншеи. Где-то близко, у самой головы, воздух пропорола горячая очередь, тотчас неподалеку оглушительно грохнуло - земля, пыль и тротиловый смрад горячей волной ударили в лицо.
- Вперед! - крякнул Ананьев. - Наша берет! Гранатами огонь!
Повсюду на высоте в суматошной трескотне зашлись автоматы, хотя кто и откуда стрелял - было не понять. Грохнули одни, два разом, потом три и четыре взрыва – наверно, наши начала швырять гранаты. Ананьев привстал в мелковатой, по грудь траншее, оглянулся и опять прокричал:
- Вперед! Скорей! Наша бере-от!!!
Натыкаясь на повороты траншеи, задевая плечами стенки, мы несколько десятков метров бежали ее ходами. Кто-то бежал впереди, но не понять было - свои или немцы. Но вот совсем рядом в траншее выстрелили - из мрака почти в упор остро блеснуло огненной вспышкой. Ананьев вдруг будто споткнулся и исчез - я даже испугался за него. К счастью, Ананьев тут же вскочил и как раз вовремя. Что-то большое метнулось неподалеку, ротный впопыхах ткнул туда пистолетом. Выстрела его, однако, я не услышал - сам дрожащими руками вскинул над бруствером автомат и пустил вдогонку торопливую, пожалуй, слишком длинную очередь. Затем еще кто-то выскочил из траншеи в поле, кто-то другой на бегу перемахнул бруствер. Тут и там вспыхивали автоматные очереди. На высоте вовсю шел бой, но было похоже - немцы удирали.
Тогда мы прекратили свой слепой бег в траншее и вскочили коленями на мягкие комья бруствера. Поднимаясь, я успел заметить, как вдоль траншеи за нами, пригнувшись, бежали двое, один вскинул автомат, и на его дульном срезе запульсировал огонек очереди. Пахнув в лицо вонючим теплом, очередь визгливо прошла мимо нас, туда, где от траншей наискось бежал кто-то в длиннополой расстегнутой шинели. Ко мне он был ближе. Вскочив, я торопливо выстрелил, тот упал на колено, из-под его рук огненно сверкнуло в нашу сторону. Ананьев вскинул пистолет, однако выстрела не было: наверно, что-то случилось с его «вальтером». Командир роты угрожающе крикнул: «Васюков, бей!», а сам, нагнувшись, обеими руками схватился за пистолет. Приостановившись, я снова тыркнул коротенькой очередью, но, видимо, мимо: немец уклонился, вскочил и стремительно пустился наутек. Ананьев люто выругался. Сквозь треск очередей я отлично услышал его энергичный мат, только у меня также заело - выстрелов не было.
Я клял себя за непростительный промах, но затвор только беспомощно клацал - наверно, опустел диск (и надо же случиться такому в самый неподходящий момент). Я выхватил его из автомата и сунул за пазуху. Но не успел я перезарядить, как Ананьев ринулся впереди прямо на немца. Тогда и я вскочил. На бегу, одной рукой стараясь расстегнуть сумку с магазинами, я не спускал глаз с ротного. Тот что-то кричал. Немец еще раз грохнул торопливым винтовочным выстрелом, однако опять промазал и, пригнувшись, бросился в темень. Винтовка почему-то осталась на земле, Ананьев тут же подхватил ее и, широко размахнувшись, швырнул убегавшему под ноги. Немец споткнулся, едва не упал, но удержался на ногах и обернулся. Наверно, увидев сзади только одного преследователя, он вдруг сделал резкий поворот навстречу, чтобы броситься на командира роты.
Но тут уже подоспел я.
Наощупь затолкав в автомат новый диск, я почти в упор дал по нему длинную огненную очередь. Немец неестественно выгнулся и разом осел, я побежал дальше, не сразу поняв, что поспешил: мы зарвались. Впереди были немцы, поблизости о потемках мелькнуло несколько теней, и тут же в трех шагах впереди что-то, стремительно метнувшись, ударилось оземь. Я не увидел, что это было, я почувствовал только удар, в лицо плеснуло мокрым снегом и грязью, и тогда я смекнул: граната! Она подскочила и в одно мгновение оказалась где-то у меня под ногами. С необыкновенной отчетливостью, какая возможна только за секунду до гибели, я понял: конец! Испуг толкнул меня от этого места, да так сильно, что ноги не выдержали этого спасительного толчка, и я через голову, каким-то непостижимым чертовым колесом покатился по мокрой земле.
Взрыва я почему-то не услышал - почувствовал только, как ошалело рвануло палатку и, словно зубилом, звонко звякнуло о каску. Одно ухо враз заложило, будто в него вогнали тугую плотную пробку, щека одеревенела, на какое-то время я перестал ощущать себя и, когда подбежал Ананьев, никак не мог взять в толк, что случилось, и что ему от меня надо. Пока я судорожно корчился на земле, командир роты тормошил меня за рукав, затем что-то прокричал в лицо - я почувствовал только его горячее дыхание, - тут же сам попытался подняться на колени и застонал от жгучей бола в плече.
Ананьев энергично замахал рукой. И вдруг, будто вынырнув из-под воды, я услышал его непонятно чужой и очень далекий голос:
- Стой! Рота, стой! Назад! В траншею, назад!
Тогда, очнувшись от горячего удушья, я повял, что жив, и начал медленно подниматься с земли. Плечо горело и бесчувственно-тупо деревенело, рука обливалась чем-то горячим, из рукава часто закапало - на сапоги и в грязный, истоптанный снег...
5
Я слышал, как командир роты кого-то позвал, кто-то подбежал ко мне, подобрал оброненный на снег автомат, поправил на голове каску. Приходя в себя, я сделал два шага. Ноги мои были невредимы, рану в плече я зажимал здоровой рукой, но из рукава капало - с каждым шагом все больше.
Боец подхватил меня под мышку здоровой руки.
- Постой, Васюков. Перевязать надо.
Слышал я, кажется, одним ухом и по голосу узнал его - это был Лутохин из взвода Пилипенко. Ананьев исчез - может, со взводом Ванина побежал дальше, на другой склон высоты. Часть роты, однако, осела в траншее: я слышал недалекие голоса и пошел на них. Лутохин, поддерживая меня, шел рядом.
Мы соскочили в грязную траншею. Здесь уже хозяйничали автоматчики из взвода Пилипенко. Трое возились в темноте с трупом немца, который никак не могли поднять наверх. Один из них выбрался из траншеи, и с его помощью бойцы втащили убитого на край бруствера. Тащить его дальше у них не было охоты.
- Пусть валяется. Все от пуль укрытнее будет.
Боец присел над убитым и начал шарить по его карманам. Двое внизу брезгливо вытерли о шинели ладони и посторонились, пропуская нас. Кто-то, узнав меня, сочувственно окликнул:
- Что, Васюков, накололи?
- Накололи, - вместо меня ответил Лутохин. - Не видели, где Цветков?
- А кто его знает... Под горой, верно.
- Сзади, конечно. Чего ему тут быть?
Лутохин заботливо снял с меня остатки изодранной взрывом палатки, как-то освободил плечо от лямок вещевого мешка, также иссеченного осколками. Свежевырытым ходом сообщения я прошел, пошатываясь, еще несколько шагов и на повороте столкнулся со старшиной Пилипенко. Шурша о стены волглой палаткой и отдавая команды, тот деловито обходил траншею. Завидев меня, старшина закричал:
- Ты куды? А ну гэть на место! - и спохватился: - Цэ хто?
- Это я. Где Цветков, не видели?
- Васюков? - удивился старшина. - А дэ ж командир роты?
- Там, - я кивнул в сторону, где все еще слышались очереди.
- Тэбэ поранило? Ага? А цэ хто? Лутохин? Вас тэ ж поранило?
- Он сопровождает, - сказал я.
- Ныяких сопровождачив! - отрезал Пилипенко. - По уставу заборонэно. Шагом марш, Лутохин! Доложить командиру отделения!
Перед командиром роты он почти мякиш, подумал я, а тут такая непреклонность.
Пилипенко забрал у бойца мой автомат, и тот уныло поволокся по траншее к своему отделению.
- Пишлы! Цветков блиндаж освоюе, - теплее сказал Пилипенко. - Такый гарный блиндаж...
Старшина повернулся и, по-прежнему обдирая палаткой стенки траншеи, узковатой для его широкого тела, напористо двинулся куда-то во мрак.
Мы прошли, может, метров двести. Траншея, виляя из стороны в сторону, тянулась по всей высоте - от склона до склона. Местами она была совсем еще мелкой - до пояса, а кое-где даже не выше колен, на дне ее и на бруствере валялись брошенные немцами лопаты, втоптанные в грязь палатки. Автоматчики из взвода Пилипенко поспешно долбили тыльную стенку - врезали ячейки для стрельбы. Немецкие, направленные в противоположную сторону, теперь были не нужны. Пилипенко начальнически прикрикивал:
- Швыдэнька, парубки! Ударять мыны - траншэя мамочкой будэ.
Он уже готовился к обороне. Конечно, немцы могли ударить, однако на том фланге, у Ванина, еще шла перестрелка - может, стоило бы помочь ему? Правда, командир роты, кажется, о том не приказывал, а Пилипенко без приказа не имел обыкновения слишком торопиться вперед.
Цветкова мы нашли у входа в блиндаж, который он занавешивал палаткой. Пилипенко окликнул:
- Цветков!
- Да.
- Ось паранены.
- Кто? - подтыкая вверху концы палатки, без особого любопытства спросил Цветков.
Я назвал себя. На санинструктора мое ранение, однако, не произвело решительно никакого впечатления.
- Жди. Заделаю - посмотрим.
- Богато ранэных? - спросил старшина.
- Ерунда. Три человека. Не считая Кривошеева.
- А что Кривошэив?
- Готов – что! Перевязал - только бинты испортил.
- Кривошэив? - чего-то не мог понять Пилипенко.
- Ну. Чего удивился? Что он, от пуль заговоренный?
- Так вин же так и рвався сюды! - простодушно сказал Пилипенко. - Турнэм, кажа.
- Вот и турнули. Семь пуль в грудь - не шуточки. Ну, заходите.
- Зараза! - в сердцах бросил старшина и, вдруг повернувшись, быстро пошел назад к своему взводу.
Я подлез под палатку и оказался в пустом блиндаже. Здесь было темно, сильно воняло порохом, жженым тряпьем, еще чем-то чужим и противным. Следом в блиндаж лез Цветков.
- Не может к убитым привыкнуть. Тут ему не АХЧ.
Санинструктор имел в виду недавнюю тыловую службу Пилипенко и, кажется, вызывал меня на доверительный разговор о старшине, но я промолчал. Очень болело плечо, и я просто терял терпение: когда же Цветков доберется до меня? А он между тем зажег спичку, огляделся. Потом зажег другую. Земляные стены блиндажа были сырые и голые, обрушившийся у входа пласт глины засыпал угол. Напротив у стенки валялась немецкая шинель, несколько смятых одеял. Под ногами пестрела рассыпанная колода карт. В стене оказалась маленькая полочка, на которую в землянках обычно ставят светильник. Цветков наклонился со спичкой в руках, пошарил и действительно нашел на полу сброшенную взрывом плошку. Сдунув песок, он зажег ее, и мрак в блиндаже немного рассеялся.
Санинструктор спросил о чем-то, но я недослышал, так как стоял к нему глухим ухом.
- Оглох, что ли? - крикнул он громче. - Куда тебя?
- Да вот в плечо.
- Садись на это...
Я послушно опустился на какой-то полуразломанный ящик. Цветков скинул с себя мокрую, залубеневшую палатку и достал из ножен на поясе разведчицкий нож.
- Ты что - резать?
- А что же еще?
- Сниму как-нибудь!
Не без его помощи я расстегнул ремень, снял сумку с магазинами, полевушку-кирзовку и одною рукой распахнул свою зеленую, английского сукна шинель. Потом, однако, стало так больно, что помутилось в глазах, и я думал, что отдам богу душу, пока он сдирал с меня эту мокрую, в нескольких местах пробитую шинель. Рукав гимнастерки был рассечен осколком чуть пониже погона и окровавлен по самый манжет. Тут уж я не рискнул возражать, и Цветков сноровисто располосовал его ножом сверху донизу. Я только отвернулся.
- Так-так, - неопределенно приговаривал он, ощупывая рану. - Касательное осколочное. Две недели санбата.
Только и всего! У меня же было такое ощущение, что рука пропала.
- А кость как? Цела?
- Абсолютно, Васюков.
Прислушиваясь к звукам наверху, Цветков достал из сумки широкий сверток бинта и туго обмотал мне плечо. Затем клочком ваты вытер кровь на руке и пристроил перевязь через шею.
- Не ранение, а укус комара. Первый раз?
- Первый, - сказал я.
- Можно сказать - путевка на отдых. Гарантия на две недели жизни.
Я, однако, не ощущал особенной радости от этой путевки: рана болела все больше, тревожное предчувствие угнетало меня. По давней фронтовой привычке какая-то часть моего внимания все время была обращена туда, наверх, ослабленный слух ловил каждый звук оттуда, со стороны немцев. Треск очередей на том склоне постепенно редел, кажется, бой прекращался. Из траншеи сюда временами доносились сдержанные голоса автоматчиков, в земле слышался тупой стук их лопат. И вдруг недалеко раздался коротенький собачий визг. Цветков, собирая в сумку свои медикаменты, удивленно передернул бровями:
- Пулька?
Если Пулька, подумал я, значит, где-то поблизости должен быть и Ванин, которого я так и не видел после его отважного прыжка в траншею. Вскоре, однако, Пулька гавкнула ближе, послышался характерный бас Пилипенко, и у входа загремела палатка.
Показалось, вносили раненого. Кто-то там неуклюже затопал, в щель у края приподнятой палатки протянулась рука, которой входящий как-то неуверенно нащупал стену-опору. Затем под палатку просунулась пригнутая голова, плечи, и мы с Цветковым слегка даже вздрогнули - в блиндаж лез немец. Правда, следом за ним шел Ванин: я сразу узнал его крутоплечую, опоясанную ремнями фигуру.
Войдя, немец остановился, придерживаясь рукой за стену. Левая, полусогнутая в колене, разутая его нога была, судя по всему, ранена.
- Куда бы его? - оглядывая блиндаж, спросил Ванин. - Вот давай на шмутки. Садись, фриц! Битте!
Перебирая по стене руками, немец раза два подпрыгнул на здоровой ноге и отяжелело плюхнулся задом на тряпье в углу. Затем он низко нагнул голову в зимней, с длинным козырьком шапке и спрятал от нас лицо. Пулька, замирая перед ним, настороженно урчала, готовая сорваться на лай.
- Перевязать надо, - сказал Ванин.
Цветков, не двинувшись с места, метнул на него злым взглядом:
- Я что - немецкий фельдшер?
Раненая нога немца, видно, кровоточила: на земле возле нее появилось влажное темное пятно.
- Сержант Цветков, перевяжите немца! - приказал Ванин тоном, начисто исключающим возражения.
Едва не сорвав плечами палатку, в блиндаж влез Пилипенко.
- Кого? Нэмця? Да вы жартуетэ?
Ванин, однако, молчал, не сводя глаз с санинструктора, и тот, наконец, взялся за сумку. Расстегнув ее, он достал оттуда остатки бинта, которым перевязывал меня.
- Вот, при свидетелях, - мрачно предупредил он. - Я был против.
Старшина сплюнул и недовольно затоптался у выхода.
- Я б его пэрэвязав! Хай бы здох, падлюка! Як нашы вид их здыхають.
Не отвечая старшине, Ванин потормошил немца, который, казалось, задремал. И вдруг он вскинул узкое худое лицо, рыбьи глаза его угрожающе сузились, губы скривились в какой-то неопределенной гримасе. Я не успел еще понять, что случилось, как Цветков взмахнул над головой бинтом и испуганно отпрянул назад, сильно толкнув Пилипенко. Оба они ударились о стену землянки, слегка зацепив и Ванина, который, однако, не сдвинулся с места.
- Вот гад!
- Дай ему, падле!
Пилипенко не очень ловко вскочил на ноги, куда-то рванулся Цветков. Плошка на стене едва не погасла. Залилась лаем Пулька. Однако немец не собирался ни драться, ни удирать: он лишь отбивался от собаки. Я видел его искаженное лицо и сжатые на земле кулаки, спиной он уперся в стену, держа наготове здоровую ногу.
- Сука! - вскричал Цветков уже с моим автоматом в руках.
- Тыркни ты ему! Шо з им важдаться! - кричал Пилипенко.
- Спокойно! - сказал Ванин и стал между ними и немцем. Привычным движением руки он поправил на себе тоненький ремешок планшетки. - Спокойно, фриц! Хочешь сдохнуть - ничего не выйдет. Цветков, бери бинт!
Ванин навалился на немца, сгреб его вместе с руками и придавил к земле лицом вниз. Немец задрыгал ногой в сапоге, прорыл каблуком земляную борозду на проходе и стих.
- Перевязывай!
- Я? - испуганно удивился Цветков.
- Ты, а кто же! - возмутился Ванин, удерживая немца. С заметной нерешительностью подступив к нему. Цветков содрал с раненой ноги пленного шерстяной носок и торопливо обмотал стопу бинтом.
- От так! - сказал Ванин, отстраняясь от пленного, который молча сел, забившись подальше в угол.
- Шчо вам утэмяшылася его пэрэвязуваты! - не мог успокоиться Пилипенко. - Бинты тилькы папсувалы, свийму Ивану нэ хопить! Тыркнуть его, и усы!
- Вы бы поменьше трепались, старшина, - сказал Ванин.
- А шчо, нэ правда? Пэрэвязуваты его! Можа, шча тушенкай кормиты будэтэ?
На минуту задержав на старшине озабоченный взгляд, Ванин с досадой вздохнул:
- Мы за ним едва не до станции бежали. Он в меня весь «парабеллум» разрядил. А вы - тыркнуть! Завтра в полк отправим.
- Нэ бачылы в полку такой гныды! - ворчал Пилипенко.
Цветков молчал. Младший лейтенант поднял из-под ног истоптанную шапку.
- Ладно. Я пошел, - сказал он и вылез из блиндажа. За ним выскочила Пулька. Потом, ворча про себя ругательства в адрес немца, вышел Пилипенко. Не успели их шаги затихнуть в траншее, как сюда влезло трое раненых, искавших санинструктора.
В блиндаже стало холодно и тесно, сесть было негде. Цветков начальнически прикрикивал на бойцов - то не там стали, то не так повернулись. Я не мог найти себе места и, проклиная новую долю раненого, накинул волглую еще шинель и вылез в траншею.
6
Небо как будто прояснилось, дождя не было, снежинки все носились в воздухе, дул сильный, промозглый ветер.
Бой уже всюду стих: немцы, кажется, удрали на станцию, и я даже удивился, подумав, как все же легко удалось сбить их с высоты. - Конечно, застали врасплох, они проворонили нас на подходе. Но вряд ли они примирятся с потерей такого выгодного опорного пункта.
Плечо не переставая болело все больше, в ухе надоедливо остро звенело, и я подумал, что, пожалуй, действительно отвоевался. Не миновать санбата - это уже определенно. Но перед тем, как отправиться туда, надо бы повидать Ананьева да проститься с хлопцами, что ли?
Траншея была длиннющая, с неровным, развороченным бруствером, основательно присыпанным снегом. Автоматчики оборудовали себе ячейки. Некоторые уже устроились в них, скорчившись в три погибели, другие, донятые холодом, слонялись по траншее, притаптывая каблуками да покуривая из рукава. Над сумеречной высотой лежала глухая ночь. Немцы ракет не бросали.
Мне сказали, что Ананьев впереди в траншее, я прошел дальше и услышал его голос, каким старший лейтенант обычно разговаривал с бойцами ночью - не по-командирски ровно, негромко, с явной озабоченностью, которую он и не старался скрыть. Ночью он делался проще, спокойнее. Я тихо подошел ближе.
- Конечно, могут лупануть, - говорил Ананьев. - Но это не в голом поле. Пусть сунутся! Вот переночуем, а утречком всех раненых в тыл. К завтраку в медсанбате будешь.
Кто-то ослабевшим голосом возражал:
- Нет, уже все... Не дожить мне.
- Да ну брось ты! - успокаивал его Ананьев. - Не дожить, не дожить! Доживешь! Попадешь в госпиталь - через месяц-два такой герой будешь!
Выйдя из-за поворота траншеи, я сразу наткнулся на них. Тут был недостроенный, брошенный немцами блиндаж - яма сбоку от хода сообщения - без перекрытия и без двери, с четырьмя бревнами-стояками в углах. У стенки на разостланной шинели кто-то лежал, обвитый бинтами, у его ног сидя курил Ананьев. Еще кто-то невидимый неподвижно маячил у изголовья раненого. Гриневич с Пилипенко молча стояли в траншее, возле них прислонялся к стене Зайцев - автоматчик из второго взвода. Завидев этого Зайцева, я вдруг повял, почему он здесь. Обидно защемило в душе - все же я был еще в роте и даже неизвестно, может, обошелся бы и без санбата? Однако тот, кто лежал в яме, судя по всему, был тяжело ранен, и я, подавив в себе неожиданную досаду, спросил вполголоса:
- Кто это?
Ананьев поднял голову:
- А, Васюков! Ну как?
- Да ничего, - сдержанно ответил я. - В плечо вот...
- Могло быть хуже, - сказал командир роты. - Я подумал было: хана тебе.
Подумал, ну и пусть. Спасибо не бросил, позаботился. И все же обида не проходила, застряла где-то и помаленечку ныла, заполняя все мои чувства.
- Васюков, - слабым голосом позвал меня раненый. Я подошел ближе и а сумраке едва узнал его - это был Кривошеев. - Васюков... И ты тоже?
- Попало. Но меня легко, - сказал я с деланной бодростью и почему-то громче, чем было нужно.
- А я вот… - выдохнул, не договорив, Кривошеев.
Ананьев поднялся и выглянул над бруствером.
- Ничего, не унывай. Будешь жить. Не такие выживали.
Не знаю почему, но я сразу понял, что Кривошеев уже не жилец. Рядом тихо вздохнул тот, что сидел в глубине блиндажа, приглядевшись, я узнал в нем рядового Гуменюка. И тогда вспомнил, что они с Кривошеевым земляки, вроде бы даже из одной деревни - когда-то в составе маршевой команды мы вместе прибыли в роту. От той команды уцелело, наверно, человек десять, а теперь вот станет меньше еще на одного.
- Ну где тот разгильдяй Цветков? - спросил командир роты. - Что это за гадство такое!
- Цветков в блиндаже, - сказал я. - Там трое раненых.
- Тяжело?
- Легко как будто.
- Легко! Тут этого спасать надо. А то перевязал и бросил. Ну, погоди: придет - я ему устрою разгон!
- Потом, - тихо сказал из траншеи Гриневич.
- Нет уж! Я его выучу, как рядового бойца любить. А нет - так к чертовой матери: автомат в руки и в цепь.
Раненый слабо завозился внизу.
- Товарищ старший лейтенант... Не надо уже. Что он...
- Как это что, Кривошеев? Брось ты паниковать. Попадешь в госпиталь, в тепло, на чистые простынки - враз получшаешь. Доктора, они теперь такие: наловчились за войну, разрежут и сошьют, будешь лучше прежнего. Сам прошел через ихние руки, знаю.
Гуменюк протяжно вздохнул.
- Я как чувствовал, - скорбно сказал он. - Когда младший лейтенант позвали - екнуло мое сердце. То всегда были вместях - и ничего. А тут отлучился, и вот...
Ему никто не ответил.
Вскоре, однако, кто-то появился у входа в яму-блиндаж, и к раненому с сумкой на животе протиснулся Цветков. Ананьев грозно молчал. Санинструктор его, кажется, не сразу заметил и немного промедлил с докладом:
- Сержант Цветков по вашему приказанию…
- Ты почему бросил раневого? - оборвал его ротный.
- Я перевязал.
- И это все?
- А что еще? Он безнадежный!
Ананьев порывисто шагнул от стены:
- Я тебе вот как двину! По твоей идиотской голове! Тогда узнаешь, кто безнадежный! Понял?
Цветков обиделся:
- Что я, слепой? У него три проникающих в брюшную полость. Да еще в грудь навылет…
- Молчать! - сдавленным голосом крикнул командир роты. - Чтоб мне ни слова! Он должен жить!
- Будто я против. Пусть живет! Только… Вот смотрите!
Цветков ступил к раненому, развернул полы его шинели. Потом что-то пощупал там, насторожился, схватил Кривошеева за руку и, будто не обнаружив того, что искал, припал ухом к накрест перебинтованной груди.
- Ну вот! Я же говорил…
- Не может быть! - сказал Гриневич, выходя из траншеи. - Минуту, как разговаривал…
- Все. Готов! - уверенно объявил Цветков и с сознанием своей правоты отступил к выходу.
Ананьев вскипел:
- Обрадовался: готов! Я без тебя, дурака, видел: будет готов А вот он не должен был знать. Понял? Он должен на нас надеяться, что позаботимся. Он же человек, а не собака.
Гуменюк тем временем, видимо, не веря санинструктору, кинулся к Кривошееву. Стоя на коленях, он минуту тормошил его, потом вдруг урони руки и заплакал.
Цветков угрюмо молчал, наверно не чуя за собой вины. Ананьев засунул руки в карманы и также умолк. Ссора вдруг потеряла свой смысл Каким-то образом я ощутил свою почти родственную близость к покойнику, и на душе стало тоскливо. К тому же на холоде пуще прежнего разболелось плечо и вся рука до самых ногтей. Надо было уходить, но я в унылом, тупом одеревенении продолжал тихо стоять над Кривошеевым.
- Ладно, - отходя от гнева, сказал Ананьев. - Пусть полежит до утра. Придет подвода - отвезем, похороним.
Он вышел из блиндажа и пошел в тыл. За ним пошли Гриневич, Зайцев и немного погодя Цветков. Мне ротный ничего не сказал, и я, сам не зная зачем, остался тут с Гуменюком и притихшим Пилипенко.
Мало мне было раны, так еще этот Ананьев – я к нему шел, разыскивал его, а тут на тебе - новый ординарец! И командир ни слова не сказал мне. Будто я никогда не пришивал ему подворотничков, не бегал за обедом, не пропадал с ним всю зиму в боях...
А впрочем, может, и я не прав. У него ведь люди, боевая задача, а теперь еще и забота, как удержать высоту. К тому же ему постоянно нужен человек, чтобы бегать, вызывать командиров - без ординарца тут не обойтись. В общем, я понимал ротного, хотя от этого не становилось легче.
Но что делать здесь? Сидеть в этой яме рядом с Кривошеевым и мерзнуть? Уходить ночью из роты не имело смысла, можно было запросто угодить в руки к немцам, да и не было сил тащиться по такой хляби добрых двадцать километров до медсанбата. Значит, надо было искать какое-нибудь пристанище до утра. Плохо, что кроме командирского блиндажа, немцы, кажется, ничего тут не оборудовали, возвращаться же в блиндаж мне не хотелось - пусть там теперь хозяйничает Зайцев. Придется, видимо, идти во второй взвод к Ванину - он меня примет.
- Где второй взвод? - спросил я у Пилипенко.
Тот махнул рукой.
- Дальшэ.
Не спеша я пошел по траншее. Старшина почему-то поволокся следом за мной. Вскоре мы набрели на какой-то траншейный отросточек-тупичок, в котором на светловатом небесном фоне одиноко торчала голова в каске. Тупичок этот, кажется, наиболее выдавался в поле - возможно, это был недокопанный ход сообщения в немецкий тыл. Пилипенко окликнул:
- Чумак, цэ ты?
- Ага, я, товарищ старшина.
- Ну што чуваты?
Мы подошли ближе, Чумак почтительно отступил перед командиром взвода. На бруствере стоял немецкий МГ с заложенной в приемник лентой. Услышав нас, на дне траншеи зашевелился еще кто-то, наверно пулеметчик. Когда он поднялся, то оказалось, что это Шнейдер. Узнав командира взвода, пулеметчик толково, без излишней торопливости объяснил:
- Сначала стреляли. Вон из-за того бугорка. Овражек там или кочка какая - черт ее знает. Бил пулемет. Потом перестал. Человек пять перебежали краем и скрылись. Теперь тихо.
Пилипенко, подумав, сказал:
- Ни черта. Воны не дурни в рови сыдеть. Драпанулы на станцию. Завтра пиднапруть, конэшно.
- Завтра дадут прикурить, - согласился Шнейдер.
- Може завтра, а може, и сегодня. - добавил Пилипенко. - Не здумайтэ спаты. Гранаты хоть е?
Шнейдер ощупал карманы.
- Есть одна.
- А у тэбэ, Чумак?
- Да нету.
- Хибы вы уси побрасалы?
- Ну да! - сказал Шнейдер. - Где это он их побросал? Только в траншее взвод нагнал.
Чумак молчаливо и неловко переминался с ноги на ногу.
Пилипенко впился в него настырным, придирчивым взглядом. Вид у Чумака был такой виновато-несчастный, что я не выдержал и достал из кармана последнюю свою «лимонку», которая мне вряд ли уже могла пригодиться.
- Вот возьмите.
Чумак молча и, как мне показалось, не очень решительно взял гранату, с заметной опаской опустил ее в глубокий карман шинели.
- Сколько вам лет? - спросил я.
- Мне? А пятьдесят.
- Ого! Как же вас мобилизовали?
- Брэша вин! Яких пятьдесят? - сказал Пилипенко. - Мини сорок шисть, так вин старийший?
- Ей-бо, не брешу! - скоренько заговорил Чумак. - Чтоб мне так жить - пятьдесят! А брали меня в нестроевые. Вот как!
- Так ужэ и в нестроеви?
- Ей-богу, правду говорю. Значит, так. Сначала я в транспортной роте был. Ну, старшина строгий попался, придираться начал. Перевели в комендантский. А из комендантского, как под Дроздами неуправка вышла, то к вам направили. Кто уцелел, потом назад разобрали. А меня вроде забыли, что ли.
Это я знал. Только не забыли его, а просто оставили, потому что взамен взяли лучшего. Из нашей же роты переводить было уже некуда.
- Ну что ж, - сказал я. - Счастливо вам. Только не отставайте больше.
- А уж не буду, - пообещал Чумак и шагнул ко мне ближе. - Слушай, это самое. Тебя ранило?
- Как видите. В плечо, - сказал я почти беззаботно. - Так что Цветков был прав.
Чумак на это не ответил, только уныло сгорбился и, как мне показалось, с сожалением поглядел на меня. Впрочем, возможно, с завистью, впотьмах не разобрать - как.
7
У Ванина вовсю шла работа - взвод окапывался. Немцы на этом скате высоты поработали мало - траншея получилась мелкая, по колено, и теперь ванинцы, не обращая внимания на ночь и слякоть, ковыряли ее всем взводом.
Командир тоже копал - раздетый, в одной гимнастерке, он с какой-то запальчивой остервенелостью размашисто кидал лопатой, пока кивая в такт каждому броску. Тут же, в траншее, отдыхая, стоял его помкомвзвода молчаливый сержант Закиров. Я остановился рядом.
- Что, Васюков? - сказал Ванин. - Помогать пришел?
Ясно, помощник из меня был никудышный, и потому этот вопрос несколько меня смутил.
- Глубже копаешь - дольше живешь, - помолчав, сказал Ванин.
- Не повезло вам. У Пилипенко так готовая траншея.
- А он всегда на готовое. Такой жмот, ого! - Ванин опустил лопату. - Если разобраться, так это же его участок. На правом фланге его же взвод шел. А как только в траншею вскочил, так и засел. А мы немцев еще вон куда гнали!
- С вами командир роты был.
- Вот именно. А с Пилипенкой - Гриневич. Тем все сказано. - Ванин выпрямился. - Вот угрелся! На, Закиров, копай.
Помкомвзвода взял лопату, а Ванин вскочил на бруствер и, вглядываясь в серый ветреный сумрак, натянул на плечи фуфайку.
- А ты чего это в тыл не идешь? Ананьев же себе Зайцева взял.
- Ну и пусть, - сказал я.
Разговаривать с ним об этом мне не хотелось. Я думал, что Ванин станет уговаривать идти лечиться, а он вдруг сказал:
- А вообще правильно. Пойдешь - вряд ли вернешься. А тебя на медаль послали.
Застегнув ремни. Ванин опустился на бруствер.
- Они там не смотрят, из какой части, а посылают, куда понадобятся. Я вот тоже до этой дивизии в гвардейской служил. В разведке. А из госпиталя отдел кадров сунул сюда. Сколько ни доказывал - куда там! И слушать не хотят. Дивизия на формировке, командиров недокомплект, кадры нужны. Так что старайся дальше санбата не ехать.
- Как постараешься?
Не ответив, Ванин бросил настороженный взгляд по траншее.
- Опять там перекур? Вот сачок! Ну, я ему дам!
Стремительно вскочив, он быстро пошел по брустверу.
Я подождал немного, думая, что Ванин скоро вернется, но он не возвращался. Тогда я потихоньку пошел вдоль траншеи и неподалеку опять встретил его. Младший лейтенант торопливо шагал навстречу и, не дойдя до помкомвзвода, крикнул:
- Закиров, ты где Лукина поставил?
- В своем отделении был.
- Был, да весь вышел. Нет его там...
Занятый своими заботами, Ванин будто и не заметил меня - на ходу повернулся и быстро пошел назад. Я остановился, не зная, идти за ним или подождать тут.
Двое автоматчиков в траншее молча ковыряли землю лопатами. Один из них негромко сказал:
- Всыплет сейчас Лукину.
- И правильно сделает, - устало дыша, подтвердил второй. - Пусть не сачкует.
Голос последнего показался мне знакомым - это был Горькавый, единственный боец в роте, воевавший в ней едва ли не из-под самой Москвы.
- Что, здорово гоняет? - спросил я, подойдя к черной щели траншеи, из которой торчали их головы.
Оба, на секунду замерев, вгляделись в меня, потом Горькавый схазал:
- Гоняет, потому как заботится. Не то что другой - лишь бы кричать. А наш и смел и умел, на что ни возьми.
- Как он тогда часового сиял! Ого! И не пикнул, - добавил второй.
На ветру было мучительно холодно, я присел на бровку траншеи, натянул воротник, неизвестно чего ожидая. Правое ухо то вроде отходило от глухоты, то его опять закладывало тугой пробкой, раненая рука просто отнималась от боли.
- Ванин хотя и младший лейтенант, а смелее которых капитанов, - нажимая на лопату, с усилием говорил боец. - Точно!
- Не в званиях смелость, - заметил Горькавый.
- А сметкой, наверно, не уступит и командиру полка.
- Это Сыромятникову? Ну, тот дурак.
- Бросьте! - сказал я. - Чтобы так говорить, надо знать.
Горькавый далеко за бруствер швырнул землю с лопаты.
- Хе, знать! Я у него в батальоне полгода проползал. Он ведь до полка батальоном командовал. Строгий - да. Боялись, это верно. Но - дурак.
- Откуда это видно?
- Солдату все видно.
- Ну, уж так и все?
- Даже лучше, чем кому другому. Потому как он все это кровью своей узнает: какой командир умный, а какой дурак.
Горькавый отдышался немного и опять взялся за свою лопату. А его напарник добавил:
- А у нас и комроты ничего себе. Шебутной, конечно, но неплохой мужик. Воевать может.
- Толковый, - подтвердил Горькавый. - Да не слишком смелый. Не с немцами, в бою - он орел! С начальством.
- Ну, это уж чепуха, - сказал я и встал, враз потеряв всякое желание слушать этого умника. Во всяком случае Ананьева я знал лучше, чем он.
- Пускай себе чепуха, - сказал Горькавый, - а на Гриневича уж очень оглядывается. Тот не смотри, что тихоня. Как бывает жинка: тихонькая, а мужика под каблучком держит.
- Никого он не держит, - сказал я.
- А ты вот присмотрись. Присмотрись тогда.
Странный человек этот Горькавый. Я был уверен, что он ошибается, но говорил он с такой убежденностью, что помимо воли в моей памяти начали всплывать некоторые случаи, которым раньше я не придавал особого значения. И как ни удивительно, а получалось, что и на самом деле Ананьев иногда ждал, что скажет Гриневич. Хотя, может быть, так и надо было, и они просто советовались для пользы дела.
Я вглядывался в неясную, едва различимую в траншейном мраке фигуру Горькавого с шапкой-растопыркой на голове, испытывая уважение, что ли, к этому немолодому, обычно мало заметному бойцу. Провоевав с ним в роте полгода, мы ни разу до сих пор не удосужились поговорить, а вот, оказывается, он о многом имел свое особое и даже неожиданное мнение. И вместе с тем эта его умная наблюдательность как-то невольно настораживала, неизвестно почему, но даже немного настраивала не в пользу Горькавого.
Я уже решил остаться здесь до утра - хоть и на холоде, а все же веселей будет скоротать ночь. Но только я подумал об этом, как из сумерек показался Ванин. Он был не один и, завидя меня, сказал тому, кто шел следом:
- Вон Васюков.
Я поднялся с бруствера.
- Тут тебя Зайцев разыскивает.
Что-то тревожно-радостное шевельнулось в груди и замерло.
- Командир роты зовет, - сказал, подходя, Зайцев. - Ужинать.
Минуту я колебался, чувствуя, как что-то во мне удивительно и почти осязаемо меняется и отношении к Ананьеву, Ванину и даже к Горькавому.
Действительно, было чего обижаться! Ведь командир роты мне ничего плохого не сделал, просто у него полно своих забот, разве это не ясно было с самого начала? А как только посвободнело - вспомнил и послал Зайцева искать меня, дурака, ночью по траншее.
- Давай, - поторопил Ванин. - А мне некогда. Окопаемся, потом забегу.
8
В блиндаже было людно и накурено, затхло воняло мокрыми шинелями, земляной сыростью и взрывчаткой.
Обычно где бы Ананьев ни был в течение дня, но вечером, придя в свою землянку-капе, собирал командиров взводов, старшину, принимал их доклады, давал указания, потом все вместе ужинали. Ужин не бог весть какой: гуляш с концентратом, сухари, банка свиной тушенки. Иногда перепадало что-нибудь из трофеев, если в наступлении, ну и, конечно, наркомовские сто граммов.
Теперь наркомовских вроде не предвиделось - не было старшины, но на ящике, что пристроили посредине блиндажа, блестела желтая немецкая банка с отогнутой крышкой, в которой был мармелад. Ананьев в расстегнутой шинели, с папиросой в зубах отвинчивал знакомую, обшитую сукном флягу. Тут же сидели унылый, с обиженным видом Цветков, всегда серьезный Гриневич. Зайцев, как только вошли, достал из-за пазухи полбуханки хлеба, наверно раздобытого где-то во взводе, и принялся ее разрезать. За ним возле стены сидело двое раненых, и дальше, в темном углу, уронив светловолосую голову, застыл немец.
- Кто это? Васюков? А где Ванин? - спросил командир роты, вглядываясь в направлении входа.
- Там, во взводе, - сказал Зайцев.
- Почему не пришел? Ты сказал, что я зову высоту замочить?
- Не идет. Говорит: не пью.
- Ну и дурак! - объявил ротный. - Пусть не пьет. Нам больше останется.
Он свинтил с фляги крышку, взял с ящика алюминиевую кружку.
- Садись, Васюков. Поужинаем на прощание. Завтра уже будешь в медсанбате питаться. Как рука?
- Болит.
- Правильно, должна болеть. Мне когда предплечье перебило - полмесяца болело, собака.
- Помнится, говорил бедро, - вдруг усмехнулся Гриневич. - А теперь - предплечье.
Командир роты опустил кружку и уставился на своего заместителя.
- Что - бедро? Бедро - это уже в пятый раз! А то прошлым летом. В руку. Не веришь - на, посмотри.
Он решительно сдвинул на правой руке манжет, обнажая на белой коже синий продольный шрам.
- Да я шучу, - примирительно сказал Гриневич.
Ананьев молча плеснул в кружку.
- Держи, Васюков! Выпьешь - враз полегчает. Знаешь, когда меня под Нелидовом трахнуло, водкой только и спасался. А то бы окочурился от боли да голода.
Я взял кружку, там было немного, и я проглотил все за раз. Потом торопливо закусил хлебом с кусочком студенистого, вязкого мармелада.
- Теперь по старшинству, - распоряжался Ананьев, опять наливая в кружку. - Пью я. Чтобы ты там скорее, это самое... Да в роту. А пока Зайцев побегает. Так - за поправку! - кивнул он в мою сторону и с ходу вылил в рот все, что было в кружке. И даже ничуть не поморщился, только удовлетворенно крякнул и налил снова.
- Хорошо! Теперь очередь комиссара. Иль ты не будешь?
- Нет, не буду, - без сожаления сказал Гриневич.
- Вот другой дурак! А, знаю: ты пожрать метишь? Только не выйдет. Не пьешь - мармелада не получишь. Понял?
- Что ж... Потерпим.
- Вот-вот: терпи. Бог терпел и нам, дуракам, велел. Так, ты чего стоишь, Васюков? Иди сюда, посидим вместе.
Он подвинулся немного, я ступил в темноту меж сапог и здоровым плечом втиснулся между ним и Цветковым. Не знаю, может, оттого, что я выпил, но мне вдруг показалось, что Ананьев вроде переменился ко мне, стал такой товарищеский, приветливый, каким, наверно, никогда еще не был раньше. Может, потому, что атака удалась, промелькнуло в моей хмельной голове. А может, из-за ранения, которое в одну минуту превратило меня из подчиненного в просто товарища по минувшим боям, и только.
- А ловко мы их турнули, да? - спросил Ананьев, повернув ко мне грубоватое, щетинистое, улыбающееся лицо. Секунду спустя, однако, лицо его вдруг помрачнело:
- Жаль Кривошеева... Хороший солдат был... Ну так что? - Через голову Зайцева он глянул на обычно молчаливого при начальстве старшину Пилипенко. - Выпить чарку не забудь, на том свете не дадут. Давай, старшина, твоя очередь!
Пилипенко молча взял кружку и сразу же потянулся к самому большому куску на ящике. Ананьев встряхнул флягу.
- Еще есть. Цветкову не дам - не заслужил. Фриц тоже облизнется. Это для Ванина. Ванин молодец!
В траншее загремела палатка. Гриневич, сидевший напротив входа, сказал:
- Кажется, легок на помине.
Однако вместо Ванина в блиндаж сунулся длинный, нескладный Шнейдер.
- Товарищ старший лей...
- Шнейдер, - перебил его Ананьев. - Ну-ка вот этого цуцика допроси.
Обросший черной щетиной Шнейдер, чтобы не сгибать головы, снял с плеча автомат и опустился на колени у входа. Ананьев сгреб откуда-то с пола пачку бумаг пленного, сверху которой была солдатская книжка, и протянул все Шнейдеру.
- Вот посмотри сперва, из какой он части, фрицок этот.
Шнейдер взял документы, не обнаруживая особого интереса к их бывшему обладателю. Тот, однако, видно, почувствовал, что разговор начался о нем, и повернул в сторону свое насупленное лицо. Достав из кармана обтрепанный немецко-русский военный разговорник, Шнейдер быстро отыскал нужный раздел.
- Ви ист ир намэ унд диенстград?
Будто немного удивившись, услышав родной язык, пленный словно боднул головой, взглянул на Шнейдера и опять весь ушел в себя. Теперь он был почему-то в одном френче с тремя знаками в петлицах. На груди его поблескивало с полдюжины различных значков и медалей - ромбик «Гитлерюгенда», эмблема стального шлема, медаль за зимовку в России. Были и неизвестные мне, в том числе какая-то продолговатая эмблема-нашивка с изображением тесака и гранаты, скрещенных посередине дубовых листьев.
- Ви ист ир нам унд диенстград? - настойчивей повторяя Шнейдер.
Ананьев сомкнул над переносьем русые брови, с интересом наблюдая за немцем. Все ожидали его подробного ответа, как вдруг пленный рявкнул:
- Вэк, юдэ!
Это мы поняли и без переводчика. Гриневич начал подниматься на ноги. Пилипенко выругался. Шнейдер вдруг сделал ошеломляющий выпад, и прежде чем мы успели что-либо понять, голова немца резко откинулась назад, глухо стукнувшись о земляную стену. Ананьев с неожиданной и не очень натуральной веселостью захохотал.
- Отставить! - на весь блиндаж закричал Гриневич. - Вы что?
- А что он! - в ответ крикнул Шнейдер и замолчал.
От волнения он ничего больше не мог сказать и опустился на пол. Ананьев, уже не смеясь, с фальшивым оживлением повторял:
- Здорово! Молодец. Шнейдер! Ты не боксером был?
- Я слесарем был! - со сдержанной яростью сказал Шнейдер, не сводя глаз с немца.
Немец затаился под стеной, лицо его почти не просматривалось в тени, но во всему чувствовалось, как он тревожно напрягся там, украдкой следя за переводчиком. Светлые волосы его распались надвое и свисали на уши. Гриневич с осуждением, которое непонятно к кому относилось, поочередно переводил взгляд с переводчика на командира роты и немца.
- Вы что - чепе захотели? Есть же приказ по армии насчет пленных.
- Приказ! У нас одын приказ. А у них другы приказ: бый, давы! - быстро заговорил Пилипенко. - Я б ему шэ не так вризав.
Гриневич строго посмотрел на старшину и начал усаживаться на свое место. Ананьев кисло поморщился.
- Ладно, черт с ним! - сказал он. - Загляни-ка в книжку, какая часть?
Дрожащими еще руками Шнейдер раскрыл солдатскую книжку пленного и, несколько успокоившись, объявил:
- Триста двадцать четвертый отдельный саперный батальон. Третья рота. Командир взвода обер-фельдфебель Фердинанд Гросс. Дальше тут прохождение службы. Награды. Группа крови. Адрес семьи: Дюссельдорф...
- Начхать на адрес, писать не будем. Спроси лучше, какое подразделение обороняло высоту?
Шнейдер полистал разговорник.
- Вас фюр... Вас фюр айн абтэйлюнг?
Немец повел на бойца затравленным волчьим взглядом и опустил голову.
- Может, не понимает? - спросил Ананьев. - Смотрю, из тебя переводчик, как из меня гармонист.
- Зрозумие - чакайтэ! Кулак вин кращэ розумие! - сказал Пилипенко.
Ананьев кивнул Шнейдеру:
- А ну еще!
Шнейдер спросил еще, да напрасно: немец демонстративно не замечал переводчика, будто его и не было тут. Он не хотел отвечать - это стало очевидно, и тогда молчаливо и угрожающе поднялся со своего места Ананьев. Большой, в измятой шинели, командир роты переступил через чьи-то ноги и грязным сапогом сильно пнул немца.
- Ты, цуцик! - произнес он таким тоном, что все в блиндаже притихли. - Если ты будешь в молчанку играть, я из тебя враз шашлык сделаю! Не посмотрю и на приказы! Понял?
Выражение лица Ананьева стало почти свирепым, и для меня не было никакого сомнения, что он свою угрозу исполнит. Немец по-прежнему горбился под стеной, и старший лейтенант окинул его угрожающим взглядом. Затем взгляд его упал на кружку с водкой, которая стояла на ящике. Схватив ее, Ананьев повернулся к немцу:
- Пей, сволочь!
Немец понял, на мгновение притих, будто колеблясь, но вдруг подался вперед и взял кружку. Он выпил водку с торопливой решимостью обреченного и протянул кружку ротному:
- Нох!
- Что?
- Нох!
- Шнейдер! - крикнул командир роты. Переводчик начал торопливо листать свой разговорник, но, кажется, не находил там того, что искал.
- Вроде еще просит.
- Еще? А, сукин сын! Цветков, дай фляжку!
Ананьев вылил в кружку все, что оставалось во фляге, немец, как и первый раз, с жадной решимостью выпил до дна и вяло швырнул под ноги опустевшую кружку.
- Смотри-ка! Вот это фриц! - крикнул Ананьев. - Ну, теперь ты развяжешь язык. Шнейдер, давай поближе. Спрашивай про высоту.
Шнейдер задал все тот же вопрос, но немец, даже не дослушав его, вдруг опять рявкнул:
- Шиссен!
Что-то напряженно соображая, Ананьев стал хмуриться. Гриневич также с заметной тревогой поглядывал на пленного, который обеими руками рванул на себе мундир:
- Шнссен, рус швайн!
- Гадина! - с ненавистью сказал Шнейдер, который, кажется, первым понял крик немца. - Застрелить требует.
Немец еще несколько раз прокричал «шиссен», раздирая на себе воротник, две пуговицы покатились на землю. Но потом он, видно, понял, что вряд ли чего добьется. Тогда он обмяк, пьяно откинулся к стене, пробормотал несколько непонятных отрывочных фраз. И вдруг сипло, картавя, запел:
Венн ди зольдатен
Дюрх ден штадт марширен,
Офнен ди медхен
Фенстер унд ди тирен!
Все, кто был в блиндаже, с чувством гадливого удивления смотрели на него - такого немца вроде еще не встречали. Попадались испуганные размазни, правоверные гитлеровские фанатики, сдержанно-молчаливые пруссаки, но такого балбеса мы видели впервые.
Командир роты озадаченно молчал. Немец тем временем раскачивал головой, оползал все ниже, голос его сонно гнусавил и вдруг совсем смолк.
Ананьев выругался заковыристым матом.
- Пилипенко, а ну, тряхни его!
Пилипенко, на коленях подавшись к немцу, охотно раз и другой пырнул его в бок. Немец же в ответ только пробормотал что-то и смолк, вяло перекатив голову на другое плечо.
- Эй, Гитлер! Эй! Спыть, падлюка, шчоб ему нэ проснутысь!
- Как ты пыряешь! - вскричал Ананьев. - Тряхни, чтоб душа из него выкатилась!
Пилипенко сгреб немца за грудки и в самом деле тряхнул так, что послышался треск его френча. Но снова никакого результата. Гриневич с любопытством шагнул к пленному и брезгливо всмотрелся в него. Ананьев нагнулся и кулаком поднял подбородок немца. Тот пьяно, бесчувственно спал.
- Ах ты обормотина! Да он же и был пьяный! - сказал старший лейтенант. - А я еще на него водку извел. Гадина! Допросили, называется! Тьфу, дураки набитые!..
9
- Как бобиков, обдурил! - возмущался командир роты. - Теперь жди! До утра ты из него ни черта не вытянешь! Это уж я знаю!
- Мне разрешите идти? - спросил Шнейдер.
Ананьев ответил не сразу: его внимание занимал немец. Шнейдер повторил вопрос.
- Смотрите там. Могут сунуться ночью. Чтоб не проспали.
- Не проспим!
- То-то!
Закинув за плечо автомат, Шнейдер вылез в траншею. Ананьев сел на прежнее место рядом со мной, подобрал длинные ноги.
- Пилипенко, давай толкового хлопца. Донесение отправить.
Старшина молча встал и двинулся к выходу.
В блиндаже наступило молчание.
Фляга Цветкова незавинченной лежала на ящике, хлеба остался небольшой кусок. Командир роты взял его в сразу откусил половину.
- Комиссар, - сказал он, мощно двигая челюстями. - Дай-ка бумажку в карандаш.
Гриневич расстегнул туго набитую полевую сумку, пошарил там, вырвал из какой-то тетради чистую страничку, из кожаного сота достал карандаш и все это протянул Ананьеву.
- Думал, пока пошлю пару сведений о противнике, - сказал Ананьев. - Да вот пошлешь тут! Обормот, а не фельдфебель. Цветков, а ну-ка посвети - ни черта не видно.
Цветков снял с полочки плошку и на коленях услужливо склонился к командиру роты.
Дожевывая хлеб, Ананьев начал писать. Мне не было видно, что он там не очень бойко выводил твердым чернильным карандашом, мое внимание привлек Цветков, который одним глазом косил туда, при этом выражение его освещенного снизу лица как-то странно менялось. Что-то снисходительно-насмешливое появилось в его взгляде, спустя минуту санинструктор грубовато заметил:
- Не донисение, а донесение.
Ананьев недоверчиво на него покосился:
- Ну да? Скажи мне! Может, еще учить будешь?
Цветков, никак не отреагировав на эту реплику, невозмутимо добавил:
- И не занил, а занял. Занял высоту, так правильно.
Ища поддержки, Ананьев в притворном недоумении взглянул на меня, потом на Гриневича. Замполит передернул уголками губ, но смолчал. Обращаясь к нему, старший лейтенант сказал:
- Смотра, он и в самом деле учить меня начинает! Ха! Будто я сам не знаю! Занил - занял. Конечно, занял! - уверенно объявил ротный.
Я с удивлением заглянул в тетрадь. И как раз в этот момент тупо заточенный карандаш Ананьева с нажимом исправлял и на я, что без слов разрешало спор. Наверно, это по достоинству оценил и Цветков, потому что дальше уже молчал. Через пять минут старший лейтенант выпрямился и вслух, слегка любуясь написанным, прочитал:
- Вече 35004. Майору Сыромятникову. Карта - трофейная. Донесение. Занял высоту 117,0. Взял в плен обер-фельдфебеля. Уничтожено около пятнадцати немцев... - Вроде прислушиваясь к чему-то, молча поглядел на Гриневича. - Мало пятнадцать, а?
- Откуда там пятнадцать? - подумав, сказал замполит, - Сколько трупов было? Штук восемь? Так что же ты? По правде надо.
Ананьев нахмурился.
- Да ну тебя! По правде, по правде! Все у тебя по правде! Подумаешь - трупов! А может, они с собой трупы унесли?
Гриневич молчал. Ананьев, несколько поразмыслив, решил:
- Напишу двадцать пять! Нет, двадцать семь, чтоб кругло не было. А то не поверит. Майор Сыромятников - он тоже не промах на эти штучки.
- Вот именно, - сказал Гриневич. - Зачем тогда фантазировать?
Ананьев глубоко, со значением вздохнул.
- Знаешь, комиссар! Хороший ты хлопец. Но есть у тебя один недостаток.
Апатичный Гриневич с неожиданным любопытством повернул лицо к ротному. В его серых глазах шевельнулась усмешка.
- Это какой же?
- Какой? Слишком правильный! Все у тебя правильно-неправильно. А я чхать хотел на это правильно! Мне чтоб лучше! Для роты у чтоб лучше! Понял?
Гриневич, нагнувшись без надобности, подобрал карту из тех, что валялись под ногами.
- Не будет правильно - не будет и лучше, - рассудительно сказал он. - Будет хуже... Ибо, кроме роты, есть еще полк, дивизия, армия. Вот так!
- Знаешь что? Ты это скажи бойцам, а не мне. Я, брат, с сорок первого между пуль хожу. Потому знаю. Если бойцам лучше, так и роте лучше, и полку, и дивизии.
- Ошибаешься, командир.
- Черта с два ошибаюсь.
Гриневич, задумавшись, разорвал пополам трефовую девятку и бросил обрывки под ноги. Командиру роты он не ответил, и я его понимал: вокруг были бойцы, сержанты - его подчиненные. Тактичный замполит не хотел в их присутствии развивать спор.
- Вот напишу сорок семь! - вдруг решил Ананьев. - И будет правильно. Понял? Пусть кто посчитает. Ну, да свети ты! Ни черта не видно.
- Нечем: догорает.
Плошка действительно догорала, остаток ночи предстояло провести в темноте. Ананьев размашисто подписал донесение, огонек в руках у Цветкова превратился в крошечную искорку и погас. Сплошной мрак заполнил блиндаж.
- Так, - проговорил в этой темени командир роты. - Кимарнем на пересменку. Давай, комиссар, начинай первый.
- Да ну! Не очень кимарнешь тут...
Замполит не договорил, но и без того все мы поняли ход его мысли. Люди здорово измотались за это наступление по слякоти, было голодновато, патронов осталось не больше, чем на один непродолжительный бой.
К утру вряд ли подойдут соседние батальоны: второй завяз под Курпятином, третьего что-то вовсе не было слышно в ночи. А где-то рядом притаился противник - кто знает, что у него на уме?
Будто в ответ на это командир роты сказал:
- Посижу чуток и пойду во взвода. А ты, Васюков, давай дави ухо. Привыкай. Теперь у тебя новая должность - ранбольной.
У входа послышались шаги, зашуршала палатка, кто-то невидимый влез в блиндаж и затих, ослепленный темью.
- Кто это? - спросил Ананьев.
- Рядовой Щапа, товарищ старший лейтенант, - совсем рядок раздался знакомый шепелявый голос.
- А, Щапа! Слушай! Тебе важное боевое задание. Рванешь в Бражники с донесением. Знаешь Бражники? Ну, где нас «юнкерса» бомбили. Там разыщешь майора Сыромятникова - вручишь. Понял?
- Понял, товарищ старший лейтенант.
- Километров двенадцать. Знаю, не спал, не ел, не отдыхал. Но - надо. Встретишь старшину - направляй сюда. Скажи: я из него душу вытряхну и новую вставлю.
- Ясно.
- Если ясно, бери документ и - аллюр три креста!
Заворошилась палатка, Щапа вышел. Ананьев вольнее вытянул ноги, откинулся спиной к холодной стене блиндажа.
- Комиссар, не спишь?
- Нет, а что?
- Знаешь, вот думаю: майор, товарищ Сыромятников. Исполняющий обязанности командира полка. Дважды орденоносец и так далее. Вызывает какого ваньку-взводного - у того коленки дрожат. А ты знаешь, год назад мы с ним в третьем батальоне ротами командовали.
- Ну и что? - сонно отозвался в темноте Гриневич. - Что тут такого: война, выдвижение.
- Да, вот именно: выдвижение. Говорят, не узнаешь друга, пока он твоим начальником не заделается. Редко кто останется прежним. А то - будто его подменят. Сначала имя твое забудет, потом на «вы» перейдет. Такая это противная штука - выковка! Терпеть не могу. Ну, если уж начальство, старший кто - оно понятно. А то я старший лейтенант, и он старший лейтенант, мне двадцать восемь и ему столько же. И один другого на «вы».
- Ты это о ком? О Кузнецове?
- А хотя бы! Стал командиром батальона, и уже он меня на «вы». Сыромятников, правда, не таков. В общем, он неплохой мужик. Как-то перед наступлением в штабе вечерком встретились - по чарке сорганизовали. А как же, все-таки дружки старые. То-то!
В блиндаже стало темно и тихо, послышались чьи-то шаги в траншее. Где-то рядом долбили лопатой землю - за стеной глухо отдавались ее размеренные удары. Гриневич вяло поддерживал разговор, наверно дремал. В углу напротив громко сопел немец.
Ананьев впотьмах свернул цигарку и прикурил от зажигалки.
- Прошлым летом на Волховском поиск разведчиков обеспечивали, - помолчав, сказал он. - Вот где был сабантуй! Фрицы в обороне -- колючая проволока в четыре кола, комбинированное минное поле, дзоты - возьми их! А нужен «язык». Зачем нужен? Чтобы начальству знать, сидит от болота до леса сороковой гренадерский или какой другой полк. Вот и поиск разведчиков. Группа из разведроты ползет за «языком», батальон обеспечивает, отвлекает, завязывает бой и так далее. Ну и отвлекали. От роты Сыромятникова двенадцать человек осталось, у меня семнадцать. Сползлись мы с ним в воронке, головы вжали, а фриц лупит, места живого нету. Говорю ему: на какого хрена мы тут людей кладем?
«Языка» берем, отвечает, чтоб номер немецкой части установить. Ну, в ту ночь повезло: приводят «языка». Да разведчиков тоже половина под проволокой осталась. Ведут в блиндаж и первым делом за солдатскую книжку: какая часть? Оказывается, все тот же сороковой гренадерский. Чтоб ты пропал, говорю, и давай ругаться. Сыромятников молчит, только зубами скрежещет: за три ночи всех его командиров взводов положили.
- Что ж, бывает, - сонно отозвался из угла Гриневич. - На войне все бывает.
- Бывает! А то я не знаю - бывает! Не в том дело! Вон под Марьяновкой опять то же: вызывает начальник штаба, приказывает подготовить группы для захвата «языка». Есть данные, что у немцев сменилась часть. И черт с ней, говорю, пусть меняется. Экая важность, какой ее номер, все равно драться будет, в плен не пойдет. Начальник штаба как напустился: нелепые разговоры! Приказ не обсуждается - приказ исполняется. Будто я сам не знаю. Но стою, молчу. И Сыромятников этот, заместителем тогда уже стал, тоже тут и молчит. Я смотрю на него, он - на меня, думаю: вспомнит или нет? Черта с два! Будто и не было ничего. Будто и не скрипел зубами в той воронке, как шестиствольные играли. Вот как перестроился! Потому что самому уже не надо из траншеи вылезать - других посылает. В том-то все и дело.
Гриневич молчал.
- Никогда не забуду подполковника Бобранова, - вспоминал Ананьев. - Таких командиров уже мало - повывелись. Под Невелем это было, в сорок первом. Я тогда еще старшиной ходил. Дрались, помню, двое суток, в батальоне ни одного среднего командира не осталось, бойцов - горстка. Ну, я за комбата. Семь атак отбили, а на восьмой не удержались. Танками, сволочь, сбил с бугра - гранаты все вышли, артиллерия кверху колесами. Под вечер драпанули за речку, бредем, как чокнутые, ни черта не слышим, не соображаем - одурели от усталости. И тут откуда ни возьмись из леска командир корпуса, еще какое-то начальство и наш командир полка подполковник Бобранов. Комкор выхватывает пистолет: стой! Так вашу растак - расстреляю, под трибунал отдам! И к Бобранову, давай его с грязью мешать. Накричался, в «эмку» - здоровеньки булы. Думаю, теперь от командира полка еще будет. А наш Бобранов, как только комкор скрылся в лесу, спокойно так подходит ко мне. Дай, говорит, твою руку, герой! Молодцы, стойко держались. От лица службы тебе благодарность. И еще - чем бы тебя наградить? Вынимает из кармана часы, отстегивает цепочку и вручает мне. Знаешь, не выдержал я, заплакал, ей-богу!
- А где он теперь, Бобранов этот? - спросил я.
- Месяца два командиром дивизии был. Не нашей, правда, соседней. А потом я в госпиталь загремел, а вернулся, в армии его уже не было. Говорили, будто тоже по ранению выбыл. А часики те у меня, как был без сознания, санитары, сволочи, уволокли. Не сберег - всю жизнь жалеть буду. Они мне дороже ордена были.
Ананьев докурил и каблуком сапога затоптал окурок.
- Ну, хватит болтать. Пойду пройдусь, - сказал он и, толкнув меня, встал. - Вы тут хотя не все спите. Не курорт вам.
Мы не спали - мы сидели и прислушивались. Слышно было, как он вылез и прошлепал по грязи к траншее. Как только его шаги затихли вдали, Цветков потянулся руками к ящику, зазвякал там чем-то, наверно искал свою флягу.
Стало тихо и скучно.
Кое-как притерпевшись к боли в плече, я, кажется, начал дремать. Ощущения реального путались, размытая явь перемежалась случайными видениями прошлого, обрывками каких-то фраз, мыслей.
Снаружи в траншее кто-то все еще долбил ячейку, «тук-тук» - раздавалось за моей спиной, и постепенно в полудреме я начал воспринимать этот звук, как знакомый полузабытый стук топора в детстве.
Тем летом мы строили новую хату, вернее, строил ее отец. Стоит закрыть глаза, как явственно видишь его худощавую, в неподпоясанной рубахе, полусогнутую фигуру на срубе, корявые большие ступни, упертые в смолистые бока бревен - отец зарубает углы. Целое лето под это «тук-тук» отцовского топора я засыпал вечером и просыпался утром на зорьке. Позже, когда приходило время завтрака и мама ласково-тихим голосом будила нас, ребятню, в клуне, стука уже не было слышно, потому что не было отца - в это время он давно уже зарабатывал трудодни в поле. Я не знал, когда отец спит, не видел его хотя бы минуту в праздности, он и курил на срубе, не выпуская из рук топора, ел стоя, накоротке, спешил, не ходил - всегда бегал, сгружал, нагружал камни, сам поднимал тяжелые бревна, пилил, бесконечно тесал.
И так все лето - без выходных и праздничных, в жару и ненастье - раненько по утрам, в полдень, до глухой темноты вечером. За жадность к работе отца даже прозвали тогда Двужильным. Но он не был двужильным - я видел, как отец уставал, и как ему было трудно: просто нам нужен был дом, новая изба - старая, струхлевшая хатенка уже влезла по самые окна в землю, прогнила, не защищала от ветра, а зимой промерзала по всем четырем углам, мы, ребятишки, часто простуживались, и мама плакала, приговаривая, что эта халупа ее вгонит в гроб.
И вот отец взялся строить избу, заверив мать, что кровь из носу, а зимовать будем в новой, хватит, пожили в старой. Мать кротко улыбалась, тут же гася улыбку вздохом, - она-то знала, во что обходится всем нам эта новая изба. В тот год мы почти перестали видеть молоко (разве что простоквашу к картошке), масло, яйца, творог, остатки парсючка из кубла также ушли на базар да зимой на толоку, когда вывозили из леса бревна. А еще нужны были оконные рамы, доски на пол, кирпич для печки. Помощи нам ниоткуда ждать не приходилось. Но коль отец так сказал, то появлялась уверенность, потому что он у нас был не только двужильный, но и упрямый, прямо-таки одержимый, если хотел чего-либо добиться.
Он будто чувствовал, что ему уже немного осталось, и спешил, стараясь как можно скорей подвести под стропила наш небольшой, смолистый, полный лесных таинственных запахов дом.
До стропил оставался недорубленным один последний венец, когда отца не стало.
Месяц мы непростительно проволынили - было не до строительства, а зима надвигалась в свои извечные сроки, стоял в огороде сруб с воткнутым в углу топором - отец как воткнул его с вечера, так больше уже и не вынул. Мама погоревала, поплакала и однажды, управившись с домашними делами, забралась на сруб да обеими руками с усилием вырвала из щели топор. Было мучительно глядеть, как она тюкала там, и тогда на сруб залез я. У меня вроде получилось сноровистее, хотя, конечно, далеко не так, как у отца, и все же я дорубил не дорубленный им угол. Правда, немного зацепил острой пяткой колено, прорубив брюки.
С тех пор началась моя плотничья страда.
Самым мучительным было вставать на заре. Мать будила меня в три приема, и уже я вместо отца поднимал поутру своим стуком младших сестренок - так каждый день до глубокой осени. Школа меня мало интересовала, учиться в седьмом классе, в общем, было несложно, куда более серьезные дела занимали меня. К вечеру, прибежав с колхозной работы, ко мне на сруб лезла мать, вдвоем мы передвигали бревно, поднять которое с земли помогал кто-нибудь из соседей. Когда же никого поблизости не было, приходилось поднимать вдвоем. Сначала мы клали его концом на изгородь, потом поднимали на середину сруба и в третий прием, став на скамейку, водружали конец бревна наверх. Потом таким же способом поднимали второй конец. Так дорубили и мшили, ставить стропила помог дядька Игнат, крыл соломой мамин родственник из соседней деревни. Остальное доделывали сами с матерью - это было нелегко, вечно не хватало того, другого. К зиме мы все же вошли в свой новый дом, окна в который поставили из старой хатенки, двери тоже. Пола еще не было вовсе, но печку сложил самый лучший в округе печник (с ним расплачивались потом несколько лет), и в первый же вечер, пригревшись возле ее сырого еще, пахнущего глиной бока, мама, всплакнув, сказала:
- Как-нибудь будем жить, детки.
Детство мое в то лето и кончилось - началась работа, а работящее нашей семьи вообще не было в деревне. Без отца надеяться было не на кого, кусок хлеба надо было заработать самим. В первый же год мама выгнала 430 трудодней в колхозе, я 210, Ленка и та 60. Одна лишь Наталка оставалась дома, но в ее обязанностях были корова, куры, трава, прополка грядок. Все у нас имели свои дела и свои обязанности, и хотя приходилось трудно, порой голодновато и холодно, казалось, что, в общем, вполне терпимо. Ведь до войны было еще целых три года.
10
Часов у меня не было, мы не следили за временем, которого, однако, прошло немало. Я уже несколько раз начинал дремать, но прохватывался всякий раз, как только кто-нибудь заходил в блиндаж или выходил из него. Ананьев все не возвращался, и Гриневич, кажется, тоже придремнул. В блиндаже было совсем тихо, слышались все звуки извне: приглушенный кашель, редкие слова, временами кто-то прохаживался сюда-туда по траншее. Ни одно движение там не оставалось вне нашего внимания - слух даже и во сне был чуток ко всему наверху, чтобы по первому же признаку заметить тревогу.
Однако ночь вроде кончалась.
Правда, меня несколько беспокоило, почему так долго не возвращался командир роты. Что ему было делать там, если все так спокойно! Взводы окопались, и бойцы в отделениях тоже по очереди отдыхают, с цигаркой и притопом коротая непогожую ночь. Блиндаж при такой погоде - роскошь, но всем невозможно в блиндаж, к тому же он тут, кажется, один.
Наверно, я все-таки уснул и проснулся от каких-то встревоженных, не совсем понятных голосов. Подняв голову, вслушался - по траншее кто-то бежал, кого-то окликнул поблизости и стих. Но тут же на входе зашуршала палатка, человек, пригнувшись, заглянул в блиндаж:
- Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант Гриневич!
Сонный Гриневич, наверно, чего-то не понял и отозвался не сразу.
- Товарищ лейтенант...
- Я. Что такое?
- Товарищ лейтенант! - запыхавшись, говорил боец. - Командир роты зовет.
- А что случилось?
Боец помедлил, переводя дыхание.
- Да там... Немцы шурудят.
Гриневич быстро поднялся и, споткнувшись о чьи-то ноги, вышел из блиндажа.
Сонливость моя мигом испарилась. Рядом в темноте задвигался Цветков, напротив, у стены, насторожились раневые. Я понял, что будет пыткой сидеть гут в неизвестности, и тоже встал, натянул на плечо шинель и вылез в транше».
Снегу за ночь прибавилось, им были густо запорошены бруствер и дно траншеи, на котором проступили темные пятна грязи. Вокруг посветлело, стало дальше просматриваться поле, кустарник, бурьян на взмежке. Над тускло-серым пространством висело сумрачное, без единой звездочки небо.
Бойцы из взвода Пилипенко, стоя в траншее, глядели куда-то в сторону. Двое грелись: устало сопя, сосредоточенно толкали друг друга плечами. Они дали пройти мне и тоже стали, вглядываясь в сумерки.
Командир роты был на середине траншеи, как раз в месте стыка позиций двух взводов. Тут же стояли Гриневич, Пилипенко, несколько бойцов и Ванин. У ног младшего лейтенанта вертелась Пулька.
- Да не там. Левее бери. Видишь кустики, вот возле них, - показывал командир роты Гриневичу. Гриневич, пристально вглядевшись, пожал плечами:
- Ничего не вижу.
- А ты всмотрись. Не слепой же, наверно?
К ним степенно повернулся Пилипенко, который был теперь без палатки, в шинели с зябко наставленным воротником.
- Мы тэж сперва нэ бачылы. А прыдывылися - хтось ворушится. Всим нэ можа здатыся.
Ананьев оглянулся, увидел меня и, нисколько не удивившись моему тут появлению, ухватился за рукав:
- Ну-ка, глянь, Васюков. У тебя глаз-ватерпас!
Сказано это было опять дружески, будто равному. Я тщательно всмотрелся в серые сумерки, в которых слабо угадывалось вдали что-то наподобие кустарника или, может, пригорок. Но решительно ничего, что бы обнаруживало там присутствие живого, не заметил.
- Ну, видишь!
- Нет.
Ананьев нахмурился, помолчал и бросил Пилипенко:
- Тащи пулемет!
Пилипенко молча пошел по траншее и вскоре принес откуда-то РПД с примкнутым магазином. Командир роты сноровисто укрепил пулемет на бруствере.
- А ну, понаблюдайте.
Очередь обвальным грохотом разорвала ночную тишь, красноватые отблески от ствола лихорадочно затрепетали на бруствере, в траншею сыпануло горстью горячих вонючих гильз. Выждав, пока вдали смолкнет эхо, Ананьев отнял от плеча приклад и выпрямился.
- Ну что?
- А нычого, - сказал Пилипенко, - Ни гу-гу.
- Гадство! - подумав, выругался командир роты.
Ему никто не ответил. Все стояли молча, не зная, как разгадать эту тревожную загадку ночи. Тогда от бруствера повернулся Ванин, который до этого тихо стоял возле комроты в своей коротенькой волглой фуфайке.
- Дайте я схожу, - сказал он просто, будто речь шла о какой-то мелочи. - Если что – пулеметом...
- Давай! - вдруг обрадованно сказал комроты. Гриневич возразил:
- Одни? Не положено. Вдвоем надо.
Ванин оглянулся:
- Пласкунов, айда!
Низкорослый и кривоногий автоматчик Пласкунов, от холода подрагивавший сзади в неподпоясанной шинели, нерешительно переступил с ноги на ногу. В одной руке он держал жестяную коробку с дисками от РПД.
- Так я это...
- Що ты? - зло гаркнул на него Пилипенко.
- Так это... Пулемет.
- Нэ втэчэ твий кулэмэт. Бэри автомат и дуй.
Ванин между тем достал из кармана гранату, точным движением вставил запал и планкой нацепил ее на ремень у пряжки.
Пласкунов все еще мялся. Вся его тщедушная фигура была воплощением тоскливой нерешительности. С трудом превозмогая ее, он снял с плеча автомат, поправил шапку и, когда Ванин, опершись коленом о край бруствера, вылез наверх, тоже начал выбираться из траншеи.
Ванин, однако, вспомнив что-то, шагнул к командиру роты:
- Подержите пока, а то...
- Нэ вэртайтесь! - крикнул Пилипенко.
Скинув через голову планшетку, младший лейтенант подал ее Ананьеву и торопливо сбежал с бруствера.
- Вэрнувся! От дурэнь, - ворчал Пилипенко.
Кто-то недоуменно спросил:
- А что, если вернулся?
- Що, що! Нэ знаешь що?
Пулька жалостливо заскулила, забегала, стараясь выскочить из траншей. Пилипенко пнул ее сапогом: «Холера, тэбэ щэ нэ хапало!» - боец в бушлате попытался поймать собачонку, но та, взвизгнув, прошмыгнула между ног, норовя все вспрыгнуть на бруствер. Гриневич негромко прикрикнул:
- Что за псарня еще? Кочемасов!
- Я.
- Пристрелите собаку!
- Ну что вы, товарищ лейтенант! - взмолился боец. - Как можно!
Гриневич оглянулся.
- Сидоров!
- Так слипота у мэнэ курина. У траншэи нэ бачу ничога.
Замполит молча выдернул пистолет и, толкнув кого-то в траншее, протиснулся к ту сторону, где суетилась Пулька.
У меня все сжалось внутри: неужели пристрелит? Я поглядел на командира роты, но тот стоял, ничего не слыша и не видя возле себя, - все его внимание теперь было в поле, куда пошел Ванин. И вот поодаль и траншее негромко хлопнул пистолетный выстрел, Пулька завизжала, потом хлопнуло еще раз, и собачонка умолкла. Все, как прежде, неподвижно стояли возле командира роты и вглядывались в поле, по которому быстро удалялся Ванин. Он даже не обернулся на выстрелы и не подгонял заметно отстававшего Пласкунова, постепенно их силуэты сглаживались, расплывались в сером тумане, вскоре уже надо было хорошо присмотреться, чтобы различить их. А потом они и вовсе исчезли.
Мы еще постояли, ожидая выстрелов или криков, но все было тихо. Напряжение постепенно стало ослабевать, люди в траншее задвигались, кто-то присел закурить. Пилипенко справился о времени. Дольше всех в ночной полумрак всматривался Ананьев, но и он, наконец, отступил от пулемета и прислонился к тыльной стенке траншеи.
- Так... Васюков! - окликнул меня командир роты. - Забирай немца, раненых и шагом марш в санроту. До речки Цветков проводит.
Ну вот, значит, все же будем прощаться, подумал я. В общем, все это, наверно, обычно на фронте, но теперь почему-то мне стало очень невесело. Я не знал, что сказать на прощание. Наверно, почувствовав мою нерешительность, Ананьев обернулся от пулемета.
- Давай-давай! Пока тихо, - сказал он почти спокойно.
И все же я слишком хорошо знал комроты, чтобы не заметить в его тоне и голосе затаенного беспокойства. Я просто не помнил старшего лейтенанта таким угловато-резким в жестах и словах. Наверно, впервые я понял, что вовсе он не такой самоуверенно-властный, каким всегда мне казался. Это открытие неприятно поразило меня, но, внешне не выдавая того, я сказал:
- Ну что ж... Тогда до свидания.
- Да! Давай лечись.
Он коротко, почти с безразличием пожал мне руку и снова повернулся к притуманенной дали. Молча подал мне широкую кисть Пилипенко, сдержанно кивнул головой Гриневич. Затем я торопливо пожал холодные руки бойцов, молча проводивших меня подчеркнуто внимательными взглядами.
Идя назад по траншее, я вслушивался, но тревоги пока не было. Автоматчики по-прежнему сонно добивали ночь: топали, курили, некоторые же, невзирая ни на что, спали, скорчившись в три погибели в своих ячейках. Теперь, однако, все они - знакомые и незнакомые - уходили от меня в прошлое, в мое бывшее и свое будущее, но уже без меня, потому что через час я, наверно, буду далеко.
Я рванул над входом палатку и влез в блиндаж.
11
Раненые быстро поднялись, разобрали оружие, мы растормошили немца и вылезли в траншею. Обер-фельдфебель немного проспался и вроде бы протрезвел, потому что хотя и без усердия, но все же исполнял наши команды. Правда, идти ему было трудно, он почти не ступал на раненую ногу и прыгал на одной, перебирая по стенам руками.
Между тем начинало светать.
Небо прояснилось, на востоке стал виден край леса над пригорком, где была дорога, - из серых сумерек медленно выплывал оснеженный, неуютный простор. Было ветрено, холодно, снег, однако, не шел. Похоже, будто чуть-чуть подмораживало.
Мы немного прошли по траншее, дальше надо было вылезать наверх. Цветков первым вскочил на бруствер и подал мне руку. Затем выбрался автоматчик с перевязанной головой. Вдвоем они вытащили другого автоматчика и протянули руки немцу,
Обер-фельдфебель нерешительно посмотрел снизу вверх: вряд ли он понимал, куда его вели, наверно, думал - расстреливать, и только сейчас начинал кое о чем догадываться.
- Ну, что лыпалы выкатил? Давай руку!
Он протянул руку, втроем мы с усилием выволокли его на бруствер. Но тут оказалось, что он совсем не может идти и сразу же опустился наземь. Вдобавок ночью кто-то стащил его шинель, немец мелко дрожал от холода в своем кургузом мундирчике. Цветков выругался.
- Как же его вести? Подвода нужна.
- Может, лопату поискать? - сказал я. - Вместо костыля.
Однако меня не поддержали - понятно, возвращаться в траншею никому не хотелось, рассвет вынуждал торопиться. Даль на западе больше, чем ночью, зловеще чернела от нависшего над ней мрака.
- Разве Ананьев не до санроты меня посылал? - вдруг настороженно спросил Цветков.
- Только до речки.
- А от речки вы как? Вот с этим?
- Как-нибудь.
Цветков с раздражением рванул за рукав немца:
- А ну, встать!
Пленный встал, санинструктор взял его под руку. Мы сошли с бруствера и по скользкому от снега травянистому склону направились к мостку вниз.
Цветков довольно бесцеремонно волок немца, тот, часто падая на свободную руку, едва успевал за ним. Втроем мы обогнали их, скользя по пересыпанной снегом траве, сошли к речке и все по тем же балкам разрушенного мостка перебрались на другой берег. Дальше надо было дождаться Цветкова, чтобы взять у него обер-фельдфебеля, и я придержал ребят, которые с заметной поспешностью стремились в тыл.
Однако провести одноногого человека по бревну было не просто, во всяком случае Цветков на это не отважился. Подойдя к мостку, он нерешительно остановился, посмотрел в мутный водяной поток, шумно бурлящий между мокрых, оснеженных берегов.
- Ну что? - спросил я.
- Не пройти. Какая тут глубина?
Черт ее знает, какая тут была глубина, но я вспомнил, что ночью некоторые из автоматчиков где-то переходили вброд.
- Давай, не утонешь!
- Что давай? Иди помоги!
Лезть в воду совсем не хотелось, в сапогах и без того давно уже было мокро. И все же одною рукой я подобрал полы шинели и вошел в реку. К счастью, здесь оказалось неглубоко, я быстро перебежал поток, и мы вдвоем взяли немца. Обер-фельдфебель тотчас повис на наших руках, мы с усилием приподняли его довольно-таки тяжеловатое тело, в воде он раза два прыгнул на здоровой ноге и благополучно очутился на другой стороне.
- Гадская работа! - поморщился Цветков. - В сапогах полно воды.
В сапогах, понятное дело, здорово чавкало, ноги начали стыть, надо было скорее идти, чтобы согреться, но Цветков не отпустил от себя немца.
- Вдвоем поведем.
- А в роту не вернешься? - спросил я.
Уже стало светло даже вдали. Я хорошо видел посеревшее от бессонницы лицо Цветкова, который слегка поморщился и, наверно, больше, чтобы успокоить самого себя, объяснил:
- Санинструктору полагается сопровождать раненых до санроты. Так что...
Он не окончил фразу, однако смысл ее был и без того ясен. Мы молча пошли по дороге, которая тут пролегала по довольно высокой насыпи. В общем, налицо было нарушение приказа командира роты, но мое ли дело укалывать на то сержанту? Я передал ему все, что сказал Ананьев, а там пусть решает сам. Впрочем, может, это даже и лучше, что он с нами: все время тащить на себе немца - дело не слишком приятное, а так, наверно, мы сможем меняться. Все-таки в нашем положении здоровый человек стоил нескольких раненых.
Немец при каждом прыжке сильно шлепал по грязи подошвою, мне было неудобно держать его одной рукой, к тому же мешал автомат на правом плече, и я уже хотел позвать на смену автоматчика с забинтованной головой. В то время, замятые своими заботами, мы почти забыли о том, что все еще висело над ротой и нами. Перейдя речку, мы почувствовали облегчение, словно недавняя опасность осталась далеко позади. И именно в этот момент на высоте что-то случилось.
Я не успел даже сообразить, что донеслось до нас в первое мгновенно - только, наверно, не выстрел и не взрыв, похоже, это был и не крик. Тем не менее что-то ошеломляюще неожиданное обрушилось на нас с такой угрожающей силой, что у меня подкосились колени. Я почувствовал еще, как в моей руке встрепенулся немец - стремительно вывернувшись, он оглянулся, и я уловил на его лице коротенький отблеск радости. Но в этот момент пронзительно затрещали автоматы, послышались крики, несколько одновременных гранатных взрывов окончательно разогнали ночную тишь.
По фронтовой привычке мы торопливо соскользнули с насыпи и попадали на ее кособокий мокрый откос. Ниже была грязь, канава, но высокая насыпь укрывала нас: пули с высоты сюда не залетали.
И тогда вдруг меня охватил страх - не за себя (по нас, сдается, еще и не стреляли), за роту. Я выглянул из-за насыпи - но склонах высоты никого не было, но на самой се верхушке, еще затянутой утренней дымкой, уже улавливалось какое-то движение, пыль, блеск выстрелов - по всей видимости, там разгоралась ожесточенная схватка. Когда я опять спрятал голову и оглянулся, то оказалось, что рядом со мной один только немец. Остальные, и с ними Цветков, пригнувшись, перебегали за насыпью дальше, вдоль дороги, вверх на пригорок.
Сначала я не понял, куда они, но скоро все стало ясно, и я неожиданно для себя закричал во все горло:
- Стой! Назад!
Цветков приостановился, оглянулся, я увидел его расширенные глаза на испуганном лице. Сержант явно чего-то не понимал, и я снова закричал:
- Назад!
Я вовсе не думал о том, какой смысл возвращать раненых к речке, но всем своим существом чувствовал, что в роте беда, и что именно потому мы не должны удирать. Однако чем мы могли помочь ей - этого я не знал.
Двое раненых поняли мою команду по-своему и залегли на откосе, а Цветков после минутного колебания, пригнувшись, подбежал к немцу:
- Встать!
Он дернул пленного за мундир, однако тот отшатнулся, что-то залепетал, замахал руками и не встал. Цветков пнул его сапогом и схватился за автомат:
- Встать, падла! Фашистская морда!
Непонятно, зачем было вставать - разве чтобы удирать отсюда, - но этого я уж не позволил бы. Да и немец, почуяв что-то, вдруг будто переменился, выражение его упрямого лица стало жестким и непослушным, он явно не хотел подчиниться сержанту.
- Брось! - крикнул я санинструктору. - Иди сюда!
Цветков уныло глянул в ту сторону, где лежали двое остальных, и неохотно полез по скосу ко мне. Он еще не успел опуститься рядом, как о дорогу ударили пули - ворот мне залепило грязью, оба мы сунулись головами в мокрядь. В тот же момент на высоте произошло что-то еще. Выглянув над дорогой, наверно, я вскрикнул, потому что Цветков тоже торопливо высунулся из-за насыпи - по склону от высоты вниз, перегоняя друг друга, беспорядочно бежали автоматчики.
Это казалось почти невероятным, но я не мог не верить своим глазам. Сначала взвод Пилипенко, а затем и вся рота выскочила из траншеи и врассыпную по склону помчалась к реке. Несколько человек уже упали, кто-то сзади пытался подняться - повозился и затих на снегу. Некоторые, коротко припадая на колено, торопливо отстреливались одной-двумя очередями. Другие тем временем мчались вниз, да так, что дай только бог ноги. Рота рассыпалась по склону, грохали взрывы гранат, над высотой выло и трещало.
Минуту я не в состоянии был сообразить, что случилось, немцев вроде еще не было видно, но, судя по всему, ударили они куда как умело.
Передние из автоматчиков уже приближались к мостку, другие забирали в сторону кустарника на болоте. Несколько человек с ходу, почти не задерживаясь, сунулись в воду, и тогда сзади, вдобавок к автоматному огню, ударил пулемет. Наверно, с ночи приготовленные трассирующие огненными молниями стеганули наискосок по склону, пули рикошетом метнулись от земли в небо. У мостка кто-то упал, кто-то, наверно раненый, пронзительно завопил в отчаянии, но тут же этот его вопль и заглох в стоголосом грохоте боя.
Но вот сквозь визг пуль и треск очередей приглушенно, как неведомо из какой дали, донесся из-за речки знакомый надсадный крик. Я сразу узнал его и встрепенулся - он подавал краешек надежды, более того - он спасал. Я бросился навстречу роте к мостку.
- Стой! Стой! Стой, такую твою...
Вскоре я увидел его - без шапки, в распахнутой шинели, с пистолетом в руках Ананьев метался между бойцами по склону, пытаясь задержать беглецов и одновременно догнать передних, чтобы с ними остановить всю роту.
- Стой! Стой!
- Стой! - не своим от ожесточения голосом заревел и я, подбегая к мостку.
По бревнам его на меня уже мчались двое бойцов, вид их был довольно растерянный. Однако я уже понимал, что от них требовать, и знал, как одолеть их страх. Страшным голосом выругавшись, я одной рукой затряс автоматом, и бойцы, кажется, что-то поняли. Метнувшись от близких ударов пуль, они торопливо скрылись за насыпью. Туда же бегом кинулись те, что вылезли из речки. С их мокрых шинелей ручьями лилась вода.
Два пулемета на высоте, захлебываясь, извергали потоки пуль. Очереди, каждая третья пуля в которых была трассирующей, жалили землю, снег, воду в реке, брызгали снегом и грязью.
12
Ананьев выскочил из речушки едва не последним - грязный, мокрый, с зажатым в руке пистолетом, затвор которого застопорился в заднем положении, выдвинув вперед тонкий вороненый ствол. Пулеметная очередь обдала ротного брызгами грязного снега, но он даже не уклонился от нее - одним махом взлетел на обмежек, и я подался ему навстречу. Командир роты, однако, не взглянул на меня, будто не узнал. Впрочем, с первого взгляда я тоже едва узнал его такое, еще никогда не виданное мною, темное, искаженное гневом лицо. По щекам его стекал пот. Грудь и живот старшего лейтенанта были в грязи, шинель сбоку распорота. Он подбежал к насыпи и, увидев тут бойцов, что беспорядочно залегли на откосе, с ожесточением закричал:
- В цепь! В цепь!!
Его тут же послушались, несколько человек поднялись и, пригнувшись, отбежали, чтобы залечь пореже. Нисколько не укрываясь от пуль, которые взвывали вверху. Ананьев проследил за бойцами, затем оглянулся в другую сторону и крикнул:
- Васюков!
Кажется, только сейчас он заметил меня и окликнул так привычно я буднично, как это делал вчера или когда-нибудь еще, когда не было ни этой беды, ни моего такого некстати теперь ранения. Как всегда, я без слов вскочил с откоса и, сиганув через лужу, бросился по обмежку. Там за кустами над болотцем, где был взвод Пилипенко, еще продолжалось беспорядочное движение, некоторые из бойцов залегли над речушкой, а человек пять бежали по косогору в тыл на пригорок. Пулемет с высоты теперь бил туда.
- Всех - в цепь!
Я не оглянулся, но я слышал его приказ и мчался короткими перебежками, то и дело плюхаясь в мягкий подтаявший снег и через десять секунд вскакивая снова. Сначала с высоты по мне не стреляли, затем, наверно, все же обратили внимание на одинокого беглеца, и пулемет с рассеиванием в глубину сыпанул горстью пуль. Одна из них хлестко щелкнула под руками, что-то светловатое мелькнуло внизу, я с маху упал и сжался на пересыпанной светом стерне. Падая, наверно, сдвинул повязку, плечо остро заболело, стиснув зубы, я минуту мычал, едва превозмогая боль. Между тем очередь метнулась к насыпи, надо было бежать дальше, и я схватил автомат, приклад которого оказался расколотым. Протирка и ершик, выпав из отбитого затыльника, валялись невдалеке в снегу.
Однако пилипенковцы были уже близко, еще один бросок - и я укрылся за ольшаником, который хотя и не защищал от пуль, но все же прикрывал от вражеских глаз с высоты. Крайние в цепи автоматчики, расползшись по обмежку, начинали окапываться, я подбежал и растянулся возле одного из них, что невозмутимо лежал, широко раскинув ноги. Кажется, он что-то жевал.
- Где Пилипенко?
Боец молча кивнул в сторону и натянул на затылок ворот шинели.
Окапываться почему-то он не собирался.
- У вас что - нет лопаты? - спросил я. Автоматчик молча двинул бедром, у которого торчал черенок пехотной лопатки.
- Окапывайтесь скорее!
Перестав жевать и повернув в сторону худое, тронутое серой щетиной лицо, он окинул меня равнодушным взглядом:
- А зачем?
- Как зачем? Чтобы уцелеть!
- Дурной ты, гляжу! - вдруг с нескрываемым презрением сказал автоматчик. - Долго ты думаешь тут уцелеть? До обеда? Или, может, до вечера?
Самое нелепое заключалось в том, что, в общем, он был прав, неправ был я. Я понял это в ту же минуту, хотя такое открытие, разумеется, не принесло мне радости, и чтобы задушить в себе неожиданную досаду, я рванул от бойца подальше.
Пригибаясь за голым, местами довольно-таки густоватым кустарником, я побежал вдоль цепи и вскоре вместо Пилипенко в какой-то впадине-ямке наткнулся на лейтенанта Гриневича. Замполит был ранен и, откинувшись на локте, со страдальческим видом лежал на боку. Брюки его были сдвинуты к коленям, незнакомый боец в телогрейке, склонившись нал лейтенантом, поспешно и неумело бинтовал ему бедро. Руки бойца плохо слушались, бинт закручивался, и Гриневич раздраженно прикрикивал:
- Да сильней ты затягивай! Не бойся!
- Сейчас, сейчас!..
Я вбежал в ямку и опустился рядом.
- Что - здорово?
Боец не ответил, лейтенант коротко из-под каски взглянул на меня и поморщился. С виду, однако, он был не так плох, как мне показалось вначале, только, как и все, был грязный и загнанно, устало дышал. Я подумал, что рана у него, пожалуй, не трудная. Действительно, вместо ответа он вдруг довольно бодро спросил:
- Где командир роты?
- Там, возле мостка.
- Сволочи! - поморщился замполит. - Что натворили! Дразнили с одного бока, а ударили с другого.
- Командир роты приказал: всем в цепь! - сказал я.
Гриневич приподнялся на локте:
- Беги, передай Пилипенке. И чтоб ни шагу назад! А то на склоне положит всех.
Я было поднялся бежать, как увидел поодаль старшину - громко ругаясь, тот гнал в цепь трех бойцов, которых вернул, наверно, от самого пригорка.
- Гэть! Гэть вашу мать! Я вам покажу тикаты!
Наши в цепи не стреляли, погодя прекратили огонь и немцы - наверно, бить было не по кому или уже стало далековато даже для пулеметов. Пилипенко устало пробежал еще немного, пока от немцев его не заслонил кустарник, затем по взмежку свернул в нашу сторону.
Я опустился на мокрую полу шинели.
Однако не успел старшина добежать до нашей впадины-ямки, как с другой стороны послышалось торопливое чваканье ног, все оглянулись - решительной походкой сюда направлялся Ананьев. Он по-прежнему был без фуражки, в наспех застегнутой на пару крючков шинели, сбоку которой непривычно болталась знакомая планшетка Ванина. Увидев ее, я понял, что младшего лейтенанта нет. Командир роты вдруг остановился над ямкой, будто неожиданно для себя наткнулся на нас.
- Ну! - произнес он тоном, от которого у нас похолодело внутри. - Что расселись? Что расселись, так вашу растак! Бегите дальше! Драпайте!
Он уставился в какую-то неизвестную вам точку у ног замполита в стоял так, вызывающе грозно возвышаясь над всеми. Гриневич, автоматчик, который, перевязав замполита, без дела ерзал внизу, и потный, усталый Пилипенко, что на беду как раз сунулся сюда, - все молчали. Старшина часто дышал, шмыгал простуженным носом, не решаясь высморкаться и, может быть, сознавая какую-то свою вину перед ротным.
- Почему драпанули? Драпанули почему? Я вас спрашиваю, старшина Пилипенко!
- Так цэ ж... обкружалы, - неуверенно начал Пилипенко и замолчал. Вскоре, однако, он уже решительнее выпалил: - А хиба мои одвы драпанулы?
- Ах, не твои одни! - подхватил Ананьев. - Оправдался! Выкрутился, как... Не его одни! И Ванина тоже - это ты хотел сказать?! Но Ванин на высоте остался, а ты тут! На какого же хрена тогда ты тут нужен!
Ананьев зло, раздраженно кричал. Таким я давно уже не видел моего ротного и чувствовал тут себя неловко до крайности. Я то вскакивал, то садился - хотелось куда-нибудь убежать от этого его гнева, хотя ни в чем не чувствовал себя виноватым.
Гриневич тоже неловко застыл на боку, попытался было что-то сказать, но Ананьев никому не давал вымолвить слова. Наконец замполит вставил:
- Что материться без толку? Окапываться надо.
- Материться? - грозно сказал Ананьев. - Мало материться! Надо высоту вернуть! Поняли?
Гриневич с непроницаемой сосредоточенностью на темном, тронутом гримасой боли лице сказал:
- Вряд ли вернешь!
Впрочем, Ананьев и сам, наверно, не был уверен в своих словах, потому что не ответил и, минуту помедлив, сунул пистолет в кабур. Рота уже вся залегла двумя группами, на этой стороне речки не было заметно никакого движения, но позиция была тут более чем неудачная: все подходы с тыла находились на виду у немцев.
- А теперь что ж! - сказал командир роты, поворачиваясь лицом к высоте. - Получается, Ананьев - трепач! Донес про высоту, а сам в болоте сидит!
- Я же говорил вчера! - напомнил Гриневич. - Не надо было лезть. Пусть бы сидели, черт с ними. Приказа на атаку не было, зачем было выпендриваться!
- Ты мне про атаку не дуди! - снова загорячился Ананьев. – Атака первый сорт. А вот сегодня обос… я! -закричал командир роты и повернулся к унылому Пилипенко. - Я же приказал тебе остановить взвод! Какого же ты черта сам кинулся за всеми?
- Так биглы ж!
- Видели его: биглы! И ты побежал! Ну, тогда и бегай! Рядовым бегай! Я снимаю тебя со взвода! Понял?
- Знимайтэ, - покорно сказал старшина, пожимая плечами. Затем, как-то враз приняв независимый вид, стянул шапку и ее подкладкой вытер с лица пот. - Така мени бида! Тьфу!
- Тебе стадом овец командовать, а не взводом! Тюфяк!
- Та хто е.
Пулеметчик с высоты, кажется, что-то заметил на этой стороне и длинной очередью запустил через кустарник. Две пули щелкнули на краю ямы, пырснув в небо черной землей. Ананьев, однако, не двинулся и по-прежнему грозно стоял над нами.
- Гриневич , командуйте взводом! Всем окопаться и не спускать глаз с противника.
- Лейтенант ранен, - сказал я.
- Что?
- Ничего страшного, - махнул рукой Гриневич. С излишней поспешностью он вскочил на раненую ногу, но туг же поморщился и снова опустился на землю. Ананьев видел все это, но не сказал ни слова - круто повернулся и стремительно зашагал к дороге.
Я выбрался из ямы и побежал следом.
13
Заняв свои окопы, немцы совершенно затихли на высоте, будто все остальное их не касалось. По нас они не стреляли. Ананьев сначала бежал, а потом просто пошел скорым шагом. Я догнал ротного и, то и дело поглядывая на высоту, шел сзади. Нас легко было подстрелить тут, но Ананьев не бежал, бежать же мне одному не подобало перед командиром роты. Так мы и шли по почти открытому полю при абсолютной тишине с обеих сторон.
Признаться, меня это удивляло, я подумал: не замышляют ли они что-нибудь? Но, кажется, для этого было уже поздно: мы миновали совершенно открытое болотце, рукой подать была насыпь у моста. И тогда на месте, где мы недавно сидели с пленным, я увидел Щапу. Видно было, автоматчик ожидал командира роты, у его ног лежал автомат и чем-то туго набитый вещевой мешок.
Ананьев тоже увидел его, но ничем не обнаружил своей заинтересованности - изредка поглядывая на высоту, дошел до насыпи, перепрыгнул лужу в канаве и по откосу взобрался к бровке дороги.
Щапа повернулся к командиру роты:
- Ваше приказание выполнил, товарищ старший лейтенант.
Ананьев молча опустился на откос и, высунув голову, впервые сосредоточенно осмотрел склоны высоты.
- Там второй батальон развертывается, - Щапа показал в сторону бугра за дорогой.
В ветреном небе густо плыли сизые, набрякшие стужей тучи, было промозгло и холодно, но снег больше не шел. Тот, что остался с ночи, медленно таял в траве. На дороге, на склонах высоты его уже осталось немного: полоса зяби за речкой грязно чернела раскисшими бороздами. В нескольких местах на склоне видны были трупы убитых - серые неподвижные бугорки шинелей между истоптанных снежных пятен.
- Где старшина? - спросил Ананьев.
- А там, за бугром, - подхватив вещмешок и подвигаясь с ним выше, сказал Щапа. - Повозка сломалась. Вот тут перекусить пока что.
Старший лейтенант покосился на мокрый вещмешок в его руках.
- Он что - вещмешком думает роту накормить?
- Да это пока что. Для вас.
Боец торопливо развязал лямки, достал три сухаря, банку консервов и флягу. Ананьев протянул руку и первым делом сгреб флягу.
- Дай сухаря.
Щапа с услужливой поспешностью выбрал сухарь побольше, но старший лейтенант разломал его пополам. Боец с недоумением взглянул на командира роты.
- Остальное разделишь на всех. Понял?
- Что делить, товарищ старший лейтенант?
- Что есть.
Лежа на боку, казалось совершенно безучастный ко всему, Ананьев отвинтил флягу и, вскинув ее, отпил несколько глотков. С виду комроты становился спокойнее, грубоватое лицо его приобретало привычное выражение ровной суровой властности.
Бойцы на откосе усердно окапывались, изредка бросая любопытствующие взгляды в сторону командира роты, Щапы и меня тоже, будто я знал что-нибудь, неизвестное им. Но из того, что произошло утром, я знал даже меньше них. До сих пор невозможно было понять, как все это случилось, кто виноват и что роте уготовано дальше. Правда, тут был Ананьев, только он молчал, и я не решался заговорить с ним.
Конечно, это была неудача, которая, впрочем, настигала нас не впервые. Было даже и похуже, особенно в смысле потерь. Но и теперь нас стало уж очень немного: взводные цепочки казались чересчур коротенькими - десятка полтора автоматчиков лежало за кустарником да столько же возле насыпи. К тому же тут находились и раненые, которым предстояло отправиться из роты. Сколько же останется тогда? - думал я.
О том же, наверно, думал и командир роты, который, грызя сухарь, уныло оглядывал свои боевые порядки.
- От тебе и рота! - сказал он, - Докомандовались...
- А что, и Зайцева нет? - осторожно спросил я.
Ананьев не ответил и даже не взглянул на меня - он снова вперил взгляд а высоту, будто ждал кого-то оттуда. Но ждать было некого: мертвые не возвращались. Жаль было многих ребят, а особенно Ванина, его помкомвзвода Закирова, да и Зайцева тоже. Впрочем, к Зайцеву я относился более сложно. Конечно, я не хотел новому ординарцу плохого, парень он был хороший, но все же а невольно чувствовал удовлетворение от того, что возле командира роты опять я.
Ананьев сжевал остатки сухаря и с какой-то уже новой мыслью осмотрел взвод.
- Так, где Цветков?
- Вон Куркова перевязывает. - сказал Шапа.
- Передай, пусть собирает раненых, этого цуцика, - ротный кивнул на немца, который, съежившись, уныло сидел в мундирчике под насыпью, и по канаве – в тыл.
Щапа, пригнувшись, помчался во откосу, а я в который уже раз ощутил щемящую пустоту внутри оттого, что вот-вот, наверное, и для меня все кончится. Конечно, в медсанбате хуже не будет, в некотором отношения медсанбат даже казался заманчивым, но вот беда - он был где-то далеко, в неизвестности, во всяком случае для роты. А все, что не было моей ротой, давно уже казалось мне ненужным, постылым.
Я вопросительно взглянул на Ананьева, но тот, плотно сомкнув челюсти, не заметил этого взгляда или, может, ушел от него. Пока он молчал, кажется, он вообще не думал обо мне - совершенно очевидно, его занимало другое. Лежа на откосе, он все поглядывал то на высоту, то в сторону, куда недавно показывал Щапа, и куда в самом деле подходили наши батальоны. Несколько раз – слышно было - там простучал «максим», бахнули винтовки. Однажды ветер донес крик, неверно, команду, правда, отсюда, из ложбины, еще ничего не было видно. И все же близкое присутствие своих успокаивало, несло какую-то уверенность, что скверного больше не случится.
Полежав так, Ананьев сполз ниже, сидя подтянул на шинели ремень Возможно, от выпитой водки его потемневшее, небритое лицо оживилось, взгляд стал спокойнее. Минуту спустя Ананьев вскочил на ноги и сбежал во откосу. Я, как это делал всегда, подхватил свой автомат с разбитым прикладом и подался следом. Но я немного замешкался с одною рукой - плечо все же болело, - не успел еще сбежать вниз, как откуда-то издали долетел крик. Что-то похожее на протяжное «эй» послышалось вдали и исчезло.
- Товарищ старший лейтенант! - вдруг вскрикнул автоматчик на откосе. Застыв с лопаткой в руках, он выглядывал над дорогой, и в его голосе сквозила тревога. Комроты остановился.
- Что такое?
- Гляньте.
То, что заметил автоматчик, кажется, было уже видно всем не откосе, бойцы встревоженно замерли в своих окопчиках, никто не промолвил ни слова. Ананьев выждал, затем будто смекнул что-то, в несколько прыжков одолел насыпь. Я тоже быстренько взбежал по откосу и лег на бок невдалеке от ротного.
С высоты опять донеслось далекое, явно не нашенское «ге-эй!», и на склоне у верхней границы зяблевого участка мы увидели двоих. Они не спеша шли вниз - один почти впритык за другим. Задний при этом широко махал руками, судя во всему, - подавал знак, чтоб не стреляли.
- Ге-эй! Нихт шиссен! Никс стгаляй!
Конечно, что были немцы, и мы все на насыпи застыли в немом удивлении, видя и не веря своим глазам. Но те и в самом деле шли к нам.
Вот только какие-то странные это были немцы. Хорошо вглядевшись, я перво-наперво заметил, что одеты они неодинаково: заднего трудно было рассмотреть, а на переднем была очень похожая на нашу серая, коротковатая, без пуговиц и без ремня шинелка. Да и шапка на нем тоже оказалась наша - зимняя, с растопыренными в стороны клапанами. И тут меня вдруг будто что-то толкнуло: четко и уверенно, хотя еще и не и идя его лица, я понял, что это...
- Чумак!
Я и сам удивился своему открытию и, наверно, удивил командира роты, который, однако, медленно приподнялся, став на колени. Двое на склоне не спеша сошли вдоль пахотной полосы чуть ниже и остановились. И тогда уже всей роте стало видно, что меж подтаявших пятен снега, уронив голову и виновато ссутулясь, в своей обвисшей, помятой шинелке стоял наш Чумак. Вплотную за его спиной, явно хоронясь, подавал знаки немец с автоматом на груди, в каске, с круглой противогазной коробкой на боку.
Как только они остановились, немец что-то прокричал через Чумаково плечо, но мы не поняли ни одного слова. Я взглянул на Ананьева, тот - в напряженной позе, стоя на коленях, - тоже, видно, не мог взять в толк, что там происходит.
- Шнейдер! - встрепенулся Ананьев, когда немец крикнул еще. - Где Шнейдер? Шнейдера сюда! Пулей!
Это уж относилось ко мне. Я вскочил на откосе, но Шнейдер был во взводе Пилипенко, и мне очень не хотелось снова бежать туда. Однако пилипенковцы тоже увидели двоих на склоне и, повставав в своих окопчиках, глядели на высоту. Тогда я крикнул:
- Шнейдер! Шнейдера сюда!
Там услышали, кто-то повторил команду, и я подался к командиру роты. Ананьев, совершенно пренебрегая опасностью, почти до пояса высунулся из-за насыпи.
С виноватой покорностью во всем своем неказистом облике между нами и немцами стоял наш автоматчик Чумак. Показалось сперва, что он будет говорить что-то, может, агитировать сдаваться в плен: такое уже как-то случалось и теперь не удивило бы нас. Но он молчал. Тогда стало казаться, что он намерился честно погибнуть, чтобы не оказать подлой услуги немцам, и это вызывало к нему сочувствие. Но шло время, и оба они неподвижно и молча стояли на склоне. Немец так плотно жался к Чумаковой спине, что выстрелить в него, не рискуя попасть в Чумака, было невозможно. Автоматчики в цепи загалдели, каждый по-своему понимая суть происшедшего:
- От гад! Предатель!
- Какой предатель? Влип он.
- Да тикать надо! Растяпа!
- Где Шнейдер? - рявкнул, оборачиваясь ко мне, Ананьев.
Но Шнейдер уже бежал. Только этот длинный, нескладный человек просто, видать, не умел спешить. Бег его скорее напоминал ленивую ходьбу с прискоком - сгорбившись, он то вяло трусил, то путано сигал по мокрому полю.
- Бегом! - крикнул с насыпи командир роты.
Шнейдер, наконец, одолел открытое болотце, перескочил через лужу воды в канаве и с какой-то неуклюжей развалкой полез на откос. Ротный несколько мягче сказал:
- Что он кричит! А ну, послушай.
Шнейдер криво передернул губами.
- Что слушать! Того фрица выменивает.
Ананьев сполз ниже, а затем и вовсе отвернулся от высоты. Шнейдер взобрался наверх и, не зная, чем заняться, опустился на одно колено, отставив в сторону длинную, в стеганых брюках ногу. Кирзовое голенище его сапога было рвано распорото чем-то, похоже, осколком.
Настала трудная пауза. Ребята в цепи притихли. Ниже под насыпью напряженно застыл пленный обер-фельдфебель, над которым в выжидательной позе стоял сержант Цветков.
Вдоль канавы к нам бежал Щапа.
Не зная, что и думать, я снова взглянул на склон, испытывая невольную жалость к этому невезучему Чумаку. И надо же было ему влипнуть в такое положение! Он и сам, видно, понимал это и терпеливо стоял, с виду совершенно безразличный к своей участи, напуганный, растерянный.
В цепи, перебивая друг друга, галдели:
- За Чумака - такого фрица? Нема дурных.
- Так что ж, Чумаку погибать?
- Тикать надо.
- Гляди, утикешь, когда на мушке держат.
- С пулемета тогда обоих. Все одно...
Ананьев то садился, то вскакивал и все время ругался. Но все же на что-то надо было решиться. После минутного колебания комроты снова обернулся к высоте.
- Пулемет ко мне! - приказал он.
- Пулемет - к командиру роты! - передал по цепи Щапа, и тут же под насыпью появился маленький узкоглазый Батурбаев с заряженным РПД в руках. Подбежав, он взобрался на откос, и Ананьев с безучастным, каменным видом выждал, пока тот укреплял перед ним на бровке пулемет. Наконец Батурбаев щелкнул затвором, определяюще взглянув на высоту, подвинул хомутик прицела, планка которого круто поднялась вверх - до цели оказалось довольно далеко. Пулемет был готов, боец отстранился, уступая место командиру роты. Автоматчики умолкли.
Вдруг Ананьев закричал:
- Ты что мне его суешь? Сам не умеешь?
Батурбаев сконфуженно переморгнул узенькими щелочками глаз.
- Умею, товарищ командир. Почему не умею?
- Умеешь! - передразнил комроты, вытягиваясь за пулеметом. Он полежал недолго, будто даже прицелился, и опять встал, опершись об откос. Пальцы на его широкой руке едва заметно подрагивали. - А он исправный?
- А как же! Исправный, товарищ командир.
- Где же он, к черту, исправный! - закричал Ананьев. - Он грязью забит!
Батурбаев виновато сковырнул с приклада присохший комочек грязи.
- Убирай к чертовой матери свой драндулет! - прокричал Ананьев к отвернулся. Батурбаев с готовностью подхватил пулемет и сбежал вниз к канаве.
Слава богу, пронеслось в мозгу, хотя неисправность пулемета вряд ли что меняла в положении Чумака, который по-прежнему оставался на краю гибели, разве что теперь не от своей пули. Там, на склоне, прождав, видно, положенное время и не получив ответа, немец-конвоир стал пятиться назад, как и раньше, прикрываясь Чумаком. Еще минута - и они отдалятся настолько, что будут уже вне досягаемости нашего огня.
Ананьев, мучительно что-то решив, вскочил на ноги.
- Цветков, давай фрица!
Цветков послушно подтолкнул фельдфебеля, тот несмело еще поднялся и с готовностью запрыгал на одной ноге, падая рукой на откос. Ананьев повернулся к переводчику:
- Шнейдер, отвести! Разменять и с Чумаком назад!
Что-то похожее на вздох облегчения пронеслось над дорогой, и хотя многое еще было не ясно и не решено, тем не менее появилось ощущение, что главное в этом деле принимало благополучный оборот.
Шнейдер, однако, отреагировал на приказ почти неожиданно. Не сдвинувшись с места, он вдруг побледнел, но не от страха - от страха бледнеют иначе. В темных глазах автоматчика что-то вспыхнуло и погасло, он ступил по скосу ниже и тихо, но отчетливо сказал:
- Я не пойду!
- Что?
- Не пойду. Что хотите - не пойду!
- Это почему?
- Он меня оскорбил. Я не могу.
- Ах, не могу. Растакую вашу, белоручки проклятые! А я могу?
Комроты угрожающе двинулся к автоматчику, показалось - ударит, но не ударил - в последнее мгновение круто повернул в сторону.
- Щапа!
- Я.
- Отвести немца! - приказал Ананьев.
Щапа с готовностью дернул затвор автомата и подскочил к пленному:
- Марш!
- Да не марш! Бери под руку и валяй! И не трусь! Пулемет сюда!
Батурбаев, взбежав на откос, опять укрепил пулемет, за который, решительно отклонив пулеметчика, опять лег комроты. Щапа, подхватив немца под руку, взволок его на дорожную насыпь.
14
Однако пулемет не понадобился. Через пятнадцать минут живой и даже повеселевший Щапа привел Чумака, который, сойдя с насыпи, стал у канавы, ни на кого не взглянув ни разу. Зато на него теперь смотрела вся рота. Ребята, забыв о своих недокопанных окопчиках, и даже, казалось, утратив всякий интерес к вещмешку с сухарями и консервами, все, как на чудо, с недоумением и любопытством глядели на бедолагу- автоматчика.
Ананьев, набычив взъерошенную голову, зверовато проследил исподлобья за его неуверенной, шаткой походкой и, как только Чумак остановился, медленно поднялся на откосе.
- Ну! - сказал командир роты, и все разом умолкли. - Ну, пленничек! Почему не застрелился?
Чумак, наверно впервые, поднял свой взгляд и как-то искоса, испуганно и жалостливо посмотрел на командира роты.
- Почему не убег? Почему врагу сдался? Отвечай, я спрашиваю! Проспал?
- Проспал, - простодушно подтвердил Чумак и вздохнул.
- Ах, проспал? А автомат где?
Чумак туловищем обернулся к высоте в своей коротенькой, неподпоясанной, почему-то без хлястика шинелишке и ткнул в пространство прокуренным, заскорузлым пальцем:
- Там.
Это его простодушие, в иных условиях способное рассмешить, теперь еще больше озлило ротного.
- Там? Гляди ты - помнит! Тебя же расстрелять, дурака, надо! Ты же предатель! Ты врагу сдался. И оружие сдал. Ну?
Чумак только трудно, виновато вздохнул.
- Ах ты, размазня! Стрелять надо было! Обороняться! Автоматом, лопаткой, зубами грызть им глотки! А ты?
Автомат, конечно, у него отобрали, чтобы отбиваться лопаткой, надобно несколько больше ловкости, чем у Чумака. И вдруг я припомнил гранату, которую отдал ему ночью.
- А граната?
Чумак, будто глухой, недоуменно поморгал глазами, явно не понимая моего вопроса.
- Граната, граната! Помнишь, я давал тебе?
Вспомнив, он торопливо сунул руку в карман и осторожно вынул оттуда мою заряженную, с запалом и нетронутой чекой «Ф-1».
Ананьев сплюнул.
- Дурака кусок! Ну и черт с тобой! Не научил я - штрафная научит. Загремишь в штрафную! Понял?
Чумак опустил голову еще ниже. Щапа спокойно взял из его рук гранату. Ананьев раздраженно отбросил назад планшетку, которая непривычно путалась у его ног, сделал два шага и остановился.
- Ванина не видел?
- Не. Меня как скрутили, да в блиндаж. В блиндаже сидел.
- В блиндаже, растакую твою...
К счастью, однако, ротный, кажется, начал отходить и, потоптавшись, сел на откос. Все мы - я, Щапа, Шнейдер, несколько автоматчиков - стояли вокруг, не зная, радоваться или возмущаться.
Ананьев вытер о полу шинели грязные руки и метнул сердитым взглядом на Шнейдера:
- Ты! Забирай этого чмура! Чтоб я его тут не видел!
Шнейдер молча кивнул Чумаку, перескочил канаву и все так же неуклюже потрусил через болотце. Уже на бегу он оглянулся на высоту. Чумак, плюхая сапогами по лужам, направился следом. Этот не оглядывался. Озабоченный собственной участью и, видимо, еще не веря в спасение, он будто во сне шатко и слепо бежал за Шнейдером. У меня стало легче на душе: авось как-нибудь обойдется. Ананьев строг, но если уж отправил во взвод, то, пожалуй, под арест не возьмет, а там мало ли что может измениться. Мы проводили Чумака несколько повеселевшими взглядами, и как только оба они достигли кустарника, где можно было укрыться, Ананьев закричал на бойцов:
- А ну копать! А то и отсюда драпанете! Зайчачья порода!
- Не драпанем, - благодушно откликнулся кто-то в цепи.
Командир роты посмотрел в сторону кустарника.
- Его счастье, что этот фельдфебель попался. Хотя... - Он поискал глазами Шапу. - Донесение вручил?
- Так точно, товарищ старший лейтенант. Самому командиру полка.
- Что он сказал?
- Сказал: молодец Ананьев.
Ротный скривился, будто от боли.
- Лучше бы ты его потерял. Заблудился, командира полка не нашел. На какого хрена ты его вручил?
Щапа пожал плечами и сел. Ананьев горестно-протяжно вздохнул.
- Так всегда. Только постараешься, тут тебя как шарахнет! На ногах не устоишь! Да еще этот чмур...
- Товарищ старший лейтенант, - подвинулся к нему Щапа. - Это взаправду его в штрафную?
Командир роты нахмурился:
- А ты что же думал? В бирюльки тут вам играть? Война - не хахоньки.
- Колхозник он, - сказал Щапа, будто это обстоятельство само собой все разъясняло. - Четверо детей...
Ананьев неопределенно поежился.
- Четверо, четверо... - И, вскочив, почти закричал на Щапу, - Что ты мне дудишь: четверо! Хоть сто!
Щапа не дудел больше, поднял от ветра воротник бушлата и боком прилег на откос.
- Вон комиссар бежит, - сказал он спокойно.
Странно, Ананьев, будто ожидая того, с заметной поспешностью оглянулся, и озабоченное лицо его омрачилось еще больше. Но это на одну только секунду.
- А вы чего? Чего развалились? А ну марш окапываться! Я вам покажу, умники!
Ну что ж, копать - дело нехитрое. Щапа отстегнул от ремня трофейную немецкую лопатку и, отойдя на пять шагов, сноровисто подрезал ею дерн. Мне же копать было нельзя, да и нечем, и я тихо сидел на насыпи, придерживая под полою шинели руку.
Однако Щапа преувеличивал, сказав, что Гриневич бежит, - замполит шел шагом сильно хромая, то и дело поглядывая на высоту и на нас у дороги. Он заметно спешил то ли по какому-то своему делу, то ли опасаясь немцев, которые пока что миловали нас своим вниманием.
Я это понял еще до того, как замполит подошел к откосу. Еще издали на его лице можно было прочесть крайнюю меру озабоченности, даже тревоги, совершенно очевидно - он был расстроен, что, в общем, бывало, с ним редко. И чем он, сильно хромая, подходил ближе, тем все больше мрачнел Ананьев. Наконец замполит, еще не дойдя до канавы, заговорил тоном, не оставлявшим никакого сомнения, что случилось несчастье:
- Ты сдурел? Или напился? Что ты наделал?
- А что? - сказал Ананьев, и всем у насыпи стало понятно, что он и сам отлично понимает это свое что.
- Как что? Он еще спрашивает! Обмен устроил! Ты понимаешь, чем это пахнет?
- Чем?
Гриневич остановился внизу и широко развел руками.
- Я просто не знаю! Он еще спрашивает - чем! - почти в отчаянии говорил замполит. На откос он не полез, а топтался под насыпью.
Командир роты вяло махнул рукой, с нарочитой беззаботностью откинулся на локоть, но тут же опять сел ровно.
- С ума сойти надо! Ты приказ два ноля девятнадцать знаешь?
- Пошел ты! - не очень решительно прокричал Ананьев. - У меня рота! Видишь? А вон немцы!
Гриневич внимательно снизу вверх посмотрел на ротного, тот вдруг отвернулся и выглянул поверх насыпи. В цепи опять заметно насторожились: автоматчики, перестав копать, прислушивались к ссоре. Я впервые видел, как Ананьев позволял заместителю так обходиться с собой, - это было совершенно на него непохоже. Видно, что он и сам чувствовал свой промах, понимал, что нарушил какой-то строгий приказ, теперь сознавал свою виновность, и только характер не позволял ему согласиться с заместителем или промолчать.
С усилием одолев крутизну, Гриневич взобрался на насыпь и опустился на колено в шаге от ротного.
- Ну какого черта! - сказал он потише. - Было бы кого, а то Чумака! Из-за этого придурка такого гада отпустил. Надо же додуматься!
Ананьев повернулся к нему лицом:
- А что Чумак - не человек, по-твоему?
- Не о том разговор. Человек. Да какой?
- Советский, - сказал Ананьев. - Колхозник! Так что же его - на растерзание немцу?
Гриневич поморщился:
- Давай без общих слов. Давай конкретно!
- Твои же слова. Ты ими бойцам мораль толкаешь.
- Что и толкаю? - повысил голос Гриневич. - Я политработу веду. А ты за раз все насмарку!
- А воевать с кем? - крикнул Ананьев, совершенно срываясь. - С кем мне воевать - ты подумал? - Он вскочил на колени и рукою широко взмахнул над насыпью. - Вон видел: взвода по двадцать человек! А вон высота, видел? Раз не удалось, думаешь, все? Ошибаешься! Приедет Сыромятников, прикажет взять. А с кем брать? А?
Он в запале одним духом прокричал это, автоматчики в цепи, бросив работу, с любопытством и тревогой смотрели сюда. У меня в тоске сжалось сердце - не хватало еще ссоры.
- Это не оправдание, - стоял замполит. - Этого Чумака теперь на километр нельзя подпускать к роте. А ты его во взвод отправил!
Постепенно приходя в себя после нервного взрыва, Ананьев опустился на откос. Невидящий взгляд его остановился на высоте.
- И пусть будет!
- Как это - пусть будет? - стукнул себя по колену Гриневич. На этот раз вскипел он. - Ты что - ребенок? Ты знаешь, чем это кончится?
- Чем бы ни кончилось!
Теперь он уже был прежний, хорошо знакомый всем нам Ананьев, который не уступал, хотя и ошибался и что-то сделал не так. Пути к отступлению он не признавал - как бы то ни было, он шел напролом. Правда, не всегда это кончалось добром. Но тут уж власти над ним у нас не было.
Наступила тягучая пауза. Командир роты двумя ударами каблука выбил в дернине ямку, чтобы удобнее было упираться, боком опустился на мокрую полу шинели и начал сосредоточенно смотреть на высоту. Вконец расстроенный Гриневич сгорбись сидел рядом, и его тронутое легкой щетиной лицо было печально. Я не мог побороть в себе тягостного беспокойства от предчувствия еще и худшего, что незримо и неуклонно надвигалось на нас, и с чем, судя по всему, справиться не было возможности.
Наверно, это понимал и Ананьев, иначе бы он просто прогнал лейтенанта. Но теперь вот и сам он неловко, почти виновато молчал.
Поодаль на откосе поднял голову Щапа.
- Товарищ лейтенант, зачем так? Жаль же Чумака.
- А тебе себя не жаль? - сказал Гриневич. - Ты к немцам ходил?
- Ну, я. Так и меня на цугундер? Пожалуйста! Хоть сейчас.
- А ну молчи! - строго прикрикнул Ананьев. - Не твое телячье дело!
Гриневич беспокойно ерзал на откосе, кряхтел, будто от зубной боли, что-то думал, но, кажется, ничего утешительного придумать не мог. Ананьев же вдруг стал как-то необычно спокоен, даже безразличен с виду. И только его поджатые крутые челюсти красноречиво свидетельствовали, каким усилием давалось ему это спокойствие.
С самого начала ссоры было очевидно, что комроты уступал обоснованной логике Гриневича, так как, наверно, сам того не желая, в чем-то поступил не так - на авось, не подумав. И тем не менее, я не в состоянии был понять, как можно было поступить иначе? Разве только если были соответствующие приказы, и тогда уж, разумеется, ничего не скажешь: приказы не обсуждаются. Тогда получалось, что командир роты допустил ошибку. Но, может быть, стоило понять и самого ротного, которому рядовой Чумак, при всей его незадачливости, был все же подчинен как боец и целиком зависел от его воли и власти. Каково было тогда Ананьеву обрекать бойца на заведомую гибель, хотя и заполучив в плен такого, видать по всему, оголтелого фашиста, как этот фельдфебель?
- Черт бы его побрал, - со страдальческим видом проговорил замполит. - Откуда его принесло на наши головы, Чумака этого? Да и фрица? Кто его в плен взял?
- Ванин взял, - сказал Ананьев.
- Вот еще и Ванин! - невесело вспомнил Гриневич. - Еще одна история! Что об этом написать?
- А что писать? Погиб! Так и написать, - спокойно сказал командир роты.
- Ну да! А вдруг окажется в плену?
- Не дури ты: в плену! - как можно спокойнее сказал Ананьев и потянулся за флягой. - Такие, как Ванин, в плен не сдаются.
- Все может быть, - вздохнул Гриневич.
- Ни черта не может. Я Ванина знаю.
Командир роты отвинтил флягу и протянул ее замполиту:
- Будешь?
Гриневич секунду помедлил.
- А, давай. С горя!
Он немного выпил, слегка поморщась. Затем со вкусом глотнул Ананьев.
- Наделал ты делов, нечего сказать, - более миролюбиво заметил замполит. - Как теперь выкрутиться?
Ананьев, помолчав, негромко сказал:
- Нечего выкручиваться.
Гриневич поежился, затем встал, посмотрел на высоту.
- Ну что же, надо идти. Сюда-то немцы пустили. А отсюда?
- А вы чуть повыше, - показал Щапа - Во, под насыпью, а там свернете. Так скрытнее. За пригорочком.
Гриневич молча послушался я, прихрамывая, пошел вдоль целя над канавой.
«Может, как-нибудь обойдется», - подумал я.
15
Но - не обошлось.
Не пройдя а двадцати шагов, Гриневич остановился.
- А Цветков где?
- Раненых повел, - ответил кто-то в цепи.
- Давно?
- Да только что. Пока вы там разговаривали.
Замполит круто повернулся и едва не бегом, сильно припадая на левую ногу, снова направился к Ананьеву.
- Слышал?
- Что? - спросил Ананьев, и тут уж было ясно, что он не прикидывался, а и самом деле не понял, что встревожило его заместителя.
- Цветков смылся.
- Раненых повел. Я приказал. А что?
Гриневич замер под насыпью.
- Наивный человек! Кому ты приказал?
- Санинструктору. Кому же еще?
- Санинструктору! Ты знаешь этого санинструктора?
Ананьев с силой ударил оземь наверно уже опустевшей флягой. Подскочив, та плоско шлепнулась в грязь за канавой.
- Пошли они все к чертовой матери! Понял? - крикнул он, встав, и опять сел.
Гриневич на этот раз смолчал. В выражении его лица появилось что то новое, что-то отчужденно-безучастное, взгляд замполита остановился на недалеком пригорке.
- Знаешь, Ананьев, - после минуты молчания сказал он. - Знаешь, Ананьев! Расхлебывайсь-ка ты сам! Сам заварил все, сам и расхлебывай! Я тебе не помощник.
Ананьев поднял голову.
- Что - смываешься?
- Не смываюсь, а на законных основаниях отправляюсь в тыл. Я тоже ранен.
- Давай дуй, – просто сказал Ананьев.
- И я тебе не завидую. Все же, прежде чем такое выкинуть, надо было подумать.
- Что я выкинул? - снова вскричал Ананьев. - Чумака вернул? Ну и вернул! Тебя не спросил! Сам сделал, сам и отвечать буду. Понял?
- Нечего понимать. Все и так ясно.
- А мне наплевать! Я командир роты! А вон немцы! Видел?
Гриневич вздохнул.
- Знаешь, мало прытко в атаку бегать. Надо еще и понимать кое-что.
- Что понимать? Надо человеком быть.
- Да? Ну-ну! Давай! Только долго ль пробудешь?
Это уже был скандал. Они явно и насовсем размежевывались, только я, признаться, перестал понимать, в чем дело. Было абсолютно неизвестно, почему замполита так испугал Цветков, почему его нельзя было отправлять в тыл? Что-то недосказанное угрожающе встало между ними, о чем, судя по всему, всегда помнил Гриневич, и что только теперь начал понимать Ананьев. Я слишком хорошо знал обоих, и теперь не столько разгневанный вид ротного, сколько успокоенно-отрешенное состояние Гриневича свидетельствовало, что прав, наверно, Гриневич.
- Словом, я пошел, - сказал Гриневич. - Желаю успеха. Хотя какой там успех! - добавил он. - Пропащая рота.
Замполит коротко взмахнул рукой и, налегая на здоровую ногу, пошел вдоль дороги в тыл за пригорок.
Ананьев остался на насыпи в своей прежней унылой позе: широко расставив ноги в грязных кирзовых сапогах, низко уронив взлохмаченную светловолосую голову. Казалось, он что-то рассматривал в жухлой, прошлогодней траве, перебирая на голенище грязными пальцами. Но он не рассматривал, вообще вряд ли он замечал что-либо вокруг - он думал. Та грубоватая самоуверенность, которая часто вспыхивала в его глазах во время ссоры с Гриневичем, теперь окончательно исчезла, уступив место трудной, непривычной для него сосредоточенности.
Опять заморосило, ребята на разрытом откосе начали натягивать над окопчиками свои никогда не просыхающие палатки. У меня же палатки не было, комсоставская накидка Ананьева тоже где-то пропала: мы постепенно мокли, хотя комроты это почти не беспокоило. Я подумал, что надо, наверно, уходить - ведь он на рассвете уже отправлял меня из роты, - но теперь я просто не решался сказать ему об этом. К тому же мне почему-то не хотелось идти в тыл вместе с Гриневичем. Хотя я и понимал, что в этой стычке с Ананьевым замполит был, очевидно, прав.
Я выждал еще немного и встал, чтобы напомнить комроты о своей судьбе, - сколько же можно было торчать тут с моей раной?
И тут высота, несколько часов подряд настороженно молчавшая, вдруг огласилась басисто-неторопливой крупнокалиберной очередью. «Дуг-дуг-дуг» - простучало вдали, и тотчас над нашими головами пронеслась, разрезая воздух, не длинная и не короткая - средняя пулеметная очередь, аккуратно отмеренная опытною рукой хорошего пулеметчика. И прежде, чем мы успели сообразить, куда это он, с высоты простучало еще точно таким же количеством выстрелов. Но, как ни странно, опять мимо - ни одна пуля не вошла в насыпь дороги - мы бы заметили ее. Недоумевая, я поглядел на Ананьева, который, пригнувшись, живо скатился под насыпь. Автоматчики встревоженно выглядывали из своих окопчиков.
- Досиделись! - оборачиваясь к высоте, с досадой буркнул комроты и выругался. - Скоро из минометов палить начнет.
Но из минометов пока не палили, а пулемет тоже умолк, хотя, конечно, его появление на высоте не сулило роте хорошего. Щапа, окопчик которого был в десятке шагов на истоптанной насыпи, вылез из него с лопаткой.
- Товарищ старший лейтенант! Вам где выкопать?
- Подожди ты!
Ананьев не спеша взобрался на свое прежнее место и осторожно выглянул над дорогой. Следующая очередь с высоты уже не была неожиданностью, комроты только слегка пригнулся, что-то раздраженно приговаривая про себя. И тут я стал догадываться о том, что произошло.
От самого дальнего окопчика сюда уже кто-то бежал вдоль канавы, негромко покрикивая и показывая рукой на пригорок. Ананьев повернулся в его сторону, наверно, тоже понял, в чем дело, и на руках и коленях подался по откосу к Щапе.
- А ну, ты и Грищук - бегом!
Щапа, как всегда смекнув с полуслова, молча подхватил автомат и побежал под насыпью вверх. Командир роты, вытянув шею, продолжительно и беспокойно поглядел ему вслед. В конце ряда наших окопчиков, где насыпь становилась все ниже, они поползли по канаве и скоро скрылись из виду.
«Черт, неужели подстрелили?» - подумал я, сразу приуныв: ведь и мне предстояло отправляться той же дорогой.
В томительном ожидании прошло около часа. Пулемет, однако, молчал, а дождь все густел, туманная мгла в облачном небе стлалась низко, почти задевая пригорок. Я подумал, что это хорошо: непогода укроет нас лучше любого укрытия. Иначе из этой ложбины не вырваться.
Наше опасение, к несчастью, сбылось. Еще издали стало видно, что автоматчики кого-то несут вдвоем на палатке, неловко пригибаясь за невысокой вначале насыпью, пошатываясь под тяжестью ноши. Когда они подошли ближе, из крайних окопчиков кто-то подскочил к ним и на ходу ухватился за угол палатки - оскальзываясь, втроем они пошли быстрее. Ананьев сошел с откоса и туго сжал челюсти - теперь уже не было сомнения: замполит ранен.
Они опустили палатку у ног командира роты. Щапа устало сдвинул с грязного лба мокрую ушанку, другие двое смирно остановились напротив.
- Вот, - сказал Щапа. - В голову. И каска вдребезги.
- Пулей?
- А черт его... Разрывной, видно.
На изжелта-бледном, каком-то странно успокоенном лице Гриневича с надвинутой на глаза повязкой вдруг проступило беспокойство.
- Ну что, комиссар? - с участливой грубоватостью спросил комроты.
- Вот, не получилось, - сдерживая стон, проговорил замполит. - Не прошел.
Ананьев опустился на корточки.
- Больно?
- Тошнит, - выдавил из себя раненый. - Дрянь мое дело!
Командир роты поднялся.
- А ну, устройте лейтенанта поудобнее!
Щапа сбегал к ребятам, принес чью-то телогрейку, скоренько расстелил ее на мокрой земле. Потом вчетвером мы бережно переложили на нее Гриневича и тщательно укрыли его палаткой. Под голову подвернула конец рукава.
- Дрянь дело, - облизывая бескровные губы, тихо сказал Гриневич. - Ты не обижайся, Костя. Сам знаешь...
- Сволочи. - выругался командир роты и отвернулся.
Он поглядел на высоту, которая все больше окутывалась дождливым туманом, оглянулся на пригорок, обстрелянный крупнокалиберным. В оживившихся глазах комроты появилось какое-то намерение, и я подумал, что уж теперь он использует возможность отвести роту назад, на пригорок. С высоты, кажется, нас не увидят. Но Ананьев молчал, и я не мог подсказать ему это: такого рода подсказок от подчиненных он не терпел.
- Дай закурить!
Я не курил, от знал это и никогда не обращался ко мне за куревом. Но тетерь, наверно, просто забыл, кто возле него. Правда, тут же он спохватился и повернул голову к Щапе:
- Ты, неси закурить!
- Пожалуйста, - прошепелявил боец.
Он услужливо подбежал к командиру роты и, опустившись на колени, натрусил из бушлата щепоть махорки. Затем достал и бумагу. Ананьев закурил, избегая наших сдержанно-вопросительных взглядов.
- Позови Пилипенку.
Мы оба рванули с места, старшей лейтенант жестом вернул меня обратно.
- Щапа, ты!
Щапа бросился с откоса, командир роты затянулся два раза и внимательно посмотрел на затуманенную высоту. И вдруг он обернулся к цепи:
- Приготовиться к атаке!
У меня внутри будто оборвалось что-то, я стоял, сам не ощущая себя, не вполне веря тому, что услышал. Но Ананьев не шутил - это было слишком понятно каждому, командир роты был полон решимости добиться выполнения своей команды. А добиться он мог.
Кто-то выскочил из своего грязного укрытия, над окопчиками заворошились палатки, клейменые трофейные одеяла, разное военное лохмотье. Откос моментально ожил - все слишком хорошо понимали, что для нас означает эта коротенькая команда.
Тем временем по болоту уже мчался Щапа, за ним, отставая, грузно трухал Пилипенко с каской у пояса. Командир роты мрачно ожидал на откосе. Неуклюже перелезши канаву, старшина с излишней теперь официальностью откозырял и остановился, беспокойно поводя плечами и бросая озабоченные взгляды на укрытого палаткой Гриневича.
- Сколько человек во взводе? - не глядя на него, спросил комроты.
- У меня?
- Да, у тебя!
Пилипенко на минуту смешался. Разумеется, он уже считал себя рядовым и, наверно, понемногу свыкался с тем, а тут ротный, будто ничего между ними и не произошло, спрашивал про взвод.
- Пятнадцать, кажись, - неуверенно сказал старшина.
- Патронов есть немного?
- Трохы е.
- Приготовиться к атаке!
- Зараз?
- Да, зараз!
- Есть! - с непонятной, почти радостной решимостью гаркнул Пилипенко.
И ни удивления, и никакого вопроса - он воспринял приказ так просто, будто от него требовали строить взвод в баню или на ужин. Потом уже я понял, что тем самым Пилипенко без лишних слов возвращался к своей прежней должности, которая, оказывается, все же что-то для него значила.
- И давай всех сюда! В общий порядок!
- Ну видома, в общы, - подхватил Пилипенко. - Так мицнише вдарыты.
Командир роты смерил его придирчивым взглядом.
- И ты гляди мне! Чтоб не тянулись, как на базар! Броском!
- Нэ хвылюйтэсь! Побежать! Я их...
Ананьев, не дослушав, повернулся к Щапе:
- Принимай второй взвод!
- Я?
- Ты!
- Есть! - не сразу сказал Щапа, и было непонятно, обрадовало это его или обеспокоило.
- Что, не укомандуешь?
- Попробуем.
Командир роты немного подумал или, может, прислушался. Но на высоте было тихо, вокруг едва слышно шелестел мелкий, надоедливый дождь. Откуда-то из-за пригорка доносились далекие глухие разрывы.
- Пятнадцать минут на подготовку и - вперед!
Ананьев сказал это и замолчал. Новые взводные стояли не шевелясь - напротив внизу Пилипенко и в стороне от него Щапа. Они ждали, что он скажет еще, но он лишь коротко бросил: «Все!» - и они оба сразу побежали - один через поле, другой в тот конец насыпи. Командир роты вскочил на откос. Меня он будто совсем и не замечал.
Что ж, атака на войне - обыкновенное дело, хотя, конечно, вовсе привыкнуть к ней невозможно. Сколько бы раз ты ни поднимался в атаку и ни осиливал в себе свой страх, но каждый следующий бросок будет такой же жутковато-знобящий, как и все прежние. Ох, как не хочется вылезать из своего спасительного окопчика в огромный ревуще-грохочущий свет, пронизанный пулями и осколками, самого маленького из которых совершенно достаточно, чтобы прикончить твою единственную и такую необходимую тебе жизнь. Страшно вставать, но надо. Каждой атакой двигает приказ старшего командира, план боя. Иногда на нее вынуждает противник, который, если не уничтожить его, уничтожит тебя.
Тут же все, казалось мне, было по-другому.
Я переживал и не знал, как подступиться к командиру роты.
- Товарищ старший лейтенант, - сказал я.
Боком лежа на изрытом каблуками откосе, он наблюдал за противником и не повернул даже головы. Но он слышал мое обращение, что-то заподозрил в нем и насторожился. И я, стоя ниже, в трех шагах от него, тихо сказал, чтобы услышал только он, и никто больше:
- Напрасно вы...
- Что?
- Напрасно, говорю.
Ананьев замедленно, будто впервые меня тут услышав, обернулся на локте.
- Что? - переспросил он таким тоном, что я весь подобрался. - А ты какого черта тут околачиваешься? Я тебе что приказал? А ну - в тыл! Бегом!
Он кричал на меня впервые. Никогда прежде я не слышал от него злого слова, потому что изо всех сил старался не заслужить даже замечания, и он знал это. А тут крик! Сначала это меня ошеломило, и я молча стоял с таким чувством, будто под ногами зашатались и тихо опрокидываются куда-то и насыпь, и поле, и откос, и весь белый свет. Но очень скоро стало понятно, что вовсе не я был причиной этого крика. Скорее я подвернулся ему не вовремя. И мне не стало ни обидно, ни больно - было только тоскливо.
Между тем сюда уже бежал первый взвод. Полтора десятка автоматчиков гуськом трухали по взмежку. Пилипенко, размахивая полами длинноватой шинели, уже перебегал болотце. Я опасливо взглянул на высоту - к счастью, вершина ее все еще была в промозглом тумане, иначе немного их достигло бы насыпи.
Ананьев сел на откосе и сдвинул кабур «вальтера» к пряжке.
- Дай каску! - вдруг сказал он уже без недавней свирепости, будто тем самым давая понять, что больше на меня не сердится.
Я стащил через подбородок мокрый брезентовый ремешок своей каски и отдал ее комроты.
- Только там донышко криво подвязано.
- Что?
- Донышко, говорю, неровно подвязано.
- Черт с ним, донышком!
Он привычно надвинул каску на голову, но мокрый ремешок не налезал на его широкую костистую челюсть, и Ананьев завернул его на козырек каски.
- Жареному карасю кот не страшен! - со значением сказал он. - Понял?
Нет, я все еще мало что понимал в его измерениях и, недоумевая и досадуя, покорно стоял напротив. Сзади вдоль насыпи уже разбегались автоматчики первого взвода. Слышно было, как Пилипенко с привычной грубоватостью прикрикивал:
- Нэ высовуйся! Нэ лэзь попэрэд батька в пэкло! Чого нэ бачка?
- Вот так! - сказал Ананьев, будто говорить нам уже не было о чем, и крикнул: - Чумак! Ко мне!
Чумак поднялся из цепи и, неуклюже переваливаясь с боку на бок, подбежал к командиру роты.
- А ну ближе! Не бойсь, не укушу! Будешь ординарцем, понял? Я тебя выучу на героя, ядрена вошь!
Чумак молча стоял, явно не соображая, как воспринимать эти слова: всерьез или в шутку. Шинеленка его была уже подпоясана каким-то узеньким, наверно брючным, ремешком, на голову поверх шапки насунута чья-то ободранная каска. И тут я невольно взглянул на его все те же довольно-таки исправные сапоги и почти содрогнулся от четкой и совершенно нелепой сейчас мысли: неужто и действительно сегодня они достанутся мне?
- Васюков, отдай автомат! - распорядился комроты. - И присмотри замполита.
Замполита - пусть, но автомат мне отдавать не хотелось, хотя Чумаку он был, конечно, нужней. С чувством некоторого сожаления я снял с плеча свой видавший виды ППШ, и Чумак торопливо взял его, словно испугавшись, чтоб я не передумал. Правда, разбитый конец приклада ему вроде не понравился, но он тут же закинул автомат за плечо.
Ананьев взглянул вправо, влево - автоматчики вдоль насыпи все в напряженной готовности ждали команды, и командир роты дернул язычок кабура.
- Да, - спохватился он в самый последний момент и перебросил через голову узенький ремешок планшетки. - Держи!
Правой рукой я подхватил на лету ванинскую планшетку. Комроты вскочил на бровку дороги.
- Вперед!
16
Автоматчики быстро повскакивали и вдоль канавы бросились в сторону речушки. Несколько человек из второго взвода побежали по насыпи. Перед глазами замелькали их раскисшие сапоги, ботинки, мокрые, грязные полы шинелей со спутанной бахромой внизу, и я провожал каждого взглядом, словно навеки прощался с ними.
Кажется, я впервые оказался в положении наблюдателя из тыла, впервые рота пошла без меня, впервые Ананьев повел ее в атаку не со мной - с другим. Конечно, его слова насчет Чумака-ординарца не очень задевали меня (какой там из Чумака ординарец), и все же я не спускал с них глаз, ревниво следя, как они по дороге бежали к мостку, вместе переходили его по балкам. По всему было видно, что этот Чумак слишком уж всерьез взялся за исполнение своих ординарских обязанностей - похоже, и в самом деле поверил, что комроты сделает аз него героя.
Автоматчики полезли в речушку: у дороги уже никого не осталось, вокруг сделалось непривычно тихо и пусто. Гриневич, будто живой, ровно лежал под насыпью, незряче подставив дождю бледное, в темной щетине лицо. Теперь в мою тревогу за роту вплеталось еще и беспокойство за лейтенанта - хотя бы он продержался до отправки в тыл. Сбежав вниз с откоса, я тихо спросил:
- Ну, как вы?
- Васюков, да? Плохо, брат…
- Дать воды?
- Дай немножко.
Воды в круглом котелке, оставленном возле раненого, было немного, да и ту я половину пролил, пока неумело одной рукой поил замполита. Сделав мучительных два глотка, он едва не задохнулся, чем почти испугал меня.
- Ну как?
- Все, хорошо, - справившись с дыханием, сказал лейтенант. - Рота пошла?
- Пошла. На той стороне уже.
Осторожно я поправил на его голове шапку, прикрывавшую от дождя пухлую, неумелую повязку, натянул выше палатку. Состояние замполита мне решительно не нравилось, но что я мог сделать?
- Не надо было вам уходить, - сказал я вроде бы даже с упреком за его недавнюю ссору с Ананьевым.
- Да, не надо. Погорячился. Но этот Ананьев! Не думает, что делает.
- А что он такого наделал?
Гриневич не ответил.
Возможно, я чего-то не знал или не понимал чего-то, что хорошо было известно им, более опытным на войне и в жизни.
Однако с раненым мне не сиделось. Очень тягостно было смотреть на его обескровленное, искаженное болью лицо, к тому же отсюда не было видно роты. Оставив лейтенанта, я взбежал на откос и присел, высунув голову над дорогой.
Дождик все сыпал, все шире расползался туман в лощине, снегу на той стороне речки оставалось немного - рваные сизые пятна на мокром пологом склоне, по которому в третий раз бежали автоматчики. Со все разрастающейся тоской в душе я смотрел, как катастрофически быстро уменьшается в мглистом пространстве коротенькая их цепочка. Давняя, привычная связь между нами рвалась...
Ананьев то бежал, то быстро шел наискось по склону, как-то нагнулся, торопливо перевернул на спину тело убитого, забрал его автомат. Потом он минуту бежал, занимая свое место в цепи, а кто-то, что шел позади - возможно, Чумак, - ненадолго задержался над трупом - кажется, снимал сумку с дисками или гранатами.
Рота достигла середины склона. Уже непросто было и различить ее за мглистой завесой дождя, которая, к счастью, скрывала автоматчиков и от немцев. Только надолго ли? С высоты их вот-вот должны были увидеть, и тогда...
Тем не менее немцы молчали. Трудно было поверить, что они и во второй раз зазевались настолько, что не замечают атаки. Плохо было видно отсюда, но мне казалось, что верх высоты уже совсем близко. Еще один, самый последний бросок - и можно будет швырнуть гранату, выскочить из-за обрыва и, если повезет, с ходу занять конец траншеи. Эх, если бы удалось хоть одним отделением ворваться в траншею!
Внизу молча и одиноко лежал Гриневич, я не сразу понял, что и он ждет вестей с высоты. Видно, не дождавшись того, что хотел, замполит окликнул:
- Васюков! Где рота?
- Пошла, пошла.
- А почему не стреляют?
Этого я не звал. Не стреляли ни наши, ни немцы. Тем временем уже вся рота скрылась во мгле. Только пристально вглядевшись, можно было различить кое-где под самой вершиной маленький намек на движение. И по-прежнему не слышно было ни выстрела, ни крика, ни голоса - высота замерла, затаилась. Очень похоже было, что рота в самом деле достигла траншеи.
А может быть, немцы ушли?
Ведь было же такое, и даже не раз, когда немецкие позиции, за которые мы дрались день, два и даже несколько дней, вдруг оказывались незаметно покинутыми, и мы занимали их без всякого боя. Ведь мы не одни здесь, наши части где-то все же теснят фашистов, вон как грохает в стороне большака!
Ход моих мыслей вдруг приобрел другое направление, подумалось: какой же я размазня, в сущности, если столько передрожал понапрасну. Действительно, там же Ананьев, который умеет, знает, предвидит, как поступить наилучшим образом. В чем-либо другом он, может, и не силен, а чем-то он уступит Гриневичу, Ванину, даже Цветкову, но в таком деле, как бой, он разбирается отлично. Тут он профессор, генерал…
В сознании моем затеплился желанный огонек надежды, который, однако, искал себе подтверждения. Так хотелось найти и еще какой-нибудь признак того, что все хорошо.
И тут грохнуло.
Сперва показалось, что это взрыв, но тут же мглистое небо над лощиной туго вспороли пронзительные потоки пуль, вокруг защелкало, завыло - дождливое пространство в мгновение наполнилось звеняще-грохочущей сумятицей огня. В первые секунды явилось такое ощущение, будто высота не выдержит этого грохота, развалится на куски, но огненный напор и еще усиливался, послышался крик, возможно команда или ругань, однако на каком языке - было не понять. Боясь сморгнуть, я до рези в глазах вглядывался туда, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в стегающе-клокочущей мгле, но мгла, как и прежде, была совершенно непроницаема для взгляда.
В непостижимом остервенении около получаса высота обрушивала на окрестности стоголосый лихорадочный гром, в котором и на слух ни черта невозможно было разобрать. Очереди смешались в сплошной стонущий гул, из которого раза два как бы невзначай выбился дальний басовитый стук крупнокалиберного, но затем почти залпом заухали гранатные взрывы - они заглушили собой все. Несколько шальных пуль тугими шлепками вошло в насыпь дороги, я опустился на откосе пониже, втянул голову в плечи. Огонь был ураганный, и казалось очень сомнительным, чтобы на такой были способны наши каких-нибудь три десятка автоматов. Что ж, значит - немцы? Но в таком случае рота непременно должна откатиться - это уже я знал по собственному опыту. И тем не менее шло время, а на склоне не было заметно никакого движения оттуда.
Скоро, однако, трескучий огневой напор стал явственно слабнуть, тем самым обозначая, наверно, перелом в бое, я опять пристально вгляделся в притуманенные склоны, но - нигде ничего. Значит, не убегают, все там. Что же тогда - выходит, прорвались?
Опять долетел обрывок какого-то голоса, но опять невозможно было определить, кому он принадлежал, этот голос, - нашим или немцам. Автоматы беспорядочно потрескивали в разных местах, будто кто-то невидимый на высоте рывками раздирал необычной прочности ткань. Пули, однако, над дорогой уже не летали, и я подумал, что стреляют, по-видимому, в ту сторону. Но это значит, что огонь ведут наши.
Все же полной уверенности в этом у меня еще не было, в я все вглядывался в проступавшие сквозь дождевую мглу раскисшие пятна снега на той стороне - я бы сразу заметил, если бы там кто бежал. Но с высоты никто не появлялся.
Спустя еще четверть часа разрозненный автоматный треск прекратился, как-то нерешительно все вокруг смолкло.
17
Я ждал терпеливо и тягостно: если рота отбила высоту - значит, Ананьев должен был кого-то прислать за нами. Еще не веря, что все обошлось, я уже выглядывал его, всегда желанного посланца из боя, который бы окончательно укрепил нас в уверенности, что победили. Но он задерживался, этот посланец, что, впрочем, можно было объяснить: только окончился бой, и там тоже, разумеется, не обошлось без потерь.
Гриневич внизу, все время лежавший, как неживой, вдруг задвигался. Я вскочил, поскользнулся, подмяв полы шинели, сполз до канавы.
- Что, плохо вам?
С силой сжав зубы, он конвульсивно напрягся на земле, будто пытаясь разорвать на себе незримые путы, голова его запрокинулась, забинтованный затылок втиснулся в грязь. Минуту раненый боролся с болью или какой-то одолевавшей его недоброю силой, затем сразу обмяк и спросил:
- Где рота?
- Там рота. Кажется, взяли.
- Дай пить.
Я поднес к его сжатым зубам край котелка, опять пролил воду, но, кажется, немного выпил и он. Потом вроде успокоился, помолчал, с усилием вдохнул и прерывисто выдохнул:
- Не идут?
- Кто?
- За вами не идут?
Нет, за нами еще не шли, по крайней мере отсюда не видно было, но я ухватился за этот брошенный им предлог, чтобы опять взобраться на насыпь.
- Нет никого! - прокричал я оттуда.
Вокруг было тихо, мокро и совершенно пустынно. В этой тишине слышнее стали звуки далеких и близких боев: где-то за пригорком пророкотал пулемет, кажется наш «максим», с юга, ослабленное расстоянием, глухо доносилось мощное артиллерийское клокотание - будто кто-то могуче катал там, смешивая и сталкивая на земле, циклопические каменные громады: го-го-го, гу-гу, гах-гах-гах… Я сел боком на откос, то и дело поглядывая то на туманные склоны высоты, то на Гриневича внизу.
- Ну, где же они? - опять начал он напрягаться под плащ-палаткой. Оставив свое насиженное, более-менее сухое место, я в который уже раз сбежал вниз.
- Сейчас, сейчас. Скоро придут, - утешал я, сам уже теряя уверенность в том, что говорил. Действительно, как бы там ни было, на высоте, пора бы уж вспомнить и о нас.
- Может, сбегать туда? - предложил я.
- Нет, - сказал он сквозь стон. - Ни в коем случае.
Я посидел на корточках у его ног и поднялся: это проклятое ожидание уже становилось невмочь. Да и моя раненая рука болела, хотя и не так остро, как ночью, - наверно, надо бы переменить повязку.
- Тошнит! – выдохнул Гриневич, встрепенулся и, как будто спеша куда-то, с торопливой решимостью произнес: - Васюков! Иди в тыл.
- А вы?
- Я уже. Отвоевался... Погляди, не идут?
Нет, ни на склонах, ни на дороге никого не было, вовсю сыпал дождь, суживая вокруг и без того ограниченное ненастьем пространство. Опять за родилась смутная, безотчетная тревога.
Заметное беспокойство появилось и на небритом, осунувшемся лице замполита, когда я снова спустился к нему. Молча минуту я вглядывался в раненого, не желая беспокоить его своим тут присутствием, но он, видно, услышал меня и с такой настойчивостью выдохнул:
- Ты тут? Не надо. И… это самое… Ведь мы земляки.
- Как! – сорвалось у меня. - Вы разве из Белоруссии?
Боже мой, как же так получается? Четыре месяца мы провели бок о бок и фронте - и воевали, и ели, и спали, даже - случалось - он покрикивал на меня, а я даже и не подумал, что он - мой земляк.
Почему он не намекнул мне о том раньше: ведь нас, белорусов, в роте не было больше?
- Почему же вы не сказали? - упрекнул я с досадой, опускаясь подле него на колени.
- А зачем? Зачем отделяться?
На меня нахлынула вдруг почти нежность к Гриневичу, надо было что-нибудь делать, как-то спасать замполита, но я не знал, куда теперь можно податься.
Вдруг он напрягся, круче запрокинул голову и, вытянувшись, повернулся на бок. Шапка свалилась с головы, неуклюжая толстая повязка с грязными следами от пальцев на марле сползла на ухо. Я ухватил его за плечо, не давая ему вовсе скатиться с фуфайки, и почувствовал под пальцами неимоверный на холоде жар его тела. Гриневич задвигал ногами, будто пытаясь скинуть с себя палатку.
- Что с вами? Что с вами? - испуганно заговорил я, но он уже не ответил. Я начал придерживать его на фуфайке, хотя одной рукой сладить мне с ним было трудно. К тому же, кажется, он перестал узнавать меня и не очень внятно, в нос, как никогда не говорил прежде, вскрикивал:
- Горохов! Горохов!.. Беги! Стой! Ну как же ты!.. Позовите Горохова!..
- Какого Горохова?
Он вдруг содрогнулся, оперся на руки в приподнялся, пристально и недоуменно взглянув мне в лицо широко раскрытыми, но уже вряд ли что выражающими глазами. И, как подрезанный, упал навзничь.
- Кажется, я все...
- Что вы? Товарищ лейтенант! Что вам?
- Ладно. Ты иди, - вдруг внятно произнес он. - Я умираю.
- Что? - вырвалось у меня. Но тут же я понял, что он не оговорился, и я не на шутку испугался. Надо было немедленно что-то предпринять, во у меня не было даже воды - пустой котелок лежал на земле, дождь легонько барабанил по его боку. Не раздумывая, я схватил котелок и вдоль канавы под насыпью кинулся к речке.
Громко чавкая сапогами в набрякшей влагой дернине, я подбежал к берегу - вода тут была глубоковата. Чтобы дотянуться до нее, пришлось стать на колени, и я, вытянув руку, торопливо взмахнул котелком. Но легкий котелок непослушно вихлял на проволочной дужке, не желая погружаться в воду. Я склонился пониже, но тотчас в испуге резко вскинул голову и замер.
На том берегу напротив из туманной дождевой мглы у дороги выскользнул тусклый силуэт в каске, чуть поодаль появилось еще двое - я метнул взглядом в сторону в увидел почти всю цепь, настороженно и скоро шагавшую по истоптанному склону вниз.



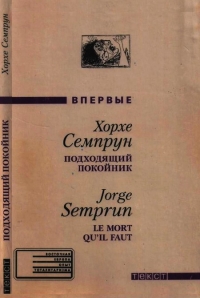


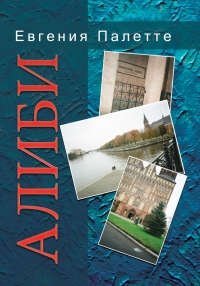



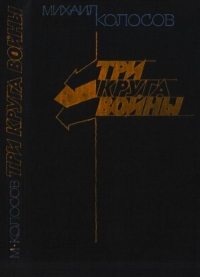
Комментарии к книге «Атака с ходу», Василь Быков
Всего 0 комментариев