Виктор Кава КРАСНАЯ УЛИЦА Повесть
Имя Спиридона Гнатюка известно во всей Волыни. О юном партизане периода Великой Отечественной войны создано много рассказов, очерков, о нем поют песни. Пионеры устраивают походы по тем тропкам, по которым ходил бесстрашный курьер. Именем Спиридона Гнатюка названы лучшие отряды и дружины.
Эту книгу я посвящаю незабвенному сыну Волыни. Повесть написана мною на основе воспоминаний его побратимов по борьбе, родных, друзей, а также легенд, которые рассказывают о славном партизане в волынских селах.
АвторПРОЩАЙ, БРАТЕ…
Спиридон с братом Иваном посреди двора мастерили змея. Дело было в воскресенье, погода стояла — только змея запускать: небо еле-еле белеет высокими прожилками облаков, ветер шуршит листвой. Унесет змея под самые облака, все село увидит. И каждый, кто не поленится поднять голову, прочитает, что в следующее воскресенье в клубе состоится спектакль драмкружка — оперетта «Свадьба в Малиновке».
И вдруг ворота настежь, брат Михайло стремглав вбежал во двор. Под ногами у него хрустнул змей, хлопцы закричали: «Ты что, ослеп?» Михайло мимо ушей пропустил их вопли. Посмотрел на отца, застывшего возле сарая с вилами, и громко произнес страшное слово:
— Война!..
Народ быстро собрался на майдане. Женщины пригорюнились, тихонько всхлипывают, степенно кашляют старики. Молодежь столпилась отдельно.
Из сельсовета вышли председатель, секретарь и Михайло. Вынесли знамя. Оно заплескалось на ветру, багрянцем ударило в глаза.
Речь держал председатель сельсовета. Потом Михайло. Говорил он горячо, возмущенно:
— Коварный враг нарушил наши священные границы… Он идет навстречу своей гибели…
Ветер подхватил слова, разнес над майданом. Спиридон стоял впереди, среди женщин. Они грустно качали головами, хотя Михайло и говорил уверенно о скорой гибели врага.
А Спиридон ни капельки не грустил. Он никогда не был так воодушевлен, как сейчас. Стоял и вертелся, поглядывая на восток — оттуда вот-вот тучами, сотрясая воздух, вынырнет из-за облаков множество самолетов, и они тут же забросают фашистов бомбами, смешают их с землей!
Михайло закончил речь, вытащил лист бумаги:
— Товарищи, не будем ждать повесток. Составим список добровольцев и все пойдем в райвоенкомат. Дорога каждая минута.
Спиридон думал — сейчас мужчины бросятся к Михайле, целая очередь выстроится. Но не тут-то было — все стоят не шелохнутся, каждый глух и нем. Те, кто постарше, смотрят куда-то поверх голов. Парни переглядываются.
К Михайле шагнул комсомолец Тимош Одуд.
— Записывай, — сказал он. Лицо у него было строгое, решительно насупленное.
За ним еще один комсомолец подошел, Гуцов Андрей, потом еще… Только один Микола Ханюк нырнул в толпу.
Женщины сорвались с места, окружили парней. Заохали, запричитали:
— Что же вы бросаетесь очертя голову?
— Да у тебя же, Андрюша, рука покалечена!
— На кого же ты нас оставляешь, Тимош? Мы же стоим одной йогой в могиле…
Вдруг из-за пригорка — самолет. Он мчал прямо на толпу. Ближе, ближе… Мотор захлебывается — ушные перепонки не выдерживают. Неожиданно к реву мотора прибавилась какая-то трескотня.
— Ложись! — крикнул кто-то перепуганным голосом…
Как только звук мотора, раздробленный между хатами, растаял, люди стали поднимать головы. Молча, испуганно смотрели в небо. Спиридон тоже задрал голову. И ему показалось, что за эту минуту, пока летел самолет, небо стало чужим, холодным, враждебным…
Михайло, председатель сельсовета и секретарь не видели неба. Они смотрели на людей.
— Так… — глухо сказал Михайло. Повернул голову к мужчинам: — Кто же первый? Времени нет…
Мужчины упрямо молчали. Махорочный дым клубился над ними едким облаком. Наконец кто-то сказал:
— Подождем повесток. Чего ж мы пойдем наперегонки.
— Ну как хотите, — Михайло сердито свернул бумаги. И к хлопцам: — Сегодня под вечер трогаемся. Сбор возле сельсовета.
Мать, услышав, что Михайло идет на войну, ударилась в слезы:
— О господи!.. Сыночек мой!.. Зачем же я тебя качала-нянчила, для чего растила? Чтобы ты грудь подставил под пули германские? Кроме тебя, некому идти?.. Ты ведь партейный, клубом заведываешь… — Слезы застилали ей глаза, крупными каплями скатывались по лицу, пятнали ситцевую белую кофтенку, одетую по случаю воскресенья.
Михайло нахмурил брови, сжал зубы. Нелегко ему было видеть материнские слезы. Он подошел к ней, обнял.
— Мама, много народу в нашей стране, и всем надо браться за оружие. Каждая семья обязана дать воина. Пример должны показать коммунисты. Такова наша обязанность — быть везде первыми.
— Ох… Ну, подожди же, я тебе хоть коржиков испеку, ты ведь любишь их, — сквозь слезы едва выговорила мать, а сама с места не сдвинулась, словно приросла к Михайле.
Вышли из села в предвечернюю пору — закат украсился ковром всех цветов — от оранжевого до темно-синего. Но никто даже не взглянул ни на небо, ни на поле, плескавшееся сизо-желтыми волнами. Говорили о войне. Сколько времени она будет продолжаться? Куда девались наши самолеты? Неужели это с фронта доносится грохот? В какую сторону их пошлют? Спиридон, стараясь шагать широко, в ногу с парнями, ловил каждое слово. Михайло уже в который раз напоминал ему, чтобы возвращался. Напрасно.
А когда сумерки обложили все вокруг, решительно показал Спиридону рукой назад:
— И не проси, и не моли — кругом марш! А то по шее получишь!
Спиридон съежился:
— Да ты что, совсем?.. Посылаешь меня в такую темень. А вдруг дурной человек по дороге встретится? — Он прикинулся бедненьким, несчастненьким.
Хлопцы захохотали.
— Ну и хитер же у тебя брат. Пусть остается, завтра вприпрыжку днем прибежит.
Так и шел он сквозь ночь вместе с парнями, будущими солдатами. Сквозь июльскую тихую звездную ночь, пахнущую разомлевшим лесом, созревающей рожью, сном жаворонков, полными зорями. Они шли, не замечая этой ночи, не слыша ее звуков. Слышали только дальний грохот войны. Она магнитом тянула к себе.
Ночь провели в местечке, во дворе военкомата, прямо на траве. Кроме них, там еще была группа парней. В одной из комнат военкомата всю ночь горел свет, но никто оттуда не выходил.
Михайло и Спиридон нашли во дворе укромное местечко и вместе прилегли на траву.
Спиридон заглянул Михайле в лицо.
— А не мог бы ты взять меня с собой? — В голосе Спиридона слышалась мольба. — Не для того, чтобы в атаку с вами ходить. Я знаю, в бой меня не пустят. А просто так — винтовки чистить, за лошадьми присматривать. Сам же говорил — каждая семья обязана дать воина. А от нашей семьи еще помощник воина будет.
Михайло покачал головой:
— А вдруг тебя убьют, что тогда?..
— Уж так и убьют. Пусть только попробуют. Я мал и вертляв, в меня не попадут.
— Снаряд или пуля не посмотрят, что мал. — Михайло покачал головой. — Давай прекратим пустой разговор.
Как только рассвело, скрипнула дверь военкомата. Кто не спал, все вскочили. Вышли два командира с покрасневшими глазами, уставшими, напряженными лицами.
Михайло подошел к ним:
— Товарищи командиры, мы вот пришли. Добровольцы.
Военный с маленькими черными усиками охрипшим голосом сказал:
— Молодежь? Похвально. Сейчас разобьем вас на группы, и пойдете на фронт. Как ваша фамилия?.. Гнатюк? Так вот, вы поведете добровольцев из своего села.
— Как это понимать — пойдете на фронт? Нас повезут, или как? Дорога, видать, не близкая? — В голосе Михайлы послышалась растерянность.
Командир подергал усики.
— Ситуация такова, товарищ Гнатюк, что наши части немного отошли. Временно, конечно. Внезапное нападение. Подтягиваем силы. Ясно? Ну и сменили позиции. Связь с ними нечеткая… Даю вам направление — идите на Радехов. Там скажут, куда дальше…
Спиридон ничего не понимал. Как это так — отошла Красная Армия? Не может этого быть…
Спиридон проводил Михайла до развилки.
Стали посреди улицы. Михайло начал быстро говорить — чтобы слушался мать с отцом, старался в школе и не вздумал бежать на фронт. Наконец сам почувствовал — не то говорит, совсем не то, другие слова надо бы сказать, какие-то особенные.
И они несколько минут молча смотрели друг на друга. И Спиридону вдруг стало так страшно, что он даже покачнулся. Неужели может так случиться, что Михайло не вернется? И он дрожащим голосом повторил слова, сказанные на прощанье матерью:
— Гляди там не лезь по-глупому под пули…
— Ладно, ладно, — через силу улыбнулся Михайло, порывисто обнял брата и побежал догонять группу.
По дороге оседала густая пыль, взбитая ногами парней.
На душе у Спиридона вдруг стало одиноко и тоскливо. Еще постоял, глядя вслед односельчанам, и побежал домой. А когда местечко осталось позади, только ветер клонил к земле густую рожь, перестал сдерживать слезы, давившие горло.
Дома переполох.
— Тебя где носило? Совести у тебя нет! — Еще никогда Спиридон не видел мать такой сердитой. — Мы уже все ивняки и лозы обшарили!
Спиридон боком подошел к полатям, сел, опустив глаза. Хотел было соврать, что Михайло попросил проводить. Но раздумал: зачем на Михайла напраслину возводить?
И рассказал все, как было. Понял — нагорит ему за это. Отец уже молча снимает ремень…
Выручил Спиридона брат Сашко.
— И нужно же было мне уехать в Перемиль! — корил он себя. — Пошел бы с Михайлом… А теперь и повестки нет, и председатель сельсовета не пускает. Уехать самовольно, что ли?
Отец уже встал, но смотрел не на Спиридона, а на Сашка:
— Хотел малого пороть, но придется, видно, большого драть… Сказано — пока что сиди в Зеленом и помалкивай. Председателю сельсовета виднее, чем тебе…
— Да ну вас! — Сашко махнул рукой — и ходу из хаты. От порога бросил: — Я в сельсовет.
Мать, всхлипывая, стала подметать пол. Она всегда, когда взволнована, хватает веник. А отец сел на табуретку, взял из кучи обуви ботинок. Смотрел на него и не видел, что тыкает шилом не туда…
Спиридон тоже вышел из хаты.
Как неприкаянный шатался по огороду, зачем-то вырезал палку. На душе делалось все тяжелее и тяжелее…
Садилось солнце, обагряя стены хат. Пролетели три тяжелых немецких бомбовоза, вокруг них носились юркие истребители. Бомбовозы басом предупреждали: везу-у, везу-у…
Во двор через плетень заглянула соседка. Увидев Спиридона, протараторила:
— Передай своим, там, говорят, Гуцов Андрей вернулся.
Они бежали к Гуцам — мать, отец, Спиридон, Иван, жена Михайла, — не разбирая дороги.
Андрей, который вместе с добровольцами села, во главе с Михайлой Гнатюком, совсем недавно отправился на фронт, сидел на табуретке посреди двора и жадно курил. Вторая рука его была перевязана куском простыни. Сквозь повязку проступило кровавое пятно. Говорил он медленно, тяжело, будто выталкивал из себя прилипшие где-то в горле свинцовые слова. А вокруг него безмолвно замерли отцы и матери парней, ушедших с Михайлой.
— Так вот идем мы. Толкуем о том, о сем. Оглядываемся по сторонам. Глядим, едет кто-то навстречу на подводе. Пригляделись — Савка Розак. «Вы откуда едете? — спрашиваем. — Наших не видели?» Смотрит на нас волком. «С ярмарки, — отвечает. — И ваших видел. Через лес бегут в Расею, как зайцы». Мы к нему: «Молчи, гадина! Люди воюют, а ты по ярмаркам разъезжаешь да еще слухи всякие распространяешь…»
Огрел он лошадей, только полоса за ним легла… Миновали мы этот лес, входим в другой, сосновый. Честим Савку — эхо в лесу стоит… Сели передохнуть… Вдруг: «Хальт». Оглядываемся — немцы. Соскакивают с Савкиной подводы. Мы врассыпную. А они открыли стрельбу. Бегу, задыхаюсь. В руку как долбанет! Я покатился в какую-то яму. Лежу ни живой, ни мертвый. Слышу, немцы идут, галдят по-своему. Один из них говорит Савке по-нашему: «Сколько их был?» «Десять человек, господин офицер» — это Савка. Опять слышу — немец: «Девят ест, а где десят?» — Андрей бросил цигарку, красный глазок сверкнул в траве. И все, кто стоял, почему-то посмотрели на этот глазок. А Андрей никак не мог вымолвить страшные слова… — «Да где-нибудь околел в кустах, как и эти», — отвечает ему Савка…
— Где это приблизительно? — глухо спросил у Андрея отец Спиридона.
Андрей рассказал. Отец, ступая одеревеневшими ногами, вышел со двора.
А Спиридон сорвался с места и побежал куда глаза глядят…
Опомнился на старом орехе, росшем в конце огорода. К нему сквозь лапчатую душистую листву заглядывала щекастая луна. Но Спиридон плохо ее видел из-за слез.
Все будет — этот орех будет мягко шелестеть листвой, луна будет всплывать в небе, серебрить потемневшие в ночи сады, — а Михайла не будет… Никогда… Не будет его серых глаз, бодрого голоса, сильных рук.
И вдруг все тело Спиридона затряслось от ярости. Задыхаясь, он закричал в темноту:
— Гады… проклятые… паразиты!.. Я вас… всех… всех… убью!..
Под орехом послышались чьи-то торопливые шаги. И голос Сашка. Спиридон с трудом узнал голос брата, до того он изменился. Говорит, а сам как будто при каждом слове грушу-дичок глотает.
— Слезай… Пошли домой. Надо… быть возле… матери.
Спиридон слез. Сашко взял его на руки, как маленького, и понес. Под сапогами хрупали огуречные плети. И вдруг Сашко заплакал. Плакал он по-мальчишечьи горько, безутешно, глубоко и тонко всхлипывая… Спиридон гладил его по взъерошенным волосам и растерянно шептал:
— Не надо, слышишь, не надо…
Возле хаты Сашко порывисто поставил Спиридона на землю, некоторое время стоял неподвижно, смотрел на луну. Потом вытер лицо рукавом сорочки.
— Пошли. Я уже был у того… гада, Савки… — голос у Сашка стал низким, напряженным. — Нет… Прячется где-то… Все равно не спрячешься! — он потряс кулаком в темноте. — Под землей найду и раздавлю, как червяка!..
Ночь проглотила его слова.
«ГДЕ ТВОЙ СЫН?»
На третий день грохот подкатился к селу. По улице проскочила подвода, к ней была приторочена маленькая пушка. Красноармейцы полосовали кнутами запыхавшихся лошадей и оглядывались назад. Спиридон, стоявший у ворот, проводил подводу долгим тоскливым взглядом. Вдруг он даже присел от неожиданности. Из своего двора в конце улицы торопливо вышел Савка («Откуда он взялся? Неужели дома, гад, прятался?»). На вытянутых руках он держал вышитый рушник. На нем лежал белый каравай. И откуда он такой откопал? Большой, с подрумяненной коркой… Немцы были еще далеко, а Савка уже сгибался в поклоне и так, согнутый, семенил по улице с непокрытой головой.
Спиридон метнулся, чтобы догнать Савку, выбить у него из рук каравай, но тут же вспомнил, что Сашко поехал на хутор с председателем сельсовета. «Они могут не заметить, что немцы уже близко, и попадутся… Надо предупредить».
Сашка и председателя сельсовета Спиридон встретил на полпути от хутора до села. Они сидели на телеге, груженной мешками с зерном — собирали для фронта, — и, понукая коротконогую лошадку, встревоженно поглядывали на запад.
— Сашко! — еще издали закричал Спиридон. — Они уже под селом! Савка вышел с хлебом и солью!
— Что? — Сашко вскочил с телеги и побежал навстречу брату. — С хлебом и солью? Ух, подлец! Я ему сейчас…
Сашко бежал не оборачиваясь. Спиридон на ходу оглянулся: председатель, бросив подводу, бежал вслед. Догнал Сашка, схватил его за ворот.
— Ты что? — закричал сердито. — Смерти захотел? Быстрее в лес!
Сашко так рванулся — ворот остался в руках председателя. Шустрый Спиридон едва поспевал за братом.
Они вбежали во двор, когда облако пыли заволокло село. Сашко кинулся в хату и через мгновенье выскочил с наганом в руке… За ним выбежал отец. Схватил Сашка обеими руками за бока. Сашко резко дернулся, но не вырвался. Мотнул головой, побелевшими от гнева глазами посмотрел на отца. Ни один мускул не дрогнул на лице отца. Привычным, ровным голосом он сказал:
— Сынок, он уже далеко… Вот-вот встретит немцев. Поздно… Заскочи в хату, возьми торбу — мать кое-что приготовила — и беги…
Брат уже исчез за колодцем, словно растворился в зелени огородов, а в ушах Спиридона звенели его слова: «Они еще заплачут у нас кровавыми слезами! Мы с ними за все рассчитаемся!»
Отец вздохнул и ушел в хату, а Спиридон побежал к воротам.
По улице с грохотом двигались танки. Никаких примет, что в них есть люди. Казалось, они сами катятся, сотрясая землю, уродливые, неуклюжие.
— Кинд, вынес вассер, — вдруг послышался молодой веселый голос.
Спиридон вздрогнул. Рядом вынырнул из пыли солдат — белокурый, запыленный, только зубы белеют. Зелено-серая пилотка сбита набекрень, оружие небрежно повесил через плечо. Позади него показались еще солдаты — человек десять. Они громко переговаривались, с любопытством глазели по сторонам, заглядывали через плетни.
Солдат терпеливо ждал, не переставая улыбаться. Спиридон все понял — они в школе немного изучали немецкий. Просит воды… Воды врагу? Ни за что! И он стремглав бросился от ворот, вскочил в цветник, буйно разросшийся возле погреба, и прилег там…
Немец пожал плечами, незлобиво бросил: «Совсем дикой кинд» — и побрел дальше.
Понурый Спиридон выбрался из цветника и пошел в хату.
В хате вся семья была в сборе, кроме двух братьев… Все молчали, словно воды в рот набрали. Отец сидел за столом, сложив перед собой заскорузлые руки. Мать съежилась на полатях, по ней было заметно, что у нее нет больше слез плакать. Иван глядел в окно, и на его лбу прорезались две тоненькие морщины…
Отец взглянул на Спиридона и сказал, обращаясь ко всем:
— Вот и пришли немцы…
На следующий день к ним во двор вошли Савка Розак, Микола Ханюк, с ними трое немцев. Спиридон, который неподалеку пас корову на мураве, быстро погнал ее домой.
Навстречу «гостям» вышел отец, хмуро спросил:
— Что вас к нам привело?
Говоря эти слова, он смотрел на немцев, словно Савки и Миколы не было здесь. Савка насупил брови, сверкнул злыми глазами. А как только повернулся к немцам, тут же заулыбался, словно его калачом одарили.
— Вот господа, значит, желают повидаться с твоим сыном-комсомольцем.
Спиридон никогда не видел вечно нахмуренного неторопливого Савку таким проворно-услужливым, разговорчивым. У него даже голос стал тоньше…
— Комсомол? — посмотрел на отца немец со шрамом на щеке. — И недоверчиво повторил: — Он есть комсомол?
— Нет, нет! — засуетился Савка. — Сын его, зон, или как там по-вашему…
Немец понял, хмуро оглядел отца с ног до головы:
— Во ист дайн зонн?[1]
Отец пожал плечами, не понимаю, мол. Савка, стараясь точно передать тон немца, сказал:
— Они требуют, чтобы ты немедленно сказал, где твой сын, иначе голову оторвут…
Отец развел руками:
— Нет его. Куда-то ушел.
— Ушел? А если найдем?
Отец посторонился:
— Ищите. Можете у меня за пазухой посмотреть…
Спиридон оставил корову за воротами, а сам прошмыгнул во двор. Глаза его остановились на Миколе. С какой стати он здесь?
Немцы разошлись по двору. Тот, что со шрамом, заглянул в сарай, брезгливо поморщился, поманил пальцем Савку. Савка угодливо кивнул головой, повернулся к Миколе и, подражая немцу, поманил его. Вскоре из сарая полетело сено, дрова, испуганно закудахтала курица. Белокурый немец, тот, что просил воды, проворно обернулся, в его руке дернулся автомат. Та-та-та, — раздалась очередь. Курица упала. Белокурый деловито пощупал ее и спрятал в свой ранец.
Они искали везде — на чердаках, в хате, в сарае, в огороде. Савка и Микола не поленились даже навоз перековырять за сараем. Немцы забрали еще двух кур, не успевших спрятаться в зарослях огорода, мамины рушники, вышитые красными и черными нитками, и пошли к воротам.
Спустя несколько дней опять зашел Савка.
Задрав бороду, подошел к отцу, хлопотавшему возле сарая.
— Ты еще в хате со своими выродками? Удивляюсь… Чтобы через три дня и духу вашего здесь не было. Видали, занял хоромы… В сарае ваше место… И чтобы мне сына привел. А то… Боюсь, с немцами разговор будет коротким.
Отец так посмотрел на Савку, что тот попятился и скрылся за воротами. Отец плюнул ему вслед.
Свет не зажигали; от огня, полыхавшего в печи, по хате метались красные отблески. Мать хлопотала возле печи. Подавленная, расстроенная. Спиридону хочется подойти к ней, сказать что-нибудь в утешение. Но что скажешь? И он молча сидит на полатях, обняв Грицика, уже посапывающего носом.
Со двора вошел отец, поставил на лавку керосиновый фонарь, сел.
— Поди-ка сюда, мать. И вы, сыновья, подходите. Будем совет держать.
Спиридон осторожно уложил Грицика в постель, подошел к отцу.
— Думал я тут, прикидывал — и вижу: надо нам уносить ноги из села.
— Как это уходить? — встрепенулась мать. — А если Сашко придет? Он даже не будет знать, где нас искать!..
— Ты права, — тяжело вздохнул отец. — Но дома нам оставаться никак нельзя. Савка не успокоится, пока не отправит всех нас на тот свет. Да еще Миколу взял к себе в помощники. Комсомольца. Куда они смотрели, когда принимали его в комсомол?.. Ну, а Сашко… Дочка же наша Катерина останется здесь с детьми и мужем. Сообщим ей потом, где мы…
В БЕЛЫЙ СВЕТ
Тронулись на рассвете, как только первые петухи подали голос. Тихо открыли ворота, тихо выехали на сонную улицу. Настороженно оглядывались — не поднимет ли нечистый дух в такую рань какого-нибудь ретивого немца…
Не слышно никого. Молчат собаки. Только один пес спросонья залаял и умолк.
Миновали последнюю хату, отец на минутку остановил подводу возле вербы.
— Думаю, что на север подадимся, все же знакомая дорога.
Спиридон напоследок посмотрел на Зеленое. Вон майдан, где он перед односельчанами читал стихотворение. Вон клуб виднеется, на нем уже нет красного флага… Клуб еще долго было видно, казалось, он провожал Спиридона. А он вспоминал, вспоминал обо всем — о школе, спектаклях, праздниках, как разносил почту… И все это казалось таким красивым, светлым… Вернутся ли они когда-нибудь в Зеленое?
К обеду напали на копанку, обросшую кустами калины, купырем, устрашающего роста крапивой… Отец остановил быка.
— Вот здесь и перекусим… Вода есть, огонь тоже пока что есть. Хлопцы, ну-ка сбегайте за хворостом…
Когда костер закачал на ветру бледные языки, Спиридон отошел за куст, лег навзничь на душистую траву, загляделся в небо. Глубокий синий шатер, натянутый так, что нет ни одной морщины, накрыл землю…
— Немцы…
Отец произнес это слово тихо, а Спиридон вскочил так стремительно, что небо качнулось.
Прямо на них ехали немцы. На длинной машине, которая, ворча, выплевывала назад пряди грязного дыма. Машина, взревев, поравнялась с ними. Немцы сидели рядами. Руки на автоматах, глаза — вперед. Ни один даже не взглянул на Гнатюков. Как будто они проезжали мимо кустов…
— Господи, пронесло, — перекрестилась мать.
Под вечер, подъезжая к какому-то хутору, заросшему высокими деревьями, еще раз повстречали немцев. Пятеро их шло к хутору. Что-то пели, видно, под хмельком. Окружили подводу, смеются, хлопают отца по плечу, дали сигарету. Им весело, они побеждают наших.
Спиридон видел, как уверенно дернул немец дверь ближайшей хаты. Как будто к себе домой пришел.
За день миновали четыре села. Останавливались невдалеке, отец зачем-то брал хворостину и шел в село. Пока он ходил, все молча, напряженно сидели на телеге.
Отец возвращался, сердито стегая хворостиной по сорнякам. Садился на телегу, понукал быка. А когда отъезжали подальше от села, скупо говорил: «Откуда возьмутся свободные хаты? А брать к себе никто не желает. Не те времена, чтобы принимать чужих людей…»
Ночевали посреди ржи под колючей грушей-дичком.
Пока Иван лазил на грушу за сушняком, Спиридон подсел к отцу, который сворачивал цигарку.
— Тату, как же так случилось, что Микола к Савке присоседился? Он же комсомолец…
Отец неожиданно рассердился:
— «Тату, тату»!.. Как будто ваш отец все знает…
Он долго сердито сосал цигарку. Наконец посмотрел на Спиридона.
— Верно ты подметил насчет Миколы — «присоседился». Есть такие людишки — у кого сила и большой кулак, к тому и присоседиваются. И всю жизнь на смешках… А веселых любят…
Спиридон заметил — с тех пор, как не стало Михайла и ушел в партизаны Сашко, отец стал по-иному смотреть на него и на Ивана. Как будто они повзрослели за несколько дней… Серьезно разговаривал с ними, иногда даже советовался… Мать редко участвовала в этом — она привыкла во всем полагаться на отца…
Легли спать — мать с младшими ребятами на телеге, а отец, Иван и Спиридон — на земле.
Спиридон никак не мог умоститься. Сквозь солому пробивался какой-то сучок… Отодвинулся подальше — сухой комок земли стал давить. А тут еще что-то тяжело ухнуло — точно свалился с неба огромный камень. Спиридон встал, огляделся. Рожь ночью похожа на невыразительные темно-синие волны, на которых кое-где просматриваются группы кустов, похожие на сморенных сном зверей с крутыми спинами. А вон, вдалеке, один такой зверь тронулся. Спиридон протер глаза. Что за наваждение?.. Да ведь это не зверь, это машина — синие огоньки щупают землю. Машина приближается, уже слышно ворчанье мотора. Спиридон лихорадочно огляделся. Тех, что лежат внизу, не видно. А вот телега чернеет, точно ее облили дегтем. И корова, и бык Цыган, будто нарочно, и не думают ложиться… Увидят… Что же делать?
Побежал в рожь, стал срывать ее пучками. Рожь сопротивлялась, резала ладони. Бросал пучки на телегу, спины быка и коровы. Бык равнодушно стоял, разве что изредка, когда пучок падал прямо на морду, смахивал его языком. А корова подумала, что Спиридон среди ночи решил подкормить ее, замахала хвостом, громко зачавкала. Спиридон шепотом просил Лиску не шуметь. Тщетно. Тогда он схватил корову за морду, зажал ее. Корова обиженно мотала головой, вырывалась. Тем временем машина прогудела мимо груши. Сорочка у Спиридона была мокрой, хоть выжимай. Снял ее, и тут глупая скотина как замычит. Кажется, на все поле, до самого мерцающего горизонта долетел ее голос. Спиридон, вздрогнув, посмотрел на машину. Неужели останавливается? Неужели?.. Обернулся к корове. А она опять открывает свой широкий рот. Схватил хворостину, попавшуюся под руку. «Ах ты скотина рогатая!» — стал стегать ее. Никогда он так безжалостно не бил корову. И она, хоть и скотина, но, видно, сообразила, сжала рот, затихла. Только темный глаз сверкает влажно и виновато. Посмотрел на машину. Нет… Уехала… Подошел к Лиске, погладил ее: «Не сердись! Сама виновата. Это ж не пастбище».
Зашелестела солома. Отец повернулся во сне. Спиридон нащупал топор в задке телеги, медленно стал прохаживаться вокруг «лагеря». Все устали, напереживались за день. Пусть поспят, а он покараулит…
Утро неохотно разжимало веки. Все небо обволокли серые тучи, их будто тщательно пробороновали — ни единого комочка, ни огреха. Моросил дождик.
Кое-как позавтракали и тронулись.
Спиридон умостился в задке, свесил босые ноги через затыльник. Смотрел, как катится колесо в колее, с тихим плеском разбрызгивая воду…
Отец, шедший рядом с подводой, коснулся плеча Спиридона. Молча показал вперед.
Впереди темнел лес. Над лесом точно пронесся пожар не пожар, ураган не ураган… Вот советский танк с дыркой на боку. Вон пушка колесами вверх, на дуле пилотка висит… За сосенкой, выбежавшей на опушку, разбитый пулемет. Возле него — пустые ленты…
По ту сторону леса — он оказался небольшим — стали догонять человека. Мать забеспокоилась:
— Федор, может, объедем его стороной? Видишь, он с ружьем…
— Вижу, что с ружьем. А как ты его объедешь? Не бойся, на немца он не похож.
Подвода приблизилась к человеку. Какой-то чудной он. Черная пилотка, черный пиджак, белая сорочка с черным галстуком. На рукаве — белая повязка. Брюки серые, заправленные в порыжевшие истоптанные сапоги… Человек молча вскочил на телегу.
Едва слышно моросил дождь. Никто не разговаривал. Первым не выдержал Иван:
— Дядя, у вас настоящее ружье, или только так, людей пугать?
Человек покосился на Ивана, пожевал губами и хрипло ответил:
— Настоящее.
Тут уже отец отозвался:
— Ты что это, хлопче, при таком параде? Хворма такая?
— А это не парад, — неохотно буркнул человек. — Я полицай. Форма еще не полная.
Как будто холодной воды ливанули на телегу.
Отец нахмурился, у него покраснел кончик носа. Спиридон знал — отец разгневался. Такое у отца редко случается. Мать испуганно приклонилась к нему:
— Федор, не связывайся… Подгони быка, видишь, еле ногами двигает.
Отец некоторое время боролся с собой. Наконец немного успокоился. Но язык за зубами не смог придержать:
— Ты что же, хлопче, так сразу выскочил?
Полицай посопел и ответил раздраженно:
— Сейчас такое время — кто выскочил вверх, тот… Слышал про татаро-монгольское иго? Двести лет продолжалось. Всех, кто был против монгол, вырезали. Немцы не двести, но лет пятьдесят продержатся. Как раз столько, сколько я проживу. А жизнь я свою хочу прожить по-человечески, а не лежать трупом в канаве или где-нибудь в концлагере гнить. Уловил?
Отец промолчал.
Дорога привела в большое село.
На обочине — магазин, школа, на них еще остались вывески. А на крыльце третьего здания осталась только одна буква — «с», наверно, тут был сельсовет, и вывеску отрубили топором. У крыльца стояли трое мужчин и с настороженным любопытством наблюдали за диковинной подводой. Полицай соскочил с телеги и зашагал к крыльцу.
Отец, искоса поглядывая на полицаев, понукал быка. Спиридон понял — может, удастся проскочить под шумок. Как назло, бык вдруг свернул к коновязи, где лежала охапка свежего сена, и стал как вкопанный. Напрасно отец размахивал хворостиной…
Один из тех, что стояли у крыльца, направился к подводе. Достаточно было одного взгляда, чтобы определить, что за человек подходил к телеге — или вор, или сорвиголова. Лицо угреватое. Глаза маленькие, посоловевшие, видно, никогда не глядели трезво.
— А это что за придурки? Откуда? — крикнул он так, будто расстояние между ним и подводой с километр.
— Да так, — отец повел плечом. — Обыкновенные люди. Пристанища ищем. Хата наша сгорела.
— Сгорела? — рыкнул полицай. — Туда ей и дорога. А с чего это ты вдруг над господином Петром Маторжеником вздумал насмехаться, а? На быке его под гору галопом возить, а? Ну-ка, хлопцы, реквизируем — так, что ли, говаривали комиссары? — этого рогатого, чтоб новой власти не позорил!..
— Люди добрые! — заплакала мать. — Зачем же вы?.. За что?
Но угреватый решительно взялся за ярмо.
В это время оглянулся их попутчик. Он посмотрел на мать — на ней лица не было. Дрожащие руки прижаты к груди.
— Ну, будет тебе, — крикнул он своему товарищу. — Попугал — и довольно. Пошли ко мне опохмелимся.
Угреватый во весь рот улыбнулся, показав непривычно маленькие зубы, как у белки.
— О, это другой коленкор! Как раз и погода благоприятствует.
Полицаи ушли, а бык, расправившись с сеном, наконец тронулся.
К вечеру приехали на хутор Яновку. Всего несколько хат, среди них одна побольше — видно, молочная ферма. Еще чувствуется запах прокисшего молока.
Отец повернул туда.
Никакой мебели там не было, зато на полу полно всякого хлама. И хотя в выбитые окна свободно дул ветер, дыхание забивало кислым молоком. Отец осмотрел большую комнату, заглянул в ту, что поменьше, удовлетворенно кашлянул.
— Печка есть. Живем! — Стал на пороге, крикнул матери:
— Старуха, будем выгружаться. Нашли, как говорил Сашко, партаменты.
Отец с матерью принялись за уборку, а Спиридона с Иваном послали поискать соломы.
Низкая луна залила бледно-красным светом хутор и поле. Хлопцы настороженно оглядывались — вокруг было жутко и тихо, как на кладбище. Хотя бы собака залаяла или корова замычала, не говоря уже о человеческом голосе…
— Гляди, гляди! — вдруг прошептал Иван и показал пальцем.
Спиридон повернул голову. В хате, стоявшей неподалеку от молочной, засветились два окна. И так стало легко на душе у ребят, когда они увидели эти светящиеся окна…
Принесенную ребятами солому экономно разостлали на полу, накрыли тряпками. Легли вповалку.
Мать громко вздохнула:
— Нашему Сашуне хотя бы такая постель.
Утром отец пошел к соседям.
— Расспрошу, что здесь и к чему. Да и на хлеб надо зарабатывать. Может, подскажут.
Вернулся немного повеселевший.
— Видно, неплохие люди. Хоть и скрытничают, боятся лишнее слово сказать. Ничего удивительного. Время такое… Сказали, что тут недалеко ферма осталась. Колхозная. Немцы уже прибрали ее к своим рукам и набирают людей для ухода за скотом. Ивана возьму с собой. Мать дома будет. Ну, а Спиридону придется возвращаться к своей старой «прохвессии…». В Торчине, сосед говорит, его Павлом зовут, можно пастухом наняться.
Спиридон вырезал крепкую ореховую палку, сплел из ремня, найденного на хуторе, кнут, прикрепил его к кнутовищу. И пошел в Торчин.
«УЧИСЬ ПОКОРНОСТИ…»
Хата возрожденного кулака Среды, к которому Спиридон пришел наниматься, длинная, потому что вместе с амбаром. Ворота высокие, дощатые, но сквозь щели заглянуть можно. Огромный пес на цепи ходит, мохнатый, страшный. Спиридон не отважился открыть калитку — с таким псом шутки коротки. Постучал кнутовищем. Вскоре звякнул запор и за калиткой показался человек. Приземистый, худой, руки длинные.
— Тебе кого? — спросил он, задравши козлиную обсосанную бородку.
— Хозяина.
— Я хозяин… По всему видно, пасти хочешь? Ладно. Погоди, я загоню в будку Гаврилу, во дворе потолкуем.
Хозяин повел Спиридона к сараю.
— Откуда? Из Яновки, говоришь? Ну, из Яновки так из Яновки. Пионером был?
Спиридон замялся. Среда снисходительно хлопнул его по плечу:
— Вижу, вижу — был. Забудь навсегда об этом. Отвыкай от пионеров и от Советов… Учись покорности, а то не проживешь. Время такое… другой бы тебя за пионеры знаешь что?.. Я сам настрадался при Советах — до нитки обобрали, но мстить не буду. Ну, пошли к коровам.
Сарай немалый, но для трех коров и телки тесноват.
— Вот они, мои красавицы, — то одну, то другую любовно хлопает по спине Среда. — Чуть забрезжит, чтоб был возле коров. Ясно? Они ласку любят, ты не очень кнутом размахивай, я тоже умею кнутом махать. Усвоил?..
И вот опять он, Спиридон, пастух, как при панской Польше. Пологая долина заросла травой, сорняками. Вот это и пастбище.
Молчало поле, молчало небо, молчал ветер…
Медленно тянулись дни. Однообразные, изнурительные. Еще затемно мама поднимала Спиридона с соломенной постели, и он бежал в Торчин. Холодная утренняя роса обжигала ноги, пустой желудок сводило — Спиридон отказывался дома есть, — семья едва перебивалась — у Среды позавтракает. Среда торбу давал ежедневно — кусок хлеба, бутылку молока, немного старого сала, покрытого зеленой плесенью — видно, от Советов в земле прятал. А вот покормить пастуха завтраком постоянно «забывал». Но ни разу не забыл предупредить:
— Смотри мне — узнаю, что доишь коров, — голову оторву…
Домой возвращался тоже затемно.
СОСЕДИ
Мать не могла нахвалиться соседями.
— До чего же приятные люди… Фасоли Вера одолжила… «Когда разбогатеете, отдадите», — говорит. А у самих ничего нет, как и у нас.
Спиридон уже видел соседей. Она маленькая, сухопарая, с остреньким носом. А он, муж ее, чернявый, среднего роста, лицо красивое.
Однажды они встретились с соседом на дубовом пне за хатой. Говорили о погоде, о пастбище. Потом еще один вечер просидели за хатой, еще один, еще… Будто между прочим сосед осторожно расспрашивал парнишку, кто они и откуда приехали. Спиридон так же осторожно отвечал. О себе сосед ни словом не обмолвился…
Но Спиридон понемногу догадывался, кто он. Хотя и говорит по-крестьянски и одет по-крестьянски, но что-то в нем есть некрестьянское: глаза часто щурит, о чем-то думая, много морщинок на лбу, иной раз сложит пальцы, будто ручку держит. Уж не учитель ли?..
…Спиридон в тот вечер рано вернулся домой. По случаю воскресенья хозяин раньше отпустил его. Спиридон поужинал и вышел за хату. Сел на пень, уставился на закат, где солнце тонуло в мягкой белой туче. Где-то там далеко, на западе, пол-Европы надрывается на фабриках и заводах, делает танки, пушки. Против нас…
Сзади раздался шорох. Спиридон обернулся. Сосед. Он поздоровался. Закурил. И тоже стал смотреть на закат. Долго молчал.
— Ну, что нового? — спросил наконец.
Спиридон ловким ударом кнута отсек с колючки розовую головку, она покатилась по земле.
— Плетусь взад-вперед с коровами по долине, как вчера, позавчера. Вот и все новости.
— Да, радости мало…
— А кто теперь радуется? Жизнь нынче — лишь бы день до вечера.
— Ты прав. Нынче многие так живут.
— Был бы в живых Михайло, он бы не сидел сложа руки…
— Это кто — Михайло? — спросил сосед, глядя на Спиридона.
Спиридон опустил голову:
— Мой брат… Его немцы убили…
И неожиданно рассказал обо всем: о клубе, спектаклях, колхозе, как Михайло ушел в военкомат и как его убили… Сосед слушал внимательно, не перебивая. В руках у него погасла цигарка.
— Ну что ж, все ясно, — сказал он, когда Спиридон кончил свой печальный рассказ. — По всему видно, твой брат не сидел бы сложа руки.
— Конечно! Не то что другие… Притаились в своих хатах, как в норах — нас не трогайте, и мы никого не тронем.
— Метко подметил, — сосед кивнул головой. — Ну ладно, на сегодня довольно. И давай условимся: все, о чем мы с тобой ни говорили, между нами. Сам знаешь, что бывает за подобные разговоры!.. Ко мне не заходи. Я сам тебя разыщу, когда понадобишься.
Спиридон кивнул головой. И горячо сказал:
— Честное-пречестное пионерское — никому.
— А теперь давай познакомимся. О том, что ты Спиридон Гнатюк, я знаю. А я — Павел Осипович Каспрук. Бывший учитель…
Он крепко пожал хлопцу руку.
Спиридон теперь нетерпеливо ждал соседа. Старался хоть немного раньше пригнать с пастбища коров. Домой возвращался бегом. Повертится в хате немного — и на пень. Мать заметила его вечерние посиделки, удивленно спросила:
— Ты что высиживаешь во дворе? Лучше бы выспался.
Хитрость Спиридона не прошла для него даром. Среда однажды вечером, не говоря ни слова, надавал ему подзатыльников. Спиридон понуро брел домой, щеки у него пылали, еще больше ныла обиженная душа…
А дома сидит сосед. Спиридон поздоровался и сел, где было потемнее, чтобы никто не видел его щек. «Что же он мне скажет?» — волновался.
Но Павел Осипович даже не взглянул на него. У него дело к отцу. Ботинки принес в ремонт. Отец вертел в руках ботинок, качал головой.
— Ну, Осипович, задал ты мне головоломку. Откуда же мне взять такого материала?
Павел Осипович махнул рукой:
— Да вы, Федор, как-нибудь. На бал я ходить в них не собираюсь, а на поле сойдут.
Как только сосед попрощался и вышел, Спиридон опрометью бросился за ним. Павел Осипович покачал головой:
— Так не годится, хлопче. В хате глаз с меня не сводил. А я думал, что ты более сообразительный… — Помолчав, он сказал: — Ты пасешь недалеко от большака? Приглядывайся, кто по нему ездит и что возит… Проверим, какие у тебя глаза.
НАХОДКА
Утро выдалось туманное, будто осенью. Туман плотно залил долину, выбрался на гору, пополз по большаку, расстелил по нему пушистое одеяло. Спиридон постоял немного у края долины и пошел к большаку.
Вот натужно ревет длинный грузовик, хотя в его кузове немного груза, старательно прикрытого брезентом. Что там? Уж не снаряды ли? Должно быть, снаряды — у шофера лицо напряженное, рот сжат…
— Малчшик, что ты сдес делайт? — вдруг прозвучало прямо над ухом.
Вздрогнул всем телом, отскочил на шаг назад. На него подозрительно смотрел худой немец с автоматом.
От неожиданности язык как будто присох к небу. А немец ждет, глаза сверлят холодно Спиридона. К счастью, подоспели два трескучих мотоцикла и немец отвел глаза. Это помогло Спиридону собраться с мыслями и обрести дар речи:
— Да я… пастух… мои коровы пасутся в долине, — показал он кнутовищем.
— Век![2] Чтобы ты не подходит больше дорога…
Спиридона будто ветром сдуло.
На следующий день от тумана и следа не осталось. Далеко, до самого горизонта, все видно. Спиридон громко накричал на свое маленькое стадо, изломал хворостину на рябой упитанной корове и пошел к большаку, шагах в пятидесяти от которого кустилась ива. Забрался в заросли и, достав нож, стал выбирать хворостину получше. А сам не столько к кусту приглядывался, сколько к большаку… Однако пора вылезать… Где бы еще поближе пристроиться? Ага, вот какой-то дед гонит свою корову к долине.
Поздоровались. Сели на горке. Дед оказался разговорчивым. Поболтал немного о давно минувших днях, потом рассказал Спиридону, как здесь недалеко, верстах в двенадцати, наши «дали немцам жару».
— Сказывают, шел немец тремя шелонами, и все три шелона угробили, — рассказывал дед.
— А поближе боя не было? — спросил Спиридон.
— Почему не было? Был. Вон там, за сосняком, видишь, сильно стреляли… Правда, недолго. — И вдруг испуганно посмотрел на Спиридона: — А ты никому не донесешь на глупого болтливого старика?..
— Ну что вы! — махнул рукой Спиридон. — За кого вы меня принимаете?.. Дедушка, посмотрите за моими коровами. Они смирные. А я на часок отлучусь… Нужно заячьего мыла нарвать.
— Беги, только не долго, — кивнул дед головой.
Не соврал дед, бой за сосняком был, но небольшой. Спиридон разочарованно бродил по мелким, наспех вырытым окопчикам, заглядывал под низенькие лапчатые сосенки. А он так надеялся найти или немецкий автомат, или нашу винтовку, или хотя бы гранату… Вот бы удивился и обрадовался Каспрук!.. Пора уже было возвращаться, но глаза все еще рыскали по земле. И не зря. Возле опрокинутой телеги в ямке Спиридон заметил — торчит что-то. Бросился туда и заморгал глазами. Там лежало что-то… непонятное… Толстый железный прут, рядом с ним — еще один и какие-то винтики, рычажки… а внизу на кружочках буквы. Вся вещь — почти вся — четырехугольная, Спиридон терялся в догадках — ни на какое оружие не похоже… Поднял — тяжеловата. Отнес ближе к долине и забросал бурьяном.
На второй день захватил с собой мешок и притащил эту штуковину домой. И сразу к соседу.
Каспрук был страшно усталым.
— Уже приступил к работе «на благо великой Германии», — сказал Павел Осипович. — Хлеб убираем. Меня даже бригадиром назначили. Не пожимай плечами. Так надо… Как там у тебя?
Спиридон хотел начать с рассказа деда, но сдержался. Сперва надо доложить о задании. Павел Осипович поначалу слушал невнимательно, почти дремал. Потом оживился.
— Неплохо… Глаз у тебя зоркий… Пригодится нам… Надеюсь, ты не торчал возле самого большака.
— Да нет! — горячо соврал Спиридон. — Мы с дедом разговаривали…
— Каким дедом?
Спиридон рассказал про деда.
— Вот бы людям об этом бое рассказать! Пусть знают, что и немцев бьют.
Павел Осипович посмотрел на Спиридона, о чем-то думая.
— Знаю я об этом бое… Ну, а как бы ты о нем рассказал, а?
— А очень просто! Расскажу одному дядьке, другому, можно в Торчин смотаться, на рынке поговорить с людьми…
— Знаешь, как это называется? — вдруг рассердился Павел Осипович. — Добровольно на шею накинуть петлю. Вот если бы через листовки — это дело. Слышал о листовках? Да еще если б машинка…
— Машинка? — переспросил Спиридон. — Подождите минутку. Может…
Выскочил, приволок свою находку.
Павел Осипович удивленно моргал глазами.
— Откуда она у тебя?
— Нашел.
— Где?
— Там… — Спиридон неопределенно махнул рукой. — Валялась. Думал — автомат. Вытащил — не похоже. Ломал, ломал голову…
Павел Осипович бросился разглядывать машинку, вертеть, крутить ее. Наконец заложил лист бумаги, начал медленно бить пальцами по буквам. На бумаге появились черные печатные слова.
— Здорово! — обрадовался Спиридон. — Давайте составим листовку и будем печатать Я быстренько разнесу…
— Нет, — решительно сказал Каспрук. — Рановато тебе за листовки браться… Ты пока что сыроват для подполья…
Спиридон понуро опустил голову.
«ХЛОПЦЫ, ВЫ ЖЕ УКРАИНЦЫ!..»
На поле было тихо и спокойно. Августовское солнце, будто уставши за лето обжигать землю, покрылось беловато-радужной поволокой. Желтели стерни, желтели перестоявшиеся нивы… Вон там, у самого села, машут косами с десяток мужчин, а позади них ходит полицай с винтовкой. А возле кустов, подступивших к ниве, две женщины, украдкой, пригнувшись, жнут рожь серпами и носят пучки в кусты… Вот такая нынче жатва…
Спиридон подошел к сосне, коснулся иголок. Что-то заставило его оглянуться. Прямо в глаза остро сверкнуло стекло автомашины. Грузовик вперевалку спускался с большака, свернул на узкий проселок, ведущий к сосняку. Спиридон удивился. Зачем он едет сюда?.. И не один, вон и второй вслед… Спиридон спрятался за сосенку…
В кузовах обеих машин впереди и сзади стояли мужчины с винтовками. Спиридон пригляделся: немцы и полицаи… А на дне кузова сидят люди. Тесно, скученно. Нет, они не сидят. Они… стоят на коленях… Белеют косынки, темнеют фуражки, выглядывают чубы. По телу Спиридона прошла дрожь. Куда их везут?..
Как только вторая машина притормозила, с кузова кто-то выпрыгнул в рожь. Кажется, девушка. Хрупкая, тоненькая… У Спиридона волосы зашевелились на голове. А девушка убегала, припадая на ногу, как подстреленная чайка, взмахивая руками, будто хотела взлететь в небо…
С машины спрыгнули трое. Не немцы — полицаи. Они бросились вслед за девушкой, стреляя на ходу. Девушка упала лицом вниз, раскинув обессиленные руки. Полицаи поволокли несчастную за ноги к машине и бросили, как мешок, в кузов.
Грузовики опять тронулись. Спиридон, не выпуская их из виду, бросился вслед. Он не хотел ничего этого видеть, все его существо протестовало против того, чтобы смотреть на то, что произойдет в лесу. Но какая-то неумолимая сила толкала Спиридона в спину.
Лег за кучей еловых веток, метрах в пятидесяти от остановившихся машин. И первое, что он заметил, — яма. Он никогда не видел такой большой ямы.
Из кабины переднего грузовика тяжело вылез тучный офицер. Остальные немцы построились в шеренгу. Полицаи стали сгонять людей с кузова.
Девушку, которая пыталась убежать, полицаи раскачали и бросили в яму. И начали всех остальных подталкивать поближе к яме.
Полицаи отошли шагов на двадцать. Ждали команды офицера. А тот неторопливо прикуривал толстую темно-коричневую сигару.
Спиридон не отрывал взгляда от лиц незнакомых ему обреченных людей.
Вон с краю старик с длинной седой бородой. Смотрит на белый свет с тихой печалью.
Горят ненавистью глаза у высокого мужчины в черном пиджаке. Скулы его окаменели от напряжения. А руки неспокойно шевелятся.
Ему бы сейчас хотя бы палку, он бы бросился с ней на врагов.
Испуганно глядит на немцев и полицаев совсем юная девушка в коротеньком, в синий горошек платьице. Наверно, никак не может поверить, что ее вот-вот лишат жизни…
Офицер прикурил сигару. Махнул ею.
Пронзительный женский голос, исполненный последней надежды, резанул жуткую тишину:
— Хлопцы, что же вы делаете? Вы же украинцы?!.
Прямо по этому крику ударили выстрелы…
Спиридон не помня себя побежал прочь.
Опомнился в поросшей лопухами канаве. С полуденного мерцающе-синего неба улыбалось солнце. А он не видел ни неба, ни солнца. Перед его глазами все падали и падали в черную яму люди. А в ушах жутко звучали их предсмертные голоса.
Спиридон, как привиденье, побрел к долине, вяло согнал в кучу коров, вяло погнал их.
В Яновке, миновав свои ворота, он пошел к соседям. Каспрук с женой сидели за столом бледные, с застывшими глазами. Видно — все уже знают. Спиридон молча сел рядом.
— Господи, — наконец отозвалась Вера Александровна. — Какие же они ироды! Варвары, дикари — и те не пошли бы на такое…
— Они на все способны, — скрипнул зубами Павел Осипович. — Могут весь мир кровью залить.
— Я там был, — глухо сказал Спиридон. — У меня до сих пор перед глазами яма… И крики слышу… — Он вдруг вскочил, ударил кулаком по столу. — Чего же мы сидим?.. Их надо за это на мелкие кусочки разодрать!
Павел Осипович крепко взял его за плечи, посадил. Руки у него дрожали.
— Надо, надо… Но пока что… Слышишь, пока что нужно зажать свою ненависть в кулак…
— Так пускай они и дальше расстреливают наших людей? — крикнул Спиридон тонким голосом. — А мы только кулаки будем сжимать.
Павел Осипович встал и молча вышел во двор.
Вера Александровна укоризненно покачала головой:
— Знаешь ли ты, что Павел Осипович, будучи вот таким мальчишкой, как ты, уже был в подполье при панской Польше? Почти пять лет сидел в тюрьме… Нагоревался.
Скрипнула дверь: Павел Осипович. Он уже взял себя в руки. Только брови нахмуренные. Спиридон открыл рот, чтобы извиниться. Павел Осипович остановил его:
— Не нужно… Об этом варварстве надо рассказать всему району. Напечатаем листовки…
— Павлик, — тихо сказала Вера Александровна, — а может, не нужно? Все уже или знают, или скоро узнают.
Немцы и так всех запугали. Да еще мы будем ужас наводить…
— Ты не поняла, — покачал головой Павел Осипович. — Мы не только расскажем об ужасных подробностях… Пусть все узнают, что такое фашизм… Мы скажем прямо и честно, что битва с фашизмом будет тяжелой и нужно подниматься всем. Никому не удастся отсидеться… Ну, рассказывай, как там все это происходило…
Спиридон тихо, сбивчиво рассказал.
Павел Осипович вытащил из-под печи пишущую машинку. Отпечатали двадцать листовок.
— Больше нет бумаги, — развела руками Вера Александровна.
— Давайте их мне, я в Торчин пойду, — Спиридон протянул руку. — Я им, гадам, прямо на комендатуру налеплю…
— Боюсь, что ты вообще никуда не пойдешь! — строго сказал Каспрук. — Видали героя — на комендатуру! Для подпольщиков, друг мой, самое страшное — бравировать, демонстрировать свою храбрость…
— Ладно, — пробормотал Спиридон, — не буду… Я только во дворы заброшу. Сейчас темно, никто не увидит… Я быстро сбегаю.
— А о комендантском часе ты забыл? После десяти часов вечера никто не смеет показываться на улице. Кого увидят — стреляют. Сейчас Вера Александровна зашьет тебе в фуфайку пять листовок. Завтра, после того как пригонишь коров, немного задержишься, чтобы стемнело. Возвращаясь домой, на улицах — выбирай малолюдные — рассовывай листовки в изгороди. Смотри, чтобы никто за тобой не следил… Ясно?
— Ясно… — разочарованно ответил Спиридон. — Но почему так мало?
— Довольно для первого раза… Не ты один будешь разбрасывать… Есть еще люди, поопытнее тебя.
Спиридон все делал так, как советовал Павел Осипович. Однажды даже притаился в глубокой канаве, когда на перекрестке показалась тень полицая. Вылез, охая и ругаясь, — канава сплошь заросла крапивой…
Остановился в конце улицы. Она утопала во мраке. Притаившаяся. Молчаливая. Будто ни в одной хате ни единой души.
У Спиридона оставалась еще одна листовка. Последняя. Бросить ее просто, как предыдущие? Не хотелось…
А может?.. Мысль была такой неожиданной и такой соблазнительной, что ноги сами пошли к центру. Он будет осторожным, вдвое осторожнее, чем до сих пор.
Центральная улица Торчина широкая. Окна школы, где живут немцы, ярко освещены. Оттуда доносится музыка, мелькают тени… Вот бы прямо им на стол бросить листовку! Вот бы ошалели!.. Но как бросить? Возле крыльца ровным шагом прохаживается часовой. Руки его лежат на автомате, на глаза падает непроницаемая тень от каски. И от этого кажется, что немец все видит. Когда часовой повернулся к нему спиной, мальчик, пригибаясь, пошел назад…
Шагах в двухстах от комендатуры — райуправа. Там тоже горит свет. В помещении за столом один только человек. Положив голову на руки, тоскливо смотрит на белую пустую стену. Уж не Крахмалюк ли, председатель управы? Спиридон один только раз издали видел его. Да, он. Длиннолицый, с вороньим носом… Взглянул на крыльцо. Полицай, стоящий на часах, на месте. Дремлет, а может, и спит — винтовка вот-вот вывалится из разомлевшей руки… Гм, все равно мимо него не так-то просто пробраться — у часовых сон чуткий.
А если с противоположной стороны?
Пролез через дырку в заборе в огород. Подкрался по дорожке к дому и вдруг зацепился за тыкву — надо же ей выпереться на самую дорожку. Растянулся на картофельной ботве, испачкал руки и ладони ушиб о камушек. Схватил его, вскочил, размахнулся, чтобы со злости зашвырнуть в огород… И задержал руку в воздухе…
Мысль в голову пришла рискованная, мальчишечья, но он не мог избавиться от нее. И пока боролся с ней, левая рука вытащила из кармана листовку, завернула в нее камушек. От резкого броска белый комок полетел прямо в открытое окно…
Нужно было немедленно убегать, а Спиридон застыл среди огорода. Листовка возле самой рамы отделилась от камня и упала, а камушек стукнулся возле ног Крахмалюка. Тот вздрогнул, резко встал.
Только тогда ноги подхватили и понесли Спиридона. По ботве, по дорожкам между огородами…
ДАЖЕ ТЕСНО СТАЛО ЗА СТОЛОМ…
Войдя к Каспрукам в хату, Спиридон сразу увидел незнакомого парня, сидевшего в углу рядом с Голембиовским, по-цыгански смуглым черноволосым мужчиной, которого Спиридон уже однажды видел у Каспрука. Гладенькие волосы парня матово чернеют, круглое лицо с припухшими губами… Ему сразу не понравился этот парень. А тот, щурясь, взглянул на него и насмешливо спросил:
— А это что за шкет?
— Не шкет, а человек, — обиженно буркнул Спиридон.
— Вижу, что не подсвинок. Ну, а сюда зачем затесался, а?
— Потому что я здесь свой человек! — сердито ответил Спиридон. — Против немцев веду борьбу — вот так!
— Баба ты базарная! — не на шутку рассердился парень. — Зачем же ты мне, совсем незнакомому человеку, такое говоришь?
Как ни разозлился Спиридон, но ему стало стыдно. Надо же так опростоволоситься! Он повернулся, устремился к двери. Споткнулся об охапку дров, лежащих возле печи. Дрова с грохотом развалились. Павел Осипович и Голембиевский, которые тихо разговаривали, посмотрели на Спиридона.
— Ты куда? — спросил Каспрук. — А я хотел попросить тебя постоять на часах во дворе… Есть тут у нас один важный разговор…
— Ладно, постою, — буркнул Спиридон. Даже лучше, что его не оставили в хате. Не хватало еще сидеть рядом с тем хвастуном.
Вышел, стал у ворот. На душе было мерзко. Спиридону стало жалко себя. Когда он наконец сможет сделать что-нибудь настоящее!..
Был бы он на фронте, там все ясно — бей врага… А тут оглядывайся, прячься и только иногда тайно укусишь… Нет, не так воевал Чапаев, не так воевали партизаны в гражданскую войну. Вот в кино показывали. Едут мимо леса беляки. Поют, смеются, даже не смотрят на лес. А оттуда вдруг — та-та-та… Беляки кто куда. А лес вздрагивает от мощного «ур-ра!». На лихих конях вылетают партизаны. У каждого в руках сверкает шашка…
Тихо скрипнула дверь. Спиридон оглянулся. Этот… прилизанный. Подошел, стал рядом.
— Сердишься? — спросил добродушно.
Спиридон промолчал.
— Значит, сердишься. Извини, что приставал к тебе. Запомни — одно неосторожное слово может все погубить… Привыкай к самым неожиданным вопросам. Чуть стушуешься — и небо для тебя решеткой покроется, а то и совсем исчезнет… Если хочешь быть подпольщиком, учись из любого положения выкручиваться…
Парень говорил спокойно, мягко, и Спиридон почувствовал, как злость из него улетучивается. А когда парень подал руку и сказал: «Звать меня Ваня Куц. Будем друзьями», — в груди Спиридона потеплело.
* * *
С тех пор как Спиридон стал работать в бригаде Каспрука, тот часто заходил к ним в хату. Вот и в это раннее утро Павел Осипович переступил порог… Пока Спиридон одевался, он поговорил с матерью (отец с Иваном уже ушли на ферму). Разговоры нынче везде были одинаковые — о бесхлебье («Что же зимой будем делать?»), о непосильных податях, установленных немцами. «Обдерут они нас до ниточки», — сокрушалась мать. Павел Осипович поддакивал, но слушал рассеянно.
Они прошли немного по большаку, потом свернули в переулок, сплошь покрытый опавшей листвой. «Куда он меня ведет?» — удивился Спиридон. А Каспрук уверенно шагнул к посеревшим дощатым воротам, уверенно толкнул калитку… За калиткой стоял человек в черной шляпе и в каких-то странных очках — будто без оправы. Это был фельдшер Степан Миронович Козир, хозяин конспиративной квартиры.
Поздоровались, вошли в хату.
В хате сидели Ваня, Голембиевский, Вера Александровна, Федосий Чучка. Спиридон присел рядом, у самого окна, посмотрел в него. Хата стоит у самой долины, поросшей ивняком, бурьянами и лопухами. Бурьяны уже порыжели, а листья у лопухов, большие, как шляпы, упрямо зеленели. Из хаты, в случае чего, можно нырнуть в долину…
Павел Осипович поднялся из-за стола.
— Товарищи! — произнес он негромко. — Мы собрались с вами в глубоком подполье. Враг захватил огромную территорию нашей страны, он уверен в победе. А мы все, собравшиеся здесь, уверены в нашей победе! Наш долг — содействовать тому, чтобы эта победа как можно скорее наступила…
Когда проголосовали за создание подпольной организации, Спиридон нетерпеливо спросил:
— А как мы ее назовем?
— Давайте сперва изберем руководителя, — подал голос Чучка. — И подпольные клички подыщем.
— Пусть Осипович руководит, — сказал Голембиовский, — выбираем тебя…
Все поддержали его.
Клички подобрали быстро. Павлу Осиповичу — Учитель, Ване — Буян… Спиридон хотел себе какую-нибудь героическую: Орел, Мститель…
— Нет, не годится, — возразил Павел Осипович. — Это для театральной пьесы. Как тебя в детстве звали в семье? Старик, кажется. Вот и будешь Стариком. Никому даже в голову не придет, что такую кличку дали мальчишке.
Спиридон вздохнул, но согласился.
— А теперь, — Павел Осипович заходил по комнате, — давайте оценим обстановку. На фронтах мало веселого. Немцы уже под Москвой… Фашисты заблаговременно продумали, какой порядок будет в оккупированных районах. Гестапо. Полиция, в которую пошли служить всякие подонки, с громко-блудливым названием «украинская». Быстрая расправа с каждым подозреваемым… Скажем прямо — люди боятся за свою жизнь, и некоторых страх этот толкает на предательство… Как нам действовать в столь сложных условиях?
Ваня стукнул кулаком:
— А чего много думать? Наши там кровью истекают, а мы тут будем оценивать обстановку… Достать оружие и бить их, как собак…
Павел Осипович нахмурился:
— Торопишься, Иван. — Он встал, заходил по хате. — Может, я вас удивлю и разочарую тем, что вам сейчас скажу, но я считаю — нам пока рано браться за диверсии, подниматься на борьбу с полицаями…
— Ну-у… — протянул Ваня.
— Подожди, — Павел Осипович поднял руку, — не нукай. Торчин расположен на важной автотрассе. По ней немцы все время перебрасывают на фронт войска и технику. Думаете, случайно здесь создано отделение гестапо? Торчин, как мне кажется, немцы хотят превратить в свой опорный пункт, доминирующий над всем югом Волыни. А если мы в противовес им превратим его в свой опорный пункт? Создадим в соседних селах сеть подпольных организаций, будем сообщать нашим партизанским отрядам о замыслах врага, о его важнейших объектах, переправлять к партизанам людей, оружие… Вот тогда и диверсии…
— А где эти отряды? — перебил Ваня.
— Будут! — твердо сказал Каспрук. — Возможно, уже есть.
На лице Вани было написано откровенное разочарование. Чучка, надув губы, тер рукой залысины. Даже Голембиовский пожимал плечами. Только фельдшер Степан Миронович Козир был невозмутим.
— Мастак же ты, Павел, загадывать загадки, — отозвался наконец Голембиевский. — Все, о чем ты сказал, важно. Однако мне кажется, что ты ограничиваешь роль подпольной организации. Неужели мы не имеем права сейчас подорвать автомашину, проучить полицая или немца? Чтобы поднять у людей дух…
Голос Павла Осиповича стал строже:
— Не имеем! Нас всех знают в Торчине. Не так много мужчин осталось в местечке. Возможно, мы все уже числимся в их списках подозрительных лиц. Одна-две диверсии — и нас схватят! Две уничтоженные машины — это мелочь по сравнению с тем, что мы можем сделать в будущем, если будем осмотрительными, вести себя умно… Поймите, возможно, мы первое подполье в Торчинском районе. Так имеем ли мы право относиться к этому легкомысленно, сразу же подставлять его под удар?.. Признаюсь, что перед самым приходом немцев у меня был разговор с нашим секретарем райкома партии. Он предложил мне остаться на оккупированной территории и создать подполье. Мы вместе с ним оцепили возможную обстановку в Торчине и решили остановиться на разведывательно-организационной группе. Ну, а сам он пошел на Полесье, чтобы там сколотить партизанский отряд.
— Так это же другое дело! — тряхнул чубом Голембиовский. — Что же ты до сих пор молчал?..
— Молчал, — вздохнул Каспрук. — Дело в том, что этот товарищ обещал еще летом прислать связного. Никого не было и будет ли?.. Подождем, может, придет связной.
Вместо клятвы на верность Родине Каспрук предложил вполголоса спеть «Интернационал».
Встал высокий Голембиовский, встал кряжистый Чучка, встала маленькая Вера Александровна, встал, сняв очки, Степан Миронович Козир, встал Ваня, взволнованно пригладив свой черный чуб, встал Спиридон и…
Песня тихо поплыла по хате, грозная, полная веры в победу.
ДОРОГА-ДОРОЖЕНЬКА ЖДЕТ
Они собрались у нового члена организации, Андрея Чичолика, на хуторе Верхи. Спиридон пришел первым. И не один. С Сашком! Сашко вернулся в Зеленое, узнал от Катерины, как найти отца с матерью, и приехал в Торчин. Спиридон, как его ни подмывало сообщить брату о подполье, все же сдержался, но рассказал про Сашка Каспруку. Когда все открылось, Сашко удивился: «Гляди, от горшка два вершка, а уже конспиратор! Молодец!»
Вскоре пришел нахмуренный Каспрук. Молча сел, еще больше насупился.
Остальные задерживались. И не удивительно — хутор в трех верстах от Торчина, вот-вот начнется комендантский час. Пока все собрались, прошло не менее часа.
Павел Осипович встал, поглядел на занавешенное простыней окно. Похоже было, нелегко ему говорить то, о чем нужно сказать.
— Так вот, товарищи, — начал он неторопливо, — докладываю о положении на сегодняшний день… — Каспрук повернул голову и посмотрел на всех строгими грустными глазами. — Ничего утешительного сказать не могу. Немцы уже под самой Москвой… Да, это правда. Они заявили, что через четыре дня проведут парад на Красной площади…
Все в один голос охнули. Даже коптилка на столе испуганно метнула вверх коптящий язычок пламени. Спиридон вцепился в рукав Сашка.
Павел Осипович пошел к ведру, выпил полную кружку воды. Немного успокоившись, опять заговорил:
— К сожалению, связной так и не пришел. А связь нам нужна позарез. Для сообщения представляю слово новому члену подполья Александру Гнатюку.
— Давеча, когда я возвращался, — начал Гнатюк, — убежав из Зеленого, я прибился к воинской части, нас потом разбили, — встретил своего дальнего родственника Миколу Конищука. Он мне сказал по секрету, что его направили на Полесье организовать партизанский отряд. Говорил, что думает возле Гривы обосноваться…
— Наконец-то! — тряхнул чубом Голембиевский. — Нужно немедленно кого-нибудь послать к этому Конищуку!
— А кого, вы думаете? — быстро спросил Каспрук.
— А что тут думать? — не дал никому подумать Ваня Куц. — Я пойду.
Каспрук обвел всех взглядом:
— Ну, как кандидатура, годится?
— Лучшей не найти, — качнул головой Голембиевский.
— Согласен. Только мало одного. Надо двоих. Пусть идут разными дорогами. Случится что-нибудь с одним — второй доберется.
— Пошлите меня, — сказал Сашко. — Мы там жили, в Гриве, я там каждую тропинку знаю, Конищука тоже знаю… И меня все знают… И не только в Гриве, но и в Лишневцах, Карасине…
— А кем ты там был?
— Милиционером…
— Садись, — будто школьнику сказал Каспрук, махнув рукой. — Тебя там быстро засекут… Ну, кто же второй?
Тишина стояла такая, что в ушах звенело. Каспрук никого не торопил. Он знал — нелегко человеку самому решиться на такое дело. Предстоит длинная, опасная дорога. Туда километров сто и обратно столько же. Настолько опасная, что даже представить трудно…
Спиридон сидел, уставившись в стол, — зачем ему сушить голову, думать, если его даже слушать не станут? Взгляды Вани и Спиридона встретились. Ваня смотрел только на Спиридона — пристально, непривычно строго… Спиридону стало не по себе…
— А Спиридон? — сказал Ваня. — Думаю, он вполне подходит для такого дела. Сообразительный, умный, смелый.
Спиридона как будто чем-то тяжелым ударили по голове. Только после этого удара стало не больно, а приятно-приятно. Все посмотрели на Спиридона.
Павел Осипович взял себя за левое ухо и стал его беспощадно мять. Это означало, что Каспрук в смятении и не знает, как ему поступить:
— Так ведь он… мальчишка… Отец с матерью не отпустят…
— А я убегу, — опередил Спиридон Ваню, который хотел что-то сказать. — Я окрестные гривинские леса знаю лучше Сашка, пас там скот. И у меня никто не спросит аусвайс[3]. А у вас у любого потребуют. Даже у Вани.
— Точно! — серьезно подтвердил Ваня. — У него вряд ли спросят. Сейчас немало скитается таких мальчишек по нашей земле — кто от поезда отстал, у кого родители погибли, кто из детского дома убежал…
Спиридон вышел на улицу вместе с Ваней. Некоторое время шли по лесу молча, жадно вдыхая свежий воздух — он был особенно приятен после накуренной комнаты. Тяжелым серебром отливали лужи. Луна время от времени выплывала из-за рыхлых туч, бросая тускло-голубой свет на месиво дороги, на черные деревья, на которых дрожала забытая ветром листва… Спиридону хотелось сказать Вано что-нибудь такое… чтобы он понял: Спиридон не подведет. Но вместо этого сказал:
— Знаешь, я умру, а дойду к партизанам…
Ваня добродушно-насмешливо хмыкнул:
— «Умру», говоришь? Глупый ты еще. По малолетству еще не знаешь цены жизни… — Он отклонил толстую ветку, низко свисавшую над дорожкой. С нее посыпался рой тяжелых, будто свинцовых, капель. — Чтобы избежать вражеских когтей, подпольщику надо быть артистом. Суметь в зависимости от обстоятельств сыграть и весельчака, и несчастного человека, и озабоченного рачительного хозяина, и кого угодно. И не просто сыграть, но чтобы это было убедительно, как в жизни бывает…
Лес кончился. Шагах в ста смутно виднелась хата, чуть подальше горбилась вторая. Торчин.
Ваня остановился, взял Спиридона за плечи:
— Ну, давай прощаться. Запомни, что я тебе говорил об артисте. Еще что?.. Ага, поменьше думай, что ты курьер, а то все на физиономии отразится. Остальное тебе скажет Павел Осипович… Чтобы мы встретились там, в отряде… Эх, давай поцелуемся…
Утром на следующий день зашел Павел Осипович. Дома были только Спиридон и отец — он чинил чужую обувь. Закурили, поговорили о том, о сем. Спиридон с замирающим сердцем ждал, когда Каспрук перейдет к главному. А тот не торопился.
— Не отпустите ли, Федор, своего малого дней на пять. Есть одно дело…
— Давайте не будем хитрить, Осипович, — перебил его отец. — О том, что мои сыновья в подполье, мне известно. Так что говорите без обиняков, зачем и куда вы хотите послать моего малого?
Павел Осипович рассказал все, что можно было рассказать. Отец долго тер правую щеку…
— Да-а, — сказал наконец он, — Спиридон у меня парень смышленый, скажу об этом не хвастаясь, однако дело не легкое…
Спиридон вздохнул с облегчением — отпустит. С застенчивой, непривычной нежностью смотрел он на своего сгорбленного отца…
А отец, оставив в покое щеку, уже более спокойно продолжал:
— Так это вы, Осипович, будете его снаряжать?.. Я помогу. Я все тамошние дороги исходил с цепом и косой, когда батрачил при Польше, — закрыв глаза, найду дорогу в Гриву. Спиридон только один раз проехал, вряд ли он много запомнил.
— Конечно! — обрадовался Павел Осипович. — Ну-ка, путешественник, довольно тебе на полатях штаны протирать, поди сюда, будем тебе дорогу на живую нитку нанизывать.
«ОТКУДА ТЫ, СПИРИДОН?»
Последнюю ночь перед путешествием Спиридон решил переночевать в хлеву… Но до самого утра так и не сомкнул глаз.
Послышался глуховатый кашель — отец вышел на порог. Сейчас он по своему обыкновению прищурит глаза, посмотрит на небо — пасмурный будет день или нет — и направится к хлеву. Топ, топ, топ… Шаги звонче. Значит, подмерзло к утру. Спиридон быстро откинул кожух, схватил фуфайку, шапку, чуни. Лязгнул крюком, открыл дверь.
— Доброе утро, сынок, — промолвил отец, как всегда спокойно, буднично.
— Здравствуй, отец.
Отец взял вилы, стал собирать разбросанную Спиридоном солому. Как будто между прочим, поинтересовался:
— Почему бледный? Не выспался? Может, замерз?
— Нет, ничего, — беспечно махнул рукой Спиридон. — Храпел так, что крыша поднималась. Если не веришь, спроси у Лиска…
— Спрошу, — серьезно сказал отец, поглаживая пса, который ласкался у ног. — Он у нас умный… Я тебе сумку с едой собрал. Бумагу Павел зашил в фуфайку… Ты знаешь, ну, я на всякий случай напоминаю. Матери сказал, что ты с одним знакомым идешь искать, куда бы пристроиться в батраки на зиму. Как будто поверила. Слезу, конечно, пустила, да ты знаешь нашу маму.
Спиридон позавтракал, и вместе с отцом тронулись.
К утру не только мороз ударил, но и снежок скупо, неровно припорошил землю. Под ногами звенели твердые комья земли. Деревья безмолвно стояли в прозрачных ледяных доспехах.
Отец, наверно, первый раз в жизни все время говорил. В третий раз растолковывал, куда надо идти, где свернуть, к кому можно проситься на ночлег… Спиридон слушал и время от времени щупал полу фуфайки, где зашито донесение. Отец хоть и глядел упрямо вперед, но заметил. Укоризненно покачал головой:
— Павел же говорил тебе — забудь о бумажке, пока не встретишь, кого надо… Ты пастух, идешь к тете: может, примет на зиму, потому что дома нечего есть.
Спиридон кивнул головой — мол, ясно, а сам невольно опять потянулся рукой к фуфайке.
Как будто недавно вышли из дому и не спешили, а лес уже встал перед глазами неровной зубчатой стеной. И они остановились. Отец еще раз удостоверился, на все ли пуговицы застегнута фуфайка Спиридона, похлопал его ладонью по спине, затем снял с себя широкий ремень и молча подпоясал Спиридона…
Спиридон оглянулся. И до того родным показался ему неласковый к их семье Торчин! И жиденькие кудрявые дымки над хатами, и широко распахнутые в поле улицы, и оголенные, закованные в лед деревья…
Отец легонько коснулся плеча Спиридона — пора. Спиридон посмотрел на отца. Его серые глаза как будто еще посерели, но лицо непроницаемо. Подал, как взрослому, руку. Спиридон пожал ее — твердую, но теплую, родную. И не сдержался, прижался к отцовскому длинному зеленому пиджаку, пропитанному запахом кожи, махорки и сена… Стремительно повернулся и почти побежал к лесу, унося с собой эти запахи. Уже в лесу оглянулся, махнул рукой и скрылся в зарослях…
…Дороги, тропинки, просеки, села, хутора… Сколько миновал их Спиридон! Уже почти без запинки рассказывал встречным свою историю. Уже даже сам верил в выдумку. Для ночлега выбирал хату, которая победнее — в бедных хатах живут семьи, которые принимают близко к сердцу чужую беду, потому что сами горе мыкают… Просыпался утром — и опять нужно было натягивать чуни с пропитанными потом портянками, заскорузлую от снега, дождя и ветра фуфайку. Ветер бросал ему в лицо горсти раннего снега или пригоршни грязного осеннего дождя. Чем дальше, тем гуще и длиннее становились леса…
Постепенно приближалась Грива…
…Голодный, уставший до предела, Спиридон еле брел вечером по селу Карасин. Кое-где из дымоходов струился дым. Спиридон не столько видел, сколько чувствовал его жадными ноздрями. Он уже облюбовал одну хату, как вдруг из-за угла нетвердой походкой вышли двое мужчин в черном. Полицаи… Они брели посредине раскисшей улицы и горланили песни, каждый свою. Спиридон прижался к изгороди.
Полицаи остановились. Пошатываясь, подошли к нему.
— Ты кто такой? — спросил один из них заплетающимся языком. — Почему властей… испугался? А?
— Да я… — открыл рот Спиридон. — Я думал, что вы… не на службе… Так чего ж…
Его перебил второй полицай:
— Что, выродок, жилки трясутся? — И, подняв указательный палец, изрек: — В наше время полиции боятся или партизаны, или окруженцы! Ты кто — выбирай.
Спиридон пожал плечами. Вот пристали! Как от них отделаться?
— Пастух я, — терпеливо стал объяснять Спиридон. — В Гриву иду, к тетке.
Полицаи не слушали его. Один взялся за изгородь — его мутило. А второй щупал фуфайку Спиридона.
— Петро, может, снимем? Пригодится… И ремень, г-ик… еще вполне…
Спиридон дернулся, но полицай, хоть и пьян, крепко держался за фуфайку. Сорвал ее со Спиридона и, взяв под мышку добычу, поковылял по улице, обнимая своего дружка.
А Спиридон так и остался стоять под изгородью. Дрожал от холодного ветра и отчаяния. Так глупо, позорно расстаться с донесением! И где — днем от Карасина Лишневка видна, а от нее до Гривы рукой подать… Сорвался с места, догнал полицаев.
— Дяденьки, что же я вам сделал, что вы меня раздели? Я же закоченею… Отдайте!
Полицай лениво оглянулся, прищурил глаз:
— Верно, зачем мне это барахло? На.
И тут будто комлем стукнуло Спиридона по голове. Дорога закачалась, перевернулась стоймя, зашатались хаты, полицай с поднятой рукой… И все заволокло густым туманом…
Когда к нему вернулось сознание, рядом уже никого не было. Спиридон, шатаясь, поднялся. Закоченевшее тело дрожало, будто в лихорадке, голова была тяжелая. Огляделся. Как будто сюда, вправо, дорога на Лишневку. Шатаясь, побрел по дороге…
Поле встретило его промозглым ветром. Под ногами чавкала и хрустела грязь, затвердевшая на морозе… Как ни был измучен Спиридон усталостью и голодом, он пустился бегом, чтобы не закоченеть. Полотняная сорочка совсем не грела. Надежда встретить партизан торопила его, гнала вперед.
Почти у самой дороги стояла скирда с сорванным верхом. Спиридон повернул к ней — хоть немного защититься от ветра, передохнуть… Пригрелся и уснул.
Когда проснулся утром, ноги были холодные как лед.
Ветер, как будто сжалившись над Спиридоном, изменил свое направление и порывисто стал толкать его в спину, Спиридон только ноги переставлял… Как ни замерз, все же сделал большой крюк и обошел Лишневку.
Под Гривой к речке прижался небольшой хутор. Его кто-то так незамысловато и назвал — Приречье. Спиридон, немного поколебавшись, свернул к хутору. Отогреется, расспросит дорогу, может, кто-нибудь подскажет, как найти партизан…
Как только вышел на узкую хуторскую улицу, наткнулся на двух мужиков. В полушубках, с немецкими автоматами…
Екнуло и замерло сердце. Опять… Только на сей раз не полицаи, а националисты… Павел Осипович предупреждал насчет них… Они медленно шли к Спиридону, не спуская с него глаз. И он шел… Чем больше сокращалось расстояние, тем равнодушнее он становился — что будет, то будет. Опустил глаза. Видел только месиво грязи и свои ноги в заляпанных чунях. Вот и сапоги этих двоих видны. Они сделали один шаг, второй и остановились.
— Ты кто? — спрашивает басовитый голос.
Спиридон вяло повторяет свой рассказ. Сам чувствует, что звучит он неубедительно, хотя слова те же самые… Мужики с минуту помолчали. Другой голос, тонкий, срывающийся, полный подозрения, произнес:
— Здесь что-то не так, Андрей. Шел в такую даль… Не лазутчик ли лишневский? Уж не полицаи ли подослали?
— Ну-ка, пошли к командиру, пусть разберется, — говорит бас. Сквозь равнодушие, усталость, ноющую жалость к себе стали просачиваться два слова, услышанные от мужиков… «Командир. Полицаи». С какой бы это стати националисты стали называть своего вожака командиром? У них называют «батьком». Взволнованный этим открытием, Спиридон наконец поднял голову. И его потрескавшиеся от ветра и мороза губы расплылись в улыбке — у мужиков на шапках, потонув в меху, виднелись узенькие красные ленточки. Партизаны?!.
Он так резко остановился, что мужик, шедший сзади, толкнул его коленом в спину.
— Ты чего, как козел, тормозишь?
Спиридон поднял голову — мужик был высокий и худой. Таких по деревням дразнят каланчой.
— Так вы… вы партизаны? А я думал… Немного испугался и сказал неправду…
— Погоди, погоди, малый, — перебил его дядька. — Командиру расскажешь, а он определит, что ты за птица.
Спиридон посмотрел вперед. Возле хаты стояло человек десять мужчин. Спиридон стал приглядываться — что-то знакомое было в дядьке, который, опершись о стену, спокойно слушал своих возбужденных собеседников.
Спиридон ускорил шаг, потом не удержался, побежал.
— Стой! Ты что, рехнулся! — крикнули сзади конвоиры.
Но Спиридон не остановился. Растолкал мужчин.
— Дядя Коля! Это вы?
Мужчина схватил Спиридона сильными руками, легко поднял и недоверчиво спросил:
— Откуда ты, Спиридон? Уж не с неба ли свалился?
Подошел высокий конвоир.
— Это мы, Николай Парамонович, заарканили малого. Видим, идет, шатается, как после выпивки. В одной рубашонке. А говорит — из самого Торчина пришел… Вы его знаете?
Николай Парамонович поставил Спиридона на землю, накинул ему на плечи свой пиджак, похлопал по плечу:
— А как же, калина-малина! Родственника своего не знать? Это Гнатюка Федора сын. Стариком его на улице дразнили…
Партизаны засмеялись. Спиридон тоже. Ему стало так легко, так свободно среди своих.
— Я должен вам кое-что сообщить, — вытянулся, как умел, Спиридон. — Я пришел из Торчина, от подполья. Искать партизан… Мой брат Сашко сказал, что вы возле Гривы сколачиваете отряд… А ваши подумали, что я лазутчик. Правда, я тоже хорош, не заметил поначалу красных ленточек, думал, эти… как их?..
— Националисты, — подсказал Конищук. И нахмурился. — К сожалению, развелось их по лесам. Нас пока что не трогают, а по селам разбойничают, наш авторитет подрывают. Тоже, видите ли, партизанами себя называют… Ну, а что тебя заподозрили, не обижайся. Такое нынче время, калина-малина… — Говоря это, Конищук легонько взял Спиридона за плечи и повел к подводе, стоявшей на выезде из хутора. — Вот что, садись, поедешь в лес. Подкрепишься, отдохнешь. На тебя глядеть страшно — краше в гроб кладут… Ну, ты молодец, калина-малина! — продолжал Конищук. — Столько верст пройти! Не каждый взрослый сможет…
— Пройти-то прошел, — вздохнул Спиридон, — но вот уже под конец пути донесение утратил…
— Как это произошло?.. Что там было? — встревожился Конищук.
— Там… написано, что подпольщики Торчина посылают к партизанам курьера Старика, то есть меня, для связи…
Спиридон рассказал, как полицаи отняли у него фуфайку.
— Гм, калина-малина, говоришь, Торчин упоминается? Это плохо… Гм, говоришь, были пьяны? Это хорошо. Не иначе, как пропьют где-нибудь твою фуфайку. К водке они охотники… Ну-ка, рассказывай, что у вас там за подполье…
Спиридон начал рассказывать. И почувствовал, что говорить почти нечего. Они же ничего не сделали. Только собирались и советовались… А Конищук слушал с вниманием. Спрашивал, уточнял.
А когда Спиридон умолк, задумчиво сказал:
— Создать в каждом селе подпольную группу… Глубокая конспирация… Разведка важных объектов… Оружие для партизан… Гм, калина-малина, а твой Каспрук — хитрый мужик… Стратег, или как там про таких пишут в книжках… А что, калина-малина, может, так и нужно?
Подвода выбралась на большую поляну, где была пахотная земля гривинцев.
Спиридон даже вперед подался — по ту сторону поляны виднеются те самые дубы, где они играли с мальчишками в войну и революцию… Вон на том высоком дубе он скрывался.
Да там и сейчас кто-то сидит.
— А кто там сидит, дядя Коля? — спросил Спиридон.
— Вот негодяй, — вдруг ругнулся Конищук, — сидит, как на именинах! Еще и биноклем поблескивает верст на десять. Подожди, я дам тебе прикурить… Наблюдатель называется!..
Конищук огрел кнутом лошадь — видно, не терпелось отругать беспечного партизана. А наблюдатель слез с дуба и побежал навстречу подводе. Лицо его сияло, как надраенный пятак.
— Николай Парамонович! — крикнул громко, будто расстояние между ними верст в пять. — В Москве состоялся парад на Октябрьские! Войска прошли! Сталин выступал! Сказал — будет и на нашей улице праздник…
Конищук стремительно соскочил с телеги, вплотную подошел к партизану, спросил напряженным голосом:
— Откуда тебе известно?
Партизан развел руками:
— Все точно, товарищ командир… Наши ребята перехватили на дороге подводу с двумя полицаями. Они говорили — по радио услышали случайно.
Дядя Коля обнял наблюдателя.
— Спасибо, Андрей. За это прощаю тебя, что сидел на дубе, как аист.
С лесной дороги свернули на узенькую просеку — на ней уже виднелись следы от колес. Откуда-то потянуло дымом, и Спиридон заволновался. Сейчас он увидит настоящий партизанский лагерь, о котором столько мечтал по дороге.
То, что он увидел, до того разочаровало его, что он не удержался и хмыкнул.
— Что, не по нраву наши хоромы? — повернулся к нему Конищук. — Мы только начинаем… Ничего, обживемся, сколотим отряд побольше — и такие хоромы построим!..
Спиридон не слишком доверчиво кивнул головой. Возможно… А пока что между деревьями стояла одна-единственная большая хибара, крытая камышом. Рядом с хибарой в двух ведрах, висевших на перекладине между двух столбиков с развилками, что-то булькало и приятно пахло. Возле ведер хлопотал раскрасневшийся у костра усатый дядька.
Спиридон поел вволю партизанской каши, запил ее чаем, настоянным на душице.
Конищук повел гостя в хибару. В ней было сумрачно. Спиридон разглядел в углу двух мужчин, спящих одетыми. Рядом с ними лежали винтовки.
— Они с задания вернулись, — громко объяснил Конищук. — Не бойся, не разбудим. Ребята двое суток не спали, так сейчас хоть из пушки пали…
— А почему они одеты и с оружием?
— Такая наша судьба партизанская. Чуть ослабишь пояс, обнимешь винтовку, как маму родную, и ложишься в чем стоишь… Ты тоже отдохни. Можешь раздеться. Разрешаю.
Конищук ушел. Спиридон и не подумал раздеться.
В хибаре пахло сеном, прелой листвой, потом, влажной землей. Никогда он еще не чувствовал себя так легко и привольно с тех пор, как началась война.
Кто-то дернул его за ногу. Спиридон открыл глаза.
Возле него стоял мальчишка. До того рыжий, что казалось, голова горела пламенем.
— Ну и мастак же ты дрыхнуть, — покачал своей копной мальчишка. — Можно подумать, что с задания вернулся.
Спиридон хотел было рассердиться, но мальчишка как ни в чем не бывало протянул руку и миролюбиво сказал:
— Я Семка, а тебя как звать?
— Спиридоном. — Поглядел на Семку и обомлел — на боку у него настоящий наган.
— Ты где взял?
Семка небрежно похлопал по кобуре.
— Было дело… Раздобыл, одним словом… Хочешь, пойдем в долину постреляем?..
— Пошли…
По дороге Семка признался:
— Наган я не сам раздобыл — Павло Лазин подарил. Он меня родственником называет, потому что тоже рыжий…
В долине были такие заросли, что даже трава не росла, только седоватый мох расстилался под ногами.
Семка достал из кармана белый лоскут, прицепил его к сучку. Отсчитал двадцать шагов, вытащил наган, долго целился, зажмурив один глаз и высунув кончик языка. Резко, неожиданно грянул выстрел. Семка, опустив наган, бегом бросился к мишени.
— Есть, есть! — закричал он, радостно приплясывая на месте.
Потом взял наган Спиридон.
…На третий день в отряд пришел Ваня Куц. Обрадовался и удивился, увидев Спиридона.
— Ну ты молодец! Как заяц проскочил!
— Да ну… — Спиридон сомкнул губы, чтобы не улыбнуться от радости. — А тебя где носило?
— Попал в облаву в Рожищах. Пришлось прятаться в погребе у своего давнишнего знакомого Никиты. Эх, и соскучился я по тебе, — вдруг обнял он Спиридона за плечи, поглядел на него своими васильковыми глазами. — Столько передумал, если бы ты знал! То волки на тебя напали, то полицаи схватили!.. Слышишь, назад пойдем вместе…
…Ваня и Спиридон уже миновали Гриву, а Семка не отставал. Спиридону тоже не хотелось расставаться с этим мальчишкой. Он спросил:
— А где твои родители живут? Может, загляну по дороге, передам им привет от тебя.
Мальчишка зажмурил глаза, как будто в лицо ему ударил свет. А когда открыл, в них стояли слезы…
Семья их жила в Маневичах. Отец был портным, в местечке о нем говорили: «Абрам даже старика в такой костюм оденет, что за него семнадцатилетняя пойдет!» Он и сына своего приучал к портняжеству. А Семке хотелось стать учителем. Все благие намерения перечеркнула война. Собраться собрались, чтобы выбраться из местечка, а уехать не успели… Вечером к ним ворвались в дом. Это были немцы. Утащили все ценное, а самих упекли в гетто. Через неделю погнали на расстрел. Мама несла на руках трехлетнюю сестренку, а он шел рядом с отцом. По обочинам молча стояли люди. Вдруг с тротуара кто-то цепко схватил Семку за руку, толкнул во двор…
— Первое время меня прятали в сарае, а потом переправили сюда, к партизанам, — тихим голосом рассказывал Семка. — Мне бы хоть могилу разыскать, где мои… похоронены…
Спиридон слушал, а у самого мурашки ползли по спине. Достал из кармана перочинный нож с белой колодочкой, протянул Семке.
— Это тебе. От меня. На память.
— Что ты? — хотел было отказаться Семка. — У меня же ничего нет…
— Бери, бери.
— Спасибо. Как только добуду наган, подарю тебе… — И едва слышно: — А ты еще приходи в отряд. Я буду ждать…
Огромный ком застрял у Спиридона в горле — не продохнуть. Хотел сказать: «До свидания». И не смог. Только кивнул головой.
Идти с Ваней было спокойно и как-то уютно. Он, казалось, совсем не волновался, когда навстречу попадались полицаи. Одному расскажет анекдот, и полицай долго хохочет, хватаясь за живот, другому даст душистой махорки, поговорит с ним о том, о сем.
Спиридон запоминал каждый жест, каждое слово Вани.
Как только ступили на первую торчинскую улицу, Ваня тихо сказал:
— Переходи на ту сторону и иди домой. Завтра встретимся с Каспруком в фольварке.
Спиридон увидел мать издали. Она вытряхивала у порога одеяло. Маленькая, худенькая, слабая… Острая боль пронзила сердце Спиридона. Он ускорил шаг, схватился за край одеяла:
— Мама, давайте вдвоем.
Мать вздрогнула, бросила одеяло и прильнула к Спиридону.
— Слышишь, — шептала, — чтобы больше никуда… ни шагу… Как-нибудь перебьемся… Только бы всем вместе…
— Ладно, мама. Ни на шаг…
Он не мог сказать матери, что это только начало. Начало яростной, страшной борьбы. В ней на чашу весов ставится самое дорогое — жизнь…
СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ
Неожиданно сорвалась метель — будто ее сто лет держали в тюрьме. Ветер нес с неба целые свитки мокрого, липкого снега, в котором исчезло все: хаты, деревья, улицы, земля… Уже в пяти шагах стояла перед глазами белая подвижная пелена…
Два дня бушевала метель. А на третий вдруг затихла.
И когда Спиридон вышел утром на улицу, перед его глазами предстал совсем иной мир.
В чистом, звонком от мороза небе катилось ослепительным колесом солнце, из-под него выпархивала и дрожала в прозрачном воздухе радужная пыль. Снег вокруг сверкал тысячами крошечных зеркал, голоса далеко, свежо звучали.
Спиридон раздумывал, куда бы податься.
Партизаны в письме, которое принесли он и Ваня, просили надежных людей, оружие и… доктора. Оружием занялись Ваня, Чучка и Чичолик, людьми — Каспрук и Голембиевский, а Спиридону и Козиру поручили разыскать врача Бурца, который где-то прятался… Спиридон понимал, что всю надежду Каспрук возлагал на Козира, но тоже пошел на поиски — а вдруг кто-нибудь подскажет.
Но где теперь увидишь, чтобы люди собирались толпами и разговаривали между собой? Зря обошел пол-Торчина. Только немецкие приказы на заборах «переговариваются». Один велит немедленно сдать оружие. Второй — явиться всем коммунистам и комсомольцам на регистрацию. Третий — не прятать, «своевременно сдавать» немецким властям хлеб, молоко, мясо, яйца… И каждый приказ угрожает — «за неповиновение, за неисполнение, за саботаж» расстрел…
А что, если на рынок податься?
На рынке торговались вполголоса, все время оглядываясь, не угрожает ли облава… Денег не было — меняли продукты на одежду, обувь… Вернулся Спиридон с рынка ни с чем.
На следующий день он опять бродил по Торчину. Как же найти врача? Уж очень Спиридону хотелось опередить Степана Мироновича Козира.
Вышел на узенькую улочку. От нечего делать пошел по ней, задумался.
Его мысли перебил крик:
— Давай бей его!
Спиридон вздрогнул от внезапного крика и тут же понял — это мальчишки шумят. Ну-ка, что они там придумали?
Придя в конец улочки, он увидел большого снеговика в рваной соломенной шляпе, с палкой. Мальчишки яростно атаковали свою поделку.
Спиридон ускорил шаг, а когда до снеговика осталось несколько шагов, нагнулся, слепил увесистый снежок, прицелился и резко бросил. Снежок попал в шляпу. Она свалилась и полетела в снег.
Мальчишки не пришли от этого в восторг — рассердились. Самый большой из них — одного роста со Спиридоном, только тонкий, как жердь, — подошел к нему, воинственно спросил:
— Ты чего лезешь не в свою игру? Хочешь по морде схлопотать? Так мы можем!..
— Да вы не задирайтесь, ребята, — сказал дружелюбно Спиридон. — Я не нарочно. Если бы целился, не попал бы. А крепость вы умеете делать?
Ребята покачали головами:
— Нет. У нас не делают.
— Так давай сделаем! Вот и будет у нас настоящая война!..
Через минуту ребята уже катили комья снега.
Вскоре Спиридон вместе с младшими мальчишками атаковал снежную крепость, из которой их бомбардировали снежками длинный мальчишка с двумя приятелями.
Крепость была взята. Длинный мальчишка — звали его Савелком — держался рукой за глаз и говорил, что если бы снежок не попал ему в глаз, они бы ни за что не отдали крепость.
Спиридон, будто о чем-то вспомнив, схватился за голову.
— Ну, ребята, совсем заморочили вы мне голову. Меня же мама послала поискать врача. Брат заболел. Говорили, что где-то есть… доктор Бурц. Вы не слышали о нем?
Никто не слышал.
— Так, может, расспросите?.. Я завтра приду.
— Ладно, — пообещал Савелко. — Только ты приходи… Завтра пойдем драться снежками с хлопцами из Журибедовки.
На следующий день Савелко отвел Спиридона в сторонку, зашептал на ухо:
— Доктор прячется на хуторе Уляники, у Матея Бузюка. Только он не пойдет к твоему брату, его полицаи и немцы ищут, убить хотят.
Спиридон вздохнул:
— Тогда зачем я его ищу? Пойду-ка я к ветеринару. Хоть и конский, но все же доктор…
«МАМА РОДНАЯ»
И снова перед Спиридоном раскинулись дороги, теперь уже заснеженные, снова зашумели над головой леса, затрещал под ногами ломкий снег… Он вел врача до села Доросинь, где Ваня в первый поход к партизанам «обновил» квартиру. Врач кутался в старый полушубок, из-под большой шапки только нос выглядывал. Бурца знал весь район, поэтому Каспрук приказал Спиридону обходить села, даже хутора…
Миновали село со странным названием Березодеры. Наступал тихий вечер, подмораживало. Путники присели под стожком сена у края большой поляны передохнуть и подкрепиться…
Спиридон выглянул из-за стожка и похолодел: неподалеку прямо на него шли три полицая с винтовками. Поздно убегать…
Что делать? Посмотрел на врача. Врач спокойно жевал черствый хлеб, рядом с ним в стожке темнела дыра. Видно, хозяин брал сено для коровы. Спиридон толкнул врача:
— Залезайте в дыру. Полицаи!
— А ты? Как же ты? Давай вместе, как-нибудь поместимся…
Спиридон махнул рукой:
— Поглубже прячьтесь. Я вас сейчас сеном прикрою. А обо мне не беспокойтесь — выкручусь.
Быстро забросал дырку сеном и сел, прижавшись к ней спиной. Все тело напряглось. Вспомнились слова Вани: «Будь артистом, сумей сыграть так, чтобы тебе поверили…» Когда полицаи осторожно выглянули из-за стожка, выставив винтовки, Спиридон удивленно и испуганно посмотрел на них. Один из полицаев, длинный, конопатый, почесал разочарованно затылок, плюнул:
— Тьфу ты, пацан! А мы думали…
— Ты кто такой? Почему шляешься по лесу? — сердито спросил второй.
Спиридон съежился, сказал дрожащим голосом:
— Я Спиридон. Иду к тете в Гриву. Может, не выгонит зимой. У нее свиней полно, буду за ними приглядывать. И за детьми пригляжу… Я все умею — и свиней кормить и детей нянчить.
Губы полицаев растянулись в улыбке.
— Ну и комик же ты! Почему так далеко один идешь?
— Так больше не с кем. Лиска, нашего пса, подговаривал. Согласился было, так мать его не пустила. Говорит: «Нечего скотину со двора сманивать. Один дойдешь. А не дойдешь, одним дурнем меньше станет. Кроме тебя, при мне девять ртов останется».
Полицаи громко захохотали. Конопатый спросил у Спиридона:
— Говорили, тут проходили двое. Один высокий, второй маленький. Ты не видел?
Спиридон наморщил лоб:
— Я тут давненько сижу, а таких не видел…
— Что, никто не проходил?
— Почему, проходили. Только оба маленькие.
— Тьфу ты, — сердито плюнул полицай, — а говоришь — не проходили.
— Так вы же спрашивали о большом и маленьком. Полицай повертел возле виска пальцем:
— Недаром говорят: «Мать свое дитя знает». Истинно придурок! Перекрестись, что в самом деле видел этих бандитов-партизан!
Спиридон испуганно замахал рукой:
— А откуда мне знать, бандиты они или нет? Разве можно бога обманывать? Я же у них не спрашивал. Проходили бы поближе, спросил…
Полицаи вскинули на плечи винтовки.
— Пошли, хлопцы. С этим чокнутым не договоришься. Тут Спиридон возьми и брякни, будто его за язык дернули:
— Возьмите и меня с собой. Одному страшно. Полицаи обернулись. А Спиридон готов был язык себе откусить… А вдруг скажут: «Ну, пошли». Как же тогда врач? Он же не знает ни дороги, ни пароля…
Конопатый полицай прищурился и добродушно сказал:
— Вот что, малый, если хочешь жить, не попадайся немцам. Они таких придурков, как ты, живо на тот свет спроваживают…
Полицаи ушли, оставив на снегу глубокие следы. А Спиридон еще долго сидел не шевелясь. В руках и ногах была такая слабость, что казалось, ни за что ему не подняться… Если бы врач не похлопал его рукой по спине, неизвестно, сколько бы он просидел вот так без движения…
* * *
Ярина сидела на табуретке у окна, в которое виден был склон долины, поросший крепкими кустами ивняка.
Пес Конфедерат вылез из будки, сел, неотрывно глядя в долину. Стар он, шерсть уже лезет клочьями, зато умница. Знает, что подпольщики выходят из долины. Бывало, услышит, посмотрит туда, но никогда не залает…
«Уж не тот ли курьер, о котором говорил Ваня, притаился в долине и ждет темноты? — подумала про себя Ярина. — Ох боже ты мой, ведь закоченеет, мороз-то какой к ночи ударил…» Вскочила. Накинула платок, но дальше порога не пошла. Нельзя ей идти в долину. Хоть и далеко соседская хата и сосед у нее одноглазый, а может приметить. С тех пор, как стал полицаем, будто с цепи сорвался.
Зимний вечер наступает рано, но темнота долго не может прижаться к земле — отталкивает ее белый снег.
Ярина вздрогнула. Голова ее лежала на подоконнике. Не заметила, как задремала. Старость незаметно подкрадывается… Увидела вдруг в окне лицо и метнулась в сени.
— Кто?
— Старик.
Открыла дверь и ничего не могла понять. Перед ней стоял мальчишка. Маленький, продрогший. И чего ему вздумалось назвать себя стариком?
— Ты, мальчик, наверно, ошибся двором, — сказала она растерянно.
Мальчишка шмыгнул носом, деланным баском сказал пароль и добавил:
— Нет, не ошибся, «мама родная». Со мной еще один человек.
«Знает мою кличку», — подумала Ярина и успокоилась. Пропустила в хату мальчишку, а потом и мужчину в полушубке.
Как только они переступили порог, Спиридон повернулся к хозяйке:
— Вы, мне говорили, отведете доктора на другую квартиру. В Любче. Там будет ждать Ваня… Так зачем нам ходить ночью? Покажите дорогу, я сам доведу. Пусть доктор только немного отогреется… — Басок Спиридона вдруг дал «петуха», и мальчик кашлянул, чтобы скрыть неловкость.
Ярина как будто не слышала никаких слов, она участливо смотрела на его посиневшее от холода и усталости лицо.
— Я думала, что дед придет. Кличка-то Старик… Кто же тебя, такого малого, послал в такую даль?
Курьер ответил сердито:
— Вы же знаете, что по правилам конспирации я не имею права ничего вам рассказывать.
Женщина слегка улыбнулась:
— Знаю. У меня столько курьеров перебывало!.. Но такого, как ты, не было…
И тут подал голос другой — он уже снял полушубок и сидел на лавке, махал ногами, стараясь согреть их:
— Вы, уважаемая хозяйка, не конфузьте Спиридона. Он настоящий курьер и сегодня даже мне жизнь спас. Подождите, согреюсь, отдышусь немного, тогда все и расскажу. А вы тем временем загоните нашего юного друга на печь, у него ноги совсем мокрые…
Ярина всплеснула руками:
— Чего ты молчишь? Ну-ка, снимай немедленно свои чуни — и пошел на печь. Она еще теплая…
— Да нет… уже время идти…
— Никуда ты не пойдешь! — В голосе хозяйки появились суровые нотки. — Заболеть хочешь? Ну-ка, лежи, а то как возьму веник!..
Спиридон в растерянности постоял немного и пошел на печь. Положил голову на подушку, и тут же на него внезапно накатилась высокая волна сна…
ЮСТЯ
Утром командир вызвал Спиридона и сказал:
— Каспрук просит на пару недель оставить тебя в лагере. Отдохнуть. Так что оставайся. Помогай вместе с Семкой беженцам. Видишь, сколько их привалило, калина-малина.
Спиридон первые дни честно выполнял приказ командира. Строил вместе с партизанами утепленные шалаши, присматривал за детьми… Но ему все скоро наскучило. Разве это дело для партизана! А не поискать ли в лесу другой отряд? Рассказывали, будто видели как-то человек десять в кожухах, шли стороной. Хорошо бы разыскать их! Может, у них даже связь с Москвой есть. Вот будет здорово!
Два дня Спиридон и Семка топтали снег вокруг лагеря.
Хотя бы одного человека встретили.
На третий день Спиридон пошел один — Семка напился в лесу холодной родниковой воды и захворал.
Спиридон захватил наган Семки.
Он долго бродил по лесу, далеко отошел от лагеря, с ног валился от усталости, но никакого намека на партизанскую стоянку.
Присел под калиновым кустом, чтобы отдышаться. Поднял глаза и увидел две грозди калины. У Спиридона даже слюнки потекли — калина сейчас как мед!
Сорвал одну гроздь, потянулся за другой. И вздрогнул от громкого крика: «Стой! Руки вверх!»
Недалеко от куста стоял мальчишка его возраста. Полный, как куль зерна. Нахмурил белые брови, смешно надул губы. В руках обрез.
— Ты кто такой? — спросил он баском. — Почему рвешь мою калину?
— А ты что, сажал ее? — захорохорился Спиридон. — Захотел — и рву.
— Сажал, не сажал — твое дело маленькое! Поднимай руки! Я не шучу.
Видя, что мальчишка положил палец на спусковой крючок, Спиридон неохотно поднял руки.
— А ты кто такой? — спросил Спиридон миролюбиво.
— Ты поговори мне! — крикнул мальчишка. — Слепой, что ли, не видишь? Я партизан.
Спиридон облегченно рассмеялся. Ну и насмешил! Видно, не раньше чем вчера взял в руки обрез и такого вояку из себя корчит, что куда там!
Он протянул мальчишке гроздь:
— Возьми свое добро, если жалко… Я ведь тоже партизан.
Мальчишка взял калину и тут же стал есть ягоды. Даже глаза прижмурил от удовольствия. «Ну и жадина, — подумал Спиридон. — Даже не подумал со мной поделиться. Бывают же люди…»
Мальчишка съел ягоды, вытер кулаком рот и спросил высокомерно:
— А не врешь? Из какого куреня?
«Курень? При чем тут курень?» — не понял Спиридон. Вслух сказал:
— У нас Конищук командует.
— А у нас, украинских партизан, самый главный — батько Тарас.
Ага, так вот это какие «партизаны»…
— А ты ходил на операции против немцев? — поинтересовался осторожно Спиридон.
— Нет, — признался мальчишка. — А поляков резать ходил. И евреев бить.
— А за что их бить? — еле сдержал свое возмущение Спиридон.
— Как за что? — подозрительно посмотрел на него мальчишка и опять поднял обрез. — Это же враги Украины. Евреи, москали, поляки.
— А немцы?
— Немцы?.. Немцы тоже будут врагами, если выступят против нас. А сейчас они наши друзья, потому что обещают разрешить самостоятельную Украину, как только кончится война с москалями.
У Спиридона даже в глазах потемнело от гнева.
— Ах ты, бандит проклятый!
Мальчишка вскинулся, глаза у него сузились, стали злыми, как у разъяренного вепря.
— Ага-а! — процедил он сквозь зубы. — Так вот ты какой партизан! Советский… Ну-ка, руки вверх и топай вперед! Там ты обо всем расскажешь!
«Что же делать? Что? Как выйти из этого положения?» Спиридон попробовал оглянуться. И сразу же в его спину уткнулся ствол обреза.
— Не дергайся, а то…
Спиридон шел и тоскливо смотрел на березы, застывшие в скорбном безмолвии, на беззаботного воробья, прыгающего по голой ветке…
— Стой! — вдруг приказал мордастый. — Давай-ка я тебя обыщу… Может, у тебя оружие…
Держа в правой руке обрез, он левой полез в пустой карман Спиридона…
Раздался выстрел. Мордастый громко закричал и выронил обрез. Спиридон схватил оружие… Пришел в себя в густых зарослях ежевики, он запутался в ней и упал лицом на колючки. Кожу обожгло!
Убежал!.. Вместе с радостью, что удалось спастись, пришла досада: почему не убил мордастого?
Он долго петлял, пока не попал на большую поляну. Огляделся. Чудное какое-то место… Никогда не думал, что на Волыни есть такие уголки… Песчаные холмы показывают из-под снега свои желтые плешины. Между холмами кланяются ветру кустики ивняка, обшарпанные низкорослые березки и сосны. Ветер сдувает с плешин песок, желтит снег. Настоящая пустыня, только не раскаленная солнцем, а примороженная.
В небе темнели, сгущались тучи. Вскоре они заволокли все небо. Пошел мелкий, как мука, снег. Стало еще мрачнее, еще безрадостнее в этом неуютном уголке. Правда, это к лучшему, что идет снег, — следы занесет.
У Спиридона окоченели ноги, ветер упрямо забирался в чуни, под фуфайку.
Из леса никто не выходил.
Когда над холмами поплыли серые сумерки, Спиридон встал. Куда идти? Постоял немного — нет, идти, куда-то идти, двигаться. Иначе на таком ветру и морозе превратишься в сосульку.
Он быстро пересек пустыню и спрятался в лесу. Спиридон совсем уже валился с ног от усталости, проголодался, замерз, когда до его слуха донесся слабый собачий лай. А вдруг это только послышалось?.. Нет, лает собака.
Вскоре он увидел хутор, совсем затерявшийся в лесах. Тут, наверное, и немцев-то нет — вишь, как разошелся пес. Ни в одном окне света не было. Из предосторожности Спиридон некоторое время постоял в кустах. Глядел на хаты — в которую постучать?.. Может, в эту крайнюю, маленькую?
Спиридон едва коснулся пальцем стекла, за окном послышался радостный голос:
— Ой? Это ты? Наконец!..
Спиридон попятился от окна в растерянности — кто его мог ждать на этом хуторе?
Открылась дверь, и Спиридон увидел тоненькую девочку в белой длинной сорочке.
— Ой, кто это? — голос испуганный, разочарованный.
Спиридон тихо ответил:
— Не бойся, я не бандит, я мальчик, пусти на ночь. Я так устал и замерз, что зуб на зуб не попадает.
Девочка прикрыла дверь:
— Нет, я одна… Мама сказала, чтобы я никого не пускала… Ты правда сильно замерз?
— Еще как!..
— Ну тогда входи. Нет, погоди, я только пальто накину.
— Что же ты живешь в леднике? — грубовато поинтересовался Спиридон. — Ленишься за дровами сходить? Лес же рядом.
— У нас хата такая, что тут же все выдувает, — начала оправдываться девочка. — Утром я протопила. Вечером тоже собиралась, но одной страшно идти в лес за дровами… Ты голоден?
— Как волк.
Девочка взяла ухват, застучала им в печи.
— Осторожно, — сказал Спиридон. — Ты все горшки там опрокинешь…
— А там опрокидывать нечего. Я сегодня только картошку в мундире варила.
Девочка выдвинула чугунок.
Спиридон с жадностью стал уминать картошку. Девочка, глядя на него, тоже стала есть. Он время от времени украдкой поглядывал на нее. Белое худенькое личико, поблескивают глаза.
Спиридон стеснялся девочек и никакого понятия не имел, как нужно держаться с ними. А с этой у него сразу разговор завязался. С ней как-то легко, как с мальчишкой.
Они опорожнили чугунок, девочка принесла кружку воды:
— Запей. Было бы молоко, не пожалела. Нет у нас коровы.
Она ощупью поставила чугунок на лежанку и молча полезла на печь. Повозилась там с минуту и слезла:
— Забирайся сюда, я тебе постелила. Жестковато, зато не холодно. Печка еще теплая…
Спиридон обиделся:
— Это с какой же стати меня на печь? Ложись там сама, я привыкший к холоду. Лягу вот на лавке, накроюсь фуфайкой — и ладно.
Девочка всплеснула руками:
— Даже не думай! Разве я не знаю, как гостей принимать?
Спиридон стоял возле полатей — вот положение. Ему было приятно, что девочка назвала его гостем, но на печь он все же не полезет… Она, такая худенькая, замерзнет на полатях, о он, партизан, будет греть бока на печи…
Девочка торопила его:
— Ты скоро? Я окоченею стоя. Знаешь, как из-под двери дует… Даже не думай! Пока не залезешь на печь, я не сойду с места. Я загадала — если ты будешь спать на печи, моя мама вернется…
Ну и девчонка! Спиридон что-то пробормотал о бабьих предрассудках и неохотно полез на печь. Девочка вышла из-за печи и юркнула в свою постель. Слышно было, как она ворочалась на полатях — видно, не сладко в ледяной постели.
— Ты не спишь? — услышал он тоненький голосок. — И мне не спится. Знаешь, какие сейчас ночи длинные. То, бывало, с мамой поболтаешь, пригреешься возле нее, начнешь о чем-нибудь хорошем мечтать и уснешь. А теперь… — Голосок ее задрожал. — Я иногда даже плачу ночью…
Девочка придвинулась немного ближе к лежанке, подняла голову:
— Знаешь, я такая воображалка… То воображаю, будто волки заглядывают в окна, щелкают зубами, то полицай открывает дверь, то…
Она не успела договорить. Тук! — что-то резко ударило в окно. Спиридон вздрогнул. Эх, жаль, обрез припрятал в изгороди… Выглянул с печи. За окном ровно серел снег, притушенный темнотой. Тишина. Нет, это не погоня. Те уж если бы начали стучать, такой бы грохот стоял!..
— Ой, не выглядывай, не выглядывай! Они увидят тебя! Пусть думают, что никого дома нет…
— Кто увидит? — улыбнулся Спиридон. — Наверно, снегирь замерз и просится в хату. Хочешь, я его сейчас принесу?
— Ой, что ты? — схватила его девочка за плечи. Она вся дрожала, будто ее окатили ледяной водой. — Не слезай с печи…
Девочка отодвинулась от него и нерешительно спросила:
— Ты не рассердишься на меня, если я на печке в уголке сяду?.. На полатях страшно. А оттуда хоть окон не видно…
Девочка сняла с жердки какую-то дерюжку, натянула на себя, примостилась в уголке. Притихла. И Спиридон молчал. Слышно только было, как ветер бился о стекла и они тихонько дребезжали. Изредка хрипло отзывался сверчок — он тоже простудился в этой холодной хате… Хате без хозяйки. Он до сего времени не спросил, где она. Вовремя подумал об этом, потому что тишина делалась невыносимой.
— Так ты еще не спишь? — обрадовалась девочка. — Давай побеседуем, что ли. А то мне не с кем словом перемолвиться. Разве что сбегаю к бабушке-соседке за угольком, но о чем с ней говорить? — И глубоко, тяжело вздохнула. — Увели мою маму. Какие-то немцы нагрянули к нам и угнали всех мужчин и женщин. Только стариков и старух не тронули. Уже с улицы мама мне крикнула, чтобы я чужих в хату не пускала и два раза на день курей кормила… Семен Гусак хотел убежать, так его убили… Уже десятый день пошел, как увели… Жду, жду, а она все не возвращается. Ее отпустят, правда? Поработает немного в районе и вернется…
Спиридон молчал. Это же в Германию немцы угоняют людей!..
— Ты чего молчишь? — встревожилась девочка. — Думаешь — не скоро?.. Что же я буду делать? Картошки совсем мало осталось, дров — ни полена… Нет, нет, ты зря так думаешь, мама вот-вот придет домой!
— Да ничего я не думаю… Конечно, отпустят, должны отпустить. Ты же одна дома осталась… Твоя мама скажет им об этом… Слушай, а как тебя звать? Меня Спиридоном…
— Спиридоном? — засмеялась девочка. — Как деда. У нас есть один дед, его тоже Спиридоном зовут. У него борода до пояса, голову вниз нагибает. А меня — Юстя. Это меня так мама зовет. А мальчишки на улице Юшкой дразнят. Не смешно. Правда?
— Правда, — согласился Спиридон. — Ничем ты не похожа на Юшку. Вот если бы косы рыжие…
— Погляди, а они у меня рыжеватые, — девочка наклонила к Спиридону голову. — Сейчас не рассмотришь… Завтра.
Завтра! Завтра на рассвете он должен покинуть хутор. В лагере, наверно, уже хватились его.
— Слушай, а откуда ты? Может, из Маневичей? Так спроси о моей маме. Ее Марией зовут. Мария Климчук. Она у меня маленькая, косы у нее совсем рыжие, а глаза голубые. Красиво. Правда?
— Правда. А у тебя?
— У меня, как у кошки, зеленые. В черных крапинках. Мама говорит, что это от мака: я очень люблю мак, особенно когда он еще не затвердел и молочко из него брызжет. Вкусно!..
«Ведь это хорошо — зеленые глаза с маковыми зернышками, — подумал про себя Спиридон. — Лучше, чем голубые». И неожиданно для себя зевнул.
Проснулся не от тревоги — к этому он привык с тех пор, как началась война, — а от чего-то необычного… Девочка мягким носиком уткнулась ему в спину и тепло дышала, тихонько посыпывая… Одно маленькое движение — и она проснется… Спи, спи, Юстя… Хотя бы петухи подольше помолчали.
Но петухи остались петухами, и им не было никакого дела до того, что происходило в маленькой хате на околице. Сперва запел один, потом загорланил другой… Спиридон осторожно снял руку девочки, тихонько отодвинулся, накрыл ее простыней.
Уже возле порога спохватился: «Надо ей что-нибудь на память оставить». Пошарил у себя по карманам — ничего нет. Вот болван! Не мог захватить ленточку или… О, откуда ему знать, что в таких случаях дарят девчонкам!
Он стоял одетый посреди хаты и ничего не мог придумать. И уйти просто так тоже не мог. Что Юстя о нем подумает?.. А ему совсем не хотелось, чтобы она о нем плохо подумала… Повертелся и увидел под печкой что-то тускло сверкающее. Наклонился — топор. В ушах зазвучал тоненький голосок Юсти: «Дров — ни полена…»
Бегом помчался в лес. Нарубил целую кучу веток, приволок во двор. Мало. Еще нарубил кучу. Хотел опять вернуться в лес, но заметил в соседнем дворе какую-то тень. Положил топор у порога, достал обрез. И, посмотрев прощальным взглядом на хату, пригибаясь, пошел к лесу.
Хмурое утро застало его далеко за хутором. По небу табуном плыли тучи, жались к земле, чтобы хоть немного согреться.
И вдруг случилось неожиданное. Как будто чья-то рука располосовала на востоке серое покрывало облаков, и показалось солнце. Большое, розовое, улыбчивое. И сразу порозовел снег, порозовели белые деревья, на стволе обреза заиграл зайчик. Спиридону стало радостно и легко. Радостно оттого, что он встретил Юстю, что она живет на свете…
ПОГОНЯ
Спиридон сидел на опушке на куче хвороста и стегал по снегу хворостиной. Был конец февраля, и уже пахло весной. Пахло неизвестно от чего — то ли от почек в тугих коричневых пеленках, то ли от прошлогодней травы, зеленеющей в лунках под деревьями, то ли от снега, ослепительно блестевшего на солнце и прихваченного ночным морозом… Спиридон огляделся. Он ждал подводу с тремя советскими пленными, убежавшими из луцкого концлагеря. Вез их Голембиевский. Но где же подвода? Солнце уже к закату клонится. А условились на утро. «Ну, какой нетерпеливый! — выругал сам себя Спиридон. — Нужно ждать, ведь пленные одни не дойдут к партизанам…»
Когда Спиридон вернулся в отряд с Юстиного хутора, Конищук отругал его как следует за «самовольство» и отослал в Торчин. Конечно, не просто так, а с важным донесением. Однако не забыл предупредить: «Расскажи обо всем Каспруку, пусть он тебя хотя бы в угол поставит…»
Но Каспрук не стал его ругать. Он был очень возбужден известием об освобождении русских пленных из концлагеря. И поручил ему с Ваней переправить их на Полесье.
…Наконец с дороги свернула подвода.
— Старик! — крикнул Голембиевский. — Буян далеко?
— Там, — махнул Спиридон рукой. — В полкилометре отсюда… Под елкой замаскировался… А где же эти? — разочарованно спросил он.
— Садись, поехали… Здесь они, — показал Голембиовский на кучу лохмотьев.
Подвода задребезжала по просеке.
Когда из-за ели показался Ваня Куц, Голембиевский дотронулся до лохмотьев:
— Вылезайте, хлопцы!
Пленные стали соскакивать с телеги, они обнимали Ваню, Спиридона, деревья… По их лицам текли слезы…
— Товарищи, а вы дойдете до отряда? Туда далековато…
— Дойдем! На четвереньках будем ползти, а доберемся к своим!..
Спиридон и Ваня немного покормили пленных и тронулись.
Они не могли заходить в села, избегали дорог, брели чаще всего просеками или просто лесом, ориентируясь по компасу, который был у Вани на руке. Ваня шел впереди, Спиридон позади.
На полянах, открытых небу, солнце съело ночную ледовую корку на снегу, и ноги проваливались глубоко. А в чаще было совсем худо. Там корка, как острым ножом, резала ноги. Пленные молчали, сжимая зубы. А когда один из них, обутый в галоши, оставил на снегу кровавую цепочку, Спиридон свистнул Ване. Тот остановился, посмотрел, вздохнул.
— Да-a, история с географией…
— Ничего, — прохрипел пострадавший. — Ты на нас не смотри, веди.
Спиридон не поверил глазам, когда увидел знакомый березнячок. Неужели они возле Доросинь?..
На ночь примораживало, прямо на глазах закостеневал снег, ломался под ногами. Напрасно Спиридон напрягал слух — все звуки глушил треск снега. Но вот до его ушей донесся тревожный сорочий крик. Оглянулся. На фоне лимонного остывшего неба с ветки на ветку со стрекотаньем перелетала сорока. Кого-то увидела… Мгновенно свистнул Ване. Тот прибежал, остановил группу. Прислушались.
— Та-ак, — сплюнул Ваня. — Кого-то черти несут. Неужели из лагеря погоня?
— Давай углубимся в лес, — сказал Спиридон. — Полицаи и немцы боятся ночного леса…
Ваня повел пленных в сторону от села. Красноармейцы спотыкались, широко открытыми ртами ловили воздух. А Ваня, все время оглядываясь, просил их: «Хлопцы, ну, хлопцы, быстрее. Сейчас только ноги могут нас спасти…»
Погоня приближалась. Бабахнул один выстрел, второй.
Ваня вдруг повернул в сторону, исчез в овраге.
— Сюда! — крикнул он пленным.
Глубокий, но узкий овраг с обеих сторон накрывали ветви разлапистых сосен. На ветви нападало снега, и получилось что-то вроде медвежьей берлоги.
— Хлопцы, — сказал Ваня, — пересидите здесь, пока я их задурю. Ну, в случае чего Спиридон доведет…
— Нет, я останусь с тобой! — заупрямился Спиридон. — Вдвоем нам легче их обмануть.
— Я приказываю! — едва не крикнул Ваня.
— Нет!
— Ну и дурень! — выругался Ваня. — Побежали тогда, чего стоишь?
И они направились прямо на погоню. Заметив между деревьями темные фигуры, Ваня свернул в низкий соснячок, бросил на ходу Спиридону:
— Шуми погромче, чтобы они услышали нас.
Погоня устремилась за ними. Это были полицаи. Раздались выстрелы. А Ваня то замедлял шаг, то снова бежал вперед, дразня полицаев.
Когда достаточно удалились от оврага, Ваня сказал Спиридону:
— А теперь жми на все педали обратно…
«ШПЕК, ШПЕК!»
Весна…
Спиридон снял рубашку, подставил спину солнцу. Теплые лучи защекотали Спиридона нежно и ласково, ветерок приятно холодил, помогая солнцу ощупывать каждый мускул на спине…
Спиридон обернулся к женщинам. Вера Александровна наклонилась к маленькой Аленке, заколебалась, раскутывать ее или не надо. Совсем еще крошка — всего три месяца, бессмысленно уставилась в небо, и небо мягко синит ее глазенки. Увидела склоненное над собой лицо матери, улыбнулась беззубым ртом. Вера Александровна тоже улыбнулась дочурке, а у самой на реснице, повиснув, сверкнула слеза… Немного ослабила одеяльце, затенила собой личико малышки…
У Спиридона сжалось сердце, он быстрее перевел взгляд на другую женщину. Собственно, какая из нее женщина? Хмурит брови, напускает на себя солидность, а сама девчонка.
Они ехали лесом, полным птичьего щебета. Деревья степенно шумели, покачивая на ветвях птичьи гнезда.
Первая военная весна… Уже скоро год, как идет война. Когда немцев разгромили под Москвой, все думали — покатится теперь враг назад безостановочно. А он не только остановил нашу армию, но пошел на юге в наступление! И где-то там, в степях, которые Спиридон видел разве что на картинках, строчат пулеметы, гремят пушки, ползут танки, умирают наши солдаты…
А здесь тишина. Только слышится птичье пение, шелестит на ветру трава и поскрипывает на ухабах несмазанная телега. А на телеге сидят мальчишка без рубашки, женщина с маленьким ребенком и девушка. Куда-то гонит война эту семью без отца…
Ненадежная, обманчивая эта тишина.
…Спиридон в то утро, уставший, но довольный, вернулся из местечка Голобы. Ходил по поручению Каспрука на связь с голобским подпольем. Крепкое там подполье!.. Только вздремнул, вдруг кто-то дергает. Открыл глаза — Чучка. Вывел из хаты.
— Иди к Учителю, срочно нужен…
Павел Осипович взволнованно ходил по комнате. А Вера Александровна качала ребенка и смотрела в окно. На ее лице выступили красные пятна.
Спиридон задержался на пороге. Он впервые видел их ссору. Хотел было вернуться назад, но Павел Осипович остановил его.
— Слушай, Спиридон, ты можешь переправить связную в Шурин?
Спиридон только плечами повел. Мол, зачем спрашивать? Сами знаете, что могу.
Каспрук вплотную подошел к нему.
— Понимаешь, это не просто связная, у нее очень важные бумаги. Для кого они — знать нам не обязательно. Связная и бумаги уже сегодня должны быть в Шурине. О провале не может быть и речи…
Спиридон не успел еще ничего ответить, как в разговор вмешалась Вера Александровна.
— Павел, — сказала сердито, — ну зачем ты поднял Спиридона? Он же только что вернулся из Голоб…
— Я уже не спал, — поспешно вставил Спиридон. Почему Вера Александровна не хочет, чтобы он выполнил это задание?
— Может, и не спал. Но ведь устал… А я… ну что я сделала, Павел, для подполья?.. Только числюсь…
Павел Осипович резко повернулся к ней:
— А Аленка? Голодать будет? Только полдня нужно добираться в одну сторону.
Вера Александровна поглядела на закутанную малышку, коснулась губами ее щечек.
— А мы вдвоем. Правда, Аленка? По дороге и пообедаем и поужинаем…
Павел Осипович вышел из хаты. Вернулся он не скоро. И увидел, что Вера Александровна и Спиридон о чем-то деловито разговаривают.
— Ну, успокоился? — слегка улыбнулась Вера Александровна. — Вот и хорошо. А мы тут со Спиридоном соображаем, как нам получше пробраться. Пусть будет по-твоему — тронемся втроем. — Ну не сердись же, сам знаешь, что так задание будет выполнить легче. Никто не привяжется к матери с маленьким ребенком…
— Тебя не переубедишь, — устало махнул рукой Павел Осипович. — Да еще Спиридона в помощь взяла… Только пешком я вас не пущу, поедете на подводе и как семья без отца.
И они поехали в Затурцы, где их ждала связная. А оттуда тронулись в Шурин.
Ночью прошел густой дождь, и в колеях еще стояла вода. Повсюду мерцала роса, все было чистое, умытое, торжественное, как бывает только весной после дождя. В такой день хочешь не хочешь, а прояснится лицо человека, мягкая задумчивость украсит его — от искристых капель, от шороха чистой, сверкающей зелени, от пряных запахов, идущих из земли, от неба, от солнца.
Вера Александровна, укачав малышку и уложив ее на перинку, придвинулась к девушке:
— Как тебя звать?
— Зовите Фиалкой…
Вера Александровна покачала головой, сказала рассудительно:
— А если попадутся навстречу немцы или полицаи, так как мне тебя — Фиалкой называть?
Связная коротко взглянула на нее, потерла пальцами лоб. Видно, не ожидала такого простого и вместе с тем неожиданного вопроса.
Вера Александровна едва заметно улыбнулась краешком рта.
— Значит, как тебя звать?.. Любой?.. Хорошее имя… Ты, Люба, моя сестра. Мы везем в Шурин ребенка. Нам сказали, что там есть гадалка, которая выгоняет перепуг…
— А где у нее, — Спиридон кивнул на связную, — бумаги? Может, лучше перепрятать?
Девушка пощупала себя за волосы.
— Не дам, — решительно сказала она, — они у меня надежно спрятаны…
Вера Александровна улыбнулась открыто, ласково. И этим обезоружила девушку.
— А что, они тщательно обыскивают? — нерешительно спросила она.
— Бывает. Подозрительными, недоверчивыми стали, — сказал Спиридон. — Вот мне недавно и в ботинки заглядывали, даже подошвы оторвали… Но все равно не нашли донесение — я его в козырек фуражки зашил.
— А куда же перепрятать?..
Все трое стали оглядывать телегу.
Первым отозвался Спиридон:
— А если в перинку под Аленку? Пуха там много. Вряд ли прощупают бумагу…
Немцы показались неожиданно.
Их было трое. Стояли и ждали подводу. Спиридон посмотрел на связную — изо всей силы старается скрыть дрожь…
Они остановили подводу, окружили. Пожилой немец с хмурым лицом, покрытым глубокими морщинами, в которых кустилась черная щетина, спросил:
— Кто, куда, зачем?
Вера Александровна показала на малышку:
— Кинд, кранк… к гадалке… ангст…[4]
Немец поглядел на Аленку. А она вдруг открыла свой беззубый рот и… улыбнулась… Вера Александровна побледнела. Чего доброго, не поверит, что больная. Но с немцем произошла удивительная перемена — его лицо стало добрее, погрустнело.
— О, о, война делайт дети страх… Такой мал, а уже страх…
Все же они поковырялись в сене на телеге, придирчиво всех обыскали. Пожилой немец извинительно развел руками:
— Служба…
В Киселине, что по пути в Шурин, была конспиративная квартира. Там путников ждал короткий отдых.
Как и было условлено, у ворот стоял мужичонка — маленький, кривоногий, один глаз его все время моргал. Он выслушал, моргая, просьбу пустить с ребенком (сказано это было громко, чтобы слышали соседи), моргая, почесал затылок и открыл ворота. С его лица не сходило туповато-глуповатое выражение, подчеркнутое бесконечным подмигиваньем.
Как только вошли в хату, лицо хозяина тут же преобразилось. Только глаз по-прежнему часто моргал — следствие контузии в первую империалистическую.
— Плохи наши дела, — сказал он, обращаясь к гостям, — ох, плохи. Мост у нас один через Стоход. Всех, кто приблизится к нему, немцы чуть ли не догола раздевают. Недавно поймали двух партизан… До сих пор висят посреди села…
Связная съежилась, будто продрогла. Вере Александровне тоже сделалось не по себе, она прижала к себе Аленку.
В хате стало тихо, как на поминках.
— Может, брод есть, так переедем? — не совсем уверенно спросила Вера Александровна.
Хозяин покачал головой:
— Летом будет брод…
— А если переплыть? — подал мысль Спиридон. — Какая там ширина? Шагов сорок — не больше… Мы с Любой переплывем, а Вера Александровна вернется…
Со двора послышался визг поросенка. Хозяин посмотрел в окно:
— Вот паршивцы, из сарая выскочили. Свинья опоросилась, на мою голову!
И поковылял из хаты.
Спиридон стал смотреть в окно. По двору вприпрыжку носились два поросенка. В поисках поживы они ковыряли мордашками спорыш. Еще два поросенка застряли в щели под дверью сарая.
Поросенок… А что, если?..
Они думали, что часовые после недавнего события будут особенно тщательно охранять мост. А увидели довольно неожиданную картину. Один немец, толстый, обросший медно-рыжими волосами, стоял в одних трусах, нагнувшись, у края моста, а второй, обнажившись до пояса, поливал его из ведра. Автоматы их висели на перилах моста…
Люба приободрилась, тихо сказала:
— Может, без поросенка пропустят? Видите, какие… веселые?
Спиридон покачал головой:
— Веселые… Эти «веселые» вчера двух партизан повесили.
Часовые так увлеклись купанием, что заметили подводу, лишь когда лошадь уже взошла на мост.
Спиридон больно дернул поросенка за хвост и выпустил. Поросенок поднял визг — хоть уши затыкай. И побежал вдоль речки.
Это было так неожиданно для немцев, что они замерли с протянутыми к автоматам руками.
Еще мгновение — и, громко захохотав, они побежали за поросенком. Спиридон тоже соскочил с телеги и помчался за ними. А Вера Александровна стеганула кнутом лошадь.
Поросенок бежал зигзагами, и немцы раза два шлепнулись в жалящую осоку. Это еще больше распалило их.
Наконец, у самой воды, в камыше, рыжий схватил поросенка за ноги.
— Шпек, шпек![5] — С видом победителя поднял он поросенка над головой.
Спиридон подбежал к немцу:
— Спасибо, дяденька, что поймали! Большое вам спасибо! А то отец голову бы мне оторвал за этого заморыша…
И протянул руку к поросенку, покосившись на мост. Там было пусто, только автоматы чернели на перилах.
Рыжий обиженно заморгал глазами. И вдруг, больно ударив Спиридона по руке, загорланил:
— Век!
Спиридона точно ветром сдуло. Бежал, пока не догнал подводу.
Вера Александровна и Люба, увидев его, облегченно вздохнули.
— А мы чего только не передумали, — сказала Вера Александровна.
— Ну что вы, — Спиридон небрежно махнул рукой, — все нормально. Вот только поросенка жалко.
И он дернул вожжи.
— Но, Рябая, нам еще далеко ехать.
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСПОДА ПОЛИЦАИ!»
Спиридон лег на дно телеги, устланное мягкой, сочной травой для лошади, и загляделся в небо.
Оно было по-августовскому светло-голубое. Высоко стояли сотканные из белых легких волокон тучки-марли. А под ними медленно кружили два аиста.
Один аист стал снижаться, будто к чему-то приглядывается. Уж не Юстю ли увидел? Екнуло сердце…
Думал после встречи с Юстей, что вскоре навестит ее, но это «вскоре» растянулось на шесть месяцев. Не посылали в те места. С Верой Александровной и Аленкой на этой телеге — Каспрук телегу и лошадку за бесценок купил в фольварке — они изъездили множество дорог. Чуть ли не всю Волынь. И связных, и донесения, и приказы возили в Аленкиной перинке. Мотались между партизанами и подпольем области… Павел Осипович похудел, побледнел от переживаний, а Вера Александровна упрямо не соглашалась сидеть дома: «Мы втроем где хочешь проберемся…»
Аленка не выдержала зноя, комаров, тряских дорог, с ней что-то приключилось: стала крикливой, капризной, ночами не спала. И Спиридон ездил теперь один.
Вот уже месяц, как Конищук сделал его «торгашом». Спиридон брал из лагеря зерно, семечки, по дороге собирал грибы. И продавал на рынке. Иногда покупал у немцев батарейки… К Усатому Чучка или Голембиевский привозили оружие, донесения от торчинского подполья. Ну, а все это доставлял в отряд Спиридон…
Настороженный луцкий рынок. Люди все время оглядываются: боятся облавы. Цены баснословные, особенно на соль, сало, мед, сапоги… Какого-то дядьку обступили — целую торбу соли развязал. Спиридон сжал кулаки — вот гад, не иначе выдал партизана и получил за это вознаграждение. Немцы за каждого выданного партизана дают полмешка соли…
В этот раз, быстро продав все, что привез, и купив четыре батарейки, Спиридон поехал к Усатому.
Дядя Антон Доля в самом деле усатый, краснощекий и веселый. Спиридон любил бывать у него. Они весело обедали, весело играли в домино…
Вот и сегодня, пропуская Спиридона во двор, он крикнул:
— Племянник! Ну-ка, показывай, сколько денег нахапал?
— Много, дядя. Карманы трещат, — засмеялся Спиридон.
Вот и Доросинь…
Пока Спиридон обедал, тетя Ярина готовила передачу партизанам, бормотала незлобиво:
— От, бисовы дети, сделали меня самогонщицей и спекулянткой. Смотрите, приучите меня к этому делу, так и после войны не отвыкну, буду торговать самогонкой…
Упаковав свою передачу, тетя Ярина протянула Спиридону пистолет:
— Спрячь получше. Нашла. Видно, пьяный немец потерял.
У ворот тихо сказала:
— Спиридончик, ты не бравируй. Лучше поклонись лишний раз немцу или полицаю, горб не вырастет. О господи, и зачем они посылают тебя с таким поручением?
Спиридон хотел было обидеться, но, увидев ее глаза, полные материнской тревоги, промолчал, хлестнул кнутом лошадь…
Неожиданно тутукнул паровоз. Спиридон насторожился. Впереди чернел переезд. До войны здесь, должно быть, жил в будке добрый человек — насадил яблонь, вишен, черешен и даже маслин.
Спиридон огляделся: где же полицаи?.. Ах, вон они, сидят на дереве и едят яблоки. Улыбнулся им, взял под козырек.
Ночевал в лесу, тщательно замаскировав телегу.
Тронулся рано, вместе с солнцем. Оно умылось скупой августовской росой, круто покатилось вверх по чаше неба, нежно-синей, украшенной белыми кудрявыми тучками…
А внизу, хоть и ясный день, — однообразно. Песок, редкие кустики ивняка, невзрачные сосенки. Скоро Поворск, там до войны был наш артиллерийский полигон. Именно сюда он забрел, удирая от мордастого бандита. И отсюда попал в Юстину хату…
В стороне виднелось село. Возле него изгибалась балка, зеленела травой. «Нужно попасти Рябую, — подумал Спиридон, — пусть подкрепится, отдохнет после такой дороги». Подъехал и увидел, что под кустом ивняка пасет корову старушка. Чудно как-то пасет — на самом краешке балки, а вниз, где густая трава, не пускает. Спиридон поздоровался, спросил:
— Вы чего, бабушка, свою скотину на кромке морите?
Бабка ткнула палкой на балку, сказала сердито:
— Лежит там это самое… чем из пушек палят…
У Спиридона загорелись глаза. Снаряды! Они остались на полигоне еще с довоенного времени. Это же клад для подрывников!
Спиридон заглянул под куст. Там лежало несколько снарядов, заросших травой. Поднял камушек, тихонько бросил. Звякнуло.
— Йой, что это? — испугалась бабка.
— Отзываются, — озабоченно сказал Спиридон. — Как бы не ухнули.
И пошел к подводе. Бабка, крестясь, погнала корову в село.
Он не имел права брать ни одного снаряда — ведь двойное дно загружено взрывчаткой и батарейками, спрятать снаряды некуда. Но Спиридон не мог удержаться от соблазна, быстро перенес снаряды на телегу, прикрыл их травой и хлестнул Рябую. Она дернула телегу и остановилась. Спиридон соскочил на землю, взял лошадь за уздечку:
— Но, но, не ленись, за чугункой дорога твердая, нам бы только переезд проскочить.
Пока добрались до переезда, Рябая стала белая от мыла.
Еще издали разглядел, кто караулит на полустанке: Матвей и Клим. Эти не станут обыскивать! Он даже улыбнулся, представив, как пьяные полицаи будут приглашать его спеть вместе «За дальними лесами далекие леса, красивы птички пели на разны голоса…». Потом похвалят его за голос и спросят, когда опять ждать…
Этих полицаев прислали с Черниговщины, как они говорили, на «важный объект». Один из них был толстолицый и круглый, как бочка, второй — худой, как щепка, но оба никак не могли насытиться водкой. И в обоих влезало одинаково. Спиридон не жалел для них этого добра. Всякий раз брал с собой бутылку, а то и две, чтобы задобрить полицаев. И те пропускали подводу, не обыскивая.
Размахивая кнутом и весело насвистывая, Спиридон подъехал к переезду. И улыбка исчезла с его лица. Матвей и Клим, трезвые и хмурые, даже синеватые от своей трезвости, переворачивали все вверх дном на телеге какого-то дядьки… Какая их муха укусила? И вдруг увидел немца с автоматом, он стоял возле будки и пристально наблюдал за обыском. Спиридона бросило в пот. А Матвей уже манил его пальцем. Спиридон дернул вожжи…
— Здравствуйте, господа полицаи! — Голос не предал его, прозвучал весело и звонко. — Как вам дежурится?
Полицаи, конечно, узнали его, но вида не подали.
— Что везешь? — прогундосил худой Клим.
— Известно что, — пожал плечами Спиридон, — покупки с рынка.
— А почему кобыла в мыле? — зашлепал толстыми губами Матвей. — Что там у тебя, мины?
Спиридон быстро протянул руку под траву. Там, поверх снарядов, лежал у него пистолет. На всякий случай… Этих двоих, возможно, успеет… А вот немца… И нащупал не пистолет, а… бутылку с самогоном, которую передала Мама Ярина для врача.
— Груз тяжелый, потому и в мыле. Секретный груз. Вот он, — и выхватил литровку.
Полицаи удивленно вытаращили глаза и оглянулись. Матвей вырвал из рук Спиридона бутылку, толкнул его в спину:
— Проезжай, чего стоишь?
— Спасибо, — Спиридон снял фуражку и стеганул Рябую. После пережитой тревоги на него вдруг нашла дремота…
Очнулся от толчка — наверно, колесо наскочило на камень.
Сосны уже кончились, уступив место дубкам и березкам. Впереди кто-то стоял. Спиридон узнал брата Сашка!
Сашко прыгнул на телегу; лицо его было озабоченным. Скупо улыбнулся брату. Телегу тряхнуло на колдобине, звякнули снаряды.
— Ты что, в своем уме? Неужели и через переезд так ехал?
Спиридон виновато потупился:
— Пришлось. Разве чугунку где-то в другом месте проскочишь?
Сашко заморгал веками — так делает мама, когда собирается заплакать. Но брат не заплакал, он поднес к носу Спиридона увесистый кулак и с угрозой сказал:
— Гляди мне, еще раз что-нибудь подобное отмочишь, при всем отряде сниму штаны и отстегаю крапивой. Не погляжу, что тебе скоро четырнадцать…
— Тебе хорошо, — вздохнул Спиридон, — ты кремень. А я…
— Так уж и кремень, — буркнул Сашко и, взяв у Спиридона кнут, стал сердито стегать деревья. — Нынче Миколу Ханюка не мог застрелить…
— А где вы с ним сошлись? — удивился Спиридон.
— Ходил, как и ты, курьером в Горохов. И завернул в Зеленое. Катерину навестить. А ее в Германию угнали. Ух, гады! Я к Савке… Нет дома. Я к Миколе закатился прямо в хату. Тот успел уже семьей обзавестись: жена, ребенок… «Ух ты, предатель, — говорю, — выходи-ка в сад…» А он упал, колени мои обнимает. И жена как заголосит: «Ой, не убивай Миколу, что ж я одна с ребенком буду делать?..» А Микола икает от страху и бормочет, что выгнал его Савка из полиции за плохую службу. Плюнул я и ушел… А ты говоришь — кремень…
Горько и вкусно запахло дымом. Они приближались к партизанскому отряду.
«БЫВАЮТ ОСЕНЬЮ ТАКИЕ ДНИ ПОГОЖИЕ…»
Спиридон возвращался из Маневичей. Ходил туда пешком — захромала Рябая, к тому же примелькался уже «полесский торгаш» полицаям. Вот и перевел его Конищук, как он выразился, «на ближние пешие маршруты»…
В Маневичах Спиридон должен был рассмотреть немецкий пункт, расположенный на вокзале.
Вокзал немцы обнесли высоким бетонированным забором, в заборе оставили дырки, оттуда выглядывали широкие дула станковых пулеметов. Видны они были и из окон вокзала, и даже из небольшой башни на чердаке. На ночь немцы и полицаи собирались на вокзале и просиживали там до утра. Боялись нападения партизан.
Спиридон, разглядывая вокзал-крепость, не заметил двух переодетых полицаев, шатающихся среди людей. Они-то и пристали к Спиридону: «Чего глаза таращишь?..»
Обыскали Спиридона, обругали последними словами, надавали тумаков и отпустили.
Идя по лесу, Спиридон придирчиво обдумывал сегодняшний случай, чтобы в будущем не попадаться так по-глупому… Шел и бесцельно скользил взглядом по стволам деревьев. Вдруг он увидел белку, пушистым клубком перелетающую с дерева на дерево. Белка… Это было так естественно и в то же время неожиданно, что Спиридон невольно остановился. Час назад его крепко держали в руках полицаи, их злые лица еще стояли у него перед глазами, заслоняя лес, — и вдруг сквозь все это прорвалась белка. Обыкновенная белка, озабоченная приближающейся зимой. Что это у нее в зубах? Сушеный гриб. На Спиридона ноль внимания, попрыгала дальше. Лица полицаев потускнели…
Спиридон огляделся вокруг. Впервые за много дней осенние надоедливые тучи покинули небо, низко висевшее над лесом, вымытое дождями до бледной голубизны. И солнце так же низко катилось, дробясь о черные оголенные ветви. Солнечные лучи почти не грели, и все же лес под ними сразу похорошел, повеселел. Деревья приосанились, нанизали на ветви искристые бусы из прозрачных капель. Жалкая зелень травы как-то сразу заиграла, стараясь украсить лес. На самой верхушке высокой ольхи зацепилась за веточку какая-то пичуга и, прижмурив глаза, посылала в небо, рассыпая над притихшим лесом, свою незатейливую песенку…
Спиридон почувствовал, как тихие, ненавязчивые чары поздней осени пленяют его душу и эхом откликаются в самом сердце…
Бывают осенью такие дни погожие — Тепло, светло, вокруг — не шелохнет, Они на радость тихую похожие, На песню соловьиную, на мед!.. И солнце красное скользит-спешит к закату, Касаясь пламенем в лесу листвы, Багрянцем нежным золотит верхушки, Роняет золото на изумруд травы. Я тороплюсь, меня давно там ждут, В лесу болотистом и сумрачно-густом, Прилечь бы на траву, всей грудью бы вздохнуть… Придя в себя, идти, идти потом…Спиридон сел на поваленную березу, зажмурил глаза, подставив лицо солнцу. Парнишку так и подмывало продолжить стихотворение, пронизать его ненавистью к фашистам. Но как вплести слова ненависти в эти грустные, мирные, как этот осенний день, строки? Спиридон задумался. Почему так получается, что почти все стихи у него про природу и все родились или в лесу, или в поле? Если день пригожий, как сегодня, что даже голова делается хмельной от нахлынувших чувств, то стихи сами льются. А когда снег метет, ветер пронизывает или дождь моросит без конца, о стихах даже не подумаешь… Но это еще полбеды, что в метель и в ливень не до стихов!..
А почему о партизанах у него не получаются строки? Да об одном Ване можно целую книжку сочинить — о его смелости, хитрости, веселом нраве… Нет, довольно про природу! Вот пока дойдет до лагеря, о Ване целую поэму в голове «запишет».
Валясь с ног от усталости, Спиридон вернулся в отряд. Партизаны строили новую землянку. Он присел на бревно перевести дух.
Очнулся от громкого сердитого голоса. На Спиридона смотрел коренастый курносый мужчина в черном полушубке. На груди у него висел бинокль. Кто это? А мужчина распекал Конищука:
— Это уж черт знает что, товарищ Конищук! Немедленно отправить обратно! И одеть по-человечески.
Конищук почесал затылок:
— Да тут, знаете, такое дело… Был бы он просто мальчишка, как все, никакого бы разговора. А то ведь человек это особый — наш курьер Спиридон Гнатюк… Ну и одежда соответственная…
— Курьер? — присвистнул мужчина. — Откуда же ты явился?
Спиридон встал:
— А это не ваше дело. Я доложу своему командиру, когда понадобится.
Мужчина засмеялся густым басом и дружелюбно подал руку:
— Будем знакомы. Отныне я твое самое, так сказать, высокое начальство — Бринский Антон Петрович.
Спиридон нерешительно подал руку, вопросительно взглянув на Конищука. Тот утвердительно качнул головой:
— Совершенно верно. Мы присоединились к отряду Бринского, пришедшего к нам из Белоруссии…
— А я пришел из Маневичей, — Спиридон по-военному вытянулся, — принес данные об опорном пункте… Сейчас я…
— Подожди, — улыбнувшись, перебил его Бринский. — Пойдем к Конищуку в землянку, там поговорим…
Посреди поляны ярко горит костер. Красные языки рвутся вверх, достают до ветвей высоких сосен, взметая в небо искры. К костру, на огонек тянутся партизаны.
Спиридон сидит между Сашком и Ваней, взволнованный, в приподнятом настроении. Решительно обо всем расспросил его Бринский и в заключение разговора сказал: «Из тебя получился хороший связной-разведчик. А что, если я назначу тебя связным объединенного отряда? Справишься?..» Спиридону от возбуждения хочется говорить, смеяться, но разговор у костра что-то не клеится. Вокруг сидят не только свои, но и люди Бринского. Конищуковцы ждут, когда «новички» первыми начнут разговор. А те неторопливо курят. Наглотавшись дыма, начинают важно рассказывать о своих боевых действиях, о подорванных составах… Конищуковцы только вздыхают завистливо. Да-a, дали жизни фашистам партизаны Бринского… Не то что они.
Спиридону стало досадно за свой отряд. Сидят все и молчат, словно воды в рот набрали. Еще подумают партизаны Бринского, что конищуковцы в лесу тут прятались, а не воевали. Терпеть больше было невозможно, и Спиридон сердито вмешивается в разговор:
— Мы тоже давали им прикуривать. В Карасине целый гарнизон разгромили… Я даже стихотворение написал…
— Стихотворение? — Усатый партизан из отряда Бринского поворачивает к Спиридону лицо. — Да ну? — Не поймешь, удивлен он или издевается.
— Да, стихотворение, — Спиридон даже привстал. — Не верите, так слушайте:
А что было в Карасине — Все от смеха прослезились, Полицаи с немчурою, Как свиньи, коптились!Все весело рассмеялись. Спиридон приободрился и продолжал читать частушки, рожденные в его голове по дороге к лагерю.
Когда партизаны, хохотавшие до изнеможения, наконец утихли, усатый партизан, утирая глаза, сказал удивленно:
— Ну, брат, не ожидал. Вот такого виртуоза у нас нет… Как только закончим войну, отправим тебя в Москву. Там, я слышал, на поэтов учат. Настоящих!.. Которые для книжек стихи сочиняют…
— Ох, и жизня пойдет после победы! — встряхивает дремучей бородой Микола Булик. — Я первым делом схожу в баню и пива бокалов шесть выпью… А пиво у нас в Гомеле!..
— Рано еще, калина-малина, о победе говорить, — вздыхает Конищук. — Немец в Сталинград ворвался, за Волгу в бинокль смотрит… Рано…
Конищук встал.
— Ну, хлопцы, погрелись, поговорили, пора на чугунку…
— А кто у вас командир подрывной группы? — спрашивает Бринский.
— Да, калина-малина, я сам вожу, — почесывает затылок Конищук. — Люблю это дело… Сегодня пойдут Булик, Куц, Лазин. — Последним он называет Сашка.
— Непорядок, — качает головой Бринский.
— Ладно, на этот раз поведу еще сам, а потом назначу Лазина, — неохотно соглашается Конищук.
Спиридон с мольбой поглядел на брата: «Возьми с собой!»
Сашко показывает глазами на Конищука: «Просись у него».
Конищук отрицательно качает головой.
— Нет, Спиридон, у тебя своя прохвессия. В партизанском отряде каждый должен знать свое место и дело…
— Так ведь хочется этих гадов своими руками!..
— За тебя дают фашистам прикурить твои крестники, которых ты привел из луцкого концлагеря. Крепко дают!
— А крестного отца не пускают на диверсию! — под смех партизан сказал Спиридон.
Конищук тоже засмеялся и разрешил.
Спиридон думал, что будут ехать верхом, но нет — Сашко подогнал обыкновенную подводу, запряженную двумя немецкими огромными битюгами, которых вряд ли погонишь бегом…
— Фу, — не удержался он, — лучше уж пешком, чем на этих… волах…
Ему никто не ответил, все были озабочены, готовясь в далекий поход.
Оказалось, на телеге тоже неплохо. Фыркают битюги, жалобно поскрипывают колеса, мимо проплывает темный, хмурый лес. Партизаны тихо разговаривают — вспоминают о прошлом, рассказывают друг другу партизанские истории… И ни единого слова о диверсии…
Для партизан это обычная операция, а для Спиридона все было новым и необыкновенным: и тихие разговоры, и фырканье битюгов, и зловещая тишина безлистого леса, и каждый звук, доносящийся из зарослей.
К железной дороге добрались за полночь, когда Большая Медведица стала рассыпать искристую звездную соль. Спиридона пронизывала нервная дрожь — сейчас он собственными глазами увидит, как партизаны ползком будут пробираться к путям, подкладывать мину, как взлетит подорванный паровоз… А может, и его возьмут ставить мину?
Но Конищук не стал даже слушать просьбу Спиридона, он просто взял и оставил его в густом сосняке вместе с подводой. «Взрыв ты услышишь. На первый раз и этого достаточно». Успокоил…
Спиридону не впервые ждать… Но такого, как сегодня, у него не было. В каких-нибудь трехстах метрах отсюда такие дела творятся, а он томись на телеге, слушай сонный шорох елей, считай насупленные звезды… И он не удержался, спустя час пошел по следам подрывников…
Вот они наконец совсем рядом с ним идут кучкой, едва различимые в темноте. Слышен голос Конищука, уверенный, командирский. Не то что в лагере…
— Партизан Гнатюк, идите влево на пост. Булик — вправо на пост. А мы подремлем немного. Как только услышите состав, немедленно давайте сигнал.
Спиридон обрадовался. Сашко хоть и строгий, но свой.
Как только Сашко залег неподалеку от путей, Спиридон осторожно подполз к нему. Брат вздрогнул от прикосновения, обернулся. Даже в темноте видно, как он нахмурился.
— Не сердись, Сашко. Мне там одному страшновато стало. Мало ли что?.. Это ты ничего не боишься… И тебе не так скучно будет одному.
Сашко почувствовал в словах Спиридона и лесть, и наивную ложь, но не стал его корить, только для порядка проворчал:
— Видали анархиста!.. Ну, лежи, только тихо, чтобы Конищук не услышал. Как придет время поднимать хлопцев, чтобы и духу твоего здесь не было.
Сашко недавно вернулся из Торчина. Уже в который раз он рассказывал Спиридону, как мать соскучилась по нему. А Павел Осипович и Вера Александровна скоро, наверно, переберутся в лес — оставаться на старом месте опасно, гестаповец Фалленшус взял их на заметку.
Спиридон смотрит на похудевшее лицо брата — один нос торчит, и его охватывает нежность. Он прижимается к Сашку головой.
— Ты что? — оборачивается тот. — Дремаешь? Поспи чуток. Я спать не хочу.
Тишина… Тишину время от времени пробивают капли, срывающиеся с деревьев. Спиридон встряхивает головой, поглядывает на брата: «Говорил: „Спать не хочу“, — а сам носом окуней ловит…» Ничего, он, Спиридон, покараулит…
Но на Спиридона незаметно надвинулась ночь, тихая и глубокая. Она прижала его к земле, голова сделалась тяжелой… Бух! Что это? Нет, так не пойдет. Спиридон стал вглядываться в темноту. Это что за кустик? Совсем маленький. Подполз — крапива. А что, если?.. Спиридон лег возле кустика, подпер голову руками. Голова все больше и больше тяжелела, но теперь его это уже не пугало.
Пыхтенье паровоза он услышал после пятой «встречи» с крапивой. Куда девался сон!.. Быстро подполз к Сашку, толкнул его…
— Ложись, — приказал Конищук. — Калина-малина, дадим им прикурить!
В сосняке глотнули из фляжки спирта. За удачную диверсию.
— За упокой фрицев! — весело басил Микола Булик. — Мы же не басурмане, мы же христиане.
Уже когда рассвело, Булик, дремавший на телеге, как все, посмотрел на Спиридона и захохотал.
— Хлопцы, взгляните на нашего курьера! Ты часом не искал мед, пока мы мину подкладывали?
— Это я в крапиву угодил нечаянно, — признался Спиридон.
— С такой бы вывеской да в Маневичи. Вся бы полиция разбежалась.
Спиридон тоже смеется, хоть и ноет лицо. Зато ему весело.
В ТЕМНУЮ ЗИМНЮЮ НОЧЬ
Спиридон стоял у озера и никак не мог оторвать глаз от его сверкающей синеватой равнины. Почти неделю держалась весенняя погода, снег на льду растаял, разлился дрожащей холодной лужей. А вчера вечером вдруг опять подул северный ветерок. Вода на озере покрылась тонким ледком… Если хорошо разогнаться, так по такому льду можно далеко проехать.
Соблазн был так велик, что Спиридон невольно отошел подальше. Не к лицу курьеру партизанской бригады, комсомольцу, вести себя как мальчишке… Вздохнул и пошел к просеке, куда вскоре должна прибыть группа Орлова.
Комсомольцем он стал всего неделю назад. Вспомнилось, как стоял возле яркого костра и лицо его горело не столько от огня, сколько от волнения. Так много хороших слов было сказано о нем, что Спиридону даже неудобно было. А Конищук вручил ему награды — наган и часы. «За военное мужество, смелость и хитрость», — так и сказал… Спиридон невольно пощупал карман. Нет там ни комсомольского билета, ни нагана, ни часов… Только в лагере носит их при себе…
Группу Орлова нужно было переправить на волынское Полесье, к основным силам бригады (отряд Бринского вырос уже в бригаду).
Лейтенанта Орлова фашистские «мессершмитты» сбили в 1941 году неподалеку от Луцка. Попал в плен. Бежал.
Месяца два отхаживала его женщина на неизвестном хуторе. К счастью, хуторок стоял в глухом лесу, немцев и полицаев никто даже не видел… Поправившись, Орлов с помощью хозяйки тети Насти разыскал таких, как сам, беглецов и создал партизанскую группу. Спиридон услышал об этой группе и связал ее с бригадой Бринского. И вот теперь должен был привести группу в бригаду…
На просеке послышался топот. Спиридон выглянул из-за куста. Орловцы. Неодобрительно покачал головой. Партизаны картинно разместились на двух немецких телегах, с автоматами в руках. А сам Орлов не менее картинно сидел возле немецкого станкового пулемета. Форсят партизаны. Здесь, в глуши, они цари и боги. А в тех местах, по которым они будут проезжать, полно немцев и полицаев. Там нужна осторожность…
— Ну, пацан, веди! — крикнул Орлов.
— Может, вы поменьше бы шумели? — попросил Спиридон. — А то попадем с вами в переплет.
— Не паникуй, — махнул рукой Орлов. — Видишь, сколько у нас оружия? Ну-ка, садись, ударим галопом!
Первый железнодорожный переезд проскочили без приключений. Наверно, охрана спряталась в посадках, увидев партизан. Спиридон трясся на телеге и ругал себя. Если Орлов и дальше будет так горячиться, они где-нибудь нарвутся на фашистов. И от отряда ничего не останется. Нет, нужно любой ценой осадить его… Но как?
Так и этак заводил разговор с лейтенантом, и слушать не желает. Вот и второй переезд уже совсем близко… А там и охрана побольше, и, случается, немцы и полицаи засады устраивают.
Когда до переезда оставалось с полкилометра, Спиридон стремительно соскочил с телеги, схватил лошадь за уздечку.
— Ты что, пацан, сдурел? — удивился Орлов. — Жизнь надоела?
— Как хотите, — хмуро, но твердо сказал Спиридон, — хоть убейте меня, но, пока я не разведаю, что творится на переезде, вы не тронетесь с места.
Орлов плюнул со зла, потом неожиданно засмеялся:
— Ух, упрямый! Мой характер… Ну ладно, шпарь. Только не долго.
— Я быстро… А без меня на переезд ни за что не трогайтесь!
Коварный в эту ночь выпал снег. Как ни старался шагать потише — хрустит под ногами, как жесть… Наконец добрался к придорожным насаждениям. Сквозь голые деревья оглядел переезд. Как будто нет никого. В будке горит свет, виднеются две тени. Всего два охранника. Это не страшно. На всякий случай нужно пробраться к самой будке, заглянуть в окно. Может, там есть немцы или полицаи…
Проклятый снег будто рвется под ногами в ночной застоявшейся тишине. И глубокий — до колен… Ф-фу, наконец колея. Ступил на рельс и… увидел прямо перед собой дуло немецкого пулемета… И темные фигуры на снегу по ту сторону насыпи… Прыгнул назад так, как не прыгал никогда в жизни. Но те, что лежали, оказались еще проворнее. Спиридона схватили и потащили в будку.
За столом сидел пучеглазый унтер. Увидев парнишку, еще больше вытаращил глаза и махнул рукой. Три полицая, которые привели Спиридона, набросились на него с кулаками.
— За что? За что? — крикнул Спиридон, стараясь закрыть лицо руками.
— Чтобы у тебя быстрей язык развязался. Понял? — Спиридона подняли, посадили на табуретку. Унтер что-то крикнул полицаю. Тот злобно посмотрел на Спиридона:
— Ты кто такой? Лазутчик партизанский?
Мальчик вытер рукавом фуфайки кровь, шедшую из носа, жалобно скривился:
— Дяденька, вы что говорите? Я сирота, по наймам скитаюсь. Зачем мне партизаны, если я голоден?.. А вы еще избили… Лучше бы накормили…
Полицай перевел унтеру. На толстых синеватых губах немца появилось подобие улыбки. Он снова что-то сказал.
— Ты есть партизан! — перевел полицай. — И врун. Ну-ка, быстрее признавайся, от кого и к кому шел!
— Господин, — невинно посмотрел Спиридон на унтеpa, — разве можно врать после такой трепки? Да вы из меня не только ложь выбили, но и душу.
— А чего ночью шляешься? — передал слова немца полицай.
Спиридон шмыгнул разбитым носом:
— Теперь когда бы ни ходил, вы все равно пристанете, партизаном будете обзывать… А какой из меня партизан, господа-дяденьки? Я совсем еще мальчишка…
И впервые подумал: «К счастью, роста маленького. Никто четырнадцати не дает…»
В глазах немца мелькнуло сомнение. Он еще раз оглядел мальчика. Латаная-перелатаная фуфайка, полотняные грязные брюки, на ногах, обмотанных тряпьем, чуни. Лицо худое, бледное… Немец поднялся, подошел к Спиридону, понюхал фуфайку. «Нюхай, нюхай, — подумал Спиридон, — я свою курьерскую амуницию, как только прихожу к партизанам, сразу снимаю. Поэтому дымом от костров она не пахнет…»
Скрипнула дверь, Спиридон оглянулся. Вошли Матвей и Клим, которые охраняли переезд.
— Господин-дяденька, — обратился Спиридон к немцу, — вы вот у них спросите, кто я. Если им на похмелье, то я…
— Да-да, — перебил Спиридона Клим, — мы его знаем, по наймам скитается…
Немец крепко взял Спиридона за ворот, молча проводил к двери. И носком сапога толкнул мальчишку в темноту. Спиридон перелетел через насыпь и по плечи застрял в снегу.
Выбравшись из снега, он заторопился туда, где оставил партизан. Их там не было. След повернул влево. Видно, понял Орлов, что со Спиридоном что-то стряслось, и решил сам перебраться где-нибудь через насыпь. Но ведь он совсем не знает дороги! Нужно немедленно догнать его!
Ноги путались, левая нога, поврежденная в колене, подгибалась, сильно стучало сердце…
Орлов все же перебрался через насыпь. Потом прямиком пробился в лес. А там развилка дорог… По какой он поехал? Спиридон постоял немного и тронулся по средней дороге. Всю ночь проплутал Спиридон по лесу, прикусив от боли губу. «Только не упасть, только не упасть», — умолял сам себя…
Нашел он партизан уже под утро. Они заплутались в лесу, далеко забравшись в заросли.
— Ну, пацан, — Орлов обнял Спиридона, — ты просто молодец. Больше, чем молодец, — герой! Как только мне опять дадут самолет, я тебя радистом возьму!
— Спасибо… — едва шевельнул губами Спиридон. — Помогите влезть на телегу. Притомился малость.
«ТЫ НЕ ЗАБУДЕШЬ МЕНЯ, АЛЕНКА?»
Павел Осипович Каспрук — он теперь уже начальник разведки в отряде Конищука — радостно обнял Спиридона за плечи:
— Быстро ты обернулся! Мы ждали тебя не раньше как завтра, а ты будто на крыльях. И каких орлов привел! — Он огляделся и ласково посмотрел на вчерашних пленных, узников луцкого концлагеря, устало идущих по узкой лесной тропе.
Завтра они станут партизанами.
— Я их прямиком привел, — небрежно сообщил Спиридон.
Павел Осипович насторожился.
— Ну-ка, давай пропустим их…
Как только последний освобожденный узник обошел их, Павел Осипович спросил, заглядывая Спиридону в глаза:
— Что случилось? Чем недоволен?
Спиридон махнул рукой:
— Да ничего. Может, мне показалось…
— Что показалось? Ну-ка, сейчас же говори. — В голосе Павла Осиповича настойчивость.
— Так вот, — неохотно начал он, — пришел я к Даниле Доле, а у него сидит незнакомый человек. Он мне не понравился.
— Чем?
— Да всем… Во-первых, они пили водку.
— Ну, это еще не беда…
— Потом Доля мне рассказал, что этот человек сбежал из концлагеря и хочет в партизаны. Он принес Доле водку. А откуда у пленного водка? И слышали вы такое, чтобы ставили магарыч, только бы в лес проводили?..
— Гм, гм. Верно подметил… Ну, ну, дальше…
— Уж очень много с Долей болтали. Доля о Чичолике вспомнил, а меня Стариком назвал. И этого человека своим другом величал…
Каспрук все больше и больше хмурился.
— А он, как только увидел меня, стал хвалить партизан, какие они храбрые… Хлопал меня по плечу, громко смеялся… Зуб у него вставной… Когда смеется, лицо таким неприятным делается… а глаза не смеются, колючие.
— Так-так-так, — повторял Каспрук. — Мне тоже не нравится «друг» Доли, как ты его описал… В лагере доложим Конищуку…
Конищука они нашли возле «адской кухни», где из снарядов и бомб выплавляли тол, которым потом начиняли мины для диверсий.
Конищук, подозванный Каспруком, неохотно подошел к ним.
— Ну и что ж, — почесал у себя за ухом, — говоришь, не понравился Спиридону?.. Калина-малина, а может, он просто такой есть: разговорчив, любит рюмку выпить. Есть же такие. Люди разные бывают.
— Ты, Микола, видно, одним ухом слушал, — сердито бросил Каспрук. — Ты подумал, что будет, если провалится квартира у Доли? Представляешь? Это же наша основная луцкая явка… Ну, а что касается Спиридона, то я, как бывший руководитель торчинского подполья, хорошо его знаю и верю его наблюдательности и интуиции.
Каспрук и Конищук пошли в штаб разбирать принесенную Спиридоном от немца из концлагеря шифровку, а Спиридон, пообедав, пошел проведать Аленку. Для малышки у него есть хороший подарок.
Аленка играла на маленькой кучке песка. Увидела Спиридона, улыбнулась ртом, в котором только три зуба прорезалось, протянула испачканные в песке руки. Спиридон тоже улыбнулся, схватил девочку на руки, подбросил ее вверх. Аленка засмеялась от восторга.
— А ляля? — спросила она, шепелявя.
Это так она называла все игрушки. Спиридон засунул руку за пазуху и вытащил целую гроздь еловых шишек. Девочка захлопала в ладошки, прижала шишки к щеке и весело залепетала…
Спиридон оглянулся, почувствовав на затылке чей-то взгляд. Павел Осипович неслышно подошел, его лицо, глаза потеплели от нежности.
— Поди сюда, есть дело, — позвал он Спиридона.
Они присели на траву.
— Понимаешь, нам сообщили, что где-то дней через пять еще одна группа будет на свободе. Так вот, Доле он даст знать, где встречать эту группу… Как назло, Ваня с диверсионной группой пошел под Ковель, твой Сашко в Торчине… Может, кого-нибудь посоветуешь? Кто из ваших еще бывал у Доли?
— Только мы трое. Да разве мне тяжело?..
— Даже не заикайся, — перебил его Каспрук.
— Я только в том случае зайду к Доле, когда удостоверюсь, что там нет ни «друга», ни засады…
— Гм-гм. — Каспрук встал, начал прохаживаться. — Ладно, если чего-нибудь другого не придумаем, ты пойдешь…
Вечером Спиридон забежал попрощаться с Аленкой. Малышка уже лежала в зыбке, привязанной между двумя соснами. Вера Александровна качала ее.
Спиридон тихонько погладил белокурые волосы. Девочка открыла голубые глазки. Спиридон низко наклонился к ней:
— Ты не забудешь меня, Аленка? Будешь вспоминать после войны?
Вера Александровна замахала на него руками:
— Какая тебя муха укусила? Ты что запел за упокой?
Спиридон извиняюще улыбнулся…
* * *
В Луцк Спиридон пробрался без приключений. Прячась в развалинах соседнего дома, выследил, что у Доли нет никого, и только тогда зашел. Дядя Антон сказал, что пленных выведут в лесок, к развилке дорог на Ковель и Владимир-Волынский завтра к вечеру.
У Спиридона было свободное время — целые сутки.
— Ложись-ка ты, малый, да поспи, — предложил Доля. — Устал, небось, натрудил ноги.
Спиридон отрицательно мотнул головой. Ему до того захотелось домой! Даже в груди заныло.
— Я домой смотаюсь.
Доля щелкнул языком:
— Только в одну сторону двадцать пять верст топать…
Спиридон махнул рукой.
«ЗА РОДИНУ, КРАЙ МОЙ РОДНОЙ…»
А мать как будто знала, что Спиридон придет, вышла к воротам:
— Хоть недельку дома побудешь? Мы так по тебе соскучились, так соскучились!.. Я курочку зарежу…
Спиридон опустил голову:
— До завтра, мама. Простите.
Мать украдкой вытерла глаза.
Уже затемно из фольварка пришел отец. Подал руку, спросил:
— Ну, как там, порядок? Бьете иродов?
— Бьем!
— Ну и слава богу, как говорит наша мать.
Уселся на табуретку и стал чинить чужую обувь. Время от времени поглядывал на Спиридона. Соскучился, но вида не подает.
…На следующий день мать, как ни отговаривал ее Спиридон, пошла провожать его.
Семенила по дорожке — маленькая, худенькая, в отцовом зипуне — заплата на заплате, в домотканой крашеной юбке, истоптанных башмаках… И все время оборачивалась к сыну — то что-нибудь скажет, то просто посмотрит и улыбнется… А когда дорожка стала шире, Спиридон поравнялся с матерью и тихо пообещал:
— Закончится война — куплю вам платок шалевый, городские ботинки и платье…
— Ни к чему мне, сынок, платья, — мать махнула шершавой рукой, потемневшая кожа на ней потрескалась. — Были бы вы все живы-здоровы, — она прижалась к его плечу. — Сыночек! Хоть и тяжела у тебя служба, хлопотная, но ты все же заглядывай домой…
Когда прощались, она судорожно обхватила голову сына.
— Вы, мама, возвращайтесь, не стойте, — попросил Спиридон.
Сколько Спиридон ни оглядывался, она все стояла, спрятавшись за редкий куст…
И пока шел к развилке, пока сидел там в ожидании освобожденных пленных, у него перед глазами стояла мать…
Вот и пленных ведет связной от Доли. Среди них выделяется высокий мужчина в коротком рваном пальто.
— Максим! — бросился навстречу Спиридон.
Мужчина охнул, широко расставил руки, пошел, хромая, вперед:
— Спиридон! Братуха!
Они обнялись, пленные обступили их, улыбались отвыкшими от улыбок губами.
Не прошли и ста метров, как Спиридон стукнул себя по лбу:
— Вот голова! Партизаны Лисюки просили меня посмотреть, как там их дом в Луцке. Вы подождите меня здесь. Ну, а вдруг… что-нибудь случится, я сейчас вам расскажу, как добраться до Хорохорина. Там наша квартира…
— Ну, братуха, это уж, извини, дамские штучки, — попытался остановить его Максим. — Если цела их хижина так цела, а сгорела так сгорела. Зачем смотреть?
— Я обещал. По дороге, Максим, мне все-все расскажешь. Ладно?
— Ну ладно… Только побыстрее возвращайся.
По рассказанным Лисюками приметам быстро отыскал их дом. Цел. Вот обрадуются Лисюки! Правда, в нем живут немцы, загадили… Спиридон почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Но пока обернулся, человек, который на него глядел, исчез. Тревога холодком коснулась груди. Торопливо пошел…
Как только миновал рынок, позади него скрипнули тормоза.
Не успел обернуться, как сильные руки схватили его и втолкнули в машину.
Спиридон посмотрел налево, посмотрел направо и открыл рот, чтобы произнести жалостливые слова: «Дяденьки, за что же вы меня?.. Я не вер, ничего на рынке не украл. Обыщите, если не верите…» Но так ничего и не сказал: его крепко держали за руки два дюжих гестаповца… И среди них «друг» Данилы Доли.
Машина остановилась возле большого мрачного строения. Здесь при польских панах помещался женский монастырь, а теперь немцы превратили его в тюрьму. Спиридона втолкнули в пустую камеру.
Не успел он прийти в себя, как в камеру быстрыми пружинистыми шагами вошел невысокий человек в сером костюме.
— Ну, здравствуй, Старик, — сказал он бодрым, почти дружеским голосом и посмотрел на Спиридона серыми, какими-то пустыми глазами, которые так не соответствовали его голосу.
— Какой я?.. — начал было Спиридон.
— Знаю, знаю, — перебил его человек. — Глупую кличку дали тебе партизаны. Давай вернемся к твоему настоящему имени и фамилии. Договорились? Не называть же мне, пожилому человеку, мальчишку Стариком?.. Куры засмеют…
Спиридон понимал, что нельзя молчать, надо возмутиться, отрицать… Но сероглазый с такой напористой уверенностью говорил все это, что Спиридон как-то смешался, чего с ним никогда не было.
— Вижу, ты еще не пришел в себя. Ну что поделаешь? Не было у нас времени писать тебе приглашения… Да ты и не явился бы… Не правда ли?.. Ну, если не можешь так сразу вспомнить собственную фамилию, — это не так уж важно, мы ее знаем, — может, ты ответишь на более простые вопросы. От кого ты — от Макса? От Бринского? От Насекина?
«Не знаешь ты, гад, ничего, кроме моей клички… Наугад называешь командиров партизанских отрядов», От этой мысли Спиридон немного приободрился.
— Вы что-то такое, дяденька, говорите, что я ни рожна не пойму, — подал голос Спиридон. — Какой Макс? Какой Бранчук?.. Сирота я. Хожу из села в село и пасу чужой скот.
Сероглазый прищурился:
— Ну, язык у тебя длинный. Это хорошо… — Он вплотную подошел к Спиридону. Глаза, как буравчики, просверливают насквозь. В груди у Спиридона похолодело. — Давай начистую поговорим. Куда ты попал — тебе известно. За что — тоже знаешь. Так будешь сам говорить или тебе «помочь»?
— Дяденька, — плаксивым голосом сказал он, — вот вам крест — не лгу…
— Ну, что ж, пеняй на себя. Я пойду пока поужинаю, а тебя тоже угостят «ужином». Жди, если в течение десяти минут не передумаешь…
Десять минут… Всего десять минут ему осталось до того ужасного, о чем даже рассказывать не хотели те, которым чудом удалось вырваться из гестапо… Сказать, что от тебя требуют, — и ничего этого не будет…
Они деловито вошли в камеру. Двое в черных брюках и синих майках, с окурками в зубах. Спиридон не разглядел их лиц — зато разглядел руки. Толстые, могучие — только дуги гнуть такими руками…
Дядьки аккуратно положили окурки на каменный подоконник. Спиридон сжался в комок, закрыв глаза…
Первый удар был такой, что казалось, на него обрушилась вся тюрьма. Спиридон с криком отлетел в угол, ударился головой о камень. И все заволоклось туманом…
Очнулся от холодной воды, ливнем хлынувшей на лицо. Открыл и снова закрыл глаза…
— И где они такую дохлятину сцапали? — сказал прокуренным равнодушным голосом один из палачей. — Один раз хлобыстнул — и уже лежит, как падаль.
«Это только начало, — забилась мысль в отяжелевшей голове Спиридона, — а что потом будет?..»
Пришел в сознание в другой камере — темной, сырой, маленькой. Тела почти не чувствовал. С большим трудом встал, посмотрел в маленькое решетчатое окошко. В глаза мягко заглянул клочок летней луны… «Гады, я не боюсь вас, — шептал. — Ничего вы не знаете. И меня освободят. Сашко будет идти назад, в лес, зайдет к Доле, тот расскажет. Ему же известно, что меня схватили…»
* * *
У матери все валилось из рук. С тех пор, как проводила Спиридона, места себе не находила. Уже в который раз пошла сегодня к воротам…
По шоссе с рокот ом проносились машины. Все туда, на фронт. Одна машина зачем-то сворачивает. Прямо к их двору. В кузове полицаи… Мать вся похолодела от дурного предчувствия, схватилась за ворота, чтобы удержаться на ногах…
Машина остановилась возле двора, с нее начали выпрыгивать полицаи.
Один из них, с перекошенным лицом, толкнул ворота, они рухнули.
— Ну-ка, прочь с дороги!
— Люди добрые! — широко развела руками мать. — Ну, что же я вам плохого сделала со своими малыми детьми! (А в голове мысль бьется: «Хотя бы Иван выскочил через окно в огород!») Чего вам нужно от нас?..
Полицаи оттолкнули ее в сторону. Она вскочила, побежала к двери, чтобы у порога хоть немного задержать их. Но не успела, полицаи уже ворвались в хату. Она следом за ними.
Окно распахнуто. Дети удивленно и испуганно смотрят на полицаев.
— А где твои… старшие головорезы? — рот у полицая еще больше перекосился.
— Какие головорезы? Как вам не совестно так обзывать честных людей? — Слезы оросили морщинистое лицо матери.
Криворотый толкнул ее в плечи.
— Веди, где твой старый работает. Грицко, Петро, Савка, Нечипор, со мной. А вы здесь, — он обратился к остальным полицаям, — переверните все.
Мать из-за слез дороги не видела. «Боже ж мой, там же Сашуня, они с отцом пошли лошадей смотреть, чтобы ночью увести их для партизан…»
Вот уже и ферма недалеко. Услышат… Мать глубоко вдохнула воздух и запричитала:
— Паны полицаи, за что же вы привязываетесь к моим детям, к Федору? Они же никому зла не сделали!
Из сарая выглянул Федор. Услышал! Скрылся и через несколько мгновений выскочил через другую дверь вместе с Сашком.
«О господи, дай им силы и ноги, а этим выродкам хоть на минутку затумань глаза!..»
Не затуманил. Криворотый увидел, заорал не своим голосом, показывая на кусты:
— Вот они, бандиты! Ловите их!
Полицаи помчались к кустам, а криворотый позеленевшими от злости глазами посмотрел на мать, схватил ее, как клещами, за плечи, прошипел:
— Что, старая ведьма, сигнал подала? Ну-ка, пошли, я тебя сейчас «поблагодарю»… — И потащил мать к ферме.
Она молча шла и все смотрела туда, куда побежали Федор и Сашко. Хотя бы успели добежать до леса…
Криворотый привел мать к сараю, толкнул в открытую дверь. Женщина упала прямо под ноги лошадей. Лошади заржали, отскочили. Криворотый взглянул на молодого полицая, который остался вместе с ним.
— Ну-ка, огрей палкой лошадей, пусть затопчут эту старую ведьму…
Полицай проворно схватил палку, стал бить лошадей. Они шарахнулись в сторону, ни одна лошадь не наступила на человека. Полицай опять занес палку и встретился с глазами матери… Опустил палку…
— Ну, как там! — крикнул ему криворотый. — Жива еще?
— Да… кто его знает?.. Лежит и не шевелится…
— Выходи, поймали бандитов…
Мать приподнялась на руки, доползла к порогу. Выглянула, и в глазах у нее потемнело — полицаи сажали в машину Сашка и Федора. Хотела броситься к машине, а ноги не слушаются. Только закричала истошно вслед машине, которая увезла на муки ее мужа и сына…
Их привезли в луцкую тюрьму и втолкнули в одну камеру. Сашко сразу же припал к глазку двери, услышав шум в коридоре.
— Отец, — позвал еле слышно, не своим, каким-то осевшим голосом. — Посмотрите…
Отец подошел к глазку. По коридору тащили Спиридона. Голова завязана грязной тряпкой, глаз заплыл, ноги волочатся… Отец распрямился, закрыл глаза. Долго стоял так, потом подошел к Сашко, крепко обнял его за плечи:
— Сынок, страшное время настало… Надо выдержать…
Майор гестапо Баумвольф, рыжий, рослый, откинувшись на сиденье «оппеля», прищурено смотрел за окно. Там убегали назад выстроенные вдоль трассы осокори, за ними важно гнались белые приземистые хаты, проплывали зеленые луга… Глаза майора безразлично скользили по июньскому подвижному пейзажу, только когда за окном мелькало полное нежной синевы озерко, его лицо кривила гримаса.
Он уже аккуратно сложил все бумаги в стол, заранее смакуя завтрашнюю воскресную поездку с друзьями на речку Ровное, как вдруг его вызвал шеф. Приказ был короток — выехать в Луцк, помочь местному гестапо развязать язык партизану. Партизан этот многое знает, но молчит… Вот и накрылась прогулка…
Майор наконец подавил в себе раздраженность. Ничего не поделаешь. Служба есть служба. И в нем проснулось любопытство к упрямому партизану. Майор не боялся сильных противников. С ними, конечно, тяжелее, приходится напрягать воображение, хитрить. Но зато какое удовлетворение получаешь, когда побеждаешь.
Майор быстро вошел в канцелярию. Небрежно поздоровался. Следователь, который уже ждал его, подал дело. Майор решил провести допрос экспромтом.
— Проводите к арестованному, — бросил. — В камеру… Впрочем, нет, дайте спокойную, нормальную комнату. Обыкновенный стол, табуретки…
— Ладно, — торопливо сказал следователь и вышел.
…Майор сел за стол в «нормальной» комнате, оглядел ее. Годится.
Скрипнула дверь. Майор поднял глаза. В комнату привели мальчишку. Майор сумел спрятать удивление.
— Ая-яй, — строго посмотрел на гестаповцев, державших Спиридона под руки. — Как вам не стыдно, инквизиторы! Пошли вон отсюда!
Гестаповцы исчезли.
Майор осторожно взял Спиридона за плечи, посадил на стул.
— Ты извини, что так получилось… противно. Сам понимаешь, война, люди всякие в армию попадают. В вашей армии тоже есть такие. Как у вас говорят: на войне как на войне.
Спиридон упрямо смотрел в пол, а майор все говорил, говорил — мягко, ласково. О бессмысленности войны, о прелестях земной жизни, вспомнил о своем доме — он его каждую ночь во сне видит.
Увидел, что голова партизана склонилась вниз.
— Заговорил тебя? Отдохни… Нет, нет, тут посиди.
И пошел к двери. В канцелярии поговорил со следователем, полистал дело. Ясно, как дальше надо действовать…
Когда вернулся спустя час, мальчишка сидел на том же месте. Только глаза его, не отрываясь, тоскливо глядели в окно. Майор подошел к окну, распахнул его. В комнату ворвался свежий воздух.
— Хорошо-о!.. Знаешь, иногда хочется сбросить этот мундир, взять удочки и пойти на реку…
Мальчишка глубоко вздохнул. «Клюет понемногу», — про себя улыбнулся майор.
— А знаешь, я сидел там и ломал голову, как тебя выпустить. Ты ведь, наверно, понимаешь, что уйти отсюда ох как тяжело… Даже у меня нет такой власти, чтобы открыть перед тобой ворота. Хотя и прибыл сюда я из ровенского гестапо, — майор озабоченно потер лоб, — а мне так хочется освободить тебя. Ты до того похож на моего сына. Не гляди на мой мундир — все мужчины в войну влезают в мундиры. Кто в какой… Ничего не поделаешь… Послушай, — он быстрым шагом приблизился к Спиридону, — тебя схватили незаметно, верно? Никто ведь не видел!.. И если ты… ну, хотя бы приблизительно… место, где расположен лагерь… Тебе ведь жить надо! Пойми, иначе не выберешься отсюда!.. Никому даже в голову не придет, что это ты…
Спиридон поднял голову. Глаза обожгли гестаповца ненавистью.
— Не хочешь? Жалко. Ты еще мал и не знаешь, как дорога жизнь. Ей нет цены! Это говорю тебе я, человек, который много уже пожил и многое повидал… Это все, что я могу для тебя сделать. Может, хочешь проститься с родными? Я могу устроить.
Спиридон точно одеревенел.
— Ладно, устрою… Ты сам себе враг! Даже удивительно…
* * *
Они стояли в комнате, отец и Сашко. У Спиридона сильно забилось сердце — вскочить бы, броситься к ним, прижаться к отцовской груди, закрыть глаза и забыть обо всем страшном. Нельзя… Гестаповцы знают только то, что он партизан, остальное им неизвестно, поэтому надо стоять на своем: сирота — и все. Может, это поможет Сашку и отцу!..
Спиридон взглянул на брата и отца и сказал с полным безразличием:
— Не знаю я этих людей. И не встречал…
Краешком глаза заметил, как переглянулись отец и Сашко. Они поняли, все поняли! Отец, глуховато покашляв в кулак, сказал:
— Может, где и видел такого хлопца… Но не та память стала, чтобы вспомнить…
Майор всплеснул руками.
— Вы жестокий человек! Как же вы можете отказываться от родного сына? Да вы поглядите, в какую беду он попал и что ему грозит. Помогите ему остаться в живых…
Спиридон заметил, как побелел Сашко, как покачнулся отец. Но он поднял голову и твердо повторил:
— Не знаю их… Сирота я. Пастух…
Майор еще долго говорил — то мягко и вкрадчиво, то энергично и решительно. А узники — все трое — будто не слышали его, стояли и безучастно глядели в окно…
А когда сквозь окно стали просачиваться июньские зеленовато-голубые сумерки, майор усталым шагом вышел, вместо него появились те двое, в синих майках…
* * *
Ничего этого нет и не было, он видит страшный сон!.. Но нет — вон решетки на окне чернеют четко и зловеще, вон стена в потеках — они не могут скрыть страшных надписей тех, кто прожил последние свои дни в этой камере-одиночке… Мать стоит на пороге — в лаптях, на голове косынка белая… «Мама, Мама! Мама!!!» — кричит Спиридон и на коленях, протянув вперед руки, ковыляет к двери. А она бежит ему навстречу, и Спиридон уткнулся ей лицом в подол, как маленький… А мама поглаживает его по слипшимся от крови волосам так нежно, как ветерок ласкает… «Мама! — голос у Спиридона дрожит, в горле мешают горячие слезы… — Как вы сюда… как вы узнали, что тут?»
«Сынок, мать свое дитя и под землей найдет… Тебе очень было больно?»
«Очень, — вздрагивает Спиридон. — Мама, разве могут люди, если даже они враги, так измываться над другим человеком, да еще ребенком?.. Они мне руку перебили, глаз выбили, мама, они всего меня изуродовали… А сегодня посадили в котел с ледяной водой и подогревали, пока вода не стала горячей и я потерял сознание… Мама, как они могут?» Мать касается его глаза губами, и он открывается. Касается губами руки, и она уже не болит, она уже цела… «А теперь пошли. Пошли домой. Отца и Сашка тоже заберем». Спиридон быстро вскакивает: «Пойдемте, мама!»
Мать проскальзывает в распахнутую дверь камеры, и тут дверь с резким стуком закрывается перед Спиридоном. «Мама! — отчаянно кричит он. — Мама! Откройте!» И слышит мужской злой грубый голос: «Я тебе т-такую мать покажу!..»
Спиридон открывает глаз и не может, не хочет поверить, что это был сон. Хватается руками за дверь, правую руку пронзает боль, и он со стоном надает на пол… Оглядывается на решетку. Был бы хоть какой-нибудь напильник, он пилил бы всю ночь… Нет напильника… Партизаны — единственная надежда. Где они, почему мешкают? Неужели никто не видел, как его схватили, неужели партизаны ничего не знают о его судьбе?..
* * *
В дождливую грозовую ночь, когда молнии полосовали утонувшее во мраке небо, в штаб Бринского вбежали забрызганные грязью Конищук и Каспрук. Конищук молча положил перед командиром бригады обрывок бумаги.
— «В городе Луцке арестован курьер Старик. Находится он в гестапо. Усатого расстреляли вместе с семьей. Нина», — прочитал Бринский и встревоженно посмотрел на Конищука и Каспрука. — Как это произошло?
— Больше ничего не известно, — глухо ответил Каспрук. — Принес известие курьер отряда Макса от своей луцкой подпольщицы, а Макс нам передал.
Бринский забарабанил пальцами по столу:
— Беда, беда… Надо, братцы, вырвать парня из гестапо. Любой ценой. Подкупить стражу, или еще как-нибудь устроить побег… Он много знает.
— Много, — вздохнул Конищук.
— Ты думаешь?.. — гневно вскинулся Каспрук.
— Ничего я не думаю, — опять вздохнул Конищук. — Но в страшные лапы он попался… И вырвать его оттуда ох как тяжело…
Медленно открылась дверь, в землянку вошел, качаясь, мальчик, весь в грязи.
— Кто ты? — удивленно спросил Бринский.
— Я, — охрипшим голосом ответил мальчик, — подпольщик из Торчина… Иван Гнатюк… Отца и Сашка взяли… Я убежал… Через сутки к вам…
— Вот что, товарищи командиры, — Бринский встал. — На разговоры у нас нет времени. Кто пойдет в Луцк?
— Я, — сказал Каспрук. — Ваня Куц уже тронулся с группой. Друг его…
— Садитесь на лошадей, догоните его, чтобы он не наделал глупостей. Знаю его — парень горячий… И постарайтесь известить все подпольные организации об аресте. Пусть на всякий случай люди спрячутся. А торчинское подполье немедленно вывести в лес… Известите партизанские отряды…
Они вышли во двор. В скупом свете, вырвавшемся из землянки, Бринский увидел Семку. Семка держал лошадей и плакал.
* * *
Сколько он уже в гестапо?.. Кажется, целую вечность… Днем тяжело: все время бьют… И ночью не легче. Изувеченное тело ноет еще сильнее, чем во время пыток… И мучительные сны, воспоминанья… То свежее сено запахнет так, что хоть на стенку лезь. То подует во сне колючим снежным ветерком и перед глазами откроется такой снежный простор, такая сверкающая белизна, что дух захватывает… А сегодня под утро Михайло приснился, а рядом с ним — Юстя…
Спиридон очнулся, открыл глаз. В узенькую щелку окна просачивался утренний зеленоватый свет. В тюрьме стояла жуткая тишина. Можно подумать — стоит и пустует это мрачное огромное здание, нет в нем ни палачей, ни тех, которых пытают…
Но вот послышались неторопливые шаги. Надзиратели. Спиридон подтянулся рукой к глазку. Ближе, ближе… Останавливаются возле его камеры.
— Этого на цугундер? — спрашивает один.
— Этого, — кивает головой второй. — Когда господин следователь проснутся.
Спиридон опустился на пол.
Не успели партизаны… Страх насквозь пронзил его тело, потом постепенно стал угасать… Сердце теперь стучало где-то в висках… Нет, это мысль, горячая, как раскаленные угли, забилась в голове: «Вот и ухожу из жизни, ничего не сказав людям о себе… И никто не узнает, сколько мучении я перенес за эту неделю, показавшуюся мне годом!..»
Спиридон оглядел камеру.
Стены были испещрены надписями узников… Они звали к отмщению… Спиридон тоже напишет… Он стал ползать по камере, лихорадочно шаря руками. За ним вот вот придут… Обо что-то уколол палец. Гвоздь! Выбрал на стенке чистое местечко. Что написать?
Спиридон взял гвоздь в левую руку, которая еще двигалась. Каждая буква давалась мучительно трудно.
Меня мучают в застенке, Каждый день пытают, Хотят сломить. Признание Силой вырывают!Рука затекла, гвоздь выпал из пальцев. Передохнул немного и опять взял гвоздь.
Вы не страшны мне, фашисты, Знаю, что погибну За Родину, край мой родной, За всю Украину! Погодите, взойдет солнце!.. Погодите, каты, И советские солдаты Вернутся до хаты! Двинут на вас всю мощь, силу — Орудия, танки, И похоронят на свалке Все ваши останки!Заскрежетал замок…
Два гестаповца взяли Спиридона под руки, вывели за ворота тюрьмы. В глазах у него зарябило от света, от яркой зелени луга, раскинувшегося вдоль Стири. Вода в речке была нежно-голубой. Спиридон покачнулся и, сделав несколько неверных шагов, увидел яму, наполненную мертвыми телами…
От тюрьмы шли следователь и майор, а чуть подальше… чуть подальше вели Сашка и отца. Гады! Неужели их тоже?..
Майор коротко сказал что-то гестаповцам. Те поставили с одной стороны ямы Спиридона, с другой — Сашка и отца. Гестаповцы отошли, вытащили пистолеты.
— Спрашиваем в последний раз, — сказал майор, — где партизаны? Где подпольные группы? Ты погляди на отца и брата, — обратился он к Спиридону. — Они хотят жить… Все зависит от тебя…
Спиридон посмотрел на отца. В застывших расширенных глазах отца он прочитал одно лишь слово: «Молчи». Собрал все силы, крикнул палачам:
— Отпустите вы их, они не виноваты! А я партизан! Но я ничего вам не скажу, собаки проклятые! Стреляйте!
И сам прыгнул в яму.
Последнее, что он на мгновенье увидел, — огромное бездонно-синее небо и двух высоко парящих аистов.
— Передайте маме, Юсте, что я… — прошептал Спиридон птицам.
И небо навсегда померкло для него…
* * *
Вера Александровна и еще несколько женщин собирали возле партизанского лагеря грибы. Вдруг видят — на дороге человек, обросший не то белыми, не то седыми космами. Идет, еле передвигается, опираясь на клюку. Пошлет медленно вперед клюку, потом еще медленнее переставляет одну ногу. Долго отдыхал и опять посылал вперед клюку.
Женщины осторожно подошли к человеку. Вера Александровна заглянула ему в лицо, вскрикнула:
— Сашко, ты?
Человек поднял помутневшие глаза:
— Я…
— Откуда ты?
— Везли в Майданек… Люблин… убежал… вагона… Шел пешком… Неделю… не ел…
И упал на пыльную дорогу.
Женщины отнесли его в лагерь. Три дня отпаивали молоком — по четыре ложки в день. А потом дали полную кружку, и Сашко проспал целые сутки.
Проснувшись, он увидел встревоженное лицо отца.
— Ты… живой?
— Живой, сынок. Убежал из тюрьмы. Подпольщики помогли. И семью партизаны вывезли. Только малого нашего… нет.
Сашко поднялся на локоть, заскрежетал зубами:
— Дайте автомат! Я им!.. Я им!..
— Лежи, лежи, — Конищук положил ему руку на плечо. — Мы им уже, калина-малина, отплатили за Спиридона. Кровавыми слезами умылись… И платить будем, пока не исчезнут с лица земли…
От автора
Я закончил книгу о Спиридоне Гнатюке поздно ночью. Лег, долго не мог уснуть. А когда задремал, то вскоре почувствовал, что сижу на каком-то бревне. Вокруг меня мягкий мрак. А посреди улицы речкой плывет красный туман.
Не слышу — чувствую, что рядом со мной кто-то сидит. Осторожно поворачиваю голову, и волнение сжимает мне горло… Он… Спиридон… Спиридон пристально смотрит на красный туман. Молчит. Но вот его уста зашевелились: «Видишь, как получилось. Не дожил я до победы… Скажи, как там отец, Сашко, Семка, Каспрук, все мои?» Я тихо отвечаю: «Отец и Сашко остались в живых. И Вера Александровна, и Аленка, и Семка… Каспрук погиб — на засаду нарвался… Ваню на фронте убили, в Польше его могила… Конищука убили националисты уже после войны…»
Спиридон склонил голову, долго-долго молчит.
Наконец поднял глаза: «Война… — И вдруг: — Как ты думаешь, стал бы я поэтом?» — «Стал бы…» Спиридон отрицательно вертит головой: «Нет, я стал бы трактористом. После войны вон сколько земли надо было бы вспахать и засеять… А где мы сейчас сидим?» — «В Торчине, на улице Спиридона Гнатюка, твоей улице. Или, как ее еще называют, Красной, потому что над ней шефствуют пионеры…» Спиридон долгим взглядом оглядывает улицу. «Это я по этой улице шел, когда впервые направлялся к партизанам. — Глубоко вздыхает. — Да, на войне не всем везет… Но погляди — и эта улица, и улица в Зеленом, и в Гриве, и повсюду на нашей земле остались нашими, красными…»
Примечания
1
Где твой сын?
(обратно)2
Вон!
(обратно)3
Пропуск.
(обратно)4
— Ребенок болен… страх.
(обратно)5
Сало.
(обратно)



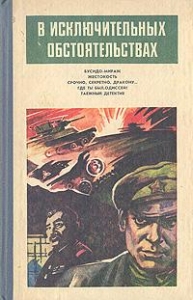
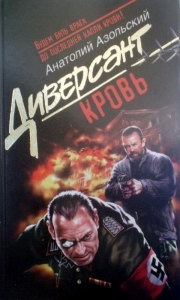

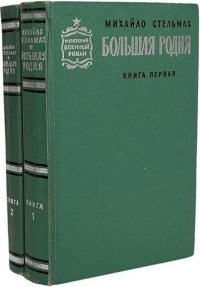
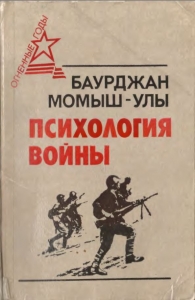
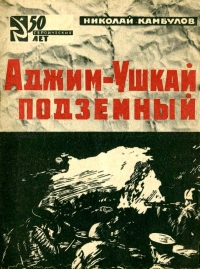

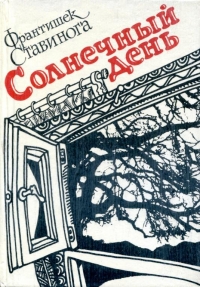

Комментарии к книге «Красная улица», Виктор Иванович Кава
Всего 0 комментариев