Василий Веденеев Обвиняется в измене?.
Василий Веденеев Обвиняется в измене?.
Посвящаю памяти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, доктора юридических наук, профессора генерал-майора внутренней службы Косицына Александра Павловича.
Основой для этого повествования послужили действительные события, происходившие во время Великой Отечественной войны.
АВТОР
Часть первая Камера смертников
Глава 1
Из ультиматума советского командования
8 января 1943 года
Командующему окруженной 6-й германской армией — генерал-полковнику Паулюсу или его заместителю.
…В условиях сложившейся для Вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития предлагаем Вам принять… условия капитуляции…
При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность.
Представитель Ставки Верховного Главного Командования
Красной Армии
генерал-полковник артиллерии
Воронов
Командующий войсками Донского фронта
генерал-лейтенант
Рокоссовский
Зима выдалась слякотной, часто шли дожди со снегом. С Балтики то и дело налетал сырой ветер, гонявший по небу низкие тучи, распарывавшие свои толстые серые бока об острые шпили кирх. Выпадал снег и тут же таял, оставляя на раскисшей земле месиво грязи, потом слегка поджимал морозец, почва застывала, и ее припудривала колючая белая крупа, неприятно хрустевшая под подошвами сапог. Коричнево-черная земля, белые полосы нестаявшего снега и траур, объявленный по всей Германии.
Траур всегда печаль — слезы по погибшим воинам рейха, тщательно скрываемая горечь неудачи, да что там неудачи, скажем прямо — катастрофы под Сталинградом. Как будто что-то хрустнуло в душе, тонко и неприятно, так же, как хрустит снежная крупа под подошвами…
Бергер привычно и незаметно огляделся — не наблюдает ли кто за ним? Его глаза равнодушно, но цепко скользили по светлым кантам и полоскам на петлицах связистов и пехотинцев, по красным лампасам офицеров генерального штаба сухопутных войск, по черным мундирам и редким штатским костюмам из дорогой ткани. На лица Бергер старался не смотреть — достаточно поймать взглядом позу человека, чтобы определить, куда и на кого он смотрит.
Нет, обер-фюрер никого не интересовал. Глаза всех присутствующих устремлены на обтянутую коричневым френчем спину фюрера, склонившегося к окулярам стереотрубы. В длинные узкие окна-бойницы спецбункера, построенного на полигоне, было прекрасно видно запорошенное снегом поле. Но Гитлер имел слабое зрение, а носить очки считал недостойным вождя нации, и даже все документы специально для него печатали на машинке с крупным шрифтом, изготовленной по особому заказу рейхсканцелярии.
Рядом с фюрером стоял Гиммлер, по другую сторону — группа генералов вермахта и несколько штатских. «Конструкторы», — решил Бергер. У соседнего окна устроился с биноклем в руках массивный Геринг. Неподалеку от него переминался с ноги на ногу рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс.
Пальцы Гитлера нервно вертели колесико настройки окуляров. Висела почтительная тишина, нарушаемая только отдаленным звуком танковых моторов да приглушенным, осторожным шарканьем подошв по бетонному полу бункера — у собравшихся мерзли ноги.
Скосив глаза, обер-фюрер кинул взгляд на Фердинанда Порше — танкового конструктора, разработчика автомобиля «фольксваген». Инженер тискал в потной ладони скомканный носовой платок, пристально вглядываясь в фигурки суетившихся около орудий солдат. Поодаль от батареи стоял советский танк Т-34 с небрежно закрашенной звездой на башне.
«Война должна быть выиграна тем оружием, которым она начата», — вспомнился Бергеру неоднократно слышанный им лозунг. «Но… лозунги, — размышлял он, — еще не обеспечивают победы, а войну действительно можно закончить тем оружием, которым она начата. Вопрос только в том, как закончить?»
Германия начинала войну, имея легкие танки Т-I и Т-II, двадцатитонные средние танки Т-III и Т-IV, вооруженные 37-миллиметровой пушкой, достигавшими скорости 55 километров в час, и рассчитывала на блицкриг. Эти боевые машины оправдали себя в Европе, и фюрера стали называть «панцерфатером» — отцом танков, давшим нации грозное оружие для решающих сражений. Летом сорок первого на границе с Советами было 3 712 таких машин, но, как оказалось, они могут поразить советский танк Т-34 с расстояния не более пятисот метров, да и то только в борт или кормовую часть. Тогда Красная Армия имела мало неуязвимых машин, по крайней мере меньше, чем сейчас. Тем летом геббельсовское радио день и ночь вещало о победах, дикторы захлебывались от восторга, а по пыльным дорогам ползли немецкие танки, окрашенные для устрашения противника в черный цвет. Потом их пришлось перекрашивать — слишком хорошей мишенью они оказались для русских артиллеристов, бесстрашно выкатывавших на прямую наводку свои маленькие пушки, прозванные ими же «прощай, Родина», об этом Бергер читал в донесениях. И стало появляться на фронтах все больше и больше неуязвимых советских танков.
Теперь у вермахта есть «тигры», но специалисты отмечают неповоротливость их башни — после прицельного выстрела немецкого танка Т-34 менял место и бал по борту. Первая смертельная схватка этих машин произошла не так давно в конце прошлого, сорок второго года, когда Манштейн пытался прорваться на помощь Паулюсу через выстуженные ветрами, заснеженные донские степи, имея в составе своей группы сорок четыре новых танка с усиленной броней и вооружением. Но Манштейн до цели не дошел.
И еще одно проклятье — у Германии нет своей марганцевой руды, без которой невозможно выплавить броневую сталь высокой прочности, не уступающую русской. Не зря на одном из совещаний фюрер заявил, что потеря немецкими войсками Никополя с его залежами и разработками марганцевой руды означала бы скорый и неутешительный конец войны. А русские жмут и там…
Из-за пригорка выполз угловатый тяжелый танк, заняв позицию лоб в лоб, выстрелил по неподвижному Т-34. Глухо ухнул по башне снаряд. Фюрер поднял голову от стереотрубы и вяло хлопнул в ладоши:
— Браво!
Стоявший рядом с Бергером группенфюрер Этнер заметно улыбнулся, сдерживая радость.
Один из военных отошел к установленному на столике полевому телефону, снял трубку, коротко отдал приказание.
— Грандиозно! — потирая руки, Геббельс повернулся к Герингу, впившись в его оплывшее лицо маленькими глазками. — Какая мощь!
Геринг в ответ только вежливо кивнул и, не проронив ни слова, поднял бинокль.
«Спектакль, — неприязненно покосился на него Бергер. — Кого обманываем? Себя… Изменит «тигр» позицию, станет под углом к цели, и уральская броня выдержит удар».
Между тем экипаж «тигра» бегом направился в сторону еще одной русской бронированной машины, забрался в нее.
Наклонившись к фюреру, Гиммлер что-то тихо сказал. «Радуется, — подумал Бергер. — Наконец-то он рядом с вождем. Всю жизнь мечтает войти в «аувбау» — костяк партии, где управляли улетевший в Англию Гесс, сам фюрер, Штрассер и Розенберг. Некоторых уже нет, но Гиммлера так и не включили в костяк. Не вошли в него и Геббельс с Герингом. И сейчас «черный Генрих» упивается близостью к вождю, когда другие стоят от него поодаль. Все видят его рядом с фюрером, все…»
В небо взлетела белая ракета — сигнал открытия огня. В наступившей тишине бухнула пушка русского танка, и все явственно увидели, как в борту «тигра» появилась дыра.
— Что это? — досадливо выпрямился фюрер. Обернувшись, он обвел глазами побледневшие лица военных.
— Я спрашиваю, что это? — щетка усов Гитлера дернулась в недовольной гримасе. Встав спиной к стереотрубе, он привычно сложил руки внизу живота ладонями одна на другую. — Опять? Еще недавно меня пытались уверить, что все доведено до конца, что больше не потребуется никаких доделок. Ложь?!
Изо рта фюрера, вместе со словами, вылетали легкие облачка пара — в бункере было прохладно, несмотря на постеленный для вождя ковер и включенные переносные калориферы. В длинные окна-бойницы задувал свежий ветер с полигона, принося с собой кислый запах пороховых газов, сырой земли и талого снега.
— Там, — Гитлер патетически показал рукой в сторону, — доблестные солдаты великой Германии ждут нового оружия! А что я вижу здесь?
Военные понуро молчали. Геринг сопел, багровея лицом и стараясь не встречаться с фюрером взглядом. Геббельс отвернулся, преувеличенно внимательно разглядывая ногти на руках.
«Почему он без шинели? — неожиданно подумал Бергер, глядя на Гитлера. — Прохладно, а он боится простуды».
Словно в ответ на эти мысли фюреру подали длинное черное кожаное пальто на утепленной подкладке. Небрежно накинув его на плечи, он, дрожащей от едва сдерживаемого гнева рукой, поправил завернувшиеся полы и, кивнув рейхсфюреру СС, пошел между почтительно расступившихся генералов к выходу из бункера. Следом заторопился Гиммлер. Догнав фюрера, он что-то шепнул ему. Тот резко остановился:
— Где они?
Стоявший за спиной вождя рейхсфюрер сделал знак Этнеру и Бергеру подойти ближе. Чувствуя, как становятся тяжелыми и непослушными ноги, Бергер шагнул вперед, встав рядом с группенфюрером Этнером. В лицо ему уперлись зеленоватые, как мутное бутылочное стекло, глаза Гитлера.
— Вы видели? — тихо спросил он. — Видели?
— Да, мой фюрер! — дрожащим от волнения голосом ответил Этнер.
Гитлер опустил глаза вниз, скорбно поджав губы под усами щеткой. Беспокойно шевельнулись пальцы его руки, придерживавшей полу кожаного пальто.
— Генрих говорил мне о вас. Сейчас нам, как никогда, важно знать все секреты танковой брони русских. Надо работать, работать еще быстрее и лучше! — Подняв глаза, фюрер поощрительно улыбнулся Этнеру. Потом снова перевел взгляд на Бергера: — За что получили крест?
— За кампанию тридцать девятого года! — отрапортовал обер-фюрер.
— Да, да, — вяло кивнул ему Гитлер. — Работайте! — И пошел, сопровождаемый адъютантами и рейхсфюрером СС, к выходу.
Припадая на больную ногу, проскакал мимо Геббельс, потом важно прошествовал Геринг, следом потянулся генералитет. Выждав, пока они выйдут, выбрались из бункера и Этнер с Бергером. Кортеж фюрера уже убыл, но на площадке еще стояли машины Гиммлера и генералов.
Бергер знал, что у Гитлера есть двойники, которые проезжают в одинаковых автомобилях по различным маршрутам, чтобы никто не мог догадаться, где именно поедет настоящий вождь нации. Сейчас, наверное, эти авто, сопровождаемые охраной, несутся по дорогам к Берлину, взвизгивая покрышками на крутых поворотах шоссе и нигде не снижая скорости.
Небо очистилось от туч, выглянуло солнце, заиграли блики на лаково-черных боках чисто вымытых машин, чередой выстроившихся на площадке перед бункером. Проезжавший мимо Бергера и Этнера автомобиль рейхсфюрера притормозил, опустилось стекло — в глубине салона бледным пятном виднелось лицо Гиммлера с поблескивавшими стеклышками пенсне.
«Странно, — подумал Бергер, — руководители спецслужб двух воюющих держав носят пенсне. Общность характеров? Или у обоих близорукость? Но почему же все-таки оба носят пенсне — Гиммлер и глава советской службы безопасности?»
— Этнер! — приблизив свое лицо к открытому окну автомобиля, негромко окликнул Гиммлер. — Подойдите! Не теряйте драгоценного времени, — дождавшись, пока приблизится подчиненный, назидательно сказал он. — Дни летят быстро.
— Обер-фюрер Бергер вылетит в самое ближайшее время, — отчеканил Этнер.
— Не тяните, — еще раз напомнил Гиммлер, поднимая стекло.
— Садитесь в мою машину, — глядя вслед автомобилю рейхсфюрера, предложил Этнер. — По дороге еще раз обговорим некоторые детали операции.
— Я только предупрежу своего шофера, чтобы держался за нами, — согласно кивнул Бергер.
Шагая к своему автомобилю, он зло чертыхнулся сквозь зубы — еще только не хватало срочно улетать в неизвестность, оставляя здесь незавершенными свои дела. Чертов «шлепер» — вспомнил Бергер давнюю кличку Гиммлера, в молодые годы бывшего сутенером у проститутки Фриды Вагнер, которую он потом прикончил. Шлепер — это и есть сутенер, как их кличут на жаргоне. Наверное, поднабрался в свое время от продажной Фриды и теперь изображает перед фюрером активность, что под стать пылкости дешевой проститутки.
Дав распоряжения водителю, Бергер не спеша направился к длинному черному лимузину Этнера. Скорее бы наступила хоть какая-то определенность в этой донельзя затянувшейся войне с русскими. Впрочем, разве не является Сталинград началом определенности, вернее — предопределенного конца?! Этот удар просто-таки потряс «тысячелетний рейх», а если за ним последуют другие подобные сотрясения, то надолго ли хватит пороху?
Усаживаясь рядом с группенфюрером, Бергер неожиданно подумал, что после войны неплохо бы написать книгу о тех, с кем свела его судьба, о подноготной людей, сумевших встать во главе нации. О, это будет дорогая книга, особенно если продать рукопись за океан, воспользовавшись родственными связями жены. В зависимости от того, кто станет победителем, определится содержание книги и ее направленность. В этом свете разговор с Этнером — еще один шаг к созданию рукописи — Бергер надежно спрячет до поры в памяти, а на память он пока еще никогда не жаловался.
Вечером Геббельс смотрел еженедельное кинообозрение «Вохеншау». Сидя в мягком кресле темного кинозала министерства пропаганды и равнодушно следя глазами за мелькавшими на экране кадрами кинохроники, он раздумывал о том, что военные и конструкторы вновь не оправдали надежд фюрера на создание непобедимого оружия — с новым танком придется еще много повозиться, а время уходит катастрофически быстро. Если не прикрыть случившуюся под Сталинградом страшную неудачу новыми успехами в летней кампании, то дух армии неизмеримо упадет и поднять его будет не под силу всей пропагандистской машине. Дух поднимают победы, а не кинохроника, — она хороша для обывателя или солдат и офицеров тех частей, которые пока не нюхали восточного фронта, не замерзали в окопах под Москвой, не бежали по обледенелым, усеянным трупами дорогам, увязая в сугробах и бросая технику, не жарились под палящим солнцем донских степей и не горели в огне Сталинградского котла.
Нет, новое успешное наступление жизненно необходимо, как глоток свежего воздуха для задыхающегося от удушья в приступе жестокой астмы. Потихоньку рейхсминистр пропаганды уже начал готовиться: на радио записывают фанфары — их трубным звуком будут начинаться победные сообщения с фронта. Но пока фанфары не удовлетворяли Геббельса — не то, все время не то, не чувствуется в них торжества, мощи Германии и ее непобедимых железных солдат. Он приказал пробовать еще и еще, пока не добьются нужного звучания, от которого продирает мороз по коже, возникает у обывателя щенячий восторг и навертываются на глаза слезы умиления, как при раздаче всеобщей государственной похлебки, призванной объединять нацию.
Да, пожалуй, сегодня придется отложить поездку на киностудию и опять побывать на радио, поторопить их, заставить работать быстрее — фанфары заранее должны быть готовы к новым победам. А победы так нужны, ах, как они нужны сейчас, во время всеобщего траура! Плевать на мораль: Макиавелли не зря писал, что мораль и политика живут на разных этажах — иначе солдат казнили бы за убийства на войне, правителей, раздающих свои земли, ставили всем в пример, услужливых сановников прямо называли рабами, а народ, поклоняющийся тирану, безумным.
Кстати, о безумстве — действительно удастся людям Гиммлера подтолкнуть к нему противника или нет? Новые безумства в стане врага во время войны — предел мечтаний! Надо признать, что у «черного Генриха» есть толковые исполнители, неглупые политики, тонко чувствующие остроту момента. Но это не исключает заботы о фанфарах.
Затемненный вокзал казался мрачной громадой, крупными хлопьями падал снег, тускло мерцали синие фонари патрулей, проверявших документы пассажиров. К составу подали паровоз, вагоны качнулись, лязгнув буферами, и тонко задребезжали промерзшие стекла, закрытые изнутри синей бумагой светомаскировки.
Ромин поглубже засунул руки в рукава шинели — жмет морозец, даже когда снег пошел, погода мягче не стала. Потопав сапогами, он постучал ногой в дверь тамбура вагона. Через минуту она приоткрылась, выпустив клуб пара, тут же осевшего инеем на поручнях; высунулось морщинистое усатое лицо Скопина — второго проводника.
— Скоро отправляемся? — пританцовывая, спросил Ромин.
— Три минуты, — ответил напарник, и дверь, бухнув, закрылась.
Ромин вздохнул и вытащил из висевшего на брезентовом ремне чехла желтый флажок. Сейчас стукнет станционный колокол — негромко, вполголоса, потом даст короткий гудок паровоз и состав отправится. Пассажиров много — казалось бы, какие поездки в военное время, набиваются даже на багажные полки командировочные, отпускники по ранению, бабы с мешками гнилой картошки, бледные, до прозрачной синевы, дети, укутанные в множество платков.
Подув на пальцы, словно пытаясь отогреть их дыханием через перчатку, он развернул флажок и встал на подножку вагона. Вот и ударил колокол, басовито рявкнул паровоз, и тихо поплыл назад заснеженный перрон с патрулями, темные московские дома, столбы потушенных фонарей. Старший патруля, подняв руку, крикнул с перрона:
— Привет трудовому Уралу!
Ромин в ответ улыбнулся и тоже помахал рукой с зажатым в озябших пальцах флажком. Можно ехать спокойно: сегодня низкие облака, бомбить на перроне не будут. Хотя какой тут покой, если на двоих проводников чуть не половина состава — печки истопи, а угля в обрез, двери проверь, чтобы не открылись, светомаскировку соблюдай, воды согрей, если удастся, конечно, да еще и при проверке документов помогай.
С удовольствием захлопнув за собой дверь тамбура, Ромин прислонился спиной к покрытой инеем стенке вагона и негнущимися пальцами развязал тесемки ушанки под подбородком. Вагоны старые, дырявые, из всех щелей ветер свистит, но все равно внутри теплее, чем на улице. Свернув флажок, убрал его в чехол и, пройдя коридором, открыл дверь служебного купе.
— Ну, как тут? — опускаясь на полку и расстегивая шинель, спросил он у напарника.
— Нормально, — буркнул тот. — Время поджимает, пора.
— Щас, только отогреюсь маленько, — Ромин зубами стянул перчатки и начал растирать покрасневшие руки. — Задубел совсем.
Мерно стучали колеса, мягко оплывал огарок свечи в фонаре на столе, вагон покачивало.
— Посмотри там, — велел Ромин, доставая из-под полки большой деревянный обшарпанный чемодан.
Напарник вышел, встал у двери, сворачивая цигарку. Задымил, поглядывая вдоль пустого коридора, — пассажиры угомонились.
— Ну?! — поторопил Ромин.
— Давай, — отозвались из коридора, и дверь купе захлопнулась.
Заперев ее, Ромин достал ключ и открыл замок чемодана. Откинув крышку, снял лежавшее сверху тряпье и вытащил портативную рацию. Быстро подготовив ее к работе, он приоткрыл окно и высунул в него антенну. Сразу потянуло холодом, пламя свечи в фонаре замигало, грозя вот-вот потухнуть.
Ругнувшись, Ромин переставил фонарь и, включив рацию, надел наушники. Подышав на пальцы, положил их на ключ, настроился на нужную волну и начал быстро выстукивать позывные:
— ФМГ вызывает ДАТ… ФМГ вызывает ДАТ…
Ермаков проснулся рано — еще не было шести утра. Приподнявшись, дотянулся до шнура светомаскировочной шторы на окне и поднял ее: молочно-белые морозные узоры на стекле, а за ними темнота. Жалобно скрипнули пружины койки под плотным телом Алексея Емельяновича, мирно тикал будильник на тумбочке — единственная вещь, которую он взял с собой из квартиры, заперев ее после отъезда жены и дочери в эвакуацию. Как ему казалось, будильник привносит в служебный быт некоторый домашний уют: напоминает о безвозвратно ушедших довоенных временах, когда он вечерами сидел дома за шахматной доской, задумчиво переставляя замысловатые резные фигурки, выточенные неизвестным мастером; стыл крепкий чай в стакане, жена слушала приемник, дочь читала.
А то, бывало, нагрянут друзья-приятели, засидятся за полночь — разговоры, опоры до хрипоты. Где они теперь, давние друзья? Одни на фронте, воюют, а другие…
…Докурив, Ермаков потушил папиросу, примяв ее в пепельнице. Потянулся к подвешенным на дужку спинки кровати наушникам — сейчас начнет работать радио, надо послушать сводку с фронтов. Но, видимо, он увлекся воспоминаниями — в наушниках звучал густой бас Максима Михайлова, исполнявшего арию Сусанина, Мгновенно в памяти всплыл октябрь сорок первого, прифронтовая пустынная Москва, торжественное заседание, посвященное двадцать четвертой годовщине революции, проходившее в вестибюле станции метро Маяковская, речь Сталина, праздничный концерт с участием специально прилетевших из Куйбышева Ивана Козловского и Максима Михайлова. Тогда он тоже пел арию Сусанина.
Алексей Емельянович встал, не зажигая света натянул галифе, отгоняя остатки сна, долго плескался холодной водой около умывальника. Потом, опустив маскировочную штору, зажег свет и побрился. Надев китель, вышел из комнаты отдыха в кабинет, сел к столу и, сняв трубку телефона, набрал номер.
— Козлов? Доброе утро. У тебя чай горячий? Прелестно! А у меня есть сахар, консервы и хлеб. Давай, заходи.
Через несколько минут в кабинет вошел подполковник Козлов, осторожно держа за ручку горячий чайник. Увидев в руке Ермакова горящую папиросу, укоризненно покачал головой:
— Опять натощак?
— Ладно тебе, Николай Демьянович, — отмахнулся генерал, доставая кружку. — Плесни лучше горяченького. На войне, оказывается, не до болячек, затянулась моя язва.
Прихлебывая чай, он ждал, что скажет Козлов. Они спали по очереди — один отдыхал три-четыре часа, а другой в это время работал.
— Новое сообщение из нейтральных стран, — помолчав, начал подполковник. — На повторный запрос ответили, что в осведомленных кругах упорно утверждают об измене в нашем высшем командном эшелоне.
Отставив кружку с недопитым чаем, Ермаков непослушными пальцами расстегнул крючки на воротнике кителя, словно ему вдруг стало душно.
— Имя?!
— Пока неизвестно, — отвел взгляд Николай Демьянович. — Люди работают, делается все возможное для скорейшей проверки информации.
— Ты понимаешь, что будет, если доложат Верховному?
Козлов молчал, опустив глаза и сжимая ладонями кружку с кипятком. Еще раз поглядев на него, генерал откинулся на спинку крееда И жарко выдохнул, покрутив густо поседевшей головой:
— Ну, дела… Сколько получено подтверждений на повторные запросы?
— Два из пяти, — глухо ответил Козлов.
— Два из пяти, — побарабанив пальцами по крышке стола, задумчиво повторил Ермаков. — Надо искать! Ориентируй наших людей за линией фронта. Срочно ориентировку в «Смерш»! В управлении кадров РККА негласно проверить все личные дела высшего комсостава. Причем самым внимательнейшим образом. Перебрать до единого человека личный состав штабов, вплоть до официантки в столовой! Если он есть, этот изменник, у него наверняка была когда-либо связь с немцами. Иначе — грош ему цена.
— Кстати, о связи, — наморщил лоб Козлов, доставая из кармана гимнастерки сложенный листок бумаги. — Радионаблюдением зафиксирована работа германской агентурной станции с позывными ФМГ, вызывавшей радиостанцию ДАТ. Связь была установлена в девятнадцать часов сорок пять минут и сеанс продолжался около трех минут. По пеленгаторным данным, место нахождения агентурной станции в восточном пригороде Москвы. Причем во время сеанса станция перемещалась.
— Чьи позывные ДАТ? — помрачнел Ермаков.
— Абвергруппа 205, начальник — обер-лейтенант Гемерлер. Район действия: Белоруссия и Польша. Ранее работа агентурной станции немцев с позывными ФМГ отмечалась несколько дней назад, но тогда пеленгаторы не успели ее засечь.
— Просочились, — крякнул генерал, — передача записана? Что говорят дешифровщики?
— Пока ничего, работают.
— Поручи это Волкову и сам включайся, надо их немедленно найти. Ответы на повторные запросы захватил? Молодец, давай сюда. Налей мне еще чайку и иди, я потом позвоню…
Когда за подполковником закрылась дверь, Алексей Емельянович увидел, что тот забыл взять консервы и хлеб. Вернуть его, отдать тушенку и сахар? Ладно, все равно сегодня еще не раз встретятся. Наверняка сейчас Николай Демьянович стянет сапоги и буквально рухнет на солдатскую койку, перехватит час-другой. Видно было, как слипаются у него от усталости глаза.
Придвинув ближе к себе листки с текстом шифротелеграмм, Ермаков снова пробежал глазами по их скупым строкам. Неужели среди высшего начсостава действительно оказался предатель? Первое сообщение об этом поступило от разведчика, работавшего в нейтральной стране. Он сообщал об измене неизвестного генерала, не указывая ни его имени, ни места службы.
Спустя некоторое время об этом же сообщили из другой нейтральной страны. Ермаков тогда не стал докладывать наркому, а приказал направить повторные запросы и ориентировать разведчиков на установление данных изменника. Из пяти посланных ориентировок повторно ответили утвердительно на две, в других ссылались на отсутствие данных. И никаких имен! Неужели действительно где-то есть призрачная фигура, связанная невидимыми нитями с немцами. Но кто это и где?
Сейчас отмолчаться уже нельзя — не доложишь сам, найдутся другие, готовые сделать это за тебя. Но как докладывать о полученных сведениях. члену пятерки, называемой «пятеркой по внешним делам» или «оперативным вопросам»? Эта пятерка была создана в Политбюро еще до войны. В нее вошли Сталин, Молотов, Маленков, Берия и Микоян. Что будет после того, как Ермаков доложит наркому?
Генерал отодвинул от себя листки шифротелеграмм я потер пальцами виски — голова разваливается от дум. Особенно тяжко, когда представишь себе холодные глаза наркома, пристально глядящие на тебя сквозь стеклышки пенсне, — глядящие с плохо скрытым недоверием и холодной оценкой, словно говоря! «Промахнулся генерал, не доглядел врага. А может?..»
Вспомнился прежний нарком — Николай Иванович Ежов. В белоснежной туго накрахмаленной гимнастерке, с алыми звездами в петлицах и на рукаве, темноволосый, любивший часто улыбаться. Питерский рабочий паренек, участник штурма Зимнего, комиссар гражданской, секретарь райкома, впоследствии выдвинутый на ответственную работу, — безупречная биография и далеко не безупречные, да что там, просто преступные перед народом, партией и государством дела. Кто знает, если бы не уничтожили тысячи командиров и генералов, был бы после этого позор финской кампании, показавшей слабость армии и создавшей о ней самое неблагоприятное впечатление во всем мире? И разве один Ежов в этом виноват?
Что может произойти теперь, уже во время войны, после того, как он, генерал Ермаков, доложит наркому о поступивших из нейтральных стран данных? Кого обвинят в измене, на ком остановится холодный, пристальный взгляд спрятавшихся за стеклышками пенсне глаз? На ком из генералов, командующих армиями и фронтами?
Не исключено, что пока не установленная агентурная станция немцев, выходящая в эфир с позывными ФМГ, и есть ниточка, ведущая к изменнику, ниточка его связи с противником. Но тогда это означает, что предатель здесь, в Москве?!
Ермаков отхлебнул из кружки остывшего чая и расстегнул все пуговицы на кителе — стало жарко от таких мыслей. Что могут и должны сделать он и его товарищи, чтобы немедленно выявить врага и защитить от необоснованных подозрений честных военачальников, не дать им пасть жертвой излишней подозрительности и жестокости, не позволить запятнать их имена? Да разве только в именах дело? Нельзя дать поселиться в штабах атмосфере подозрительности и страха, всеобщего недоверия. Страшно воевать, не доверяя своим командирам, а позволить вновь вспыхнуть и подобно эпидемии чумы прокатиться по воюющей армии волне репрессий — смерти подобно.
Где же выход, в чем он? Проводить работу, не ставя о ней в известность руководство, уже нельзя, но нет смысла и давать повод наркому подозревать в измене всех и вся.
За окнами незаметно рассвело, серое морозное утро встало над городом, покрытым снегом второй военной зимы…
Пулю в спину Антон получил уже перейдя границу и оказавшись среди своих — немецкий снайпер целился в левую лопатку, чтобы попасть прямо в сердце, но то ли Волков удачно повернулся в момент выстрела, то ли неожиданно дрогнула у немца рука, однако пуля вошла в спину справа.
Пограничники на шинелях вынесли Антона к машине, доставили в госпиталь, где ему сделали операцию. Через пару дней, когда он пришел в себя, хирург подарил ему кусочек свинца, прилетевший с той стороны границы. Волков бережно спрятал маленькую тяжелую остроносую пулю и потом, вернувшись домой, хранил ее в коробочке вместе с орденами и медалями.
Правда, вернулся домой не скоро — рана долго и трудно заживала, мучили боли в спине, приходилось заново учиться сидеть, стоять, ходить.
Бессонными ночами в госпитале он думал о том, что же случилось с девушкой по имени Ксения, работавшей с ним в одной группе: она бесследно пропала, так и не придя на условное место встречи в последний день его пребывания в оккупированном немцами польском приграничном городке. Как ее зовут на самом деле, каково ее настоящее имя? Вряд ли ему когда-либо придется это узнать — для него она навсегда так и останется Ксенией. А второй разведчик, страховавший Антона, сумел уйти из сетей немецких облав и продолжал работу, начатую товарищами.
Все имеет свой конец и начало — раны стали заживать, Волков выходил гулять в парк, радовался первому снегу, красногрудым снегирям, перелетавшим с ветки на ветку, морозному солнцу…
Новый год он встречал в ‘Москве. Племянники, радостно визжа, висли на нем, и Антон, скрывая гримасу боли, весело кружил их по комнате. Тепло и уютно дома: тетя, хлопочущая на кухне, мама, сестра, ее муж. С боем курантов подняли бокалы, второй тост был за возвращение и за награду — новенький орден Красного Знамени, привинченный к гимнастерке Волкова.
Муж сестры Иван, работавший в Наркомате иностранных дел, рассказывал о недавно прибывшем в столицу новом шведском после — Сверкере Остреме, о дуайене дипкорпуса немецком после Шуленбурге и разговорах среди дипломатов.
— Без конца болтают о войне, — попыхивая папиросой, доверительно сообщил он Антону. — Некоторые дипломаты полагают, что мы боимся Гитлера и заискиваем перед ним, готовы во всем уступать, лишь бы он не нападал. А я считаю, что капиталисты уже основательно начали драться между собой и скоро просто перебьют друг друга!
— Дал бы то бог, — отделался шуткой Волков. — Я слышал, любимого Гитлером Вагнера ставят? Правда?
— Правда, — сердито отмахнулся Иван, — одних дипломатов это откровенно забавляет, а других раздражает.
— А тебя?
— Не знаю, — Иван примял в пепельнице окурок и пожал плечами — Я мелкая сошка: что скажут, то и делаю, но люди у нас в наркомате подавлены, неспокойны. Тебе я это могу сказать…
На службе Волков нашел генерала Ермакова мрачным и очень озабоченным. Поздравив Антона с возвращением, выздоровлением и полученной наградой, Алексей Емельянович приказал принять к производству дела и готовиться к новой спецкомандировке. Но помешала война.
В первые дни пал Вильнюс, затем Минск. Враг, не считаясь с потерями, рвался к Смоленску. Мнение Сталина, что немцы в начале военных действий бросят свои основные силы на юго-восток — к украинскому хлебу, углю и нефтяным районам, не оправдалось. Верным оказался расчет Генерального штаба РККА, заранее предупреждавшего об ударе в сердце России, на Москву. Начались воздушные налеты на столицу.
К октябрю сорок первого Москва опустела, формировались дивизии народного ополчения. Потом был разгром немцев на подступах к столице, катастрофа под Харьковом и жуткое поражение в Крыму, когда герой гражданской войны Василий Книга пытался в конном строю атаковать немецкие танки. Книгу вывезли раненым на самолете, а конница погибла. Враг прорвался к Волге, вышел на Кавказ, крупные неудачи постигли нас под Ленинградом.
— Не было бы Харькова, не случилось бы и Сталинграда, — бросил однажды Ермаков в доверительном разговоре с Волковым.
Антон неоднократно просился на фронт, но все его рапорты неизменно оказывались на столе у генерала Ермакова.
— Работай здесь, — словно припечатывал он тяжелой ладонью к столу очередной рапорт. — И в тыл к ним тебя пока не пошлю.
И Волков работал. Выезжал в командировки, выявлял заброшенных врагом агентов, готовил людей для разведки в глубоком тылу врага.
Получив у Козлова материалы по выходившей в эфир немецкой агентурной станции с позывными ФМГ, Антон положил перед собой чистый лист бумаги, карандаш и, закурив папиросу, начал размышлять. Его тревожило, что абвергруппа 205, радиоцентр которой вызывали для связи вражеские агенты, готовила свои кадры для ведения разведки в нашем дальнем тылу.
Сколько времени враги уже находятся здесь? Ориентироваться на то, что службы радионаблюдения впервые засекли их в эфире всего несколько дней назад, нельзя — они могли молчать очень долго, ожидая своего часа, и, получив условный сигнал, начать действовать, включившись в проведение спланированной немецкой разведкой операции. Какой? Каковы ее цели, направленность? Что они передают своим хозяевам?
Дешифровщики пока топчутся на месте, мучаясь над колонками цифр перехваченной вражеской шифротелеграммы. Что за этими цифрами? Если враг здесь осел достаточно давно, еще в прошлом году или в самом начале войны, то отыскать его будет весьма сложно — он успел прижиться, приобрести необходимые документы и связи, врасти в обстановку, словом, стать привычно-незаметным для окружающих. Иначе их давно бы уже выявили. И что означает предположение службы пеленгации о перемещении рации во время сеанса связи? Работали из двигавшегося по дороге автомобиля?
Восточный пригород Москвы — это огромный Измайловский лесопарк, с его лучевыми просеками и спрятавшимися за высокими сугробами дачами, множество мелких деревень, уходящее на Горький шоссе, лесной массив, начинающийся почти сразу за Преображенским, Перово, Люблино, Капотня. А других населенных пунктов сколько — Беседы, Мильково, Алексеево, Кишкино, Денисьево, Выхино, Косино, Плющево.
И среди них надо отыскать, как иголку в стоге сена, затаившуюся вражескую агентурную станцию. Когда она вновь выйдет в эфир, в какой день, в какое время и в каком месте? Если враг использует для передвижения во время передачи автомашину или повозку, то рация может объявиться в следующий раз уже совсем в другом районе, и тогда круг поиска неизмеримо расширится. Немецкие агенты тоже не дураки — они прекрасно понимают чем и как рискуют, выходя в эфир рядом с Москвой.
Перемещение рации во время сеанса говорит еще об одном — станция работает от батарей. Очень долго они храниться не могут. Это косвенно указывает на относительно недавнее присутствие здесь немцев или их пособников. Однако батареи могли доставить курьеры или сбросить с самолета в условном месте. И все же это еще одна нитка — батареи в конце концов сядут и агенты будут вынуждены искать способ получать питание для рации. Появится шанс обнаружить точнее их местоположение.
А если зайти с другой стороны — кроме рации существуют люди, которые стучат на ключе, вызывая радиоцентр абвера. Наверное, в первую очередь необходимо тщательно проверить всех прибывших в Москву в командировки и на постоянное место жительства, а также недавно вернувшихся из эвакуации. Правда, таких людей наберется немало, а потом придется еще более расширять круг проверяемых, добираясь до тех, кто появился здесь с начала войны или не уехал в сорок первом. Надо не забыть и прибывших по демобилизации. Будем подключать к поиску военкоматы и территориальные отделы милиции, полностью не раскрывая причин интереса государственной безопасности к проверяемым.
Словом, тяжелая предстоит работа, но сделать ее необходимо в самые сжатые сроки.
Одновременно подготовим и пошлем запросы за линию фронта — пусть сообщат все имеющиеся данные на тех германских агентов, которые готовились к заброске в наш глубокий тыл. Еще раз проработаем материалы по уже выявленным и задержанным немецким разведчикам. Не может такого быть, чтобы где-нибудь да не нашлось хотя бы маленькой зацепочки, потянув за которую, удастся вытащить на свет всю вражескую цепь.
Глава 2
Радиостанция в Барановичах передавала музыку из фильма «Голубой ангел». Красивого тембра голос пел «Лили Марлен»:
И когда твой милый голос призовет, То даже из могилы поднимет, приведет, И тень моя тогда опять Как прежде сможет рядом встать С тобой, Лили Марлен!Клюге хрипловато мурлыкал себе под нос, подпевая динамику. Но, заметив, как недовольно покосился на него обер-фюрер, замолк. Сидевший рядом Эрнест Канихен только чуть усмехнулся и закрыл лицо иллюстрированным журналом.
Ровно гудели моторы транспортного юнкерса. Внизу виднелись густые леса, нитками вились узкие дороги, выводившие к селениям.
«Беларутения», — вспомнив новое название Белоруссии, желчно усмехнулся смотревший в иллюминатор Бергер. Ему было интересно — удастся или нет заметить хотя бы следы партизан на снегу, следы тех самых лесных бандитов, о которых он так много читал в донесениях, приходящих в РСХА — главное управление имперской безопасности. Самих партизан он увидеть не надеялся, они наверняка хорошо замаскировались и прячутся при звуке самолетных моторов. А вот если удастся разглядеть следы, можно с полным основанием говорить об этом на совещаниях, утверждая, что в борьбе с лесными бандами авиация используется недостаточно эффективно.
Не зря он решил не связываться с поездами — они теперь тащатся жутко медленно, а нетерпение Этнера и Гиммлера слишком велико. Да и безопасней самолетом. Ганденмюллер, статс-секретарь министерства транспорта, хотя и любимец фюрера, но все же получил от него приличную взбучку за беспорядки на железных дорогах и отсутствие безопасности движения на них. Бедный статс-секретарь, ему совершенно нечем оправдать то, что поезда теперь частенько идут от Варшавы до Минска по четверо суток.
Вглядываясь в снежный покров далеко внизу, Бергер решил по примеру англичан применить в борьбе с партизанами воздушное фотографирование лесов с различных точек. Нет, англичане не боролись ни с какими лесными, бандами, но хитроумный толстый сэр Черчилль еще в прошлом, сорок втором году приказал сосредоточить все наземное фотографирование в разведывательных целях в руках военно-морской разведки. Правильно, правь, Британия, морями. Но глупо не использовать уже удачно найденное и применяемое противником.
И вообще, Лондон, наверное, сейчас напоминает большой великосветский раут — все высокопоставленные беглецы из множества стран собрались там: король Хокона, королева Нидерландов Вильгельмина, король Греции Георг, король Югославии Петр, герцогиня Люксембургская Шарлотта, глава правительства свободной Франции Де Голль, бывший президент Чехословакии Бенеш, бывший президент Польши Рачкевич. Конечно, в большинстве это политические трупы, но как заманчиво сделать из них трупы физические, а немецкие бомбы, как назло, еще никого из них не нашли…
Летчики выключили музыку, моторы загудели, самолет начал разворот, зашел на посадку. Бергер впился взглядом в иллюминатор, стараясь разглядеть посадочную полосу. Сзади завозились Клюге и Канихен, которых он как личную охрану повсюду таскал за собой.
Внизу мелькнули домики, казавшиеся маленькими и приземистыми, несколько автомобилей, широкое поле с темневшим на его краю перелеском — убогая картина, совершенно не радующая глаз.
Самолет слегка тряхнуло — колеса шасси коснулись посадочной полосы.
Открылся люк. Ступив на узкую ступеньку трапа, Бергер почувствовал, как в лицо ударил порыв ледяного ветра. Сразу стянуло кожу, губы сделались немыми и непослушными. От автомашины, стоявшей почти под крылом самолета, навстречу ему, придерживая фуражку, торопился фон Бютцов.
— Как долетели, — уважительно пожимая руку обер-фюрера, спросил он.
— Нормально, — отворачиваясь от ветра, буркнул Бергер. — Со мной Клюге и Канихен, пусть едут во второй машине. На дорогах спокойно?
— Да, — распахивая дверцу автомобиля, заверил встречавший. — Основные банды партизан действуют в стороне от нас.
Усевшись на заднее сиденье, Бергер потер ладонями уши — холодно, черт побери. Рядом устроился Бютцов, и машина тронулась, выезжая на шоссе.
В присутствии водителя не разговаривали. Бергер смотрел в окно, на мелькавшие по сторонам дороги заснеженные поля и перелески. Пожалуй, если бы не этот мороз, то можно подумать, что ты опять в Польше, где ему уже приходилось бывать.
Свою карьеру Отто Бергер начинал в газете, работая простым репортером. Как же давно это было, как давно, еще задолго до первой мировой войны. Денег в семье катастрофически не хватало, и Отто, учившийся в университете, вынужден был искать приработок. У него оказалось острое, бойкое перо и хороший нюх газетчика. Писал он легко, безошибочно улавливая настроения обывателя, и редакторы всегда оставались им довольны. Так и дотянул до диплома, а получив его, уехал в Южную Америку искать богатства. Не нашел и вернулся обратно в Германию, как раз перед войной. Потом пришлось понюхать пороху, отваляться в госпитале с ранением в руку — и сейчас, бывает, ноет к перемене погоды старая рана, пережить ужас революции восемнадцатого года, похоронить родителей и остаться практически без средств к существованию.
Шатаясь без дела по улицам, Отто пристрастился к собраниям и митингам — любопытно слушать замысловатые бредни, якобы способные спасти страну, вырвать ее из хаоса и повести к прекрасному будущему. Вскоре он научился хорошо ориентироваться в программах и платформах различных политических группировок, но это не заменяло куска хлеба и тарелки супа. Вспомнив о прежних репортерских удачах, Отто накропал статейку о политике, в которой яро ратовал за отмену соглашений стран Антанты по Германии. Статью не опубликовали. Мало того, ему предложили больше вообще не приходить в редакцию. Обиженный, Бергер ушел, хлопнув дверью, но на прощанье пообещал когда-нибудь вернуться.
С горя направился в пивную, где за одним столиком с ним оказался незнакомый субъект. Разговорились. Узнав, что Бергер юрист по образованию, новый знакомый смеялся до слез — кому это сейчас надо среди поразившей страну красной вакханалии? Вот если бы Отто умел хорошо владеть оружием! Бергер второй раз за тот день обиделся — он бывший солдат и, кроме того, с детства состоял в клубе стрелкового общества.
— Это другое дело. — Новый знакомый вытер слезы смеха на глазах. — Сейчас важнее штык, чем перо! Надо решительно покончить с красной заразой, стереть из нашей истории «черный день» германской армии восьмого августа восемнадцатого года.
Так Бергер попал в ряды «теневого рейхсвера». После подавления революции он работал во Франции, в представительстве одной из крупных фирм, — благо прилично владел французским языком. Потом вернулся в фатерланд и с помощью знакомых устроился в одну достаточно популярную и солидную газету, начав писать статьи в поддержку все более набиравшего силу национал-социалистического движения. Вскоре и сам вступил в НСДАП, а затем был принят в СС. Знание языков и политических течений привели его в РСХА.
В тридцать пятом он женился на Эмме фон Бютцов, кузине Конрада фон Бютцова, встречавшего его на аэродроме. Эмма, конечно, не очень красива, но мила, воспитанна, хозяйственна и имела весьма приличное приданое, а связи ее родни помогли Бергеру продвинуться по службе. В тридцать седьмом у них родился первенец. а в тридцать девятом второй ребенок.
Сейчас Отто часто думал о том, что поздняя женитьба имеет свои положительные стороны, — по крайней мере, его дети не успеют попасть на фронт этой войны. Эмма с детьми жила в небольшом имении в Баварии, поэтому пока не стоило опасаться налетов английской авиации, а там будет видно, что и как. Сослуживцам он объяснял, что хозяйство требует постоянного внимания, да и дети слабы здоровьем, им, мол, лучше жить вдали от шумного города. Про бомбардировки Берлина он, естественно, умалчивал.
А насчет красоты жены? Что же, он сам далеко не красавец. Это ли главное в жизни? Обладая острым, холодным и изворотливым умом, Бергер на полицейской работе стал еще более скрытным, осторожным и трезво рассчитывал каждый свой шаг как на службе, так и в семейной жизни. И пока еще не ошибался.
Машина проскочила через дамбу у озера, мимо старого костела, на белых стенах которого причудливой вязью лежали тени голых деревьев, освещенных выглянувшим из-за туч солнцем, и въехала по мосту в ворота замка.
— Половину здания занимает госпиталь люфтваффе, — вылезая из автомобиля, пояснил Бютцов, — а в другой располагаюсь я и мои люди.
Бергер осмотрелся. Здание замка со всех сторон охватывало двор: высокие окна, толстые стены, на флагштоке башни — приспущенное белое полотнище с красным крестом.
— Я приказал приготовить для вас комнаты на своей половине. Прошу! — беря под руку гостя и ведя его к дверям, сказал хозяин.
Распахнув дверь, он повел обер-фюрера по лестнице наверх.
— Обед готов. Надеюсь, не откажетесь?
— Пожалуй, — согласился Бергер, проходя через приемную в кабинет и бросив оценивающий взгляд на вставшего при их появлении пожилого человека в штатском.
— Кто? — спросил обер-фюрер, когда Бютцов плотно закрыл двери.
— Мой переводчик, — тонко улыбнулся Конрад. — Местный, фамилия Сушков.
Пожав плечами, Бергер снял пальто, подошел к умывальнику, тщательно намылив, вымыл руки. Вытирая их полотенцем, покосился на хозяина.
— Зачем он? Вы прекрасно владеете польским и русским. Не хотите, чтобы окружающие знали об этом? Резонно… О, какой стол! Я начинаю чувствовать себя дорогим гостем.
— Ваших людей устроят и накормят, — усаживаясь напротив и ухаживая за гостем, сообщил Бютцов. — Какие новости?
— Недавно были новые испытания на полигоне, — пододвигая к себе тарелку, ответил Бергер. — Фюрер остался недоволен. Броня не выдерживает выстрела русского танка, а до бесконечности увеличивать ее толщину невозможно — теряются боевые качества машины, понижается маневренность, но секреты брони не наше дело. Как начальник СС и полиции безопасности Белостока Отто Гельвиц? Помог вам?
— Да, я ему очень признателен, — кивнул хозяин.
— У вас, видимо, фамильная любовь к замкам и поместьям, — заметил Бергер. — Помните Польшу сорокового, замок Пилецкого, начальника абверкоманды Руг-ге, полковника Марчевского, эмигранта Тараканова, оказавшегося агентом русской разведки?
— Еще бы, — помрачнел Конрад, дотронувшись кончиками пальцев до шрама на голове. — Он чуть было не отправил меня на тот свет. А как Марчевский?
— Авбер все еще носится с ним, — закусывая, ответил обер-фюрер. — Единственно, кого жалко, так это беднягу Байера, погибшего при взрыве в казино.
— Все еще подозреваете Марчевского? — усмехнулся Бютцов.
— Слишком мало информации, одна интуиция, — откликнулся гость.
Конрад снова дотронулся до шрама и из-под полуопущенных век бросил испытующий взгляд на Бергера: неужели тот догадывается о его тайне или знает о ней? Тогда, в сороковом, Бютцов работал в Польше под именем русского эмигранта Вадима Выхина и выявил проникшего в абвер английского агента Дымшу, а потом вышел на след русского разведчика, скрывавшегося за чужим прошлым некоего Владимира Тараканова. Англичане и русские охотились за картотекой бывшей белопольской разведки, попавшей в руки абвера. В Берлине изготовили ложную картотеку и сумели всучить ее англичанам, но настырный русский докопался до настоящей. Попытка задержать его окончилась неудачей, а у Бютцова после этого появился шрам на голове — русский отлично владел оружием, и только чудо спасло штурмбанфюрера. Второе чудо сотворил он сам, когда убедил руководство в том, что советский разведчик тоже получил ложную картотеку. Тем более, при переходе границы Тараканову всадили пулю в спину, и вряд ли он выжил — Конрад и сам неплохо стрелял. А теперь обер-фюрер Бергер, облеченный доверием и полномочиями группенфюрера Этнера и самого рейхсфюрера Гиммлера, вдруг вспоминает о той, казавшейся давно забытой, истории? Почему? Догадывается о промахе своего дальнего родственника по линии жены или точно знает? Но если он знает и молчит, то…
Тем временем Бергер встал, отбросив салфетку, подошел к окну, выходившему в парк, достал сигару.
— Благодарю, Конрад, обед великолепен, — прикурив, он выпустил синеватый клуб ароматного дыма и слегка отодвинул занавеску. — Чудный парк. Чье это имение?
— Один из замков Радзивиллов, владевших несметными сокровищами. Вы когда-нибудь слышали о знаменитых двенадцати апостолах? Нет? У князя были двенадцать апостольских фигур из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями. Одной из этих статуэток хватило бы, чтобы оплатить все затраты экспедиции Наполеона в Египет. Говорят, они до сих пор здесь.
— Поэтому в парке копошатся саперы? — ткнув сигарой в сторону окна, желчно усмехнулся Бергер. — Вы неисправимый романтик, Конрад.
— Мы уже нашли несколько бесценных полотен, спрятанных в подвалах, — сообщил Бютцов. — Поэтому содержание здесь саперов полностью себя оправдывает. Русским было некогда заниматься поисками сокровищ Радзивиллов. Да они и не очень-то в это верят. Хотя, когда они пришли сюда во время войны с Наполеоном, искали.
— Это были другие русские, — отошел от окна обер-фюрер. — Я приехал, чтобы ускорить проведение операции «Севильский цирюльник». Поэтому и спрашивал о контактах с начальником СС и полиции безопасности Белостока. Вы готовы? Берлин давно начал свою работу через нейтральные страны.
— Да, — подобрался Бютцов. Разговор пошел о серьезных вещах, и стоит быть внимательным, очень внимательным. Бергер не любит повторять дважды, а его мысли, пусть даже высказанные не до конца, нужно ловить налету. Он большой мастер длинной политической интриги, у которого есть чему поучиться. — Начальник местного гестапо в детали не посвящен, но будет четко выполнять наши указания. Абвер в полной готовности к своим функциям в операции. Люди подобраны, роли распределены.
— Вот и начнем, — как бы подводя итог, сказал Бергер.
— Я провожу вас в ваши комнаты, — предложил Конрад.
— Распорядитесь, чтобы переводчик не торчал в приемной, — бросил Бергер, вновь отходя к окну. Бютцов вышел.
Обер-фюрер посмотрел на заснеженный большой парк, на темные фигурки саперов, возившихся на берегу скованного льдом озера, на удлинившиеся тени деревьев — солнце клонилось к закату, зимой рано темнеет. Небольшая стая ворон кружилась над вершинами деревьев, видимо выбирая место для ночлега; вокруг садившегося солнца клубилась красноватая туманная дымка, обещая на завтра мороз с ветром; в стороне, похожие на темно-серые призрачные горы, плыли по небу снеговые облака.
— В Польше тоже был парк, — тихо сказал обер-фюрер, задумчиво побарабанив пальцами по чисто протертому стеклу.
Ночь выдалась морозной, ясной. На небе блестели мелкие холодные звезды, казавшиеся застывшими в невообразимой вышине колючими снежинками, снег под сапогами тонко взвизгивал, и Сушков, чувствуя, как зябко пробирается под пальто мороз, невольно прибавлял шаг, пытаясь согреться. От холода сильно ныла давно покалеченная нога, и он прихрамывал еще больше — от боли и от торопливости, но ничего не мог с собой поделать.
Городок с наступлением темноты притих, вжавшись своими домами глубже в сугробы, как будто желая зарыться в них, сделаться совсем незаметным, потерянным и забытым всеми на страшной и проклятой войне. Да разве забудут про тебя в лихое времечко, дадут жить и дышать спокойно, пусть даже с голодным брюхом?
Прохромав мимо костела, Сушков отметил, что в домике ксендза тусклым красноватым светом светится окошко, закрытое изнутри занавесками: не спит пан, занят какими-то делами. Впрочем, в других домах тоже не спят: рано еще, всего девять вечера, а темнота на улицах как в преисподней. И луны почти не видно, только холодные звезды да белые саваны сугробов на улицах.
Свернув за угол узорной ограды костела, переводчик пошел прямо по проезжей части улицы — немцы в такое время обычно не ездят, а местным положено сидеть по домам — комендантский час. Опять же там, где тротуарчики, наросло много льда — недавно случилась оттепель, а куда хромому на лед?
Из переулка вышел комендантский патруль. Старший патруля подозвал Сушкова к себе взмахом руки. Осветив его лицо фонарем и узнав переводчика, попросил у него закурить.
«Экономит свои, сволочь», — подумал Дмитрий Степанович, стягивая с руки перчатку и доставая пачку сигарет.
Подошли стоявшие сзади солдаты, тоже протянули озябшие руки к раскрытой пачке. Сушков с любезной улыбкой на лице позволил им вытянуть по паре сигарет. Вместо благодарности старший патруля похлопал его по плечу, и немцы, съежившись от холода, побрели дальше. Чертыхнувшись про себя — надо же, шесть сигарет утянули, а это те же деньги в оккупации, переводчик захромал к старым торговым рядам на базарной площади.
Перебравшись через наметенные ветром сугробы на площади, Сушков нырнул в узкий переулочек, застроенный ветхими домишками с низкими, подслеповатыми окошками, покрытыми слоем наледи. Прижавшись к закрытым воротам одного из дворов, затаился, выжидая, не появится ли кто бредущий следом за ним? Стоял, терпеливо снося стужу, стараясь не переступать ногами, чтобы не скрипеть снегом, и, подняв клапан треуха, пытался уловить далеко разносящийся в морозной тишине звук чужих шагов. Нет вроде никого, можно идти дальше.
Переулочек вывел на параллельную улицу — такую же темную, заснеженную. По узкой тропочке, протоптанной между заборами, Сушков пробрался на зады домов, снова немного постоял, чутко прислушиваясь и всматриваясь в темноту, потом захромал мимо колодца к крыльцу одного из домиков, постучал в дверь.
— Кого господь послал? — донесся через несколько минут из-за двери женский голос.
— Михеевна? Открывай, это я! — притоптывая ногами на морозе, поторопил Сушков. — За валенками пришел.
Дверь открылась — и его впустили внутрь. Пройдя следом за пожилой, закутанной в большой клетчатый платок женщиной через сенцы, переводчик оказался в освещенной самодельной лампой комнате.
Рыжеватый мужчина, сидевший за столом, поздоровался с ним и кивнул на табурет.
— Садись, стягивай одежду и сапоги, грейся. Михеевна! Подай человеку валенки с печи, небось ноги задубели.
Размотав шарф, Сушков снял пальто, с трудом стянул с ног сапоги и с удовольствием сунул ноги в поданные Михеевной теплые валенки с обрезанными голенищами.
— Возьми там, во внутреннем кармане пальто, — велел он старухе. — Принес вам кой-чего.
— Спаси Христос, — та забрала сверток и исчезла.
Чувствуя, как разливается по телу тепло и перестает ныть больная нога, как отмякает после мороза, переводчик закурил, угостив сигаретой хозяина.
— Прилетел сегодня, — наконец сообщил Сушков. — Важный, высокого роста, худощавый, волосы редкие, с сединой. — Звания не знаю: он был в кожаном пальто с меховым воротником, без погон, но фуражка черная, эсэсовская. Либо генерал, либо полковник, не меньше. Уж больно они перед его приездом суетились. И комнат много отвели ему. Жить, как я понял, будет в замке. Да, с ним еще два эсэсовца приехали, я видел в окно, как они из машины выходили, а потом меня из приемной выгнали.
— Та-а-а-к, — протянул хозяин. — Гостек дорогой пожаловал. А зачем? Чего они говорили, слышал?
— Нет, — отрицательно мотнул головой Дмитрий Степанович, — не удалось. Потолкался внизу, но наша охрана сама толком ничего не знает. Устал я, сил просто нет, — пожаловался он, жадно досасывая окурок сигареты. — Все время как на иголках. Шеф без конца проверяет, разговоры заводит какие-то скользкие.
Примяв окурок в глиняном черепке, заменявшем пепельницу, Сушков тяжело вздохнул. Не силен он в риторике, а то бы в жутких красках описал свое состояние: ни на минуту не отпускающий, сосущий под ложечкой страх, бессонные ночи, когда вздрагиваешь от каждого звука и все время чудится, что за тобой пришли. Второй год тянется этот кошмар, с зимы сорог первого. В оккупации и так не сладко, а тут еще работаешь на немцев да связан с лесом. Добро бы еще никогда не видел, как в фельдгестапо выбивают из задержанных показания, с хрустом ломая пальцы, загоняя иглы под ногти, отливая потерявших сознание водой из ведра, а когда такое видишь, поневоле начнешь за себя бояться: немцы совсем не дураки, имеют опытных полицейских, гораздых на разные выдумки.
Уже почти год рыжеватый мужчина принимает у себя переводчика, но они так и не стали ни друзьями, ни даже приятелями, делают общее опасное дело, уважительно относятся друг к другу и все. Иногда Сушкой думал, что рыжеватый Прокоп — так звали хозяина — оставленный здесь при отступлении чекист, а может быть, такой же, как он сам, человек, случайно увязнувший в хитросплетениях подпольной работы волею военного времени.
Часто переводчик, отправляясь по распоряжению своего шефа в особняк на Почтовую, боялся увидеть на очередном допросе рыжего Прокопа, сидящего со скованными руками перед следователем гестапо: шеф иногда любил оказывать любезность людям из этого ведомства, предоставляя им своего переводчика. И каждый раз шагая к уютному особнячку, Сушков потел от страха, с трудом переставляя ноги, — вдруг его заманивают в ловушку, вдруг немцам уже все известно про него? А потом наступала тошнотворная слабость я хотелось напиться в доску, чтобы забыть мучительные кошмары и проклятый страх.
Неужели Прокоп не понимает, как устаешь от такой жизни, от вечного раздвоения, подслушиваний, подглядываний, запоминания текстов переводимых документов? Устаешь чувствовать на себе иронично-изучающий взгляд шефа — Конрада фон Бютцова, неизменно ровного в общении и приветливого, но иногда вдруг поглядывающего на своего переводчика глазами сытого кота, еще вдоволь не наигравшегося с пойманной мышью. Сушков просто кожей чувствовал этот взгляд, но ни разу не сумел поймать выражение глаз шефа, — стоит только обернуться, как встречаешь лениво-доброжелательную улыбку, И эти его доверительные разговоры о жизни, о прошлом, о роли маленького человека на большей войне. Поневоле о многом задумаешься.
Когда он, не в силах более терпеть, жалуется Прокопу, тот досадливо отмахивается — нервы, мол, напряженке, даром ничего не проходит, надо держать себя в руках и делать дело, а страшно всем, только идиоты не ведают сомнений и страхов. И обещает вскорости помочь уйти в лес, вот еще немножко — и все.
Уже не раз приходя к Прокопу в его старенький домишко, где он квартировал у Михеевны, Сушков надеялся услышать долгожданные слова, что конец, можно уходить, но появлялись неотложные дела, партизанскую разведку интересовали новые и новые сведения, и уход в лес опять откладывался. Теперь снова придется ждать — наверняка последует задание узнать, кто прилетел и зачем.
— Не хотел я тебе, Дмитрий Степанович, до времени говорить, — извиняюще улыбнулся Прокоп, — но надо. Узнали мы, чем твой шеф занимается. В СД он служит.
— А как же лесоразработки, рабочая сила, — побледневшими губами прошелестел Сушков. Боже, с кем же он рядом провел почти год! То-то так неспокойно на сердце в последнее время, чувствовал, значит, что все не так просто. — Он же тут по снабжению. И госпиталь?
«Догадывался, — хотел возразить переводчик. — Тебе сколько раз толковал, а ты отмахивался от моих подозрений: нервы, мол, всем страшно». Но промолчал.
— Сам посуди, — хрустнул пальцами Прокоп, — станут они из Берлина важную шишку присылать незнамо к кому? Значит, твой Бютцов тут какие-то интриги плел втихую, а теперь его либо инспектировать приехали, либо еще чего. А вот чего? И кто приехал? Узнать надо — кто и зачем?
Он встал, подошел к печи, потрогал ладонью чайник. Достал две кружки, поставил их на стол.
— Давай, Дмитрий Степаныч, чайку соорудим. Кипяток знатный, а заварка из брусничных листьев с травками, организму польза, да и с морозу хорошо. — Налив в кружки, Прокоп опять уселся за стол, подпер голову кулаком и задумчиво сказал — Кабы раньше у нас связь была со своими, давно бы про твоего хозяина узнали. Вот ведь, болячка, — хлопнул он ладонью по столу, — ведь мы его подстрелить хотели, когда он по лесозаготовкам шастал! Однако сберегли, чтобы на тебя подозрения не пало, а кабы раньше знать, так расстались бы и уволокли живьем в лес. Ну, да чего уж теперь. На тебя надежда, постарайся.
— Я попробую, — прихлебывая горький напиток, пообещал Сушков. Только сейчас, думаю, работать станет сложнее.
— Это да, — согласился хозяин явки. — Валенки тебе впору? Забирай. Не новые, конечно, зато завоеватели не позарятся…
Домой переводчик шел уже в валенках, неся сапоги под мышкой. Так же холодно мерцали звезды в темном небе, поскрипывал снег, поднявшийся студеный ветер гнал легкую колючую поземку, наметая на дороге небольшие сугробы и разбойно посвистывая в ветвях голых деревьев, словно грозя неведомому путнику, заплутавшемуся в ночи.
К станции назначения поезд подходил утром. Продышав в замерзшем окне дырочку, Ромин приник к ней глазом, вглядываясь в медленно проплывавшие мимо закопченные пакгаузы, длинные ряды разбитых платформ на соседних путях, высокие, с одной стороны словно зализанные ветрами сугробы и торчащие из них темные свечи столбов телеграфной связи. В коридоре вагона уже суетились пассажиры, противно хныкал чей-то ребенок, беззлобно переругивались два инвалида, поминутно поминая матерей Гитлера и Муссолини.
Напарник ушел — его очередь вылезать на мороз с флажками в руке, а Ромин, наслаждаясь теплом, прикидывал: как сегодня пройдет встреча с нужным человеком? Вдруг тот запоздает, куда тогда деваться? Вон какое солнце светит за окнами вагона — красное, мохнатое, в ореоле морозной дымки. Прижало, наверное, стужей, никак не меньше минус двадцати, а в дохлой железнодорожной шинельке не очень-то попрыгаешь на улице.
«Если связной запоздает или не придет — беда. Домой к нему заявляться нельзя, а вечером поезд уйдет обратно, и тогда новая встреча состоится не раньше чем через неделю. За это время чего только не передумаешь, каких снов не перевидишь. Начнет глодать тебя червь сомнений: отчего не пришел человек в условленное время, что с ним случилось, вдруг взяли?
Нет, такие мысли лучше гнать от себя подальше, не то так нервы измотаешь, что не сможешь, как последняя пьянь, спокойно ложку ко рту поднести, всю похлебку расплескаешь. А ведь еще работать надо, обязанности справлять, разговаривать с разными людьми, улыбаться им, шутить, интересоваться положением на фронтах и делать вид, что радуешься успехам и огорчен неудачами, хотя все совсем наоборот. Влез вроде бы в чужую шкуру, приросла она к тебе, стала родной — нигде не жмет, не давит, а вот поди же, стоит задуматься и поволноваться, как вроде отходит она от кожи, эта чужая шкура-личина, и видно тебя самого — голенького, не защищенного, и мысль ужасная бродит: вдруг заметит кто и, как в той сказочке, начнет тыкать пальцем и орать — голый! А на крик сбегутся… Хотя зачем крик, для НКВД достаточно слабого шепота.
Противно так жить, когда все вокруг чужие — и русские и немцы, оставшиеся за линией фронта. И никто не помилует, не захочет понять, простить, пожалеть. А ведь бывает, слабнет духом человек, хочется ему тепла, участия, поплакаться кому-нибудь в жилетку, но некому слово сказать, даже своему напарнику Ромин полностью не доверял и подозревал, что тот приставлен за ним смотреть — как бы не переметнулся на другую сторону.
Прислушавшись к голосам за тонкой перегородкой служебного купе, он нагнулся, проверил, хорошо ли спрятан под полкой ящик с рацией. Убедился, что все нормально, полез наверх, к багажной полке, стянул с нее свой мешок, развязал. Порывшись в нем, вытащил пистолет, передернув затвор, спрятал оружие под телогрейкой и надел сверху шинель. Застегнулся, попробовал достать оружие. Чертыхнулся, — быстро вытащить пистолет никак не удавалось, — переложил его в карман шинели. Обычно он избегал носить оружие, но тут дурные мысли набежали, душа с места тронулась, а пистолет вроде придавал спокойствия и уверенности. Правда, если пустить его в ход, то не останется никаких путей к отступлению, ну да чего уж…
Поезд замедлил ход и остановился, громче загалдели пассажиры в коридоре, загремели поклажей, хлопнула дверь тамбура, потянуло сырым холодом.
Дождавшись пока все стихнет Ромин вышел из купе. Напарник выметал мусор из тамбура.
— Я в город, — проходя мимо, бросил Ромин.
Спрыгнув на перрон, он быстро пошел к вокзальному зданию. Мороз обжигал лицо, ветер забивал дыхание, и пришлось поднять воротник шинели, спрятав в него нос. Ромин вышел на привокзальную площадь и смело углубился в переулки. Через несколько минут впереди показался рынок.
Торговали вяло: торговки и торговцы отчаянно мерзли, покупатели торопливо перебегали между рядами, грустно поглядывая на выставленные для продажи картины, лампы, подвенечные платья и самодельные зажигалки. Цена высока, поскольку хлеб без карточек дорог, но зато на продукты или табак можно выменять практически любую вещь, а если предложишь бутылку спиртного, тем более.
Бодро сделав круг по рынку, Ромин заметил топтавшегося около одной из немолодых торговок человека в замасленном ватнике и больших серых валенках, с самодельными галошами из автомобильных покрышек. Сердце радостно екнуло — пришел!
Осторожно оглядевшись по сторонам — нет ли чего подозрительного, не проявляет ли кто из посетителей рынка повышенного интереса к человеку в ватнике, Ромин подошел ближе:
— Прикурить не дадите?
Тот достал из кармана спички — деревянный гребешок, военное производство, отломил одну и протянул Ромину.
— Чиркнуть нечем. Табачку не найдется?
— Холодно здесь. Отойдем, насыплю.
Они пошли к выходу с рынка. По дороге Ромин несколько раз оглянулся, но на них никто не обратил внимания. Несколько успокоившись, он завел связного в первое попавшееся парадное старого дома. Достал пачку махорки, сунул ему в руки.
— Держи, а то еще увидит кто. Принес? Давай скорее.
— На, — прижав к груди пачку махры, человек в ватнике подал Ромину туго свернутую бумагу. Тут пробы воды, шлака и данные о присадках. Когда будете в следующий раз?
— Через неделю, — пряча бумагу, выглянул из подъезда Ромин. Улица была пуста. — Лучше приходите на вокзал. Там у поездов народу больше, особенно когда отправление или состав подают. На рынке стало неудобно встречаться. Сможете?
— Постараюсь, — засовывая пачку табака в карман брюк, ответил связной. — К следующему разу добуду анализы проб металла. Денег привезите.
— Ладно. Все, расходимся.
Ромин первым выскочил на улицу и шустро пошел к вокзалу. Немного подождав, вышел и человек в ватнике. Поглядев вслед уходящему железнодорожнику, он направился в сторону заводов и вскоре затерялся среди домишек окраины.
Профессор жил на Садовом кольце, недалеко от прежней Сухаревки, и Волков решил отправиться к нему пешком. Какой уж тут путь — пройтись до Сретенки, а там переулками.
Выйдя из подъезда, он минутку постоял, полной грудью вдыхая свежий морозный воздух. После прокуренных кабинетов на улице слегка закружилась голова, возникло шальное желание сделать приличный крюк через улицу Кирова и Бульварное кольцо — подышать, размяться, проветрить голову от постоянного недосыпания. Дома он бывал редко, раз в две-три недели, — взять смену белья, помыться, немного отоспаться, если позволяли дела и начальство. Родные уехали в эвакуацию, квартира стояла пустая и пыльная, с нежилым сырым запахом, Антон вынимал из почтового ящика редкие письма, поднимался к себе, ставил на плитку чайник и нетерпеливо надрывал конверты, желая скорее прочесть написанные матерью строчки.
Можно считать, его родным повезло — муж сестры Иван забрал их с собой при эвакуации дипломатического корпуса, а позже Антон переслал им свой офицерский аттестат. Но как редко удается зайти в свою квартиру. Опустив руку в карман шинели, Волков нащупал ключи от дома и, грустно улыбнувшись, зашагал мимо клуба имени Дзержинского к Садовому кольцу.
Снег на улицах начал немного оседать, потерял свою белизну, потемнел и сделался жестким, а в воздухе явственно пахло весной — пусть еще далекой, но неизбежно должной прийти второй военной весной. Какой она будет? Конца войны пока не видно, довоенные заверения о том, что будем воевать малой кровью и на чужой территории, вспоминать теперь не принято, и более того — просто опасно. Накрепко забыт и прежний громкий лозунг: «Через неделю Варшава, через две недели — Берлин». Нет, в Берлин мы конечно придем, но когда? И сколько еще эта дорога потребует жертв на фронте и в тылу?
Помнится, в докладе на совместном торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы шестого ноября сорок первого года товарищ Сталин сказал, что за первые четыре месяца войны мы потеряли убитыми триста пятьдесят тысяч и пропавшими без вести триста семьдесят восемь тысяч человек, а раненых имеем миллион двадцать тысяч. За тот же период враг потерял убитыми, ранеными и пленными более четырех с половиной миллионов человек.
«Не может быть сомнений, — категорично заявил Председатель Государственного Комитета Обороны, — что в результате четырех месяцев войны Германия, людские резервы которой уже иссякают, оказалась более ослабленной, чем Советский Союз, резервы которого только теперь разворачиваются в полном объеме».
Антон невольно поежился. Резервы, конечно, разворачивались, но считать Германию ослабленной было, видимо, несколько преждевременным. Об этом нельзя говорить, но думать ему никто запретить не может, — думать, сопоставлять и анализировать. В сорок втором немцы опять перешли в наступление и нанесли серьезные удары, да и Сталинград потребовал от страны напряжения всех сил.
Одиннадцатого декабря сорок первого, выступая в рейхстаге, Гитлер тоже подводил некоторые итоги первых месяцев войны, огласив цифры потерь германской армии. По данным немецких штабов, с двадцать второго июня по одиннадцатое декабря германская армия потеряла убитыми около ста шестидесяти трех тысяч человек, ранеными — более пятисот семидесяти тысяч, пропавшими без вести — более тридцати трех тысяч. Всего семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать человек. Была названа и цифра общего числа русских пленных — три миллиона восемьсот шесть тысяч человек. Совинформбюро тут же опровергло эти цифры, указав, что за пять месяцев войны мы потеряли без вести пропавшими и пленными не более пятисот двадцати тысяч бойцов и командиров. Конечно, каждая из воюющих сторон стремилась преувеличивать потери противника и преуменьшать свои, но огромная разница в данных невольно заставляла задуматься.
И еще — известная нота народного комиссара иностранных дел товарища Молотова «О возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных», направленная двадцать пятого ноября сорок первого года всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения. Ведь не просто так она родилась?
Удивительно, что сотворил фюрер с трудолюбивой, музыкальной нацией за какой-то десяток лет. Или это все подспудно зрело в тайниках душ бюргеров и буршей, юнкеров и офицеров, лавочников и ремесленников? Работая за рубежом, Волков не раз слышал речи Гитлера. Ему не нужно было переводчика — прекрасно владея немецким, он с содроганием слушал, как динамик доносил до него голос «вождя»:
«Мы должны остерегаться мысли, сознания в должны подчиняться только нашим инстинктам. Вернемся к детству, станем снова наивными. Нас предают анафеме, как врагов мысли. Ну что ж, мы ими и являемся. Я благодарю судьбу за то, что она лишила меня научного образования. Я себя чувствую хорошо. Мы живем в конце эпохи разума. Суверенитет мысли является патологической деградацией нормальной жизни. Сознание — это еврейское изобретение, это то же самое, что обрезание, калечение человека… Ни в области морали, ни в области науки правды не существует. Только в экзальтации чувств можно приблизиться к тайне мира».
Бедная Германия, давшая миру столько гениев.
С декабря сорок первого прошло больше года, маршалы Ворошилов и Тимошенко успели показать себя — не та у них теперь слава, о которой раньше пели, не нашла она их под Ленинградом и Смоленском: потерн обеих сторон увеличились, напряженность на фронтах возрастает. Каждый день войны требует массы продовольствия, техники, боеприпасов, людских резервов, вооружения. А тут еще засела занозой около Москвы вражеская агентурная станция.
Почему генерал Ермаков не передал материалы в территориальные органы государственной безопасности, а поручил заниматься этим делом ему, майору Волкову? Что скрывается за не расшифрованными до сяк пор колонками цифр посланного за линию фронта сообщения немецких агентов, какая тайна?
Видимо, у генерала есть на то причины, о которых Антону пока неизвестно, но станцию надо обнаружить, узнать, о чем она передает, торопливо выстукивая в эфир шифровки. Кому — уже известно, но о чем, от кого получены передаваемые сведения?
Место, откуда велась передача, тухлое — в сельских пригородах трудно обнаружить и взять вражеских агентов: деревенские усадьбы под Москвой густо застроены, там дровяные сараи, подвалы, погреба, заваленные старым скарбом чердаки, многие дома и дачи давно пустуют. Милиция и военкоматы уже ориентированы, работают, ищут, но надо скорее, скорее!
Специалисты по дешифровке только разводят руками — ничего не получается. Генерал предложил привлечь к работе знакомого профессора математики, уже несколько раз оказывавшего помощь в разгадывании подобных ребусов. И вот Антон шагает к нему домой, положив в карман гимнастерки листочек с колонками цифр. Что-то скажет ему профессор?
На перекрестке регулировала движение девушка-милиционер. Из-под форменной шапки-ушанки выбилась светлая прядь волос, лицо на ветру раскраснелось, брови сердито нахмурены. «Совсем еще девчонка, — подумал Волков. — А тоже служит. Все война переломала, но привыкнуть к этому трудно. Умом вроде бы понимаешь, а сердце о своем говорит. Потом, когда кончится лихое время, станет трудно поверить, что все уже позади. Если, конечно, удастся дожить до того светлого дня…»
Посмотрев на огромный дом, стоявший за спиной молоденькой регулировщицы, он вдруг вспомнил, как осенью сорок первого решили вопрос о создании внутреннего кольца обороны города и начали распределять между сотрудниками управления огневые точки в домах на Садовом кольце — толстостенных, с узкими окнами, похожими на бойницы. Одному из оперуполномоченных из соседнего отдела, по горькой иронии судьбы, досталась в качестве огневой точки его же собственная квартира. А Москва готовилась к эвакуации и эвакуировалась, даже товарищ Сталин, как шепотком поговаривали, собирался уехать, но в самый последний момент передумал и остался.
Отыскав нужный ему подъезд, Волков поднялся на четвертый этаж — лифт не работал — и постучал в высокую, обитую черной клеенкой дверь.
Профессор оказался высоким бледным человеком немногим старше Волкова: коротко остриженный, с тонкой шеей, замотанной теплым шарфом. В накинутом на плечи большом клетчатом платке, он приоткрыл дверь, настороженно оглядел стоявшего на площадке Антона.
— Вы от Алексея Емельяновича?
Звякнула скинутая цепочка, и Волкова впустили в полутемную прихожую.
— Проходите в комнату, я сейчас. Шинель можете повесить сюда, — запирая дверь за гостем, хозяин показал на старомодную круглую вешалку, с подставкой для зонтов и тростей.
Антон разделся и прошел в комнату, заставленную старой, темной мебелью. За дверью стоял сервант с зеленоватыми стеклами в частых металлических переплетах, а на полу лежала облезлая медвежья шкура. Морда зверя злобно скалилась на каждого входившего, свирепо выпучив зеленовато-коричневые фарфоровые глаза.
— Подарок отца, в экспедиции убил, — объяснил профессор, входя в комнату следом за гостем. — Сейчас чайничек закипит, поболтаем, почаевничаем. Вас как величать прикажете? Антон Иванович? Очхор, как писали студентам в зачетках, а я — Игорь Иванович. Ну, рассказывайте, какие новости на войне? Вы, наверное, лучше нашего брата-обывателя осведомлены? Садитесь вот тут, здесь удобнее. Если хотите, курите, пепельница справа.
Он устроился в кресле напротив и, плотнее закутавшись в свой плед, с извиняющейся улыбкой заметил:
— Мерзну, топят плохо, а у меня болячек, как у жучки блох. Даже в ополчение не взяли. Вот и сижу тут, пишу, лекции читаю. Вы принесли это?
— Да, — Волков достал листок бумаги с колонками цифр.
— Интересно, — пробормотал тот, поднеся шифровку ближе к глазам. Антон заметил, как слегка подрагивают тонкие, нервные пальцы Игоря Ивановича.
— Германские шифры принципиально отличаются от наших, — откладывая листок, тоном лектора сообщил профессор. — Вы знаете, на каком языке эти циферки — на русском или немецком?
Волков в ответ только развел руками.
— Понятно, — протянул Игорь Иванович. — Ладно, попробуем, поколдуем. Вообще-то, я специалист в другой области, но это, знаете ли, хобби, так сказать, конек, увлечение. Кстати, скажите мне, штатскому, почему ввели погоны?
— Традиции русской армии.
— Да, да, — покивал хозяин, — и враг опять тот же, и форма удивительно напоминает старую, царскую, только фуражки другие.
— Плохо помню, — улыбнулся Антон. — Может, я пойду?
— Что вы, что вы, — вскочил Игорь Иванович, — без чая ни в коем случае не отпущу. Скучно бывает, — пожаловался он, расставляя на столе чашки, вазочку в тоненькими черными сухариками и голубое блюдце с двумя кусками пиленого сахара. — Вот, чем могу, не откажите ради бога.
— Неудобно, право, — засмущался Волков. Рядом с ним профессор казался подростком, неимоверно вытянувшимся вверх, но не нагулявшем на костях ни жира, ни мяса. «Не хватало только объедать его, — подумал Антон, — знал бы, прихватил чего с собой».
— Мои уехали, бедую один, — наливая чай, по-свойски рассказывал хозяин. — Хорошо, соседка заходит, помогает. С Алексеем Емельяновичем мы соседями по даче были, дружили. Как его семья, нормально? Вот и хорошо. Пейте, чай настоящий, осталось немного, иногда балуюсь.
«Как он тут один справляется, — подумал Волков, беря чашку. — Наверняка к быту не приспособлен, не знает, как толком карточки отоварить, чего сварить, а надо еще стирать, убираться, работать. И вид у него какой-то шалый, глаза словно внутрь себя смотрят, а не на собеседника. Смотрят и удивляются увиденному внутри, не в силах поверить».
— На фронте были? — прихлебывая из чашки, поинтересовался Игорь Иванович и не дожидаясь ответа, продолжил, — А я, как мальчишка, сбегал. Честное слово. В ополчение не взяли, так я просто увязался за ними. Страшно… Танки немецкие, взрывы… Всю жизнь не везет — в первом же бою контузило, и меня отправили в тыл. Едва оклемался. Вот так. А в детстве болел долго, со сверстниками почти не общался — все больше со взрослыми, с отцом, он у меня был астрономом, с мамой, их знакомыми… Постель, книги, долгие размышления, серьезные разговоры. Наверное, это и предопределило мою математическую специальность. Физика, математика, цифры, формулы для меня стали звучать музыкой. Для теории не надо никуда идти, достаточно головы, листа бумаги и карандаша. Кстати, вы никогда не задумывались над тем, почему нам жизнь выдает билет только в один конец, от рождения до смерти, и нет возможности вернуться на те станции, которые твой поезд уже миновал? Можно решиться сойти раньше, не доехав до конца, но вернуться — нет!
Волков притих в кресле и слушал этого странного человека с глазами мальчика, познающего устройство сложного окружающего мира и не перестающего удивляться его гармонии и загадкам. Разве с ним говорит сейчас Игорь Иванович? Нет, он говорит сам с собой, проверяя на безмолвном слушателе свои догадки, строит гипотезу, ищет, ошибается и снова идет к истине — где ощупью, а где при свете знаний. Такие влюбленные в науку чудаки и движут ее вперед, не страшась заглянуть туда, куда еще никто даже не думал заглядывать.
— Представьте себе, — продолжал между тем хозяин квартиры, — что время — это бесконечно длинный поезд. В одном вагоне сейчас мы с вами, а в других, отделенных от нас жесткими физическими законами, существа, которых мы еще не знаем и не понимаем, едут такие же люди, только на какую-то долю бытия позади или впереди. И нет никаких сил, способных нам помочь перейти из одного вагона в другой. А по параллельным путям идут другие, такие же длиннющие составы, и в них Наполеон в ночь перед Ватерлоо и Лев Толстой, переписывающий «Анну Каренину». Вот бы поглядеть, а? — Щеки у Игоря Ивановича порозовели, жесты стали порывистыми, он увлекся и забыл про плед, сползший с его худых плеч. — Для нас время — это отсчет периодов вращения земли, а для других миров, для галактики? Может ли оно сжаться, подобно пружине, или, подобно той же пружине, растянуться? Как овладеть им, заставить служить себе? Кто ответит? Никто, кроме нас. Вот так. А мы воюем, жжем города, сажаем людей в тюрьмы за то, что они думают и поступают иначе, чем общепринято, а это не нравится другим людям, присвоившим себе право диктовать остальным, как думать и как поступать. Не смотрите так, я не сумасшедший, просто мы еще так многого не понимаем в предназначении человечества и растрачиваемся по пустякам… Кстати, вам это надо срочно?
— Да, — поставив на блюдце чашку, ответил Антон. — Очень.
— Понимаю, — сникая, пробормотал хозяин. — Я постараюсь. Оставьте свой телефон, когда будет готово — сообщу. Приходите ко мне еще, мы с вами так приятно поговорили. Правда-правда. Придете?..
Глава 3
Уютно устроившись на заднем сиденье автомобиля Бергер бегло просматривал свежие газеты. Правда, свежими их можно считать только здесь, поскольку они приходят из Германии с опозданием на несколько дней — опять все те же досадные задержки транспорта, а это и срывы перевозок, так нужных фронту.
На последнем листе, внизу, в черных рамках с изображением Железного креста над текстом, опубликованы сообщения о погибших: «Доктор Отто Кауфман погиб во время воздушного налета на Киль», «Смертью героя пал в бою в Атлантическом океане лейтенант флота Гейнц Бонау», «Не вернулся из ночного воздушного боя капитан люфтваффе Эрих Штендер»…
Недовольно скривив губы, обер-фюрер свернул в трубку газетные листы и, похлопывая ими по ладони, сказал сидевшему рядом фон Бютцову:
— Опять потери. Эти некрологи только капля в море. Боимся пугать обывателя тем, что творится на восточном фронте. А мы с вами, Конрад, бездарно растрачиваем драгоценное время. Вчера опять звонил Эт-нер: торопит.
— Такие вопросы не решаются в пять минут, — завозился Бютцов — Надеюсь, группенфюрер это знает?
Бергер не ответил. Он смотрел в окно на бледный частокол берез, между которыми обнажилась почти черная, протаявшая под пригревшим солнцем земля. Неожиданно быстро потеплело, потекли ручьи, дороги начало развозить, поэтому любезное приглашение Конрада отправиться на охоту обер-фюрер воспринял без энтузиазма. Кроме того, охота — это лес, а лес — банды партизан. Неприятно выступать одновременно в роли охотника и дичи. Конечно, не стоит показывать своего опасения непредвиденных встреч с бандитами, тем более, что Бютцов заверил в полной безопасности устроенной им поездки, но все же.
Объяснить ему, что созревание прекрасного замысла операции еще не есть его столь же прекрасное воплощение в жизнь, что наверху, там, в коридорах РСХА в Берлине, варится своя густая похлебка, которую, торопливо обжигаясь, придется расхлебывать им, сидя здесь, в белорусском городке? Это Конрад знает. Знает, как подстегивает руководство, знает о лисьем характере группенфюрера Этнера. Надо бы поговорить о более серьезных вещах, связанных с будущим Германии и их семьи, — как-никак, а они все же родственники, — но Бергер ждал, терпеливо выбирая момент для такого разговора. Долгое время он не виделся с Конрадом, а служба в их ведомстве накладывает на человека определенный отпечаток. Поэтому обер-фюрер пристально приглядывался к своему родственнику и ученику, прежде чем завести разговор на интересующую его тему, ставшую после Сталинграда жизненно важной.
Нет, они обязательно поговорят. Но все будет зависеть от того, какие сделает для себя выводы Бергер: если Конрад остался на прежних позициях — разговор пойдет в одном русле, а если обнаружатся какие-либо изменения в его воззрениях, то он окажется совершенно иным. За время пребывания здесь Отто Бергер еще не решил этой задачи, хотя виделся с фон Бютцовым ежедневно, поэтому и тянул, выжидал, отбиваясь по телефону от понуканий Этнера, требовавшего ускорить работу. Наваливались срочные дела, здешняя обстановка требовала внимания и решения ряда проблем — обер-фюрер должен был еще проинспектировать деятельность СС и полиции, но своего замысла он не оставлял.
— Группенфюрер знает, — прервав затянувшееся молчание, сквозь зубы процедил Бергер. За рулем автомобиля сидел Канихен, его личный, многократно проверенный охранник, вступивший в СС еще в начале тридцатых годов, поэтому обер-фюрер мог говорить относительно свободно. Относительно потому, что он давно перестал доверять практически всем, только Конрад составлял некоторое исключение, да и то еще надо поглядеть, каков он теперь.
Впереди шел автомобиль с охраной. Канихен уверенно вел машину, строго держась по его колее, — на дороге могли быть мины. Вспомнив об этом, обер-фюрер желчно усмехнулся:
— Тишина, покой… А ведь вы, Конрад, живете здесь почти как на фронте, где привыкают к свисту пуль, вою снарядов и считают себя в полной безопасности, спрятавшись в окоп. Все относительно. А в лесах, — он показал за окно машины, — прячутся банды партизан, как правило, связанные с русской разведкой. В городе существует подполье, но его временное бездействие отнюдь не ваша заслуга.
— Почему? — не согласился Бютцов. — Город уже неоднократно чистили. Однако местные большевики после каждого разгрома с завидным упорством вновь и вновь создают сеть явок и умело работают по выявлению провокаторов. Вычистим — притихнут, а потом снова поднимают голову.
— Их консультируют. — Бергер достал сигару, прикурил. — Бывшие учителя, партийные работники и агрономы не знакомы со специальными методами полицейской работы. Я изучил материалы и уверен: в партизанских бандах есть профессиональные военные и засланные сюда чекисты, занимающиеся разведывательной деятельностью. Именно они и помогают вновь восстанавливать порванную сеть явок, тем более, что мы, как ни стараемся, но не уничтожаем ее всю целиком. Обязательно кто-нибудь да остается, ускользает и начинает все сначала. Да, упорство завидное, но в городе есть люди НКВД, которых пока не выявили или часть из них уничтожили, так и не сумев установить, кем они на самом деле являлись. Учителя и партийные работники, командующие партизанскими бандами и исполняющие там обязанности комиссаров, не смогли бы долго выстоять одни. Понимаете? Любой фанатизм — ничто без должного опыта подпольной работы, а советская разведка не простой противник, тем более, что они здесь действуют на своей территории. К началу решающей фазы операции все должно быть готово к полному уничтожению подполья в городе и, особо, к выявлению и захвату людей, связанных с НКВД. Это непременное условие, которое я поставил начальнику СС и полиции безопасности Лидену. Несколько одновременных ударов! В том числе и по лесным бандам, чтобы загнать их в болота или понудить уйти в другие районы. Пока этого не сделают, я не могу быть уверен в успехе. Вы сами не боитесь осечки?
— Исключено! — уверенно ответил Конрад.
— Посмотрим, — задумчиво протянул обер-фюрер, вертя на пальце платиновый перстень — подарок рейхсфюрера Гиммлера. — Долго еще ехать?
— Уже прибыли, — отозвался Бютцов, вглядываясь через плечо водителя в убогие домики деревеньки. — Здесь раньше было охотничье хозяйство поляков. Оно осталось почти нетронутым. Кабанов и оленей не обещаю, но зайцев могу гарантировать.
Машины свернули на узкую дорогу, обсаженную по краям старыми березами. На крыльце охотничьего домика, поджидая приезда гостей, стоял Сушков, обутый в валенки с обрезанными голенищами. Почтительно поклонившись, он открыл двери. Не взглянув на него, Бергер прошел внутрь.
Гостиная с большим камином и расставленными вокруг овального стола темного дерева стульями, обитыми лосиными шкурами, ему понравилась. В окна светило солнце, на стенах темнели пятна, оставшиеся от висевших там ранее портретов, и обер-фюрер подумал, что если бы не война и приведшие его сюда важные дела, было бы хорошо провести несколько дней в этом старом доме.
Это ведь великолепное удовольствие — разжечь дрова в камине, усесться в кресло, вытянув к огню усталые ноги, выкурить сигару, отдыхая от забот и наблюдая, как тихо угасает за окнами вечер, незаметно переходя в ночь, приносящую легкий морозец, сковывающий до утра раскисшую грязь и лужи. Свежий деревенский воздух, охота, жаркое, рюмка водки перед ужином, дружеская беседа…
— Канихен, принесите из машины ружья, — не оборачиваясь, приказал обер-фюрер, точно зная, что телохранитель стоит у него за спиной. — Клюге останется здесь, пусть ждет нашего возвращения.
Бютцов подошел к окну, поглядел во двор. Канихен подскочил к машине, вынул из багажника футляры с охотничьими ружьями, смеясь, что-то сказал стоявшему у крыльца Клюге. Тот знаком подозвал к себе Сушкова и угостил его сигаретой…
Обедали поздно, да и обед ли это был или ранний ужин? Раскрасневшийся, разрумянившийся от ветра и свежего воздуха, обычно бледный, Бергер сидел за столом в распахнутом меховом жилете, разогретый выпитым вином и удавшейся охотой.
Бютцов сам ухаживал за высоким гостем, подкладывая ему на тарелки лакомые куски зайчатины, с радушной улыбкой предлагая отведать истинно русских закусок — квашеной капусты с яблоками и соленых грибов. Обер-фюрер охотно пробовал, пил водку, шутил, и Конрад тихо радовался, что наконец-то исчезла холодноватая сдержанность, так присущая Бергеру, уступив место благодушию и родственной приязни.
— Война непозволительно затянулась, — попыхивая сигарой, доверительно говорил обер-фюрер. — Всегда приятно вести короткие, победоносные войны, а не затяжные, связанные с огромными потерями. Вы здесь, к счастью, еще не знаете выматывающих душу налетов английской авиации. Хотя трудно сказать, что хуже — партизаны или бомбежка.
Конрад, рассеянно улыбаясь, согласно кивал и подливал гостю вина, не забывая наполнять и свою рюмку. Сизыми слоями плавал в гостиной сигарный дым, желто светилась сквозь него лампа, а Бергер говорил:
— К сожалению, русские быстро восстанавливают свой офицерский корпус, почти уничтоженный перед войной. Тогда избавились от людей, несогласных с позицией Сталина, Ворошилова и Буденного в отношении дальнейшего развития армии, расстреляли и сослали призывавших к увеличению темпов строительства военных объектов, реконструкции железнодорожных узлов, формированию воздушно-десантных частей и танковых корпусов. Политика, мой друг, и здесь сыграла свою роковую роль! Нежелание Буденного и Ворошилова поступиться своей концепцией главенства конницы привело на скамью подсудимых маршала Тухачевского и его друзей. Кстати, маршал был офицером одного из полков лейб-гвардии последнего русского императора и во время войны четырнадцатого — восемнадцатого годов, сидел в нашей крепости, в плену. С ним работали, но не так успешно, как с другими.
— Имеете в виду Власова? — Конрад встал, подошел к камину, переворошил кочергой почти прогоревшие поленья. Потом прошелся по гостиной, прислушиваясь к тому, что делается за ее дверями.
— Не только, — засмеялся обер-фюрер. — Своего военачальника Корка Советы подозревали в связях с нами и требовали рассказать о передаче представителям немецкого генерального штаба сведений о войсках Московского военного округа, не зная, что наш человек сидит у них под самым носом. Правда, потом они почти что нащупали его и сумели упрятать в тюрьму, но с началом войны вернули в действующую армию. Теперь он занимает ответственный командный пост.
Бергер примял в пепельнице окурок сигары и тут же достал новую. Раскурив сигару, он задул спичку и вопросительно посмотрел на Бютцова. В ответ тот чуть заметно кивнул.
— Налейте мне еще, — попросил обер-фюрер. — Вино французское? Нет? Но все равно очень неплохое, я даже не думал, что в России есть такие вина. Похоже на испанское.
— Из Крыма, — пояснил Конрад. — Скажите, неужели связанный с нами человек до сих пор у Сталина и его окружения вне подозрений? Как они решились выпустить его и направить на фронт?
— От безысходности! — довольно засмеялся Бергер. — Надо воевать, а у них не хватает толковых генералов для командования крупными соединениями. Даже фельдфебелю нужен опыт, а что уж говорить о генерале? У нас он проходит под псевдонимом «Улан», но вам, дорогой Конрад, я могу назвать его настоящее имя…
Стоя под дверями гостиной, Сушков нервно кусал? губы — немцы сегодня много выпили, возбуждены удач» ной охотой и спиртным, говорят громко, почти не таясь, — до него ясно доносятся их голоса. То, что он услышал, насторожило и испугало Дмитрия Степановича. Сначала он не собирался подслушивать, просто сидел в прихожей, где ему велел находиться Бютцов, и ждал, когда хозяева насытятся и отправятся либо в постели, приготовленные наверху, либо поедут обратно в город, — кто знает, что у них на уме?
В соседней комнате отужинали два здоровенных эсэсовца, приехавшие вместе с берлинским гостем, — и здесь они не расставались с автоматами, а на поясе у каждого висела кобура с парабеллумом. Съев по огромной порции жаркого и выпив бутылку водки, телохранители лениво играли в скат, шлепая истертыми картами по крышке стола. Один из них дал Сушкову пачку сигарет и немецкий иллюстрированный журнал, похвалив произношение переводчика и поинтересовавшись — не жид ли он? Услышав, что нет, довольно осклабился и хлопнул Дмитрия Степановича по плечу своей тяжелой лапой. Удалось узнать и их фамилии — один Канихен, что приблизительно можно перевести как кролик, а другой Клюге. Оба на зайчиков не похожи — рослые, широкоплечие, но глаза не глупо-пустынные, а цепкие, внимательные.
Перелистывая полученный от немца журнальчик и бездумно скользя глазами по фотографиям полуобнаженных и совсем голых красоток, Сушков сидел на стульчике и покуривал сигарету, краем уха жадно ловя доносившиеся из гостиной голоса. Сначала там говорили о каких-то родственниках, надоях и урожаях в поместьях, о здоровье и прошедшей охоте. Все это мало интересно — обычная болтовня за выпивкой. Потом стали обсуждать поражение Манштейна в донских степях, гибель армии Паулюса в котле под Сталинградом — тема запретная среди немецких офицеров, и Дмитрий Степанович насторожился.
Эсэсовцы в соседней комнате продолжали играть в карты, во дворе громко перекликались шоферы, прогревая моторы автомобилей, топал ногами на крыльце Замерзший часовой, а разговор в гостиной становился все интереснее.
Прислушавшись к звукам в охотничьем домике и не обнаружив в них ничего подозрительного, Сушков Встал, сделав вид, что он разминает затекшие от долгого сидения ноги. Держа журнал в одной руке, а потухшую сигарету в другой, Дмитрий Степанович немного постоял и наконец, решившись, сделал шаг в сторону гостиной. Остановившись, снова прислушался — ничего, все так же звучат возбужденные голоса за закрытой дверью, продолжают игру в карты эсэсовцы, топает ногами часовой на крыльце.
Немного успокоившись, переводчик, припадая да больную ногу, сделал еще несколько шагов ближе к дверям гостиной — голоса немцев стало лучше слышно, но зато теперь нельзя приглядывать за дверью комнаты, в которой расположилась охрана. Однако приходится выбирать — рисковать подслушивать, стоя под дверями в надежде услышать нечто значимое, или вернуться на место и пытаться ловить отдельные замечания.
Немного поколебавшись, Сушков выбрал первое и, сделав еще шаг, почти вплотную подошел к дверям и застыл, забыв о журнале и зажатой в пальцах потухшей сигарете, — немцы говорили об известных ему событиях конца тридцатых годов.
От неудобной позы ныла больная нога, от страха быть застигнутым при подслушивании бросало в пот и рубаха на спине намокла, но переводчик жадно слушал, стараясь запомнить каждое слово. И вот он услышал имя изменника!
Дмитрий Степанович вздрогнул и обессиленно прислонился плечом к стене — не может такого быть, неправда! Ему хотелось закричать, ворваться в гостиную, схватить со стола бутылку и с размаху разбить ее об прикрытый редкими волосами череп берлинского гостя, ней. Зачем тому лгать? Он среди своих. Ведь говорил же хозяин явки Прокоп о том, где служит фон Бютцов! И гость из тех же, только выше рангом. Еще никому здесь не устраивали охоты, еще ни к кому не ездили на поклон все местные немецкие власти, никого не охраняли так, как особу королевской крови. И разве могут они знать, что калека-переводчик стоит под дверями, жадно ловя каждое их слово?!
Неожиданно Сушков почувствовал, как его сгребла за шиворот чья-то сильная рука.
— Что тебе здесь надо?!
На переводчика смотрел Клюге. Смотрел с брезгливым недоумением, сердито сдвинув белесые брови. Из комнаты охраны выглянул Канихен, привлеченный шумом. В его руках был автомат.
— Шеф звал, — нашелся Дмитрий Степанович, — мне так показалось, я и подошел.
Эсэсовец отшвырнул его к стене. Больно ударившись об нее спиной, Сушкой невольно застонал. Клюге эло пробурчал:
— Убирайся отсюда!
Переводчик захромал к. своему стулу, уселся на него, чувствуя, как внутри все дрожит от испуга. Каким чудом немец сумел подкрасться к нему совершенна неслышно? Или, увлекшись, Сушков забьгл обо всем, позволил себе потерять осторожность?
Телохранители, оглядываясь, вернулись в свою комнату, оставив ее дверь открытой настежь, сели за стол, взяли карты, продолжили игру, изредка бросая подозрительные взгляды на понуро сидевшего с потухшей сигаретой в руке переводчика.
Дрожащими руками достав спички, Дмитрий Степанович раскурил сигарету. Что теперь будет? Наверняка эсэсовцы доложат обо всем своему хозяину. Или нет? Зачем он им — немолодой, покалеченный человек, уже второй год прислуживающий новым властям? Подозревать его в попытке покушения на высокого берлинского гостя просто смешно, а остальное, похоже, этих горилл не слишком интересует. Хорошо бы, если так, а вдруг нет?! И что дальше надумают делать пирующие в гостиной: отправятся спать или поедут в город? От этого сейчас многое зависит. Надо как можно скорее попасть к Прокопу, рассказать ему об услышанном. Пусть там, в Москве, знают об измевнине, примут меры…
Открылась дверь гостиной, выглянул Бютцов, позвал Клюге, приказав ему готовить к выезду машины.
Дверь в гостиную осталась открытой, Сушков видел уставленный закусками к полупустыми бутылками большой стол, потухающий камня, пластами висевший в воздухе ароматный сигарный дым, берлинского гостя, натягивавшего при помощи Бютцова кожаное пальто с меховым воротником.
— Слишком опасно играете, Конрад! — с трудом попадая в рукава, ворчал Бергер. — Пригреваете человека из местных. Полагаете, что если он имеет связь с партизанами, то это поможет вам сохранить свою голову? Она слетит скорее — в случае утечки информации. Поверьте!
Его олова словно ударили переводчика — он застыл на стуле, не в силах даже пошевелиться от ужаса. Бежать? Куда, если вокруг немцы? Или в госте говорит обычная подозрительность — не мог же Клюге уж «успеть ему сказать о стоявшем под дверями русском, они же еще не разговаривали. Да, но если еще не сказал, то скажет!
Поддерживаемый Конрадом под локоть, Бергер важно прошествовал к выходу, стараясь по возможности тверже держаться на ногах. Во дворе хлопнули дверцы автомобиля, пробежали мимо уже одетые телохранители с автоматами в руках. Вернулся Бютцов, довольно потирая покрасневшие, замерзшие руки. На секунду остановился перед потерянно сидевшим на стуле переводчиком.
— Кажется, вы начинаете злоупотреблять моим доверием?
Дмитрий Степанович встал, пытаясь в сумраке прихожей разглядеть выражение глаз своего странного шефа, но тот, уже повернувшись к нему спиной, бросил»
— Подайте пальто. Мы возвращаемся в город. Поедете в машине охраны. И… не суйте никуда свой нос Сушков, а то потеряете его вместе с головой. Ясно?
Он шел, меся разбитыми рыжими сапогами талый снег, смешанный с грязью на раскисшей дороге. Идти со связанными за спиной руками было тяжело и неудобно, ноги скользили, расползаясь в стороны на жидкой грязи, под которой местами лежал непротаявший лед, но он шел, зная, что если упадет, то могут и не довести, пристрелить без всякой жалости, а жить очень хотелось.
Почему-то вдруг вспомнилась слышанная в детстве поговорка «Сей в грязь — будешь князь». Скоро ли начнут сеять? Небо над головой высокое, голубое, чистое; снег почти стаял, но в кюветах и под деревьями он еще держится темными пластами — тяжелыми, холодными. Оттуда веет сыростью и призраком возвращения метелей: зима еще окончательно не сдалась, может вернуться с ледяными ветрами, поджать льдом лужи и грязь, запорошить землю снегом — колючим, жестким.
— Ну, сталинский сокол! Шагай! — ткнули его в спину, зло и сильно, так, что он едва удержался на ногах.
«Развлекаются, сволочи, — подумал он о полицаях. — Нажрались самогонки и изгаляются».
Конвоиры, шагавшие сзади, закурили. Табачный дымок защекотал ноздри, вызвав мучительное желание затянуться хоть разок, но он только сглотнул слюну и стиснул зубы, — кто же ему даст покурить? Эти, одетые в темные шинели злобные мужики с винтовками? Нет, от них дождешься, ткнут еще горящей цигаркой в губы и потом долго будут сгибаться от животного хохота, радостно хлопая себя по ляжкам. Лучше терпеть…
Утро двадцать второго июня сорок первого он встретил на пограничной заставе — прослужил год, собирался жениться, писал письма девушке в Ленинград, звал приехать к нему, но все получилось иначе. И принял лейтенант погранвойск Семен Слобода свой первый бой. Как ему в тот день удалось остаться в живых, выбраться из кромешного ада? И сейчас трудно поверить, что выжил, выбрался.
Бой с наступающими немцами застава вела в окружении. Подробности того страшного дня он помнил плохо: вокруг горело, ухали взрывы, без конца трещали выстрелы, стонали раненые. Убило пулеметчика, и он лег за «максим»: стрелял, пока не кончились патроны, потом взял винтовку. Когда патронов ни у кого уже не осталось, командир вывел из полыхавшей конюшни тревожно ржавшего единственного уцелевшего коня, вскочил в седло, взмахнул шашкой — он раньше был кавалеристом — и повел их в последнюю атаку. Горстку измученных, раненых пограничников.
Немцы не стреляли. Видимо, они онемели от такого — пошатываясь, на них шли пять-семь человек с винтовками наперевес, направив в сторону врага примкнутые штыки, а впереди, на коне — командир с обнаженным клинком в руке.
Их хотели взять живыми. Командир чертом вертелся в седле, зарубил двоих, но его скосили вместе с конем автоматной очередью. Семен взял на штык рослого немца, наверное, не рассчитал удара, и штык застрял в теле врага. Он нагнулся, чтобы поднять оружие убитого, но получил сильный удар по голове.
Очнулся ночью. Кругом лежали убитые — свои и чужие. Где-то неподалеку раздавались голоса — бродили немецкие похоронщики.
Прислушиваясь к звукам чужой речи, лейтенант Слобода определил, куда ему надо ползти, чтобы не попасть в руки врага. По дороге к зарослям кустов он прихватил автомат убитого немецкого солдата и забрался в бурьян. Маленько отдышавшись, попробовал встать. Голова жутко болела, до нее нельзя было дотронуться даже, кончиками пальцев — тут же словно взрывался в ней снаряд, грозя разнести череп на куски. Опираясь на попавшую под руку палку как на костыль, он медленно побрел к знакомому хутору.
К утру добрался до жилья, постучал в окно. Хозяева перевязали ему голову, дали хлеба и показали заброшенную лесную дорогу, ведущую на восток. Уже выйдя на нее, он обнаружил, что многоопытный хуторянин, пока его жена бинтовала раненому голову куском чистого полотна, успел спороть с гимнастерки пограничника петлички с кубарями.
Так и блукал он от одной глухой деревеньки к другой почти неделю, пока не наткнулся на небольшую группу окруженцев. Дальше пошли вместе. При переходе через шоссе напоролись на немцев и в скоротечном ночном бою потеряли почти половину группы.
Старшим по званию среди них был майор-танкист, родом из Куйбышева. Он предложил остаться в лесах и организовать партизанский отряд, чтобы мстить врагу здесь, в Белоруссии. Слобода и несколько других окруженцев согласились, а другие ушли дальше, и больше он о них ничего не узнал.
Началась партизанская жизнь. Поначалу собирали оружие на местах боев, принимали в отряд местных жителей, закладывали взрывчатку на дорогах. Был просто праздник, когда на их минах подорвались и сгорели шесть вражеских машин. Потом разгромили немецкий обоз. Вскоре об отряде заговорили в округе, но и немцы обратили на него внимание.
Один из местных полицаев — Данька Беркеев — прекрасно знал все окрестные леса. Он и вывел карателей к землянкам базы отряда «Мститель». Быть бы и Семену Слободе убитым в том жестоком бою, но спас случай — заболел лейтенант малярией и отлеживался в доме связного. Там его и нашли уцелевшие партизаны. Слобода поклялся убить предателя, но не успел — немцы его сами повесили через несколько дней. Почему? Никто не знал.
Оставшиеся в живых партизаны сменили место лагеря и опять начали боевые действия, стараясь все время перемещаться, А с деревьев уже падал лист, заморосили чудные дожди, предвещая скорую стужу.
В такой-то вот пасмурный, ненастный денек и вывел на них карателен другой предатель — Ванька Тимофеенко. Партизаны отдыхали в старых сараях, стоявших около леса. Полицаи сумели незаметно окружить их и открыли бешеный огонь. Сараи загорелись, пламя жадно охватывало дощатые стены и соломенные крыши, удушливый дым забивал дыхание, ел глаза. Решили прорываться. Вырваться из кольца удалось только пятерым, в том числе и Семену. Опять спас случай — полицаи приехали на телеге, и партизаны выскочили прямо на нее, убили возчика и погнали к лесу.
Через несколько дней, грязные, усталые и голодные, они пришли к связному в деревню Волчки. Дождавшись наступления ночи, пробрались к дому, стукнули в окно. Хозяин устроил их на сеновале, а утром в деревне появились немцы. Как потом узнал пограничник, староста заметил в ночной темноте мелькнувшие тени и выследил их, сообщил в комендатуру.
Сдаться партизаны отказались. В первые же минуты боя погиб связной, давший им приют, — он тоже занял свое место в строю с винтовкой. Вторым убили приятеля Семена — Петю Голубицкого, веселою черноволосого хлопца из Кривого Рога, потом погиб Женька Колодяжный, неунывающий одессит с множеством наколок на груди и руках.
Раненый Слобода и второй партизан — Тимофей Морозов, тоже из окруженцев, попали в плен. Избитых и окровавленных их отправили в комендатуру. По дороге Морозов предпринял попытку бежать и ею застрелили, а пограничника привезли в районный городок.
И опять судьба оказалась благосклонной к лейтенанту Семену Слободе, если, конечно, можно считать благосклонностью то, что он сразу не попал в гестаповскую тюрьму, а был отправлен в лагерь, расположенный рядом с городком. Однако в тех условиях это была отсрочка, означавшая надежду на жизнь, а не долгую мучительную смерть в камере пыток. «Новый порядок» уже набрал обороты своей тупой и страшной машины уничтожения, и тюрьма, маленькая, старая, оказалась переполненной до невозможности, поэтому партизана временно поместили в лагерь.
Кормили там жидкой баландой из подмороженной гнилой брюквы, раз в день давали маленький кусок хлеба с отрубями, пленные умирали пачками, а трупы штабелями складывали у стен дощатых бараков, а потом увозили в балку. Мысль о побеге тут же завладела Семеном. Он решил как-нибудь изловчиться и попасть по другую сторону ограды из колючей проволоки вместе с похоронным транспортом. Благо, рана его была не тяжелой и он мог достаточно свободно двигаться. Но не удалось.
Зато удалось другое. В лагере нашлись люди, уже сплотившиеся в организацию, и, зная о раненом партизане, — для всех Слобода назвался Ивановым, — решили ему помочь. Поздно вечером его тайком провели в соседний барак, дали еще хранившую запах чужого пота одежду с грубо намалеванным номером на груди и предложили переодеться. Так он принял имя умершего летчика Грачевого, сбитого в воздушном бою над Березиной. Кругом все одинаково грязны и давно небриты, одинаково светились лихорадочным голодным блеском глаза на казавшихся восковыми исхудавших лицах, одинаковые потертые шинели, разбитые сапоги, рваные гимнастерки. Найти его среди такой массы схожих людей немцам не удалось. К тому же они, видимо, и не очень-то стремились искать, поверив, что пленный партизан умер.
Через два месяца Слобода бежал с группой новых товарищей. Уже имея опыт скитаний по лесам, он вывел их к затерянной в глуши деревушке, где они отогрелись, вымылись, поели. Начали искать связь с партизанами и почти уже нашли, как их взяли полицаи, рыскавшие по округе.
Снова лагерь, снова баланда из гнилой брюквы, снова колючая проволока на грубо отесанных столбах забора. Домой пленных немцы больше не отпускали, перестав заигрывать с населением и корчить из себя благодетелей белорусского народа. Ширилось партизанское движение, и завоевателям не хотелось собственными руками пополнять ряды народных мстителей. Потянулись однообразно страшные лагерные дни: холод, снег, принудительные работы по расчистке дорог, построения на плацу, лай свирепых овчарок, тревожный свет прожекторов по ночам…
Весной он бежал второй раз, вдвоем с татарином Наилем. Фамилии его он не знал, да и не стремился узнать.
Наиль, стройный, кареглазый, горячий, уговаривал пойти на восток, но Слобода не согласился: фронт далеко, это он знал, дойти не удастся, и надо скорее искать партизан. Пограничный и партизанский опыт лейтенанта помог обмануть погоню и скрыться, но меньше чем через месяц они вновь оказались в неволе, — полунемой маленький сынишка приютившей их крестьянки проговорился на улице, что в их хате на чердаке прячутся два дядька. Об этом узнал местный полицай Коваленко и вместе с дружками повязал беглецов.
Теперь Наиля и Слободу отправили уже в другой лагерь, где Семен привычно назвался фамилией Грачевого. Принимая их, комендант пригрозил расстрелом за попытку побега и предупредил, что если они все же сумеют убежать, то за это повесят половину барака, а это двадцать пять человек за каждого. Снова построения на плацу и лай свирепых собак, снова тяжелая работа и миска тухлой баланды, а по ночам шелестящий осторожный шепот обитателей бараков и свет прожекторов, шаривших по территории лагеря. Так прошло несколько месяцев.
Однажды Семен увидел в лагере человека, расхаживающего вместе с немцами. Увидел… и сердце его болезненно сжалось — это был Данька Беркеев, тот самый предатель, что вывел карателей к землянкам отряда «Мститель». Как же так, его же повесили немцы?!
Но тут же Слобода оборвал сам себя — разве он видел, как вешали предателя, разве видел его тело? Нет, он только слышал о казни от других, в том числе говорил это и Тимофеенко, тоже переметнувшийся к немцам и указавший карателям место отдыха партизан. Но в том самом первом его отряде, состоявшем из окруженцев, знали, что Слобода пограничник, офицер. Если Тимофеенко специально распространял слухи о казни Беркеева, значит, он и раньше был связан с немцами, с Беркеевым, служившим в полиции, и следовательно, обязательно составил для гестаповцев списки известных ему партизан.
Плохо дело! Пустив слух о казни Беркеева, немцы перевели его в другое место, преследуя свои неизвестные нам пока цели, а теперь их прихвостень объявился здесь, в лагере. Зачем?
Вскоре стало ясно, что Данька узнал его, — они виделись, когда Семен вместе с погибшим майором-танкистом приходил в деревню, где жил Беркеев, пробравшийся к себе домой после разгрома его части. Наверное, он просто дезертировал, а партизанам наврал, боясь расплаты. Майор тогда предложил Даньке вступить в отряд или стать связным, и он согласился, выторговав себе отсрочку на несколько дней для отдыха после боев, а потом вдруг подался к полицаям и вывел немцев на базу отряда.
О списках, составляемых предателями для гестаповцев, Слобода узнал в лагере — среди пленных было много разных людей, досыта хлебнувших лиха войны и оккупации. Они же рассказали, что Данька указывал на Семена коменданту. Ждать вызова в комендатуру пограничник не стал — ночью, выйдя из барака, он попытался бежать, но был пойман, избит и посажен в карцер.
В январе Слобода снова бежал. Дерзко, прямо среди белого дня, когда их вывели на работу, но по снегу не сумел уйти далеко и его опять поймали.
— Упрямый, — обходя вокруг стоявшего в канцелярии лагеря беглеца, недобро бросил комендант. — Ты мне надоел, Грачевой! Я не люблю, когда помнят свою фамилию, вы должны знать только номер, но ты даже меня заставил запомнить, как тебя называют. Хватит! Доставило бы великое удовольствие увидеть, как ты навсегда высунешь язык в петле. Однако это слишком легкая смерть.
Долгие дни провел пограничник в холодном карцере. Комендант был садистски расчетлив: когда ему докладывали, что узник ослабел и может умереть, Семена силком волокли в лазарет, приводили в чувство, давали небольшую передышку, а потом снова отправляли в карцер. Это изматывало, все чаще появлялась мысль наложить на себя руки, только бы кончился кошмар издевательства, голода, побоев, унижения. И все же он надеялся снова бежать, вырваться из ада, дав самому себе приказ копить ненависть.
Неожиданно его вновь выпустили из карцера, недолго подержали в лазарете, а потом привели в канцелярию лагеря, где ждали два здоровенных хмурых полицая в черных шинелях. Комендант подписал бумаги, вложил их в конверт, опечатал и вручил старшему из полицаев.
— Все! — сказал он Семену. — Доброго пути!
И, зле усмехнувшись, коротко ударил в живот, а когда пленный согнулся от боли, врезал ему коленом по зубам…
В себя Слобода пришел во дворе, куда его выволокли полицаи. Немецкий комендант оказался мастак работать кулаками — в голове звенело, зубы, которыми Семенов раньше мог перегрызть проволоку, шатались, желудок сводило судорогами боли. С жуткой горечью вспомнился виденный еще в училище фильм «Если завтра война», в котором немцы бежали в панике от наших легких танков, горевших как спичечные коробки в сорок первом на неубранных полях. До Берлина и на самолете не достанешь, а немец вот он, рядом, лупит тебя по зубам, а ты и ответить не в силах, ослабевший от поноса, голода и побоев. Хотели остановить фашизм еще в Испании, когда он был далеко от наших границ, многие думали, что он там так и останется…
Полицаи привели его из лагеря в город, сдали в тюрьму. Прилизанный эсэсовец с одним кубиком в петличке черного мундира допросил Слободу. Сначала выяснял через переводчика биографию, согласно кивал, слушая, как пограничник рассказывал небылицы. О Грачевом Семен практически ничего не знал, кроме того, что он был летчиком, не знал даже, на каких машинах тот летал — на истребителях или бомбардировщиках.
Потом эсэсовец, пригладив ладонью аккуратно прикрывавшие лысину волосы, равнодушно сообщил через переводчика, что пленный лжет следствию, и предложил пока отправиться в камеру — подумать.
Пограничника отвели в низкое, полуподвальное помещение с прелой соломой на полу, забитое завшивевшими, грязными людьми. В камере было душно от запахов тел и испражнений и холодно — не топили, а на улице еще не лето, снег лежит.
На втором допросе эсэсовец прямо заявил, что ему известно о связях пленного с партизанским отрядом «Мститель», разгромленном осенью сорок первого, и Семен понял: теперь не вывернуться, поскольку Данька Беркеев точно его опознал и доложил немцам. Почему те так долго тянули — не ясно, но все же добрались до него и теперь уже из своих лап не выпустят — эсэсовец, это тебе не просто так! Переводчик бросал вопрос за вопросом, немец, слушая ответы допрашиваемого, презрительно щурился, медленно перебирая лежавшие перед ним бумаги.
— Вы офицер НКВД? — сказал переводчик. — Оставлены здесь при отступлении ваших войск?
Слобода в ответ промолчал и вообще перестал отвечать на вопросы. Его избили, отлили водой, снова избили…
Лежа на прелой соломе в камере, он решил, что это конец, но внутри все протестовало, не хотелось так кончать, помирая в вонючей камере в неизвестном городке, а не в бою, с оружием в руках, и вообще, не хотелось подыхать!
Однако вскоре бить его перестали, больше не вызывали на допросы, словно напрочь забыли о нем. Потом вдруг выдернули из камеры, привели в канцелярию тюрьмы, снова сдали под конвой полицаям и погнали к железной дороге. Посадили в вагон и повезли. Куда ехали — на восток или на запад, Семен не смог определить: им внезапно овладела тупая апатия, и, казалось, не было на свете ничего, способного вывести из этого состояния, но выйдя на разбитый, загаженный перрон неизвестной станции, он поглядел в высокое голубое небо, вдохнул полной грудью пахнущий весной воздух и опять жадно захотел жить.
Проверив веревку, стянувшую ему за спиной руки, полицаи-конвоиры потащили Слободу по грязной, разбитой колесами тяжелых немецких грузовиков дороге в город.
Впереди замаячили на фоне неба высокие башни костела, рядом с ним весело разбегались по сторонам разноцветные домишки пригорода. Вдалеке взблескивала на солнце вода — что там, река, пруд, озеро? Через некоторое время справа осталась почти пустая рыночная площадь, зажатая со всех сторон добротными строениями, дорога стала суше, под грязью и талым снегом ноги почувствовали брусчатку мостовой. Редкие прохожие, завидя полицаев с винтовками и арестованного в мятой, рваной красноармейской шинели, опасливо жались к стенам домов или от греха подальше сворачивали в узкие переулки. Сухопарая бабка в темном платке, стоявшая в подворотне, перекрестила Семена на католический манер, что-то шепча сухими бледными губами.
Улица тянулась в гору, поднимаясь к окруженному темно-красным кирпичным забором зданию с массивными, окованными железом воротами и вышками охраны по углам кирпичной стены. «Тюрьма», — понял лейтенант.
Один из полицаев постучал в калитку. Открылся глазок, выглянул немец в пилотке, лязгнув тяжелым засовом, впустил пришедших внутрь. Пройдя под аркой ворот — полутемной, с затхлым запахом сырой штукатурки, очутились во дворе. Подняв голову, Семен увидел множество зарешеченных окон — в некоторых, белыми пятнами, виднелись лица узников. Сзади с ржавым скрежетом закрылись вторые, внутренние ворота.
В тюремной канцелярии его сдали вместе с бумагами тощему, невзрачному эсэсовцу. Вскрыв поданный полицаем конверт, тот бегло просмотрел отпечатанные на машинке листы и знаком показал, что конвоиры могут быть свободны. Второй немец, сидевший за обшарпанным канцелярским столом, выдал полицаям расписку о приеме арестованного, и они вышли, тяжело бухая отсыревшими сапогами.
Эсэсовец позвонил по телефону, и через несколько минут в канцелярию вошел надзиратель, бренча связкой ключей на большом проволочном кольце. Семену разрезали стягивавшую запястья веревку, надели наручники и повели длинными гулкими коридорами, по лестницам и галереям тюремного корпуса. Около одной из камер надзиратель остановился, снял с пограничника наручники и, открыв тяжелую дверь с глазком, молча пихнул его внутрь.
Слобода осмотрелся. Дощатые нары с тощими матрацами, набитыми соломенной трухой, зловонная параша в углу, сделанная из обрезанной железной бочки, с насаженным на нее грубо вытесанным деревянным стульчаком, зарешеченное окно в глубокой амбразуре — решетки толстые, вмурованные в стену со знанием тюремного дела, на совесть; в камере человек пятнадцать, хотя она явно рассчитана на меньшее число заключенных.
При его появлении обитатели камеры зашевелились — на Семена уставились любопытные и безразличные глаза.
— Новенький, — прокашлявшись, полуутвердительно отметил нестриженый человек в мятом пиджаке. Волосы у него свисали сосульками на засаленный воротник. Голос был сиплый, застуженный. — Иди сюда. Вон, — он ткнул грязным пальцем в сидевшего на нарах старика, — наш староста. Курить есть?
Слобода отрицательно мотнул головой и подошел к старику. Тот указал на пол, где лежал свернутый, похожий на старый мешок, матрас.
— Располагайся пока здесь. Сегодня привезли? Да… Миска и ложка есть? Нету? Плохо… Дайте новенькому миску Гонты.
Подошел маленький, весь какой-то сморщенный человечек, одетый в дорогой, хорошо пошитый, но давно потерявший свой вид мятый костюм и грязную белую рубаху. Сунул в руки Семена алюминиевую миску. Поблагодарив, пограничник опустился на матрас — ноги устали, тело болело и мучила неизвестность: где он, в каком городе, что это за тюрьма?
— Военный? — оглядывая новичка, спросил староста. — Солдат, офицер? Пленный?
— Солдат. — Семен не был расположен к откровенности, зная: в камере могут находиться провокаторы, специально подсаженные немцами. Лагерный опыт научил его многому.
Кое-как устроившись на своем жестком и вонючем ложе, он начал приглядываться к сокамерникам. Один из них лежал на нарах и тихо стонал. Сиплый нестриженый мужчина, первым обратившийся к Слободе, мочил в миске с водой тряпку и прикладывал ее к лицу лежавшего. У самого сиплого тоже разбито лицо, а кисть правой руки замотана окровавленным лоскутом, видимо оторванным от подола нижней рубахи. И у других узников заметны на лицах следы побоев. Двое молодых парней шушукались, забившись в угол нар, но на них никто не обращал внимания. Закутанный в рваное тряпье человек молча сидел на полу у стены камеры и не отрываясь смотрел в одну точку перед собой. Проходя мимо него к параше, «сморщенный» тихо бросил:
— Очнись, Лешек!
Но тот даже не повернул головы.
— Тебя как зовут? — спросил староста у Семена.
— Грачевой, — ответил Слобода.
— Верующий? — помолчав, поинтересовался старик.
Пограничник только горько усмехнулся — что за странные вопросы?
— Верующему легче, — печально вздохнул старик, — вера помогает на пути испытаний, как посох страннику.
Слобода промолчал. Может быть, старик прав, но вера у всех разная — один верит в обязательное торжество справедливости, другой в Магомета или Иисуса Христа, третий только в самого себя, четвертый — в невозможность изменить предначертанность судьбы. Во что или в кого верить теперь ему, лейтенанту погранвойск НКВД Семену Слободе, принявшему имя умершего в лагере военнопленных летчика Грачевого?
Отсюда вряд ли убежишь — двойные ворота, высоченные стены, на окнах решетки чуть не в руку толщиной, многочисленная охрана, по углам кирпичных стен вышки с вооруженными солдатами и прожекторами, а за дверями камеры — запутанные галереи и коридоры тюремного корпуса. Неужели здесь, на вонючем матрасе, расстеленном на полу, его последнее пристанище, пока он еще числится в живых?
— Где мы? — спросил пограничник.
— В тюрьме СД, — снова вздохнул староста, — в Немеже. Слыхал про такой тюремный замок, хлопче?
— Доводилось, — помрачнел Слобода. Ему действительно приходилось слышать об этой тюрьме еще там, в лагере.
Незаметно стало смеркаться. Над дверью камеры тускло светила электрическая лампочка, забранная колпаком из частой проволочной сетки. Где-то в нижних галереях слышался стук черпака о край котла, и заключенные глотали голодную слюну. Семену объяснили, что кормить их будут только завтра — на сегодня пайку получили до того, как привели новенького.
Маленький сморщенный человечек вдруг начал рыться в своих вещах. Достав ложку, он подошел к Слободе и со смущенной улыбкой протянул ее:
— Возьмите… На память.
Потом он снял пиджак и бережно укрыл им стонавшего человека, лежавшего на нарах. Сидевший рядом патлатый мужчина, которого Семен успел про себя окрестить Сипатым, благодарно пожал маленькому человеку локоть.
— Зачем он отдал? — вертя в пальцах ложку, недоумевающе спросил Слобода у старосты. — У него лишняя? А сам как?
— Ему больше не понадобится, — тихо ответил старик. — А ты бери, обычай. Потом сам будешь все раздавать в один из вечеров. Мечется пан коммерсант, предчувствует, — кивнул он на раздававшего свои вещи сморщенного человечка.
— Что? — не понял Семен, а сердце тревожно ворохнулось в груди, ожидая недоброе.
— Конец, — горестно опустил голову староста. — Его уже неделю на допросы не вызывают. Значит, все. Если перестали вызывать, то жить остается не больше недели, а у него седьмой день и, наверное, последняя ночь. Здесь камера блока смертников!
Начальник СС и полиции безопасности Лиден приехал в точно назначенное ему время. Стоя у окна, Бергер видел, как тот вылезал из машины — нескладный, длинный, как жердь, в туго перетянутой ремнем черной шинели.
Зная о послужном списке и отличиях начальника СС и полиции, Бергер подумал, как обманчива бывает внешность человека — на первый взгляд неотесанный деревенский чурбан из добрых детских сказок, но только на первый взгляд. За год Бютцов сумел сколотить здесь приличный костяк: все отлично знают свое дело и работают весьма неплохо, изобретательно, стараясь не повторяться в тактических приемах. Приятно, когда можешь надеяться на непосредственных исполнителей и не бояться, что тебя не поймут с полуслова или поймут не так, как нужно.
Обернувшись на звук открывшейся двери, оберфюрер ответил на приветствие Лидена и пригласил его к столу.
Опустившись в глубокое кожаное кресло, начальник СС и полиции безопасности вопросительно посмотрел на берлинского гостя своими светлыми, глубоко посаженными глазами и немного приподнял брови, ожидая, пока хозяин первым начнет разговор.
Но Бергер не спешил. Надев очки в тонкой золотой оправе, он открыл корочки лежавшего перед ним дела и медленно перелистал странички документов с грифами секретности, отыскивая заранее сделанные им легкие карандашные пометки на полях. Захлопнув корочки, сияя очки и приветливо улыбнулся:
— Пока я доволен вами.
Отметив, как слегка порозовели мочки ушей начальника СС и полиции, пытавшегося скрыть радость, что сумел угодить высокому начальству, обер-фюрер продолжил:
— Наружное наблюдение не снимать ни днем ни ночью! Мы, к сожалению, не можем совершенно точно знать, когда он сделает свой главный ход. Каков этот ход, предугадать не так уж трудно, я даже могу с полной уверенностью предположить, что он сделает его сегодня вечером или, самое позднее, завтра. Многое будет зависеть от вашей оперативности, коллега! Западня должна захлопнуться плотно, но без стука!
— Понимаю, обер-фюрер, — заверил внимательно слушавший начальник СС и полиции безопасности.
— Из города никто не должен ускользнуть, — цепко посмотрел ему в глаза Бергер. — Одновременно начнется карательная экспедиция. Ваши люди надежны, проверены на деле? Я, конечно, читал бумаги, но хотелось бы знать ваше личное мнение.
— Да, оберфюрер, вполне надежны и обладают должным опытом. К тому же каждого страхуют.
— Не забудьте, как только закрутится шарманка, не останется времени, — напомнил Бергер, угощая начальника полиции сигарой. — Все должно быть так плотно пригнано, чтобы не сунуть в щель даже кончик ножа! И не жалейте о потерях, они окупятся. Ваши соседи предупреждены?
— Мы сочли это преждевременным, — стряхивая столбик пепла в хрустальную пепельницу, ответил Лиден.
— Пожалуй, — протянул обер-фюрер, — потом нам еще придется бог знает сколько ждать, но даже и в период ожидания будем наступать на врага. Пусть медленно, но неотвратимо.
Давая понять, что встреча подошла к концу, Бергер встал. Прощаясь с начальником СС и полиции, оказал тому честь, проводив его до дверей кабинета, и вернулся к окну.
Глава 4
Профессор позвонил почти через неделю. Извинившись за долгое молчание, он попросил Волкова немедленно приехать.
Шагая знакомым маршрутом, невольно отметил, как Москва меняется: строятся новые здания, выпрямляются улицы, уходят в небытие старинные памятники. Особенно это бросилось в глаза после долгого отсутствия, когда он вернулся в столицу из спецкомандировки.
Нечто теплое и родное безвозвратно уходит из привычного облика города — дома словно сдвигаются, насильно отжимая человека в глубь улиц, делая его все меньше и меньше в каменном муравейнике, заставляя чувствовать себя потерянным, ничтожно маленьким без неба над головой, без уютных двориков с лавочками и кустами пушистой сирени, скрывающих увитые плющом беседки, заменяя их гулкими дворами-колодцами многоэтажных громадин. А что будет дальше, через десяток-другой лет?
Чем-то порадует Игорь Иванович, книжный червь-профессор, для которого как родные и знакомые все математические формулы и сложнейшие теоремы, живущий в своем мирке, отгородившись незримой стеной от остальных. Антон уже знал о судьбе математика — его отца-астронома спасла от ареста только смерть. Сына спас Алексей Емельянович Ермаков, друживший с семьей умершего астронома. Наверное, поэтому Игорь Иванович и искал возможности помочь ему, ночи напролет ломая голову над загадками вражеских шифров. И не только лично генералу Ермакову, в котором видит черты настоящего большевика-ленинца, соратника и ученика Феликса Дзержинского, прошедшего школу чекистской работы под руководством первого председателя ВЧК. Он хочет помочь России, напрягающей силы в борьбе за свое существование, за жизнь и свободу других народов, порабощенных фашизмом, помочь братьям-славянам. Пусть эта помощь мизерна в масштабах полыхающей почти во всем мире войны, но и огромные здания строятся из малых кирпичиков, а вынь хотя бы один — нарушится строгая структура стен, она потеряет прочность, поползут сначала незаметные трещинки, а потом расширятся, грозя завалить все строение.
Почему же по достоинству не ценят ум и способности этого человека, способного сделать в одиночку то, что оказалось не под силу коллективу опытных дешифровщиков? Кому и зачем нужно подавлять таланты, «опуская» их до среднего уровня и позволяя издеваться над ними тупым бездарям? Или мы столь богаты талантами, что можем позволить себе считать гением каждого, или все дело в том, что гений может быть только один? Трудно разобраться во всем, крайне трудно…
Профессор ждал прихода Волкова с нетерпением — ему с первого раза понравился этот немногословный, одержанный человек с внимательными зеленовато-серыми глазами, доброжелательно-спокойный. Некоторые считают: выступающие буграми надбровные дуги — признак ограниченного ума, а у гостя, принесшего листок с колонками цифр, именно такое строение черепа.
Однако сам Игорь Иванович полагал, что это как раз наоборот — признак сильного интеллекта и развитой интуиции, тонкой, почти потусторонней, помогающей безошибочно улавливать сложные вещи в науке и взаимоотношениях между людьми. Интересно, не ошибся ли он на этот раз? Втайне от гостя профессор решил провести маленький эксперимент над ним — безобидный, внешне неприметный, но, по его мнению, весьма показательный. Как выйдет гость из испытания, приготовленного ему? Посмотрим…
Открыв Волкову дверь, Игорь Иванович немного удивился. Сегодня Антон пришел в штатском платье, сделавшем его почти неузнаваемым. Отметив, как ловко и привычно сидит на фигуре гостя хорошо пошитый, явно западный костюм, профессор пригласил его в комнату. Усадил за стол, принес чайник, поставил чашки. Смущенно улыбнувшись, Волков положил на край стола сверток.
— Тут немного к чаю. Не откажите принять.
— Что вы, зачем? — замахал руками хозяин. — Право, неудобно. Ну, если вы так настаиваете, то сейчас устроим пир. Не возражаете, если я включу патефон?
Не дожидаясь ответа, он прошел к стоявшему на тумбочке патефону и опустил иглу на пластинку.
Прозвучали первые такты вступления, и грассирующий голос Вертинского запел «Желтый ангел».
— Знаете, — Игорь Иванович налил в чашки чай, — именно эта пластинка дала мне толчок к решению.
— Да? — немного удивленно посмотрел на него Волков. — Почему?
— Попробуйте угадать, — улыбнулся хозяин.
— Китай? — вопросительно поднял брови гость. — Но какая связь?
— Браво! — хлопнул в ладоши профессор. — Изумительно, просто изумительно. Скажите, как вы догадались?
— О чем, о Китае? — недоуменно развел руками гость. — Это несложно. Вряд ли содержание песни связано с задачей, но вы говорили именно о ней, а ее исполняет только Александр Вертинский, который в Шанхае, а это Китай. Значит, что-то связанное с Китаем, но вот что именно? Тут я бессилен.
— У вас сильное логическое мышление, — уважительно поглядел на него хозяин, — но всей специфики вы, естественно, знать не можете. Пейте чай, а я попробую объяснить. Не знаю, правда, как получится. Видите ли, я пришел к выводу, что данная криптосистема отличается применением не одного, а двух различных ключей для шифрования и дешифрования. Трудность решения в том, что до сего времени неизвестен достаточно эффективный алгоритм разложения большого составного числа на простые множители. На первый взгляд данный шифр кажется простым и схема привлекательной для ее решения в математическом отношении, но это только на первый взгляд. Видимо, подобной ошибки не избежали ваши специалисты, поскольку примененная неизвестными шифровальщиками система достаточно сложна. Однако это, как говорится, семечки. Секрет в другом.
— В чем же?
— Для шифрования часто используются специальные трудности математических задач. Например, задача об укладывании ранца. Вы, конечно, о ней никогда не слышали? Я так и думал. Понимаете, если используются математические трудности, то операции шифрования и дешифрования достаточно просты, но имеют массу сложностей для посторонних, пусть даже и специалистов по криптограммам. Я долго ломал голову, слушал музыку, и вот на патефонный диск легла пластинка Вертинского «Желтый ангел», — профессор сложил руки на груди и победно посмотрел на гостя. — Я догадался! Они использовали одни из вариантов старой китайской теоремы об остатке для математической основы шифрования и дешифрования. Потом стало проще: все свелось к решению системы линейных уравнений, полученных из алгоритма шифрования.
— У вас так просто, — отставил чашку Антон.
— Просто! — чуть не подпрыгнул от возмущения Игорь Иванович. — Ничего себе! Потом я чуть голову не сломал: формулы, химические символы…
— Что? — обалдело поглядел на него Волков. — Как вы сказали? Формулы? Какие формулы? Это что же, шифровка в шифровке?
— Ага, — довольно потер руки профессор, — и я так сначала подумал. Пришлось сунуть нос в справочники. Речь идет о стали. Вернее — о броневой стали. Короче, о производстве танков!
Антон был потрясен — он ожидал чего угодно, но не этого. И сразу же появилась другая мысль: танки не строят в Москве! Здесь не плавят броневую сталь, не собирают из ее листов боевые машины, а агентурная станция немцев работала именно из восточного пригорода столицы. Почему? Как к радисту попадают сведения о броне, каким путем? И разве сам процесс плавки секрет, разве во всем мире ученые, занимающиеся металлургией, не знают, как выплавить броню, что добавлять в металл для прочности? Люди уже десятки сотен лет выплавляют различные металлы, делают сплавы, строят печи и прокатные станы. Что кроется за химическими символами и формулами, кто их передает, как?
— Но здесь не производят танков, — доставая портсигар и взглядом попросив у хозяина разрешения закурить, сказал Волков. — И какие секреты в выплавке стали?
— Основное дело в примесях, — доливая себе в чашку кипятку, пояснил Игорь Иванович. — Они для стали то же самое, что для человека витамины. Да мало ли секретов: какая футеровка из огнеупорного кирпича на внутреннем своде печи, как очищать регенерационные блоки, как месить огнеупорную глину для летков, как загружать мульты — знаете, такие длинные корыта, подающие в печь сырье.
Слушая его, Антон жадно затягивался папиросой. Табак был сыроват, плохо тянулся, потрескивал, оставляя на желтоватой бумаге гильзы коричневые пятнышки никотина. С производством броневой стали Волков совершенно не знаком, а теперь придется браться за учебники, чтобы получить хотя бы приблизительное представление о том, что может интересовать врага. Сколько новых проблем потянет за собой расшифровка перехваченного сообщения, а у Козлова есть уже и другие — станция продолжает выстукивать в эфир группы цифр. Меняют волны, время и дни связи, сеансы у них не часты, но работают, гонят за линию фронта информацию, готовую обернуться не одной бедой. А он, майор Волков, до сих пор еще ищет.
Новые слова профессора отвлекли Антона от его мыслей.
— Война заставила значительно сократить сроки производства танков и другой техники, — говорил Игорь Иванович. — Мы этого достигли путем применения автогенной сварки, заменившей клепку при соединении частей корпуса боевых машин. В Москве живет физик Петр Леонидович Капица. Еще в тридцать девятом году он создал установку, дающую тридцать литров жидкого кислорода в час, а это основа для автогенной сварки. Сейчас закончена работа над установкой, дающей двести литров кислорода.
— Я, пожалуй, пойду, — потушив папиросу, встал Волков. — Спасибо вам, Игорь Иванович, за чай, и не знаю, как благодарить вас за помощь.
— Уходите, — с сожалением протянул профессор. — Оставляете меня одного? М-да, хотя иногда я думаю, что в наше время лучше быть одному. Спокойнее как-то. Не считайте меня законченным эгоистом, но правда, спокойнее на душе. Кругом люди гибнут, похоронки идут, госпитали забиты, бомбежки… Вы женаты? Простите, конечно, мое любопытство.
— Нет. Есть мама, родные, они в эвакуации. Я считаю, что всегда должны быть люди, которые тебя ждут. Тогда легче вернуться.
— Понимаю, понимаю, — покивал Игорь Иванович. — Вы — люди другой профессии, прямо скажу, не всегда для меня приятной и понятной. Вам, наверное, виднее, но представьте, каково будет тем, кто вас ждет, если не вернетесь? — он прищурился и пытливо поглядел Антону в глаза. — И ведь когда-нибудь придется отчитываться за все, сделанное вами до войны и во время нее. Каково тогда будет тем, кто ждал? Впрочем, это схоластика, а жизнь и во время войны остается жизнью…
Он проводил гостя в прихожую. Волков надел пальто и, держа шапку в руке, сказал:
— Нам сейчас о многом трудно судить, Игорь Иванович. И вам и мне. Я понял, о чем вы говорили, и поверьте, что если придется отчитаться, то я и многие из моих товарищей сделают это безбоязненно. Наша совесть чиста, как и руки, потому что мы всегда защищали Родину от настоящих врагов, а не мнимых.
— Простите, если обидел, — отвел взгляд профессор. — Заходите на чай. У меня хорошая коллекция пластинок, послушаем, поболтаем. Бывает же и у вас свободное время. А, Антон Иванович? Или вы ко мне только так, по долгу службы?
— Не обещаю, но постараюсь, — пожимая на прощание руку хозяина, ответил Волков. — Война, дорогой профессор, война.
Закрыв за ним дверь, Игорь Иванович вернулся в комнату, поставил на патефон пластинку Вертинского и опустился в кресло. Слушая музыку, раздумывал, как причудливо переплетаются людские судьбы, как написанная в далеком Китае эмигрировавшим из России певцом мелодия неожиданно помогла раскрыть тайну шифра. Но что поможет раскрыть тайники человеческой души?..
Ермаков, как пасьянс, разложил перед собой на столе расшифрованные радиограммы и перекладывал их, меняя местами. Так, похоже, теперь они выстроились не по времени перехвата, а по логике содержащихся в них сведений.
«Мрачная картинка-то», — раздраженно отметил генерал, в который раз пробегая глазами по ровным машинописным строкам.
В начале сорок третьего, сразу после завершения работы над промышленным образцом ТК-200 — установки для получения двухсот литров жидкого кислорода в час, ученые, возглавляемые Петром Капицей, получили новое, еще более сложное задание: разработать и в самые сжатые сроки создать установку производительностью уже в две тысячи литров жидкого кислорода в час. С учетом важности данной проблемы и ее особой оборонной значимости при Совнаркоме было образовано Главное управление по кислороду — Главкислород. Его начальником и председателем технического совета стал Петр Капица. В распоряжение нового управления передан двадцать восьмой танкоремонтный завод. В его цехах организовано и налажено произ водство установок ТК-200. Отсюда они пойдут на Урал, где создают знаменитые «тридцатьчетверки».
Там, на заводах Урала, днем и ночью варят броневую сталь, прокатывают ее в листы и собирают боевые машины. Данные о присадках могут идти только оттуда. Но каким путем, кто получает сведения и передает их вражеским агентам, где передает? Из проверенных источников поступают данные, что немцы крайне озабочены созданием новых видов вооружений, они дорабатывают и модернизируют танки и штурмовые орудия — в спешке, не считаясь с затратами, регулярно проводя полигонные испытания. На одном из них присутствовал сам Гитлер. Готовятся к летней кампании, к развертыванию наступления? Несомненно. Хотят ударить танковыми клиньями, прорвать наши фронты, взять реванш за Сталинград, но не могут сварить на крупповских заводах брони, не уступающей по прочности уральской, и засылают сюда своих людей за секретами технологии?
Сколько их, затаившихся среди населения врагов, — трое, пятеро. Разведгруппа немцев применяет приемы, затрудняющие работу службы радиоперехвата и пеленгацию их агентурной станции. Вполне вероятно, что группа радистов находится здесь, а ее обслуживают связные, доставляющие сведения с Урала. Не исключено внедрение врагом своего человека непосредственно на один из металлургических или танкостроительных заводов — там работает много эвакуированных из разных областей, в настоящее время оккупированных немцами. Запрос по их прежнему месту жительства не пошлешь, разве только партизанам или подпольщикам, но сначала надо знать — на кого именно посылать запрос.
И полная неизвестность с делом изменника. Наркому доложено, что. санкции на. проведение. всех необходимых мероприятий получены. Для их реализации выделена специальная группа сотрудников, освобожденных от иных обязанностей. О ходе работы ежедневно докладывают лично, наркому — он недовольно суживает глаза за стеклышками пенсне и. кривит в усмешке тонкие губы: до сих пор не получено никаких обнадеживающих результатов. И день ото дня тон наркома на совещаниях становится все холоднее, все резче вырисовываются складки, идущие от крыльев носа к губам, стянутым в синеватую точку. Ему теперь нужен только повод для того, чтобы гневно обрушиться на исполнителей. Но повода нет: люди работают не считаясь со временем, не щадя себя, со знанием дела. Теперь по крайней мере ясно, что данная агентурная станция врага не питается информацией от изменника. Означает ли это, что он не в Москве?
«Нет, — вынужден был признать Ермаков, — не означает, но эта нитка если и ведет к нему, то не прямо, а через запутанный лабиринт хитро сплетенных связей».
Конечно, упускать из виду такую версию не стоит. Но и попытки врага проникнуть в секреты технологии изготовления самых совершенных в настоящее время боевых машин, состоящих на вооружении нашей армии, не могут не вызывать серьезных опасений. Подобные попытки следует немедленно пресечь — не та сложилась ситуация, когда врагу можно подсунуть ложные сведения и затеять с ним радиоигры. Здесь работа идет только на выявление и уничтожение вражеской разведгруппы, если ее членов не удастся взять живыми.
— Какие соображения? — откидываясь на спинку стула, спросил генерал у сидевших напротив него Козлова и Волкова.
Лысоватый Козлов кашлянул в кулак и открыл свою неизменную синюю папку.
— По мнению специалистов, немцам пока не удалось подойти вплотную к технологии выплавки уральской броневой стали. Предположительно, на одном из заводов работает их человек или группа людей, передающих сведения сюда.
— Мне кажется, ядро группы нужно искать не на Урале, — прервал его Волков. — Оно здесь. На заводах есть осведомители вражеской разведки, возможно засланные туда еще до начала войны, а с ними держат связь курьеры. Надо докапываться до них, тогда выйдем на всю сеть. Мы разработали меры по усилению проверки машин, в том числе транзитных, активизировали работу на железнодорожном транспорте, проводим проверку лиц, выезжающих в частные командировки на Урал, даем туда ориентировки.
— Все это хорошо, — пригладил толстой ладонью свои коротко остриженные волосы Ермаков. — Может быть, вам разделиться? Волков срочно выедет на Урал и организует работу там, а ты, Николай Демьянович, будешь здесь искать рацию?
— Я придерживаюсь мнения, что под Москвой осел только радист, — нахмурился Козлов. — Легче здесь затеряться одному, чем группе.
— Группа может быть и невелика, — тут же откликнулся Антон, — но хорошо подготовлена. Предположим пятерка: двое на заводах — сталелитейном и танковом, один здесь с рацией и два курьера. Обратите внимание: они не так часто выходят на связь со своими хозяевами.
— Судишь по рации: где она, там и головка группы? — усмехнулся подполковник. — А если они предприняли меры к тому, чтобы обезопасить себя, и когда мы выявим и локализуем радиста, немедленно включат в работу другую станцию, но уже не в пригороде Москвы, а в ином месте? Кроме того, агентурная станция может обслуживать не только эту линию.
Слушая, Ермаков невольно мрачнел: Козлов словно подслушал его мысли о возможной связи неизвестной рации с изменником. Хотя почему подслушал, они же говорили об этом, когда пришли подтверждения на запросы. Значит, Николай Демьянович таким образом обращается сейчас к нему, призывая не упустить из виду данную версию и предполагая, что предатель может пользоваться этим же каналом связи с немцами, пусть даже опосредованно. Страхуется подполковник, боится, что вылезет на божий свет и получит нежелательную огласку информация об измене, — информация, пока не подтвержденная делом, но страшная своей разрушительной силой, готовая породить новый всплеск мании подозрительности и возврат к не столь давним временам массовых репрессий против начальствующего состава РККА? Пожалуй, так.
— Козлов работает здесь, Волков вылетает на Урал. Я сейчас позвоню товарищам, тебя встретят, устроят. Времени на раскачку нет. Розыск и ликвидацию группы надо закончить в самые сжатые сроки, — подвел итог Алексей Емельянович.
Отпустив офицеров, он позвонил на Урал, потом пошел в комнату отдыха и, сняв сапоги, ничком лег на солдатскую кровать. Болела голова, во рту пересохло от постоянного нервного напряжения. Через несколько часов опять докладывать наркому о ходе работы специальной группы. Каждый раз идешь к нему в кабинет, как на голгофу.
Зло скрипнув зубами, Ермаков перевернулся на спину. От знакомых полярных летчиков он не раз слышал рассказы об острове Рудольфа, лежащем всего в девятистах километрах от Северного полюса и прозванном островом Отчаяния. Там находится самая северная могила на земле, последний приют Сигурда Майера — участника американской заполярной экспедиции Циглера. Но если бы Алексею Емельяновичу удалось добраться туда и спрятаться среди торосов, то и там он не избавился бы от своих страшных дум, — и вечная мерзлота не укроет от тяготившего поручения наркома, даже если лечь рядом с Майером в лед.
Ермаков боялся слишком многого, чтобы быть полностью уверенным в успешном выполнении ответственного задания: боялся за себя, за своих родных, за сотрудников, боялся наркома и Ставки, в особенности Верховного…
Вчера нарком как бы между прочим бросил:
— Необходимо досконально проверить тех военачальников, семьи или родные которых остались на оккупированной врагом территории.
Ермакову сразу вспомнилось, как несколько лет назад, раскрывая троцкистско-фашистский заговор, постоянно твердили о том, что у многих из «заговорщиков» есть семьи за границей: у Якира в Бессарабии, у Путны и Уборевича в Литве, Фельдман связан с Южной Америкой, а Эйдеман с Прибалтикой. Однако у героя гражданской, прославленного народом в песнях бывшего командира кавкорпуса Червонных казаков, отважного кавалериста Примакова, соперничавшего в громкой славе с Буденным и Ворошиловым, что так не нравилось маршалам, происхождение было самое что ни на есть пролетарское, рабоче-крестьянское. И никаких родственников за границей. Но это не спасло ни его, ни многих других. Бывший нарком Николай Ежов умер с именем вождя на устах, как и командарм первого ранга Иона Якир, носивший на гимнастерке орден Красного Знамени номер два. Кто теперь осмелится вспоминать песни о Примакове?
Какая судьба ждет ничего не подозревающих генералов, командующих войскам «на фронтах, работающих в штабах, какая судьба ждет их семьи и самого Ермакова в том случае, если не удастся в ближайшее время точно назвать имя изменника? Да что имя?! Вне сомнения, враг должен быть установлен, разоблачен и обезврежен. Страна ведет беспримерную в своей истории, тяжелейшую войну, но не потянет ли за собой имя виновного другие имена — людей, совершенно не причастных к совершенному им тяжкому преступлению, не попадут ли и они под безжалостные жернова новой вспышки шпиономании?
Достав папиросы, Алексей Емельянович закурил и уставился в потолок невидящими глазами. Вспомнился Фриновский — бывший заместитель Ежова, на совести которого сотни жизней чекистов, «вычищенных» из рядов органов государственной безопасности. Когда арестовали соратника Дзержинского Артузова, Фриновский настаивал, чтобы по его делу работал и Ермаков, до сорокового года служивший в разведке. Алексей Емельянович отказался, не побоявшись последствий. Что тогда спасло его, трудно сказать, но он не стал палачом товарищей по партии и ВЧК. И вот теперь…
Теперь, может быть, как раз и наступает тот самый момент, когда наркому нужен человек, не запятнавший себя во времена ежовщины, известный своей принципиальностью и приверженностью к строгому соблюдению законности, — вот, смотрите, это он выявил врагов, натянувших личину честных людей, он разоблачил гнусный вражеский заговор? А есть ли он, этот заговор? Изменник может быть, но заговор?!
Низкий, басовитый звук отвлек его от размышлений — в кабинете били большие напольные часы. Через пятнадцать минут доклад в кабинете наркома.
Генерал натянул сапоги, вышел в кабинет, как в зеркало поглядел на себя в большое стекло, закрывавшее маятник похожих на городскую башню часов. Багровея лицом, застегнул крючки на тугом воротнике кителя, одернул его и открыл сейф. Достав заранее подготовленные документы, положил их в папку и вышел.
Отец Сушкова был сыном купца средней руки и внуком солдата русской императорской гвардии, бившегося под Бородином, ходившего на Париж, обласканного на одном из парадов Александром I в порыве чувств, вызванных свалившейся на него славой избавителя Европы от узурпатора, давшим бравому гвардейцу чин армейского прапорщика и тут же отправившим его в отставку.
Прадеду — Григорию Сушкову — тогда перевалило за сорок годов. В родную деревню он возвращаться не стал, а открыл солдатский трактир в Петербурге, женившись на молоденькой мещаночке, в положенный срок родившей ему сына. Дед по отцовским стопам пойти не захотел, но трактир не продал, а прикупил к нему магазин, торговавший мануфактурой. Его сын — отец Дмитрия Степановича — Степан Сушков всю свою жизнь твердо был уверен, что врачи и учителя просто благородные нищие, попы — жуткие обманщики, чиновники, как один, взяточники, полицейские — дураки и тянутся лишь к даровой выпивке, а страна Индия — сказочно богатая и непонятная — находится в далекой Америке.
При всем том он был человеком крайне неуравновешенным, но оборотистым. Рано овдовев, заводил себе одну любовницу за другой, предпочитая выбирать их среди купчих и модисток, а сыну Дмитрию нанял гувернантку из немок — пожилую, чистоплотную Эмму, всегда ходившую в чепце и с лорнетом, подаренным ей бывшей хозяйкой из княжеской фамилии.
Эмма научила Диму читать и говорить на немецком, мыть шею и руки по утрам и вечерам, вести себя сдержанно и ловко пользоваться столовыми приборами. Она же на все времена внушила ему стойкое отвращение к спиртному.
Торговать вином и мануфактурой Степану Сушкову показалось мало, тем более, что уже нарос кое-какой капиталец, и он по совету знающих людей решил построить собственную фабрику. Среди прочих знакомых у известного своей веселой жизнерадостностью Степана Сушкова был и Савушка Морозов, сыгравший в его судьбе значительную роль.
Савва давал деньги большевикам. Сушков считал это дурацкой блажью и только отмахивался от рассказов Морозова, что грядет великая перемена и владыкой жизни станет труд, потому и надо, мол, заранее установить добрые отношения с новыми людьми.
— Я их кормлю! — ревел хмельной Сушков, протягивая через уставленный бутылками стол к Савве свои большие, волосатые руки. — Вот этими вот самыми содержу!
Интеллигентный Морозов только брезгливо морщился и отворачивался, не желая обидеть знакомого.
Японская война и последовавшая за ней революция пятого года Степана подкосили. Испуганный до икоты ростом рабочего движения, он начал пить, совершенно забросил дела и умер в публичном доме, прямо в постели знакомой проститутки, оставив наследника-гимназиста почти без средств, — фабричку Сушковых за бесценок купила семья Морозовых.
Гимназиста Диму спасла все та же Эмма, уже старенькая, доживавшая век в доме Сушковых. Она взяла в свои сухонькие руки торговлю и дотянула воспитанника до университета. Дмитрий Степанович, почти не помнивший матери, горько рыдал на похоронах старой доброй Эммы, заменившей ему всех родных. Возвращаясь с кладбища в ставший пустым и холодным дом, он подумал о том, кому теперь будут нужны его инженерные познания, где он их сможет приложить? Пока еще жив был родитель и не опустил все в пьяном угаре, выкрикивая «Ничего босякам не оставлю, сам все пропью!», можно было хоть как-то надеяться: вот утихомирится папаша, а он, Дмитрий, выучится и начнет заниматься фабрикой. А теперь только по найму работать, идти кланяться тем же Морозовым?
Дома Сушков открыл окно и долго курил, выпуская дым в сиреневые петроградские сумерки. Магазин придется продать, трактиры тоже, поскольку некому заниматься там делами, а приказчики шельмы, так и норовят объегорить хозяина, набить свою мошну за его счет. Учиться в университете еще не один год, а жить на что-то надо и родне покойной маменьки до него дела нет — родитель и с ними основательно успел испортить отношения.
Играл в саду духовой оркестр, с Невы тянуло прохладой, такой приятной в душный августовский вечер четырнадцатого года…
На фронт Сушков пошел добровольцем. Сначала он был писарем, потом попал в школу прапорщиков, как недоучившийся студент. Успешно выдержав испытания, получил первый офицерский чин.
Бои оставили в его душе ощущение непроходящего тягостного кошмара, а тут еще после отречения государя от престола рухнуло все. Создавались солдатские комитеты, потом шел на Питер Корнилов. Сушков в эти дела не вязался — тихо сидел в блиндаже и так же тихо, но люто ненавидел большевиков, считая их виновниками всех несчастий. Войну он тоже уже ненавидел. Потом произошла Октябрьская революция, фронт сломался, началось массовое дезертирство солдат, и Дмитрий Степанович, предусмотрительно споров погоны и спрятав в карман шинели наган, подался с таким же, как он, прапорщиком из купцов в Москву, справедливо рассудив, что в Питере ему делать совершенно нечего.
Сидя вечерами за самоваром и прихлебывая жиденький чаек — в Москве голодовали, по ночам, а то и днем, частенько постреливали на улицах, — спорили с приятелем до сипоты о том, как жить дальше, в какую сторону подаваться, за кого стоять. «Купечество» приятеля оказалось призрачным — скорее лавочник, а не купец, но он страстно желал все повернуть на старое, звал ехать на юг, в казачьи степи.
На юг Дмитрию чего-то не хотелось, так же, как не хотелось больше стрелять — нахлебался по ноздри, а имущества все одно не вернуть, да и нету теперь его, имущества-то: деньги, вырученные от продажи трактиров и магазина, он еще в начале войны положил в банк, а какие сейчас банки? Фамильных бриллиантов не наблюдается, поместий и земли у него нет, фабрику еще родитель пропил, а сам он нажить толком ничего не успел, хотя и разменял четверть века.
И все же поехали. Сидеть на одном месте и ждать погоды Сушкову стало тошно. Черт с ним, со всем, пусть будет как будет. Правдами и неправдами влезли в поезд и покатили.
Зима, холод. Метель намела по краям насыпи сугробы чуть не с паровоз высотой, постоянно останавливались, потому что не хватало дров. Тогда выходили все из вагонов и пилили, кололи, собирали щепки, пока чумазая машина снова не оживала и начинала пыхтеть паром. Так и ехали, но на одной из станций попались анархистам — увешанные бомбами и перекрещенные пулеметными лентами, в матросских бушлатах и рваных тулупчиках, с разнокалиберным оружием в руках, они почти штурмом взяли поезд. Всех похожих на офицеров и буржуев объявили контрой и повели расстреливать.
Толстяка в пенсне и котелке с бархатными наушниками, попытавшегося сопротивляться, кончили прямо на перроне станции, безжалостно заколов штыками.
Воспользовавшись тем, что охрана их не обыскала и увлеклась зрелищем кровавой расправы, Сушков оттолкнул какого-то бородатого мужика с винтовкой и, дернув приятеля за рукав, метнулся в сторону. Выхватив из кармана шинели наган, несколько раз выстрелил в широко разинутые в крике рты, в эти армяки и тулупчики, бушлаты и пулеметные ленты. Им удалось выскочить на привокзальную площадь — маленькую, покрытую коркой льда. Шарахнулись в стороны зеваки, нестройно грохнули сзади винтовки, и приятель Дмитрия, словно поскользнувшись на желтоватом от конской мочи льду, осел, хрипя и булькая темной кровью в пробитом пулей горле.
Сушков побежал, дальше. через незнакомые, дворы, к заснеженные палисадники, перелезал через заборы и, увязая в сугробах, петлял между домишек городка. Сзади еще немного постреляли и успокоились.
Из городка ему удалось выбраться без происшествий. На окраине встретился справный мужичок на санях, запряженных караковой лошаденкой, подвез до ближней деревни. Переночевав у добрых людей, Дмитрий пошел дальше.
И начались его скитания, которые он сам потом с усмешкой именовал «одиссеей». Один раз едва-едва унес ноги от неизвестных лихих людей, в другой чуть не запороли вилами мужики, приняв за конокрада. Так и пробирался он к югу, пока не случилась большая неприятность.
В незнакомый городишко, стоявший на его пути, Сушков вошел в сумерках. Услышав впереди выстрелы, свернул в переулок, чтобы обойти опасное место, — ну их, мало ли кто палит, — но тут вылетели из-за угла разгоряченные конные, окружили, прижали к стене, отобрали наган с оставшимися пятью патронами. Темнолицый мужчина в кожаной фуражке и кавалерийской шинели только многозначительно хмыкнул, увидев два пустых гнезда в барабане револьвера Сушкова. Так он впервые в жизни попал в тюрьму.
На первом же допросе выяснилось, что его обвиняют в убийстве заместителя председателя местного ревкома — Сушков задержан рядом с местом происшествия, в нагане не хватает как раз двух патронов, а погибший убит двумя выстрелами из нагана. К тому же Сушков — явно контрик и бывший офицер.
Допрашивала его мужеподобная женщина, много и часто курившая, с коротко остриженными волосами и хриплым от табака голосом. Дмитрий Степанович пытался оправдаться, но его не желали слушать. Суд оказался скорым и быстрым — председательствовал тот самый мужчина в кожаной фуражке и кавалерийском шинели, членами суда были допрашивавшая Сушкова хриплая женщина и неизвестный пожилой человек в промасленном кожухе. Протест арестованного, а теперь уже и подсудимого, в отношении того, что членом суда его же следователь, оставили без внимания. Через десять минут Сушкова приговорили к расстрелу.
Цепляясь за последние мгновения бытия, приговоренный потребовал привести священника, чтобы исповедаться. Посовещавшись, члены суда дали свое согласие.
Дмитрия вывели в коридор, посадили на лавку, оставив под охраной молоденького паренька с винтовкой.
— Эй, сгоняйте кто-нибудь быстренько за попом! — высунувшись в раскрытое окно, прокричала женщина. Потом стукнула закрытая рама, и этот звук заставил вздрогнуть безучастно сидевшего на лавке Сушкова. Что же это, как? За что его, почему, какое они имеют право?
— Борьба классов, — прокашлявшись, сказал караульный. Видимо задумавшись, Дмитрий произнес последние слова вслух. — Вы нас тоже не очень-то жалеете…
Священника ждали долго. Ушли члены суда, спустившись вниз на первый этаж здания по скрипучей деревянной лестнице. Конвоир настороженно глядел на порученного ему «страшного преступника» и напряженно сопел, неумело держа в руках винтовку, — это Дмитрий Степанович отметил сразу, как только увидел паренька: оружие тому было явно непривычно.
В конце длинного коридора виднелась еще одна дверь — похоже черного хода. Барские дома — а именно в таком и проходил суд — строились однотипно, с лестницами для прислуги, и Сушков решил рискнуть, поскольку терять ему все равно уже нечего. Резко встав, он неожиданно выхватил из рук мастерового винтовку, одновременно двинув того коленом в пах. Метнулся к двери черного хода, рванул на себя — она открылась, С другой стороны оказалась ржавая щеколда, и Дмитрий тут же закрыл ее, сбежал вниз по грязным ступеням и дернул ручку двери, выводящей на улицу. Она была заперта!
Чуть не завыв от отчаяния, Сушков, уже слыша наверху топот и возбужденные, громкие голоса, с размаху саданул прикладом по раме пыльного окна черного хода и торопливо вылез наружу. Незаметно уйти не удалось, но в руках винтовка, а ноги несли его все дальше и дальше от проклятого дома, где женщины с прокуренными голосами походя решают судьбы людей.
Кинувшись по переулку, он выскочил на огороды, спустился к реке и побежал по ее льду на другую сторону. Около уха щелкнула пуля. Обернувшись, Дмитрий увидел на берегу конных и понял, что не уйдет, догонят. Умирать жутко не хотелось, тем более вот так, уже пройдя фронт, вернувшись из этого ада живым и даже ни разу не раненным, быть поставленным к стенке за чужие грехи, за убийство человека, которого никогда не видел.
Течение в реке, видимо, было сильным, лед под ногами Сушкова трещал и прогибался, но он изо всех сил бежал к другому берегу, прижимая к себе винтовку. Сзади раздался треск — бросив взгляд через плечо, он увидел, как барахтается в темной, казавшейся маслянисто-черной, равнодушной воде лошадь с всадником. Выдержав одиноко бегущего человека, лед провалился под тяжестью конного.
Застучали частые выстрелы, секануло пулей по поле шинели, но Дмитрий уже успел выбраться к кустам и пополз глубже в заросли, обдирая ладони о жесткий снег.
Через неделю, решив более не испытывать капризную судьбу, он примкнул к небольшому красноармейскому отряду, назвавшись своим именем, но скрыв офицерское прошлое. И завертело в водовороте событий: наступление, отступление, снова наступление. Вскоре его выбрали взводным. Дело привычное, только боялся сорваться на прежний тон при подаче команд и чем-нибудь выдать себя. Потихоньку начал внушать подчиненным, что служил в царской армии унтером. Кажется, поверили.
По вечерам иногда подсаживался к нему комиссар отряда Петр Чернов, вел разные разговоры. Сушков не скрывал, что учился в гимназии, но о действительном своем прошлом плел небылицы: отец, мол, учитель, спился, а сам он работал конторщиком на заводе, потом армия…
Летом попали в переплет: прижала казачья конница. Бородатые станичники, сверкая ощеренными зубами, вырубали разбегавшихся неопытных бойцов, от страха не слушавших команд. Налет казаков был неожиданным. Вырезав охранение, они навалились на отряд, расположившийся на привале. Комиссар Чернов, Сушков и еще несколько красноармейцев сумели отбиться и уйти в лес. Тогда у Дмитрия появилась мысль дезертировать: к черту все это дело, что ему, мало досталось? Но уйти он не смог — свалил тиф.
В себя он пришел в каком-то сарае, среди трупов, — наверное, его посчитали умершим и отволокли туда, где лежали уже безучастные ко всему тела. Из одежды на нем были только грязные солдатские кальсоны. Морщась от головокружения, подавляя частые приступы тошноты, он выполз из сарая только вечером, — путь в несколько метров занял почти весь день. Это его и спасло: село заняли белые.
Угар боя уже прошел, поэтому, когда его заметили два проходивших мимо казака, они не зарубили полуживого выходца с того света, а доложили о нем офицеру. Едва шевеля губами, Сушков назвал себя и свое звание — успел заметить на склонившемся над ним человеке привычную форму с погонами. На счастье, отыскался однополчанин, узнал Дмитрия, и его переложили в другой лазарет — добровольческой армии. Заходил какой-то поручик, видимо из контрразведки, посидел около него, спросил о самочувствии и, пообещав зайти еще, ушел. У белых имелись заграничные лекарства и лучше обстояло дело со снабжением продуктами. Сушков начал поправляться. И тут произошел новый поворот в его судьбе — белые вдруг отступили. В сумятице их внезапного отхода немного окрепший Сушков исчез — он твердо решил больше не служить ни у белых, ни у красных: хватит, повоевали, пора и честь знать.
Через пару дней его отыскали — причем совершенно случайно — занявшие деревню красные кавалеристы. И снова Сушков называл себя и свою должность, только уже в Красной Армии. На всякий случай упомянул и комиссара Петра Чернова. Оказывается, кавалеристы его знали. Дмитрию поверили, поверили его рассказу, конечно, приукрашенному и не полностью правдивому, о спасении от белых в сарае с умершими и дали справку, удостоверявшую, что комвзвода Красной Армии Сушков перенес тиф…
Позже Сушков понял: не будь он тифозным, ему могли и не поверить, но в тифу человек бредит и многое, что на самом деле являлось только плодом его больного воображения, кажется ему самому чистой правдой. Суровые конники знали о сарае, полном трупов, знали, что некоторые красноармейцы остались чудом живы, и, безгранично веря друг другу, поверили Сушкову.
Так он стал кавалеристом. Сидеть в седле умел — немного учили верховой езде в школе прапорщиков, владеть клинком тоже, правда не так, как лихие рубаки. Однако не размахивал бестолково шашкой над головой, рискуя покалечить себя и коня.
В кавполку Сушков пробыл недолго — свалил возвратный тиф. Валялся по госпиталям, пережил еще один налет казачьей конницы, когда даже сестры милосердия стреляли по станичникам из винтовок, был при этом вдобавок ко всему ранен в плечо и отправлен на санитарном поезде в тыл. Вышел из госпиталя уже в девятнадцатом, весной. Худой, с обритой наголо головой, он приехал в Москву и постучал в знакомую дверь дома, где жили родные его погибшего приятеля.
Кляня себя за малодушие, он не сказал им о его гибели, но наврал, что тот сумел добраться до белых, а сам Сушков угодил к красным в плен, но вот умудрился вывернуться и остаться живым. Его устроили в комнатке погибшего приятеля, поили чаем с сахарином, а он, в отплату за тепло и доброту, за предоставленный кров, рассказывал о своих мытарствах.
Надо было как-то устраивать жизнь дальше, получать документы и, самое главное, паек. Пришлось пойти в военный комиссариат. К дальнейшей службе его признали непригодным и предложили работу в детском приюте. Подумав, он согласился.
Искалеченные войной детские судьбы до глубины души тронули Сушкова. Он видел в них некое повторение собственной судьбы, своего скротства, только еще более горькое к страшное. Он сам ремонтировал протекавшую крышу, выбивал продукты, учил детей грамоте, пришивал им пуговицы и искал надежных людей, которым можно доверять в это смутное время харчи, предназначенные для детей. Красть у сирот Дмитрий Степанович позволить не мог. В его глазах это было бы самым тягчайшим преступлением перед богом, людьми и совестью.
Надежный человек нашелся в лице одной из многочисленных родственниц погибшего от пули анархистов приятеля — Шурочки. Через год они поженились.
В хлопотах незаметно летело время. Кончилась гражданская война, разбили Врангеля и отвоевали на польском фронте, добивая банды, начали потихоньку мирную жизнь. Приют переименовали в детскую колонию, воспитанники часто менялись: шла борьба с беспризорностью. А Сушкова подстерегла новая беда. У них с Шурочкой долго не было детей: сначала не решались, потом боялись, и наконец родилась дочь. Но семейное счастье, столь долгожданное и светлое, оказалось недолгим — слегла Шурочка и через месяц ее не стало.
Сушков сник, постарел разом на десяток лет, с головой уходил в заботы по колонии, оставив малое дитя на попечении родни жены. А все вокруг так напоминало о ней, и вечерами, закрывшись в кабинете-каморке, он горько плакал, считая жизнь свою конченой.
Предложение поехать налаживать работу по линии народного образования в Белоруссии Сушков воспринял без энтузиазма, но, подумав и рассудив, что дороги и новые люди помогут ему успокоиться, согласился. Поехал, работал, перестал бояться чекистов, взявших на себя заботу о сиротах, и боль, глубоко засевшая в душе, немного отпустила, стала глуше. Так прошло еще несколько лет.
В тридцатые годы он работал директором школы в одном из местечек Белоруссии. Дочь росла, жила у родных в Москве, и они никак не желали отпустить ее к отцу, ссылаясь на его вечно неустроенный быт. И тут Сушков встретил, как ему казалось, хорошую, добрую женщину и решился создать новую семью. Не век же куковать бобылем? И в сорок хочется семейного уюта и тепла. Его новую жену звали Мария. Рослая, с тяжелыми косами, уложенными венцом на голове, она привлекала мужские взгляды, и многие с недоумением пожимали плечами, узнав, что она вышла замуж за учи-теля Сушкова — лысоватого грустного человека.
Дмитрий Степанович любил ее, доверял ей свои тайны. Однажды, в порыве откровенности, он рассказал всю правду о прошлом — об отце, школе прапорщиков, скитаниях во время гражданской и пребывании у белых. Даже назвал фамилию узнавшего его однополчанина по империалистической — Ромин. Тот был из юнкеров, родом откуда-то с Урала или из Сибири, немного моложе Сушкова, но уже выше званием.
Мария и написала на мужа донос. Это Сушков понял, когда второй раз в своей жизни попал в тюрьму.
Следствие по его делу вел молоденький сержант госбезопасности. Дмитрия Степановича обвиняли в том, что он, скрыв свое офицерско-белогвардейское прошлое, дезертировал из Красной Армии и обманным путем пробрался на работу в систему народного образования, где пропагандировал троцкистские идеи. Всплыла фамилия Ромина, допытывались о других связях, в том числе с заграницей, говорили, что он специально приехал в Белоруссию, чтобы жить ближе к панской Польше…
Оправдываться было бесполезно. Все его ссылки на то, что он и раньше писал в анкетах, как во время империалистической служил офицером, и справки о службе в рядах Красной Армии, в период тяжелых боев в восемнадцатом году, когда он был рядовым бойцом, а потом командовал взводом и дважды болел тифом, просто чудом оставшись в живых, положительные отзывы Наркомпроса о его работе с беспризорниками и в школах во внимание не принимались. От него настойчиво добивались выдачи тайников с оружием, имен, паролей, явок…
Суд очень напоминал ему скорый трибунал восемнадцатого года, когда он бежал из-под расстрела. Да и суда-то как такового не было. Собралась тройка, названная особым совещанием, заседала буквально десять — пятнадцать минут и осудила его на долгие годы заключения. Морально и физически измотанный, издерганный духотой забитых камер и напряжением ночных допросов, он попал в теплушку спецэшелона, рассчитанную на двадцать пять человек. Но в ней оказалось более сорока — уголовных и политических.
Ехали почти месяц, на каждой станции охрана пересчитывала их по головам, сгоняя заключенных из одного конца теплушки в другой и заставляя по одному переползать по доске, положенной на нары, на свободное пространство. Вскоре — опытные уголовные говорили, что двадцать девять дней пути, это очень быстро — по сторонам дороги потянулись изгороди ИЗ КОЛЮЧКИ и вышки лагерей — особая зона строительства Забайкальской магистрали.
В лагере Сушков сразу попал в лазарет. Еще в теплушке, перед самым прибытием, незнакомый истеричный уголовник ударил его поленом по ноге, раздробив кость. Топили в теплушке буржуйку по очереди, и Дмитрий Степанович не вовремя сунулся прикурить от уголька, что не понравилось уголовнику. Тот размахнулся поленом и пробил бы «политику» голову, но один из заключенных успел толкнуть Сушкова, и удар пришелся по ноге. Так он стал хромым.
Перед войной судьба опять повернулась: вызвали в лагерную канцелярию, отправили по этапу в тюрьму, где сообщили, что его дело пересмотрено, обвинения сняты и он реабилитирован. Сушков не знал, что новый нарком внутренних дел дал указание реабилитировать некоторых заключенных, якобы исправляя «ошибки ежовщины».
В Москву поехать не разрешили, и тогда он отправился в Белоруссию. Хотелось в последний раз встретиться с Марией и поглядеть ей в глаза: ничего не говоря, ничего не спрашивая, просто поглядеть и все. Но Мария уехала неизвестно куда с новым мужем.
На работу Сушкова никто не брал. Он начал пить, опустился, бродяжничал, рискуя вновь оказаться в лагере. Дороги привели его в недавно воссоединенные районы. В большом мире шумели грозные события, надвигалась война, но Дмитрию Степановичу было все равно: если ему сообщили, что даже дочь отреклась от отца, а жена написала на него донос. Кому же теперь верить? В один из дней, шагая по дороге, о-н и не предполагал, что судьба его сегодня вновь повернется.
Обогнала машина и неожиданно притормозила. Сушков отступил к покрытым пылью придорожным кустам, — в черных легковых автомобилях ездило только начальство высокого ранга, а такие встречи не могли ему сулить ничего хорошего. Он настороженно глядел на вылезшего из машины седого мужчину в полувоенном френче и «партийной» кепке с матерчатым козырьком.
— Не узнаешь? Вот как довелось свидеться… Ну, здравствуй, комвзвода Сушков! — и он протянул руку.
И тогда Дмитрий Степанович узнал. Комиссар Чернов, Петр Чернов, только постаревший, поседевший, с лицом, изрезанным морщинами, и орденом на френче.
Бывший комиссар помог ему устроиться на лесоразработках конторщиком. Сушков рассказал ему о себе все, без утайки, да и чего теперь таиться, особенно после лагеря? Чернов, слушая его, хмурился, кусал губы, но все же помог. Дали и комнатушку в старом деревянном доме — какое-никакое, а жилье.
Война грянула неожиданно. В армию Сушкова не призывали по возрасту и по причине искалеченной ноги. Но для него совершенно неожиданно открылся свой фронт, необычный и опасный.
Однажды поздно вечером пришел незнакомый человек и пригласил прогуляться, сославшись на поручение Чернова. Дмитрий Степанович пошел. Его привели в маленький домик, утопавший в зелени, где за столом в просто убранной комнате сидел сам Чернов и еще один мужчина в штатском.
Чернов начал с того, что Сушков не имеет права в такое время таить в себе обиды, а должен доказать самому себе и другим, что он честный человек и патриот. Дмитрий Степанович кивал, не понимая еще, куда клонит бывший комиссар. А тот вдруг предложил ему остаться, не уходить с отступающими частями и беженцами, но дождаться немцев и поступить к ним на службу.
— Биография у тебя, Дмитрий, уж больно подходящая. И языком ты ихним свободно владеешь. Разворачивается партизанское движение, можешь оказать неоценимую помощь. Мы тебе верим, иначе не позвали бы, не предложили. Учти, дело опасное и непростое. Подумай. Это, — он показал на сидевшего рядом с ним мужчину в штатском, — начальник разведки создаваемого партизанского соединения. Если согласен, то он все подробно объяснит. Дело добровольное, откажешься — никто не осудит.
Дмитрий Степанович согласился. Получил пароль для связи и остался в городе. Через несколько дней в него вошли немцы.
На глаза новым властям Сушков не лез, делал так, как учил его начальник разведки, назвавшийся Иваном Колесовым. Немцы нашли бывшего конторщика сами, вызвали его в комендатуру и предложили сотрудничество в качестве переводчика городской управы. Рассказывал он о себе все, как есть, умолчав только о встречах с Черновым. Офицер сочувственно кивал и заверял, что теперь «новый порядок» и страдания господина Сушкова кончились навсегда. Важно только быть предельно искренним и честным в службе.
Работал Дмитрий Степанович в городской управе. Сначала в отделе жилой площади, был и такой, потом на бирже труда. По совету Колесова осторожно подсказал немцам про лесоразработки, сославшись на то, что в лагере приобрел определенный опыт по этой части.
Связи с подпольем или партизанами ждал долго, очень долго. Доходили слухи о боевых действиях отряда Чернова и Колесова, косились на переводчика соседи, один раз вымазали ему дерьмом двери новой предоставленной немцами квартиры, но Сушков терпел. Чернов говорил на прощание, что война, наверняка, предстоит долгая, страшная, можно и погибнуть, оставшись в глазах окружающих немецким прихвостнем и предателем, но дело бросать нельзя ни под каким видом.
Ближе к новому, сорок второму году Дмитрий Степанович наконец-то дождался: появился в городской управе рыжеватый мужик Прокоп, улучив момент, шепнул пароль и назначил встречу. После нее, ворочаясь ночью на своей постели, Сушков долго раздумывал над тем, как ему победить собственный страх? Но когда-то же надо это сделать? Задание, которое ему передал Прокоп, вроде бы не очень сложное, а страшно. Как он попадет в окружение появившегося в городе важного немца Конрада фон Бютцова? Зачем ему хромой русский переводчик?
Отношение немцев к Сушкову было ровно-сдержанным, но он постоянно чувствовал, как они исподволь приглядываются к нему, проверяют и прощупывают — тонко, не навязчиво, преследуя свои неизвестные ему цели. Какие? Хорошо хоть что не забыли о нем в лесу, подали весточку, — адрес новой явки ему передала неприметная женщина, заходившая на биржу. С замиранием сердца он пошел туда и встретил там того же Прокопа. Дмитрий Степанович пожаловался ему, что задание выполнить никак не удается, — у немца свой переводчик. Прокоп «подумал и обещал помочь.
Недели через две Сушкова неожиданно вызвали в кабинет бургомистра. Там сидел немец со шрамом на голове — моложавый, подтянутый, с приятным, интеллигентным лицом. Небрежно перелистывая лежавшие перед ним на столе документы, он прямо спросил:
— Владеете немецким? Хорошо… Знаете лесоразработки района? Где приобрели познания в этой области? В русском лагере? Занятно. Ах, еще и работали здесь на вырубках? Тем лучше. Поедете со мной!
Сушков послушно сел в машину, отправившись с незнакомым немцем по местам бывших лесоразработок. По дороге говорили о деловой древесине, об оставшихся невывезенными штабелях бревен, о возросшей стоимости запасов ценных пород дерева.
Когда возвращались, немец предложил перейти работать переводчиком в подразделение «Виртшафтскоммандо» — хозяйственного управления вермахта по использованию материальных ресурсов оккупированных областей России, скучно сообщив, что у него до недавнего времени был отличный переводчик, но его застрелили партизанские бандиты.
— Вы не боитесь быть убитым бандой из леса? — повернулся он к Дмитрию Степановичу. Тот немного смешался, но потом нашелся как ответить.
— Я — бывший офицер. И у нас с большевиками свои счеты. А двум смертям не бывать, — как можно равнодушнее закончил Сушков, хотя внутренне весь дрожал от напряжения: неужели он вплотную подошел к выполнению полученного задания? Но зачем партизанам так нужен этот немецкий хозяйственник, зачем?
В тот же вечер ему выдали новое пальто, сапоги, костюм и паек. Дома он обнаружил, что кроме продуктов и табака в свертке лежала разноцветная круглая пачка французских презервативов «Дюрекс». Повертев ее, Сушков выбросил, сочтя это издевкой.
Новый начальник — майор Бютцов — казался очень разным: то он беспечно и весело шутил, мотаясь на машине в сопровождении переводчика по предприятиям и складам, то сквозь зубы зло поругивал свое начальство, выражая недовольство его тупоумием и торопливостью, то болтал о литературе и искусстве, или философствовал.
— Что такое наша жизнь, дорогой Сушков?
Все мы, жители старушки-Земли, по большому счету узники одной огромной камеры смертников, с бешеной скоростью несущейся в космическом пространстве неизвестно куда. Пора бы это осознать господам политикам всех стран и континентов. Что границы? Чушь, специально придуманная для разгородок нашей общей камеры, чтобы мы не могли свободно перемещаться по ней, только и всего. Армии и войны тоже не нужны, от них одни убытки, правда не всем. У меня дома, в Германии, приходит в упадок имение, а я торчу здесь, пытаясь наладить производство на заводах, взорванных большевиками при отступлении.
Странно было слушать эти речи от немца, цинично, но здраво рассуждавшего о «бомбенурляуб» — краткосрочных отпусках для солдат, чье жилье разрушено английскими бомбардировками, о том, что войну начали Гитлер и Сталин, совершенно не спросив желания ни его, Бютцова, ни Сушкова, а теперь им приходится из-за этого страдать, поскольку если откажешься воевать — тебя заставят, и еще неизвестно, каким образом это сделают. Наверняка — не лучшим. Но Дмитрий Степанович старался ни на минуту не забывать, с кем он имеет дело — с оккупантом, офицером немецкой армии, и не поддавался, не пускался в откровенность, ограничиваясь ничего не значащими рассказами-воспоминаниями о дореволюционной жизни в Петербурге, об учебе в университете.
Бютцов аккуратно снабжал его продуктами, выдал ночной пропуск, а сам время от времени исчезал, уезжая один. Часто он встречался с разными людьми, и обо всех них Сушков старался сообщить Прокопу, так же, как и о том, чем интересовался его «хозяин».
Узнав о том, кем на самом деле является Бютцов, Дмитрий Степанович понял, что партизаны не зря столь пристально интересовались немцем, а теперь и терпение Сушкова вознаграждено: он узнал тайну гитлеровцев и должен сообщить о ней нашим как можно скорее.
Вернувшись из поездки на охоту, переводчик сходил на базар и, найдя в торговых рядах ту самую женщину, которая сообщила ему адрес явки, передал через нее просьбу о срочной, безотлагательной встрече с Прокопом…
Сушков шел мимо костела, смутно белевшего в темноте. Старые горожане рассказывали, что один из сиятельных польских магнатов, поехав в Рим, увидел там церковь Иисуса знаменитую капеллу дель Джезу, — и был настолько очарован, что, вернувшись домой, привез с собой итальянца-архитектора, приказав ему построить около своего замка точную копию знаменитой капеллы. Тот построил. Так это или нет, переводчик не знал, — он никогда не бывал в Риме и даже не видел фотографий церкви Иисуса, но костел удивительно красив, этого не отнимешь.
К ночи подморозило, колдобины затвердели, больная нога цеплялась за них и противно ныла. Сушков остановился, сняв шапку, вытер ладонью выступивший на лбу пот, перевел дыхание, — сейчас он свернет за ограду костела, потом пройдет через торговую площадь, шмыгнет тенью на тихую улочку, а там уже рядом темный двор знакомого дома. На стук в дверь откроет Михеевна и проведет в комнатку, где с нетерпением ждет рыжеватый Прокоп. Груз тайны упадет тогда с плеч Дмитрия Степановича, перестанет давить своей непомерной, многопудовой тяжестью, — и он на этой страшной войне выполнит свой долг: даже если больше совсем ничего не успеет, то переданные им сведения стоят всех мучений, принятых за время службы у немцев.
Почувствовав, что стало холодно голове, он надел шапку и захромал дальше. Свернув за ограду костела, заторопился по слабо освещенной улице.
Вот и показалась впереди торговая площадь — грязная, с затянутой серым ночным ледком огромной лужей посередине. Скорее мимо нее и в нужный переулок.
Неожиданно в лицо ударил яркий свет.
— Хальт! Стой!
Патруль, черт бы их побрал. Сушков достал пропуск, подал старшему патруля, пытаясь разглядеть в темноте лица солдат, — незнакомые какие-то, не из комендатуры?
— О, герр Сушкоф, — добродушно, как старому приятелю, улыбнулся фельдфебель. — Какая досадная неприятность. С сегодняшнего дня по приказу коменданта изменены ночные пропуска.
Говоря, фельдфебель продолжал улыбаться и постукивал ребром картонки пропуска по ладони, затянутой в шерстяную перчатку.
— Я был в отъезде, — протянув руку за пропуском, пояснил переводчик, — Утром обязательно выправлю новый. Извините.
— Нет, нет, — немец положил пропуск в карман шинели. — Вам придется пройти с нами в комендатуру. Приказано задерживать всех, у кого пропуска старого образца. Если мы не выполним приказ, нас ждут неприятности. Поверьте, все это чистая формальность, но приказ… Прошу!
Недоуменно пожав плечами и досадуя на непредвиденную задержку, Сушков, прихрамывая, поплелся в окружении патрульных к комендатуре, прикидывая, сколько времени может занять у него получение нового пропуска. Прокоп, наверное, уже беспокоится…
Глава 5
Волкова встретили прямо у трапа самолета. На краю летного поля, покрытого снегом, стояла черная эмка, из ее выхлопной трубы вылетали клубы сизого отработанного газа, далеко распространяя в морозном воздухе запах бензиновой гари.
По дороге в город начальник отдела, усевшийся рядом с Антоном на заднее сиденье, сердито сказал:
— Получили от вас ориентировку, — и замолчал, мрачно глядя на заснеженный лес.
Волков не стал его расспрашивать, он тоже смотрел в окно машины: как тут, далеко от войны? Снег совсем не такой, как в уже готовой к приходу весны Москве, а совсем белый, воздушно-рыхлый, серое низкое небо, густой лес по сторонам дороги, а впереди, там, где раскинулся город, видны на горизонте дымящие трубы заводов.
— Жилье мы приготовили, — нарушил молчание начальник отдела. — Сначала на квартирку заедем, вещички бросим.
— Какие у меня вещички, — усмехнулся Антон.
— Ну, какие-никакие, а таскать за собой не след. Да и полушубок я на квартирке оставил. В шинельке у нас задубеешь.
— Что за квартира? — поинтересовался Волков.
— Нормальная, — успокоил начальник. — Там женщина из нашего хозотдела живет и подселенка у нее, эвакуированная. Тебе с хозяйством проще будет, и им с тобой поваднее. Шпана, бывает, шалит, — доверительно сообщил он Антону, — а мужиков, сам понимаешь, раз-два и обчелся. Не сомневайся, все надежно.
Дом, где ему предстояло жить, Волкову понравился — добротный, на каменном фундаменте, с резными наличниками на окнах и высоким крыльцом, он стоял в тихом переулке, где, наверное, летом много зелени и, может быть, даже вьют в кустах гнезда залетные соловьи.
Квартирной хозяйки и соседки дома не оказалось. Начальник достал из кармана ключ, отпер дверь комнаты и пропустил гостя внутрь. Поставив на стул свой небольшой чемоданчик, Антон осмотрелся: шкаф, три стула, квадратный стол, покрытый зеленоватой клеенкой, большой старый диван, с аккуратно сложенными около валика постельными принадлежностями, этажерка с книгами, розовый абажур на лампе. На одном из стульев лежал светлый овчинный полушубок.
— Ну, надевай и поехали, — показал на него начальник отдела и направился к выходу. — Ключ себе возьми.
Начальник Волкову понравился — простое русское лицо, коренастый, по всему чувствуется основательный в делах. Он был значительно старше Волкова и, видимо, поэтому сразу по-свойски перешел'на «ты».
— Меня Сергей Иваныч зовут, — протянул он Антону руку, когда тот, надев полушубок, вышел на крыльцо. — Кривошеин.
— Волков, Антон Иванович. — Ладонь у Кривошеина оказалась крепкой, с вмятиной глубокого шрама на тыльной стороне.
— Память осталась о борьбе с бандитизмом, — пояснил Сергей Иванович в ответ на немой вопросительный взгляд Волкова. — Ну, поехали?
В кабинете, усадив гостя, он принялся расхаживать, часто затягиваясь папиросой.
— Понимаешь, — говорил Кривошеин, — чушь какая-то получается. Ну не может быть тут немецких агентов. Весь народ просеян, люди добровольно комсомольскую танковую колонну построили и сами сели за рычаги, отправившись на фронт. Трудовой Урал им каждому по ножу из нашей стали подарил, а тут вдруг ориентировка. Ошибки нет?
— Нет, — ответил Антон.
Сергей Иванович раздвинул шторки, закрывавшие висевшую на стене карту города.
— Вон, видишь? Тут танки строят, здесь плавят сталь, дальше делают моторы для самолетов, собирают оружие, — ноготь его толстого пальца поочередно указывал на условные пометки, обозначавшие заводы оборонного значения. — Тысячи людей, сотни цехов, десятки заводов. Представляешь объем работы?
— Они могут использовать ранее законсервированного агента, — подходя к карте, сказал Волков. — Забросили его сюда до войны, а теперь пустили в дело. Не исключена и вербовка врагом местного жителя. Но, думаю, быстрее выйдем на немецкую группу, поймав их на связи. Они торопятся, почта вряд ли им подойдет — слишком опасно, да и долго. Самолеты только военные, там мы быстро все установим, а вот поезда? Могут они попытаться использовать для связи поезда? Кто ходит на вокзал?
Кривошеин вернулся к своему столу, уселся за него, обхватив голову руками.
— Почитай, полгорода ходит, — глухо сказал он. — Я уже думал о возможных местах встреч связного с местным гадом. На рынке могут встречаться, на толкучке, вокзале и прямо на заводе, если связной приезжает вполне официально. Могут в кино, в городском саду, на неизвестной нам квартире.
Встав у окна, Антон посмотрел через покрытые серым налетом витавшего в воздухе выброса заводских дымов стекла на улицу. Внизу шли редкие прохожие, пробежала стайка мальчишек в грязных, промасленных телогрейках, неторопливо прошествовал пожилой почтальон с тощей сумкой, старушка, бережно прижимавшая к груди только что полученную по карточке половину буханки хлеба. Протрусила запряженная в сани лошадь, оставляя за собой на обледенелой мостовой быстро остывающие яблоки навоза. На первый взгляд — заштатный городок, сугубо провинциальный, глубинный, а на самом деле — грозная кузница оружия. И здесь среди мирных трудовых людей притаился враг.
— Когда нащупаем, сразу брать не будем, — не оборачиваясь, сказал Волков. — Надо поработать, всю цепочку вытянуть.
— Сначала нащупай, — крякнул Сергей Иванович. — Одних анкет в отделах по найму заводов столько придется читать, что впору очки заранее заказывать. С чего начнем, с заводов? Людей у меня мало, — доверительно пожаловался он, — многих отдали в танковые бригады. Я и сам просился, да не пустили.
— Я тоже просился, — откликнулся Антон. — И тоже не пустили. Насчет анкет полагаю, что ребятишек, работающих на заводах, стоит сразу отбросить, а вот женщин нельзя, придется проверять. Официально прибывающих в командировки берет на себя Москва, а нам надо как-то постараться имеющимися силами поработать и на рынке, и на вокзале, и на толкучке, и в городском саду.
— Милицию попросим помочь, товарищей из уголовного розыска. Они рыночных завсегдатаев лучше нас знают, ну и по жилому сектору тоже подскажут…
Поздно вечером, вернувшись в дом с резными наличниками на окнах, Антон постучал в двери. Открыла женщина, закутанная в платок, из-под которого выглядывала белая ночная сорочка. Волков представился. Пропустив его в прихожую, она заперла за ним двери, сказала, что на кухне стоит на столе завернутая в газеты кастрюля с картошкой, и ушла в свою комнату.
Наскоро пожевав картошки с хлебом и запивая все это почти остывшим чаем, смертельно уставший Волков прошел к себе, разделся и, постелив постель, завалился на диван. Спать хотелось и не хотелось одновременно — сказывалась разница во времени, наваливалась свинцовая тяжесть усталости. Еще рано утром он был в столице, потом прилетел сюда и уже начал работу.
Перед его мысленным взором снова' вставали виденные сегодня огромные, огнедышащие печи, раскаленная струя металла, бьющая из летков, гигантские ковши, медленно плывущие над длинными, холодными цехами, загрузка в мульты металлолома и чугуна, синие дуги сварки, искры, летящие от зачищаемых наждачными кругами сварных швов на броневых листах. У станков работали женщины и множество мальчишек. Один, стоя на подставленных к станку ящиках, ловко крутил блестевшие, как отполированные, ручки подачи суппорта. Синеватыми кольцами вилась стальная стружка, нетерпеливо переступали большие, не по размеру, кирзовые сапоги юного токаря, поглядывавшего на резец. Обернувшись, он неожиданно задорно подмигнул наблюдавшему за ним Антону, а у того больно защемило сердце.
Голодный и холодный мальчишка военной поры, которому впору гонять мяч со сверстниками во дворе и сидеть за партой, стоит здесь, в плохо отапливаемом цеху огромного завода, и точит детали вооружения грозных боевых машин. Он, как взрослый, получает рабочую карточку, дает две нормы в смену, не на словах, а на деле претворяя в жизнь лозунг: «Все для фронта, все для победы!». А какой-то гад, притихший в этом городе, ставшем кузницей оружия, крадет победу у всех, в том числе и у этого бледного от недоедания и ночных смен мальчишки, заменившего взрослых у станка, пока те воюют на фронте.
Неужели он, майор Волков, вместе со своими товарищами не отыщет того, кто затягивает страшную войну, крадет жизнь и здоровье мальчишек и женщин, убивает на фронте их отцов, мужей, братьев? Обязан найти, наизнанку себя вывернуть, но найти в самые сжатые сроки, чтобы без стыда глядеть в глаза стоящим по две смены у станков детям.
И вдруг Антон вспомнил — в огромном помещении сталеплавильного цеха он слышал, как хрипло сипел динамик, сообщающий о присадках. Это передавали сведения из заводской лаборатории, поскольку во время плавки сталевары не могут без конца бегать туда и обратно, чтобы узнать о качестве проб, изготавливаемого ими сплава.
Возможно, именно здесь одна из разгадок доступа врага к тайнам броневой стали? Можно не быть сталеваром, но, зная, как идет процесс плавки, слушать передачу из лаборатории или работать в ней. Или иметь подход к работающим там? Предположим, плавка удачна, все пробы хороши — вот тебе и необходимые компоненты для брони. Но в зависимости от качества загружаемого в печь сырья несколько меняется технология плавки, идут другие добавки. И опять, слушая передачу из лаборатории и зная, чем загружали печь, можно составить определенную картину.
Интересно, надо утром подсказать Кривошеину, чтобы понаблюдали за работающими у печей и теми, кто интересуется передачами лаборатории.
Незаметно Антон задремал, утомленный размышлениями и нелегким днем.
Утром, выйдя на кухню, он невольно остановился: нагишом в большом тазу мылась, поливая себя из ковша, мылась молодая женщина. Золотисто-русые волосы подобраны шпильками, тонкая шея, худые лопатки на спине, с отчетливо выступающими позвонками, стройные ноги, узкая талия. Она стояла к нему спиной и не видела, как он, смутившись, отступил в прихожую. Кто это, соседка?
Подождав, пока она пройдет в свою комнату, Волков снова вышел на кухню. Потрогал ладонью чайник на плите — еще горячий. Квартирная хозяйка, видимо, уже ушла, оставив на столе две чашки. Надо полагать, ему и соседке?
Он вернулся в коридор и постучал в дверь соседней комнаты.
— Доброе утро. Пойдемте пить чай, а то остынет.
Вышла девушка лет двадцати, в свитере и лыжных брюках, протянула ему узкую ладонь:
— Тоня. Вы наш новый сосед?
— Да, — снова смутился Антон, вспомнив, как он невольно стал свидетелем ее утреннего туалета. — У меня сахар есть, хлеб и консервы.
— Богато живете, — засмеялась она, показав ровные зубы. И, тряхнув челкой, сказала — Пойдемте. Что же вы стоите?
Он пропустил ее вперед, прошел следом за ней на кухню и, усевшись за стол, наблюдал, как она ловко режет хлеб, как наливает в чашки чай. Не оставляло ощущение, что все это он уже когда-то видел, словно в другой своей жизни или во сне, — заснеженные деревья за окнами, девушку в свитере с вышивкой на груди, синие чашки с белыми цветами, тонко нарезанное сало на тарелке со щербатым краем…
— Как вас зовут? Вы так и не представились? — Глаза у нее были серые, грустные, словно где-то в глубине души сидела боль.
— Антон. На заводе работаете?
— Да. Я до войны в Москве жила. Сначала попала на окопы, а потом в эвакуацию. Вы к нам надолго?
— Как дела повернутся, — улыбнулся он, заметив, что Тоня не решается притронуться к угощению. — Ешьте, не заставляйте вас уговаривать. Скоро на работу?
— Не, — она осторожно откусила от бутерброда и убрала ладонью упавшие на лоб волосы. — Мне в ночную сегодня. Я лаборанткой, на сталелитейном. Печи ведь не останавливаются, иначе «козел» будет.
— Что?
— «Козел», — засмеялась она, — застывший кусок металла. Тогда надо печь охлаждать и выбивать его, ломать футеровку.
— Спасибо. — Допив чай, он отодвинул чашку и встал, расправив под ремнем складки гимнастерки. — Распоряжайтесь продуктами, я обычно поздно прихожу, а то могу и задержаться надолго.
Она кивнула и приоткрыла рот, как будто хотела что-то спросить, но потом, видимо, передумала и пошла закрыть за ним двери…
В комендатуре стоял кислый, прогорклый запах дешевого немецкого табака, солдатского лота и оружейной смазки. Показав Сушкову на лавку у стены, старший патруля ушел.
Переводчик сел, вынул из кармана платок, вытер вспотевшую голову. Как нескладно все получается, теперь из-за служебной ретивости коменданта, проявляемой им в период пребывания здесь высокого гостя из Берлина, придется потерять драгоценное время. А потом пока дохромаешь от комендатуры до явки, да еще оглядываясь — не топает ли кто за тобой следом, пока поговоришь с Прокопом, пока вернешься домой. Так и не заметишь, как пройдет половина ночи.
Выспаться сегодня явно не удастся, а утром опять тащиться в замок на службу. И больным не скажешься, немцы этого не любят. А так иногда хочется отдохнуть, забыть обо всем, забыть свои страхи и сомнения, спокойно вытянуться на кровати с папиросой в зубах и поблаженствовать, бездумно глядя в потолок.
Что-то долго не возвращается фельдфебель, забравший пропуск, что там еще могло оказаться не так? Его же все здесь знают, знают, у кого и кем он служит, а Бютцов пользуется у немцев уважением, которое, хоть в малой мере, но помогает и его переводчику.
Завидев в коридоре долгожданного старшего патруля, Сушков облегченно вздохнул: наконец-то! Сейчас ему отдадут пропуск или выдадут новый и он сможет уйти. Но немец приказал следовать за ним.
Войдя в кабинет, Дмитрий Степанович невольно вздрогнул: у зарешеченного окна, прислонившись спиной к подоконнику, курил фон Бютцов, а за столом сидел Клюге в черной эсэсовской форме.
Сердце защемило предчувствием близкой беды. Зачем тут телохранитель берлинского гостя, еще недавно подозрительно оглядывавший Сушкова в холле охотничьего домика? Почему тут оказался сам Бютцов, оставивший замок и своего берлинского патрона?
— Присядьте, — показал на табурет Клюге. — Переводчик нам не понадобится, и мы сами решим наши внутренние дела.
Дмитрий Степанович понуро прошел к табурету и сел, положив шапку на колени. Глаза у Клюге холодные, как у удава, глубоко посаженные, равнодушные, а у Бютцова довольные, заинтересованные, на зажатой в пальцах сигарете скопился столбик пепла.
Переводчик давно вывел для себя, что почти любое намерение человека выдают его глаза, — важно только вовремя заметить, что в них. Поэтому он постарался спокойно посмотреть прямо в глаза Клюге.
— Я не понимаю, господа офицеры, что произошло? Меня остановил патруль и, заявив, что мой пропуск недействителен, доставил сюда.
— Куда вы шли? — вступил в разговор Бютцов. Его спокойный, доброжелательный тон немного развеял все более овладевавшие Дмитрием Степановичем нехорошие предчувствия.
— Хотел прогуляться перед сном. Голова, знаете ли;— Сушков неопределенно покрутил рукой.
«Не показывай им, как испугался, — уговаривал он себя, — иначе они заметят это и начнут подозревать, копать, следить. Держись свободнее, ты их знаешь, они тебя тоже, но не перегибай, не забывай, что ты всего лишь их холуй».
— Господин майор, — переводчик привстал со стула, почтительно отвесив поклон в сторону Бютцова, — любит хорошую работу. Для этого надо всегда иметь свежую голову.
— Перестаньте, — скривив губы, брезгливо протянул Клюге. — Вы же сами понимаете, Сушкоф, как это несерьезно. Голова, прогулки… Что вы можете нам сказать о Колесове? Отвечайте!
— Ничего, — изобразив на лице удивление и пытаясь унять охватившую его внутреннюю нервную дрожь, ответил переводчик.
— А про Чернова? Вы знакомы с ним? — не сводя глаз с лица допрашиваемого, продолжал допытываться Клюге.
— Естественно, — заверил Дмитрий Степанович, постаравшись улыбнуться, но улыбка получилась натянутой. — Он работал в нашей области по партийной части. Конечно, я его видел, и не один раз, его все здесь знают, можно сказать, каждая собака.
— Скажите, — отходя от окна, спросил Бютцов, — почему партийный секретарь Чернов проявил такую трогательную заботу, когда вас выпустили из тюрьмы? Он устроил вас на работу, помог получить жилье. И потом, чекисты редко кого выпускают, а вас почему-то выпустили, да еще перед самой войной помогли приехать сюда, ближе к границе?
— Так сюда я сам добрался, пешком, — глядя на него снизу вверх, ответил Сушков. — Почему отпустили, я писал.
— Вы связаны с Черновым? — перебил его Клюге.
— Да что вы?! — привстал переводчик. — Он же в банде, в лесу.
— Вот именно, — засмеялся Клюге. Поднялся из-за стола и, подойдя почти вплотную, встал перед Дмитрием Степановичем. Качаясь на носках, повторил — Вот именно, он в лесу, в партизанской банде. А вы здесь! Я имею в виду не комендатуру, а город. Мы знаем, что вы вместе с Черновым служили в Красной Армии, потом вы приезжаете сюда, начинается война, он уходит в лес, а господин Сушкоф остается в городе, занятом нашими войсками. Странное совпадение, не правда ли?
— Не знаю, — опустил голову переводчик. — Я обо всем этом уже сообщал немецким властям. И я уже почти два года сотрудничаю с немецкой администрацией. Честно сотрудничаю, — последние слова он постарался особо выделить.
— Послушайте, Сушкоф! В НКВД работают не дураки, но и здесь нет глупцов, — усмехнулся Клюге. — Мы все досконально проверяли. Все! Вам бы следовало упасть в ноги господину фон Бютцову, покаяться, что вас опутал Чернов, добровольно выдать его людей… Еще не поздно.
Мысли Дмитрия Степановича лихорадочно заметались: что это, провокация, очередная проверка? Или они знают? Но откуда, откуда им знать? Он всегда был предельно осторожен — не от опыта, нет, от страха! Единственный раз рискнул, когда подошел к дверям гостиной в охотничьем домике, а теперь расплата? Неужели они смогли выследить его по дороге на явку?
— Скажешь? — твердый кулак Клюге о силой обрушился на голову переводчика. Отлетев от удара к стене, Сушков попытался подняться, но эсэсовец подскочил, врезал ногой по ребрам.
— Скажешь, скажешь, — пиная дергавшегося от боли Дмитрия Степановича, приговаривал Клюге.
— Перестаньте, — остановил его Бютцов. — Вы забьете его насмерть!
Тяжело переводя дыхание от злости, Клюге сел за стол. Подрагивавшими от возбуждения пальцами достал сигарету, прикурил, глядя, как Бютцов подошел к лежавшему у стены Сушкову.
— А ведь я верил вам, — с горьким сожалением сказал Конрад. — Более того, доверял. И такая черная неблагодарность в ответ за все?
Дмитрий Степанович молчал, глотая слезы боли и поражения. Не так он мечтал закончить свою жизнь, ох не так, не в немецком застенке, — пусть не на руках дочери, пусть не на руках любящей и заботливой родни, но не так.
Не выпустят они, это он уже понял, а поняв, почему-то не испугался. Страх разом кончился, осталась в душа только неизбывная горечь от того, что не смог выполнить все до конца, что опередили они его, не дали дойти до знакомого дворика и постучать в двери старого дома, где живет Прокол. Не дали рассказать, передать тайну. Наверное, ради нее он и мучился у немцев все эти долгие месяцы, терпел косые взгляды горожан и учился не презирать сам себя, а теперь оказалось, что все напрасно и тайна должна умереть вместе с ним. Как же несправедлива судьба! Сколько раз он мог расстаться с жизнью — в окопах на империалистической, попав под трибунал во время своих скитаний, в революцию при нападении на поезд анархистов, во время службы в Красной Армии, когда болел дважды тифом, когда сидел в тюрьме, но всегда провидение спасало его, выводило из-под последнего удара, готового поставить точку. Неужели нечто непознанное вело его именно к этой новой войне, к работе у немцев, вело к обладанию тайной?
Хорошо, теперь он обладает ею, но не может передать никому из своих, а это самый страшный удар судьбы — знать и не иметь возможности сказать своим, вовремя предупредить. А там, далеко отсюда, начнут разворачиваться страшные события, поскольку люди не знают, кто рядом с ними…
С трудом опершись руками о грязный пол, он сел, привалившись спиной к стене. Тело болело, но еще сильнее — душа. Уж лучше бы Клюге сразу убил его, ударив сапогом в висок, — не было бы теперь таких страданий, а худшие, видимо, еще впереди. Господа завоеватели весьма изобретательны на разные мерзопакости, уже насмотрелся на допросах, может себе представить, что его ждет, и даже в какой последовательности. Сегодня, наверное, бить пока больше не будут, начнут разговоры, дабы проверить — уже сломали или нет? Ошеломили его первым, пробным натиском, неожиданно взяв на улице, притащив сюда и начав допрос?
Для себя он решил: главное — молчать, молчать, как бы ужасно не оборачивались события. Молчать на допросах, молчать под пыткой, поскольку лишь откроешь рот — и больше может недостать сил сдерживаться. Надо обрести в себе еще большую ненависть к ним, вспоминать, как ты воевал с ними на фронте в империалистическую, сколько сумел принести им вреда здесь, работая по заданию Колесова и Чернова в городе, передавая партизанам добытые сведения. Это должно помочь выстоять, не согнуться и не сломаться…
Нагнувшись, Бютцов заглянул в лицо переводчика.
— Упрямитесь, не хотите говорить с нами откровенно? Господин Клюге сказал вам, что еще не поздно раскаяться, и я подтверждаю его слова. Вы можете сохранить свою жизнь, Сушков.
— Я ни в чем не раскаиваюсь, — тяжело, с расстановками, морщась от боли в груди и ребрах при каждом вздохе, ответил Дмитрий Степанович. — Не в чем мне раскаиваться. Просто пришло время платить долги…
— Вот как? — Конрад выпрямился. — Ваша связь с лесной партизанской бандой оборвалась, Сушков.
Он отошел к столу, сел на свободный стул, небрежно закинул ногу на ногу и, глядя на носок начищенного сапога, тихо сказал:
— Хорошо умирать чистым перед богом и людьми, дорогой Сушков, а у вас так не получится, нет. Нитка в наших руках, нитка вашей связи с Черновым, прячущимся в лесу. Он там, вы — здесь. И он не придет выручать переводчика Сушкова, спасать его от петли или пули. Мы будем постоянно дергать за кончик ниточки и сделаем из вас, милый Дмитрий Степанович, прекрасного предателя, даже если вы смолчите под самыми страшными пытками.
Переводчик не сразу понял, что его поразило в словах фон Бютцова. Смысл? Нет, пусть то, что он говорит, страшно, но и к этому надо быть готовым — к смерти с клеймом отступника, к невозможности оправдать себя перед оставшимися на воле, перед оставшимися в живых, и он думал об этом, когда давал согласие душным летним вечером в маленьком домике, сидя за столом напротив Колесова и Чернова.
И тут его словно ударило — Бютцов говорил на чистом русском языке! Говорил свободно, правильно, без малейшего акцента! Вот с кем он провел рядом долгие месяцы, даже не подозревая, что майор, вернее штурмбанфюрер, только делает вид, что выслушивает его перевод, а сам прекрасно понимал каждое произнесенное слово. А бедняга Сушков ничего не подозревал. А Бютцов? Он мог подозревать с самого начала и играть с переводчиком, как играет сытый кот с мышью. Но зачем, зачем? Чтобы потом, когда это надоест, уничтожить? Или надеялись через него выйти на подполье, но не вышло, не получилось и теперь срывают злобу неудачи?
Да, из него действительно посмертно могут сделан предателя, даже наверняка сделают. И что теперь?
Хуже другое — знание тайны уйдет с ним в небытие…
— Вам есть о чем подумать, — улыбнулся Бютцов. — Вы в руках СД, а наша служба умеет быть милосердной к побежденному противнику. У вас сейчас два пути — с нами, или… — Конрад многозначительно показал пальцем на потолок — Поэтому думайте!
Несколько дней прошли относительно спокойно, если можно назвать покоем пребывание в камере блока смертников.
На допросы Слободу пока не вызывали, и он, как другие узники, помогал чем мог избитым и покалеченным, вернувшимся в камеру после вызова к следователям.
Маленький человечек, раздававший свои вещи на память, как ни прискорбно, оказался прав: под утро его и еще несколько обитателей камеры вызвали «с вещами» и увели. Смертники проводили их стоя, никто не спал. Проурчал во дворе мотор тяжелого грузовика, и все смолкло.
— В Калинки повезли, — мрачно сообщил Семену лохматый сокамерник, жестам предлагая занять освободившееся рядом с ним место на нарах. — Отмучились.
Остальные промолчали, уныло устраиваясь прикорнуть до рассвета. Немного повозившись, лохматый сиплым шепотом рассказал, что часто казнят и прямо во дворе тюрьмы, не вывозя осужденных на заброшенные глиняные карьеры, прозванные Калинками, по имени расположенной неподалеку убогой деревни. Тогда почти вся тюрьма имеет возможность наблюдать за казнью — немцы считают, что это ослабляет волю узников, помогает развязать непокорным языки наравне с пытками. О себе лохматый коротко сообщил, что он из окруженцев и зовут его здесь все Ефимом. О прошлом Слободы он не расспрашивал, о себе тоже ничего не говорил.
Вскоре Семена вызвали на первый допрос. Надели на запястья наручники и повели по тюремным галереям в другое крыло здания. В кабинете его ждал следователь — розовощекий упитанный человек с косым пробором в поседевших волосах и аккуратными усиками. Пограничник ожидал, что допрашивать будет эсэсовец, но следователь был в штатском. Переводчика тоже не видно.
Розовощекий довольно сносно говорил на русском языке, иногда замолкая, чтобы подобрать нужное слово. Медленно перелистывая страницы лежавшего перед ним на столе пухлого дела, он начал задавать вопросы об отряде «Мститель», побегах из лагеря, связях партизан с советской разведкой.
Семен молчал. Следователь бросал вопросы в тишину, курил одну сигарету за другой, и, казалось, оставался совершенно невозмутимым.
— Иногда молчание красноречивее любых слов, — назидательно сказал он, откидываясь на спинку стула. — Вы выдаете себя за пилота? У нас имеются другие сведения. Может быть, попробуем вместе разобраться? Вы докажите мне, что действительно являетесь асом, и тогда многие вопросы отпадут сами собой.
Пограничник молчал, глядя в дощатый пол следственного кабинета. За решетками окна, выходившего во двор тюрьмы, сидел на карнизе воробей — нахохлившийся, голодный. Перекликалась немецкая охрана, мерно ходил в коридоре дежурный надзиратель, щекотал ноздри дым сигареты следователя и хотелось жить, выйти отсюда на улицу, шагать по покрытой грязью дороге не со связанными руками, а свободно. Но надежд не было, они угасали с каждым днем, растворялись в камерном бытие, становясь призрачными, словно приснившимися или пришедшими из какой-то другой, не его, Семена Слободы, жизни.
— Не хотите, — констатировал следователь, приминая в пепельнице окурок. — Плохо! Мало того, глупо! Вам надо защищаться, а вы упорно молчите. У нас есть средства заставить вас говорить, но я подожду, дам вам возможность еще немного поразмыслить.
Слободу опять отвели в камеру. Подсел лохматый, расспросил о следователе.
— Это Штропп, — выслушав Семена, сообщил он. — Коварный субъект. Не били? Значит, еще будут.
Лохматый оказался прав. На следующем допросе розовощекий Штропп уже не казался таким невозмутимым, как в первый раз. Он повесил свой штатский двубортный пиджак на спинку стула и остался в рубашке, перекрещенной на спине широкими подтяжками. Слобода решил, что следователь сейчас начнет его бить, но тот впустил из смежной комнаты двух громил в бриджах и нижних рубахах с резиновыми палками в руках. Зашторили окно — в лицо ударил яркий свет сильной лампы — и после каждого вопроса били.
Сколько продолжался этот кошмар, пограничник не знал. Ему не давали упасть со стула, звучал голос следователя и тут же взрывалась боль, резал глаза свет, сопели дюжие палачи, а Штропп, буквально подпрыгивая на стуле, грубо ругался, мешая русские и немецкие слова, и сыпал все новыми и новыми вопросами:
— С кем ты связан в городе? Где сейчас партизаны? Почему тебе удалось бежать? Кто помогал в лагере? Где ты прятался после побега? Где запасные базы бандитов? Где сейчас Чернов?..
Сознание вернулось к Семену только в камере. Ощутив на лице мокрую тряпку — так приятно чувствовать холодное после саднящей боли, — он с трудом открыл заплывший глаз. Второй не открывался — кулак у разозленного следователя оказался тяжелым.
— Ну вот, — улыбнулся опухшими, разбитыми губами лохматый Ефим. — Оклемался, голубчик. С крещеньицем!
Отлежавшись, Слобода сел, привалившись спиной к стойке нар. За время его отсутствия в камере появились новые обитатели: двое немолодых мужчин. Один, с разбитым лицом и спутанными, покрытыми кровавой коркой волосами, тяжело прохромал к параше.
— Во, видал? — шепнул Ефим. — Переводчик немецкий. Оказался связным партизан, подпольщиком.
— Откуда знаешь?
— А его весь город знал. Сушков, Дмитрий Степанович, бес хромой, как его прозвали. При наших, говорят, тоже сидел, не знаю, правда, за что. И подумать не могли, что его так. В чести у немцев был, на машинах с ними катался.
Второй мужчина безучастно уселся в углу, обхватив колени руками. На вопросы старосты он не отвечал, отказался от пищи и даже от воды.
Старик-староста, хмуро поглядывая на него из-под нависших век, сказал:
— Боишься провокаторов? Людей обижаешь. Здесь никто никого ни о чем не расспрашивает. Здесь только те, с кем уже все ясно, провокаторов сюда немцы не сажают. Ни к чему! Но если ты хочешь уйти молча, это твое право.
Под утро молчуна вывели. Камера, по обычаю, проводила его стоя. За окном не было слышно урчания мотора грузовика, и те, кто мог, добрались к решетке, чтобы поглядеть во двор.
Жадно вглядываясь одним глазом в сумрачный рассветный свет, Семен видел, как вывели молчуна с неестественно раскрытым, белым ртом, подтолкнули к стене. Солдат не видно, но слышно команду на немецком. Треск нестройного залпа — и их бывший сокамерник рухнул лицом вниз.
Подошел офицер, вытянул руку с парабеллумом и выстрелил в затылок лежавшему. Повернулся и, убирая оружие в кобуру, отошел — спокойно, размеренно, словно подходил к урне выбросить окурок сигареты. Слободе стало нехорошо, и он отвернулся от окна, стараясь подавить приступ головокружения и тошноты.
Отдышавшись, он устроился поудобнее на нарах. Через минуту от окна вернулся Ефим. Усевшись рядом, протянул половину сигареты:
— Помянем? Больше нечем…
— Что у него случилось с лицом? — помедлив, спросил пограничник.
— Гипс, — помрачнел Ефим. — Начальник тюрьмы не любит, когда осужденные выкрикивают перед казнью лозунги, и приказывает забивать им рты кляпом из гипса.
Мимо них прохромал к нарам Сушков. Сел, ссутулив плечи и уронив руку между колен. Ефим повернулся к нему, протянул окурок:
— Возьмите, помогает немного.
— Спасибо. — Тот взял, поднял на него глаза — А вы?
— Ничего, — отмахнулся Ефим, — вам нужнее сейчас. Как же вы так, Дмитрий Степанович?
— Откуда вы меня знаете? — вскинул голову переводчик, подозрительно глядя на лохматого Ефима.
— А я жил тут, — объяснил он. — На лесоразработках встречались. Не помните?
— Н-нет, не припоминаю. Благодарю за табак.
И Сушков отвернулся, жадно досасывая окурок.
Семен впервые близко разглядел бывшего переводчика. Вроде бы странно, жить вместе на нескольких квадратных метрах и только впервые близко увидеть человека, постоянно находящегося с тобой в одной камере? Нет ничего странного — после допросов, когда заново начинаешь учиться ходить, дышать, смотреть, не до разглядывания соседа по нарам.
Лицо у Сушкова разбито, губы опухли, пальцы, держащие окурок, грязные, дрожащие. Порванный на плече пиджак, рубашка с мягким отложным воротничком закапаны кровью, на груди — наверное, раньше он носил галстук, а теперь вместо него темные обрывки светлой, в тонкую полосочку, ткани. Рассеченная бровь словно приподнята в удивлении, морщинистая шея, костлявые плечи, торчащие из уха седые волоски.
Сидевший рядом на нарах переводчик докурил, плюнув на палец, аккуратно затушил окурок — маленький, чуть больше ногтя на мизинце, но из него потом можно будет еще вытрясти оставшиеся крошки табака, — и спрятал его в карман пиджака. Семену стало жаль этого пожилого, сильно избитого человека, и он предложил:
— Устраивайтесь рядом, здесь свободное место. Миска и ложка есть?
— Спасибо, — тихо откликнулся Сушков. — Миску мне обещал староста. Простите за любопытство, здесь не принято задавать вопросов друг другу, но это происходит часто?
Он кивнул в сторону окна, и его разбитое лицо исказилось гримасой не то боли, не то страха. Съежившись, переводчик ожидал ответа.
— По-разному, — уклончиво ответил Семен. — Вас сразу сюда отправили?
— Нет, — вздохнул Дмитрий Степанович, пытаясь поудобнее улечься на жестких досках. — А вы, простите, давно тут?
— Не очень, — буркнул пограничник.
«Странный человек этот бывший переводчик. Даже в камере бубнит: «простите, извините»… Неужели он и с немцами так разговаривает на допросах? Хотя нет, похоже, он молчит — иначе его бы так не разукрасили».
Поняв, что разговор окончен, Сушков притих, лежа за спиной Семена. Вскоре послышалось его похрапывание — легкое, с чуть заметным присвистом.
— Обычно они расстреливают, предварительно раздев догола, — негромко говорил кому-то староста камеры, устроившийся в другом углу длинных нар. — Сегодня, наверное, очень торопились покончить и не раздели. У них все подсчитано, — горько усмехнулся он, — даже одежда казненного стоит определенную сумму пфеннигов.
Шелестел шепот читавшего молитву старосты, похрапывал за спиной Семена бывший немецкий переводчик, провалившийся в тяжелое забытье, молчал лохматый Ефим, уставив неподвижные глаза в стену камеры, а в окна вползал рассвет — туманный, серый, обещая скорый приход нового дня допросов и пыток. Дня, который для кого-то из насильно собранных здесь людей станет последним…
Последний доклад у наркома о работе специальной группы оставил ощущение собственной беспомощности перед неотвратимо надвигающейся бедой — страшной, неумолимой, готовой, как безжалостная тупая машина, подмять под себя всех и вся, раздавить, уничтожить, сломать и… двигаться дальше, напрочь забыв о том, что осталось позади.
Брезгливо поджимая узкие губы и щуря глаза за холодно поблескивавшими стеклышками пенсне, нарком молча слушал доклад, изредка делая пометки на лежавшем перед ним листе бумаги. Изловчившись, генерал Ермаков сумел разглядеть непонятные закорючки — скоропись, стенография или буквы неизвестного ему горского языка? Что означали эти заметки?
Потом нарком долго вертел в руках карандаш, поглядывая на свои закорючки, а присутствовавшие ждали его слов, почти физически чувствуя, как давит на плечи повисшая в кабинете тишина. Наконец он заговорил, привычно кривя в улыбке губы и быстро обегая внимательным взглядом лица находившихся в кабинете. Пальцы его рук то сплетались вместе, словно сойдясь на горле врага, то расходились в стороны, будто желая дать тому возможность втянуть в себя еще несколько глотков воздуха перед концом, чтобы продлить мучения. С уст наркома легко слетали фамилии, имена, воинские звания людей, на которых, по его мнению, а скорее всего не только по его, следует обратить самое пристальное внимание.
Он давал программу действий, заранее указывая тех, на кого должно пасть подозрение, и спорить либо возражать было бессмысленно и небезопасно. Это Ермаков уже не только понял, но и хорошо знал. Нарком не терпел возражений и был крайне злопамятен, ничего не забывая и не прощая.
Сейчас, вернувшись в свой кабинет, генерал раздумывал над тем, как быть, что можно сделать, поскольку самые худшие опасения уже получали подтверждение.
Нарком жаждет власти еще большей, безграничной, внушающей животный страх и заставляющей остальных падать ниц и дрожать. Для этого он готов пойти дальше Ежова, мечтавшего превратить своих сотрудников в замкнутую секту, во всем послушную его воле, забыв о заветах Ленина и Дзержинского. Да что готов, уже идет, только по-своему, более хитро и менее прямолинейно, внешне вроде бы неприметно делая свои страшные шаги, крадучись, бочком, пряча лицо и глаза. А ставшие известными, популярными в народе и воюющей армии военачальники — серьезная помеха на пути к безграничной власти, конкуренты, а во многих случаях — личные враги.
Да, теперь пора с полным основанием сказать, что боялся Ермаков не зря — названы имена, очерчен страшный круг. Но время еще есть: нарком не любит спешить, сегодня он пустил пробный шар, проверяя реакцию подчиненных, проследил за выражением их лиц и глаз. Наверняка он так же делал не только здесь, но и в самых высоких сферах, — иначе не решился бы на такое. Может быть, первоначально круг имен был шире и его пришлось скорректировать, несколько сузив, а не исключено, что все наоборот — круг, после беседы «наверху», только расширился. Круг тех, кто теперь будет проверяться особо тщательно. И найдутся желающие отличиться, отыскать червоточинки, поднести их наркому, но на это опять же нужно время, а он, Ермаков, должен использовать его по-своему: отвести подозрения от невиновных, пока этот круг не стал приобретать жесткость стальной западни, из которой уже никому не вырваться. Сколько у него есть времени, какие сроки определил нарком для завершения своей операции? Неизвестно…
Позвонил Козлов и по своей обычной привычке попросил разрешения зайти.
— Заходи, — вздохнул еще не отошедший от невеселых мыслей Ермаков.
Через несколько минут появился Николай Демьянович с неизменной синей папкой в руках. Поглядев на него, генерал отметил, как сдал тот за последнее время — под глазами появились мешки, резче обозначились морщины у глаз.
«Нервничает, — подумал Алексей Емельянович, — но виду не хочет подавать, крепится. И спит мало, хотя кто сейчас много спит? Поговорить бы нам друг с другом открыто, обсудить создавшееся положение, да вряд ли он пойдет на откровенность. Могу ли я на него положиться, первым начав разговор? Или, может быть, не говорить прямо, обойтись намеками, некими иносказаниями?»
— Мы проанализировали расписание поездов, — сев к столу, раскрыл папку Козлов. — Проверки машин на дорогах пока ничего не дают, вражеская агентурная станция не обнаружена.
— Так, а почему именно поезда? — прищурился генерал.
— Во время проверок на автомобильных дорогах службой пеленгации зарегистрирован очередной сеанс связи немецких агентов со своим радиоцентром, — спокойно пояснил подполковник, — а на основе анализа расписания движения поездов и примерного места работы вражеского передатчика, продолжающего перемещаться во время сеанса, наметился кое-какой круг.
Слово «круг» неприятно резануло слух Ермакова, напомнив о докладе у наркома, и он недовольно буркнул:
— Хитрят. Сосунков сюда не отправят, вот они и наводят тень на ясный день, ведут передачу с параллельной дороги во время прохождения эшелонов или пассажирских поездов.
Николай Демьянович помолчал, перебирая лежавшие в папке листы, потом ответил:
— Время прохождения поездов через квадрат, в котором работает вражеская станция, у нас есть. Дороги перекрывали все до единой, вплоть до проселков. Кстати, Волков с Урала передал, что не исключена возможность связи радиста с информаторами на заводах или в городе при помощи железной дороги.
— Конечно, — горько усмехнулся генерал, — ему оттуда, о Урала, виднее, — но тут же пожалел о своем резком выпаде и, пытаясь загладить возникшую неловкость, спросил — Операторы радиоперехвата не ошибаются? Станция действительно движется, меняет свое положение во время сеанса? А то мы будем на них полагаться, распылимся, отвлечем внимание в сторону, а враг за это время сменит тактику. Думаю, стоит про чесать квадрат.
— Будет исполнено, — заверил Козлов, — но версию с железной дорогой считаю перспективной. По ней надо усиленно поработать.
— Уже работаем, — вздохнул Ермаков, доставая из коробки папиросу. — У нас теперь будет много работы…
Прикуривая, поглядел поверх пламени спички в глаза Козлова. Тот не отвел своего взгляда. «Понял? — засомневался Алексей Емельянович. — Или раздумывает, как уйти от разговора?»
Подполковник собрал документы, неторопливо завязал тесемки папки и, положив на нее руки, удивленно поднял брови?
— У нас и так работы хватает, товарищ генерал. Зачем все понимать буквально, пока нет конкретных приказов?
«Сообразил, — откидываясь на спинку стула, удовлетворенно вздохнул Ермаков. — Попробуем пойти дальше?»
— Наверное, потребуется дополнительное увеличение состава спецгруппы? Как полагаешь, Николай Демьянович?
— Мне кажется, в этом пока нет необходимости, — чуть заметно улыбнулся Козлов.
«Этот не кинется очертя голову искать шпионов среди своих, — наблюдая за ним, решил генерал. — Или я ничего не понимаю в людях и зря проработал с ним столько лет бок о бок».
— Будем постоянно советоваться, — давая понять, что разговор закончен, многозначительно сказал генерал.
— Понял, Алексей Емельянович. Непременно будем, — вставая, ответил подполковник. — Полагаю, наши сотрудники за рубежом не ошибаются, утверждая, что изменник один.
— И я того же мнения, — провожая Козлова до дверей своего кабинета, Ермаков крепко пожал ему руку.
Через несколько дней Сушков стал своим в камере, более или менее освоившись с тюремным бытом. Его тоже вызывали на допросы, приволакивали избитым. И сокамерникам приходилось тащить бесчувственное тело бывшего переводчика, брошенное солдатами у дверей, на нары, класть ему на лицо и руки холодные мокрые тряпки, держать за плечи, когда он порывался в бреду встать, куда-то пойти, кому-то рассказать…
Придя в себя, Дмитрий Степанович обычно просил извинения за доставленные им хлопоты, а иногда пускался в воспоминания о детстве, о старом Петербурге, об учебе в университете и первой мировой войне, на которой, как выяснилось, он был офицером.
— Да, холодный Питер семнадцатого, — устроившись в уголке нар, негромко рассказывал Сушков Семену и лохматому Ефиму, к которым присоединялись некоторые сокамерники. Рассказы Сушкова были редкими развлечениями, помогали хоть ненадолго забыться, уйти в иной мир, навсегда потерянный и невозвратный.
— Помню, давали концерты Бутомо-Названовой в консерватории. Она пела Шуберта, а в Академии художеств читала стихи Анна Ахматова. Божественная женщина! Питер был холодный и голодный, как и вся Россия тогда: редкие трамваи, редкие прохожие, стрельба по ночам…
Временами Сушков замолкал, уходя в себя, задумчиво улыбаясь разбитыми губами. Собравшиеся вокруг него терпеливо ждали, пока он снова вернется из своих воспоминаний в мрачную камеру смертников.
Иногда Слободе казалось, что его сосед по нарам тихо и незаметно сошел с ума от допросов и пыток. И теперь, витая в прошлом, слабо отдает себе отчет в действительно происходящем вокруг, вспоминая то Петербург, то Москву, то свое офицерство на первой мировой, то работу в школе. И тем не менее Сушков ему нравился — он не скулил, не жаловался на судьбу, старался даже здесь, в камере, быть вежливым и аккуратным, правда это не всегда удавалось.
Сам Семен уже невообразимо устал от допросов. И однажды с удивлением обнаружил, что ждет их прекращения. И вдруг они в самом деле прекратились. Что-либо подписывать он отказался, и Штропп, закурив очередную сигарету, небрежно помахал ему рукой:
— Иди, мы теперь не скоро увидимся!
Когда Слободу выводили из следственного кабинета, он слышал за спиной издевательский хохот немца.
Ночью забрали старика-старосту, о котором вездесущий и всеведущий лохматый Ефим сообщил Семену:
— Он был военным капелланом у поляков.
Камера проводила своего старосту стоя. Вместе с ним забрали еще несколько человек — и всех с вещами.
— Да спасет вас великий господь! — сказал староста уходя. За ним молча вышли остальные.
Громко стукнула дверь камеры, лязгнул задвинутый засов, глухо донесся топот многих ног по галерее старой тюрьмы. Потом заурчали во дворе моторы грузовиков…
Оставшиеся долго не спали — казалось, стало пусто и сиротливо без старика, к которому все так привыкли. Забившись в угол, Семен пытался задремать.
Сегодня второй день после прекращения допросов. Скоро, наверное, и его вызовут под утро с вещами и повезут в Калинки, заставят раздеться при свете направленных на смертников автомобильных фар, потом поставят на краю рва и дадут залп. Кончатся тогда все надежды, не будет больше ничего впереди и умрет вместе с ним его неуемная жажда жизни. Отсюда уже не убежать, да и сил не хватит.
Неожиданно он почувствовал, как лежавший рядом переводчик потихоньку дергает его за рукав. Немного помедлив, Слобода повернул к нему лицо:
— Что?
— Тише, — едва прошелестел Сушков, — пожалуйста, тише!
Приподнявшись, Семен поглядел на сокамерников. Повернувшись к ним спиной, свернулся калачиком лохматый Ефим, другие лежат еще дальше. Чего опасается бывший переводчик?
— В чем дело? — ложась на бок лицом к Сушкову, спросил пограничник.
— Вы должны выслушать меня, — жарко зашептал ему почти в самое ухо Дмитрий Степанович. — Выслушать и понять. Мне здесь больше некому довериться.
— Почему? — не понял Семен. — Здесь все на одном положении.
— Ах, не то, не то вы говорите, — чуть не застонал Сушков. — Я слышал, как про вас говорили немцы, вы столько раз бежали. Я же свободно владею их языком… Может, и теперь вам удастся…
— Перестаньте, — отодвинулся от него Слобода. Не иначе бредит переводчик, или точно свихнулся. Вон как лихорадочно горят в полутьме его глаза, губы прыгают, выговаривая слова, щеки трясутся. Такое бывает, видел в лагерях, когда человеком овладевает навязчивая идея побега и он сходит с ума, каждому по секрету выкладывая фантастические планы освобождения.
— Не думайте, я не сумасшедший, — настойчиво потянул его ближе к себе переводчик. — Просто в моем положении не остается ничего другого, как довериться здесь кому-нибудь. Я долго думал и выбрал вас. Вы молоды, можете выжить, (поэтому прошу, выслушайте меня, а потом будете судить.
Его слова и тон, каким они были сказаны, заставили пограничника несколько изменить свое мнение. Вдруг у Сушкова действительно есть что-то за душой и он не хочет унести это с собой в могилу, отправившись в Калинки на немецком грузовике, а старика-старосты, готового терпеливо выслушивать любого обитателя камеры, больше нет. Что же, придется это сделать ему, Семену Слободе.
— Слышали про Чернова? — приподнявшись и поглядев через плечо пограничника на дремавших сокамерников, тихо спросил переводчик.
— Приходилось, — уклончиво ответил Семен, еще не понимая, куда клонит сосед.
— Он хорошо меня знает, — улыбнулся Сушков. — Мы вместе воевали в гражданскую.
— И что? — пограничник был заинтересован. Вот уж чего он не ожидал от Дмитрия Степановича.
— По его личной просьбе я остался в городе в сорок первом. Работал переводчиком в городской управе, потом у штурмбанфюрера фон Бютцова. Впрочем, зачем я рассыпаюсь по мелочам… Хотя, слушайте, я не подозревал, с кем работаю, но всегда все передавал людям Чернова. Немцы об этом уже знают, поэтому я не боюсь говорить. Меня скоро… Ладно, я не стану больше отвлекаться, простите, путаюсь немного. В общем, к моему шефу приехал важный чин из Берлина и они были на охоте. Там мне удалось подслушать один их разговор. Речь шла об изменнике среди наших генералов.
— Что?! — чуть не подскочил Слобода.
— Тише, — Сушков зажал ему рот грязной ладонью. — Тише, ради бога! Нас могут услышать… Я узнал имя изменника и хочу назвать его вам. Я шел на явку, когда они меня взяли, понимаете? Не успел передать своим.
Услышав непонятный скрипучий звук, Дмитрий Степанович замолк, вглядываясь в лицо лежавшего рядом пограничника. Тот смеялся — скрипуче, натужно, горько.
— Что с вами? — встряхнул его за плечо переводчик. — В чем дело? Дать воды?
— Не надо, — немного отдышавшись, ответил Семен. — Нет, вы действительно сумасшедший, уважаемый Дмитрий Степанович. Хотите доверить тайну и имя предателя тому, кто, возможно, раньше вас отправится в Калинки? Я же унесу ее только в ров, уже полный трупов.
Он снова скрипуче засмеялся, недоуменно вертя головой и приговаривая:
— Труп рассказывает трупу… Ха-ха!
— Прекратите балаган! — неожиданно больно дернул его за ухо Сушков, и боль несколько отрезвила Слободу, вернула к реальности, заставила вновь прислушаться к шепоту переводчика.
— Все мы здесь смертники, — сипло дыша, говорил он, — но кто-то умрет раньше, кто-то позже. Вы знаете сокамерников лучше меня и сможете передать тайну другому, взяв с него слово передать ее, в свою очередь, дальше, пока не придут наши или что-то не изменится. Ведь не может продолжаться кошмар оккупации вечно, а зло, страшнейшее зло предательства, должно быть обязательно наказано.
Услышав, как заворочался на нарах лежавший сзади пограничника лохматый Ефим, Сушков замолк, настороженно подняв голову. Убедившись, что все нормально и никто их не подслушивает, он зашептал снова:
— Поймите, это единственный выход! Другого просто нет.
— Пожалуй, — поразмыслив, согласился Семен.
— Боюсь, что та явка, куда я шел, может быть тоже провалена, — придвинувшись ближе, шепнул Дмитрий Степанович. — На всякий случай я дам адрес и пароль запасной явки. Запомните: Мостовая, три, стучать в окно около двери два раза, потом еще два, когда откроют, спросить Андрея. Пароль; «Я слышал, вы в деревню на менку идете, хочу свои чоботы на картошку сменять». Теперь ответ: «Чоботы зимой пригодятся, не боишься остаться разутым?» Скажете тогда: «Дядька обещал новые купить, надеюсь, не обманет». Запомнили?
— Запомнил, — буркнул пограничник. — Только кто туда пойдет и будет все это говорить?
— Теперь самое главное, — переводчик приблизил свои губы к самому уху Слободы и зашептал — Кличка предателя у немцев Улан, а фамилия…
Услышав ее, пограничник сгреб Сушкова за грудки и встряхнул:
— Ты… Ты как это? Ты…
— Молчи! — отрывая его руки от себя, простонал тот. — Я сам чуть ума не лишился. Сейчас главное, чтобы это не умерло вместе с нами, дошло до наших. Предупреди того, кому передашь, что на старые явки ходить опасно, боюсь, за мной следили.
Обессиленно отвалившийся на спину пограничник молчал — слишком неожиданным было все свалившееся на него здесь, в камере смертников тюрьмы СД. Он не мог, не хотел верить, но с другой стороны — зачем Сушкову лгать, если он сам стоит на краю могилы, какой резон? Человек, видимо, действительно узнал, а его законопатили сюда и убьют, чтобы тайна умерла вместе с ним. Ну нет, не дождетесь…
Но тут же он остановил себя. Отсюда еще никто не выходил живым, поэтому немцы ничем не рисковали, посадив в камеру смертников возможного обладателя тайны. Он, Семен Слобода, горько прав, сказав, что труп доверяет тайну трупу, — какой прок от их тихого ночного разговора, кому он, в свою очередь, передаст эту тайну? Кому сказать о ней — Ефиму? Ему тоже осталось день-другой. Да и сам Семен должен считать последние часы. Что же делать, как быть? Не разбить ли голову о стену, чтобы не звучал в ушах шепоток переводчика?
Чернов — секретарь подпольного райкома, это пограничник энал. Он не отправит работать в подполье, да еще среди немцев, неизвестного человека, а посему нельзя не доверять Дмитрию Степановичу, как бы страшен и горек не был его рассказ. Но что же делать? Что?!
— Не выйдет отсюда никто, а помирать мне теперь еще страшнее, — снова повернувшись на бок и оказавшись лицом к лицу с переводчиком, сказал Семен. — Теперь и я буду мучиться, что не могу сам передать нужным людям вашу страшную весть.
— Передашь другому, — веско сказал в ответ Сушков, — кому веришь. Кто-то же выйдет отсюда когда-нибудь? Не навечно же здесь немцы! А может, выпустят кого или сунут в нашу камеру по ошибке…
— Какая ошибка?! — чуть не заорал Слобода, и Дмитрий Степанович вновь был вынужден призвать его к тишине.
Успокоившись, пограничник шепнул:
— У них в этом отношении ошибок не бывает. Если и сунут кого зря, то так же и кончат, как нас, чтобы ничего не вынес отсюда в другие камеры или на волю. Тут даже перестукиваться не с кем! Кругом тебя пустота, рядом только немцы! А мы уже покойники, хотя и рассуждаем, как живые!
— Неужели я ошибся в тебе? — грустно сказал Сушков.
Слобода отвернулся и засопел, глядя на лохмы давно не стриженных волос Ефима. Он был недоволен собой, состоявшимся разговором и Сушковым. Впрочем, и тот, скорее всего, недоволен. Поговорили, называется, поделились…
Предъявив часовому пропуск, Клюге начал спускаться по щербатым ступеням, ведущим в подвальное помещение тюрьмы. Внизу, у поворота коридора, еще один вооруженный эсэсовец вновь проверил у него пропуск и молча посторонился, пропуская шар-фюрера. Вот и дверь. Нажав кнопку звонка, Клюге подождал, пока откроют, и вошел.
Около стены стоял длинный стол с аппаратурой, вертелись катушки, перематывая магнитную ленту. Дежурный оператор прижал плотнее наушники ладонями, прослушивая запись. Сбоку сидел Эрнест Канихен. Увидев вошедшего коллегу, он приветственно помахал рукой, сложив большой и указательный палец в кольцо.
— Все? — снимая фуражку, полуутвердительно спросил Клюге.
— Болтают, — равнодушно отозвался Канихен.
Подвинув свободный стул, Клюге присел рядом с оператором, взяв свободную пару наушников.
…— не выйдет отсюда никто, а помирать мне теперь еще страшнее будет, — донесся до него тихий голос. — Теперь и я стану мучиться, что не могу передать…
— Это молодой? — откладывая наушники, спросил Клюге у оператора. Тот кивнул. Все так же крутились большие бобины с пленкой, шелестел на записи голос узников камеры смертников.
— Чертовски плохо слышно, — приминая в пепельнице окурок, доверительно пожаловался Канихен. — Шепчутся, подлецы, ползают, как вши, из угла в угол нар, не сидится им на одном месте.
Клюге задумчиво побарабанил пальцами по крышке стола, наблюдая за оператором, менявшим кассеты на аппарате, — техника еще несовершенна, но она во многом помогает в работе, однако как и прежде приходится больше полагаться на людей. Люди, люди, с той и с этой стороны, со своими заботами и судьбами, планами и мечтами, всем им чего-то надо, куда-то они стремятся, чего-то хотят, и столько приходится тратить сил, пока загонишь их в заранее предназначенную западню. Утомляет! Но уж коль загнали, то не вырвутся!
— Ничего, — он потер лицо ладонями, — технику страхуют… Устал я, Эрнест, плохо сплю, да еще стоит дурацкая погода: слишком рано начинается весна, слякоть, ветер, сырость… Как ты тут выдерживаешь, в этом подвале? Не схватил ревматизм?
— Я выхожу подышать, — ухмыльнулся Канихен, — да и потом, скоро конец.
— Э-э, — отмахнулся Клюге, — когда кончится одно, обязательно начнется что-нибудь другое. Я сейчас поднимусь в кабинет начальника тюрьмы и прикажу привести туда Барсука. Если выяснится, что дело действительно идет к концу, то распорядись освободить второй коридор.
— Да, я позвоню, — кивнул на внутренний телефон Эрнест. — Хорошо бы закончить с этим поскорее. Надоело. Как только ребята здесь сидят месяцами?
Он небрежно похлопал по плечу оператора, ответившего ему бледной улыбкой, — поглощенный прослушиванием и записью, не снимавший наушников, он не слышал, о чем говорят.
— Там чисто? — показал пальцем на потолок Клюге.
— Проверено, — заверил Канихен. — Батареи парового отопления давно срезаны, печи в камере разобрали еще поляки, а парашу просто выставляют за дверь. Противно, но ребятам каждый раз приходится ее всю проверять, чтобы не спрятали записок. Вот уж у кого дерьмовая работа!
— Итак, кругом дерьмо, — скривил губы Клюге. — Хорошо, по трубам они не могут перестукиваться, а стены?
— Стены, — фыркнул Эрнест. — Наверху крыша, под ними следственный кабинет. С одной стороны камеры лестничный марш, а с другой — склад тюремного имущества. Кроме того, из их отсека вывели всех заключенных и за каждым, отправляемым на допрос из камеры, внимательно следят, чтобы не попытался что-либо сказать, крикнуть или бросить записку. Можешь не волноваться, я уже подробно докладывал обо всем обер-фюреру.
Клюге тяжело поднялся, надел фуражку, немного постоял, о чем-то раздумывая, но, видимо, приняв решение, направился к выходу. У двери он обернулся:
— Не забудь про второй коридор.
Канихен сделал обиженное лицо и снял трубку внутреннего телефона. Хлопнула тяжелая дверь, и Клюге отправился в обратный путь из подвала.
Стоя у зарешеченного окна в кабинете начальника тюрьмы, Клюге, брезгливо сморщившись, разглядывал двор. Он никогда не любил посещения тюрем, концлагерей или полицейских участков — все они тягостно и противно отдают казенщиной, словно оставляющей на тебе свой незримый налет, от которого потом долго не удается отмыться. Особенно отвратительно чувствуешь себя в лагерях, когда чадят трубы печей крематориев, извергая жирный, черный дым с приторно-сладковатым запахом, впитывающимся в одежду и преследующим тебя даже спустя несколько дней. Да, противно, но необходимо: кто-то же должен брать на себя эту нелегкую работу и ответственность, чтобы другие могли спокойно заниматься своими делами?
— Акцию проведете во дворе. По обычной методе, — не оборачиваясь, сказал он начальнику тюрьмы.
— Я уже подумывал, как бы отказаться, — озабоченно вздохнул тот. — Здание плохо приспособлено, на окнах, выходящих во двор, нет специальных жалюзи, и заключенные имеют возможность наблюдать казни. Не из всех камер, конечно, но имеют.
— Что вас смущает? — чуть повернул голову Клюге. — Пусть видят, как мы караем предателей и врагов. Чем меньше их выйдет отсюда, тем лучше, а друг другу узники могут рассказывать о казнях сколько угодно, это пойдет только на пользу. Главное, чтобы об именах казненных не узнавали на воле.
— Исключено, — обиженно заявил начальник, — большинство едет прямо в Калинки, к старому противотанковому рву.
— А куда вы деваете тела тех, кого казнят здесь? — обернулся гость, доставая портсигар.
— В мешок и ночью на кладбище. Здесь есть одно, почти заброшенное, очень удобное место.
— Да, но надо заранее приготовить ямы или могилы? — не унимался гость. — Кто этим занят?
— Сторож. Не волнуйтесь, проверенный. У него всегда приготовлено несколько ямок, — тихо посмеялся начальник тюрьмы, складывая на объемистом животе, перетянутом ремнем с кобурой, свои короткопалые, пухлые руки. — Что, скоро понадобится?
— Поглядим, — снова поворачиваясь к окну, ответил Клюге. — Прикажите доставить сюда Барсука. Надо с ним потолковать.
— Я распоряжусь, — неуклюже вылезая из-за стола, заверил начальник тюрьмы. — Выпьете кофе? Не бразильский, конечно, но вполне сносный. Обнаружили на местном складе.
Он причмокнул губами и достал из шкафа спиртовку. Поставил на стол чашечки и маленькую вазочку с печеньем. Немного подумав, вынул початую бутылку ликера, а из ящика стола извлек пузатые рюмочки тонкого стекла.
Выпили кофе, болтая о всякой всячине — налетах проклятых англичан на Берлин, новой речи доктора Геббельса, оставшихся в Германии семьях и трудностях в воспитании детей в такое время, когда отцы служат вдали от дома. Несмотря на разницу в званиях, начальник тюрьмы держался с Клюге уважительно, помня о его близости к высокому начальству, и в то же время старательно следил за собой, чтобы не сболтнуть лишнего, — место начальника специальной тюрьмы не так просто достается, а лишаться его не хотелось. Здесь много спокойнее — за толстыми стенами с вышками охраны и прожекторами, за глухими коваными воротами. Есть шанс уцелеть, сохранить свою голову, не подставляя ее под пули партизан и террористов из подполья, не отправляясь на фронт или в какой-нибудь беспокойный город. Тем более, начальник СС Лиден по-дружески шепнул, что Клюге и Канихен не просто телохранители обер-фюрера, а опытные контрразведчики из его ближайших сотрудников. Надо быть настороже.
— Поговорите наедине? — убирая со стола, спросил начальник тюрьмы после того, как дежурный надзиратель доложил, что заключенный доставлен.
— Да, Канихен звонил насчет второго коридора? — Клюге достал из кобуры парабеллум, передернув затвор, загнал патрон в ствол и убрал оружие в карман бриджей.
— Все готово, — закрывая дверцы шкафа, улыбнулся хозяин кабинета. — Мои люди предупреждены.
Заперев сейф, он вышел. Через несколько секунд в комнату ввели средних лет человека, с давно не стриженными волосами.
Знаком приказав надзирателю удалиться, Клюге достал ключ и сам снял с рук заключенного стальные браслеты, небрежно бросив их на стол. Протянул растиравшему запястья узнику открытую пачку сигарет.
— Спасибо, — прикуривая от поднесенной спички, поблагодарил Ефим.
— Как дела? — показывая ему на стул и усаживаясь за стол начальника, поинтересовался Клюге.
Жадно затягиваясь сигаретой, Барсук зло усмехнулся:
— Всю ночь шептались… Я улегся к ним спиной, и они ничего не подозревали. Но вы же знаете, какой у меня тонкий слух?! Переводчик очень подозрителен, никому не верит и долго присматривался, пока не выбрал этого парня, Грачевого.
— Он не Грачевой, — прервал агента Клюге. — Ему удалось спрятаться под этой фамилией в лагере. Мы уже все проверили. Дальше!
— Ночью Сушков, когда говорил, все поглядывал на меня, я просто чувствовал. Как я понял, он знает нечто важное: подслушал во время разговора своего шефа с важным гостем.
— Вот как? — заинтересованно протянул Клюге. — Ему все же удалось это сделать. Так, и что он говорил?
— Умолял Грачевого передать своим о каком-то предателе среди красных генералов…
— Имя?! — нетерпеливо перебил его эсэсовец. — Он называл имя?!
— Да, — Ефим докурил и, не спрашивая разрешения, вытянул из пачки, лежавшей на столе, новую сигарету. Возбужденный Клюге не обратил на это никакого внимания. — Только очень тихо, на ухо Грачевому, и я не смог расслышать. Еще он дал ему адрес запасной явки подпольщиков на Мостовой, три у некоего Андрея.
Эсэсовец довольно потер руки, весело поглядев на приободрившегося Ефима. Не в силах сдержать радостного возбуждения, Клюге встал, прошелся по кабинету, остановился над Барсуком.
— Тебе нельзя больше туда возвращаться, понимаешь? Теперь их возьмут в активную работу, а твоя миссия почти закончена. Ты славно потрудился, славно. — Он похлопал Ефима по плечу и озабоченно заглянул ему в лицо. — Надо бы тебя показать доктору, мне не нравятся кровоподтеки. Теперь лечиться, мой друг, лечиться и питаться, все подробно написать и отдыхать, а потом снова придется потерпеть работу наших ребят над лицом и отправиться в камеру. Но уже в другую.
— Скоро? — досасывая сигарету, снизу вверх посмотрел ему в глаза Ефим. — Я к тому, что стоит ли беспокоить доктора? Честно говоря, терпеть, когда тебе разукрашивают морду, не очень приятно. А вот поесть я с удовольствием, оголодал на баланде.
— Ну, ты же знаешь, что нельзя подкармливать, — примирительно сказал Клюге, беря свою фуражку. — Представляешь, что могло случиться, если бы они унюхали своими голодными носами исходящий от тебя запах сала или колбасы? Удушат ночью, а ты нам еще нужен. Пойдем, — распахивая дверь, приказал он. — Сейчас закусишь как следует, а мы пока все оформим надлежащим образом, чтобы потом ни у кого не возникло малейших подозрений.
Ефим торопливо примял в пепельнице окурок и пошел к выходу: наконец-то закончилась его очередная работа. Довольно улыбаясь, он привычно направился палево по коридору.
— Не сюда, — остановил его Клюге, — нам направо. Сейчас поведут на допросы, — шагая рядом с Барсуком, пояснил он. — Лучше избежать ненужных встреч. Выйдем через второй коридор.
Он показал на узкую лестницу, ведущую вниз, в слабо освещенный редкими лампами подвал. Ефим первым пошел по лестнице, придерживаясь рукой за шероховатую стену; сзади, отстав на пару шагов, спускался Клюге. На ходу он достал парабеллум, подняв его, приставил ствол к затылку агента и нажал спусковой крючок…
Днем забрали на допрос Ефима, а через несколько часов пришли хмурые надзиратели и увели Сушкова. Слобода остался один. Нет, в камере были и другие заключенные, но не стало в ней людей, с которыми он успел как-то сродниться за эти дни и недели.
Ни Ефим, ни Сушков не вернулись. Кто-то из «старичков», давно сидевших в камере смертников, затеял было разговоры о выборах нового старосты, но другие его не поддержали, предложив подождать возвращения ушедших на допросы. Семена почему-то мучили дурные предчувствия, он старался гнать их прочь, убеждая себя, что и Ефим — неунывающий, всегда откуда-то все про всех знающий, способный раздобыть щепотку табака, и обстоятельный, интеллигентный Сушков непременно вернутся. Он даже заранее приготовил тряпку почище и налил в миску воды, чтобы сразу же оказать помощь товарищам, когда их, избитых и окровавленных, бросят у порога камеры надзиратели, но…
Забравшись в угол нар, пограничник снова и снова вспоминал ночной разговор с Дмитрием Степановичем. Тот доверил ему тайну, доверил жизни других людей, которые ждут на явке в третьем доме по Мостовой улице, да разве только их жизни? Жизни множества бойцов и командиров, не знающих о предателе, а что может он, бывший лейтенант погранвойск Семен Слобода? Хотя, почему бывший, его никто не лишал воинского звания, не освобождал от принятой присяги? Как выполнить свой долг, находясь здесь? Достойно встретить смерть от руки врага и унести тайну с собой? Для этого ли он ее узнал?
Семен начал по-новому разглядывать своих сокамерников. Жизнь здесь необычайно скоротечна, может внезапно прийти его черед уйти и никогда не вернуться, а на то, что он опять увидит Ефима и Сушкова, надежд почти не осталось.
Перебрав всех, кто остался в камере, Семен понял, что из тех, с кем он встретился, придя сюда, практически никого не осталось! Островком среди новых незнакомых узников были для него Ефим и переводчик Сушков, а теперь и их нет, он один здесь старожил, а скоро не станет и его самого. Занятый разговорами с переводчиком и Ефимом, вызовами на допросы, мрачными зрелищами казней и ухода товарищей в Калинки, он и не заметил, как мало-помалу сменились обитатели камеры. То отлеживался после избиений на допросе, то волокли на новый допрос, а в это время приводили в камеру новых узников, а он, непривычный к тюремному бытию, не задумывался о тех, кто рядом с ним, — больше волновала своя судьба, собственные переживания. Поговорил с Сушковым по душам, — пусть и расстались они нехорошо, так и не сказав друг другу теплого слова, за что он будет себя казнить до последнего вздоха, и лег на него тяжкий груз ответственности за доверенное, которое, оказывается, не знаешь, кому и передоверить.
В бессильной ярости скрипнув зубами, Слобода ничком лег на нары, уткнувшись лицом в прелую соломенную труху. За что ему такая боль, раздирающая израненную душу невозможностью ничего сделать, за что такие мучения перед концом, в чем он так виноват перед людьми и судьбой, пославшей страшнейшее испытание — знать тайну и молчать.
А если закричать во весь голос, сказать сразу всем, кто сидит вместе с ним в одной камере?
Нет, тогда их кончат всех разом — у дверей постоянно торчит надзиратель, услышит, да и поверят ли ему сокамерники — ведь сам он тоже далеко не сразу поверил Сушкову? Что же делать?..
Под утро, когда он наконец забылся и в тяжкой дреме привиделся Дмитрий Степанович — избитый, нянчивший здоровой рукой другую, покалеченную на пытке. Прихрамывая, он шел к Семену и тихо говорил:
— Так ты не забудь, Мостовая, три, спросить Андрея.
— Пойдем вместе, — предложил ему Слобода, во сне совсем не покалеченный и одетый в новенькую форму, со скрипящими ремнями командирского снаряжения на плечах.
— Нет, — грустно улыбнулся Сушков. — Некогда мне, одному тебе придется, Сема.
— Откуда ты знаешь, как меня зовут? — удивился Слобода. Ведь никто, кроме него самого, этого здесь не знал, а звали Грачевым, но переводчик уже пропал, словно растворившись в белесых космах тумана, выползавших из заросшей лебедой и бурьяном низинки, через которую вела тропка…
Разбудил шум во дворе, лающие немецкие команды, блики света. Обитатели камеры собрались у окна. Опираясь на чужие плечи, выглянул в него и Семен, поднявшийся с нар и еще не отошедший от своего сна.
В кирпичную стену тюремного двора был вбит загнутый железный штырь, на котором болталась петля, освещенная прожектором с вышки.
В стороне мелькнул белый докторский халат, смутными тенями скользнули черные мундиры эсэсовцев, тащивших к крюку с петлей извивающегося, с неестественно раскрытым белым ртом на потемневшем лице человека.
«Переводчик! Сушков!» — словно ожгла Слободу догадка.
Вот он уже хорошо виден в синевато-белом свете прожектора. Да, это Дмитрий Степанович! Дюжие немцы в черных мундирах тащат его к виселице, а он вырывается, цепляется хромой ногой за асфальт двора, ему выкручивают руки, защелкивают на них браслеты наручников, накидывают петлю на шею…
Один из немцев достал бумагу, что-то прочитал — слов не было слышно — и взмахнул рукой, как отрубил. Из-под ног Сушкова вышибли сразу развалившийся от удара ящик, и его тело задергалось в петле…
Глава 6
В старом парке дышалось вольно: синело сильно протаявшим льдом озеро, хорошо видимое с дорожек сквозь ветви голых деревьев, открылись ранее покрытые снегом, ровные каменные плитки, которыми вымощены главные аллеи, играло в лужах яркое солнце и отражалось высокое чистое небо, придавая им некую голубизну и прозрачность, столь желанную после метелей. Солнце и ветер методично делали свое дело, слизывая сугробы, давая доступ живительному теплу к заждавшейся его земле, на припеке уже проклюнулась редкая зелененькая травка и робко вылезли на свет подснежники, подняв хрупкие, светлые головки.
Проходя мимо них, Бергер специально замедлил шаг, чтобы полюбоваться этим чудом…
Конрад фон Бютцов почтительно подождал, пока обер-фюрер не закончит любоваться цветами. Стареет, становится все более сентиментальным, или в его голове уже созрели какие-то новые планы и он мысленно проверяет их вновь и вновь, прежде чем начать разговор? Разговор будет, обязательно будет, в этом Конрад был полностью уверен, не зря же обер-фюрер пригласил его прогуляться в парке? Отто Бергер весьма не любит доверять свои слова и сокровенные мысли стенам — в них могут прятаться замаскированные микрофоны.
Предложение выйти на прогулку последовало неожиданно, видимо, начальник и дальний родственник фон Бютцов хотел быть уверенным, что его подопечный не возьмет с собой диктофона, спрятав его в кармане шинели. Надо полагать, беседа предстоит серьезная? О чем хочет говорить обер-фюрер?
Отошедшие в сторону страхи и уснувшие было подозрения, что Бергеру досконально известно истинное положение дел с польской операцией сорокового года, когда по оплошности Конрада советская разведка получила нужные ей сведения, вновь начали терзать Бютцова — обер-фюрер не прост, никогда не знаешь, что на самом деле у него на уме, о чем он действительно думает и как намерен поступить. Единственно, остается уповать на то, что если он знает правду и до сих пор никому не открыл — ее, то не желает зла своему ученику и родственнику, а кроме того, в том польском приграничном городке, где разворачивались события, находился и сам обер-фюрер, руководивший операцией. Ему тоже не нужны неприятности, которые не замедлят последовать, если все станет известно Этнеру или, что еще хуже, рейхсфюреру.
Отстав на полшага, погруженный в невеселые размышления Конрад уныло тащился следом за обер-фюрером по аллее, выводившей к берегу озера. Бергер шел ссутулив плечи под теплым кожаным пальто с меховым воротником — в парке еще довольно прохладно, — мерно ступали по квадратным, светлым каменным плиткам аллеи его сапоги, но пальцы сложенных за спиной рук беспокойно шевелились, словно в ответ на мучившие его мысли, невысказанные и от того еще более тягостные.
«О чем он думает?» — встревоженно гадал Бютцов.
— Вы бывали в Италии, Конрад? — чуть повернув голову, неожиданно спросил Бергер, словно приглашая Бютцова догнать его, пойти рядом и доверительно побеседовать.
Да, сегодня Отто Бергер наконец решился поговорить со своим питомцем, придя к заключению, что тому по-прежнему можно верить. Но доверие доверием, а хитрые капканы словесной паутины он продумал заранее, и от исхода разговора будет зависеть многое, очень многое в дальнейшей судьбе его ученика и родственника. Впрочем, не только в его судьбе, но и в судьбе самого обер-фюрера.
— В Италии? — быстро догнав Бергера, несколько озадаченно переспросил Бютцов. Что означает этот вопрос, куда клонит старый лис? — Нет, мечтал, но не пришлось, к сожалению.
— А я бывал, — застегивая верхнюю пуговицу пальто, буркнул обер-фюрер. — Там сейчас уже тепло, совсем как летом. И знаете, что я думаю? Итальяшки просто дураки! Они слишком серьезно относятся к сладкоголосым тенорам, сопливым оперным ариям и своим макаронам, забывая за этим о более серьезных вещах. Они даже приговоренных к смерти расстреливают, посадив на стул, считая, что казнимый имеет привилегии. Это махровый идиотизм, Конрад. Казнь не театр, а у них и жизнь и политика государства превращается в действо, подобное оперному. Бред! Потому там все и начинает трещать по швам. Но мы не будем их расстреливать, сажая на стулья!
Он замолчал, зябко спрятав подбородок в меховой воротник. Бютцов, еще более озадаченный услышанным, ждал продолжения и, не дождавшись, решился сам задать вопрос.
— Что там происходит? Вы знаете больше меня, скажите?
— Развал, — покосился на него Бергер. — Все разваливается: армия, правительство, партия… Все! Медленно, но верно, а теперь это будет приобретать характер лавины. когда, один камень увлекает за собой сотни других, скатываясь с крутого склона горы. Боюсь, что мы скоро можем потерять союзника, а после Сталинграда выход макаронников из войны только усугубит положение.
— Вот даже как? — слегка присвистнул Конрад. — Но они не посмеют!
— Посмеют, — горько усмехнулся Бергер. — Им просто некуда будет деваться. С другой стороны моря жмут британцы, в горах действуют банды левых и коммунистов, и все вокруг устали воевать. Наши болваны не видят очевидных вещей и до сих пор верят дуче, патетически заверяющему их о полном порядке в стране. Или не хотят видеть, предпочитая сладкий обман жестокой реальности.
Обер-фюрер достал портсигар, вынул из него сигарету, прикурил от огонька поднесенной Бютцовом зажигалки и кивком поблагодарил его.
— Хотите спросить, как такое возможно? Все очень просто, на удивление просто. Раньше, еще до войны, коммунисты призывали к решительным действиям, а социал-демократы боролись за демократические преобразования. Каждый из них считал возможную победу только своей, причем коммунисты часто обвиняли социал-демократов в предательстве, а те, в свою очередь, кричали о преждевременности коренных социальных преобразований, обличали коммунистов в отсутствии политической терпимости и поспешности попыток обобществления средств производства. Но все это до тех пор, пока они не объединились для борьбы с нами. Когда им это удается, они забывают о своих распрях и действуют весьма слаженно.
Сейчас они пока едины, и острота их разногласий вновь проявится потом, но нам не станет от этого легче, если режим дуче рухнет, обозначив начало общего конца. Меня больше волнует, что станется с политической картой Европы спустя года три-четыре. Каковы окажутся восточная и западная части континента, как будут реагировать друг на друга, какие возникнут блоки и будет ли среди них Германия?
— Все так серьезно? — остановился Конрад, не в силах скрыть охватившего его беспокойства. Черт возьми, на его памяти Бергера еще ни разу не подвел тончайший политический нюх. Неужели он и на сей раз не ошибается?! Какая же жуткая судьба ждет их и как скоро? Бог мой, если прогнозы старого лиса верны, то сколь мелка тогда старательно скрываемая польская история…
— Думаете о Польше? — обер-фюрер взял Бютцова под руку, заглянув в его глаза. Заглянул так, словно не ждал ответа, зная его заранее и не нуждаясь в словах отрицания или утверждения. — Вспоминаете прелестную девушку Ксению, исчезнувшую неизвестно куда, русского разведчика, сумевшего проникнуть в тайну абвера? Не вспоминайте, Конрад, не нужно мучить себя памятью неудач.
— Вы… знаете? — отшатнулся «пораженный Бютцов. Как теперь быть, что говорить, оправдываться или пытаться перейти в наступление, сваливая вину на самого обер-фюрера? И дернул же дьявол за язык, когда вырвались эти проклятые слова, которые вполне можно расценить как признание. А если у Отто в кармане диктофон?
— Знаю, — проворчал Бергер, увлекая своего питомца дальше по аллее к озеру, — знает и Этнер, не только я. Ты молодец, что ни разу не обмолвился об этом деле, а в РСХА о нем, похоже, забыли. И ты забудь!
«Как же, забудь, — машинально переставляя ноги, подумал Конрад. — Теперь будешь вставать и ложиться только с одной мыслью — что дальше, если против тебя в любой момент могут пустить в ход компрометирующую информацию. Зачем он сказал, зачем? Какую преследовал цель, сделать меня более сговорчивым? Но в чем я должен сговориться с ним?»
— Анализ, великая вещь, — тихо продолжил обер-фюрер. — Достаточно было поразмышлять и внимательно проанализировать действия русской контрразведки после нашей операции, чтобы понять — победа осталась за ними. Не волнуйся, Этнер ничего не скажет, ему не выгодно выставлять себя неудачником.
На берегу озера их встретил сильный холодный ветер, и Бергер, недовольно поморщившись, повел Конрада опять в глубь парка, под защиту деревьев и старых стен замка. Бютцов чувствовал, как твердо держит его локоть рука обер-фюрера, и в нем вновь начало возрождаться чувство уверенности — родственник не должен желать ему зла, они оба принадлежат к старому роду и обязаны поддерживать друг друга. Конечно, Отто потребует каких-то компенсаций за помощь и дальнейшее молчание и придется на это пойти, вот только какими будут компенсации?
— Размышления, размышления, — скрипуче посмеялся обер-фюрер, выбрасывая окурок сигареты. — Я в последнее время, как никогда, много размышляю, в том числе и о тоталитарности власти. Любой тоталитарный режим неизбежно начинает страдать манией подозрительности, которую жадно впитывают и такие, как мы, призванные верой и правдой охранять его. Эта мания искусно подогревается близкими к обожествляемым вождям людьми — они не могут чувствовать свое положение прочным, иначе как везде отыскивая врагов режима и, следовательно, личных врагов властителя. Это единственный способ надолго удержаться у щедрой кормушки государства. И тогда религией становится жестокость! Жестокость, подозрительность и усиленно насаждаемое всеобщее недоверие. Дело даже не в лозунгах тоталитарного режима, которыми он прикрывает свое жалкое естество, подобно фиговому листку, а в самой его сути, в противопоставлении слепой, задавленной народной массе идеи и фигуры вождя, призванных слиться в сознании подданных воедино. Да, я о Германии! Ну и что? Мы быстренько ликвидировали практически все демократические формы и создали такую пирамиду власти, которой позавидовал бы любой фараон древности. В каждой точке этой страшной пирамиды действуют местные политические начальники, этакие «маленькие фюреры», от которых требуется такой же политический автоматизм, как от работницы табачной фабрики: она, не глядя, берет рукой ровно десяток или два десятка сигарет и вкладывает их в пачке, ползущую по конвейеру. Мы кастрировали свои теории согласно требованиям сиюминутной тактики, не ведая сомнений, волюнтаристски заменили законы рынка и международных торговых связей субъективной государственной волей, искусственно созданными ценностями и подчинили все интересам войны, а нас охотно копируют «союзники». Но когда пирамида с жутким треском рухнет, я не хочу быть похороненным под ее обломками…
Бергер сердито насупил брови и сжал в нитку тонкие губы. Приходится пережевывать и заставлять мальчишку глотать давно ставшие прописными для самого обер-фюрера истины, однако иного выхода нет, это надо сделать, чтобы он боялся будущего и искал спасения рука об руку с ним, Отто Бергером. В одиночку они тоже могут спастись, но это будет труднее, а старший брат Конрада живет в Соединенных Штатах, эмигрировав из Германии по воле своего хитроумного отца много лет назад. Он натурализовался, обзавелся семьей, оброс связями и даже пытается играть в политику — об этом обер-фюреру прекрасно известно: еще только собираясь породниться с родом фон Бютцовых, он собрал о них всю информацию.
Не исключено, что развал, намечающийся в Италии, видят верхи рейха, особенно в РСХА, но сознательно вводят в заблуждение фюрера, принося жертву на алтарь возможных будущих договоренностей с американцами и англичанами, — через Ватикан давно пытаются наладить контакты с разведками этих стран и здравомыслящими политиками, не желающими усиления коммунизма в Европе. Зная об этом, Бергер задумал свой ход, смертельно опасный в случае неудачи, но верный, пожалуй, даже единственно верный. Он слишком многое успел спрятать в тайники памяти, чтобы не найти общего языка с такими же профессиональными политическими разведчиками по другую сторону океана или канала. Сейчас надо поторопиться и опередить попытки договоренности верхов, иначе станет поздно и они окажутся ненужными — он и Конрад. Хотя фон Бютцов со своим лысым хитрым отцом выплывут, но кто, подобно барону Мюнхгаузену, вытянет из болота обер-фюрера? Никто, кроме него самого.
Пока американцы, англичане и русские — союзники, но что будет потом? Их сегодняшний союз противоестествен, а события нарастают со страшной скоростью, время словно несется вскачь, и не успеешь оглянуться, как уже опоздал вскочить на подножку последнего вагона уходящего поезда.
— Если о ваших мыслях узнают, — прервав молчание, осторожно начал Конрад, — то не может быть и речи о присвоении вам звания бригаденфюрера. Хотя вы его давно заслужили.
— Мой мальчик, — доверительно обнял его за плечи Бергер, — сейчас не стоит стремиться к высоким званиям, особенно в СС. Я этого не делаю и тебе не советую! Чем выше звание, тем большему числу людей ты отдаешь приказы, и потом уже не сможешь сослаться, что сам являлся только простым исполнителем чужих приказов. Ясно? Придет время, когда с распоряжения, а победители зачастую не знают жалости.
Они дошли до поворота аллеи. Здесь уже нет ветра, пригревало солнце и дорожки совсем сухие.
— Мы пытаемся заставить русских стать змеем, пожирающим самого себя, — заметил Бергер, — но это временная цель, хотя и важная. Стоит подумать, серьезно подумать о том, как стать желанными гостями на Западе.
— Вы полагаете?..
— Я не полагаю, — желчно усмехнулся обер-фюрер. — Я твердо уверен, что разведчик всегда должен иметь не один, а несколько запасных вариантов. На любой случай! Особенно если он работает в политической разведке. Нам нужна, как никогда, крепкая мужская дружба и работа рука об руку. Работа на себя!
— Каким временем мы располагаем? — по-деловому спросил Конрад. — И что надо сделать?
Его тон понравился Бергеру, — значит, он не зря распинался, гуляя по аллеям: парень не глуп, он понимает силу единения, особенно с родственником и коллегой по СД. Тем более, знающим о его грехах. Да что грехи. Обер-фюрер специально пугнул его старой польской историей, чтобы втянуть в водоворот новых событий, отрезать дорогому родственничку пути отступления, а когда тот нырнет, подтолкнутый Бергером, в омут опасной политической интриги, направленной на спасение их душ и тел, тем более будет вынужден обеими руками держаться за обер-фюрера, — иначе смерть!
Польша только приманка, но мальчик жадно заглотал ее. О провале той операции группенфюрер Этнер не знает — он получил награду и пребывает в полной уверенности ее успешного проведения, тем более, что двадцать второе июня сорок первого обрушилось на красных, как неожиданное извержение вулкана. Отто Бергер специально упомянул Этнера, обезопасив себя, чтобы у мальчишки вдруг не появилась шальная мысль проводить отсюда тело родственника в закрытом гробу, свалив все на партизан или подпольщиков, — все-таки Конрад обжился тут, подмял под себя людей СС и полиции, да и опыт СД не проходит даром. Но теперь эта мысль у него не родится, нет, не родится. Он уже думает о другом — о контакте с Западом.
— У всех случаются удачи и неудачи, — спокойно заметил обер-фюрер. — Ты можешь полностью положиться на меня, ведь я ни разу не подвел за прошедшие годы?
Бютцов кивнул — да, родственник действительно еще ни разу не подвел. Всегда находил ему теплые места, включал в операции на своей территории, за успешное завершение которых давали награды, уберег от восточного фронта, поддерживал дружески деловые отношения с его отцом — старым фон Бютцовом. Конрад и сам задумывался над будущим, поэтому слова Бергерд нашли у него понимание, но как придумал вывернуться старый лис?
— Все произойдет не завтра, — поворачивая к замку, тихо сказал Отто. — У нас еще есть года три, максимум четыре, но начинать надо сейчас. Ты должен написать письмо брату, в Соединенные Штаты.
— Но это станет для нас концом! — отшатнулся Бютцов.
— Все продумано, мой мальчик, — успокаивающе похлопал его по плечу Бергер. — Никаких имен, обращаешься: «Дорогой брат». Никаких подписей, никаких новостей семьи, только как верительная грамота. Напишешь на немецком.
— Как же письмо попадет за океан?
— Это моя забота, — прищурился обер-фюрер. — Главное, чтобы попало в руки твоего брата, а ведь он и мне родственник?
— Значит, существует достаточно длинная цепочка, — протянул Конрад. — Риск слишком велик, дядя Отто!
— Цепочка много короче, чем ты полагаешь, — самодовольно вскинул подбородок Бергер. — Ты меня недооцениваешь. Передавший письмо потом просто исчезнет, а на контакт выйду я сам. Есть возможность выбраться ненадолго в нейтральную страну, и грех не использовать шанс. Текст я продумал и продиктую его тебе. Те, кому покажет письмо твой брат, поймут.
— А место и условия встречи? Нельзя же их доверять посланцу?
— И не доверим, — снова взял его под локоть обер-фюрер. — Положись на старого дядю Отто, пиши письмо, завершай операцию и жди перевода.
— Куда? — покосился на него Конрад.
— Подальше отсюда и поближе к Западу, но это тоже будет еще не завтра и даже не через месяц-другой. Наберись терпения, в том, что мы делаем, торопливость не только не уместна, но и смертельно опасна. Явки подполья в городе взяты под наблюдение?
— Да. Группы захвата наготове и ждут приказа.
— Прекрасно, Это станет еще одним подарком нашим новым друзьям, а приказ я скоро дам. Пока все идет как надо, и не будем торопить события, как бы нас ни подгоняли из Берлина. Пойдем, время обедать, и что-то хочется выпить немного коньяка: все-таки еще прохладно…
Бергер зябко передернул плечами. Пора признать, что молодость давно прошла, разговор потребовал нервного напряжения, и даже удачное завершение беседы не заменит согревающей рюмки, восстанавливающей потраченные силы. С каждым годом приходится совершать все большее и большее насилие над собой, чтобы выдержать внутриведомственные интриги, негласные проверки благонадежности, войну, бомбежки, изматывающую работу мозга, лихорадочно ищущего решений задач, которые ставят группенфюрер Этнер и рейхсфюрер, а еще надо заботиться о себе. Нет, не о быте — с этим как раз нормально, — а о будущем, и рисковать ради него. И неизвестно, когда более лихорадочно напрягается мозг:-.решая ведомственные задачи и зарабатывая очередную награду Этнеру или когда работает на себя. Наверное, второе.
Бютцов идет рядом молчаливый, задумчивый. Хорошо что он задумался. Покосившись на своего ученика, Бергер понял: тот сделает все, чтобы вылезти невредимым. Сейчас они вернутся в замок, выпьют по рюмке, снимут напряжение, поболтают о пустяках, но в голове у Конрада занозой будет сидеть мысль о письме. К вечеру он должен полностью созреть и сродниться с ней, тогда-то и надо продиктовать ему заранее продуманный текст…
Напарник сладко похрапывал, завалившись на полку, и Ромин зло ткнул его в бок.
— Вставай. Пора.
Кряхтя, напарник поднялся, накинул шинель, вышел из купе в коридор.
«Конспиратор, — наблюдая за ним, разозлился Ромин. — Мозги как у слепого котенка, а тоже любит корчить из себя… А может, так до конца и не понимает своим убогим умом, чем он тут занят и что ему будет, если нас возьмут?»
— Нормально, — проворчал напарник, выходя в коридор.
Ромин закрыл дверь изнутри на ключ и достал из-под лавки чемодан. Откинув его крышку, вынул завернутую в тряпье рацию. Приготовив ее к работе, положил перед собой шифровку и начал быстро выстукивать ключом:
— ФМГ вызывает ДАТ… ФМГ вызывает ДАТ…
Закончив передачу, он торопливо привел все в прежний вид, спрятал чемодан и, приоткрыв дверь, позвал напарника:
— Покурил? Иди досыпай.
Тот сразу же завалился на полку и, укрывшись с головой шинелью, захрапел.
«Как будто и не было ничего, — неприязненно покосился на него Ромин, — как будто нет у него под полкой запакованной рации. Скотина она и есть скотина!»
Стало до слез жалко себя, такого одинокого в родной стране, ставшей для него чужой, страшной и опасной. Захотелось выпить, но выпить нечего.
Ромин присел к столику, достал папиросу, закурил; следом за синей ленточкой табачного дыма потянулись воспоминания, припомнился старый Петербург, кадетский корпус, юнкерское.
Разве думал он тогда — молодой, счастливый производством в офицеры и постоянно косивший глаза на свои новенькие погоны, как повернется жизнь, предполагал ли, что почти тридцать лет спустя он, уже пятидесятилетний человек, вместе с перешедшим на сторону немцев сыном кулака-эсера будет качаться в служебном купе обшарпанного поезда, выстукивая своим хозяевам шифр-телеграммы? Да если кто-либо тогда сказал бы об этом, он ни за что не поверил бы, счел подобные россказни тяжким оскорблением.
Однако жизнь повернулась совсем не так, как он мечтал, пришлось испить свою чашу, слава богу, пока еще не до дна. Началась война, попал на фронт, потом ранение, снова фронт — атаки, окопы, сырые блиндажи, шушукание солдат, большевики, меньшевики, эсеры. Всех бы их сразу, без суда и следствия ставить к стенке, но распускали наверху слюни, не понимали, куда заведет либерализм и потакание всяким депутатам Думы и бульварным газетенкам. А тут и гром грянул — отрекся государь от престола! Такое пошло, что лучше и не вспоминать.
Вдуматься, так сущая глупость, беспробудная ересь, а, поди же ты, нравилось, подвывали, как собаки на луну, сползаясь в добровольческую армию. И опять кровопролитные бои.
В одном селе, только-только отбитом у красных, неожиданно встретил чудом выжившего после тифа, похожего на труп, Димку Сушкова — прапорщика из их бывшего полка. Тогда-то вдруг и родилась у Ромина мысль добыть себе новые документы — благо все бумаги красного лазарета оказались у него в руках. Добыл, спрятал, еще сам не зная зачем и какую роль они потом сыграют в его жизни. Димка Сушков потом куда-то делся — может, контрразведка забрала, а может, сбежал — снова начали жать красные, и покатились полки добрармии назад, аж до самого Крыма.
Там вроде бы снова ненадолго улыбнулось лучезарное счастье — на самый верх вынесло Петра Врангеля, длиннолицего сорокадвухлетнего генерала. В офицеры его произвели по экзамену из вольноопределяющихся. Юнкерской подготовки он не имел, но стараниями отца попал служить сразу в лейб-гвардии казачий полк. В японскую войну стал хорунжим второго Аргунского полка Забайкальского казачьего войска, потом окончил академию Генерального штаба и в мировую уже командовал первым Нерчинским казачьим полком, входившим в Уссурийскую дивизию, действовавшую под командованием генерала Крымова в Карпатах.
Отец Ромина некогда поддерживал доброе знакомство с Николаем Егоровичем Врангелем, и Ромин-младший, поразмыслив, решился обратиться непосредственно к «Пиперу», как прозвали в гвардии барона Петра Николаевича. Письмо передал с надежным человеком, и вскоре его вызвали в штаб.
Ставка Врангеля в Крыму размещалась в доме бывшего великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала флота, к тому времени, на свое счастье, уже покойного. Поручика Ромина принял сам барон — высокий, широкоплечий, с длинным бледным лицом. На шее у него висел Владимир с мечами, а на черкеске приколот над газырями офицерский Георгий четвертой степени, маленьким белым пятном выделявшийся на траурно-черной ткани. В кабинете находился и генерал Думбадзе, занимавший при царе пост коменданта Ялты.
— Нужны надежные офицеры, — раздвинув в подобии приветливой улыбки тонкие губы, без лишних предисловий сказал барон. — Вы знакомы с Богнаром или Гаевским?
Поручик Ромин знаком с ними не был, но знал, что они руководят контрразведкой.
— Сдадите дела и поступите в их распоряжение, — вяло махнул рукой Врангель. — Но я всегда хочу надеяться на вас, поэтому не потеряйтесь, а я не забуду. Идите!
Заниматься в контрразведке Ромину пришлось кораблями, на всякий случай подготовленными к эвакуации. Их было порядка ста шестидесяти. Покоя не оставалось ни днем ни ночью, а тут еще двадцать восьмого октября двадцатого года началось широкое наступление красных. Второго ноября белым войскам нанесли тяжелое поражение, о седьмого на восьмое начался штурм Перекопа, а пятнадцатого ноября Вторая конная армия красных под командованием бывшего войскового старшины Филиппа Миронова — славного сына Донского казачества — вошла в Севастополь.
Ромин в это время уже качался на волнах в каюте переполненного беглецами парохода, не забыв прихватить нужные бумаги и кое-что из ценностей для прожития на чужбине.
Флот барона отправился в Бизерту, а сам Врангель устроился в Топчидере — дачном пригороде Белграда. Ромин же попал в Болгарию, под команду свирепого генерала Александра Павловича Кутепова. Особенно поручику не нравилось то, что в Велико Тырново по улице Девятнадцатого февраля, в доме номер семьсот один располагался военный суд. Приговор у него всегда был только один — смертный, а для недовольных рядом, в Севлиево, стояли на квартирах дроздовцы под командой Туркула — двадцатисемилетнего черноусого гиганта, прыгнувшего во время гражданской войны из штабс-капитанов прямо в генералы.
Разные мысли одолевали Ромина, деньжата кончались, все чаще он поглядывал на припасенные бумаги, как его вдруг вызвали и направили прямиком в личное распоряжение самого барона.
Раньше поручик от толковых людей не раз слышал, что Врангель сумел заполучить сокровища Петербургской ссудной кассы, наскоро эвакуированной в семнадцатом году в город Ейск, а оттуда по указанию командующего войсками юга России Деникина переправленной в югославский порт Катарро. Слышать-то слышал, но никогда и предположить не мог, что не только увидит пресловутые сокровища, но и будет держать их в руках, мять и корежить золото, готовя его к перепродаже. Среди ценностей было не только золото, но и редкие картины известных мастеров, дорогой хрусталь. Там же находились и солидные запасы серебра Петербургского монетного двора.
Семьдесят ящиков серебра по пятнадцать пудов каждый купили у барона англичане. Американцы взяли семьсот ящиков золотого лома — только ломом, таково было их условие, потому и понадобились для превращения изделий в лом надежные офицеры из контрразведчиков, которым барон доверял. У Врангеля опять появились бешеные деньги, а Ромин сурово задумался над своей дальнейшей судьбой — так ведь и ликвидировать могут вскорости, чтобы не болтнул кому случаем про сокровища и куда они теперь поплыли: сам работал в контрразведке, знает, что почем. И он сбежал.
Пошатавшись несколько месяцев по Франции, направил свои грешные стопы в Германию. Там, под Мюнхеном, в имении майора Кохенгаузена тихо жил известный генерал Петр Николаевич Краснов, участвовавший в семнадцатом году в неудавшемся мятеже Крымова — Керенского. Отпущенный красными под честное слово больше не воевать, он вернулся на Дон и собрал там в восемнадцатом году в Новочеркасске «Круг спасения Дона», который избрал его атаманом Всевеликого войска донского вместо генерала Каледина. А рядом тогда были немцы, с которыми Краснов поддерживал тесную дружбу.
Как бывший казачий офицер и член Российского общевоинского союза, Ромин надеялся получить у генерала помощь и поддержку. Получил. Правда, Краснов быстро установил, что Ромин на самом деле не кадровый казачий офицер, а трансформировался из пехотинца в кавалериста только на некоторое время волею военных судеб, но все же дал ему рекомендательное письмо к деятелям «Союза офицеров армии и флота», располагавшимся в Данциге.
«Союзом» заправляли бывший царский генерал Лебедев и генерал Глазенап. Активным функционером «Союза» был сменивший добрый десяток цветов знамен и лозунгов, широко известный глава армии дезертиров Станислав Никодимович Булак-Балахович, опустошавший набегами своих банд территорию молодой Советской России. Поручик Ромин генералу Глазенапу понравился, и он оставил его в Данциге.
Связи у господина генерала оказались самые разнообразные: теснейшие — с немецкой военной разведкой, немедленно взявшей на заметку Ромина; хорошие — со вторым отделом латвийской буржуазной армии; теплые — с бароном Фирксом и Барби, представлявшими интересы французской разведки; приятельские — с неким господином Судаковым, помощником военного атташе Англии в Латвии; подобострастные — с сэром Уинстоном Черчиллем, к которому Глазенап ездил на поклон в Лондон.
В старом Двинске, названном местными жителями Даугавпилсом, у «Союза» имелось «окно» на границе, и Ромин частенько провожал туда людей. У него появилось широкое поле выбора — кому подороже продаться, под полу чьего сюртука сунуть голову, ища денег, защиты и устраивая дальнейшую судьбу. Прикидывая так и эдак, поручик наконец сделал ставку на немцев и сначала считал, что не прогадал: они пригрели, убрали из Данцига, помогали, а потом сунули сюда, в Россию. Как он не хотел этого, но знал — отказ означает конец.
Вот и пригодились подлинные справочки и мандатики, собранные среди документов красного госпиталя, захваченного в той деревне, где так неожиданно встретились с Димкой Сушковым. Ромина забросили в Западную Белоруссию, оттуда после ее освобождения он перебрался глубже в Европейскую часть России, благо документы были в порядке, национальность русская, а о судьбе Сушкова он узнал каким-то случаем и почел за благо не навлекать на себя подозрений, пытаясь выяснить подробности его ареста.
Ромин, принявший фамилию Федулова, жил тихо, выжидая условного сигнала от хозяев. Войну встретил восторженно, даже напился втихаря на радостях и хвалил, безудержно хвалил себя за то, что не промахнулся, поставил именно на ту лошадку. Что Англия и Франция? Пыль под немецкими сапогами! Британцы, подобно побитым псам, поджав хвосты, драпали из Дюнкерка, а над равнодушно-гордым к эмигрантам Парижем развевается полотнище со свастикой, да и только ли над Парижем?! Мелькнула даже шальная мысль: а не податься ли в Петербург, не узнать ли там о судьбе матушки барона — Марии Дмитриевны Врангель? Слышно было, что она пристроилась при большевиках смотрительницей в музей имени Александра III? Такие старухи, особенно из скандинавских баронских родов, на диво живучи, может, еще тянет старушенция, скрипит помаленьку?
Но потом возбуждение улеглось, и он стал ждать с еще большим нетерпением, когда немцы войдут в Москву. Уже пали Минск, Вильнюс, Рига, Смоленск, Киев! В октябре сорок первого Ромин радостно потирал руки — скоро, уже скоро, недолго осталось мучиться, но произошло нечто страшное: немцы дрогнули, потом сломались и покатились назад.
Ромин с ужасом слушал радио — неужели и Гитлеру суждена трагическая судьба Наполеона? С одной стороны, было приятно, что русские бьют и гонят проклятых немцев, с которыми и он тоже когда-то воевал, а с другой — это побеждают иные русские, чуждые и враждебные. Вот и получается: одних предал, но и другим своим до конца не стал.
В сорок втором его отыскал усатый неприятный мужик по фамилии Скопин. Назвал пароль, передал рацию и задание. Тогда Ромин понял, что надо было в начале войны не хлопать в ладоши и водку жрать, а убираться подальше, так, чтобы его следов не могли обнаружить ни те, ни другие, поскольку ему оказались в конце-то концов чуждыми все. Уехал бы в эвакуацию, а там забрался еще глубже, спрятался еще надежнее. Так нет, хотелось видеть, как немцы войдут в Москву. Дурак!
Убить Скопина, пришедшего от немцев, Ромин не решился. И вот теперь мотается вместе с ним в одном служебном купе из Москвы на Урал и обратно, выстукивая в эфир позывные и торопливо передавая шифровки. Накроют их когда-нибудь, ей-богу накроют!
Папироса давно потухла, из щели немилосердно дуло — наверное, забыл плотно прикрыть окно, убирая антенну, или просто потому, что нервишки все чаще и чаще сдают? Храпел на полке усатый Скопин, мерно поднималась в такт его дыханию черная железнодорожная шинель, укрывавшая грудь и ноги напарника, пришлепывали губы, со слюной в углах рта, веки во сне мелко вздрагивали и на поросшей волосами шее пульсировали крупные, как веревки, артерии.
Качало вагон, качалось пламя свечи в фонаре, тени скользили по лицу Скопина, а Ромину неудержимо хотелось сдавить руками его пульсирующие на шее жилы, ощутить, как хрустнет под пальцами горло, как задергается тело прощающегося с жизнью напарника. А потом выбросить на ходу рацию в снег и спрыгнуть самому. Чемодан куда-нибудь под лед, сесть на другой поезд и — к чертовой матери!
А тот связной на Урале? К нему тоже есть нитка из-за линии фронта, надо тогда и его, как Скопина, который тоже, вроде Ромина, принявшего имя Федулова, может оказаться совсем и не Скопиным. Того, связного на Урале, убрать проще — при встрече завести в глухое место и выстрелить в упор прямо в сердце. Никто и не услышит, а труп зарыть в снег. К весне начнутся метели, снегом занесет прилично, а потом пусть себе оттаивает на здоровье. Тогда до этого Ромину никакого дела уже не будет.
Искать на Урале Ромина не смогут — он сядет после убийства в поезд и укатит. Пусть мечутся — подумаешь, пропал человек. А вот тогда-то и придет черед кончить Скопина.
С трудом отвернувшись от спящего напарника, Ромин поглядел на свои руки: пальцы их скрючились, как будто он уже держал его за горло. Нет, рано и нельзя так, прямо в купе. Надо на каком-нибудь глухом полустанке — ветреном, заснеженном, где поезд останавливается буквально на минуту-другую, а на следующей большой станции, когда от нее уже отойдет поезд, заявить, что Скопин отстал — побежал за кипятком и не вернулся. Вот как надо! А пистолет выбросить вместе с рацией — ну его к бесу, да и зачем он, если начнешь другую жизнь: тихую и незаметную, внешне похожую на эту, но только внешне, а не по сути.
Все, решено, так и надо поступить, не мальчишка уже, хватит!
На столике, освещенном мягким светом лампы, лежало расписание движения поездов. Конец остро отточенного красного карандаша скользил по нему, делая непонятные пометки — крестики, кружочки, плюсы, минусы, подчеркивания. Мерно тикал хронометр, урчал мотор автобуса-пеленгатора, ползущего по темному проселку.
— Сейчас пойдет Горьковский, — негромко напомнил один из сидевших в машине офицеров.
— Да-да, я помню, — поднял голову Козлов.
Операторы поправили наушники, завертели верньеры настройки аппаратуры. Николай Демьянович представил себе, как медленно вращается антенна пеленгатора, установленная на крыше автобуса и замаскированная под громкоговорящую установку. Поймают они сегодня передачу агентурной станции немцев или опять их очередное дежурство закончится ничем?
Кажется, уже все сделано для того, чтобы точно вычислить врага как бы он ни хитрил, — тщательно проанализированы дни и время выхода агентурной станции немцев в эфир, получено подробнейшее расписание движения поездов, высчитано, какие из них и когда проходят через определенные квадраты, откуда были даны перехваченные вражеские шифровки. С удивительным постоянством враг вновь и вновь выходил на связь из этих квадратов или рядом с ними.
Невидимый в темноте, зашумел. приближающийся поезд. Лица у операторов напряглись, застыли, словно они все обратились в слух. Подполковник знал, что с другой стороны железнодорожного полотна по дорогам ползут такие же пеленгационные машины, поэтому ошибка исключена: пеленг будет обязательно взят и в перекрестье нитей на прозрачном планшете определится точное местонахождение проклятой неуловимой станции. Только бы не пропустить. Вражеский радист просто виртуоз, лепит морзянку с дикой скоростью, меняет волны, ускользая от пеленгаторов. Там, в радио-центре абвергруппы, куда летят его позывные, прекрасно знают, когда и на какую волну он перейдет, а нашим операторам приходится перестраиваться на ходу, проверяя весьма широкий диапазон частот.
Шум поезда ближе, вот он уже проносится мимо них и уходит. Обернувшись, Николай Демьянович увидел, что операторы расслабились — передачи не было. Так, будем ждать следующего.
Сегодня как раз такой день — по расчетам неизвестный радист должен выйти в эфир, обязательно должен: во времени его сеансов есть определенная логика, некая система, которую удалось нащупать, ухватить и предугадать наиболее вероятные дни и часы появления в эфире позывных ФМГ, вызывающих ДАТ. По расписанию скоро будет поезд с Урала и состав из Москвы. Надо ждать, хотя от нетерпения просто зудит все тело и почему-то чешется голова.
Прошло два грузовых состава — операторы снова насторожились, но опять безрезультатно.
«Пусто-пусто, как дупель в домино, — с горькой иронией подумал Козлов. — Вот тебе и романтика контрразведывательной работы, одни лазают по заброшенным поселкам, стирая в кровь ноги, другие часами слушают эфир, третьи вылетают в срочные командировки за тысячи километров, а пока все так же пусто-пусто! И не дает покоя работа особой группы. Генерал серьезно обеспокоен последним докладом у наркома — человека невоздержанного, грубого, крикливого, не способного уважать никого, кроме старших себя по положению. А кто в наркомате выше его? По возрасту он молод — всего сорок четвертый год, но кричит и унижает людей старше себя и имеющих больший опыт работы в органах.
Козлова на доклады к наркому не прглашали — тот полагал, что есть черновая работа, для выполнения которой существуют трудолюбивые муравьи в погонах, а подполковник как раз один из них. Зачем муравью созерцать высокое начальство, слушать разговоры, не предназначенные для его ушей? Знай свое дело, выполняй приказ, а думать за тебя будут другие. Но Козлов так работать не привык и не любил. Генерал Ермаков исповедовал иные принципы, выслушивая мнение каждого сотрудника, проверяя свое мнение и мнение других, — в спорах, как известно, рождается истина. За годы совместной работы подполковник привык приходить к нему со своими сомнениями и предложениями, но знал, что далеко не во всех отделах и управлениях наркомата дело обстоит так, как у Ермакова.
Изучение личных дел пока ничего не дало. Работа продолжается, проверяются родные и знакомые генералитета, и, видимо, Алексей Емельянович Ермаков не зря намекнул в беседе с глазу на глаз, что враг один.
— Уральский подходит, — прервал мысли Козлова офицер радиослужбы.
— Внимание, — предупредил подполковник.
— Идет встречный из Москвы, — снова раздался в тишине голос офицера службы перехвата. — Оба поезда пассажирские…
— Есть! — воскликнул один из операторов. — Пеленг!
Не в силах сдержать волнение, подполковник подошел к рабочему столику, на котором вели свои красные нити офицеры радиоперехвата. ФМГ опять вышел в эфир! Теперь нет сомнений, — рация работает из поезда, но из какого? Их два — один следует с Урала в Москву, а другой из столицы на восток. И надо же было им встретиться именно здесь, как раз в момент сеанса! Или это еще одна уловка врага?
Пока связывались с другими машинами, Козлов нетерпеливо хрустел пальцами.
— Точно, из поезда работал, — подтвердил офицер перехвата.
— Из какого? — потер лоб кончиками пальцев подполковник. — А вдруг он едет пассажиром? Как тогда?
— Маловероятно, — высказал сомнение один из офицеров. — Технически трудно вести передачу из переполненного поезда. Даже если пассажиров мало, то как спрячешься от них? Опять же поездная бригада.
— Что? — переспросил Козлов, пораженный мелькнувшей догадкой.
— Я говорю, есть поездная бригада, — повторил офицер.
— Вот именно! — впился подполковник глазами в расписание поездов.
Не в поездной ли бригаде разгадка? Они тоже знают расписание и могут подгадать время передачи под встречный поезд, у них есть возможности вести передачу скрытно от пассажиров — существуют служебные купе, а если вражеские агенты работают в паре, то один может страховать другого во время сеанса. И как это раньше не пришло ему в голову? Молодец Волков, дал толчок мысли, ухватил их за хвост, а теперь надо вытянуть из норы притаившихся гадов, только осторожненько, но не медлить и не наломать дров, чтобы не спугнуть раньше времени, не дать им уйти, затаиться и снова начать выстукивать в эфир свои позывные. Похоже, они пока чувствуют себя в полной безопасности и не надо их разубеждать.
Номера поездов известны, следовательно, не составит труда установить всех, кто входит в поездные бригады. Потом уже дело техники — тщательно проверить каждого, понаблюдать, проехаться вместе с ними по маршруту.
Впрочем, сейчас надо дальше слушать эфир. Передача немецкой агентурной станции записана и пойдет дешифровщикам — содержание ее сегодня же станет известно. Пока служба радиоперехвата продолжает слушать, стоит подумать над мероприятиями по скорейшему выявлению и задержанию немецких агентов, набросать план в блокноте, чтобы по возвращении быть готовым к немедленному разговору с генералом Ермаковым.
Глава 7
Ночью Бергера подняли с постели грохот близких бомбовых разрывов и истеричный лай зениток, судорожно выплевывавших в небо снаряд за снарядом. Тревожные сполохи света метались по стенам, проникая даже сквозь плотные шторы, закрывавшие окна.
Надев туфли и накинув длинный халат, он подошел к окну и отдернул штору — бомбили станцию, расположенную в стороне от городка. В темном небе метались длинные лучи прожекторов, пытаясь нащупать на высоте самолеты противника, идущие со смертоносным грузом бомб, а над железнодорожными путями и строениями уже поднималось багровое зарево бушующего пожара.
«Горючее! — понял Бергер. — Они попали в застрявший на станции эшелон с горючим. Теперь сверху все видно как на ладони и можно бомбить, не сбрасывая осветительных ракет. Какая дурость! Сначала пути взрывают партизаны, вынуждая нас вести ремонт на перегоне, а потом на забитую эшелонами станцию налетают русские самолеты и нет возможности убрать составы из-под бомб».
Несколько минут он стоял у окна словно в забытьи, глядя на яркое пламя и комкая в бессильной ярости край шторы, надо же такому приключиться именно в период его пребывания здесь? Впрочем, зачем терзать себя ненужными упреками, все равно он не в силах ничего изменить — война есть война, да и кто спросит с него за железнодорожные перевозки и обеспечение должной воздушной обороны узловой станции? Это не его забота. Но как работают русские летчики! Заход за заходом на цель, бомбы ложатся кучно, как будто они тренируются на полигоне, а не совершают боевой вылет под огнем зениток.
Задернув шторы, обер-фюрер вернулся к кровати, зажег лампу, стоявшую на ночном столике, и закурил. Еще не оформившаяся до конца мысль, мелькнувшая у него, когда он стоял у окна, глядя на пожар, не отпускала от себя, требуя проработать показавшийся выигрышным вариант до конца.
Стало холодно сидеть в туфлях, надетых на босые ноги, и Бергер забрался под одеяло, но свет не погасил, чтобы не заснуть. Жадно затягиваясь сигаретой, он морщил лоб и беспокойно водил пальцами по краю одеяла, тихо ругаясь и споря сам с собой: вдруг налет русской авиации как раз и есть то самое, недостающее звено, ниспосланное ему свыше? Жизнь вообще представляет собой непонятную цепь случайностей. И умный человек должен выбрать из них то, что пойдет ему на пользу.
Налет русских на станцию не запланирован обер-фюрером, а случаен, но в нем есть некая скрытая идея, готовая работать на него, Отто Бергера. Надо быть глупцом, чтобы не воспользоваться так внезапно предоставившейся случайностью или, по крайней мере, не попытаться воспользоваться для достижения своих целей.
Протянув руку, обер-фюрер снял трубку внутреннего телефона и набрал номер.
— Конрад? Говорит Бергер. Не спите? Правильно, разве можно уснуть в такую ночь. Да, меня тоже разбудил налет. Я буду весьма признателен, если вы оденетесь и зайдете ко мне.
Положив трубку, обер-фюрер удовлетворенно улыбнулся и поглядел на свой мундир, висевший на спинке стула, — в его нагрудном кармане, в спрятанном за подкладкой потайном отделении, лежало письмо, написанное фон Бютцовом своему брату в Соединенные Штаты.
Телефонный звонок поднял начальника тюрьмы с постели. Путаясь в подоле длинной ночной сорочки — здесь, хвала господу, не фронтовые условия, можно себе позволить спать как дома, — он побежал к аппарату, ругая себя за то, что все время забывает приказать удлинить шнур, чтобы ставить телефон рядом с постелью. Хотя кто ему звонит по ночам?
Как оказалось, звонил Лиден — начальник СС и полиции безопасности. Сняв трубку, начальник тюрьмы услышал его рассерженный голос:
— Дрыхнете? Вас даже русская авиация не разбудила?
— Простите, господин гауптштурмфюрер, — поджимая голые ноги, по которым тянуло сквозняком, а это Так чувствительно после теплой постели, робко прервал его начальник тюрьмы. — При чем тут русская авиация.
— Не понимаете? — зло заорали на том конце провода, и начальник тюрьмы вынужден был даже немного отстранить от себя телефонную трубку: мембрана, казалось, готова лопнуть от крика разъяренного гауптштурмфюрера. — Поглядите в окно! Или у вас все окна выходят только во двор вашей любимой тюрьмы?! Станцию бомбят! Слышите?
Действительно, там, где расположена железнодорожная станция, глухо гудели самолеты и дрожала от взрывов земля. Из окна, выходившего во двор тюрьмы, — как правильно угадал начальник СС и полиции — не видно пожара, но небо в стороне станции приобрело багровый, зловещий оттенок.
— Да, я слышу, господин гауптштурмфюрер, — с тоской поглядев на оставленную им теплую кровать, заверил начальник тюрьмы. Что надо от него, какое он может иметь отношение к налету вражеских самолетов на железнодорожную станцию?
— Там стоял урляуберцуг — поезд отпускников с фронта, — неожиданно сбавив тон, устало сказал Лиден. — Вы не представляете, просто горы трупов. Пути разбиты, горят цистерны. Пустили маневровый паровоз, пытаются растащить вагоны, но не хватает рук. Поднимайте охрану. Я сейчас пришлю взвод комендатуры и грузовики. Отправите заключенных для работ на станции. К утру движение должно быть обязательно восстановлено.
— Но, господин гауптштурмфюрер, — попытался возразить начальник тюрьмы, однако его грубо прервали.
— Плохо слышите? Всех заключенных на станцию! Усилить охрану, чтобы не разбежались. Всех, даже смертников! Движение должно быть восстановлено! Живей, черт вас возьми, пошевеливайтесь, грузовики уже выходят.
И частые гудки отбоя.
Некоторое время начальник тюрьмы стоял около стола, ошарашенно глядя на телефонную трубку в своей пухлой руке. Вот уж чего он никак не мог ожидать, укладываясь вечером спать и укрываясь периной. Проклятые русские самолеты, проклятый начальник СС и полиции, проклятые партизаны, проклятые заключенные, и вообще — проклятая богом страна, где нормальному человеку нет покоя ни днем ни ночью.
Опомнившись — время-то идет, грузовики уже вышли, а еще столько дел, — он быстро позвонил дежурному и отдал необходимые распоряжения, не отказав себе в маленьком удовольствии накричать на него, как совсем недавно орал на него самого начальник СС Лиден.
Бросив трубку на рычаги аппарата, он почти бегом вернулся к кровати и торопливо начал одеваться, путаясь в штанинах галифе, не попадая в рукава мундира и с трудом натянув сапоги, показавшиеся жутко холодными и тесными. Потом на его объемистом животе никак не затягивался ремень с большой кобурой. Пальцы не слушались, не могли нащупать дырки на ремне, кобура сползала и мешала застегнуться, а губы начальника тюрьмы помимо его воли шептали:
— Это же восточный фронт, если сбегут… Восточный фронт!
Наконец справившись с ремнем, он выскочил в коридор, по которому, топоча сапогами, бегали солдаты охраны. В ворота, нащупывая дорогу синими лучами фар, уже въезжали грузовики. На галереях хлопали двери камер, раздавались резкие команды надзирателей. Темная масса людей, выгнанных во двор, мрачно и недобро шевелилась и, как показалось начальнику тюрьмы, хранила угрожающее молчание, готовая в любой момент взбунтоваться, пойти с голыми руками на охрану, передушить солдат и ценой жизни добыть себе свободу.
— Прожектора! — не помня себя, закричал он. — Немедленно включите прожектора на вышках!
— Нельзя, — потянул его за рукав обратно, внутрь канцелярии, дежурный, — заметят с самолетов. Хотите, чтобы и на нас скинули бомбы?!
— Бог мой, — провел ладонью по мокрому лбу начальник тюрьмы. — Тогда не выводите всех сразу, гоните по очереди, сажайте в грузовики и на станцию. Скорее, скорее!
— Как с блоком смертников? — спросил кто-то из охранников.
— Их тоже, но в отдельный грузовик. Что вы стоите? — топнул ногой начальник тюрьмы. — Скорее! Это приказ начальника СС и полиции!
Ну и ночка сегодня, просто сумасшедший дом, а не тюрьма!
Грохот далеких взрывов поднял на ноги всех способных стоять узников камеры смертников. Где-то, в стороне железнодорожной станции, стонала земля, полыхало зарево пожара, и даже толстые стены тюрьмы слегка вздрагивали от обрушивавшейся с неба тяжести.
Сгрудившись у окна, заключенные пытались увидеть, что творится на станции, но кроме зарева пожара и лучей прожекторов ничего разглядеть не удавалось: мешали стоявшие напротив тюремные корпуса и высокие стены отпады.
Потом раздались крики в галереях, захлопали двери камер, заурчали во дворе моторы грузовиков. Грохотали по полу сапоги охраны, слышалось шарканье множества ног и отрывистые немецкие команды.
— Что это? — спросил один из заключенных, глядя на темный тюремный двор. — Неужели всех в Калинки?
Забился в истерике приведенный утром в камеру молодой парень, размазывая по лицу кровь из разбитой губы, грязь и слезы, неудержимо катившиеся из глаз. Он икал, всхлипывал, выгибался всем телом, колотясь затылком об каменный пол, то рыдая, то безумно хохоча. Кто-то плеснул ему в лицо воды, и он сник, перестал дергаться, только нервно вздрагивал, сжавшись в комок.
Все молча ожидали, что будет. Слобода хотел уже встать и сказать о своей тайне — чего уж теперь, когда они равны перед лицом близкой смерти, — но в этот момент распахнулась дверь и немец в черном мундире заорал:
— Быстро! Все на выход! По одному! Без вещей! Скорее!
«Без вещей» — в быту тюрьмы СД означало надежду на жизнь, и узники, подгоняемые охраной, начали выходить в коридор галереи, привычно поднимая руки за голову. Семен вышел третьим. Резанул по глазам яркий свет, было видно, как внизу цепочкой спускаются по лестнице заключенные из других блоков, проходя по живому коридору, образованному охранниками и солдатами.
«Что же случилось? — недоумевал пограничник, шагая по ступенькам. — Десант? Но какой десант, если до фронта сотни километров? Прорвать оборону немцев и продвинуться так глубоко в их тыл наши тоже не могли — была бы слышна канонада. Бомбили станцию, это факт, но почему эвакуируют тюрьму? Или это не эвакуация? В чем дело?»
— Скорее, скорее! — зло подгоняли охранники.
— Не оглядываться! Быстрее! — орал немец в черном.
Вот и двери, ведущие из корпуса во двор тюрьмы. Не думал Семен выйти в них иначе как на казнь. Но если не на казнь, то куда их гонят? Отъезжают грузовики, суетятся солдаты, не горят прожектора на сторожевых вышках, что происходит?
Солдаты, вооруженные автоматами, погнали их маленькую группу к отдельно стоящему в углу двора крытому грузовику. Откинули задний борт, приказали лезть внутрь.
В кузове Семен оказался рядом с бившимся в истерике парнем. Тот затравленно озирался по сторонам.
— Куда нас везут? — схватил он за руку пограничника.
— Не знаю, — ответил Слобода, высвобождаясь от цепких пальцев. Самому хотелось бы знать, но спросить не у кого.
Два солдата влезли в кузов, отогнали заключенных ближе к кабине и сели на лавки у заднего борта, направив стволы автоматов на сгрудившихся узников. Грузовик тронулся. Короткая темнота туннеля ворот, потом даже сквозь брезент пробился свет сильного зарева пожара. Трясло на брусчатке, потом куда-то повернули и остановились. Вся поездка заняла несколько минут.
Солдаты спрыгнули и откинули борт.
— Выходите! — скомандовал подбежавший к машине эсэсовец, с перепачканным жирной сажей лицом. — Быстро, быстро!
Кругом светло от зарева бушевавшего почти рядом пожара, гудело пламя, трещало дерево, пожираемое огнем, валил дым — удушливый, едкий, он щипал глаза, забивал дыхание. Самолеты улетели, смолкли зенитки. Сипло кричали маневровые паровозы, окутываясь облаками белого, отработанного пара, они тянули в разные стороны обгорелые остовы вагонов. Причудливые, красно-черные тени плясали на кабках и лицах охранников, на истоптанной, покрытой потёками масла земле.
Узники, настороженно осматриваясь, столпились около машины.
— Утром здесь должны ходить поезда, — перекрикивая гул пожара, на ломаном русском языке обратился к ним эсэсовец. — Надо хорошо работать. Кто будет пробовать бежать, расстрел!
Грузовик уехал. Солдаты погнали заключенных к путям. Спотыкаясь об искореженные обломки вагонов и куски шпал, Семен вертел по сторонам головой: горят цистерны, вагоны, немцы на носилках вытаскивают обожженных и раненых, часто подкатывают санитарные машины. В стороне складывали трупы.
Конвойные хмуры и молчаливы. Их угнетало зрелище разгрома станции. Ведут к завалу на путях, наверное, придется его разбирать.
Видя работу советской авиации и поняв, что расправы с ними сегодня не будет, узники приободрились: так и надо проклятым гадам, пусть знают, что их всех ждет возмездие. Не век же им господствовать на порабощенной земле?!
Откуда-то сбоку вывернулся мужчина в промасленном ватнике, подбежал к старшему конвоя, мешая русские, польские и немецкие слова, принялся, размахивая руками, объяснять, что надо скорее освободить пути, чтобы мог маневровый паровоз оттащить горевшие цистерны за пределы станции. Эсэсовец дал команду остановиться и начать работу. Появились носилки, обломки кирпича приходилось разбирать голыми руками, обдирая их до крови, растревоживая незажившие раны. Понимая, что торопиться не стоит, заключенные медлили, не обращая внимания на сердитые окрики охраны. Завал на путях почти не уменьшался.
Бросая на носилки кирпичи, Семен поглядывал на небо, прикидывая, сколько сейчас может быть времени? Звезд не видно, наползают тяжелые тучи, подсвеченные снизу багровыми отсветами пламени. Неужели скоро пойдет дождь и поможет немцам тушить пожар? И сколько здесь продержат — до утра или дольше?
Как выдержать такую гонку, когда ноги дрожат и подгибаются от слабости, урчит в вечно голодном животе и нет сил перекидывать проклятые кирпичи, — даже пальцы не способны как следует ухватить разбитые куски обожженной глины, а в голове уже словно слышится отдаленный, тонкий звон — предвестник обморока.
Слобода знал, как это бывает, когда ты голоден и перенапрягаешь последние силы: сначала делаются ватными ноги, появляется тупая апатия, все валится из рук и возникает противный звон в ушах, как будто рядом пищит надоедливый комар. А потом этот звук растет, ширится, ударяет в голову и приходишь в себя уже на земле, не помня, как свалился. Могут и пристрелить, а жить снова захотелось просто неудержимо. Пусть здесь воздух пропитан дымом и гарью, пусть летают жирные хлопья сажи, но все равно это многообещающий воздух воли, от которого отвыкаешь в камере смертников. Он пьянит и будоражит кровь, толкает на безрассудства, манит ароматами начавшей оттаивать земли и перезимовавших под снегом, терпко пахнущих прошлогодних листьев.
— Ты!
Почувствовав тычок в спину, пограничник оглянулся. Сзади стоял старший конвоя. Быстро пробежав глазами по лицам копошащихся у завала узников, он ткнул в спину истеричного парня:
— И ты! За мной!
Медленно переставляя ноги, Семен пошел за эсэсовцем. Сзади шагали устроивший истерику парень и один из конвоиров с автоматом.
— Быстро! — подведя их к беспорядочно сваленным в кучу трупам в обгорелой окровавленной одежде, немец показал на валявшиеся рядом носилки. — Носить туда!
Слобода поглядел: в стороне темнели большие грузовики, подогнанные почти к самым путям.
«Не хотят, чтобы ихние видели трупы, когда пойдут поезда», — понял он.
Сгибаясь под тяжестью лежавших на носилках тел и таская их за плечи и ноги, около кучи трупов суетилось десятка полтора немцев в грубых бушлатах.
«Понятно, почему нас сюда погнали, — решил Семен. — Смертники, никому уже не расскажем, сколько здесь осталось завоевателей, не доехавших ни на фронт, ни с фронта».
Он нагнулся, ухватил за ноги обгорелое тело, чтобы подтянуть его ближе к носилкам. Напарник пытался помочь, но только мешался, вытаращив от страха глаза.
— Да не дергайся ты, — сквозь зубы сердито прикрикнул на него Слобода. — Они теперь тихие, не укусят. Силы береги.
И тут ухнуло на путях, рвануло в стороны снопами яркого огня, вздрогнула под ногами земля, а боязливый напарник рухнул как подкошенный и по спине у него поползло темное пятно.
— Ложись! — заорал кто-то из немцев.
Таскавшие трупы солдаты бросились врассыпную, прикрывая головы руками, прыгали в канавы и кюветы.
Семен упал, перекатился в сторону, отыскивая глазами горящий вагон. Жаль, что убило хлопчика, видно, не зря он так боялся, чуял конец, потому и забился в истерике, когда начали выводить из камеры. Но где рвется, что?
В сотне метров от него пылал вагон с развороченными взрывом стенками. Мимо лежавшего пограничника, тревожно подавая сигнал, пропыхтел маневровый паровоз, тащивший обгорелые остовы вагонов за пределы станции. Слобода учуял сырую духоту выпущенного пара, запах разогретого металла и смазки — до рельсов путей, по которым стучали колеса, не более двух шагов.
Страшное возбуждение вдруг овладело им — попытаться бежать? Разве представится еще подобный случай? Стоит только приподняться, сделать бросок, уцепиться за остов вагона и перевалиться внутрь, распластавшись на прогоревших досках пола, чтобы не заметила охрана, а там паровоз вытянет тебя к желанной свободе, к лесу.
Ну, рискнуть? А если немцы останавливают эти вагоны и проверяют на выходе к перегону? И зачем они вытаскивают их отсюда — свалить под откос, расчистить любыми средствами путь для эшелонов с техникой и живой силой? Похоже…
Что же ты медлишь, Семен, боишься получить пулю в спину, когда уцепишься израненными руками за шершавый обгорелый металл?
Приподнявшись, пограничник кинулся к составу, ухватился в неверном свете пожара за стальную перекладину стенки обгорелого вагона. Пальцы намертво вцепились в еще горячий металл, не ощущая, как рвет кожу, выворачивает суставы. Ноги словно сами по себе делали нужные шаги, убыстряя и убыстряя бег, помогая слабеющим рукам, — скорее, скорее, еще немного!
Подтянувшись, он навалился животом на ребро остова сгоревшей теплушки и, судорожно болтанув ногами, перевалился внутрь. На счастье, доски пола сгорели не полностью, и Семен, жадно хватая ртом пахнущий гарью воздух, упал на них.
С трудом разжав руку, он приподнял голову и выглянул: горевший на путях вагон с боеприпасами удалялся, там перестало трещать и взрываться, и немцы, завалившиеся в кювет, начали подниматься. Неужели ему не удастся побег и все его усилия напрасны? Неужели они сейчас заметят, что смертника нет и поднимут тревогу?
Как будто услышав его мысли, паровозик пронзительно свистнул и прибавил ходу. Чаще застучали колеса на стыках рельс, промелькнула мимо выходная стрелка и фигура немецкого солдата, бестолково размахивавшего фонарем, тише стал гул пожара, повеяло свежестью воздуха.
Протяжный гудок, и теплушку заболтало на перегоне. Пришлось снова вцепиться в железку остова. Как долго будут ехать, на какое расстояние немцы оттаскивают разбитые вагоны, что ждет в конце пути — подразделение саперов или железнодорожных войск с техникой, опрокидывающей остовы сгоревших вагонов под откос? Они же заметят его, начнут ловить или просто пристрелят — ведь на нем пусть рваное и грязное, но красноармейское обмундирование и старая шинелька. Что же — прыгать?
Поглядев назад, он увидел, как удаляется зарево, и встал, примериваясь для прыжка, — только бы не попались на откосе камни или столбы, только бы не поломать ноги, не получить растяжение — иначе далеко не уйти, а придется плутать, петлять, сбивать со следа возможную погоню.
По сторонам полотна потянулись заросли, темной стеной стоявшие на фоне потихоньку начинавшего светлеть неба. Лес — его спасение, его друг и благодетель, — он спрячет и поможет скрыться. А впереди уже мутно засветились другие огни, и Семен, больше не раздумывая, прыгнул.
Земля больно ударила, бросила вниз, в сырость и грязь, заставила пропахать грудью, животом и руками по сухой острой траве, вылезшей из-под стаявшего снега, и ткнула лицом в маленький, еще не успевший стать веселым ручейком сугробчик. Не поднимая головы, он лежал и слушал, как уходит от него в темноту спасительный поезд, лязгая горелым железом, а потом начал прислушиваться к себе — все ли в порядке, сможет ли он идти?
Опершись ладонями, Слобода поднялся на ноги, постоял, чутко ловя ухом раздававшиеся в ночи звуки: гремело на станции, но глухо, отдаленно, гремело впереди, но не страшно, не похоже на звуки тревоги и близкой погони. Наверное, если даже его успели хватиться, то сначала кинутся искать на станции и только потом за ее пределами. Но медлить все равно никак нельзя, судьба оказалась благосклонной к нему, однако отпустила не так много времени — смертника могут начать искать очень скоро.
Прихрамывая — все же немного повредил ногу при прыжке, Семен перебрался через насыпь и пошел к зарослям кустов. С другой стороны полотна они оказались гуще и, судя по темнеющему над ними небу с редкими звездами, слабо мерцавшими в свете зарождающегося утра, обещали вскорости перейти в густой лес.
Продираясь сквозь кустарник, он обнаружил, что потерял где-то шапку, но возвращаться и искать ее не было ни времени, ни смысла…
Еще издали фон Бютцов заметил торчащую на насыпи железнодорожного полотна сухую, как жердь, фигуру Лидена — начальника СС и полиции безопасности, окруженную подчиненными.
Приказав шоферу остановить машину, Конрад вышел и полез на насыпь. Ноги скользили в грязи, из-под подошв сапог сыпались мелкие камушки, налетавший порывами ветер рвал с головы фуражку, и ее пришлось придерживать затянутой в перчатку рукой.
— Какие новости? — поприветствовав собравшихся, поинтересовался Бютцов.
— Здесь он спрыгнул, — показал на кювет размахивавший руками эсэсман. — Нашли его шапку, собаки взяли след.
— Давно? — прикуривая сигарету, Конрад бросил быстрый взгляд на циферблат наручных часов: пока обнаружили исчезновение смертника со станции, пока организовали погоню, пока привезли ищеек, успело наступить утро. След должен быть еще свежим, но у беглеца есть опыт нескольких побегов и он хорошо знает, как уходить от преследования.
— Прорабатывают, — хмуро бросил начальник СС и полиции безопасности, уклонившись от прямого ответа на вопрос. — Он вошел в лес по ту сторону полотна.
Бютцов брезгливо покосился на облезлую грязную шапку, которую держал в руках один из солдат, потом перевел взгляд себе под ноги — камни, грязь, небольшой, не до конца растаявший сугробчик под откосом. Какие тут следы?! Если в лесу еще лежит снег, то это поможет погоне, а если смертник специально выбирал просохшие поляны и, не жалея себя, полез в воду, то надежды на его скорое обнаружение растают быстрее, чем оставшийся под откосом кусок ноздреватого, серого снега.
По другую сторону насыпи чернели кусты, за ними виднелась раскисшая пустошь с желто-бурыми пучками прошлогодней травы, а дальше начинались заросли. Кусты были низкими, их не стали вырубать, но по краю опушки деревья безжалостно вырублены, отсюда хорошо просматривались еще не успевшие потемнеть торцы пней. Но дальше-то все равно лес!
Редкие, убогие деревеньки, вечно пьяные тупые полицаи, злобное население, банды партизан, непролазная грязь весенних дорог и почти незамерзающие, а сейчас тем более, с наступлением тепла, ожившие болота о жуткой трясиной, буреломы, овраги, глухая чащоба — вот что такое этот лес, в который успел уйти разыскиваемый смертник.
— Где остальные? — стряхнув пепел, спросил Конрад.
— С ними работают, — едва раздвигая стынущие на ветру губы, проворчал начальник СС в полиции Ладен. — Как только обнаружили побег, всех его сокамерников тут же отправили обратно и взяли на допросы. Правда, — уныло добавил он, — у меня нет никакой надежды на успех.
Лиден вдруг резко повернулся к подчиненным, раздраженно ваорал на них:
— Ну что вы стоите? Радуетесь приезду господина штурмбанфюрера?
Эсэсовцы шустро бросились в разные стороны — одни к машинам, другие к сваленным под откос остовам сгоревших вагонов.
— Пойдемте отсюда, — предложил Бютцов. — Холодно, ветер, да и больше здесь мы все равно ничего не получим.
Начальник СС и полиции согласно кивнул и первым начал спускаться с откоса к машине Конрада.
— Что с начальником тюрьмы? — не доходя до автомобиля, Бютцов слегка придержал Лидена за локоть.
— Восточный фронт, — повернул тот к нему покрасневшее от ветра лицо. — В назидание другим. Пусть немного стрясет жир.
— Пожалуй, — протянул Конрад. — Об этом должно стать известно всему офицерскому составу. Объявите награду за поимку беглеца, и не скупитесь! Листовки отпечатаем в самый сжатый срок и отправим во все комендатуры. Подберите нового начальника тюрьмы, а сокамерников беглеца отправьте в ров. Сегодня же.
— Это проще всего, — усмехнулся начальник СС.
— Обер-фюрер не хотел бы начинать все сначала, — цепке глядя ему в глаза, тихо сказал Бютцов. — Вы гарантируете?..
— Да, — твердо ответил тот. — Город у меня тут, — он показал крепко сжатый кулак, — а окрестности в тройном кольце. Ему некуда деться, пусть бы он был самим дьяволом! Заверьте господина Бергера в том, что надо ждать хороших вестей.
— Хотелось бы, — усаживаясь в машину и предлагая гауптштурмфюреру место на заднем сиденье, хмыкнул Конрад. — Но когда имеешь дело с такими свиньями, как русские, никогда нельзя быть ни в чем полностью уверенным. Отвратительные люди, непредсказуемые. Как думаете, собаки разыщут его в лесу?
— Нет, — равнодушно ответил Лиден и отвернулся, чтобы скрыть зевоту: ночь выдалась беспокойной, и он смертельно устал.
Антон подошел к зеркалу и вгляделся в свое отображение — чуть мутноватое, с каким-то зеленым оттенком стекло отразило бледное лицо с покрасневшими веками глаз, слегка тронутые сединой виски, успевшую отрасти щетину на подбородке. Седина почему-то поразила, словно он заметил ее впервые, — еще сорока нет, а виски во всю отливают серебром.
Волков подмигнул своему отражению и невольно поморщился от рези в глазах, — чертова болячка, врачи утверждают, что это от недостатка витаминов в весенний период и хронического перенапряжения зрения. Витамины сейчас из области фантазии на летние темы, а выспаться тоже только сладкая мечта, — частенько он приезжает в тихий домик только под утро и прямо в машине принимает люминал, чтобы успеть добраться до постели и сразу же уснуть ни о чем не думая, провалиться в забытьи, потому что вскоре опять вставать, бриться, менять подворотничок, чистить сапоги, наскоро перекусить и в управление.
Свою соседку он почти не видит, но, может быть, это только к лучшему. Не будут мерещиться по ночам те минуты, когда он вышел на кухню и увидел ее стоящую обнаженной в тазу, не будут преследовать навязчивые видения ее тонких, гибких рук, длинных стройных ног и казавшихся какими-то беззащитными лопаток на худенькой девичьей спине с выступающими позвонками. Так — здравствуйте, до свидания, доброе утро, добрый вечер, — встретились-разошлись. Он может в любой момент закончить работу и уехать, а она останется здесь, и война впереди еще долгая-долгая…
Нравится она тебе, Антон Иванович? Не уподобляйся старой кокетке, не лги самому себе, признавайся честно — да, нравится. Ну и что из того? Надо быть реалистом — ей едва за двадцать, а тебе уже под сорок, и за плечами многое из того, чего эта девочка даже вообразить не сможет, не считая ранений, потерь, разлук. Что ты дашь ей в жизни — вечное ожидание, беспокойство, страх за мужа, редкие встречи, торопливо нацарапанные на клочках бумаги письма без адреса и обращения и даже без подписи? Сможет ли она такое выдержать, когда мимо катится жизнь?..
Вернувшись к столу, Волков опять принялся за бумаги. Ему иногда казалось, что они когда-нибудь похоронят его под собой, задушат многочисленностью, оплетут, как многоголовая гидра, размножающаяся с неимоверной быстротой. Сотни личных дел, встречи с чекистами, посещения рынка, толкучки, парка, вокзала и проверки, проверки, проверки. А каждая из них — снова бумаги, которые надо написать, прочитать, обсудить, принять решения, проследить за их выполнением.
Теперь уже наметился четкий круг людей, которые бывают во всех интересующих сотрудников госбезопасности местах. Особое внимание Волков и Кривошеин сконцентрировали на рынке и вокзале — там наиболее удачные места для встреч вражеских агентов. Парк пришлось отбросить — он оказался маленьким, взрослые туда почти не ходили, особенно зимой, отдав его во власть вездесущим мальчишкам. Да и располагался парк в неудобном месте — тяжело добираться от вокзала и заводских районов.
Кинотеатры тоже вызвали у Волкова множество сомнений — сеансы нерегулярны, залы тесные, всегда битком набитые. Если надо что-то передать, то такая обстановка только на руку, но ведь врагам наверняка необходимо и поговорить — не глухонемые же они, да и не напишешь всего в сообщении, возникают вопросы, приходится объяснить суть нового задания, да мало ли что еще, а из кинотеатра и выбраться-то быстро не удастся. Но все же кино со счета не сбросили.
Версия о поездках, возникшая у Антона еще в Москве, требовала проверки, и он везде и всюду интересовался — бывают ли тут железнодорожники? Расчет прост — вряд ли враг, прибывший на поезде не в качестве пассажира, станет переодеваться. Он так и пойдет на встречу со своим связным в черной железнодорожной шинели, а это уже характерная примета. Если все время переодеваться, то насторожишь коллег, а в городе вряд ли кто обратит на него внимание.
Проведенные сотрудниками уголовного розыска тщательные опросы увенчались успехом — в разные промежутки времени на рынке видели одного и того же железнодорожника, встречавшегося с мужчиной, одетым в замасленный ватник и большие серые валенки с самодельными галошами из старых автомобильных покрышек. Оба были далеко не молоды — примерно за пятьдесят, появлялись на рынке поодиночке, долго не разговаривали и встречались в разное время. Сколько же сил пришлось положить для того, чтобы иметь эту на первый взгляд еще ничего не значащую информацию. А вдруг они старые знакомые или просто спекулянты?
Тогда Волков с Кривошеиным взялись изучать расписание поездов. И тут пришла удача: все дни встреч совпали с прибытием московского пассажирского. Однако этого недостаточно — кто железнодорожник, кем он работает? Вдруг он из машинистов или кочегаров, а они сменяются в пути следования. Кто мужчина в промасленном ватнике и серых валенках — эти «опознавательные знаки» он способен сменить в любой момент так же, как и железнодорожник может в следующий раз появиться без черной, приметной шинели. Тогда что?
Усиленное наблюдение за рынком ничего не дало — ни тот ни другой из подозреваемых там больше не показывались, хотя уже несколько раз прибывал московский поезд. Почуяли неладное и сменили место встреч или вообще все это оказалось «пустым номером», прихотливой игрой случайностей, а они — Волков и Кривошеин — поспешили принять первое попавшееся решение за единственно верное и ошиблись?
Поиски на заводах человека в серых валенках, сходного по приметам с появлявшимся на рынке, тоже оказались совершенно безрезультатными — такого не было.
«Неужели он так одевается специально для встреч? — ломал голову Антон, прикуривая одну папиросу от другой. — Но зачем, с какой целью? Чтобы не привлекать к себе внимания или быть неузнанным? Кажется, указывали, что у него всегда опущена шапка? Ну хорошо, это сейчас, зимой, а как летом?»
И тут же горько усмехался — какое лето, о чем ты, майор Волков? Кто тебе позволит здесь загорать до жарких дней? Все надо делать сейчас, быстро и безошибочно, а ты мечешься, вцепившись в показавшуюся перспективной информацию, но никак не можешь нащупать единственно верный ход.
Сказать, что они работали только по данной информации, нельзя, но Антон все же вставал и ложился с мыслью о железнодорожнике и человеке в серых валенках.
Теперь постоянно дежурили сотрудники не только на рынке, но и на вокзале, — ждали прибытия каждого московского поезда…
Ночью Антон пошел домой пешком — разболелась голова и хотелось немного проветриться. Поэтому он отказался от предложения Сергея Ивановича доставить его, как всегда, на машине.
Выйдя из здания управления, Антон потуже затянул на шинели пояс с кобурой — весна, а по ночам морозец прижимает, и не спеша пошел по улице. Жадно вдыхая свежий воздух, он чувствовал, как головная боль становится тупее и постепенно уходит.
Подходя к своему переулку — он даже улыбнулся этой мысли: не успели пожить здесь, как уже и переулок «свой», — Антон заметил впереди стройную фигурку в темном долгополом пальто с меховым воротником. Тоня? Возвращается домой с завода? Окликнуть или нет, лучше потихоньку догнать и взять под руку. Сначала, конечно, она напугается, рассердится, но потом глаза снова весело заблестят и ему милостиво даруют прощение, разрешив быть ее рыцарем по дороге домой.
Волков прибавил шагу, поскольку девушка уже свернула за угол. Внезапно впереди раздался сдавленный крик. Расстегивая на бегу кобуру, Антон вылетел на мостовую, — скорее, что там могло случиться? Вот и поворот, вдали слабо освещенные тусклым фонарем мелькают тени, — похоже, с нее пытаются снять пальто?
Ноги сами несли его вперед. Неожиданно кто-то вывернулся сбоку, попытался дать подножку, но Волков успел отпрянуть в сторону, а неизвестный, поскользнувшись, растянулся во весь рост. Некогда с ним возиться сейчас, вперед, скорее!
Услышав топот его сапог по обледенелой мостовой, один из нападавших обернулся, отпустил вырывавшуюся девушку и шагнул навстречу. Привычно уклонившись от нацеленного ему в лицо чужого кулака, Антон резко ударил грабителя в челюсть. Тот рухнул без звука. Второго он успел поймать за руки и с силой дернул вниз, одновременно выставив колено. Хрюкнув от резкой боли в животе, противник кулем осел на землю.
— Легавые! — закричали сзади. Наверное тот, первый, пытавшийся сбить его подножкой.
Волков бросился поднимать упавшую девушку, судорожно вцепившуюся в свою сумочку. Не узнав его, она рванулась, но он держал крепко.
— Тоня! Не бойтесь, это я, Антон.
Не обращая внимания на расползавшихся грабителей, он потащил ее к калитке, толкнул к крыльцу:
— Бегите домой, я скоро!
Вернувшись на место схватки, он там никого не нашел. Подобрал какие-то смятые, затоптанные бумажки — может быть они помогут отыскать нападавших — и пошел обратно.
Тоня сидела в прихожей на стуле. Губы ее мелко дрожали, на коленях стояла раскрытая сумочка, из глаз катились слезы.
— Ну-ну, все обошлось, — помогая ей снять пальто, приговаривал Антон. — Ну что вы, правой Пошли на кухню, чаю выпьете.
Он поставил на плитку чайник, скинул на свободный стул пояс с кобурой, расстегнул воротник гимнастерки. Чайник начал закипать, пока он резал хлеб и сало. Тоня молчала.
— Садитесь к столу, — позвал он, наливая чай. Подняв глаза, увидел, что она беззвучно рыдает, закрыв лицо ладонями.
— Что такое? — Он присел перед ней на корточки, пытаясь отвести ее руки в стороны, заглянуть в лицо, увидеть глаза.
— У меня карточки украли… Они… — Тоня вытерла мокрые щеки ладонью и смущенно попросила — Отвернитесь, я умоюсь.
Волков сел к столу, сделал ей бутерброд, положил его рядом с чашкой. Как она теперь будет жить без карточек? Как?! Новые никто не даст. Придется подкармливать, но согласится ли она и как бы это ей поделикатнее предложить?
— Все сразу, — садясь к столу и стараясь не смотреть на хлеб и сало, почти прошептала Тоня. — И уволили и карточки украли.
— Как уволили? — ошарашенно поглядел на нее Антон. — За что?
— Не знаю, — она махнула рукой и снова вытерла скатившуюся по щеке слезинку. — Вызвали в отдел по найму и уволили. А потом эти встретили и давай сумку вырывать, а там были карточки на месяц, еще не отоваренные.
— Подождите, — повинуясь внезапной догадке, Волков пошел в прихожую и достал из кармана шинели подобранные им в снегу бумажки. Принес, положил перед ней. — Это?
— Где вы их нашли? — расправляя смятые листочки, сквозь слезы улыбнулась Тоня. — Я уж думала все, пропадать придется.
Постепенно она успокоилась, выпила чаю и, отвечая на осторожные вопросы Антона, рассказала о себе. Родителей не помнит — мать умерла давно — простудилась, слегла и больше не встала. Воспитывалась Тоня в чисто женской семье — у бабушки и теток, не пожелавших расстаться с ней и отдать ее отцу.
Училась в школе, потом поступала в институт, но не сдала, пришлось пойти работать и снова поступать, а тут война, направили на рытье окопов под Можайск — холодно, грязно, тяжелая работа в противотанковом рву, липнущая к лопате сырая глина, налеты немецкой авиации, болезни…
— Вернулась, отправили в эвакуацию, — зябко обхватив плечи руками, говорила Тоня. — Ехали на открытых платформах, дети болели, умирали, а я ничем не могла им помочь. Наверное, до конца своих дней буду помнить этот скорбный путь на Урал. Укрывались чем могли — брезентом, одеждой, тащили старые доски, куски фанеры, но все равно днем и ночью пронизывающий ветер, холод и голод. Вместе со мной ехала женщина с двумя ребятишками, один еще грудной, так ему и недели пути хватило.
— Как? — не понял Волков.
— На восьмой день похоронили, — тихо ответила она, — а мать на десятый. Девочка осталась лет пяти, все ко мне жалась, горела и просила жалобно: «Не бросай меня, тетя, не бросай», а потом ее сняли на одной станции, а мне не разрешили с ней остаться. Я позже писала, справлялась, ответили, что тоже умерла. Тяжко все это, Антон Иванович. Вы там, наверное, не всегда знаете, что простому народу приходится на своих плечах выносить? Думаете, от хорошей жизни сегодня на меня напали? Нет, тоже от голода налетели-то, пацаны, безотцовщина, может, с моего бывшего завода.
Антон мрачно курил, спрятав папиросу в кулаке и стараясь дымить в сторону. В голове почему-то вертелось ее имя — Антонина. Вдруг это знак судьбы? Он — Антон, она — Антонина, — свело их лихое время в дальнем далеке от родного обоим города, аж на Урале, хотя еще два года назад они ходили по одним и тем же улицам, спускались в метро и вполне могли встретиться еще в той, не знавшей горя предвоенной Москве.
Впрочем, нет, не могли — тогда Волков ходил по улицам другого города, мимо костелов и немецкой комендатуры, бывал в казино «Турмклаузе», проводя вечера вместе с эмигрантом Вадимом Выхиным, оказавшимся на самом деле эсэсовцем Конрадом фон Бютцовым, работавшим по заданию СД на территории оккупированной Польши. И там вместе с Волковым работала другая девушка, которая ему нравилась, но он ни разу не сказал ей об этом, а теперь поздно: ее нет и встретиться им никогда больше не суждено. Антон знал истинную причину бесследных исчезновений людей в приграничном городке, где в бывшем замке Пилецкого свил себе гнездо начальник абверкоманды подполковник Генрих Ругге.
Какие они разные эти девушки, внешне совершенно не похожие друг на друга, но есть в них нечто общее, неуловимое, почти не осязаемое: в манере сидеть, откидывать назад голову, говорить, смотреть. Не ищет ли он специально в Антонине сходных с Ксенией черт и не обманывает ли себя, вызывая мысленно другой образ и желая найти его отражение в сидящей напротив него девушке, не убаюкивает ли себя призраками воспоминаний о несбывшемся, страстно желая вернуть давно прошедшее время, пытаясь повернуть его вспять.
— С работой здесь трудно? — прервал он затянувшееся молчание.
— Найти можно, — вздохнула Тоня. — Только кто возьмет уволенную с оборонного завода? Время сами знаете какое.
— Не хочу обещать. — Волков встал, подошел к висевшей на стене кухни старенькой, вырванной из атласа школьной карте, на которой красным карандашом отмечали линию фронта. — Но попробую помочь. Прямо завтра.
— Спасибо, — горько усмехнулась она. — Только не было бы вам самому после этого хуже.
— Почему? — обернулся Антон. — Говорите, в чем дело?
— Отец у меня сидел, — глухо ответила Тоня. — Правда, перед войной его реабилитировали и мне удалось наконец-то пойти учиться дальше. Что? — она подняла голову и с вызовом посмотрела на него. — Не побоитесь просить за дочь врага народа?
— Знаете, — медленно ведя по карте пальцем, словно повторяя свой путь домой из приграничного польского городка, откликнулся после паузы Антон. — В Москве я познакомился с одним интересным человеком. Он профессор математики, но, по-моему, больше философ. От него я услышал о том, что очень важно, когда кто-нибудь ждет и надеется на твое возвращение. И, представьте себе, это говорил очень одинокий человек, глубже и острее других чувствующий одиночество. Я могу уехать и больше сюда не вернуться, можете уехать вы, в потеряются наши следы, но мне бы этого не хотелось. Наверное, я в чем-то не прав, начав разговор сейчас, может быть, он совсем не ко времени и не к месту, но другого случая вдруг да не представится. Разрешите мне писать вам и запишите номер моей полевой почты…
Одного Волкова на завод Кривошеин не отпустил, поехал с ним сам.
— Ты еще не знаешь, каков там Петенька, — бурчал он, привычно массируя пальцами левой руки уродливый шрам на тыльной стороне правой ладони.
Помощник директора по найму Петр Александрович Первухин оказался взъерошенным молодым парнем в гимнастерке старого образца с двумя кубарями в петлицах. Не выпуская изо рта дымящейся папиросы, он молча пожал приехавшим руки и показал на стулья.
— Ты вот что, Петя, — по-свойски обратился к нему Кривошеин. — Что там у тебя с лаборанткой получилось?
— Сушкова? — недобро прищурился Первухин.
— Да, — подтвердил Антон.
— Уволена, — ткнув в пепельницу окурок и зло примяв его, отрубил Петенька и пригладил ладонью торчащие вихры.
— За что уволили? — расстегивая шинель и всем своим видом показывая, что уходить отсюда он пока не собирается, поинтересовался Сергей Иванович. — По статье?
— Как дочь врага народа, — не вставая, Первухин открыл массивный сейф и достал папку. Порывшись, вытащил листок. — Вот извольте ознакомиться с ответом на запрос. Сами же давали ориентировку по проверке кадров. Родитель ее был арестован как враг народа.
— Но его же реабилитировали, — возразил Волков, но умолк, почувствовав, что Кривошеин сжал ему колено.
— Могли тогда не разобраться, — небрежно отмахнулся Петенька, — а сейчас доверять ей оборонные секреты просто преступно. Согласны? — Не дождавшись ответа, он продолжил — Меня здесь для чего поставили, а? Чтобы я ушами квакал или работал? Где гарантии, что она не связана о врагом, тем более, ее отец; остался на оккупированной территории и еще неизвестно, чем он там занят. Вот так.
Прочтя переданный ему Кривошеиным листок, Волков положил его на край стола, и Первухин тут же спрятал документ в папку, убрал ее в сейф и захлопнул тяжелую дверцу.
— Она в анкете про отца писала? — доставая папиросы, поглядел в глаза хозяину кабинета Сергей Иванович.
— Ну и что? — откинулся тот на спинку стула. — Ну, писала. Плела, что тот воевал в Красной Армия, потом работал по линии Наркомпроса. Ответ читали? Арестован, как дезертир и вражеский элемент из семьи заводчика-фабриканта. А яблоко от яблоньки…
— А то, что обвинение снято, вы в ответе прочли? — поиграл желваками Антон. — Прочли или нет? Я с ней говорил, она своего отца лет с трех даже не видела, а вы… Где ей теперь работать? И по-государственному ли разбрасываться опытными лаборантками?
— По-государственному будет не дать пролезть на предприятие оборонного значения врагу! — без запинки парировал Первухин. — Не дать пролезть и затаиться!: Выявить и уничтожить! Знаете как Максим Горький говорил: если враг не сдается…
— Дурак ты, Петя, — с горьким сожалением констатировал Кривошеин. — Нашел себе врага, да побезответнее? А настоящего до сих пор не выявил. Эх ты, комсомольское племя!
— Но-но, — привстал хозяин из-за стола, — я вам, Сергей Иванович, не подчиненный, могу и рапорт подать.
— Подавай, — побагровел и набычился Кривошеин. — Подавай, сопляк! Меня не такие пугали… Рапорт он подаст!
Первухин побледнел и расширенными глазами уставился в стену, кусая губы. Повисла гнетущая тишина.
За окнами кабинета продолжалась обыденная жизнь завода: полз по узкоколейке чумазый паровозик с вагонетками металлолома, перекликались гудки, звенели краны, дымили печи, бубнила на стене черная тарелка репродуктора. Слегка прищурив глаза, глядел с большого портрета в широкой багетовой раме на сидевших внизу товарищ Сталин и словно оценивал каждого.
«Вот почему она сказала: не было бы вам самому хуже, — подумал Антон. — Старая заповедь — сын за отца не отвечает — здесь, как и везде, не в почете. Теперь каждый отвечает за все, за любые грехи: и свои и родителей. Однако кто нам дал право быть высшим судьей? И дал ли? Может, Петенька, как зовет его Кривошеин, присвоил себе такое право вместе с другими и теперь, не задумываясь, решает судьбы, казня и милуя по собственному усмотрению и сообразуясь только с мнением начальства, но никак не с законом, собственной совестью и партийными идеалами? Да и всегда ли они у нас совпадают — закон, совесть и брошенные с высоких трибун лозунги? Сколько еще людских судеб вот так вот, походя, будет решено! Сколько еще искалечится жизней, молодых и старых? Неужели он, Петенька, не понимает, что творит, обрекая девчонку на голод и холод, лишая ее работы, угла и куска хлеба в чужом городе?»
— Такому ли я тебя учил? — глядя в пол, глухо спросил Кривошеин.
Первухин дернулся, как будто его ударили, и, повернув к нему покрывшееся красными пятнами лицо, заорал:
— А что я могу?! Что?! Когда кругом давят?! За план отвечай, за рабочую силу отвечай, за бронь отвечай, за выявление врагов отвечай, за поставки отвечай… «И еще ваши ориентировки, проверяй дела, а если проморгаю, то что будет со мной?!
Сергей Иванович брезгливо поморщился и непослушными пальцами начал застегивать шинель.
— Испугался? За свой драгоценный зад испугался? А другие пускай расхлебывают? Ладно, похлебаем, еще и директор есть в генеральском звании, не только ты тут один такой умный сидишь…
Хозяин кабинета сник и почти шепотом сказал:
— Не считай меня за подлеца, Сергей Иваныч. Если распишешься, что под твою личную ответственность, пусть возвращается.
— Где? — подошел к столу и взял ручку Кривошеин. — Где тебе расписаться?
Первухин шустро открыл сейф, достал тощую папку и ткнул пальцем в листок:
— Тут.
Сергей Иванович обмакнул перо в чернильницу и аккуратно расписался, быстро набросав несколько строк.
— Все? — уже от двери спросил он.
— Все, — запирая сейф, ответил довольный Первухин.
По лестнице спускались молча. Так же молча прошли к ожидавшей их машине, сели в нее. Когда выехали за ворота завода, Кривошеин достал очередную папиросу и, прикуривая, бросил:
— Теперь у нас с тобой один только выход — найти вражину как можно скорее. Этот подлец Петя сегодня же рапорт на нас обоих накатает. К вечеру будет готово.
— Почему к вечеру? — не понял Антон.
— А до этого времени он на тебя данные соберет, — криво усмехнулся Сергей Иванович. — Может, съехать тебе от греха с этой квартиры?
— Ну нет, — насупился Волков. — Мало ли подлецов… Кстати, сегодня приходит московский поезд.
— Встретят, — заверил Кривошеин. — Вот еду и думаю, когда Петька таким стал, а? Ведь из комсомола ко мне пришел, на эту должность я его сам рекомендовал. Выходит, не разобрался до конца в человеке. Неужели такие, как он, нами с тобой еще командовать со временем начнут?
Антон не ответил. Он думал о том, что такие, как Первухин, уже давно командуют, только Сергей Иванович этого все еще не замечает или не желает замечать…
Все было как всегда — обледенелый, грязный перрон, холод, ветер, люди с поклажей и ставшим постоянным голодным блеском в глазах, запах горячего металла, казалось, пропитавший насквозь этот город, сделавшийся неотъемлемой частью его воздуха, розоватое небо над далекими заводами, привычный шум вокзала.
Вроде бы нормально, но Ромин все же волновался. Он решил действовать сегодня, именно сегодня, не откладывая больше своих проблем на завтра, поэтому; уки его слегка дрожали, когда он прятал на груди пистолет. Держать оружие там ему казалось удобнее всего — сунуть руку якобы за какой-то вещью, которую ок должен передать связному, и вытащить вместо нее оружие, приставить к его груди и нажать на спусковой крючок. Патрон в стволе, предохранитель он сдвинет в самый последний момент перед выстрелом, который освободит его хотя бы наполовину, потому что останется еще усатый напарник-скотина, проклятый идиот Скопин. От напарника он избавится на обратном пути в Москву, а потом быстренько уничтожит рацию и оружие.
Возбуждение, овладевшее Роминым, подстегивало, требовало действия. Буркнув напарнику, что он идет в город по делу, Ромин выскочил на перрон, торопливо пошел к вокзальному зданию, высматривая среди пассажиров знакомую фигуру в промасленном ватнике и больших серых валенках с галошами из автомобильных покрышек. Ага, вот он толчется около дверей туалета.
Проходя мимо, Ромин сделал ему знак следовать за ним, пробежал рысцой через полупустой зал ожидания и выскочил на площадь. В глаза ударило уже по-весеннему яркое, но еще не жаркое солнце, стало веселее, скачущие мысли немного успокоились, потекли ровнее, и задуманный план показался легко и просто осуществимым, — надо только привести жертву к знакомому двору с проходным парадным, выводящим к запутанной системе деревянных помоек и сарайчиков, между которыми протоптаны узкие тропки. Весь секрет в том, что забор, огораживающий проходной двор, на первый взгляд целый, но если раздвинуть известные тебе доски и пролезть в отверстие, то попадешь в другой двор, столь же тесно застроенный всякой дребеденью, а оттуда, через заброшенный сарай без дверей, в следующий двор, откуда есть выход на улицу, ведущую к вокзалу.
Этот лабиринт Ромин обнаружил случайно и несколько раз прошел по нему — просто так, на всякий случай, еще не думая, как и зачем он сможет ему пригодиться. А вот и понадобился!
Так где кончать с ватником? Завести его поглубже в лабиринт сараев и помоек или пристрелить прямо в подъезде?
Шагая по улице, Ромин незаметно оглянулся и с удовлетворением отметил, что человек в ватнике идет за ним как привязанный, аккуратно выдерживая достаточное расстояние. Иди-иди, голубчик, если бы знал, что за мысли в голове у того, за кем ты так стремишься, то вряд ли бы так спешил. Но кто может заранее знать свою судьбу?
Интересно, есть у этого владельца серых валенок с галошами из автопокрышек жена и дети? Или живет бобылем, так и не решившись обзавестись семьей? О связном Ромин ничего не знал, кроме его внешности, пароля и условных знаков, которые следовало подать при прекращении связи или при необходимости внеочередных встреч.
Знакомый подъезд, выходивший во дворы-лабиринты, неумолимо приближался, и Ромин снова начал нервничать, бросая по сторонам быстрые взгляды. Тревожно все: прохожие, дребезжащие трамваи, шумная ватага ребятишек, бабки с кошелками, возчики на лошадях, запряженных в ломовые дроги. Появилась нервная зевота, мизинец на правой ноге стало сводить судорогой, а пальцы рук сделались просто ледяными.
«Надо бы, конечно, — подумал Ромин, — вновь заранее пройти по маршруту отступления, но нет такой возможности и приходится уповать на удачу, которая от него еще ни разу не отворачивалась. Авось и сегодня повезет».
Войдя в подъезд, он шагнул за порог, в прохладный сумрак, пахнущий старым трухлявым деревом, гнилой капустой и пригорелой картошкой. Придержав дверь, чтобы та не хлопнула, он затаил дыхание и напряженно прислушался — не скрипнут ли половицы ведущей наверх лестницы? На втором этаже площадка, ведущая в квартиры, а внизу только помещение какой-то давно не существующей конторы, ввиду необходимости ремонта и отсутствия дров, не занятой под жилье для эвакуированных.
Выход во двор расположен в глубине подъезда, в темном закутке под лестницей. Метнувшись туда, он дернул за ручку, проверяя, открыта ли спасительная дверь. Слава богу, открыта.
Вернувшись, Ромин тихонько приоткрыл наружную дверь, оставив щель для наблюдения за происходящим на улице. Поглядывая в нее, он стянул зубами с рук варежки и сильно потер замерзшие пальцы о грубое сукно шинели, — нельзя, чтобы они плохо слушались, сейчас многое решится, а действовать надо быстро.
Человек в промасленном ватнике не торопился, шел неспешно, посматривая по сторонам. «Ну, чего тянешь, скотина?!» — мысленно поторопил его Ромин.
Наметанным взглядом Ромин прошелся по лицам и фигурам прохожих — женщины, старухи, двое-трое мужчин разного возраста. Вроде не похоже, что за «ватником» тащится хвост. Так что, господин поручик, кончим связного здесь или поведем во двор? Пожалуй, под лестницей такой заманчиво-темный уголок, тихий, куда редко заглядывают, судя по скопившемуся там давнему мусору, — может, прямо там и…
Он успел отскочить в сторону, когда мужчина в ватнике подошел к дверям подъезда. Сразу оказаться с ним лицом к лицу для Ромина было выше сил. Ухватив вошедшего за рукав, он потянул его к темному закутку под лестницей.
— Все нормально? — облизнув языком внезапно пересохшие губы, спросил Ромин. — Принесли?
— Да, — связной протянул ему туго свернутый листок. — Деньги привезли?
— Конечно, — беря левой рукой сообщение и опуская его в карман, ответил Ромин. Правую он сунул за отворот шинели на груди и, мгновенно выхватив пистолет, ткнул стволом в ватник стоявшего перед ним человека.
Выстрел прозвучал глухо, как негромкий хлопок в ладоши. Лицо связного сразу приобрело какое-то удивленное выражение, и он начал медленно оседать на пол, полуоткрыв рот с побледневшими дрожащими губами. Ромин толкнул его глубже под лестницу, придержал тело, чтобы оно упало без стука. Сдвинул ногой ближе к стене серые валенки с галошами из автомобильных покрышек, на секунду задержался, настороженно прислушиваясь, а потом, распахнув дверь, ведущую во двор, выскочил туда.
Оскользаясь на обледенелой тропке, петлявшей между черными от печной золы сугробами, сараями, тухлыми помойками, Ромин шустро «побежал. Вот и забор. Он, забыв про засунутые в карманы рукавицы, голыми руками, срывая от торопливости ногти, раздвигал доски, протискиваясь в лаз…
Выходя из второго двора, Ромин заставил себя сдержать шаг — не стоило привлекать внимания прохожих. Опомнившись, натянул варежки и, стараясь подавить внезапно возникшую нервную дрожь, пошел по тротуару к вокзалу. Одно дело сделано…
Скопин сидел на полке в служебном купе — безучастно сгорбившийся, какой-то изжеванный, с потухшими мутными глазами, он не понравился Ромину еще больше, заставив злорадно подумать о том моменте, когда и этому усатому идиоту можно будет всадить пулю в сердце. Не долго ждать, совсем не долго.
— Пришел? — повернул к Ромину покрытое потом лицо напарник. И не понять сразу, о чем он спрашивает: о встрече со связным или о самом Ромине?
— Пришел, — буркнул бывший поручик, заваливаясь сзади него на полку. Охватило раздражение — неужели дурак не видит, что человек устал, хочет хотя бы немного отдохнуть, и надо встать, дать ему такую возможность. Так нет, расселся, как истукан.
— А я чегой-то приболел, — наконец поднимаясь, сообщил напарник. — Трясет лихоманка и грудь заложило, спасу нет.
Ромин рывком сел. Этого еще только не хватало для полноты ощущений! Теперь усатый болван не только свалит на него всю работу в поездке, но и не будет выходить из служебного купе, а если и правда всерьез расхворается, то пластом сляжет. Так уже бывало раз или два, и все заранее известно — храп по ночам, жалобные стоны, просьбы срочно добыть бутылку водки, чтобы хорошенько полечиться, найти сала и перцу, назойливые напоминания о необходимости быть предельно осторожным.
Как его ликвидировать на забытом богом и людьми полустанке, если он и носа не покажет из купе? А еще потребует провести сеанс связи и тут выяснится… Да ничего тут не выяснится, — Ромин даже немного повеселел, — поскольку записочку от связного удалось получить и на одну передачу хватит, а Скопин будет не век валяться.
— Ложись, — снимая шинель, предложил Ромин. — Тебе скорее выздороветь надо…
Больничные халаты оказались с оборванными завязками, короткими, едва достающими до середины бедра. Тихо матерясь сквозь зубы, Кривошеин накинул на себя халат и первым, не дожидаясь Волкова, почти побежал по коридору госпиталя, гремя по некрашеным доскам пола сапогами. Антон догнал его уже у лестницы.
— Упустили, черти, — буркнул Сергей Иванович и, перепрыгивая через две ступеньки, припустился наверх.
Человека в ватнике и серых валенках взяли под наблюдение на вокзале — он торчал около туалета, пряча лицо за опущенными клапанами ушанки с потертым кожаным верхом и поднятым воротничком ватника. Его спокойная безучастность к проходившим мимо пассажирам, обманчиво безмятежное доведение успокоили и ввели в заблуждение еще молодых, не очень опытных сотрудников. Они рассредоточились по залу ожидания и пропустили тот момент, норда человек в ватнике вдруг пошел на улицу. Успели заметить только, как мелькнула впереди черная железнодорожная шинель.
Пытаясь исправить допущенную ошибку, один из сотрудников, осуществлявших наружное наблюдение, решил пройти другой улицей, чтобы выйти навстречу неизвестному железнодорожнику. Но когда он, пробежав переулками, выскочил на мостовую, того уже не было, только не спеша шел мужчина в ватнике и серых валенках, часто приостанавливаясь и бросая по сторонам настороженные взгляды. Вот он свернул к неприметному деревянному двухэтажному дому и, открыв дверь подъезда, скрылся за ней.
Пойти за ним следом группа наблюдения не решилась — сотрудники начали наблюдать за подъездом, позвонив в управление и сообщив о встрече неизвестных. Кривошеин и Волков находились на заводе, а дежуривший у аппарата один из начальников отделений распорядился продолжать наблюдение и как только железнодорожник и человек в ватнике выйдут — проводить каждого до места, не обнаруживая себя.
Прождав минут пятнадцать, старший группы наружного наблюдения принял решение поручить одному из сотрудников осмотреть прилегающие к дому постройки и дворы — существовала вероятность, что встреча неизвестных проходит в одной из квартир дома, возможно имеющего второй выход.
Позади дома, в подъезде которого скрылся человек в ватнике, оказался проходной двор, выводивший в систему запутанных построек, соединявшихся с другими дворами и имевший выход на параллельную улицу. Услышав об этом, старший группы забеспокоился и сам вошел в подъезд, уже думая о том, как он будет оправдываться, если неизвестные засекли за собой наблюдение и использовали проходной подъезд и дворы для того, чтобы оторваться, — хорошего в этом случае ждать нечего. Но действительность оказалась еще хуже.
В подъезде было темновато и тихо, пахло пылью и сыростью. Настороженно повертев головой, старший группы начал подниматься по лестнице на второй этаж. За дверями квартир, выходивших на площадку, не слышно ни звука, слабо пропускало свет давно не мы тое пыльное окно, на обшарпанных дверях ни табличек с фамилиями жильцов, ни почтовых ящиков — только грубо намалеванные краской номера да узкие щели для писем и газет. Подергав на всякий случай ручки дверей и убедившись, что они заперты, старший стал спускаться вниз.
Отыскивая второй выход, он прошел в глубь подъезда и, увидев под лестницей валенки с галошами, невольно остановился — что это, почему здесь валенки, неужели неизвестный в ватнике переобулся и переоделся? Сделав еще шаг, старший группы наружного наблюдения замер — неестественно подвернув к груди руки и подняв к низкому косому потолку бледное лицо с остановившимися глазами, под лестницей лежал человек в ватнике и низко надвинутой на лоб ушанке…
— Ну?! — влетев в ординаторскую, Кривошеин кинулся к курившему у окна пожилому хирургу.
Вошедший следом за ним Антон остановился у дверей, неловко пытаясь стянуть на груди расползающиеся в стороны полы халата. Как здесь все напоминает ему собственное пребывание в госпитале, душный запах хлороформа, позвякивание инструментов за закрытыми дверями операционных и перевязочных, длинные коридоры, столы дежурных сестер, белые аптечные шкафчики, каталки. Неизвестного в ватнике не решились везти в городскую больницу, а доставили в военный госпиталь.
— Жив, — выпуская дым в приоткрытую форточку, отозвался хирург.
— Так, — Сергей Иванович тяжело опустился на стул, вытирая скомканным носовым платком широкий лоб. — Вы оперировали?
— Да. — Хирург выбросил папиросу и, нервно потирая руки, объяснил — выстрел произвели почти в упор, в область сердца, но у вашего, так скажем, подопечного в нагрудном кармане пиджака лежал портсигар. Попав в него, пуля пошла в сторону, пробила легкое и вышла через шею сзади.
— Жить будет? — спросил Волков.
— Я не бог, — повернулся к нему хирург.
— Ясно, — встал Кривошеин. — Ведите, надо на него взглянуть. Палату отдельную нашли?
— Нашли, — грустно вздохнул хирург, — там уже полно ваших, караулят под дверями.
Он повел гостей по коридору в другое крыло здания. Около одной из дверей сидел на стуле человек в мятом штатском костюме. Увидев подходивших Волкова и Кривошеина, он встал.
— Установили личность? — взявшись за ручку двери, спросил Сергей Иванович.
— Пока нет. Без документов, одежду и извлеченную пулю уже отправили в отдел.
— Ясно, — крякнул Кривошеин, распахивая дверь палаты.
— Пожалуйста, тише, — бочком пробираясь вперед него, предупредил врач, — состояние кризисное.
Раненый лежал на широкой кровати — бледное лицо, покрытое мелкими бисеринками пота, обрамлено густо поседевшими, давно не стриженными волосами, безвольно вытянуты вдоль тела худые руки с желтоватой кожей, ногти и губы синеватого оттенка, тугая повязка на шее и груди, дыхание хриплое, натужное.
Подойдя на цыпочках ближе, Антон вгляделся в его лицо — непримечательное, с правильными, заострившимися чертами и глубокими тенями под глазами. Ничего особенного, никаких запоминающихся примет, на вид лет пятьдесят пять, а может быть, и больше. Неаккуратная щетина на подбородке, вздрагивают тонкие ноздри, с трудом втягивая в себя воздух, рот полуоткрыт, видны желтоватые зубы верхней челюсти с коронкой белого металла на крайнем резце. Сзади напряженно сопел Кривошеин, внимательно разглядывая раненого.
— От меня сейчас приедет сотрудник, — отходя, тихо сказал он хирургу, — сделает его фото. Он вам незнаком?
Врач в ответ только недоуменно пожал плечами, — какое у него может быть знакомство с этим человеком, если он сам попал сюда, в этот госпиталь, меньше года назад? Но не будешь же сейчас объяснять это медвежеватому чекисту со шрамом на тыльной стороне ладони. Что там у них произошло, кто знает? Стоит ли интересоваться, задавать лишние вопросы — люди из НКВД такого не любят, спрашивать — их привилегия.
— Вот, брат Волков, какая чертовщина! — вздохнул, спускаясь по лестнице, Сергей Иванович. — Где теперь второй, тот, в железнодорожной шинели? А? Кто он таков?
— Есть номер поезда, — откликнулся Антон. — Ориентируем Москву, а пока надо срочным порядком устанавливать личность раненого и его связи в городе.
— Все так, — на ходу раздраженно стягивая с плеч больничный халат, пробурчал Кривошеин. — Я заметил, что как не заладится с утра, так весь день потом кувырком. Вот и сегодня: сначала Первухин настроение испоганил и заставил думать о грядущих неприятностях, потом эти рохли сработали из рук вон…
Не договорив, он обреченно махнул искалеченной рукой. Когда придет в себя раненый, когда с ним можно будет говорить и будет ли он говорить? Почему его хотели ликвидировать, а его явно убирали, — иначе зачем стрелять в упор прямо в сердце? Решил выйти из игры? Но ведь он пришел на место встречи, пошел следом за неизвестным железнодорожником, доверяя тому, зашел в подъезд — если бы знал, что его там ждет, вряд ли пошел бы, — наверняка поговорил с убийцей, а может, и не говорил? Просто тот подошел, обнажил ствол и выстрелил?
Удастся ли установить личность раненого? Надо срочно дать задание милиции тщательно перетрясти весь жилой сектор и еще раз проверить заводы, — человек не иголка, где-то же он жил, с кем-то общался, пил, ел, спал, его наверняка видели соседи, а если неизвестный в ватнике и серых валенках работал, а неработающему сейчас просто нечего есть, то на службе обязательно заметят его отсутствие. Вот и потянется ниточка и куда-то приведет, но только когда? Время идет, уходит, утекает, как песок между пальцами и пугает этот негромкий выстрел в подъезде. Что он означает, почему хотели убить связного или члена немецкой агентурной группы, несомненно работающей здесь? Почему?
Глава 8
Рассвет застал Семена Слободу в глухом лесу. Сначала небо посерело, словно слизывая свет редких звезд, растворяя их в себе и пряча от глаз человека, а потом этот серый, с каждой минутой усиливающийся свет незаметно начал проникать во все вокруг: четко обрисовал ветви еще голых деревьев, пятна снега под елками, уже распушившими вечнозеленые, колючие лапы, просветы на полянах, подбодрил робкие птичьи голоса, как будто раздвинул шире лесное пространство, скрадывая тени, обещая вскорости пригнать густые, молочно-белые туманы, поедающие остатки нерастаявшего снега, и начать обильное половодье.
На небо пограничник поглядывал с тревогой: светло — это не тепло, а найти беглеца при свете неизмеримо легче, чем ночью, — лес еще голый, за кустиком не спрячешься, не завалишься в густую траву, не скатишься в сырой овраг, поскольку там полно снега, — завязнешь в нем и выдашь себя, оставив приметные следы.
Далеко ли он успел уйти? В темноте трудно ориентироваться, да еще на совершенно незнакомой местности, не имея ни карты, ни компаса, — одна надежда на собственный опыт и знание примет. И не блукает ли он, вертясь, как волчок, на одном и том же месте, раз за разом делая круги и возвращаясь к исходной точке?
В голове противно шумело, болели ободранные ладони, дрожали и подгибались от голода и усталости колени, а перед глазами словно пляшет целый рой разноцветной мошкары, так и мельтешат, мешая смотреть, вызывая приступы неудержимой тошноты и головокружения. Он останавливался, ухватившись рукой за ближайший шершавый мокрый ствол дерева, закрывал глаза, выжидая, пока отступит от горла тошнота и перестанет дико плясать перед глазами рассветный сумрачный лес, пока не уйдет дрожь, и, стиснув зубы, снова упрямо шагал и шагал, с трудом переставляя опухшие ноги. Тощие икры болтались в широких голенищах разбитых, дырявых кирзачей, но стопы раздуло и сжало, как тисками, а каждый новый шаг вызывал неудержимое желание плюнуть на все, повалиться где-нибудь под елкой, хоть в сугроб и забыться, дать отдых измученному телу и усталой душе, смежить веки и провалиться в сон, не надеясь вновь проснуться.
Не может он больше, не может! Нет сил терпеть голод и холод, нет сил идти в неизвестность, а возможно, и прямо в руки поджидающей его на одной из просек или заброшенных лесных дорог погони. У него нет хлеба, нет оружия, нет одежды, нет шапки, — куда он бредет, спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь, чтобы через несколько шагов опять упасть и, ругаясь последними словами, приказывать себе встать и двигаться дальше? Как далеко он успел уйти от полотна железной дороги, спохватились немцы или нет? Судя по рассветному молоку, разлившемуся между деревьев, его уже должны давно искать.
Вскоре он вышел к реке — она лежала перед ним, скованная нерастаявшим льдом, отливавшим густой синевой, местами потемневшая, готовая хрустнуть своим ненадежным покровом под его ногой и поглотить усталого беглеца в темной глубине вод, навсегда скрыв его от погони и других людей. Остановившись на берегу, Слобода задумался: надо переправляться, но как?
Спускаться на лед страшно — ненадежен он и коварен, как ветреная, избалованная и взбалмошная баба, да и подточен пробуждающейся к новому лету водой, готовой взломать его и весело понести на взблескивающей под солнцем спине к другой реке или глубокому тихому озеру. Пусть река не широка, а подо льдом кажется больше расстояние до другого берега, но его надо преодолеть, хоть на пузе проползти.
Забравшись в прибрежные заросли, Семен, налегая всем телом на ствол тонкого молодого деревца, попытался сломать его, чтобы сделать себе слегу. Деревце никак не хотело поддаваться. В нем уже пробудились и гудели новые соки, оно жадно и нетерпеливо ждало тепла, набухания почек на тонких ветвях и шума листьев в кроне, теплых дождей и мягкой земли, забывшей про морозы до следующей зимы. И нет ему дела до обессилевшего, измотанного человека, стремящегося к свободе.
Слобода чуть не заплакал от горькой обиды. Нет, ну нет сил сломать деревце, а пускаться в путь по льду реки без слеги просто самоубийственно. И тут у комля жалобно хрупнуло, и он повалился сжимая в саднивших ладонях не сумевшее больше противиться ему молодое деревце, отдавшее свою жизнь в обмен на опасение человека, уходящего от погони. Поднявшись, он с грехом пополам обломал ветки и, как слепой, щупая перед собой дорогу, спустился на лед. Подняв к небу лицо, посмотрел на туманное солнце, все выше поднимавшееся над деревьями, — словно хотел увидеть на нем какие-то неведомые знамения, радостные или печальные, сулящие удачу или смерть.
Лед был зыбким, предательски потрескивал под ногами, и иногда казалось, что ступаешь по толстой шкуре беспокойно спящего гигантского животного, в любой момент готового проснуться, подняться и стряхнуть тебя, как букашку.
Балансируя и тыча впереди слегой, Семен шел к другому берегу, страшно боясь провалиться. Выбраться недостанет сил, а если глубина небольшая и все же выберешься, то куда потом деваться в пустом лесу в мокрой одежде? Огня не разведешь, не согреешься, а если и отыщешь жилье, то там могут оказаться немцы или полицаи, да и где оно тут, жилье человека?
Когда слега наконец уперлась в твердый берег, Семен сначала просто не поверил своему счастью — неужели перебрался, неужели дошел? Помогая себе грубым шестом, он выкарабкался наверх, на некрутой косогор, оглянулся. Там, где он недавно проходил, остались быстро наполнившиеся водой черные следы, готовые выдать, рассказать преследователям, куда он направился. Да что уж теперь, не будут же они, ради его поисков, поднимать самолет? Но могут и собаки привести к реке. Эх, были бы силы и камни под ногами, можно разбить лед, а теперь одно спасение — вперед, скорее вперед…
Когда стало совсем светло, он случайно набрел на незамерзающий ключ в небольшом овражке. Жутко хотелось пить, в горле аж скребло без влаги и, не в состоянии отказаться от глотка воды, он опустился перед ключом на колени. Ощутив сырую податливость земли, нагнулся и увидел в лужице свое отражение: ссадины и кровоподтеки на распухшем, избитом лице, спутанные серые волосы — а когда-то он был темно-русым, сивая щетина на глубоко запавших щеках, лихорадочно горящие глаза. Неужто это лейтенант Семен Слобода? Когда он видел свое лицо в последний раз? Кажется, так давно, в какой-то другой, совсем не его жизни, оставшейся в невообразимой дали.
Протянув дрожащие пальцы, он коснулся поверхности родника. Неузнаваемое лицо исчезло, растворившись в множестве мелких волн, подернувших воду рябью.
Полно, он ли это? Уж не помутился ли разум от войны, боев, плена, побегов, казней, карцеров, допросов и страшных ночей, проведенных в камере смертников? Вдруг давно уже нет в живых Семена Слободы, а он действительно летчик Грачевой, в своем больном воображении считающий себя другим человеком и не желающий понимать того, как ужасно болен? Неужели?..
Семен дико завыл и откинулся назад, обхватив ладонями пылающую голову, — что происходит, что?! Почему он не узнает себя, почему так дико ломит в висках и бешено крутится перед глазами сырой лес, почему сжимают горло спазмы, не давая дышать, и так звенит, звенит в ушах, словно рядом бьют огромным молотом в стальную грудь наковальни, забыв бросить на нее раскаленную заготовку, и эти холостые, тяжкие удары дробят тебе череп, вызывая внезапную слепоту…
Когда он пришел в себя, солнце стояло высоко над деревьями, равнодушно освещая родничок и лежащего рядом с ним грязного человека в рваной одежде. Тупо болело в затылке, пересохло во рту, но поднявшись, Слобода не припал губами к воде — боялся вновь увидеть себя и испытать ужас, проваливаясь в темноту беспамятства. Отчего это с ним — от голода, истощения, от войны и всех тягот сразу?
Зачерпнув рукой из родничка, он плеснул себе в лицо ледяной водой. Стало легче, мысли немного прояснились, беспамятство, как ни странно, принесло некоторое облегчение. В желудке ощущалась тянущая пустота, но в глазах уже не двоилось и лес стоял на месте, перестав крутиться. Надо идти дальше, идти и идти.
Пошатываясь, он сделал первый шаг, прислушиваясь к себе и страшась снова упасть, но за первым шагом сделал второй, третий, уходя в неизвестность, в незнакомый лес.
Раз или два Семен присаживался отдохнуть, выбирая пригорки посуше и устраиваясь так, чтобы ветер дул на него со стороны оставшейся сзади железки, — не унюхают собаки и успеешь услышать шум погони: немцам скрываться нечего, они знают, что идут по следу голодного и безоружного человека, для них это развлечение, вроде охоты, а для него — неминуемая смерть. Убежать он не сможет — не хватит сил, но так уж устроен человек, особенно не привыкший сдаваться, он всегда хочет встретить опасность лицом к лицу или, если это возможно, избежать ее, спасая в первую очередь не себя, а то, что ему доверено.
Прислушиваясь к шуму леса, Слобода не улавливал тревожных звуков погони: это одновременно радовало и настораживало. Вновь одолевали тяжелые раздумья о том, как быть дальше, куда податься, где найти приют, кров над головой, пищу и оружие?
Запах жилья и дыма он учуял внезапно. Не веря самому себе, приостановился, жадно втягивая ноздрями острый воздух, — не почудилось ли, не обманывает ли его воображение, выдавая желаемое за действительность? Нет, правда тянет далекой гарью печей и ветер Дует в лицо, очередной раз изменив направление.
Заторопившись вперед, пограничник вскоре выбрался на опушку. Деревья расступились, открыв грязное, покрытое пожухлой травой поле, за которым лежала небольшая деревушка. Вытирая тыльной стороной ладони набегавшие на глаза слезы, Семен долго вглядывался в далекие домики, пытаясь определить — есть ли в деревне немцы? Идти к жилью он боялся, да и как пройти незамеченным через поле? Стоит дождаться темноты.
Спрятавшись в кустах он с трудом наломал себе еловых лап и, сделав из них подстилку, лег на бок, дав себе слово не поддаваться тошнотворной слабости. Но '¡срез некоторое время усталость взяла свое и глаза его закрылись.
Проснулся он словно от толчка в плечо, чувствуя, как задубели от холода руки и ноги, как скрючило все тело, и еще не вполне понимая, где он и что с ним происходит. Солнце потихоньку клонилось к закату, над трубами далеких изб курились дымки, слабо шумел под ветром голыми ветвями лес, на горизонте длинной чередой шли тучи, закрывая половину неба сизой пеленой. Потянуло сырым морозцем, заставив втянуть непокрытую голову в плечи и повыше поднять воротник рваной шинельки.
Бросив взгляд на поле, Слобода увидел на нем маленькую фигурку — тщедушный мальчишка в долгополом пиджаке, подпоясанном веревкой, неспешно вышагивал к лесу, неся в руке казавшийся большим топор. Не спуская с мальчонки глаз, Семен перебрался ближе к тому месту, где тот должен войти в кусты.
Вскоре мальчик был совсем рядом. Уже можно разглядеть, что он тощенький, круглолицый, с бледным веснушчатым лицом.
— Эй, паренек! — показываясь из кустов, осевшим голосом позвал его беглец.
Мальчишка встал как вкопанный и с явным испугом уставился на неизвестного человека, готовый заорать от страха. Заметив это, Семен показал ему свои пустые руки и тихо сказал:
— Немцы у вас есть?
Паренек отрицательно мотнул головой и сделал шаг назад.
— Погоди, — остановил его Слобода. — Станция далеко? Да не бойся, я свой, из плена бежал, Ночью, когда бомбили.
Мальчик недоверчиво поглядел на него и сделал еще один шаг назад.
— Хлеба принеси, — попросил пограничник, устало опускаясь на землю.
— Дядь, станция тридцать верст отсюда, — шмыгнул носом парнишка. — Ты откуда бежал-то?
— Из Немежа, — глухо откликнулся Семен. — Уцепился за вагон, а потом спрыгнул и лесом. Всю ночь и день шел.
— Ага, — подошел ближе мальчик, — а речка была?
— По льду перешел, — беглец понял, что малец проверяет. — Сломил слегу и перешел. Еще утром. Хлеба принеси, если есть.
— А сам-то кто будешь? — совсем по-взрослому расспрашивал парнишка. — Из каких?
— Летчик, — привычно солгал Слобода. — Потом партизанил. У вас партизаны есть?
— Не, — усмехнулся мальчик. — Староста есть, полицаи, бывает, приезжают, а партизан не видали. Ты это, дядя, полежи покудова, а я хворосту наберу и схожу домой за хлебом. Подождешь?
— Подожду, — прикрыл глаза пограничник. — Только не говори никому, что меня видел, ладно?
Не услышав ответа, он открыл глаза, но мальчишка уже исчез. На поле его тоже не было. Куда же он делся? И что теперь делать — ждать обещанного хлеба или убираться отсюда, пока малец не привел старосту?
Пока он раздумывал, где-то в стороне раздались голоса. Приподнявшись, Семен увидел своего мальчишку вместе с высокой женщиной в телогрейке и мужских сапогах. Лицо ее было хмурым. Не дойдя до лежавшего на земле беглеца нескольких шагов, она остановилась.
— Вот, этот, — показал на Слободу мальчик.
— Вижу, — буркнула женщина, подходя ближе и наклоняясь. Положила на колени беглецу небольшой кусок темного хлеба и маленькую вареную картофелину. — На! Больше тебе нельзя.
Она сунула ему в руки старый облезлый треух. Увидев его изувеченные ладони, жалостливо скривилась и сама помогла надеть шапку на голову.
— Дотянешь дотемна? — участливо спросила женщина. — Засветло в деревню нельзя, увидят.
— Попробую, — слабо улыбнулся в ответ Семен и потерял сознание.
Придя в себя, Слобода увидел над головой некрашеный деревянный потолок, на котором слабо колебались тени от коптилки. Голова казалась странно легкой, и, подняв руку, чтобы ее ощупать, он обнаружил, что острижен наголо и кожа смазана чем-то пахучим и едким. Ладони были перевязаны чистыми тряпицами, а ссадины на лице покрыты слоем какого-то жира.
— Очнулся? — наклонилась над ним женщина. — Слава богу, я уж думала, совсем обеспамятел.
— Где я? — прошептал Семен.
— А у нас, — поправляя укрывавшее его старенькое одеяло, объяснила хозяйка. — Мы тебя с Колькой из лесу приволокли. Волосья я твои обстригла и одежу сожгла. Вши на тебе были. Одели вот в мужнино, почти впору пришлось. Голову я тебе от гнид смазала нашим деревенским снадобьем, а на лицо немного барсучьего сала нашла. Прятала, думала пригодится, вот и пригодилось. Ты лежи. Звать тебя как?
— Семен, — через силу улыбнулся пограничник. — Я-то думал, бросите.
— Как можно, — вздохнула хозяйка, — вдруг и мой где мается? Как ушел в сорок первом, так и слуху нет.
— Партизаны где? — пытаясь приподняться, впился в ее лицо взглядом Слобода.
— Какие тебе партизаны, — она прижала его к подушке. — Ты уж второй день без памяти. Да и нету их здеся.
Она сунула ему в руки кружку с теплым отваром, поддерживая под голову, помогла выпить. Потом дала кусочек хлеба.
Глядя, как он ест, ворочая на худом, обтянутом кожей лице челюстями, как жерновами, наслаждаясь почти забытым вкусом пусть и плохого, но хлеба, хозяйка горестно подперла щеку рукой и вытирала концом темного платка редкие слезинки, катившиеся по щекам. Скосив глаза, Семен заметил притулившегося на лавке в углу Кольку и рядом с ним удивительно похожую на мать девчонку с торчащими в стороны тощими косичками.
— Детки мои, — вздохнула хозяйка. — А ты женатый?
— Не успел.
— И-и, — всплеснула она руками, — так и жил бобылем? Который же тебе год?
— Двадцать три.
Хозяйка снова вздохнула и недоверчиво покачала головой: что же война делает с мужиками, разве ему дашь двадцать три? На полсотни тянет, если не больше, а оказалось, совсем еще молоденький. Молоденький, но седой, лицом на старика похожий, кожа да кости. И как только сумел от немцев удрать?
— Партизан правда нету? — млея от непривычной сытости и тепла избы, снова спросил Семен.
— Были недалеко, да ушли куда-то. Немцы тут за ними сильно гонялися, — забирая у него кружку, ответила хозяйка. — Самолеты ихние над лесом летали каждый день, высматривали. Потом полицаи и жандармы дороги перекрывали, войска в лес посылали. Ну, партизаны и ушли, а куда — не знаю. К нам и не заходили они никогда. Да зачем тебе, неужто опять воевать хочешь? На себя бы глянул, страсть смотреть! Ховаться тебе надо, не ровен час увидит немчура.
— Некогда ховаться, — Слобода с трудом сел. — Если партизан нету, то в город мне надо. Далеко до него?
— Порядком. По железке все тридцать верст, а ежели проселками, то и в половину уложишься. Да не дойти тебе, лежи уж, покудова на ногах не научишься стоять, а там увидим.
Слобода хотел сказать ей, что время не ждет, а душу давит чужая тайна, неисповедимыми военными путями ставшая и его тайной, которую он обязательно должен передать надежным людям, чтобы спасти многие жизни, тысячи жизней, сообщив о страшном, непростимом грехе предательства своих в самую тяжкую годину. Когда узнают там, за линией фронта, то сумеют предупредить, не дадут совершиться злу. А враг среди своих, он командует, и все ему верят, и товарищ Сталин верит, доверяет технику, армии, жизни красноармейцев и, может быть, даже жизнь мужа хозяйки, приютившей Семена в своей избе. У этой простой женщины свой подвиг на страшной войне, а у него свой, и судьба недаром сохранила его во множестве смертных испытаний, доверив и поручив донести до своих тяжкую весть. Если он останется здесь, не пойдет в город, то кто тогда предупредит наших, кто передаст им слова погибшего Сушкова, сказанные в ночь перед казнью в камере смертников тюрьмы СД в Немеже? Страшный груз тайны уже начал собирать свою кровавую дань, и скольких она еще унесет в небытие? Ведь не поступишь, как в той, далекой детской сказочке, когда пастушок вырыл яму и прокричал в нее заветные слова, а потом выросло дерево, из веток которого сделали дудочки, разнесшие те слова по всему свету.
Яму выроют, но совсем не затем, чтобы он мог в нее кричать, а поставят обладателя тайны на ее краю и всадят пулю в грудь или в затылок, заставив навсегда молчать. Нельзя, нельзя так уйти, не передав другим того, что стало тебе известно!
Раньше он полагал, что уже прошел почти по всем мыслимым и немыслимым кругам ада, испытав такие муки, о которых и подумать-то страшно, но оказалось, есть муки посильнее — когда не можешь выполнить долг и грызет тебя изнутри нечто, не давая покоя, заставляя мозг постоянно и лихорадочно искать выхода…
Многое он хотел сказать, но веки вдруг странно отяжелели, а в голове поплыл туман…
Когда Семен проснулся, вокруг была густая темнота. Открыв глаза и не увидев света, он поначалу испугался, решив, что ослеп. Но потом услышал над головой скрип половиц и чьи-то шаги, уловил сыроватый запах земли и деревянных кадок, проморгавшись, различил серые полоски пробивавшегося по краям лаза света и понял, что его перенесли в подпол.
Протянув руку, нащупал доски стенки подпола и, уцепившись за них, сел. С радостью отметил, что голова не кружится и появилось желание есть — кажется, съел бы черта с рогами, только подавай. Однако тело болело, словно его били палками, пульсирующими толчками боль растекалась по телу, терзая каждую мышцу, заставляя сквозь зубы тихо стонать. Да, пожалуй, в таком состоянии ему действительно не одолеть пятнадцать верст до города, а никто не повезет ни на лошадях, ни на машине. И есть ли в деревне лошади? О машинах и говорить нечего.
Сколько он проспал — час, сутки, двое? Выкидывают с ним шутку за шуткой, и от этих шуток хочется выть и плакать, колотя себя по обстриженной голове слабыми, тощими кулаками. Как быть теперь — ждать, пока вернутся силы, и идти в город, на Мостовую, три, или искать другой выход из создавшегося положения?
Документов у него нет, и можно стать легкой добычей первого же встречного полицая или немца, поскольку оружия тоже нет, а надо идти по дороге, ведущей в город, на которой наверняка расположены контрольные пункты. Лесом ему не выбраться, да и пока он будет лежать, набираясь сил, вскроется река. Лодки нет, бродом не перейти, так как еще холодно, а связать плот для переправы опять же не хватит сил. И вообще — стоит ли соваться в лес? Встреча в нем с немцами или полицаями означает неминуемую смерть. Кто будет разбираться, как ты оказался в лесу или почему вышел из него прямо на посты?
Ну, предположим, он пойдет по дороге, сумеет выкрутиться при проверке документов и доберется до города. Где там Мостовая улица?
Начать расспрашивать, означает вызвать подозрение, а люди в лихое времечко и так насторожены выше всякой меры. Да и не знаешь, на кого нарвешься на улице, а вид у Семена, прямо скажем, не самый лучший. Ссадины и кровоподтеки заживут не скоро, а с разбитым лицом и думать нечего свободно разгуливать по городу и дорогам.
Стукнула крышка откинутого люка подпола, и по глазам резанул свет каганца, показавшийся нестерпимо ярким. Вниз спустилась хозяйка, прижимая одной рукой к груди глиняную миску с куском хлеба и вареными картофелинами, а другой держа коптилку.
— Отошел? — присаживаясь на край грубо сколоченного топчана, служившего Семену ложем, спросила она. — Что с тобой? Наверное, оголодал. Я ужо боялася, не повредился ли головой? Кричал ты страшно, как обеспамятел, пришлось сюда отнести.
Она сунула ему в руки кусок хлеба и очищенную картофелину. Слобода взял и, кляня себя, жадно впился зубами в дразняще пахнущий хлеб.
«От себя отрывают, — подумал он, — чем отплачу за добро, чем? Сейчас хлеб наравне с жизнью…»
— Лекарства бы тебе надо, — глядя, как он ест, горестно вздохнула хозяйка. — Да где их теперя взять? Слышь, Семен, а что за дело у тебя в городе-то?
— Почему вас это интересует? — насторожился пограничник.
— Да ты больно шибко убивался в беспамяти, все об каком-то Андрее говорил. — Она не отвела взгляда, и он обмяк, откусил от картофелины, раздумывая, как ответить.
— Важное дело, очень важное. Не только мое, военное, — наконец сказал Слобода.
— Может, Таньку мою послать? — несмело предложила хозяйка. — Ты не гляди, что мала ростом, ей уж семнадцатый пошел. Староста наш, Трифонов, мужик свойский, мы его сами выбирали, он ей записал тринадцать, чтобы не угнали к германцам. Попрошу, он поможет. Оне с моим мужем друзья были, да на войну только мой попал, а Трифонов остался. Одноногий он, еще с первой мировой, будь она неладна. А Танька сходит, здешних немец в город пускает. Доверишься?
Семен задумался. Конечно, местная девчонка, да еще не выдавшаяся росточком — видно, пошла в мужа хозяйки, — вряд ли вызовет подозрение у немцев и полицаев. Это, пожалуй, выход. Но надо решить, как ей поступить в городе? Придется дать адрес явки и пароль, научить, как провериться, прежде чем постучать в нужный дом, что говорить, а о чем умолчать. Если ей действительно семнадцатый год, поймет, какое дело доверено и что за это с ней будут вытворять немцы, если дознаются. Не хочется рисковать чужой, совсем еще молодой жизнью, но что остается?
— Хорошо, позовите ее.
Взяв девушку за руку и усадив ее на край топчана, Слобода помолчал, собираясь с мыслями. Потом сказал:
— Город знаешь?
— Немного, — оробев, тихо ответила Таня.
— Надо найти Мостовую улицу, дом три. Там спросишь дядю Андрея…
Танька ушла в город через день. Семен, с нетерпением ожидавший ее возвращения, потерял покой. Дойдет ли, не остановят ли на дороге, найдет ли дом на Мостовой улице, поверят ли ей там? От этого зависело столь многое! И жалко девушку — маленькая, худенькая, похожая в своих старых широких платках на замерзшего, нахохлившегося воробышка, — она должна делать суровое дело, которое зачастую оказывалось не под силу и крепким мужикам, ломавшимся от нервного напряжения постоянного ожидания опасности и провала. Кабы не беда у него с лицом да слабость, не дающая возможности самому отправиться в город, ни за что не взвалил бы на ее плечи такого непосильного груза.
К вечеру он попросил у хозяйки бумагу и карандаш. Та принесла замусоленную школьную тетрадку с тремя оставшимися листочками в клеточку и огрызок синего карандаша. Остро заточив его, Семен при свете коптилки мелким почерком написал обо всем, что произошло с ним, начиная с двадцать второго июня сорок первого. Мысли путались, слова не хотели выстраиваться в гладкие фразы, приходилось экономить место и писать сжато, упоминая только о самом существенном. Но все равно получилось длинно и едва хватило бумаги, даже исписал обложку.
Перечитав, остался недоволен собой, но больше писать не на чем — бумаги нет, да и сточившийся огрызок карандаша уже не умещался в пальцах. Главное он написал. Теперь, даже если его не будет в живых, это послание должно дойти до адресата, и там узнают о предательстве, покарают изменника. Не было бы только слишком поздно.
Свернув листки, он перевязал их выдернутой из подола рубахи ниткой и завернул в тряпку. Отдавая хозяйке, попросил:
— Хорошо бы в клеенку запаковать и надежно спрятать. Мало ли что случится, а вам лучше не знать о содержании моего письма. Когда придут наши, спросите кого-нибудь из НКВД или из военной контрразведки. Запомнили? Им отдадите, они знают, как поступить.
— Чего это ты задумал? — прижав тощий сверток к груди, хозяйка уставилась на него расширенными казавшимися почти черными при свете коптилки глазами.
— Война, — постарался успокаивающе улыбнуться ей Семен. — Всякое на ней приключается. Поэтому спрячьте подальше, на всякий случай…
Таня вернулась на третий день — грязная, усталая она едва двигала ногами и шевелила губами, но глаза на похудевшем и еще больше заострившемся лице с конопатым носиком довольно блестели.
— Ой, а на дорогах немцев, — рассказывала он; вылезшему из подпола Слободе, помогая матери разматывать на себе платки. — Наверное, новых пригнали кругом торчат, и злые, ровно кобели цепные. Я уж хотела вертаться, да попались дядьки с Потылихи, на телегу взяли.
— Это кто же? — поинтересовалась мать.
— Долгушкины, они в город продукты везли.
— Нашла? — не выдержал Семен. А то будет сейчас трещать про деревенские новости, рассказывать во всех подробностях, чего видела в Немеже, перескажет все разговоры с неизвестными Долгушкиными, видимо знакомыми и матери, а про дело либо забудет, либо скажет в самом конце, да и то, если не уснет: вон глаза-то у нее едва ворочаются. Сомлела в тепле и, добравшись до дома, почувствовала себя в безопасности.
— А как же, — гордо улыбнулась Танька. — Нашла. Все сделала, как велели. И Андрея спросила, и слова нужные сказала.
— Какой он из себя? — нетерпеливо перебил Слобода.
— Так, рыжеватый, — она пожала плечами. — Годов под пятьдесят, с бороденкой. Чаем из брусничного листа угощал, говорил организму от него польза. Про вас расспрашивал долго.
— Про меня? — изумился пограничник. — Откуда же он меня знает?
— Вот, — Танька вынула из кармана листовку.
Семен взял, развернул и не поверил своим глазам. С большой тюремной фотографии на него смотрело его собственное лицо, а ниже обещались две коровы и крупная сумма в рейхсмарках тому, кто укажет местонахождение бежавшего из тюрьмы и разыскиваемого властями опасного преступника Грачевого или доставит его в комендатуру живым или мертвым.
— Даже в рейхсмарках, — слегка присвистнул он, пряча листовку. — Не поскупились. А как он про меня-то узнал?
— Дотошный, — устало опускаясь на лавку и с наслаждением вытягивая ноги, ответила Танька. — Я, как вы велели, сказала, что одному человеку с ним повидаться крайняя нужда, а он меня в дом, чаем угощать, ночевать оставил, чтобы в комендантский час не попала. Женщина там еще с ним живет, старая.
— Про женщину потом, — поторопил Семен, — Дальше давай.
— Ну, попили чаю, поговорили. Дядька Андрей такой обстоятельный, разговорчивый, выспрашивать любит. Пристал банным листом: что за человек да откуда он, почему сам не придет, кто адрес указал? Я все отнекивалась — не знаю, мол, а он не отстает. Тогда я, как мы уговаривались, намекаю: товарищ ваш, у какого нога больная, подсказал. Он аж с лица сменился, но виду старался не подать, и опять расспрашивать: где он сам, что с ним? Пришлось сказать, что вы с ним видались. Тогда он листок достал и показывает — этот, что ли, со мной свидеться хочет?
— Где он листовку взял, не говорил? — насторожился Слобода.
— Они там на каждом углу налеплены, — глаза у Таньки закрывались от усталости и она едва ворочала языком. — Завтрева он сам сюда придет.
— Кто?
— Дядька Андрей. Я ему дорогу обсказала. Обещал быть.
— Уходить мне надо, — поднялся Семен. — Нельзя.
— Куда же ты? — встала в дверях хозяйка. — Темно уже.
— В лес, там пережду. Если немцы появятся, говорите, что ничего не знаете. А если он один придет, Колька за мной сбегает, — надевая пальто, ответил Слобода.
— Я все не так сделала? — открыла глаза Танька.
— Ничего, — попытался успокоить ее Семен. — Будем надеяться, обойдется. Опыта у нас с тобой нету, а осторожность должна быть.
Колька вызвался проводить, чтобы знать, где потом искать. Вместе вышли на задворки, пробрались овражком к опушке.
После тепла избы в лесу казалось страшно холодно от пронизывающего ветра да еще не оставляли мрачные мысли — а ну как девчонка пришла не туда или попала совсем не к тем людям? Мало ли что могло произойти на явке, пока Сушков сидел в камере смертников? Хотелось бы, конечно, верить в лучшее, но кто может точно знать заранее, как все повернется? Страшно оставлять приютивших тебя людей одних в ожидании возможной беды, однако самое правильное, что он сейчас может сделать, — уйти в лес, чтобы не подвергать, их еще большей опасности, поскольку защитить он все равно не способен.
Мальчик показал ему кучу валежника, под которой оказалось подобие сухой берлоги, закрытой почти со всех сторон сучьями. Наломав еловых лап, они застелили ими берлогу, и Семен залез в нее. Колька завалил его сверху хворостом и ушел, пообещав обязательно наведаться завтра и принести хлеба.
Съежившись на еловых лапах и спрятав лицо в поднятый воротник пальто, пограничник долго не мог успокоиться: идти ли завтра обратно в деревню, если прибежит Колька и скажет, что объявился Андрей? Как говорить с ним, если тот и правда придет? Казавшееся раньше таким простым — только попади на явку, — теперь предстало в совершенно ином свете, тревожило, да что тревожило, просто пугало, заставляя сжиматься от страха сердце. Наверное, надо было как следует все заранее несколько раз продумать, прежде чем сразу же поддаваться на показавшееся самым легким выходом предложение хозяйки отправить в город дочку. Поторопился ты, Семен, ох поторопился!
А если иначе нельзя, если бездарно теряешь время, когда там, на фронте, командует людьми изменник, если необходимо передать полученные сведения нашим как можно скорее?
Сушков не мог лгать. Да и зачем ему обманывать такого же смертника, стоя на краю могилы? Зачем давать адрес проваленной явки, заранее обрекая доверенную товарищу по камере информацию, добытую у немцев практически ценой собственной жизни, на забвение, уничтожение и исчезновение, если она попа дет в руки врага. А старого хромого переводчика потом казнили во дворе тюрьмы. Что он хотел крикнуть — неизвестно. Наверное, все его помыслы были об оставшемся в камере Семене Слободе.
Колька пришел, когда солнце стояло уже высоко над деревьями. Отвалив хворост, он помог выбраться из берлоги замерзшему Семену и, сунув ему в руки краюху хлеба, луковицу и вареную картофелину, просто сообщил:
— Пришел.
— Кто? — поперхнулся Слобода, успевший откусить от краюхи. Он прекрасно понимал, о ком идет речь, но хотел выиграть у самого себя лишние минуты, чтобы собраться с мыслями. И вдруг мальчик не о том?
— Мужик из города, — удивленно ответил Колька. Чего это с дядькой Семеном, не понимает, что ли, о чем ему толкуют?
— И… как он?
— Обычный, — мальчик пожал плечами и сплюнул. — Мужик как мужик. Небритый, рыжий, старый.
— Исчерпывающе, — усмехнулся Слобода, неторопливо доедая скудный завтрак, — Рыжий, старый… Идти или не ходить? А почему, собственно, не ходить: сам просил о встрече, человек до тебя добрался, а ты начнешь прятаться со страху? Но ведь он имеет такое же право, как и ты, не доверять и может так же опасаться. У хозяина явки не меньше оснований для подозрения и недоверия.
Решившись, он вытер руки о пальто и первым пошел к деревне. Следом заторопился Колька, едва поспевай за широко шагавшим Семеном…
Гость из города сидел за столом. Увидев вошедших, встал, подал руку.
— Грачевой, — привычно назвался Семен.
— Андрей, — пожал его ладонь гость.
Он был не так уж стар и не бородат, как определила Танька, а просто зарос многодневной рыже-седой клочковатой щетиной, Одет в обычную полосатую рубашку с мягким отложным воротничком, мятый костюмчик из дешевой ткани, старую фуфайку и поношенные ботинки. Темное пальто и шапка лежали рядом, на лавке.
— Куришь? — Андрей достал кисет, но тут же затянул его тесемку. — Не стоит смолить в избе, не ровен час заглянет кто, учуят. Пошли на двор, там и побалакаем, а малец погуляет, поглядит вокруг.
Колька выскочил на улицу. За ним вышли Семен и Андрей. Присели на выбеленное солнцем и дождями бревно около сарая, свернули цигарки. От первой затяжки у Слободы сладко закружилась голова. Как же давно он не курил табачок, Как заскучал по его теплому дымку. Рот наполнился слюной, в горле заскреб кашель, а на глаза навернулись слезы, но потом стало легче.
— На дорогах немчуры полно, — глядя вдаль, словно сам себе, сказал гость. — Правильно сделал, что сам в город не пошел. Зачем хотел встретиться?
— Рискнул вот, — криво улыбнулся Семен. — Нужда заставила.
— А ты себя не казни, — покосился на него Андрей. — Мы тут все рискуем, потому как под немцем живем. Дело говори, а то мне засветло надо вернуться. Кто тебя ко мне послал?
— Знакомый. Дмитрий Степанович.
— Где он? — насторожился гость.
— Повесили, — не стал скрывать Семен. — Он мне успел адресок сказать и нужные слова шепнул.
— Так, — помрачнел гость. Дососав цигарку, тщательно втоптал в мягкую землю окурок и положил ладони на колени. — Какой он из себя?
— Хромой, вежливый очень. Били его сильно на допросах, — закашлявшись от едкого махорочного дыма, ответил Слобода. Помолчал, раздумывая, что бы еще сказать о покойном Сушкове, но говорить вроде больше нечего. — Да, — вспомнил пограничник, — он еще говорил, что у немцев служил переводчиком, хотел в тот день, когда его взяли, с кем-то срочно повидаться, да не успел. Просил встретиться с вами и сказать об его судьбе. Обнадежил, что могу попросить у вас помощи.
— Просить всегда можно, — кивнул гость, — за это денег не берут. А как же тебе удалось сбежать? Тебе девчушка листовку показала?
— Видал, — усмехнулся Семен. — Повезло, когда станцию наши разбомбили. К партизанам мне надо.
— Ага, — согласился Андрей, — не здесь же оставаться? Только нету здесь партизан сейчас, ушли. Каратели сильно прижимали, а когда они надумают вернуться, никто не знает. Воевать хочешь?
— И воевать, но еще дело есть важное. Можете связаться со своими в лесу?
— Нет, не могу, — гость поднял с земли шапку и начал счищать ею со своих ботинок подсохшую грязь, весь уйдя в это занятие и сердито посапывая от неудобной позы. На ярком голубом небе светило ощутимо пригревавшее солнце, шумел недалекий лес, пахло оттаявшей землей и набухающими клейкими почками, бугорками, выступившими на голых пока ветвях тополей и верб. — Зачем связываться-то? Есть что срочное для передачи?
— Есть. Крайне срочное.
— От Сушкова? — выпрямился Андрей и почесал согнутым пальцем щетину на щеке. — Говори, я передам.
— Мне самому надо, — заупрямился Семен.
Гость снова покосил на него светлым глазом, но ничего не ответил. Вытянул из кармана брюк кисет, раскрыл, щедро отсыпал Слободе своей жгучей махры, потом обстоятельно свернул цигарку и заклеил ее слюной; прикурив, выпустил из ноздрей сизый дым.
Семен молча ждал продолжения разговора. Видно по всему — Андрей ему не доверяет, пытается прощупать, вытянуть, чем располагает беглец, какая такая у него срочная надобность до партизан? Его тоже можно понять — Сушков погиб, появляется неизвестная девчонка и говорит пароль, ищет встреч бежавший смертник, который может оказаться и человеком немцев. Кто даст гарантию, что они не подсадили к переводчику своего агента, а потом не инсценировали побег, чтобы тот проник в подполье, добрался до партизанского отряда, внедрился в него, перебрался с помощью партизан в советский тыл? Не станешь же об этом спрашивать начальника СС и полиции города или других эсэс.
Сушков мог выдать явку и под пыткой — немцы умельцы по части развязывания языков, или его просто-напросто выследили. Как доверять человеку, впервые увиденному сегодня, доверять ему свое дело и жизнь? И не только свою, но и связанных с тобой людей. Искать компромисс? Какой?!
Неожиданно прибежал Колька: взлохмаченный, бледный, он, задыхаясь от быстрого бега, выкрикнул:
— Немцы!
Семен и сам уже слышал стрекот мотоциклов. Куда бежать?
На крыльце появилась хозяйка, позвала в дом, обещая спрятать обоих в подполе, пока незваные гости не уберутся.
— Пошли, все равно больше делать нечего, — встал Андрей.
Прихватив по дороге свое пальто и шапку, он первым спустился в сырую темноту подпола. За ним последовал Семен. Стукнула наверху опустившаяся крышка лаза, потом прошуршал по полу домотканый половик, а Слобода подивился предусмотрительности и осторожности гостя, не захотевшего курить в избе. Если сейчас туда зайдут немцы, то ничего не учуят, а если бы накурили, то их обязательно могло насторожить, что в доме, где живет одинокая женщина с двумя детьми, пахнет крепкой махоркой.
Минут пятнадцать-двадцать было тихо, потом послышался звук мотоциклетного мотора и гулко бухнула входная дверь. Громыхнули по полу над головой притихших мужчин тяжелые сапоги — наверное, в избу вошло несколько солдат.
Что-то зачастил голос старосты — слов не разобрать. Отвечала хозяйка, но тихо. Потом снова хлопнула дверь, прогромыхали солдатские сапоги и послышался громкий голос, сказавший на немецком:
— Он не мог так далеко забраться.
— Надо проверять все, — ответил другой. — Слишком велик риск. Я тоже больше надеюсь на контрольные посты и оцепление района, но есть приказ. К сожалению, он мог узнать слишком важные вещи…
Голоса немцев удалились, снова бухнула дверь избы, потом затарахтел мотоцикл. Вскоре откинули крышку подпола и вниз свесилась голова Таньки с торчащими в стороны косичками:
— Вылазьте.
Наверху резанул по глазам свет из окон, и даже не верилось, что прошло не больше часа их добровольного заточения.
— Уехали? — опускаясь на лавку, спросил Андрей, дрожащими пальцами сворачивая цигарку.
— Упредили, что если будем укрывать беглых, то пожгут, — неохотно сказала хозяйка, подтягивая под подбородком концы покрывавшего голову платка, а нас постреляют. Обшарили дворы и укатили к большаку.
— Это они про него болтали, — жадно затягиваясь махрой, кивнул на Семена гость. — Уходить тебе надо, парень.
— Свяжите с лесом, — снова попросил Слобода.
— Нету у меня связи, — опустил голову Андрей. — Рад бы, да не могу. Сам жду, пока из рейда возвернутся.
— Тогда буду пробираться к фронту, — заключил пограничник.
Гость, прищурившись, поглядел на него, словно прикидывая — шутит или говорит серьезно этот худой человек в одежке с чужого плеча?
— До фронта-то, мил человек, с полтыщи верст и переходить его не на самолете, а на брюхе, да по дороге можешь не раз им в лапы попасть.
— Дойду, — упрямо мотнул головой Семей.
— Ладно, — встал Андрей, натягивая свое пальто. — Спасибо, хозяева, за приют да ласку. Соберите ему чего на дорожку пожевать. Придется помочь человеку. Есть у меня один знакомец надежный, доставит в лучшем виде ближе к Минску. С ним посты немецкие обойдешь, а дальше сам или он чего присоветует. Это все, чем могу посодействовать. А оставаться здесь и вправду больше нельзя — если они сюда раз приезжали, то повадятся. Собирайся, сейчас и отправимся.
Окопчик Щеглов с напарником обустроили себе на славу — глубокий, с нишей для боеприпасов, с норой для укрытия от обстрела и бомбежки, а дно выстлано досками от разбитых снарядных ящиков. Мечта, а не окопчик. Ходы сообщения соединяют его с другими окопами, в которых расположились стрелки, а сам Щеглов — пулеметчик. Для стрельбы в темноте он набил в бруствер разных по высоте колышков, и когда надо стрелять, просто ставит ствол ручника на них и бьет по заранее пристрелянным ориентирам, — во всем нужна солдатская смекалка.
Воевал Щеглов уже второй год. Был ранен, лежал в госпитале и там слушал речь товарища Сталина на параде седьмого ноября сорок первого, а потом ковылял на костылях к репродуктору и, замирая от переполнявшего его восторга, упивался словами Левитана, читавшего сводки Совинформбюро о разгроме немцев под Москвой, — дали гадам прикурить, будут помнить.
После госпиталя снова попал в часть, только уже не в свою, а в другую, и с ней прибыл на фронт. Дослужился до младшего сержанта, получил медаль «За отвагу», писал частые письма домой, под Горький, где осталось его многочисленное семейство, бедовавшее без кормильца. До войны Силантий Щеглов слыл в родных краях мастером на все руки — ложку вырезать из чурки, печку сложить, дом поставить, мебель сработать. Конечным делом не такую, как в городских квартирах, но зато понадежнее его табуретки и сидеть на них не годы — века, пока дерево в труху не обратится. Но и с такой бедой Силантий умел справиться, знал, как материал вымочить, пропарить, проморить, чтобы не имел он износу. Мог и машину какую починить, если она не слишком мудреная и можно разложить все ее части под рукой и враз окинуть взглядом, понимая, что и как в ней прилажено.
М-да, бедуют там без него, рвут жилы, а помочь некому — начальству не до помощи, ему планы давай, увеличивай посевные площади, сдай все под метлу со своего двора и получи взамен проставленные в тетрадке голые палочки трудодней, из которых и плетень не сделаешь. Тяжко народу, ох тяжко, а рабочих рук в деревне нету, все мужики на войне, а кто вернулся, тот калека. Вот и тянут из последних сил ребятишки да бабы…
Вздохнув в ответ на свои невеселые мысли, Щеглов поглядел на пристроившегося вздремнуть в уголке окопа напарника — бывшего студента-философа из Москвы. Тощенький, востроносый, углубленный в себя, он поразил Силантия мудреными высказываниями, и младший сержант решил, что в лице студента судьба посылает ему на войне понимающего смысл жизни собеседника, с которым можно душу отвести.
В тот день политрук читал им листовку «Выше революционную бдительность!».
— Мы, учит товарищ Сталин, — обведя всех суровым взглядом, торжественно говорил политрук, — должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов… Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица. Вот как говорит наш вождь и учитель товарищ Сталин. И каждый из нас с удвоенной энергией должен бить агрессора. Как считаете, боец Семушкин?
— Энергия, по Аристотелю, есть переход от желания к действию, — ответил философ, чем заставил политрука немного смешаться. Но он быстро овладел собой и заключил:
— Правильно! Каждый желает бить врага и должен действовать.
Красивое имя Аристотель понравилось Щеглову, и он начал дотошно расспрашивать студента, а потом выпросил у командира, чтобы Семушкина дали ему в напарники вторым номером.
Поначалу студент обдирал в кровь пальцы, разбирая и собирая пулемет, но Силантий быстро обучил его всем премудростям, и Семушкин вскоре освоился с оружием, у него появилась уверенность в действиях.
Любил Щеглов с ним поговорить в свободную минутку «за жизнь», поддразнивал своими прибаутками, сыпал ими с окающим волжским говорком:
— Слышь, Семушкин, как меня бабка учила по-немецки говорить: их бин дубин, полен бревно, летел, летел, упал в говно!
Студент улыбался и читал в ответ стихи Гете или Гейне. Младший сержант слушал не перебивая, а потом удивлялся:
— Все так, понимаю, а чего же он тогда на нас пошел?
Немцев Щеглов никогда не звал ни Гансами, ни фрицами, а, говоря о противнике, он вкладывал в это слово разный смысл: как будто речь шла о неведомой нечистой силе, опасной, достойной уважения, но и не такой уж чтобы бессмертной. Хребет ей надо переломить с умом, оберегаясь когтей и зубов. Для себя Силантий решил обязательно вернуться домой живым.
Сейчас весна, потеплело, листочки проклюнулись, травка вылезла на свет, ночи стали короче и ощутимо теплее, звезды висят яркие и ждут, пока прикатит на рыжих конях жаркое лето. А умирать? Умирать человеку в любую пору неохота, хоть летом, хоть зимой, и нет ему дела до того — идет война или мир царит на земле, все одно желает человек топтать ногами свои дорожки, думает о будущем, ждет конца кровавой страды и возвращения к привычному труду, торопит время, а оно и на фронте уносит минуты его жизни, которые никому уже не дано вернуть.
Толкнув Семушкина, Щеглов потянул его за рукав ближе к себе и, подняв палец, шепнул:
— Слышь?
Студент повертел головой, вглядываясь в сумрак ночи. Кругом призрачная тишина переднего края — взлетают изредка ракеты, где-то в стороне постреливает немецкий пулемет, бугрится на нейтральной полосе выброшенная взрывами из воронок земля, в соседнем окопе чиркают по кремню кресалом, раздувая солдатскую «катюшу».
— Вроде как ползет? — пританцовывая от возбуждения, жарко зашептал Щеглов. — Слышь, сухая трава шелестит?
Взлетела белая немецкая ракета, залив нейтралку (мертвенным неестественным светом, и Семушкин увидел, как один из бугорков шевельнулся. Или показалось? Их участок считался относительно спокойным — места болотистые, танкам хода нету, но зато пытались просочиться разведчики с обеих сторон, добывая «языков» и трофеи.
Обстоятельный Силантий уже нащупал нужный колышек на бруствере, положил на него ствол дегтяря, щелкнул затвором. Ох, и резанет же он сейчас по ползущим на нейтральной полосе!
— Погоди, — положил ему руку на плечо Семушкин. — Там, похоже, один всего.
— Э-э, — отмахнулся Щеглов, поудобнее прикладываясь щекой к прикладу пулемета. — Бяда-копейка! И одного срежем!
— Да погоди же ты, — не дал ему выпустить очередь студент. — Может, перебежчик?
Силантий снял палец со спускового крючка, вгляделся в темноту.
— Не стреляйте… — донеслось до него.
В соседних окопах тоже зашевелились, кто-то не вовремя загремел котелком, и немцы снова выпустили несколько ракет. В их свете явно стало видно торопливо ползущего между воронок человека. Ударил чуйкой пулемет, и Щеглов, быстро перекинув ствол на другой колышек, выпустил в ответ несколько очередей, заставив его замолчать.
Вскоре перебежчик был уже рядом с их окопом. Выбравшись на бруствер, Семушкин втащил его в траншею.
— Свои! — по заросшему лицу перебежчика потекли слезы.
— Ты это, — оборвал его Щеглов, — говори, кто таков?
— Свой я, свой, — вытирая грязными ладонями лицо, блаженно улыбался неизвестный. — Бежал от немцев, пробирался к фронту.
— Ну, пробрался, и чего? — недоверчиво разглядывал его при свете ракет Силантий, прислушиваясь, как затопали по ходу сообщений. Значит, догадались, бегут сюда.
— Доставьте меня в контрразведку, — неожиданно попросил перебежчик, — Срочно. У меня крайне важные сведения. Я — лейтенант погранвойск НКВД Слобода…
Часть вторая Дорога без следов
Глава 1
Отправлено 30 января 1943 года
Личное и секретное послание
ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. ЧЕРЧИЛЛЮ и ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ
Ваше дружеское совместное послание получил: 27 января. Благодарю за информацию о принятых в Касабланке решениях насчет операций, которые должны быть предприняты американскими и британскими вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. Принимая принятые Вами решения в отношении Германии как задачу ее разгрома путем открытия второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы Вам признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях в этой области и намеченных сроках их осуществления.
Что касается Советского Союза, то я могу Вас заверить, что Вооруженные Силы СССР сделают все от них зависящее для продолжения наступления против Германии и ее союзников на советско-германском фронте…
Получено 5 февраля 1943 года
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ИОСИФУ В. СТАЛИНУ,
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Москва
В качестве Главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей победой Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим верховным командованием. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и йа полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага.
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ г-ну СТАЛИНУ
Цепь необыкновенных побед, звеном которой является освобождение Ростова-на-Дону, известие о чем было получено сегодня ночью, лишает меня возможности найти слова, чтобы выразить Вам восхищение и признательность, которые мы чувствуем по отношению к русскому оружию. Моим наиболее искренним желанием является сделать как можно больше, чтобы помочь Вам.
14 февраля 1943 года
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваши послания от 6 и 13 марта с сообщениями об успешных бомбардировках Эссена, Штутгарта, Мюнхена и Нюрнберга получил. От всей души приветствую британскую авиацию.
Как только получим ваш фильм о 8-й армии, о котором Вы сообщаете в особом послании от 11 марта, не премину ознакомиться с ним, и дадим возможность широко ознакомиться с этим фильмом нашей армии и населению. Я понимаю, как это будет ценно для дела нашего боевого содружества. Разрешите прислать Вам лично наш советский фильм «Сталинград».
15 марта 1943 года
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Прошлой ночью 395 тяжелых бомбардировщиков сбросили 1050 тонн на Берлин в течение пятидесяти минут. Над целью небо было ясным, и налет был весьма успешным…
2. После заминки битва в Тунисе снова приняла благоприятный оборот, и я только что получил сообщение, что наши бронетанковые войска после охватывающего движения находятся в двух милях от Эль-Гамма.
3. Вчера вечером я видел фильм «Сталинград». Он прямо-таки грандиозен и произведет самое волнующее впечатление на наш народ.
28 марта 1943 года
Сталин медленно прохаживался по ковру, глушившему его легкие шаги обутых в мягкие сапоги ног. Многие опрометчиво считали, что эту привычку он приобрел во время ссылки или тюремного заключения при царизме, и только несколько из особо приближенных к нему людей знали, что вождь жестоко страдает от частых ревматических болей.
В правой руке он зажал потухшую трубку; беспокойно шевелились пальцы левой, искалеченной и сохнущей руки, словно помогая удержать все время ускользающую мысль, ухватить ее, поднести к слабеющим глазам — потемневшим, прищуренным, недобро опущенным на ворсистый ковер под ногами.
Генерал Ермаков, навытяжку стоявший у торца длинного стола, почувствовал, как взмокла ладонь, державшая кожаную папку с документами. Боясь шевельнуться, он только глазами провожал вождя, уходившего к своему столу.
Когда Сталин поворачивался и шел обратно, Алексей Емельянович старался не смотреть в его казавшееся абсолютно невозмутимым, сильно тронутое оспой лицо с толстыми усами, а глядел на пуговицу или на трубку, крепко захваченную тонкими пальцами.
За длинным столом, вплотную приставленным к письменному столу вождя, сидели Берия, Ворошилов, Каганович и Молотов. Генерал ожидал увидеть в кабинете и Мехлиса, но его не было, и это показалось добрым знаком.
Вячеслав Михайлович Молотов, поблескивая стеклышками пенсне, за которыми прятались холодные светлые глаза, устроился слева от рабочего места Сталина. разложив перед собой бумаги. Напротив сидел вечно розоволицый Климент Ефремович в маршальской форме. Рядом с Молотовым, вертя головой, словно она была невидимой нитью связана с расхаживавшим по кабинету Сталиным, помогая ему делать каждый новый шаг по ковру и незримо поддерживая, нервно ерзал на стуле Лазарь Моисеевич Каганович.
Поодаль от них, на той же стороне стола, усевшись так, чтобы все время быть лицом к товарищу Сталину, пристроился Лаврентий Павлович Берия, одетый в темный двубортный костюм и светлую крахмальную сорочку с темно-вишневым галстуком. На губах его застыла не то усмешка, не то брезгливая гримаса. Чуть подрагивавшими от тщательно скрываемого нервного возбуждения пальцами он брал за уголки лежавшие перед ним документы и складывал их в стопку, аккуратно подравнивая края, — нарком закончил свой короткий доклад, веское слово об измене сказано.
Шелест листков в руках Лаврентия Павловича был единственным звуком, который слышал Алексей Емельянович, и этот шелест казался ему громом. Или так гулко стучит сердце, отдаваясь током крови в ушах? По спине, увлажняя рубаху, надетую под кителем, потекла струйка пота, вызвав неодолимое желание почесаться, и от этого генералу стало страшно. Сегодня, когда на очередном докладе нарком небрежно бросил, что Ермакову надо поехать с ним к товарищу Сталину и присутствовать на совещании по делу генералов-изменников — он так и сказал: «генералов-изменников», а не «генерала-изменника», — поскольку могут возникнуть вопросы к непосредственным исполнителям, Алексей Емельянович, как ни странно, обрадовался. Он не смел и мечтать о встрече с вождем, которому безгранично верил, а тут вдруг представилась возможность лично обратиться к нему с просьбой О более тщательной проверке всех обстоятельств дела. Обращаться с этим к наркому бесполезно: он уже принял для себя решение и готов отстаивать его и навязывать другим свою точку зрения — раскрыт, пусть еще не до конца, но уже определенно нащупан и будет раскрыт новый заговор военных! В таком ключе и построен его краткий доклад, выслушанный в гробовой тишине, прерываемой лишь чирканьем спички об коробок, когда товарищ Сталин прикуривал.
Перед выездом Ермаков вымылся над раковиной в своей комнате отдыха, обтерев тело мокрым полотенцем, и надел чистое белье, — нет, не как перед смертью, хотя то, что он задумал, могло закончиться для него трагически, а как перед боем. Сев в машину, он полагал, что поедут на ближнюю дачу товарища Сталина в Кунцево, где среди густого, прореженного просеками парка распласталось низкое и широкое здание дачи, построенной по проекту архитектора Мирона Ивановича Мержанова в тридцать четвертом году. Скрытая деревьями, с огромным солярием во всю крышу, эта дача любима вождем более других, даже построенных тем же Мержановым на юге. Генерал был в Кунцеве один раз, еще до войны, совершенно случайно, когда сопровождал наркома, но машины свернули к Кремлю…
Прав ли он, замыслив форменный бунт против наркома? Сумеет ли доказать свою правоту, убедить сидящих за столом людей и, главное, вождя, расхаживавшего сейчас по ковровой дорожке, зажав в руке потухшую трубку? Не опоздал ли он, генерал Ермаков, со своим бунтом?
Позаимствовав у царя Александра III идею внесудебного Особого совещания при министре внутренних дел, этот орган возродили в новом качестве в тридцатые годы, дав ему право, в отличие от царского, приговаривать к смертной казни. Но кроме Особого совещания существовали и так называемые «альбомные дела», о которых было хорошо известно генералу.
Ими обычно занимались трое — Вышинский, Ульрих и Ежов, составлявшие «альбомы», где на отдельных листах кратко излагались дела ста или более человек. Внизу каждого листа стояли заготовленные фамилии «тройки», но без подписи. Если «наверху» на каком-либо листе ставили карандашом единицу, это означало «расстрел», а «двойка» была высочайшей милостью и даровала осужденному жизнь в лагерях на срок не менее десяти лет. Не был ли и сейчас тайно подан вождям талой «альбом»? Вдруг судьба тех, о ком так настойчиво говорил на совещаниях Берия, уже решена, и напротив каждой фамилии уже проставлены зловещие единицы, как во времена Ежова?!
О, этот Николай Ежов! А до него наркомом внутренних дел был Генрих Ягода, о котором стали старательно забывать. Но Алексей Емельянович помнил — он начинал работать еще с Дзержинским и мог сравнивать, как менялись наркомы.
После смерти Феликса Эдмундовича коллектив чекистов страны возглавил его ближайший соратник — Вячеслав Рудольфович Менжинский. Генрих Ягода тогда уже работал в органах госбезопасности. Член партии с девятьсот седьмого года, он импонировал окружающим, умело производя на них впечатление человека делового, спокойного, аккуратного и кристально чистого. В Нижнем Новгороде и Петрограде Ягода успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, и в девятнадцатом году его направляют в Наркомат внешней торговли, а в двадцатом — в ВЧК. После смерти Менжинского в тридцать четвертом году он возглавил ОГПУ, а затем стал наркомом внутренних дел. Как оказалось впоследствии, он только ловко приспосабливался к утвердившемуся тогда среди чекистов чувству товарищества и строгой партийной ответственности за порученное дело, стараясь ничем особо не выделяться и внешне копировать стиль работы первого Председателя ВЧК.
В тридцать шестом году после непродолжительного пребывания на посту наркома связи Генрих Ягода был арестован и в тридцать седьмом проходил по процессу «антисоветского правотроцкистокого блока», фигурируя в длинном списке обвиняемых под номером «три» после Бухарина и Рыкова.
В своей патетической речи, обвиняя Ягоду в том, что он является польским шпионом, агентом гестапо, организатором убийства Кирова, отравления Горького, Менжинского и Куйбышева, государственный обвинитель Вышинский, весьма убедительно используя примеры из работ древнего римлянина Тацита, а также судебных прецедентов времен испанского короля Филиппа II и папы римского Климента II, убедительно доказал суду вину бывшего наркома. И Генрих Ягода признал себя виновным!
Его сменил Николай Ежов, сначала выдвинутый с поста заместителя наркома земледелия в аппарат ЦК, где он стал заведовать орготделом, а потом промышленным отделом. Вскоре Ежова избрали секретарем ЦК по оргвопросам, а затем назначили наркомом внутренних дел.
В те годы учитель Ермакова — Артур Христианович Артузов, теперь уже покойный, смело и прямо заявил на партийном активе:
— Мы превращаемся в то, чего больше всего боялся наш первый чекист Феликс Дзержинский и против чего он неустанно предупреждал: бойтесь превратиться в простых техников аппарата внутреннего ведомства со всеми чиновными недостатками, ставящими нас на одну доску с презренными охранками капиталистов. Помните, что став на этот путь, вы погубите ЧК…
Спустя некоторое время Артура Христиановича арестовали по обвинению в шпионаже. Один из давних знакомых, служивший в тюремном подотделе, тайком показал Ермакову записку Артузова, кровью написанную им в камере на четвертый день ареста на обороте тюремной квитанции.
«Гражданину Следователю. Привожу доказательства, что я не шпион. Если бы я был шпион, то…»
Не кровь ли безвинно погибшего учителя стучит сейчас молотом в ушах, призывая не упустить момент, сделать все для спасения чести и жизни людей, подготовленных Берией на заклание для упрочения собственного положения и представления вождю еще одного доказательства своей «верности»?! Пусть потом будет что будет, но он, генерал Ермаков, должен выполнить долг чекиста, ученика Феликса Дзержинского, Вячеслава Менжинского, Артура Артузова…
Сталин все так же молча и сосредоточенно ходил по ковровой дорожке. Маятником качалась следом за ним голова Лазаря Кагановича! мрачно уставил глаза в сукно, покрывавшее крышку стола, Клим Ворошилов; быстро черкал карандашом на полях лежавших перед ним документов Вячеслав Молотов — «русский сфинкс», как высокопарно именовали его немецкие газеты до войны. Лаврентий Берия закончил собирать в стопку бумаги и, в последний раз подровняв их, положил руки по краям, будто готовясь больно дать по пальцам каждому, кто попробует посягнуть на них.
«Он стал наркомом в декабре тридцать восьмого», — мелькнуло у Алексея Емельяновича, но тут раздался глухой голос Сталина:
— У кого есть вопросы? — он остановился и медленно обвел взглядом лица присутствовавших.
— Вы все проверили? — не глядя ни на Берию, ни на Ермакова, но жадно ловя малейшие жесты и выражение лица Сталина, опросил Каганович.
Под взглядом вождя Ворошилов еще ниже опустил голову и втянул ее в плечи, словно вопрос Лазаря Моисеевича обрушился на него внезапной жуткой тяжестью, придавив к столу. Молотов только досадливо дернул щекой, а Берия сохранил на узких губах полуулыбку-полугримасу.
— Так точно, — Ермаков понял, что отвечать надо ему, и удивился, услышав свой голос как бы со стороны: он казался ровным, спокойным, отдающим звоном кованого металла, но сам Алексей Емельянович знал, что это звенит не металл, а напряженные до предела нервы, готовые в любой момент перехватить спазмом дыхание, заставить сорваться на фальцет или вообще замолчать. «Ну, возьми себя в руки! — мысленно приказал он, — прекрати паниковать, надо драться!»
— Бывший лейтенант погранвойск НКВД Слобода, — начал Ермаков, чувствуя, как окреп голос и постепенно стало пропадать противное покалывание в кончиках пальцев, — встретил войну на заставе, вступил в бой, затем партизанил, несколько раз бежал из плена. Сообщивший ему сведения об изменнике переводчик Сушков работал в оккупированном городе по заданию подпольного райкома и командования партизанской бригады. Казнен фашистами после пыток, был лично известен секретарю подпольного райкома Чернову еще с гражданской…
— Это тот Чернов, что был комиссаром полка на Южном фронте? — демонстрируя феноменальную память, прервал его Сталин.
— Так точно, товарищ Сталин, — отчеканил генерал.
— Хорошо, продолжайте. — Вождь равнодушно повернулся к нему спиной и, подойдя к столу, начал выбивать трубку о край пепельницы.
— Подполье в городе разгромлено, мы запрашивали партизан. Ранее к нам уже поступали отдельные сообщения из-за рубежа об измене в высшем эшелоне, но то были косвенные данные, — Ермаков на секунду замолк и, решившись, сказал — Однако тщательный анализ имеющихся материалов заставляет говорить о настоятельной необходимости более углубленной проверки всех имеющихся сведений.
Берия немного откинулся на спинку стула и с удивленным интересом взглянул на подчиненного — в его взгляде была даже некоторая жалость: так охотники, стоящие в засаде, смотрят на вышедшего под выстрел глупого зверя, прежде чем нажать курок.
— Надеюсь, вы понимаете, что может произойти, если сведения о связи Рокоссовского с немецкой службой безопасности верны, — не поднимая головы от лежавших перед ним бумаг, тихо спросил Молотов. — И что вы думаете о других?
— Вячеслав Михайлович, — нервно хрустя пальцами, заметил Каганович, — возможно, мы поторопились? Поторопились, когда сняли с генерала обвинение в измене и доверили командование войсками, вернув из заключения, где он находился… И теперь получаем только лишь новое подтверждение ранее выявленной измены?
Говоря, он неотрывно смотрел на руки Сталине, занимавшегося трубкой. Вот откинулась крышка коробки папирос, слабо хрустнула под пальцами бумага, и с легким шорохом табак пересыпался в чубук.
— Имеющиеся материалы не дают оснований подозревать других военачальников, — чужим голосом сказал Ермаков. — А для обвинения в измене командующего фронтом необходимо иметь неопровержимые доказательства.
В кабинете вновь повисла гнетущая тишина. Сталин сломал еще одну папиросу, неторопливо набил трубку и поднес к ней горящую спичку. Глядя на ее пламя, угасшее около его пальцев, словно не решаясь коснуться их, он тихо спросил:
— Обвиняется в измене?.. — переложив трубку в левую искалеченную еще в царской тюрьме руку, поднял голову и острыми глазами, в глубине которых притаился гнев, посмотрел в лицо побледневшего Ермакова. — Что думаете вы, лично?
— Нами сделаны необходимые запросы, выделена специальная группа, в штаб войск, которыми командует генерал, направлено несколько опытных оперативных работников под видом пополнения «Смерша» и охраны штаба фронта. Готовы люди для работы в тылу врага, — не отводя взгляда, хотя и неприятно засосало под ложечкой, вызывая ощущение тошноты и легкого головокружения, ответил Алексей Емельянович.
— Но зачем, зачем? — не выдержал Каганович. — Зачем опять в тыл к немцам, а?
— Для проверки полученных сведений, — чуть повернул к нему голову генерал.
— Мы пока не услышали, что думаете лично вы, — мундштук трубки Сталина, как дымящийся после выстрела ствол, поднялся и ткнул в сторону Ермакова.
— Думаю, товарищ Сталин, что заговора нет! Полагаю необходимым срочно провести новую доскональную проверку данных.
Опустив руку с трубкой, Сталин отвернулся, встопорщив усы в кривой, пренебрежительной усмешке.
— Хотите со своими перестраховками и проверками вернуть нас к положению осени сорок первого года? — снова перейдя в атаку, вздернул голову Каганович. — Что еще проверять? Я не понимаю, что? Лаврентий Павлович все нам прекрасно объяснил. Ведь немцы устроили после побега этого лейтенанта грандиозные облавы. Начальника тюрьмы отправили на восточный фронт! Они обеспокоены возможной утечкой информации. И заграница сообщала… К нам попали сведения, подтверждающие факт измены, а ваш генерал уже был осужден. Или, осмелитесь утверждать, что его оболгали, зря арестовали перед войной? Молчите?!
— Он желает поскорее сделать нам нового Власова, — бросил Берия, обращаясь к Сталину, безошибочно почувствовав, что тот еще не принял окончательного решения, не занес подозреваемого генерала в мысленный список личных врагов, подлежащих немедленному уничтожению.
Лаврентий Павлович понял: сейчас надо давить, убеждать, чтобы купировать порожденную проклятым Ермаковым нерешительность. Зачем он только притащил сюда этого чистоплюя?! Хотел, видите ли, чтобы говорил человек признанной честности, ни разу не оступившийся? Тогда его слова — а они зачастую так много значат для товарища Сталина — приобретут еще больший вес, лягут тяжкими гирями на чашу весов, должных склониться в пользу наркома. Надо найти и свои слова, — ведь находил же он их раньше для вождя, чутко оценивающего все произнесенное и написанное еще со времен обучения в духовной семинарии.
Алексей Емельянович стоял ни жив ни мертв: удар Берии, напомнившего Сталину о Власове, был страшен. Все может оказаться напрасным — риск, убежденность в собственной правоте, заранее заготовленный и положенный в папку рапорт, который он намеревался лично подать в руки Верховного, если не дадут слова. Выйдя из кабинета, генерал мог сразу же оказаться под арестом, но он знал, на что идет, решив выполнить долг до конца, как выполняли его многие военные прокуроры и чекисты, отказавшиеся санкционировать аресты и участвовать в них в середине тридцатых годов. Существует еще и честь чекиста!
Власов… Работая советником у Чан-Кайши, он помог тому собрать компрометирующие материалы на соперников, за что получил благодарность и орден Золотого Дракона. После этого Власова исключили из партии товарищи по группе советников, но далеко от Китая, в столице нашлись доброхоты и спешно замяли кляузное дело.
По возвращении на Родину из Китая Власов был направлен инспектировать 99-ю пограничную дивизию и, к своему удивлению, обнаружил, что она прекрасно подготовлена. Мучительные раздумья, как поступить, закончились тем, что он подал по команде рапорт на командира дивизии, прямо обвинив его в слепом копировании тактики германских вооруженных сил. Комдива вскоре взяли под арест, а проверяющий сумел занять его место и, по прошествии некоторого времени, пригласил в свою дивизию заместителя наркома обороны маршала Тимошенко, продемонстрировав ему все, сделанное прежним командиром. Тимошенко остался весьма доволен, а Власов получил звание генерал-майора и орден Красного Знамени.
Новоиспеченного генерал-майора пригласили в Генштаб к К. А. Мерецкову для доклада и назначили командиром вооруженного новыми танками четвертого мехкорпуса.
Когда началась война, Власов жутко опозорился под Львовом. Растянувшаяся более чем на полтора десятка километров колонна мехкорпуса, следовавшего в походных порядках, была перехвачена немцами, и командир, отдав приказ уйти с шоссе, утопил технику в болотах. Но все те же доброхоты вновь спасли его, выгодно преподнеся Верховному то, что генерал вывел из окружения бойцов. Последовала благодарность и новое высокое назначение в Киевский военный округ командующим 37-й армией.
Как раз в то время случилась серьезная размолвка между Сталиным, требовавшим во что бы то ни стало удержать Киев, и Жуковым, убеждавшим Верховного немедленно спасать фронты за Днепром.
«Странно переплетаются людские судьбы, — подумал Ермаков. — В двадцать седьмом году Жуков служил командиром полка в седьмой Самарской кавалерийской дивизии имени Английского пролетариата, а командовал ею генерал Рокоссовский, над которым сейчас нависло страшное обвинение в измене. Жуков теперь заместитель Верховного, а его бывший командир, которому не дано было, как Георгию Константиновичу, спасти себя от ареста победой на Халхин-Голе, командует одним из фронтов…»
Власов торжественно пообещал Сталину удержать Киев и сидел в укрепрайоне до тех пор, пока он не оказался в глубоком тылу немцев. Самого командующего бойцы несли больным пятьсот километров и вышли к своим только у Курска.
Чекисты сразу же серьезно заинтересовались подробностями этого беспримерного марша и выяснили, что Власова выводил из окружения не кто иной, как его адъютант — бывший лейтенант германского генерального штаба Ренк!
Об этом доложили Н. С. Хрущеву, а тот в свою очередь товарищу Сталину. Вождь не поверил! А не поверив, назначил Власова, помня его личную преданность, командующим 20-й армией, зимой сорок первого освободившей подмосковный Солнечногорск. О Власове стали писать газеты, он в ответ всюду славил вождя — товарища Сталина, что отметили даже видавшие виды французские журналисты…
В начале марта сорок второго года, рослый, широконосый, очкастый Власов прибыл вместе с маршалом Ворошиловым и командующим Военно-Воздушными Силами страны Новиковым на Волховский фронт, заняв должность заместителя командующего фронтом Мерецкова.
«Товарищ Сталин вновь оказал мне свое доверие…» — к месту и не к месту повторял Власов, получивший за освобождение Солнечногорска звание генерал-лейтенант и второй орден Красного Знамени. Мечтая занять место Мерецкова, он хотел успешно развить наступление на Любань, чтобы одним ударом освободить Мясной Бор и Красную Горку.
Однако погубив 2-ю ударную армию и не добившись успеха, Власов сдался немцам, предал, сбежал к ним и слезливо рассказывал фашистскому генералу Линдеману о своем отце, церковном старосте села Ломакино на Волге — кулаке и эсере…
Да, напоминание о Власове — страшный удар, и, упрямо наклонив голову, Ермаков четко повторил:
— Нельзя обвинять командующего фронтом в измене, не проведя доскональной проверки.
Сталин бросил на него через плечо острый, испытующий взгляд.
— Сколько вы еще намерены проверять? — буркнул он, окутываясь облаком дыма. — Или чекисты полагают, что немцы подождут результатов проверки и перестанут атаковать?
— Коба, — обратился к нему по старой партийной кличке молчавший до того Ворошилов. — Может, действительно стоит все проверить еще раз?
— Маршал прав, — почувствовав перемену в настроении Сталина, тут же сориентировался Каганович. — Сколько вам надо времени?
— Как минимум, тридцать суток, — глядя в спину отвернувшегося к окну вождя, ответил генерал. «Неужели он выиграет эту битву нервов?» — подумал Ермаков о Верховном.
Сталин отошел от окна, вновь начал мерять шагами ковровую дорожку. Все напряженно молчали, ожидая его решения.
Ворошилов опять уставился в стол. Берия язвительно улыбался, хищно сузив глаза; достав из кармана белоснежный платок, начал неторопливо протирать стекла пенсне.
— Это хорошо, что генерал Ермаков не хочет обвинить командующего фронтом в измене на основе только тех фактов, которыми сейчас располагает, — остановившись, сказал Сталин. — Но тридцать суток много, особенно во время такой войны. Пусть генерал Ермаков подумает, как ему ответить нам на вопрос об измене до истечения этого срока. Или, в крайнем случае, никак не позже него. Ответить точно и определенно. А потом мы решим вопрос в рабочем порядке.
Алексей Емельянович тайком перевел дух — у него есть целый месяц, и пока он не кончится, даже нарком, опасаясь вождя, ничего не сделает ни с командующим, ни с ним, Ермаковым.
Ворошилов поднял свое розовое лицо и улыбнулся: гроза миновала, товарищ Сталин неожиданно принял решение, которого трудно было ожидать.
Каганович вертел пуговицу на своем пиджаке, как будто намеревался вырвать ее вместе с мясом. Берия снова подровнял листки и сложил их в папку. Молотов надел пенсне и с интересом взглянул на все так же стоявшего у торца стола по стойке «смирно» генерала…
Дождевые капли, как слезы, скользили по оконным стеклам, забранным в частые переплеты, оставляя за собой мутноватые, сырые дорожки, которые тут же зализывали другие капли, погоняемые дико свистящей плетью невесть откуда прилетевшего холодного северного ветра. Еще вчера было так тепло, нежно зеленел молодой листвой парк, купавшийся в лучах долгожданного яркого солнца, синело небо, маня своей бездонностью, щебетали птицы, славя весну и приманивая своим пением пернатых подруг, обещая им уютное гнездо в ветвях и хорошее потомство.
А сегодня словно опять вернулась осень — промозглая, ветреная, укравшая небесную голубизну и задернувшая горизонт серой кисеей обложного дождя. Хорошо, что есть камин и в нем весело пылают поленья, давая ровный жар, наполняя комнату ни с чем не сравнимым ароматом настоящего огня, — живого, играющего, то поднимающего свои языки к закопченному своду камина, то опадающего и прячущегося в углях. Паровое отопление никогда не даст такого ощущения уюта и тепла, как живой огонь в камине, а люди, к сожалению, уже начинают забывать прелесть потрескивания сухих дров и отвыкают мечтать, глядя на языки пламени. Может быть, поэтому век электричества столь беден учеными-энциклопедистами и гениальными художниками?
Зябко передернув плечами, Бергер перевел взгляд с мокнувших под дождем деревьев парка на темные фигурки саперов, лениво орудовавших лопатами. На блестевшие штыки лопат налипала сырая земля, и солдаты натужно напрягали спины, выбрасывая ее из траншеи.
— Вы упорны, Конрад, — не оборачиваясь, бросил обер-фюрер.
— Я ваш ученик, — откликнулся фон Бютцов, сидевший у стола с чашкой кофе.
Бледная улыбка тронула губы Бергера — мальчишка льстит, придерживаясь старой восточной поговорки: лесть никогда не бывает грубой. Наверное, хитрые восточные люди в чем-то правы, поскольку именно они довели лесть до утонченного искусства и они же низвели ее до совершенно непотребного низменного уровня, перестав заботиться о малейшем камуфляже, действуя прямо в лоб, пуская лесть в ход как таран. Однако лесть всегда признак заискивания, свидетельствующий о том, что в тебе весьма нуждаются.
— Мне хотелось бы увидеть, какой клад они выроют, — с легким сарказмом заметил обер-фюрер.
Конрад промолчал, и Бергер подумал, что некоторые вещи, из числа обнаруженных в замке, вполне могли осесть в родовом имении Бютцовых. Стоит проверить эту информацию — потихонечку, ненавязчиво, но и не затягивая: в случае удачи появится еще один крючок, на который можно подцепить своего родственника и ученика, если тот начнет вдруг артачиться, — казна рейха, рейхсмаршал Геринг и прочие бонзы, прозванные «золотыми фазанами», сами любят собирать роскошные коллекции и за присвоение найденного не помилуют. Вот и пугало для строптивца!
— Мы доверили слишком важную информацию воле случая, — поставив чашку на край стола, тихо сказал Конрад. — Возможно, вы немного поторопились, изменив план операции в ту жуткую ночь?
Бергер, не отвечая, продолжал глядеть за окно на поникшие деревья. Уставясь в его равнодушную спину, Бютцов продолжил:
— Где бежавший смертник? Он мог утонуть в болотах, мог добраться до какой-нибудь неизвестной нам лесной банды и остаться с ними, мог поймать шальную пулю и унести в небытие тайну.
Обер-фюрер отошел от высокого окна и, взяв кочергу, поворошил ею угли в камине. Конрад волнуется, часто заводит подобные разговоры — душа не на месте, мозг лихорадочно ищет выхода из создавшейся ситуации и жаждет успокоения. Нельзя давать перегореть волнениям, надо поддержать его, одновременно показав свое превосходство.
— Даже неудачи стоит научиться превращать в победы, — назидательно произнес Бергер. — Но я не буду вас мучить. Ночью звонил группенфюрер Этнер.
Увидев, как Бютцов подался вперед, ожидая продолжения, обер-фюрер внутренне усмехнулся: не терпится, знает, что после окончания операции начнется работа по его переводу на Запад. Он уже сроднился с этой мыслью, предвкушает все возможные блага.
— Есть проверенные сведения о переходе Грачевым линии фронта, — опуская горячую кочергу в кольцо подставки около камина, сообщил Бергер. — Наша разведка располагает данными о прибытии в штаб Рокоссовского — командующего фронтам русских — новых офицеров НКВД. Они знают, они начали действовать, и тайна больше не принадлежит нам. И все же мне жаль русского генерала. Как его там, Константин Ксавериевич? Талантливый человек, весьма талантливый. Сталин сомнет его, как ненужную бумажку, и зажжет, чтобы в очередной раз раскурить свою знаменитую трубку, а потом бросит за ненадобностью. Пройдет много лет, пока там во всем разберутся… Кстати, генерал Рокоссовский действительно поляк?
— Да, — Бютцов задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, переваривая услышанное. Есть о чем подумать, черт побери! Учитель опять, похоже, ловко вывернулся, словно ему помогает сам дьявол, которому он запродал душу. — Как только Сталин ему доверял армии, — садясь напротив Конрада, усмехнулся Бергер. — С его-то подозрительностью ко всему польскому?
— Генерал выдвинулся во времена интернационализма, — пояснил Бютцов. — Дзержинский тоже был поляк, из имения Дзержинова, расположенного примерно в полутора сотнях километров от Минска. Бывший глава русской контрразведки Артузов — сын швейцарского сыродела. А наш генерал — сын польского железнодорожника. Его заставили сменить отчество и назваться Константином Константиновичем, якобы для того, чтобы проще стало обращаться подчиненным. А талант? Наверное… И все же, перед войной его арестовали. Тем сильнее будет теперь недоверие к нему Сталина и его ближайшего окружения. Но почему вам жаль русского генерала?
Бергер налил себе кофе, поднес чашку к губам и сделал маленький глоток, смакуя ароматный напиток. Добавил сахара, снова попробовал и, удовлетворенно кивнув, ответил:
— Я приближаюсь к старости, дорогой Конрад. В этом возрасте остается только два самых сильных врага: крепкое вино и молодые женщины. Вот так! Выдвигаясь в момент национальной терпимости у Сталина, наш подопечный генерал вряд ли думал о том, что дозволенное и даже поощряемое сегодня завтра может стать преступлением. Где сейчас Артузов, где руководитель венгерской революции Бела Кун, где Уборевич, Тухачевский, Якир, Путна? Где другие? Они тоже были талантливы, и мне просто по-человечески их жаль, как поверженного противника. Все они расстреляны. Видимо, подобная судьба ждет и нашего генерала, и, вполне возможно, не только его одного. Сами русские для меня давно стали просто противником, я не испытываю к ним ненависти, я ненавижу их идеи! И если эти идеи исповедует кто угодно, будь он даже малайцем или папуасом, он тоже неминуемо станет моим противником, которого надо безжалостно уничтожить. Речь идет о судьбах цивилизации, а на земле нет места коммунизму и национал-социализму вместе. Должно остаться что-то одно и безраздельно править миром. Если мы проиграем сейчас, то надо начать снова.
Он замолчал, прихлебывая кофе. «Идеи помогают, — размышлял Бергер, — но всходить за них на костер, как Джордано Бруно, просто глупо. Лучше, как Галилей — отказаться и снова за свое, придав лицу благообразнопостное выражение раскаявшегося грешника, глубоко внутрь запрятавшего свои убеждения. Стоит ли сейчас говорить об этом? Зачем? Конрад и сам многое понимает, слава господу, не первый день в службе безопасности и не надо ему слюнявых сказочек. Тем более, здесь нет чужих ушей, для которых стоит притворно сокрушаться о потере ценного агента среди красных генералов. Бютцов сам разрабатывал операцию «Севильский цирюльник», взяв за основу уже испытанный ранее ход и знаменитую арию Дона Базилио о клевете. Как там — «ветерочком, чуть порхая»? В данном случае, посеяли не ветерочек…»
— Готовьте бумаги, — рассматривая, как гадалка, оставшуюся на дне чашки кофейную гущу, приказал Бергер. — Подробный доклад о завершении первой фазы операции. В момент усиленной подготовки к битве под Курском и Орлом служба безопасности рейха внесла свой вклад в грядущую победу. Примерно так. И будем готовиться ко второй фазе. Полагаю, ответный ход не заставит себя ждать.
— Мы готовы, — поняв его, засмеялся Конрад. — Что еще сообщил группенфюрер? Есть новости?
С сожалением отставив чашку, — заманчиво было бы узнать будущее, гадая на кофейной гуще, но не дано, — обер-фюрер желчно усмехнулся:
— Новости? Болтал без умолку. У него было хорошее настроение, а может, просто сбивал с толку болванов, подслушивающих на линии.
Конрад насмешливо присвистнул.
— Зря свистите, — брезгливо оттопырил губу Бергер. — Я хотел улететь на несколько дней в Сопот, немного отдохнуть, но он отказал. Поэтому готовьте бумаги для Берлина, Конрад. Все неспроста.
В Сопоте Бютцов бывал: в тридцать девятом там располагался в «Гранд-отеле» полевой штаб фюрера, а потом Геринг устроил в этом здании офицерское казино для летчиков. Зачем Бергер хотел отправиться именно в Сопот? Не для того ли, чтобы встретиться с человеком, служащим ему почтовым ящиком, неким живым конвертом для вложения писем, должных попасть за границы рейха в нейтральные страны, и продолжить оттуда путь за океан? Спрашивать бесполезно — старый лис все одно ничего не скажет, а только насторожится. К чему его настораживать — связь с другим берегом океана интересна им обоим, и не стоит проявлять ненужней торопливости и презираемого обер-фюрером любопытства.
Еще кофе? — предложил Бютцов, думая, ка «скорее закончить здесь все дела и получить перевод куда-нибудь во Францию или даже в Италию, пусть там и назревают неприятные события. Дрова в камине почти прогорели, дождь зарядил с новой силой, кончается завтрак, и впереди день, полный хлопот.
— Не надо, — отодвинул чашку Бергер. На пальце тускло блеснуло подаренное рейхсфюрером Гиммлером платиновое кольцо с мертвой головой. — Готовьте бумаги и потом принесете их мне. Наш перебежчик на той стороне, и он не молчит. Бедный генерал…
— Я полагаю, надо подготовить «Фройлян»? — вставая, поинтересовался Конрад.
— Она разве еще не готова?
— Я имею в виду к началу действий… — чуть склонив голову, уточнил штурмбанфюрер.
— Да, пожалуй, — пригладив ладонью волосы, согласился обер-фюрер. — Вызовите ко мне начальника СС и полиции. Надо обговорить некоторые детали легализации «Фройлян», и займитесь бумагами. Остальные люди на местах?
— Да, патрон, — безошибочно почувствовав, как его учитель повеселел, шутливо поклонился Бютцов.
— Ладно, — слегка потрепал его по плечу обер-фюрер, — не сердись на старика, бывает и поворчу. Иди работай, у нас много дел, а жизнь коротка, мой мальчик.
Выходя, Конрад подумал, что раньше он не замечал за учителем склонности к признанию себя стариком, — у него дети чуть ли не младенческого возраста и самому ему едва за пятьдесят. Очередная превентивная акция — представить себя в глазах окружающих стареющим и немощным человеком? Зачем? Он ничего не делает зря. Хочет заранее списать на старческое слабоумие возможные провалы? Никто не поверит. Задумал вырваться со службы под предлогом пошатнувшегося здоровья? Чушь, он никогда не захочет расстаться с мундиром, дающим ему и власть, и гигантские возможности. Зачем тогда?
И, уже взявшись за ручку двери кабинета обер-фюрера, Бютцов вдруг понял: попытки поехать в Сопот, жалобы на здоровье, ночные разговоры с Этнером — все для того, чтобы получить отпуск для лечения, возможно с выездом в нейтральную страну. Старик не чудит — он методично делает свое дело. Вернее, их общее дело переориентации на Запад… Обер-фюрер тонкий, расчетливый игрок, и он продолжает играть даже здесь, перед своим учеником, желая перестраховаться. Что же, придется пойти навстречу и подыграть.
Антон проснулся, когда было еще совсем темно. Висела яркая луна за окном, и ее свет ложился на пол комнаты, на жалкую мебель, на постель, окрашивая их в призрачные, голубовато-зеленые тона, словно заставляя слабо фосфоресцировать белизну наволочки, край простыни, скатерть на узком столе в углу и угольно черня спинки стульев с небрежно повешенной на них одеждой.
По улицам гулял ветер, раскачивая ветви все еще скованных стужей деревьев, — весна сильно задерживается в этих краях и не скоро запахнет клейкими тополиными почками, наконец дождавшимися тепла. Снег съежился, слежался, покрылся коркой скользкой, шершавой наледи, но не сходит, упрямо не уступает солнцу, а терпеливо ожидает, пока наступит ночь, принеся с собой живительную для него темноту и ветер, пригоняющий тяжелые тучи, полные мелких резных снежинок. А в Москве, наверное, давно сухие тротуары и люди сняли надоевшие за зиму пальто.
Резкий порыв ветра ударил по стеклам, качнулись ветки, перечеркнув своими тенями свет луны. Слабо треснув, сломался тонкий сучок и повис, удержавшись на ленточке коры; покачался, словно прощаясь с улетевшим ветром, потом затих, оставив свою тень на молочно-белом плече уткнувшей нос в подушку Антонины.
Скосив глаза, Волков поглядел на нее, боясь разбудить, пристальным взглядом, — бывает, человек просыпается, почувствовав, как на него смотрят. Разметались пышные волосы, по-детски полуоткрыты пухлые губы и видно ровную полоску зубов, вздрагивают чуткие ресницы — что ей снится в эту ночь, когда она уже под утро, утомленная неизведанной ранее близостью с мужчиной, забылась во сне, доверчиво обняв его своей тонкой рукой?
Как все получилось, теперь даже трудно понять. Квартирная хозяйка отсутствовала, они пили чай на кухне, разговаривали, чувствуя, что произносимые ими олова ничего не значат, что между ними идет другой, совершенно немой разговор и он связывает их, как тугая, незримая нить, и каждый, с легким замиранием сердца, легонько трогает ее, ожидая ответного прикосновения — робкого, ласкового, наполняющего душу теплом и радостью. И все забыто, похоронено незнамо где — жизненный опыт, бушующая на земле война, пожинающая свою кровавую жатву, требующая все больше и больше крови: молодой, старой, юной, крови гениев и дураков, одинаково ставших пушечным мясом. Нет больше разницы в возрасте, нет Кривошеина и лежащего в госпитале с простреленной грудью немецкого агента, нет торопливого стука морзянок в эфире, нет бомбежек, днем и ночью горящего в печах заводов огня, плавящего броневую сталь, — есть только незримая нить, связавшая двоих. Смерти просто, она приходит на готовое, на; уже созданное жизнью и без труда находит свою страшную работу, являясь самым жутким паразитом и нахлебником всего сущего — живого и неживого, потому что, неживое в природе тоже умирает. Рушатся и выветриваются горы, высыхают реки, сдвигаются материки, уходят под пески и на дно морей построенные человеком города, а жизнь, готовясь продлить род человеческий, пробирается с трудом, ощупью находя дорогу к сердцам двоих.
Не совладав с собой, Тоня заплакала и рассказала, что Первухин все же настоял на ее увольнении. С трудом, великим трудом ей удалось временно устроиться в госпиталь санитаркой, — все так равнодушны в этом, забитом эвакуированными городе к чужой судьбе, а деньги сейчас ничего не стоят, поскольку на них нельзя купить хлеба, обуться, одеться, получить кров над головой.
Антон начал ее утешать, гладил, как ребенка, по голове, говорил какие-то путаные слова, ощущая, как через ладонь, касавшуюся ее волос, его словно бьет током, пронизывает все тело. Пальцы мелко вздрагивали, ноздри чутко ловили ее запах, — ни с чем не сравнимый запах молодого, чистого девичьего тела, вымытых с травами волос, источавших аромат придорожного донника. Взяв в ладони ее лицо — заплаканное, с припухшими глазами, — он начал целовать его, ловя скатывавшиеся с ресниц слезинки, осторожно слизывая их, прижимался губами к ее пылающим щекам, маленьким ушам, высокому прохладному лбу. Поцеловав ее в губы, отстраненно отметил, что она совсем не умеет целоваться, и тут же жаркая волна обдала его, затуманив мозг, — не в силах более противиться охватившему его чувству, он подхватил Тоню на руки, удивившись, какая она легкая, словно перышко, и понес в комнату…
Что ты наделал, — мягко, без укора, прошептала она. — Как я теперь буду здесь одна? Ведь ты уедешь?
— Вернусь, — погладив ее по вздрагивающему плечу и наслаждаясь ее шелковистой кожей, уверенно пообещал он.
В тот момент Волкову казалось все простым и осуществимым. Какое значение имеют теперь подозрительный Первухин, увольнение с оборонного завода, когда рядом она — только его, долгожданная, родная.
— Обещаешь, как речка берегу, — улыбнулась Тоня в темноте, — и сам знаешь, что не будет этого никогда. Уплывешь, как вода к морю… Но я не жалею, ты не думай, я сама так решила, просто ты опередил меня…
Сейчас, глядя на нее, Антон вдруг подумал, что все будет как раз весьма непросто, — это только у Александра Блока впереди революционного отряда шагал всепрощающий Иисус Христос, как символ терпимости, грядущего всеобщего братства и избавления страждущих, а потом родилась тупая, страшная в своем идиотизме, жестоком и всепоглощающем, превращающем человека в бессловесный скотский винтик, дикая ненависть и непримиримость к своим. Христа больше уже не видно — впереди неутомимо шагают многоликие Первухины, сжав в потной ладони рукояти вороненых ТТ и сторожко оглядываясь на узкие взблески жал штыков за своими спинами.
Остается уповать на помощь Ермакова — он не откажет в защите сироте, бедной полудевочке-полуребенку, ставшей в эту ночь женщиной и, надо полагать, женой Волкова — пусть не венчаной, не расписанной, но готовой делить с ним все, что выпадет на его долю. Он чувствовал — Тоня никогда не предаст, ни при каких обстоятельствах. Не может его обмануть знание жизни и людей, а если и она обманет, то кому же тогда остается верить?
Осторожно сняв со своей груди ее невесомую руку, он потянулся к гимнастерке. Ощупью нашел в кармане папиросы, закурил. При свете спички увидел ее светленький полотняный бюстгальтер — чистенький, аккуратно заштопанный белыми ниточками, и это больно резануло по сердцу острой жалостью: как, действительно, она тут будет бедовать без него?
Попытаться отправить ее к матери? Мама поймет и не осудит, простит их обоих и примет Тоню в семью.
Вместе им будет легче. Но как отправить? Нужны документы, разрешение, выправленные по всем правилам сурового военного времени бумаги. А кто она ему сейчас для любого канцеляриста?
Мама поймет, она всегда все понимала, как и бабушка Марта. Именно ей Антон обязан прекрасным знанием немецкого и французского, к которым потом прибавились польский и английский. Деда Антона по линии матери за буйный характер сослали в Сибирь, оттуда он бежал, добрался до Китая, а потом нанявшись на английский торговый пароход, приплыл в Европу. Дед был мужчиной сильным и рисковым, искал, где лучше, и занесло его в Эльзас, на шахты. Там он и познакомился со своей будущей женой — Мартой, дочерью немецкого шахтера и француженки. Свадьбы у них тоже не было — отец Марты не хотел отдавать дочь русскому голодранцу, живущему, как перекати поле, и тогда дед украл невесту и уехал. Вернулись в Россию, родилась дочь, выросла, познакомилась с бравым военным фельдшером Иваном Волковым и вышла за него замуж. В шестнадцатом году Иван вернулся с фронта и обнял тещу, жену и сына единственной рукой — вторую оставил за царя и отечество. Было тогда Антону двенадцать лет.
О смерти отца он узнал перед войной, в Париже. На бульварах медленно падали листья со знаменитых старых каштанов, пожелтевших от жары и засухи августа тридцать девятого; звонко кричали мальчишки, разносившие свежие газеты, во весь голос сообщая прохожим о неудачных переговорах в Москве и заключении договора между Германией и большевиками; пронзительно синело небо над Эйфелевой башней; равнодушно-медленно текла в каменных берегах Сена. Надо было работать и жить дальше, а его отец, как оказалось, уже полгода назад засыпан желтой глинистой землей на старом московском кладбище, и сын узнал об этом только шесть месяцев спустя, в далеком и чужом городе.
В тот день Волков пошел в дешевый кабак, где собирались шоферы парижских такси и проститутки, мелкие шулеры и конторщики, уставшие за день зеленщики и дорожные рабочие. Заказал большую бутыль терпкого красного вина и пил его стакан за стаканом — не хмелея и не слыша разговоров вокруг, не замечая висящего пластами синего дыма сигарет и не обращая внимания на мелодии, исполняемые слепым аккордеонистом-инвалидом.
Перед глазами проплывали картины детства — не то, чтобы как в кинематографе, а какими-то отрывками, неожиданно вырванными и поданными памятью без всякой связи одного с другим. То виделась бабушка Марта — старенькая, в круглых очках, втолковывающая ему правила немецкой грамматики и нараспев читавшая французские стихи, то появлялся перед мысленным взором отец, ласково щурившийся сквозь дым своей неизменной папиросы, то мать, помогавшая мужу заправить в карман дешевого темного пиджака пустой рукав, то тетка, хлопотавшая на кухне. Все они страстно желали видеть Антона врачом, но судьба распорядилась иначе.
Незаметно подошла и устроилась за его столом молоденькая проститутка из второго поколения эмигрантов, с красивым кукольным лицом, изуродованным неумело наложенной косметикой. Молча подставила свой стакан, и он, также молча, наполнил его. Выпив, она взяла его ладонь и провела ею по своей нежной щеке.
— Не надо, — отнимая руку, попросил Антон. — Ничего не надо. Хочешь выпить, пей и молчи.
— О, свои! — покачиваясь, подошел усатый шофер, пьяно раскланялся. — Ротмистр Ганцов. Где изволили служить? Или, по молодости лет, не успели?
— Донской кадетский корпус в Югославии, — нехотя процедил Антон.
— За кавалерию! За русскую кавалерию! — приказав гарсону подать еще одну бутылку, громко провозгласил ротмистр. Потом едва удалось отделаться от этой парочки, пытавшейся вместе сколотить состояние на обирании подвыпивших клиентов.
С тяжелой толовой шагал Волков по темным улицам, сам не зная куда он бредет. Мрачными громадами поднимались темные дома предместья, подозрительно косились на него ажаны в коротких накидках, провожали пустыми, давно потухшими взглядами ночевавшие под мостами клошары — последняя ступень лестницы в иерархия парижских нищих и бродяг. Хотелось плакать, но не было слез.
Позже он оставил Париж, чтобы по приказу Центра отправиться в оккупированную Польшу для установления связи с полковником Марчевским. Но до того произошло еще множество событий, а уезжая, он не знал, что его ждет впереди.
А что ждет сейчас — нежданная находка, как говаривала мать, «нечаянная радость» обретения близкой, родной души и тут же потеря ее? Где он потом станет искать Тоню?
Потушив папиросу, он прислушался — хлопнула входная дверь, прошаркали шаги, завозилась за тонкой перегородкой вернувшаяся хозяйка. Только бы она не постучалась к нему или сюда. Конечно, они все взрослые люди, отвечающие за свои поступки, но будет как-то очень неудобно, если она обнаружит его здесь.
На счастье, хозяйка повозилась и улеглась спать — было слышно, как скрипнули под тяжестью ее тела пружины матраса. Повертевшись немного с боку, на бок, она притихла.
За окнами начало сереть, спряталась луна, резче обозначились на фоне посветлевшего неба очертания голых деревьев, исчез призрачно-колдовской свет, уступая место блеклому рассвету. Наступает новый день, и он встретит его уже не так, как вчерашний, — теперь на нем ответственность и за судьбу ставшей ему близкой маленькой женщины, тихо спящей рядом. Чего уж, если так случилось, лицемерить перед самим собой — ведь он желал этого.
Почувствовав, что Тоня проснулась, он повернул голову и встретился с ней глазами. Она улыбнулась.
— Тихо, — приложил ей палец к теплым губам Антон. — Хозяйка вернулась, а мне надо собираться.
— Ты правда уедешь? — свистящим шепотом спросила она.
— Правда, — вздохнул Волков и тут же поспешил ее успокоить, — только не знаю когда.
На улице профырчала мотором машина, хлопнула дверца. Быстро вскочив, Антон схватил свои вещи в охапку и, торопливо поцеловав Тоню, на цыпочках выскочил в коридор, метнувшись к дверям своей комнаты. Оглянувшись, увидел: стоя на пороге, смотрит на него квартирная хозяйка.
— Доброе утро, — жалко улыбнулся он ей и шмыгнул за дверь, чувствуя, как сверлит его спину чужой взгляд, иронично насмешливый и презрительный одновременно.
«Ну и черт с ней, — подумал Волков, натягивая сапоги, — сегодня же пойдем в загс и распишемся. Плевать на все! Не отдадут же меня под суд?»
В дверь постучали. Открыв ее, он увидел одного из сотрудников отдела Кривошеина.
— Раненый пришел в себя, — зябко потирая руки, вместо приветствия сообщил тот. — Сергей Иваныч уже там.
— Едем, — затягивая пояс, засуетился Антон.
— Да нет, — усмехнулся гость, — нам на аэродром. Ночью из Москвы пришло распоряжение вам срочно вернуться. За подписью заместителя наркома. Так что собирайтесь.
— Счас, — бросил Волков и, не обращая внимания на стоявшую в прихожей квартирную хозяйку, рванул за ручку дверь комнаты Тони. Она была заперта.
На Лубянке Семену каждую ночь снились жуткие сны — то он видел себя перебирающимся по тонкому, подточенному водой льду, сжимая в руках выломанную на берегу слегу; то наваливалась душная темнота подпола в деревне и явственно чудился запах гнилой картошки и соленых огурцов-желтяков, которыми впору заряжать пушки для стрельбы по немецким танкам; то вдруг выплывало из тумана и приближалось к нему лицо сумасшедшей, грязной, расхристанной бабы, встреченной в одной из сожженных деревень, когда он добирался к линии фронта. Женщина тянула к Семену скрюченные пальцы, намереваясь схватить, и, нехорошо улыбаясь голубым, запавшим ртом, требовала: «Люби меня, люби!».
А то раз привязалась во сне мелодия танго «Люблю» в исполнении Георгия Виноградова — эту пластинку часто крутили на заставе до войны: «Вам возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Она, эта мелодия, звучала в ушах, как отзвук давно и безвозвратно прошедшего времени. Кажется, в его сне, словно на бумажной разноцветной наклейке пластинки, танцевали пары — топтались, сосредоточенно глядя под ноги, и, не удержавшись на черном вертящемся диске, с душераздирающим криком соскальзывали с его края в багрово отсвечивающую пустоту, но тут же на диске появлялись новые пары, чтобы, спустя некоторое время, тоже соскользнуть в багровый туман, а вслед им хищно сверкал штырек, на который насажена пластинка…
По ночам, просыпаясь от собственного вскрика, Семен обычно долго лежал, прислушиваясь к тишине одиночной камеры, — ни стука капель из крана, ни шагов по коридорам, ни звуков проехавших по улице машин — единственное узкое зарешеченное окно выходило во внутренний, глухой двор-колодец.
Страшно и ужасно, сбежав из немецкой камеры смертников, с превеликими трудами добравшись до линии фронта и перейдя ее, в конце концов оказаться в одиночной камере у своих. И тут же возникла другая мысль — да, страшно и ужасно, но противоестественно это или закономерно? Он сам поверил бы безоглядно человеку, пришедшему оттуда, да еще рассказывающему такие вещи, от которых у слабонервных могут встать дыбом волосы.
Отчего-то вспомнилась услышанная по дороге от солдат конвоя поговорка: немец считает, что победит раса, американец думает, что всех побьет касса, а мы кричим — победит масса!
Изменилась армия с сорок первого, ох как изменилась. Погоны на солдатах и офицерах — непривычные, чем-то напоминающие виденные ранее фильмы про гражданскую, где все беляки были в таких же погонах; оружие другое, бойцы более уверены в себе, на дорогах колонны войск и техники, немец уже не шарашит, как хочет, с воздуха, но предпочитает отвалить при появлении наших истребителей и штурмовиков. Все это наполняло его гордостью, и еще сильнее становилась тревога за себя, за будущее — что с ним станут делать, поверят ли?
Первый раз Семена допросили в землянке командира роты, потом под конвоем повели в тыл — сначала по запутанной системе ходов сообщения, с тихо осыпающейся со стенок траншей землей и рассыпанными под ногами стреляными гильзами, потом какими-то балочками и овражками, пока не выбрались к чахлому лесочку» где располагался штаб полка. На перебежчика пришел поглядеть сутуловатый, немолодой офицер с одной большой звездочкой на широких, с двумя просветами, погонах, — как выяснилось, майор Сергеев, командир стрелкового полка, в полосе обороны которого Слобода перешел фронт. Допрашивал особист с неприятным тонким голосом, любивший к (месту и не к месту добавлять приговорку «ядрена-корень». На его застиранной гимнастерке топорщились еще темно-зеленые, не успевшие полинять под солнцем и дождями, защитные погоны с четырьмя маленькими звездочками.
Майор Сергеев присел в сторонке и, неожиданно вступив в разговор, начал дотошно расспрашивать о системе обороны противника, что видел и слышал Слобода, пробираясь к переднему краю немцев, а недовольно примолкший особист напряженно тянул в себя ноздрями, чутко принюхиваясь к запахам давно не мытого тела перебежчика и его грязной, засаленной одежды. Много позже Семен узнал, что капитан старался уловить — пахнет от пришельца с той стороны пиретрумом или нет? Все немецкие землянки и занимаемые ихними частями помещения буквально пропитаны запахом этого дезинфицирующего средства, и потому человек, побывавший у немцев, впитывал запах, принося его с собой. На счастье Семена, подозрительные принюхивания капитана с тонким голосом ничего тому не дали.
Пограничник требовал встречи с представителями военной контрразведки фронта, не ниже, и его повезли сначала в дивизию, потом дальше в тыл, в какой-то заштатный городишко с криво торчащей на главной площади старой пожарной каланчой из красного кирпича, покосившимися домишками и разбитыми гусеницами танков мостовыми.
В штабе фронта допрашивали уже сразу несколько человек, потом сводили под конвоем в баню, переодели в поношенное, но чистое солдатское исподнее белье и застиранную форму без погон и знаков различия, «а после отправили на аэродром и доставили в Москву.
Прямо у трапа ждал крытый фургон, прозванный «воронком». Семена грубо запихали в его обитое железом темное чрево, хлопнула с лязгом тяжелая дверь с маленьким решетчатым оконцем, уселись охранники и натужно заревел мотор. О том, что он в Москве, Слобода узнал уже на следующих допросах, которые вел лысоватый, выглядевший совсем по-домашнему подполковник, назвавшийся Николаем Демьяновичем.
Как-либо обращаться к допрашиваемому он старательно избегал, обходясь местоимением «вы», но угощал чаем, распорядился выдавать папиросы и спички, разрешил расспросить его о действительном положении на фронтах.
Несколько раз вместе с Николаем Демьяновичем приходил на допросы одетый в мешковато сидевший на нем штатский костюм немолодой плотный человек среднего роста. Садился в стороне, внимательно слушал, листая исписанные аккуратным почерком подполковника листы протоколов, ерошил толстой, короткопалой ладонью свои поседевшие волосы, изредка задавал уточняющие вопросы и недоверчиво щурился, выслушивая ответы.
По тому, как вел себя в его присутствии подполковник, Слобода понимал — пожаловало высокое начальство, не ниже генерала, а может быть и выше.
Свою историю Семен рассказывал бесконечное число раз, припоминая все новые и новые подробности, до которых Николай Демьянович оказался большим охотником. Он вообще был нудно въедливым, педантичным, крайне внимательным, казалось, совершенно не, знал усталости и в конце допроса, зачастую продолжавшегося по нескольку часов кряду, выглядел абсолютно свежим.
— Ну, ладно, — сочувственно поглядывая на утомленного Слободу, обычно говорил он, собирая бумаги, — прервемся пока. Отдохните немного, поешьте, а потом продолжим.
И продолжали, невзирая на время суток. Подполковник требовал деталей, уточнял даты, названия населенных пунктов, через которые лежал путь Семена к фронту, приметы людей, встречавшихся на пути, предоставлявших ночлег, укрытие, оказывавших помощь беглецу.
Особо дотошно он расспрашивал о пребывании в тюрьме, о повешенном немцами переводчике Сушкове, о лохматом сокамернике Ефиме и других. Интересовался следователем СД, допрашивавшим Слободу в Немеже, лагерями, партизанскими отрядами, боями с карателями, побегами, именами предателей и полицаев, обстоятельствами побега со станции и встречи с хозяином явки партизан Андреем, произошедшей в деревне.
От долгих ежедневных разговоров у Слободы опухло горло и до хрипоты осел голос, а подполковник все не унимался, задавая новые и новые вопросы, — во что был одет Сушков, как говорил, на какую ногу хромал, когда точно его повесили, кто при этом присутствовал из немцев, какие особые приметы имел Ефим, где располагалась камера смертников, просил нарисовать план тюрьмы и маршрут, по которому водили на допросы по галереям в другое крыло здания, кто принимал лейтенанта на явке, указанной Андреем, и кому перепоручили помогать беглому узнику в дальнейшем, как шел, чем питался, сколько километров проходил в день…
Вопросы сыпались из него один за другим, — не человек, а машина по выдаче вопросов. Но при всем том подполковник не был вредным — всегда в ровном расположении духа, чисто выбритый, не повышающий голоса, вежливый, не пытающийся запугать или напустить на себя важность некоего всезнайки, видящего на аршин сквозь землю, — он даже нравился Семену, и, вернувшись после допроса в камеру, Слобода часто пытался успокоить себя тем, что Николай Демьянович обязательно во всем разберется, изменника разоблачат и ему, Семену Слободе, дадут возможность искупить позор плена, пусть даже невольного, снова взяв в руки оружие. Пускай рядовым, «но на фронт, одна мечта — вырваться наконец из страшного круга, в который загнала война, разорвать тиски судьбы, вернуться в привычное, почувствовать себя нормальным, полноправным человеком. Неужели этому никогда не суждено сбыться?
В те редкие ночи, когда его не вызывали на допросы, Семен мучился кошмарами или подолгу не спал, уставившись невидящими глазами в потолок и размышляя о том, как дальше сложится судьба. Спросить об этом подполковника? Ответит ли он, а если ответит, то что услышит бывший лейтенант Слобода?
Иногда казалось — лучше ни о чем не думать, не спрашивать, пусть будет как будет: жить подобно щепке, несомой водоворотом в неизведанную глубину жизненных вод. Однако человек не щепка, особенно после того, как пройдет огонь и ад, испытает ужас и позор плена, фашистских лагерей, совершит несколько побегов и сумеет все же добраться сквозь все препятствия до своих, донеся им страшную весть о предательстве, об измене. Разве может такой человек смириться? Но как же тяжко оказаться вновь в камере!
«А на что еще ты рассчитывал, — останавливал он себя, прикуривая очередную папиросу и стараясь не обращать внимания на горечь табака, скопившуюся во рту. — На что? На поцелуи, цветы, почетные караулы и гром оркестров, славящих героя? На лучезарные улыбки и предупредительность, усиленный паек и награждение орденами? «Классовая борьба по мере приближения к победе социализма обостряется». Не сильнейшее ли проявление ее обострения война, на которой ты волей судеб оказался по другую сторону линии фронта?»
В один из дней — Семен уже запутался во времени и плохо различал: утроим или вечером его вызывают на допрос — рядом с подполковником оказался довольно молодой человек, не старше сорока, с тяжеловатым подбородком и выступающими надбровными дугами. Под темными бровями поблескивали светлые, зеленоватые глаза, глядевшие на Слободу с нескрываемым жадным интересом. На незнакомце была шерстяная гимнастерка с майорскими погонами.
— Присаживайтесь, — как старому знакомому кивнул Николай Демьянович, — товарищу надо с вами побеседовать.
Семен сел, привычно опустив руки между колен и ожидая вопросов. Майор начал методично расспрашивать о положении в оккупации, проверках на дорогах, партизанских отрядах, в которых воевал Слобода, о Немеже и тюрьме СД. Измученный бессонницей и кошмарами, неясностью своей судьбы и томительными, многочасовыми допросами, Слобода отвечал неохотно, раз за разом повторяя то, что уже говорил раньше, но потом как-то разговорился и даже позволил себе немного поспорить с майором, когда речь пошла о тактике действий немцев против партизан. Сколько длился допрос, лейтенант не знал, но вернувшись в камеру и повалившись на тощий матрац, брошенный на нары, почувствовал, как устал.
На следующем допросе его вновь ожидал сюрприз — теперь рядом с подполковником сидел кряжистый мужчина, с добродушно-хитроватым прищуром глаз, одетый в штатский двубортный костюм и рубашку с галстуком. Наметанным глазом Слобода сразу угадал в нем военного: по тому, как тот держал спину, как говорил, по сдержанным жестам. Может быть, ему просто показалось, но военные люди, привычные к оружию и командам, сразу узнают друг друга в любой одежде и пре любых обстоятельствах. Да и кто еще, кроме человека, носящего недавно введенные погоны, мог появиться здесь вместе с Николаем Демьяновичем?
Опять долгие расспросы все о том же, уточнение подробностей, просьба вспомнить еще что-нибудь существенное о Сушкове, хозяине явки на Мостовой, дом три, подробно рассказать о той ночи, когда бомбили станцию и удалось бежать с нее, сколько километров, ну, хотя бы примерно, он проехал на разбитом вагоне до того, как спрыгнул под откос, как шел до жилья, когда ваткнулся на родник, как перебирался через речку, ее Ширина, в каком направлении течет вода, как называлась деревня, где его прятали в подполе, фамилия старосты, как зовут хозяйку и ее детей?
И пошло-поехало — два-три часа дают отдохнуть, поесть, перекурить и снова на допросы. То майор спрашивает, то он уходит и появляется человек в штатском, а то оба вместе начинают выворачивать Семена наизнанку своими вопросами. Дотошно, по нескольку раз уточняя все, вплоть до мельчайших деталей, требуя обязательно вспомнить, нарисовать схемку, попытаться восстановись и воспроизвести интонации разговоров в камере смертников, вновь рассказать, как он узнал, что Сушков работал переводчиком у немцев, повторить номера лагерей, фамилии и приметы сослуживцев по заставе, товарищей по партизанским отрядам. Веером рассыпают по столу фотографии, просят найти знакомых.
Семен перебирал карточки, всматриваясь в незнакомые лица штатских и военных, в лица немцев в черных и армейских мундирах, и не находил знакомых. Ему снова показывали пачки фотографий. Он откладывал в сторону карточки товарищей по училищу, называл их имена, рассказывал откуда они родом, узнал бывшего командира заставы и политрука, недоумевая — зачем, это? Он уже достаточно давно здесь, могли запросить его личное дело и все проверить или разыскать тех, с кем он учился, чтобы провести опознание. Почему они так не поступили? Скрывают, что он у них?
Родителей не найдут — они померли в голод, и Семен остался сиротой. Советская власть воспитала его, выучила, дала возможность окончить училище и стать командиром, — разве пойдет он против нее, против своего народа? Как они не могут понять, что он, стискивая зубы, добирался сюда, чтобы спасти людей, еще не знающих об изменнике?
Когда его вдруг оставили в покое, он не сразу уразумел, в чем дело, и только отоспавшись и немного придя в себя после изматывающих разговоров, понял — они не верят ему! Те двое, майор и штатский, с хитровато-добродушными глазами, прятавшимися в веселых морщинках, пойдут за линию фронта! Поэтому они так выматывали его расспросами и, отпустив в камеру, наверняка продолжали свою нелегкую работу, проверяя и перепроверяя все уже с других сторон, чтобы ни в чем не ошибиться там, оказавшись среди врагов. Вот почему с ним пытались говорить на немецком, давали текст на чужом языке, придирчиво расспрашивали о листовке, которую он сохранил и принес с собой.
Что же, пожалуй, это самое верное предположение. Что они смогут там узнать и что это будет означать потом для него, Семена Слободы, — избавление от все еще тяготеющего над ним подозрения и долгожданную свободу или?..
А если эти двое не вернутся? И что с изменником, нейтрализовали его или нет?
Камера вдруг показалась ему тесным каменным мешком, в котором нечем, совершенно нечем дышать, а стены словно сдавливают, сдвигаются, не оставляя места и скоро сомкнутся совсем, раздавив узника, как букашку. Если есть бог, то пусть он дарует удачу этим двоим смельчакам, готовящимся отправиться прямо в ад ради жизни и чести других людей, ради истины — единственной и страшной, поскольку двух истин не бывает и просто быть не может. Истина только одна!
А он останется ждать их возвращения и решения своей судьбы — раньше даже нечего надеяться на ее решение, пока они не вернутся. Только бы вернулись, только бы им удалось!
Чувствуя, как опять началось в голове то самое нехорошее кружение и поплыла перед глазами темнота, со всполохами разноцветных мельтешащих светляков, как уже было с ним возле лесного источника, когда он увидел свое лицо и не узнал его, Семен испугался. Хотелось закричать, позвать на помощь — здесь свои, они приведут врача, тот посмотрит и скажет, отчего все чаще и чаще темнеет в глазах, отчего нет сна и мучают по ночам кошмары, а лысоватый, угощающий чаем Николай Демьянович иногда кажется совершенно незнакомым человеком и с трудом припоминаешь, как его имя-отчество и зачем они оба здесь? Окажет, отчего, без всякой боли, неожиданно кружится голова и отказывают ноги, а мир вокруг крутится, как на карусели, и не понять — вращается все вокруг или это сам Семен вертится с бешеной скоростью?
Слободе показалось, что он поднялся с нар и пошел к двери камеры, но на самом деле он только сполз на пол и с трудом повернул к окну голову с мокрым от катившихся из глаз слез, лицом. Рот свела судорога, стискивая челюсти, и он не в силах закричать только слабо застонал, мыча нечто нечленораздельное и проваливаясь в темноту…
Глава 2
Генерал долго размышлял, прежде чем решился на сегодняшний разговор, но потом пришел к выводу, что правда всегда лучше самой спасительной лжи, — человек, уходящий на задание, должен знать все и действовать с открытыми глазами. А говорить, так сказать, напутствовать, все равно надо — так не лучше ли решить накопившиеся проблемы разом, не откладывая объяснения в долгий ящик?
Ермаков долго и мрачно курил, поглядывая на сидевшего напротив Волкова, а тот терпеливо ждал, пока генерал сам начнет разговор, и не прерывал молчания.
— Вам придется трудно, — прервал затянувшееся молчание Алексей Емельянович. — Речь идет о слишком серьезных вещах: над командующим фронтом генералом Рокоссовским повисло обвинение в измене. Не хочу скрывать, что руководство склонно видеть в деле элементы нового заговора военных.
Примяв в пепельнице папиросу, генерал встал из-за стола и сел напротив Волкова, положив перед собой папку с бумагами.
— Сроки, Антон Иванович, самые сжатые, и права на ошибку у нас нет. Просто нет, и все. Понимаешь?
— Да, — согласно кивнул тот, — хотелось бы еще раз уточнить некоторые детали с подследственным Слободой.
— Не получится, — недовольно поджал губы Ермаков.
— Почему? — недоуменно посмотрел на него майор. Еще вчера с бывшим лейтенантом проговорили более восьми часов, а сегодня вдруг на его допросы наложено вето? Что произошло?
— Не получится, — повторил генерал. — Плох он, крайне плох. Врачи говорят, организм не выдержал напряжения. Сознание помутилось, пришлось изолировать в психиатрической клинике под чужой фамилией, чтобы соблюсти секретность операции. Впрочем, какой рассудок не помутится от выпавшего ему на долю? Все испытал: первые часы войны, блуждания по лесам, партизанил, плена отпробовал, немецких лагерей, камеры смертников…
— Вот это-то меня и настораживает, — задумчиво протянул Волков. — Как он дошел? Я попытался подробно восстановить весь его путь к фронту, отмечая на карте места ночевок, партизанские маяки, шоссейные и железные дороги, которые он пересекал, водные преграды, прикидывал иные маршруты, скорость движения…
— Не веришь? — прямо спросил Ермаков.
— Не то чтобы не верю и полностью готов доказать с фактами в руках свое неверие, — откликнулся майор, — а вот сомнения есть.
— Выкладывай, — снова закуривая, поторопил генерал. Волков зря не встревожится, не тот характер и не то воспитание: он, в первую очередь, человек дела, приученный к строгой дисциплине.
— Более короткого маршрута к линии фронта разработать нельзя, — глядя в глаза начальника, сообщил Антон.
— Погоди, — ухватившись за его мысль, Алексей Емельянович поразился тому, что майор додумался применить простой и старый, как мир, картографический метод, соединив точки маршрута, по которому шел к фронту бежавший из тюрьмы СД Семен Слобода. И сразу же ушла в сторону умозрительность названий населенных пунктов, рек, дорог и четко прорисовался путь сюда, к своим. Да, но этот путь надо было осмыслить с точки зрения разведчика и контрразведчика, опираясь на то, что сделали до Волкова Козлов и другие, допрашивавшие перебежчика.
— Думаешь, его тащили, как барана на веревке? — недобро прищурился Ермаков.
— Могли и везти, а время от времени выпускать, так сказать, «на вольный выпас», давая возможность появляться в деревнях и на лесных хуторах, ночевать там, расспрашивать о дороге, просить помощи, — пояснил свою версию Волков. — Потом снова везли ближе к фронту, и все повторялось сначала. Они торопились доставить его к нам.
— Тогда он — хорошо подготовленный немецкий агент, — откинулся на спинку стула генерал, — но все мое существо, опыт человека и чекиста восстают против такого предположения. Согласен, что бежать, а потом перейти фронт, отмахав почти полтысячи верст, совсем не просто, однако загвоздка здесь, как мне представляется, в чем-то ином. Ты знаешь, что в Немеже окопались наши старые знакомые — фон Бютцов и прибывший туда из Берлина Бергер, признанный мастер провокаций и дезинформации. Если они решили подсунуть нам липу, то не станут делать это столь грубо. Слобода чист, особенно, если он «конверт» для жуткой политической дезинформации, имеющей дальний прицел и служащей началом сложной, многоходовой операции. Для роли такого «конверта» Бергер и Бютцов подберут человека, которому мы не сможем не поверить. А Слобода просто идеальный вариант — бывший пограничник, партизан, бежал из камеры смертников… Нет, что-то не так в твоих построениях, хотя в них есть весьма рациональное начало. Слушай, а если они, оставаясь в тени, просто помогли ему дойти до фронта? Но как тогда с информацией об измене, с гибелью людей, прикоснувшихся к ней, усиленными розысками беглеца, карательными экспедициями по уничтожению партизан, выжиманию их из этого района? Слобода именно тот человек, за кого себя выдает, вернее, не выдает, а он и есть он. Это проверено и перепроверено десяток раз. Ошибка исключена. Вот тебе и надо вместе с Павлом Романовичем Семеновым проверить всё на месте. Семенов тоже бывший пограничник, служил в тех местах, хорошо подготовлен, работал с тобой по связи с Марчевским, поэтому выбрали тебе в напарники именно его.
Открыв папку, лежавшую перед ним, генерал достал бумаги, перелистал их, бегло просматривая строчки документов.
— Сушков тоже практически вне подозрений. Кстати, тут на тебя телегу прикатили о связи с некоей Антониной Дмитриевной Сушковой, дочерью врага народа. Что скажешь?
— Подписал Первухин? — криво усмехнулся Антон. — Ее отца реабилитировали перед войной.
— Знаю, — вздохнул Ермаков. — Ее родитель и есть тот самый переводчик Дмитрий Степанович Сушков, которого повесили во дворе тюрьмы СД в Немеже. Такие, брат, пироги.
«Тугой узелок, — подумал Волков, чувствуя, как неровными толчками забилось сердце в груди и взмокли ладони. — Круто заворачивается дело. И что я, дурак, не догадался, когда изучал материалы? Хотя мелькала мысль, но отмахнулся от нее, сочтя простым совпадением, а оно вон все как повернулось».
— Она мне жена, — глухо сказал он, глядя в пол.
— Понимаю, — отвел глаза в сторону генерал, — но предлагали снять тебя с задания. Не бабку-селянку на базаре отправляетесь опросить о пропаже гуся или свиньи, а Бергер и Бютцов тебя знают и в этом еще одна причина. Могут возникнуть непредвиденные осложнения.
— Вы же сами упоминали о сжатых сроках, — напомнил Антон. — Кто успеет подготовиться вместо меня?
Ермаков бросил, в папку документы и сердито захлопнул ее, прижав сверху толстой ладонью:
— Я тебя отстоял, но учти, что все не шутки! Знаю, — отмахнулся он от порывавшегося что-то сказать ему Волкова, — знаю, что она не видела отца практически с момента рождения, все знаю. Знаю, как доверял ему Чернов, знаю, на какой риск шел этот немолодой, искалеченный судьбой и людьми человек, оставаясь в оккупации. Знаю и понимаю ее, его и тебя. Боюсь другого — твоей предвзятости! Сознательно говорю тебе все, как попу на исповеди в детстве не говорил. Сейчас в ваших руках честь и жизнь не только командующего фронтом, но и многих других людей, и я хочу, чтобы ты понял всю тяжесть ответственности и не искал легких путей, стараясь обелить свою суженую-ряженую.
— Поэтому со мной и летит Семенов? — обиженно вздернул подбородок Антон.
Генерал опять вернулся на свое место за большим письменным столом с лампой под зеленым абажуром и массивным прибором каслинского литья. Устраиваясь в кресле, глухо ворчал себе под нос нечто неразборчивое о мальчишках и сопляках, потом сказал:
— Видишь, что творится? Один с ума сошел, других повесили, на тебя бумаги катают… Думаешь, мне просто, полагаешь, мои лампасы — панацея? А дело нам надо делать, Антон. Не люди для чекистов созданы, а чекисты для защиты людей. Вот и суди по совести себя и других. Отправляйся пока отдыхать, перед вылетом встретимся еще все вместе, а даст бог вернетесь, решим, как вас повенчать. Все, иди…
Выйдя из кабинета генерала, Антон пошел длинным коридором, машинально отвечая на приветствия встречавшихся по дороге знакомых сотрудников. Прав оказался Кривошеин — мстительный Первухин накатал рапорт, да еще грязи насобирал. Интересно, к себе вызывал квартирную хозяйку или удостоил ее чести, самолично посетив тихий домик в переулочке? Есть же порода людей, которые любят рыться, замирая от предвкушения скабрезных находок, в грязном белье — не дает им покоя жизнь, проходящая мимо, поскольку своей у них нет, а есть только существование — серенькое, старательно прикрытое трескучими лозунгами. Они усиленно культивируют в себе, как некую броню от собственной серости, время от времени болезненно ощущаемой ими, чувство крайней собственной нужности и исключительности. Для них существуют остальные люди, а не они для людей — в этом Ермаков прав, предостерегая от подобных заблуждений, способных завести черт знает куда. Хорошо еще, рапорт попал именно к Алексею Емельяновичу, а не к кому-нибудь другому, но кто даст гарантии, что с ним не ознакомлено более высокое руководство?
Влип в историю — все смешалось, завертелось, как в калейдоскопе: вылет на задание, пребывание в Не-меже старых знакомых фон Бютцова и обер-фюрера Бергера, рапорт Первухина об отношениях Антона с Сушковой, ее погибший отец, репрессированный перед войной, неожиданное помутнение рассудка у перебежчика Слободы. Какой же тяжкий груз ложится теперь на плечи, и от этого еще ближе и понятней становится положение командующего фронтом, втянутого в смертельные жернова подозрения в измене, готовые на любом повороте захватить его мертвой хваткой и перемолоть вместе с семьей, товарищами по службе, родными, знакомыми, не оставив даже их следа на многострадальной, истерзанной боями русской земле. А он, майор Волков, вылетающий во вражеский тыл вместе с Павлом Романовичем Семеновым, должен либо ускорить мерное движение этих жерновов, либо попытаться остановить их, — все зависит от того, как они с Павлом сработают там, что узнают, сумеют ли установить истину, возможно, даже заплатив за нее самую высокую цену. Ведь все, обговоренное тысячи раз здесь, разрисованное на схемах, проигранное в умах, может оказаться никчемным там, за линией фронта, когда враг начнет навязывать свой жесткий прессинг и будет почти полным хозяином ситуации ни оккупированной им территории. Однако надо любой ценой получить ответы на вопросы, которые поставлены перед их маленькой группой. Но как знать, вдруг полученный ответ станет тем последним толчком, который и их приблизит к неумолимому, тяжелому жернову принимаемых «наверху» решений, втянет в смертельный круг и неумолимо раздробит вместе с опальным генералом, родными, близкими, еще не состоявшейся любовью, планами на будущее. Впрочем, почему «как знать»? Они все — Антон, Ермаков, Семенов, плавающий в безумном бреду Слобода, лысоватый Козлов и другие — уже стоят у самого края этих жерновов…
Открыв дверь своего кабинета, Волков сел за стол. Можно немного побыть в одиночестве — столы других сотрудников пусты: кто на заданиях, кто на фронте, кто в госпиталях.
За окнами серыми простынями повисли облака, выгнулись парусами, закрывая небо над крышами домов, слоями наплывая друг на друга. Снег давно сошел, нежно зеленеют деревья в парках. Кто только придумал войны, поединки разведок, измены, подозрения, поделил людей на своих и чужих, заставил их исповедовать разные идеалы и убивать тех, кто их не разделяет? Что все это по сравнению с вечным таинством жизни, по сию пору никем не разгаданным, не опознанным до конца?
Открыв сейф, он достал документы и бросил взгляд на часы — сейчас должен зайти Семенов. Сядет напротив, сунет в рот мятую папиросу, улыбнется глазами — и станет на душе спокойнее от того, что рядом с тобой надежный товарищ, понимающий тебя с полуслова-полувзгляда. Спасибо Ермакову за такого напарника и мысленное «прости» за сорвавшиеся с языка злые слова недоверия.
А когда вернется — тьфу-тьфу, чтобы не сглазить удачу, — станет видно, как Ермаков решил повенчать его с Тоней. Прочь мысли о жерновах власти — человек всегда хочет надеяться на лучшее, даже на войне…
На душе у Ромина было погано — все планы полетели к черту из-за внезапной болезни усатого тупого обормота Скопина, чтоб ему пусто…
Плюнув в открытое окно служебного купе, он тыльной стороной ладони вытер губы и, прищурившись от бьющего в лицо встречного ветра, выглянул: поезд втягивался на длинный перегон, чадно дымил впереди паровоз, мерно отсчитывали стыки рельсов колеса, изредка высекая искры, — машинист тормозил.
По краям полотна тянулись грязные поля, мелькали телеграфные столбы, протянувшие вдаль тонкие чуткие пальцы проводов, несущих в себе чужие радости и печали, сиротливо провожали уходящий состав слепыми окнами убогие домишки, остался позади переезд с шлагбаумом и одинокой фигурой пожилой стрелочницы в телогрейке.
Прикрыв окно, Ромин сел на полку и, достав помятую жестяную кружку, налил себе кипятку из большого чайника. Помешивая чай ложкой, уставился на противоположную стенку купе, как будто хотел во всех подробностях рассмотреть на ней видимые только ему замысловатые узоры, скрытые от посторонних глаз.
Проклятый напарник! Надо же ему так не вовремя заболеть? Вот она, прихоть капризной судьбы — считай, уже давно стал бы покойником, а он все еще коптит небо, живет и здравствует. Тогда Скопин разболелся не на шутку: лежал в купе, никуда не выходил, разве пошатываясь от слабости и температуры, о трудом добредал до туалета и потом долго вздыхал и слезливо жаловался, как там немилосердно дует во все щели. Глядя на Ромина глазами больной, побитой собаки, он просил скорее достать еще водки и перцу, укрыть его потеплее и не оставлять надолго одного.
Какие тут планы, как тащить Скопина в тамбур и выпихивать на ходу его тело в сугробы на маленьком полустанке, если буквально через час-другой после отправления уже все вокруг знали, что он болен?
Пришлось стиснуть зубы и, делая вид, как озабочен и напуган его болезнью, добывать водку, перец, покупать за бешеные деньги сало и чеснок, кормить усатую скотину и слушать по ночам его пьяный храп, замирая от страха, что он начнет орать во сне, увидев кошмары. Ромин часто жалел, что у него нет яду, — сыпанул бы или налил немного в стакан с водкой и поднес напарнику: кто потом станет разбираться, от чего именно тот помер? Но яду не было, а Скопину становилось все хуже и уже не помогали ни водка, ни перец.
Ромин начал было тихо радоваться — нет, не допустит господь, освободит его от тяжкого греха, не заставит убивать пусть крайне ограниченного, противного, тупого, но все же человека, — все решится само собой. Зачем Скопину жить, если он так много знает о Ромине, связнике, застреленном в затхлом и пыльном подъезде проходного двора в уральском городке, знает, наверняка знает и о том, с кем был связан человек в серых валенках, с самодельными галошами из старых автомобильных покрышек. Пусть унесет все с собой на небеса, где его встретят у райских ворот строгие ангелы, — им и так по должности положено знать о любых людских делах и грехах, а людям ни к чему такие способности, иначе как тогда жить на земле?
Помочь напарнику расстаться с трудной жизнью, закончив ее на вагонной полке, Ромин боялся — удавишь, а потом заметят на шее пятна от пальцев или полосочку от удавки и начнут таскать.
Однако, оказавшийся на диво живучим, Скопин никак не желал помирать — терял сознание, мучился, обливаясь жарким потом, но душа его словно была прибита аршинными плотницкими гвоздями к телу и не отлетала в райские кущи. Мало того, начальство распорядилось снять его на одной из больших станций и отправить в больницу, опасаясь, что болезнь может оказаться заразной.
Задолго перед остановкой Ромин тщательно обыскал напарника, чтобы, упаси бог, не осталось вдруг при нем хоть клочка компрометирующей их бумажки или чего похуже. Найдя у него маленький вальтер, бывший поручик только горько усмехнулся и сунул пистолет в карман своих брюк — оставлять нельзя, не то отправишься следом за Скопиным в НКВД. Вертя послушного обеспамятевшего больного, прощупывая швы его одежды и белья, отрывая стельки у сапог, морщась от вони немытого потного тела, страдая от брезгливости и невозможности прекратить свое занятие, Ромин зло матерился сквозь зубы и молил всех богов, чтобы Скопин никогда больше не вышел из больницы.
Когда больного унесли, навалилась тупая апатия — подойди кто в этот момент и плюнь в лицо, даже в драку не полезешь, а только утрешься и поблагодаришь. Допив оставшуюся водку, Ромин подумал, что может сейчас, когда руки почти развязаны, попытаться осуществить свой план исчезновения? Выходить на связь он не собирался — слишком опасно стучать на ключе, закрывшись одному в купе, когда никто не страхует в коридоре, но записку, переданную связником при их последней встрече, все же сохранил. Как бы ему хотелось, чтобы это была действительно последняя встреча с прошлым.
Поразмыслив, он решил, — сразу исчезать нет резона: сначала надо все же узнать о судьбе Скопина. Не ровен час, выживет, настучит на него тем или этим, и тогда петляй из стороны в сторону, заметая следы, а так жить не хочется. К чему сгибать себя под гнетом вечного страха, носить в душе незаживающую язву опасений, — разве он мальчишка, разве впереди еще столько, сколько осталось позади? И потом суетливость губительна, надо не один раз все взвесить, как следует разложить по полочкам, прежде чем очертя голову бросаться в прорубь. Сломался старый план? Сломался. А новый есть? Нет. Вот и подумай над ним, а не соблазняйся кажущейся легкостью, которая к добру еще никого не приводила. Скопина необходимо самым надежным образом нейтрализовать, а надежные способы нейтрализации Ромин изучил еще в белой контрразведке, где за стаканчиком винца или за картами любили приговаривать, что лучше и дольше всех молчат только усопшие. Подождем немного.
Но ждать пришлось долго. По случаю удалось забежать в одном из рейсов в больницу, проведать напарника. Тот выздоравливал — отощал, выперли и обтянулись темной кожей скулы на лице, сделав его похожим на монгола, сбриты усы, острижена наголо голова, торчит из ворота застиранной больничной бязевой рубахи тонкая шея с крупным кадыком, волчий аппетит, руки-щепки, бездна злости и желания поскорее выбраться из опротивевшей больнички, — но выздоравливал, подлец! Сидя на краю койки и заботливо подсовывая Скопину незамысловатые гостинцы, которые тот — настороженно зыркая глазами по сторонам, словно у него в любой момент могли отнять хлеб с салом, — жадно пожирал, неаккуратно просыпая на одеяло крошки и вытирая сальные руки о край простыни, Ромин не мог отказать себе в маленьком удовольствии представить, что бы он сделал со своим богоданным немецкой разведкой напарничком в двадцатом году. Тогда, пожалуй, Скопину было за двадцать, уже соображал что почем. Эх, и порезвился бы господин поручик! Жаль, не скрестились их пути, да и кто тогда мог предугадать будущее? Крым, укрепленный западными инженерами, казался неприступной твердыней: созвездие военных имен рядом с бароном Врангелем, английские бронемашины, танки, значительный запас боепитания, масса офицеров…
Убедившись воочию, что костлявая повела косой мимо напарника, Ромин, выйдя из больницы, сначала впал в неистовый гнев на несправедливую судьбу, но потом успокоился и стал думать, как быть. Прилипал к окну в редкие свободные минуты, выскакивал из вагона на полустанках — снег сходил, в сугроб тело не спрячешь, а надо убрать Скопина тихо и надежно: в силе оставалась часть прежнего плана, с сообщением об отставшем от поезда напарнике.
Наконец нашлось то, что нужно, — поезд в темное время суток проходил с небольшой остановкой для забора воды через маленький полустанок. Рядом с путями раскинулось болотистое озерцо. Запасшись тяжелым камнем и веревкой, Ромин промерил глубину — достаточно, чтобы спрятать то, что раньше было Скопиным, а дно илистое, тело уйдет в него, как кулак в пуховую подушку.
Пришлось засекать по часам время, требуемое для действия, — надо выманить напарника в тамбур заранее, приготовить груз и веревки, дотащить его до озерца и успеть вернуться, не то сам отстанешь от поезда. А вдруг это как раз то, о чем он не думал раньше, но самое правильное: не заявлять, не ¡поднимать шума, а исчезнуть на следующей большой станции?
Наконец все вымерено и выверено, оставалось дождаться появления кандидата в утопленники. Вскоре Скопин выписался и отправился с Роминым в поездку. Обрадовался припасенной бутылке, быстро захмелел, и бывший поручик смекнул, что в ночь окончательного расчета стоит Скопина хорошенько подпоить, сыпанув в водку снотворного. Тогда резать или стрелять не надо — тащи пьяного к озеру и немного подержи его голову в воде, пока не перестанет дергаться. Спихни тело подальше от берега и спокойно можешь кричать во весь голос о пропаже второго проводника, а о пристрастии Скопина к выпивке знают очень многие. Отчего бы пьяной скотине не утонуть?
Радушно угощая напарника, Ромин жаловался на вынужденный перерыв в работе, говорил о накопившихся материалах, сетовал, что перетрясся от страха, пряча на период болезни товарища рацию.
Скопин, набив рот, только выразительно мычал в ответ, а бывший поручик думал, что утопить его надо по дороге в Москву, когда будут возвращаться с Урала, очень удобно — немцы получат радиограмму с данными и объяснением долгого молчания, успокоятся, рассеются последние подозрения у Скопина, на конечной станции Ромин выйдет в город, якобы на встречу со связником, а на обратном пути и…
— Скорее бы все кончалось, — вновь отпускавший усы Скопин, отвалившись от столика, начал ковырять в зубах спичкой. — Силов нет, высосал лазарет проклятый.
— Погоди немного, — прибирая остатки закуски, вполне серьезно пообещал ему Ромин, — недолго осталось терпеть…
В воздухе нещадно болтало — самолет вздрагивал и неожиданно падал вниз, подпрыгивая, как старый разбитый автобус на ухабистой сельской дороге, и тогда казалось, что все внутренности разом подкатывают к горлу. Наконец, болтанка, мало похожая на обычную, прекратилась. Из кабины вышел один из летчиков, весело улыбаясь, заглянул в лица пассажиров: как, мол, вы тут, живы еще?
— Оторвались, — перекрикивая гул моторов, сообщил он.
— От кого? — поправляя ранец парашюта, спросил Семенов.
— Ночные истребители, — нагнувшись, объяснил пилот. — Днем они спят, а как стемнеет, вылетают на охоту за нашими. Нахальные, просто спасу нет. Штурмовики уже два раза их аэродром накрывали, да видно мало.
Похлопав пассажиров по плечам тяжелой ладонью, летчик снова улыбнулся и ушел.
Надежного аэродрома у партизан не было, прыгать надо на свет костров, выложенных условной фигурой, которая менялась каждый день, о чем договаривались шифровками по рации. Сегодня должны встречать «звездой» — пять костров и один в середине.
Павел Романович повеселел, достал из кармана комбинезона спрятанную перед вылетом плитку шоколада, знаками показал, что угощает, но увидев отрицательный жест Волкова, убрал и постучал пальцем по стеклу циферблата часов — скоро подлетим. Антон согласно кивнул.
Костры появились неожиданно. Темнота с алыми точками костров далеко внизу притягивала и одновременно отталкивала, призывая остаться на борту, не делать сумасбродного шага вниз, отрубающего все пути к отступлению. Волков неоднократно слышал, что немцы, расшифровав радиограммы или воспользовавшись полученными от предателей сведениями, выкладывали свои костры, заманивая на них десантников или заставляя наших летчиков сбросить грузы. Часто костры разжигали просто так, наобум, вытягивая их в одну линию или располагая «конвертом», надеясь на случайную удачу, — вдруг совпадет и русские клюнут. Где обусловленные в радиограмме сигналы ракетами?
И тут внизу вспыхнули блеклые звездочки трех белых ракет — есть, все правильно. Почувствовав на плече ладонь пилота — это прощание, пожелание успеха и приказ прыгать, поскольку говорить мешает гул моторов, да и зачем сейчас какие-то слова, — Антон шагнул вперед и вывалился в темную, ледяную пустоту.
Забило дыхание встречным ветром, раздуло щеки, выжимая из глаз обильные слезы и стягивая кожу от холода. Потом хлопнул, наполняясь воздухом, купол парашюта и падение замедлилось — стало видно костры, темную полосу густого леса, маленькие фигурки людей, суетливо мелькавшие в розовом отсвете пламени разложенных в ямах костров, даже почудился запах смолистой гари еловых ветвей. Выше белел купол парашюта Семенова, получившего перед вылетом на задание псевдоним «Григорьев». Сам Антон остался, как и прежде, «Хопровым».
Приземлившись, он поразился тишине и словно обрушившимся на него запахом весеннего леса — они как будто облаком окружили его в сырой прохладе ночи. Далеко-далеко гудел шмелем улетавший самолет, справа стеной стоял лес, слева поляна, за ней тоже лес, а впереди костры, от которых бежали люди. Быстро отцепив лямки парашюта, Волков поискал глазами в небе Семенова-Григорьева. Вон он, приземляется немного в стороне.
Выставив автомат в сторону бежавших, Антон спросил пароль. Услышав его, опустил оружие и начал собирать парашют. Подоспевшие партизаны помогли увязать стропами белый купол и поспешили навстречу Семенову. Где-то за лесом слышны были выстрелы — дробно и гулко бил немецкий пулемет, бухали винтовки.
— Уходим, — потянул Волкова за рукав заросший щетиной партизан, — покою не дают, сволочи. Осмелели чегой-то, даже ночами лезут.
Несколько человек тушили костры «по-пионерски», мочась в ямки и забрасывая огонь землей при помощи саперных лопаток. Пламя сопротивлялось, не желая умирать, но вскоре потухло, и стало еще темнее. Маленькая группа пестро одетых людей, вооруженных немецкими автоматами и карабинами, нашими винтовками и ППШ, направилась в чащу.
Слыша почти на затылке дыхание Павла Романовича, Антон шел, держась за спиной пожилого партизана, казалось насквозь пропахшего махоркой. Под ноги то и дело попадались вылезшие на неприметную в темноте тропинку корни деревьев, пеньки и сухие сучья. Сзади тащили сброшенные с самолета тюки.
К счастью, идти пришлось недалеко — в неприметном овражке ждали спрятанные лошади.
— Верхом можете? — передавая Антону повод, сделанный из обычной веревки, поинтересовался один из встречавших.
— Далеко пойдем? — попробовал выяснить Волков, устраиваясь на самодельном, жутко неудобном седле.
— Ни, верст двадцать, а может с гаком, — партизан весело оскалил белые зубы.
Навьючив на лошадей поклажу, взобрался на вислозадую кобылу Семенов. Привычно разбирая поводья, сели в седла партизаны и тронулись.
Лес стоял по сторонам тихий, только шумел где-то поверху ветер, качая кроны деревьев и безуспешно пытаясь разогнать ходившие по небу тучи, чтобы выпустить на волю звезды. Пахло сыростью, стоялым болотом и прелым, прошлогодним листом — чуть горьковато, щемяще жалобно и тревожно, рождая в душе неясное беспокойство. Спрятавшись в зарослях, покрикивала неизвестная ночная птица, хлестали по лицу ветви кустов, глухо стучали по мягкой лесной земле копыта, и этот негромкий звук тут же стихал, украденный деревьями леса.
Ехали долго. Небо на востоке, откуда прилетели Семенов и Антон, уже начало сереть, наливаясь жемчужным отсветом нарождающегося нового дня, когда добрались до лагеря, — землянки и шалаши приткнулись под купами кустов и под деревьями, прикрывшись сверху валежником и проросшим свежей травкой дерном.
«Здесь один из партизанских отрядов, — понял Антон, — или штаб бригады».
Подошел средних лет человек — чисто выбритый, с внимательными темными глазами, одетый в кожаное немецкое пальто, подал руку:
— Михаил Петрович Чернов. Мы вам земляночку отдельную нашли, отдохните с дороги часок, потом потолкуем.
Земляночка оказалась тесной, с небольшим столом из сосновых плах и двухъярусными нарами. Низкое оконце почти не давало света, в углу притулилась железная печурка с выведенной в крышу жестяной трубой, но все равно после полета и многочасового качания в седле приятно вытянуться во весь рост на нарах и чувствовать, как уходит из ног предательская дрожь, вдыхать запахи земли и слышать негромкие звуки жизни партизанского лагеря — ржание лошадей, позвякивание ведер, хриплый голос, отчитывающий какого-то Алехновича, не так располосовавшего ножом принесенный парашютный шелк…
Чернов пришел через два часа. Вместе с ним появился мрачноватый мужчина в гимнастерке старого образца без знаков различия. Его глубоко посаженные светлые глаза смотрели хмуро.
— Колесов, — представил его секретарь подпольного райкома, — командует у нас разведкой.
Антон знал, что Колесов профессиональный чекист, и потому, не дожидаясь вопросов, предъявил ему свое удостоверение, отпечатанное на квадратике плотного желтоватого шелка.
— Спрашивайте, — возвращая шелковку, немного подобрел начальник разведки. — Чем можем, постараемся помочь.
— Речь пойдет о Сушкове, — угощая хозяев папиросами, начал Семенов. — С кем он работал?
— С Прокопом, — прикуривая от коптилки, отозвался Колесов. — Тот был участковым в милиции, а раньше в уголовном розыске служил. Толковый мужик, ранения имел в борьбе с бандами, потому и ушел с оперативной работы. Здесь Прокопа почти не знали, и мы направили его в город. Сергачев его настоящая фамилия, Андрей Прокопьевич Сергачев.
— При каких обстоятельствах он погиб? — вступил в разговор Антон.
— Случайность, — выпуская дым из широких ноздрей, нехотя рассказывал Колесов. — Возвращался из города к нам и напоролся на мины. Немец не сообщает, где и когда их ставит, особенно, если рядом с лесом. Я сам ездил хоронить, сомнений в том, что это был действительно Сергачев, у меня нет. Мы до войны вместе работали по борьбе с бандитизмом.
Помолчали, отдавая дань памяти погибшему. Потом Чернов, беспокойно ворочая шеей в вороте френча, настороженно поинтересовался:
— Имеете подозрения? Какие? Сушкова я знал еще с гражданской. Толковый, но скрытный. Я, бывало, подсяду вечерком к костру, заведу в ним разговоры по душам, чую, что он из офицеров, правда, в небольших чинах, а он в молчанку играет или болтает о пустяках. Комвзвода его красноармейцы сама выбрали, доверяли, воевать он умел. Зря вперед не лез, но и труса не праздновал, людей берег. От казачьей конницы вместе мы уходили, потам его тиф свалил. Меня перебросили в другую часть, и разошлись наши пути, потом встретились уже перед войной.
— И вы его сразу узнали, Михаил Петрович? После стольких лет и невзгод? — словно между делом бросил Семенов.
— Я ему жизнью обязав, — обиженно поджал губы Чернов, — кабы не он, срубали бы меня казачки. Какой из меня тогда был военный, впрочем, и сейчас тоже не очень-то… Как его увидел, то прямо сердце екнуло, — думаю, неужто он? Ну, а потом проверял, конечным делом, не откуда-нибудь, из тюрьмы человек пришел. Колесов помогал его устроить на работу, вместе предложили Дмитрию Степановичу остаться у немцев в городе. Как хотите, я Сушкову верю. Много ценного передал, с нашей помощью в «Виртшафтскоммандо» к фон Бютцову пристроился, да, как оказалось, себе на погибель.
Он снял шапку, обнажив облысевшую голову, и сразу стал заметен возраст Чернова. По контрасту с загорелым лицом, с малоприметными морщинами, его лысина казалась мучнисто-белой, обрамленной поседевшими волосами, сохранившими свой первоначальный цвет только на висках и над ушами. Сморщив изрезанный глубокими морщинами лоб, Михаил Петрович спросил:
— Этот, который с ним в тюрьме СД сидел, а потом бежал, чего про Сушкова говорил? Какие тот получил сведения?
Павел Романович отвернулся к оконцу, словно и не слышал вопроса; наблюдавший за прилетевшими гостями Колесов, видя это, опять нахмурился, и Антон, глядя прямо в глаза секретаря, ответил:
— Затем и прилетели, чтобы узнать.
Начальник разведки партизанской бригады только вздохнул и хрустнул пальцами, уставив ледышки глаз в стол.
— Фото Сушкова беглецу показывали? — не поднимая глаз, буркнул он.
— Не узнал, — повернул голову Семенов. — Однако если бы узнал, это подозрительно. У нас есть только портрет Сушкова до осуждения, а прошло много лет и избили его до неузнаваемости. Здесь искать противоречия трудно. Остальные приметы переводчика полностью совпадают с тем, что вы нам передали. Приметы Прокопа-Сергачева, или Андрея, тоже. Он что вам сообщал перед гибелью?
— После приезда из Берлина эсэсовского чина Дмитрий ездил с фон Бютцовьим на охоту, устроенную для гостя. Вернувшись в город, попросил через связную о срочной встрече, но по дороге на явку был арестован.
— Явка на Мостовой, три? — уточнил Антон.
— Да, — глухо ответил Колесов, — там Прокоп жил у одной старухи. Дом сгорел уже после гибели Сергачева. Мы проверяли: обычный несчастный случай. По Слободе тоже работали — его знают, действительно воевал в партизанах и сидел в лагерях, несколько раз бежал. Прокоп сообщал, что к нему приходила девчонка из деревни, где скрывается беглец. Тут немцы везде его фото на листовках развешивали, ошибки быть не могло. Мы дали «добро» на встречу, надеясь узнать, что хотел сообщить Сушков, но, возвращаясь после встречи в отряд, Сергачев подорвался на мине. Тело я видел.
— Да, я слышал, — напомнил Волков. — В деревне были?
— Пожгли каратели, — вздохнул Чернов, — всю пожгли, а жителей расстреляли. Кто-то донес.
— После побега, особенно когда Слободу не нашли, немцы как с цепи сорвались, — помолчав, продолжил Колесов. — Весь город и район вверх дном перевернули, карательные экспедиции одна за другой. Нам пришлось отойти, связь с людьми в городе почти оборвалась, а когда опять перебазировались, то выяснилось, что подполье надо практически заново воссоздавать.
— Как сейчас? — поправил фитиль коптилки Семенов.
— Налаживаем, — начальник разведки был явно не расположен к пространным объяснениям. — Восстановили несколько явок, работаем.
Было слышно, как топчется около землянки специально выставленный часовой; в низкое, почти вровень с землей, оконце проник тонюсенький лучик солнца, предвещая близкий вечер; где-то неподалеку кололи дрова и топор звонко стучал, раскалывая поленья. С тихим шорохом сыпался песок с земляных стен, обитых березовыми, неошкуренными жердями, делавшими землянку светлее.
«Сидим, как заговорщики, — невесело подумал Волков, — и не можем сказать друг другу всего в открытую. Правда, Чернов и Колесов могут, а у нас нет на это права: слишком многое будет потом связано даже с одним неосторожно брошенным словом».
— Подходы к немцам есть? — прервал он затянувшееся молчание. — Или после гибели Сушкова все отрублено?
— Такого, как Дмитрий Степанович, нам, конечно, теперь найти трудненько, — вздохнул Чернов. — Хороший был человек, пусть и путался в жизни, но какой-то незащищенный, что ли, хотя и постоять за себя умел. Терялся от несправедливости судьбы и людей, мягкий чересчур, но языком немецким владел как истый фриц. Долго они ему доверяли, однако Бютцов, как ни прискорбно, оказался хитрее нас. А подход есть, правда хилый, зачем скрывать, — парикмахерша, обслуживает ихних летчиков с аэродрома.
— Надежна? — прикуривая от огонька коптилки, бросил на секретаря испытующий взгляд Семенов.
— Хотите в город отправиться? — вопросом на вопрос ответил Колесов.
— Контакт можно установить с этой парикмахершей? Кстати, как ее зовут? — поинтересовался Волков.
— Нина, — ковыряя ногтем сучок на сосновой плашке стола, отозвался начальник разведки. — Когда хотите, тогда и устроим, а насчет надежности можете не сомневаться. Что еще?
— Надо отправить разведку в поиск по определенному маршруту, — попросил Волков, — проверить путь Слободы к фронту. Можете? И… как там Бютцов поживает?
— Разведчиков подготовим и пошлем, — согласился Колесов, — а немчик ваш в замке устроился, где госпиталь люфтваффе. Там и его берлинское начальство обитает. В город ездят, но не часто, больше вызывают местных гадов к себе. Общаются преимущественно с начальником СС и полиции Лиденом, с армейскими чинами и крайне редко с гражданской администрацией.
— Немцев в Немеже много? — Семенов примял окурок в пустой жестянке и достал новую папиросу. Первые сутки их пребывания в немецком тылу скоро подойдут к концу, а нового еще ничего узнать не удалось.
— Хватает, — горько усмехнулся Михаил Петрович. — Аэродром, охрана, саперы, эсэсовцы…
— Что про берлинского гостя слышно? — Антон откинулся спиной на березовые жерди, ощутив их округлую твердость и тонкий, не успевший выветриться аромат леса.
— Сушков, помню, рассказывал про него, — откликнулся Колесов. — Тощий, волосики серые, высокий, костистый, на пальце перстенек носит с черепом. Серебряный, что ли?
— Платиновый, — поправил Волков. — Это обер-фюрер Бергер из РСХА, а колечко с черепом ему лично Гиммлер подарил за службу. У них считается почетным получить такой презент от рейхсфюрера. У Бютцова шрам на голове есть? Вот тут? — он показал, где должен быть след пули.
— Есть, — удивленно посмотрел на него Колесов. — Точно. Знакомый, что ли?
— Это не так существенно, — прервал его Семенов. — Просто о противнике следует знать все, вплоть до мелочей, поэтому Хопров интересуется. Готовьте поиск разведчиков, маршрут мы дадим и будем собираться в город. Желательно, чтобы нас в лагере видели как можно меньше.
— Ежику понятно, — буркнул начальник разведки. — Если мундирчики немецкие хотите натянуть, то не советую. Строго у них там с учетом не только прибывающих, но и проезжающих. Первый же патруль остановит и потащит в комендатуру. Лучше попробовать с местным населением смешаться и пройти, хотя это тоже… Но мы еще помозгуем, как все устроить, есть одна мыслишка. Если вопросов больше нет, то сейчас я вам ужин принесу, а потом зайду с бумагами. Посидим, покурим, про оперативную обстановочку в Немеже расскажу. У меня все немецкие приказы и распоряжения подобраны в хронологическом порядке, трофейные документы есть, письма солдат и офицеров. Глядишь, пригодится.
— Спасибо, — улыбнулся Волков…
Ночью Антон долго лежал на нарах, прислушиваясь к шумам леса и тому, как беспокойно вертится внизу Павел Романович. Не спится ему — день тяжелый, полный разговоров и напряженной работы. Колесов принес несколько сумок бумаг и сильный фонарь. Читали до одури, до рези в глазах — приказы, листовки, распоряжения бургомистра и военного коменданта, предписания, письма немцев к родным и знакомым, оправки жандармерии и полиции, биржи труда и интендантских служб. Горы документов, за которыми невидимый постороннему глазу каждодневный и опасный труд подпольщиков и чекистов, партизанских разведчиков и связных. Попутно расспрашивали начальника разведки о работе подполья в городе, обстановке в прилегающих к нему районах, ценах на базаре и черном рынке, приметах выявленных осведомителей полиции и гестапо.
Начальник разведки притащил с собой и большой, сложенный в несколько раз, лист плотной бумаги с планом Немежа, изданный еще в панской Польше. Наложив на него полупрозрачную кальку с новыми названиями улиц, данными уже при Советской власти и аккуратно надписанными карандашом немецкими названиями, он объяснил, где располагается тюрьма СД, городская управа, биржа, рынок с торговыми рядами, костелы, замок, гестапо и резиденция военного коменданта. Его толстый палец уверенно пола по ущельям улиц и тыкал ногтем в квадратики зданий?
— Дом пять, автомастерские… Потсдамштрассе, бывшая Мицкевича, дом двенадцать, общежитие полиции…
Попросив начальника разведки оставить им карту до утра, они с Павлом Романовичем долго экзаменовали друг друга, запоминая, как пройти к тому или иному учреждению, добраться до базара, замка, плотины на озере…
Внизу чиркнула спичка, потянуло табачным дымком, раздалось легкое покашливание и потом шепот:
— Не спишь?
— Нет, — ответил Антон. — Надо бы, а не спится.
— Вот и мне, — пожаловался Семенов. — Лежу и думаю, как же все погано получается. Даже зацепиться практически не за что.
— Тактика Бергера, — помолчав, ответил Волков. — Его излюбленный прием. Понимаешь, тут два варианта: либо они нам суют прекрасную липу и делают все, чтобы мы не могли раскусить дезинформацию, либо действительно произошла у ник утечка и теперь они старательно замазывают дыру, скрывая прокол.
— Полагаешь, правда измена? — голос Павла Романовича напряженно дрогнул.
— Нам проверить надо, — вздохнул Антон. — Истина-то всего одна, двух быть не может! Чего сейчас гадать, работать будем. Но вот в том, что здесь Бергер руку приложил, сомнений нет. У него свои характерные привычки, он создает вокруг выжженную землю и делает это в любом случае. Лишает противника опоры, как ты правильно заметил, заставляет соваться в пустоту и, как хороший шахматист, видит на десяток ходов вперед. А Бютцов его ученик. Знаешь, я уверен, что поиск разведки принесет те же вести, как о деревне, где прятался Слобода. Поэтому нам нет смысла уходить с ними, а надо работать в городе.
— Что ты задумал? — приподнялся Семенов.
— Пока я вижу только один путь, — Волков свесил голову вниз, пытаясь разглядеть в темноте лицо Павла Романовича.
— Какой? — поторопил тот.
— Выкрасть Бергера или Бютцова!
— С ума сошел, — фыркнул Семенов, откидываясь на набитую сеном подушку.
— Подумай, — снова вытягиваясь во весь рост, усмехнулся Антон. — Свидетелей нет, есть только тот, кто принес нам данные, то есть Слобода, и те, от кого получил эти данные повешенный Сушков, — Бергер и Бютцов. Все промежуточные звенья ушли в небытие. Вот тут-то и играет тактика обер-фюрера: проверить ничего невозможно ни в первом случае, ни во втором, какую бы версию ты не начал активно прорабатывать. Я и подумал, что когда-нибудь он должен сам себе вырыть западню. Что нам остается, кроме как украсть учителя или ученика из черного ордена?
Внизу завозился Семенов, снова чиркнула спичка, я уже без тени насмешки Павел Романович ответил:
— Подумаю. По крайней мере, тут есть над чем поразмышлять.
Ласковый дождик тихо шелестел по листьям, рождая своим монотонным шепотом тревожное, щемящее чувство близких разлук. Редкие, невидимые в темноте капли падали с затянутого тучами неба и, соскальзывая с листьев клена — сочных, еще не успевших покрыться въедливей летней пылью, падали на лицо Козлова, снявшего фуражку и подставившего голову дождю.
Стоять бы так и стоять, ощущая на губах пресную влагу туч, вобравшую в себя запахи леса, травы, родного подмосковного неба, угасающего серого дня, полного забот и тревог, но все равно неповторимого, как каждый день твоей жизни. Так и чудится в каплях мед одуванчиков, будущее цветение липы и духмяный запах свежескошенного, сметанного в рыхлые копенки сена, вкус земляники и первых грибков. Ах, весна, дурманящая голову, молодая и прекрасная, зовущая куда-то в неведомые дали, манящая несбыточным и обещающая дать его тебе, — только послушайся, пойди за ней, и вот оно, счастье, ждущее за поворотом дороги, ну, если не за этим, то за следующим обязательно.
Зачем он, немолодой уже человек, поддался чувствам, вышел из автобуса пеленгатора и, держа в руке фуражку, встал под кленом, подняв к темному небу лицо? Какое колдовство природы заставило его забыть о возрасте и с замиранием сердца вслушиваться в мягкий шорох дождя?
Разве может сравниться с ним рокот прибоя теплых морей или ненатуральная яркость черноморской растительности с раскинувшими пальцы-листья пальмами я застывшими, как свечи, кипарисами? Нет в них ласки, нет, загадки, милой русскому сердцу, нет сладко щемящей боли, заставляющей сочиться из души светлые слезы умиления. Не сравнятся с родным дождичком ни могучие и мрачные горы, ни безмолвие вечных снегов, ни тревожные запахи степей с играющими под ветром волнами ковыля. Словно омывают редкие капли наросшую на душе за годы войны коросту, делая человека светлее и чище, проясняя мысли и вливая новые силы в усталое тело.
Николай Демьянович провел ладонью по лицу, стирая катившиеся по нему капли, и надел фуражку — как ни жаль расставаться с неуловимо быстро пролетевшими минутами отдыха, а надо.
Сунув руку в карман галифе, он хотел достать; папиросы, но потом раздумал — зачем портить возникшее в душе чувство и разбавлять ароматы леса табачным дымом? Сейчас опять возвращаться в прокуренный салон автобуса, видеть мигание сигнальных лампочек на панелях приборов, бледные лица радистов из службы радиоперехвата, напряженно прижимающих к ушам черные раковины наушников и вращающих торопливыми пальцами верньеры настройки, чтобы безошибочно поймать в эфире ускользающий с волны стук чужой морзянки.
Немецкая агентурная рация молчала долго, подозрительно долго, и уже высказывались предположения, что их спугнули и заставили перебраться в другое место или перейти на иные способы связи. Но Козлов был упорен, и пеленгаторы раз за разом встречали и провожали поезда на Урал. Однако рация столь же упорно не выходила в эфир.
Кривошеин работал с пришедшим в сознание раненым связником, уже почти вплотную подобравшись к затаившимся в городе немецким агентам, и готовился взять их, а здесь нашла коса на камень — связник знал человека с железной дороги только в лицо, а может быть, темнил, на что-то надеясь или страшась выдать своего убийцу. Ему показывали фотографии, называли имена, а он, отворачивая в сторону потную от слабости голову, только тихо отвечал: «Нет, не знаю, не знаком, не встречались…»
Продолжала дежурства служба пеленгации, продолжали работать сотрудники, продолжала молчать рация — ничего не дали проведенные под благовидными предлогами осмотры составов. Проверяли внезапно, без предупреждения, но…
Дождь неожиданно припустил сильнее, и Козлов, неуклюже перепрыгивая через начавшие вздуваться пузырями лужи, в которых отражалась тонкая полоска света, падающая из неплотно прикрытой двери фургона пеленгатора, заторопился к автобусу. Обдирая об ступеньки подножки налипшую на сапоги грязь, подумал, что весной голодно в деревне, особенно на оккупированной территории, и партизаны тоже наверняка голодают. А с ними семья, дети, табор беженцев, которых нельзя нигде оставить, поскольку не успеешь их пристроить в какой-нибудь деревушке, как тут же объявятся каратели.
Не бросишь же людей? Партизанская зона в районе Немежа мала, она словно пульсирует на карте, то сжимаясь, то расширяясь, когда немцы немного отступают, собираясь с силами для новых ударов по партизанам. Как там Волков и Семенов? Пришла шифротелеграмма, подтверждающая их благополучное прибытие в бригаду Чернова-Колесова, во это только начало их нелегкого пути во вражеском тылу, начало сложного дела, на которое отпущены считанные сутки.
В СД работают отнюдь не дураки — много умеют не хуже нас, многому обучены, многое знают. Старательно собирают даже одежду и чемоданы с вещами отправляемых в рейх, чтобы потом снабдить ими забрасываемых в наш тыл своих агентов или направляемых в партизанские отряды провокаторов. Успели за неполных два года войны обжиться на захваченной территории, где Советская власть была очень недолго в восемнадцатом году и в тридцать девятом, обросли осведомителями, затерроризировали население, установив драконовские порядки, создали разветвленную сеть спецслужб. Ох, и тяжко же придется ребятам.
Нырнув в душное тепло салона автобуса, Николай Демьянович скинул намокшую плащ-палатку и вопросительно поглядел на офицера службы радиоперехвата. Тот в ответ отрицательно мотнул головой.
Опять пройдет дежурство впустую? Опять из проходящего по спрятавшимся за лесопосадкой путям поезда с Урала не будут вести передачу? Где же они, эти чертовы немецкие агенты, не улетели же на небо, отрастив себе крылышки, или действительно правы скептики, не устающие твердить, что они ушли, забились в глухие щели и пережидают?
Нельзя, нельзя дать им уйти, спрятаться, затаиться — слишком много важных событий назревает, чтобы оставить в тылу, да еще рядом с Москвой такую мерзкую болячку. И надо срочно снять подозрение, что рация немцев, пока столь неуловимая, осуществляет связь заподозренного в измене с той стороной фронта.
Присев к маленькому столику Ковлов вытянул ноги и устало прикрыл глаза. Когда он сегодня ляжет немного поспать, если, конечно, это ему удастся сделать, то сниться будет лес с юной листвой и шлепающий по ней каплями ласковый дождь. Хорошо бы действительно увидать такой сон, мысленно вернувшись сюда.
Почувствовав движение в салоне, он открыл глаза — радист, с напряженной от волнения спиной, отрывисто, хриплым, осевшим голосом бросал цифры пеленга. За оконцами автобуса, скрытый лесопосадкой, глухо громыхал на перегоне поезд с Урала. Неужели наконец-то есть?!
Да, все правильно — медленно ползут по специальному планшету тонкие красные нити, ловя, как в перекрестье прицела, вражескую рацию. Вот они сошлись и сомнений больше нет — передача велась именно из этого поезда. Все!
Сейчас в Центр уйдет короткая радиограмма. Поезд встретят неприметные в толпе люди, возьмут под наблюдение каждого члена поездной бригады и больше не отпустят от себя ни на минуту — надо знать точно, где они живут, с кем общаются, встречаются, как проводят время, а потом наступит и самый ответственный момент — задержание вражеских агентов.
Выскочив из автобуса под дождь, Козлов, ломая спички от волнения и дрожи в руках, прикурил, выпустил дым в сторону невидимой в темноте железной дороги. Ему хотелось петь, пуститься вприсядку, кричать на весь подмосковный лес о своей удаче. Нет, об их общей удаче! Он выиграл поединок нервов и терпения.
Но вместо криков, пляски и пения, он стоял, не чувствуя, как намокает гимнастерка, и жадно затягивался, пряча огонек папиросы в кулаке. Курил, мок и тихо улыбался в ответ на свои мысли, как улыбаются мастеровые, закончившие сложную работу.
Сон бежал от Ермакова. Ворочаясь на жесткой солдатской койке и безуспешно пытаясь считать баранов, перепрыгивающих через изгородь из жердей, он заставлял себя не думать ни о чем. Натянув почти до самого подбородка колючее шерстяное одеяло, Алексей Емельянович на некоторое время смежил веки. И тут же провалился в забытье, которое только с огромной натяжкой можно посчитать сном, — так, непонятный пунктир полудремы и бодрствования, но и то успели пригрезиться кошмары, свивающиеся и развивающиеся кольцами туманностей галактики, сжимающиеся в тугой, почему-то разноцветный кокон, потом темнота с радужными разводами и вновь непонятные спирали.
Буквально вылезая из этих сновидений, он вытирал ладонью холодный пот на лбу, чувствуя, как неровными толчками, отдаваясь болью под левой лопаткой, бьется сердце. Виски ломило, сушило во рту, давило в ушах, как при перепадах давления, и всегда такое послушное тело казалось слабым и немощным, словно он прожил на свете невообразимое число лет и несказанно устал от этого, мечтая только об одном — более не двигаться, ничего не желать, отрешиться от любых забот и печалей.
«Не хватало еще заболеть, — тревожно подумал Алексей Емельянович, нашаривая на тумбочке рядом с кроватью будильник. — Расклеишься, выпустишь из рук вожжи, а их тут же подхватят».
Не зажигая света, он попытался разглядеть который час. Будильник в руке тикал успокаивающе мирно, совсем по-домашнему, мерно отсчитывая время. Стрелки показывали два.
«Тикает машинка, жизнь провожает, — ставя будильник на место, усмехнулся генерал. — Сколько их, разных часов, вот так же сейчас равнодушно тикают? И наше время проходит, проходит, проходит… А мы узурпируем право распоряжаться чужими жизнями, диктовать свои условия. Но жизнь-то у каждого одна и неужели никогда люди не смогут понять, что распоряжаться ею каждый должен сам по своему усмотрению? Долг? Конечно, существует и долг, когда надо оградить жизнь других людей от безумца или грозящего им гибелью врага, а паче того, от подлого изменника, но… Не вторгаемся ли мы, грубо и безапелляционно в чужие жизни, заставляя любить и ненавидеть то, что считается общепринятым по приказу свыше, исходящему от забравшихся на более высокие ступеньки лестницы людей? Лестница эта придумана и создана в незапамятные времена, только названия у нее разные, а суть одна — власть над другими людьми. И где точный критерий оценки праведности принимаемых там, на высоких ступенях, решений?»
Вспомнилось, как во время гражданской он, с замиранием сердца, слушал выступление молоденькой агитаторши, рассказывавшей о Парижской коммуне. Тогда просто бредили ею, обожествляли ее героев, стремились во всем «походить на них. И только потом, спустя много лет, он понял, что не все в опыте той, первой поднявшей знамя красного цвета маленькой республики приемлемо для огромной, свергнувшей самодержавие России. Париж всего лишь город, его проблемы и опыт революционной борьбы нельзя искусственно «пересадить» на другую почву, как некоторые пытались это сделать, — иное время, люди, историческая обстановка и даже опыт вооруженной борьбы иной.
Но параллели истории тянут, никуда не деться — вспомним хотя бы терминологию великой французской революции: «друг народа Марат», «гражданин», «комиссар» и страшное в своем сочетании понятие «враг народа». Не оттуда ли, не из той ли кровавой и романтичной эпохи, перешло оно в день сегодняшний, приобретя иной, еще более зловещий смысл? Кто действительный друг народа и кто его враг? Как оценить постановление тридцать пятого года, позволившее привлекать к уголовной ответственности и ¡применять смертную казнь к несовершеннолетним и беременным женщинам? Неужели товарищ Сталин об этом не знает?! Ведь он сам отец, потерявший на войне сына, попавшего в немецкий плен!
Осенью сорок первого немцы сбрасывали на Москву с самолетов не только бомбы, но и листовки с фотографиями Якова Джугашвили — с почерневшим лицом, в гимнастерке без ремня и петлиц, похудевшего, с ввалившимися глазами. Помнится, Алексей Емельянович долго рассматривал одну из таких листовок, изучая ее чуть ли не с лупой и надеясь отыскать признаки фальшивки. Но нет, не узнать Якова, незадолго до войны ставшего артиллеристом, было нельзя.
Так неужели сердце отца ни разу не дрогнуло? Неужели ему не стали более понятны страдания других родителей, потерявших на войне своих детей? Неужели ни разу не стало жаль самих детей, в том числе детей «врагов народа»? Неужели все заслонили цифры своих потерь и потерь противника — десять тысяч там, пять тут, корпус туда, армию сюда? Или вождь не должен знать, что такое человеческая слабость и гуманность?
А другие, взиравшие на происходящее вокруг с бесстрастней монгольских завоевателей времен Бзтыя и Чингиза? Не успев после гражданской сменить пропотелые гимнастерки на тройки советского пошива и рубашки с галстуками, они вскоре с легкостью переоделись в глухие полувоенные френчи, как бы признавая и безоговорочно поддерживая переход от одной политики к другой, голосуя за возврат к диктату военного времени и новому превращению страны в военный лагерь. Не от давнего ли татаро-монгольского ига идет нить к самодержавцам и кумирам, равнодушно взирающим на муки подчиненного им народа?!
Так кого и что защищает он, чекист Ермаков? Приятное вождю бездумное скольжение взглядов затянутых во френчи людей, их сытую и холодную имитацию демократии, которая, в конечном счете, обернулась смертью для многих честных людей, таких, как Думен-ко, Примаков, Миронов, Якир, Тухачевский, Блюхер, Киров, Горький, Кедров, Пиляр, Вавилов, Артузов и тысячи других? Или он, все же верный традициям и заветам Феликса Дзержинского, охраняет народ? Пусть как может, насколько хватает сил, но бережет его в тяжкую годину от врага!..
С трудом сев, он нащупал на тумбочке пузырек с сердечными каплями. Не зажигая света, плеснул в стакан, долил воды и залпом выпил. Посидел, с недоверием прислушиваясь к своим ощущениям, — как там, внутри, отпускает или нет? — потом снова лег, услышав жалобный писк пружин под его плотным телом. Потихоньку отступила, стушевалась боль под лопаткой, легче стало голове и прекратилось противное давление в ушах, словно вытащили, наконец-то, из них чужие пальцы, тыкавшие в барабанные перепонки.
Когда же рассвет!? Зима прошла, ночи стали короче, а до света все равно так долго, и устаешь ждать, когда вновь темнота сменится ярким солнцем или, по крайней мере, наступит хотя бы серенький дождливый день. Полный хлопот и забот, он готов загнать вглубь ночные думы — невеселые и страшные. И жена далеко, нет тепла семейного очага, нельзя вечером или утром провести ладонью по теплым мягким волосам дочери, словно черпая в этом прикосновении новые силы.
Да, жена далеко, уехала еще в сорок первом вместе с дочерью в эвакуацию. Ермаков всегда считал, что ему повезло с семьей, — дома его любили, уважали, умели успокоить и ободрить, ни о чем не расспрашивай и делая это как-то очень деликатно и незаметно. Женился он вскоре после гражданской на молоденькой учительнице из Питера. Нравилась она ему своими белоснежными блузками, тяжелым пучком рыжеватых волос, собранных на затылке, прямой и тонкой фигуркой, серьезностью. Пугала, правда, некоторая холодность по отношению к нему, считавшему себя превзошедшим все и вся, лихому рубаке, вдосталь успевшему намахаться клинком и уже командовавшему эскадроном.
Жили в маленькой комнатушке вместе с тещей — сухой и чопорной старухой, педантичной и аккуратной. Тогда она ему казалась старухой, а сейчас он почти одного возраста с покойной матерью своей жены. Как они, бывало, спорили! Однажды он увидел на столе записку — приходил из полка поздно, частенько за полночь, ел и заваливался спать, безбожно уставая и небрежно отодвигая в сторону приготовленные для него женой книги. «Вы никогда не станете генералом», — написала теща. И тогда он, обозлясь, через весь клочок бумаги черкнул ответ синим карандашом: «Нет, буду!».
Слово привык держать, пришлось читать, учиться, долбить проклятые иностранные языки, стиснув зубы обливаться по ночам ледяной водой, чтобы не заснуть над учебниками, а в голове сидела мысль: другие же смогли, чем я хуже? И смог! Добился всего сам, а еще старался уделить хоть немного времени маленькой дочке, наладить быт при переездах из гарнизона в гарнизон. Потом начал служить в разведке, и теща успела при жизни увидеть на его петлицах генеральские звезды.
Холодность жены? Можно считать, ее и не было — просто он тогда не совсем мог понять свою Веру, принимая за холодность ее стыдливость и природную сдержанность на людях. Став генералом, он прямо сказал жене, что без нее ему не удалось бы достичь высокого звания. Нет, возможно и дослужился бы, но не так скоро.
Где теперь, когда семья далеко, найти отдых душе, где отыскать для нее ласку, тепло и уют? Какое счастье, что жена и дочь не поехали перед войной в Ленинград; Вере хотелось побывать в городе своего детства, пожить там у родных во время отпуска, как раз в конце июня сорок первого, после выпуска учащихся из школ, — белые ночи, гранит набережных, Эрмитаж…
Может, недоглядели где-то раньше, не приняли всерьез угрозу фашизма? Николай Иванович Бухарин, которого Ермаков знал как редактора «Правды» и всегда считал мягким, обаятельным и высокоинтеллектуальным человеком, еще на XVII съезде партии в тридцать четвертом году резко выступил против оценки, данной фашизму Сталиным. Говоря о книгах Гитлера «Майн кампф» Гитлера и «Будущий путь германской внешней политики», он доказал, что фюрер открыто призывает разбить наше государство, открыто ведет к приобретению мечом якобы необходимой для германского народа территории и тех земель, которыми обладает СССР.
Однако Сталин не согласился с этой оценкой — он уже перестал слышать голоса дискутирующих с ним, опьяненный победой над Троцким, и торопил приближение нового этапа, когда в его руках сосредоточится неограниченная, неконтролируемая власть, дающая пьянящее чувство вседозволенности и непогрешимости, когда не перед кем оправдываться за свои действия, когда постепенно превращаешься в живого бога на земле.
От таких мыслей — страшных и жутких в своем провидении — генералу стало жарко и маятно. И поговорить-то, посоветоваться не с кем! Кому доверишь такие мысли, разве только подушке, да и то с опаской — разве может вождь трудящихся Сталин хоть в чем-нибудь, хоть когда-нибудь ошибаться? Нет, лучше держать ночные сомнения при себе.
Но из темноты, как живое, выплыло и встало перед ним лицо Якова Джугашвили на фотографии о немецкой листовки…
Нет, не отдаст он так просто командующего фронтом. Не может Сталин не понять, не проникнуться трагизмом положения, когда над крупным и талантливым военачальником повисает страшное обвинение в измене своему народу, своей армии. Ведь все верят Сталину и он должен верить тем, кто сражается на фронтах и трудится в тылу. И прочь, прочь гнать от себя страшные крамольные мысли.
Если вдруг случится ужасное, постигнет неудача Волкова и Семенова, надо найти другие пути. Впрочем, об этом стоит подумать заранее, не откладывая на потом, чтобы не метаться в поисках выхода, испытывая жесткий недостаток времени, — сутки, отведенные Верховным на проведение операции, неумолимо проходят.
Еще надо обдумать, как быть с проклятым рапортом о связи майора Волкова с Антониной Сушковой. Вот еще незадачка! Угораздило парня влюбиться в самый неподходящий момент и в самую неподходящую девушку. Хотя кто может точно знать в жизни, что подходит, а что нет? Стоит попробовать им помочь, если, конечно, удастся.
Сколько там натикало? Ого, уже четыре. Поспать остается час-полтора, если сможешь забыться…
Глава 3
Ближе к сумеркам Колесов привел к землянке чекистов троих разведчиков: высокого, сутуловатого мужчину с вислыми, прокуренными усами на скуластом лице, молодого парня в трофейной немецкой пилотке с козырьком «мюце» и мальчишку лет двенадцати, одетого в красноармейскую шинель с обрезанными почти до хлястика полами и подпоясанную немецким офицерским ремнем с большой желтой кобурой парабеллума.
Все собравшиеся в землянке при свете фонаря склонились над картой — Колесов показывал маршрут движения группы к городу. Идти он предлагал уже испытанным путем, через минные поля, чтобы избежать проверок на дорогах и связанных с этим обстоятельством нежелательных осложнений, — минные поля немцев представлялись ему более безопасными, чем частые заставы полицаев и патрули фельджандармов.
Ведя по карте остро отточенным карандашом, он объяснил, что сначала подбросят на телеге по лесу, потом надо проехать несколько километров по дороге и снова свернуть в лес. Когда до Немежа останется порядка семи — восьми верст, придется топать пешком, как раз через заминированные участки, — с этой стороны немцы не охраняют подступы к городу — голое поле и мины, но разведчики там уже не раз проходили, и все кончалось удачно. Сразу за полем начинаются заросшие вереском балки и хибары окраины, можно пересидеть до света и оттуда направиться на явку, где будут ждать прибытия гостей из леса. За ночь должны управиться.
— Лучшего маршрута, предложить не могу, — сворачивая карту, поджал губы начальник разведки, — и так голову сломали, чтобы придумать, как вас доставить. Надежных документов скоро не добыть, меняют их частенько, время жмет, немец на дорогах лютует, поэтому выбрали этот путь. Пойдете?
Семенов в ответ только крякнул и начал собираться…
Ночь выдалась ясной; высоко над елями, росшими по краям узкой лесной дороги, висели мелкие, холодные звезды, запутавшиеся в пушистых ветвях, покрывшихся на концах нежной, молодой хвоей. Почти бесшумно ступали по земле обернутые тряпками и овчиной копыта лошади, запряженной в телегу с обильно смазанными втулками колес, подпрыгивавших на корнях и выбоинах. Ехали молча, настороженно глядя по сторонам, пытаясь разглядеть, не притаился ли кто в темноте окружавшего их леса — немцы формировали ягдкоманды и выплачивали вознаграждение за голову каждого убитого. партизана. Иногда, снайперы, из ягдкоманд прятались на деревьях, росших у опушек, и подстерегали свои жертвы, терпеливо выжидая сутки напролет, — услышат шум едущей повозки и выпустят пулю, прилетит из мрака кусочек свинца, отлитый в коническую форму в далекой стране, оборвет чью-то жизнь или ранит.
Выехали к казавшейся серой в ночной темноте проселочной дороге — за время сухих погожих дней она уже успела покрыться тонкой, как пудра, белесой пылью, выглядевшей сейчас, при свете звезд, бесконечно длинным и узким покрывалом из застиранного добела брезента, брошенным на прогалину между деревьями.
Тихо вокруг, только покрикивает в кустах невидимая птица — тревожно бередя сердце протяжным, скрипучим стоном, навевающим дурные мысли. Лес на той стороне дороги будто вымазан смолой — черный, мрачный, загадочный.
Молодой разведчик в немецкой пилотке соскочил с телеги, ступая по-кошачьи бесшумно, прошел вперед, выставив перед собой ствол шмайссера. Вот он выбрался на полотно проселка, подняв стоптанными сапогами облачко серебристой пыли, постоял, оглядываясь по сторонам, и призывно взмахнул рукой — путь свободен.
— Н-но! — причмокнул губами усатый возница, понукая лошадь. — Пошла, холера!
Мягко перекатившись через неглубокий кювет, телега выползла на дорогу, и опять застучали глухие шлепки обмотанных тряпьем и овчиной копыт.
Звезды наверху изменили положение — близилась середина ночи. Антону хотелось закурить, лечь на дно телеги и глядеть в небо, не думая ни о чем, забыв про тревожные крики птицы, укрывшейся в густых зарослях, про вновь занывшую рану на спине — к погоде, что ли, беспокоит? Или, может быть, натрясло дорогой?
Усатый партизан погонял и погонял лошаденку, стремясь скорее проскочить опасный участок пути. Хлопали по потной спине истощенной кобылки веревочные вожжи — ременные сварили в котлах и съели зимой, когда плотно обложили в лесу каратели, месяцами не давая высунуться ни к одной из близлежащих деревень. Медленно плыли назад звезды над головой, сурово молчал лес по обочинам, и тишину нарушали только тонкий скрип телеги да диковинные матерные выверты, которыми возница сквозь зубы подбадривал ко всему привычную клячу.
— Скоро уже, — наклонившись к Семенову, свистящим шепотом сообщил молодой партизан, — сейчас свернем.
Павел Романович кивнул и пришлепнул севшего на щеку комара.
Занявший рядом с ним место мальчишка дремал, уронив голову на грудь, и часто вздрагивал, видимо, ему снилось что-то нехорошее. Что, кроме войны, могло сниться пацану, успевшему узнать голод и холод, вой самолетов и треск автоматов карателей, вонючую болотную жижу до ноздрей, гарь пожарищ спаленных деревень и маленькие лесные погосты, позабывшему тепло и уют родной хаты, привыкшему вместо школы отправляться на смертельные минные поля, совсем не для того, чтобы собирать на них оставшиеся колоски. Он сам мог стать в любой момент безжалостно срубленным колоском на кровавой жатве войны.
Кобыленка заметно приустала и, снова свернув в лес, несмотря на все понукания усача, шла только шагом. Пришлось соскочить с телеги, давая лошади отдых. В темноте ноги никак не могли нащупать лесную дорогу и спотыкались о коряги, поэтому все держались за дощатый борт телеги, рискуя занозить ладонь или палец. Вокруг все так же тихо, только тянет сыростью от недалекого болота да больше стало комаров.
Вскоре остановились. Потягиваясь и зевая, слез с телеги дремавший мальчик, поеживаясь от стылой ночной прохлады леса, походил по краю дороги, отыскивая тропку. Нашел и остановился под кустом, почти слившись с чернотой леса.
— Бывайте, — пожал уходившим руку усатый партизан. Он оставался ждать возвращения разведчиков, которым предстояло доставить в город Антона и Семенова.
«Человек ко всему привыкает, — шагая следом за мальчиком по петлявшей в темноте тропке, подумал Волков. — «Бывайте» — и все. Зачем тратить лишние слова, когда и так ясно, куда отправляются люди? Как мы, оставшиеся в своем тылу, сможем потом понять и оценить мужество оставшихся в тылу врага? Оставшихся практически безоружными, страдающих от кровавых поносов, вызванных питанием содранной с деревьев истолченной корой. Не имеющие нормального крова над головой и ни минуты покоя, они находят в себе силы воевать. Может ли привыкнуть к такому человек?»
Тропинка незаметно вывела на край поля, уходившего в черноту ночи, озаряемую далекими вспышками ракет.
— Фрицы пуляют, — сиплым, совершенно не детским голосом пояснил мальчишка. — Там, на другой стороне, у них склады. Вон, глядите.
Он показал на белевшее посреди поля пятно. Антон, напрягая зрение, попытался рассмотреть, что же это такое?
— Коровьи кости, — сдвигая на спину кобуру парабеллума, сплюнул подросток. — Забрела на мины прошлым летом. На нее и поползем.
Парень в немецкой пилотке отыскал загодя спрятанные в кустах связки тонких, ошкуренных прутиков, чтобы обозначить ими разминированную дорожку. Подтянул пояс брюк и улыбнулся?
— Ну, пошли, что ли? Петька, — он кивнул на мальчика, — первым, потом я, а вы за мной. Мы с Петром меняться будем, а вы ни на шаг в сторону, а то сразу со святыми упокой. Ясно? Когда ракета взлетит — замрите. На той стороне постов нет, проверено. Как пройдем через поле, Петро выведет на явку, а я останусь его ждать. Связь через почтовый ящик.
— Сколько тут? — пытаясь разглядеть дальний конец поля, за которым должны стоять домишки предместья, погруженные в темноту и сон, поинтересовался Павел Романович.
— Почти три версты на пузе, — поудобнее перехватывая щуп, отозвался мальчик. — До коровки мы уже разминировали.
Отыскав свои вешки, он, крадучись, сделал несколько шагов, потом лег на стылую землю и пополз. Следом за ним отправился молодой разведчик, потом пополз Семенов. Антон оказался замыкающим.
Давно не паханная почва казалась твердокаменной, резали руки спутанные стебли перезимовавшей под снегом прошлогодней травы, то и дело на пути попадались комья сухой земли, обрывки проволоки и поржавелые стреляные гильзы — наверное в сорок первом здесь шел сильный бой.
Время от времени в черноту неба врезались вспышки немецких осветительных ракет. И тогда, уткнувшись носом в пахнущую горькой полынью и пылью землю, приходилось замирать, пережидая, пока потухнет мертвенный бело-зеленый свет и вернется спасительная темнота. Неожиданно после одной из очередных ракет со стороны города ударил пулемет — трассирующие очереди МГ жуткими светляками уносились в сторону леса. Вжавшись в широкую грудь поля, Антон молил всех богов, чтобы немцы их не заметили, — пока пулеметчик бил явно не прицельно, беспорядочно поливая огнем различные участки заминированного пространства. Что стоит ему взять немного ниже — и тогда…
Так же неожиданно, как начался, пулеметный обстрел прекратился. Молодой разведчик, напряженно сопя, переполз вперед по спине Петьки, сменяя его. Рядом в темноте белели широкие, выбеленные ветром и дождями кости коровьего скелета и казавшийся огромным череп с оскаленными крупными зубами. Воронье давно расклевало остатки мяса, и теперь скелет чьей-то кормилицы, сиротливо продуваемый всеми ветрами, служил партизанским минерам и пулеметчикам немцев страшным ориентиром.
— Боятся, гады, — оплевывая набившуюся в рот пыль, повернулся к Семенову Петька. — Еще, бывает, прожектор включают.
— Нам только прожектора не хватает, — зло буркнул Павел Романович.
— Ниче, немножко осталося, — заверил мальчик.
Вскоре наткнулись на первую мину. Сдвинув на затылок трофейную пилотку, партизанский разведчик осторожно начал разгребать вокруг нее неподатливую землю. Антон перевернулся на спину и стал смотреть в небо, стараясь не думать о притаившейся в непаханной земле смерти.
— Наша, — шепнул разведчик. — Свои, видно, для других приберегли. Вы это, отползайте назад, когда мина.
— Ладно, поторапливаться надо, — проворчал Семенов. — Светает скоро, а мы тут как на ладони.
— Успеем, — успокоил Петька. — Они больше у леса натыкали.
Еще четырежды приходилось пережидать, пока разминируют дорогу. Одну мину обезвредил мальчик, вновь сменивший напарника. На счастье, эта мина оказалась последней.
Выползли к полотну грунтовой дороги, идущей вдоль поля со стороны городка, и долго лежали, прислушиваясь. От складов снова застрочил пулемет, вспыхнул прожектор, жадно шаря по полю. Засветились в его луче, кости коровьего скелета, и луч тут же, уполз в сторону, словно испугавшись и не желая лизать своим голубым, дымящимся языком белые голые ребра.
— За дорогой овражек, потом хибары, — приблизив голову к Антону, шептал молодой разведчик. — Петька тут каждый закоулок знает. Двигайте за ним, я останусь. Не задерживайтесь, нам до света вернуться надо.
Молча пожав ему на прощание руку, Семенов и Волков, пригибаясь, перебежали через полотно дороги и спустились в неглубокий овражек.
Мальчик уверенно повел их по его дну, усеянному камнями. Через несколько минут выбрались на противоположный склон, нырнули в темень между покосившимися заборами. В нос ударили запахи отбросов, далеко вокруг распространявших зловоние.
— Немцы сюда не суются, — на ходу пояснил Петька, — не любят запаха. Дерьмо заставляют свозить со всего города, уборные чистить.
Перелезли через плетень, проскочили чьим-то двором, снова преодолели плетень и оказались на узкой улочке, тесно застроенной низкими домишками. В окнах — ни огонька.
— Живей, живей, — подгонял мальчик.
Дошли до перекрестка, свернули в переулок, потом в другой. Снова запутанные дворы, деревянные будочки туалетов, сарайчики, изгороди. Как в этом лабиринте Петя находил дорогу, да еще в темноте, оставалось загадкой — наверное, действительно бывал здесь не раз и мог пройти с завязанными глазами.
Наконец остановились у одного из домов: мальчик постучал в темное окно. Бледным пятном мелькнуло за стеклом чье-то лицо и исчезло, стукнула щеколда, открылась дверь:
— Кто тут? — спросил женский голос.
— Дядьки Осипа племянник, — ответил мальчик. — Мать гороху просила.
— Сами на овсе сидим, если не побрезгуете, поделимся… Проходите.
Вошли в темные сени. Хлопнула, закрываясь, дверь, открылась другая, ведущая в освещенную коптилкой комнату с завешенными окнами. Петре смело шагнул за порог и поздоровался с сидевшим у стола мужчиной.
— Здрасьте, дядя Осип.
Антон огляделся. Убогая обстановка, давно небеленая печь, около которой встала средних лет женщина в цветастом, застиранном переднике, приоткрытая дверь в соседнюю комнату с железной кроватью под лоскутным одеялом. За столом — мужчина с бородкой. Гладко зачесанные назад волосы, худощавый, на вид — лет пятьдесят. Одет просто: поношенная пара и темная рубаха.
— Ждем, — мужчина встал, поздоровался, подав крепкую шершавую ладонь. — Располагайтесь. Это жена моя Елизавета Петровна, а я Осип Герасимович.
Петька подошел к чекистам, по-взрослому подал руку и, пожелав удачи, ушел. Волков заметил, как, провожая его, хозяйка почти силком втиснула в карман мальчика какой-то сверточек, — хлеб, наверное.
— Вот, тут и поживете, — шире раскрыв дверь во вторую комнату, хозяин показывал на кровать и топчан. — Автоматики ваши лучше припрятать от греха подальше. Окно в сад, за забором овраги, утречком осмотритесь. Есть у нас чердак, с него замок хорошо видно.
— Это дело, — одобрил Семенов, вешая на гвоздь ватник. — Как с документами?
— Есть для вас два аусвайса, настоящие, — Осип Герасимович подал им серо-зеленоватые книжицы в орлом и свастикой на обложках. — Город знаете?
— Только по планам, — не стал скрывать Антон.
— Поправимое дело, — улыбнулся хозяин. — По одному выведу и покажу все проходные дворы. Немеж не Минск, освоитесь быстро, но зря на улицах мелькать не стоит. Курите? Тогда пожалуйста, я сам курящий. Если что надо передать на маячок, то в первое время лучше через меня или Лизавета сходит.
— Ясно, — Семенов сел на кровать и начал стягивать с ног сапоги. — Как соседи ваши, любопытные?
— Таракановка, — усмехнулся Осип. — Так поселочек наш прозвали. Всякие люди живут, но в основном хорошие. Думаю, неприятностей не будет — люд бедный, при панах голодовали, перебивались случайными заработками, извозом занимались, а теперь, почитай, одни старухи. Немцы и полицаи навещают нас редко, не нравится им соседство с выгребными ямами, а мы не жалуемся. Так что отдохните пока, а потом покалякаем.
— Второй выход есть? — устраиваясь на топчане, спросил Антон.
— По чердаку можно пройти на сеновал, а оттуда спрыгнуть на соседнюю улицу. Покойной ночи.
Хозяин вышел, притворив дверь. Лежа, Волков полистал аусвайс на имя Станислава Бранкевича, сорока лет, уроженца города Минска, поляка по национальности, коммерсанта. Утром надо начинать работу. Хотя начали ее уже давно, еще до вылета сюда.
Осип Герасимович ему понравился — не суетливый, обстоятельный, чем-то похож на школьного учителя. Колесов, помнится, говорил, что это самая надежная явка, долго находившаяся на консервации. Поглядим.
Задув коптилку, он долго лежал в темноте. Притихли за стеной хозяева, тихо дышал задремавший Семенов, и Антов боялся потревожить его неосторожным движением или скрипом топчана — Павел Романович спал очень чутко.
Вот они и в Немеже. Совсем рядом, буквально в каком-то километре от них, спят в своих постелях оберфюрер Бергер и фон Бютцов, где-то тут высится мрачной громадой тюрьма СД, в которой сидели в камере смертников переводчик Сушков, работавший у немцев по заданию партизан, и Семен Слобода. Здесь должна быть рвзгадана тайна его побега со станции и окончательно решек вопрос об обвинении в измене командующего фронтом.
«Ну, что же, начнем путь по дороге, на которой не осталось следов», — подумал Волков, закрывая глаза.
К парикмахерской, где работала Нина, Антон пришел во второй половике дня. Побродив по улицам, убедился, что за ним никто не увязался, и пару раз прогулялся мимо парикмахерской, выжидая, пока ее покинет сидевший в кресле клиент.
Нину он узнал по описаниям Колесова и Осипа — высокая, чернявая, с тонкими чертами лица, она, наверное, нравилась многим мужчинам. Кресло, которое она обслуживала стояло у окна, и, проходя мимо, Антон слышал, как Нина смеялась в ответ на незамысловатые комплименты клиента — пожилого усача с красным лицом. Завтра приходить сюда не имело смысла — через день парикмахерша работала на немецком аэродроме.
Дождавшись, пока усач расплатится и уйдет, Волков вошел в парикмахерскую. В теской прихожей никого, в маленьком зале стояло два кресла — оба свободны. Нина заметала волосы с пола, второго мастера не было — сегодня его очередь брить немецких асов.
Усевшись в кресло, Антон посмотрел на себя в большое, чуть зеленоватое зеркало. Ничего. Правда, плохо выбрит.
— Что пан желает? — встряхивая салфетку, спросила девушка.
— Побриться.
Она укутал» его простыней, подложила под подбородок свежую салфетку в начала взбивать пену в маленьком тазике.
— Вам привет от отца, — глядя на Нину через зеркало, тихо сказал Волков.
Она слегка вздрогнула, но тут же овладела собой в, чуть улыбнувшись, ответила на пароль:
— Он еще меня помнит? Лучше бы прислал денег.
— Сам нуждается, надеется на вашу помощь.
Легкими движениями она начала намыливать щеки сидевшего в кресле Антона, внимательно разглядывая его.
— Вас надо постричь, — негромко сказала Нина. — Стрижка немецкая, а местные таких не носят.
— Я мог постричься у немецкого парикмахера? — уточнил Волков.
— Нет, — горько усмехнулась она, — там только для немцев. Я поправлю?
— Если можно, — попросил Антон. — Где бы мы могли спокойно поговорить?
— Здесь никого, говорите, — она ловко водила по его щекам бритвой, потом начала щелкать ножницами, поправляя стрижку на затылке.
— Лучше все же не здесь, — настаивал Волков: ему не хотелось долго задерживаться в парикмахерской. В любой момент может появиться новый клиент и разговор придется прервать. К тому же, нет гарантии, что никто не войдет в зал ожидания и не притаится там, подслушивая их, — двери открыты, окна тоже, на улице ходят люди и неизвестно, что они собой представляют. И потом, стоит поглядеть, не тянется ли за Ниной хвост?
— Хорошо, — согласилась она. — Знаете, где я живу?
— Да, но дома тоже не очень удобно. Лучше я вас встречу по дороге. Договорились? Кстати, что есть примечательного у вашего родителя?
Это был контрольный вопрос, и он задал его, чтобы она немного успокоилась и больше доверяла неожиданно появившемуся незнакомцу с немецкой стрижкой. Надо же было там, в Москве, не предусмотреть этого?!
— Бородавка под глазом, — Нина испытующе поглядела на него.
— Вот тут, — правильно поняв ее взгляд, показал он и заметил, как она украдкой облегченно вздохнула. — Возьмите.
Положив на подзеркальник деньги, он вышел. В его распоряжении остался час. Немеж не Минск, не Варшава, не Париж — здесь нет толпы прохожих на улицах, нет метро, нет… Впрочем, зачем думать о том, чего здесь нет? Лучше решить, где ждать Нину, — у костела, у парка рядом о дорогой к замку, на торговой площади о ее старыми рядами? Площадь хороша тем, что там всегда довольно многолюдно, как на любом торжище, даже ближе к вечеру, но среди прохожих может затеряться соглядатай. С этой точки зрения, ждать у костела или у парка предпочтительнее. Хотя парк тоже отпадает — не стоит маячить около дороги, ведущей в резиденцию Бютцова и Бергера.
Итак, остается костел. Можно зайти в него и, найдя местечко на задних скамьях, переговорить — идет вечерняя служба, прихожане тянутся к храму и появление Волкова не вызовет излишних подозрений. Тем более, возвращаясь домой, Нина никак не минует костел святой Терезы. Костелов в городе несколько, но этот немного в стороне от центра, — осваиваясь в городе, Антон успел побывать в нем, а уже знакомое место придает некоторую уверенность.
Прогулявшись до костела святой Терезы — темного, с двумя островерхими башенками, украшенными замысловатыми шпилями, — Волков вернулся к парикмахерской и, заняв позицию в чахлом садике, начал ждать.
Вскоре вышла Нина, опустила на окна жалюзи, потом тщательно заперла дверь и не спеша пошла по улице. Провожая ее глазами, Антон внимательно рассматривал других прохожих: старуха с кошелкой, подросток, еще старуха — вряд ли это сотрудники немецких спецслужб. А вот молодая женщина вызывает подозрение. Но нет, она не пошла за парикмахершей, а свернула на другую улицу.
Оставив садик, он через проходные дворы и затхлые узкие переулки быстро выбрался к облюбованному месту у костела. Вовремя — вдалеке показалась знакомая фигура. Вроде бы за ней все так же никого, да и он, похоже, свободен, от назойливого чужого любопытства. Дождавшись, пока девушка увидит его, Волков вошел в храм. Внутри было сумрачно и прохладно, редкие в такое время прихожане сидели на первых скамьях, и никто из них даже не повернул головы, услышав стук двери. Служба еще не началась. Оглядевшись, Антон направился к задним скамьям.
Через несколько минут появилась Нина. Словно в нерешительности, она остановилась в проходе между длинными рядами темных скамей, как бы раздумывая, где ей устроиться для беседы с всевышним.
— Сядьте впереди меня, — шепотам приказал ей Волков.
Подождав, пока она устроится, он опросил:
— Есть подходы к немцам?
— Только механик… Словак Ярослав Томашевич, — не оборачиваясь, ответила Нина. — Надежен, дружит с немецкими пилотами, пользуется доверием начальства.
— Ухаживает? — прямо спросил Волков.
— Да, — прошелестела она.
— Откуда он родам?
— Из Прешова, в восточной Словакии. Дает интересные сведения. Возможно догадывается, куда и для кого, но ничего не спрашивает. Немцев не любит. Очень, — помолчав, добавила Нина.
Антон, размышляя, откинулся на спинку скамьи — словак с аэродрома, конечно, кое-что, но не то, что надо сейчас. Впрочем, попробуем потянуть и за эту нитку, поскольку иных пока все равно в руках нет, а время неумолимо идет.
— Часто видитесь с ним? — немного наклонившись вперед, шепнул он.
— Через день. Когда он бывает в городе, заходит. Думаю, он согласится вам помочь.
— В чем? — насторожился Волков. Он ничего не говорил о своих делах, почему Нина высказывает такую уверенность?
— Ну, я не знаю…
— Ладно, — буркнул Антон, — подумаем. Меня не ищите, найду сам. Пока работайте с механиком, проверяйте, готовьте к неожиданной встрече: я скажу, когда и где мы увидимся. Кроме летчиков, других немцев обслуживаете?
— Нет, но бывают в парикмахерской солдаты и местные, связанные с немцами. Те требуют стричь бесплатно.
— Кто именно? — заинтересовался Волков. — Откуда? Из гражданской администрации?
— Больше из гражданской, но изредка бывают и те, кто работает с военными. Местных по немецким меркам не обслуживают. Кто конкретно вас интересует?
— Имеющие доступ к замку, — майор — склонился почти к ее уху, прикрытому локонами темных, подвитых волос. — Там госпиталь люфтваффе, ваш Ярослав мог бы указать пути подхода туда?
— Я поговорю, — пообещала Нина.
— Останьтесь еще минут на десять, — вставая, приказал Антон. — До встречи…
Выходя из костела, пока тяжелая дверь медленно закрылась, Волков успел поглядеть на сидевшую на скамье девушку — она не повернула головы, и это ему понравилось. Конечно, приходится и с ней играть в кошки-мышки, таиться, недоговаривать, напускать тумана, но не может он никому, кроме Семенова, который все знает, сказать о своем деле. Хорошо хоть с Павлом Романовичем можно открыто поговорить, посоветоваться, обсудить положение.
Засунув руки в карманы потертого темного пыльника, Волков нащупал рукоять парабеллума, спрятанного под пиджаком, и усмехнулся — каждому свое нравится. Он привык к люгеру, а Романыч предпочитает ТТ: армейский пистолет ему роднее и ближе, да и владеет им Семенов отменно.
В конце улицы показался темный автомобиль. Собиравшийся прикурить Антон насторожился — немцы?! Машина прет по улочке, чуть не задевая крыльями за врытые в незапамятные времена по краям тротуаров каменные тумбы, спасавшие пешеходов от наездов извозчиков-лихачей. Зачем занесло в узкий переулок немецкую машину? Кто в ней?
Решив не рисковать, Волков быстро свернул в первую попавшуюся подворотню — на счастье, двор оказался проходным, и он, изо всех сил сдерживая желание припуститься бегом, направился к выходу на параллельную улицу. Кажется, пронесло, тротуар пуст, только вдали несколько прохожих. Надо здесь быть вдвойне осторожным — городок слишком мал, чтобы полностью исключить возможность нежелательных встреч.
Вернувшись на явку, Антон разделся и поднялся на чердак. Там, устроившись с биноклем у слухового оконца, вел наблюдение за замком Семенов. Передав бинокль Волкову, он улыбнулся:
— Полюбуйся. на крепость крестоносцев.
Оптика приблизила серо-зеленую гладь озера, густые кусты на берегу, длинную дамбу, по которой шла асфальтированная дорога к воротам замка, обрывавшаяся у опущенного подъемного моста. Мрачные стены, сложенные из дикого камня, за ними, веселой расцветки здания жилых построек с высокой башенкой для наблюдателя. Около озера плескались полураздетые солдаты — видимо закончившие работу саперы. Купаться они не решались, — но грелись в лучах уже почти по-летнему жаркого солнца и брызгали друг на друга холодной водой.
— Не подберешься, — сопел сзади Павел Романович. — Все подходы просматриваются, на башенке пулеметчик, мост вечером поднимают. Любят замки, подлецы.
— Удобно, — не отрываясь от бинокля, отозвался Антон. — Уединенно, наладил охрану и сиди. Выезжали?
— Два раза, на легковых автомашинах. Кто именно, я не установил. Еще грузовики ходят. Дамбу патрулируют, на берегу озера есть замаскированные посты охраны. Легковушки выходят в сопровождении бронемашины или мотоциклистов. Осип сегодня сказал, что, по данным подполья, фон Бютцов практически перестал выезжать из замка в районы. Бергер тоже любит сидеть за стенами.
— Я сегодня видел машину на улице, — опустив бинокль, оказал Волков. — Возможно, она из замка. Большая, черная, закрытая, типа опель-капитан.
— Такая у начальника СС и полиции Лидена, — Семенов откинулся на сено, потер уставшие глаза. — Я вот чего думаю, дорогой мой друг. Мыслишка твоя о похищении не реальна. Уничтожить можно попробовать, а выкрасть не дадут. Да и не уйдем потом отсюда, а тогда грош цена риску. Дело-то не сделаем.
— Остаемся пока здесь, — снова поднимая бинокль, протянул Антон. — Поглядим, помозгуем.
В окулярах снова медленно поплыли очертания замка — боясь признаться в этом самому себе, Волков искал в нем черты, схожие с замком Пилецкого, где в сороковом году располагалась абверкоманда Генриха Ругге. Вдруг здесь тоже есть потайные ходы и лестницы, поворачивающиеся стены и скрытые двери?
Нет, не похоже мрачноватое гнездо князей Радзивиллов на таинственную обитель Пилецких. Тут озеро обступает замок почти со всех сторон, торчат около дамбы шпили старинного костела — его он сегодня тоже видел, красивое строение, говорят, итальянец проектировал и возводил, — серые стены замковой ограды, нет большого донжона, не видно полосатого шлагбаума и будки часового у ворот. Интересно, как внутри дворца бывшего магната? Какие комнаты отвел гостю успевший обжиться здесь Конрад фон Бютцов, какие занимает сам? Где расположены помещения охраны, проведена ли сигнализация, каковы маршруты патрулей на территории замка? Пускают ли посетителей в госпиталь люфтваффе, ведь приезжают же навестить своих приятелей другие летчики или здесь лежат только те, у кого нет приятелей ни в одной из расположенных поблизости частей?
Госпиталь! Вот та дырочка, в которую надо попробовать пролезть? Или не стоит дразнить судьбу, дергать ее, как тигра за усы? И все же надо подумать о госпитале — это же целое хозяйство: врачи, средний медперсонал, истопники, кухня, снабжение, неужели там все только немцы? Где их сейчас столько набрать, да еще в глубоком тылу, далеко от фронта?
Сомнения не оставляли, но версия о госпитале уже потянула за собой, требуя детальной разработки. Как же он упустил из виду — есть еще словак Ярослав! Тут может получиться вообще удачно, поскольку он с аэродрома и к нему есть подход. Если верить Нине, то механик-словак готов помочь. Вот и поглядим, какую помощь он способен оказать.
— Время идет, — тяжело вздохнул Павел Романович.
— Пошли вниз, темнеет, — вернул ему бинокль Волков.
Спускаясь с чердака, он вновь подумал о словаке-механике и госпитале — неужели эта, пока еще тоненькая, похожая на паутинку ниточка не приведет их в замок?
Приемник тихо мурлыкал затасканный шлягер «Бель ами», в приоткрытое окно влетал свежий ветерок, сдувая в сторону дымок лежавшей в пепельнице сигареты и заворачивая край листа, испещренного ровными строчками острых, готических букв, — старый фон Бютцов любил готический шрифт и в письмах к сыну пользовался только им, как бы давая понять, что не жалеет времени на своего отпрыска, выводя замысловатые буковки, напоминая тем самым о древности их рода и обязанностях сына по отношению к нему.
Впрочем, об обязанностях отец пишет по-солдатски прямо, со свойственной ему бесцеремонностью сообщая о найденной для сына очередной невесте, — у нее имеется столько-то моргенов леса и пахоты, дома в Берлине и Мюнхене, приличные строения в поместье, и далее — подробное перечисление поголовья окота в наемных работников. Но ни слова о самой невесте — хороша ли она собой, какое получила образование, — лишь вскользь упоминает, что вдова и бездетна. Конечно, сейчас в Германии все больше и больше вдов и не только вдов, но и девушек, которые никогда уже не дождутся своих женихов с фронтов.
С досадой отбросив письмо, Конрад встал и притворил окно. Отец, как всегда, верен себе — нет ни одного письма, в котором он упустил бы случай напомнить об обещании сына жениться. Как же старому Бютцову не терпится увидеть следующее поколение, успокоиться тем, что род не угаснет, продолжится, даст молодые, свежие побеги. У старшего брата есть дети, но они далеко, за океаном, и кто знает, когда доведется обнять их? Разделяют не только пространства, но и границы, война и проклятая политика.
Хорошо отцу — сиди в поместье, следи за удоями в ростом цен на продукты, подсчитывай по вечерам барыши, радостно потирая сухие ладошки при виде округляющейся цифры доходов, и подыскивай сыну богатых невест, забывая высылать их фотографии. Если бы родитель присылал в каждом письме фото, можно было бы уже составить недурную картотеку красоток и просматривать ее свободными вечерами перед отходом ко сну, сверяясь с записями, — у этой блондинки сотня коров, а у этой брюнетки есть шахта и счет в швейцарском банке.
Упершись лбом в холодное стекло, Конрад бездумно смотрел на деревья парка, освещенные закатным солнцем. Нет, жениться, конечно, придется, никуда не денешься, но хочется, чтобы жена тебе нравилась, а денег и своих хватит, не зря же он вместе с отцом усиленно занимался хозяйством и исколесил чуть ли не всю Европу, отовсюду отправляя в родовое гнездо произведения искусства?
Еще в детстве его приучили к посещениям старой Мюнхенской пинакотеки — картинной галереи, основанной герцогом Баварии Вильгельмом IV, заказавшим крупнейшим немецким художникам XVI века картины на исторические сюжеты. «Битва Александра Македонского», написанная Альторфером в 1529 году, стала первой картиной в этой серии и поныне украшающей стены музея. Позже архитектор Лео фон Кленце в 1826–1836 годах построил для пинакотеки новое здание. Приобрели богатейшую коллекцию полотен Рубенса, творения Ван-Дейка, Халса, Рембрандта, итальянских художников. Не забывали и своих живописцев — Дюрера, Кранаха, Грюневальда.
Проводя маленького Конрада по тихим и светлым залам, отец со знанием дела рассказывал ему о мастерах живописи и потом о гордостью показывал дома собранные им картины, заразив этой страстью сына. Что же, здесь тоже удалось найти кое-что приличное и, утаив от всевидящего ока эйнзацштаба Розенберга, занимающегося сбором художественных ценностей, о оказией переправить домой. Отец остался очень доволен и намеками сообщал в письмах о баснословной цене добытого сыном.
Невесты, невесты… Создастся добропорядочная немецкая семья, увеличится капитал, а по ночам все так же будет сниться пропавшая красивая племянница польского ксендза пана Иеронима, тревожа воображение несбыточными мечтами. Куда она тогда подевалась?
Бергер утверждал, что Ксения была связана с русской разведкой. Наверное, он отдал приказ о ее ликвидации, а люди старого лиса прекрасно умеют обделывать подобные дела — потом и черти концов не сыщут. Разве, спросить у него, но дождешься ли ответа? Только поглядит на тебя холодными глазами и еще больше подожмет тонкие губы.
Надеяться на то, что Ксения осталась жива, просто глупо, а живые должны думать о живых. Однако как трудно заставить себя отрешиться от воспоминаний, все забыть — ее улыбку, глаза, тонкие чуткие пальцы, случившуюся из-за нее драку в кабаре «Турмклаузе», где его выручил Тараканов, оказавшийся агентом русских. Иногда кажется, что с того времени минуло не почти три года, а целая вечность, и словно закрылась наглухо тяжелая дверь, навсегда отделив его от Польши сорокового.
Может быть, в нем все же говорит уязвленная мужская гордость, ревность, что девушка предпочла ему Владимира Тараканова? Обер-фюрер в порыве откровенности однажды признался, что Ксения была связной русского разведчика, но они скрывали это под видом любовной интриги. Кто знает, правда или нет, теперь не проверять.
Французы правы, говоря: когда не имеешь того, что любишь, любишь то, что имеешь. Вот и он, не зная раньше Ксении, любил многих — дочерей помещиков и чужих жен, певичек и дам полусвета, светских кокоток и актрис кино. Особенно хороша была танцовщица из людного гамбургского кабаре — Ингрид. Как у нее выходила ножка из-под платья, обутая в изящную туфельку на каблучке, стройная, туго обтянутая тонким чулком…
Здесь тоже есть с кем провести ночь — в госпитале работают немецкие медсестры, а изредка удается вырваться в большой город, но все не то. Если бы он никогда не знал Ксении!
Вернувшись к столу, Конрад аккуратно сложил и убрал письмо отца. Надо написать, чтобы он присылал фото претенденток, — с женихами, тем более с хорошими партиями, сейчас в рейхе не очень, можно выбрать подходящее по финансовому положению и по внешним данным: не век же куковать бобылем?
Заурчал стоявший на столе телефон. Сняв трубку и назвавшись, Конрад услышал голос Бергера:
— Зайдите ко мне. Немедленно. — И короткие гудки отбоя.
Что там еще приключилось? После обеда обер-фюрер велел его не беспокоить, намереваясь поработать с бумагами, и вдруг приглашает?
Выключив приемник, Бютцов запер сейф и вышел. В коридоре ему попался Клюге, независимой походкой отправившийся к себе. Поприветствовав штурмбанфюрера, он уступил ему дорогу. Обернувшись, Конрад поймал на себе испытующий взгляд личного телохранителя обер-фюрера. Хотел опросить его, почему тот рассматривает спину начальства, но Клюге успел отвернуться и нырнул в дверь своей комнаты, открытую Канихеном. Сейчас, наверное, по своему обыкновению, они откупорят бутылку и сядут играть в скат.
Бергер был в кабинете один. Жестом указав Конраду на кресло, он завел патефон и опустил на пластинку иглу. «Рунг шпильт ди гайзе, их танц мит дир унц швайге», — затянула певичка, сразу напомнив танцовщицу из кабаре Ингрид — легкую, изящную, с многообещающими и не обманывающими в своих обещаниях глазами. Зачем Бергеру музыка? Не хочет, чтобы их, даже случайно, могли подслушать?
— Клюге сегодня ездил в город, — садясь напротив Бютцова в кресло и раскуривая сигару, сообщил обер-фюрер.
— Слушаю, — подобрался Бютцов.
— В Немеже Тараканов, — бросив в хрустальную пепельницу обгорелую спичку, обыденно сказал Бергер.
Конрад похолодел — неужели он своими воспоминаниями накликал появление призрака?! Ведь Тараканов убит им лично в сороковом году при переходе границы с Советами! Он сам всадил ему пулю в спину и видел, как тот, падая на землю, сломался пополам от жуткой, предсмертной боли. Неужели во время прогулки по парку обер-фюрер слукавил, а на самом деле он знал, что русский разведчик жив? Что теперь будет, если тайна раскроется и всем станет известна давняя неудача Бютцова, столь тщательно замазанная и упрятанная в архивы спецслужб? Можно ли надеяться на Бергера и что, черт бы побрал, означает появление здесь русского разведчика? И вообще, он ли это?
— Тараканов? — придав своему лицу недоуменное выражение переспросил Конрад, пытаясь выиграть время. — Тот, из Польши сорокового? Вы верите в переселение душ или в воскрешение из мертвых?
Боже, как страстно он желал, чтобы неожиданный разговор оказался просто очередной проверкой, устроенной неугомонным, не устающим играть в секретные игры Отто. Но чутье подсказывало — нет, это не игры, не проверка, произошло действительно страшное и непоправимое: Тараканов жив, и он здесь, в Немеже. Прийти он мог только от русских, снова спрятавшись за чьим-то чужим прошлым, скрывая свое настоящее лицо. Как его зовут теперь — Иванов, Пикульский, Цымбалюк, Мухаметджанов, Граве, Вольтрен? Свое настоящее имя знает только он да его руководители из советской разведки.
— При чем тут воскрешение, — недовольно проскрипел обер-фюрер. — Русские прислали своего инспектора. Значит, Грачевой все же действительно добрался до своих и рассказал им о тайне! Они проверяют, ищут, отправили сюда опытного профессионала.
— Клюге мог обознаться, — хрустя пальцами, умоляюще поднял на Бергера глаза штурмбанфюрер. — Он не так хорошо знал русского разведчика, работавшего под именем Тараканова, мог ошибиться, прошло почти три года!
Обер-фюрер усмехнулся и стряхнул наросший на конце сигары сизый столбик пепла.
— Клюге тоже профессионал. Он ехал на машине и случайно увидел вышедшего из костела святой Терезы человека в темном плаще. Вы же знаете, Тараканов питал просто-таки маниакальную страсть к разным храмам — действующим и заброшенным. Кстати, его странные исчезновения из разбитого костела в сгоревшей деревне так и остались загадкой.
— Дальше, дальше, — не в силах терпеть, поторопил Конрад.
— Улочка была узкая и короткая, — продолжал Бергер. — Клюге имел прекрасную возможность рассмотреть человека в темном плаще. Заметив приближающуюся машину, тот сунул правую руку в карман и быстро свернул в проходной двор. Но лицо его Клюге запомнил. Это Тараканов! Характерные надбровные дуги, походка, манера поворачивать голову, жест, каким он, наверняка, схватился за оружие… Нет, Клюге не мог обознаться.
— Бог мой, — прошептал побледневшими губами Бютцов. — Что же будет, если он попадется не нам?
Обер-фюрер встал, сменил на патефоне пластинку, поставив мелодию медленного блюза. Вернувшись на свое место, похлопал ученика по колену:
— Все хорошо, мой мальчик!
— Теперь он не уйдет, — дернулся, как от удара, Конрад. — Я перерою весь город, но не выпущу его отсюда, пока самолично не зарою его труп! Или сожгу!
— Ну, ну, — остановил Бергер. — Не сходите с ума! Наоборот, нам надо беречь его, как ангелам хранителям, — легкая улыбка тронула губы Отто. — Ему необходимо дать возможность уйти и унести с собой нужную информацию. И только если этого не получится, уничтожать. Слава создателю, у Клюге хватило сообразительности не выскочить из машины и не броситься следом за русским. Не знаю, что тогда могло произойти. Вы знаете, как тот стреляет, — Бергер непроизвольно поглядел на шрам, оставшийся на голове Бютцова. — Все могло рухнуть еще не начавшись.
— Но я не хочу верить! — расстегивая душивший его воротник, признался Конрад. — Не могу!
— Вспомните сводку противовоздушной обороны, где отмечался пролет неопознанного самолета и донесения службы радиоперехвата, — откликнулся обер-фюрер. — Несколько дней назад зарегистрировано усиление активности радиообмена со своими хозяевами лесных хаустгриле — проклятых раций-сверчков партизанских банд. С чего бы им так верещать в эфире? Значит, в лесу появились гости, которым необходимо постоянно сноситься с руководством, докладывая об обстановке, получая новые сведения и указания. А потом охрана складов замечает ночью подозрительное шевеление на минном поле, открывает огонь из пулемета, шарит прожектором, но никого не обнаруживает. Утром нет даже трупов. Не попали? Возможно, но кто же там ползал? Саперы проверяли — в минном поле сделан проход. Дальше — неожиданная встреча на улочке рядом с костелом святой Терезы… Нет, это все звенья одной цепи, и Тараканов действительно здесь. Я могу поздравить вас, штурмбанфюрер, с успехом первой фазы операции «Севильский цирюльник».
— Что вы говорите?! — Конрад вскочил и заметался по кабинету под ироничным взглядом Бергера.
К черту, пусть смотрит, пусть иронизирует — письмо написано, а договориться с братом без Конрада не удастся. Теперь они связаны одной веревочкой, покрепче призрачных родственных уз, так малозначащих в смутное время. Надо думать, что делать, а не приносить поздравления!
— Он хитер, как лиса, дьявольски ловок, совсем как обезьяна, — остановившись перед обер-фюрером, Конрад как рефери на ринге, наклонившийся над отправленным соперником в нокдаун боксером, начал выбрасывать пальцы, словно открывая счет секундам, — адски изворотлив и умен! А вы желаете его провести, когда он надул, как сопливых детей, всю абверкоманду Ругге, покойного начальника СС и полиции Байера вместе с аппаратом и наружным наблюдением, а также нас с вами. Вспомните Польшу сорокового, Отто!
Бергер меланхолично поглядел на раскрасневшегося штурмбанфюрера, и тот под его долгим взглядом обмяк и опустился в кресло, вытирая потный лоб платком.
— У русских есть прелестная пьеса — «Горе от ума», — хохотнул обер-фюрер. — Видели или читали? Автора, кажется, зарезали в Иране?
— Отто, ну при чем здесь девятнадцатый век и русский писатель Грибоедов, — почти простонал Бютцов. — Я совершенно не вижу никакой связи.
— Напрасно, мой мальчик, напрасно. Связь самая прямая — умный чаще склонен усложнять простые вещи и искать в них некий скрытый смысл, которого нет. В бытовых вопросах умного обмануть легче, чем дурака, согласны? Если мы имеем дело с уже хорошо известным нам противником, все несказанно упрощается. Можно с достаточной долей уверенности предположить, как он будет действовать, чему верить, а от чего шарахаться. Вот и попробуем оплести западню, рассчитанную на «куриный» интеллект, — хитрую, но внешне абсолютно незатейливую, чтобы он пошел в нее не задумываясь, надеясь нас переиграть и вновь обмануть. Но для этого нам надо знать его контакты в городе и место пребывания, чем мы и займемся в первую очередь. Похоже, русские давно знают о нас и послали сюда именно Тараканова.
Конрад потер ладонью лоб — похоже, старый лис и впрямь уже успел все рассчитать и взвесить. Положиться на него? Не было случая, чтобы нюх подвел Бергера, вдруг и сейчас он окажется на коне, а в том положении, в какое попал его ученик, остается только держаться обеими руками за хвост кобылы учителя, надеясь выбраться из болота тайных интриг. Попробуем?
— У Тараканова наверняка очень мало времени, — осторожно начал он развивать свою мысль. — Информация, принесенная Грачевым, сбежавшим из камеры смертников тюрьмы СД, слишком серьезна, чтобы русская разведка могла тянуть с ее проверкой?
— Тем более, нам нельзя терять ни минуты, — тут же подхватил обер-фюрер. — Немедленно в дело фройлян, а то уже застоялась, как скаковая кобылка в конюшне. Пусть активизируется. И людей на улицы, на рывок, в каждый квартал — искать, перерыть весь город, но обнаружить его лежку и взять под плотное наблюдение. Только предельно осторожно!
— Я понял, — Бютцов встал, одернул мундир.
— Не волнуйтесь, мы не дадим ему исчезнуть, как в сороковом, — успокаивающе улыбнулся Бергер.
Глава 4
Черную язву пепелища на месте дома три Павел Романович увидел сразу же, как только вышел на Мостовую улицу, — тихая, зеленая, с мощенными плиткой тротуарами и булыжной проезжей частью, она петляла позади площади с торговыми рядами, навевая ощущение сонного покоя и легкой грусти. Старые липы с темно-зеленой листвой, аккуратные домики, чистенькие крылечки, водоразборные колонки и высокое голубое небо с ярким диском солнца — даже не верится, что кругом война, а здесь, в таком тихом городке, хозяйничают оккупанты.
Неспешно шагая по плиткам тротуара, Семенов поглядывал по сторонам — он решил пройтись разок-другой вдоль Мостовой, чтобы «вписаться» в окружающую обстановку, попытаться определить, не проявляет ли кто к нему, так нежданно появившемуся здесь, повышенного интереса и, главное, с кем можно переговорить, потихоньку подводя пересуды к случившемуся несколько месяцев назад пожару.
Вдалеке темной тенью на фоне неба торчали башни костела. В Немеже вообще, куда ни пойди, отовсюду видно костелы — население набожное или польские паны, долгие столетия владевшие этим городком, специально насаждали среди местного населения покорность ксендзам? Стены домов, рядом с пожарищем, немного закопченные, грязные от сажи, и крыша на одном из них слегка обгорела, И, как на зло, никаких заведений, куда, не вызывая подозрений, можно заглянуть, — только лавчонка мелкого торговца да аляповатая, издалека бросающаяся в глаза вывеска сапожника.
Тротуар привел к перекрестку. Бросив взгляд на фанерную табличку с выцветшей от непогод надписью, немного, потом повернул обратно, зорко оглядывая прохожих.
Нет, никто из них не вызывает подозрение, однако маячить на почти пустой в этот час улице все равно не стоит. Ну, сколько раз он еще сможет здесь прогуляться — два, три, а потом, что делать потом? Если бы обладать волшебным даром проникать в прошлое, возвращать минувшее и становиться свидетелем давно случившегося! Сколько тайн тогда было бы раскрыто. Как бы чудесно сейчас поглядеть, отчего вдруг возник пожар на явке, указанной погибшим переводчиком Сушковым своему сокамернику Семену Слободе, увидеть обитателей сгоревшего дома, их гостей, друзей и недругов. Вот бы скользнуть невидимой тенью под еще не успевшую провалиться от жаркого огня крышу и услышать разговоры, запомнить лица…
Жаль, что человеку такое не дано, не может он повернуть вспять время, заставить его служить себе. Что было — то бозвозвратно прошло.
Щурясь от бьющего в глаза солнца, Семенов снова оглядел улицу: все именно так, как описывал ему Осип Герасимович, — липы, лавчонка торговца, домики. И ни в одну дверь не постучать, не поздороваться с хозяевами, не расспросить их о происходивших событиях. Зайти разве к сапожнику?
Перейдя на теневую сторону, он направился к сапожной мастерской, прикидывая, как бы половчее заговорить о пожаре, — неизвестно, сколь разговорчив хозяин. Принято считать, что наиболее говорливы парикмахеры, а вот как с сапожниками? Про них чаще слышишь: «пьет, как сапожник», а о склонности к беседам народная мудрость умалчивает.
Толкнув давно не крашенную дверь, он очутился в заваленной старой обувью комнате. Посредине ее за самодельным верстаком, зажав между покрытых линялым фартуком колен сапожную лапу с надетым на нее ботинком, сидел хозяин, держа губами деревянные шпильки. Вынимая их по одной, он ловкими и точными ударами молотка вгонял острые кусочки дерева в прохудившуюся подметку.
Бросив на клиента равнодушный взгляд из-под замотанных суровой ниткой круглых очков в простой оправе, сапожник вытянул шею, скользнул глазами по обуви пришедшего. Видимо, беглый осмотр его удовлетворил — есть надежда немного подзаработать на этом дядьке, заросшем клочковатой щетиной.
— Пану нужен срочный ремонт? — вынув изо рта шпильки, поинтересовался сапожник и тут же добавил — С ноги дороже.
Семенов согласно кивнул и присел на указанный хозяином табурет, расшнуровывая ботинки. За свою обувь он не боялся — ботинки польского довоенного производства, в меру поношенные, со сбитыми набойками на каблуках. Именно такие, какие могут быть у человека его положения: средних лет провинциала, не отличающегося особым достатком.
Разглядывая обувь клиента, сапожник огорченно покачивал головой, ковыряя черным ногтем истончившуюся подошву и стесанную резиновую набойку на каблуке.
— Можно, — наконец сказал он, — нового товара нет, чтобы поставить пану, но отыщем из старого что поцелее. Согласны? Сейчас вообще тяжело с товаром, — вздохнул он, перебирая лежавшие возле него изношенные туфли и сапоги. — Приходится выкраивать, выворачиваться. Пан будет платить натурой или марками? Я имею в виду оккупационные.
— Марками, — разочаровал его Павел Романович, уже знавший, что в городе все предпочитают натуральный обмен, и особенно любят, когда в виде расхожей валюты выступают хлеб, сало, консервы или, на худой конец, картошка.
— Да, пан, в интересное время мы с вами имеем честь жить, — отдирая клещами набойки, продолжил сапожник. — Вы к нам издалека, простите великодушно за любопытство?
— Не очень, — улыбнулся Семенов. Молчать не стоило, надо поддерживать завязавшуюся беседу. — Хочу здесь решить некоторые дела. Хозяйство! Какое бы время не было, а есть надо.
— То так, — немедленно согласился сапожник. — В деревне, а я вижу пан селянин, все же легче, чем в городе. Огороды, скотина. Но и прийти из лесу могут или с города наехать и все забрать. Однако могут не наехать и не прийти. А в городе? Налог плати, все дорого на базаре, не подступишься… Холера ясна! — выругался он, оцарапав палец.
— В деревне тоже не сладко, — разглядывая выцветшие обои и керосиновую лампу под жестяным абажуром, возразил Павел Романович. — Продукты надо сдавать властям, сеять, пахать, а работать кому? Одних побили, другие утекли кто куда. От новины до новины едва-едва дотянешь, да и то не всегда.
Поглядывая в окно, он ждал момента, чтобы спросить о сгоревшем доме. Сапожник, похоже, не страдает молчаливостью и, по всей вероятности, давно здесь обосновался. Помнится, Осип Герасимович говорил, что еще до пожара здесь уже были сапожная мастерская и лавка мелочного торговца. Если тут ничего не удастся узнать, придется направиться за покупками и попытать счастья там. Не то чтобы он не доверял проверке, проведенной людьми Колесова, но хотелось все поглядеть самому, — по возвращении придется держать ответ.
— Пан думает в дом попала бомба? — перехватив его взгляд усмехнулся сапожник. — Нет, пусть пан так не думает, нас не бомбили. Зачем им кидать бомбы на наш городок? Россияне уходили быстро, а немцы так же быстро наступали. Прогремели танки, пробухали пушки — и уже другая власть. То был пожар, пан.
— Кто сгорел? — почесывая одной ногой другую, лениво поинтересовался Семенов, стараясь выглядеть любопытным обывателем, охочим до любых новостей: лишь бы было потом что рассказать в своей деревне после возвращения из города. И тут же ему пришла в голову другая мысль: стал бы местный селянин тратить деньги на ремонт обуви? Шут его знает, но теперь уже поздно давать обратный ход. Придется жестоко поторговаться при расплате за работу, тем более, что заранее цену не обговаривали.
— Болтали, старуха сгорела, хозяйка, — принимаясь за второй ботинок, мотнул головой в сторону окна сапожник. — Жила с постояльцем или родственником.
— Тот тоже сгорел?
— Ни, милостивый пан, спасла пресвятая дева Мария, — небрежно перекрестился на католический манер сапожник, и Павел Романович последовал его примеру. — Или святой Мартин, заступник и оборонитель наш от пожаров, вовремя увел его. Одна старуха и сгорела. А постоялец ее пропал.
— Бывает, — равнодушно откликнулся Семенов. — Сейчас это недолго. Был человек и нету.
— Я не про то. Просто ушел и больше не вернулся. Загинул альбо нет, не знамое дело. Тут, да будет известно пану, другие события происходили. Немцы какого-то смертника искали, листовки клеили, дома обыскивали. Чего уж пожар?
— Нашли?
— Кто их знает, — рассудительно ответил сапожник, подавая готовую пару клиенту, — Разве ж они нам скажут? Россияне на самолетах стали летать, станцию бомбами забрасывали, вот то, я скажу пану, был пожар. А это, — он пренебрежительно отмахнулся в сторону окна, — тьфу, мелочевка. У вас летают?
— Больше ночами, — завязывая шнурки, нехотя оказал Семенов. — Гудят в темноте, поди разбери, чьи аэропланы. Сколько я должен?
Торговался он азартно, взывая к совести сапожника и призывая в свидетели пана Езуса, клянясь здоровьем родни и своим собственным. Наконец сошлись. Отсчитав сапожнику мятые засаленные бумажки и мелочь, Павел Романович попрощался и вышел. Проходя мимо окна мастерской, заглянул в него — сапожник опять набрал полон рог деревянных шпилек и вгонял их одну за другой в подошву надетого на лапу ботинка.
Так ничего нового узнать не удалось, но и прежняя информация не опровергнута, а получила еще одно подтверждение. Стоит ли заходить к мелочному торговцу? Пожалуй, нет. Проверимся как следует и обратно, еще надо посидеть с биноклем на чердаке дома Осипа Герасимовича, понаблюдать за замком…
Когда за окном мелькнула голова клиента, ремонтировавшего свои ботинки, сапожник даже не повернулся в его сторону. И только выждав несколько минут, пока тот отойдет подальше от мастерской, сапожник сорвался с места и кинулся в соседнюю комнату.
Плотно притворив за собой дверь, он распахнул дверцы стенного шкафчика. Там на единственной полке стоял телефонный аппарат — странная для бедной мастерской сапожника вещь, никак не вязавшаяся с окружающей обстановкой.
Не попадая от волнения пальцем в дырки наборного диска, сапожник торопливо завертел его. Занято, черт бы их побрал! Постучав по рычагу аппарата и услышав долгий гудок, он вновь набрал знакомый номер. Свободно!
— Четырнадцатый, — крикнул он в трубку. — Это четырнадцатый! У меня только что был крайне подозрительный тип, интересовался сгоревшим домом и его обитателями. На польском говорит с легким восточным акцентом. Небритый, щетина примерно трех-пятидневной давности, рыжеватая, клочками. Одет в поношенный темно-серый костюм и коричневые ботинки со шнурками, на голове коричневая кепка с большим козырьком. На вид можно дать лет сорок пять — сорок семь, среднего роста, нормального телосложения, особых примет не имеет. Вышел несколько минут назад и направился в сторону Берлинерштрассе… Понял вас. Он не мог далеко уйти.
Положив трубку, сапожник закрыл дверцы шкафчика и достал из кармана брюк пачку сигарет. Чиркнув зажигалкой, прикурил и, довольно улыбаясь, вернулся к верстаку. Долго же пришлось ждать такого гостя, какой пожаловал сегодня. Уже начала таять надежда, что он вообще пожалует. Ничего, теперь ему некуда деться — через десяток минут возьмут под наблюдение и выяснят, откуда залетела этакая птичка. Если любопытный действительно вульгарный сельский болван, это одно, а если…
Чутье подсказывало — он не просто любопытный! Сегодня господин начальник СС и полиции безопасности может быть доволен, в расставленных сетях забилась крупная рыба. Только бы она не ушла!
По дороге на явку Павла Романовича все время не покидало чувство внутреннего беспокойства, некоего дискомфорта души. Прислушиваясь к собственным ощущениям, он медленно шел по улицам, неожиданно сворачивая в переулки и держа направление на торговую площадь, — если все будет нормально, то именно оттуда он и вернется на явку.
Прохожих мало, нет витрин магазинов, глядя в стекла которых можно попробовать обнаружить хвост слежки, поэтому приходилось петлять, поворачивать обратно, вглядываясь в лица идущих навстречу.
Зудящее чувство близкой опасности не проходило — наоборот, оно даже несколько усилилось. Семенов не был склонен к мистике, но привык полагаться на собственную интуицию, — у профессионалов, постоянно имеющих дело с опасностью, сигнал тревоги срабатывает на уровне подсознания: еще не успел все как следует осмыслить, переварить и разложить по полкам, а внутри уже зуммерит, сигнализируя — что-то не так. Но что?
Сдерживая возникшее желание ускорить шаг, Павел Романович зашел в первый попавшийся двор, отыскав глазами будку деревянного туалета, вошел в нее и прикрыл за собой дощатую дверь. Брезгливо отогнав от лица жирных мух, слетевшихся на запах нечистот, приник к щели, наблюдая за подворотней.
Буквально через минуту во двор заглянул невзрачный мужчина, в черном пиджаке. Юрко обежал глазами постройки и окна дома, повертелся немного на одном месте и вышел, убедившись, что двор не проходной.
Лоб у Семенова сразу стал мокрым. Достав из кармана брюк носовой платок, он снял кепку и вытер лицо. «Вляпался ты, Паша!»
Однако быстро они отреагировали на посещение сапожника, если, конечно, он не ошибается. Неужели явка на Мостовой была провалена и немцы посадили напротив нее своего наблюдателя, обеспечив его связью, а теперь спустя значительное время после гибели Прокопа и сгоревшей на пожаре старухи-хозяйки не сняли наблюдения, выжидая — не появится ли кто-нибудь из леса или даже с той стороны фронта? Дела…
Если сапожник — агент немцев, то визит незнакомца не мог у него не вызвать подозрения, — городок невелик, ремонтируют обувь преимущественно свои, а тут вдруг появляется чужак. Стоит его проверить? Вне всякого сомнения. Другие клиенты наверняка уже давно установлены и проверены, выяснено, кто они и где живут, все их связи в городе, места работы и источник существования. Теперь это попытаются сделать в отношении залетного чужака.
Значит, у них, надо полагать, нет пока цели задержать его? Скорее всего, им интереснее, чтобы он привел их за собой к явке, показал свою берлогу, а уж потом не упустят возможности плотно обложить ее, выставить наблюдение за каждым входящим и выходящим из дома. Этого допускать нельзя.
Потрогав рукоять спрятанного под одеждой ТТ, Павел Романович невесело усмехнулся, открывать пальбу и взбудоражить всех немцев? А вдруг он все же ошибается и следом за ним во двор заскочил совершенно случайный прохожий? Надо выйти из затхлой будки и проверить. Если опять на глаза попадется мужчина в черном пиджаке и потащится следом, то дело швах, а если нет, то вытащил счастливый билетик у шарманщика судьбы, получил возможность еще немного потоптать грешную землю ногами, прежде, чем она навсегда сомкнется над тобой.
Это что же получается? Он, Пашка Семенов, может больше никогда не вернуться в старый домик во Владимире, где живет его мать, приютившая на лихое время жену сына с (малыми детьми? И никто никогда не узнает, как он погиб в далеком Немеже, уводя немцев от партизанской явки Осипа Герасимовича? Да нет, чушь какая-то! Наоборот, надо обязательно оторваться от возможного преследования, вернуться на явку и все рассказать Антону. Если на Мостовой, три был провал, то многое предстает в совершенно ином свете. Однако люди Колесова проверяли, но ничего не обнаружили. Почему?
Не обращались к сапожнику, не попадались ему на глаза или тогда во время проверок тот еще не открыл мастерскую? А может быть, посланцам Колесова и городским подпольщикам просто чудом удалось избежать западни? Не исключено, что их специально отпустили до поры до времени, накрыв колпаком наружного наблюдения. Тогда сохранение долго находившейся на консервации явки Осипа и его жены тем более важно — немцы о ней ничего не должны знать.
Ну надо на что-то решаться, не век же стоять в вонючей деревянной будке чужого туалета посреди города? Но выходить так не хочется, ах как не хочется. Попробовать выломать доски и перелезть через забор, а потом дворами выбраться на соседнюю улицу и, запутав следы, убраться на окраину под защиту затхлых трущоб Таракановки?
Хорошо, предположим, он уйдет, а вопрос с сапожником и возможной слежкой останется невыясненным? Где гарантия, что его ведет только «черный пиджак», вдруг уже обложили весь квартал, перекрыли ходы-выходы и не выпустят из рук желанную добычу? Нет, прямо и откровенно его не станут гнать по городу, им, наоборот, желательно, чтобы он ничего не заметил. Попробовать на этом сыграть?
Проверив оружие, Павел Романович еще раз вытер лицо «латкам — нервишки-то шалят, вон и ладошки стали влажные, стареешь, Павлик, — и, решившись, покинул деревянную будку.
Ноги показались чужими, непослушными, словно на каждой висит по пудовой гире, тянущей назад, не дающей сделать ни шагу, — оказывается, успел сродниться с белым светом, так привык жить и дышать, что даже и помирать тебе не хочется? Кто только придумал войны, разделение людей на государства и нации, хитрые и мудреные смертельные схватки разведок, ненависть и бесчеловечность фашизма? Почему все люди не могут жить как братья? Вечно что-то им мешает понять друг друга и относиться к остальным с должным уважением, признавая их право на мир и покои в собственном доме. Но раз нет мира и покоя, а враг уже пришел в твой дом, то деваться некуда. Иначе зачем же ты стал чекистом, Семенов? Помнишь, в девятнадцатом году тебе, тогда еще совсем юному в безусому рабочему пареньку, комиссар предложил пойти работать в ЧК. объяснив как нужны грамотные, преданные делу революции бойцы, готовые не щадя жизни защищать завоевания народа в борьбе с тайными врагами.
— Дело добровольное, Паша, — сказал комиссар, — можешь остаться в Красной Армии, никто не осудит. Если вдруг попадешься белым, простого красноармейца могут и пощадить, а чекисту — верная смерть. Молодой ты еще очень, подумай. Служба там не простая, многого от тебя потребует.
Долго Павел не раздумывал. Ему подарили, карабин, с которым он воевал, и направили в особый отдел: как оказалось, всего-навсего писарем. С оружием было тяжко, но комендант выдал ему офицерский наган-самовзвод и разрешил оставить карабин. Так и стал Семенов чекистом. Потом служил на границе, в Туркестане боролся с басмачеством, учился в погранучилище, приехал на Западную границу в разведотдел, овладел чужими языками…
Поглядев на солнце, Павел Романович подмигнул ему и, поправив кепку, вышел на улицу. Вроде никого?
«Так, — мысленно восстанавливая в памяти план города, прикинул он, — сейчас пойдем на торговую ило-щать, поглядим, кто увяжется следом, а потом надо двигать ногами к оврагам, в противоположную сторону от Таракановки. Помотаю их, но не до комендантского часа, а селя, паче чаяния, не удастся оторваться, придется расставаться с буффонадой и стрельбой. Не хотелось бы, конечно, однако ребята могут попасться настырные, опытные, не желающие понять моего искреннего стремления к одиночеству».
«Черный пиджак» поджидал у перекрестка. Равнодушно повернувшись спиной к приближающемуся Семенову, он делал вид, что с огромным интересом читает прилепленные на стене объявления комендатуры. Впереди из узкого переулочка выплыла пара — довольно молодая женщина с сумочкой на ремешке я средних лет мужчина в поношенной серой ¡шляпе. Еже двое?
Оглянувшись, Павел Романович заметил сзади молодого парня в потрескавшейся кожаной куртке, быстро отвернувшегося, когда он на него посмотрел. Значит, четверо? Боятся его потерять и берут в «коробочку»? Поглядим.
Свернув к торговой площади, Семенов побрел между рядами, приглядываясь к немудреным товарам и не забывая присматривать за своими опекунами. На рынок за ним последовал только парень в куртке — надо полагать, остальные заняли позиции на выходах с площади, выжидая, худа он направится?
Словно вспомнив о важном деле и недостатке времени, Павел Романович поспешно пересек площадь и почти побежал по улице. И тут же из подворотни вновь появилась парочка — серая шляпа и дама с сумочкой на ремешке. Плотно обложили!
Убавив шаг, Семенов опять оглянулся — позади стараясь держаться за спинами редких прохожих, меланхолично плелся «черный пиджак». Пария в куртке не видно, но можно быть уверенным — он поджидает впереди или страхует «черный пиджак» на тот случай, если объект наблюдения задумает повернуть назад. А что, если действительно попробовать? Повернуть, выйти на Мостовую, заглянуть к сапожнику… Нет, бредишь, Павлик, нечего тебе там делать. Дуй вперед, тяни их подальше от Тарахановки, веди к знакомым кварталам с проходными дворами. К оврагам нет смысла тащиться — они предпримут какие-то меры чтобы не дать забраться туда, а сразу перестрелять четверых вряд ли удастся, хоть один, но успеет обнажить ствол и вступить в перестрелку. Нельзя рисковать. Итак, пытаемся оторваться в центре?
Немцы вели его спокойно, особенно не мозолили глаза, не надоедали, но и не отпускали далеко. Все время меняясь местами, они пытались создать видимость, что Семенов их не интересует, но тот уже все давно понял и сделал необходимые выводы. Раскусить тактику немецких наружников не составляло особого труда — приказано не упустить, и они старались, увеличивая расстояние между собой и объектом слежки на малолюдных, улицах и вновь подтягиваясь ближе на более оживленных.
Попетляв по переулкам и испробовав пару проходных дворов, Павел Романович понял — просто так уйти ему не дадут. После каждого его рывка в проходной двор среди прохожих неизменно оказывался либо «черный пиджак», либо парень в потрескавшейся кожаной куртке.
Кислая история. Неужели они действительно считают, что остаются незамеченными? Или им глубоко плевать на это и они с нетерпением ждут, пока он потеряет голову, засуетится, наделает глупостей и приведет их к явке? Рассчитывают на небольшое пространство городка, ждут, пока объект начнет второй круг, — до сего времени он еще ни разу не провел по одной и той же улице и они не насторожились, полагая, что идут по самому свежему следу? Прекрасно, пусть остаются в счастливом неведении. Если ему удастся задуманное, то изменить внешность ничего не стоит, — пусть потом попробуют его опознать, а уж он то их запомнил на всю оставшуюся жизнь.
Ага, вот и нужный дом. Пройдем мимо него, свернем за угол, где расположены магазин и небольшая пивная. Есть ли около них велосипеды? Время близится к вечеру, в магазине и в пивной, где подают бодяжное, прогорклое пиво по бешеным ценам, должны быть посетители, для которых основным видом транспорта служит двухколесная машина, движимая мускульной силой собственных ног. Извозчик не подойдет — его надо еще найти, и поймать, к тому же это лишний след.
У стенки стояло несколько велосипедов. Некоторые с замками на цепях — видимо принадлежащие завсегдатаям, решившим задержаться в пивной. Плохо, если к моменту его нового появления здесь, останутся только эти велосипеды — тогда придется полагаться на собственные ноги, а улица, уводящая к предместьям, длинная. Правда, хорошо, что она идет под гору, — есть шанс.
Вернувшись, Павел Романович чуть не столкнулся нос к носу с парнем в куртке. Не подав виду, прошел равнодушно мимо него и свернул во двор дома. Интересно, кто из них потащится следом? Скорее всего «черный пиджак» или парень в куртке. Тогда серая шляпа и женщина останутся ждать на улице. По всем правилам, а немцы педанты в соблюдении инструкций, они не двинутся с места, пока вошедший следом за объектом наблюдения агент не вернется. Это дает несколько минут свободы.
Найдя нужный подъезд, Семенов вошел в него я притаился за дверью — только бы не появился кто-нибудь из жильцов, на свое несчастье вздумав не вовремя выйти из квартиры.
Кто-то остановился по другую сторону двери, потоптался в нерешительности и осторожно потянул за ручку. Павел Романович достал оружие.
Лицо у «черного пиджака» сделалось сразу же мучнисто бледным, как только он увидел направленный ему в живот ствол. Лоб его покрылся мелкими каплями пота, струйками скатывавшегося по щекам, кадык в широком вороте рубахи нервно задергался.
— Тихо! — приказал ему на немецком Семенов. — Пошел наверх!
«Черный пиджак» на негнущихся ногах шагнул в лестнице и начал медленно, как во сне, подниматься. Павел Романович последовал за ним, чутко прислушиваясь, не идет ли еще кто со двора. Тянуть нельзя — немец сейчас опомнится и придет в себя от неожиданности, а находясь на ступеньках выше, он имеет некоторые преимущества для нападения на своего конвоира, особенно когда придется проходить через лестничные площадки.
Более не раздумывая, Семенов резко ударил идущего впереди немца рукоятью пистолета по затылку. Благо тот был не высок ростам. Добавив, для верности, еще разок, он взвалил тяжелое тело на плечо и побежал по лестнице наверх.
Скорее, скорее, на площадку третьего этажа, где через коридор можно перейти в другой дом с замечательным чердаком, выводящим на чердак третьего дома. Только бы никто не вышел на площадку и не увидел его со страшной ношей на плечах. Скорее!
Вот и коридорчик — полутемный, пахнущий неистребимой кошачьей мочой и кислой капустой, скорее дальше! Черт, маленький вроде бы немец, а тяжелый, зараза отожрался на дармовых харчах. Здесь его бросать нельзя — потом неизвестно что сделают с жильцами дома. Впрочем, что сделают немцы, обнаружив труп сотрудника своей полиции, предугадать совсем не трудно.
Так, наконец-то и дверь чердака. Дверью ее назвать можно только с большой натяжкой — фанерная перегородка, которую ничего не стоит выбить сильным ударом ноги. Готово! Спасибо Осипу Герасимовичу, познакомившему с секретами городских кварталов.
Куда деть немца? Что у него в карманах? Жетон полиции, оружие, сигареты, бумажник — разберем все потом, сейчас быстро вывернуть его карманы и переложить их содержимое в свои. Куда его?! Время идет, неумолимое время, и еще неизвестно, что ждет впереди.
Заметив красный противопожарный ящик с песком, Семенов откинул его крышку и свалил туда свою ношу. Сразу стало легче дышать. Со стуком упала крышка ящика, а он уже бежал к выходу на соседний чердак. Скорее, скорее!
Ноги, забыв про тяжесть, в момент выхода из деревянной будки туалета, отсчитывали ступеньку за ступенькой вниз. Вот и дверь подъезда, выводящая на улицу. Некогда глядеть по сторонам — давно не стриженный парень в сером рваном пуловере открывает замок своего велосипеда. Остальные на замках. Не везет, придется потратить еще несколько секунд.
Подскочив, Семенов рубанул парня ребром ладони по шее и, схватив велосипед за руль, побежал с ним под горку, на ходу вскочив в седло. Мимо понеслись, замелькали дома, шины подпрыгивали на булыжной мостовой, коротко свистнул в ушах ветер я вместе с ним долетел хлопок пистолетного выстрела.
Заметили, сволочи, но даже если у вас есть машина, то не догоните. Поворот в переулок, а дорога все под горку, еще поворот, теперь во двор, бросить велосипед И через забор.
Оскальзываясь на грядках чужого огорода, политых к вечеру заботливыми хозяевами. Павел Романович перемахнул еще через один забор и побежал садом. Сердце билось глухо и неровно, пот заливал глаза, в он на бегу вытирал его ладонью, слизывая скатывавшиеся соленые капли с губ.
Калитка, переулок, проходной двор, опять забор и знакомый овраг. Теперь можно перейти на шаг. Неужели действительно все, неужели ушел? Стоит провериться еще разок…
На явку Семенов вернулся поздно ночью — грязный, усталый до дрожи в коленях, голодный. Он ввалился в горницу и тяжело опустился на лавку у стола. Его ждали. Сидя под образами, покуривал Волков, скрывающий свое беспокойство, нервно ходил по домотканым половикам Осип Герасимович, его жена возилась у печи, без толку переставляя горшки и чугунки.
— Поешьте, — поставила она перед Павлом Романовичем тарелку с жареной картошкой. По оккупационным временам пища лакомая и сытная, особенно весной.
— Подкрепись, — кивнул Антон, — потом поговорим.
Семенов молча поел и, свернув цигарку, начал рассказывать о визите к сапожнику, метаниях по городу и уходе от немецкого наружного наблюдения.
— Явка на Мостовой могла быть провалена еще до побега Слободы, — закончил он. — Теперь они знают, что мы в городе.
— Знают, — задумчиво повторил Волков, вертя в пальцах полицейский жетон на тонкой цепочке. — Боюсь, что и обо мне тоже знают. Не нравится мне встреча с темной машиной у костела, а тут твои сегодняшние приключения.
— Есть еще одна не слишком приятная новость, — сообщил Осип Герасимович. — Передали, что хутор, на котором был наш маячок, принявший беглеца по рекомендации погибшего Прокопа, тоже сожжен. Разведчики ходили, проверили. Никто не уцелел. Теперь, после столкновения с немцами, надо ждать усиления режима в городе. Работать станет сложнее.
Елизавета, жена Осипа, убрала грязную посуду и ушла к себе. Мигала на столе коптилка с самодельным фитилем, тихо шуршали за печкой рыжие тараканы, шумел за окнами ветер, сгоняя к Немежу тучи, обкладывая город пеленой затяжного дождя, пряча за облаками звезды и холодную, белую луну.
Трое сидевших за столом мужчин молчали. Помощи ждать не приходится — отряды партизан далеко в лесах, в город им хода нет, а полностью полагаться на помощь подполья в таких вопросах невозможно. Враг сейчас сильнее и многочисленнее, но надо перехитрить его, заставить отказаться от наступления и принять оборону от горстки чекистов и подпольщиков, вынудить метаться в поисках решений для ответа на их неожиданные действия. А город мал, каждодневно придется ходить по одним и тем же улицам, встречаться с людьми, преимущественно знающими друг друга, — если не лично, то хотя бы в лицо.
«На это и рассчитывал Бергер, — подумал Антон. — Развернуться тут негде, кругом наткнешься на его людей и получишь только то, что он милостиво соизволит тебе дать. В любой момент он контролирует обстановку, распоряжаясь твоей жизнью и смертью. Как только ему покажется, что ситуация стала неуправляемой, он обрушит на город всю силу полицейского и эсэсовокого аппарата, битком набьет тюрьму, прочешет кварталы, устроит облавы, массовые аресты, а потом, оперируя фактами, будет разбираться на допросах, кто и какую роль играл в подполье… Об этом свидетельствует сожжение деревни и хутора, на котором был Слобода. С полным основанием можно предположить, что и другие пункты его маршрута теперь немы, поскольку их просто-напросто более не существует. Тактика «выжженной земли», столь любимая обер-фюрером и его учеником фон Бютцовым. Строят загон, готовясь погнать чужих разведчиков к нужному результату? Но к какому? Почему они уничтожали все следы? Ответа два — либо Слобода понес дезинформацию, рассчитанную на длинную политическую интригу, либо немца действительно прокололись, недоглядели и допустили утечку важных сведений, а сейчас выворачиваются, напуская туману, заставляя нас не верить Слободе и принесенным им сведениям. Но мы должны установить истину, как бы трудно это не было сделать и чего бы это нам не стоило».
— Обмозговать все надо как следует, — нарушил затянувшееся молчание Волков. — Пока могу сказать одно: придется разделиться. Другого выхода не вижу.
— Как? — повернул к нему лицо Павел Романович.
— Вот и подумаем, как, — улыбнулся Дитон. — Поделим работу и разойдемся по разным явкам. Надеюсь, Осип Герасимович найдет нам еще одну надежную квартирку?
— Постараемся, — вздохнул хозяин. — Трудно, конечно, но постараемся. Есть у меня один хороший человек, гробы для немцев делает. Не побрезгуете?
— Не побрезгуем, — успокоил Семенов. — Где он живет?
— Почти в центре. Квартира удобная, с черным ходом в проходной двор. Другой вход через парадное с улицы. Сын у него в партизанах, но об этом никто не знает. Считают, что пропал без вести в начале войны, а он не разубеждает. Живет вдвоем с женой, оба помогают мне, и знаем друг друга давно, с детства. Кто туда пойдет?
— Наверное, я, — отозвался Волков. — Приятелю моему, — он кивнул на Семенова, — нет резона в центре поселяться, особенно после сегодняшнего случая. И вот еще что, дорогой Осип Герасимович, пора искать надежные и безопасные пути выхода из города. Возвращаться через минное поле нет желания, да и открыта эта дорога только ночью. Опять же, нет гарантий, что теперь немцы не выставят там посты или не проложат маршрут для патруля. Поищете?
— Обязательно, — заверил хозяин, провожая гостей в отведенную им комнату.
Улегшись на кровати, долго курили. Семенов еще раз, во всех подробностях рассказал товарищу о происшествии, а тот поделился с ним своими сомнениями.
— Не веришь в измену? — шепотом, чтобы не услышали хозяева, спросил Павел Романович.
— Моей веры или неверия мало, — помолчав, горько сказал Антон. — Нам дано задание принести точный ответ, исключающий любые сомнения. Как мне кажется, господа Бергер и Бютцов такой ответ для нас заранее приготовили и только ждали, пока мы за ним придем. Самое страшное, Паша, что ответ они могут дать самый что ни на есть правдивый. А у нас ему не поверят!
— Думаешь, сыграют от обратности? — приподнявшись на локте и вглядываясь в темноту, туда, где лежал Волков, встревоженно опросил Семенов.
— Они нас тоже неплохо изучили. Будем надеяться, что сегодня тебя приняли за партизана или подпольщина. Но почему около этой явки, даже давно сгоревшей, оставлен пост немецкого наблюдения? Сапожник мог быть не один, рядом могли гулять наружники, специально выделенные для выявления незнакомых людей, проявляющих интерес к пожарищу. Почему Бергер и Бютцов не жалеют на это сил? Почему и как, если Слобода ими не завербован, они узнали весь его маршрут и уничтожили свидетелей?
— Торопишься, — откинулся на тощую подушку Павел Романович. — Пока неизвестно, как с другими населенными пунктами. Ермаков не дал ответа, а здесь шуровали каратели.
— Погоди, даст, — невесело ответил Антон. — Худо дело, если они нас обоих уже засекли. Тогда мне надо тянуть их за собой, делать вид, что пошел на поводу и сам лезу в их западню.
— Опасно!
— Не очень. Им надо впихнуть нам свое, поэтому, думаю, выпустят из города, если убедятся, что заглотил их наживку и потащил ее за линию фронта. А ты тем временем, оставаясь в тени, будешь скрупулезно все проверять. Живым, в случае чего, я все одно не дамся.
— Не дело, — отрезал Семенов. — Часть твоего плана годится, но не весь целиком. Подумаем еще, чтобы свести риск к минимуму.
Волков не ответил. Закинув руки за голову, он прислушивался к шуму деревьев за окнами домика.
Надо понять ход мыслей Бергера и Бютцова еще до побега Слободы: начали они операцию загодя или разработали ее уже потом, когда смертник ушел из их рук? От этого сейчас многое зависит — поймешь, разгадаешь или нет?1 Надо ломать голову и думать, думать, искать слабое звено в их замысле и бить по нему, неожиданно для врага, так, чтобы он ничего не уопел предпринять, пребывая в полной уверенности собственной неуязвимости и изворотливости. Вот только где оно, это слабое звено?
Осип Герасимович щупает подходы к замку, парикмахерша Нина должна в самое ближайшее время устроить встречу со словаком — в отношении него направлен запрос в Москву, но пока не дали ответа. Кто-то сейчас в далекой Словакии работает в Прешове, собирав сведения о Ярославе Томашевиче? Время бежит, а сделано еще так мало…
Под утро приснился ему отец Тони, виденный им только на фотографиях предвоенной поры, — грустный и опечаленный, он укоризненно, с мольбой в глазах глядел на Антона. Потом он исчез и появился фон Бютцов — совсем такой, каким его видел Волков в Польше сорокового года, когда они вместе оказались в абвер-команде подполковника Ругге. Конрад, одетый в щегольский штатский костюм, тащил на плече какую-то скульптуру и радостно склабился, приветственно помахивая рукой.
— Тараканов! — закричал он, назвав Волкова по фамилии, под которой тот работал в Польше. — Спрятался в Таракановке и думаешь тебя не найдут?..
Открыв глаза, Антон увидел за окном серый свет утра. Ветер утих, дождя пока не было. За перегородкой возилась у печи Елизавета и глухо басил разговаривавший с ней Павел Романович, расспрашивавший о столь странном названии трущобного поселка.
Выйдя на половину хозяев, Волков пожелал всем доброго утра и попросил налить в стаканчик для бритья горячей воды. Намылив щеки, он тщательно начал скрести их бритвой.
— Как спалось? — в горницу вошел Осип Герасимович. — Я уже сходил в город, гробовщик готов принять постояльца. Не передумали? Кто пойдет?
— Я, — Антон предостерегающе поглядел на хотевшего возразить Павла Романовича, призывая того согласиться с принятым решением.
— И вот еще что, Осип Герасимович, — попросил Волков, вытирая полотенцем лицо. — Нужен доктор. Хороший, надежный, желательно опытный и не трусливый. Сможете?
— Доктор? — озадаченно переспросил хозяин явки. — Поищем… А как скоро надо и чего ему говорить?
— Надо еще вчера, — улыбнулся Антон. — Договоримся так: найдете, сразу окажете, а я буду с нетерпением ждать.
На завод Сергей Иванович Кривошеин приехал затемно. Тяжело отдуваясь — погода скачет, будь она неладна, оттого и сердечко прихватывает, — поднялся по лестнице и, пройдя коридором, без стука отворил, дверь кабинета Первухина.
Тот оторвал вихрастую голову от бумаг и покрасневшими от ночных бдений глазами недобро глянул на вошедшего. Не обращая внимания на его красноречивые взгляды, Сергей Иванович прошел к столу и по-хозяйски уселся на стул. Достал портсигар, вынул папиросу, размял, прикурил, с наслаждением выпустив струю сизого дыма и поглаживая пальцами шрам на тыльной стороне ладони.
Первухин откинулся на спинку кресла и прищурился — если Кривошеин гладит свой рубец, хорошего не жди.
— Зачем пожаловал? — прервал» молчание хозяин, и Сергей Иванович отметил, что того проняло бесцеремонное вторжение. Забеспокоился, ишь как вскинулся и глазенками сверлит, чует за собой грех, пакостник.
— Девчонку уволил все-таки? — Кривошеин снял фуражку и положил ее на край стола.
Первухин покосился на фуражку, словно это была по меньшей мере бомба со взведенным механизмом, и, быстро облизнув языком пересохшие от волнения губы, полез в сейф. Вытащив из него тонкие корочки личного дела, поставил их перед собой как щит, повернув лицевой стороной к незваному гостю.
— Видишь, — он постучал по корочкам ногтем, обращая внимание Сергея Ивановича на крупную надпись красным карандашом, сделанную в правом верхнем углу: «Внимание! Дочь врага народа». — Вопросы есть? Или опять будем вспоминать ваши собственные ориентировки, уважаемый Сергей Иванович?
Последние слова он постарался произнести с максимальным сарказмом и донельзя довольный собой опять откинулся на жесткую деревянную спинку кресла, словно впечатавшись в нее спиной.
Кривошеин скользнул взглядом по корочкам и презрительно скривил губы:
— Рапорток из ревности нацарапал? Думаешь, я не проверил насчет твоих домогательств к Сушковой? От народа, Первухин, ничего утаить не удается, рано или поздно все открывается. А ты забыл, что тебя поставили народ охранять от врага, а не делать врагов из народа?
Хозяин кабинета немного побледнел, но быстро взял себя в руки и перешел в атаку:
— Странно слышать это от вас, начальника отдела контрразведки. Странно, если не сказать большего…
— А ты скажи, не стесняйся, — прервал его Кривошеин. — Скажи! Чего уж таить друг против друга камень за пазухой?
— И скажу! — с вызовом ответил Первухин, нервно приглаживая вихры на затылке. — Преступно! Вот что я скажу. Покрываете чуждые нам элементы и еще смеете меня упрекать за своевременную сигнализацию в отношении морального падения нашего сотрудника, приезжавшего сюда в командировку из Москвы? В этом стоит разобраться.
— Разберемся, — мрачно пообещал Сергей Иванович. — Обязательно разберемся. Как моя бабка говаривала: «Аки дадено, тако же и воздашется». Мудрая была старуха, хоть и неграмотная. На, читай!
Достав из папки тонкую пачку листков, он положил их на стол перед Первухиным.
— Здесь показания задержанного, вернее, найденного раненым связника немецких агентов. Ты читай, читай, бдительный страж.
Метнув на него сердитый и обеспокоенный взгляд, Первухин подтянул к себе листы и начал читать. Буквально через минуту его лоб покрылся испариной, а щеки яркими красными пятнами, похожими на предсмертный чахоточный румянец. Отодвинув от себя листки, он поднял на Кривошеина глаза:
— Это ложь и оговор! Здесь нет ни единого слова правды. Савелий Борисович прекрасный специалист и вне всяких подозрений.
— Шпион твой Савелий Борисович, — забирая бумаги, устало сказал Сергей Иванович. — У меня машина внизу и люди ждут. Брать надо.
Первухин вскочил и заметался по кабинету, бестолково поворачиваясь, словно постоянно натыкался на невидимые преграды.
Такого поворота он не ожидал. Что теперь будет? Нет, не с инженером Сампольским Савелием Борисовичем, в котором он своевременно не сумел разгадать вражеского агента, а с ним самим, с Первухиным? Что будет? Время военное, по делу, связанному с заводами, приезжали из Москвы, там знают, а Кривошеин не преминет измазать его дерьмом в этой и без того неприглядной истории. Все вспомнит: рапорт на Волкова, увольнение строптивой девки, не захотевшей ответить взаимностью заместителю директора по найму, пришьют еще халатность, если не хуже.
Схватившись было за трубку телефона, — он даже не знал сам, кому и зачем он хочет позвонить, — Первухин вдруг услышал резкий окрик:
— Сядь! Не лапай телефон, ну!
Медленно вернувшись к своему креслу и чувствуя, как прыгают непослушные губы, он жалко просипел:
— Что вы… Сергей Иванович?! Вы же меня… Я же всегда, еще в комсомоле…
— Я тебе обещал, что разберемся, — напомнил Кривошеин. — Худо стало, как самого за штаны потянули?
— Худо, — заискивающе и жалко улыбнулся Первухин. Он готов был сейчас соглашаться с кем и с чем угодно, лишь бы не последовало определенных оргвыводов, а то и его будут ждать внизу люди и машина.
— Вот видишь, как другим-то бывает? Может, теперь народ начнешь хоть немного понимать, — усмехнулся Сергей Иванович. — Где сейчас Сомпольский? У себя? Звони, попроси зайти.
— А что я ему, собственно?.. — положив руку на телефон, беспомощно заморгал Первухин.
— Размазня, — рассердился Кривошеин. — Скажи, что лаборантку новую подобрал. Давай звони, время идет. Потом мне его личное дело дашь…
Сомпольский пришел минут через пять. Небрежно кивнув Кривошеину, он уважительно поздоровался за руку с Первухиным и, поглядев внимательнее в его лицо, встревоженно опросил:
— Как вы себя чувствуете, не заболели?
Сергей Иванович оглядел инженера. Ничего примечательного, лет под шестьдесят, прилично одетый. Зачем он связался с немцами? Ненавидит Советскую власть? Или пожадничал, а может быть, просто поймали на старых грешках? Выясним, теперь никуда не денется.
— Присядьте, Савелий Борисович, — предложил он инженеру. — Давайте поговорим.
— Давайте, — легко согласился тот и поискал глазами, куда присесть, но свободных стульев не было.
— Хотя нет, — поднялся Кривошеин и взял свою фуражку. — Поехали лучше ко мне, там и поговорим. А то здесь и присесть-то не на что.
— Понятно, — протянул Сомпольский. Достал платок и высморкался. — Оружия, у меня нет, яду тоже, но вы что-то припозднились. Я ждал раньше, когда Геннадий пропал.
— Мы и так вовремя, — насупился Кривошеин. — Я полагаю, у нас не возникнет недоразумений?
— Зачем же, — криво усмехнулся инженер, — проигрывать надо тоже уметь, а я знал на что шел. Теперь придется все как на духу, раз уж вы до меня докопались. Прощайте, — поклонился он Первухину.
Тот дернулся, как от удара, и отвернулся к окну, уставившись на чумазый маневровый паровоз, тащивший по заводской узкоколейке платформы с металлоломом, словно в настоящий момент зто было для него самым важным в жизни и требовало пристального внимания.
— Дело сам привезешь, — открывая перед инженером дверь, напомнил Сергей Иванович. — И чтобы разговоров тут не было, потому я один зашел. Ясно? Жду!
Хлопнула дверь, проскрипели по коридору сапоги начальника отдела контрразведки и простучали каблуки Сомпольского, все затихло, а Первухин все смотрел и смотрел в окно. Маневровый паровоз давно утащил платформы, раз или два звонил телефон на столе, а он никак не мог выйти из транса.
Докопался неугомонный Кривошеин, до всего докопался — до шпиона, до приставаний к лаборантке, до рапорта. Хотя зачем лгать самому себе — это был тривиальный донос, в том числе из ревности. Но что же теперь будет с ним? Что?
Навестить Тоню, работавшую в госпитале, Кривошеин выбрался только через несколько дней. Сомпольский не обманул — он рассказал все действительно как на духу, выторговывая себе жизнь.
История оказалась простой и в то же время страшной. Связник был двоюродным братом Сомпольского, во время первой мировой войны попавшим в немецкий плен и там давшим согласие сотрудничать с немецкой военной разведкой. Вернувшись после заключения мира в Россию, он вступил в белую армию, воевал на юге, потом, сумел добыть себе новые документы и скрыться, устроившись на жительство в Харькове, ставшем столицей Советской Украины.
Однако прошлое не давало покоя, и Геннадий Сомпольский переехал в Ленинград, потом в Свердловск. Оттуда наведался к брату, давно потерявшему его из виду. Обнялись, поговорили.
Савелий Борисович ни в каких партиях не состоял, в белых армиях не воевал, с гражданской администрацией адмирала Колчака не сотрудничал и до революции не имел ни грехов, ни заслуг — просто-таки круглый со всех сторон человек и всем удобный, исповедывавший вечные обывательские принципы «не высовываться». Жил одиноко, по-провинциальному донжуанствовал, заводя необязательные романы и с легкостью расставаясь с подругами, чтобы заменить их на новых.
Советская власть его уплотнила, и от этого он жестоко страдал, не имея возможности чувствовать себя в квартире полным хозяином. Солгав соседям, что зашел сослуживец, он долго слушал одиссею кузена, крутя головой и сочувственно кивая при рассказах о мытарствах, выпавших на долю Геннадия.
За разговорами выпили пару бутылок вина, спать легли поздно, но и ночью курили и разговаривали. Родственность была в Савелии Борисовиче крепка, опять же не кто-нибудь, а кузен пожаловал, и надо ему помочь чем можно. Вот только как и чем?
К удивлению Савелия, кузен помощи не просил, а сам наставлял, как инженеру себя вести с новыми хозяевами, — не перечить, упаси господь вредить чем бы то ни было, не собирать подозрительных компаний, выбиваться в люди, пользующиеся авторитетом. Геннадий был старше, много повидал, и Сомпольский прислушивался к его советам. Попросив ссудить деньгами, кузен исчез, чтобы снова объявиться только через пять лет.
За это время Савелий Борисович успел жениться, переехал к супруге в ее домик на окраине, с садом и огородом, потихоньку начав погружаться в сонную одурь хозяйственных забот. То солили на зиму огурцы и квасили капусту, то собирали яблоки, то занимались огородом — нэп кончился, жили голодновато, и волей-неволей приходилось постоянно думать о хлебе насущном. На службе его положение было, прочным — он охотно брал сверхурочную работу, не вступал в споры с выдвиженцами и аккуратно посещал открытые собрания. Многие считали его человеком недалеким, но вполне благопристойным и заслуживающим доверия.
— Жируешь, — хмыкнул Геннадий, осматривая хозяйство двоюродного брата.
— Есть хочется, — насупился Савелий. Годы прошли, растаял потихоньку задор молодости, и стала все чаще одолевать грустная печаль по прошлому, когда он жил безбедно и не думал со страхом о завтрашнем дне. И разве о такой супруге мечтал он? Купчиха-кулачиха, нечто среднее между Кабанихой и Салтычихой, да еще собой как комод-бегемот. И угораздил же господь!
Куда девались ее девичья стройность и завлекательные формы, заросшие плотным жирком? Детей бог не дал, так и коптят небо, туго набивая утробу и выпивая для аппетита по лафитничку полынной перед ужином. Мерзость! А жена еще, оказывается, умеет храпеть и браниться. На службе только молчи и молчи, даже когда видишь, какие глупости делают в цехах. Но эта позиция нравилась Сомпольскому — сам вроде бы не навредил ничем, а действовал по пословице: слово серебро, молчание — золото. Зато потом можно вдоволь позлорадствовать в душе над неумехами. Правда, огорчает, что учатся они слишком быстро и делают заметные успехи, но да уж…
Оглядывая кузена — похудевшего, загорелого под нездешним солнцем, ставшего поджарым, как гончий пес, Савелий Борисович процедил:
— Откуда ты свалился? И как меня здесь нашел?
В отличие от прошлой встречи особой радости он не испытывал — черт этого Генку знает, а большевики шутить не любят. Но злобы на них успело накопиться столько — хоть горстями через край плескай, и будет шипеть она и пениться, заливая все вокруг смертельным ядом. Это они, новые хозяева, во всем виноваты — что жена дура и заросла жиром, что пришлось навсегда расстаться с привычно милым образом жизни, что переехал в этот проклятый домик на окраине и вообще. Иногда хотелось задушить кого-нибудь из них, просто взять и задушить, не думая о последствиях.
В те дни, когда такие желания одолевали особенно сильно и становилось просто страшно за себя, Савелий Борисович старался поскорее вернуться домой. Прокрадывался к заветному шкапчику с графином полынной водки и прилипал губами к его горлышку, не чувствуя жгучей крепости настоянного на степной траве спиртного.
Через несколько минут наступало отупение, хмель брал свое, и недокуренная папироса выпадала из ослабевших пальцев. Едва успевал доползти до дивана или кровати, падал и засыпал мертвецким сном, уже не слыша, как шумит над ним разъяренная супруга.
Да вот беда, стали такие дни чаще, жена пыталась прятать графинчик, но он, как прекрасно выдрессированная ищейка, просто нюхом отыскивал его в любых, самых замысловатых похоронках. И напивался, «назюзикивался», как говорила жена. Где старые времена, где? Разве с ним тогда могло произойти такое? А тут еще Генка.
Кузен захотел осмотреть все хозяйство, ничего не пропуская. Дотошно заглядывал в каждую каморку, облазил сад и огород, а после этого возжелал попариться в баньке, срубленной на задах.
Отдыхая от парной, закусывали под все ту же полынную, Геннадий, не обращая внимания на замиравшего от ужаса брата, негромко вещал, что прибыл он из Маньчжурии, где обретался в городе Харбине, нелегально перейдя границу. А теперь вот пришло время вернуться и снова пожить здесь.
— Ты это… Как же сюда попал? — поперхнувшись водкой и едва отдышавшись, спросил с испугом Савелий. — Опять нелегально?
— Кто же мне паспорт даст, — криво усмехнулся кузен. — Ты только и поможешь, а то там такую липу сварганили, не знаю, как до тебя сумел доехать, нигде не загремев.
Падали на стол с закусками лучи вечернего солнца, проникая через низкое узкое оконце предбанника, золотилась в графинчике полынная, алели надкушенные помидоры, такие яркие рядом с зелеными перьями свежего, недавно сорванного на собственном огороде лука, дымилась папироса в тонкой, крепкой руке кузена, а Сомпольский не мог поверить в реальность происходящего. Может, он, как часто теперь случалось, перехватил лишку и теперь мучается пьяным бредом, допившись до горячки и галлюцинаций? А рядом нет никакого кузена, только его фантом, рожденный отравленным алкоголем мозгом?
Савелий ошалело потряс хмельной головой, словно пытаясь прогнать ужасное видение и вытряхнуть из ушей страшные слова, но Геннадий не пропал.
— Завод тут строят, — аппетитно хрустя квашеной капустой, тихо говорил он. — Помоги мне туда попасть. Кем угодно. Главное, чтобы документы выправить, а после я не задержусь, у меня другие планы.
— Как же я тебя с твоей липой?.. — вытаращился на него Савелий.
— Проверено, — засмеялся кузен. — Паспортов еще у Советов нету в деревнях, а нужная справка у меня есть. Не бойся, настоящая. И жить я у тебя не стану. И вообще я у тебя не был и ты про меня ничего не знаешь. Понял? Ну, поможешь?
— Попробую, — наливая себе водки, вяло пообещал инженер.
— Э-э, — брезгливо скривился Геннадии, заметив, как дрожат руки брата, проливавшего мимо зелье. — Такой ты мне не помощник. Лечить будем.
— Да?! Лечить? — взвизгнул Савелий. И прорвало…
Брызгая слюной, он бросал в лицо кузена горькие слова, всхлипывая и икая, говорил и говорил о том, как он живет тут, среди проклятых лапотников, все более и более опускаясь и не видя никакого выхода. О, если бы он мог взорвать их вместе с их властью, строящимися заводами, колхозами, кремлем! И повернуть все на старое, как прежде.
— Нормально, — подытожил кузен, дождавшись, когда Сомпольский выговорится и обмякнет, утомленный вспышкой бессильной ярости. — Начнем помогать друг другу.
Устроить Геннадия на стройку оказалось проще простого — рабочих рук не хватало и никто особо ни о чем не расспрашивал. Через несколько дней кузен постучался вечером в окна дома Сомпольских.
— Пошли, дело есть, — мрачно сообщил он выглянувшему на стук Савелию Борисовичу.
Тот неохотно собрался и вышел из дому, отмахнувшись от заворчавшей жены. Идти никуда не хотелось, на душе было противно, и поселился в ней нехороший страх после появления кузена. Донести? Так самого упекут куда макар телят не гонял.
Геннадий привел его в небольшую деревушку, раскинувшуюся почти в пригороде, велел ждать около невзрачного домика, а сам скрылся за его скрипучей дверью. Вскоре он вернулся и позвал брата с собой.
Войдя, Савелий Борисович долго моргал от чада множества лампад перед киотом и запаха незнакомых трав, щекотавшего в носу и вызывавшего неудержимое желание чихнуть. Проморгавшись, заметил маленькую сгорбленную старушку, сидевшую на длинной лавке с пятнистой кошкой на коленях. Он вообще с детства терпеть не мог кошек, а тут еще вдобавок вонь, непролазная грязь, старуха, похожая на ведьму. Зачем они здесь?
— Подойди, — легонько толкнул его в спину кузен. Инженер послушался.
Старуха неожиданно цепко прихватила его своими жесткими, костлявыми пальцами за ухо и посадила рядом с собой на лавку. Савелий хотел возмутиться таким обращением, вырваться, но… покорно сел, почувствовав, как разом ослабели и воля и колени, а язык словно прилип к гортани.
В губы ткнулась деревянная плошка с теплым вонючим питьем, и ведьма ласково прошепелявила:
— Пей, касатик, пей.
Перестав удивляться и сопротивляться даже внутренне, инженер глотнул пахучую жидкость и ощутил легкое головокружение.
Остальное он помнил смутно. Бабка колола его какими-то иглами, поставив перед крыльцом, обливала голого холодной водой из ведра и бормотала наговоры…
Очнулся Савелий Борисович от этого кошмара у себя дома, на постели, ранним утром следующего дня. Голова нестерпимо трещала, как с глухого похмелья, во рту противная сухость, рядом басовито всхрапывает жена, а ходики на стене показывают половину пятого. Не сон ли ему привиделся? Но грязные, вымазанные рыжей глиной сапоги, не вымытые женой с вечера и валявшиеся у порога, говорили: нет, не сон!
Потихоньку он ополз с кровати и прокрался к заветному шкапчику. Прилип губами к родному горлышку графина, глотнул, ожидая знакомого жжения в горле и пота слабости, несущего долгожданное облегчение, однако вместо этого почувствовал неудержимый приступ тошноты. Едва успел выбежать на двор и долго, мучительно выблевывал нутро за углом сарая, жутко ненавидя весь белый свет, проклятую старую ведьму, лишившую его забвения в вине, и хитроумного кузена, выполнившего свое обещание. Отдышавшись, Сомпольский понял, что пить он больше не сможет. Никогда. Иначе приступ будет еще хуже — он еще ни разу не обманулся в своих внутренних ощущениях, а экспериментировать не было никакого желания.
И началась трезвая жизнь, ставшая для него еще более мучительной, чем прежняя. Злоба уже не копилась и не плескалась через край, она душила…
Кузен, словно подслушав его настроение, вновь неожиданно объявился. Попарились в баньке, куда не было ходу супруге, пили после парной квасок и монотонно журчал голос Геннадия, наставлявшего, как жить дальше: что и где узнавать, чем интересоваться, а чем нет, с кем заводить знакомства, а кого опасаться как огня.
— Уеду я, — потянувшись тощим сильным телом, сказал кузен. — А ты жди, новые люди теперь у власти в Германии, свернут они нашим шею, дай только срок.
— Пока солнце взойдет, роса очи выест, — уныло ответил Савелий. — Тяжко мне, Гена, да еще эта под боком…
— Уладим, — хохотнул, хлопнув брата по плечу, бывший офицер, — не все сразу. Но гляди, — он приблизил свое лицо почти вплотную к брату, — ты мне потом свободный нужен будешь. Понял? Новый хомут не надень.
Савелий только недоверчиво хмыкнул и забыл про тот разговор, а кузен вскоре исчез, будто его и не было.
Зимой, отправившись на речку полоскать белье, жена неожиданно провалилась в полынью и, вытащенная из нее, не приходя в сознание, тут же скончалась. Да и вытащили-то, как выяснилось, уже только труп.
Овдовев, Сомпольский первое время погоревал хозяйство приходило в упадок, разладился быт. Но потом он потихоньку ожил и вспомнил про обещание кузена — неужто у него остались здесь люди, способные на убийство? Иначе с чего бы вдруг здоровой трезвой женщине утонуть, не заметив огромной, черной на фоне льда, полыньи? От таких мыслей делалось томление в груди и становилось страшно до икоты. Однако постепенно он успокоился.
Страна жила большими делами — в том большом мире были Халхин-Гол и полеты Чкалова, Магнитка и Ксмсомольск-на-Амуре, процессы троцкистов и спасение челюскинцев, а в маленьком мире Савелия Борисовича родился и окреп холодный расчет, возобновились ни к чему не обязывающие встречи с дамами под патефон и сладенькое винцо, которого он в рот не брал. Сказать, что Сомпольский не ждал кузена, нельзя — иногда появлялись незнакомые, судя по всему проезжие люди, стучали в окно, оставались переночевать и жадно выспрашивали новости о заводе, обещая, что и Геннадий вот-вот объявится.
Появился тот в сорок первом, вместе с толпами эвакуированных. Придирчиво оглядев домик брата, скупо похвалил:
— Молодцом, но про баб теперь забыть. Дело делать будем.
Где устроился кузен, Сомпольский не знал, но частенько тот неделями оставался у него, не выходя из дому. Завел себе рабочий ватник, серые валенки с самодельными галошами, оклеенными из старых автомобильных камер, рваный треух и в этом одеянии неузнаваемо преображался. Попытки кузена диктовать Савелий пресек — сам набрался опыта и лучше его знал то, что интересовало «друзей» Геннадия. А деньги у того были, много денег.
После поражения немцев под Москвой кузен на лето пропал и вновь объявился только поздней осенью — злой, похудевший, но довольный.
— Нормально, — жадно поглощая пищу, бурчал он с набитым ртом, — все нормально. Глупо рассчитывать свалить их за три-четыре месяца. Но мы свое сделаем так, что они всю жизнь не додумаются.
И опять пошло по-прежнему: исчезновения, появления, недельные затворничества. Савелий Борисович боялся, что кузен прячет рацию, но тот как-то со смехом объяснил, что отсюда до немцев не достанет портативная рация, да и не нужна она, когда есть надежная и отлаженная связь: радировать — дело других, а их забота — добывать данные о стали, броневых листах, характеристиках выпускаемых боевых машин.
Когда Геннадий пропал в очередной раз, Сомпольский сначала не встревожился, но потом случайно узнал от одной давней знакомой о неизвестном раненом, которого чекисты прячут в палате военного госпиталя, и сердце сразу нехорошо екнуло — конец! Бежать? Куда? Бежать ему некуда, и оставалось только молить бога, чтобы кузен отдал ему свою грешную душу, и трястись от страха при звуке проезжавших под окнами машин и каждом стуке в двери — вдруг за ним, или, хуже того, пришли сделать то же, что сделали с Геннадием? Ведь его убрали свои же, то есть его… Тьфу, пропасть, запутаешься!
Почему-то чекисты казались ему в этой ситуации чуть ли не избавлением от неминуемой смерти — все же русские, а там как кривая вывезет…
Тоня спустилась по лестнице со второго этажа, и пока она медленно шла вниз, Кривошеин успел разглядеть, как похудела девушка, отметить глубоко залегшие под глазами тени, запавшие щеки и почти восковую бледность ее лица. Поздоровавшись, она поправила волосы под косынкой и устало присела на деревянную скамью, жестом предложив Кривошеину располагаться рядом.
— Устала? — не зная, как начать разговор, и удивляясь собственной робости в ее присутствии, спросил Сергей Иванович.
О чем с ней говорить? Начать рассказывать про Первухина, обещать устроить ее вновь на завод? Пойдет ли? Вон как упрямо закусила губу и уставила глаза в пол, выложенный кафельными плитками, — квадратик желтый, квадратик красный, потом снова желтый…
— Устала, — эхом откликнулась Тоня.
Он уловил запах карболки и йода, — запах госпиталя и послеоперационных больных.
— Тяжелых много, — вздохнула она. — Бои большие были. У нас все койки забиты, даже по коридорам лежат. Что же во фронтовых-то госпиталях?
Кривошеин не ответил. Зачем его вообще принесло сюда: утешить, помочь, сказать какие-то необязательные слова?
— Может, помочь тебе чем? — он вытащил платок и высморкался, проклиная себя в душе за то, что не способен найти для нее верных слов. Ну не выходит, хоть режь.
— Достаньте мне пропуск в Москву, — повернувшись к нему неожиданно попросила она.
— …В Москву? — ошарашенно переспросил Сергей Иванович. — К своему Антону хочешь ехать? Только там ли он?
— Нет, — помолчав, ответила Тоня. — Некого мне больше просить, кроме вас. Родные у меня там, устроюсь как-нибудь, главное, чтобы пустили. Не здесь же рожать? Куда я здесь с дитем, кому нужна?
По ее щекам покатились слезинки, плечи мелко задрожали, и Кривошеин, неумело обняв ее, начал гладить по спине, приговаривая:
— Ты это, девка, брось… Слышь, брось. Вредно это для тебя теперь. Сколько уже?
— Два месяца, — уткнувшись лицом в его плечо, глухо сказала она.
— Дела, — протянул Сергей Иванович. Этого еще не хватало. Гоняет там где-то майор Волков и не знает, что у его невенчаной, не расписанной намечается прибавление. И, действительно, куда ей здесь с малым дитем податься, когда ни родни, ни жилья, ни бабок с дедками.
— Родня-то, как? — легонько отодвигая девушку от себя и заглядывая в зареванное Тонино лицо, участливо поинтересовался Кривошеин. — Не осудят? Примут?
И тут же пожалел о своем вопросе — нашелся, дурень, о чем спросить. И так, небось, тошно ей, хоть в прорубь или в омут головой, а ты выпытываешь-выспрашиваешь, не ведая жалости. Что же война делает с людьми и сами люди друг с другом?
— Ладно, ладно, — успокаивая, он встряхнул Тоню за плечи. — Не реви, похлопочем, придумаем что-либо. Да не реви, говорю, поедешь в свою Москву, договорюсь. Где его искать, знаешь? Антона твоего?
— Зачем? Зачем искать? — вытирая глаза концом косынки, она тонко всхлипнула. — Нужны будем, сам найдет, а навязываться…
— Дура, — не выдержав, выругался Кривошеин. — Он же и знать ничего не знает! Его в тот день пихнули в самолет и полетел. Служба наша такая и жизнь такая, а ты — «зачем?». Прекрати реветь, кому сказал! Уладится все. Достану я тебе пропуск, телеграмму дашь, чтобы встречали, а твоего суженого сам поищу.
— Не надо, — достав из кармана халата маленькое зеркальце, она поправила выбившиеся из-под косынки волосы. — Не надо, Сергей Иванович, это я сама так решила, и все. Добудьте пропуск и спасибо на том. Извините, пойду я.
Пожав на прощание ее узкую горячую ладонь, он остался стоять посреди приемного покоя — кряжистый, меднолицый, с фуражкой в руке. Мелькнул на лестнице белый халат, как проблеск — слабая улыбка, И Тоня ушла.
Глава 5
— Выше знамена… — ревел из динамиков большого приемника мужской хор, исполнявший «Хорста Весселя», и бравурная музыка, казалось, заполняла весь огромный кабинет.
Рейхсфюрер, лениво прищурив глаза за стеклышками пенсне, постукивал в такт пальцами по лежавшим перед ним бумагам. Губы его под усиками «щеткой» слегка шевелились, словно он неслышно подпевал хору.
«А почему, собственно, нет, — подумал сидевший по другую сторону стола группенфюрер Этнер. — Генрих тоже человек: жена, дочь, дом, заботы отца и мужа, почему он не может иметь обычных человеческих слабостей?»
Генрихом Этнер осмеливался называть рейхсфюрера только мысленно, и это, как ему казалось, помогало не то чтобы сравняться с ним, но, по крайней мере, видеть в Гиммлере товарища по партии, преодолевать свой страх при вызовах к всемогущему главе РСХА.
Несомненно, сегодня речь пойдет о летней кампании. Последние испытания на полигоне прошли весьма успешно и фюрер остался доволен, а Геббельс не преминул похвастать перед собравшимися подобранными им для радиопередач фанфарами, звучанием которых будет начинаться каждое новое победное сообщение с фронта.
Да, звуки фанфар действительно впечатляют, но группенфюрер все равно никогда не любил Йозефа Геббельса. Ему претило в нем все: внешний вид, привычки, многочисленные дети и даже его жена Магда Геббельс. Почему? Альфред Этнер и сам не смог бы точно ответить на этот вопрос. Если рейхсфюрер вызывал у него страх и уважение, а рейхсмаршал Геринг — брезгливые насмешки своими потугами псевдомецената и нувориша, то министр пропаганды просто был всегда очень неприятен. Однако все это группенфюрер держал внутри, никогда и ни с кем не делился своими мыслями. С кем здесь поделишься?
Не дослушав марш до конца, рейхсфюрер повернулся и выключил стоявший на тумбочке рядом со столом приемник. Повисла тишина.
Гиммлер пристально рассматривал ногти на руках и молчал, а Этнер чувствовал, как молчание рейхсфюрера с каждой новой минутой рождает у него все большую неуверенность в себе и тоскливое ощущение собственной никчемности. Начали неметь колени и мерзнуть кончики пальцев, бросало то в жар, то в холод, и хотелось скорее услышать, зачем он понадобился всемогущему Генриху, зачем? Пусть скажет, и тогда наступит облегчение, перестанет давить гнетущая неизвестность.
— Как дела у Бергера? — тихо спросил Гиммлер, и у Этнера сразу упал камень с сердца. Стало легко и спокойно.
— Завершена первая фаза операции «Севильский цирюльник». Я запросил подробный доклад.
Гиммлер поднял голову и посмотрел на слегка порозовевшего от волнения Этнера, отметив про себя, что тот не изменяет привычке носить штатское платье. Хотя какое это имеет значение: нравится — пусть носит, только бы делал дело как положено. Важен результат, а не внешние проформы.
— Долго он еще собирается там оставаться? — все так же тихо поинтересовался рейхсфюрер.
— Я полагал окончательно решить вопрос о целесообразности его дальнейшего пребывания в Белоруссии после получения доклада, — почтительно наклонил голову группенфюрер. — Но если вы считаете, что обер-фюрер должен срочно вернуться, то…
— Просто спрашиваю, — прервал его Гиммлер. — Он может мне понадобиться, наш старый добрый Отто Бергер. Тонкий ум, пропасть хитрости и опыта. Не так ли?
Этнер непроизвольно кивнул, так и не поняв — издевается рейхсфюрер или говорит о его подчиненном вполне искренне. Разве можно всегда полагаться на то, что ты правильно понял высказывания Генриха? Лучше уж согласно кивать и молчать.
— Надо всегда верить в победу, — поднявшись из-за стола и начав прохаживаться по кабинету, назидательно сказал Гиммлер. — Летом попробуем окончательно сломать хребет русским, но меня беспокоит замысел одной еще не разработанной до конца операции. Нет, не вашей, — успокоил он хотевшего вскочить Этнера, — совсем другой.
Некоторое время рейхсфюрер молчал, меряя шагами ковер на полу и глядя, как зарываются в густой ворс при каждом его шаге носки сапог, потом он вдруг хмыкнул и повернулся к группенфюреру:
— Скажите, по вашему мнению, смогут ли окончательно договориться Сталин, Черчилль и Рузвельт? Не по одному, а все вместе, втроем?
— Думаю, нет, рейхсфюрер, — вскочил Этнер.
— Однако они уже почти снюхались два года назад, — скривил губы Гиммлер в презрительной гримасе. — Я всегда не доверял англосаксам, а за океаном вообще живут только одни барышники и плутократы. Если не договорятся, то, может быть, сторгуются? Как полагаете? — И, не дожидаясь ответа, продолжил — Наблюдается снижение активности поставок русским оружия морским путем. Сталин этим недоволен, а Черчилль и Рузвельт опьянены временными успехами в Африке и не желают больше кормить на свои деньги свирепого русского медведя. Впрочем, на гербе Берлина тоже медведь.
Вернувшись за стол, рейхсфюрер перебрал лежавшие на нем бумаги и, откинувшись немного назад на спинку кресла, значительно сказал:
— Есть сведения, что они хотят встретиться: Сталин, Рузвельт и Черчилль. Пока неизвестно, где именно, но в этом году.
Этнер почувствовал, как у него вспотели ладони — вот зачем понадобился он Генриху, вот почему тот спрашивал, о Бергере — хочет поручить им работу по встрече «Большой тройки», как называют газеты руководителей вражеских держав? Жуткая перспектива.
Из праздного любопытства глава РСХА не станет интересоваться временем и местом встречи глав правительств враждебных стран. Он не из породы пустозвонов или жадных до сенсаций газетчиков из дешевых бульварных листков. Генрих — полицейский до мозга костей со всеми положительными и отрицательными качествами, присущими ему как каждому представителю этой древней профессии. Значит, в самом скором времени надо ждать решения о проведении акции в отношении «Тройки», и такая акция может носить только один характер. Если, конечно, решение уже не принято и не санкционировано фюрером.
Открываются прекрасные перспективы выдвинуться в этом деле на самый верх и столь же реальные перспективы потерять на нем все, что имеешь сейчас. Отдав Генриху Бергера, невольно будешь и сам втянут в подготовку и осуществление акции — лавры победителя и гнев фюрера равно падут на тебя. Но как не дать Бергера и как самому выскочить из этой мясорубки?
Этнеру показалось, что на его шее затягивается тонкая и очень прочная петля, мешая дышать и застилая глаза багровой, предсмертной пеленой. Боже, где же выход?
— Есть возможность покончить с ними разом. — Пальцы рейхсфюрера сжались в кулак так, что даже побелели костяшки, и от этого Этнеру стало еще хуже, словно кулак сжался на его горле, не давая протолкнуть внутрь ни глотка воздуха.
— Я хочу заранее создать несколько групп, — глядя в переносицу группенфюрера, продолжил Гиммлер, — чтобы предусмотреть различные варианты в местах возможной встречи.
«Полетит ли Сталин в Лондон? — лихорадочно гадал Этнер. — Скорее всего — нет, не полетит. Слишком опасен путь и близки базы нашей авиации: Лондон часто бомбят… Африка? Тоже маловероятно: он не захочет отрываться надолго от своих войск. Тогда Штаты? Нет, не должен согласиться. Но где, где? За что сейчас ухватиться и не проиграть, точно предугадав, что они там никогда не встретятся? Аляска, Север?»
— Обер-фюрер Бергер и я долгое время занимались Британией, — звенящим от напряжения голосом, осторожно начал группенфюрер, наконец решившись сделать свою ставку. — Мы можем быть полезными для разработки и осуществления английского варианта.
— Полагаете, они встретятся в Лондоне? — сверкнув стекляшками пенсне, метнул на него быстрый взгляд рейхсфюрер.
Он снова забарабанил пальцами по крышке стола, выбивая ритм «Хорста Весселя» и задумчиво причмокивая губами. Этнер, затаив дыхание, ждал.
— Что же, — наконец перестал стучать Гиммлер. — Это можно, хотя и с большой натяжкой, принять как один из вариантов. Но одновременно с ним стоит подумать об Африке. Согласны? Тогда возьмете вместе с Бергером эту часть работы. Позже доложите мне, какие люди вам нужны, и незамедлительно их получите.
— Я сегодня же вызову обер-фюрера в Берлин, — заверил Этнер.
— Не надо излишней торопливости, — чуть поморщился рейхсфюрер. — Пусть сначала пришлет доклад, поглядим, как там развиваются события. Возможно, Сталину после лета вообще станет не до встреч. По крайней мере, мне хочется так думать и надеяться. Прикиньте пока сами, а на следующей неделе, в среду, я жду вас с предварительным докладом по Англии и Африке. Хайль!
Петля ослабла, легкие жадно хватали живительный кислород, и Этнер, удостоенный чести пожать руку рейхсфюрера, как на крыльях вылетел в приемную и торопливо направился к себе. И только упав в кресло за собственным рабочим столом, он почувствовал, как смертельно устал от этого разговора, как он вымотал его, забрав последние силы. Но победа, победа!
Черта с два Сталин согласится на Лондон или Африку! А Этнер теперь вцепится в них зубами и никому не отдаст, придумав тысячи причин, которые ворохом высыплет перед рейхсфюрером. Бог мой, какое счастье, что он сумел добиться своего, — пусть с потерями, но все же вылез из петли. Бергер так и не узнает, кому он обязан сохранностью собственной задницы.
Ну ничего, свое он отработает, никуда не денется. Подняв трубку телефона, группенфюрер приказал секретарю:
— Разыщите обер-фюрера Бергера и соедините его со мной в любое время. Я жду…
Послушаем, что скажет старый лис, окопавшийся в далеком Немеже.
Этнер выдвинул ящик стола, и, не глядя, нашарил в нем пачку американских сигарет. Вытянув одну, он взял ее в рот, но не прикурил, а с наслаждением вдыхал запах ароматного табака, — может он себе позволить хоть какие-то маленькие радости и несколько минут отдыха, столь редкого за последнее время?
Обстановка продолжает осложняться, несмотря на все бодряческие заверения рейхсминистра пропаганды. После Сталинграда фюрер отдал приказ призывать в вермахт эльзасцев и лотарингцев, от чего ранее воздерживались, не считая их полноценными немцами, а так, странной и противоестественной помесью с французами. Но теперь об этом забыто — в воинские части направляют даже заключенных из тюрем, поскольку стало не до хорошего.
Нет, армия, конечно, еще весьма боеспособна и долго провоюет, если ей будет чем воевать, а промышленность уже серьезно напрягается, пусть незаметно для постороннего глаза, но тянет из последних сил, а русские выпускают на Урале все больше и больше танков, самолетов, орудий. Когда-нибудь они достигнут полного перевеса и уже немецкие пехотинцы побегут от их бронированных машин, спасая свою жизнь. Не дай бог увидеть и пережить такое.
Удар по выступу на центральной линии фронта Советов между Курском и Орлом решенное дело. Если и там постигнет неудача, то русские неудержимой лавиной покатятся к Днепру, вырвавшись на оперативный простор, — их генералы набрались опыта ведения современной войны, армия отмобилизована, хорошо оснащена, и сдержать напор будет крайне трудно.
Прикурив, группенфюрер с удовольствием затянулся табачным дымом и, достав из кошелька пфенниг, ловко подбросил его вверх. Прихлопнув монетку ладонью на крышке стола, загадал — если орел, то все будет нормально, а если…
Подняв ладонь, с раздражением увидел длинную и тощую единицу — пфенниг лежал орлом вниз.
Да ну его к черту, гадать! Он сердитым щелчком скинул монетку на пол и снял трубку зазуммерившего телефона — пора работать, хватит, отдохнул…
Ромин нервичал. Время шло, а совершить задуманное никак не удавалось — постоянно что-то мешало, ломало выношенные планы, заставляло пережидать, таиться. Иногда его охватывал суеверный ужас: неужели Скопин заговоренный и провидение отводит от него все напасти? Ну, посудить, при болезни, от которой другие прямым ходом отправляются на кладбище, этот усатый идиот поправился как ни в чем ни бывало; на фронте он уцелел, с немцами нашел, общий язык, что не каждому удается, не попал в руки чекистов, оказавшись снова по другую сторону, и сейчас живет, хотя ему пора бы уже полной мерой ответить за все его грехи.
И еще долго не отпускал страх — как на Урале? Вдруг чего не так сделал и потянется к нему нитка. Но, видно, спас господь, не потянулась, иначе давно бы уже добрались. Когда поезд пришел на конечную станцию, Ромин боялся выходить из вагона и только усилием воли заставил себя вроде бы как всегда отправиться на встречу со связником.
Проболтавшись по городу некоторое время — не дурак же он на самом деле появляться на рынке или в других местах, где раньше встречался с человеком в валенках с самодельными галошами, склеенными из старых автомобильных покрышек, — Ромин забрался в туалет, накинул крючок на дверь кабинки и нацарапал огрызком карандаша какую-то абракадабру на клочке бумаги, решив выдать ее за очередное послание, переданное связным. Скопин и так уже проявлял беспокойство, а растягивать прежнее, последнее, послание связника на несколько сеансов связи не было возможности. Удалось передать его в два приема — и то хлеб, но теперь все, хватит, отстучит эту ересь, а потом прикончит напарника, окончательно развязав себе руки.
Пока немцы очухаются, пока поймут, какую глупость он им загнал по волнам эфира, пока будут ждать следующего сеанса, чтобы потребовать объяснений, он уже навсегда забудет про этот кошмар. По крайней мере постарается забыть.
Пусть они потом там ломают головы и гадают, вертят перед собой так и сяк его произведение, пытаясь понять, что к чему, и еще не догадываясь, что он им показывает кукиш из-за угла. Проверить-то, господа хорошие, у вас все одно нет никакой возможности! А Скопин наушнички не возьмет, ключом не постучит…
В таком радужном настроении Ромин и выдал в эфир свою галиматью, не забыв тут же сжечь листок и выбросить ломкий пепел за окно служебного купе навстречу ветру, — пусть развеет по просторам последнее напоминание о последней радиограмме. Больше он этим заниматься не будет — хватит, побаловались.
К этой поездке он готовился основательно. Достал из тайника деньги и запасные документы — не фальшивка какая-нибудь, настоящие, добытые у порядком захмелевшего демобилизованного по чистой красноармейца. Об этих документиках никто не знает, а списанный из части по ранению боец, наверное, давно проспался и слезно вымолил себе новые.
Когда поезд тронулся, Ромин начал раздумывать — что сделать в первую очередь: избавиться от Скопина или от рации, спрятанной в фанерном чемодане под полкой служебного купе? С одной стороны, когда усатый напарник «отстанет» от поезда, могут проверить и осмотреть купе, а с другой — как уничтожить или выбросить рацию, если эта скотина сидит напротив тебя и, раздувая щеки, лоснящиеся от обильного пота, дует чай из блюдца, пристроив его на растопыренных пальцах?
Пожалуй, будет еще время надежно заховать проклятый чемодан, когда никакой Скопин уже не сможет помешать. На том Ромин и успокоился.
Пассажиры были обычные — старухи, командировочные, военные, пара хмурых мужиков, тут же завалившихся спать на полках, женщины с детьми, — никто из них не вызывал подозрений. Все сулило удачу, и от нетерпения даже покалывало в кончиках пальцев: скорее бы уж поезд дотянул до заветного полустанка с озерцом-болотцем, в котором уйдут концы на илистое дно.
Вагон уютно покачивало, над темной полосой леса, тянувшегося за окнами, плыла неестественно белая, казавшаяся огромной, луна с ясно видимыми пятнами своих морей и материков. В детстве, показывая ему на луну, няня говаривала: «Видишь, вон там Каин Авеля на себе несет». М-да, как это в писании — «Каин, где брат твой, Авель?».
Сказки, все ложь и бред! Нечего думать о Каине, сам Ромин не таков — его столько раз предавали и продавали, хотели убить, как Авеля, а он не давался, выворачивался, сохраняя жизнь. В нем вместе живут и Каин и Авель, как, наверное, в каждом человеке.
Ромин прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет, — сейчас дежурство Скопина, пусть он допивает чай и уматывает из купе по своим делам. Надоел, просто сил нет, а приходится терпеть. Ну ничего, недолго осталось.
Скопин допил чай — кипяток с жидкой заваркой из сушеных смородиновых листьев и трав, доскреб ложкой в банке из-под американской тушенки и выбросил пустую жестянку за окно. Подумав, прикрыл его, поднял раму. Зачем-то переставил в сторону фонарь с оплывавшей свечой и, прихватив чайник с остатками кипятка, вышел из купе.
«Потащился тамбур убирать, — лениво приоткрывая глаза, подумал Ромин. — Польет из чайника на пол и размажет веником, а потом начальство будет мне шею мылить за грязные полы. Сказать ему, чтобы не халтурил?»
Неохотно поднявшись, он зевнул и, отодвинув в сторону дверь, выглянул в коридор.
Все в вагоне спят, только курит у приоткрытого окна один из мужиков — чего ему не спится? Мерно отсчитывают стыки колеса, скрипит старый вагон, хлопнула дверь в соседнем тамбуре, и Ромин насторожился — кого там носит? Или Скопин решил начать с дальнего вагона, а потом убраться поближе к своему?
Осторожно пройдя по коридору, Ромин чуть приоткрыл дверь, ведущую в тамбур, и тут же захлопнул ее, судорожно нашаривая ключ, чтобы запереть замок.
Там, в тамбуре, бросилось в глаза неестественно бледное, с прилипшими ко лбу мокрыми волосами лицо напарника. Рядом с ним кто-то в форме, широкая спина, перекрещенная ремнем портупеи, и другие темные фигуры. Скопин — сразу ставший жалким и маленьким — послушно выходил с этими людьми в соседний вагон.
— Спокойно! — вдруг прихватили Ромина сзади за руку, отнимая железнодорожный ключ. Почти на затылке чувствовало чужое горячее дыхание и, словно молния, мелькнула мысль: мужичок, куривший в коридоре, его караулил, пока Скопина брали!
Послушно отдав ключ, Ромин вдруг рванулся в сторону, ткнув назад локтем. Еще ничего не поняв, просто почувствовал, что попал и, разворачиваясь, ударил поднятым коленом в голову согнувшегося от боли противника.
Отпихнув его, побежал по коридору в противоположный конец вагона, непослушными пальцами доставая пистолет, — шалите, господа чекисты, так просто вам Ромина не взять!
Навстречу выскочил еще один, попытался поймать, но не успел, и вот уже рядом дверь, ведущая в тамбур. Сзади грохнул выстрел, пуля расколола заменявшую стекло фанеру, полетели в разные стороны мелкие щепки; еще выстрел, глухой стук пули, попавшей в косяк, но Ромин уже успел выскочить на площадку.
Эх, был бы ключ, сейчас запер бы дверь тамбура и отцепил вагон — катитесь, голуби, к такой-то матери, а сам в ночь и в лес.
Попробовать на крышу? Нет, не выйдет, не успеешь выбраться. Тогда рвануть в туалет и высадить стекло? А позади гулко топочут сапогами и каждый их шаг отдается в голове похоронным набатом, бьет по ушам погребальным звоном подков на каблуках.
Обернувшись, Ромин — не глядя, куда он стреляет, — выпустил почти всю обойму, пятясь по площадке к торцовой двери вагона. Поезд качало из стороны в сторону, пистолет прыгал в руке, и пули уходили то в стены, то в пол, то в потолок. Ну и шут с ними, главное — заставить преследователей отпрянуть, откатиться по коридору назад, боясь схлопотать в грудь кусок свинца. Как все неудачно получается, а? Надо же было такому стрястись! И как они только на них вышли, как выследили, сумели подкрасться? Не выгляни он из служебного купе, так и взяли бы тепленького, даже пикнуть бы не успел, а руки уже завернуты за спину и тряпка во рту.
Рванув дверь, Ромин выскочил на подножку. Сильно ударил в лицо ветер, смешанный с горьким паровозным дымом, оглушил грохот колес, вагон мотало, и поручень подножки дергался как живой, готовый вырваться из рук и отбросить в темноту.
Отшвырнув пистолет — некогда перезаряжать, — бывший поручик кошкой метнулся к скобам, ведущим на крышу: надо рискнуть и попробовать уйти по ней — пробежать по вагонам, а потом спрыгнуть и — в сторону, подальше от железной дороги. Пусть шанс на удачу ничтожно мал, но стоит попытаться, поскольку иного выхода просто нет — не сдаваться же? Все одно, не пощадят.
Скобы показались жутко холодными и словно смазанными жиром — цеплявшиеся за них пальцы скользили по грязи и саже, налипшей на металл, но уже удалось ухватиться, подтянуть тело и буквально вползти на крышу, ходившую под ним как палуба карабкавшегося с волны на волну утлого суденышка, идущего по бушующему морю.
Куда бежать? Обратно, к хвосту поезда, или вперед, к паровозу? Вперед! Вдруг все же удастся отцепить вагоны и уехать от погони, а потом пусть рыщут.
Пригнувшись, как будто, собираясь упрямо боднуть летевший навстречу плотный поток воздуха, Ромин побежал по крыше, не думая о шуме собственных шагов, — до этого ли теперь, надо скорее, скорее! Бросив взгляд через плечо, заметил темные фигуры позади себя. Выбрались за ним? Да, и здесь не отстают, того и гляди, догонят, навалятся, а состав, как назло, начинает замедлять ход — видимо, они успели по вагонам добежать до паровозной бригады и приказали тормозить.
Неожиданно нога у Ромина подвернулась я он споткнулся о трубу вентиляции. Не удержав равновесия, развернулся вокруг собственной оси и упал, чувствуя, как его сносит к краю покатой крыши вагона, медленно, но неудержимо влечет к темной и страшной пропасти с грохотом колес внизу.
Завыв от отчаяния, он попробовал вцепиться ногтями в жесть крыши, но только слегка царапнул ее, — тело стало неуправляемым и ухватиться не за что!
— А-а-а!.. — дико завопил Ромин, срываясь в темноту.
Страшно ударило в спину, сразу гася сознание, потом пошло молотить, как в жерновах, и, словно насытившись, выплюнуло изуродованное тело на откос, освещенный равнодушной, яркой луной.
Проскрежетав по рельсам, остановился поезд, к телу бежали люди с фонарями в руках, но Ромин уже больше ничего не видел.
Последнее, что успело мелькнуть у него в мозгу, когда он сорвался с края крыши, было короткое словечко — Каин…
Все чаще болело сердце и короткие по времени бессонные ночи казались Ермакову долгими и длинными, как пустые коридоры управления, — гулкие, слабо освещенные горящими вполнакала лампами в матовых абажурах, похожих на срезанные снизу капли молочно-белого, непрозрачного стекла.
Поизносила тебя жизнь, Алексей, укатала, как ту сказочную Сивку на своих крутых горках. Хотя разве возраст для мужчины пятьдесят с небольшим? Нет, видимо, прав любимый поэт жены Надсон — «как мало прожито, как много пережито»! Другим, наверное, хватило бы этого на несколько жизней, полных и ярких, до отказа насыщенных работой и событиями, требующих отдачи всего тебя и самосожжения в труде и боях. Разве болело бы сейчас сердце, если бы оно не привыкло переносить боль других, как свою собственную?
Стараясь отвлечься, забыть про боль, генерал встал, накинул на плечи китель, нетвердой походкой вышел в кабинет. Ощупью нашел выключатель лампы, зажег ее и опустился в рабочее кресло.
Отодвинув подальше, чтобы не было соблазна, пачку папирос, подтянул к себе папку с бумагами. Поработать? Дело всегда успокаивало, заставляло забыть про болячки и невзгоды. Да, пожалуй, он поработает час-другой, а потом снова приляжет — до утра есть время, успеет выспаться — стариковский сон короток.
Невесело усмехнувшись своим мыслям, Алексей Емельянович открыл папку и перелистал документы.
Волков через начальника партизанской разведки Колесова своим личным шифром запрашивает о бывшем переводчике Сушкове. Майора интересуют на первый взгляд странные вещи — просит срочно ответить: где находился Сушков в семнадцатом году, разыскать бывшую жену Дмитрия Степановича, опросить ее о приметах внешности погибшего, его привычках, болезнях, характере и немедленно сообщить о результатах опроса и перенесенных ранее Сушковым заболеваниях. Эти сведения придется поискать в архивах, в том числе и лагерных.
Что там задумал Антон Иванович, какие мысли забродили в его беспокойной голове, куда уводит его поиск ответа на поставленные Верховным вопросы? М-да, время неумолимо идет, проходят сутки за сутками из отведенного срока, а пока нет возможности выстроить непробиваемую стену доказательств невиновности командующего фронтом, о которую разобьются любые обвинения.
Ладно, отпишем запрос на исполнение Козлову — пусть помогает приятелю, тем более, с проклятой, не дававшей столько времени покоя агентурной станцией немцев наконец-то покончено. Правда, не совсем удачно получилось со вторым немецким агентом, пытавшимся уйти и сорвавшимся с крыши вагона прямо под колеса поезда. Придется выслушать неудовольствие руководства по этому поводу, но прошедшего теперь все равно не вернуть. Зато второго взяли живым и здоровым, нашли рацию, удалили гнойник на Урале и, самое главное, — установили, что не тянется от этой рации нитка к подозреваемому в измене командующему и нет связи у задержанных вражеских агентов с другими возможными изменниками в столице, — по счастью, эта версия оказалась бесперспективной и не нашла своего подтверждения. По счастью…
Так, что там еще не дает покоя майору Волкову? Козлов поднатужится, вытянет ему на божий свет все, что только можно разыскать о погибшем Сушкове, а вот как быть с данными на словака из аэродромной команды? Тут дело сложнее.
«Сколько же людей втянуто в эту операцию? — легонько массируя ладонью грудь, чтобы скорее отпустила вновь возникшая боль, подумал генерал. — И сколько имен нам надо оградить от позора? Разве только одного командующего мы пытаемся защитить? А погибший Сушков, потерявший разум Слобода, другие подпольщики? Они уже не смогут сами оправдаться. Защитить их — и погибших, и живущих — наше святое дело.
Придется, наверное, просить помощи других отделов для получения интересующих Волкова сведений — не из пустого же любопытства он запрашивает о словаке?! И это тоже надо делать срочно, не откладывая в долгий ящик, — время идет, а парни работают в наводненном немецкими спецслужбами городе-городке, в котором, наверное, и скрыться-то толком негде и каждый человек на виду. Как же хитроумно закрутил все Бергер со своим ученичком фон Бютцовым. Мастера, ничего не скажешь.
Последнее — просьба направить в поиск войсковых разведчиков по тылам немцев для проверки маршрута выхода лейтенанта Слободы к линии фронта.
Ходили уже, дорогой майор Волков, на брюхе ползали по нейтралке, отсиживались в болотах, выходили к населенным пунктам, дневали в лесных массивах и снова шли по маршруту, но ничего утешительного не принесли, — нет больше тех деревенек и хуторов, на которых гостевал Семен Слобода. Одни сожжены, другие вымерли, вернее, уничтожены жители, из третьих угнали все население в немецкий тыл. Нечего тебе ответить, майор, нечем порадовать. Жаль, что и у партизанских разведчиков тот же результат в поиске, но зато начинает четко просматриваться линия замысла Бергера — выжженная земля, никаких свидетелей, мрак и туман.
Как он узнал маршрут Слободы? Или сам вел его по нему, пусть даже скрытно от беглеца? Версий много, а правда одна, и, сидя здесь, в кабинете, ее не узнать, не добыть и не принести неоспоримых доказательств.
Свои соображения генерал радирует Волкову, ответы на запросы будут даны в самые сжатые сроки, но основная тяжесть работы ложится все-таки на плечи ушедших во вражеский тыл. Тяжко, когда сам не можешь быть рядом с ними, — кажется, пошел бы, все узнал, поступил так, как надо, вовремя догадался и предусмотрел, но… Доверять надо своим сотрудникам и ученикам, доверять и верить в них, как в самого себя.
Стало зябко, откуда-то тянуло сквознячком. Поправив на плечах китель, накинутый на рубашку, Ермаков поглядел на часы: ложиться или пора побриться, привести себя в порядок — за окнами сереет. Нет, все-таки надо чуть-чуть вздремнуть.
Придерживая сползавший с плеч китель, генерал прошаркал в комнату отдыха и лег в постель. Сначала показалось холодно, но потом он быстро согрелся под грубым солдатским одеялом и заснул со счастливой улыбкой на губах, — снился ему трамвай, увозящий его по бульварному кольцу навстречу поднимающемуся утру…
— Их двое, — желчно усмехнулся Бергер, глядя на вошедшего Конрада хитровато поблескивавшими глазами.
— Что? — не понял Бютцов.
— Я оказал, их двое, — повторил обер-фюрер. — Объявился второй. Он приходил к нашему человеку, ведущему наблюдение за сгоревшей явкой подпольщиков. Это, кстати, была ваша мысль, Конрад, сжечь дом и выставить там наблюдение. Поздравляю, замысел оказался недурным и капкан у сапожника сработал, но только наполовину.
Бютцов прошел к столу, положил на тумбочку фуражку и опустился в кресло. У окна, переминаясь с ноги на ногу, топтался Клюге, видимо, получивший разнос от шефа.
— Агент позвонил дежурившему у телефона Канихену, и тот распорядился взять визитера под наблюдение.
— Взяли? — прикуривая, спросил Конрад, прикидывая, какие же еще события приключились в городе? И вообще, почему обер-фюрер так уверен, что к сапожнику приходил именно второй русский разведчик? Каковы основания для такой уверенности?
— Взяли, — вздохнул Бергер, играя ножом для разрезания бумаг. — Хотите спросить, почему я уверен, что это был второй русский инспектор? Отвечу. Местные знают о пожаре, предпочитают сами ремонтировать обувь, чтобы не тратить лишние деньги, избегают расспрашивать незнакомых людей о сомнительных происшествиях. Я уже подумывал прикрыть лавку, но она сыграла свою роль. Человек, приходивший к нашему агенту, не местный, не ведает осторожности, присущей жителям города, и слишком ловко пытался уйти из-под наблюдения, выявив его практически сразу.
— Ушел? — заинтересованно поглядел на обер-фюрера Конрад.
— Ушел, — эхом откликнулся тот. — Убил одного из наших сотрудников и ушел через чердаки. Украл велосипед и скрылся. Пока его розыски безрезультатны.
Бергер замолчал и тоже потянулся за сигаретами. К чему скрывать, доклад Клюге и рапорт начальника СС и полиции города его обеспокоили — русские проявляют все возрастающую активность, роются с упорством саперов, орудующих в замке. Их двое, а не один, как полагали вначале. Клюге самым дотошным образом опросил каждого из бригады наружного наблюдения — приметы скрывшегося не совпадают с приметами известного Тараканова, которого видели в городе. Посещавший сапожника человек совсем иной: старше, ниже ростом, другой цвет глаз, не хорошо владеет местным диалектом, в котором перемешались польские и белорусские слова. Наверняка, свободно может говорить на польском и немецком. Судя по его действиям, изобретателен, смел, способен на расчетливый риск. И в паре с ним — Тараканов, или как его там, на самом-то деле? Поневоле забеспокоишься.
Нет, не за свою голову, а за успех начатой столь успешно операции «Севильский цирюльник». Видно, здорово задело там, в Москве, русское руководство — послали даже не одного, а двоих. А вдруг троих или четверых и сейчас по улицам Немежа ходят другиё, пока не выявленные и неопознанные посланцы чекистов?
Стоп! Не стоит усложнять и торопить события, не надо суеты и легковесных, скороспелых решений. Подумаем, ¡посоветуемся.
— Сапожника убрать? — приминая в пепельнице сигарету, спросил Конрад.
— Подождем, — прищурился Бергер. — Клюге, повторите приметы второго. Может быть, у штурмбанфюрера возникнут вопросы.
— Среднего роста, широкоплеч, подтянут, бородат, особых примет не имеет. На голове коричневая кепка, ботинки тоже коричневые. Голос низкий, чуть с хрипотцой, часто улыбается, умеет расположить к себе собеседника. Хорошо владеет собой. Походка сдержанная, спину держит прямо, не сутулится, руками не размахивает и в карманах их не держит…
— Хватит, — прервал его Бютцов. — Бороду он сбрил, кепку сжег, ботинки поменял, как и костюм, а все остальное для нас как мертвому припарки. Есть такая меткая русская пословица. Тем более, сами вы его не видели, а основываетесь только на показаниях наружников, бездарно упустивших русского. Где его теперь искать? — он повернулся к обер-фюреру. — Где второй или, если хотите, первый?
— Известный нам как Тараканов? — уточнил Бергер.
— Да. Где их лежки, потаенные норы? Где они прячутся, с кем контактируют, на кого опираются? Мы могли бы все раскрутить, не сорвись с крючка посещавший сапожника, а теперь придется играть вслепую, стоит ли рисковать?
— Какой же риск? — бледно улыбнулся Бергер. — Никакого риска. Идите, Клюге, спасибо.
Проводив взглядом телохранителя и дождавшись, пока за ним плотно закроется дверь, обер-фюрер продолжил:
— Они все равно пойдут по намеченному нами кругу: им просто больше некуда деваться. Понимаете? Партизаны уже выходили к известной нам деревне и к сожженному хутору. Это проверено. Зачем они там были? Только по заданию прибывших, самим им там ловить некого. Оживленный радиообмен из леса с разведцентром русских, выходы на сапожника и к местам, где прятался беглец, — все в нашу пользу, Конрад. В буйных головах НКВД зреют фантастические планы, поскольку возвращаться ни с чем у них нет возможности, а по сему они неминуемо наткнутся на нашего человека. Не на одного, так на другого! Город не велик. А когда проглотят мою новую жвачку, пусть убираются, но так, чтобы не возникло подозрений. Тай ну они вырвут с риском для себя, но не для нас. Фройлян работает?
— Старается. Но я боюсь форсировать со бытия.
— Хорошо, можем и подождать немного. Мне звонил Этнер, хочет отозвать в Берлин. Возможно, удастся взять тебя с собой. Я это — понял по его намекам.
— Что-нибудь серьезное? — забеспокоился Бютцов Ему страшно не хотелось оставаться сейчас здесь одному, без поддержки шефа.
Бергер встал и завел патефон, поставив первую попавшуюся пластинку. Оркестр заиграл «Сказки венского леса» Штрауса.
— Очень серьезное, — подойдя почти вплотную к штурмбанфюреру, ответил он. — Поэтому не стоит торопиться. Сам группенфюрер тоже, как я сумел уловить предпочитает выждать.
— В чем дело? Стряслось что-нибудь?
— Кажется, затевается покушение на Черчилля, — наклонился к самому уху Конрада Бергер. — А у меня, честно говоря, нет никакого желания играть в такие игры.
— Почему именно на него, а не на Сталина или калеку Рузвельта? — съежился в кресле Бютцов. Обер-фюрер редко ошибается в прогнозах, и если он и сейчас прав, то хотелось бы держаться от истории с покушениями подальше. На этом можно заработать кучу по честей и не меньшее число неприятностей в случае неудачи, от которой не застрахован никто.
— Возможно, и на них, — выпрямился Отто. — Пока удалось выторговать отсрочку, но кто знает, надолго ли? Этнер ждет нашего доклада об операции и, ознакомившись с ним, будет окончательно решать. Доклад предложено доставить лично мне. Придется повозиться с бумагами.
Бергер вернулся на свое место за столом и, усевшись в кресло, тихонько начал насвистывать мелодию вальса, вторя оркестру на пластинке.
Пожалуй, все не так плохо — город заперт на замок и русским инспекторам, прибывшим по заданию своего Центра, не удастся уйти в леса, если он этого не захочет. Люди начальника СС и полиции начнут прочесывать квартал за кварталом, отыскивая притаившихся чужих разведчиков. Нет, никто не станет пересчитывать жителей по головам, обыскивать квартиры или устраивать облавы. Зачем? Просто придет в действие вся сеть шпионов и доносчиков, расползутся по городу соглядатаи, перекроют любые подозрительные места, — никто и шагу не ступит без ведома тайной государственной политической полиции и службы безопасности рейха. Активизируются и специально подготовленные провокаторы, готовые дать прибывшим с той стороны фронта нужные сведения, — не полностью, упаси господь от этого, чтобы не вызвать у тех никаких подозрений, а так, кусочками, из которых сложится нужная обер-фюреру картина. И в довершение всего он подарит русским лакомый кусок на прощание, а после их можно и отпустить с миром восвояси.
Здесь все нормально. Больше беспокоит разговор с группенфюрером — его намеки вызывают тревогу и заставляют искать выхода из создавшегося положения. Радует одно — сам Этнер непременно станет союзником по увиливанию от приготовленного для всех них наверху дерьма с покушениями. Вряд ли он заинтересован в такой работе, какая может стоить головы. А что русских двое, это даже прекрасно — хоть один да наткнется на нужного человека в городе, а когда ищут ответа на вопросы двое, то шанс такой встречи неизмеримо повышается.
— Выше нос, мой мальчик, — покровительственно улыбнулся Бергер, уныло сосавшему сигарету за сигаретой Конраду. — Здесь мы хозяева и старый Отто не даст себя провести. Переверните, пожалуйста, пластинку, я хочу дослушать вальс…
Новая квартира Волкову понравилась — почти в центре городка, тихо, кругом зелень, рядом маленькие запутанные улочки с проходными дворами, и хозяева, молчаливые пожилые люди, не проявляющие излишнего любопытства. Разговаривал он с ними на польском.
Старого гробовщика звали Брониславом, а его жену Барбарой. Аккуратные, седые, в одинаковых вязаных кофтах, удивительно похожие друг на друга, они весь день хлопотали по хозяйству — Бронислав в своей мастерской, размещавшейся на первом этаже, а Барбара на кухне. Антону отвели маленькую угловую комнату с двумя окнами — светлую, чистенькую, пахнущую свежими стружками и ванилином. Завтракали и ужинали вместе, а обедал Волков вдвоем с Барбарой, — хозяин днем питался в мастерской, не поднимаясь наверх. Жена относила ему пищу в кастрюльке.
— Много работы? — доедая тушеную капусту, спросил вечером Волков.
— Хватает, — вытирая застиранной салфеткой седые усы, лаконично отозвался гробовщик.
— Обслуживаете и госпиталь? — решил не отставать Антон.
— Бывает.
— Ваш… — майор немного замялся, подбирая нужное слово, — ну, товар, отвозите сами или они забирают? И как часто?
— Эсэсманы не любят, когда в замке появляются чужие, — ответила вместо мужа Барбара. — Они заказывают то, что им нужно, а потом приезжают на грузовике. Хоронят и солдат, тогда приезжают из частей, тоже на машинах. Пан хочет еще что-нибудь спросить?
— Да, — не унимался Волков. — Хочет. Где и как хоронят казненных?
— Не знаю точно, — Бронислав почесал мизинцем бровь, — я для них ни разу ничего не делал. Пан слышал про ров в Калинках? Кому там нужен мой «товар»?
— То Калинки, а если здесь, в городе или в тюрьме?
— Тогда в мешках, — авторитетно пояснил гробовщик. — Отвозят на старое кладбище, знаете, которое за варшавским шляхом, и в яму.
— Всех в одну?
— Вряд ли. Помнится, Вацек однажды рассказывал, что ему заранее приказывают вырыть несколько могил. Он, на случай всякий, ведет учет, так, для себя.
— Вацек? — недоуменно посмотрел Волков. — Кто это?
— А-а, — пренебрежительно махнула рукой Барбара, прибиравшая со стола. — Проше пана, то кладбищенский сторож. Дурной человек, если занят таким делом. Мой муж помогает отправлять на тот свет немцев, чтоб им… Вацек отправляет своих.
— Помолчи, — буркнул гробовщик. — Этим тоже должен кто-то заниматься, Пану нужен Вацек?
— Нет, — протянул Антон, — но я буду весьма признателен, если вы мне заранее сообщите о прибытии машины из какой-нибудь расквартированной вне города части или госпиталя. Грузите вы сами?
— Сам, а то соседи помогают, — старый гробовщик встал. — Немцы не любят моего «товара». Спокойной ночи. Мне завтра рано вставать.
— А я пройдусь, — сообщил хозяевам Волков.
— Пусть пан не забудет, что скоро полицейский час, — в спину ему сказала Барбара…
Спустившись по лестнице черного хода во двор, Антон немного постоял, любуясь теплым вечером и раздумывая, куда повернуть: в проходное парадное или податься в переулок? Выбрав переулок, он пошел к костелу — сегодня очередная встреча с Ниной.
Они уже виделись в парке, на рыночной площади, в ¡парикмахерской, и вот новая встреча в храме святой Терезы — вести девушку на явку Волков не хотел, но и место встречи ему не нравилось, тем более, что рядом с ним он чуть не столкнулся нос к носу с немцами, ехавшими по узкой улочке в черном автомобиле. Не вызовет ли у кого-нибудь подозрений посещения Ниной костела? Он специально спросил у нее: бывала ли она раньше в храме? Узнав, что да, немного успокоился, но ненадолго, — опять вставал тот же вопрос: где встречаться в следующий раз? Городок мал, податься просто некуда, как ни вертись, да еще природа наделила Нину броской внешностью, просто-таки притягивающей взгляды мужчин; с ней опасно заходить в здешние злачные места — обязательно какой-нибудь немец привяжется или все запомнят спутника красивой девушки. Вот уж когда привлекательная внешность, прямо скажем, не во благо!
Надо шустрить мозгами, придумывать нечто новенькое, не то быстро попадешь на зубок осведомителя Бергера, Бютцова или Лидена, начальника СС и полиции безопасности Немежа, — засекут твое неоднократное появление в обществе парикмахерши, и грош цена вашей головушке, Антон Иванович.
Нина немцам хорошо известна — через день она стрижет и бреет аэродромную обслугу и летчиков, а установить слежку за ее кавалером для эсэсманов не составит никакого труда. Пиковое положение, а придумать пока ничего стоящего не удается. Может, потихоньку посоветоваться с Барбарой — старушка прожила тут всю жизнь, знает город как собственную кухню, на которой она вдохновенно колдует, стряпая из скудных продуктов вкусные блюда. Глядишь, присоветует нечто толковое, чтобы глаза никому не мозолить и дело делать.
Остановившись неподалеку от костела, Антон огляделся. Вроде вокруг как обычно малолюдно, почти нет мужчин, если не считать стариков, ласково светит низкое вечернее солнце, золотя черепичные крыши и заставляя ярко сиять башни собора. Тихо, тепло, хочется снять пиджак и перекинуть его через руку, но этого делать нельзя, — во-первых, здесь не принято ходить по улице в рубашке, а во-вторых, под пиджаком спрятано оружие.
Несколько минут он наблюдал за улицей, потом вошел в храм, аккуратно придержав тяжелую дверь, чтобы она не хлопнула. Отыскав взглядом Нину, сидевшую на задних скамьях, Антон на цыпочках — уже началась служба — подошел ближе и устроился позади нее.
— Добрый вечер! Не оборачивайтесь. Что нового?
— Ярослав готов встретиться завтра, у часовни по дороге к аэродрому, — чуть повернув голову, шепнула девушка.
— В котором часу?
— В полдень. На нем словацкая форма, рост высокий, над левой бровью небольшой шрам поперек лба. Ответит, если передадите от меня привет.
— Он говорит на польском или русском?
— Плохо, но хорошо понимает немецкий. Есть еще новость, — Нина немного помедлила, делая вид, что перелистывает лежащий перед ней молитвенник. — Появился выход на замок.
— Кто? — насторожился Антон.
— Уборщица, зовут Анна, родом из Минска. Познакомились случайно, но по моей инициативе. Рассказывает, что работает в госпитале и ей часто приказывают мыть полы в другой половине замка, на лестницах и в коридорах. Приходится иногда выносить мусор, мешки с бумагами и старой копиркой. Может незаметно взять несколько листков.
— Она сама предложила?
— Нет, я спросила.
Волков задумался — Нина проявляет инициативу, неоправданно рискует. Кто эта Анна, откуда вдруг взялась, почему пошла на знакомство, да еще начала откровенничать?
Незаметно окосив вниз глаза, он поглядел на часы — сколько осталось до конца службы, успеют они поговорить или нет? Оставалось минуть пятнадцать. Маловато! Потом костел закроют, а гулять по улицам нет возможности, — скоро комендантский час.
— Где вы познакомились?
— У нас в парикмахерской. Мы делаем и женские прически, — по голосу чувствовалось, что Нина обижена начавшимися выяснениями: перед встречей ее распирала гордость, что она нашла такой интересный и долгожданный выход на замок, а тут вдруг проявление полного недоверия, хотя и хорошо скрытого за равнодушным шепотом.
— Как она выглядит?
— Лет двадцати трех, худенькая, темненькая. Одета просто, говорит на белорусском. Рассказывала, что эта работа спасла ее от угона в Германию: мать отнесла золотое кольцо чиновнику с биржи труда и тот посодействовал. Живет Анна в замке, при госпитале, но в город ее отпускают.
— Понятно, — протянул Антон. Новая знакомая Нины ему уже не нравилась, хотя он ее ни разу не видел. Слишком все как-то один к одному: сама из Минска, а работает здесь, живет в замке, но моет полы в коридорах апартаментов Бергера и Бютцова, да еще выносит мешки со старой копиркой? Обычно она уничтожается тут же, а немцы большие педанты в вопросах соблюдения секретности. У них секреты утекают только тогда, когда они сами этого захотят или когда их насильно вырвешь, перехитрив врага. А тут сопливая девчушка просто возьмет копирку и читай через зеркало, о чем пишут Бергер и его команда? Неужели ее отпускают в город без хвоста?
— Договаривались о новой встрече? — спросил Волков.
— Да. Она зайдет ко мне, когда будет свободна.
— Куда придет? — уточнил майор, чувствуя, как легко начинает кружиться голова от нервного напряжения.
— В парикмахерскую.
Уф, даже выступил на лбу пот — если бы она ответила «домой», это все — провал. Потому что связь с подпольем у парикмахерши не через работу, а по месту жительства. Но все равно опасное знакомство — своей неожиданностью, возможностями, открывающимися при использовании Анны и бурным развитием событий. Немцы могли высчитать Нину по месту жительства, подослать к ней своего человека в парикмахерскую. Тогда дело плохо — люди Лидена и Бютцова докопаются до словака, причем быстро докопаются, найдут Антона и будут тянуть за нитку дальше. Неужели Нина под наблюдением?! Что делать?
— Точно не сказала, когда придет?
Ксендз уже заканчивал читать проповедь, и прихожане набожно крестились — времени для разговоров оставалось совсем мало.
— Нет.
Откинувшись на жесткую спинку скамьи, Волков прикрыл глаза. Появилось сильное желание немедленно испариться из храма без следа и больше не встречаться с Ниной. Никогда. Но он подавил желание встать и уйти, запетлять по улицам, проверяя, нет ли и за ним слежки, как за Павлом Романовичем. Провериться он успеет, а вот Нину надо попробовать вытащить, если попалась им на крючок.
Что же, надо полагать, немцы точно знают о том, что в городе начала активные действия чужая разведка, — иначе не взяли бы так быстро Семенова под наружное наблюдение. Они могут только не знать, сколько здесь работает чужих разведчиков и где они скрываются, но это дело времени, — город мал, нащупают. Будут ли сразу брать? Трудно сказать определенно. Судя по тому, что появилась вдруг уборщица Анна, Бергер и Бютцов пошли в контратаку, если, конечно, Волков не ошибается. Однако весь опыт говорит о том, что ошибки нет, — Нину действительно высчитали или выявили раньше и придерживали, выжидая удобного момента для проведения операций против подполья.
С другой стороны, подобный ход грубоват для Бергера, слишком прямолинеен и незатейлив. Считает всех глупее себя? Или просто торопится, подгоняемый начальством из Берлина? А может быть, он таким образом предлагает разведчикам противника сделку — бери, что дают, и проваливай, пока я не передумал и не прихлопнул тебя, как букашку? Неси своим полученную информацию и будь счастлив, оставшись в живых и уйдя из Немежа. Все-таки жизнь Дороже всего…
Попробовать пойти у него на поводу, вернее сделать вид, что пошел, согласился, поверил и вступил на тропочку, протоптанную Бютцовым и его учителем, обер-фюрером Отто Бергером, а под прикрытием этого вести свои дела? Но надолго ли хватит у них терпения? И выдержит ли Нина, не запаникует ли, не испугается, — такие вещи не под силу многим мужчинам, имеющим большой опыт нелегальной работы, а тут неподготовленная девушка. Опять же не исключена и ошибка.
— Есть подозрение, что Анна провокатор, — тихо сказал Антон и заметил, как после его слов дрогнули плечи Нины. — Не пугайтесь, пока ничего страшного, они просто прощупывают, и до тех пор, пока не отдадут копирку и не убедятся, что она передана по назначению, решительных мер предпринимать не будут. Встречи с товарищами прекратить, с Ярославом тоже, меня не искать. Когда получите от Анны передачу, дадите условный знак срочной встречи. Я приду и заберу вас с собой. Будьте готовы заранее. При свидании с Анной держитесь дружелюбно, не выказывайте отчуждения или подозрительности. Сможете? Если нет, то придется уходить сейчас.
— Я смогу, — чуть слышно прошептала она. — Но откуда вы знаете…
— Просто не доверяю, могу и ошибиться, — успокаивая ее, сказал Антон. — Но все равно — делаем, как договорились.
Смешавшись с выходившими из костела прихожанами, он выбрался на улицу. Свернув за угол, направился в сторону от центра, выискивая малолюдные улочки и часто сворачивая в проходные дворы. Слежки за ним не было…
Барбара ждала его на кухне. Поставив перед Волковым стакан морковного чая, она сказала:
— Приходил ваш конфидент.
— Кого вы имеете в виду? — улыбнулся Антон.
— Пана Осипа, — не приняла улыбки хозяйка, — Просил передать, что доктер есть и готов помочь.
— Прекрасно. Где и мак его найти?
— На Садовой. Доктор Клемгель. Карл Клемгель.
— Вот как? — Волков отставил пустой стакан. — Спасибо, пани Барбара. Доктор, выходит, немец?
— Фольксдойч, — поджала губы хозяйка, — Но Осип ручался, что он приличный человек.
— Вы его знаете, доктора Карла?
— Нет, он не местный. Спокойной ночи, пан…
Уже лежа в кровати, Волков, закрыв глаза, попытался представить себе Антонину, что она сейчас делает: сидит перед зеркалом, расчесывая волосы перед сном, или стирает в госпитале? Какие у нее были мягкие и теплые руки, шероховатые, соленые от слез губы. Нет, никак не удается представить, ощутить рядом ее живое тепло, не удается уже который день…
К часовенке — вернее, оставшимся от нее развалинам — Семенов пришел заранее. Продравшись через заросли бурьяна и лебеды, миновав купы кустов бузины, еще не успевшей скинуть с ветвей яркие зонтики цветов, должных со временем превратиться в мелкие ягоды, он очутился перед каменным столбом с фигурой милосердной божьей матери, держащей на руках младенца Иисуса. Каменная скульптура стояла на верхушке столба и, наверное, раньше хорошо была видна усталым путникам, спешившим в Немеж, как бы сообщая, что конец путешествия уже близок, скоро их взору откроются предместья и появится над деревьями сторожевая башенка замка, с потемневшей от времени шатровой кровлей.
Однако все это было раньше, когда городок еще не разросся и не подступил вплотную к бывшей часовенке, оказавшейся в пригороде. Место для встречи Ярослав выбрал хорошее — тихое, безлюдное, скрытое зеленью от посторонних глаз.
Лицо у скульптуры божьей матери жалостное и умиротворенное — прижимая к себе младенца, она смотрела вниз с выражением печали и всепрощения. Павел Романович попытался разобрать, что выбито на столбе под скульптурой, но камень выкрошился и буквы заросли мхом, только и можно понять, что изваяние поставлено стараниями какого-то пана Казимира, жившего в незапамятные времена.
Крыша часовни рухнула внутрь, дверей не было, и Семенов, заглянув в проем, внутрь не пошел — чего делать среди куч щебня и лопухов? Думать о том, что все на свете ждет такая же печать запустения?
Устроившись под кустами бузины, он покурил, поглядывая на поднимавшееся все выше солнце, — скоро полдень и должен появиться словак. Из партизанского отряда передали шифровку: в ответе на запрос Москва сообщала, что Ярослав Томашевич до призыва в армию работал автомехаником, одинок, родителей потерял рано, состоял членом профсоюза и играл в баскетбольной команде. Политикой интересовался мало, но разделяет взгляды панславистов, призывавших противостоять германцам. Умеренно выпивал, играл на скрипке в любительском оркестре, охотно посещал праздники и гулял с девушками, намереваясь создать семью с некоей Любицей Блажковой, жившей там же, в Прешове, но помешала война. Вот и все, что сообщили о Ярославе. Да, еще сказано, что данных о его сотрудничестве с немецкими или словацкими спецслужбами после прихода к власти Тиссо не имеется.
И на том спасибо товарищам: Павел Романович прекрасно понимал, как трудно узнать всю подноготную человека, живущего за тысячи километров от России. — Центр и так сделал все возможное.
Ну что, пора бы уже прийти механику, но дорога все так же пустынна как со стороны города, так и со стороны аэродрома. Опаздывает? Почему, что могло его задержать? А вдруг… Подозрения Антона, которыми он успел поделиться с Семеновым, начали приобретать очертания реальной опасности, и словака уже взяли немцы, допрашивают сейчас, выбивая из него все, что тот знает? Ведь он знаком с парикмахершей Ниной. Тогда беда.
Вдалеке, на дороге, ведущей от аэродрома, показалась большая легковая машина. Привстав, Павел Романович с тревогой поглядел на нее и почел за благо убраться подальше в кусты — на машинах здесь ездят только немцы, а попадаться им на глаза совершенно ни к чему.
Неожиданно автомобиль замедлил ход и свернул к часовне. Ломая молодые тонкие стволики зеленой бузины, вкатился в кусты и, фыркнув мотором, остановился. Пригнувшись, Семенов метнулся в сторону, доставая ТТ, и затаился, спрятавшись в бурьяне рядом с тропкой, уводившей в чахлую рощицу, смыкавшуюся с садами предместий. В случае чего можно отступить туда, оторваться от преследования, скрывшись среди построек, сараев, поленниц дров, и попробовать тихо уйти, запутав погоню в сложном лабиринте покосившихся заборов и палисадников, — благо лето почти наступило, поможет пышная зелень.
Хлопнула дверца машины, и появился высокий парень в табачного цвета форме словацкой армии — без головного убора, коротко остриженный, светловолосый. Попинав ногами шины, он открыл крышку капота и достал из багажника ящичек с инструментами. Оглядевшись по сторонам, прислонился к машине спиной и закурил, явно кого-то ожидая.
Ярослав? Но откуда у него машина с немецкими номерами, да еще такая дорогая, почему он один разъезжает на ней столь свободно? В машине вроде никого больше нет. Правда, можно притаиться, лежа на полу.
Рискнуть или подождать еще? Зачем им прятаться, если они и так могут все узнать, — хотят взять их на месте встречи? Тогда окружили бы часовню или устроили засаду, а ее нет — Павел Романович пришел заранее не зря и все облазил, осмотрел.
Спрятав оружие, он вышел из кустов. Услышав звук чужих шагов, стоящий у машины парень обернулся и вопросительно поглядел на Семенова.
— Сломалась? — кивнув на автомобиль, на польском спросил Павел.
— Немножко, — ответил водитель с жутким акцентом. — Пан говорит на немецком?
— Говорит, — подходя ближе, Павел как бы ненароком заглянул внутрь машины: никого. — Форма на вас странная.
— Словацкая. Нас мобилизовали, — неохотно пояснил водитель. — Разбираетесь в машинах?
— Не очень, — признался Семенов. — А как пана зовут?
— Ярослав. Ярослав Томашевич.
— Вам привет от Нины, — дружелюбно улыбнулся пограничник. — Можете называть меня Казимиром. — Ему на память неожиданно пришло имя, прочитанное на столбе со скульптурой божьей матери, и он, не задумываясь, присвоил его себе.
— Спасибо, — Ярослав смотрел недоверчиво, вертя в сильных пальцах, испачканных маслам, большой гаечный ключ.
— Вам описали внешность другого человека? — догадался Павел Романович. — Выше меня ростом, светлоглазого, с квадратным подбородком? Это мой друг, но он не смог сегодня прийти.
— Хорошо, пан Казимир, — глядя исподлобья, согласился словак. — Но чем вы докажете свою правдивость? Я могу показать документ, что действительно являюсь Томашевичем, а у вас, сдается, нет бумаги, подтверждающей названное вами имя?
«Рубанет еще гаечным ключом по черепу, — невольно поежившись, подумал Семенов. — Вон какой лось вымахал. Затевать с ним драку и терять контакт? Надо было раньше подумать о возможном недоверии. Теперь придется выкручиваться».
— Покажите, — согласился он. — Я тоже имею право сомневаться.
Не отводя взгляда от Семенова, Ярослав медленно расстегнул карман френча и достал солдатскую книжку.
— У вас был пятый номер в баскетбольной команде, — кивнув в знак того, что прочел данные, сказал Семенов. — Если этого недостаточно, я готов рассказать о Любице и ее отце, старом Блажкове, и повторить слова, сказанные вами Нине: «Мы все очень рискуем».
— Достаточно, — Томашевич положил ключ на капот. — Чем я могу быть полезным?
— Откуда у вас машина?
— Командира части, — снова пнул ногой шину Ярослав. — Барахлит. Гоняю ее время от времени в город. — Он хитро улыбнулся — Для механика ничего не стоит заставить ее работать как часы, но тогда реже будешь вырываться с аэродрома.
— Понятно, — Павел Романович присел на траву, жестом предложив словаку расположиться рядом. — Можете одолжить нам машину на несколько часов? Ну, скажем, сегодня вечером?
— Трудно, но можно попробовать. Я позвоню и скажу, что ремонт потребует больше времени. Однако утром мне надо обязательно вернуться и авто должно остаться в целости, иначе…
— Все будет нормально, — похлопав его по колену, заверил Семенов. — Получите его обратно еще до утра в полной сохранности, кроме сожженного бензина. Что слышно на аэродроме?
— Приказали готовить самолет для эсэсовца, улетающего в Берлин, — сообщил Томашевич.
— Когда летит, зачем, кто?
— Скоро, но точно не знаю когда. Думаю, это тот, что прилетел в начале весны. Важная персона, его встречали и поселили в замке. Наш начальник потом еще несколько дней трясся от страха. Зачем летит? Трудно сказать, нам не докладывают, но когда вылет я, пожалуй, смогу узнать: у меня хорошие отношения с начальством и я никогда не отказываю немцам в помощи, если у них неполадки с моторами.
— Маршрут полета сможете выяснить? — покусывая травинку, задумчиво спросил Павел Романович.
— Послушайте, пан Казимир, — доставая сигареты, усмехнулся словак. — Я догадливый с детства. Нина рисковала, расспрашивая о самолетах, и я ей сказал об этом. Могли в два счета донести. Много раз я просил ее свести меня с серьезными людьми и теперь вижу, что просил не напрасно, если вы знаете даже мой номер в команде и о Любице. Из Немежа нельзя запросить Прешов в Словакии! Это могут сделать только немцы или…
— Или? — покосился на него Семенов.
— Или русская разведка, — решившись, выдохнул Ярослав. Капли пота выступили у него на лбу, и он небрежно смахнул их ладонью. — Я никому здесь не рассказывал ни о баскетболе, ни о Блажковых. Говорите прямо, что нужно.
— Помочь. Потом, возможно, придется уйти в лес. Согласны?
Томашевич откинулся назад и уставился в небо, дымя сигаретой. Семенов сидел рядом, ожидая ответа.
Казалось, словак совершенно забыл, что он тут не один, и продолжал все так же лежать на спине, закинув за голову длинные, сильные руки. Наконец он глухо ответил:
— Что я должен сделать?
— Узнать маршрут полета, день и час вылета. Надо полагать, в Берлин отправляется обер-фюрер Бергер, — объяснил Семенов. — Сегодня к вам подойдет немецкий офицер и вы дадите ему машину. Встреча с ним у Варшавского шляха, на перекрестке с дорогой к озеру. Знаете?
Ярослав кивнул — да, он знает это место: достаточно глухое, куда даже патрули редко заглядывают.
— Как я его узнаю? — спросил он. — И где мне потом вернут машину?
— Узнаете, — засмеялся Семенов, — и авто получите там же. Оно будет стоять и ждать вас. Даже лучше, оставьте машину в этом месте в восемь вечера, а рано утром заберете. Договорились? Так меньше риска.
— В лесу я стану пленным? — поднимаясь и отряхивая мундир, мрачно поинтересовался Томашевич.
— Нет, — твердо ответил Павел Романович. — Не забудьте про дату и время вылета и о маршруте. Чем скорее это нам станет известно, тем скорее кончится ваша служба у немцев. Мы сами найдем способ сообщить о времени и месте нашей новой встречи. Надеюсь, обер-фюрер вылетает не завтра?
— Дня через два-три, так говорили. Я могу ехать? Вас подвезти?
— Спасибо, я пешочком. Если в следующий раз придет другой человек, он передаст вам привет от пана Казимира…
Спрятавшись в кустах, Семенов видел, как Ярослав закрыл крышку капота, потом сел за руль и несколько минут не трогался с места, положив руки на баранку и глядя перед собой, — о чем он раздумывал? И будет ли сегодня вечером стоять на условленном месте большой черный автомобиль начальника аэродрома? Наконец хлопнула дверца, заурчал мотор, машина, пятясь задом, выползла на дорогу и унеслась к городу, подняв за собой шлейф пыли. Опять тишина, щебечут в ветвях птицы, гудит далеко в небе немецкий самолет и ни души вокруг…
Глава 6
Прихода Анны Нина ждала с замиранием сердца — все валилось из рук, внутри образовалась сосущая пустота и мелкая дрожь во всем теле, как от озноба. Даже порезала щеку клиенту, правда не сильно, скорее оцарапала немного, но все равно, раньше с ней такого не случалось — при любых обстоятельствах она могла брить и стричь хоть с завязанными глазами.
С другой стороны — какие уж такие были в ее жизни обстоятельства? Что всем доставалось на долю, то и ей: сначала жили при панах, потом два года при Советской власти, а после пришли немцы. И всегда она чувствовала себя какой-то ущербной, что ли, — панские власти смотрели косо на белорусов и русских, пришли Советы и стали подозрительно относиться к жившим при панах, да еще «мелким предпринимателям, в разряд которых попала и Нина как совладелица маленькой, всего на два кресла, парикмахерской, а для немцев вообще не существовало людей, кроме них самих, — остальные рабы или бессловесный скот, с которым можно поступать, как заблагорассудится. Вечный страх, вечная неуверенность, постоянное ожидание неприятностей, поневоле приучили уходить в себя, замыкаться, искать забвения в мелочах жизни.
Доверие Колесова, предложившего ей остаться в подполье, изумило и вселило новые страхи. Тебе доверяют, на тебя надеются, от тебя хотят многого, но можешь ли ты оправдать доверие и не подвести? Вдруг о тебе, вернее, о твоих связях с подпольем узнают? Что тогда — ров в Калинках или застенок гестапо? Откажешься — тоже неизвестно, как все повернется.
Успокаивало, что приказывали ждать, ничего не делать, только вновь открыть парикмахерскую и заводить знакомства. Когда будет надо, к ней обратятся. Это показалось не таким уж сложным делом, и теплилась надежда, что все закончится очень скоро, — опять придут советские войска и жизнь покатится по привычной колее, войдет в знакомое русло, поскольку за два года они привыкли ко многому, чего были лишены при панах: участвовали в выборах, появилась возможность учиться, да вот только реализовать ее не удалось.
Однако получилось совсем не так, как думалось, — немцы обосновались в Немеже по-хозяйски, Красная Армия все дальше отступала и отступала. Настала осень, за ней зима, потом весна и снова пришло лето, минул год с начала войны, а ей все еще не видать ни конца, ни края. Разгромили подполье, казнили многих, кто не успел скрыться, и снова Нину обуял жуткий страх — вдруг кто из пойманных немцами знал о ней, о ее связи с Колесовым и не выдержал на допросах, сказал и теперь надо бежать. Но проходили день за днем, неделя за неделей, страх съеживался и прятался — немцы совершенно не интересовались ею. Более того, доверили обслуживать аэродромную команду и летчиков. Тогда-то и появился впервые человек от Колесова.
А теперь ее привлекают для более серьезного дела, чем болтовня с немцами и передача через почтовый ящик полученных сведений, — об этом она догадалась сразу, как только назвал пароль севший в ее кресло мужчина с немецкой стрижкой и крепким подбородком с ямочкой. Что же будет?
Боже, почему она сразу никуда не уехала, осталась здесь и обрекла себя на такие мучения? Не выйдет из нее ни Жанны Д'Арк, ни Шарлотты Корде, ни Веры Хорунжей — слишком она всего боится и, скрывая это, сама лезет в петлю. Даже Ярослав призывал ее быть осторожнее и осмотрительнее, не зная, что все это от отчаяния и страха, а отнюдь не от избытка храбрости.
Когда в костеле она услышала о подозрении, что Анна провокатор, ее словно обухом ударило по затылку. Да и каково ей, прожившей тут всю жизнь? Куда уйдешь, где спрячешься? В лесу? Но туда еще надо добраться.
Вот и Ярослав мучается — на его родной земле то же самое, и все это принесли завоеватели. Кто их звал? Но Томашевич не сдается, он жаждет борьбы, и его можно понять, но кто поймет слабую, одинокую женщину, немыслимо уставшую от всего — страхов, ожиданий, неизвестности, одиночества наконец? Разве трудно дать человеку немного тепла и участия, понять его, пожалеть, но никто не видит в ней слабой женщины, даже не видят женщины вообще. Люди Колесова смотрят как на соратника; Ярослав — как на возможность получения связи с партизанами; пришедший с паролем мужчина — как на исполнительницу его замыслов; а немцы просто. как на подстилку, с которой неплохо бы провести ночь.
Увидев в окно идущую по улице Анну, парикмахерша вдруг испытала чувство облегчения — скоро все закончится, надо только немного выдержать, сжать себя в кулак и выдержать. Наверное, мужчина, назвавший пароль и отрекомендовавшийся Владимиром Ивановичем, прав — похоже, он знает нечто, скрытое от других, поскольку так уверенно держится и до сих пор не попался немцам. Хотелось бы верить ему и перенять от него хоть чуточку его спокойствия и силы.
Анна — худенькая, черноволосая, в простеньком платьице — прошла мимо парикмахерской, потом вернулась и заглянула в пустой зал.
— Ой, я перетряслась вся, — усаживаясь в кресло, доверительно шепнула она. — Страху натерпелась, жуть.
Глядя на нее, такую простую и домашнюю, бледную, испуганную и не скрывающую этого, Нина подумала, что Владимир Иванович, возможно, не прав. Может ли девчонка быть такой актрисой, так натурально изображать испуг, дрожание пальцев, достающих спрятанные на груди за вырезом платья мятые листы копирки? Откуда такому, совсем еще юному созданию набраться лицемерия и двуличия, научиться ловко обманывать всех и вся?
— На, забери скорей, — девушка протянула парикмахерше копирку и вымученно улыбнулась, — как будто бомбу несла.
— Спасибо, — Нина убрала копирку в карман халата. — Причесать?
— Не надо. Я посижу немножко, а то ноги дрожат, и пойду.
Перекладывая на подзеркальнике инструменты, Нина искоса поглядывала в зеркало на Анну — уходит бледность с ее лица, щеки приобретают нормальный цвет, высыхают мелкие капельки пота на лбу и висках. Нет, не похожа она на провокатора, и на улице все так же сонно и спокойно.
— Где взяла копирку? — стараясь, чтобы голос звучал ровно, спросила Нина.
— В мешке. Полы мыла у черных немцев, а у дверей мешок стоял в бумагами, Они их жгут, Дождалась, пока никого не было, я схватила верхние. Теперь не знаю, когда еще прикажут туда идти, но снова попробую.
— Осторожнее, — предупредила парикмахерша, провожая Анну до дверей, и остановилась на крыльце, гляди ей вслед.
Нет, никто за девушкой не идет — улица почти пуста, только гонит шальной ветер сор и пыль по мостовой и вымощенным плитками камня тротуарам да хлопают где-то плохо прикрытые ставня окна.
Взяв лежавший у порога половик, Нина вернулась в зал, Постояла, раздумывая, потом зашла в подсобку и намочила тряпку. Отжав, вышла на крыльцо и повесила ее на перила.
Теперь остается ждать, когда появится Владимир Иванович. Может быть, перепрятать копирку, не держать ее при себе? Но куда?
Пошарив глазами, она сунула тоненькую пачку черных листков за зеркало я устало опустилась в кресло, даже не поглядев на свое отражение.
Развешанный на перилах крыльца парикмахерской мокрый половик Волков заметил еще издали, повернув за угол и выйдя на улочку, где располагалось заведение Нивы. Не ожидал он, что условный знак, извещающий о необходимости внеочередной встречи, появятся так скоро. Неужели копирку уже принесли или, может быть, пожертвовали даже машинописными листками или черновиками? Если его подозрения верны, то Бергер и Бютцов начали проявлять нервозную торопливость. Отчего бы им вдруг так торопиться? Что у них произошло? Дорого бы дал Антон, чтобы знать все доподлинно, но остается только строить догадки.
Интересно, что приготовили эти господа для него, какие сведения решились отдать? Может быть, он зря подозревает Анну, вдруг это счастливый случай — ведь так бывает в жизни: кто ищет, тот находит, не все же вокруг предатели?
Но опыт и привычка к осторожности говорят об ином — его и Семенова здесь ждали. Не их лично, конечно, но людей с той стороны, должных проверять принесенную беглецом информацию. Несомненно, Бергер и его команда предприняли все необходимые меры, чтобы дать противнику подтверждение нужных сведений по различным каналам, возможно даже начали эту работу заранее, но основная сцена действия здесь, в Немеже, куда сходятся все нити. Поэтому Павел Романович и попал сразу под наружное наблюдение, зайдя в мастерскую сапожника, расположенную напротив сгоревшей явки, поэтому нет больше деревни и хутора, на которых бывал после побега из тюрьмы СД Семен Слобода, поэтому безрезультатен поиск войсковых разведчиков.
Бергер может нарочно приоткрывать щель, маня влезть в нее чужую разведку, а потом что — отпустит со своим подарком или попытается зажать? По идее должен выпустить, чтобы еще раз подтвердить принесенное Слободой. Или все много сложнее и данные будут противоречивы? Почему человек не способен читать чужие мысли на расстоянии, как бы все было просто, никаких секретов и тайн. Но тогда изобрели бы нечто принципиально новое, поскольку люди не хотят и не умеют жить, не таясь друг от друга.
Поднимаясь по ступенькам крыльца парикмахерской, Антон старался сдержать нетерпение — сейчас многое прояснится. Он уже успел некоторое время понаблюдать за улицей и салоном, убедившись, что все нормально и к Нине можно зайти без опаски. Конечно, предусмотреть каждую неожиданность нельзя и внутри зудит беспокойство, но надо же решаться и действовать, действовать, черт побери. Время, отпущенное на проверку сведении, неумолимо проходит, Бергер зачем-то собирается лететь в Берлин, а все еще никак не удается сдвинуться с мертвой точки.
Нина сидела в кресле, откинув голову на его спинку. Увидев в зеркало вошедшего Волкова, она быстро вскочила и достала из-за рамы подзеркальника тонкую пачку листков копирки.
— Возьмите?
Антон взял, шагнул в сторону и заглянул в подсобку — там было пусто.
— Давно принесла? — усаживаясь на стул и расправляя помятые листки, спросил он.
— Часа два назад.
— Зеркало дайте, — попросил Волков.
Взяв поданное Ниной зеркало, он попытался прочесть копирку. Строчки наползали друг на друга, немецкий текст выглядел слепо, но разобрать его все же можно было.
Наблюдавшая за ним парикмахерша нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, пытливо вглядываясь в лицо Антона, — что там? Но ничего не могла понять — ее гость бесстрастно прикладывал к зеркалу листок за листком и, углубившись в чтение, молчал.
Наконец он отложил в сторону последнюю копирку. Потом собрал листочки в пачку и спрятал в карман пиджака.
— Собирайтесь, уходим.
— Сейчас? — растерялась Нина. — А как же…
— Собирайтесь, у нас мало времени, — поторопил ее Волков. — Снимайте свой халатик и выходите. Я буду ждать за углом. Парикмахерскую можете не запирать, возвращаться не придется.
Девушка обессиленно опустилась на стул напротив и просительно заглянула ему в глаза:
— Вдруг вы ошиблись, а? Мне кажется, Аня заслуживает доверия.
— Нина, мы теряем золотое время.
Волков поднялся и вышел. Парикмахерша сорвалась с места и, на ходу стягивая с себя халат, заметалась по подсобке, не зная, что бросить в сумку, — все сразу не возьмешь. Ага, бритва пригодится, ножницы, машинка, полный флакон одеколона, что еще? Господи, да ей бы надо заранее собрать дома какие-никакие вещи, ведь если придется теперь жить в лесу, то понадобится что-то теплое, обувь, а не так вот, в летнем платье и туфлях, но тон у Владимира Ивановича жесткий. Видно, дело действительно дурно пахнет, раз он так заторопился. Неужели Анна и вправду провокатор?
Увидев своего гостя прохаживающимся по улице, Нина немного успокоилась и, повесив сумку на руку, пошла за ним следом, держась на расстоянии…
Канихен удобно устроился у окна, подняв к глазам большой цейсовский бинокль, — отсюда видно все, как на ладони. Можно, конечно, обойтись и без оптики, но надо же хоть чем-то скрасить скуку монотонного наблюдения за тем, как копошатся там эти придурки.
Опустив руку вниз, он ощупью нашел открытую бутылку пива и сделал добрый глоток. Так, бутылку на место и закурим сигаретку.
Вот появился и старый знакомый! Не ошибся Клюге, точно опознал Тараканова, — живой, подлец! Что будет делать? Вошел в парикмахерскую. Правильно, теперь опять надо ждать. Еще глоток пива и затяжка крепким табаком…
Увидев, как оба объекта торопливо покинули салон, Канихен встал и подошел к стоявшему в углу комнаты телефону. Сняв трубку, набрал номер.
— Господин обер-фюрер?! Здесь Канихен. Клюге не ошибся. Он сейчас был у парикмахерши. Просидел почти полчаса, потом вышел. Через несколько минут выскочила и она. Нет, без вещей, только дамская сумочка… Да, господин обер-фюрер, пошла за ним следом… Нет, заведение не запирала. Дать команду взять под наблюдение?
— Ни в коем случае, — недовольно проскрипел в наушнике голос Бергера. — Пусть уходят. Продолжайте наблюдать. И если появится еще кто-нибудь, немедленно звоните.
Канихен положил трубку и вернулся на свое место в кресле-качалке у окна. Допил пиво, отшвырнул пустую бутылку в угол и, закурив очередную сигарету, задумался.
Сомнений в правоте обер-фюрера у него не было — за долгие годы совместной работы шарфюрер не раз имел возможность убедиться, что Отто Бергер обладает весьма изощренным умом и тонким знанием психологии своей жертвы и противника. Именно так, поскольку противник неизменно оказывался жертвой обер-фюрера, и даже частные неудачи тот умел повернуть себе во благо. Служить с таким начальством — одно удовольствие.
Вот и сейчас, если обер-фюрер приказал отпустить с миром парикмахершу и чудом воскресшего Тараканова, значит, на это имеются веские основания…
Закончив дневные дела, сторож старого кладбища Вацек сел поужинать. Подогрев на плите чайник и картошку, он с аппетитом поел и завалился на топчан, застеленный тряпьем.
Покуривая, он смотрел в низкий потолок сторожки и думал о том, что в суетной жизни человеку редко выпадает та судьба, о которой мечтает. Вот так и он, то взлетал высоко, то падал на самое дно, и казалось, не будет уже сил вновь подняться наверх. Однако не сдавался, переупрямливал судьбу, обманывал ее и выбирался из зловонных ям, но через некоторое время опять оказывался там же.
Беды преследовали его одна за другой. А в 1939 году Голяновский чуть было не погиб. Тогда он попал под страшную бомбежку, контуженный и обеспамятевший, сумел скрыться в Лесу. С трудам придя в себя, он решил, что наступило время страшного суда и его карает небо за смертные грехи. Если бы тогда успевшего постареть Вацека осмотрел толковый психиатр, он бы с полным основанием заключил, что пан немного сдвинулся умом, но пациент не поверил бы ему: чудились голоса, зовущие посвятить себя служению людям и богу во искупление прошлого — обманов, краж, тюремных отсидок и черных запоев.
Сначала Голяновский хотел податься в монастырь, но всем оказалось не до него, и он, сам не зная как, очутился в Немеже — пожилой, заросший сивой щетиной человек в лохмотьях, с лихорадочным блеском в глазах, забывший свое имя, фамилию и даже то, откуда он родом. Набожные старухи подавали ему на пропитание, и он прижился в сторожке на старом кладбище за Варшавским шляхом. Власти им не интересовались — кому нужен сумасшедший, — а ему самому было все равно — красные, немцы, марсиане. В голове все еще звучали голоса, тонко звенели колокольчики и беспрестанно пели ангельские хоры, сладкими голосами выводя псалмы.
Постепенно разум прояснился, он вспомнил кто он есть и откуда родом, но поздно, — в Немеже уже стоял немецкий гарнизон. И Голяновский затаился, решив, что самое правильное в этой непростой ситуации — помалкивать и делать вид, что ты все тот же полупридурок — недалекий умом, но готовый услужить. Тем более, старый сторож помер, как-то само собой Вацек заступил на его место, а немцы облюбовали кладбище для захоронений казненных. Такой судьбы сторож не хотел, но прекрасно понимал, что рано или поздно и его спихнут в заранее приготовленную яму и выстрелят в затылок: эсэсманы не любили оставлять свидетелей.
Поэтому Вацек готовился исчезнуть при первом же звонке тревоги, а звонок этот, по его мнению, должен был прозвенеть, когда фронт двинется на Запад…
Размышления сторожа, лежавшего на топчане, прервал звук автомобильного мотора — по дороге, ведущее к кладбищу, ехала машина. Лучи сильных фар скользнули по окнам сторожки, бросив призрачные, ломкие теня на скудную обстановку. Скользнули и погасли. Хлопнула дверца, заглох мотор.
Быстро вскочив с топчана, Голяновский приник к окну, стараясь разглядеть, что делается на улице, — сумерки давно сгустились и приходилось напрягать глаза, чтобы понять, кто вышел из лимузина и остановился рядом с ним.
Различив фуражку с высокой тульей, перетянутый ремнем мундир и полугалифе, заправленные в узкие сапоги, Вацек шустро бросился к двери и, еще на крылечке начав угодливо кланяться, с опаской приблизился к офицеру.
Из машины вышел второй человек — пожилой, тучный, в мешковато сидевшем на нем мундире, с большой кобурой, оттянувшей вниз подпиравший живот ремень. В руках он держал чемоданчик.
Первый офицер — высокий, подтянутый, в ловко подогнанной по фигуре эсэсовской армейской форме, с черным воротником мундира — шагнул вперед и поманил сторожа к себе. Тот подошел ближе.
— Ты сторож? — палец немца ткнул Вацеку в грудь.
— Я, милостивый пан, — на ломаном немецком ответил Голяновский, прикидывая, что может означать неожиданный визит.
Обычно немцы приезжали на грузовике и сбрасывали мешки с телами, которые приходилось грузить на тачку и отвозить к приготовленным ямам. Чин на СД потом отмечал в тетрадке, где и кого зарыли, а сторож, сносно владевший немецким, но почитавший за благо скрывать это, запоминал и вел свой учет. В полиции взяли с него подписку и немного платили за эту работу, но Вацек понимал, что накарябанная им под диктовку черного эсэсмана бумажка никак не помещает отправить его следом за страшными мешками, когда минет надобность в кладбищенском стороже.
— Хорошо, — немец вытянул из кармана за цепочку жетон и сунул его Голяновскому под нос. — Тайная полиция. Возьми фонарь и лопату.
— Так есть, милостивый пан, — кивнул сторож и поспешил к своему убогому жилищу. Немцы закурили и остались ждать на улице.
— Всех ли помнишь, кого хоронил? — упросил высокий офицер, когда Вацек вернулся с лопатой и фонарем.
— Как не помнить? — перекрестился Вацек. — Вот раньше были похороны, не чета нынешним, но пан может не сомневаться, я помню. И кого с ксендзами отпевали, и кого…
— Ладно, — оборвал эсэсовец. — Место, где зарыл переводчика комендатуры, помнишь? Веди, да не вздумай обмануть. Его весной казнили.
— Так есть, так есть, — поклонился сторож. — Пан офицер может не сомневаться, я тут, как дома, каждый закоулок знаю, не ошибусь.
Он повел их через темное кладбище, освещая дорогу фонарем. Качались над головой кроны деревьев, тонко хрустел песок под подошвами сапог, едва угадывались в темноте очертания покосившихся крестов, а Вацек тяжко задумался, машинально считая шаги.
Место, где зарыли переводчика, казненного в тюрьме, он помнил хорошо — немцы в ту ночь были возбуждены, от них сильно пахло шнапсом и языки без умолку болтали, обсуждая произошедшее во дворе тюрьмы СД. Но зачем этим нужна та яма?
Показывать или нет? Можно ведь привести к любой другой и ткнуть пальцем — вот здесь. Но велели взять лопату — заставят рыть землю? Опять же, зачем? Не за ним ли они пришли, за бедным несчастным Вацеком? Если за его жизнью, то почему фонарь и прогулки в темноте: могли сразу пристрелить и уехать — у них это просто, как муху прибить или раздавить букашку, ползущую по своим делам среди травы и не ведающую о нависшей над ней смертельной опасности. Но он нё букашка, он имеет, хвала господу, голову на плечах и способен защитить себя — немцев всего двое. Первого огреть лопатой по голове и оглушить с одного удара, а с другим будет справиться не трудно: вон как он тяжело дышит, переваливаясь на своих коротких ножках. Первый вышагивает, словно по плацу, почти не глядя на тропинку, — рослый мужчина, видимо сильный физически, а второй значительно старше, слабее. Ну, что делать?
А вдруг другие эсэсманы знают, куда направились эти двое? Даже наверняка знают и, не дождавшись их возвращения, встревожатся — тогда не уйти далеко. Может, показать им нужную могилку, сделать все, что они прикажут, а потом решать? Как-никак грех смертоубийства тяжек и не будет прощен. Да и зачем бы им убивать сейчас бедного сторожа?
Так ничего и не решив, Вацек привел к кустам, под которыми серели осыпавшиеся бугорки земли. Осветив их фонарем, показал на один:
— Здесь.
Высокий эсэсовец недоверчиво обошел могилы, словно принюхиваясь, повертел головой и, обернувшись к ожидавшему дальнейших распоряжений сторожу, буркнул:
— Ты не ошибся? Мы проверим.
— То не можно, пан офицер, — заверил Голяновский. — Я никогда не ошибаюсь в своем деле, все помню.
— Сними верхний слой земли, — приказал офицер. — Потом все приведешь в тот же вид. Рой!
Вздохнув — не нравилось ему затеянное приехавшими, — Вацек вонзил лопату в податливый грунт. Не спится немцам, вечно какую-нибудь пакость придумают, а самую грязную работу заставляют делать других.
Желтый круг света фонаря падал на выброшенную из все углублявшейся ямы землю, казавшуюся маслянисто-черной, как антрацит, смоченный водой. Пожилой немецкий офицер стоял в стороне и ежился от ночной прохлады, пряча лицо в воротник широкого кожаного плаща, накинутого на мундир. Высокий эсэсман внимательно наблюдал за работой сторожа, нетерпеливо постукивая носком сапога и время от времени поглядывая на часы.
Наконец обнажился мешок с останками переводчика. Вытирая выступивший на лбу пот, Голяновский выпрямился, опершись на лопату. Бросив взгляд на пожилого немца, он с удивлением увидел, как тот натягивает на руки тонкие резиновые перчатки, а в открытом чемоданчике, разложенном наподобие детской складной книжки, поблескивают сталью медицинские инструменты.
— Отойдите, — приказал высокий офицер. — Постойте в стороне, но не уходите. О том, что вы увидели, никому говорить нельзя. Поняли?
Вацек кивнул и, закинув лопату на плечо, отошел, устроившись на могильном холмике для перекура. Странные дела творятся на кладбище сегодня ночью, странные и непонятные. Затягиваясь жгучим табаком, смешанным с сухими листьями, — чтобы было побольше, с куревом сейчас, тяжеловато, а новый, табак, посеянный на заветной деляночке среди заброшенных могилок, еще не вырос, — сторож поглядывал, как копошатся около ямы офицеры: высокий светил фонарем, а пожилой влез в разрытую могилу и что-то там делал.
И тут Вацека как молнией стукнуло — вот он, твой звонок, дурень! Нечего больше ждать, надо уходить, скрываться, бежать отсюда, поскольку этой ночкой кончилась спокойная жизнь и больше она не вернется, может точно сказать, что последует за визитом этих странных немцев, на хорошее не надейся.
Сразу вспомнилось, как вчера или позавчера, вернувшись в сторожку, он обнаружил, что в ней кто-то побывал и нашел его тайник, где лежала заветная тетрадка с планами захоронений казненных. А в ней все подробно — когда, кого и где, с чертежиком и указанием примет места, чтобы потом не перепутать. Хотел отдать ее Вацек людям — не вечно же они будут истреблять друг друга, когда-то придет и пора вспомнить погибших, зажечь на холмиках поминальные свечки?
Видно, не суждено отдать. Листали тетрадку чужие руки, что-то в ней искали, не могилку ли пана переводчика? Лежала заветная тетрадочка в тайнике совсем не так, как ее положил Вацек, а немного иначе, — другой бы и внимания не обратил, но он знает, что и как кладет, поскольку попади тетрадь чужому, а от него к немцам — не сносить тогда головы.
Нет, пора исчезать. Тяжко придется, но из двух зол стоит выбрать меньшее, — уже не звонок, колокол бьет, призывая спасаться. Уйдет сегодня же, этой ночью, как только уберутся отсюда незваные гости, если, конечно, ему суждено остаться в живых…
Остаток дня Нина провела в жалкой дощатой халупе, спрятавшейся среди дровяных сараев на окраине.
Оставив ее там, Волков пообещал, что, как стемнеет, за ней придут и выведут из города, переправят в лес. Назвав пароль, он ушел, сославшись на неотложные дела, и девушка осталась одна.
Время тянулось неимоверно медленно, одолевали мрачные раздумья, и Нина маятником ходила из угла в угол захламленного сарайчика. Утомившись, отыскала старое плетеное кресло с лопнувшими на спинке прутьями и, приставив его к стене, села, с удовольствием вытянула гудевшие ноги — нервное напряжение понемногу опадало и начало клонить в сон: мозг требовал отдыха, пытаясь отключиться, восстановить потраченную энергию и освежиться хотя бы в коротком забытьи.
Но заснуть никак не удавалось — постоянно мерещились шаги за дощатыми стенками, чей-то зловещий шепот, позвякивание оружия, и девушка в тревоге вскакивала, приникая к щелям глазом и стараясь увидеть, что делается снаружи.
Там было по-прежнему безлюдно, тихо стояли успевшие заметно вымахать вверх пыльные лопухи, расправив похожие на слоновьи уши листья. Она ненадолго успокаивалась и снова забиралась в кресло, чтобы потом опять вскочить и заметаться по своему убежищу.
Под вечер, когда начали спускаться на городок сиреневые сумерки, она наконец задремала, измотанная переживаниями и событиями дня. Свернулась калачиком на кресле и, обхватив плечи руками — не прекращался нервный озноб, — закрыла глаза, пытаясь представить себя уже в лесу, когда позади будут все страхи и опасности.
Пришли за ней уже в темноте. Кто-то почти неслышно поскребся ногтями в дощатую дверь, и Нина чутко подняла голову, прислушиваясь, — не почудилось ли, вдруг это просто-напросто мыши?
Но вот доски снова поскребли, а потом раздался условный стук. Сдерживая дыхание, она подбежала к дверям сарая и хриплым шепотом спросила: «Кто там?» Услышав пароль, ощутила, как сразу стали ватными ноги, и, не помня себя, забыв даже сказать отзыв, отодвинула поржавелый засов.
В сарайчик бочком проскользнул подросток в куртке, перетянутой немецким офицерским ремнем с кобурой парабеллума. Шмыгнув носом, он спросил:
— Готовы?
— Да, да, — ответила Нина. Скорее бы уйти отсюда, и какое счастье, что за ней все-таки пришли, не оставили здесь одну. Провести в этой халупе ночь казалось ей невозможным: просто сойдешь с ума от страха и неизвестности. Пусть что угодно, пусть ползком, пусть на четвереньках, пусть с риском для жизни, но скорее отсюда и не в одиночестве.
— Щас пойдем, — снова шмыгнул носом парнишка. — Я впереди, вы — с моим товарищем. И тихо, тетечка, немчуры полно в городе. Нам к оврагам выбраться надо, а потом легше будет.
Он взял ее за руку и вывел за собой на улицу.
Из чернильной темноты, сгустившейся в промежутке между двумя соседними дровяными сарайчиками, бесшумно выдвинулась тень, и Нина чуть не вскрикнула от испуга. Человек подошел ближе, и она сумела различить, что это молодой парень с автоматом и в немецкой пилотке с козырьком.
— Его держитесь, — шепнул мальчишка и растворился между убогих строений, моментально пропав из виду. Девушка хотела пойти следом, но парень в пилотке придержал ее, прислушиваясь к звукам ночи. Потом легонько дотронулся до плеча, призывая идти за ним.
Чудом ориентируясь в темноте, провожатый вывел ее из лабиринтов сараев и будок в переулок. Там было немного светлее, в призрачном сиянии луны отливала серебром брусчатка мостовой, казавшаяся рассыпанной рыбьей чешуей, мрачно стояли неосвещенные дома с провалами глазниц-окон и черными подворотнями.
— Живей, — подтолкнул Нину провожатый и кинулся к перекрестку.
Спотыкаясь и боясь подвернуть ногу на брусчатке — так ведь и ушла в туфлях на каблуке, пусть не высоком, но все равно, бегать не слишком удобно, — девушка поспешила следом.
Перед тем как пересечь перекресток, парень остановился и осторожно выглянул из-за угла.
— Если что, уходить будем вдвоем, — предупредил он. — Не метаться, бежать за мной.
Улица, на которую они вышли, показалась девушке бесконечно длинной и ярко освещенной, хотя горел всего один фонарь в ее дальнем конце. Свет нес с собой опасность, и хотелось, чтобы весь город погрузился в кромешную тьму, спасительную и непроницаемую, готовую укрыть пробирающихся по улицам беглецов, — нырнуть бы в эту тьму, как ныряет рыба в глубину мутного омута, не оставляя за собой никакого следа, и раствориться в ней, став призраком-невидимкой.
Впереди мелькнула фигура парнишки, быстро уходившего вперед, держась ближе к стенам домов. Звуки шагов — приглушенные, словно они ступали не по брусчатке, а по резиновым коврикам, казались громкими, разносящимися далеко окрест и слышимыми всем, в том числе и врагам. Или это так гулко стучит сердце, отдаваясь неспокойным током крови в ушах?
Когда улица кончилась, Нина обессиленно прислонилась к стене и вздохнула с облегчением — дальше опять спасительная темнота.
— Пошли, пошли, некогда стоять, — поторопил парень с автоматом. — После отдохнем.
Впереди неожиданно стукнул выстрел, кто-то закричал, замигали огни фонариков. В ответ ударил парабеллум, а потом затрещали автоматные очереди.
— А, черт, — увлекая Нину в темную подворотню, выругался провожатый. — Скорей!
Проскочили через двор, побежали огородом — за ноги цеплялась мокрая ботва картошки, каблуки туфель проваливались на грядках, а за спиной трещали очереди автоматов, как будто гигантские крысы выгрызали в фанере дыры.
Перелезая через заборчик, разгораживавший два огорода, Нина порвала платье и оцарапала ногу гвоздем, торчавшим из покосившейся штакетины, — поцарапала сильно и глубоко, до крови, но останавливаться и смотреть некогда, да и что увидишь в темноте? Тем более провожатый торопил, тянул за собой, сворачивая в одному ему известные проулки и странным образом находя дорогу. Царапина на ноге саднила и мешала бежать, все время казалось, что вот сейчас в лицо ударит луч фонаря немецкого патруля и прозвучит гортанно-картавый окрик:
— Хальт! Стой! — и лязг передернутого затвора.
Наконец остановились. Сняв свою пилотку, провожатый вытер мокрый лоб и вымученно улыбнулся — это она поняла по его тону:
— Кажись, ушли.
— А мальчик? — пытаясь прижать к царапине подол платья, с тревогой спросила Нина.
— Выберется, — нахлобучив пилотку, уверенно откликнулся провожатый. — Он тут все как свои пять… Ну, потекли дальше?
— Может, подождем его? — несмело предложила девушка.
— Нет, — отрезал парень, — некогда. Сам нас найдет и догонит, — успокоил он. — Знает, как пойдем.
Выбрались в глухой двор с тоннелем-подворотней, выводившей на улицу. Минут десять таились в ней, прислушиваясь, пока не решились показаться на проезжей части. Осмотревшись, провожатый повеселел и прибавил шагу — видимо, конец путешествия и выход из города уже близки, а значит, близко и спасение.
С одной стороны улицы тянулась длинная и высокая кирпичная стена бывшего монастырского склада — лет сто назад братья-монахи пользовались благорасположением одного из сиятельных панов — владельцев городка, пока тот на смерть не разругался со святыми отцами из-за денег. Но дотошные попики с бритыми макушками уже успели построить здесь несколько зданий и бойко вели торговлю. Монахов давно нет, сиятельного пана тоже, а здания стоят.
По другой стороне — жилые дома с закрытыми ставнями окнами и притворенными воротами, похожие на маленькие крепости, хозяева которых сидят в осаде, пережидая лихое время и опасаясь ночных гостей, неизвестно зачем способных постучать прикладом в двери. Впереди темнели деревья, оттуда тянуло сырой прохладой, и Нина поняла, что там и начинаются те самые овраги, про которые говорил исчезнувший мальчик.
— За оврагами тропкой, — придержав шаг, сообщил партизан. — Через помойки и в рощу, там уже патрули не ходят. Оттуда рукой подать.
Он подмигнул ободряюще и вдруг застыл, прислушиваясь к нарастающему стрекоту мотоцикла. Повертел головой, ища куда скрыться, и, схватив Нину за руку, потащил к кустам палисадника, надеясь найти среди них спасение.
Мотоцикл выскочил из-за угла, когда они были уже буквально в двух-трех шагах от палисадника. Яркий луч фары скользнул по их согнутым фигурам, и сквозь треск мотора послышалась пулеметная очередь.
Пули прошли выше, не задев беглецов, и провожатый, видя безвыходность положения, толкнул Нину к кустам, а сам начал стрелять по катившемуся прямо на него мотоциклу, видимо надеясь первым убить немцев или заставить их повернуть назад.
Внезапно он будто сломался пополам и, уронив на землю свой автомат, кулем осел, ткнувшись головой почти в ноги девушки. Нина отпрянула и закричала — тонко, страшно, как кричит маленький, раненый зверек, навсегда прощающийся с жизнью.
Одна пуля тупо ударила ее в живот, разом оборвав крик, заставив его захлебнуться кровью и перейти в мучительный стон. Другая попала выше и, пройдя между ребер, нашла своим острым концом жадно хватавшие воздух легкие, разорвав их.
Нина уже не видела, как подошли немцы. Офицер, приехавший на другом мотоцикле, склонился над телами.
— Надо было взять живой, — недовольно пробурчал он, выпрямляясь и морщась от вида лужи крови, темной и, казалось, чуть дымившейся в свете фар.
— Они ранили Вилли, — оправдываясь, заметил один из фельджандармов, потирая ладонью плохо выбритый подбородок. — Кому охота подставляться под пули, а эта девка неизвестно что могла выкинуть. Вдруг у нее граната?
— Позвоните в комендатуру, — приказал офицер. — Пусть привезут проводника с собакой, возможно, она возьмет след и удастся выяснить, откуда они шли?
Стонал сидевший около мотоцикла Вилли, зажимая рукой рану на плече. В домах — ни огонька, словно там все вымерло и никто не слышал выстрелов в ночи; все так же немо высится стена бывшего склада братьев-монахов и светит с бархатно-черного неба луна, равнодушная и ущербная.
Бергер немного приболел, — видимо, протянуло сквозняком, когда вышел из ванной, — замок старый, везде щели, дует, а теперь стреляет в пояснице и течет из носа, правда не сильно, но все равно неприятно.
Хотя если немного призадуматься, болезненное состояние может принести определенную пользу — здесь госпиталь, есть врачи, которые засвидетельствуют официально, что он не в силах вылететь в столицу рейха и приступить к разработке операции, о которой говорил по телефону группенфюрер Этнер. Да, пожалуй, именно так и стоит поступить — вызвать из госпиталя люфтваффе врача и, глядя ему прямо в глаза, заявить: я болен, серьезно болен. Посмотреть в глаза так, как он умеет, — пристально, не мигая, затаив во взгляде нечто холодное и жесткое. Доктор поймет.
Высморкавшись, обер-фюрер поправил очки в тонкой золотой оправе и снова пробежал глазами сводку — погано, черт бы их побрал, погано сработали. Девку нельзя было выпускать из города, но взять ее следовало без шума и обязательно живой: еще могла пригодиться, операция не закончена. А парикмахершу бездарно пристрелили вместе с провожатым, упустив еще одного, так и оставшегося неизвестным партизана, вступившего в перестрелку с патрулем на другой улице. Не стоит сомневаться: все это звенья одной цепи и скрывшийся партизан охранял убитую девку и вооруженного армейским шмайсером парня в полевой пилотке или был их проводником.
Зачем теперь рассуждать о том, что не сделано, — мертвые всегда молчат, послушаем, что скажут живые.
Сняв со своего хрящеватого носа очки, Бергер отложил сводку и, задумчиво покусав дужку оправы, обратился к начальнику СС и полиции безопасности:
— Как вы думаете, Густав, стоило ее выпустить из города? Возможно, мы совершили ошибку, вам не кажется?
— Ни в коем случае, — немедленно отреагировал Лиден. — Немеж должен быть прочно заперт до вашего особого распоряжения. Мои люди действовали в соответствии с полученными инструкциями.
«Ишь, как вскинулся, — поджал губы обер-фюрер. — Боится, что потянут к ответу, если дело пойдет наперекосяк? Впрочем, все одинаковы: я на его месте тоже так же оправдывался, переходя в атаку и ссылаясь на приказ. Ладно, сделанного не повернуть назад».
— Не насторожит ли гибель этой девки нашего подопечного? — приложив к носу платок, глухо спросил обер-фюрер. — Вот что меня беспокоит, а девку чего жалеть? Жалко затраченных усилий.
Начальник полиции безопасности, сидевший в кресле напротив стола Бергера, подобрал под себя длинные ноги в узких сапогах и покосился на стоявшего у окна Бютцова — Густав Лиден не любил, чтобы кто-нибудь находился у него за спиной, но штурмбанфюреру не прикажешь уйти в другой угол кабинета. Приходится терпеть и время от времени оглядываться. Глупо, конечно, но что с собой поделать?
— Пока он спокоен, — сцепив пальцы рук и глядя на свои наручные часы, ответил начальник полиции. Секундная стрелка бежала по темному циферблату, а часовая и минутная показывали, что время близится к утру: половина четвертого. За окнами уже приметно сереет, и скоро наступит новый день.
— Ему нельзя доверять, — заметил от окна Бютцов. — Он способен выкинуть совершенно неожиданные штучки, к тому же очень метко и быстро стреляет. Надеюсь, вы предупредили об этом своих сотрудников?
— Да, — кивнул Лиден. — Но мы, посоветовавшись с обер-фюрером, — почтительный наклон головы в сторону стола Бергера, — отказались от выставления за русским наружного наблюдения.
— Он уйдет, — мрачно сказал Бютцов.
— Когда я разрешу, — бледно улыбнулся Бергер. — Абвер прислал по нашему запросу фото Тараканова, сделанные в сороковом году. Мы их размножили и раздали постам наблюдения, устроенным по всему городу, благо, он не велик. Теперь наш общий знакомый постоянно попадает в поле зрения того или иного поста, скрытого от посторонних глаз; а мы знаем места его появления. Вот так. И напротив парикмахерской этой девки тоже устроили пост, где дежурил Канихен. Кстати, Конрад, посты — ваша идея.
Бютцов благодарно поклонился. Умеет все-таки старый Отто поддержать. Хитер и видит на десяток ходов вперед, но все равно он не знает, как опасен русский и сколько не рассказывай ему об этом, не сможет понять, пока сам не нахлебается дерьма, как пришлось нахлебаться ему, Конраду фон Бютцову, в сороковом году в Польше. Дай-то бог, чтобы пронырливость русского разведчика оказалась бесполезной и бессильной против опыта и хватки обер-фюрера. Ведь место пристанища русского, известного им под фамилией Тараканов, — до сей поры не удалось установить — он появляется и исчезает, как чертих из коробки фокусника на ярмарке.
— Русский умело избегает встреч с патрулями, облав и проверок документов, — продолжал Ладен, оторвавшись от созерцания секундной стрелки. Он устал, ему хотелось спать, а впереди тяжелый день, полный хлопот: кто бы только знал, сколько их у начальника СС и полиции безопасности. А еще пришлось выезжать на место происшествия и самому все осмотреть, чтобы быть готовым ответить на любые вопросы обер-фюрера. К сожалению, привезенная из комендатуры ищейка никуда не привела. И жалко, что девку не взяли живой, весьма жалко. Интересно бы с ней побеседовать.
— Где он был? — имея в виду русского разведчика, поинтересовался Бергер, откладывая в сторону очки.
— На станции. Поболтался я ушел. Потом заходил на биржу труда, но ни о ком справок не наводил. Это точно выяснено.
— Связи убитой известны? — отходя от окна к немалому облегчению Густава Лидена и садясь в кресло, задал вопрос Бютцов.
— Работаем, — уныло опустил углы губ начальник полиции безопасности. — Работаем на аэродроме, в городе. Не мне вам объяснять, господа, что такое парикмахерша, — сотни контактов, почти половина города и вся аэродромная обслуга. Стоит добавить и часть летчиков. Многие связи были известны ранее, когда она только попала в поле нашего зрения, вернее, когда мы ее логически вычислили и не тронули при ликвидации подполья, но это же не все. Работы много, сотрудники и так на пределе.
— Я понимаю, — сочувственно согласился обер-фюрер. — Однако надо спешить, но с осмотрительностью, чтобы не вспугнуть их раньше времени. Фройлян из операции вывели?
— Да, — ответил Конрад. — Я полагаю ее перебросить в другой район.
— Зачем? — удивленно поднял брови Бергер. — Ликвидировать немедленно. Националисты не такая уж ценность. Пусть этим сегодня же займется Канихен, именно под предлогом отправки ее в другой район. Нельзя допустить малейшей утечки информации, а по сему фройлян Анна должна навсегда исчезнуть. Да, вот еще что: я по-прежнему с нетерпением жду, когда мне доложат, что найден второй русский, сорвавшийся с крючка у наружников, а все молчат. Уж не заговор ли это?
Он тихо посмеялся собственной шутке, но глаза, слезившиеся от насморка, оставались серьезными. Действительно, где второй? Если Тараканов мелькает в городе, то о втором ни слуху ни духу, как говорят русские. Где он, что делает, кто такой — нет ответа. А надо бы все знать и о втором, чтобы вовремя прижать и его, заставив плясать под свою дудку, не дать чужой разведке развернуть здесь свою партитуру для исполнения только им известных пассажей. Где гарантии, что они не страхуют друг друга, что пока эта бестия Тараканов маячит на глазах, готовясь в любой момент откланяться по-английски — не прощаясь, другой русский разведчик решает свою задачу, оставаясь вне поля зрения.
Таких гарантий нет и никто их дать не может, а Конрад и начальник полиции потупили глаза, медлят с ответом на прямо поставленный вопрос. До сего времени не обнаружили второго, не сумели отыскать его в этом вшивом городишке?
— Не нашли, — промокая платком слезящиеся глаза, констатировал обер-фюрер. — Плохо, господа, весьма плохо.
— Не исключено, что после стычки с наружниками он сумел нелегально покинуть город, — вскинул подбородок фон Бютцов.
«Бравирует, упрямец, — покосился на него Бергер. — Но в присутствии Лидена не стоит осаживать, наступать мальчишке на самолюбие. В нашем деле, как в натаскивании собаки: иногда надо дать ей разорвать ту тряпку, которой дразнишь, чтобы воспитать чувство уверенности в себе и обязательности победы. Вот только сколько раз еще придется отдавать тряпку? Нельзя же это делать бесконечно. У мальчика зреют в голове недурные замыслы, он прилично разрабатывает планы операций, достойно начинает их проводить в жизнь, но потом пасует, столкнувшись с чужой, более изощренной хитростью, не желающей укладываться в отведенные ей рамки. Впрочем, подобной болезнью страдают многие, а предусмотреть абсолютно все ходы противника не способен ни один профессионал. Тут важно не растеряться, быстро и правильно реагировать, не упускать из своих рук общее направление развития событий и гнать врага к известной цели, а варианты, возникающие попутно, иногда можно отбросить, чтобы не забивать голову лишней информацией. Главное — конечный результат!»
— Да, — подумав согласился он, — такое не исключено. Но все же, господа, нельзя сбросить со счетов и версию о его пребывании в городе. Это было бы непростительным легкомыслием. Поэтому надо срочно найти второго. Я хочу в самом скором времени получить от вас добрые вести. О всех происшествиях, даже кажущихся незначительными, докладывать лично мне в любое время суток, не говоря уже о странных случаях в городе и прилегающих районах.
— Надеюсь, гибель парикмахерши их не встревожит настолько, чтобы они свернулись, — поняв, что разговор закончен, начальник СС и полиции безопасности встал.
— Если Анна сработала удачно, то они скоро сами уйдут, — усмехнулся Бергер. — А мы их отпустим, — добавил он совсем тихо, но ни Лиден, ни Бютцов не услышали его.
— Штурмбанфюрер, — остановил выходившего из кабинета Конрада обер-фюрер. — Будьте добры, пришлите врача из госпиталя. В моем возрасте не пристало шутить с болячками.
Бютцов кивнул и скрылся за дверью. Оставшись один, Бергер собрал лежавшие на столе бумаги, запер их в сейф и, сняв мундир, накинул на плечи домашнюю куртку из теплой верблюжьей шерсти, отороченную по вороту и обшлагам витым шелковым шнуром, — доктора хотелось встретить почти по-домашнему.
Врач пришел на удивление быстро, буквально через пять-семь минут. Средних лет майор медицинской службы, с усталыми, внимательными глазами и прохладными, приятно пахнущими хорошим мылом пальцами — это Отто почувствовал, когда доктор осторожно оттянул его веки вниз, разглядывая белки.
— На печень не жалуетесь? — доставая из кармана стетоскоп, спросил медик.
— Печень, — с кряхтением ложась на кровать, саркастически хмыкнул Бергер. Неужели этот эскулап не сумеет понять, как обер-фюреру сейчас нужно быть тяжело больным? — Я, дорогой доктор, жалуюсь на все сразу: на возраст, на печень, на сердце, на войну, на то, что мной уже мало интересуются молоденькие девушки. Неприятно чувствовать себя больным и старым, а я болен доктор, серьезно болен.
И он внимательно поглядел в глаза склонившемуся над ним майору. Тот взгляда не отвел и приложил мембрану стетоскопа к ладони, чтобы согреть ее и не обеспокоить снимавшего рубашку эсэсовца холодком инструмента…
Глава 7
К старой разрушенной часовне Семенов шел уже знакомой тропкой, петлявшей между кустов бузины, заросших лебедой и чертополохом, ямами и кучами мусора, наваленного как попало. Видимо, сюда свозили всякий хлам жители Немежа, выбрасывая то, что уже невозможно обменять на хлеб или картошку и использовать в хозяйстве. Старьевщики давно перевелись, ржавые горшки и матрацы с вылезшими пружинами никого не интересовали, поскольку оккупанты отбирали для себя все самое лучшее, а горожане приучились обходиться минимумом удобств, только вздыхая украдкой по старым добрым временам, когда всего было вдосталь.
Припекало поднявшееся солнышко, и Павел Романович снял шляпу, неся ее в руке. Скоро покажется знакомый столб с фигурой божьей матери, держащей на руках младенца Иисуса, и обрушившаяся кровля часовни с выросшей на ней тоненькой березкой с бархатно-коричневым стволиком.
Настороженно поглядывая по сторонам, Семенов раздумывал над разговором, состоявшимся у него сегодня ночью с Волковым. Рискует Антон, ох рискует, но другого выхода, пожалуй, нет — приходится лезть в пасть ко льву. Как это говорят на востоке — если твое дело в пасти льва, а ты мужчина, то пойди и возьми то, что тебе нужно?
…Нина не сумела выбраться из города — один из сопровождавших ее разведчиков погиб, а мальчику удалось скрыться, и он отсиживается теперь на явке у Осипа Герасимовича, который строго запретил ему ходить по улицам и вообще выходить из дому до особого распоряжения. Как все произошло? Случайно? Закрыли немцы выходы из города по новой схеме или специально ловили уходивших и засада могла ждать если не на этой улице, так на другой? От одной встречи с патрулями парнишка избавил ведомую им маленькую группу, но пока сам выбирался из передряги, двое других напоролись на немцев в ином месте и, вступив в перестрелку, были убиты.
Как-то они с Антоном будут выгребать отсюда на чистую воду? Сейчас даже у минного поля бродят патрули и ночами постоянно шарит по нему своим лучом прожектор, безжалостно высвечивая каждый сантиметр, каждую былинку, каждую кочку и ямку. Сгреб Бергер город в жменю, стянул его ошейником засад и патрулей: кого хочет — впустит, кого хочет — выпустит, впору, как кроту, рыть подземные ходы, чтобы оказаться на воле. Неужели он весь Немеж решил превратить в одну большую камеру смертников, сделав всех жителей своими заложниками?
План Волкова заслуживает внимания, хотя и трудно выполним, сложен и не застрахован от случайностей. Однако другого выхода пока не предвидится — и так сломали себе головы думками и насквозь прокурили каморку во время разговоров. Если все удастся, то они на коне, а если нет… Впрочем, об этом тоже надо думать и искать новые варианты, не останавливаясь на уже принятом, — легко только сидеть на печи да плевать в потолок, а было бы здесь все просто, разве послали бы его и Волкова?..
Тропка вывела к купам кустов бузины. Вот и столб. Обходя вокруг него, Павел, как старому знакомому, подмигнул имени пана Казимира, выбитому на камне. Тихо, маятно от жары, вьется в тени мелкая мошкара, обещая и далее устойчивое тепло и сушь. Хорошо бы сейчас просто погулять по роще, побродить между деревьев, позагорать на солнышке, подставив ему белую после зимы спину, ощутить босой ступней податливость чуть влажной лесной земли, покрытой роскошным ковром разнотравья, но…
Устроившись в тенечке под кустом, Семенов стал ждать, когда появится Ярослав, и поглядывать на дорогу — не пылит ли по ней уже знакомая темная машина?
Томашевич пришел пешком — разведчик заметил его высокую фигуру еще издали. Словак шел по обочине, помахивая прутиком и сшибая пыль с листьев придорожных деревьев. Пилотка засунута за пояс, воротник расстегнут.
— Добрый день, — дождавшись пока Томашевяч поравняется с кустами, окликнул его Семенов. — Отчего вы сегодня не на машине?
— Здравствуйте, — словак легко перепрыгнул через кювет и пожал руку Павлу Романовичу. — Не получилось, авто я нашел в условленном месте и оно было в полной сохранности. В благодарность получил увольнение в город.
— Какие новости? — увлекая механика подальше от дороги, поинтересовался пограничник. От того, что сумел узнать Ярослав, многое зависит. Но словак тоже не господь бог.
— Вылет послезавтра, в одиннадцать часов по местному времена.
— Точно?
— Приказано подготовить к этому самолет, — пожал широченными плечами Томашевич. — Я сам слышал и еще говорил с немецкими механиками. Они всегда просят помочь, а я никогда не отказываю. Вчера вечером мы сидели за картами и одни из лих проболтался, что эсэсовец не полетит.
— Вон как, — легонько присвистнул Семенов. — Зачем же тогда готовят машину, кто же полетит? И что произошло с обер-фюрером.
— Заболел, — усмехнулся словак. — Не знаю чем, но, говорят, серьезно. Приказал отправить офицера связи.
— Вот как? — насторожился Павел Романович. — Именно офицера связи? Откуда тот?
— Тоже оттуда, — сплюнул механик. — Он уже приезжал: такой лупоглазый, в форме ваффенэсэс. Говорил с командованием, а я его видел только издали.
Офицер связи, это нечто новенькое. Почему же Бергер вдруг заболел — очередной тактический код, не хочет улетать, оставив операцию незавершенной? Похоже. Значит, он доверит свои бумаги эсэсовскому офицеру спецсвязи, который доставит их в Берлин, а сам останется, чтобы полностью контролировать ситуацию?
— Не могут они прислать самолет яз Берлина или заменить машину здесь, на аэродроме? — покусывая травинку, задумчиво спросил Семенов. — Бывает у них такое или нет?
Словак отрицательно помотал головой — нет, такого он еще не видел, чтобы немцы без видимых причин отменяли ранее данные распоряжения и приказы. Это для них из ряда вон выходящие случаи, признаки сбоя в работе хорошо отлаженной и запущенной на полный ход военной машины, приученной к беспрекословному повиновению и четкому выполнению приказов.
— К подготовленному самолету сможешь подобраться? — продолжал допытываться Павел Романович. — Его охраняют?
— Да, выставили часовых. Но подбираться мне не нужно, пан Казимир, — Томашевич назвал разведчика по псевдониму, придуманному им на их первой встрече. — Я буду участвовать в подготовке машины и проверке двигателей перед полетом. Подойду свободно. Что нужно?
— Самолет транспортный? — уточнил Семенов.
— Двухмоторный, — подтвердил механик. — Полетят еще несколько офицеров, вызванных в Берлин, и отпускники.
— Увольнение в город дали свободно? — не унимался разведчик. — Ничего подозрительного на аэродроме не заметно? Может, какие новые люди появились?
Ярослав наморщил лоб, раздумывая над вопросами, почесал темя и обезоруживающе улыбнулся:
— Насчет чужих я не специалист, никого не замечал. Если служба безопасности и роет, то от нас это скрывают. Увольнение дали без задержек. Мой начальник ценит работу с автомобилем, поэтому по-своему старается отблагодарить. Что же насчет города, то хотел зайти в парикмахерскую к Нине…
— Нины нет, — быстро сказал Павел Романович. — Ходить туда не надо ни в коем случае. Это приказ. Погуляй, загляни в казино для солдат, в общем веди себя как обычно поступают немцы, получившие увольнение. Ясно?
— Понял, — вздохнул Томашевич. — Да, чуть не забыл самое главное: я узнал маршрут. Удалось случайно, даже не надеялся, а расспрашивать опасался. Когда возились у машины, готовя ее к полету, — это был другой самолет, не транспортный, — у противоположного борта остановились немецкие пилоты, Они вообще не считают нас за людей, а на территории аэродрома чувствуют себя в полной безопасности. Так вот, один жаловался другому, что придется лететь над Немежской пущей, а в ней прячутся партизаны. Второй засмеялся и ответил, что у лесных бандитов нет зенитных орудий, а на ином маршруте может потребоваться прикрытие, которого не получишь, поскольку большую часть истребителей отправляют или уже отправили ближе к фронту. Когда они уходили, я узнал со спины Лемке, пилота транспортника.
— Сколько он будет тянуть до пущи?
— Пока взлетит, пока ляжет на курс, — начал прикидывать словак, — минут тридцать. Машина тяжелая, скорость не так велика, поэтому через полчаса будет как раз над лесом.
Сунув руку за пазуху, Семенов достал небольшую плоскую коробку. Открыв ее, передвинул стрелки часового механизма и, закрыв крышку, протянул мину механику:
— Сможешь пронести и поставить? Включать надо здесь, перед тем как прикрепишь к самолету. Она магнитная, — предупредил Павел Романович. — Лучше всего в мотор, так, чтобы не мог дальше тянуть на одном и не спланировал. Получится?
— Попробую, — убирая мину в карман брюк, пообещал Томашевич. — Пан Казимир хочет, чтобы машина упала в лес, я понимаю. Но что потом будет со мной?
— Сможешь выйти с аэродрома? Поставить мину перед вылетом и выйти за ворота? На аэродроме мы ничем не сможем тебе помочь.
— Выйти? Если не будут стоять на постах эсэсманы, то выйду.
— За поворотом лесной дороги увидишь телегу с хворостом. Скажешь вознице, что ты давно не видел Казимира. Он ответит предложением помочь встретиться. Дальше можешь полностью положиться на него.
— Значит, лес? — поежился словак. — Вы обещали, что там я не буду пленным.
— Помню, — успокоил его Семенов. — Как другие словаки?
— Плюются, но служат. И мало нас, — горько вздохнул механик. — Им тоже надо помочь.
— Подумаем над этим, — прощаясь, пообещал разведчик. — Ну, удачи!
Проходя мимо столба с фигурой божьей матери, он подумал, что неизвестный скульптор сделал ее, взяв за модель простую белорусскую крестьянку, вышедшую на порог своей хаты с ребенком на руках. Наверное, каждая мать — богиня, особенно для своих детей, рожденных и выпестованных ею.
Так и кажется, что сейчас пересадит каменная мадонна своего сынка с одной руки на другую и, козырьком приставив к глазам ладонь, поглядит в небо, на кружащих над хатами аистов — птиц счастья и мира. Но только давным-давно не видно в этих краях аистов. Улетели…
Побродив, как обычно, по городу и вновь не обнаружив за собой слежки, Волков зашел в дешевое кафе для гражданских лиц, пристроился с кружкой отдающего водой пива и бледным пирожком с ливером за высоким столиком с мраморной — крышкой, отхлебнул противный напиток и меланхолично начал жевать пирожок.
Странно, неужели Бергер и Бютцов дали ему полную волю в перемещениях по Немежу и не интересуются тем, где он бывает и что делает? Такое, конечно, не исключено, поскольку они наверняка уверены, что город ими заперт весьма прочно и, как не рыпайся чужой разведчик, выйти из него он все равно не сумеет. А по сему — гуляй пока, а когда придет время, поговорим?
Нет, ни Бютцов, ни Бергер, ни, тем более, начальник СС и полиции безопасности города Лиден, на такое не пойдут — нет гарантий взять его живым и, следовательно, нет гарантий получения нужных сведений. Даже если вдруг и захватят, то опять же нет гарантий, что смогут «разговорить» на допросах. Поэтому они наверняка что-то придумали, дабы не пугать его наружным наблюдением и не настораживать раньше времени. В том, что о пребывании здесь его и Павла известно врагу, Антон был теперь уверен — иначе не появилась бы вдруг Анна, неизвестно куда пропавшая после передачи копирки, не погибла бы при выходе из города Нина, не взяли бы под наблюдение Семенова после посещения им сапожника, да и черный автомобиль, встреченный на улочке рядом с костелом, никак не шел из ума. Опять же Осип Герасимович рассказал о назойливом любопытстве чиновника адресного стола и отдела жилой площади городской управы, которое они вдруг начали проявлять по отношению к владельцам домов и квартиросъемщикам. Ищут? Несомненно! И ищут не только и не столько чиновники управы.
Что бы он сам мог придумать в подобной ситуации, когда в маленьком городке бродит неизвестно где известный ему человек, делая круг за кругом по улицам и находя пристанище в пока невыявленном месте? А надо знать, где он бывает, с кем встречается, чего ищет.
При условии, что ты здесь практически полный хозяин, а территория ограничена, можно попробовать выставить скрытые посты наблюдения в ключевых точках и сопоставлять их данные. Словом, наблюдателей никак не миновать. Возможно, Бергер и компания так и поступили. Кто им мешает посадить своих людей на бирже труда, в доме напротив парикмахерской — если они заранее выследили Нину, на железнодорожной станции, у костелов, на рынке, даже здесь, в этой забегаловке?
За несколько дней прорисуются маршруты движения по городку, выявятся точки, где объект бывает чаще, и тогда можно покумекать, раскинуть сеть иначе, затягивая узелки на горле противника, выявляя его места ночлега, — улицы-то все наперечет! Так или иначе будешь топтаться на пятачке дважды в день — утром и вечером, когда выходишь с явки и когда возвращаешься. Вот и попался.
Мрачная картинка! Пожалуй, пора завязывать и выбираться из западни, постаравшись не ободрать бока до крови, которой так жаждет господин обер-фюрер.
Дожевав пирожок, Волков закурил и, прихлебывая пиво, осмотрел зал. В дальнем углу стоял светловолосый парень в голубой рубахе с закатанными по локоть рукавами и тонкой вязаной безрукавке с вышитыми на груди белыми оленями. Именно так должен быть одет его сегодняшний провожатый. Что же, потихоньку допьем пивко и отправимся следом за парнем, приняв необходимые «меры предосторожности».
Выйдя на улицу, Антон прищурился от бьющего в глаза солнца и походкой бездельника направился к базарной площади, зацепившись взглядом за мелькавшую впереди светловолосую голову. Пусть отойдет подальше, не надо, чтобы возможный наблюдатель мог связать их воедино.
Заметив двор, в который свернул его незнакомый проводник, Волков вошел за ним следом в подворотню. Выйдя из нее — темной, давно не крашенной, с облупившимися стенами, обнажившими под отвалившейся штукатуркой тонкие перекрестья планок дранки, — он увидел, что парень скрылся за дощатой дверью павильона общественной уборной. Хорошо, направимся туда, это так естественно после пива.
В туалете после яркого света показалось темновато, но две доски, раздвинутые в задней стенке и как бы приглашавшие пролезть в образовавшееся отверстие, сразу бросились в глаза. Не долго думая, Волков выглянул в дыру и, убедившись, что она выводит в соседний двор, вылез, аккуратно поставив доски на место.
Голубая рубашка маячила теперь между домами в узком проходе, где едва можно протиснуться бочком, да и то рискуя испачкать одежду о стены. Значит, туда?
Щель между домами привела в третий двор, а провожатый уже шагал по переулку и, пересекая его, входил под своды следующей подворотни. Сзади никого, впереди, кроме незнакомого провожатого, тоже. Надо отдать ему должное — маршрут продуман, почти не выходят на улицы и двигаются по таким закоулкам, где заплутает любой наружник, вздумавший за ними увязаться. И что еще порадовало Антона — за ними практически невозможно наблюдать из окон домов: подворотни и дворы глухие. Если Бергер и Бютцов действительно понатыкали везде стационарные посты наблюдения, то сегодня те немного смогут сообщить своим хозяевам.
Провожатый ждал у полуоткрытой двери, ведущей в подвал. Увидев, что Волков подходит ближе, он скрылся за дверью, предупредительно оставив ее нараспашку. Поняв это как приглашение, Антон опустился по выщербленным каменным ступеням и очутился в длинном сводчатом коридоре, слабо освещенном высоко расположенными полукруглыми окнами, выходившими на неизвестную улочку. Окна были почти вровень с тротуаром, и за пыльными стеклами мелькали ноги редких прохожих, торопившихся по своим делам.
Далеко впереди виднелась еще одна дверь — тоже призывно полуоткрытая. Добравшись до нее, он оказался на обычной лестнице жилого дома. Провожатый ждал на площадке. Открыв своим ключом дверь квартиры, он пропустил Антона внутрь полутемной прихожей, заставленной старой мебелью, и, не сказав на слова, вышел.
Дрогнули занавески, прикрывавшие вход в комнаты, и появилась пожилая женщина в простом черном платье. Гладко зачесанные назад седые волосы, прихваченные гребенкой, меховые тапочки на ногах, приветливая улыбка, гостеприимный жест, приглашающий неожиданного гостя пройти в гостиную.
— Пан Осип говорил мне о вас, — усаживая Волкова за ширмой, на которой извивались линялые китайские драконы, сказала хозяйка. — Я обещала помочь и нашла нужного человека. Мне казалось, будет лучше, если вы не увидите друг друга, поэтому здесь ширма. Пан должен понять, мы живем в оккупации. Кофе? Правда, должна извиниться, только желудевый.
— Спасибо, — Антон опустился в кресло с вышитой подушечкой на сиденье, а хозяйка вышла на кухню.
Устраиваясь поудобнее, майор повертел головой, разглядывая убранство комнаты. Пара недурных копий картин на религиозные сюжеты, засохшие цветы в высокой вазе синего стекла, поставленные посреди овального стола, покрытого вязаной скатертью, диван, коврик на стене, шкаф с книгами в темных переплетах, на которых давно стерлась позолота и невозможно прочесть названия. Вот как живет пани экономка.
Когда Осип Герасимович предложил использовать для решения некоторых вопросов ксендза одного из костелов, Волков сначала отнесся к этому с некоторой долей недоверия. Нет, ему, конечно, приходилось иметь дело с католическими священниками, но чем здесь может помочь пробст?
Как оказалось, цепочка длинная и сложная — жена Осипа хорошо была знакома с подругой экономки пана ксендза. Соблюдая целибат — обет безбрачия, тот не мог жениться, но много лет жил с экономкой, являвшейся, по сути, его женой и матерью его детей. Хозяин явки ручался за порядочность и патриотизм ксендза и его экономки и через ее подругу договорился о том, чтобы они помогли. Среди прихожанок костела была одна пожилая женщина, много лет работавшая в замке еще при князьях. Поскольку она прекрасно ориентировалась в замковом хозяйстве — достаточно сложном и запутанном, — немцы ее не выгнали. Отличаясь набожностью и умением держать язык за зубами — иначе ей не удалось бы столько лет состоять на службе у князей, не любивших разглашения своих дел: амурных или политических, финансовых или семейных, — бывшая княжеская служанка, пришедшая на исповедь, услышала от пана ксендза несколько странную просьбу, но обещалась ее исполнить. И вот сейчас Антон сидит в гостиной экономки и ожидает прихода служанки, разговаривать с которой ему придется через ширму. Но это ничего — в шелке множество мелких дырочек и он увидит свою собеседницу, а вот она не сможет потом узнать говорившего с ней человека.
«Тайны мадридского двора, — усмехнулся Волков, — княжеские служанки, ксендзы, ширмы, экономки. Рассказал бы кто, я ни за что бы не поверил… А Осип Герасимович молодец, четко организовал свидание».
— Прошем пана, — хозяйка поставила перед ним маленькую чашечку с желудевым кофе. Отхлебнув, Антон почувствовал горьковато-приторную сладость сахарина.
— О, это Катаржина, — услышав слабый звонок в передней, поднялась с дивана хозяйка. — Пусть пан остается на месте. Я посажу ее у стола.
Вернулась она с рослой старухой — по-крестьянски ширококостной и крепко сбитой, несмотря на тепло, покрытой широким клетчатым платком. Присев на стул, Катаржина положила перед собой завернутый в плотную бумагу пакет.
— Что это, — наливая ей кофе, поинтересовалась экономка.
— Пан ксендз просил, — старуха с благодарностью взяла чашку и отодвинула сверток от себя. — Мне скоро возвращаться, немецкие паны не любят, когда я долго отсутствую.
— Хорошо, — согласилась хозяйка. — Здесь один человек, который хотел побеседовать с вами.
— Да, пан ксендз говорил мне, — с достоинством ответила Катаржина. — Но где этот человек?
— Там, — экономка показала на ширму, — Он задаст вам несколько вопросов.
— Вы знаете уборщицу Анну? — задал первый вопрос Антон.
Старуха повернула голову на голос, немного подумала, потом ответила:
— Знала. Ее теперь нет в замке. Была, но недолго, увезли.
— Откуда появилась, кто и куда увез?
— Говорили, что прислали с биржи. Ее опекал черный немец, приехавший с большим начальником из Германии. Здоровый такой. Их с начальником двое.
«Клюге и Канихен, — понял Волков. — Наверняка они. Еще живы, подлецы. Но кто из них? Впрочем, какая разница?»
— Увез ее этот немец на машине, — продолжала Катаржина, — а вернулся один. Но пусть пан знает, что Анна действительно белоруска. И пусть знает, что с биржи в замок никого не берут. Никогда.
— Она действительно убиралась в госпитале и жилом крыле замка?
— Того я не видела, — поджала губы старуха. — Когда она мне попалась во дворе, я спросила: кто такая? Сказала: уборщица Анна. Худая, молоденькая была, волосы темные.
— Да, похоже, — согласился Антон. — То, что вы принесли, действительно из жилого крыла?
— Пан может не сомневаться.
— Как же вам удалось? Вас пускают туда?
— Нет. Но я лучше их знаю, что и где лежит, — гордо выпрямилась Катаржина. — И знаю, как туда пройти и взять, чтобы было незаметно. Я пятьдесят лет служу в замке, а они в нем всего три года, но успели многое растащить. Они пользуют ту бумагу, которую запасли князья. Хорошая, заграничная. Мне пора уходить, — бросив взгляд на настенные часы, старуха встала и поклонилась в сторону ширмы. — Доброго здоровья пану.
— Вам сюда, — вернувшись, проводившая гостью экономка повела Волкова на кухню и открыла дверь черного хода. — Были рады вам помочь, если сумели.
— Спасибо, — и майор начал спускаться по узкой лестнице с чугунными перилами.
— Пан, — тихонько окликнула его хозяйка. — А сверток?!
— О, простите, — Антон взял поданный ею пакет и сбежал вниз. Какая рассеянность: задумался и чуть было не оставил столь нужную вещь.
Провожатый ждал внизу. Все так же молча он пошел впереди, выведя Волкова в уже знакомый сводчатый подвал через систему запутанных коридоров, пропахших луком и гнилым картофелем.
Через десяток минут разведчик оказался опять в том же дворе с павильоном общественной уборной, в обратном порядке проделав свой путь к месту встречи с Катаржиной.
Придя на квартиру старого гробовщика, он развернул пакет и осмотрел стопку чистой белой бумаги, принесенной старухой. Услышав стук в дверь, спрятал сверток и открыл. На пороге стояла Барбара, вытирая руки концом передника.
— Я носила обед мужу. Он просил передать, что за товаром приедут завтра, на грузовике. Из солдатского госпиталя в Желудовичах…
Группенфюрер Этнер позвонил как всегда ночью. Выразив глубокое сожаление, что Бергер приболел, да еще столь серьезно, он начал расспрашивать обер-фюрера о здоровье, проявив незаурядные медицинские познания, и Отто даже засомневался — не сидит ли рядом с группенфюрером суфлер-медик?
Голос у Этнера, рассуждавшего о болезнях человеческих и хрупкости жизни, подверженной стольким опасностям, был тих и печален, но многоопытный подчиненный уловил в нем скрытое одобрение и поощрение, — можно продолжать играть роль тяжелобольного, всячески затягивая возвращение в Берлин. Молчаливое согласие на это получено.
— Я жду вашего доклада, — говорил группенфюрер, и его слова долетали до Бергера вместе с легким потрескиванием и шорохами на линии. Наверняка прослушивали разговор сотрудники спецслужбы связи РСХА или сам Этнер распорядился сделать запись. — Рейхсфюрер справлялся, как движутся дела, и будет рад поздравить вас с успехом, дорогой Отто.
— Утром вылетает офицер спецсвязи, — прокашлявшись, сообщил обер-фюрер. — Я сам провожу его. Думаю, к вечеру доклад положат на ваш стол, группенфюрер.
— Главное, поскорее выздоравливайте, — прямо-таки масляным голосом сказал Этнер. — Меня не на шутку обеспокоило известие о вашей болезни, а врачи пугают осложнениями. Выздоравливайте и возвращайтесь, Жду вас в Берлине.
Положив трубку, Бергер долго лежал на спине, глядя в потолок своей комнаты, — неизвестный мастер изобразил на плафоне буйство красок золотой осени С ее щедрыми дарами и аллегорические фигуры, не забыв, однако, добавить к ним полуобнаженных нимф и сатиров. Ночник слабо освещал роспись, свет падал неровно из-за наклоненного в одну сторону абажура, и потому казалось, что внезапно застигнутые светом фигуры застыли, пораженные тем, что их застали в момент движения, и как только погаснет ночник, они вновь пустятся вскачь, исполняя замысловатый танец.
Насморк прошел еще не до конца, постоянно щекотало в носу, и обер-фюрер морщился, сдерживая желание чихнуть, — до чего же противно испытывать недомогание, но зато именно в такие моменты отчетливо осознаешь, как прекрасно быть здоровым и свободно дышать.
Да, насморк пройдет, но свободно дышать удастся еще очень не скоро. Масса условностей сковывает по рукам и ногам, принуждая к подчинению и выполнению приказов тех людей, которых Отто считал просто глупцами, а он, более способный и сильный умом, вынужден делать работу за них и довольствоваться тем, что останется ему от почестей, раздаваемых наверху без его участия. О, как многое он бы изменил и переделал, будь в его руках реальная власть. Однако корабль, называемый государством, дал течь — пусть пока мало заметную неопытному глазу, — а потому стоит ли рваться к вершинам бюрократической лестницы? В политике в отличие от настоящего корабля первыми гибнут те, кто стоит на капитанском мостике и верхних палубах, а в живых остаются трюмные команды и средние палубы, пассажиры которых при благоприятном стечении обстоятельств готовы пополнить собой команду нового корабля.
Разговор с Этнером тоже не пропадет — он спрячет его в копилку своей цепкой памяти и потом, работая над задуманной книгой разоблачительных мемуаров, отведет и ему надлежащее местечко. Стесняться нечего — сделали же из Жили де Ре и Влада Дракуле страшных злодеев и вампиров, пожирающих младенцев и сосущих кровь своих жертв. Публика падка на подобные вещи, они щекочут ее нервы и заставляют замирать от ужаса над прочитанными страницами, в глубине души радуясь, что ты сам не такой, а если и не слишком хорош, то до этих негодяев тебе все одно далековато, и есть еще запас времени, чтобы догнать и перещеголять их. И никого не интересует — действительно ли французский рыцарь Жиль, прозванный Синей Бородой, и румынский господарь Влад были такими, как их описали? А уж в случае руководителей РСХА и НСДАП не надо обладать буйной фантазией. Только умело подай материал — и читатель завизжит от восторга, вырывая книгу из рук торговцев…
Когда утром зашел фон Бютцов, Бергер был уже выбрит и одет. Сидя за сервированным Клюге столиком, он допивал утреннюю чашку кофе и глотал таблетки.
— Дополнительный паек, — слабо улыбнулся он в ответ на пожелание доброго утра и предложил Конраду выпить чашечку кофе.
— Боюсь не успеть, — отказался штурмбанфюрер. — Подали автомобиль, а вылет самолета не хотелось бы задерживать. Может быть, позволите мне самому отвезти доклад на аэродром? Мне кажется, вам не стоит рисковать своим здоровьем.
Вместо ответа Бергер встал, и открыв сейф, вынул из него папку с докладом. Вложив ее в портфель, тщательно запер его замок и влез в рукава поданного Канихеном плаща.
— Хотя на улице и солнечно, но, учитывая ваши пожелания, дорогой Конрад, я я поберегу здоровье: на аэродроме наверняка ветрено. Ну, пошли?
Забежав вперед, Канихен предупредительно открыл перед ними дверь и, прихватив автомат, вместе с Клюге поспешил следом за шефом.
Спускаясь по лестнице, Бергер подумал о том, что затея рейхсфюрера с покушениями весьма некстати, — хотелось бы все-таки выбраться отсюда и сделать некоторые неотложные дела. Написанное Конрадом брату за океан письмо прямо-таки жжет карман, а время идет, и оно все больше, и больше, напоминает зарытый в землю клад или замороженный вклад в банке. Письмо должно работать, найти адресата и побудить того к действию, встречам, разговорам, нащупыванию обоюдовыгодной сделки на основе ряда сходных позиций.
А он, Бергер, вынужден маневрировать, чтобы не вляпаться раньше времени в такое дерьмо, после которого не помогут никакие письма. Но кто прикажет фюреру или Гиммлеру? Это — номенклатура Иисуса Христа, распоряжающегося их жизнями. Лучше уж потерять некоторое время, чем потерять потом все.
Дорогой до аэродрома обер-фюрер молчал, запахнув полы плаща и уютно устроившись в уголке салона автомобиля. Сбоку, равнодушно глядя в окно, сидел Бютцов. Впереди, рядом с управлявшим машиной Канихеном, расположился Клюге, положив на колени автомат.
Редкие прохожие, еще издали завидев несущуюся по узким улочкам в сопровождении эскорта мотоциклистов охраны большую темную машину, испуганно жались к стенам домов, провожая кортеж тревожными взглядами. Но обер-фюрер не смотрел ни на прохожих, ни на проносившиеся мимо дома — полуприкрыв глаза, он, казалось, дремал, безучастный ко всему на свете, кроме лежавшего у него на коленях портфеля с докладом.
На самом деле Отто думал, напряженно прокручивая в голове различные варианты завершения удачно начатой операции «Севильский цирюльник». Надо думать, все же нельзя сбрасывать со счетов множество готовых неожиданно появиться обстоятельств — тут чужая страна, с враждебным населением и, пожалуй, давняя неудача в Польше в сороковом году тоже во многом связана с этим. Здесь каждый, вплоть до сопливого мальчишки, считает своим патриотическим долгом насолить немцам чем только может — слить бензин на землю из оставленного без присмотра грузовика, проколоть шины, хотя бы сорвать со стены листовку с распоряжениями бургомистра. А русская разведка издавна опиралась на таких, готовых взойти на костер за идею, а не на сухих рационалистов, взвешивающих все чуть ли не на аптекарских весах. Отто всю ночь мучили дурные сновидения, мрачные кошмары, и теперь не проходит сосущий под ложечкой холодок предчувствия близкой неприятности. Вроде бы все нормально, все сделано, как нужно, а интуиция предостерегает от успокоения, призывает быть наготове. Вон и Конрад неважно выглядит — тени под глазами, ясно обозначившиеся мешки у нижних век, помятый, хотя и держится бодрячком. Тоже не спал, тоже думает и считает ходы — свои и противника? И его бьет дрожь нервного нетерпения, ожидания скорого конца операции, развязки, неизбежно обязанной наступить?
Выбежавшие из караульной будки солдаты распахнули перед машиной ворота аэродрома. Вдали на летном поле вращал винтами самолет, прогревая моторы, на крыльце командного пункта теснились офицеры.
— Все готово? — подавая руку командиру летной части, поинтересовался вылезший из машины Бергер.
— Да. Ждали только вас.
— Я уже приехал, — обер-фюрер поманил к себе офицера спецсвязи в армейском эсэсовском мундире и передал ему портфель с докладом. — Отдадите лично группенфюреру Этнеру. Клюге, получите расписку.
Офицер спецсвязи расписался и, вытащив из кармана стальные браслеты на тонкой цепочке, защелкнул один на ручке портфеля, а другой на своем левом запястье.
— Отправляйтесь, — небрежно махнул рукой Бергер в ответ на прощальное нацистское приветствие офицера спецсвязи.
Закурив сигарету, обер-фюрер мрачно смотрел, как шли к трапу, перебрасываясь шутками, веселые отпускники с тяжелыми чемоданами. Как бы он хотел быть таким же беззаботным офицером люфтваффе, предвкушающим радость отпуска, попоек с приятелями, встречи с семьей. Позади всех, следом за небольшой группой улетавших по делам военных чиновников, вышагивал офицер спецсвязи с портфелем, прикованным к руке.
— Мы устроим его отдельно, — наклонившись к уху Бергера, почтительно сообщил командир летной части.
В ответ Отто только досадливо дернул плечом — отдельно так отдельно — как будто этот офицер представляет собой какую-то ценность. Ценно только то, что он везет в портфеле, а не он сам, но подобострастие летчика все равно польстило самолюбию.
Убрали трап, захлопнулся люк, и винты завращались еще быстрее, превратившись в сияющие серебряные круги. Дрогнув, машина развернулась и вырулила на взлетную полосу, побежала по ней, все ускоряя и ускоряя разбег. Еще миг, она оторвалась от земли, взревели моторы, и самолет начал набирать высоту.
Проследив за ним взглядом — глупо, конечно, да я зачем провожать глазами улетающую Машину, но все почему-то делают именно так, — обер-фюрер выбросил окурок сигареты и, заложив руки за спину, направился к ожидавшему его автомобилю. Вспомнилась весна и поездка на полигон, где проходили показательные испытания нового танка, разговор с фюрером, приглашение Этнера доехать вместе до Берлина. Как же давно это все было. Нет, не по прошедшему с того момента времени, а по событиям, наполнившим месяцы и дни, спрессовавшим их в тугой брикет.
Скоро начнется новое наступление — Этнер упоминал об этом. Будет ли оно удачным? А если нет? Тогда государственный корабль даст еще больший крен и течь усилится. И надо вовремя перебраться на еще более нижние палубы, как можно дальше от мостика, от уже обреченных, но все еще не понимающих этого капитанов.
— Мы возвращаемся? — догнав его, спросил Бютцов.
— Да, — буркнул Отто. — Я хочу дать хорошего пинка начальнику СС и полиции, хотя бы по телефону. Мне нужен второй русский. Нужен, как хлеб и воздух. Впрочем, он нужен нам обоим, и Лидену тоже.
От здания командного пункта торопливо бежал солдат. Что-то сказал командиру части, и тот поспешил догнать уже подошедшего к автомобилю обер-фюрера.
— Вас к телефону.
— Кто? — Бергер постарался смягчить свой недовольный тон, но вопрос все равно прозвучал резко. — Что там еще? Ну?
— Звонит начальник СС и полиции безопасности Лиден, — обиженно поджав губы, ответил летчик.
Повернувшись, Бергер пошел за ним к зданию командного пункта. Следом направился Бютцов, прикидывая, что может означать столь неожиданный звонок? Неужели русские успели преподнести очередную пакость или их пытались взять и теперь Густав решился сообщить о неудаче, как с той парикмахершей?
— Бергер, — взяв из рук телефониста трубку, представился обер-фюрер. — Слушаю. Это вы, Лиден? В чем дело, не могли дождаться, пока я вернусь к себе? Выкладывайте, что там у вас?
Конрад буквально впился глазами в лицо Отто, но тот оставался бесстрастным, только потемнели глаза и побелели суставы пальцев, сжимавшие трубку. Гудел в наушнике голос начальника СС и полиции безопасности, но слов разобрать невозможно.
«Бог мой, — подумал штурмбанфюрер. — Что же там еще произошло?»
— Немедленно взять русского! — процедил Бергер. — Найти и взять. Живым, только живым. Голову сниму, если не будет и второго.
— Они исчезли!.. — расслышал Конрад вопль Лидена и тут же представил себе, как лоснится от пота лошадиная физиономия длинного Густава. Да, разговаривать в случае неудачи с грозным Бергером — занятие не из приятных.
— Я буду у вас через сорок минут, — поглядев на часы, ровным голосом сообщил обер-фюрер. — И вы мне доложите об их задержании. — И, четко отделяя друг от друга слова, не предвещавшим ничего хорошего тоном, процедил — О задержании обоих. Ясно?! Все, кончайте церемониться. Тотальные облавы… Прочесывайте город, делайте, что хотите…
Зло кинув трубку на рычаги, он быстро вышел. Не оборачиваясь, бросил через плечо опешившему рядом Бютцову:
— Поймали кладбищенского сторожа.
— Русские? — не понял Конрад.
— Люди Лидена, — сплюнул Бергер. — Тот хотел бежать. У него обнаружены подробные планы захоронения всех казненных. Но не это главное. Неизвестные, одетые в нашу форму, вскрывали ночью могилу переводчика Сушкова.
— Невероятно, — едва смог вымолвить потрясенный Бютцов. — Только проклятый Тараканов мог до этого додуматься!
— До этого надо было додуматься в первую очередь вам, — отрезал обер-фюрер. — На дороге к Желудовичам обнаружена разбитая и сгоревшая грузовая машина. Не на самой дороге, а на обочине, почти в лесу. Остался только остов, ее случайно заметили, а тушить было уже нечего. Чья это машина, откуда? Скоро узнаем, но не будет ли поздно? Я не знаю, Конрад, как быть, если мы не найдем этих русских. Думайте, думайте, черт вас возьми. Вы же лучше меня знаете Тараканова, работали с ним в абвере, даже ухаживали за одной девкой. Где он сейчас?
— Боюсь, уже у своих, — садясь в машину, потерянно прошептал Бютцов.
— В город, — захлопнув дверцу, приказал Бергер и замолчал, откинувшись на спинку сиденья и снова прикрыв глаза.
Сосущее чувство близкой неприятности сегодня не обмануло.
Приезд немцев на машине Ярослав видел из окна мастерских — он с нетерпением поглядывал в него, боясь, что вдруг произойдут изменения и полет отложат или случится нечто непредвиденное и начнут вновь проверять машину, обнаружат мину и…
Плоскую коробку он пронес на аэродром свободно. Никто не останавливал, не обыскивал, и страхи оказались напрасными, но вот поставить ее оказалось много сложнее — никак не удавалось улучить момент, а рядом все время находились немецкие механики, дотошно проверявшие каждый узел. Коробка с миной лежала у Томашевича на груди под комбинезоном и, согретая теплом его тела, тяжело давила на ребра, когда он подавал инструменты и помогал в работе с мотором. У второго крыла, невидимые за фюзеляжем, возились другие механики, а чуть поодаль прохаживалась охрана.
Все время на чужих глазах, никак не вынуть из-за пазухи заветную коробку и дать ей присосаться магнитом к машине, сделав ее обреченной погибнуть в воздухе. Машину было жалко, тех, кто должен лететь в ней, — нет.
Подъехал заправщик, и показалось, что вот сейчас как раз появится удачный момент, но опять не повезло, и Ярослав занервничал — скоро уходить от самолета, а еще ничего не сделано. Неужели он не сможет? Зачем тогда брался, зачем обещал?
Перекачали в баки машины горючее, и заправщик ушел к ангарам, а немец-механик все возился и возился с мотором, стоя на лесенке и требуя подать то один, то другой инструмент. Наконец он спустился и, вытирая руки чистой ветошью, приказал словаку закрыть крышку — работа закончена. Буквально вспорхнув на ступеньки, Ярослав с замиранием сердца поглядел вниз — немец аккуратно укладывал инструмент в специальный ящичек. Мгновение — и заветная плоская коробка в руке, еще мгновение — рука с ней просунулась под кожух и разжала пальцы. Легонько чмокнуло — металл словно сросся с металлом, самолет принял свою будущую смерть.
И тут Томашевич вспомнил, что забыл включить механизм. Пришлось нашаривать коробку и включать, хорошо еще немецкий механик не обратил на него внимания, занятый своими делами.
— Чего ты возишься? — выпрямляясь, недовольно буркнул он, поднимая ящичек с инструментом.
— Все, уже все, — чужим голосом ответил словак, затягивая потуже винты защелок кожуха мотора. Удалось!
— Бери лестницу, пошли, — скомандовал немец и первым направился к мастерским.
Сейчас, глядя в окно мастерских, Ярослав понял, что пора уходить, — машина вращает винтами, прогревая моторы, важные немцы сами приехали проводить улетающих и ничего не отменят. Он вышел из мастерской и направился к заранее приготовленной тачке с мусором. Ухватив за ручки, легко покатил ее к второй проходной, от которой два шага до лесной дороги.
— Ты куда? — подозрительно вылупился на него вышедший из будки немец с автоматом. — Нашел время. И почему здесь, а не через ту проходную? Там ближе к свалке.
— Не могу же я при гостях? Начальство приехало, — объяснил Томашевич и поторопил — Открывай, у меня много работы, некогда.
Сплюнув, немец пошел к решетчатым воротам и приоткрыл их — ровно настолько, чтобы протиснуть тачку.
— Давай, только не задерживайся.
Не отвечая, Ярослав чуть не бегом припустился по тропинке, двигая впереди себя тачку. Бросить ее рядом с воротами он не решился — не исключено, что охранник смотрит вслед. И только скрывшись за кустами, он позволил себе перейти на шаг и вытереть выступивший на лбу холодный пот. Выбрался? Но это еще половина дела, надо найти повозку. Вдруг ее не будет?
Оставив тачку в кустах, он пробрался к дороге. Телега, груженная хворостом, стояла за поворотом, как и обещал Казимир. На передке сидел сгорбленный мужичонка и дымил самокруткой. Поматывала головой лошадь, отгоняя одолевавших ее слепней, хлопала себя длинным хвостом по бокам, а возница, казалось, дремал, забыв о делах и наслаждаясь пригревшим солнышком. Однако увидев словака, он встрепенулся и начал разбирать вожжи, словно готовясь тронуть с места.
Быстро сказав пароль, механик дождался ответа и помог вознице отвалить часть хвороста. Под ним оказалось подобие норы, куда Томашевич забрался с трудом. Покрякивая, возница завалил его сверху сучьями, поминая недобрыми словами рост своего пассажира.
— Родят же такого, — бурчал он, устраиваясь поудобнее на козлах, — в телегу не уложишь. Н-но, холера!
Хлопнул по спине лошади кнут, заскрипели колеса, и повозка выкатилась на дорогу.
Наваленные сверху сучья пахли сухой землей и горькой корой, от пыли и запахов неудержимо хотелось чихать, но Ярослав терпел, найдя себе дырочку и поглядывая в нее. Внезапно возница натянул вожжи и начал сворачивать к обочине, соскочил с передка и, стянув с головы рваную кепку, склонился, отвешивая мелкие поклоны пролетавшим мимо мотоциклистам в больших очках и несущейся следом за ними черной легковой машине.
«Самолет улетел», — понял словак.
Мотоциклы и автомобиль подняли тучу пыли, и мужичок долго отплевывался и ругался, отряхивая одежонку. Снова забравшись на передок, он обернулся и, постучав кнутовищем по хворосту спросил:
— Эй, ты живой тама? Сейчас свернем. — Не дождавшись ответа, тронул вожжи и, сокрушенно махнув рукой, заключил — Чего спрашиваю? Говорит слепой с глухим.
С трудом понимавший его речь Ярослав только улыбнулся — еще раз повезло сегодня, но вот как дальше? Кончилась его служба у немцев, и лесная дорога выведет к новому повороту судьбы. Какой-то она будет?
К месту падения самолета скакали по лесу верхами, уклоняясь от норовивших выбить из седла веток. Впереди — партизан, сообщивший, где рухнула машина, за ним остальные, а позади — две лошади, навьюченные канистрами: Колесов собрал в них все, что мог, — горючее, самогон, керосин, даже масло.
Один из разведчиков, сидевший на дереве, видел, как на пролетавшем высоко в небе самолете словно брызнула искра, машина начала заваливаться на крыло и, резко теряя высоту, задымила, пошла вниз, тяжело ухнув среди деревьев на краю топкого болота, заросшего по берегам осокой и камышом.
Лошади уже запаленно поводили боками, и с губ их срывалась густая пена. Партизаны наконец спешились в овражке и побежали к болотине, сгибаясь под тяжестью канистр.
Немецкий летчик был асом — ему удалось выровнять самолет, и, по всей вероятности, он надеялся найти в лесу хоть какую-то мало-мальски пригодную полянку, чтобы попытаться приземлиться с наименьшими потерями, спасая себя, экипаж и пассажиров. Но высота неудержимо падала, внизу мелькали раскидистые кроны вековых деревьев пущи, а один мотор не мог вытянуть поврежденную и плохо слушавшуюся рулей машину.
Наверное, с большой высоты болотина, простиравшаяся далеко в лес гигантским неровным языком, показалась летчику спасительной поляной или заброшенным полем, и он из последних сил тянул к ней, моля своего немецкого бога даровать ему спасение на славянской земле, куда он пришел завоевателем. Пожалел он об этом в последние минуты или нет?
Дотянуть не удалось, и Антон порадовался этому — рухни самолет в болото, пиши пропало — только поднимется фонтан брызг, коричневых от жижи перегноя и торфа, лопнет тонкий покров ярко-зеленой, ядовитой болотной травы и пропустит в немерянную глубину тяжелую машину, навсегда сокрыв ее от глаз людей. Потревоженно взлетят птицы, разойдутся на поверхности темной воды масляные пятна, забурлит от выходящего воздуха ряска — и все. Потом потихоньку сползутся плавучие островки, снова зазеленеет трава и даже место падения будет трудно определить через неделю-другую. А кто станет нырять в болото?
Выскочив к месту падения самолета, все на несколько секунд остановились и сгрудились, настороженно осматриваясь. Транспортник, как бритвой, срезал верхушки нескольких деревьев, клюнул носом вниз и врезался в толстенные сосны, распоров фюзеляж и начисто обломав остатки крыльев. Нос самолета свернут набок, хвостовое оперение отвалилось, сильно пахло бензином и горелой резиной, фонарь пилотской кабины и иллюминаторы разбиты вдребезги. Легкий дымок курился над лежавшим самолетом, похожим на фантастическую доисторическую рыбу, пытавшуюся доползти к воде, но остановленную жестокой и неумолимой силой.
— Не курить! — прикрикнул Колесов. — Осмотреть местность, ничего не трогать, следов не оставлять.
Партизанские разведчики рассыпались по лесу. Волков, Колесов и Семенов побежали к упавшей машине, оставив одного из партизан с канистрами.
Люк транспортника заклинило от удара. Внутри тихо, ни звука, только журчит вытекающий из баков бензин, и Антон еще раз порадовался, что горючее не успело загореться.
Он добрался до кабины пилотов и, выбив каблуком сапога остатки плексиглаза фонаря, заглянул внутрь.
Летчиков перемолотило, как в жерновах, пол заляпан кровью, а на приборной доске невозмутимо тикают бортовые часы с белыми фосфорными стрелками, по-прежнему отсчитывая время, уже кончившееся для экипажа и пассажиров. Бежит по черному циферблату тонкая секундная стрелка с остреньким белым наконечником, быстро минуя одну цифру за другой. Надо торопиться.
Приняв поданный Семеновым ломик, Волков выворотил раму фонаря и нырнул внутрь кабины. Легко закружилась голова от запаха свежей крови, смешанного с бензиновыми парами. Стараясь не смотреть по сторонам, он осторожно пробрался к двери, ведущей в салон, и попробовал открыть ее. Она не поддавалась.
Орудуя ломиком, он выломал замок и толкнул дверь ногой. Она чуть приоткрылась, оставив узкую щель, в которую, хотя и с трудом, но можно попробовать протиснуться. За дверью, в салоне, не раздавалось ни звука — все мертвы?
Антон попытался пролезть в салон. Нет, узка для него щель, не получается, а время идет. Тогда он налег на дверь всем телом, открывая ее шире.
Картина, которую увидел он в салоне, была ничуть не лучше той, что в пилотской кабине, — сорванные кресла, заляпанные кровью ребристые стенки, мертвые тела, разбросанные вещи, вывалившиеся из раскрывшихся чемоданов отпускников. Все тела в мундирах, кто из них офицер спецсвязи?
Преодолевая брезгливость, Волков начал торопливо осматривать одно тело за другим, уже не обращая внимания на то, что пальцы измазаны чужой кровью. Скорее, скорее!
Так, это летчик — молодой, в чине лейтенанта, правда, на лопнувшем вдоль спины мундире сохранился только один погон, а тело, подобно тряпичной кукле, неестественно сложено пополам.
Вот еще один летчик, еще, еще. Где же курьер, черт бы его побрал, неужели он в самый последний момент не вылетел?
Методично, но быстро осматривая салон, Антон продвигался к хвосту самолета. В разбитые иллюминаторы влетал свежий ветерок, принося некоторое облегчение, — от напряжения и дурных запахов пот начал заливать глаза, мешая работать. Доносились приглушенные голоса партизан, прочесывавших лес рядом с местом падения транспортника, было слышно, как сердито и неразборчиво бурчит что-то Колесов, обследовавший самолет снаружи.
Почти в самом хвосте под грудой чемоданов виднелись чьи-то сапоги. Не долго думая, Волков ухватился за них, вытягивая тело. С грохотом посыпались чемоданы, освобождая лежавшего под ними средних лет эсэсовца в армейском мундире. Под его затылком успела натечь темная лужица крови — видно, раздробил голову, когда самолет врезался в землю.
Антон отшвырнул ногой еще один чемодан. Есть! На откинутой в сторону вывернутой левой руке эсэс-мана надет стальной браслет, а второй защелкнут на портфеле с блестящим замочком.
Быстро присев, Волков ломиком сковырнул замочек портфеля и заглянул внутрь. Да, вот он, доклад Бергера и Бютцова.
Некогда разглядывать, некогда читать — потом, все это потом. Метнувшись к ближайшему иллюминатору, Антон крикнул:
— Давайте! Скорей!
Шустро подскочивший Семенов при помощи Колесова подал ему через разбитый иллюминатор сверток. Сунув доклад себе на грудь, Волков вложил в портфель вынутые из свертка листы бумаги. Пошарив по карманам мундира эсэсовца, нашел его документы и тоже забрал. Все, пожалуй, можно выбираться обратно.
Нет, надо бы еще попробовать открыть наружный люк салона. Помогая себе ломиком, он налег на дюралевую дверцу, чувствуя, как от напряжения темнеет в глазах. Кажется, подалась? Нет, это скользят ноги. Ну, еще разок!
Когда люк распахнулся, ему показалось, что свежий лесной воздух, пусть даже и успевший впитать запахи потерпевшей крушение машины, чуть не валит наземь. Жадно хватая его ртом, он спрыгнул вниз.
— Канистры, скорее канистры!
Подбежавшие партизаны притащили канистры и нырнули с ними в чрево транспортника.
— Как? — не вдаваясь в долгие разговоры, спросил Колесов.
— Порядок, — вытирая мокрое лицо платком, ответил Антон. — Они уже горели после взрыва, но пламя сбило встречным потоком воздуха. Твои за небом глядят?
— Обязательно, — сворачивая жгут из сухой травы, кивнул начальник партизанской разведки. — Хорошо, что быстро уложился. «Рама» с минуты на минуту появится. Ничего не трогать, головы оторву! — прикрикнул он на возившихся в салоне разведчиков, один из которых вытаскивал из кобуры убитого немца оружие. — Живей, ребята, живей!
— Остатний раз фрицы выпьють, — мрачно пошутил партизан, выливавший из канистры самогон. — Готово!
— Убрать все следы, отойти назад! — приказал Колесов.
Чиркнув самодельной зажигалкой, он поджег жгут травы, и, широко размахнувшись, отчего на конце жгута сразу вспыхнуло яркое пламя, забросил свой факел внутрь салона упавшего транспортника. Пригнувшись, бросился от него подальше.
В первые секунды внутри самолета было тихо, потом там хлопнуло, как будто лопнула толстая струна, сделанная из бычьей жилы, и машина чуть не подпрыгнула. Из всех щелей повалил дым, а из иллюминаторов и разбитого фонаря пилотской кабины вырвались языки веселого, жадного пламени, казавшегося почти бесцветным в ярком солнечном свете. Вскоре пламя поднялось над упавшей машиной гудящим костром, рвущимся в зенит.
— В городе сейчас полный тарарам, — вытирая тыльной стороной ладони потеки сажи на щеке, усмехнулся Колесов, шагая к лошадям. — Хорошо, людей успели заранее вывести. Счастливые вы, мужики, домой отправитесь, а я тут останусь, работы будет до черта.
Волков не ответил. Поддерживаемый Семеновым, он буквально плелся к овражку, где ожидал коновод, даже не поглядев, как партизаны уничтожают последние следы своего пребывания рядом с погибшей машиной.
Когда выехали к знакомой лесной тропинке, ведущей к базе, Павел Романович придержал лошадь и внимательно прислушался.
— Что? — обернулся к нему Антон.
— Прилетел, — улыбнулся Семенов, показав на видневшееся в промежутках между кронами деревьев небо.
Там уродливым светлым двойным крестом, распластавшись в синеве, ходила кругами немецкая «рама» — самолет-разведчик, высматривая место падения транспортника.
— Успели, — хмыкнул Колесов, ударяя каблуками в потные бока кобылы.
Волков бережно поправил спрятанные на груди бумаги и слегка поежился — нервное напряжение спадало и жутко хотелось спать.
Пахло гарью, между черных ветвей обгорелых кустов путались космы сизоватого дыма, похожие на клочья рваного тумана, невесть как сохранившегося до середины солнечного дня. Полосы света, перечеркнутые тенями деревьев, лежали на полянке у края болота, освещая остов сгоревшего самолета, похожий на скелет.
Повизгивали собаки, вертевшиеся около деревьев на опушке, понукаемые проводниками, они снова и снова кружили, пытаясь взять след; мелькали среди зелени черные мундиры эсэсовцев из поднятого по тревоге взвода комендатуры.
Кутаясь в кожаный плащ, Бергер устроился на складном стульчике с брезентовым сиденьем. Его знобило: то ли от нервов, то ли от проклятой простуды.
У обгорелого остова самолета суетились солдаты, гася последние очаги пламени. Оно нехотя сворачивалось и, шипя, гасло, оставляя на истоптанной земле черные потеки. Кого-то мучительно тошнило от мерзкого запаха сгоревших трупов, тяжелым облаком висевшего над погибшей машиной.
Обер-фюрер, не мигая, смотрел, как солдаты таскают ведрами воду из болотины и плескают ее на огонь — нечто фатальное чудилось ему во всей этой картине, казавшейся еще более нереальной при ярком солнце, уже начавшем клониться к закату. Кто бы мог подумать о таком утром, когда он провожал офицера спецсвязи на аэродроме? И какая-то неприятная тупость в голове, словно набитой опилками, — надо искать решение, выход из создавшейся ситуации, но, как назло, мысли приходят какие-то неясные, ни одну не удается развить, довести до конца.
Сзади напряженно сопел Клюге, противно дымя вонючей сигаретой, но Бергер не делал ему замечания — лень повернуть голову и шевелить губами, — пусть лучше воняет дешевым табаком, чем горелым человеческим мясом.
Да, неприятности редко ходят порознь — у них странное свойство словно притягивать друг друга и обрушиваться одновременно с разных сторон, стремясь согнуть тебя, сломать, придавить к земле, не давая подняться. Отчего так? Или просто судьбой подспудно копится нечто затаившееся против тебя, и, улучив подходящий момент, когда ты чуть ослаб, она переходит в атаку, надеясь наконец-то одержать решительную победу? Впрочем, какая, собственно, разница, — что случилось, то уже случилось.
Бергер вяло шевельнул рукой, и Клюге, мгновенно поняв желание шефа, бросился к самолету узнать, можно ли уже попробовать влезть внутрь или надо еще ждать.
Подошел насквозь пропахший дымом Бютцов, распоряжавшийся тушением пожара. Остановился рядом, устало сняв фуражку и подставив бледный лоб с розовым шрамом ласковому солнцу.
— Провидение спасло вас, Отто, — тихо сказал он.
— Надеюсь, оно не оставит и в дальнейшем, — поджал узкие губы Бергер.
Похоже, Конрад действительно уверен, что покушались именно на обер-фюрера? Что же, его мысль не лишена основания, и стоит ее развить хотя бы для того же группенфюрера Этнера, когда придется с ним объясняться. Вот только для этой версии не хватает фактов, а так вполне приемлема, спасибо мальчику, подсказал, вывел из тупого оцепенения, похожего на буддийский дзен.
Действительно, враг не мог точно знать, что Бергер не полетит, и устроил диверсию, надеясь уничтожить высокопоставленного представителя РСХА. Работать здесь приходится в тяжелых условиях, кругом лесные банды, постоянно рискуешь жизнью и вот — еще один пример, подтверждающий это.
— После вылета пропал аэродромный механик, словак, — немного наклонившись к обер-фюреру, сообщил Конрад.
— Вот как? — поправляя полы плаща, заинтересованно поднял брови Бергер. — Передали по рации? При каких обстоятельствах он исчез?
— Лиден развил кипучую деятельность, — надевая фуражку, пояснил Бютцов. — Сейчас он трясет аэродром. Механик вышел за ворота с мусором и больше не не вернулся. Характеризовался положительно, ни в чем подозрительном замечен не был.
— Каждый славянин уже подозрителен, — недовольно буркнул обер-фюрер, наблюдая, как Клюге предпринимает очередную безуспешную попытку влезть в сгоревший самолет. — Его могли убрать специально, чтобы сбить нас со следа. Он имел доступ к машине?
— К сожалению.
— Вот-вот, а потом непременно выяснится, что он знался и с девкой-парикмахершей, ну, с той, что убили ночью. Лиден недопустимо затянул работу с выявлением ее связей, и теперь мы имеем сомнительно-счастливую возможность пожинать результаты его медлительности. Сейчас он создает шумиху на аэродроме, где могли бы обойтись и без него, вместо того, чтобы перевернуть вверх дном весь этот вшивый городишко.
— Там работают, — попытался успокоить шефа Конрад. — И надо надеяться…
— Нам только и остается сейчас, что надеяться, — оборвал Бергер. — Поторопите Клюге, я не намерен сидеть здесь до ночи.
Бютцов, скрывая раздражение, поплелся к сгоревшему самолету. Глядя ему в спину, обер-фюрер поду мал, что мальчишка еще не понял до конца, чем грозит им обоим эта катастрофа, иначе не был бы так преступно спокоен.
Клюге натянул противогаз и полез в люк. Потянулись томительные секунды ожидания. Вот он появился, стащил с головы резиновую маску и жадно начал хватать ртом свежий воздух, вытирая рукавом потные волосы. Потом снова полез внутрь. Что там, черт бы их всех побрал, хоть сам лезь в еще не успевшее остыть чрево фюзеляжа!
Наконец-то! Клюге выбрался, держа в руках какие-то обгоревшие ошметки, и поспешил к шефу. Неужели нашел?
— Ну? — привстал при его приближении обер-фюрер.
— Страшная картина, — бледный Клюге никак не мог прийти в себя. — Как будто забрался живьем в печь крематория. Вот это все, что осталось от портфеля.
Бергер поглядел на спекшийся, бесформенный ком в руке шарфюрера и процедил:
— Упакуйте, как положено. Отправим в Берлин на экспертизу. И будем молить всевышнего, чтобы она показала, что сгорели именно те бумаги, а не другие. Как там, внутри?
— Жуть, — коротко ответил Клюге, — взрывом у них почти оторвало крыло, а потом удар об землю и пожар. Вы не можете себе представить…
— Могу, — махнул рукой обер-фюрер. — Я даже могу точно предсказать, что исчезнувший словак занимался именно тем мотором, где произошел взрыв. Для этого не надо быть провидцем.
Он замолчал, невидящими глазами глядя на измазанного жирной сажей шарфюрера. Как же все плохо-собаки не взяли след, прочесывание местности ничего не дало, русского и его напарника до сей поры не обнаружили, исчез словак-механик из аэродромной команды, лазили в могилу повешенного переводчика, пытался бежать кладбищенский сторож, около дороги нашли обгорелый кузов неизвестного грузовика и, с большой долей уверенности, можно предположить, что в городе исчезло несколько человек, — вот только кто и куда?
Хотя если нет следов и не беспокоятся собаки — все не так уж худо. Значит, никто не топтался тут около упавшей машины, а это шанс, пусть один из десяти, но шанс вывернуться и вновь завоевать полное благорасположение группенфюрера и вышестоящих. Да, это была просто попытка покушения на него, Отто Бергера. Неудачная попытка, за которую проклятые бандиты дорого заплатят.
Поднявшись, обер-фюрер медленно пошел прочь. Пора выбираться из леса и возвращаться в замок. Как этого не хотелось бы, но надо первым позвонить Этнеру и сообщить ему о случившемся, преподать все в нужном для себя свете и пообещать немедленно прибыть в Берлин с копией доклада. Именно так, презрев собственную болезненную слабость, выполнять долг.
— Мы возвращаемся? — полуутвердительно спросил пристроившийся рядом Бютцов.
— Здесь больше нечего делать. Распорядитесь, чтобы собрали все, что осталось внутри самолета. Металл не горит, проверьте наличие оружия, остатки документов на экспертизу, а несчастных похоронить с почестями. Они заслужили это.
Проклятая гарь так и лезет в ноздри. Потом долго еще будешь мучиться от преследующего тебя повсюду запаха, вызывающего неприятные воспоминания.
Нет, надо срочно предпринимать все необходимые меры и кончать работать со славянами — до добра это не доведет. Единственная надежда — при этой мысли Бергер мрачно усмехнулся: опять надежды — скоро ударят под Курском и Орлом. Придут в движение гигантские жернова войны, требуя все новых и новых жизней, пушек, танков, самолетов, а среди них вдруг да и потеряется этот, упавший в глухом, враждебном лесу. Главное — дотянуть до начала больших событий, а там станет несравненно легче: впереди либо огромный успех, либо столь же огромное поражение — третьего на этой войне не дано.
Что такое случившееся здесь в масштабах войны — мелкий эпизод. Эпизод тайной войны, эпизод в судьбе, операции «Севильский цирюльник». Если бы не было фронтов, то на случившееся обратили бы самое пристальное внимание, а так — помусолят немного и успокоятся, только бы экспертиза не подвела под гильотину. Но пока остатки портфеля в его руках, об этом можно не беспокоиться…
Вместо эпилога
Когда тихо затрещал звонок кремлевской вертушки, Лаврентий Берия слегка поморщился — наверняка опять звонит «Маланья», так за женоподобную внешность прозвали в определенных кругах Маленкова, набиравшего все большую силу и все более приближавшегося к вождю. В последнее время Маленков искал союза с Берией против «стариков», особенно Молотова, пользовавшегося благорасположением Сталина.
Нехотя сняв трубку, нарком подавил вздох раздражения — ссориться с «Маланьей» не стоило, настораживать его тоже. С заметным грузинским акцентом Берия сказал:
— Слушаю.
— Как дела? — вкрадчиво осведомился Маленков.
— Дела? — саркастически хмыкнул Берия. — Вы же знаете, что информация оказалась ложной. Вражеские происки. Участников операции наградим. Я думаю, Красного Знамени будет достаточно для основных исполнителей, а остальным по «звездочке». Разбрасываться орденами не следует.
— А потом? — помолчав, тихо спросил Маленков.
— Что потом? — не сразу понял нарком.
— Товарищ Сталин высказал мнение, что об этой истории должно знать как можно меньше людей, — раздраженно объяснил «Маланья». — Я думаю, надо, как в той комсомольской песенке: «Дан приказ ему — на Запад, ей — в другую сторону».
«Лезет не в свои дела, — разозлился Берия. — Занимался бы лучше производством самолетов, за которое отвечает, а тут уж как-нибудь без него обойдутся. Воображает себя учителем человечества. Однако надо прислушиваться, раз он передает мнение самого Сталина».
— Я подумаю, — пообещал нарком и тут же уточнил — Подумаю, как все лучше сделать.
— И когда будет сделано? — не отвязывался Маленков, задавая свои вопросы ровным, унылым голосом. — Время-то идет.
— Сегодня, самое позднее — завтра, — заверил Берия.
— Хорошо. Привет Нине Теймуразовне. — И короткие гудки в трубке.
«Еще моей жене приветы передает», — бросив трубку на рычаги аппарата спецсвязи, зло усмехнулся нарком.
Маленков, положив трубку в своем кабинете, подумал, что Берия сейчас вызовет начальника своей личной охраны полковника Саркисова и даст ему все необходимые распоряжения. И из рук Лаврентия потянутся в разные стороны ниточки судеб тех, кто участвовал в операции или знает о ней.
Почти десять лет спустя эти два человека — Маленков и Берия — будут молча стоять у дивана в почти пустой и холодной комнате на Кунцевской даче. А на диване в бессознательном состоянии, никого не узнавая и предсмертно хрипя, будет лежать тот, кого они привыкли всю жизнь бояться и называть только «товарищем Сталиным».
Маленков будет держать свои туфли под мышкой — он так и войдет в покои внезапно заболевшего «вождя трудящихся всей земли» в носках, все еще не в силах поверить, что вот-вот наступит новая эра, и не в силах освободиться от привычного страха, но уже вынашивая в голове планы стать первым лицом в государстве.
Еще через несколько месяцев Лаврентий Берия будет арестован, осужден и казнен, а Маленков закончит свои дни в полной безвестности.
Однако сейчас их божество еще живо, сами они всевластны и всесильны, а впереди долгие десять лет, но они уверены, что впереди — вечность.
И Берия действительно вызвал полковника Саркисова.
Надо решить некоторые вопросы, Рафаэль Семенович, желательно не откладывая, прямо сегодня…
Красные кони бешено скакали по полям, изрытым воровками разрывов снарядов, и топот огненных коней о длинными, развевающимися гривами сливался с тяжким гулом канонады и ревом самолетных моторов. Клочьями висела на покосившихся кольях рваная проволока заграждений, бугрилась и вздрагивала земля, а он, прижимаясь к ней грудью, упрямо полз и полз вперед, не обращая внимания на короткий посвист пуль над головой, полз, одержимый одним желанием — скорее донести горестную весть до родного товарища Сталина.
Рванулись вдруг в сторону горячие огненно-красные кони, храпя и роняя с звенящих удил желтоватую пену, взметнулись вверх кусты разрывов, натужно завыли самолеты, переходя в пике и поливая свинцом землю, а конная лава повернула и понеслась прямо на него. Все ближе и ближе оскаленные морды лошадей, покрытые пеной, все громче топот копыт, все нестерпимее жар, идущий от странных всадников.
Он вскочил, лихорадочно ища, куда бы укрыться, и неожиданно увидел речку, покрытую тонким льдом, под которым синела вода — быстрая, не застывшая на глубине, кажущаяся черной над равнодушными омутами. Туда? Но лед тонок, а у него нет ни шеста, ни слеги.
По крутым берегам торчат из снега тонкие прутики краснотала, а над ними свечами упираются в низкое серое небо прямые березы, с резкими черными отметинами на стволах. Разве поможет прутик на льду, разве сломить ему такую березу? А его ждут, на него надеются, ему верят…
Захрустел под его ногами тонкий лед, и босые ступни словно ожгло холодом, а сзади подгоняет нестерпимый жар и грозный топот огненных коней. Лиц всадников никак не разглядеть, не уловить выражение их глаз — только топот, гул и жар.
Скорее на другой берег — там спасение и там встретят свои, помогут, защитят, примут принесенную им горькую весть и отправят дальше, туда, где, не смыкая глаз, ждет его товарищ Сталин.
Какой же крутой обрыв, как тяжело по нему взбираться наверх, как перехватывает дыхание и кружится голова, но он взберется, дойдет!
Огненные кони с маху влетели на лед, и тот треснул под ними, а темная вода тут же превратилась в облако белого пара, но не ласкового и теплого, как в бане, когда он согревает усталое тело, а злого и жгучего, готового задушить, охватив со всех сторон, и, вроде бы шутя и играя, растопить, заставив осесть лужицей на землю, насквозь пропитанную кровью. А молочно-белый, горячий туман унесется дальше с ветром, который погонит его хохоча и завывая, заплетая между стволов деревьев, сдирая им, как наждаком, кору и оставляя после себя выжженный лес.
Почему ноги отказываются слушаться, почему он не может сдвинуться с места и бежать, бежать как можно дальше от этого страшного облака пара, в котором смутными розовыми пятнами проглядывают груди разгоряченных бегом огненных коней, уже преодолевших реку?
Наползает удушливый пар, трещат волосы на непокрытой голове, легкие словно забивает песком и щиплет глаза, но нет сил стронуться с места и стать легче ветра, подняться на нем и улететь прочь. И нет возможности схватить под уздцы какого-нибудь горячего коня, вспрыгнуть в седло и, прикрываясь ладонью от разметавшейся на ветру жгучими языками гривы, ускакать в широкие поля, потеряться в них, став маленькой точкой на горизонте, исчезающей на фоне неба.
Ближе и ближе тяжелый топот, как молотами по наковальням бьют алмазно-твердые копыта, высекая иокры из камней, отбрасывая назад комья вывороченной земли, и вот уже красно-рыжие кони вырвались из облака пара и несутся прямо на него — такого маленького, жалкого против этой лавины раскаленных мышц, стальных копыт, железных сердец, не знающих жалости и усталости, не ведающих любви, сострадания, милосердия и всепрощения.
Могучая, как паровоз ФД, грудь огненной лошади ударила его и сбила наземь, отбросив далеко в сторону, под копыта других лошадей, несущихся во весь опор к неизвестной цели. На секунду мелькнуло над ним круглое, раскаленное брюхо коня и начали бить по груди и голове копыта, сравнивая с пропитанной кровью землей, вышибая из ослабевшего тела едва держащийся в нем дух, размазывая плоть между корней, камней, лишаев и мха.
— А-а-а! — дико закричал Семен Слобода и… пришел в себя.
Он лежал на больничной кровати, пристегнутый к ней ремнями из брезента, укрытый грубым одеялом, одетый в линялую синюю пижамную куртку и бязевые подштанники. Около кровати стояли какие-то люди в белых халатах. У двух-трех под халатами виднелись военные гимнастерки. Значит, он дошел, добрался, он у своих и товарищ Сталин все узнает?
Губы стоявших около постели шевелились, но слов Семен понять не мог — мешал не прекращающийся гул в голове, как будто он был все еще там, в том страшном лесу, где ползло облако пара, скакали горячие огненные кони и с жутким воем пикировали самолеты. Странно видеть шевеление губ и ничего не слышать — словно люди отделены стеклянной стенкой аквариума. А на душе наступило успокоение — он дошел, он у своих, — и Слобода улыбнулся, слабо раздвинув спекшиеся губы.
— Пришел в себя, — заметил один из военных и, повернувшись к врачу, спросил — С ним можно говорить? Он понимает или нет?
— Видите ли, — отводя военного немного в сторону, тихо ответил доктор, — случай чрезвычайно тяжелый, сильнейшее истощение нервной системы, плюс длительное голодание. Нам, конечно, неизвестны все подробности жизни больного до того, как его передали на излечение, но надо еще несколько месяцев, чтобы поставить его на ноги.
— Я спрашиваю: можно ли с ним говорить? — нетерпеливо перебил врача военный. — Кстати, почему ремни, он что, буйный?
— Нет, но в состоянии беспамятства может причинить себе вред, — стараясь не обращать внимания на резкий тон, каким с ним разговаривали, доктор засунул руки в карманы халата. — У него бывают моменты просветления, возвращения памяти, к счастью, теперь все чаще, но ненадолго. Я же вам говорю: надо несколько месяцев, пока не наступит значительного улучшения.
— А когда это, — военный наморщил лоб, вспоминая, — ну, просветляется в голове, он чего-нибудь рассказывает? — и впился глазами в лицо врача.
— Как правило, наступает слабость, а мы используем учащающиеся моменты восстановления, чтобы как следует накормить больного. Вы так и не сказали, что хотите от него?
— Нам надо его забрать, — отрубил военный. — Его переведут в другую клинику. Приготовьте документы. Машина внизу.
— Я дам сестру для сопровождения, — предложил врач.
— Не беспокойтесь, здесь недалеко. Распорядитесь, чтобы его одели и вывели к машине.
Бросив недоверчиво-испытующий взгляд на столпившихся вокруг постели больного военных, в накинутых поверх формы белых халатах, доктор вышел из палаты. На душе у него было тоскливо и муторно, но как спорить с людьми, облеченными властью? Если вдруг начнешь им рассказывать о том, что бормочет в бреду потерявший разум человек, начнешь пересказывать, какие вопросы он задает, когда приходит в себя, — не навредишь ли ему? И что может он, пожилой и больной психиатр, обремененный семьей и заботами? Что?
Санитары ловко одели казавшегося совершенно безразличным к происходящему Слободу, поставили на ноги и, поддерживая с двух сторон, вывели в коридор. Один из военных, внимательно наблюдавший за процессом одевания, вышел следом за ними.
— Вот, — вернувшийся врач подал старшему из военных конверт с бумагами. — Здесь выписка из истории болезни.
— Ладно, — взяв конверт, военный небрежно сунул его в карман. — Разберемся.
Доктор подошел к окну и, прислонившись лбом к стеклу, поглядел вниз, во двор. Солнечно, тихо, резные тени от листьев старых кленов лежат на дорожках больничного сада и на плитках двора. Промелькнул кто-то в белом халате и исчез за углом здания.
Прямо под окнами стоит темная легковая машина, около нее прохаживается человек в форме, то и дело поглядывая на часы. Торопятся они, что ли, куда?
Санитары вывели больного, военный предупредительно открыл дверцу и помог тому забраться внутрь, устроиться на заднем сиденье. Хлопнула дверца, ушли санитары, быстро сбежали по ступенькам больничного крыльца другие военные, уселись в машину, и она выкатила за ворота, оставив за собой сизое облачко выхлопных газов, но и оно быстро растаяло.
«Спаси его господь», — украдкой, по-старомодному, перекрестился психиатр, отходя от окна. Пожалуй, о сегодняшнем случае не стоит рассказывать даже дома — жена впечатлительна и, самое главное, не в меру разговорчива, особенно когда ей удается выкроить время, чтобы вволю посудачить с соседками. Детям тем более не нужно знать про такие вещи, вырастут — сами во всем разберутся, а ему их еще долго кормить, учить, ставить на ноги…
В машине Семен молчал и тихо улыбался в ответ на какие-то свои, потаенные мысли. Сидевшие по обеим сторонам от него военные, сначала поглядывавшие на больного с опасливой настороженностью, постепенно обмякли и немного успокоились.
Вскоре автомобиль вкатил в глухой двор, закрылись за ним ворота. Сопровождающие вывели одетого в больничное Слободу, хлопнула дверь, пропуская их в тускло освещенный коридор. Запутанные переходы, узкие окна с пыльными стеклами, сбитые ступени лестницы, ведущей вниз, и снова дверь в узкую комнату без окон.
Находившиеся в ней двое сосредоточенно-мрачных мужчин в форме приказали Семену раздеться, но тот только непонимающе глядел на них и продолжал улыбаться, загадочно и потусторонне.
Тогда они сами сноровисто стянули со Слободы одежду, небрежно свалив ее в углу, и, толкнув голого Семена в спину, повели к лестнице, спускавшейся в холодный и толстостенный подвал военной коллегии Верховного суда СССР, над которым много лет спустя поставят памятник московскому первопечатнику Ивану Федорову. Скульптор изобразил его рассматривающим книгу, со склоненной головой. Тем, кто знает, что делалось раньше глубоко внизу под основанием памятника, кажется, что великий московитянин, сам живший в кровавое и смутное время, склонил голову в память безвинных жертв, отдавая им свой вечный и последний поклон.
Слобода шел спокойно, не прикрывая руками срамных мест и тяжело шлепая босыми ступнями по каменным ступенькам. Поежившись от подвального холода, он покорно встал у глухой стены, покрытой щербинами и выбоинами, оказавшись на краю маленькой шеренги из шестерых, таких же голых, разновозрастных мужчин. Они только покосили глаза на своего нового товарища, но ни один не проронил ни слова, храня молчание.
И вдруг Семену показалось, что он снова на берегу реки, в изувеченном паром и огненной конницей лесу. Унеслись вдаль страшные лошади, уползло душное облако и выглянуло солнце, пронизав косыми лучами низкие рваные облака, а на пригорок, что поднялся над излучиной речушки, вымахал на рыси стройный всадник в островерхом шлеме со звездой и поднял к губам сияющую медью трубу. Понеслись над замершими деревьями звуки, призывая павших встать и вновь взять в руки оружие, занять свое место в поредевшем строю. Вылетели на пригорок следом за трубачом еще три всадника. У двоих на пиках трепетали у острия маленькие красные флажки, а средний подставил порывам ветра сразу захлопавшее и развернувшееся тяжелое алое полотнище, с шитыми золотом серпом и молотом в обрамлении спелых колосьев.
Пела труба, повинуясь дыханию и движениям губ полкового трубача, играл на ветру, вырываясь из рук знаменосца, шелковый штандарт, собирая бойцов, и Семен сделал шаг навстречу всадникам, с трудом поднявшись с пропитанной горячей кровью земли…
Грохнули выстрелы, маленькая шеренга голых людей, стоявшая у стены, сломалась и осела. Померкло в глазах Слободы развернувшееся знамя и оборвался на высокой ноте призывный звук трубы, созывающей бойцов…
— Куда писать? — деловито доставая бланк, спросил один из военных. — В крематорий?
— Много чести, — наблюдая, как оттаскивают трупы, ответил другой. — Давай на Калитники, в овраг. Уже темнеет.
Тела сложили в сине-серый железный фургон. Двое, в длинных черных клеенчатых фартуках, влезли внутрь крытого кузова, а еще двое, прихватив лопаты, сели в кабину. Открылись ворота, и фургон выкатил на вечерние улицы, направившись к Рязанскому шоссе.
Вот уже близка и Росстанная дорога — древнее русское название последнего скорбного пути расставшихся с жизнью казненных, по чьей-то злой воле или по издевательскому умыслу впоследствии названная Скотопрогонной. У глухого, заросшего по краям кустами оврага, прорезавшего землю за Калитниковским прудом на краю кладбища, фургон остановился.
— Живей! — открывая дверцы кузова, распорядился старший, выскочивший из кабины.
Выдвинули деревянный помост и по нему, как с горки, люди в длинных черных фартуках скинули в овраг тела шестерых казненных.
Взяв лопаты, сидевшие в кабине фургона начали забрасывать тела землей, скрывая следы своего пребывания здесь и той страшной работы, которую они проделали над бывшими еще совсем недавно живыми, а теперь ставшими нагими и мертвыми, нашедшими свое последнее пристанище на этой земле в овраге за Калитниковским прудом.
Придя в комнату отдыха, Алексей Емельянович тяжело сел на свою солдатскую койку и опустил руки с набухшими венами между колен. Послать бы все к дьяволу: наркома, с его тонко-ехидной улыбочкой на змеиных губах, его клеврета Саркисова и Абакумова. Зачем они расстреляли Слободу, зачем?!
Вот так, вместе с радостью удачно выполненного сложного задания и гордостью за своих сотрудников, сумевших сделать почти невозможное во вражеском тылу, передумавших врага и разгадавших его ходы, получаешь и пощечины, от которых горит лицо и терзается болью душа. Не только болью, но и страшным, несмываемым стыдом за других, присвоивших себе право решать человеческие судьбы не по закону, а по собственной прихоти, «изымая» людей из жизни так же просто, как шахматист снимает с доски отыгранную фигуру типа пешки. Но люди, живые люди — не пешки!
Негнущимися пальцами расстегнув ворот кителя, Ермаков повалился на койку, прислушиваясь к неровным и болезненным толчкам сердца в груди. Переволновался, позволил себе резкость и прямоту, чего ему никогда не простят. Ну и черт с ними, пусть не прощают — жизнь кончится не завтра, и даже если не будет его, генерала Ермакова, — когда-нибудь все встанет на свои места и народ, коммунисты, верно рассудят, кто в это тяжкое время был прав, а кто преступил закон и попрал его. И воздадут каждому по заслугам. От этого суда никому никогда не уйти.
Разве дело в орденах? Не за ордена или другие отличия работает он сам и его товарищи — работают для людей, охраняя и сберегая их жизни, поскольку поскольку враг бесчинствовал на многострадальной русской земле — враг сильный, опасный. Можно, конечно, утешить себя тем, что отстояли честные имена командующего фронтом и его боевых соратников, но разве можно сбросить со счетов молодую жизнь другого человека, втянутого в эту историю волей страшных военных судеб и замыслами вражеской разведки? Человека-то больше нет!
Мог ли думать несчастный Семен Слобода, голодуя и холодуя в лагерях военнопленных, встречая на границе кровавую зарю первого дня войны, партизаня, совершая побеги из неволи, пробираясь к линии фронта, что его молодую жизнь оборвет не немецкая пуля и не пуля предателя-полицая, а своя, отлитая где-нибудь в Туле или на московском заводе и выпущенная из отечественного оружия рукой своих! Воистину жуткая судьба — пройти через немыслимые испытания, камеру смертников, потерять разум и быть расстрелянным здесь, когда добрался до своих, поставивших на его одиссее кровавую точку.
Как жить теперь, когда на сердце прибавился еще и этот тяжкий груз, когда оно так устало носить на себе камень боли за невинные жертвы, когда даже напряженная работа перестает приносить успокоение, а ночи превращаются в мучительные кошмары? Неужели наркома и его присных никогда не мучает совесть?! Даже Иван Грозный мучился, ночами напролет замаливая грехи и отбивая земные поклоны перед тускло светящимся жемчугами киотом в своей молельне, даже Петр Великий топил совесть в вине после стрелецких казней. Но то были гиганты, а здесь, похоже, злобные карлики, насилующие историю и народ в маниакальной жажде славы и величия.
Слава? Она, скорее всего, у них будет, — но слава Герострата, слава кровожадной орды, которой пугали детей.
Ермаков взял будильник, поглядел, который час, и поставил его обратно. Как только рука освободилась от призрачной тяжести жестяного корпуса будильника, ее вдруг пронзила острая боль.
В глазах стало темно, а губы показались немыми и чужими, не способными шевельнуться, выговорить хоть слово, позвать кого-нибудь на помощь. И кружится голова, тонкий звон в ушах, доносящийся как через вату.
«Обидно, — мелькнуло у него в мозгу, — обидно вот так, все сознавая и не имея возможности ничего сделать со своим непослушным телом. Так же, как и в жизни: все сознавал, но почти ничего не мог. Обидно…»
Гулко пробили часы в кабинете — большие, напольные, с весело блестящими, похожими на бутылки, яркими медными гирями, висевшими на цепях. Он не прислушивался и не считал число ударов — бой часов показался ему погребальным звоном.
Неужели никто не придет, неужели ему больше неоткуда ждать помощи — неоткуда и не от кого, поскольку уже успел расползтись шепоток по управлениям, что он позволил себе непозволительное, осмелился на недозволенное, высказал затаенное и резанул прямо по глазам самому наркому. И стал после этого зачумленным парией, вроде бы еще живущим и ходящим среди людей, но весьма сведущие уже прекрасно понимали — то ходит не человек, а одна его видимость, оболочка, бродит по коридорам и сидит в кабинете, ожидая решения своей участи: Фантом!
Если бы удалось дотянуться до звонка или до тумбочки, где всегда теперь стоят наготове сердечные капли, если бы удалось. Он попробовал шевельнуть рукой, и она легко поднялась и протянулась туда, куда он хотел, но ничего не ощутила. И тогда он понял, что руки не слушаются его и только кажется, что они могут подниматься, служить ему, как прежде, когда здоровое сердце гнало кровь по налитым силой мускулам.
Неужели никто не придет?..
Умирал Ермаков долго и мучительно — будто воткнули штык в сердце и все время поворачивали, раз за разом расширяя рану и терзая тело и внутренности острыми, как бритва, гранями. Когда выгнутый нестерпимой болью он сумел скосить глаза и увидел на подушке алое пятно крови, понял — это конец.
Страха не было, были только боль, обида и еще горькая жалость к самому себе и остающимся без него. Трудно им всем станет друг без друга, очень трудно…
Нашел его Николай Демьянович, зашедший в кабинет для обычного ежевечернего доклада. Телефон не отвечал, и подполковник, захватив бумаги, поспешил в кабинет генерала, тревожась и предчувствуя неладное.
Не увидев Алексея Емельяновича на привычном месте за столом, Козлов заглянул в комнату отдыха и остановился пораженный. Бросив на пол бумаги, кинулся к лежавшему без движения на кровати Ермакову, но помочь уже ничем было нельзя.
Когда Козлов набирал номер, чтобы сообщить о случившемся, палец его никак не попадал в дырки наборного диска телефонного аппарата, а по лицу ручьем текли слезы, капая на покрывавшее стол сукно. Николай Демьянович не вытирал лица и тонко всхлипывал, не стесняясь собственной слабости.
Он понимал — случилось нечто большее, чем несчастье, и наступает новая полоса в жизни. Какой-то она будет, что-то теперь ждет впереди?
Известие о смерти Ермакова потрясло Волкова, прижало к земле тяжким гнетом непоправимой беды, заставило душу ныть день и ночь от скорби, острого чувства потери и какой-то невысказанной вины перед ушедшим, как будто он мог ему помочь, спасти, предостеречь, но не успел или не сумел. Теперь больше никогда не будет с ними доброжелательного и жизнелюбивого человека, казалось, такого крепкого, что его не сумеет взять ни одна хворь.
Дни перед похоронами прошли, как в тумане, — что-то утрясали, решали, как лучше сообщить семье, вызывать ли их из эвакуации, где и как хоронить покойного, кто будет говорить, оркестр, караул…
Придя после похорон домой, Антон сдвинул в сторону покрывавшие диван старые листы бумаги — со времени возвращения он впервые пришел в свою квартиру — и сел, положив на колени пачку газет и письма от родных. Больше всего от мамы и ни одной весточки от Тони, хотя он оставил ей и домашний адрес, кроме номера полевой почты.
Перебирая успевшие слежаться в почтовом ящике газеты, он выронил из них телеграфный бланк. Нагнулся, подобрал и с удивлением увидел, что это его собственная телеграмма, отправленная на Урал Тоне. Чужим, малоразборчивым почерком на бланке наискось размашисто написано чернильным карандашом! «Адресат выбыл».
Он недоуменно прочел надпись еще рад. Выбыл? Куда выбыл, почему? Что еще там случилось? Позвонить Кривошеину, узнать у него, пусть не очень удобно беспокоить его по личным вопросам, но как иначе и кто, кроме него, сможет помочь? Некому.
Из дому не позвонить — время военное, возникнут десятки непредвиденных сложностей. Придется сходить на службу или лучше дать еще несколько телеграмм — на адрес госпиталя, где работала Тоня, Кривошеину, на завод? Нет, слишком долго придется ждать, пока ответят на его телеграммы, а скоро уезжать на фронт — эшелон уходит завтра. Придется все же сходить и позвонить. Пока обязанности начальника временно исполняет Коля Козлов — он поймет и разрешит.
«Отдохну немного и схожу, — решил Антон, — а пока прочту письма от мамы и сестры, узнаю, каковы там, в далеком городе, их дела, как растут племянники, нет ли в чем нужды. Хотя разве они сознаются — сейчас нуждаются все, а у матери, тетки и сестры такой характер, что постесняются беспокоить своими жалобами и просьбами, а напишут, что все хорошо, они сыты, слава богу, здоровы, обуты и одеты, а он должен беречь себя, не студить раненую спину, не забывать регулярно питаться, и не чем попало, а как следует».
Завалившись на диван, Волков вскрыл первый конверт, выбрав по штемпелю самое давнее письмо, — лучше идти вместе с далекими родными от одной их новости к другой, как бы получая весточки по очереди.
Читая, он словно слышал родной тихий мамин голос, видел ее рядом, ощущал тепло ласковых рук, которыми она умела лечить все болячки на свете, заставляя забыть про любые неприятности. Все так, как он и предполагал, — ни одной жалобы, нет даже намека на то, как им приходится нелегко. Хорошо бы выпросить хоть пять суток отпуска и съездить к ним, но Ермакова теперь нет и у кого выпросишь?
При мысли о Ермакове сердце опять наполнилось щемящей жалостью — какая же сразу маленькая и седенькая сделалась его жена, раньше такая живая, разговорчивая, уверенная в себе. Как бережно поддерживала ее под руку заплаканная дочь, как вздрагивали ее плечи при звуках траурного салюта, который дали из винтовок красноармейцы, тремя залпами отсалютовав погибшему на посту генералу. Именно так, погибшему на посту.
По большому счету, проводить его в последний путь должны были бы и все те, кому он помог при жизни, кого спас, оградил, сохранил, но они вряд ли когда узнают, кому обязаны жизнью и свободой. И командующий фронтом, за которого, не побоявшись гнева Верховного и мести наркома, вступился Ермаков, тоже не узнает, а если узнает, то очень не скоро. А может быть, так и не узнает никогда.
Ермаков первым нащупал промах Бергера и в долгом ночном разговоре с Волковым и Семеновым перед их вылетом к партизанам просил собрать неопровержимые доказательства, доставить их сюда, в Москву, чтобы опровергнуть обвинения в измене.
Антона настораживал путь Слободы к фронту, а генерал зацепился за другое — Семен не узнавал на фотографиях покойного переводчика Сушкова. Вроде бы ничего удивительного — прошло несколько лет, да и снимали Дмитрия Степановича в совершенно иной обстановке, а в камере смертников они встретились с Семеном, оба избитые до превращения лица в кровавую маску, но… Почему оставшийся неизвестным лохматый Ефим, первым указав на переводчика, сообщил Слободе, что это не кто иной, как Сушков, работавший у немцев и пользовавшийся долгое время их полным доверием и благорасположением? Откуда ему был известен переводчик и как он смог узнать его? Мало того, Сушков не был в семнадцатом году в Петрограде, а сразу приехал с фронта в Москву, где жила семья его приятеля по полку. А сидевший в тюрьме СД «переводчик Сушков» рассказывал сокамерникам именно о Питере, о выступлениях Ахматовой и концертах Шуберта. Значит, немцы знали о том, что Дмитрий Степанович петербуржец, но не выяснили, что с четырнадцатого года он больше не был в родном городе. Плюс странный побег Слободы, удачный выход к линии фронта, полученные им сведения, представляющие большую ценность для органов Государственной безопасности.
Уже в Немеже Семенов и Волков пытались разузнать что-либо новое о Сушкове, Слободе и их сокамерниках, но никто ничего не мог сообщить о лохматом Ефиме. О других добыли хотя бы разрозненные сведения, о нем — нет. Собрали все о переводчике, вплоть до мельчайших подробностей его поведения, примет одежды. И тут в одну из ночей, споря яростным шепотом с Семеновым и восстанавливая в памяти детали показаний Слободы, Антон убедил Павла в реальности казавшейся им невероятной версии генерала Ермакова — в камере смертников был не Сушков! Там вместе с Семеном сидел некто другой, одетый так же, как переводчик, а может быть, даже и в его одежду, копировавший его хромоту и манеры поведения, но не сам Дмитрий Степанович.
Никто из заключенных не знал Сушкова, поэтому показать на человека, исполнявшего порученную ему роль, признав в нем бывшего переводчика, мог только второй немецкий агент. С помощью партизан и подпольщиков уже точно установлено — никто из обитателей камеры смертников ранее не встречался с Дмитрием Степановичем и не мог его опознать, кроме неизвестного Ефима, но тот как в воду канул — даже о его гибели не имелось никаких сведений.
— А казнь во дворе тюрьмы? Семен сам видел, — недоверчиво напомнил тогда Павел Романович.
— Ну и что? — запальчиво возразил Антон. — Бергер пожертвовал своими людьми, вернее, людьми, подготовленными Бютцовом, для достижения большего правдоподобия и заодно для сохранения полной секретности.
Тогда-то у них и родилась мысль об отыскании могилы переводчика и эксгумации, что и было проделано в одну из ночей переодетыми в немецкую форму Волковым и доктором. У захороненного обе ноги оказались целы, в то время как Сушков после лагеря на всю жизнь остался хромым.
Вместе с Павлом Романовичем Антон попытался детально восстановить ход событий, поставив себя на место обер-фюрера и его ученика. Конечно, разведчики не могли тогда знать всех деталей, но предугадали верно.
Конрад фон Бютцов не зря появился в Немеже — при помощи начальника СС и полиции безопасности Лидена он дотошно и скрупулезно выискивал человека, связанного с подпольем и партизанской разведкой, имея намерение, втянув его в сложную систему интриг, дать советским органам безопасности страшную дезинформацию об измене в высшем воинском эшелоне, надеясь вызвать этим новую волну репрессий против командного состава Красной Армии или хотя бы посеять недоверие и панику, заставить всех подозревать и не знать ни минуты покоя.
Вскоре в поле его зрения попал переводчик Сушков, и Конрад начал внимательно приглядываться к нему, расставляя для Дмитрия Степановича одну ловушку за другой, методично выявляя его связи, почтовые ящики, явки. Когда он убедился, что находится на верном пути и переводчик именно тот, кто ему нужен, Бютцов приблизил его к себе, что совпадало с планами партизан, уничтоживших прежнего переводчика штурм-банфюрера. И началась страшная игра с ничего не подозревавшим, старым, больным и изломанным жизнью человеком.
Одновременно Бютцов лихорадочно искал «конверт» — того, кто сможет донести весть об измене до своих и кому должны поверить по ту сторону фронта. Искал, везде рассылая запросы и требуя скорее найти подходящего человека среди пленных, арестованных, случайно задержанных.
Наконец ему сообщили о Семене Слободе — бывшем пограничнике и партизане, совершившем несколько дерзких побегов из лагерей. Такой должен дойти, и ему наверняка поверят, просто обязаны поверить.
Слободу перевели в тюрьму СД в Немеже, поместив в камеру смертников. Прилетел Бергер, уже запустивший дезинформацию по своим каналам за рубежом, и Сушкову специально дали возможность «узнать» страшную тайну, условиться о внеочередной встрече с подпольщиками, а потом взяли по дороге на явку. Вряд ли теперь удастся точно выяснить, где нашел свое последнее пристанище Дмитрий Степанович, а в камеру пришел под его именем немецкий агент, заранее подготовленный Бютцовом. Пришел и, в соответствии с указанием своих хозяев, рассказал об «измене» измученному Семену, не зная того, что ему самому уже уготована страшная участь жертвы — одной из многих в этой операции. Антон был уверен, что и лохматого Ефима тоже ликвидировали, только в отличие от исполнявшего роль Сушкова немецкого агента, демонстративно казненного на глазах у всех во дворе тюрьмы, ликвидировали тайно.
В ту же ночь Лиден обрушился на подполье, и в первую очередь на основную явку Сушкова. Видимо, хозяина явки Прокопа немцам не удалось взять живым, и они инсценировали его гибель на минном поле, а сидевший с Семеном в камере немецкий агент дал адрес явки, на которой уже ждал сотрудник СД или предатель.
Слободе ловко устроили побег, воспользовавшись бомбежкой станции, и когда он вышел на связь с мнимым подпольщиком, повели по заранее подготовленному маршруту к фронту, чтобы исключить любые случайности и доставить «говорящее письмо» прямо в руки адресата. После прохождения Слободой определенных точек маршрута Бергер все уничтожал, расстреливая жителей и сжигая деревни, не оставляя ни одного свидетеля, которого можно было бы допросить разведчикам противника. Сожгли и ненужную им более явку в городе, оборудовав напротив нее стационарную точку наблюдения — мастерскую сапожника.
Наверняка Бергер и Бютцов разработали и другие запасные варианты на случай осечки со Слободой, но не пустили их в ход, убедившись, что все идет по плану, потом начали ждать реакции советской разведки, вычислив неопытную парикмахершу Нину и готовясь дать через нее прибывшим с той стороны линии фронта подтверждение данных, якобы добытых погибшим Сушковым и переданных Семеном Слободой.
Рискнув выйти на связь с Ярославом Томашевичем, Семенов и Волков получили подлинник немецкого доклада об операции «Севильский цирюльник». Из города они выбрались, спрятавшись в «товаре» старого гробовщика Бронислава, сваленном на грузовик немецкого госпиталя.
— Как думаете, почему они так назвали свою операцию? — читая немецкие документы, спросил их по возвращении Ермаков…
— Наверное, привлекла ария дона Базилио «Клевета», — усмехнулся Антон.
Документы, взятые из рухнувшего самолета, подтвердили их догадки и уточнили некоторые, до того неясные, детали. Немцы посадили на станции снайпера, убившего напарника Слободы в тот момент, когда полыхнул заранее подготовленный пиротехниками вагон; на всякий случай взяли в плотное кольцо оцепления весь район, чтобы беглец не сумел бесследно исчезнуть, и специально приезжали в маленькую деревушку в момент встречи Семена с внешне похожим на Прокопа лжеподпольщиком.
Все выяснилось, еще одно задание выполнено, но нет теперь Ермакова и Семенов уехал на фронт, как и сам Антон, уже получивший проездные документы. Но самое главное, с командующего фронтом снято обвинение в измене…
Волков сел, пододвинул поближе телефонный аппарат, сдул с него лохматую пыль и, подняв трубку, набрал знакомый номер:
— Игорь Иванович?
— А… Это вы. Я уже знаю, — голос профессора пресекся. — Печально, все так печально.
— Я завтра уезжаю, хотел вот попрощаться с вами, пожелать всего доброго.
— Уезжаете, — вздохнул Игорь Иванович. — Каждое расставание, как маленькая смерть. Впрочем, простите, я не хотел. Может быть, заглянете хоть на минутку? Надо бы посидеть, помянуть Алексея Емельяновича.
— Хорошо, — подумав, согласился Антон. — Забегу. Только сначала заскочу к себе, а потом сразу к вам…
Порывшись в уже собранном вещевом мешке, Волков достал бутылку водки, пару банок консервов из пайка, рассовал все по карманам и вышел. Сейчас он зайдет в управление и позвонит на Урал, а потом — к Игорю Ивановичу.
Задумчиво перебирая пластинки, профессор морщился, как от зубной боли:
— Не то, все не то… Ага, пожалуй, вот: Вертинский на слова Гумилева «Мне приснилось, что сердце мое не болит».
Красивый, грассирующий голос певца печально декламировал о сердце, висящем, как колокольчик, на краю крыши китайской пагоды, нежной девушке в алом платье, расшитом осами и драконами.
Стоя у патефона спиной к Антону, сидевшему за столом, Игорь Иванович тихо плакал, вытирая мокрые щеки узкой ладонью, и завернувшийся манжет застиранной рубашки открывал его сухую и тонкую руку, совершенно не тронутую загаром.
Полосы солнечного света лежали на паркете комнаты, перечеркнутом тенью рам, призрачной лентой проходил через лучи дым папиросы, золотились корешки книг в шкафах, стояла не выпитая водка в рюмках, тихо тикали часы на стене, мерно качая маятником и отсчитывая быстро бегущие секунды бытия. Волкову вдруг вспомнилось, как он впервые шел в этот дом зимой, спрятав в кармане листок с колонками цифр вражеской радиограммы, не поддающейся расшифровке. Какими огромными выглядели сугробы и как далеко казалось до прихода весны, до нового тепла! И вспомнился теперь уже давний разговор с профессором о тайнах великого времени и невозможности изменить его ход.
— Страшно, невозможно поверить, — вернувшись к столу, признался Игорь Иванович. — Уходят-то лучшие, а кто остается?
— Остаемся мы с вами, — грустно улыбнулся Волков. — Значит, на нас теперь лежит ответственность за все.
— А-а, — залпом опрокинув в себя рюмку, отмахнулся профессор. — Это я здесь остаюсь, а вы уедете на фронт. Кстати, если не секрет, почему вдруг отправляетесь в действующую армию? Просились?
— Начальству видней.
— Ну да, конечно, ему всегда виднее, оно всегда все знает лучше прочих, — с горькой иронией откликнулся Игорь Иванович. — Военная тайна? Не хотите, не говорите, я не любопытный. Раз надо, так надо. Но берегите себя, голубчик, войны временны, а жизнь, впрочем, тоже временна. О чем это вы задумались? Не нравится Вертинский?
— Нет, почему же. Нравится, даже очень. А задумался потому, что, похоже, потерял сразу двух человек, а не одного.
Хозяин недоуменно уставился на гостя, наморщив лоб и беспомощно пытаясь улыбнуться задрожавшими губами, — господи, какое же еще несчастье приключилось? Отчего вокруг одни только беды, горести, трагедии и нет ничего светлого, радостного, способного согреть душу, вселить в нее новые надежды?
— Что… еще кто-нибудь? — встревоженно спросил он.
— Нет, — Антон крепко потер ладонями лицо, как будто в комнате гулял пронизывающий холодный степной ветер с крепким морозцем и щеки задубели без притока крови. — Нет, просто потерял, не могу найти.
— Ну, напугали, — подвинув стул, профессор опустился на него, — а я уж, грешным-то делом, подумал: не с супругой ли Алексея Емельяновича чего? Все-таки такая боль, такая утрата. И не только для нее.
— Девушка одна, вернее, моя жена пропала, — объяснил Волков. — Мы познакомились, когда я был в командировке. Потом уехал, а вернувшись, дал телеграмму, но она пришла обратно с надписью: «Адресат выбыл». Зашел сегодня к себе на службу, позвонил туда, в тот город, а мне ответили, что она уехала в Москву. Выхлопотала себе пропуск и уехала.
— Замечательно, — хлопнул в ладони повеселевший Игорь Иванович. — Тут вы ее и найдете! С вашими возможностями да не найти?!
— Я уже успел запросить адресное бюро. Ответ отрицательный, — уныло сообщил Антон. — Не числится.
— Значит, еще не успела прописаться. Вот увидите, все наладится, обязательно.
— Мне сказали, что у нее, вернее, у нас ребенок будет, — потерянно улыбнулся Волков. — А уехала она больше месяца назад, вот в чем дело. Должна была бы уже и прописаться, и на работу устроиться, но ее нет.
— Почему это нет? — чуть не подпрыгнул профессор и нахохлился, как тощенький, остроносый воробей. — Бросьте такое думать, слышите, бросьте. Я верю, что мысли передаются на расстояние и ими можно причинить вред тем, кого ты любишь. Не надо дурных мыслей, Антон Иванович, я вас умоляю, не надо. Найдется она, непременно найдется, вот увидите. Знаете, дайте-ка мне ее фамилию и адрес, где она раньше жила. Я схожу туда, все узнаю и напишу вам.
Антон продиктовал, с сомнением глядя, как Игорь Иванович черкает карандашом на каком-то клочке бумаги в клеточку, — потеряет потом или запихнет среди своих расчетов и формул, а спустя продолжительное время найдет и с искренним недоумением будет глядеть на записку, мучительно вспоминая, когда и по какому поводу она написана и что со всем этим связано. Как часто мы все загораемся идеей помочь справиться с чужой бедой и болью, самонадеянно пытаемся ее руками развести, а когда не получается, вскорости остываем.
«Мне приснилось, что сердце мое не болит» — такое действительно может только присниться. Это поэт подметил очень верно, поскольку у каждого человека, обладающего совестью и честью, обязательно болит сердце за ближних и за то, что делается вокруг него. Неужели и этот кудесник-отшельник когда-нибудь не выдержит и, выплеснув при чужих боль своего сердца, разделит судьбы множества несчастных, пропадет в метельной круговерти Соловков, ляжет в вечную мерзлоту или провалится под лед?
Антон даже потряс головой, отгоняя от себя страшные видения, а профессор уже убрал записочку и поставил на патефон новую пластинку, предварительно аккуратно протерев ее бархоткой.
— Его любимая, — объяснил он, опуская на вертящийся черный диск блестящую иглу.
«В жизни все неверно и капризно, дни бегут, никто их не вернет», — с мягким акцентом запел Петр Лещенко.
«Пора, пожалуй, собираться, — подумал Волков. — Посидели, поговорили, помянули. Сейчас домой, позвоню еще раз Коле Козлову, попрошу его поискать Тоню, мою Тоню-Антонину, напишу письмо маме, проверю свои вещички, а утром в эшелон и на запад».
— Спасибо за вечер, — он поднялся, расправляя складки гимнастерки под ремнем. — Берегите себя, Игорь Иванович. Надеюсь, еще приведется нам снова встретиться и опять посидеть, поговорить. Прощайте.
— Что вы! — всполошился хозяин. — Никогда не говорите так. Надо говорить: до свидания.
— Хорошо, — Антон слегка сжал его хрупкую кисть в своей сильной ладони и, поддавшись порыву, притянул к себе и обнял Игоря Ивановича, как совсем недавно, прощаясь, обнимал Павла Семенова на перроне вокзала, около готового к отправлению эшелона. — До свидания!
— Уходите, — тоскливо констатировал профессор. — Все уходят и оставляют меня совсем одного… Так и не поговорили толком, не вспомнили многого. Не зря древние отмечали, что в разлуке три четверти ее тяжести берет себе остающийся и только одну уносит уходящий. Если бы вы знали, сколь тяжко одному.
— Я знаю, — тихо ответил Волков и, надев фуражку, пошел к дверям.
Как потерянный, хозяин, тяжело переставляя ноги, поплелся за ним. Остановившись в дверях и безвольно опустив вдоль тела руки, он слушал, жадно ловя ухом, шаги гостя на гулкой лестничной площадке.
Все глуше и дальше звук шагов, уходит, уходит в неизвестное и страшное человек, по всей вероятности, привыкший жить, скрываясь за чужим прошлым, все туже натягивается тонкая нить, связавшая их души в тот странный и памятный день ранней весны или поздней зимы, когда еще лежали на улицах сугробы, но в воздухе уже пахло клейкими тополиными почками от южного ветра, обещавшего скорый снеготал.
Как не хочется, чтобы эта нить оборвалась. Что ждет впереди этого человека, уезжающего, не успев отыскать любимую, потерявшего старшего друга и наставника, проводившего близкого товарища до теплушки уходящего на фронт эшелона? Что ждет его там, впереди, куда невозможно проникнуть даже мысленным взором, поскольку не разгаданы тайны великого и непознанного времени?..
Вот четко прозвучали усиленные эхом пустой лестничной площадки шаги внизу и хлопнула дверь подъезда.
Все, оборвалась нить и отчего-то стало больно сердцу…
Из приказа Верховного Главнокомандующего
24 июля 1943 года
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ тов. РОКОССОВСКОМУ
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ тов. ВАТУТИНУ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ тов. ПОПОВУ
Вчера, 23 мюля, успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано июльское немецкое наступление из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска.
Игорь Подколзин Иду за горизонт
Глава 1
Конец лета сорок первого года в Крыму выдался жарким. Дождя не было, по отрогам Таврии и побережью растекался липучий зной. Листва пожухла, закурчавилась трава, шершаво шелестели осыпающиеся колосья. Горячий суховей гонял перекати-поле, завивал в смерчи мягкую, как пудра, кофейную пыль, гнул перед оконцами чахлые деревца, срывал с крыш солому. От раскаленной земли небеса словно полиняли и стали белесыми.
Жаркой была не только погода. Осенью 1941 года гитлеровцы прорвали Ишуньские позиции. Севастополь оказался в осаде.
…В низком каземате над картой, развернутой на столе, склонились два командира: майор — комполка и капитан — начальник разведки. Свет от малюсенькой лампочки горбил тенями стены. Пахло камнем, застоявшимся табачным дымом и духотой.
— Вот он, гаденыш, — капитан постучал карандашом по карте. — Торчит, как кость в горле, ни выплюнуть, ни проглотить.
— Да. На шоссе держимся, оседлали, а по железной дороге они подтягивают подкрепления. Мост этот вредит изрядно. И как ухитрились не уничтожить при отходе, головотяпы? Эх, кабы взорвать.
Майор выпрямился и вопросительно взглянул на разведчика:
— А что, собственно, мешает?
— Что мешает? — переспросил капитан и наморщил лоб. — Охрана. Они же не идиоты, понимают: мост для них, как живительный родник в пустыне. Пробовали с воздуха его разрушить, только ничего не вышло: он в низине, подобраться трудно, а с большой высоты не попадешь — узенький, как штык.
— Значит, надо другими силами пробовать.
— Вот и просили вас подготовить четырех разведчиков.
— Не мало четырех?
— Тут заколдованный круг: пошлешь больше — не проскочат, меньше — не управятся. Думаю, достаточно. Задачу поставим: прежде всего разведать как следует, а представится возможность — подорвать.
— А есть агентурные сведения?
— Не располагаем таковыми. Связи нет, попробуй-ка просочись сквозь такое сито.
— Как собираетесь перебрасывать?
— Попытаемся водичкой. Вот сюда, — капитан указал пальцем точку на карте. — Торпедным катером «Г-5» поначалу, потом пройдут берегом.
Начальник разведки помолчал некоторое время, словно взвешивая, все ли до конца продумано, потом спросил:
— Кто старший?
— Младший лейтенант Одинцов из флотских.
И снова молчание. Первым нарушил его командир разведбата. Видимо раздумывая о судьбе подчиненных, он спросил;
— А когда возвращение намечаете?
— Полагаем, недельки им хватит. Тот же катерок заберет в том же месте. Цветной пляж называется, — начальник разведки хмыкнул, — купаться там прежде было одно удовольствие, камешки разноцветные, что твоя мозаика, а море, — он зажмурился, — ласковей доброй тещи. До мостика этого оттуда километров десять, если прямиком.
— Сомневаюсь я. И моста не взорвем, и людей погубим.
— Взорвать, может, и не получится, согласен, а вот информацию доставят точную, ручаюсь.
Уже прощаясь, начальник разведки повернулся к майору:
— И еще одно. Комдив вел разговор с авиаторами, возможно дня через три удастся организовать ночную бомбежку станции. Так что и это надо учесть.
Ночь выдалась безлунная. Со стороны Малахова кургана доносилась раскатистая канонада, словно разбуянившийся великан скатывал с круч гигантские глыбы. Где-то далеко, за Мекензиевыми горами, вспыхивали малиновые отблески. Небо над городом изредка высвечивали лучи прожекторов. На Сапун-горе полыхало зарево.
Торпедный катер приткнулся к свайному причалу. Что-то тягуче ныло, словно поскуливал щенок, — видно, борт терся о поперечные брусья пирса. На мостике из-за спины командира — лейтенанта — выглядывал совсем юный, почти мальчишка, шустренький краснофлотец-доброволец Гриша Березовский, прозванный в дивизионе боцманенком. Перед глазами начальства старался не мельтешить — не дай бог одумаются и оставят. Взяли его, честно говоря, без энтузиазма, скорее по необходимости. Боцмана ранило, и парнишка вызвался заменить его: подумаешь, дел-то туда-сюда не более часа, разведку высадить и обратно. «Дело знает», — подтвердил боцман. Учли и еще одно — пулеметом владеет отменно, с завязанными глазами разбирает и собирает.
По берегу прошел какой-то моряк. Видимо увидев знакомый катерок, довольно громко опросил командира:
— Куда идешь?
— Куда, куда? — раздался недовольный голос с катера. — Иду за горизонт.
На сходнях закачались тени. На палубу вошли четверо. Впереди высокий, стройный, плечистый — младший лейтенант Одинцов, Гришка его встречал раньше. Поговаривали — лихой вояка, мастак брать «языков». Следом трое, лиц не различить, по комплекции под стать старшему, последний, пожалуй, мелковат. Все во фрицевской форме, со шмайсерами, за поясами гранаты с длинными ручками, ножи в чехлах, за спиной мешки.
Разместились без суеты в желобах — торпед катер не брал.
— Готовы, что ли? — спросил лейтенант. — Уселись?
— Порядок. Трогай, — засмеялся кто-то на корме и добавил — На ухабах не вывали, ямщик.
— Отхожу! — прозвучал голос командира.
— Удачи, — донеслось с пирса. — Ни пуха ни пера!
— К черту, — отозвались из желобов.
Натужно заурчали моторы. «Г-5» неторопливо развернулся, прошел вдоль берега, где не было заграждений, и устремился в море. Забурлила вода, мелко задрожал корпус, катер, набирая скорость, понесся в ночь. По обе стороны вспыхнули мерцающим светом зеленовато-фосфорные буруны. Ветер вперемежку с солеными мелкими брызгами хлестанул по лицам.
— Эх! Прокачу! — раздалось с кормы. — Резвей, залетные!
— Держись крепче, да не трепись! — потребовали с мостика.
Впереди чернильная мгла. Лейтенант, подсвечивая фонариком, посматривает на часы и компас, сам с собой разговаривает.
— А теперь немножечко подвернем на курс триста. Т-а-акс.
Катер наклоняется на правый борт. Разведчиков окатывает волной.
— Осторожней!
— Не размокнете, не сахарные, — летит с мостика.
Командир волнуется, опять шепчет:
— Снова подвернем, пойдем прямехонько на норд. Та-акс.
«Г-5» вновь кренится. Всплеск обдает корму.
Через несколько минут катерок сбавляет скорость, идет почти бесшумно. Вокруг слегка посветлело. Лейтенант водит биноклем прямо перед собой. Берега еще не видно, но по расчетам он совсем близко. Командир оборачивается:
— На корме! Приготовьтесь! Сейчас подойдем. Как скажу — прыгайте, тут неглубоко.
Мотор вскоре затих. Катер, плавно покачиваясь, еле скользит, под днищем журчит вода. Неожиданно за кормой вспенивается — кораблик гасит инерцию. Берег уже открылся узкой полоской гальки и сплошным, теряющимся вверху темно-зеленым ковром. Прибоя нет, море словно дремлет.
— Все! Прыгайте! Дальше нельзя — мелко.
Разведчики переваливаются за борт, озорно взвизгивают. Вода доходит им до груди, а тому, кто пониже ростом, — до горла. Держа автоматы над головой, десантники бредут к берегу.
— Не мог уж прямо к подъезду. Сачок, — ворчливо раздается из воды. Затем со смехом — Пока!
— Счастливо, — отвечает командир. — Вернусь, как условились. Не задерживайтесь!
На берегу отчетливо проступают отдельные утесы, скалы, деревья. Откуда-то потянуло холодком, тут же пахнуло сладким, пряным запахом цветов.
— Полдела сработали, — лейтенант удовлетворенно начинает посвистывать. Замолкает, прислушивается и говорит, ни к кому не обращаясь — Чуточку обождем. Если сигналов не последует, возвращаемся.
Прошло минут тридцать. Берег безмолвствует, все тихо.
— Порядок, пошли в базу.
Катер качается. Затем, как бегун на старте, делает рывок. Почти тотчас изчпод киля раздается скрежет, я «Г-5» подпрыгивает, словно телега на кочках. Мелькают листы ржавого железа, перепутанные снасти, бороды зеленых водорослей.
— Напоролись! — заключил лейтенант и крикнул мотористу — Что у тебя?
— Вроде винт срезало. Двигатель едва вразнос не пошел — остановил. Сейчас разберусь.
— Валяй живее. Этого только, елки-палки, не хватало, — командир сдергивает шлем, вытирает вспотевшее лицо. — Вот лопух несуразный.
На востоке розовеет. Предутренняя дымка откатывается к горизонту. В небе ни облачка. До берега метров двести.
— Ну как там? Чего чикаешься? — нервно торопит лейтенант.
— Плохо. Лопасти согнуло и прижало к валу — самим не распрямить. Руль покорежило, сальники текут.
— Хоть ползком сможем?
— Попробую.
Мотор нерешительно урчит. Слышится стук металла о металл. Катерок трясет так, что дрожит мачта, но он все же двигается вперед.
— Быстрее не выйдет! — докладывает моторист.
— Выжимай, если получится. Да не запори, а то нам гроб с музыкой, — командир качает головой, осматривается вокруг, словно надеется на какую то помощь.
Над подсвеченными солнцем зубцами горного хребта возникают поблескивающие точки.
— Самолеты! Справа восемьдесят! — испуганно кричит Березовский. — На нас поворачивают.
— Спокойно, Гриша. Вижу, — лейтенант надевает шлем и сдвигает его на затылок. — Приготовь пулемет. — Добавляет неуверенно — А не свои?
— Не… «Юнкерсы» это… — Боцманенок направил ДШК на приближающихся пикировщиков.
Отчетливо доносится прерывистый звук моторов. Самолеты забирают в море, чтобы отрезать катеру пути отхода, потом с нарастающим гулом начинают заходить на цель.
— Огонь! Гриша!
Березовский торопится, пытается сразу поймать в кольцо прицела силуэт «юнкерса». Пот заливает глаза. Меж лопаток вдоль позвоночника ползет холодная струйка. Григорий решительно нажимает гашетку. Пулемет задергался. Навстречу машинам несется свинцовая очередь.
Самолеты сваливаются в пике. По обшивке «Г-5» шлепают пули, вспарывая алюминий. Леденящий душу звук ввинчивается буравом. Небо опрокидывается и с треском раскалывается. С обеих сторон словно кнутом ударяет по барабанным перепонкам. Катер подкидывает, чуть ли не отрывает от воды.
— За борт! — лейтенант отпихивает юнца и становится к ДШК. Не удержавшись, Гришка падает в море. Когда выныривает, катерок уже пылает костром. От едкой копоти саднит горло, печет. Метрах в десяти над водой мелькает голова командира — очевидно выкинуло взрывом с мостика. Лейтенант, отплевываясь, кричит:
— К берегу… жми! К берегу… быстрее…
Второй «юнкере», описав дугу, тоже атакует. Строчка фонтанчиков пересекает место, где находится командир. Его голова скрывается в волнах.
«Это же он нас, гад, добивает», — сообразил Григорий со страхом и нырнул… Долго, пока не стало колоть в легких, держался под водой. Наконец, задыхаясь, выскочил на поверхность, поплыл туда, где недавно видел командира. Заметался, позвал?
— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!..
Командир не откликался… Григория охватил ужас. «Один в тылу у немцев. Что делать? Куда деваться без оружия?» — терзался он.
Вплотную к пляжу спускались густые заросли. Из начинающих желтеть куп низкорослых деревьев зелеными свечками торчали кипарисы. С берега доносился их терпкий, смолистый аромат. Вдали проступали скалистые, в серых осыпях, лысые вершины. Рядом, над выброшенными на гальку водорослями, распластав остроконечные крылья, кружили чайки.
Плавал Березовский отменно, еще бы — родился у моря. Скинул мешающий пробковый нагрудник. Почувствовал — на левой ноге нет ботинка, вероятно, соскочил в суматохе. Дрыгнув правой, освободился от второго. Вскоре ноги коснулись дна. Встал, отдышался и, рассекая плотную воду грудью, двинулся вперед.
— Эй! — неожиданно оглушил хриплый голос.
Боцманенок вздрогнул и присел. Пугливо озираясь, завертел головой.
Рядом с лавровишней стоял мужчина. Приземистый, в фуражке с длинным, мягким козырьком. На нем коричневая куртка со светлыми отворотами, подпоясанная широким ремнем с подсумком. На рукаве — широкая повязка, как у санитара. В руках винтовка без штыка.
«Кто он? — пронеслось в мозгу. — Не немец, точно. Может, партизан?» Надежда тут же исчезла.
— Иди сюда! — Незнакомец вскинул карабин. — Да швыдче, суслик, костыли передвигай. Лапы подыми. Оглох?
Березовский догадался, кто перед ним. Он слышал: на оккупированной территории гитлеровцы из уголовников и недовольных Советской властью создали полицию. Но рядом предателя увидел впервые. Не верилось, что этот человек, вроде бы ничем не отличающийся от других наших горожан и сельчан, — заклятый враг. Поначалу стало не по себе, потом страх сменился злостью. Григорий вышел на гальку, бросил угрюмо:
— Чего разорался?
Рябое, круглое лицо мужчины скривилось. Глаза превратились в щелки, картофелина носа сморщилась, словно полицай собрался чихнуть.
— В гестапе, — просипел он, — по-иному запоешь. Там те кишки-то на уши накрутят. Рыжики-то повыколупают.
Березовский понял, тип заметил в его рту золотые зубы.
От мысли, что их вырвут, сделалось пакостно. Почему-то пришла на память шутка боцмана: «Гриш? Улыбнись». — «Зачем?». — «Да в гальюн темно идти». — «Доулыбался, — подумал он, — пристрелят и зубы вышибут». Тут же словно ощутил хруст в челюсти, отдавшийся болью.
— Давай, давай! — полицай двинул его стволом.
Григорий опустил голову и побрел по петлявшей меж бурых, ноздреватых скал тропинке. Не утерпел и процедил:
— Морда кулацкая, лизоблюд.
— Топай, топай, падла, — мужик ткнул прикладом в спину.
«Сейчас свернем, брошусь на него, вырву винтовку, а там была не была, — подумал Гриша, глянул вперед и обомлел. У опутанных повиликой обломков ракушечника на небольшой площадке показались два фрица. Очевидно, патруль полевых жандармов.
— Во! — осклабился конвоир. — Эсэсовцы. Худо-бедно, а пузырь шнапсу отвалят.
Гитлеровцы, казалось, совершенно не интересовались пленным и его сопровождающим. Стояли и пристально смотрели туда, где недавно разыгралась трагедия, будто что-то пытались разглядеть на поверхности моря.
Когда поравнялись с немцами, полицай угодливо заулыбался, ощерив прокуренные зубы.
— Битте, господа. Это я поймал москаля. С советского катера он. Его ваши самолеты…
Договорить он не успел. Стоявший рядом с ним человек коротким взмахом висевшего на груди шмайсера сбил его с ног. Второй молниеносно, лишь сверкнула сталь, ударил кинжалом в бок. Полицай, не охнув, завалился кулем, винтовка звякнула о камень.
Березовский испуганно дернулся, вскинул голову и от удивления вытаращил глаза — узнал младшего лейтенанта Одинцова. Радостно вскрикнул, кинулся к нему, но споткнулся и шлепнулся на землю.
Тело предателя упрятали в заросли.
— Давай с нами, — сказал Одинцов. — Одного могут снова схватить.
— Спасибо, — сдерживая вдруг охватившую его дрожь, ответил Гриша. — Выручили меня.
— Твое счастье — далеко уйти не успели. Услышали самолеты и спрятались, — пояснил напарник Одинцова.
— Видели мы, как на вас стервятники выскочили. — Командир приостановился — Почему замешкались-то?
— На баржу напоролись… Винт сломали. — После короткого раздумья добавил — Значит, теперь за вами не придут? В базе-то не знают, что катер погиб после высадки, подумают, не добрались.
— Дела-а, — младший лейтенант потер пальцами подбородок. — Впрочем, до возвращения еще дожить надо. Пойдемте.
Они свернули с тропинки, проползли под кроной каких-то пахучих, с мохнатыми листьями кустов. Перебрались через щебеночный завал. Миновали обмелевший ручей и очутились перед стеной зарослей. Казалось, дороги дальше нет, но Одинцов приподнял плети ползучих растений и раздвинул ветки — открылась уходящая вглубь яма.
— Полезайте, — указал рукой.
Спустились в отдающую землей и прохладой не то пещеру, не то штольню. Вскоре выбрались на каменную лестницу со стертыми ступенями. Рядом было темно, лишь внизу проглядывало тусклое пятно света. По лестнице вышли в небольшой круглый зал. За проломом в глиняном дувале Григорий увидел остальных. Они сидели и грызли яблоки.
— Пополнение прибыло, — командир кивнул на Березовского. — Нежданное-негаданное. Как звать-то вас?
— Гриша, — ответил боцманенок и поспешно добавил — Григорий Иванович.
Разведчики заулыбались, а тот, что был с командиром, вообще схватился за живот. И было от чего.
Выглядел Григорий Иванович весьма комично: куртка висела мешком, штаны подвернуты до колен. Сам босиком, а в руке сапоги полицая. Фуражка набекрень, из-под нее топорщатся мокрые вихры. К щеке прилип зеленый листок, на губах паутина.
Напарник Одинцова наконец умолк. Только теперь Гриша разглядел его. Лицо у него оказалось смуглым, глаза синие, с большими голубоватыми белками. Губы красные, словно подкрашенные.
Глянув снова на мальчишку, он представился:
— Старшина второй статьи Карлов. — Затем повернулся к сидевшему на мешках рыжеватому плотному мужчине небольшого росточка — Подвинься, Шкут, дай присесть Григорию Ивановичу, не держат его ноженьки от переживаний.
— Не Шкут, а Шкута. Сколь раз повторять? — Насупился крепыш, но потеснился, уступая место рядом.
— Шкута фамилия женского рода, а ты, как мне кажется, мужского, следовательно, Шкут.
— Хватит, — командир присел на корточки. — Значит, так. Придут за нами, не придут — вопрос будущего. А сейчас займемся делом. Все остается в силе, словно ничего не случилось. Понятно? Добро. Карлов, на пост. Остальным — отдыхать. Ну а вас, — он повернулся к матросу, — захватим с собой, пригодитесь. Впрочем, может, имеются другие намерения?
— Нет, нет, только с вами, — Григорий зачастил, будто горох высыпал.
— Не испугаетесь, по фашистским тылам? Скажите честно, не боязно?
— Не, привычно, — ответил, помедлив, — но я…
— Значит, так и решили, — перебил младший лейтенант, — поступаете в наше распоряжение. Возражений нет?
— Нет-нет, — ответил торопливо Григорий.
— Тогда располагайтесь как дома. Ребята у нас хорошие.
Березовский уселся в сторонке и стал приглядываться к окружающим. Командир, пожалуй, не уступал старшине в росте, но выглядел солиднее, ему, вероятно, за двадцать. Лицо волевое, мужественное, черты резкие. Когда говорит, тонкие губы слегка кривятся, серо-зеленоватые глаза щурятся.
Низенький со странной фамилией Шкута, как и все крепыши, с покатыми плечами и короткой шеей. Рыжих Гришка обычно делил на красных и желтых. Этот был ближе к красному. Создавалось впечатление, что коричневатые веснушки перекочевали у него с утиного носика на щеки, а оттуда на маленькие, в коротких белых ресничках, глазки и светятся там золотистыми точечками. Он чем-то поразительно напоминал ежика о красными колючками.
У третьего — медвежастого, курносого и ротастого Лунева — голова обрита наголо. Все у него массивное, словно у борца. Он, очевидно, очень сильный, но флегматичный.
— Заваливайтесь, — Одинцов сунул себе под голову мешок. — Через два часа вы, Шкута, вместе с Григорием Ивановичем смените старшину. Объясните новичку наши порядки. Подбодрите.
Гришка заметил: младший лейтенант всем говорит «вы», а для фамилии конопатенького избрал Третий вариант.
— Есть, — ответил крепыш. Улегся поудобнее на теплые камни, хитровато и доверительно подмигнул матросу. Похлопал ладонью рядом, указывая место Грише. — Кемарь…
Спать Березовский не мог — еще окончательно не очухался от разом свалившихся на него событий. Вспомнились ребята с катера. Как все нелепо и страшно получилось. Стало их до слез жалко, задергал носом, засопел.
Шкута приподнял веки, спросил участливо:
— Чего?
Поняв, что творится в душе боцманенка, успокаивающе произнес:
— Не думай об том… Война… Кемарь.
Григорий и сам не заметил, как задремал. Из полусна вывел голос старшины. Карлов стоял в проломе, постукивал по циферблату больших наручных часов и приговаривал:
— Шку-у-т? Шкуто-о-к? Подъем. Сменяй — бока пролежишь.
— Щас, — проворчал рыженький. — И не Шкут, а Шкута.
— Шкута-а-а? — как бы удивился старшина и обнажил белые, ровные зубы. — Тогда получается нонсенс: Шкута отправилась на пост?
— Хватит! — не открывая глаз, оборвал их перебранку командир.
Шкута и Березовский, почесываясь, вылезли из укрытия и спрятались в нагромождении красноватых камней. В траве зазвенела припоздавшая цикада. Над вершинами деревьев просвистел крыльями косяк птиц. Две серенькие ящерицы высунулись из расщелины и, подставив солнцу чешуйчатые спинки, прикрыли глазки пленочками век.
Они лежали, чутко прислушиваясь. Боцманенок от малейшего шороха поеживался, вздрагивал. С каким-то безнадежным отчаянием он думал: «Вот занесло. Вокруг враги — никуда не убежишь, не спрячешься».
Опять возникла противная нервная дрожь. Он легонько тронул напарника за рукав. Конопатый обернулся, вопросительно приподнял бровки, сказал доброжелательно:
— Не бойсь… Привыкнешь… Мы тож поначалу.
Березовский и в самом деле вскоре почувствовал себя спокойнее. Повернувшись к напарнику, спросил шепотом:
— А вы откуда?
— Здесь недавно. А был минером на эсминце «Бойкий». Слыхал?
— Как же? «Бойкий», «Бдительный», «Бравый».
— Во-о. — Шкута удовлетворенно шмыгнул носом. — А родом я из-под Мелитополя. Степняк. Леса не уважаю, тоска, мир застит. А вот степи, — он прикрыл глазки, — за цельный век не объедешь. А пахнут об эту пору, что там духи — не сравнишь.
Неподалеку меж рубчатых листьев папоротника валялась пузатая, невесть как сюда попавшая бутылка. На этикетке — негр, в оттянутых ушных мочках — кольца роговых серег, хохочет во весь толстогубый рот. Гришка потянулся, чтобы ее взять.
— Ни-ни, — остановил Шкута. — Закон: не ты дожил, не тебе трогать.
— А если это, скажем, золото?
— Да хоть что… Доложи, но брать нельзя. Ничего, даже чинарика завалящего.
— А у вас разве не курят?
— Не. И не пьем. Такой закон, иначе всех подкузьмишь. Раньше навроде Карлов баловался, а как к нам попал — ша. Да и чего хорошего-то в табачище и винище — один срам и деньгам перевод. Тс-с-с, кто-то…
— Эй, братья! — Из пролома показалась кудрявая голова старшины. — Идите-ка ужинать, сейчас Лунев подменит.
Шкута уступил место Луневу и подмигнул Гришке:
— Айда порубаем. Сытому супротив голодного завсегда лучше.
В нише Одинцов и Карлов с аппетитом уплетали из банок мясные консервы, грызли сухари, размачивая их в глиняной корчаге с водой.
— Присоединяйтесь, — младший лейтенант кивнул головой в сторону разложенной еды. — Потом вы, Шкута, оставшиеся продукты припрячьте надежнее. Место мне покажете, проверьте — не наследили ли? С собой прихватим немного, вот отложил. Как думаете, хватит?
— За глаза, — ответил рыженький. — А там даст бог день, даст бог и пищу.
Шкута неторопливо принялся за еду.
Глава 2
Ночью группа покинула убежище и стала продираться на север сквозь густые заросли колючки и каменные завалы. Впереди уверенно продвигался Лунев. Казалось странным, как он ориентируется в кромешной тьме. Была она какая-то слоистая: понизу сплошная — глаз выколи — чернота, выше что-то серое, полупрозрачное. Наконец совсем высоко на темно-синем фоне — крупные яркие звезды. И нигде — ни облачка.
Скоро под подошвами захлюпала вода, зачавкало, потянуло болотом. Большие деревья расступились, стало светлее. Цепляясь за жесткие стебли, разведчики взобрались на кручу, обогнули поваленную сосну, залегли в дебрях молодого орешника и алычи на припудренной мелом щебенке.
Лунев повернулся к младшему лейтенанту, — прошептал:
— Все, притопали. Там мост, — махнул рукой.
Сзади, чуть ниже того места, где они обосновались, гулко шумел вершинами лес. Впереди еле просматривались очертания гор. В звонкой тишине справа свистнул паровоз. В ветвях тут же нерешительно защебетали птицы, крякнула утка.
— Команди-и-ир, — вдруг заныл Карлов. — Не могу, боюсь. Ну сбросьте… О-о-ой.
Одинцов щелчком сбил с рукава старшины глянцевито-лимонную сколопендру.
— Гадина. Если бы за ворот заползла, концы бы отдал от ужаса, — нервно проговорил старшина. — С детства не переношу всякую ползучую тварь.
— Как деваха лягушек, — съехидничал Шкута. — Гляди заберется в…
— Хватит, — оборвал младший лейтенант. И добавил каким-то обыденным тоном — Вон он, мост, любуйтесь. Красавец, ничего не окажешь.
— Да-а, — протянул Карлов, не скрывая восхищения.
— Вот у нас через Ольховку… — начал было рассуждать Шкута.
— Тише, — Одинцов прижал палец к губам. — Наблюдайте молча.
Уже совсем рассвело. Менее чем в полукилометре ущелье пересекала ажурная ферма. По обеим ее сторонам простирались вверх лесистые отроги. Очевидно, дальше ущелье заворачивало — коричневые переплеты сооружения терялись на темно-зеленом фоне. Одноколейный мост был длиной метров пятьдесят, казался очень хрупким. Внизу через похожие на черепа валуны перекатывала мутную воду речонка. Наверху, по краям моста, пристроились домики с плоскими крышами.
— Видите, какая ситуация, — младший лейтенант не отрывал бинокль от глаз, рассматривая подходы к мосту. — Задача со многими неизвестными. Как к мосту подобраться? Снизу без толку — быков у него нет, арочный, подрывать нечего. Да и проволока в три кола, и мины, наверное. Сверху, на склоне, — зенитная батарея, разумеется с прислугой, — значит, и там не скатишься. Справа, у конца, — помещения охраны. Даже если прорвемся, заложить заряды нам не дадут — всех перекосят, прежде чем добежим до середины. Пожалуй, со стороны станции место наиболее уязвимое, относительно, конечно. Охраны меньше — они оттуда нападения не ждут. И логично: чуть чего — на помощь прибегут. Вот и выходит — не подступиться.
— Что ж, уходить восвояси? — спросил Карлов.
— Полюбоваться и вернуться… — младший лейтенант укоризненно покосился на старшину. — Уходить? Ляпнули, не подумав.
— Чего раздумывать, коль взорвать нельзя? — Карлов беспечно пожал плечами. — Только время терять.
— Пока нельзя. С наскока — пустой номер. Вот поразмыслить следует. Народная мудрость гласит: из каждого положения, даже безвыходного, существует минимум два выхода.
— Ни одного не вижу. Нас же всего четверо.
— Пятеро.
— Ну пятеро, какая разница. — Карлов пожал плечом. — Вот если бы в лице Григория Ивановича море подарило взводик морячков, тогда другой расклад.
— Взвода у нас нет, а головы есть. Значит, будем использовать то, что имеем.
— Пока думаем, они против наших войска перебрасывают, — сказал старшина с досадой.
Словно в подтверждение его слов со стороны станции простучал на стыках состав товарных вагонов. Впереди катилась дрезина.
— Вот, — Карлов ткнул пальцем. — А мы красотой умиляемся.
— Не умиляемся, а готовимся к боевым действиям. Порой час, затраченный на подготовку, оборачивается месяцами экономии. Значит, так, — он облизнул губы, — Карлову следить за охраной моста: выяснить порядок смены, время, степень бдительности и прочее. Обратите внимание, имеются ли у них служебные собаки.
— Есть.
— Вы, Шкута, засекаете частоту прохождения эшелонов с обеих сторон. Выясните, сколько минут они находятся на мосту. И ориентировочно — с чем. Важно также уточнить, какова охрана составов, где она располагается и ее количество?
— Есть.
— Лунев, далеко до поселка?
— Километра два.
— Там есть где спрятаться? Я имею в виду окрестности, прилегающие к станции, желательно со стороны моста?
— Спрятаться? — он почесал затылок, поправил пилотку.
— Можно в пещерном городе, но это далековато. О-о! Лучше на старом татарском кладбище. Оно аккурат над станцией, на холмах. Глушь — давно никто не живет и никого не хоронят. Мы там в казаки-разбойники пацанами играли.
— Как туда отсюда подобраться?
— Сперва реку вброд. Опосля рощей и змеиным выгоном. Далее — под путями через кирпичную трубу — она метра полтора в диаметре. А от ее другого конца до погоста — малец доплюнет.
— Хватит, — прервал разговор Одинцов. — Займитесь делом. Лунев, начертите мне маршрут. Григорий Иванович, ведите круговое наблюдение.
— Есть.
— Запомните, — сказал командир, — пока мост не уничтожим, домой не вернемся. Так что прикидывайте умишком, как это сделать.
…В путь тронулись на следующую ночь. Вероятно, где-то в горах прошел ливень, речушка вспухла, яростно бурлила, швырялась грязной пеной. Промокли насквозь. Миновав заросли, долго взбирались по каменистой осыпи, затем спустились к болоту, перешли по колено в вязкой трясине. Ползли по дну глубокого оврага и через трубу, задыхаясь от смрада в липкой, вонючей жиже. Вылезли к предгорью и по еле заметной в бурьяне стежке поднялись к кладбищу. Действительно, глушь. Там и затаились в руинах какой-то мечети или часовни — черт ее разберет — одни камни.
Утро наступило сырое и серое. Вдали над горами, царапаясь о пики хребтов, теснились тучи. С кладбищенского пригорка открывался вид на станцию. Она невелика: деревянный трехэтажный вокзал, кирпичные пакгаузы, водокачка, на путях несколько составов. По перрону прохаживаются патрули. За выходным семафором — парный пост.
После завтрака командир сказал:
— Сейчас спущусь к полотну, попытаюсь разузнать что и как.
— Может, лучше Луню? — предложил Карлов. — Он местный.
— Поэтому-то и не надо. Вдруг нарвется на знакомого, да еще подобного тому, что встретил Григория Ивановича. Понадобится — воспользуемся его связями. Но это ночью, а сейчас рисковать не стоит. — Он помолчал, посмотрел на бойцов.
— Ну и видик. Перемазались, как трубочисты. — Повернулся к Березовскому — Снимайте эту шкуру.
— А я как?
— Китель свой дам. А вы мне куртку — в форме могут придраться патрули, уж слишком мы ее замызгали.
Они переоделись. Одинцов повертел в руках фуражку:
— Похож на полицая?
— Не, — ответил матрос.
— Почему?
— У него рожа поганая, — ввернул Шкута и сплюнул. — Вспомнишь, рвать тянет.
— Точно. И еще тот был в рябинках и слегка пегий под масть нашему Шкутку, а уж мордастый — вылитый Лунь, — добавил старшина.
— Хватит, — оборвал их командир и начал чистить куртку от налипшей грязи.
Наконец, набросив куртку на себя, окинул всех долгим взглядом.
— В общем, пошел. Подстрахуйте меня, Лунев, держитесь на расстоянии. Но пока не скомандую — сигнал выстрел, — ни во что не вмешиваться.
— Это как же прикажете понимать? — не сдержался Карлов.
— Понимать так, — отрубил младший лейтенант. — Тем, кто останется, продолжать выполнение задания. Ясно?
— Ясно-то, ясно, но…
— Мне неудобно напоминать: разведчик без дисциплины — ноль. И давайте без эмоций, иначе…
Он поправил на плече карабин и юркнул в кусты. Следом за ним направился Лунев. Оставшиеся затихли, напряженно поглядывая вниз.
Разведчики видели, как младший лейтенант неторопливо спустился по усыпанной битым ракушечником дорожке к полотну. Постоял у поваленной, перевитой диким виноградом, решетки. Обошел ее и направился к стоящим в тупике двум ободранным, с выбитыми стеклами пассажирским пульманам. Опять остановился, отфутболил с тропинки камешек, посмотрел в сторону станции.
Навстречу ему косолапил старик, одетый в промасленный, словно выполосканный в нефти, ватник и выгоревший картуз железнодорожника. Лицо маленькое, морщинистое, вислые усы побурели от махорки.
— Привет, папаша! — Одинцов сдвинул на затылок фуражку, второй рукой небрежно подбоченился.
Встречный остановился, зло сверкнул задиристыми, близко посаженными глазами.
— Мои сынки отродясь в холуях не хаживали, — с явной издевкой бросил он. — Ишь, пьянь, батьку нашел.
Одинцов не ожидал столь грубого ответа и начал нерешительно:
— А если я вас…
— Шо ты мене? Шо? — Железнодорожник выпятил губы, напыжил воробьиную грудь.
— Да вы успокойтесь, дядя. Может, поговорим?
— Я те погутарю, кобель долговязый.
«Кобель» вдруг улыбнулся. Старика это взбеленило.
— Шо лыбишься?
— Не заводитесь, отец. Давайте-ка побеседуем, где потише, — командир решил открыться. — Из Севастополя я. Свой.
— Свой? Кому? Этим? — дернул головой назад так, что картуз съехал набок.
— Советский я. Моряк. Потолковать надо. Отойдемте в сторонку, здесь опасно.
— А доказательства? — вздернул рабочий чумазый подбородок. — Документ какой есть? Аусвайс?
— Нет у меня документов, тем более аусвайса. Верьте на слово, — помедлил, — или ступайте доносить немцам.
— Немцам? Да я те… — начал он, но осекся, вероятно засомневался. Оглянулся и проворчал в усы — Айда.
Они отошли под разлапистую акацию. Железнодорожник сдернул с лысоватой, седой головы замасленную фуражку, опросил нахмурившись:
— Шо треба?
— С чем вон те составы? — указал глазами.
— С разным. С обмундировкой, продухтами. Есть и со снарядами, патронами.
— И со снарядами есть?
— Ну.
— Который?
— Сдается, тот, шо поодаль на втором пути. Он со снарядами, а может, с бомбами. Ежели флаг на нем красный — верняк боезапас.
— Точно? Откуда известно?
— Не слепой — бачу, когда колеса простукиваю.
— Доверяют?
— Не в одиночку, а с их немцем. Он по железнодорожной части, но в цивильном.
— Когда тот состав отправлять будут?
— Вечером, пожалуй. Сперва оттуда поезд пропустят — мост-то одноколейный, — после отсюда. Они их, снарядных-то, сами пужаются. Вдруг що случится — полстанции как корова языком слизнет.
— Может, через час-другой?
— Может. Но навряд ли, еще не стемнеет.
— Вы нам, дедушка, должны помочь. Понимаете, это очень важно, неспроста мы здесь.
— Вестимо, не купаться. Только в чем подсобить?
— Узнайте поточнее, когда отправится тот снарядный.
— Кто ж мене скаже? — старик задумался. — Однако попытаю у немца-напарника, дескать, когда его осматривать. Их всегда перед отходом проверяем.
— Добро.
— А сообщить как?
— Придете сюда и пальцами покажете, через сколько часов отойдет. Вот так, — он растопырил ладонь. — Поняли?
— Не увидишь?
— Увидим, не беспокойтесь. У нас ребята глазастые. Договорились?
— Лады. Как выведаю, зараз прибегу.
— Тогда ступайте. Счастливо.
— С богом, сынок. А сколь нам маяться-то? Ослобонять собираетесь? — Не дождавшись ответа, вздохнул и заковылял по насыпи.
Одинцов постоял, глядя ему вслед, направился вверх по дорожке. Едва младший лейтенант просунулся в укрытие, его обступили бойцы.
— Как там? Кто этот чумазый? Что говорил?
— Обещал помочь.
— Сказали ему, «то мы?
— Сказал, — командир на секунду задумался. — Опасно, конечно, но… — развел руками и поджал нижнюю губу. — Попал, кажется, на замечательного дедусю. Карлов, возьмите бинокль и наблюдайте, старик скоро должен появиться. Покажет пальцами — вот таким образом — через сколько отойдет эшелон. Поняли?
— Так точно. Но нам-то зачем знать, когда он отойдет?
— В этом вся штука. Идея родилась в процессе, так оказать, общения с местными жителями. Слушайте. — Он изложил план действий.
— У-у-у, — прогудел восхищенно Лунев. — Надо ж такое придумать.
— Вот бы еще наши бомбежку устроили, — мечтательно произнес Одинцов. — Тогда бы все без осечки прошло.
— Идет! — подал голос старшина. — Дедуся идет.
Все бросились поближе к кустам.
— Озирается, вот чудак, — комментировал поведение железнодорожника Карлов. — Ничего не показывает. Кулаки сжаты. Бестолочь, наверное.
— Попридержите язык. — Одинцов встал. — Человек жизнью рискует. Пойду выясню.
— Проводить? Чем черт не шутит.
— Не стоит. Все как прежде. Если что — за меня Карлов.
Одинцов перелез завал и вприпрыжку побежал по дорожке. Остановился около старика. Со стороны могло показаться, что допрашивает его. Потом махнул рукой в сторону селения. Еще что-то спросил. Дед закивал, раскланялся и засеменил к поселку. Командир постоял, будто что-то разглядывал под ногами, затем пошел мимо наваленных кучей шпал. Наблюдавшие не успели заметить, как он резко свернул и исчез в кустах, лишь слегка колыхнулись заросли.
— Ну как?
— Нормально. — Одинцов опустился на корточки и вытер ладонью вспотевший лоб. — Отойдет в двадцать три — двадцать четыре. Точнее узнать не удалось, но и это хлеб. Есть, утверждает, верный признак: как с противоположной стороны проследует поезд, так сразу очередь «нашего». Давайте-ка перекусим и обмозгуем детали. Что там осталось, Шкута?
— Тушенка с мясом. Сухари. Рафинад. Шоколад там оставил, я его не уважаю, баловство для мальцов.
— Выкладывайте. Я изрядно проголодался — живот подвело. Да и питаться здесь уже не придется.
— А переодеваться будем? — спросил Березовский.
— Да ладно уж, Григорий Иванович, чего зря канителиться, щеголяйте во «фрицевской», — усмехнулся командир. — Согласны?
— Конечно, — закивал Гришка.
— Теперь так, товарищи. После операции сбор на том «святом» месте. Надеюсь, все дорогу найдут? Ждать три дня. Затем прорываться к своим. Ясно?
Пузатые, грозовые тучи, помешкав на вершинах гор, перевалили хребет. Словно огромный ком грязного снега, кряхтя громом, брызгая молниями, покатили к далекому морю. По зарослям бестолково зашатались порывы ветра, закрутили сорванную листву. Припустил дождь, да не мелкий осенний, а как из ведра.
Разведчики укрылись за осыпавшимся дувалом. Тесно прижались друг к дружке и наблюдали за станцией. Ливень ее обезлюдил. Охрана и обслуга попрятались кто куда.
На юге сумерки короткие, а уж когда пасмурно и подавно. Потемнело быстро. Кое-где замутнели тусклые огни сигнализации. Покачиваясь, проплывали желтые пятна фонарей. Сидение без дела тяготило, и первым не выдержал Карлов.
— Вот, например, ты, Шкуток, — начал он, словно собирался сообщить что-то очень важное.
— Ну, — рыженький серьезно насупил бровки.
— Несомненно выйдешь в большое начальство, не исключено — в адмиралы.
— Это почему же?
— А помнишь, как Шолохов в «Поднятой целине» писал: головенка тыковкой, пузцо сытенькое, носишко утицей. Все как у тебя…
— Вот пустобрех. Я и взаправду думал, что путное скажет.
— А разве… — намеревался продолжить разговор Карлов, но командир перебил его:
— Тихо! Ничего не слышите? Давайте-ка переберемся поближе. И осторожнее, не шуметь.
Они перемахнули ограду и, крадучись, проскользнули к развесистой, в коричневых стручках, акации. От нее параллельно полотну тянулся заросший репейником то ли ров, то ли кювет. В нем и затаились.
Облюбованный ими состав стоял метрах в сорока. Слышалось сиплое шипение — локомотив уже прицепили. Вдоль эшелона маячили часовые.
Издалека, от моста, донесся перестук колес.
— С той стороны идет, — доложил Лунев.
— Значит, как наметили: Лунев левого, Карлов правого. Займете их места. Действовать нахальнее, но осмотрительно. Едва встречный нас закроет — бежим к полотну. Как пройдет — мы со Шкутой снимаем охрану, а Григорий Иванович подтаскивает взрывчатку. Дотащите один?
— Запросто.
— Друг друга подстраховывать.
Одинцов тревожно вглядывался в небо, но никаких признаков самолетов — ни гула, ни огоньков — не было. «Неужели не прилетят? — терзался он. — Тогда, пожалуй все напрасно».
Для Одинцова в те минуты становилось все яснее, что без такого серьезного отвлечения, как бомбежка, риск бесполезен. Силы явно неравны, разведчиков в схватке наверняка перестреляют всех до одного, задача окажется невыполненной.
И когда слева из дымной темноты выполз состав, Одинцов, еще раз взглянув на небо, вместо сигнала «Вперед!» подал команду:
— Оставаться на местах!
Состав с грохотом прогремел мимо, и все затихло. Разведчики немо глядели на своего начальника. В их глазах явно читались вопросы: «Что случилось? Почему дан отбой?» Одинцов ничего не сказал, только махнул рукой в сторону кладбища — отходим. Лишь когда выбрались на пригорок, младший лейтенант сдержанно сказал:
— Нельзя без авиации — верная гибель. Будем ждать бомбежки.
Ночь и день прошли в тяжком ожидании. Появится ли вновь подходящий состав? Когда он отправится? Обрушит ли наконец свой удар наша авиация? Все эти вопросы беспокоили Одинцова и его подчиненных. На два из них разведчики получили ответ еще до захода солнца. После полудня прибыл товарняк, а часа через два удалось установить, что он отправится поздним вечером. Пока ситуация повторялась.
Когда затаились на прежнем месте во рву, Одинцов сказал:
— Действуем по вчерашнему варианту. Всем ясно?
Каждый разведчик кивнул головой, все, мол, понятно.
Снова, как вчера, Одинцов вглядывался в небо — неужели подведут? Но вот наконец раздался далекий прерывистый гул. И тут же от моста донесся перестук колес — к станции приближался поезд.
Состав еще не подошел к мосту, а в этот момент на дальнем конце станции грохнул взрыв. За ним — второй, третий…
— Наши! — с радостью воскликнул Одинцов. — Теперь надо торопиться.
Слева из дымной темноты выполз состав.
— Вперед!
Разведчики поползли каждый к «своему» часовому.
Мимо с грохотом зачастили вагоны проходящего поезда. Командир приподнялся.
— Так. Лунев уже управился. Молодец! Чего же Карлов?
Секунды тянулись нестерпимо долго, словно стрелки часов приклеились к циферблату.
— Ага, и этот сработал. Не может без фокусов.
— А что он? — полюбопытствовал Гришка.
— Нож бросил, циркач, — ответил Одинцов с оттенком одобрения, — Теперь наша очередь. Как эшелон проскочит, разом к пятому от паровоза вагону с тормозной площадкой. Приготовились… Марш!
Они выскочили из рва и кинулись через пути. А станция уже была залита огнями. Один за другим гремели взрывы бомб.
Едва промелькнул хвостовой вагон, Одинцов и Березовский мгновенно ворвались на насыпь и очутились нос к носу с двумя гитлеровцами. Те даже не успели сорвать с плеч винтовки, как оказались сбитыми на землю смертельными ударами прикладов. Их тут же забросили на тормозную площадку.
— Карлов! Вскрывайте дверь. Шкута! Отводы делать по метру. Григорий Иванович, подавайте тол.
Старшина завозился было у засова. Но вот дверь поддалась и Шкута вскарабкался внутрь.
— Гри-и-ш? — крикнул он Березовскому. — Давай!
Матрос, слегка задыхаясь, протянул ему мешок. Шкута мгновенно закрыл дверь изнутри.
— Закладывайте сверху, — приказал Одинцов. — Когда постучу в стенку — поджигайте. Разгорится — выскакивайте.
— Есть, — донеслось глухо.
В голове эшелона запыхтел паровоз, выдыхая огромные клубы пара. Железно прошелестели в пробуксовке колеса. Наконец состав медленно тронулся. Командир негромко свистнул. Лунев и Карлов вспрыгнули на ступеньки.
— Лунев, на сцепку!
Тот перешагнул через ограждение и стал у буфера.
— Приготовиться. Как окажу — отцепляйте.
В плотной серой мгле проплыли станционные постройки. Поезд, вздрагивая на стыках, проскочил стрелку и увеличил скорость.
— До моста метров триста. — Старшина перевесился на поручнях и вглядывался вперед.
— Сто метров!
— Давайте! — Одинцов хлопнул Лунева по плечу.
Моряк скинул скобу с крюка и уперся спиной в площадку, а ногами в стейку переднего вагона. Ответил натужно:
— Отцепил.
Почте радом промелькнули солдаты, пулеметные гнезда, какие-то строения, будочки.
— Мы на мосту! — крикнул Карлов.
По обеим сторонам заухали пролеты, меж шпал внизу блеснула вода.
— Затягивайте тормоза!
Лунев и Березовский налегли на рукоятку ручного тормоза. Под колесами завизжала, из-под них полетели искры. Состав замедлил ход, расстояние между локомотивом с вагоном и эшелоном начало увеличиваться.
— До конца моста метров десять!
— Поджигайте! — Младший лейтенант забарабанил кулаками в стенку. — Всем соскакивать — и к паровозу!
Впереди замельтешили гитлеровцы. Они что-то кричали, размахивали руками, приняв разведчиков за охрану поезда. Вероятно, решили: паровоз отцепился случайно.
— Огонь! — скомандовал Одинцов и выстрелил в ближайшего гитлеровца. Тот свалился, почему-то откинув в сторону шмайсер.
Перед Березовским, загораживая проход между эшелоном и перилами, возник длинный немец, как показалось матросу, в слишком большой каске. Григорий вскинул карабин к выстрелил. Гитлеровец, будто переломился, каска звякнула о рельсы. В сознании мелькнуло: «А ведь я же его убил». Размышлять над этим было некогда. Григорий бросил винтовку и схватил шмайсер солдата. Вагон уже был у края моста.
— Быстрее! Время на исходе, — раздался голос командира.
Березовского словно подхлестнуло, он кубарем покатился с насыпи. Вскочил и юркнул в траншею, припустил по ней во весь дух. Сзади закричали, обернулся: его догоняли, отстреливаясь, Лунев и Карлов. Хотел остановиться, но споткнулся и полетел в яму, полную воды. Окунулся с головой.
Грохнул взрыв. Земля, казалось, заходила ходуном. Боцманенок высунулся из глинистого «киселя». Но тут же горячая волна воздуха подхватила его, швырнула в заросли…
…Тягуче, словно наплывая извне, возвращалось сознание. Наконец Григорий понял: лежит на животе, уткнувшись в подушку, руки вытянуты к изголовью. Скосил глаза, в висках заколотило. Это ударил свет, пробившийся через щели занавешенного окна. Преодолевая резь в глазах, Григорий огляделся. Рядом с кроватью — табуретка, на ней таз с чем-то жидким. В уголке комнаты — этажерка из палочек с выжженным на них узором, там же зеленый сундук с перепоясывающими его жестяными полосками. Пахнет, перехватывая горло, чем-то острым и неприятным, похожим на скипидар.
«Где же это я? — думал Березовский. Он чуть-чуть пошевелил рукой, особой боли не ощутил, затем попытался изменить свое положение, ноги слушались плохо, задеревенели, будто отлежал.
Скрипнула дверь. Березовский в страхе закрыл глаза, затаил дыхание. В комнате раздались шаги, легкие, почти бесшумные, кто-то присел на кровать. К лицу Григория прикоснулось что-то влажное и прохладное. Он разлепил веки, повернул голову и вздрогнул. В упор на него смотрели большие и бесконечно родные глаза. Всхлипнув, выдавил из себя:
— Э-э-ра-а!
Присевшая на постель девушка провела по его щеке ладонью, погладила волосы, что-то прошептала. Он не расслышал и повторил с придыханием:
— Эра.
— Лежи. Тебе нельзя двигаться, — донеслось как сквозь вату в ушах.
«Это ее голос. Ее… Это она», — с радостью подумал Григорий и попытался что-то сказать, но отдающие лекарством пальцы прикрыли его губы.
— Не шевелись, пожалуйста. Все хорошо, успокойся, — говорила Эра заботливо, как больному ребенку.
Сквозь повисшие на ресницах слезы он видел ее лицо — милое, как и прежде, только побледневшее и исхудавшее. Те же голубые, словно полевые колокольчики, глаза. Те же пухлые, насмешливые губы и золотистая канитель волос.
— Эра… Эра… — снова выдохнул он.
Глава 3
Григорий лежал голый и очень стеснялся этого. Эра чем-то пахучим и горячим натирала его спину.
— Как я тут очутился? — пробубнил Григорий в подушку.
— Это я должна спросить, что тебя занесло в тыл?
— Нет, именно сюда?
— Подобрали возле, моста. На нем взорвался поезд с бомбами. На станции не осталось ни одного целого стекла в окнах. Внезапно начался пожар — откатился вагон и поджег цистерны с горючим. Тебя привезли в госпиталь. Слава богу, я дежурила в приемной.
— В какой госпиталь? Неужели тут в тылу еще больницы сохранились?
— Разумеется, в немецкий. Откуда здесь наши?
— Меня? В немецкий? Зачем?
— На тебе же была их форма. Зачем вырядился? Я поняла — маскировка. Посмотрела документы в кармане и ахнула. На фото какой-то тип старше тебя и вылитый ариец: блондин, а ты-то шатен. Но я узнала сразу. Плох был, тело в ушибах и оглушило сильно, контузило. Боже мой, сама чуть сознание не потеряла.
— А дальше?
— Дальше? Взяла себя в руки. Сообразила — тебя, несомненно, раскроют. Ты же не говоришь по-немецки. Вдруг начнешь кричать. Все делала, словно в тумане, сейчас даже не представляю, неужели хватило сил и не сошла с ума. В общем, ты оказался молодцом, рот не открывал, постанывал жалобно, а потом взял и умер.
— То есть как умер? — он приподнял голову.
— Боже мой, фиктивно, конечно. Указала в регистрационной карточке — скончался от ран, не приходя в сознание. Врач подписал не глядя, не до покойников — раненых пропасть. И тебя отправили в морг.
— К мертвецам? — его передернуло.
— Сначала да, куда же девать. Потом переправили сюда.
— Но как ты меня перетащила? Одна?
— Если б одна — ничего не вышло бы, пришлось бы, наверное, умирать вместе. Тебя уложили на телегу с другими трупами, повезли на кладбище, а по дороге перенесли ко мне. Вот с такими приключениями ты здесь и очутился. Невероятно, правда?
— А кто помогал?
— Мир не без добрых людей — нашелся человек. Лежи спокойно и не мешай мне. То еле дышал, а тут разговорился. Помолчи. — Вздохнула. — Ой, до сих пор не верю, что благополучно кончилось, будто вижу кошмарный сон.
— Слушай, а больше из наших никого не было? Ну, переодетых?
— Может, и были, но как бы я их узнала? Убитых и раненых уйма — пойди разберись. Да и кроме тебя я никого не видела.
— Чей это дом?
— Здесь мы живем. Пустовал, фашисты не позарились — ветхий и на отшибе, того гляди развалится. Вот мы и заняли.
— Кто мы?
— Я и сестренки. Помнишь, Маша с Дашей.
— Подожди. А папаша с мамашей?
— Август Францевич погиб во время бомбежки, когда был первый налет на наш городок. «Юнкерсы» летели бомбить Севастополь, их оттуда крепко шуганули, вот они и отыгрались на нашем городе. Мы с мамой и сестренками спаслись чудом — ходили в Султанову рощу собирать барбарис. Когда прибежали, кругом пепелища и убитые. Перебрались сюда. Вскоре мама заболела — острый приступ аппендицита, операцию делать некому, врачей нет, да и этого госпиталя еще не существовало. Начался перитонит, тут и похоронили. Эвакуироваться в тыл не успели.
— А как ты оказалась в их лазарете?
— К фольксдойч, так гитлеровцы называют советских немцев, они относятся терпимо. — Помолчала немного, продолжила — Устроилась на работу. Еще в Москве окончила курсы сестер — я же врачом хотела стать. Подала документы в медицинский институт. Меня приняли без экзаменов — школьная золотая медаль помогла.
— Ты-ы? С медалью? И ничего мне не написала?
— Зачем? С медалью любил бы сильнее? Глупый.
— Ну все-таки. Ты же обо всем сообщала, а тут… И кем ты у них?
— Разумеется, санитаркой.
— Значит, на немцев работаешь?
Девушка отшатнулась, как от пощечины, опустила глаза.
— Да… Вернее, на немок… Маленьких и несмышленых. Моих сестренок. Ради них я готова на все. Понимаешь, на все, кроме предательства. А когда ничего не останется — убью их и себя.
— Ты в своем уме? А как же я? — Ему стало страшно. — Опомнись!
— Вот и договоримся, чтобы я больше не слышала ничего подобного о моей работе.
— Хорошо, хорошо, успокойся. Извини меня.
— Извиняю.
— А они, немцы, не пристают там к тебе? — спросил вдруг Григорий.
— Я за себя сумею постоять, — твердо сказала Эра. — Вот ты все время говоришь «немцы»? Наверное, забыл, кто убил Августа Францевича? По чьей вине, в конце концов, скончалась мама? Как видишь, мне лично фашисты принесли больше горя, чем тебе.
Григорий вздрогнул, когда в оглушающей тишине снова прозвучал ее голос.
— Ты помнишь того хулигана? Ну, который еще на пляже…
— Помню, — перебил Гриша, удивляясь, как она может говорить в такую минуту, когда в нем все поет.
— Фашисты его казнили.
— Что? — Ему показалось: ослышался. И потому переспросил — Каштана казнили?
— Продырявил у них баки с бензином и выпустил его в овраг. Когда Каштана хотели схватить, он, отбиваясь, застрелил из обреза эсэсовца и полицая.
— Вот это да-а?
— Как они его мучили, негодяи. Пытались дознаться о сообщниках. Говорят, ни единого слова не проронил. Истерзанного, повесили на площади у вокзала… Бедный мальчуган.
— Сволочи, — Гришу захлестнула лютая ненависть. — Он же туберкулезом болел, его и в армию из-за этого не взяли.
— А его сестру не знал?
— Знал, но плохо. Встречал несколько раз. Она-то Степке и путевку достала в лечебницу.
— Каштана звали Степаном?
— Да, фамилия их Лунгу. Они то ли молдаване, то ли цыгане или сербы.
— Только не цыгане. Тех еще вначале выловили, увезли и, говорят, убили. И детей и женщин.
— А ее?
— Работала в офицерском казино официанткой, а вечерами там же пела под гитару. По слухам, пользовалась потрясающим успехом.
— Стерва, — вскипел Гриша. — Братишку казнили, а она…
— Не торопись с оценками, — прервала его Эра. — Когда Степан погиб, Виорика пришла ночью к помощнику коменданта. Он руководил казнью ее брата. Это случилось в тот день, когда на мосту взорвался поезд. Гестаповцу побежали доложить о катастрофе и обнаружили его дома с ножом в горле. А Виорика исчезла. Говорят, то ли попала под бомбу — тогда налет был, то ли со скалы бросилась.
— Вот так история, — только и промолвил Гриша.
…Утром в дверях появилась Эра — такая милая я любимая. В руках — сверток и небольшой узелок. Она сказала, будто ответила на его вопросительный и тревожный взгляд:
— Тебе на дорогу собрала. Ты говорил, через три дня уйдешь. Сегодня последний.
— Да, да, пора, — и Гриша потянулся к ней.
— Тут немецкая форма, — кивнула Эра на сверток. — А это продукты. Как себя чувствуешь?
— Нормально, — хотя состояние было такое, словно от ран отрывали присохшие повязки.
— Тогда вставай, — прикусила зубками верхнюю губу, явно сдерживая слезы.
— Не могу я. — Гриша нежно обнял ее за талию. — Не могу без тебя и никуда не пойду.
— Но ты же сам говорил?
— Подумаешь, сбегаю посмотрю, не пришел ли кто из ребят, и вернусь. Зачем же совсем-то?
— Боже мой. Какой же ты еще мальчишка: посмотрю, вернусь, — Эра улыбнулась страдальчески. — Ты не в гостях. Вокруг враги — жестокие и беспощадные. Будь серьезным, не болтай глупостей, собирайся.
— Никакие не глупости. Давай вместе подумаем, как быть дальше?
— О чем? О чем подумаем?
— Ну, я не знаю… Организуем, например, здесь, в тылу у фрицев, партизанский отряд. Свяжемся с нашими, станем сражаться…
— Не фантазируй, — перебила Эра. — Оставаться тебе нельзя. Здесь все на виду. Жителям известно — родственников у меня нет. Сразу схватят и тебя, и меня, и малышей. Ты не знаешь фашистов. Это звери, ничего святого для них не существует. — Она внимательно взглянула на него, передразнила с иронией — Партизанский отряд соберет? Сражаться будет? Не, не получится из тебя Денис Давыдов, а из меня Жанна д'Арк. Быстренько надевай форму и, как стемнеет, уходи. Еды, правда, немного, а фруктами в садах разживешься.
Эра встала, прошлась по комнате, остановилась перед Гришей:
— Ты проберешься задами до речки — это близко и сплошной ивняк — не заметят. Затем спустишься по течению к роще, переправишься на противоположный берег…
— Дальше известно. — Он начал одеваться. — Собак у них нет?
— Каких собак? — недоуменно вскинула брови Эра.
— Овчарок там, ищеек?
— Не-ет. А впрочем, кто знает? — пожала плечами.
Форменная одежда была почти новой, но пованивала дезинфекцией. От сознания, что ее сняли с трупа, мутило. Эра заметила это.
— Я выстирала и выгладила, но мыла нет.
Она присела на табуретку и не сводила с него глаз. Руки безвольно лежали на коленях, спина ссутулилась.
— Готов, — он затянул ремень. — Как?
— Ничего. Сапоги не жмут?
— Нормально.
— Пошарь под подушкой и возьми себе.
Гришка вытащил маленький, как игрушка, «зауэр» С перламутровыми щечками на рукоятке. Повертел, поднял на девушку взгляд.
— Откуда?
— Позаимствовала у раненого гауптмана. Бери, себе еще достану.
— Поосторожнее с этим, найдут — не поздоровится.
— Не найдут, не волнуйся. — Она расправила на коленях халат, вопросительно взглянула на Гришу — Фашисты бахвалятся, будто подошли к Москве. Представляешь?
— И ты веришь? — успокаивая, он погладил ее по голове.
— Я им вообще не верю. Тревожно на сердце — эти варвары могут разрушить и сжечь Москву. Как хочется сейчас быть там!
— Никому мы ее не отдадим. И я убежден, еще приедем туда вместе. Маши-Даши где?
— Соседку попросила с ними посидеть, сказала, что срочно в госпиталь вызывают. — Она встала, прижалась к нему, потерлась щекой о его щеку — Береги себя.
— Ты береги, — он нежно поцеловал ее волосы. — Я вас разыщу. Обязательно, что бы не случилось. Постарайся отсюда никуда не уезжать. — В горле запершило, говорить больше Гриша не мог.
— Будь осторожен. Помни, буду ждать всегда.
Гриша шагнул к двери. Но тут же повернулся и вновь рванулся к девушке.
Эра отстраненно подняла руку, сказала глухо, отрешенно:
— Иди. Уходи же, наконец…
Глава 4
На Одинцова из-за будки выскочили два солдата. Короткой очередью младший лейтенант срезал обоих. Около локомотива с вагоном мельтешили и гомонили гитлеровцы. Одинцов послал и туда несколько пуль. Внизу оправа мелькнули три тени. «Ага, Карлов, Лунев и матросик оторвались. Порядок, командир покидает корабль последним. А где же Шкута?» И тут же увидел — минер лежал навзничь поперек рельсов. Кинулся к рыженькому, приподнял залитую кровью голову, затормошил. Мертв — пули пересекли шею.
От паровоза снова застрочили автоматы. Младший лейтенант рванулся и съехал в овраг. Петляя, как заяц, понесся вдоль ручья. У высокого песчаного карьера бросился ничком на землю. И тотчас ухнул взрыв.
Лавиной посыпалось сверху, придавило. Одинцов на миг потерял сознание, но пришел в себя быстро. По горло его засыпал песок. Судорожно дергаясь, разгреб и выбрался на гребень выемки. Вокруг грохот, деревья точно пустились в пляс. Там, где был мост, словно развергся кратер вулкана.
Командир, продираясь через запутанные ветви, устремился вниз по течению реки. Сколько он бежал — не помнит, остановился уже далеко, хотя были видны отсветы зарева. Забравшись в густой кустарник, без сил рухнул на прелые листья, словно провалился во что-то бездонное, тягучее и косматое…
Очнулся младший лейтенант ранним утром. В вышине виднелись розоватые в отсветах зари облака. С севера тянулись, словно грозовые тучи, клубы дыма.
С кряхтеньем Одинцов поднялся на ноги. Чувствовал себя никудышно: в горле першило, затылок разрывало от боли. «Надо уйти как можно дальше», — подумал он и огляделся.
Место оказалось знакомым. Это было рядом с теми развалинами, куда их привел Лунев. Тут же ударило, как током: «А где ребята? Они же бежали впереди. Значит, если уцелели, должны быть поблизости, приказ был общим для всех — собраться в развалинах. Вот и пойду туда».
Прежде чем пойти в сторону руин, Одинцов оглядел себя. Вид был — хуже не придумаешь. Куртка висела клочьями, брюки на коленях порваны. Ладони в крови, автомат перепачкан глиной. Младший лейтенант снял магазин — в нем осталось всего десять патронов. Обойма вальтера, который всегда носил под мышкой, оказалась полной. Среди камней Одинцов заметил узкий ход. Протиснулся по нему и стал пробираться по каменному коридорчику. Опустился вниз, в равелин с проломанным куполом, свалился на землю. Отдышался и поднял голову.
Перед глазами, метрах в трех, возникли сначала лаковые туфли со сломанными каблуками, ноги в изодранных тонких чулках. Затем синяя, в мелкую складку юбка и… Он вздрогнул — в лицо уперся черный зрачок парабеллума. Пистолет держала в руке молодая женщина. На плечи наброшена вязаная кофта, из-под нее видна шелковая блузка. Волосы растрепаны, в глазах что-то безумное.
— Не шевелись, — не произнесла, а прошелестела.
Теперь он различил — она совсем юная. Облегченно выдохнул:
— О, господи, видно только этого мне и не хватало для полного счастья.
Она прищурилась, спросила резковато:
— Кто ты? Почему от своих скрываешься?
— От каких это своих?
Незнакомка кивнула на болтающуюся на рукаве повязку. Заметив, что он намеревается встать, истерично прикрикнула:
— Не шевелись! Пристрелю, как собаку!
Младший лейтенант окинул ее взглядом, усмехнулся и сел.
— Не двигайся! Стреляю!
— Да бросьте вы, хватит, — он безразлично махнул рукой. — Свой я. Советский разведчик. Да и вы не из тех, — большим пальцем Одинцов указал за спину. — Иначе не прятались бы здесь. Да еще в нарядной блузке и лакировках. Попить не найдется?
Девушка не отвела от него пистолета, но, видимо, засомневалась.
— Водички нет? — посмотрел на нее и воскликнул удивленно — Да вы просто красавица! Только в лохмотьях, как Золушка, правда, та, по сказке, блондинка. Уберите оружие. Одинцов меня звать, Олег, младший лейтенант. А вы?
— Лунгу, — она опустила парабеллум и вздохнула, как ему показалось, облегченно. — Виорика.
— Румынка? — вздернул брови младший лейтенант.
— Вот еще, молдаванка.
— Пить, значит, нечего?
— Река под боком, сейчас достану. Но вы все-таки…
— Да будет вам. Вы тут одна?
— Одна, — ответила тихо. И снова настороженно —. А почему тебя это интересует?
— Договорились с ребятами здесь встретиться. Никто, выходит, не появлялся?
— Нет.
Он встал. Ноги дрожали от усталости, тело ныло. Спросил почти безразлично:
— Сами-то откуда? Почему здесь уединились?
— Не твое дело, — ответила грубовато, но затем заговорила мягче — Догадываюсь, если тебя фашисты поймают, плохо придется, ну а с меня живой кожу опустят.
— Лихо, — взглянул с уважением в ее странного темно-вишневого цвета глаза. — Знать, кому-то не потрафили. Ну, ваше дело — не желаете, не рассказывайте, я не любопытный.
Чуть сморщив точеный носик, Виорика подняла блузку, сунула за пояс юбки оружие. Бросила отрывисто, но уже без дерзости:
— Вон там вода. — Указала на глиняный, потрескавшийся кувшин — Пейте, — перешла на «вы».
Потом взглянула исподлобья и прибавила:
— А вы храбрый… Даже не вздрогнули под револьвером.
— Во-первых, не револьвером, а пистолетом. Револьвер с барабаном, пистолет с обоймой. Во-вторых, еще как вздрогнул, аж скулы свело. Потом успокоился, заметив, что вы, наверное впопыхах, забыли поднять предохранитель. А потому, жми не жми на курок — выстрела не получится.
— И вежливый. — Но тотчас встрепенулась — То есть как не получится?
— А так. Предохранитель необходимо поднять, тогда оружие готово к бою.
— Значит, если бы меня схватили, то я бы?… — Щеки ее побледнели.
— Точно, — кивнул Одинцов. — И застрелиться бы не смогли. Вы вообще-то стреляли когда-нибудь?
Она отрицательно покачала головой, волосы метнулись по лицу. Поправила их ладонью и устало опустилась на что-то свернутое рулоном.
— С постелью путешествуете?
Виорика медленно поднялась, взяла тючок за край и тряхнула. Развернулось черное кожаное пальто — такие обычно носили офицеры СС.
— Ого, — удивленно протянул Одинцов. — Где разжились столь ценной вещью? Подарок?
— Где взяла, там нет. — Она швырнула пальто на землю. — Присаживайтесь.
Он сел, прислонившись спиной к шершавому камню. Потянул носом, спросил озадаченно:
— Знакомый запах. Что за духи?
— «Красная Москва».
— То-то, чувствую, что-то родное, будто домом пахнуло, надо же. Кажется, и уехал оттуда недавно, а словно век не видел.
— А вы москвич? — Не дожидаясь ответа, добавила — Все вы столичные — воображалы.
— Скажите пожалуйста, — неожиданно ответил Одинцов и замолк, думая о чем-то своем.
— Что дальше делать намерены? — вишнево взглянула Виорика из-под густых ресниц.
— Буду ждать. Мне уходить отсюда пока нельзя. Вдруг подойдут друзья. Договорились встретиться, если кто жив останется. Денька три подожду, а там отправлюсь восвояси.
— Куда?
— Разумеется, в Севастополь.
— Кругом немцы и румыны. Как пробьетесь? Убьют.
— Это как получится. Одно знаю точно — в плен не сдамся. Если уж, как вы выразились, с вас кожу спустят, то меня-то на ленточки изрежут и поджарят на костре как отпетого еретика. Видите, какие мы с вами для фрицев лакомые. Знать, оба насолили изрядно. А?
— Видно, так, — она усмехнулась.
Одинцов ободряюще улыбнулся и сказал:
— Вообще-то подкрепиться не мешало бы. Здорово проголодались?
Виорика смущенно кивнула.
Младший лейтенант постоял, пошевелил бровями, что-то решая в уме, и направился в угол равелина. Отодвинул плиту ракушечника, опустился на колени и стал шарить руками, словно пытался вытащить из норы какого-то зверька.
— Клад ищете? Или за змеей охотитесь?
— Нашел, — воскликнул он радостно. — Какой же умница Шкута, молодец. Как чувствовал, пригодится.
— Что там? — она приподнялась на цыпочки и заглянула через его плечо.
— Провиант. Прошлый раз не доели, запрятали на черный день. Будем считать — он наступил. Не жирно, но лучше чем ничего. — Одинцов положил перед ней две банки тушенки, четыре сухаря и плитку шоколада «Золотой якорь».
Взглянув на ее озарившееся радостью лицо, сказал заботливо:
— Размочите в водичке и ешьте.
— А вы?
— Недавно обедал.
— Тогда и я не буду, — она сглотнула слюну.
— Реверансы со мной совершенно излишни. Слушайтесь старших и не пререкайтесь.
— А сколько вам лет?
— Двадцать два. Пардон, а нам?
— Четырьмя годами меньше, — Виорика вздохнула и принялась за еду.
Затем они уселись рядышком, накинув на себя пальто. Пряди ее волос щекотали ему шею. Одинцов покрутил головой.
— Мешают? — не открывая глаз, Виорика попыталась убрать волосы за ворот блузки.
— Оставьте. Спите и ничего не бойтесь, я посторожу.
Девушка прижалась щекой к его плечу и уже сквозь сон прошептала:
— А я и не боюсь… С вами…
Виорика рассказала, что с ней произошло и как она оказалась в этих развалинах.
— Ну-у, — удивился Одинцов. — Вылитая Флория Тоска. Лихо. Значит, финкой и полоснули подлеца?
Она опустила веки, потом взглянула на него и спросила с любопытством школьницы:
— А кто эта ваша Флория Тоска?
— Героиня оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини. Для того чтобы спасти возлюбленного от смерти, она согласилась, пардон, разделить ложе с вельможей, от которого и зависела судьба близкого ей человека.
— Ну?
— Так же, как и вы, ответила на его домогательства ударом кинжала. Почти полная аналогия.
— И спасла?
— К сожалению, нет. Негодяй ухитрился ее обжулить. Он и не собирался щадить узника, заранее отдал приказ расстрелять несчастного. Обманул, прохвост, но и сам поплатился. И вам не страшно было? Это же не из пистолета, щелк и все.
— Честно?
— Конечно.
— Еще как страшно. До ужаса боялась… Он хоть и гестаповец, но живой ведь. Как только не заметил, что вся трясусь, видно, пьяный был сильно.
Виорика тряхнула головой, словно отбросила воспоминания. Одинцов взирал на девушку с восхищением. С каждой минутой она нравилась ему все больше. Заметив на ее лице необычный румянец, участливо спросил:
— Вам нездоровится?
— Лихорадит что-то. Промокла до нитки, когда речку переходила, видно, простыла.
Младший лейтенант тыльной стороной ладони дотронулся до ее щеки. Как от огня» отдернул руку, воскликнул в тревоге:
— Да у вас сильный жар!
— Пройдет, — она благодарно подняла на него глаза.
— Сейчас вон там, в нише, сооружу постель и ляжете. Воды вскипячу. Из шоколада какао сделаем, попьете — сразу согреетесь.
— Дым заметят, обнаружат, — губы ее запеклись, говорила она с трудом.
— У меня не заметят. Быстренько ложитесь.
Он помог ей подняться. Потом уложил на кожанку, подсунул под голову охапку подсохшей травы, заботливо накрыл ноги сверху своей курткой.
— Постарайтесь заснуть. Сон лучшее лекарство.
Девушку трясло. Сквозь смуглоту на ее скулах проступили багровые пятна. Лоб усеяли легкие прозрачные бисеринки. Она лежала, прерывисто дыша.
Всю ночь Одинцов не отходил от нее ни на шаг. Утром Виорике стало еще хуже. В беспамятстве она кого-то звала, Одинцов не разобрал слов, металась, сбрасывала куртку. Худела прямо на глазах, носик заострился, щеки запали.
Младший лейтенант растерялся, не зная» как ей помочь.
Временами девушка приходила в себя. Оглядывала все вокруг помутневшими глазами. Еле разжимая губы, умоляла?
— Дайте руку… Не бросайте меня… Страшно… Лучше убейте, но не отдавайте им… Растерзают.
Одинцов поил ее кипятком, прикладывал к пылавшему лбу мокрый платок, успокаивал, словно ребенка. Он положил голову девушки к себе на колени и легонько поглаживал ее виски. Так когда-то делала его мать, если он болел. Когда Виорика забывалась, сидел, хотя и сводило спину, не шевелясь, лишь бы не разбудить, не потревожить. Не отрываясь, смотрел в ее изможденное лицо.
Неожиданно Виорика медленно — подняла веки, дыхание со свистом вырвалось из груди. Попыталась приподняться и что-то прошептала. Он не расслышал и наклонился к ней. В широко распахнутых глазах девушки Олег увидел застывший страх. Она смотрела в пролом стены. Одинцов проследил за ее взглядом и увидел над каменными зазубринами голову в немецкой пилотке. В тот же миг сухо щелкнул выстрел. Младший лейтенант вздрогнул. Из рук Виорики вывалился вальтер.
Из пролома испуганно донеслось:
— Не стреляйте! Это я! Я это!
Через камни перевалился человек. Одинцов опустил уже вскинутый парабеллум, узнав в незнакомце матроса с торпедного катера.
— Товарищ младший лейтенант. Березовский я, Григорий… Иванович.
— Откуда? Где взяли форму?
— Сейчас объясню! Сейчас! — заторопился Березовский. — Мы же условились, помните? Кто в жи-вых останется, собираться здесь. — Он огляделся. — А Карлов? Лунев? Что, никого больше нет?
— Никого, — вздохнул младший лейтенант. — Ох, Григорий Иванович, чуть заикой меня не сделали. Да и сами под огонь попали. Не лопала она в вас?
— Не. Над ухом свистнуло. Разве, — он нащупал мочку, на пальцах проступила кровь. — Смотрите, зацепила малость.
— До свадьбы заживет. Значит, получается — одни мы уцелели. Еще вот ее встретил. Так какими вы судьбами?
Березовский, сбиваясь, коротко рассказал, что произошло с ним после взрыва. Закончил, глядя на девушку:
— Знаю я ее. Виорикой звать — сестренка моего дружка. Мы в одной слободке жили. Она…
— Мне известно, — перебил командир. — Заболела, а чем — не пойму, кажется, серьезно. Да-а. Верил бы в бога, подумал бы: он-то вас мне и подкинул. Совсем руки опустились, не представлял, что и делать. Ну, теперь вдвоем полегче. Вам места эти знакомы?
— В ту сторону, — махнул к Севастополю, — хорошо знаю. — А туда, — кивнул головой в сторону заречья, — плоховато. Пока добирался, плутал.
— Давайте посоветуемся, что предпринять дальше.
— Что скажете, то и предпримем. — Григорий присел на корточки возле девушки, осторожно провел ладонью по ее щеке — Ух ты, прямо горит. Наверное, под сорок. — Оглядел ее фигурку. — Она вся мокрая. Переодеть бы следовало. У меня рубашка чистая и свитерок Эра завернула кроличий. Снять?
— Правильно, — кивнул Одинцов. — Снимайте. — Потом как-то недоуменно скривил губы и закончил шепотом — Но ведь ее-то раздеть нужно? Неудобно.
— Подумаешь, — Гришка ответил таким тоном, словно лишь тем и занимался, что раздевал женщин. — Она же больная. Чего тут стесняться-то?
— Да, знаете… — поежился командир.
— Подумаешь, — перебил Березовский.
— Ладно, — младший лейтенант махнул рукой. — Чего, действительно, стесняться, простит она нам.
Не обращая внимания на слабые протесты Виорики, ее раздели донага, растерли, переодели в сухую одежду Березовского. Потом влили в рот немного разведенного спирта. Наконец, завернули в кожанку и уложили на сломанные ветки.
— Ну, Григорий, как нам лучше выбираться отсюда?
— Лучше всего, кажется, по берегу. Фрицы побаиваются корабельной артиллерии и к побережью особенно не жмутся, А в некоторых местах на ночь даже отходят в горы, Надо сперва попытаться проскочить к нашему городку. Эра говорила, что его сожгли, но кто-то наверняка остался из старожилов. Найдем — помогут, у нас там народ что надо, хороший.
— Добро, — кивнул командир. — Как стемнеет, возьмем ее на руки и отправимся.
— Носилки соорудим?
— Нет. Сам понесу, а вы впереди, как дозор. Решено?
— Есть, — Григорий приложил ладонь к пилотке.
…Идти было трудно. Продирались напрямик, сучки и колючки царапали лицо и руки, рвали одежду. Иногда набредали на тропинки. Но они, как назло, чаще всего пересекали путь поперек. Да и логично — по большинству из них отдыхающие прогуливались от своих жилищ на пляж. Решили было спуститься к самому берегу, но стало еще хуже, приходилось обходить скальные нагромождения. Поэтому вновь поднялись повыше.
Младший лейтенант нес девушку. Виорика иногда приходила в себя, охватывала его шею руками, не сводила запавших глаз с лица Одинцова. Но потом снова забывалась, начинала бредить, порывалась вырваться, тогда Одинцову приходилось туго.
Шли долго. Наконец Гриша остановился, поджидая командира. Уже рассветало. Меж ветвями виднелась блеклая водная ширь. Небо затянули облака, и в них, как в перевернутом зеркале, отразилась вынесенная рекой мутная желтизна.
Подошел младший лейтенант, вопросительно взглянул на матроса, словно спрашивая «в чем заминка?».
— Окраина городка, — кивнул Григорий, — тут к нему примыкает наша слободка. Здесь я и жил. Видите, все сожгли, мерзавцы.
Действительно, кое-где торчали печные трубы, обгоревшие стропила, остатки фундаментов, закопченные остовы кирпичных зданий. Легкий ветер доносил запах недавнего пожарища.
— Там у скалы, за оврагом, — продолжал рассказывать Григорий, — жили дед Афанасий и бабушка Марья. Баптисты вроде, в общем, так о них говорили, но люди они добрые. Вон за орешиной крыша — это их избушка уцелела. Пойти проверить?
— Добро. Но осторожнее. — Одинцов бережно опустил Виорику на пожухлую траву. — Сорок раз оглянитесь, прежде чем шаг ступить. Я подстрахую, идите.
Раздвигая кустарник, Григорий подобрался к покосившейся хибаре — чему уж тут гореть, домишко наполовину врос в землю. Вокруг словно все вымерло, не слышно ни птиц, ни собак, ни петухов. А раньше этой живности было полно, почти у каждого.
Матрос обогнул уголок избушки и, прижавшись к пахнущей мхом стене, выглянул: пусто. Ступая на цыпочках, приблизился к двери, собираясь шмыгнуть в сени. Но тут в бок ему что-то уперлось. Григорий оглянулся. Сзади, уперев ему в ребра наган, стоял Дорофеев.
— Та-а-к, — протянул он угрожающе сквозь зубы, — Никак чадо Ивана Березовского пожаловало. Слава те господи, не дожил покойничек до такого сраму.
Заметив, что Гриша порывается что-то сказать, прикрикнул:
— Цыц, бессовестный! Как же ты посмел? Кормили-поили тебя, грамоте обучали, а ты, — презрительно сплюнул.
Гришу осенило, чем это вызван гнев Дорофееваз форма-то на нем фрицевская. Выкрикнул пискливо, по-мальчишески:
— Дядя Дорофеев! Да нет же, нет! Это я с немца снял. Я с командиром своим. Разведчики мы.
В ту же минуту раздалось из зарослей сирени:
— Спокойно. Не оборачиваться!
Держа наперевес шмайсер, Одинцов вышел из кустов. Спросил Григория:
— Кто это?
— Наш, наш, — матрос закивал часто. — Он в милиции служил.
Дорофеев, видно, понял, в чем дело.
— Значит, разведчики, говоришь? Никак из Севастополя? А это твой командир?
— Да, да, товарищ Дорофеев, — засуетился Гриша.
Выглядел милиционер как и прежде: в той же застиранной гимнастерке, брезентовых сапогах, звездочка на выгоревшей фуражке.
— И много вас?
— Двое. То есть трое. Виорика еще, вы ее знаете. Больная, — голос юнца звучал придавленно, Грише стало самому противно, выпрямился и попытался пробасить солидно — Задание мы выполняли ответственное.
— Младший лейтенант Одинцов, — командир шагнул вперед. — Возвращаемся в часть. Нам необходима помощь. Понимаете, с нами девушка, ее разыскивает гестапо за убийство офицера, она заболела.
— Это Михая-кузнеца дочка, что ли?
— Да, да, — подтвердил Березовский. — Вы помните ее.
— Пойдемте. Не опасайтесь, поблизости посторонних нет. — Дорофеев спрятал наган в затасканную кобуру.
— Идите прямо в дом. Я чуток задержусь. Ступайте.
Несколько минут спустя они сидели на лавках у низенького, из гладко выструганных досок стола. Виорику уложили на топчан за занавеску, вокруг нее хлопотала бабушка Марья.
Пришел Дорофеев, сел на подоконник маленького оконца. Выслушав их историю, помолчал, прикидывая что-то в уме поднял гдаза к потолку. Затем произнес, неторопливо взвешивая каждое слово:
— Морем не получится… Катеров они завели пропасть, не выпустят. А вот горами проберетесь. Дедушка Афанасий проводит. — Показал на занавеску — Ее тут оставите, бабушка Марья выходит. С девкой не проскочить. Никак.
— Я ее на руках понесу, — привстал Одинцов.
— Хе, на руках. Самому придется ужом не пузе. Где уж с эдакой поклажей. Да и не простыла она. Сдается мне, тиф это, сыпняк. Как, бабушка Марья?
— Сыпняк, родимец. Сыпняк, Дорофеич. Вот.
— Может, все-таки попробуем? — младший лейтенант с надеждой взглянул на милиционера.
— Помрет непременно, — отрезал жестко Дорофеев.
Одинцов смешался:
— Нам-то что делать?
— Ничего. Отдыхайте, сил набирайтесь, дорога черт копыта сломит. Придет Афанасий, повечеряете и отправитесь. Деваху приютим, выходим.
— Но ее немцы ищут, она… — начал Григорий.
— Знаю, — перебил Дорофеев. — Все знаю. И про Степана, и про Вирку, и про их мать несуразную, Поищут-поищут и перестанут.
— А как вы здесь остались? — спросил Гриша.
— Раз остались, значит нужно.
— И не боитесь?
— Чего мне бояться, я у себя дома.
— Скажите, много вас? — поинтересовался младший лейтенант. — Связь с Севастополем у вас есть?
— Мало нас, — вздохнул Дорофеев. — И связи нет, на свой страх и риск действуем. Думается, вы и сообщите кому следует. Связь нужна во как, — полоснул ладонью по горлу. — Людей опытных маловато. С харчами не-ахти — эти ворюги подчистую гребут. Но оружие есть, трофейное само собой, взрывчатка. Мы тоже к тому мосту-то приглядывались да принюхивались. Ан, — он развел руками, — плетью обуха не перешибешь. Как это вам повезло?
— Сами удивляемся. — Одинцов усмехнулся. — И не так уж повезло — трое наших остались там.
— Значит, так, — Дорофеев похлопал ладонью по столешнице. — Я для ваших начерчу, где им вернее линию фронта переходить, — пусть пользуются. Места укажу, где захорониться, приют найти. Да и Афанасий, почитай, в окрестностях проворнее меня, подскажет. А пока отдыхайте. Бабушка Марья спроворит вам что-нибудь поесть. А?
— Счас, родимец, счас, Дорофеич, спроворю, — старушка выскочила из-за занавески, засуетилась около закопченной печки. Запричитала скороговоркой:
— Степушку-то уж так жалко. Фулига-а-н был, царство ему небесное, у меня черешню обтряс. Ан как все обернулось. Ох, грехи наши тяжкие, спаси и сохрани, царица небесная. Да и Вирка-то, трепались, распутная, гулящая. Ан поди ж ты — не побоялась, изничтожила ирода-палача.
— Ба-бушка Марья! — подал голос Дорофеев.
— Молчу, родимец, молчу, — Она вытащила чугунок, перевернула на стол. — Картошечки горяченькой пожалте. Ешьте, родимцы, ешьте. — Глянула в окошко — Эва, никак и Афанасий идет.
Хлопнула дверь, вошел высокий, плоский старик. Гостям будто и не удивлялся. Поздоровался, степенно снял шапку — подобие войлочного треуха, присел к столу.
— Ну? — Дорофеев вскинул белесые брови.
— Справно, — дед хлопнул большими ладонями по коленям. — Почитай, верстов на пять окрест — тишь. И на море никого-то не видать.
— Ты их, дедушка Афанасий, — милиционер указал глазами на пришельцев, — как затемнится, проведешь к нашим. Да оттуда-то не спеши возвертаться, растолкуй начальству, что, как и почему здесь. Усек?
Дед молча кивнул, а Дорофеев продолжал!
— Неровен час указания дадут или что, В общем обо всем потолкуй. Усек?
Дед опять кивнул. Милиционер повернулся к старушке:
— Ты, бабушка Марья, девчоночку обиходь. Вымой там, постриги, попарь. И языком-то не чеши среде посторонних. Схватят ее, враз повесят. Да не в одиночку, а вместе с тобой. Усекла?.
— Оборони осподь. — Старушка замахала ладошками, ввернула с ехидцей — Дык и тебя, родимец, не пощадят.
— Меня к той поре, если вас захватят, в живых уж несомненно не будет.
Утром Одинцов и Березовский уже находились в разведбате дивизии. Отчитавшись, денек отдохнули. Затем младшего лейтенанта, к его удивлению, отозвали на флот, а матрос упросил оставить его в разведке…
Эпилог
…На станцию, где оставил Эру, Березовский приехал утром. До обеда прослонялся в поисках, но все тщетно. Бывший немецкий госпиталь сгорел — одни головешки. В домике, где когда-то его приютила девушка, обосновались новоселы — слыхом не слыхали ни о каких Кригерах, сами неделю как поселились, В милиции руками развели, данных не имеем, местных не осталось.
Вечером, измотанный и издерганный, голодный и злой, остановился у двухэтажного дома — там располагался исполком. Рванул дверь, из полутемного помещения пахнуло известкой. За столиком сидела пожилая женщина, дежурная или уборщица, что-то пила из жестяной кружки. Опросил резко:
— Где председатель?
— У себя Макаров, на втором этаже. — На грубость не обратила внимания, очевидно, привыкла — все нервничают.
В конце коридора отыскал нужную дверь. Никаких секретарш — полное безлюдье. Сообразил: уже поздно, все разошлись. Почему-то распалился, вошел, не постучав. В кабинете за письменным столом сидел мужчина средних лет, худой и, вероятно, высокий. В военном, без погон, кителе, на груди строчки орденских планок и две нашивки за тяжелые ранения.
— Проходите, — сказал он приветливо, — садитесь. С чем пришли?
Вид предисполкома — свой, бывший офицер — успокоил. Березовский снял фуражку, сел на стул.
— Я разыскиваю свою жену Эрну Кригер с детьми.
— Кригер? Еврейка или немка? — спросил председатель.
— В общем, она наша, но немка по национальности, — досадливо махнул рукой. — Работала здесь при оккупации в фашистском госпитале, не успела эвакуироваться.
— Понятно. Что же вы хотите?
— Выяснить, где она. Это моя жена, не виделись с начала войны.
— Успокойтесь, расскажите толком, не спеша.
Березовский вытер лицо рукавом и поведал о своих мытарствах.
— Значит, с тех пор никакой связи?
— Абсолютно. Куда ни писал, где ни бегал — глухо, как в танке.
— Плохи дела, парень. — Он закашлялся, побагровел от напряжения. Спустя минуту продолжил — Вот тут мне рассказывали: наведалась одна девчоночка к гестаповцу с любовью да его же и ухлопала.
— Кто же это? — встрепенулся Березовский.
— Не бойся. Не твоя Кригер. У этой брата повесили.
— А, — живо отозвался Григорий, — Лунгу Виорика?
— Тебе-то откуда известно?
— Мы ее больную оставили у надежных людей.
— Вот как? А по слухам — утопилась.
— Нет, нет, — торопливо ответил Григорий Иванович. — Я видел ее, когда уже об этих слухах было известно.
— Вот так и бывает… — как-то неопределенно и медленно, словно он думал о чем-то другом, заметил председатель.
— А как же все-таки с моей женой? — напомнил о себе Березовский.
Председатель потянулся к небольшому сейфу:
— Сейчас поглядим.
Макаров перекинул несколько листов в обычной ученической тетради. Потом стал читать записи, видимо сделанные в алфавитном порядке.
— Ага, Кригер Эрна Карловна, — воскликнул он. Потом уже тише прочитал — В период оккупации работала санитаркой в госпитале. Решение — ограничиться ссылкой в удаленные районы на пять лет.
У Березовского готовы были сорваться с языка слова «упекли, сволочи», но он сдержался, только нетерпеливо спросил:
— Куда? Куда ее сослали?
— Вот этого-то здесь и нет, — безнадежно махнул рукой председатель. Но через мгновение он оживился. На его лице появилась улыбка — Слушай, парень, а ведь не все, по-моему, потеряно. Надо тебе побывать, где вы оставили Виорику. Наверняка что-нибудь проклюнется.
…И вот она, знакомая родная слободка. Со склона ее закрывала миндалевая роща, на ветру постукивали друг о дружку озябшие ветки. Долетали сюда и плеск волн о гальку, и шипение отходящей воды. Где-то тут была жасминовая аллея? Ага, вон она — торчат щетиной длинные прутья. Сбежал вприпрыжку вниз. Деревья расступились, глянул и защемило сердце. Вид куда печальнее, чем тогда, когда они, неся на руках тяжело заболевшую беспомощную Виорику, наведались с Одинцовым четыре года назад. Кругом все серое, неприветливое, заброшенное.
Березовский побрел к хибарке деда Афанасия. Домишко такой же скособоченный, в дождевых потеках. Из трубы на замшелой крыше вился тоненькой струйкой, загибаясь в спирали, сизый дымок. Лейтенант прибавил шагу, побежал, стебли высохшего курая захлестали по полам шинели. Перепрыгнул заполненную зеленой водой канавку и, очутившись у входа, отворил дверь, ступил через порог.
— Здравствуйте, — Березовский зашаркал подошвами по половичку.
— Здравствуйте, — отозвалась нараспев фигурка. По голосу он узнал бабушку Марью. Она оторвалась от печки, мелкими шажками засеменила к офицеру. Остановилась, вглядываясь в его лицо.
— Кажись…
Была она такая же сухонькая, непоседливая, опрятненькая. Склонила птичью головку набок, заглянула снизу:
— Кажись…
— Да я это, бабушка Марья. Я.
Она поглядела пристальней.
— Кажись, — начала неуверенно. — …Нет, родимец, не признаю. Чей будешь-то?
— Березовский я, Ивана-рыбака сын.
— Господи, — всплеснула руками, чуть не выронив сковородку. — Сослепу-то не вижу. Ан и есть, Ван Ваныча сынок.
Направилась было к печке, да, видно, вспомнила что-то важное, повернулась к Березовскому:
— Да вы же у нас были… В войну-то? С Олегушкой Одинцовым.
— Был, бабушка. Больную Виорику у вас оставили. Где она-то?
Личико старушки еще больше сморщилось, казалось, она вот-вот пустит слезу.
— Нету ее, Вирки-то, нету-у.
— Умерла! — неожиданно для себя вскрикнул Григорий Иванович.
— Господь с тобой, — отчаянно замахала руками старушка. — Уе-е-хала, рази так можно, — умерла? Ох напугал, родимец.
— Куда уехала-то?
— А как Олегушка-то Одинцов заскочил за ей, так и совместно укатили. — Она приблизила лицо к Гришке и почему-то произнесла шепотом — В Москву. Она, Вирка-то, ему, оказывается, жена-а. Адресок отписала нам.
— А где адрес-то?
— Счас, родимец, счас. — Она полезла за печь, зашелестела снизками лука.
— Кажись, вот. Глянь-ка, родимец, — протянула бумажку.
…В Москве долго плутал, прежде чем отыскал в переулке на Арбате солидный шестиэтажный дом. Пешком поднялся на третий этаж и замер у двери, обитой черной клеенкой. Наконец нажал на кнопку звонка, беспокоясь, дома или нет. Дверь распахнулась, на пороге стояла Виорика в полосатом коротеньком халатике с пояском. Она стала еще красивее, ярче. На смуглых щеках играл румянец, волосы распущены. Лицо ее отобразило на мгновение растерянность, но тут же она, прижав к губам кончики пальцев, попятилась и крикнула срывающимся голосом:
— Олег!
А сама бросилась к Березовскому, обняла его, уткнулась в плечо и снова позвала:
— Олежка!
— Кто тут? — В прихожую вбежал Одинцов с полотенцем в руках. Признав сразу гостя, завопил радостно. — Гриша!.. Григорий Иванович!
Обнял обоих — и офицера, и повисшую на нем свою жену. Захлебываясь от радости, зачастил!
— Вот здорово! Вот молодец! Значит, жив? Не верю, дай еще взглянуть. Живо-о-й, живой, бродяга.
Виорика оторвалась от Григория, закрыла ладонями лицо, прижалась к стене. Плечики вздрагивали, сквозь слезы донеслось:
— Нам же сообщили, что ты погиб… Боже мой… Счастье то какое…
— Как погиб? — удивился Гришка.
— Так и сообщили — погиб. — Одинцов начал расстегивать на нем шинель.
Спустя день Одинцов вернулся из академии сияющим. Выяснил почти все, главное куда и как обращаться. Кстати, кое-что удалось узнать об Эрином отце. Оказывается, Кригер Карл Францевич — известный антифашист, коммунист. Воевал в Испании в батальоне имени Тельмана. В сорок третьем пропал без вести.
— Вот это да-а, — Григорий удивленно открыл рот. — Чего же она-то, дурочка, не сказала о нем, когда разбиралось дело? Все могло по-другому обернуться.
Одинцов пожал плечами. Вмешалась Виорика.
— Я ее помню, — произнесла она задумчиво. — Высокая, беленькая. Раза два видела. Чудо, как хороша, прелесть, даже мне, женщине, нравилась. Мне кажется, не упомянула она об отце, да, думаю, и о тебе, Гришенька, потому что не хотела трепать дорогие имена. Своей вины не чувствовала и надеялась справиться без протекции.
Все оказалось не столь просто, как предполагал Одинцов. Лишь на третьи сутки удалось ему узнать адрес Эры. В село, где она жила, Григорий приехал на довоенной, в конец расхристанной пятитонке. Когда вылез, в белом небе шариком сияло маленькое солнце. В безветрии звенел прозрачный воздух, слепяще искрился снег. Над избами тянулись ленточки дымков.
Березовский припустил по спускающейся с косогора улице, наезженной санями до блеска. Дом приметил сразу. О нем сообщил шофер, когда лейтенант уточнял адрес. Добежал быстро. Добротный пятистенок по завалинку увязал в голубоватых сугробах. От калитки глубокая тропинка вела к украшенному резьбой крыльцу. Нерешительно взялся за щеколду: «Неужели сейчас увижу Эру. Только бы не ошибка».
Дернул калитку, взбежал на крылечко. Лопоухая, пятнистая собачонка даже не тявкнула, ткнулась носом в сапоги, завиляла кренделем хвоста. Проскочил сени и вместе с клубами морозного воздуха ввалился в просторную кухню с русской печью. Пахнуло теплом, щами и бельем.
Подле окна у корыта стояла сравнительно молодая женщина. Мыльными руками она отвела свесившиеся волосы. Нет, не Эра. При виде военного ойкнула. Что-то брякнуло в корыто. Женщина вспыхнула, засветилась радостью. Но вгляделась, тут же погасла. Неуверенно спросила, словно в чем-то сомневалась:
— Вам кого?
— Эрна… Кригер, — взволнованно выдохнул Григорий Иванович, — здесь живет?
— Здесь… Проходите.
— Где… она?
— Как где? На работе в медпункте.
— А девочки?
— В школе. Где же им быть?
— Значит, никого?
— Как никого? Хозяин… дома.
— Кто-кто? — Его словно хватили кувалдой по затылку.
— Как кто? — она усмехнулась. Березовскому в те секунды ее лицо показалось злорадным, ехидным, даже мерзким. — Хозяин. Дрыхнет, наверное, затих. Да вон их комната. Ступайте.
Ноги заплетались, его качало. Подошел к двери, со злостью распахнул ее. Посередине комнаты стоял мальчуган лет трех. Он был в пестрой ситцевой рубашонке и… без штанов. На ножонках не по размеру огромные галоши. Насупив еле наметившиеся бровки, малыш серьезно смотрел на офицера.
Березовский сглотнул слюну, хрипло выдавил:
— Господи. Кто же ты?
Вопрос был никчемный — малыш вылитый Гришка в детстве. Те же каштановые завитки, серые глаза и вздернутый носишка.
— Кто же ты? — повторил Григорий Иванович, а у самого задергались губы.
— Казяин, — шмыгнул носом малыш и почесал пупок.
Лейтенант кинулся к ребенку, выдернул его из галош, поднял на вытянутых руках.
— Звать-то тебя как?
— Гриша.
— А штаны где? — спросил зачем-то.
— Намочиль, — хитровато улыбнулся Гриша.
— Ты знаешь, кто я? Кто?
Мальчишка ткнул пальчиком куда-то за плечо. Григорий Иванович обернулся. Над покрытой лоскутным одеялом кроватью висел карандашный портрет молодого моряка. Сразу понял: это Эра, наверное, нарисовала его по памяти. До чего же похож. Он сильнее прижал сынишку к груди.
Сергей Дышев Пуля на ладони
Иван Васильевич Сапрыкин надел свежую рубашку и спустился во дворик, чтобы не спеша выкурить сигарету перед отъездом. Позавчера они сдали цех, и по этому случаю директор строящегося комбината Алимухамед Джафар пригласил советских специалистов на обед. Автобус уже стоял возле их двухэтажного особняка. Абдулхаким, старичок-водитель, дремал на сиденье.
Сапрыкин уже более года служил в Афганистане. Иван Васильевич так и говорил о своей работе: «служба», «послужу еще». И никто его не оспаривал, даже наши военные, которые стояли неподалеку.
Во двор спустился Игорь Шмелев, расчесываясь на ходу. Появился переводчик Наби Сафаров, таджик по национальности, выпускник ташкентского «иняза». Следом вышли остальные. Сапрыкин быстро пересчитал всех, чтобы убедиться, все ли на месте. С ним — пятнадцать.
— Ну что, вперед, — сказал он негромко, посчитав людей.
— Тихов, автомат взял? — спросил Сафаров.
— Взял, взял, — ответил Тихов, полнеющий блондин в подвернутых джинсах.
Автобус закружил по узким улочкам города. Кто-то закурил, открыли окна, чтобы выветривался дым. Погода стояла совсем не январская — плюс десять. Как в конце марта где-нибудь в средней полосе. Сапрыкин вспомнил свой Брянск, откуда он неожиданно для себя вдруг решился уехать, отправиться к черту на кулички, в страну, про которую последнее время говорили столько противоречивого, пугающего, туманного.
Иван Васильевич уже перешагнул тридцатипятилетний рубеж, но в принципе мало в чем изменился после тридцати. Может, чуть погрузнел, да и лоб все больше «наступал на темечко», как он сам нередко выражался. Моложе и стройней его делали джинсы с нашлепкой «левис». Штаны как штаны, правда, намокнут — пачкают все в синий цвет. А вот наденешь их — и вроде как помолодел.
Самым молодым был Игорь Шмелев. Сейчас он высунулся в окно, остальные дремали. Водитель Абдулхаким, или, как его попросту звали, Абдулка, отчаянно сигналил и с рискованной виртуозностью петлял между «тойотами», «рено», автобусами, увешанными, словно цыганки, цветными побрякушками. Они миновали узкие улочки, тянущиеся между рыжих дувалов, и выехали на шумную торговую улицу с дуканами по обе стороны. Затем автобус повернул у старой мечети на магистраль, которая вела к центру города. Они миновали пост царандоя[1] с регулировщиком в непривычно яркой, будто карнавальной, форме.
По бетонке автобус пошел веселей. В салон ворвался встречный ветер. Сапрыкин привстал, чтобы закрыть окно. Впереди он увидел грузовик, который вдруг развернулся поперек дороги. Абдулка стал тормозить. «Нашел, где застрять», — с недовольством подумал Сапрыкин. Неожиданно из-за грузовика выскочил высокий человек. Он резко выбросил вперед руку, оказалось, в ней зажат пистолет. Хлопнули выстрелы. В первое мгновение Сапрыкин подумал, что это какая-то нелепая ошибка или шутка, но тут же его обожгла догадка. Что-то загремело, Абдулка подскочил и рухнул на рулевое колесо. Надрывно и протяжно загудел сигнал.
— Душманы! — раздался чей-то истошный голос.
По двери ударили, она жалобно скрипнула. В салон ворвался чернобородый человек с автоматом. Сапрыкин вскочил с места, но тут же повалился от удара прикладом по голове. Тихов судорожно дергал свой автомат, застрявший под сиденьем. Сверкнула пламенем очередь. Бородатый ринулся в проход, вырвал у свалившегося Тихова автомат. А двое других уже вытаскивали безжизненное тело водителя из-за руля, потом тяжело бросили его на бездыханного Сапрыкина. Бандит в пиджаке ловко прыгнул на место водителя. В автобус заскочил еще один бандит, махнул рукой: вперед! Автобус рывком тронулся, быстро набирая скорость.
Все молчали, будто одновременно поперхнулись. Старались не смотреть на направленные автоматы. На полу сотрясалось, словно еще продолжало жить, тело водителя, вишневыми пятнами зияли раны в переносице и плече.
За окном мелькали глинобитные прямоугольники мазанок, пыльные кусты, старцы, почтенно пожимающие круг другу руки…
Сзади стонал Тихов.
Автобус мчался по каким-то глухим улочкам и грязным переулкам, скрипел тормозами на поворотах, пока наконец не заехал во двор. Группу вытолкали, быстро обыскали, забрав все, что было в карманах. Потом по темной лестнице заставили спуститься в подвал дома. Дверь захлопнулась, и они остались в полной темноте.
— Виктор, ты ранен? — это спросил Сапрыкин. Он уже пришел в себя.
— Да-а, в плечо, — со стоном протянул Тихов. — Надо чем-то перевязать.
— Сейчас, — отозвался Наби. Затрещала рвущаяся материя.
Никто больше не произнес ни слова. Было слышно, как тяжело дышал Тихов.
— Потерпи еще чуток…
— Чего они от нас хотят? — Сапрыкин услышал торопливый голос Тарусова — инженера из Кишинева. — И тут же представил его лицо, обиженно надутые губы.
— Главное — не паниковать. Ясно? Если сразу не били, значит, строят какие-то планы, — как можно тверже ответил Сапрыкин.
— Черт з-знает что… Мы с-строим, помогаем, а они… Ты по-почему не стрелял, Тихов? — продолжал Тарусов, от волнения заикаясь. — Почему не стрелял, у т-тебя же автомат был?
— Автомат лежал под сиденьем, — после паузы слабо отозвался Тихов. — Пока вытаскивал, видишь, получил…
— Да не помог бы автомат, — перебил Сапрыкин. — Начали бы пальбу, так они всех нас как… — запнулся он, подбирая подходящее сравнение, — как куропаток перебили бы.
— Ч-черт, черт побери… П-подохнуть в этой яме, — снова застонал Тарусов.
— Хватит, Тарусов. Не ной, хотя бы из уважения к раненому, — вдруг с несвойственной ему жесткостью оборвал Сапрыкин.
Некоторое время царила тишина…
— Бедняжка Абдулка, — тихо произнес Шмелев, лишь бы не цепенеть в отчаянии.
Никто не успел ответить. Открылась дверь, в проеме появилась тень. Бандит махнул рукой: «Выходи!» На улице стемнело, наверное, было где-то около шести вечера. «А выехали мы в три», — вспомнил Сапрыкин. Часов ни у кого не осталось — отобрали.
Пинками их положили на землю. От нее тянуло холодом. Начали вязать руки — сначала за спиной, а потом попарно локтями друг с другом. Сапрыкин оказался в паре с Шмелевым, Наби Сафаров — с Тиховым. Пиная и подталкивая стволами автоматов, их подняли, построили в колонну. Спотыкаясь, пленники побрели по темным безлюдным улицам. Только один раз на пути группы появилась и тут же исчезла черная тень женщины в парандже.
Бандиты нервничали, беспрестанно подгоняли пленных прикладами, плетками.
Тихов все время падал. Наби как мог удерживал его, но потом сам стал падать вместе с ним.
— Ну, потерпи, потерпи еще! — умолял он.
— Все… Не могу… — еле слышно хрипел Тихов.
Чернобородый бандит, лицом похожий на Иисуса, достал нож и разрезал веревку, связывавшую им локти. Сафаров выпрямился облегченно, но тут его толкнули обратно в строй, а Тихова повели в сторону от дороги. Колонну погнали дальше. Раздался негромкий крик.
— Сволочи! — дернулся Сафаров. — Убийцы!
Тут же он получил удар прикладом…
Джафар уже несколько раз бросал взгляд на часы. Русские отличались точностью и аккуратностью. Эта черта нравилась ему. Деловой человек должен быть пунктуальным. И он часто подчеркивал это на совещаниях. «Куда же они пропали?» — думал директор.
В половине пятого он наконец решил позвонить охраннику. Тот бодро доложил, что машина уже выехала, назад, не возвращалась. Джафар положил трубку. «Надо было спросить, когда выехали», — запоздало подумал он и почувствовал, как вспотела спина.
Директор поерзал в кресле, расстегнул воротник. «Выслать машину навстречу? — подумал он. — Нет, лучше позвоню, спрошу, когда выехали».
— В три часа, — ответил охранник.
— В три?! Что же ты сразу не сказал? — не дожидаясь ответа, Джафар бросил трубку.
Он потер виски. Что-то случилось. Надо звонить в ХАД[2]. Директор уже протянул руку к телефонной трубке, но встречный звонок опередил его:
— Салам алейкум, слушаю…
— На автобус с советскими специалистами совершено нападение, — донесся возбужденный голос. Говорил помощник начальника ХАДа провинции. — Где они сейчас — пока не знаем. — И он принялся разъяснять детали.
— Воронцову позвонили?
— Еще нет.
— Надо сообщить немедленно, — посоветовал Джафар.
— Разберемся…
С утра у командира мотострелкового батальона Воронцова было приподнятое настроение: позвонил командир полка Тубол и приказал через два дня оформляться в отпуск. Воронцов уже предвкушал, как обнимет в аэропорту дочку — студентку-второкурсницу, жену Ираиду Рузиевну, которая с каждым разом пишет ему все более любвеобильные письма, словно вернулась чувствами в пору своей юности.
Ведь что самое трудное в службе в Афганистане? Пожалуй, многое: жара, пыльные бури, угрюмая тишина гор, душманские засады. Но самое трудное — ждать. Ждать желанной, но такой, несбыточно далекой встречи с родными и близкими, ждать, когда истекут томительные, однообразные, похожие друг на друга дни и месяцы. Ждать возвращения на Родину, которое воспринимаешь как самую главную и дорогую награду.
Так думал сейчас Воронцов и был по-своему прав. А без четверти пять он принял по телефону сбивчивый доклад переводчика из ХАДа и в первую минуту растерялся, не зная, что предпринять в этой ситуации. «Объявить тревогу? А что дальше?» Воронцов постарался сосредоточиться, пересиливая желание тут же поднять батальон на ноги, звонить «наверх». Такая привычка сложилась у него за время службы: когда сваливалось на голову тревожное известие или, того хуже, ЧП, не предпринимать ничего в первые три-четыре минуты. Может быть, не лучшая привычка, но она не раз спасала его от поспешных решений. «Отпуск откладывается на неопределенное время», — с тоской подумал он и тут же упрекнул себя в эгоистичности. Воронцов вспомнил о земляке Сапрыкине, о ребятах-спецах, и смешанное чувство жалости, злости и досады охватило его. «Надо, — рассудил он, — перекрыть дороги, организовать поиск. По горячим следам можно еще успеть». Воронцов позвонил в ХАД и спросил, перекрыты ли дороги и пути из города. Переводчик ответил утвердительно.
— Какая нужна помощь?
Ответ последовал не сразу. Видимо, переводчик ждал, что скажет начальник.
— Нужны подразделения для поиска, — наконец раздалось в трубке.
Воронцов понял, что и в ХАДе еще тоже не знают, с чего начинать. «Все на нас надеются… — подумал он, но тут же отбросил упрек. — А кто же еще, черт побери, будет искать, как не мы…» Потом комбат попросил соединить его с Туболом, на ходу соображая, что конкретно доложить по существу дела.
Полковник Тубол выслушал его молча, не перебивая и не уточняя. Только в конце, когда Воронцов замолчал, ожидая ответа, довольно отчетливо выругался. Прозвучало это тихо и оттого еще более неприятно.
— Вот что, — оказал Тубол, — снаряжай две поисковые группы. Вышлешь их в район…
Он сделал паузу, и Воронцов понял, что Тубол смотрит на карту, и тоже повернулся к своей карте, висевшей на стене.
— В районы…
Населенные пункты находились значительно восточнее города. «Отсекает от пакистанской границы, — понял Воронцов.
— Пока все. Остальное берем на себя. — Тубол помолчал и потом, не сдержавшись, выплеснул раздражение — Как же они у вас из-под носа наших людей увели? Рохли…
Воронцов промолчал.
— Дежурный!.. — хлопнув трубкой, Воронцов громыхнул, сам почувствовав металл в голосе. — Дежурный, твою мать, где ты?.. Третьей роте — тревога! Командира — ко мне!
Плюхнувшись на стул, он снова подумал о Сапрыкине, о том, что совершенно не представляет, как быть в такой ситуации. Но тут раздался стук в дверь. «Гогишвили», — подумал Воронцов. Вошел высокий рыжий старший лейтенант, следом за ним шагнул начальник штаба Рощин.
— Гогишвили, вам приходилось когда-нибудь охотиться? — опросил Воронцов, стараясь не выдавать волнения.
— Нет, — коротко ответил Гогишвили и подумал, что командир сейчас скажет: «А я-то думал, все грузины — охотники».
Но тот вдруг подчеркнуто четко произнес:
— Тогда слушайте внимательно. Душманы захватили и угнали в неизвестном направлении пятнадцать советских специалистов с комбината… Нам поставлена задача организовать поиск. Возьмете два взвода. Сами будете при одном из них. Выезд через двадцать минут.
Воронцов уточнил порядок поддерживания радиосвязи, маршрут выдвижения. Паек приказал взять из расчета на пять дней.
— Все, не теряйте времени!
Читаев, с треском отворив дверь, влетел в комнату.
— Третьей роте тревогу объявили, — сообщил он громко.
— А что случилось?
Лейтенант, сидевший за столом, отложил в сторону недописанное письмо. Читаев, не глядя, потянулся рукой к магнитофону — убрать лишний звук.
— Душманы выкрали наших спецов, Володя. Угнали вместе с автобусом.
— Это с мукомольного? — привстал за столом Владимир.
— Оттуда… Рота Гогишвили брошена на поиски.
— Далеко?
Читаев пожал плечами.
В коридоре модуля[3] загрохотало: кто-то в темноте зацепился за бачок для питья, стоявший у входа. Раздались тяжелые шаги.
— Идет Алеша, гремя победитовыми подковами, — прокомментировал Читаев.
В следующую секунду в комнату ворвался широкоплечий старший лейтенант с гусарскими усами. Это и был командир первого взвода Алексей Водовозов.
— Слышали? — прямо с порога гаркнул он.
— Слышали, — хором ответили Читаев и Хижняк.
— Вот подлецы-то, а? Вот подлецы! — гремел Водовозов. Тише он говорить не умел — на определенной, по мере уменьшения, мощности звука голос его срывался, переходил в свистящий шепот.
«Сейчас начнет ходить взад-вперед по комнате, расталкивая стулья», — подумал Читаев и не ошибся.
— Что хотят, то и делают, — продолжал буйствовать Водовозов, меряя своими шагами крохотную комнатушку. Казалось, что именно стулья, беспрестанно попадавшиеся ему на пути, были виновниками всех бед.
— Найдут или нет? — вслух размышлял Водовозов и сам себе бодро отвечал — Должны найти, обязаны. Ты как думаешь, Читаев?
Сергей потер ладонью светло-пепельный ежик волос.
Алексей, не дождавшись ответа, встал, по привычке мельком глянул в зеркало, поправил смоляной чуб.
— Схожу в роту, проверю, как там дела, — сказал он, надевая фуражку. — Чтобы все было чин чинарем.
— Думаю, скоро и мы подключимся к поискам, — повернулся Читаев к замполиту, когда Алексей ушел. — И вообще, это, кажется, серьезно и надолго.
— Может быть, — отозвался Владимир. — Ты у нас теперь за командира, тебе и перспективу определять.
Сергей Читаев, исполнял обязанности командира третьей роты. Капитану Сахно, которого он замещал, перед самым отпуском крупно не повезло. Отправился он на бронетранспортере, уже с отпускным чемоданом, на аэродром. И надо же было такому случиться, что везучий и всегда удачливый Сахно, который вообще жил без бед и невзгод, наскочил на мину. БТР хорошо тряхнуло и оторвало два колеса. Пострадал же один Сахно: упал с брони — и неудачно, поломал руку. Пришлось вместо отпуска ехать в госпиталь. Читаева назначили как более опытного, он уже год отслужил в Афганистане.
Два взвода Гогишвили в установленное время выходили на связь. Доклады поступали неутешительные. Душманы и их заложники как в воду канули.
— Угораздило же их выехать без охраны, — сокрушенно вздыхал командир взвода связи лейтенант Птицын, вычерчивая график в журнале поступающих сообщений.
В углу ударили большие часы: «пин-донн!» — пять.
— Иди узнай, Птицын, — сказал Воронцов, оторвавшись от своих мыслей, — может, какое сообщение есть.
Минут через пять лейтенант вернулся.
— Все по-старому, — доложил он.
— Третий день — и все впустую, — бросил в сердцах Воронцов. Несколько раз он иопытывал желание лично ринуться на поиски.
Тубол требовал активности. После звонков командира полка Воронцова всегда одолевали тоскливые мысли. Его обижало, когда Тубол подчеркивал, что специалистов надо найти во что бы то ни стало. Складывалось впечатление, будто он, Воронцов, сам этого не понимал.
«Пин-донн!» — поплыл мягкий тягучий звук. Полшестого.
— Эти часы с ума могут свести, — буркнул Воронцов.
Он встал, подошел к окну. Над брезентовым рядом палаток вспыхнули фонари на столбах. Худосочные деревца, посаженные на одном из субботников, гнулись на ветру, как тростинки. Хотя в кабинете было тепло, Воронцов физически ощущал, как сейчас холодно на этом пронзительном ветру. Он зябко поежился, подумав о роте Гогишвили, которая сейчас далеко в горах. Как они там? Он приказал взводам объединиться и действовать вместе. Только будет ли от этого толк?
Воронцов смотрел на палатки, на людей, которые сновали взад-вперед. «А вдруг Гогишвили уже их проворонил? Эх, надо было отправить Читаева».
Он хорошо помнил, как прибыл в батальон Читаев, — буквально через день после его приезда в ДРА. «Ну что, будем вместе служить?» — спросил он его. Читаев не ответил на риторический вопрос. Воронцов понял, что подумал лейтенант: «Придется, раз ты комбат, а я назначен к тебе взводным». «С характером лейтенант», — сразу определил комбат, и это ему понравилось.
Через несколько дней Читаев попал в душманскую засаду. В гиблой ситуации голову он не потерял, когда чуть стемнело, вывел людей под прикрытием дымов. Потом он докладывал, а Воронцов смотрел в его чистые глаза и пытался найти в их глубине остатки страха. Но видел лишь, как мерцали холодные искорки спокойствия.
Время вновь напомнило о себе приглушенным баритоном часов.
— Птицын, — встрепенулся Василий Семенович, — начальника штаба ко мне.
— Петр Андреевич, что вы думаете о действиях роты Гогишвили? — опросил он, когда начштаба вошел.
— Я думаю, что на своем участке Гогишвили душманов не пропустит, — тут же ответил капитан Рощин, сразу поняв, что именно имел в виду комбат. — Иное дело, — продолжил он, — что шансы на успех у нас, да и у всех участвующих в операции, малы.
Рощин кивнул на карту.
— Мы ведем поиск вслепую. Нам крайне нужны агентурные данные о местонахождении заложников.
— Вот и я того же мнения, — признался Воронцов.
— Угораздило же их выехать без охраны! — снова сокрушенно вздохнул Птицын. — А теперь вот приходится возиться.
Комбат удивленно посмотрел на лейтенанта, выдержал паузу и медленно произнес:
— Птицын, в городе всегда ездили без охраны. Это во-первых. И второе. Идите-ка побыстрей к подчиненным.
Лейтенант вскочил, одернул китель и выбежал за дверь. Начштаба слегка улыбнулся. Воронцов же хмуро сдвинул брови.
Солнце провалилось за горы, стало темно и смутно. Но моджахеды, казалось, нюхом определяли путь; дорога хрустела гравием. Где-то далеко позади по равнине перекатывался пустой луч прожектора. Душманы по-прежнему торопились, подгоняли пленников прикладами и плетками. Шли по ровной местности, потом начали спускаться. На дне оврага группу остановили, вблизи оказался грузовик. Пленникам приказали забраться в кузов. Потом туда же полезли бандиты. Они переругивались вполголоса, лезли по людям, как огромные пауки, наконец, уселись кто на ком. Грузовик тут же тронулся.
Здоровенный детина взгромоздился прямо на Шмелева и Сапрыкина. На каждом ухабе он ворочался, выбирая положение поудобней, словно и не сидел на людях. От него исходил крутой запах невыделанной овчины.
Всю дорогу Шмелева точила мысль о побеге. Он пытался дать хоть какой-то знак Ивану Васильевичу, с которым его связали. Когда машину в очередной раз тряхнуло, Сапрыкин, улучив момент, хрипло шепнул:
— Ты не торопись, сейчас не время…
Шмелев заерзал и ничего не ответил.
Сафаров ругался площадной бранью. Бандит отчаянно бил его каблуком, но он продолжал поносить его руганью на русском и таджикском одновременно.
— Побереги силы, Сафаров, — подал голос Сапрыкин и тут же получил удар ногой.
Наконец грузовик остановился. Это было глухое горное ущелье. В темноте угадывалась каменистая дорога. Впереди ярко светилась пещера — в ней метался огонек. Туда и двинулись. В неверном свете костра темные угрюмые стены пещеры и такие же непроницаемые лица душманов казались зловещими и страшными.
Пленников заставили лечь на землю. Из черноты входа, словно призраки, появлялись заросшие бородатые люди. Они подходили к связанным и обессиленным людям, с любопытством разглядывали их, некоторые пинали их ногами, тыкали стволами автоматов. Седобородый старик, узкоглазый и сухой, вдруг вырвал из ножен кинжал и резко занес его над Тарусовым. Тот отшатнулся и вскрикнул. Но старик лишь слегка кольнул Тарусова в грудь. Душманы весело засмеялись.
Появился «Иисус», что-то сказал, и через несколько минут пленникам принесли ведро воды. Руки у всех были по-прежнему связаны за спиной, поэтому, чтобы напиться, приходилось вставать на колени и удерживать равновесие.
Пленников на время оставили в покое. Двое с автоматами остались у входа. Только теперь узники почувствовали, как измотались и устали. Из глубины пещеры тянуло могильным холодом, мерзлый камень, казалось, забирал последнее тепло. Многие впали в полузабытье. Не смыкал глаз лишь Тарусов: его била сильная дрожь.
— Что же с нами теперь будет, Иван Васильевич? — шепотом спросил он, повернув голову к Сапрыкину.
Сапрыкин разлепил глаза, глянул на Тарусова.
— Будем ждать, пока не освободят. Если сможем — сбежим.
— Уйти хотя бы одному, чтобы привести наших, — горячо и напористо зашептал Шмелев.
— Уходить надо всем. Захватить у душманов оружие. Одному плохо — поймают. Бежать надо всем вместе.
Сапрыкин замолчал и закрыл глаза. Попытался заснуть, но прошедшие события вертелись в голове, не давали покоя. Смерть Тихова… Отчетливо и ясно, словно на контрастном снимке, вспомнил, как сам вскочил навстречу бандиту, а потом — удар… «Останется шрам, — вяло подумал он, — конечно, если буду жив».
И снова с острой болью он подумал о Тихове. Когда его убили, он почувствовал только ужас, все смешалось… Сам напросился, чтобы ему доверили автомат, бравировал… Веселый, простодушный Тихов. В Пензе жена ждет с двумя детьми. Теперь вдова.
«Кто же виноват, — рассуждал Сапрыкин, — что мы попали в лапы душманов? Мы всегда ездили без охраны. Оружие брали так, для порядка. Винить погибшего?»
Голова раскалывалась. У Сапрыкина было такое чувство, словно ему в черепную коробку запихали горячий кирпич, и от этого глаза вот-вот должны вылезти из орбит. Сапрыкин прикрыл веки, чтобы не видеть блестящих глаз душманов-охранников. «Себя винить надо, — подумал с горечью. — Я — старший, значит, весь спрос с меня».
Лишь перед рассветом забылся Сапрыкин в настороженном сне. Ранним серым утром охранники подняли всех, вывели из пещеры и построили. «Иисус» уже ждал их, стоял, широко расставив ноги. Вместо чалмы и традиционной афганской одежды на нем были каракулевая шапка и шаровары, заправленные в ботинки с высокой шнуровкой. Костюм дополнял грязный серый свитер, надетый под кожаную меховую безрукавку. Время от времени к нему подходили сообщники. Одеты они были по-разному, хуже его, за исключением одинаковых у всех ботинок. У каждого за спиной торчал бур или автомат.
Вокруг громоздились скалы, уходящие высоко вверх, изборожденные трещинами, обветренные. Солнце всходило, растапливало клочки тумана, и воздух почти на глазах светлел, становился прозрачным. Голубые тени на островках снега постепенно исчезали, снег белел на глазах; вступал в силу извечный в горах закон контраста.
Чернобородый что-то сказал, кивнул в сторону пленных, и двое подручных принялись развязывать веревки. Видно, посчитал, что пленным теперь не убежать. «Свою силу знают», — подумал Сапрыкин.
Все молчали, даже Сафаров, он опустил голову и сосредоточенно выковыривал носком ботинка камешки на дороге. Верилось ему и не верилось, что это он стоял сейчас с вывернутыми назад руками в черт знает где затерянном ущелье.
Нет ничего тягостней и страшней, чем первое утро в неволе, когда надежда на спасение становится маленькой и ничтожной, как последняя спичка в зимней тайге. Родина, могучая, огромная, сильная, где ты? Кажется, прямо за проклятым хребтом, только перешагни его, — и она раскинется во всем величии.
Приди, Родина!
Читаев появился в модуле поздно вечером. Хижняк и Водовозов уже сидели в комнате и пили чай. Он назывался изысканно — «седой граф».
— Что задержался? — спросил Хижняк.
— Старшине указания давал, — хмуро ответил Читаев. — Комбат приказал быть готовым в любую минуту к выезду. Наверное, сменим Гогишвили.
Он сел за стол, приподнял чайник, проверяя на вес его содержимое, плеснул себе в стакан, сыпанул чая. «Сегодня не успели, — подумал он, глядя, как медленно опускаются на дно чаинки, — а завтра, если не будет вводных, надо будет еще раз почистить оружие…»
С самого утра рота занималась по расписанию — отрабатывали действия в наступлении в горной местности. А после обеда разгружали два тяжелых Ми-6. Вымотались изрядно.
— Завтра людей на чистку оружия.
— Сколько же его чистить? — отозвался Хижняк и зевнул.
— Не помешает, — ответил Читаев довольно резко.
Последние дни он ходил раздраженным и взвинченным. Сегодня ни с того ни с сего не сдержался и резко отчитал рядового Щекина — добродушного увальня с веснушчатыми веками. Хотя и особого повода не было: тот перепутал журналы, принес ему не те, которые нужны. Потом случился конфликт с начальником штаба Рощиным. Пытался доказать ему, что рота слишком часто привлекается на подсобные работы. «Я вам приказываю», — вспомнил он ледяной тон Рощина.
— Интересно, в какой район нас направят? — вс-лух подумал Водовозов и подошел к карте Афганистана.
— А тебе не все равно? — буркнул Читаев. — Куда прикажут — туда и пойдешь.
Водовозов хмыкнул неопределенно. Он понял его выпад по-своему. Читаев, мол, теперь за командира роты, а, им, значит, и соваться нечего.
— Зря ты так, — сказал Водовозов. — Ну и чта из того, что мы меньше тебя здесь служим. Я вот, к примеру, в армии побольше тебя…
— Ладно, отстань.
Читаев отодвинул стакан, взял сигареты и вышел из комнаты.
Шли четвертые сутки поисков. Рота Гогишвили возвратилась, так ничего и не обнаружив.
В полдень Воронцов выехал к начальнику ХАДа полковнику Азизу. Он миновал охрану: двое молодых людей с автоматами узнали и приветствовали его. Воронцов быстро поднялся по каменной лестнице на второй этаж. А наверху уже встречали Азиз и его переводчик Карим. Поздоровались по-европейски, — коротким рукопожатием, без традиционного касания щеками.
— Не уберегли рафик, Воронцов, не уберегли… — Азиз вздохнул и развел руками, мол, что уж тут оправдываться.
— Найдено тело одного из специалистов, Тихова, — мрачно перебил Воронцов.
— Где? — Азиз вскинул брови.
— В трех километрах от города… Саперы обнаружили в кустах. Убит ножом.
Азиз покачал головой, прошелся по кабинету.
— Предположительно мы установили, что акцию осуществляли люди из банды Джелайни.
— Джелайни? — переспросил Воронцов. — Не слышал о таком. Что за человек?
Выслушав переводчика, Азиз как-то странно посмотрел на Воронцова.
— Человек с сильной волей, жестокий, коварный, умный, — неторопливо начал рассказывать он. — Подчиненные уважают его и боятся. В банде пятьдесят — шестьдесят человек — активные штыки. Это — ядро. Кроме того, человек сто — сто пятьдесят из кишлаков в районе Мармуля и Чаркента — резервный слой. Имеют оружие, но участвуют в боевых действиях больше по принуждению… Пленники, скорее всего, увезены в горы.
Азиз подошел к карте и показал своей смуглой рукой три точки.
— Вот предположительно здесь. Горы высокие, много пещер. В ущелье Мармуль создан укрепленный район. Здесь — опорные пункты с позициями автоматчиков, пулеметчиков и минометчиков, наблюдательные посты, есть даже система оповещения. Перед входом в ущелье — контрольно-пропускной пункт. Выдают пропуска на право передвижения по району. Даже есть тюрьма, типография. Печатают антиправительственные и антисоветские листовки. Из допросов пленных нам известно, — продолжал переводчик Карим, — что в бандах есть американские и пакистанские офицеры-инструкторы. Живут и питаются они отдельно. Для них оборудованы комфортабельные подземные укрытия. И еще одно. В Мармуле появился европеец. Говорят, что русский, но не из Советского Союза. Кто он и чем занимается, пока не выяснили.
Воронцов внимательно слушал переводчика, следил за выражением черных глаз Азиза. Говорил он глухим, монотонным голосом. Как и большинство афганцев, Азиз был худощав, смугл, носил усы. Ему было тридцать пять — тридцать семь лет. Еще Воронцов знал, что брат Азиза возглавляет какую-то крупную банду. Братья разошлись по идейным соображениям, даже стали ярыми врагами.
— В Мармуле есть наш человек, — продолжал Азиз. — Правда, с ним трудно поддерживать связь. Будем ждать информации от него.
Раздался телефонный звонок. Азиз снял трубку.
— Алейкум ас салам, рафик Саид Гулям Хейдар, — ответил он.
Воронцов, понял, что звонит первый секретарь провинциального комитета НДПА. Речь шла о специалистах, промелькнуло в разговоре имя Джелайни. И еще одно слово понял Воронцов — «бара-дар» — «брат».
— Первый секретарь интересуется, как идут поиски специалистов, — сказал Азиз, закончив разговор. — А я пока ничего определенного сказать не могу.
Он невесело улыбнулся, пожалуй, впервые за все время разговора.
— Как вы думаете, не переправят ли пленных в Пакистан? — спросил Воронцов, глянул на карту и мысленно отметил расстояние до границы.
— Путь не близкий. Надо идти через Гиндукуш, — заметил Азиз. — Так что пока, думаю, они будут прятать пленников в ущелье, считая, что там их не найдут. Потом, возможно, попытаются переправить специалистов в Пакистан.
— А в случае опасности не уничтожат ли их? — не без чувства тревоги спросил Воронцов.
— Да, операцию мы должны провести быстро и неожиданно, — ответил Азиз. — Иначе возможен и плохой исход.
Воронцов глянул на часы и встал, чтобы попрощаться.
— Может быть, чаю? — вежливо предложил Азиз.
— Нет.
Воронцов направился к выходу. Но тут открылась дверь, на пороге появился директор комбината Джафар. Лицо его лоснилось от пота.
— Вот и Василий Семенович здесь, — по-русски сказал он и тепло обнял сначала Воронцова, потом Азиза.
От Воронцова не укрылось, что Джафар заметно осунулся за последние дни. Глаза его, обычно подвижные, были усталыми, лицо приобрело сероватый нездоровый оттенок. «Переживает», — подумал Воронцов. Джафар почему-то напоминал ему продавцов плова, которых он видел в Ташкенте, — грузных, неторопливых, радушных.
Согласно афганскому этикету Джафар при встрече обязательно подолгу расспрашивал о делах, здоровье, семье. Это получалось у него совершенно ненавязчиво и естественно. Но сейчас он изменил своему правилу.
— Плохо, командир, — стал жаловаться он, — совсем не знаю, что делать. Без советских товарищей работа не идет. Ой, да какая работа — работа подождет, — всплеснул он руками. — На таких хороших людей руку подняли, бандиты, шакалы подлые. Тихова убили, дома семья ждет…
«Откуда он знает? — удивился Воронцов. — Ведь труп обнаружили наши…». Но опрашивать не стал.
— Ничего нового? — задал наконец Джафар вопрос, который его больше всего волновал.
— Пока нет, — коротко ответил Азиз и, подумав, добавил — Предполагаем, что это дело рук Джелайнм.
— А-а, — протянул Джафар то ли сочувственно, то ли испуганно.
— Только разговор остается между нами, — предупредил Азиз.
Джафар обсудил несколько вопросов с Азизом и попрощался. Вышли вместе. Джафар, взяв Воронцова под руку, вдруг предложил:
— Поехали, Василий Семенович, ко мне. Вместе пообедаем.
Воронцов стал отказываться, мол, время слишком напряженное. Но Джафар мягко, упорно настаивал, и тогда он согласился.
— Только позвоню сперва в батальон, окажу, что нахожусь у тебя.
Джафар жил в небольшом двухэтажном особнячке недалеко от центра города. Рядом протекал арык, рукава его ответвлялись во двор. Благодаря этому возле дома прижились несколько тополей. Вышла встречать хозяйка — женщина средних лет в темно-синем платье. Пока она готовила угощение, мужчины прошли в комнату, которая, по всей видимости, служила кабинетом. На стеллажах покоились книги, в углу — письменный стол, рядом — телевизор. На полках Воронцов увидел несколько книг на русском языке: труды Ленина, два томика Шолохова, русско-пушту словарь. Джафар постелил тушак[4] и широким жестом пригласил гостя усаживаться. Воронцов стянул пыльные сапоги, оставил их у входа и сел, подложив под локоть маленькую подушечку. Хозяин дома скинул свой рабочий пиджак, снял галстук и надел поверх белой рубашки ярко расшитый халат.
Жена Джафара накрыла дастархан, принесла большое блюдо с рисом, лепешки, холодную баранину и какое-то темно-зеленое пюре. «Каша из маша», — вспомнил Василий Семенович слышанную где-то складушку. Закончив приготовления, жена Джафара с неизменной улыбкой тихо вышла.
Они неторопливо ¡принялись за еду.
— Что пишет старший сын, как учеба идет? — спросил Воронцов. Он знал, что Сулейман вот уже несколько месяцев учился в Ташкенте.
Джафар расцвел:
— Вчера письмо получил, — и он, кряхтя, поднялся, взял со стола конверт. — Вот, слушай. — Он пробормотал несколько фраз по-пуштунски и начал переводить: — Учеба — трудно очень. Русский язык учу. Много друзей — русские, узбеки. Ташкент красивый, как сказка, сильно нравится. Цветные фонтаны… А, Василий Семенович, есть такое в Ташкенте?
— Не знаю, может быть, и есть. Я в Ташкенте один раз был, и то недолго.
— Вот. Пишет, что у нас тоже будут большие города, колхозы, фабрики, цветные фонтаны. А ты как думаешь, будут? — оторвался от письма Джафар.
— Будут, — ответил Воронцов задумчиво, — если народ сумеете накормить. Будет хлеб у народа — тогда и он пойдет за вами…
— Тяжелое время, — вздохнул Джафар. — Ты, конечно, знаешь, что Джелайни — родной брат Азиза?
— Так это его брат? — изумился Воронцов. — Я знал, что его брат — главарь банды, но не знал имени.
— Да, брат… До этого он был в районе Баглана, а вот теперь у нас объявился.
— Тяжело будет Азизу…
— Ты расскажи, как дочка твоя? — решил сменить тему разговора Джафар.
— Учится на втором курсе медицинского института. Детей лечить будет.
— Хорошая специальность…
Оба замолчали. Воронцов взглянул на часы.
— Торопишься? — понял Джафар.
— Пора.
Воронцов встал, Вместе с директором вышел во двор, к машине. Они тепло распрощались, а Василий Семенович еще раз подумал: «Все же откуда ему известно про Тихова?».
Едва Воронцов переступил порог штаба, как его чуть не сбил с ног дежурный.
— Важные новости. Вот только что прибыл товарищ из ХАДа.
Навстречу шагнул переводчик Карим — помощник Азиза. Воронцов жестом пригласил гостя в кабинет и плотно прикрыл дверь.
— Слушаю вас.
— Несколько часов назад в районе Навруза прошла группа людей. Человек пять или шесть — с оружием, остальные — безоружные. Дехканин из кишлака говорил, что те, кто был с оружием, гнали остальных в горы. Говорит, что это, наверное, пленные.
— Сколько пленных? — быстро спросил Воронцов.
— Человек десять, может быть, пятнадцать, он не считал.
— А в какой одежде: афганцы, русские?
— Говорит, что в нашей афганской одежде.
— Так, — Воронцов выхватил сигарету из пачки, нервно затеребил ее. — Больше ничего не известно?
— Все.
Воронцов выглянул в коридор, крикнул дежурному: — Роту Читаева — по тревоге!
Потом вернулся в кабинет, сел, обхватив голову руками. «Послать с ротой начальника штаба? А стоит ли? Помощник нужен и здесь». Так окончательно и не решив, Воронцов встал и быстро вышел на улицу.
…Роту тревога застала за чисткой оружия. Читаев в суматохе быстрых сборов все же успел подивиться, с какой скоростью солдаты собрали автоматы. Проследить бы по секундомеру на норматив! Лишь щелкали крышки ствольных коробок и магазины, присоединяемые к автоматам, — сразу по два, скрепленные изолентой валетом друг к другу. Кто-то крикнул: «Едем спецов освобождать!». И эта фраза словно наэлектризовала всех.
Подбежал Хижняк.
— Сухпай на сколько дней?
— На трое суток. Получай на всю роту!
Прошло некоторое время, и все выстроились у боевых машин. Читаев начал проверять у каждого оружие, боеприпасы, фляги, индивидуальные пакеты. Курилкина, своего заместителя, осматривать не стал, спросил лишь, на месте ли радиостанция. Тот спокойно кивнул. Солдаты же были чересчур возбуждены. Читаеву это не понравилось: не на прогулку предстояло ехать. «Приключений им хочется», — недовольно подумал он как человек, для которого чувство опасности давно потеряло свой романтический ореол.
— Чему радуетесь, Щекин? — спросил он сердито, заглядывая солдату в сумку. — Магазины все?
— Так точно. Радуюсь, товарищ старший лейтенант, что спецов наших освобождать едем!
— Спецов, спецов… Кто вам сказал это? — недовольно пробурчал Читаев.
— Все знают! — радостно отозвался Щекин.
Читаев дошел до середины строя. Закончил свою половину и Хижняк.
— Все в порядке?
Хижняк кивнул.
Воронцов задачу поставил коротко, попросил, чтобы не рисковали попусту, соблюдали тройную бдительность. На прощание пожелал успеха. Колонна тут же тронулась.
…Такой бешеной езды, да еще в составе роты, Читаев давно не помнил. Он сидел во второй машине. Шоссе петляло, Читаев с тревогой думал о молодых водителях, но скорость не снижал. Потом дорога стала ровнее, справа от нее пошла «зеленка» — зеленая зона — обычное место засад душманов. Читаев подумал, что надо развернуть башенные пулеметы вправо, обернулся назад: все пулеметы уже уставились стволами в сторону зарослей. «Правильно, — мысленно отметил он, — не забывают маршрут». В прошлом году они сопровождали колонну наливников и как раз в этой «зеленке» духи подожгли их автомобиль… Вот он, КамАЗ: почерневший остов, автомобильные кости.
Но вскоре «зеленка» кончилась, и опять потянулись пустынные сопки, вырастающие на глазах в скалистые горы, потом дорога будто обрывалась в ущелье — так неожиданно плотно сдавливали ее устремленные вверх скалы, а серпантин все извивался и извивался среди горных круч. Все это было бы красиво, думал Читаев, даже прекрасно, если бы к восхищениям и восторгам не примешивалось постоянное ожидание опасности.
— Возле развилки свернешь на грунтовку! — скомандовал он Курилкину, который сидел в первой машине.
Минут через десять показался кишлак Навруз. Остановились возле первого дувала. Карим легко спрыгнул с бэтээра и, отказавшись от охраны, пошел прямиком к ближайшей двери в дувале. Прошло несколько минут. Карима не было. Читаев хотел было высылать людей, как дверь в дувале открылась, вместе с почтенным старцем появился Карим. Старик что-то говорил, прижимая ладонь к груди. Наконец Карим распрощался и быстро заскочил на бронетранспортер.
— Ну что? — опросил нетерпеливо Читаев.
— Бандиты здесь были около одиннадцати тридцати. Информация к нам поступила только после трех. Сейчас половина шестого. Значит, прошло около шести часов. Бандиты направились в этом направлении, — Карим показал по карте, расстеленной на коленях у Читаева. — Здесь есть Черная тропа.
— Почему Черная?
— Сам не знаю. Так назвали. Если мы двинемся вслед за бандитами, то вряд ли догоним. Но можно сократить. Мы делаем крюк около сорока километров, — Карим прочертил пальцем дугу, — а здесь подымаемся в горы пешим ходом. Идем навстречу душманам, но можем встретить их, а возможно, и нет. У бандитов есть пещеры, и они захотят там отдохнуть. В горах воевать всем трудно: и тем, кто наступает, и тем, кто отступает. Но путь для отступления часто бывает только один, — изрек Карим.
Читаев согласился с его словами.
— Плохо, что темнеет, — заметил он.
День уже догорал, когда колонна прибыла в указанное Каримом место. Картина предстала перед ними дикая и фантастическая. Пыль, которая только что дымилась, клубилась, вырывалась из-под колес, вдруг улеглась, исчезла, скованная морозным воздухом. Во все стороны простиралось мертвое плато в серых пятнах верблюжьей колючки. Рядом угрюмой стеной возвышались черные скалы, верхушки которых окрашивал холодный рубиновый свет.
«Как на далекой красной планете», — подумал Читаев и зябко передернулся.
Горы, ярко-кирпичные в лучах уходящего солнца, темнели на глазах. Еще больше похолодало.
Читаев собрал офицеров. Хижняк подошел неторопливо, встал рядом с ним. Подбежал Птицын, одернув бушлат и поправив солдатскую шапку. Этот выезд был для него первым, он заметно нервничал, беспрестанно вглядывался в темнеющие горы и давно снял свой автомат с предохранителя. Последним подошел Водовозов. Карим тоже стоял здесь.
— Замысел: выдвинуться в горы, занять господствующие вершины и быть готовыми к встрече с противником, — без лишних слов начал Читаев. — Вершины надо занять до рассвета. Роту разделим на две группы. С первой пойду я и Водовозов, Карим и Хижняк — со второй. До рассвета группы должны занять вершины. В этом случае мы сможем контролировать перевалы и вести наблюдение в общем радиусе около пятнадцати километров. Так, Карим?
Тот молча кивнул.
— Расстояние по прямой между вершинами около десяти километров. Реально же на местности, естественно, больше. Горная тропа, на которой мы ждем духов, проходит между этими двумя вершинами… Охрану уничтожать внезапно огнем из засады.
Надели тяжелые вещмешки с продуктами и боеприпасами, на поясах — фляги, сумки с магазинами и гранатами. Автоматы — на груди.
— Попрыгаем, — оказал Читаев.
Раздалось глухое: гуп, гуп, гуп… Тяжело, но не слышно.
— Хорошо, — удовлетворился Читаев. — И последнее. Подойдите все ближе.
Солдаты послушно сгрудились вокруг него.
— Запомните, особенно те, кто в поиске первый раз. Это вам не прогулка по горам, а боевая операция. За малейшую оплошность, халатность, ротозейство здесь платят жизнью. Каждому зарубить себе на носу: не курить и не жечь спички без разрешения. В ночное время горящий костер виден на расстоянии восьми километров, свет фонаря — на два километра, горящая спичка — на целых полтора километра. Соблюдать строжайшую тишину. И еще одно. Напоминаю, что передвигаться надо, соблюдая правило трех точек опоры, ставить ногу на полную ступню, страховать друг друга. Все. У вас есть что-нибудь? — подчеркнуто официально обратился он к Водовозову.
— Нет.
— У вас? — Читаев повернулся к сержанту Курилкину.
— Есть. Если кто оступится и станет падать, то — не орать. Молча падать. Все равно криком не поможешь, — мрачно подытожил сержант.
Читаев усмехнулся про себя: «Совсем запугает молодых».
— Курилкин, вперед! Ты, Алексей Иванович, пойдешь замыкающим.
Двинулись цепочкой, один за другим. Вначале шли по тропе, но скоро она пропала, начались сплошные камни. Двигаться стало труднее, увеличилась крутизна. Сначала Читаев почувствовал резкую усталость, ноги налились тяжестью, но вскоре тело разогрелось, движения словно сами по себе отрегулировались, пальцы привычно цеплялись за холодные выступы камней, ноги безошибочно находили опору. Впереди легкой поступью шел Курилкин. Он мгновенно, почти машинально определял самый удобный, самый экономный и безопасный подъем, и след в след за ним карабкалась вся группа. Сзади Читаева — хриплое дыхание: Щекин. Вот-вот разразится — кашлем. Он явно еще не вошел в ритм. Ему и потяжелее — за плечами пулемет.
Колонна машин, наверное, уже ушла к центру плато. Кроме водителей и нескольких солдат там лейтенант Птицын и старшина роты.
Читаев взглянул на циферблат светящихся командирских: девятнадцать. Через полчаса надо делать привал.
— Курилкин, — тихо позвал он, — сбавь темп. Людей растеряем.
Стало жарко, пот разъедал глаза, и Читаев сдвинул каску на затылок. «Быстро здесь согреваешься. Только бы никто не загремел вниз…». Мысли вспыхивали разрозненно. Самое главное сейчас — равновесие: за спиной тяжелый мешок.
Через некоторое время Читаев стал чувствовать, что сердце запрыгало, глотка пересохла, в коленях появилась дрожь. Как раз вышли на ровную площадку. Минуты две-три он ждал, пока подтянутся остальные. Пересчитал людей. Двадцать пять. Значит, все.
Наступившая темнота скрадывала высоту, на которую они забрались. Плато не разглядеть. «Где-то сейчас Хижняк и Карим? — подумал он. — Ни черта не видно». Только звезды отчетливо вырисовывались на черном небе.
Сзади Читаева с хрустом покатился камень, и тотчас он услышал одновременный звук падения тела и металлический стук. Еще не обернувшись, Читаев понял: Щекин! Сбросив вещмешок, выхватил из кармана фонарь. Пятно света уперлось в камни, он направил луч ниже. Щекин в немыслимом положении застрял между двух камней, судорожно вцепившись в них руками; глаза широко раскрыты, а рот странно открывался, словно у рыбы, которую вытащили из воды.
— Держись!
Как будто Щекин сейчас раздумывал: лететь ему в пропасть или повременить. Читаев уперся ногой в валун, за который держался Щекин, стал рывками тянуть его к себе.
— Ай, падает, — захрипел Щекин.
— Что?! Держись!
— Да не я! Камень падает…
Только тут Читаев сообразил и убрал ногу с валуна. Пришлось снова включить фонарь, проклиная в душе маскировку и демаскировку вместе взятые.
— А, черт! Как же тебя вытащить?
— Да вы не волнуйтесь, товарищ лейтенант, я крепко держусь, — продолжал хрипло шептать Щекин.
Спустился Курилкин, обвязанный веревкой.
— Вверху держат, — тихо сказал он. — Давайте вместе, товарищ лейтенант.
Они ухватили Щекина; сержант — за шиворот, Читаев — за вещмешок.
— Тяни! — приглушенно скомандовал наверх Курилкин.
Щекин отчаянно засучил ногами.
— Ай, камень…
Курилкин уперся в злополучный камень, который вдруг вывернулся и полетел вниз. Спасла веревка. Курилкин, зависнув наполовину над пропастью, продолжал крепко держать воротник Щекина, Читаев же едва-едва не сорвался вниз, потому что так и не выпускал лямку щекинского рюкзака.
— Тяните же, заснули там! — злым шепотом скомандовал он.
Веревка натянулась еще сильнее. Щекин снова заработал ногами, пытаясь найти опору на гладкой скале.
— Не дергайся, свалимся…
Наверху взялись дружнее, и через минуту Щекина вытащили.
— Ну, Щекин, считай, что в рубашке родился, — перевел дух Читаев.
— Если бы сержант Курилкин тот камень не вывернул, до сих пор бы вытаскивали меня.
— Еще шутишь…
Подошла отставшая часть группы. Последним вскарабкался на площадку Водовозов.
— Привал… Все нормально? — равнодушно опросил Читаев, убедившись, что все на месте.
— Люди на пределе, — хмуро ответил Водовозов. — Штанину вот разорвал.
— Ну, ничего. Щекину вот больше повезло.
— А что случилось?
— Чуть в пропасть не свалился.
Читаев встал, потянулся:
— Пойдем, Алексей, людей посмотрим, подбодрим.
Водовозов с готовностью поднялся.
— Пойдем!
Солдаты устроились прямо на земле: кто свернувшись калачиком, кто сидя, поджав колени и прислонившись к каменной скале. Читаев и Водовозов вглядывались в лица, стараясь угадать, кто перед ними, называли по фамилии или просто по имени.
— Ну как Щекин, оправился после падения?
— Если честно, товарищ лейтенант, то только сейчас испугался… А много еще идти?
— Много.
Когда они направились дальше, пошел довольно густой снег. Водовозов, взглянув на Щекина, сказал:
— Заметил, сам мокнет, а пулемет плащ-палаткой накрыл?
— Заметил. Хороший парень. И солдат толковый.
После отдыха первые метры шли трудно: затекшие, истерзанные ноги не повиновались, ломило спину. Снег прекратился, и в разрывах туч поплыла луна. Теперь в ее лучах открылась совсем иная картина. Снег лег на горы, отчего вокруг оставались только две краски: черная и белая. Белая — расплывчатые пятна, островки на фоне гор, словно нерезкая гравюра. Черный хребет казался наклеенным на звездную карту неба.
Читаев снова стал опасаться, что они не успеют занять вершину, что с восходом солнца все может быть намного сложнее. Успокаивало только то, что они не сбились с пути, а это было немудрено в глухой блокаде гор. Особенно радовало, что никто не сорвался вниз и не покалечил себя в кромешной тьме.
— Командир, обрыв.
Это Курилкин.
— Давай вещмешок и автомат. Посмотри, может быть, есть где-то обход.
Курилкин молча снял вещмешок, автомат перевесил за спину. «Толковый парень, — с теплотой подумал вдруг Читаев. — Хоть сейчас лейтенанта присваивай. Жаль, весной уходит в запас».
Курилкин спас ему жизнь. Случилось это прошлым летом. Жара стояла обычная: зашкаливало за сорок в тени. Взвод еле плелся, всю воду давно выпили, последняя фляга — НЗ висела у Читаева на поясе. По пути был кишлак. Возле колодца он объявил привал. Тут же все бросились наполнять фляги, побросали туда, как водится, таблетки пантоцида и стали ждать, тюка растворятся. Самые мучительные минуты… Потом все произошло так быстро и неожиданно, что Читаев не успел ничего толком понять. Курилкин, стоявший рядом с радиостанцией за плечами, вдруг как-то резко и судорожно повернулся, Читаев еще не успел удивиться его сгорбленной позе, гримасе на лице, как грохнул выстрел. Курилкин пошатнулся, но удержался. Тут же раздался крик: «Душманы!», защелкали затворы. Все стали бить очередями по дувалу, по каждому отверстию в нем, пока Читаев наконец не заорал: «Отставить!» Душман-одиночка наверняка давно скрылся в кяризе[5]. А искать его там — дело гиблое.
Пуля застряла в железных внутренностях радиостанции. Ее потом выковыряли. Знатоки определили: из английского карабина.
— Возьми на память, — предложил Читаев, протягивая пулю.
На ладони лежал кусочек сплющенного желтого металла. Мертвая пуля…
Но Курилкин, прищурившись, усмехнулся:
— Оставьте себе. Она ведь вам предназначалась.
Читаев потом размышлял: заслонил ли его Курилкин, если бы радиостанции за спиной не оказалось? И вообще, закрыл он его как командира — как требует соответствующий устав, или же сержант рисковал конкретно ради лейтенанта Читаева? Так и не смог разобраться. Он как-то сказал своему спасителю: «Будем в обращении на «ты». Ведь теперь мы как братья». Курилкин не удивился такому предложению, молча кивнул большой стриженой головой. Но по-прежнему был строго официален и обращался только на «вы».
…Тяжелым шагом подтягивались отставшие. От Читаева не укрылось, что коренастый Цыпленков с длинными, как весла, руками нес уже два автомата, а Братусь, хоть и был теперь налегке, едва волочил ноги.
— Привал пять минут, — объявил Читаев.
Братусь тут же повалился. Цыпленков же не спеша снял с себя автоматы, вещмешок, после чего аккуратно уселся.
Подошел Водовозов, молча опустился рядом с Читаевым.
— Как самочувствие?
— Порядок. — не открывая глаз, ответил тот.
Курилкин вернулся с плохими новостями: пропасть обойти невозможно, выше — отвесные скалы. А возвращаться, чтобы искать обходной путь, — значит терять время.
— Скала высокая?
— То ли три, то ли четыре метра, а может быть, еще больше. В темноте не разберешь.
— Возьми веревку. Пойдем посмотрим. Цыпленков, за мной.
Картина открылась неутешительная. Внизу чернела пропасть. Вверху — почти отвесная стена. В темноте было неясно: можно или нет зацепиться за нее, чтобы забраться выше.
— Вот тебе и бабушкин компот, — ощупывая скалу, удрученно пробормотал Читаев. — Придется посветить.
Яркий луч выхватил сырой сланец скалы. Читаев посветил выше. Там виднелся уступ, а еще выше — площадка.
— Надо попробовать. Ты меня подсаживаешь, я становлюсь тебе на плечи. Потом подтолкнешь руками. В случае чего — Цыпленков поможет.
— Может быть, я полезу? — предложил Курилкин.
— Нет, я полегче.
Читаев скинул бушлат, быстро обвязался альпинистским узлом. Курилкин, опустив руки, сцепил пальцы между собой, чтобы лейтенанту сподручнее было забраться ему на плечи.
— Погоди, ботинки сниму.
Читаев решительно стащил ботинки, затем — шерстяные носки и перчатки.
— Ну, все. Теперь как снежный человек.
Сержант довольно легко подкинул его, в следующую секунду Читаев был на его плечах. Нащупав какой-то выступ на скале, он ухватился за него. В этот момент Курилкин подставил ладони, Читаев встал на них и подтянулся. Сержант выпрямил руки, Читаев почувствовал, как они дрожали. В следующую секунду он уже нашел выступ для ноги, оторвался от ладоней сержанта. В этом положении и замер, стоя на левой ноге и держась за выступ одной рукой. Мучительно долго он пытался найти опору для второй ноги, но лишь скользил по сланцевым морщинам. В какой-то миг Читаеву показалось, что он теряет опору. Внутри захолонуло. Если сейчас рухнет, то не удержится на узкой тропке, полетит вниз.
Из последних сил Читаев подтянулся и тут же нащупал ногой выступ, который находился выше. Страх прошел, только сердце еще напоминало о нем учащенным ритмом. Распластавшись по стене, он прошел чуть вправо и здесь влез на ровную площадку.
— Ну как? — услышал он тревожный шепот снизу.
— Давай, — сказал Читаев, дернув свой конец веревки.
— Держите крепче, лезу.
— Да нет, сначала ботинки, автомат и бушлат…
Читаев закрепил веревку. Первым залез Курилкин. Вдвоем они быстро вытащили наверх сначала снаряжение, затем всю группу. Читаев пересчитал людей и объявил краткий привал, а сам связался по рации с Хижняком. У него все было в порядке.
Поднимались трудно, и Читаев, подгоняя солдат, не сдерживал злости. «Пусть обозлятся, хотя бы на меня, — думал он. — Со злостью идти легче». Хуже всего было то, что промокли бушлаты. Они стали тяжелыми, и тело в них неприятно прело. Читаев изредка светил фонариком в карту. Только бы не сбиться с пути. «Кажется, все правильно. Идем вдоль хребта. И скоро должен быть еще один подъем».
Читаев подсчитал. Они шли уже целых восемь часов! Странно, но это открытие не только не расслабило, а, наоборот, подстегнуло Читаева, он почувствовал прилив новых сил.
Все чаще приходится останавливаться: надо ждать отставших. Щекин — тот сразу же падает на камни. Кроме Цыпленкова два автомата несет Мдиванов — невысокий стройный кавказец. Братусь идет предпоследним, покачивается на полусогнутых ногах, цепляется руками за выступы, словно пьяный. Каждый шаг ему дается с огромным трудом. Сзади идет Водовозов и время от времени подталкивает Братуся в спину. Эти толчки сотрясают его, и кажется, что вот-вот он потеряет равновесие и рухнет плашмя. Но Братусь делает более широкий шаг вперед и падает. С мученическими усилиями он встает на колени, затем выпрямляется.
— Полностью деморализован, — сообщает Братусь таким тоном, что не ясно, к кому это относится.
— Братусь, ты почему в конце? Ты же был в середине колонны.
— Отстал, — хрипло выдавливает солдат.
— Зря. Иди вперед. Будешь вести колонну.
Братусь останавливается, надеясь на передышку, но лейтенант безжалостно командует «Вперед». Минут десять солдат идет, спотыкается и беспрестанно падает, и, наконец, валится замертво.
— Вставай, черт бы тебя побрал, — Читаев зло ругается, хватает Братуся за шиворот.
— Все, не могу больше, лучше оставьте меня, — хрипит он.
— Ты что надумал, негодяй! — Читаев резко дергает Братуся за воротник, рискуя оторвать его. — Остаться здесь — значит подохнуть.
Колонна уходит вперед, и Читаев окликает последнего:
— Передай Водовозову, пусть остановится.
— Вставай! Я приказываю! — снова начинает трясти Читаев. — Боевую задачу срываешь.
Подходят Водовозов и Курилкин.
— Готов? — мрачно спрашивает Алексей.
— Не ори… — сдерживает себя Читаев.
— Товарищ лейтенант, разрешите?
— Чего?
— Я подыму его. Ручаюсь. Через минуту будет идти, — мрачно обещает Курилкин.
— Сомневаюсь…
— Я с ним по-свойски поговорю.
Читаев молча кивает, и они вместе с Водовозовым идут к голове колонны. Не сговариваясь, оба оборачиваютсря. Братусь уже стоит, прислоненный к скале. Курилкин еще что-то говорит ему.
…Читаева уже несколько раз подмывало объявить привал, но он каждый раз заставляет себя прогнать эту мысль. Группа идет, и главное, идет Братусь.
Уже начало светать. Ветер усилился. Обледеневшая одежда хрустела и скрипела, словно была сделана из тонкой фанеры. Небо теряло свою вселенскую глубину и постепенно бледнело. И чем светлее оно становилось, тем больше Читаева разбирало сомнение: а в том ли направлении они идут? Когда же рассвело настолько, что стали различимы дальние серые скалы и такого же цвета лица его подчиненных, он приказал остановиться.
— Оставьте вещмешок, — сказал Читаев Курилкину. — Слазим наверх, сориентируемся.
Они взобрались на гребень и залегли. Читаев достал карту, потом долго всматривался в бинокль. Перед ними лежала долина и горный хребет. Читаев оглянулся, снова посмотрел на карту и, тихо выругавшись, оказал:
— Так и есть. Сбились.
Курилкин молча посмотрел на лейтенанта.
— Сбились, — повторил Читаев. — Мы сейчас находимся вот здесь, — он ткнул пальцем в карту. — А надо быть здесь… Вот она, наша вершина.
— Кажется, рукой подать, — проговорил Курилкин без энтузиазма.
— По прямой — километра три, а реально, считай, все пять.
Они спустились к группе. Люди лежали вповалку. Стало совсем светло, и Читаев мог разглядеть каждого. Сейчас все были очень похожими в своих одинаковых грязных бушлатах и таких же штанах. Кое-кто из молодых опустил уши от шапок, многие уже забылись в коротком сне. Читаеву это не понравилось.
— Кто разрешил спать?
Водовозов пожал плечами. Курилкин тактично отошел от офицеров и стал подымать спящих.
— Блуканули немного… Наша вершина там, за хребтом. Километров пять-шесть будет.
— Половина людей уже готова, — мрачно отреагировал Водовозов.
— Ерунда.
Водовозов заметно сдал и, видно, с трудом сдерживался, чтобы не свалиться и забыться мертвым сном.
Читаев потребовал к себе радиста. Подошел рядовой. Вилкин, обреченно сгорбившийся под радиостанцией. Он стал снимать свой тяжелый короб, но не совсем ловко перехватил ремни и грохнул радиостанцию о землю.
— Осторожней, агрегат загубишь! — разозлился Читаев.
Вилкин включил радиостанцию и стал монотонно повторять:
— «Нарзан-1», я — «Нарзан-2». Прием.
— Ну что?
— Не отвечают.
Читаев сам сел за радиостанцию. Проверил частоту, ток в антенне… Связи не было. Он приказал продолжать вызов, а сам направился к подчиненным. Все уже были разбужены, сидели угрюмые и молчаливые.
— Осталось совсем немного, потерпите, — повторял Читаев, обходя солдат. — Сейчас быстро подкрепимся сухпайком. Через пятнадцать минут выходим.
— Ну что? — спросил он, вернувшись к радисту.
— Ничего.
Читаев достал банку с рисовой кашей, стал выковыривать штык-ножом холодные смерзшиеся куски. «Не поймешь, что со связью. Наверное, расстояние».
— Что, сломалась? — подошел Водовозов.
— Тишина… Вызывай командиров отделений.
Водовозов встал и махнул рукой.
— Курилкин, Бражниченко, Мдиванов — к командиру.
— Да не маши ты руками, — поморщился Читаев.
— А что такое? — недоуменно вскинул брови Водовозов.
— А то, что таких машущих в первую очередь вычисляют, — пояснил Читаев.
— Как это — вычисляют? — снова не понял Водовозов.
— Плавным нажатием спускового крючка, — усмехнулся Читаев. — Духи сначала стараются ликвидировать командиров. А так как форма у всех нас одинаковая, то выбирают тех, кто…
— Ну, понял, понял, — перебил Водовозов. — Учту.
— Учти… Сейчас будем спускаться. Группу делим на две части.
Читаев уже решил, что с первой группой пойдет сам. Вторая же, во главе с Водовозовым, будет оставаться здесь до тех пор, пока они не займут вершину.
— Ну, давай, в случае чего — прикрывай, — тихо сказал Читаев и ткнул Водовозова в плечо.
Читаев шел первым. Вещмешок, как живой, раскачивался у него за плечами, когда он переходил на бег, ноги в коленях дрожали от напряжения. Он несколько раз падал на спину, снова вскакивал. Падали и солдаты. Он слышал шум, но уже не оборачивался. Читаев тревожно и цепко вглядывался в горы, старался высмотреть. не блеснет ли где холодным металлом потертый ствол, не мелькнем ли чалма за камнем. Хотя по опыту знал, что первый выстрел всегда неожиданный.
Так и случилось. Они уже спустились в ущелье, прошли его и только начали подъем, как вдруг где-то рядом свистнуло, а потом словно прорвало: одиночные винтовочные выстрелы, дробь автоматных очередей.
— Ложись! — крикнул Читаев что есть силы, Он успел заметить, что огонь ведут оправа. Но тут же точно определил, что выстрелы доносятся и слева. «Рассредоточиться! Надо рассредоточиться». Читаев осторожно оглянулся.
— Пулеметчик! Живо за скалу.
Щекин лежал почти на открытом месте. Но только он вскочил, как рядом с ним брызнула Каменная крошка.
— Щекин, ползком! — с мольбой в голосе крикнул Читаев.
Солдат пополз. Выстрелы смолкли. Читаев осторожно приподнялся. Все залегли, вжавшись в камни, кое-кто уже переползал осторожно, стараясь выбрать более удобную и защищенную позицию. Лучше всех укрылся Курилкин — в неглубокой расщелине. Видна была лишь его голова и ствол автомата. Читаев еще приподнялся, намереваясь проскочить пять-шесть метров до удобного места, но рядом щелкнула пуля и осколки сланца больно посекли ему лицо. Он тут же упал. Влипли.
В минуты опасности Читаев научился принимать решения трезво и быстро. Он как будто переключался на особый режим. Инстинкт самосохранения не мешал думать и действовать хладнокровно. Этому он научился в Афганистане, и, пожалуй, это было одно из самых ценных приобретений за последнее время.
Читаев понял, что огонь ведут с трех высот. Опоздали…
А вдруг это совсем иная банда? И специалистов ведут по другой дороге… Да и были ли они здесь?
— Курилкин, спроси по цепи: все целы?
— Все! — раздалось через минуту.
Патронов по пять магазинов, плюс россыпью по двести штук у каждого, по две-три гранаты. До ночи продержимся. Да и Водовозов поддержит.
Только сейчас Читаев вспомнил о его группе. Наверное, потому, что они не сделали ни одного выстрела. Или же сработала привычка рассчитывать только на свои силы? «Почему они не стреляют? — думал Читаев. — Не хотят палить попусту? Да и что может сделать Водовозов? Спуститься вслед за нами?» Читаев лежал в неудобной позе, скрючившись за булыжником, острый камень упирался в бок. Он хотел вывернуть его из земли, но камень не поддавался. «Можно разделиться. Хотя последнее время мы только и делаем, что делимся… Одна половина скрытно выдвигается на левую гору, другая — на правую. Обе бьют душманам в тыл. Вряд ли они численно превосходят нас. Правда, на это потребуется много времени. Но его пока хватает…»
— Радист! — снова крикнул Читаев. — Где радист?
— На левом фланге.
— Я, — негромко отозвался Вилкин.
В это время слева раздалась очередь. Потом прозвучало несколько выстрелов с центральной вершины. Отрывисто отозвался автомат Курилкина. Читаев пока не стрелял.
— Радист! — снова крикнул он. — Связь есть?
— Нет связи, — передали ему по цепи.
Читаев негромко чертыхнулся.
— Пусть вызывает.
— Не могу! — крикнул Вилкин. — Пуля радиостанцию пробила.
— Эх!.. Хоть бы не кричал об этом.
Он подумал, что солдат наверняка оставил радиостанцию на открытом месте или, того хуже, сам укрылся за ней, а душманы не дураки, всегда первым делом стараются лишить противника связи.
Солнце подымалось все выше. Тень, как покрывало с обелиска, сползала с заветной вершины. Читаева это радовало: пусть душманов хорошенько высветит. Теперь солнце будет бить им прямо в глаза. Он резко вскочил и в несколько прыжков добрался до Курилкина, рухнул на него сверху.
— Засек одного, — сообщил сержант. — Сидит вон под той нависшей скалой. Рядом что-то вроде тропинки.
— Понял, — сказал Читаев, глянув в ту сторону. — Не давай ему башки поднимать… И слушай меня внимательно. Если что — берешь командование на себя. Я перемещаюсь к центру. Будем перестраивать боевой порядок полукольцом. Душманы наверняка попытаются подойти поближе. Ты остаешься командовать на правом фланге. Ну, все. Прикрой меня.
Он вскочил из расщелины и, пробежав несколько шагов, залег. Пули просвистели над самой головой. «Бьют точно», — заметил Читаев. Тут же в ответ кто-то выпустил длинную очередь.
Рядом копошился Щекин. Он как-то странно изменился, но Читаев не понял, в чем была эта перемена.
— Пулемет готов? — спросил он.
— Готов, — ответил Щекин, — только позиция неудобная.
— Хорошо, — сказал Читаев, не дослушав. — Давай перебежками вслед за мной.
Он пробежал десять шагов и упал рядом с радистом. Солдат виновато молчал. Читаев внимательно осмотрел пробоину.
— В прошлый раз прямо в шкалу попала, — задумчиво сказал он.
Солдат не поднимал глаз, и Читаев подумал, что тот ждет от него разноса за радиостанцию. Но когда Вилкин повернул к нему лицо, Читаев увидел круглые застывшие глаза. Руки, вцепившиеся в цевье автомата, мелко дрожали.
— Ты что, испугался? — как можно спокойней спросил он. — В тебя же не попали.
— Десять сантиметров в сторону — и убило бы, — прошептал солдат.
Он попытался улыбнуться, но вышла гримаса, щека дернулась, его стала бить нервная дрожь.
— Убьют, всех убьют! — вдруг с надрывом взвизгнул он.
Читаев понял, что избрал не тот тон, и зло рявкнул:
— А ну возьми себя в руки! Угробил радиостанцию, у самого ни царапинки, а готов в штаны от страха навалить.
Радиста продолжала колотить дрожь, и Читаев слегка шлепнул его по спине. Как ни странно, дрожь прекратилась.
— Можете использовать в качестве бруствера, — кивнул он в сторону покореженной радиостанции и уже спокойно добавил — Минут через пять — перебежками в сторону осыпи. Займете там позицию… И не бойся, не убьют. Можешь мне верить.
Вилкин с тоскливой надеждой посмотрел на командира.
Ветер выгнал из низин последние клочки тумана. Тени оползли, пропали куда-то, солнце добралось наконец и до них. Читаев затылком ощущал его тепло. В паузах между выстрелами тишина была пронзительно-звенящей, и все сильнее накатывалось щемящее чувство тоски.
Рядом плюхнулся Щекин со своим пулеметом. Лицо солдата было в пыли.
— Страшно? — спросил Читаев.
— Страшно, — признался Щекин.
Только сейчас понял Читаев, что удивило его в лице солдата. Нет, это не из-за страха. Его поразили веснушки и совершенно чужой, напряженный взгляд. «Неужели так быстро взрослеют?» — подумал он.
— Щекин! Видите три валуна впереди, чуть ближе — выемка? Там ваша позиция. Сделайте бруствер. Камни рядом. Все ясно?
— Все…
— Патроны зря не жгите.
Щекин пополз, а Читаев крикнул, чтобы левый фланг продвинулся левее и назад. «Полукругом!» — приказал он дважды. Бражниченко, который командовал там, понял его правильно.
Теперь, когда боевой порядок был перестроен, Читаев снова ощутил чувство тревоги. Тишина, казалось, испытывала нервы на прочность. «Почему не стреляют? — думал он. — Значит, что-то затевают?». Здесь, среди камней, они могут продержаться час, два, три… Если ничего не изменится, можно будет дождаться темноты и уйти.
На затаившейся горе мелькнула фигурка и снова исчезла за камнями… Еще одна — короткой перебежкой вниз. «Спускаются. Уразумели, что с вершины нас не достать», — подумал Читаев и почувствовал, как дрожит рука на цевье. Он крепче сжал автомат, выдохнул и поймал в прицел камень, за которым только что скрылся душман. «Раз, — начал считать он, медленно нажимая на спусковой крючок, — два, три…». Душман не появился. Читаев снова перевел дыхание. Воздуха хватало ненадолго. «Раз, два, три…». Он нажал спуск. Фигурка судорожно переломилась и вновь исчезла.
— Духи спускаются] — резким, высоким голосом крикнул Читаев. — Прицел постоянный. Огонь!
У каждого палец и так плясал на спусковом крючке.
«Эх, матери не написал», — подумал он с сожалением.
Очереди, будто огрызаясь, разорвали тишину с разных сторон. Читаев наблюдал. В какое-то мгновение он почти физически ощутил, как сжимается кольцо окружения.
— Бача-а-а![6]
Резкий, дразнящий крик раздался неожиданно и как-то нелепо в этой обстановке, вслед за ним тут же загремела длинная очередь. Курилкин!
С горы ответили очередью.
— Эй, бача-а-а! — вновь закричал Курилкин, и снова трассеры веером пошли вверх.
«Бача» закричал в ответ что-то гортанное и хриплое и тоже послал длинную злую очередь.
«Странная выходка», — подумал Читаев, ловя на мушку мелькнувшую чалму. Нет, стрелять надо расчетливо, без эмоций. Он нажал спуск. Чалма скрылась. Тут же он услышал, как два раза тонко свистнуло, он пригнулся ниже, потом, резко повернувшись корпусом, перекатился через спину и снова изготовился уже с другой стороны валуна. Здесь был лучше обзор. Он потер коченеющие пальцы и прицелился. Душман, за которым следил Читаев, выскочил из-за камня и, делая огромные прыжки, устремился вниз. А через мгновение, уже сраженный пулей, летел кубарем. «Готов», — подумал он со смешанным чувством злорадства и удивления.
С горы продолжали стрелять. Читаев снова прицелился, но вместо очереди раздался сухой щелчок. Он выругался, отсоединил спаренные магазины: оба были пусты.
— Бача-а! — пронзительный крик Щекина и вторящая ему длинная очередь из пулемета.
«Понравилось!» — усмехнулся Читаев.
— Не высовывайся, герой!
— Есть не высовываться!
Читаев опять вспомнил о Водовозове, потом — о группе Хижняка. Куда они все подевались? Хорошенькое дельце — готовили засаду душманам и сами угодили в огневой мешок.
— Убило! Братуся убило!
Крик оборвал мысли, он вскочил, забыв об опасности, и припустил на левый фланг. Запоздало раздались очереди. Он бросился плашмя, потом снова вскочил, кожей чувствуя, как близко проносятся пули.
Братусь лежал в тени большого камня, уронив голову на руки. Рядом лежал его автомат. Шапка сбита на затылок. У Читаева сжалось сердце. Однажды он видел убитого — точно в такой же позе.
На теле Братуся ран не было. Читаев осторожно повернул его лицом вверх, ожидая увидеть кровь. Неожиданно Братусь вздрогнул и открыл глаза.
— Что с тобой? — оторопел Читаев.
— Ничего. Зевнул немного, — хрипло ответил солдат.
— Заснул?! — от возмущения Читаев поперхнулся. — Идет бой, а ты заснул! Да если б я не был твоим командиром… Да ты знаешь, что за это полагается? Устроился в тени, нашел себе ямку, а другие отстреливайся, защищай его!
Братусь моргал, будто соринка в глаз попала. Половина лица была в грязи. Читаева стал разбирать смех. Он засмеялся сначала тихо, потом все громче и громче, выстрелы в это время смолкли, и оттого смех звучал непривычно и странно.
Братусь уже не моргал — смотрел широко открытыми глазами.
Сапрыкин ворочался на холодном каменном полу и пытался уснуть. В памяти всплывало то перекошенное от злобы лицо Модира Джаграна, то пытливые глазки европейца, то дрожащие руки Тарусова. Подвал, в котором их заперли, был сырым, глухим и длинным, как засыпанная штольня. Афганская одежда — пиран и туммун — рубашка и штаны из грубой хлопчатобумажной ткани, которые им дали вместо отобранной одежды, почти не грела. Сапрыкин сел, прислонившись к каменной стене, поджал неги и обхватил колени. Так, кажется, теплее.
Дом, в который их привели вчера, стоит на окраине кишлака. Они вошли в большую, жарко натопленную комнату. На стенах и полу — ковры. Хозяин, грузный человек лет сорока в атласной синей рубахе и белой чалме, сидел на подушках и неторопливо пил чай. У окна стоял молодой человек в больших круглых очках. Несмотря на афганскую одежду, в нем безошибочно угадывался европеец. «Иисус» тоже находился здесь.
Первым заговорил хозяин. Европеец стал неторопливо переводить на довольно чистом русском. При этом он зачем-то поглаживал свое розовое безбородое лицо.
— Вы все захвачены как заложники и будете в плену до тех пор, пока кабульское правительство не выполнит предъявленные ему требования. В противном случае вы будете уничтожены.
Какие это требования, хозяин не сказал. Он назвал еще свое имя — Модир Джагран, самодовольно подчеркнув, что оно хорошо известно на севере Афганистана. Потом европеец раздал всем листки бумаги и потребовал их заполнить.
Салдыкин повертел бумажку. На ней от руки были написаны вопросы. Все с выжиданием смотрели на него.
— Пишите что-нибудь, — сказал он негромко.
— Что-нибудь — не надо, — холодно заметил европеец. — Пишите правду.
Сапрыкин пожал плечами, взял шариковую ручку. В графе «фамилия» он написал первое, что пришло в голову: «Петров Владимир Николаевич». Место жительства указывать не стал, а в графе о вероисповедании поставил прочерк. «Являетесь ли членом КПСС?» Сапрыкин подумал и написал «да». В последнем пункте спрашивалось: для чего прибыл в Афганистан? Сапрыкин быстро написал: «Для помощи афганскому народу в строительстве комбината» и отдал бумагу.
— Петров Владимир Николаевич, — прочел европеец и что-то спросил у «Иисуса».
Тот усмехнулся, встал, подошел к Сапрыкину.
— Сап-рикин, — сказал он, ткнув его пальцем в грудь. — Сафар, — показал он на Наби.
Остальных называть не стал, наверное, не знал. Хозяин зашевелился, ущипнул бородку и что-то сказал.
— Вы находитесь на территории Афганистана, поэтому должны принять ислам, — перевел европеец.
— Разве есть такой закон, по которому иностранец, приехавший в Афганистан, должен принимать чужую веру? Мы — гости у вас и приехали вам помогать. Вы сами это знаете. Разве адат позволяет так обращаться с гостями?
— Вы пленные враги, — перебил европеец. — И помогаете правительству, которое идет против аллаха.
— Афганское правительство, насколько я знаю, ни в чем не препятствует верующим, — возразил Сапрыкин, но Модир Джагран даже не дослушал перевод.
— Последний раз спрашиваю: согласны ли принять ислам?
Все молчали.
— А ты, Сафар? Ты же мусульманин? — обратился Модир к Сафарову на пушту.
— Мой народ исповедовал ислам. Сейчас веруют только старики. Я же никогда не верил в аллаха и, конечно, верить не буду.
— Ты пожалеешь об этом.
— Господин Модир Джагран сказал, что вы все пожалеете о своем поступке, — бесстрастно повторил европеец.
На следующее утро вновь вызвали на допрос. На этот раз в комнате находилось двое: европеец и охранник с автоматом.
Европеец доверительно сообщил, что вера в ислам его совершенно не интересует.
— Бесполезно заставлять взрослых людей верить в то, что они не признают.
Сказав это, он встал и, потирая руки, хотя в комнате было жарко, стал ходить взад и вперед. Он представился, назвав себя Мухаммедом, рассказал, что в свое время жил в Ташкенте, а сейчас работает здесь, изучает особенности ислама в Афганистане.
— Что-то ты не похож на Мухаммеда, — криво усмехнулся Сафаров.
— Что вы сказали? Ах, не похож! — он засмеялся мелким дребезжащим смешком. — Может быть, может быть…
Мухаммед говорил тонким высоким голосом, торопливо, словно боясь, что его перебьют и не дадут досказать. Иностранный акцент в его речи почти не чувствовался. Говорил он, что «истинные борцы за веру отстаивают свободу и независимость Афганистана», что у этих борцов — муджахедов — много друзей на Зашаде. Потом он без всякого перехода начал рассказывать о «благородной деятельности» народно-трудового союза, сунув всем в руки журналы и листовки на папиросной бумаге.
«Соотечественники! Народно-трудовой союз призывает вас покинуть пределы свободолюбивого Афганистана… Вступайте в ряды НТС», — пробежал глазами Сапрыкин и положил листовку на пол.
— «Посев», — громко, с ноткой торжественности прочел Сафаров. — То-то здесь запахло медицинскими анализами… Теперь понятно, откуда ты, эмигрантский ублюдок!
Сафаров медленно поднимался с пола. Энтеэсовец закричал, подскочил охранник, ткнул Сафарова стволом в грудь и тут же отскочил, держа автомат наготове. Но Сафаров уже сел.
— Так, друзья, — продолжал Мухаммед голосом преподавателя, восстановившего тишину в аудитории. — Почитайте это. А завтра мы обсудим план наших совместных действий. Будете делать, что вам скажут, получите большие деньги. С нами лучше, чем с душманами. Мы — европейцы, поймем друг друга. А эти вандалы с вами церемониться не будут, на кол посадят. Они умеют, — последние слова он произнес с явным удовольствием.
Их снова закрыли в подвале. Прошло несколько часов. Стихли наверху шаги и голоса. «Уже ночь», — думал Сапрыкин, чувствуя безысходность и пустоту. Неужели в этом темном и сыром погребе истекают последние часы? Обидно. Предателем он, конечно, никогда не станет. Значит, выбор один. Печально подводить итог, когда нет сорока, и чувствуешь себя как никогда полным сил, опытным, знающим жизнь. Знала бы сейчас Маша, где он. А может быть, уже сообщили? Да нет, вряд ли. А Сашка — уже девятиклассник…
Рядом заворочался Шмелев.
— Не спишь, Игорь?
— Нет.
— Что скажешь завтра этому хлюсту?
— Пошлю его куда-нибудь…
— Знаешь, чем это грозит?
— Знаю, Иван Васильевич. Только зачем вы это спрашиваете?
— Хочу знать, что не одинок.
— О чем вы, Иван Васильевич? — раздался голос Сафарова. — Ни к душманам, ни к энтеэсовцам у нас пути нет.
Неожиданно все заговорили. Оказывается, никто не спал.
— Тише, товарищи, — попытался успокоить всех Сапрыкин. — Давайте решать. Утром придут за ответом.
— Да что тут решать!..
— Нет, я хочу знать мнение каждого, — перебил Сапрыкин.
— Сафаров, тебе слово.
— Лучше сдохнуть, чем продаться…
— Шмелев!
— Родину не продаю.
— Тарусов!
— А я что, хуже всех?
…Сафаров был не совсем прав, посчитав Мухаммеда эмигрантским отпрыском. Конечно, никаким Мухаммедом тот никогда не был. Родился он во Франкфурте-на-Майне. Отец его, Николай Ритченко, в свое время служил гитлеровцам — сначала как обычный полицай, потом — преподавателем разведшколы в Гатчине. Когда Красная Армия поперла оттуда его хозяев, папаша ушел вместе с ними и верно служил им уже в Берлине. Формировал разведывательно-диверсионные группы. В конце войны Николай Ритченко дослужился до чина обер-лейтенанта и мудро смекнул, что настала пора менять хозяев. Причем как можно быстрее. Вышел он на американцев. Эти ребята орденов не давали, но всегда хорошо платили.
Ритченко-младший, наследственный антисоветчик, разрабатывал далеко идущие планы и почти не сомневался в успехе.
…Утром в подземелье вновь сбросили лестницу. Наверху пленников ждал Ритченко со своей неизменной улыбкой. Он сразу начал:
— Я пришел за ответом. Кто из вас готов сотрудничать с нами? — взгляд маленьких глаз из-под очков скользнул по лицам.
Еще вчера узники договорились, что отвечать будет Сапрыкин. И Иван Васильевич негромко, но твердо сказал:
— Предателей среди нас нет.
Улыбка мгновенно слетела с лица энтеэсовца, он процедил:
— Что ж, пожалеете! Сами подписываете себе смертный приговор…
Через несколько минут после того, как их снова посадили в подвал, люк открылся, наверх вызвали Сапрыкина. На всякий случай он попрощался с товарищами.
Ритченко, уже успокоившись, вновь улыбался.
— Вы умный человек, авторитетный, — начал он, — и должны понимать, что перед вами дилемма между бытием и небытием. Ведь вы же марксист, член компартии? Там, — он показал наверх, — ничего не будет. Жизнь только одна — здесь. У вас все шансы ее лишиться. Вы ведь знаете этих изуверов…
Сапрыкин перебил:
— Я уже сообщил свое решение. Объяснять, почему решил так, не собираюсь.
— А вы объясните, объясните, — заторопился Ритченко. — Вот давайте вместе поразмышляем.
— Нечего мне объяснять. Вы человек без Родины. А чтобы понять меня, надо ее иметь.
— Ну, хорошо. Острим, как говорится, высокие материи. Вот магнитофон. Прочтите этот материал. Взамен гарантирую свободу. В тексте ничего особенного нет. Скажете: заставили.
Сапрыкин молча отвернулся. Следующим вызвали Тарусова.
— Смотри, Тарусов, — предупредил Сафаров.
— Заткнись! — Тарусов сорвался на крик.
Он тяжелее всех переносил плен. От сознания бессилия и обреченности ему хотелось выть и кричать. Единственное, что еще как-то удерживало его, — это присутствие товарищей. Тарусов завидовал отчаянному и сильному Сафарову, спокойному и твердому, как скала, Сапрыкину, смелому и жизнерадостному Шмелеву. Они не боялись. А Тарусов боялся. При одном только виде душманов и особенно чернобородого «Иисуса» его начинала колотить нервная дрожь. Он пытался взять себя в руки, но все тщетно. Единственное, что мог, — не глядеть в жестокие глаза своих мучителей, в которых поначалу старался найти хоть каплю сострадания. Очкарик-энтеэсовец вызвал у него отдаленное чувство надежды. Все же это был европеец, цивилизованный человек, и Тарусов вдруг почуял, что здесь может крыться путь к свободе. Каким образом, он не представлял. Ему казалось, что европеец способен к сочувствию, он может повлиять на бандитов. Тарусов верил в него с отчаявшейся надеждой. Но потом с ужасом стал понимать, что за внешней интеллигентностью и гуманностью европейца кроется нечто худшее, чем душманский плен, и он уже со страхом и ужасом воспринимал мягкую настойчивость очкарика, страшась поддаться на его хитроумные посулы.
Тарусов взбирался по лестнице как на эшафот, на котором еще не лишают жизни, но отнимают право на все свое прошлое. И в эти короткие мгновения он подумал: «Только бы не пытали», а в следующую секунду встретился глазами с Ритченко. Тот улыбался, но глаза из-за очков смотрели холодно, рука привычно поглаживала розовое лицо. Тарусов еще раз подумал, что этот человек, пожалуй, хуже, чем душманы.
Сейчас Ритченко решил действовать по-иному. Он стал говорить медленно и чуть иронично, как бы не особо стараясь убедить собеседника, а просто сообщая ему общеизвестное. Ритченко сказал, что про организацию, которую он представляет, в СССР распространяют самые нелепые слухи, публикуют искаженные сведения, а она практически далека от политики, тесно сотрудничает с Красным Крестом. Попутно он соврал, что сам является сотрудником этого общества. Ритченко выразил сочувствие по поводу грубого обращения с ними, заверил, что все это временно. План его был, как он считал, ловок и надежен: вызвать «объект» на откровенность и попытаться заставить прочесть перед микрофоном самый безобидный текст, который он только что прямо от руки накатал. Ритченко взял листок и медленно прочел его Тарусову. Текст и впрямь подкупал безобидностью: говорилось в нем, что советские солдаты должны уважать традиции и обычаи народов Афганистана, проявлять гуманность к населению, не наносить ему материального ущерба. Никаких намеков и выпадов… Его пройдошливый папаша называл это «засасыванием».
— Все будет инкогнито, — вещал Ритченко. — Вы понимаете, о чем я говорю? Все — тихо-тихо. Ваши товарищи ничего не узнают. А потом скажете: заставили. Кстати, организуем ваше избиение. О, разумеется, это будет имитация. Ваши товарищи должны услышать крики, стоны… Вы понимаете?
— Нет, — хмуро ответил Тарусов.
— Что — нет?
— Я не согласен.
— А что, простите, не устраивает?
— Не буду я с вами работать, — тверже ответил Тарусов. — Не буду!
Еще полчаса Ритченко пытался добиться хоть маленькой победы в реализации своего плана, но «объект» односложно отвечал «нет». Это в конце концов вывело Ритченко из себя, он закричал пронзительно и тонко «дрянь» и ударил Тарусова по небритой щеке. Удар был неловкий и явно неумелый. У Ритченко слетели с носа очки, благо, на полу был ковер.
Тарусов не помнил, как спустился вниз. Но крепкое рукопожатие Сапрыкина в темноте хорошо запомнил.
Странно, но после того, как его ударили, он почувствовал себя гораздо увереннее.
В сумрачном пустом доме Азиза обжитой была лишь одна комната — его кабинет. Сейчас он сидел в своем кресле, закутавшись в просторный халат и подобрав ноги. Азиз страдал от головной боли. В кабинете тускло горел ночник, на столе отсвечивал безмолвный телефон. «Плохо, когда телефон трезвонит весь день, и еще хуже, когда он молчит», — подумал Азиз.
Днем звонили из Кабула. Начальник службы государственной информации республики интересовался ходом поисков. Азиз стал докладывать обстановку, но Наджибулла резко оборвал его:
— До сих пор ничего неизвестно? Вы мне скажите, кто хозяин в городе — они или вы?
— Если считаете, — ответил Азиз, — что не справляюсь, — снимайте.
После долгой паузы голос шефа зарокотал спокойней.
— Переверните все вверх дном, но найдите специалистов. Это сейчас главная задача.
Зябко поежившись, Азиз подобрал под себя халат, потом взял со стола сигареты, закурил. В черном окне висела луна, время от времени в стекла постукивали ветви дерева. Во дворе слышались шаги охранника.
Вспомнил сегодняшнюю встречу с Воронцовым. Комбат почему-то приехал со своим переводчиком-таджиком. Они закрылись в кабинете и после разговоров, связанных с поиском, тот как бы между прочим поинтересовался, как Джафар мог узнать, что убит Тихов, причем раньше, чем об этом узнали в ХАДе. «Джафар — мой хороший товарищ. — Воронцов разводил руками — И все же вот такой вопрос…».
Азиз, конечно, был в курсе дела. Карим доложил о фразе, которая так всполошила комбата. Проговорился ли Джафар случайно? А может, просто от кого-то узнал о погибшем Тихове… Азиз успокоил Воронцова: разберемся… Не знаешь сейчас, кому верить. На прошлой неделе он лично расстрелял шпиона, затесавшегося в уездный ХАД. Интересно, верят ли ему самому?
Он встал, прошелся по комнате, прислушался к неясному шуму во дворе. Наверное, охранник изнывает от скуки, шаркает ногами. Азиз опустился на матрас, потянулся к ночнику, как вдруг дверь с грохотом отлетела в сторону, в комнату ворвались люди.
— Тихо, Азиз! Не ждал? — услышал он знакомый голос.
— Джелайни?! — вскрикнул Азиз и медленно стал подниматься.
— Испугался? А я вот решил прийти к тебе в гости, сам ведь не позовешь. Чего молчишь, не рад? — он шагнул к свету, глаза его блестели. Джелайни откинул назад длинные волосы, поставил у стены автомат. — Давай поговорим, что ли. Как брат с братом…
— Сначала пусть уйдут эти, — Азиз бросил взгляд на бандитов и по-прежнему стоял как вкопанный.
Джелайни небрежно махнул рукой, опустился на ковер. Двое, что стояли в дверях, безмолвно повиновались. Азиз сел в другом углу, незаметно перевел дух, сердце рвалось в бешеном ритме.
— Что с сарбозом[7]? — резко спросил он.
— Плохой у тебя сарбоз. Зарезали мы его.
— Шакалы… — Азиз стукнул кулаком по полу.
— Тебе жалко? А когда расстреливал Алихана, Гуламмухамеда, Надира, не было жалко? Видишь, я все про тебя знаю…
— Зачем ты захватил специалистов? Они строят комбинат. Кому они помешали? — загремел Азиз.
— О чем ты говоришь? Ты что-то спутал, я не знаю никаких специалистов, — Джелайни весело улыбался.
— Ты лжешь. Отпусти их или поплатишься своей неразумной головой. Это я тебе говорю, как старший брат.
— Азиз, — Джелайни широко развел руками, — помилуй, не знаю никаких специалистов.
— Ты забыл, что я работаю в ХАДе?
— Спасибо, помню, дорогой брат. Все помню: что продался неверным, что забыл аллаха… Так вот слушай сейчас меня. Мне передали твои слова. Ты сказал, чтобы я не попадался у тебя на пути. И обещал, дай аллах памяти, пристрелить первой же пулей, если попадусь. Вот я и пришел к тебе.
— Ты еще и труслив, — Азиз встал, повернулся к Окну. За ним маячила угрюмая физиономия. — Что же не пришел один — побоялся? Я знаю о всех твоих делах. На тебе — кровь невинных.
— Ладно, Азиз, заткнись, — Джелайни тоже поднялся, взял за ремень автомат, стал покачивать им. Лампочка ночника тускло вспыхивала на вороненой стали. — Ты не в ХАДе. Видишь, я первый к тебе пришел, как младший. Я чту адат… Мне нужна твоя помощь, Азиз.
— Какая помощь? — хмуро спросил он.
— Дай слово, что поможешь, — и я скажу.
Азиз отрицательно покачал головой. С минуту братья молча смотрели друг на друга, и казалось, вот-вот треснет и тихо осыплется невидимая преграда, они бросятся в объятия. Но Джелайни по-прежнему покачивал автоматом, удерживая его одним пальцем. Азиз же смотрел куда-то выше головы брата.
— Я вот думаю, — вдруг хрипло обронил Джелайни, — сейчас тебя пристрелить или потом?
— Лучше сейчас… Мира между нами не будет.
— Мать жалко… — Джелайни вздохнул, помолчал, потом быстро опросил — Она в Кабуле?
— Да…
— Как ее найти?
— Четыре года не видел, теперь захотелось найти?
— Ладно, можешь не говорить. Сам разыщу…
Джелайни огляделся, — посмотрел на потолок, усмехнулся:
— Живешь, как скот. Плохо платят? Ладно, живи дальше… Дарю тебе жизнь. Но в следующий раз, клянусь аллахом, пристрелю, как собаку, а голову твою в ХАД передам.
Он повернулся и быстро вышел из комнаты. Хлопнула дверь, донеслись приглушенные голоса — и все стихло.
Азиз выскочил во двор. На земле, раскинув руки, лежал охранник. В лунном свете стыло отблескивала лужа крови. Азиз склонился над телом и увидел широкую рану на горле. Оружие исчезло.
Он устало поднялся с колен, глубоко вдохнул морозный воздух и вернулся в дом. Какое-то время Азиз оцепенело сидел в кресле, потом встал, вытащил из-за стола автомат, рванул затвор. Не целясь, с бедра он расстрелял дверь, затем очередью полоснул по окну. Посыпалось, жалобно звеня, стекло. Он бросил автомат на матрас, снял телефонную трубку.
— Это Азиз. Опергруппу на выезд. Срочно! На «меня совершено нападение. Убит охранник. Предположительно три или четыре человека. Они на машине… Нет, я не ранен.
О нравственном здоровье той или иной армии можно смело судить по тому, как она относится к своим пленным. Поверженный враг редко вызывает сочувствие, единственное, на что он может рассчитывать, — так это на человеколюбие и милосердие победителя.
На пленных удобно отыграться за свои неудачи, за позор поражений и несбыточность грез. Для них изобретены пытки, концлагеря, тюрьмы. Пытки придуманы давно. Трудно сказать, с какой целью применялись они впервые: для установления истины или же просто для забавы.
Джелайни пытки считал развлечением. Он мог часами, не мигая, и без всякого выражения на лице следить за мучениями очередной жертвы. Впрочем, иногда преследовалась и чисто практическая цель — вытянуть необходимые сведения. Но и в этом случае побочное удовольствие не теряло своей прелести. И еще одну цель ставил Джелайни — замарать руки своих людей кровью. Это покрепче любой клятвы на верность, считал он.
Сегодня европеец из ФРГ, который хорошо говорил на языке шурави, пожаловался, что пленные все до единого отказались от сотрудничества с ним. Джелайни пообещал, что развяжет им языки. Впрочем, ему было совершенно наплевать на фаранга[8] и его горести. Одного пленного он, может быть, и уступит ему. Но не больше. Специалисты нужны ему самому. Нет, он вовсе не собирался убивать их, как того хочет Модир Джагран. Он говорит, что заложники принесут им несчастье, от них надо избавиться, а трупы подбросить у какого-нибудь кишлака. Модир боится, что шурави начнут искать своих людей и придут в ущелье. Но убивать заложников — все равно что выбрасывать деньги в реку. Правильно говорят, что лучше иметь камень, чем голову без мыслей. Нет, он не так глуп и труслив, чтобы уничтожать их. Надо обмануть Модира. Да, это опасно. Все же Модир Джагран — один из влиятельнейших руководителей в провинции, его люди есть во всей округе. Но если действовать быстро, вполне можно успеть достигнуть границы.
«А сейчас надо развлечься, — подумал Джелайни. — Пусть этот самоуверенный дурачок из Германии думает, что стараемся ради него».
Джелайни приказал вывести пленных во двор. Сам уселся на колоду для рубки мяса, но ему тут же принесли плетеное кресло. Ритченко кресло не принесли, и он уселся на освободившуюся колоду. Было холодно, шел медленный прямой снег.
Сначала связали всем руки за спиной. Из строя вытащили Шмелева, сорвали рубаху. Кто-то притащил из колодца два ведра воды. Воду вылили прямо ему на голову. Засмеялись. Потом Шмелева бросили наземь, надели петлю на шею, а конец веревки привязали к заломленной за спину ноге. Он стал задыхаться.
— Сволочи, негодяи! — закричал Сафаров.
К нему кинулись, повалили на землю, стали бить ногами, колоть штыками. Джелайни опять что-то приказал — и душманы потащили Сафа. рова к дувалу. Там уже стоял Сапрыкин. Их поставили в затылок друг другу. Джелайни, не глядя, протянул руку — ему подали карабин. Щелкнул затвор.
— Если вы не примете нашей веры, я сейчас вас убью, — тихо сказал Джелайни. — Одной пулей. Сафар, переведи!
Пленники молчали. Джелайни, не вставая, медленно прицелился. Шум во дворе незаметно стих. Все смотрели на главаря. Пронзительный ветер задувал в ствол нацеленного карабина. «Неужели все? И этот тонкий, на одной ноте посвист — последнее? Самое последнее в жизни…». Сапрыкин старался смотреть в глаза бандиту, но невольно видел только одно: полусогнутый указательный палец на спусковом крючке. Длинный узловатый палец, поросший жесткими черными волосками.
Раздался выстрел, пуля отколола кусок стены над их головами. Пленники стояли, не шелохнувшись. Джелайни засмеялся, покосился на Ритченко. Тот стоял белый как мел.
— Я пойду, — выдавил Ритченко и нетвердой походкой побрел со двора.
— Иди, иди…
К обеду занятие наскучило Джелайни. Он довольно погладил свою черную бороду, распорядился отправить пленников в подвал.
Хасан подошел неторопливо, вразвалку.
— Вызывал, хозяин?
— Да, поговорить надо. Пойдем.
Джелайни сделал вид, что не заметил развязности помощника, жестом указал на дверь в стене дувала и первым вышел на улицу.
— Слушай меня внимательно, Хасан, — оглянувшись, начал он. — Дело касается пленных. Модир Джа-ран хочет уничтожить их. Но нет, наверное, на свете большей глупости, чем убивать мирных людей…
Хасан удивленно посмотрел на хозяина. Тот понял его взгляд, но продолжал как ни в чем ни бывало:
— Аллах рассудит мою справедливость и доброту. Слушай меня внимательно. Я подберу тебе тридцать человек. Сегодня ночью выедешь вместе с ними в район кишлака Нацруз. Водителя отпустишь. До утра он должен вернуться вместе с грузовиком. Остальные пойдут с тобой. Перед самым кишлаком в укромном месте отберешь четырнадцать человек. Пусть они спрячут оружие под пату[9]. Потом свяжете их и проведете как будто под конвоем через кишлак… Ты хорошо понял меня? Пусть люди думают, — что ведут пленных.
— Но за нами сразу будет погоня! — изумился Хасан.
— Ты не лишен проницательности, но не перебивай хозяина, — строго заметил Джелайни. — Да, за вами будет погоня и вам придется уносить ноги. Ты понял, что ты должен делать? Пусть они гоняются за вами. Через день или два после Навруза, как очухаешься, появишься вместе с «пленными» в другом кишлаке. Потом — в третьем. Надо сбить их с толку. А я тем временем тихо переправлю специалистов поближе к границе. Встречаемся в кишлаке Дуар через десять дней. Запомни это. Человека, который тебя сведет со мной, зовут Карахан. Кроме того, дам тебе адрес, где сможешь взять машину. На этой машине и доберешься до границы. А в Пакистане нам хорошо заплатят за товар. Пойдете завтра в ночь. И смотри, никому ни слова…
Джелайни проводил Хасана долгим взглядом. «Теперь избавлюсь от него, — подумал он, — а заодно и от всех лишних. Хасан стал последнее время слишком подозрительным. Постоянно о чем-то думает. Человек, все время занятый своими мыслями, — сумасшедший или же тот дурак, который вдруг начинает понимать» в чем его глупость, или же умный, который сознает свое несовершенство. Правда, последнее к Хасану не относится… Хасан всегда безропотно подчинялся и верил. Теперь стал задавать лишние вопросы, высказывать свое мнение. А сегодня заявил, что мучить людей — это плохо, мол, аллах призывает нас к милосердию. Да, пора избавляться от него».
Три года назад он сам приблизил к себе Хасана, сделал его своим помощником. Почти вся его группа — пятьдесят человек — дехкане. А у Джелайни отец был землевладельцем — это все знали. Поэтому он и взял себе помощника из дехкан. Надо знать настроения черни. И пусть они видят, что Джелайни — демократ, ценит простых людей.
«Сегодня ночью уйдет Хасан, а через три-четыре дня вместе с пленными исчезну и я», — усмехнувшись, подумал Джелайни. Он вспомнил свою ночную вылазку в город, встречу с братом. «Пусть пока живет и знает мою силу… Специалистов ему подавай, — Джелайни рассмеялся в бороду. — Бедный человек, ему надо отчитываться перед шурави… Жаль, не захотел помочь. А ведь неплохо было бы заиметь бумагу из ХАДа…»
Сафарова перевязали обрывками белья: раны от штыка, к счастью, были неглубокими. Растерли сухой рубахой Шмелева и Тарусова, который тоже не избежал холодного купания на морозе. Шмелев, отчаянно дрожа, пытался шутить:
— Хотел, как т-тибетские монахи, в-внушить себе, что мне ж-жарко. что сейчас лето, солнце кожу об-бжи-гает. Но теплее п-почему-то не стало.
Тарусова оттирал Сапрыкин. Он помог ему снять всю мокрую одежду и усиленно драил спину, грудь, разгоняя по телу кровь. Тарусов молча кряхтел, а когда немного отогрелся, спросил:
— Как думаешь, Васильич, нас ищут?
— Ищут, Степан, ищут. Нам сейчас главнее — не сдаваться… Жизнь, она прямая, как дорога, а свернешь — предательство.
— Да, это закон, — отозвался Тарусов. — Я вот все думаю, Васильич, кому я нужен? Детям — пока помощь моя нужна. Жене — пока любишь и опереться на тебя можно. Друзьям — пока выгоден. Наверное, только матери — всегда… А скажи честно, как сам думаешь. Вот конкретно: выкрали пятнадцать человек. Стоит ли искать их, рисковать новыми людьми?
— Не болтай, — рассердился Сапрыкин. — Нас ищут, это точно.
— Я знаю, — вздохнул Тарусов. — Я так просто — вслух думаю.
Разбудил Воронцова бой часов. Спросонья он подумал, что звонит телефон. Встал, прошелся по кабинету, чтобы прогнать сон. За окном свирепствовал «афганец», без устали швырял в стекло то ли песок, то ли снежную крупу. Воронцов открыл форточку. Воздух стоял спертый, было сильно накурено еще с вечера.
Последний раз ему сообщили, что группы приближаются к горному пути. До этого передали, что рота разделилась на две группы. Воронцов подошел вплотную к карте и, вглядываясь в горизонтали высот, похожие на искривленные круги на воде, мысленно представил себе местность, по которой продвигалось подразделение. Он тут же понял расчет Читаева, взяв циркуль, измерил расстояние, которое предстояло пройти обеим группам, прикинул среднюю скорость движения. Кажется, все сходилось. К рассвету одна из групп обязательно должна встретиться с душманами. Раньше, наверное, к дороге выйдет группа Хижняка, а потом уже лейтенанта Читаева. Воронцов еще раз внимательно посмотрел на карту и засомневался. В горах все может быть по-другому. Опыт здешней службы не раз убеждал его в этом. Что ж, может быть, Читаев действительно угадал намерения бандитов. Он снял трубку, попросил соединить с Туболом, коротко доложил ему. В ответ услышал лишь две фразы: «Хорошо, товарищ Воронцов. Держите меня в курсе всех событий».
«Прямо как Сталин, — подумал Воронцов, кладя трубку. — О своем мнении пока ни слова».
Вошел сержант.
— Товарищ подполковник, сообщение от Птицына. Группа лейтенанта Хижняка вышла в квадрат тринадцать — сорок шесть.
Воронцов бросился к карте, уперся пальцем в найденную точку на карте, снял трубку, снова попросил соединить с Туболом.
— Хижняк вышел к дороге… Читаев пока не докладывал.
— Хорошо, — коротко ответил Тубол и положил трубку.
«Где Читаев? Не Птицын ли подводит?», — подумал Воронцов с недовольством о начальнике связи, представив его румяное лицо. Он встал, направился в аппаратную, чтобы переговорить с Птицыным лично и потребовать, чтобы тот, во-первых, усилил охранение, а во-вторых, построил машины кольцом, если это еще не сделано.
Воронцов объяснил себе отсутствие связи большем расстоянием.
Когда Читаев с группой уже спустился вниз и их фигуры превратились в маленькие точки на дне ущелья, горное эхо внезапно принесло недобрые звуки очередей. Водовозов понял, что Читаев попал в огневой переплет. Самой первой мыслью у него было ринуться вслед за ними. Он уже хотел было дать команду, но в последнюю секунду опомнился.
Вторым было решение вести огонь по душманам отсюда, с горы. Но тут же он понял бесплодность таких попыток. Водовозов тревожно оглянулся на солдат и прочитал такую же тревогу на их лицах. Сержант Мдиванов стоял рядом и ждал. что он скажет. «Надо зайти бандитам в тыл и ударить», — мелькнуло у Водовозова. Он уцепился за это решение и стал лихорадочно прикидывать, какой дорогой они должны спуститься, чтобы не быть замеченными, с какой стороны выгоднее выйти в тыл противнику.
В ущелье гремели выстрелы, они торопили Водовозова. «Так. Значит, в обход… В обході Что нужно для этого?» — Алексей попытался сосредоточиться и вспомнить, как в таких случаях их учили поступать на занятиях по тактике в училище. Но в голове крутились какие-то отрывочные фразы, кажется, из Боевого устава: стремительным маневром выйти во фланг и тыл и атаковать. Атаковать… «Бандиты, наверное, не догадываются, что опускалась только половина», — эта мысль немного успокоила его, и он крикнул:
— Никому не высовываться!.
Водовозов подумал еще о том, что наобум идти нельзя, надо выявить огневые точки, и распорядился, чтобы все наблюдали за полем боя. Но утренняя дымка скрывала душманов, и Алексей понял, что точно их засечь нет возможности. И, уже отбросив колебания, он принял решение идти по обратной стороне высоты, где они были невидимы для врага. «Пусть хотя бы продержатся один час», — думал Водовозов.
Бегом они спустились вниз, затем пошли резко влево, потом бегом пересекли низину и начали подъем. Ветер продувал ущелье как раз с той стороны, поэтому они отчетливо слышали звуки боя.
В эти минуты Водовозов все не мог еще полностью осмыслить предстоящее. Он готовился к первому бою, первый бой ждала и половина его необстрелянных солдат. А внутри бушевало такое чувство, будто его продувало холодным сквозняком. Водовозов старался подавить эти неприятные ощущения. Он приказал увеличить шаг, но сказывалась усталость, да и подъем был крутым. Алексей шел первым, считая, что его место именно впереди. Когда неожиданно раздался свист пуль, Водовозов сразу понял, что это такое, и инстинктивно подумал сначала о себе: в меня стреляют! И потом уже крикнул: «Ложись!» Стреляли с вершины. Сердце прыгало, в голове колотилась пустота. Конечно, душманы оставили наблюдателя с тыла, ведь это элементарное правило боя!
— Ползком — вперед!
Но стоило им чуть подняться, как вновь невидимый враг открывал огонь. Прошло минут пять. Алексей снова скомандовал вперед, но теперь начали стрелять с двух сторон. «Засада», — подумал он и тоже, как и Читаев, вспомнил о группе Хижняка.
У Хижняка же все складывалось как нельзя удачно. Еще до рассвета они вышли к своей вершине. Карим провел группу по известным тропам, два опасных участка они преодолели с помощью страховочных веревок. Хижняк и половина его группы заняли позицию у дороги, остальные вместе с Каримом — у вершины. От Птицына Хижняк узнал, что Читаев последние два часа не выходил на связь. Он, конечно, понимал, что маршрут у читаевской группы более трудный и протяженный. Но прошел час, второй. Известия не поступали. Дорога по-прежнему была пустынна. И Хижняк в конце концов решил двигаться вперед. Где-то еще через час, когда они прошли около четырех километров, Карим вдруг остановился и замер. Хижняк, шедший рядом, тоже остановился и вопросительно посмотрел на него.
— Кажется, стреляют…
Хижняк прислушался, но ничего не услышал. Тогда он крикнул: «Тихо!» и приказал остановиться. Но было лишь слышно, как свистел ветер. Двинулись дальше, причем, не сговариваясь, более ускоренным шагом.
Через несколько минут Карим вновь сказал, что стреляют. Но Хижняк и сам уже слышал выстрелы. Теперь они почти бежали на звук. Сомнений быть не могло: там, за горой, шел бой. Он еще раз попытался связаться с Читаевым, но радист опять разочарованно развел руками. Тогда Хижняк приказал всем снять бушлаты и сложить их за большим валуном у дороги. Остались в одних куртках.
— Сержант Крылов! Десять человек с вами. Будете подыматься по левой стороне. Темп — максимальный. Карим, ты тоже иди с ними.
Он хотел еще сказать, чтобы были осмотрительнее, но понял бессмысленность лишних слов и, махнув рукой в сторону вершины, бросил короткое «Вперед!».
Только зримая и ясная цель может давать новые силы. Ночь трудных горных троп, закончившаяся бесплодным утром среди горной пустоши, выбила из колеи даже самых стойких; большинство же с трудом волочили ноги. А сейчас новое препятствие придало новые силы… На полпути до гребня Хижняк предусмотрительно приказал выключить радиостанцию — «шипел» эфир. Шли осторожно, ступая мягко, шагом разведчика, хорошо, не было щебенки. «Туризм» заканчивался пологим подъемом перед вершиной. Когда до нее оставались считанные метры, сверху громыхнула очередь. Спасло то, что противник видел только их головы.
— За мной!
Хижняк первым стал спускаться вниз, затем повернул вправо. Солдаты старались не отставать. «Не напороться бы с размаху брюхом — да на горячий ствол». Все чувства у него настолько обострились, что, казалось, выстрели — и он увидит, как мелькнет пуля в полете. Он чуть не рванул спусковой крючок, заметив неясную тень под скалой…
— Теперь — ни звука, — обернулся он к солдатам.
— Поняли, командир.
Они почти ползли, выпрямиться в рост было бы самоубийством. Враг находился где-то рядом, может быть, за ближайшим камнем. Хижняку казалось даже, что он чувствовал чужой запах. Сзади зашуршала галька. Хижняк резко обернулся, сделав страшные глаза. Солдаты замерли.
— Подсади, — одними губами произнес он.
Хижняк взобрался на валун, потом встал на естественный приступок и подтянулся, чтобы заглянуть за скалу. Скала чем-то походила на хищный нос — изогнутая, с горбинкой.
В первое мгновение он отшатнулся, увидев душманов в двадцати шагах. Один из них — в чалме и овчинном полушубке — сжимал в руках автомат и что-то высматривал внизу. Другой — тоже в чалме и в чем-то грязном, похожем на бывшее черное пальто. На нем был еще кожаный патронташ, в руках — винтовка. Все это Хижняк хорошо разглядел. Он еще никогда не видел врага так близко, врага вооруженного, с пальцем на спуске и — совершенно беззащитного.
— Ну что, товарищ лейтенант? — услышал он нетерпеливый шепот.
Не оглядываясь, Хижняк погрозил кулаком и снова положил палец на спусковой крючок. Он уже восстановил дыхание, мушка не прыгала ходуном, а уткнулась в направлении лежавших. «Крикнуть «Сдавайтесь!»?» — подумал он. Но тут один из душманов встрепенулся, приглушенно вскрикнул, показывая рукой вниз. Автоматчик тут же прицелился. Одновременно Хижняк нажал спуск… Тот, что был в черном пальто, судорожно изогнувшись, упал на автоматчика, тоже убитого наповал. Хижняк оторопело смотрел на них, пока не почувствовал, как кто-то коснулся его руки. Он резко обернулся.
— Товарищ лейтенант, подавать сигнал нашим? — спросил солдат, который помогал ему взобраться на валун.
— Да-да, конечно, — пробормотал Хижняк, видя спины врага — маленькие черные точки. Это спускались душманы.
Все были в сборе. Ждали. Ждал и тот, кто был на волосок от гибели всего несколько минут назад. Но он даже не подозревал об этом. И сам Хижняк не знал, кого спас. Не до того в суматохе боя, когда спасаешь, фамилии не спрашиваешь.
— Всем рассредоточиться, — приказал он. — Атакуем по моему сигналу.
Атака в горах в направлении сверху вниз — это короткие перебежки от укрытия к укрытию. Душманы отходили вниз, огрызаясь короткими очередями.
— Огонь! — скомандовал Хижняк, и они ударили одновременно в одиннадцать стволов.
…В первое мгновение Читаев не понял, что за очереди доносились из-за горы. Водовозов? Но, судя по глухим выстрелам, его группа слева. И только когда на вершине появились фигурки в защитной форме, он все понял.
— Огонь! Огонь!
А справа, будто запоздавшее эхо, тоже застучало, загрохотало — на гребень соседней высоты вышла группа Карима и сержанта Крылова. Долина наполнилась яростной перепалкой очередей. Душманы уходили.
Было хорошо видно, как они, пригибаясь и уже не отвечая огнем, поспешно отходили в сторону дороги. Вдогонку с двух сторон неслись оранжевые трассеры, где-то уже вился голубой дымок — занялась огнем прошлогодняя трава. Душманы спускались беспорядочно, их белые чалмы мелькали за камнями, как обрывки бумаги, подхваченные ветром. Они что-то кричали друг другу, перекрестные очереди прижимали их к земле, отрезали путь к отступлению.
Хижняк бежал первым, часто пригибался за камнями и посылал короткие очереди по отступающим. Навязчивая мысль подталкивала его: если он быстро спустится вниз — то успеет, Читаев и его солдаты будут целы и невредимы. Только бы не опоздать!
А Читаев, целый и невредимый, орал во всю глотку, чтобы прекратили пальбу. Но все и так прекратили, потому что видели и Хижняка, и остальных. Крик «ура!» понесся над ущельем, его подхватили с обеих сторон.
— Живой? — выдохнул Хижняк.
— Живой! — Читаев порывисто стиснул Владимира в объятиях.
— Ну, слава богу.
Где-то оправа еще грохнула граната, а за горой у Водовозова коротко отозвались две-три очереди. И с этими последними звуками бой оборвался, будто лопнула перетянутая струна. Она продолжает еще звенеть в ушах, но непонятно, то ли это отголоски боя, то ли внезапно наступившая тишина…
Вокруг обнимались, кто-то на радостях выстрелил вверх, на него тут же зашикали. Голоса звучали непривычно громко. Камалетдинов с автоматом наперевес вел здоровенного заросшего детину. Своей подчеркнуто энергичной походкой вышагивал Карим, его сопровождала вся группа.
— Где Водовозов? — спросил Хижняк.
— Там, за горой…
— Потери есть?
— У меня нет.
Подошел запыхавшийся Водовозов. Лицо в пятнах, глаза горели.
— Ушли, за ту гору ушли. Но мы дали им…
— Что ты там делал? — перебил Хижняк.
— Шел на помощь… — оторопел Водовозов. — Зажали ведь… Я решил идти в обход, да сверху засели духи — головы не поднять. Только мы вперед — сразу огонь открывают.
— Ясно, — тихо произнес Хижняк. — Долго же ты шел…
— Люди хоть целы? — спросил Читаев.
— Люди целы, — с вызовом ответил Водовозов.
Он никак не мог понять, в чем собираются его обвинить.
— И как же ты там застрял? — снова тихо опросил Хижняк.
Водовозов пожал плечами, оглянулся на стоявших рядом солдат. Чтобы как-то сохранить достоинство, он начал медленно, с расстановкой пояснять, что был остановлен автоматным огнем. Сначала стрелял один, потом трое или четверо. Огневые точки подавить не удалось, а попытки маневра были крайне ограничены.
Хижняк слушал, чуть наклонив голову и отставив в сторону ногу. На лбу его собрались мелкие морщинки, в руке за ремешок он держал каску и ритмично постукивал ею по колену. Читаев еще не отошел от боя и молчал.
— Так уж крайне ограничены? — усмехнулся Хижняк.
— Я берег людей, не хотел попусту рисковать ими.
— Хорошие слова, но не к случаю. Неужели нельзя было зайти во фланг, обойти высоту? «Попусту»…
— Я думал прежде всего о людях! — продолжал повторять Водовозов.
— О людях надо думать всегда. Бросить в беда товарищей!
— Ладно, хватит! — резко оборвал Читаев, — Он делал все правильно. Ну а то, что не сумел… На первый раз скидка.
— Ну, спасибо, Володя, за хорошие слова, — с мукой выдавил Водовозов, глянув на Хижняка. — Спасибо…
— Все! Точка на этом, — повысил голос Читаев. — Хижняк! Проверить личный состав. Сколько раненых? Пленных — под охрану!
— Главное, что люди целы. Понял? — примирительно сказал Читаев, когда Хижняк отошел. — Пустая? — увидел он флягу у Водовозова.
— Еще есть.
Сергей взял протянутую флягу и жадно припал к ней пересохшими губами.
— Вот чего мне не хватало, — удовлетворенно сказал он, напившись.
Раненых, если не считать Читаева, было двое. Пуля стукнула Щекина в бронежилет и застряла, дальше не пошла. Он вытащил ее пальцами. Ранка была небольшой, но на груди расползся обширный кровоподтек. Щекин лежал бледный, отчего его веснушки еще сильней выделялись на лице. И ранило в самом конце боя солдата из взвода Хижняка — в левую руку.
Когда собрали трофейное оружие, Читаев соединился по радио с колонной, приказал Птицыну передать результаты боя и запросить дальнейшие указания. «Теперь бы домой», — подумал он о своей небольшой комнатке в фанерном модуле. Рядом жались в кучку пленные душманы. Один из них смотрел на Читаева. «Тоскливо тебе и страшно», — подумал Сергей.
…— Так, — задумчиво сказал Воронцов, приняв сообщение, — этого следовало ожидать.
Рядом с ним на краю карты, постеленной на широкий стол, стоял нетронутый стакан чая. А сам он, наклонив большую с залысинами голову, уперся взглядом в нанесенную обстановку. Последнее время у него появилась привычка говорить чуть раскрывая рот, сквозь зубы, и оттого складывалось впечатление, будто в нем стало проявляться скрытое ранее высокомерие. Начштаба Рощин, хорошо изучивший своего командира, с интересом наблюдал за этими переменами. Сейчас он докладывал Воронцову свои соображения по дальнейшему поиску специалистов. Суть их сводилась к тому, чтобы еще раз крупными силами с использованием вертолетов прочесать весь район. Воронцов слушал, как всегда, не перебивая. Уже поняв, что хочет Рощин, он мысленно сразу оі клонил его план, но продолжал терпеливо слушать.
— У вас все? — спросил он, когда начштаба закончил.
— Да, в общем все.
Воронцов молча прошелся по кабинету. Остановился, долгим взглядом посмотрел в окно. От этой затянувшейся паузы Рощину почему-то захотелось глотнуть чаю, и он попросил разрешения налить себе стакан.
— Пейте мой, я не буду, — сказал Воронцов.
Рощин аккуратно взял стакан, а Воронцов вдруг повернулся к нему и произнес:
— Учимся, учимся воевать, да, видно, мало. Хорошо научились колонны водить в ущельях. По горам теперь пускаем пехоту, чтобы нас охраняла сверху. Едем дальше. Нет, уже идем пешком — в горы. Тропинка хорошая: все вниз да вниз. Спускаемся. Все спустились? Все! Все! А как же прикрытие? А вот прикрытие на высоте не оставили… И — получите промеж глаз!
— Василий Семенович, а ведь Читаев оставил прикрытие. Правда, Водовозов — офицер молодой, не сумел сработать как надо. Но и винить его грех. Первый раз в такой переделке…
— Да я не об этом, — отмахнулся Воронцов. — Водят нас душманы за нос. Как это наши солдаты называют их — духи? Вот мы и погнались за этими самыми духами, а они хоть и не бестелесные, но все равно — фикция и обман, — усмехнулся Воронцов.
— Извините, Василий Семенович, я что-то вас не совсем понимаю.
— Не было никаких специалистов в ущелье, — ответил громко и резко Воронцов. — Не было и в помине.
— А как же сообщение?
— Обычная инсценировка… Если не похуже. Например, заведомая дезинформация органов ХАД. Но ничего, они хорошо поплатились за свой спектакль.
Воронцов распахнул окно. Свежий воздух принес запах слежавшейся пыли.
— Отдайте распоряжение от моего имени. Пусть Читаев с ротой спускается на плато к своей технике.
Начальник ХАДа приехал после обеда. С ним был сотрудник, знавший русский язык. От Воронцова не укрылось, что Азиз, обычно непроницаемо-спокойный, был взволнован. Поэтому он быстро отпустил всех, кто находился в его кабинете, и приготовился слушать. Только прикрылась дверь. Азиз выпалил:
— Специалисты в Мармуле.
Они вместе подошли к карте, и Азиз, проведя пальцем по изломанной линии ущелья, показал точку: крошечный горный кишлачок в несколько дворов с длинным звонким названием, которое и произнести сразу трудно.
Азиз сказал, что по сообщению очень хорошего человека (он так и оказал: очень хорошего) специалистов держат в доме на окраине кишлака. Найти дом очень просто. Азиз достал смятую бумажку, развернул ее. На ней размашисто, видно рисовавший человек очень спешил, была изображена схема поселка. Несколько прямоугольников — дворы, окруженные дувалами, и еще один квадрат помечены крестиком. Сверху на схеме буквой N обозначен север.
— Вот здесь, — показал Азиз на квадрат с крестиком. — Охрана небольшая: пять или шесть человек.
— Хорошо, — все больше приходя в возбужденное состояние, сказал Воронцов. — А может быть такое, что специалистов там не окажется?
— Может, если мы опоздаем, — подумав, ответил Азиз. Поняв, что Воронцов сомневается в полученных сведениях, добавил — Этому можно верить.
Они договорились, что сообщение будет храниться в тайне вплоть до самой операции, и после этого Азиз уехал.
И тут Воронцова словно обожгло: ведь предстояло уничтожить охрану, а в ее числе наверняка и Джелайни — родной брат Азиза. Само собой разумеющееся дело — уничтожение охраны — теперь приобретало некоторую щепетильность. Все-таки брат. «А что скажешь Азизу? — размышлял Воронцов, решая, звонить или нет по этому поводу. — Но он и сам знает, и, возможно, точно знает, что брат там. Взять Джелайни живьем? Но это дополнительно усложняет задачу». Поколебавшись, Воронцов решил, что звонить не будет. Он стал обдумывать план операции.
План сложился простым и дерзким. По замыслу Воронцова предстояло прямо в кишлаке высадить с вертолета десант, который штурмом захватит дом и уничтожит охрану. И тут же вертолеты, посадив на борт десант и освобожденных специалистов, немедленно взлетают. На главную часть операции — пятнадцать, от силы — двадцать минут, больше нельзя. Мармуль — район, как его называют, душманский, дело может в случае замедления принять плохой оборот.
Воронцов быстро набросал на листке расчет сил и средств. По его мнению, для выполнения задачи было достаточно одного взвода. Вертолеты — на личный состав, на специалистов, плюс еще пара для поддержки с воздуха. Он снял трубку, соединился с Туболом, сдержанно доложил обстановку. Тубол обрадовался и начал было уже ставить задачу, но перебил себя и, как и подумал Воронцов, поинтересовался его решением. Василий Семенович тут же доложил.
— Хорошо, — подумав, ответил Тубол и еще раз повторил — Хорошо… Значит, завтра с рассветом вылетаете к Читаеву, лично ставите ему задачу. Вертолеты, боеприпасы пришлю. Непосредственное руководство операцией возлагаю на Читаева. Вы возвращаетесь с колонной.
— Разрешите мне лично руководить операцией.
— Нет, достаточно Читаева.
— Значит, взводному доверяете, а командиру батальона — нет?
— Доверяю, не доверяю — не в этом дело, — после паузы ответил Тубол. — Нам с вами, Василий Семенович, такие задачи не по плечу… Вот вы за сколько стометровку бегаете? Ага, не знаете. А я вот вам гарантию даю, что и в восемнадцать секунд не уложитесь. А им сейчас бегать придется, через дувалы перелезать…
Воронцов обиделся, но по телефону выяснять отношения не стал.
С рассветом он был на аэродроме, а через некоторое время приземлился на плато. Навстречу ему спешил Читаев, удивляясь раннему визиту начальника. Воронцов выслушал доклад, поздоровался с офицерами и приказал (построить роту.
— Ответственным за проведение операции по освобождению специалистов назначаю вас, Читаев, — голос у Воронцова зазвучал официально. — Ваш заместитель — лейтенант Хижняк. Он возглавит группу прикрытия. Вот схема поселка.
Воронцов достал ту же самую измятую бумажку. Он так и не перерисовал ее набело. Подсознательно почему-то доверял именно этому протертому на сгибах листку, хотя любое суеверие ему было чуждо.
— Добровольцы — шаг вперед, — негромко произнес Читаев сакраментальную фразу.
Как он и ожидал, шагнули дружно все.
— Курилкин… Мдиванов… Бражниченко… Камалетдинов… Нефедов… — стал называть он фамилии.
— Меня, товарищ лейтенант, меня возьмите, — Щекин, словно школьник, тряс поднятой рукой.
Читаев не обратил на него внимания, а когда Щекин попытался перебежать в строй отобранных, рассвирепел:
— А ну, марш отсюда!
Щекин глянул умоляюще.
— Не на прогулку летим… И вообще, вам приказано лежать, — отрезал Читаев и вдруг заметил в глазах Щекина непрошеные слезы.
— Нельзя, Щекин, нельзя.
Вертолеты уже рубили воздух. Согнувшись, щурясь от пыльной круговерти, солдаты бежали к месту посадки и один за другим исчезали в железном брюхе машин. Двери захлопнулись, и вертолеты, взревев еще натужней, поочередно стали отрываться от земли. Они подымались все выше и выше, шум затихал, и вот наконец стали похожи на стрекоз. «Стрекозы» построились караваном и вскоре исчезли за кромкой гор.
— Тридцать минут лету, — сказал Воронцов. — Дай бог удачи нашим ребятам.
Водовозов глянул на него исподлобья и отошел в сторону.
Хасан сидел на большом камне. Когда-то во время сильной бури камень сорвался с вершины и стал стремительно набирать скорость, увлекая за собой сотни небольших и совсем маленьких камней. Но так и не скатился в долину, застрял на полпути. Прошло время, камень снова врос в гору. И хорошо, что так случилось, потому что в долине он загородил бы дорогу, и люди, в сердцах кляня его, вынуждены были бы искать другой путь. Камень остался в могучем теле горы, он постарел, покрылся сетью трещинок и морщин, но по-прежнему оставался единым целым с горой.
Хасан думал. Холодный ветер шевелил его всклокоченную седую бороду, играл концом чалмы. Ему уже скоро пятьдесят, и его возрасту более соответствовала бы степенная жизнь в кругу семьи, а отнюдь не голодные скитания среди гор. Тяжелые краски заката тускнели, будто где-то за горизонтом постепенно затухал огромный пожар. Там, за горной грядой на западе, находился его родной кишлак. Широкая долина, похожая на гигантскую чашу, заполнена маленькими уютными кишлаками в зелени тополей. Хасан мысленно представил свою мазанку, дувал, который возвел еще его дед. Много домов в кишлаке, только людей в них почти нет. Ушли люди, разбрелись кто куда по свету. Жена и двое детей остались среди немногих жителей. Ждут его. Женился Хасан — пяти лет еще не прошло. Молодым был — денег не имел, под старость насобирал — почти все ушло на выплату калыма. Уже три месяца о семье нет никаких вестей. Живы ли Фируза и сыновья? В округе много банд… И все говорят, что борются за веру. А на деле просто грабят и убивают. Да и разве они не делают то же самое?
Хасан смотрел на закат уже без всякой надежды, ждал, когда окончательно стемнеет. Он сам назначил этот последний срок. Потом он должен принять решение. Каким оно будет, Хасан еще не знал. Знал лишь, что должен предпринять что-то очень важное и серьезное. Третий день подходил к концу. Никогда еще он не чувствовал себя так жестоко обманутым. Даже когда за жалкие гроши батрачил на пройдоху Якуб-хана. Как провел его Джелайни, послав под пули!..
Несколько дней назад в Наврузе они прошли на виду у всего кишлака. Сделали все так, как требовал Джелайни. А через сутки, на рассвете, они заметили отряд шурави, который двигался им навстречу, к дороге. Они были готовы встретить противника и успели занять господствующие вершины. Но под перекрестным огнем шурави не растерялись, сумели занять жесткую оборону. Потом случилось самое худшее. Пока они обстреливали окруженных, им в тыл ударил отряд, потом другой. И тут началось… Все же недаром говорят, что шурави воевать умеют и своих в обиду не дадут. Четырнадцать человек потеряли, а еще восемь, наверное, попали в плен. Остальные еле унесли ноги. Когда шурави ушли, они вернулись и до захода солнца похоронили тела погибших. Нет, не зря разум подсказывал ему: пусть шурави идут своей дорогой, не трогай их.
Тогда еще никто не знал, что судьба готовила им более тяжкий удар. В кишлаке Абихейль, где Хасану был обещан транспорт, никто ничего не слышал ни о машине, ни о Джелайни, Хасан приказал обыскать двор, который был помечен на схеме, но ничего не нашли. Пришлось остановить рейсовый автобус… Тогда он еще верил. Вдруг произошла какая-то ошибка? Уверенность Хасана сильно поколебалась, когда выяснилось, что в приграничном кишлаке Дуар никогда не жил человек по имени Карахан. Но и тогда Хасан не терял надежды, верил, что Джелайни не обманет, придет на встречу в Дуар. Но срок прошел. Хасан ждал еще три дня. И только тогда понял, что его обманули, провели, как мальчишку. Джелайни избавился от него, Зачем ему старый глупец, с которым к тому же придется делиться деньгами? Когда делят деньги, сначала считают людей…
Солнце зашло. Дорога исчезла во мраке, но она уже не беспокоила Хасана. «Пойду к людям», — решил он. Они терпеливо и почтительно ждали его в отдалении. Видели, что старый Хасан не в духе, и, хотя давно все поняли, подойти не осмеливались. «Суфи, суфи», — услышал он негромкие голоса. Да, для них, двадцатитридцатилетних, он уже старик. Старик с разумом мальчишки!
— Джелайни предал нас. Обманул и выбросил, как ненужный хлам.
Все молча стояли. В темноте он не видел их лиц, но знал, что вряд ли бы сумел что-то в них прочесть. Война стирает чувства с лиц, кроме одного — злобы. Злобы Хасан не боялся, хотя ему почудилось в какое-то мгновение, что люди сейчас бросятся на него и растерзают. И было за что. Но люди молчали. Только самый молодой из них — шестнадцатилетний Салих — выдохнул что-то вроде вооклицания.
— Разожгите костер, — оказал Хасан, заметив под ногами кучку сухой колючки и припасенные заранее дощечки.
Салих как будто ждал распоряжения. Под его ловкими руками быстро вспыхнул и тревожно замерцал огонек. Стало чуть светлее. Хасан первым сел к костру, потом — остальные.
— Что же нам теперь делать? — нарушил тишину вечно угрюмый Джамаль с раскроенной шрамом щекой.
— Я теперь вам не командир. Пусть каждый поступает по совести.
— А как — по совести? — глухо спросил Джамаль.
Хасан на мгновение задумался, тронул рукой бороду.
— Мусульманин тот, от языка и рук которого спокойны мусульмане. Это написано в Коране. А теперь подумай, было ли спокойно от дела рук твоих народу?
— Я боролся за веру, — ответил Джамаль, — так же как и ты. Разве ты забыл это?
— Это говорил бешеный пес Джелайни. А я и ты покорно слушали и верили ему. Неужели вы все ослепли?
Голос Хасана уже срывался на крик, по его коричневому лицу плясали отблески пламени, отчего оно казалось еще страшнее.
— Пора возвращаться по домам. Пес — где насытился, человек — где родился. Хватит воевать, хватит лить кровь. Хватит слушать сладкие речи таких шакалов, как Джелайни. Он говорил, что сражается за веру, а сам думал о деньгах…
Он замолчал, потом снова заговорил:
— Мы — мусульмане. Мы сверяем свою совесть и чистоту наших помыслов с Кораном. Что говорит священное писание о тех, кто лжет в лицо? — И он протяжно, чуть нараспев, прочел аят из Корана — «И не препирайся за тех, которые обманывают друг друга. Поистине аллах не любит тех, кто изменники».
Хасан снова замолчал, опустив голову на колени. Толстые, словно на голенище, морщины на Затылке разгладились. Конец чалмы висел над самым пламенем, грозя вот-вот вспыхнуть.
— А правда, что правительство обещало помиловать тех, кто добровольно сдастся? — раздался вдруг юношеский голос.
Хасан поднял голову и увидел, что глаза у Салиха, как маленькие горящие угольки.
За бортом замелькали отчетливо, как это бывает на малой высоте, квадратные и прямоугольные поля; они серо-коричневые, потому что зима, а весной станут изумрудными, салатовыми, всех оттенков зеленого цвета. Солдаты сидели напряженно-бледные, чуть подавшись вперед. Бушлаты скинули, чтобы действовать налегке. Все одинаково плотные и широкоплечие из-за бронежилетов — современных кирас; на головах каски, автоматы между ног.
— Вот он! — крикнул Читаев Курилкину, показывая вниз, на кишлак, зажатый почти вертикальными стенами гор. Мелькнула река, бегущая неслышно по камням, и различим уже дом на окраине. Вертолет рвал лопастями небо, отбрасывая гигантские тени, опускался все стремительней, и так же стремительно аккуратный прямоугольничек — спичечная коробка — превращался в глинобитный дом. Вокруг по периметру — дувал, одна сторона дома выходит наружу.
Вертолет ткнулся в землю, все повалились набок, но тут же единым рывком вскочили, потому что борт-техник уже рванул настежь дверь. Первым спрыгнул Читаев, за ним — Курилкин, потом — Мдиванов, Бражниченко… Но тут же из окон загремели очереди. Читаев с группой захвата плюхнулся в пыль. За спиной затрещали очереди: это открыла огонь группа прикрытия Хижняка. Еще несколько человек проскользнули за дом, чтобы проникнуть во двор с тыла.
— Смотри, душманы!
Кричал Камалетдинов. Из разрушенного окна прыгали люди в афганской одежде, падали, катились по косогору вниз, снова вскакивали, размахивая руками и раздирая рты в отчаянном крике.
— Не стрелять! — крикнул Читаев.
Он в мгновение увидел все: нелепую изорванную одежду, человека, бегущего впереди с окровавленной рукой. Он узнал его, это был Сапрыкин — старший среди наших специалистов. Они бежали изо всех сил, уже было потерявшие надежду и теперь почти спасенные, бежали к родным красным звездам на закопченных боках вертолетов.
— Дрейш! Мекушам![10]— заорали из окна гортанно.
— Не стреляйте, не стреляйте! Там наши, — шатаясь и задыхаясь, с трудом выговорил Сапрыкин. Сказал — и тут же упал без сил.
Хижняк залег в сухом арыке позади группы захвата. Когда из окон начали выскакивать люди, он тоже скомандовал прекратить стрельбу, потому что те были безоружными. Он еще не успел узнать их, как внимание его переключилось на совсем иное. Из-за дувала появился мальчишка лет шести или семи. Хижняк не сразу и понял, откуда он взялся. Мальчик деловито тащил за веревку тощую рыжую корову, та упиралась, мотала рогатой голо-вой. Он что-то кричал сердитой скороговоркой, но корова, переваливаясь, упрямо перла вперед. Юный погонщик бежал за ней вприпрыжку и беспрестанно поправлял свою сползающую на уши тюбетейку.
— С ума сошел, — прошептал Хижняк. — Откуда ты взялся?.. Назад!
Люди еще бежали к вертолетам, из окна веером летели очереди, а тут были корова и мальчишка, который лез под огонь. Несколько пуль взрыли песок рядом с пастушком.
— Ложись, убьют!
Но мальчик лишь глянул испуганно в его сторону и еще отчаянней стал дергать веревку. «Хоть бы за корову спрятался», — промелькнула мысль. А в следующее мгновение Хижняк крикнул: «Прикрывайте!» — и, согнувшись, выскочил из арыка.
Мальчик присел, съежился, он рванул его к груди, обозлившись, что тот вцепился в веревку.
— Брось, пучеглазый!
Он пробежал несколько шагов, так и не услышав короткой очереди. Его сильно толкнуло в спину, и он, уже не чувствуя ничего, разжал руки, рухнул на дно арыка… Показалось еще, что склонилась над ним черная тень — без лица, без рук. Мелькнула и исчезла…
Читаев ничего этого не видел и не знал. Он продолжал прикрывать специалистов. Последним бежал смуглый мужчина, он бежал тяжело, странно сутулясь и прихрамывая. Читаев с трудом узнал в нем переводчика Сафарова.
— Быстро, — крикнул он ему, — быстро в вертолет!
В темном провале окна снова вспыхнули, ожили злые огоньки. И тогда Читаев, размахнувшись, одну за другой швырнул три гранаты. Грохнули взрывы, окно окуталось пылью.
— Отходим, все отходим!
Читаев успел выстрелить еще раз, в короткое мгновение увидев в проеме бородатое лицо.
— Курилкин, красную ракету! Отходим!
Перебежками возвращалась группа, заходившая в тыл. Читаев сощурился, пересчитал бегущие фигурки. Глаза слезились: сыпануло песком. Он повернулся к Сафарову:
— Все? Больше никого нет?
Сафаров сморщился как от боли:
— Шмелева убили… Когда вы подлетали, Джелайни… очередью…
— Что ж сразу не сказал? — Читаев приподнялся на локтях. — Группа захвата — за мной!
Он рванулся, как на старте, чтобы проскочить открытое место, не помнил, как ухватился за окно, подтянулся и перевалился, упав на какое-то загремевшее ведро. Ударил ногой по двери, которая распахнулась легко и со стуком, перешагнул через чье-то тело в кожаной куртке, прошил очередью еще одну дверь. Потом ворвался в большую комнату с коврами на полу, сзади пыхтел Курилкин, все старался обогнать его. Наконец в последней комнате он увидел Шмелева. Он лежал, откинув одну руку, а другую прижал к груди, в безотчетной попытке закрыть рану… Курилкин и Мдиванов торопливо подхватили тело.
— Духов нет?
— Слиняли…
— Давай, в окно!
Только перед самым взлетом Читаев узнал, что тяжело ранили замполита. Он охнул растерянно, хотел бежать к нему в вертолет, но бортмеханик что-то кричал, тряс руками, и Читаев молча полез на свой борт, Он отставил в сторону раскаленный автомат, склонился над коленями, обхватив голову руками. Тяжело ранили… Тяжело…
Пыль задрожала, пошла во все стороны клубами. Вертолеты почти неуловимо для глаз оторвались от земли, потом по очереди клюнули носами, выпуская с грохотом ракеты. Будто молнии ударили по дому-тюрьме. Когда поднялись выше, среди скал вспыхнул схожий со сварочным огонек крупнокалиберного зенитного пулемета. Маленькая мигающая звездочка. С борта ответно застучал пулемет. Читаев, с хлопком открыв блистер, тоже стал стрелять по «сварке». Они поднялись еще выше, огонек исчез.
Стали наскоро перевязывать раненых. Кто-то из солдат достал флягу, стал жадно пить, и Читаеву тоже захотелось воды. Он отвязал свою флягу, поднес ее ко рту, но тут вспомнил о спасенных и пустил по кругу. Пять бывших узников — остальных разместили на других бортах — представляли собой зрелище жалкое и печальное. По их изможденным, заросшим щетиной лицам текли слезы. Плакали они молча, вытирая глаза почерневшими ладонями. Только Тарусов, страшный своей сединой, плакал почти навзрыд и повторял одно и то же: «Ребята, ребята…».
Читаев представил, как их мучили, били, хотел было поговорить об этом, но слова застревали, едва встречался взглядом с бывшими узниками. Увидев в их впавших глазах мерцающую боль, он еще подумал, что никогда, ни при каких обстоятельствах не попадет в плен, хотя прекрасно понимал, что в нем может оказаться любой, — и даже тот, кто уверовал в последнюю пулю…
На вертолетной площадке их встречали. Кроме Тубола прибыли начальник ХАДа Азиз и директор Джафар. Тубол позвонил им сразу же, как только летчики доложили результаты.
Вертолеты садились один за другим. Поднявшаяся пыль почти окутала встречавших. Женщины отворачивались, опустив руки по швам, чтобы не разлетались юбки, офицеры придерживали рукой козырьки фуражек. Казалось, что все они приветствуют прибывших согласно незыблемому воинскому ритуалу. Лопасти еще вращались, а люди уже выпрыгивали из вертолетов.
Читаев привычно приземлился на расставленные в шаге ноги, чтобы второй шаг — бегом. Потом борттехник опустил стремянку. Читаев уже докладывал, приложив руку к каске. Тубол обнял его, затем подошли Азиз и Джафар, тоже обняли.
— Молодцы! Все сделали отлично, — Тубол положил руку ему на плечо. — А Хижняка вместе со специалистами сейчас же отправим в госпиталь.
Он шагнул навстречу высокому худощавому комэску в голубом комбинезоне, пожал ему руку и сказал несколько слов, Читаев не расслышал — гремели двигатели.
Тубол коротко попрощался со специалистами. А Джафар обнимал каждого, заглядывал в глаза, все хотел спросить, но не отваживался, потому что слышал, как сказал Тарусов: «Ноги моей здесь не будет». Он сразу понял, что имел в виду Тарусов под этой не совсем ясной для него фразой, понял больше по тону. Последним обнялся с Сапрыкиным, стараясь не прикасаться к раненой руке.
— Вернемся, обязательно вернемся, — успокоил его Сапрыкин. — Подлечимся только.
— Работа подождет! Главное — здоровье, — запричитал Джафар.
Но высокий комэск уже махал рукой. Сапрыкин поспешил к вертолету, за ним убрали внутрь трап, захлопнули дверь.
В госпитале, куда Тубол и Читаев пришли вместе, сообщили, что Хижняк так и не приходил в сознание, что ранение очень тяжелое, две пули в легком, потеря крови и, что самое опасное, задет позвоночник. Молодой крепколобый хирург с коротким ежиком волос говорил без обиняков, с тем профессионализмом, который выдает сам себя: нас интересует болезнь, а до остального дела нет.
— Операцию мы сделали. Сутки еще протянет, не более, — сказал он без интонации.
Читаеву захотелось ударить его, чтобы боль скрутила, сломала самодовольного доктора. За эти «сутки… не более», за то, что Хижняк умирал, но был жив, а ему уже подписали приговор. «Привык здесь, что нет родственников, хотя бы рожу состроил сочувствующую».
— Что ж вы сидите тут, околачиваетесь, ждете, шока умрет? Почему в Ташкент не отправили? — взорвался Читаев.
Он чувствовал, что его начинает колотить дрожь, что назревает скандал, но уже не мог совладать с собой.
— Это ничего не даст, — сказал хирург устало, как только Читаев умолк, остановленный молчаливым жестом Тубола. — И зря вы думаете, что мы не сделали все, что в наших силах…
Потом они надели халаты и прошли в палату. Читаева поразил желто-коричневый цвет кожи Хижняка. Дышал он прерывисто, чуть слышно. У изголовья сидела медсестра — пожилая женщина в золотых очках.
— Володя, — негромко позвал Читаев.
— Он без сознания, — сказала медсестра.
Тубол постоял молча, потом сказал, что пойдет, а Читаев, если хочет, пусть останется здесь.
— Нельзя, — сказала медсестра.
— Я договорюсь с начальником.
Он действительно договорился, и Читаеву разрешили находиться в палате. Раза два или три ему казалось, что Хижняк приходит в себя. Он вставал, но медсестра останавливала его жестом. Она все время молчала, очевидно, по профессиональной привычке. Несколько раз заходил хирург, проверял пульс. Медсестра делала уколы. Читаев смотрел на желтое безжизненное лицо друга, представлял и не мог представить его развороченное пулями тело, сейчас туго затянутое бинтами, верил и не мог поверить до конца той страшной и нелепой мысли, что Хижняк умрет, непременно умрет. Трубка с кислородом. Капельница…
Он пришел в сознание под вечер. Медсестра чуть встрепенулась, и Читаев понял, что Владимир пришел в себя. Он вскочил и на цыпочках подошел к нему. Глаза у Хижняка были потухшими и далекими, но это был осмысленный взгляд. Читаев увидел в нем муку и боль, ему даже показалось, что Володя и хочет сказать это: «Больно!».
— Ну, как ты, Володя? — спросил он, опустившись на колено рядом с ним. — Как чувствуешь?
Уголки его рта чуть дрогнули, и Читаев понял, что Владимир хочет улыбнуться. Потом он, не подымая руки, показал большой палец. Сергей почувствовал, как к горлу подступил комок. Он попытался сглотнуть его, но не получилось.
— Мальчик… — едва слышно прошептал Владимир.
— Что — мальчик? — не сразу сообразил Читаев. Потом понял, заторопился — С мальчиком все в порядке, мать его забрала, ты молодец, Володя… Только ты поправляйся, слышишь меня, не хандри, врач сказал, что все будет хорошо.
Он продолжал говорить, но Хижняк закрыл глаза, Сергей продолжал все так же торопливо ободрять, обнадеживать, как будто именно от этого сейчас зависело все. Он замолчал, когда понял, что Владимир снова впал в забытье. Но через несколько минут Хижняк снова открыл глаза. Сергей с готовностью наклонился к нему.
— Скажи Нине…
Сергей кивнул и продолжал ждать, но Владимир молчал, глядя прямо перед собой. Сергей взглянул в его зрачки, в них уже ничего не отражалось, взгляд был нацелен куда-то далеко, и он понял, что Хижняк вряд ли сейчас видит его, стеклянную дверь палаты и вообще что-нибудь.
Позади остались Кабул, заснеженный Гиндукуш и его батальон. Читаев летел в отпуск, с нетерпением ждал встречи с родной землей. И вот в салоне произошло какое-то движение. Сергей мгновенно открыл глаза, потянулся к иллюминатору. Внизу ртутно блестела змейка реки. В одном месте ее перечеркивала ниточка-мост. «Началось наше небо», — подумал Сергей, зажмуриваясь от всепоглощающей голубизны.
Читаев не знал, что ждет его впереди: служба в Афганистане для него еще не закончилась.
Не мог он судить и о том, хуже он стал теперь или лучше, вполне ли удобен для людей. Известно же было одно: что этот долгий и трудный год уже навсегда перепахал его. И теперь вряд ли ему будет жить проще и спокойней. Скорее, наоборот. Ведь прошлое — как совесть: напоминает о себе, когда пытаешься его забыть. И забудешь ли? Пройденная дорога за спиной не исчезает.
Тревожен свет тех дней и ночей… В дымке времени.
Примечания
1
Царандой — афганская милиция.
(обратно)2
ХАД — органы госбезопасности в Афганистане,
(обратно)3
Модуль — здесь: сборно-щитовой одноэтажный дом.
(обратно)4
Тушак — матрас для гостей.
(обратно)5
Кяриз — подземная горизонтальная галерея для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность.
(обратно)6
Бача — мальчик.
(обратно)7
Сарбоз — солдат.
(обратно)8
Фаранг — европеец.
(обратно)9
Пату — составная часть афганского мужского костюма в виде накидки через плечо,
(обратно)10
Дрейш! Мекушам! — Стой! Убью!
(обратно)


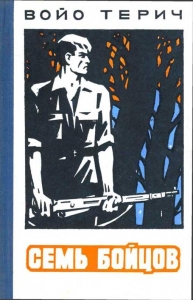

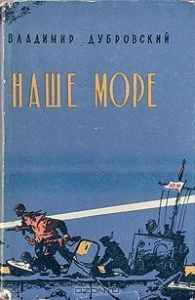


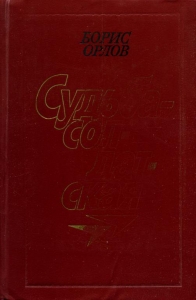


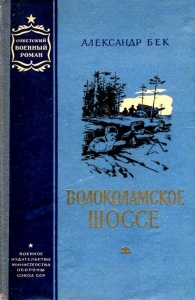

Комментарии к книге «Обвиняется в измене», Василий Владимирович Веденеев
Всего 0 комментариев