Материнский кров
Часть 1 Долгие проводы
Где жизнь текла, исполненная смысла…
1
На Кубани вызревало лето. Пшеница уже окрепла, зерна в молодом усатом колосе твердели, за каждой станичной околицей колыхалась под степным ветром желтеющая хлебная нива, и сами станицы в широких полях казались хорошо обжитыми островами. Наверное, отсюда, от двух южных морей и Кавказских гор, взяла разбег в необъятность российская земля или, наоборот, сюда простерлась, чтоб так завершиться — благодатной степной равниной, холмами курганов, изумрудной окраиной морей…
Много может родить кубанская земля, никакая другая с ней не сравнится. И в тот сорок первый год широк был здесь посев и жатва сулила удачу. Хорошо уродили, кубанские колхозные поля, сады, виноградники, огороды. На станичных подворьях было шумно от писка утят и гусят, цыплята уже бегали врассыпную, как тонконогие подростки, поросята выросли в подсвинков, телята паслись на уличной траве, и ягнята лепились ватажками возле ярок в тени плетней и хат. Когда пригоняли в станицы скотину из степи, просторные улицы становились тесными, поднятая тысячами копыт дорожная пыль клубилась, поднималась вверх серыми тучами, а заходящее солнце расплавлялось спокойно в край неба и медленно опускалось в степь, будто наработалось за большой летний день и оно, пора и ему погаснуть, отдохнуть.
Хлопотно было в кубанских станицах в предвечерний час. До самых сумерек дневные заботы все не отпускали рук хозяек, чем-то цеплялись, о какой-то работе напоминали, казались уже отошедшими, прожитыми, но заставляли еще и еще оглянуться, не сразу удавалось приостановить себя от кружения, чтобы войти в лад с миром, отходящим к покою. И все ж успевали хозяйки выдоить корову, разлить молоко по глечикам и к ужину все что надо вовремя пекли, варили, жарили, хозяину оставалось за семейным столом взять на грудь каравай хлеба и оделить каждого домочадца.
Наработано за день, есть о чем вспомнить за семейным ужином и что обсудить из завтрашних дел, и потому подолгу трапезничали кубанцы на вечернем вольном воздухе. В сумерках засвечивали на столах лампы, плотнее сгущалась за семейным кружком тьма, лучше были видны на свету лица, роднее казались друг другу люди, словно некое таинство творили они.
Стихал на подворьях семейный говор, светились окна хат, но молодых там почти не было. Теплыми звездными вечерами они собирались на углах улиц, танцевали здесь, пели хором, а то и в колхозный клуб надумают идти всей компанией, отгуляют там летний вечер и назад возвращаются вместе.
А в хатах не спали матери, покой теряли: если повзрослели дети, ночь матерям не в отдых, а в долгую думу. Думали о своих выросших хлопцах и девчатах, вспоминали себя молодыми. Трудное время прожили, ох и трудное! Мировая война была, революция, гражданская война, колхозы строили. Выдюжили, выправили жизнь на новый лад, будто сами вызрели, силу укрепили, теперь жить не страшно, только не помешала б опять война. Хочется еще лучше пожить, на детей порадоваться, на внуков. На такой плодородной земле не должно быть бесплодной человеческой жизни. Будут множиться семьи, расти дети и кубанскую землю называть своею родимой. Так здесь люди жили, так продолжится род человеческий…
В долгую радость хотела Ульяна Полукаренко прожить это лето. Вводил ее в счастливое нетерпение сын. В мае она получила от него письме: приеду на каникулы, ждите, мама и папа. Он и раньше писал и обещал приехать, а теперь в последний раз обнадежил и к тете Орине хотел съездить в Платнировскую, и к тете Киле в Сухуми, по всем родичам соскучился и приветы передавал, желал крепкого здоровья.
Как тут материнскому сердцу остаться в покое? Целый год ожидала Ульяна сына, готовилась получше приветить и задержать в родимой хате подольше, на него вся надежда, о нем первые думы и забота. В долгие зимние ночи плохо спалось ей, как наговорную притчу повторяла в ночной тишине: «Митенька, сыночко мой, я ж тебя жду не дождуся». И в думах о сыне коротала время от вечера до утра, забываясь днем в работе на ферме, плохо помнила и отличала один день от другого и по своему подворью ходила как потерянная. У калитки привыкла стоять — высокая, светлолицая, в белой косынке. Теперь, после такого сынова письма, согретая дума проблеснула надеждой.
С раннего утра начиналось в ней ликование. Просыпалась и спешила скорее открывать ставни, а сама думала: «Пусть и хата не стоит со слепыми очами, сыночка пусть тоже наглядает». Доила корову — сына парным молоком поить собиралась. Варила борщ, пекла оладьи — тоже и для него. Постель чистую Митину оглядывала — подушку хотелось до последнего перышка переласкать, чтоб ни одно не кололось, нежным пухом чтоб легло. И рушник со стены снимала и на вытянутые руки растягивала, не мазнул ли случайно отец сынову чистую утирачку. Ложку и миску на стол выставляла — это Митины, вдруг зайдет в хату, когда завтракаем. Не успел к семейному столу утром — может быть, вечером сядет.
С коромыслом из калитки выходила, а глаза не к речке привычно смотрели — в другую сторону, откуда мог подходить сын. И пока с полными ведрами по переулку осторожно от Псекупса возвращалась, под ноги не хотела взглядывать, все тянулась подальше впереди себя дорожку прокинуть: не идет Митя навстречу?
Не дождавшись сына и еще один день, переделав наконец всю домашнюю вечернюю работу, просила мужа почитать Митины письма. Слушала, как читал Матвей, медленно, по буквам вытягивал слова из писем, а виделся Митя, с ним вела разговор.
Вот уж загорелась нетерпением так загорелась — не остановить, не придержать, легкой стала какой-то Ульяна, неудержимой. А ведь к сорока продергивались ее годы, туда не всегда бегом бежала, часто и останавливалась, не в такое время жила, когда все впереди, как на ровной степной дороге, далеко просмотреть успеваешь. Ульяна привыкла все всерьез принимать, что касалось семейной жизни. Если ждать на днях сына — так ждать, значит, готовься, чтоб приехал и не сказал, что родители плохо встретили. И она хлопотала сама и Матвея неотступно теребила: «Ты ж Мите ро́дный отец, к приезду сына и ты переменись, хватит, пожил гулево, показаковал».
Матвей пробовал не замечать ее голубиной воркотни — вылетел из гнезда, мол, наш птенец, теперь надо и нам без детей пожить вольнее. Получалось, что можно не спешить с работой дома, ночевать в своей хате — не всегда обязательно, и выпить горилки ему никто не запретит, только жинка за чуприну приподнимет утром над подушкой и скажет свое: «Э-э, опять ты вчера набрался той водки, як кобель блох…» А он ей: «Та я ж не за свои гроши пил. Мне, ковалю, як козлу — везде огород».
— Ну, Матвий, я все про тебя Мите расскажу! — повела однажды серьезный разговор Ульяна. — Нехай сынок узнает, каким его ро́дный батько стал. Шо это такое? По станице стало стыдно от людей слухать про твою гульбу. Пойду я до вашего директора и спросю, сколько ж ты тех тракторов наремонтировал после пахоты и высевки? Какой из тебя кузнец и работник, если ходишь на карачках до подвирья? Важинский меня послухает, а тебе штурхана[1] с работы даст. Попробуешь тогда родному сыну сбрехать, за шо тебя из МТС выгнали…
Не надеясь на одни слова, решилась вечернюю выстойку делать неподалеку от кузницы. И вела не раз Матвея как блудного до самого подворья. А там уже и вовсе он в ее крепких руках оказывался — грела воду, поливала Матвею на руки, на шею и спину: намыливайся лучше, отмывайся к сынову приезду.
Матвей и фигурой и нравом был вертким. Он и умываясь не просто наклонялся, когда Ульяна хотела полить ему на руки из большой алюминиевой кружки, он принимал позу: колени в полуприседе разведены широко, локти стиснуты плотно, горсти ладоней завернуты в узкий ковшик. Намылил руки, промыл лицо и опять занял новую позу, чтобы мыть шею и спину. И домашнюю работу делал резко, быстро, так же и за стол садился обедать, будто у наковальни в кузнице работал: раз, два — выхватил что-то длинными руками из огня, ударил, пристукнул, снова отправил в огонь. Даже говорил резко. Скажет и застынет, ждет ответа.
Ульяна часто сбивалась от быстрых повадок Матвея, но смирилась, как терпела и другие мужнины причуды, — дом вела она, на ней здесь все хозяйство держалось, а Матвей летом жил как ночлежник. Ульяна вставала рано, первую кружку утреннего парного молока от коровы всегда несла ему и молча ставила рядом с кроватью. Пока он спал, нет-нет да и взглядывала, как ночная больничная няня, выпил или не выпил Матвей свежее молоко. Она и внешностью была похожа на больничную сиделку, светлые волосы всегда убирала под белую косынку и юбку закрывала чистым фартуком. Проснувшись, Матвей обнаруживал молочную кружку и, похмыкав и потеребив жесткие вислые усы, резко вставал с постели, так же быстро выкуривал цигарку, будто на короткую побывку ему разрешили войти в хату, и уходил на целый день в кузницу, возвращался как с дежурства, чтоб снова уйти.
Детей у них когда-то было четверо, да не зажились… Остался один сын, и тот уехал в Новороссийск, — учился там в горнопромышленной школе. Близких родичей у Ульяны в станице не было, только золовки и девери — мужнины сестры и братья, с ними она не сошлась. Сама она вырастала в большой семье, привычку заботиться о ком-либо с раннего детства заимела, не хотела терять ее и в зрелые годы, может, оттого и около мужа хлопотала всегда охотно. Наверно, и любила Матвея, но тут за долгие годы много насорилось поверх чистой любовной тропки, и была ли та тропка у нее к Матвею, сказать затруднилась бы, спроси кто-нибудь об этом. Давно ни с кем не вела Ульяна задушевных разговоров, могла и начисто позабыть молодую половину своей жизни.
Жили они в Холодном переулке, на самом краю станицы Псекупской. Хата у них не совсем прочная и вовсе не богатая: дерево, хворост, глина и солома — вот и все, из чего построили ее в двадцать седьмом году. Позже только деревянные полы выстлали в чистой половине и наружный вход дощатыми сенцами закрыли. В общем, простая была хата, под соломенной крышей, такие называли турлучными, их строили на быструю руку как временные, пока у хозяев достаток слаб или не могут построить жилье понадежней.
Когда долго обливали станицу дожди и ветер сек водой по стенам хаты с разных сторон, глиняная обмазка слабела. Непогода могла и вовсе прохлестнуть насквозь такое жилье. Значит, нужно было немедленно делать ремонт, высушивать стены теплом всех печей, в нежданных хлопотах и работе тратить часть своей жизни.
Переулок от речки уходил взгорочком и оканчивался вовсе крутой горой, оттуда далеко видна была вся приречная низина и предгорье. Жить близко к горной речке не каждый мог решиться, неспокойное на берегу Псекупса житье, всяк поселенец должен был себя к тому подготовить. Ульяна поселилась в этом месте четырнадцать лет назад, да и родилась поблизости, отцовская хата тоже стояла на берегу Псекупса. Так что почти сорок годов прожиты ею в соседстве с горной рекой. Переменчивой жизнью прожиты, беспокойной. Это и по внешности Ульяны заметно, и особенно в глазах — всегда в них вопрос, всегда забота и беспокойство, до всего она хотела сама досмотреться, ничему не верила на слово, на первый погляд. Нос у нее был с горбинкой, губы узкие, плотно поджатые и тонкая, как у степной дрофы, шея.
От матери, от Домны Глущенко, передались Ульяне внешность и жалостливость в характере, а та была тихоня и смиренница, восьмерым детям дала жизнь, семерых вырастила. Никакими хворями сама не болея, Домна всю жизнь лечила и жалела других. Над каждым своим дитем тряслась, как над самым дорогим сокровищем. Сохранилась в хате Ульяны старая фотография Домны и всех ее детей, а отца нет на той фотокарточке. Его и на подворье найти было трудно. «Где батько?» — спросит кто-нибудь, пришедший по хозяйственному делу. «Где-то гуляет. А может, по рыбу на речку ушел…» Но у Конона Глущенко было свое оправдание на гулевую жизнь.
— Обабился я, перестала казаков рожать мне жинка, — жаловался он знакомым станичникам. — Скоро и без земли останусь, и хату черкесы спалят, не с кем и отбиться.
— Потому и Домну так часто лупцуешь, и четверых ди́вчат на ниву раньше всех выгоняешь? — сочувствовали Конону и добавляли: — Весь ты в деда Евтуха. В драках на кулаки ты самый первый на нашем краю. А от черкесов братья тебе помогут отбиться и три сына. Целая дружина выступит под твоей командой.
— Та я и сам тех духоборов красной юшкой напоювал добре…
Отец долго служил в Петербурге и оттуда привез это ругливое словечко. Кто не понравится, на того и кричал: «Духобор!» Что оно означало, редко кто догадывался из станичников, и его самого за строптивый нрав прозвали Духобором. И к Ульяне перешли в наследство его крепость в кости и напористость. Она и в жизнь входила не слабыми шажками — смело вышагивала и вокруг высматривала, своим умом смекала, что к чему, и двух младших сестриц с собой выводила.
Пришло время садиться за парту, Ульяшка в попятную:
— Не пойду в школу!
— Почему?
— Там учеников линейкой по голове бьют. Не хочу, чтоб меня чужой дядько каждый день бил по голове.
Родители решили: да, с твоим характером, Ульяшка, тебя там будут на дню по нескольку раз бить. И насильно в школу не погнали: дома будешь работницей и нянькой, для этого грамота не нужна.
Впряглась строптивая средняя дочка Конона Глущенко с малых лет в крестьянскую работу. Землю пахать — Ульяшка ведет в борозде коней и быков. Пшеницу жать — она с серпом или снопы в копицу ставит, перевязывает. Со степной работы семья в станицу возвращается — Ульяшка без дела в подводе не сидит, правит конями, вожжи подергивая и кнутом помахивая. Отогнать надо коня на водопой — садится ему на спину и скачет, уцепившись за гриву и пуская коня наметом, большими скачками, тогда не так трясет босоногую наездницу.
В бедовую дивчину Ульяшка росла-перерастала. Где другая промолчит, стерпит, там она обязательно шуму наведет, не простит обиду, обидчика надолго запомнит. А уже надвигались на станицу грозные события, началась мировая война, и скоро с турецкого фронта привезли тифозным среднего брата Семена, в беспамятстве тот прометался и угас. В гражданскую войну ушел воевать и не вернулся старший брат Алексей, а чуть позже привезли в станицу бездыханным младшего, Федора. Мать заболела, слегла и больше не поднялась.
Время голодное после гражданской войны настало, в ее семье был один казачий надел на восьмерых едоков, и тот засухой спалился, значит, идите, казачки, в наймички. Подрядилась с сестрой и другими станичными девчатами сортировать табак у грека Кизириди. Денег за работу богатый грек не платил — давал два раза в день кукурузную похлебку. К вечеру Ульяна уморилась и прикорнула за табачными ящиками, а сестра Орина взяла огарок хворостинки и нарисовала ей сажей усы. Пробудилась от крика: «Грек идет! Грек идет!» В круг девчат села и попала под общий смех. Смеялись подружки, пальцами в нее тыкали и еще больше хохотали. Она глянула на кофту, не расстегнулись ли пуговицы, прошлась гребенкой по волосам. И тут под навес табачного сарая шагнул высокий чернявый красноармеец в шлеме со звездой, в серой шинели и в лаптях.
— Подайте табачку отставному солдатику, — схристарадничал он и крутнул лихой ус. Вгляделся в кружок девчат, перебирающих при свете двух керосиновых ламп листья табака, задержал глаза на Ульяне: — А, кавалер у вас свой уже есть? Пустит в компанию?
— Иди и ты, братуська, до нас! — взвизгнула Тайка Полукаренко и повисла на шее красноармейца. — Совсем отслужился, Матя?
— Совсем, сестричка, совсем. Другие хлопцы теперь вас стерегут, а я танцевать с вами буду. Чи не гожий в лаптях на такое дело?
— Гожий, гожий, — крикнули девчата хором, а Ульяна стушевалась после его взгляда и слов о кавалере, сидела наклонившись и чувствуя, как ее белое лицо краской стыда заливается. Орина ей зеркальце в руку вложила, и она, отворотясь, зыркнула на себя. Подхватилась, прыгнула за табачные ящики, давай там обтирать черную сажу с лица. Девчата снова в хохот, но ей хоть заплачь, так опозорилась перед красноармейцем. Как он смотрел на нее, а говорил что?.. Да пускай хоть со всей станицей перетанцует… Обидно было и досадно, так и пряталась от стыда за ящиками, пока Матвей не ушел.
Но свою судьбу кто ж заранее знает, а девичья доля всегда с загадкой. Той же осенью Матвей Полукаренко прислал к ее отцу сватов, и Ульяна охотно вышла за него замуж. Ей ли, нелюбимой падчерице, сидеть на пуховых подушках и жениху «гарбуза выставлять»? Померла в гражданскую родная мамочка, не дожила до ее свадьбы, вместо нее хозяйничала в хате отца Мария Белинкина, злая молодая мачеха.
Отец по случаю Ульяниной свадьбы в казачий чекмень[2] вырядился и сапоги и сказал сватам:
— Отдаю свою лучшую дочь, золотую рыбку на волю кидаю. — А ей шепнул: — В коренники жених твой, Ульяшка, не годится, а в пристяжные — хорош.
На бедность Матвея намекал и на характер. А разве то вина молодого хлопца, если в семье десять душ и отец приковылял с японской войны на деревянной ноге? До самой революции Матвей работал на чужой земле, подпортил на поденщине осанку, рано стал сутулиться. Но вывернулся ведь от кадетской мобилизации, нашел в горах красных партизан, служил красноармейцем.
В день свадьбы Ульяна и Матвей смотрелись красивой парой и оба верили, что семья у них будет счастливой. На ней была белая кофточка, отделанная кружевами, и желтая длинная юбка, голову газовый шарфик прикрывал. Матвей приоделся в серый френч с накладными карманами, кубанку, яловые сапоги. Венчались в церкви и свадьбу гуляли под гармошку и казачий полковой барабан. Для Ульяны это был самый счастливый день в жизни. Она подозвала десятилетнюю «светилку» Одарку:
— На тебе, моя хорошая, шарфик на счастье. Будет и у тебя невестин наряд…
После женитьбы зажили в семье Матвея трудно. Отец его к тому времени помер, земли было четыре десятины на трех женатых братьев, малую детвору, свекровь и трех невесток. Но отделиться, как предложила Ульяна, и получить свой пай земли не удалось — никто в то время не занимался в станице земельным переделом. Выехали жить на степной хутор.
На хуторе Матвей построил свою первую хату. Пришлось торопиться, все делал он спохвату и сколотил зимовник тесный и неуютный. А прожили в нем шесть лет, и там Ульяна три раза рожала.
— Ой, берегись, Матвий, забросает тебя Ульяшка детьми, як котятами, — подсмеивались мужнины родичи. Матвей хукал в свой большой кулак и говорил:
— Вот и добре — больше земли нарежут.
В двадцать седьмом году дождались передела земли, получили на четверых едоков шесть гектаров и теперь могли развернуться в собственном хозяйстве. Первая дочка у них умерла, но вторая, Варя, подрастала, сын Митя бегал уже своими ножками — впереди была целая жизнь, в трудах и заботе о детях. Хуторской зимовник для новой жизни больше не годился, решили переехать в станицу и там строить новую хату. Хорошую и крепкую хотелось поставить, и в надежном месте, чтоб и с горы не сползла, и речным половодьем не заливало. Крутились, выгадывали, где и как лучше строиться.
На деревянном каркасе намеревались хату ставить, главное — сохи-стойки заготовить, балки на перевязку и для потолка. Съездил Матвей с плотником Зиньком Волошиным за Лысую гору, заготовили там в лесу тесанину из молодого дуба и в три недели выставили каркас хаты, обвязали стены и потолок хворостом, покрыли крышу соломой. Дед Легун сложил две печи — «грубу» в чистой половине (великой хате, по-местному) и «русскую» в хатыне (летней половине), родичи и соседи собрались на толоку, обмазали стены и потолок глиной.
Просторным получилось жилье: в великой хате горница и спаленка, большие сенцы отделяют хатыну, где зимой все припасы можно хранить. Но закончить постройку хаты быстро не удалось. Отделали только чистую половину и сенцы, а летняя осталась черной, даже без оконных рам. Надо было худобу тягловую заводить свою и инвентарь для хозяйства, к тому ж Ульяне снова предстояло рожать. Теперь она сама смеялась над собой и говорила мужу:
— Дуже ты, Матвий, способный на детей. Як поцелуюсь с тобой, так и маленького сразу найду. Некогда и на степу мне робить.
Матвей на Митю кивал:
— Не знаю, Ульяша, кто тебя тот раз целовал, не похож на меня наш хлопчик.
И правда, сходства с отцом у Мити было мало. Матвей чернявый и горбоносый, волос на голове — фуражку проколет. А у сына волосенки белявой куделькой вьются над чистым лобиком, нос мягкий, уши торчат в стороны.
— Матусин сынок, матусин, в конопле нашелся Митя, — смеялась Ульяна. — Зато Варенька в тебя, Матвий, все отцовское обобрала до капельки.
Ульяна еще одного сына родила, Ваней назвали. Второй сынок оказался точной копией Матвея, угодила, значит, на этот раз мужу во всем. Надеялась, что теперь уж доведут они свое жилье до полной готовности, куда и гостей не стыдно будет позвать и где самим жить удобней, чище. Крепкое хозяйство, думала, выправлю, выдюжу все, через все пройду и семейную жизнь устрою крепкую, все в моей хате и на подворье будет, что нужно для работы в степи и дома, и муж надежный, и деточки здоровеньки и умненьки. Ради того домостроя и ломалась в работе, себя не жалела, детей в строгости растила, жить по правде учила, за неправду хоть кого готова была «выкрасить». Жила хатой, семьей и думала, что так и надо всегда жить. А своя земля, семейный надел — первооснова жизни, на ней, на своей земле, была главная работа.
Когда в станице появились первые колхозы, Матвей предложил ей вступить, но Ульяна заупрямилась и главной причиной детей выставила: «Я на колхозную ниву робить пойду, а детвору под чужой присмотр отдам? Не отдам никому своих детей!» Решили подождать, присмотреться, что это такое — колхоз? Слухов много ползало среди псекупцев и про духоборские общины, в которых тоже поначалу все имущество было общим, а после его захватили старшины и рассказывали, что в колхозах заставляют принимать духовное причастие на собрании, а отца с матерью колхозники не почитают, мол, иконы держать в хатах им запрещают. А тут еще случай показал, как колхозами командуют люди, которые сами прежде на земле не работали.
Весна в тридцать втором году выпала поздней и мокрой, долго не просыхала нива, все сроки сева передерживались, а не каждое место готово было под семена. Особенно сильно замокрилась низина возле Соленого ерика — ни конями туда не заехать, ни трактором. Председатель колхоза «Парижская коммуна» Григорий Корогод на собрании сказал:
— Давайте, товарищи колхозники, вместе решать, как будем сеять пшеницу у Соленого ера?
Всем колхозом постановили: посеять руками, как наши деды сеяли, а ждать уже нечего, останется нива пустой на целый год. Выбрали опытных стариков, те поотыскали свои древние посевные сумы, надели их через плечо и вышли в поле сеять-засевать. За сеятелями пустили легкую борону с одним конем. Работали, рассыпая по мокрой земле зерна пшеницы и прикатывая их бороной. Откуда ни возьмись, объявился у пашни районный начальник.
— Эт-то что за безобразие? Прекратить! Почему не используете трактор и многорядную сеялку? Дискредитируете машинную обработку почвы?
Чужим, некубанским выговором кричал грозные слова районный начальник. Председатель колхоза не стал дальше слушать чужого человека, махнул рукой и пошел прочь с пашни.
— Под суд отдам всех! — кричал в председателеву спину наезжий начальник. — Вредители!
Жизнь привычная круговертью пошла и в семье Ульяны — голодовка в тридцать третьем, смерть Вареньки, сама начала болеть и Ванечку схоронила. Оставалась хата не достроенной до конца, и вся жизнь проходила перестройку. Бывали в хате и совсем пустыми стены, труба не теплилась дымком человеческого жилья, стыл семейный очаг холодом, и с крыши однажды горный ветер сорвал и развеял солому, стропила, как ребра, просвечивали в синее небо.
Огород когда-то дотягивался до Псекупса, был просторным, яблони и вишни росли неподалеку от хаты, но позже колхоз «Восьмое марта» построил на берегу Псекупса табачные сушилки, и сад Ульяны пошел под раскорчевку. Она не сразу отступилась от своего сада, мол, много есть на краю станицы и других мест для табачных сушилок, потребовала оплатить ей убытки за погубленный сад, добилась, чтоб дали взамен еще один участок земли под огород. Много шума навела при отторжении ее прихатней землицы, да зажила отныне тесновато. Осталась у нее на подворье шелковица возле калитки и несколько кустов винограда вытягивали вверх плети возле лицевой стены летней половины хаты.
И все-таки она никуда не переехала, лучшего места для жизни не стала искать. Не те уже были ее годы, когда ищут, куда пустить корни, рискуют, пробуют разную землю на ощупь, не раз встают на спор с судьбой. Было раньше и с ней такое, пробовала уезжать из станицы в табачный совхоз, два года помытарилась, и прочно осела на том месте, где родилась, и с тех пор свою хату главной опорой жизни определила. Брала любой подряд, на поденщину и сезонные работы шла, зато хозяйкой своей хаты оставалась, жила домом, семьей. Молодая была она статная, красивая и неугомонная, да «где ж те синие глаза и кожа шелковиста?». К сорока годам ее белое лицо покоробилось, как тот наличник над окном, что всегда открыт днем и ночью, в жару и в холод все видит, все терпит, пока хата стоит. Двадцать лет прожила вместе с Матвеем, всякое за эти годы случалось: и в отлучках Матвей бывал, и над детским гробиком не раз надрывали оба сердце, и песни певали в просветленный час, и в работе дружной находили счастье.
2
Близилась жатва, подоспела работа на кормовых полях и сенокосах, оживилась летняя базарная торговля. Псекупцам было что нести туда с садов и огородов. Часто хозяйки выносили свежую зелень прямо к калиткам и дороге на Горячий Ключ, зная, что проезжают к морю курортники — люди денежные и охочие до сладких фруктов. А на воскресном базаре торговля и вовсе развертывалась широкая, с будними днями и сравнить нельзя, особенно если время к концу июня подступило.
Ульяне в будние дни на базар бегать было некогда. Она работала в Псекупской конторе «Заготскот» в полевой бригаде, и там много было хлопот. Своя одна корова и та заставит летом забыть про покой и отдых, а их на ферме было без малого сто, да с ними телки и бычки, да барашки, да птицы всякой прорва. И всех надо кормить исправно, иначе какая ж будет заготовка мяса — терять начнешь и убытки считать, есть кому в конторе и учет вести, и работу распределять, и спрашивать, что сделано.
В общем, хватало Ульяне работы на сенокосах, а на домашнее сено надо было какое-то остатнее время выкраивать. Без своей косы из хаты не выходила утром на работу и вечером всегда возвращалась с вязаночкой сена. Но это были, конечно, крохи, она впрямую заговорила об этом с Матвеем, не отступилась, пока он не отпросился с работы и не уехал на покос за Виленский хутор.
Двадцать второго июня в станице был воскресный базар. С самого раннего утра началась торговля, и час от часу уплотнялись торговые ряды, густела толпа, прибавлялось товаров и новостей. Уже и в ближние улочки переметнулась азартная распродажа свежей зелени, и к мосту через Псекупс — тесной стала базарная площадь.
Псекупцы постарше припоминали, какие ярмарки были когда-то на заречном лугу, где в обычные дни казаки обучались джигитовке, рубили на всем скаку шашками хворост, а по воскресеньям заречье пестрело многолюдьем и весельем, все там можно было купить и продать, туда шли как на праздник. Из многих закубанских станиц съезжались тогда в Псекупскую торговые гости, даже черкесы пригоняли табунки породистых коней, годных для казачьей строевой службы, и многое другое боевое снаряжение везли сюда на продажу: папахи, чекмени, бурки, наборные пояса, кинжалы, сабли, ружья. Тогда на воскресном базаре каждый хозяин мог отовариться и конем, и плугом, и сбруей, и прочим нужным в хозяйстве инвентарем и инструментом, покупки измерялись на пуды и центнеры, увозились возами и обозами.
Теперь базарная торговля стала исключительно женской, у них в руках были и товар и барыш, они зазывали купить, они ж и приценивались, и шум наводили своими южными распевными голосами, и за мужьями успевали следить, и проверять их трезвость. А те в торговлю вникали без прежнего запала, норовили протиснуться ближе к столовой, где торговала пивом и водкой грудастая Палашка Артюхова и где былая казачья удаль вспоминалась вдруг и тут же находила поддержку и сочувствие, душа распахивалась шире, уже хотелось весь мир объять, приветить друзей и дотянуться кулаком до врага. То и дело в столовой возникали споры из-за пивных кружек, кто-то лез к буфетной стойке без очереди и доказывал свое, отбивался от отшвыривающих его рук, у иного псекупца соловели глаза и по-лошадиному пенился рот, такой со всеми здоровался за руку, прикладывал запретно палец к губам, не говорите, мол, моей жинке, что уже так упился.
Ульяна заняла место в молочном ряду. Когда-то она и зелень продавала на летнем базаре, да осталось на ее подворье всего восемь соток на все фруктовое и овощное разведение. Вот и крутись теперь чаще возле коровы.
Хорошую нетель купил Матвей, девяносто пять рублей отдал, а она ее вырастила. Вербой назвала за тучную породу и вымя просторное. Почти тридцать литров давала за день летом Верба, и жирным было молоко, за повышенную жирность даже налог Ульяне снижали и в пример другим хозяйкам ставили.
Покупали не сказать чтоб нарасхват, но опорожнялись Ульянины молочные глечики и стеклянные банки, горка творога оплывала. Наверное, строгим ликом и белизной косынки и фартука внушала она доверие покупателям. Спрашивали больше городского вида дамочки, в них она без труда узнавала жен красноармейских командиров. Были и у нее на квартире военные из кавалерийской части, и ничего, ладила, учила варить вареники и галушки, орешки из теста выпекать, а сама пельмени от них переняла, пироги-рыбники. Не мешали ей военные квартиранты жить привычным ладом.
Однажды она случайно услышала разговор квартиранта-майора и его сослуживца. Пришел тот в гости и кивнул на икону:
— Почему она висит в вашей комнате, товарищ майор? Нужно немедленно снять ее! Как вы можете терпеть рядом такой позорный пережиток?
Майор спокойно ответил:
— Во-первых, комната не моя, а хозяйкина. Зовут ее Ульяна Кононовна. Запомните, капитан: мы в этой хате гости, ничего не имеем права требовать, как военные, и вмешиваться в жизнь мирных людей. Икону повесил не я, и не мне снимать ее…
Командиров и красноармейцев здесь, на базаре, всегда много ходило. «А почему сегодня их совсем не видно, — присматривалась Ульяна к толпе: — А может, что-нибудь случилось?»
Радио на базаре внезапно смолкло. Оборвалась там музыка, будто провода кто-то перерезал. Толпа притихла, все смотрели на столбы с репродукторами. Рядом с Ульяной две торговки упомянули станичного монтера Петра Скуба, как ловко лазает тот по столбам, нацепив на сандалии железные когти, и висит после на самом верху, обвязывается вокруг столба широким брезентовым ремнем. И наушники у монтера есть, подцепит скобой прямо на фуражку и слушает провода. Знает свое дело Петро Скуб, надо послать кого-нибудь за ним, пусть проверит репродукторы…
Вверху зашуршало знакомым радиозвуком, кто-то готовился говорить.
— Товарищи! Через одну минуту мы будем передавать важное правительственное сообщение…
Голос диктора узнали все. Он обычно выступал по самым торжественным случаям, его слушали всегда затаив дыхание. Что он скажет сегодня? Про Германию последнее время больше всего говорят и пишут, после того как в Москве договорились, чтобы немцы не нападали на Советский Союз. А с другими странами немцы воюют давно, с ними почему-то мира не берут…
— Дорогие товарищи! Сегодня, в четыре часа утра по московскому времени германские войска вероломно, без объявления войны…
Страшные слова трудно брались на веру. Псекупцам хотелось, чтоб их пересказали все заново крепким державным голосом, чтоб каждое слово было громко услышано и точно понято; нельзя ж о такой нежданной беде узнавать по-другому! Да неужели то все правда? Может, пока провокация?.. Сколько их уже было, тех стычек на границах… Значит, навязали германцы войну, пошли опять воевать на русскую землю…
Крестились женщины и старики, какая-то молодица сорвалась голосом. Воскресный базар в пять минут опустел — война ворвалась в станицу и как смерч разметала привычную жизнь. Тревожно уходило в разные улицы одно слово:
— Война… война… война…
3
В окнах станичной школы горел свет, около хлопающих часто дверей толпились призывники. В одном месте, в другом, третьем белели женские косынки, будто свечи горели вокруг каждого призывника. А Ульяне пока хотелось оставаться одной. Выйдет Матвей, тогда и у нее начнется одинаковая со всеми станичными бабами судьба, солдаткой станет, как и они… Она отошла чуть поодаль, к молодому дубку, и не чувствовала рукой тяжести мужниной солдатской котомки. Одышка понемногу отпускала, но сердце сбилось от быстрой ходьбы, никак не могло выровнять стук. В военкомат сейчас все спешат не опоздать, а тут четыре дня дожидался Матвея вызов.
Повестку во вторник принесли, а Матвея и дома нет — на косьбу неделю выпросил себе и жил на покосе, не зная, что уже война началась, что надо винтовку брать ему в руки, уже призвали его в солдаты. Хотела сразу бежать туда и удержала себя, отсрочку дала Матвею и себе, да и Митю сюда ж подтянула, вдруг в эти дни приедет, вот и простится сынок с батькой, и Матвею такое провожанье станет дороже. Не вышло так. Подхватились оба, как только с покоса вернулся Матвей.
Со всего района сюда собирают на фронт, значит, нужда там в подмоге большая. Перевели и военкомат из Горячего Ключа в станицу. Псекупская ж три дороги свела в одну. И та теперь военная. Вот и по радио в каждой сводке с войны только и слышно: «Превосходящей силой потеснили наши войска…» Сколько ж тех немцев пошло войной на русскую землю? И самолетов немецких летает в русском небе видимо-невидимо, как саранчи… Господи, прости меня… То мой грех, не Матвеев…
Толпа призывников и провожающих колобродила на школьном дворе, но временами здесь раздавались военные команды, появлялся строй, делалась короткая перекличка, отряд за отрядом уходил в сторону Молькина хутора, где шло формирование воинских частей. И женщины в белых косынках семенили вслед строю, еще не фронтовому будто строю, еще можно было увидеть своих мужей и сыновей в том строю, еще боль отрыва не стала утратой, горе войны не открылось, было пока где-то далеко от кубанской земли. Уходили одни, вызывали других, круглые сутки напролет тянулись проводы и прощания.
Матвей вывернулся из-за чьей-то спины неожиданно, Ульяна даже удивиться не успела, как это она не высмотрела его в дверях. В окно, что ли, выпрыгнул ее Матя, или другой выход есть из школы, но вроде бы нет, сюда водила сына учиться, знает здесь все ходы и выходы, одна тут дверь на все случаи, и на такие, как война. А Матвей уже тянул из ее рук свою солдатскую котомку и не горевал глазами, как два часа назад, усы даже как-то вздернулись у него кончиками браво от какой-то удачи. Как заплакать рядом с таким? Обнимает свободной рукой, и ладонь на плече спокойная, и голос не рвется прощанием. Значит, оставили пока, не уходит на фронт ее Матвей? Господи, как это так случилось, если все уходят в ночь, уходят…
Она плохо соображала, наверно, от счастья, оглядывалась вокруг, будто вырывалась от Матвея и его слов, глазам его и своим не верила. И вдруг сорвалась, потянула мужа за руку, быстро-быстро пошла под горку, побежала, и Матвей бежал рядом с ней, топал сапогами, пробовал приостанавливать и говорить, что спешить им теперь некуда, отсрочку ему дали, отсрочку от фронта, от войны. Она дергалась от таких слов, не принимала их в свое сердце. «Молчи, Матя, молчи, а то вернут нас обоих, отбился от всех, так молчи…» Белую косынку готова была сорвать с головы, чтоб не выбеливала, на солдаток не делала ее похожей. Не горит ее свеча, не горит…
Спуталось у них сегодня все, сбилось. В хате не стали зажигать лампу, оба торопливо раздевались каждый у своей кровати, но спать легли в ее, Ульянину, кровать, куда давно не пускала Матвея, а в эту ночь забыла все свои обиды, ревность и все сорное. Давняя страсть вернулась сегодня к Ульяне, будто заново Матвея сделала своим, ни с кем теперь не поделится.
— Ма-а-ать-я…а, — шептала, целуя Матвея в щеки, а слышалось: «Мать я…» Он растерялся поначалу от ее натиска, молча целовал в шею и в плечо, настраивал себя на свою мужскую любовь, будто припоминал изрядно подзабытое дело, не знал, куда приложить руки. Она слабела от прикосновения его ищущих рук, просила чего-то:
— Ма-а-ать-я…
И опять слышалось материнское в голосе и ласке, и это останавливало руки Матвея. Как же она могла жить без этих рук, кому, глупая, отдавала их на ласку и зачем?
— Ма-а-ть-а…
Мой, мой, никому не отдам, никогда. Все во мне от Матвия, все хочу сама, все… Как хорошо, господи… И Ульяна нежно запускала ладони в жесткие вихры мужа, близка так была к нему сейчас, как никогда, даже в ранней молодости и свежести своей, не была близка, — вся, всем своим существом. Она даже тела своего не стыдилась, забыла, что оно было у нее костистое, без лишней толщины, какая накапливается у баб ее возраста, работа тяжелая с потом все лишнее из нее изгоняла.
— Ма-а-ать-я-а-а…
Утром Матвей все-таки ушел в военкомат. Нашлась пока там ему служба в комендантском взводе — ходил караульщиком у школы и около гусеничного трактора, на каком въехал в свое подворье Максим Чепило, да тут и взяли трактор ЧТЗ на особый учет как военную технику, установили караульный пост, а самого тракториста отправили на фронт.
С неделю прослужил Матвей при военкомате, и на этом его солдатская служба закончилась. Он вернулся домой и рассказывал Ульяне:
— Стою с винтовкой около школы, а мимо едет по дороге на линейке директор МТС и кричит: «Полукаренко, ты что тут делаешь? Тебя давно ждем в кузнице. У нас тракторы некому ремонтировать, а ты полегче работу себе нашел? Тут не молотом махать, да?» — «Та я ж не своею охотою здесь. Я — мобилизованный…» — «В кузнице ты нужнее. Так я и скажу военкому Трофименко».
Ульяна слушала Матвея и соглашалась: нужней ты, Матвий, тут, в станице, хорошо, что вернулся в семью. Наверно, подсказывало сердце, что предстоят ей долгие проводы Матвея на фронт и еще не раз сорвется душа ее горестным криком прощания.
Сдал Матвей винтовку, вернулся в кузницу. И районный военком возвратился со своими помощниками в Горячий Ключ, как только собрал в Псекупской и отправил на фронт нужное число призывников. Установилось на время в станице затишье.
К Ульяне в эти дни подошел бригадир Стрекота и в новую смуту ввел:
— Готовься, Кононовна, новую должность принять.
— Отстань, Самсонович. Есть пограмотнее меня, помоложе, тех и кидай на должность. А я стара, хоть и прокосную ручку пройду хоть с кем, ни от кого не отстану, — отмахнулась она.
Но бригадир продолжал свое:
— Коней принять не хочешь? Ты ж из всех казачек ловка с конями справляться. Правду я сказал, товарищи женщины?
Разговор был, когда вся бригада собралась в нарядной. Любил устраивать здесь вечерние сборы бригадир, сюда ж и новость от начальства принес. Ульянины товарки начали ее обсуждать.
— Ловка наша Кононовна. Любого жеребца обуздает…
— В конюхи не отпустим…
— Ветеринара Реву на замен не возьмем…
Бригадир наконец прояснил обстановку:
— На линейке будет начальство возить наша Кононовна. В должность кучера перевод ей. Это приказ.
И вот теперь запрягала Ульяна, с утра лошадей в выездную линейку и ехала к дому Федора Трофимовича Горитьченко. Управляющий заканчивал утреннее бритье, завтракал, потом выходил на крыльцо наводить блеск на сапогах — надевал на руку голенище, высоко подкидывал и наяривал щеткой, крутя сапог и вспучивая в сторону Ульяны буденновские усы: ну как, пустишь меня, Кононовна, рядом с собой посидеть, или плохо начистил, так постараюсь еще, чтоб муха села на сапог — и глаза у мухи лопнули от блеска. Любил побалагурить Федор Трофимович, и в дороге с ним не скучала Ульяна, пока до конторы везла. Он был свой, станичный, человек, давно знал ее и спрашивал про семью, новости рассказывал, собирался уходить скоро на фронт. Она сидела рядом, приодетая в свою лучшую летнюю кофточку и юбку и обутая в тапочки с узорными швами, ей было неловко в роли кучера, не знала, как разговаривать с начальством, больше молчала и сутулила плечи, как Матвей.
Полдня она возила управляющего на парадной линейке, после запрягала лошадей в большую арбу и становилась подвозчицей корма. Возвращаясь к привычной работе, выравнивала себя на полный рост, все делала уверенно, без оглядки и опаски сказать не то или не выполнить вовремя какую-то команду. Ее называли в бригаде и на ферме тетей Ульяшей или Кононовной. Да и трудно было по-другому к ней подступиться — пережила в жизни много, лишними словами не сорит, в обиду себя не даст, в любой работе ловка, на выездной линейке и то всегда косу возит, себе что-нибудь подкосит, косарям подсобит.
Ей завидовали многие станичные бабы, особенно когда она в линейке сидела рядом с управляющим, мужчиной, по станичным меркам, представительным, как напоказ себя тоже выставляла. Но никто в станице ни в чем не мог ее упрекнуть, только за мужа и доставались ей людские оговоры. Недавно ей встретилась в центре станицы незнакомая фасонистая дамочка и спросила:
— Тетечка, вы Полукаренко будете?
— Полукаренко.
— А Матвей Полукаренко — ваш сын?
— Муж мой — вот кто!
— А вы, тетечка, таки стари против Матвея. У того щеки красни, из себя весь молодцуватый…
— Он за себя только думает, а у меня и за него душа болит, и за сына, и за хату, и за всю работу. Я смотрю, и ты «молодцувата». Матвий таких сучек любит…
Сказала Матвею вечером об этом разговоре, навела шума. Но утром уже виноватилась: зря приревновала. «Мой Матвий и правда в сорок один год на парубка смахивает: усы чернявые, чуб густой, глаза свежие синие и плечи молотобойца. Сын так сын. Да мой Матвий, мой! Любой потаскухе за него глаза поковыряю!»
Нет, ничего хорошего сварами не вернешь, успокаивала себя Ульяна. Чего не видела своими глазами сама, за то не спросишь. Мне ж Матвия на войну провожать. Из дому, от семьи пойдет, не от потаскухи.
Летние военные дни множили заботы, обостряли тревогу Ульяны. На фронт уходили из Псекупской все новые и новые призывники. Забрали всех псекупцев моложе сорока лет, и совсем молодую мужскую поросль взяли на приписку в военкомате, очередь подступала и к старшим возрастам. Должны были взять и Матвея. Отпустили подремонтировать тракторы, отдали одно особое распоряжение, в любое время отдадут и другое: собирайся, кузнец, прямая тебе дорога на войну, пора — иди.
Второй раз вызвали в военкомат Матвея на исходе июля. «Значит, все, — думала Ульяна, опять собирая мужу котомку. — Больше не вернут домой». А разлука и в этот раз краткой вышла. Матвей вернулся на другой день из Горячего Ключа и сказал:
— Ну вот, мать, был я кузнецом по простым железякам, а теперь меня записали ковкузнецом. Буду учиться армейских коней ковать. Давно я за партой не сидел и в тетрадке не малювал.
Матвею шутки, а ей дума в голову: «Теперь точно заберут. Коней на фронте много, они ж не стоят по конюшням, в гону каждый день, подковы сбивают быстро…»
Она извелась ожиданием, старалась собрать побольше Матвею на проводы коровьего масла и сметаны и в ближнее воскресенье отказалась идти на базар. Звали соседки, забегала на ее подворье золовка Млыниха, принаряженная, говорливая, привыкшая к базарной торговле и к пересказу новостей. И та не уговорила.
— Нечего мне туда нести продавать, для Матвия все оставляю, — давала всем один ответ Ульяна.
— У тебя ж, Ульяша, сейчас Матвий и по выходным дням ковалит в кузне, и сына дома нет. Закрывай хату на замок и подхватывай кошелку. На людей других посмотришь, новости узнаешь. Гуляй, як твий Матвий гулял, когда ты на степу работала, — сказала ей Мария Любивая.
— Ты, Маруська, за своим Петром чаще пригляды держи и языком меньше бреши. А шалавых попутчиц для базара себе на других подворьях шукай, не на моем. Шоб больше и ноги твоей тут не было!
Быстро выметнулась соседка за калитку. А Ульяна долго не могла успокоиться. «Так я и побежала с вами на базар! Так и уселась торговать, как Одарка Млыниха. Отправила Захарку на фронт и за кошелки похваталась — некогда горевать, огород и сад не успеет перетаскать, пока цена подбилась высоко».
4
Середина августа минула, война подхватила в разбежистый счет весь второй месяц и третий туда же потянула. Станица проредилась от мужского безлюдья, всюду женские руки были в работе, все новости порхали бабьими слухами, и каждая почтовая весточка казалась фронтовой, будто только оттуда, с войны, могли сейчас писать письма. Так и Ульяна подумала, когда получила почтовую открытку. Четверо братьев Матвея на фронте, кто-то из них и написал ему короткое солдатское письмецо. Она даже почтальонку не стала ни о чем расспрашивать, все от Матвея, думала, узнает и от кого пришло письмо, и как тот воюет. Нет, ошиблась — письмо было написано ей.
Митя в конверты всегда закладывал письма, он у нее аккуратный хлопец, еще и голубка нарисует по месту заклейки. Значит, Орина, младшая сестрица, соскучилась и написала открыточку. Старшая, Акулина, а по-станичному — Киля, из Сухуми изредка посылала весточку, но у той курортные картинки на виду, а о себе два слова и скажет: жива-здорова, и все, больше родичам и не отпишет, к обезьянам в питомник спешит, о них у нее, бездетной, вся забота.
Все это Ульяна смекнула, еще и в руках не подержав открытку, еще когда ее доставала из сумки Клава Сырмолотиха.
— Сестричка вам пишет из Платнировской, — протянула рукой и голосом почтальонка, радуясь заранее тому, что-письмо не военное и плохих вестей содержать не должно. — А сынок ваш пока чернила разводит, другим разом привезу.
Ульяна знает Клаву давно. Не ровесница, но и далеко не убежала почтальонка годами, тетей Ульяшей не называет и одним отчеством звать ей не с руки, на «вы» всегда величает. Ульяне привычка ее развозить письма на велосипеде не нравится — задерет почтальонка юбку выше коленок и крутит педали, толстые лытки мелькают у всей станицы на виду.
— Ты, Клава, краснеешь, когда тебе навстречу дядька или хлопец идет? — спросила она как-то. — Или ты привыкла, как цыганка-гадалка, от одной хаты до другой мотаться и никому глаз в глаз не смотреть?
— На работе я, когда по станице еду, от работы и краснею, если улица крутая, никак педалями не выкрутить. Тогда и кидаю глаза до горы, та пособить все равно никто не пособит, а письма все любят получать на своем пороге.
Рябовата почтальонка, лицом не светится, но зубы железные у нее блестят, и она показывает их часто в разговоре, будто дразнит станичниц, многие ведь ходят щербатыми, многодетные всегда зубы губят. Но пусть разговорит сегодня Клава сестрино письмецо, чтоб не томиться весточкой и к другим грамотным не нести читать. И Ульяна не приняла открытку в свои руки, взялась за руль почтаркиного велосипеда:
— Почитай, Клава, будь ласка. Оря ж не натрусила лишних слов.
Да, сестрина весточка была короткой, а печалью давнишней коснулась сердца и бедой свежей, военной, от какой уже многие семьи сиротскими стали, и бедность в них криком кричит, закликает помочь.
Орина была самой младшей сестрой Ульяны. В двадцать седьмом году ее засватал и увез в черноморскую станицу Пашковскую Тимофей Лабунин. Еще до революции эту станицу соединили с Екатеринодаром трамвайными путями, и она считалась зажиточной. Не пропадал у пашковцев ни огурчик, ни зубок чеснока, ни ягодка — все с огородов и садов тащили на городской базар и сбывали по хорошей цене, а благодаря трамваю дорога в город им ничего не стоила и скорой была. Постепенно пашковцы отбивались от земли и степи, осваивали торговлю и ремесла.
Тимофей Лабунин скупал в закубанских станицах по дешевке табак, «харщекувал», как говорили тогда. В Псекупской и высмотрел себе в жены работящую Орину — ей часто приходилось батрачить у торговцев табаком. Когда он сватался, на нем были хромовые сапоги выше колен, шерстяные синие галифе с кантом, полувоенная «кавказская» рубаха, обшитая по вороту и грудному разрезу шнурком. Выглядел жених высоким и стройным, рубаха была перехвачена в поясе наборным узким ремешком, и кубанка сдвинута лихо набок, приоткрыв густой рыжий чуб. Таким красавцем Тимофей и на свадебную фотокарточку снялся. После свадьбы модные сапоги исчезли (жених брал их у знакомого парубка) и чуба рыжего не стало, ходил зять всегда остриженным наголо, сразу сбавив в росте и сузившись лицом, и богатство у него оказалось небом крыто, светом огорожено. Не прижился он ни в Пашковской, ни в Псекупской, хотя несколько лет брался то за одно, то за другое дело, работал грабарем на строительстве шоссейной дороги, был конюхом в табачном совхозе и в подсобном хозяйстве военной части, а в тридцать седьмом году уехал опять в Черноморию и поселился в станице Платнировской. Орина к тому времени родила двух сыновей и была опять беременной.
Уехали наживать, а пришлось проживать. Никакой родни у них в Платнировке не было, жили на полевом стане колхоза «Красное поле» и сына-первенца не сберегли. И вот Орина прислала письмо и делилась своей горькой долей.
«Пообносились мои малые сыночки, — читала почтальонка, — бегают по бригаде босые и голопузые, и на руках у меня третий, а мужа призвали в трудовую армию, увезли на Украину. Если есть у тебя, сестричка, табак, сделай посылочку, я хоть трошки с детьми поддержусь. На трудодни в колхозе грошей не дают, купить одежу и обувачку детям не на что».
«Значит, выручит тебя, сестрица, табачок? — думала Ульяна, когда почтальонка уехала на велосипеде. — Соберу посылочку, поддержу, продай на базаре табачок и купи одежу малым детям. Чем могу, тем подсоблю тебе, Оря. У меня ж тоже четверо было, знаю, як трудно одевать и обувать малых деток. Сама так же билась, помню, до конца своих дней не забуду…»
Подступило самое время уборки и сушки табака, колхозные сушилки были рядом с ее подворьем, дорогу туда Ульяна хорошо знала и всех колхозных табачниц. Она могла послать и свой табак, каждый год высаживала на тесном огороде грядочку, но Матвею ведь уходить на фронт, без домашнего табака разве могла отправить? Нет, тот табак пусть остается Матвеевым, он привык свой курить, пусть и на войне домашний табачок посмакует, лишний раз о хате и семье вспомнит. Орьке на продажу любой сгодится.
Табачную посылку отправила сестре и в другие свои заботы втянулась. У нее был подсобный участок земли возле берега Псекупса, «под вербами» место называлось, там она своими руками землю выхолила, убрала от мусора заплавы, раскорчевала кусты и растила кукурузу, коноплю, капусту, тыквы, метелковые веники. В сентябре самое время почаще приглядывать за подсобным огородом, если хочешь сама все выращенное взять, иначе найдутся уборщики и на кукурузу и на капусту, подстегивала себя Ульяна. Сено от Виленского хутора она с Матвеем перевезла в подворье, сейчас, пока его не взяли на фронт, хотела побольше огородной работы переделать вместе, тем более что осень может дожди и ливни с гор погнать, Псекупс часто в такую пору разливается.
Так рассчитывала Ульяна, да не все получалось на деле. Взяли на фронт Федора Трофимовича, и новый управляющий отстранил ее от перевозок, вернул в полевую бригаду, а ту теперь командой отгонычей правильнее было бы назвать — то на бойню псекупской военной части гони гурт худобы, то в Краснодар и подальше на откормочные пункты. На подвозе теперь хлопченята работали, те, каких военкомат уже взял на учет, но в солдаты еще не подготовил. Отвлекали Ульяну от домашней работы командировки, с перевозом все осложнилось, хоть корову запрягай, но раньше сходи и покланяйся, выпроси в конторе арбу, оформи все документами, такие порядки новый управляющий, капитан Дьяченко, завел.
Каленые держались до сих пор сентябрьские деньки, осеннюю ночную росу быстро выпаривало утреннее солнце. Но огород перекапывать можно: не налипает на лопату глина, а если трудновато землю наиспод выворачивать, значит, почаще останавливайся, дух переводи и дальше работай. Раньше Матвей всегда копал осенью огород, свою мужскую работу знал и справлял, а сейчас в МТС каждый за троих работал, осеннюю пахоту война не отменила. Управлялась в эту осень Ульяна в огороде одна. Отсюда и гостя высмотрела и обрадовалась вдвойне, потому что не пешком подходил, а подъезжал к ее подворью Тимофей Лабунин, очень кстати сейчас кони с подводой, в контору не надо идти просить. Она копнула поглубже лопатой и оставила в земле. К зятю вышла, пучком травы протирая руки.
— Ну, здравствуйте. Давно вас, казаков черноморских, за Кубанью не видать. Наверно, не просто ж так, не погостювать вы до нас ехали в такое времья? — Ульяна говорила нараспев и вглядывалась в Тимофея, а сама стояла у калитки. — От жалко, Матвия не застали — убег через речку до своей кузни горно растоплять. А ты, Тимко, сморенный… Может, ты сюда прямо с войны, с трудового фронта? Кони, наверно, у тебя красноармейские расковались, так до родича-кузнеца и привернул?
Тимофей слез с подводы, примотал концы вожжей к плетню и не сразу повернулся к Ульяне, будто призадумался, что сказать на ее слова. Потянул за козырек поношенную полувоенную фуражку, какие носили все кубанцы, ударил по верху, сбил пыль с фуражки и не торопился натянуть ее на остриженную голову. Отер ладонью потные ежистые волосы, к лицу скользнул пятерней, стиснул щеки.
— С города я еду… А кони колхозные…
О чем-то он не хотел сразу рассказывать, и Ульяна не стала торопить гостя, как могла, выдержала спокойствие, кивнула Тимофею:
— Ну ладно, я ж шуткую про коней. Заходи в хатыну, а я руки ополосну…
В хатыне Тимофей долго пил воду. Выпил одну кружку, подержал на весу и зачерпнул из ведра снова, но не стал пить и выдохнул хрипло, будто застрявший в горле комок сплюнул:
— Орька плоха… — Слепо нашарив сзади свободной рукой табуретку, присел на угол и, все еще держа кружку на весу и облизывая сухие потрескавшиеся узкие губы, сказал: — Отвез Орьку в больницу… Чи застанем живой, хто зна…
— Ой горе!.. Была всегда такая здоровая… — запричитала Ульяна, хлопнув в ладоши и стискивая сцепленные руки на груди. Вспомнилось последнее письмо, и она подступила к зятю:
— То не ты Орьку забил? У тебя ж, у пьяного, и язык и руки громкие…
— Нет, дело не в том… С головою что-то у ней… — Тимофей сидел убитый горем, постаревший, и под сатиновой косовороткой топорщились острые лопатки. — Детвору жалко… — Плечи Тимофея затряслись, он прикрыл рукой глаза.
Ульяна первый раз видела зятя таким. Веселым и бесшабашным был он раньше, любил повторять прибаутку: «Степного коня на конюшне не удержишь, а пашковского казака дома».
— Про Орьку дорогой расскажешь, ехать нам далеко, — сказала она, собирая на стол снедь. Тимофей ответно кивнул и подавил пальцами свои мокрые глаза.
Они выехали через час, и за станицей Тимофей начал рассказывать, что случилось с Ориной.
В воскресный день Орина продавала табак на платнировском базаре. Вдруг к ней подошел станичный милиционер и грозно крикнул:
— Ты где, тетка, табак украла? Ты знаешь, что за торговлю табаком сейчас в тюрьму сажают? А ну покажи кошелку, сколько в колхозе украла?
— О-о-о-й… ё-ё-ё-о-о-ёй… — закричала Орина и долго тянула в себя воздух перекошенным от испуга ртом. Голова Орины запрокинулась, и она упала бы на вымощенный кирпичом базарный пол, но милиционер выровнял ее и плюнул в сторону:
— Тю, скаженная ты баба. Забирай кошелку и мотай с базара. Быстро!..
Орину под руки увели в больницу, где ей сделали укол. Немного отлежавшись на больничном дворе, она побрела пешком на колхозный полевой стан. Вернулась в семью, к детям, и слегла совсем. Лежа в постели и отвернувшись к стене, подолгу говорила громко сама с собой, будто спорила и доказывала что-то милиционеру, и вдруг хваталась за голову и начинала кричать и плакать от боли. Тимофея вызвали телеграммой с трудового фронта. Он приехал и застал Орину и маленького сына в больнице. Станичные врачи, бессильные помочь Орине чем-нибудь, посоветовали отвезти ее в краевую больницу.
— Оставил Миньку платнировским врачам. Всю ночь кричала Орька, пока вез подводою в Краснодар…
Тяжело переживала Ульяна сестрину беду. Они ехали с Тимофеем одни по степной дороге, никто посторонний подслушивать разговор не мог, и Ульяна дала себе волю, ругалась на чем свет стоял.
Тимофей скорбно сидел на подводе, согнув спину и перебирая в руках вожжи. Кони шли шагом в гору, а впереди и вокруг лежала зеленеющая осенней зябью закубанская степь. Небо было высоким и чистым, без туч и военных самолетов, будто и не было войны. Но отчего ж умирала Орина? Куда посылали Тимофея? Была война сейчас, на всей русской земле была…
Орину они не застали живой. В вестибюле краевой больницы, где Ульяна и Тимофей надевали белые халаты, одна из нянечек, проходивших группой мимо, посочувствовала:
— Бедная женщина, не дождалась своих родичей, сиротой умерла…
Тимофей сразу заплакал, а Ульяне свои слезы присушить пришлось. Все хлопоты о покойной сестре она взяла на себя. Пришла в больницу сестра Тимофея Настя, и она повела ее на базар купить для Орины смертное платье. Долго не могли выбрать подходящего — то цвет не тот, то цена дорогая. В конце концов Ульяна потащила Настю к одной из торговок, которая продавала темное, с белыми цветами, платье. Настя испробовала материал щепотью пальцев и повернулась к Ульяне:
— Такую добрую одежу нельзя класть в землю.
— Разве ж Орька за всю свою жизнь хорошее платье не заработала у вас, Лабуниных? Я свои гроши отдам! — Ульяна расплатилась с торговкой, а с Настей старалась больше не разговаривать. Очень обиделась она на Тимофееву родню.
Похоронили Орину в Платнировской. Ульяна пробыла там четыре дня, обстирала сестрину детвору и среднего племянника повезла с собой. Когда вернулась в Псекупскую, сказала Матвею:
— Давай возьмем Толичку за сына?
— Бери. На старость хлопцев разделим: Толик тебя будет кормить, стару и беззубу, Митя меня, забудькуватого парубка…
И в таком деле Матвею все шуточки.
5
Восемнадцатого сентября Матвея призвали в действующую армию. Последний вечер он даже чарки хмельной не выпил — никогда не гулял один, только в компании привык бражничать, а к ужину никакой гость не поспел. Прощались в тот день с семьями призывники уже не молодые, знавшие, куда их посылают, и потому дорожили последним часом и остатними минутами под родимым кровом.
Ульяна долго не могла уложить спать племянника, мальчишка плакал, звал маму, просил сказочку рассказать, песню усыпную спеть.
— Я твоя мамочка, Толик, — внушала Ульяна. — Я и сказочку знаю, и заспевать умею. Вот слушай: «Ой, коточек ты, коточек, не ховайся у куточек…»
— Мама про ласточку пела! Ты тетка Ульяшка!..
Матвей выбегал во двор курить, стоял там большой тенью и таким запомнился ей от той ночи. Все тогда вершилось не по их воле, и урочный час вдруг среди ночи определился нежданно-негаданным громким стуком в ставни.
— Полукаренко, на площадь! — прокричал посыльный стансовета. — Машина за вами с Горячего Ключа пришла! Не опаздывать!
За калиткой Матвей сказал прощальные слова. Трудно говорил, срывался и слабел голосом.
— Береги, мать, хату… Как лихо ни будет, не бросай… В своей хате — своя и правда… Держись, Ульяша, за хату…
— Так и будет, как ты, Матя, сказал. Тут тебя и будем дожидать…
Простились надолго, полагаясь на счастливую судьбу и солдатскую удачу на войне. Ульяна вернулась в хату, присела к постели племянника, поправила одеяло. Вот и не совсем одна, есть и другая родная душа рядом. Светилась под иконой лампада, как того требовал обычай, почти до утра проговорила Ульяна с богом о своей бабьей доле, умоляла Христа: «Спаси, господи, в краю чужом Матвия-воина…» Знать бы ей, что еще целых две недели Матвей будет рядом! Не вместе уже, не по-семейному продолжится их жизнь, а все-таки какое это счастье: приходит через два дня домой муж, которого провожала на войну, и уже у калитки, едва отстранилась, только выпустила из рук, начала терзаться тревогой, живой ли, а утром и на ожидание весточки изготовилась, натянула себя струной! И вот сам на порог явился: «Здравствуй, жена!..»
Матвей пришел домой вечером, уже переодет был в красноармейскую форму, острижен наголо и старался не снимать в хате пилотку. Он изменился сразу, когда стал солдатом: и в хату свою вернулся как гость, и голосом сробел, говорил больше о том, в чем нуждался. Служба пока легкой у него была, зачислили в хозяйственную роту кузнецом, стояли лагерем совсем близко от станицы.
Как забритый новобранец ходит с оглядкой по армейской казарме, так и Матвей в своей хате чуть ли не на цыпочках вдоль стенки, где семейные фотографии висели, бегал и разрешения Ульяны спрашивал:
— Я возьму эту?
— Ту, где твой брат Гринько и ты с шашками стоите? Бери. А Митину групповую фэзэушную не трогай. Возьми малую, где он на паспорт снялся. И мою малую бери. Малую порвешь или потеряешь — не жалко. А большие — память, других таких не будет в хате.
— Нехай остаются, — легко соглашался Матвей, будто выполнял команду. Ужиная, он рассказал, как поспорил с командиром роты и удачно отговорился, когда ему предложили подковать обозных лошадей, могу, мол, работать только кузнецом-металлистом.
Удивительно спокойной была внешне она в эти дни задержки Матвея. Он пока служил рядом, значит, время ее слез и тревог не настало. Она не искала с ним встреч вне хаты, не бегала в кузницу МТС, где он работал сейчас каждый день, будто его и не призвали в армию, а всего лишь переодели в другую спецовку. Их жизнь раздвоилась, располовинилась. Матвей учился ковать армейских лошадей, на ночлег обязан был возвращаться в солдатскую палатку. Он входил в хату теперь только для того, чтоб взять что-нибудь: еду, белье постиранное, теплом обогреться после осеннего дождя.
«Я и правда сейчас Матвию как мать, — пришло Ульяне однажды в голову. — На всем готовом живет, ничего без спроса не делает. А усы сбрил и совсем помолодел, на моего мужа не похож». И его похвальбу она воспринимала по-матерински: «Ездили в кавалерийский полк, сдавали там экзамен в походной кузнице. Мне инструктор поставил за установку подковы четверку, а Грумшину двойку. Грумшина перевели в стрелковую роту». Молодец мой Матвий, начальство его работой довольно.
Эту пятую на своем веку войну она воспринимала смутно. Сказывалась крепкая привычка обкидывать опасность глазами и только после этого признавать лихом. А может, потому, что военные события давно уже впрямую не затрагивали жизнь псекупцев. Из станицы уходили на действительную службу хлопцы призывного возраста и возвращались все из армии живыми, продолжали жить в родимых хатах и творить крестьянскую работу. С тридцатых годов бок о бок с псекупцами зажили красноармейцы. При военной части возникло подсобное хозяйство, многим станичникам нашлась там работа. Станичные бабы охотно стирали красноармейское обмундирование, обеспечивали солдат пропитанием, полувоенный быт снова возродился в Псекупской. В казачьих хатах квартировал теперь служивый люд своей армии, народной, платы с военных квартирантов псекупцы не брали, корысти на уме никакой против них не держали. Красноармейские жены ладили с хозяйками хат, рассказывали им, что происходит в мире, и те, будучи в большинстве своем неграмотными, но бойкими и словоохотливыми, о многом начали смекать и своеобразную политграмоту преподносили своим домочадцам и соседям. Эта наука дорого обходилась их властолюбивым супругам, казачий домострой терял свою былую силу.
Ульяна до войны не один летний сезон подрабатывала в части то прачкой, то в полевой бригаде подсобного хозяйства, и армейские квартиранты жили в ее хате. «Наша армия сильна, крепка, непобедима, любому врагу сумеет сделать окорот», — уверяли военные люди, и к этому в Псекупской все привыкли… Ульяна слушала такие разговоры вполуха, на веру слово мало для нее стоило. А теперь, когда вникала в рассказы Матвея, старалась убедить себя, что так все и есть, красноармейцы дают отпор немецким ворогам. Но так хотелось самой все досмотреть, проверить, утвердиться душой!
Перед отправкой на фронт Матвей приехал домой на коне. Ульяна открыла ворота, отвела коня в сарай, дала корма. Племянник терся возле подола, пробовал кормить жеребца из рук и хвалился:
— Мой папа тоже на коняках ездит! И я умею! Подсадите — я гоп, гоп! А у моего батька на конюшне сто коняк. Я на всех папкиных коняках катался…
С трудом увела Ульяна малого в хату. Прихлебывая борщ, Матвей спросил:
— Ну как, приучила мамой называть?
— Мелева много, а помолу пока нет, — вздохнула Ульяна.
— Знаешь шо, Уля?
— Шо? — откликнулась она и насторожилась — давно Матвей не называл ее так по имени, и голос изменил сейчас, будто давний-предавний молодой Матвей Полукаренко ее звал к себе.
Он придвинулся к ней и зашептал у самого уха:
— Отведи Толика до Одарки. Скажи, передали, мол, от Матвея: нехай жинка в лагерь прийдет…
— Выдумаешь черти что, — ответила она нарочито громко. — И не стыдно напускать родне бреху?
Матвей опять говорил свое, а она отводила его наклонку, чтоб не сразу уступить на сегодняшний вечер свое старшинство, и на глазах мужа задержалась, пристально в них посмотрела. Она Митю тоже всегда проверяла по глазам, когда тот отказывался от шкоды или своих слов: «А ну, сынок, дай мне сюда свои глаза…» И никогда не ошибалась. Матвей сейчас хорошо смотрел, не отводил глаз, не прищуривался хитринкой, какую заимел с некоторых пор, «видать по очам, кто гуляет по ночам». Спокойная настойчивость сейчас была во взгляде Матвея, правота мужа, значит, надо уступить. Посмотрела еще раз, кивнула, что согласна, и занялась племянником.
— Толичка, пойдем до тети Доры. Она коржиков напекла, коровку подоила…
— Я до коняки хочу. Пусти, мамочка, я хлебца коняке дам.
— Коняка бьется, сынок. Завтра папа приедет на другой…
— Дядя Матвий, а не папа!
— Ну нехай по-твоему. Дядя Матвий приедет на смирной коняке и тебя покатает. И накормишь коняку хлебушком. А мы папе твоему письмо напишем: сыночек Толичка слухливый и на коняке ловко гарцуе…
Ласково приговаривая, Ульяна обмыла племяннику мордашку, переодела в чистую рубашонку и трусики, шлемик буденновский нахлобучила.
— Пойдем, деточка. Вот вырастешь — всем немцам набьешь морды и шашкой порубаешь. На коняку норовисту сядешь и сабелькой — свирк, свирк…
Когда она вернулась от золовки, Матвей вышагивал по подворью, в темноте светился огонек его цигарки и отражался в оконном стекле, на одном горел, на другом будто факелок быстро проносили под стенами хаты, а когда Матвей затягивался, жар цигарки вспыхивал резко, искрился под самой застрехой соломенной крыши, лицо Матвея краснело от быстрого сполоха, Ульяне даже захотелось крикнуть, чтоб отошел подальше с огнем от хаты.
— Поверила Одарка про лагерь? — Матвей еще не выкурил всю цигарку и придержал Ульяну во дворе. Грубовато остановил, как шлагбаум, сапог свой большой солдатский к сенцам вскинул. Она головой покачала и удержала себя на месте, а обе руки под фартуком прятала. Матвей наклонился, курнул, осветил ее потайку. — Значит, поверила Дорка и гостинец братуське послала? Перелью во фляжечку и по глоточку, и по глоточку…
Он азартно говорил и цигарку часто смыкал, будто уже собрался убегать, на этом и кончится будто их прощание. Ах Матвий, Матвий, когда ж ты перестанешь спешить? И на войну, как на гулянку, торопишься, готова была пожурить мужа Ульяна и опять осекла себя, молча прошла через сенцы в хату готовить закуску, собирать последнее застолье. Матвей прошел следом за ней, сутулясь в дверях и одергивая попутно гимнастерку под ремнем, пробовал помогать ей накрывать стол. Он и раньше часто помогал ей в таком простом деле, привыкла вроде бы, но сегодня был его, Матвеев, день и для него этот стол поздний накрывался, чтоб проститься, отгулять последний денечек. Другого дня уже не будет у них, и ночи не будет такой, как сегодня. А так хочется все оставить прежним! Закрыть хату, забыть про войну и жить, жить! Тридцать семь ей всего, разве нажилась? А Матвий разбежался резвым конем и до сих пор спешит, спешит… Разве ж он к войне и порухе торопился, такой свежий, такой верткий? Неужели найдется вражина, чтоб убить Матвия, ее Матю, ее судьбу?
В чистой половине готовила Ульяна застолье и скатертью стол накрыла белой. Редко доставала эту скатерть из сундука, от матери память ей была, от прежней ее семейной жизни. И фотографии старые висели тут же близко — тоже память родовая, значит, не одна она прощалась сегодня с Матвеем, мужем своим, большие проводы получались на самую большую войну. А Матвей был таким неуклюжим в красноармейской форме, гимнастерка все время пузырилась у него на спине, и тень Матвея, отраженная керосиновой лампой, была огромной, переламывалась по стене и потолку, всю горницу он заполнял собой, потому что не мог устоять на одном месте, хлопотал вместе с Ульяной. Она тоже отражалась тенью, но себя не замечала — вся она была будто бесплотная сегодня, будто прощанием только и занятая. Нарезала кусочками сало, арбуз на скибки раскроила, помидоров в тарелку накрошила, лука. Бутылку водки с тряпочной пробкой отставила подальше от себя, не было бы ее и совсем на столе, не горевала, но Матвей не пьет один, ей поддерживать придется компанию, кому ж еще.
Все было готово, закуска вся расставлена, водку Матвей в маленькие граненые стаканчики разлил. А они сидели и не торопились начинать. Матвей ерзал на круглом венском стуле, расстегнул воротник гимнастерки и поворачивался иногда боком к столу, будто прислушивался к шуму за стенами хаты, и вдруг откидывался на спинку стула, смотрел в матицу потолка. Всегда он маялся перед выпивкой, на первую стопку не мог решиться сам и молчаливо подталкивал к этому других застольщиков, не разговорится раньше, в откровенность не войдет. Ульяна сидела напротив, сливалась с белой скатертью, как свеча прямо держалась. За ней было первое слово сегодня, ей первой поднимать и питье, и Матвея.
— Выпьем за тебя, Матвий Степанович, — начала говорить Ульяна, не узнавая свой голос. Низко и тягуче протянула слова, как на чужом большом пиру, когда надо привлечь внимание всех и до каждого прикоснуться с нажимом, иначе не будут слушать. Матвей резко отвернулся, ухо подставил одно и другое и голову откинул подальше. Рука его, дернувшаяся было навстречу, остановилась на полпути к ней. Ульяна заколебалась и села опять прямо, как сидела до своего тоста. Поправить положение было некому, Ульяна начала краснеть, мочки ушей порозовели, шея, высоко поднятая над воротом белой бязевой кофточки, взялась пятнами. Матвей не смотрел в ее сторону, не помогал. Тогда она заиграла голосом и позвала: — Ма-ать-я-а… — И опять сконфузилась — Матвей не откликнулся. Она приподнялась и, обойдя стол, подошла к нему вплотную, тронула за руку: — Не обижайся, Матюша. Не умею я пить и на слова за пьянкою не речистая. Ты выпей, и я выпью с тобой. А ругаться не будем… Давай не будем сегодня ругаться, а? — Ульяна даже колени присогнула перед мужем, в глазах у него хотела высмотреть прощение за свою оплошку, за чуб хотела взять ласково и отдернула руку, как от ежа.
— Иди, Уля, садись на место. Ну иди, иди, Кононовна. — Матвей легонько отстранил ее от себя и в два глотка выпил стаканчик водки.
— Нет, я теперь сяду только с тобой рядом. Вот здесь и буду. Пока я твоя жена, пока ты мой и в хате мы нашей… Налей себе еще, и я с тобой вместе выпью. Я хочу сегодня выпить, Матя…
Утром ранним они расставались. Тихо было в станице. Редко-редко петух дальний прокричит торопливым клектом, взбрешет собака, протарахтит по крепкой дороге в горы подвода, и опять воцарится покой в округе.
Матвей сводил коня на водопой и вернулся от Псекупса опечаленным, со слезой на глазах.
— Последний раз напоил коня в своей речке…
— Ты не журись. За тебя мы с Митей сгадаем и поплачем. А ты там покрепче бейся и живым оставайся. Про нас и хату вспомни и скажи себе: живой вернусь.
Ульяна опять утешала и подбадривала Матвея, как младшего. Но он уже что-то узнал про войну такое, чего не знала она, и продолжал горевать:
— Если б немец бомбы сверху не кидал, а то…
— Ты не дуже тех немцев бойся. Загнали ж их самих в землю и не пускают дальше Дону? И ты ж будешь воевать не один на всем фронте, там и наши станичные хлопцы будут, держитесь вместе.
— Трое моих земляков на всю дивизию: Мыкола Головин, Иван Цветков и Мишка Копылов…
— А ты четвертый. В чужом краю и знакомой собачке «здравствуй» скажешь.
Зашли в хату, постояли перед семейными фотографиями, поговорили о сыне и псекупских родичах, вместе собрали в дорожную котомку снедь. Как будто все дела последние переделали и еще раз вышли на подворье и в огороде постояли, вспомнили летние сенокосные хлопоты, вернулись опять в хату. Матвей как изгнанник на все смотрел и со всей прежней жизнью прощался так тоскливо, что Ульяна не выдержала и ускорила прощание:
— Давай присядем на счастливую дорогу. Та не по разным углам — за один со мною стол садись, Матя, и посмотрим глаз в глаз. Пилотку скинь, кучери под нею быстрей не вырастут…
И в хате и на подворье она крепилась и Матвею твердость внушала. Но вот он вывел коня за ворота, ловко, по-казацки, прыгнул коню на спину и натянул повод.
— Матя, родненьки-и-ий… Муж ты мой дорогой-о-ой…
Ульяна припала к его колену и ослабела вся, заголосила, не сдерживаясь, не таясь, как от веку оплакивали казачки уход мужей на войну.
— Ты вернись с чужого кра-а-аю… Помни своих дето-о-чек… Они ж будут ждать па-а-апочку-у-у-у… и дожду-у-у-утся-а-а-а…
Она приподняла от мужнего колена горестное лицо, вытянула вверх руки, и в этот момент Матвей дернул повод. Он тоже плакал и стыдился своих мужских слез, прикрывал глаза свободной рукой. Так и уезжал, скакал на войну — одной рукой правил конем, другой утирал слезы и пилотку не спешил натягивать на остриженную голову.
— Ма-а-атья-а-а…
6
Ульяне приснился странный сон, вещий какой-то сон, всю душу он потряс, и таким ясным было все в нем видевом — перед глазами стояло и требовало: смотри, смотри, разгадай, исполни. Чтоб ни делала, куда б ни пошла — не отвязаться, не забыть ни днем, ни ночью. Хотела рассказать кому-нибудь и придержала, побоялась еще большей смуты, все только ее касалось и родичей кровных, а их в станице нет никого, так кому же нести свою жизнь сокровенную?
Будто и не во сне, а наяву увидела, как собрал всех ее родичей маленький седенький старичок и стал раздавать колодки. Отцу дал, матери родной и мачехе, братьям Алексею, Семену, Федору, сестрицам Орине и Акулине, а мимо нее прошел молча и мимо Матвея. Она окликнула:
— Дедушка, почему мои ножки легкими оставили? Я ж ой какая ругливая. Дайте и мне, дедушка, колодки, может, колодницей буду тихо жить?
— Нет, не дам я вам колодок — у меня лишних нет, — сказал седенький старичок. — А вы, мать, за своих детей пострадали уже много и еще не все дороги к детям прошли. Оставайтесь жить на легких ногах.
И ушел беленький дедушка, больше ничего не сказал. Матвей ни о чем не спросил почему-то…
Что ж, разве не в радость детей рожала и светлых денечков не знало ее материнство? Да в детях и была вся ее жизнь и все ее праздники и страдания. Из нужды билась, вылезала, снова впадала в нужду, себя не помнила, что когда носила, что ела, когда в зеркало на себя смотрела — все дети перед острыми глазами. Да только из четверых деток один Митя остался.
Варенька, Матвеева любимица, ровно вырастала и рано себя красивой увидела в зеркале. Та и делала все с оглядкой на других, с капризным желанием окликнуть каждого, заставить посмотреть на нее. Когда весной тридцать третьего года запалилась простудой, всех звала к себе, о всех спрашивала, кто куда пошел, наверно, забыл, что Варьяшенька болеет, что ей страшно одной. На цвет вся истратилась, на красу, корешками глубоко в земельку не втиснулась и отцвела на десятом годочке, открасовалась, даже ни на одну фотокарточку не успели снять, все с собой в маленькую могилку унесла.
От Вани осталась такая память в хате: стоит обнявшись с Митей, обоих летнее солнце заставило прищуриться и обожгло братиков жгучим загаром. Может, и пережегся Ванечка на солнце, запеклось что-то в головке у хлопчика внутри, никак ту боль Ульяна не могла наружу вывести, а уж как хотела угнать хворобу, сколько травок настаивала и на примочки и на питье — не спасла, угорел сынок Матвеевой породы в одночасье.
Митю родила в двадцать пятом, когда самой двадцать лет сравнялось, а роды уже третьими вышли, материнский опыт кое-какой заимела. Всю ее вперед сынок вытянул, бока остались пустыми, аппетит пропадал часто и на сон с первого месяца стало клонить, хоть всю работу по дому бросай и лежи-полеживай, так спать хотелось. Когда девочек носила, другие капризы прознала: те еды просили, все бы ела и ела, как макитру с квашней, разносило, такая гладкая делалась. И сошла с нее та родовая опара, в боках и бедрах не осталось никакого лишка и походка опять резкая, будто все на сквозняке ей бежать. А теперь белой крупной гусыней осторожно ногу ставила и береглась больше прежнего — знала, что должна сыночком Матвея порадовать, себе помощницу уже пустила на свет, и батьке будет маленький казачок на смену подрастать. Одного боялась: в мае не родился бы, а то будет всю жизнь маяться, долю несчастливую мыкать с первых дней, так старые люди говорят, наверно, знают, испытали дурную примету не на одной горемычной судьбе. В то, что высмотрено, проверено, в то можно верить, то не случайный брех, не хитрость или пустое хвастовство. Когда минул май и день троицы с родительским поминанием, тревога отступалась, а свекровь, Зоя Федосеевна, и бабка-повитуха Алтачиха свое на уме держали: погоди, мол, Ульяшка, радоваться. По старому, по настоящему календарю май четырнадцатого июня кончится. И не дотянула три дня до того срока, погодить с родами свыше сил человеческих.
Митя утром нарождался. Солнышко еще не осветило землю, чуть розоватило низ неба, подсвечивало свыше, тьма высветлялась от тепла. Солнечный костер разгорался, стрелял искрами, все шире пробивал красные полосы вверху. Тут и сама запалилась и заознобилась спиной, сорочка обмокрела, боль внизу живота возникла нестерпимая, и закричала пронзительно на весь белый свет, заметалась головой по подушке.
Сонная повитуха встрепенулась, свекровь за рубаху-стануху потянула к ней:
— Сла те господи, идет на белый свет христианская душа… Ну, с богом, милая… Поднатужься и давай нам сюда своего сыночка…
Что-то еще в таком духе лопотала бабка Алтачиха и руками проворила. А она в сознании оставалась, но от боли и своего крика плохо все видела и понимала. Но вот и появился в руках повитухи живой комочек, и не спешит та показать, есть еще какая-то помеха, и голосишка не подает никто людского… Ей больше не больно, из нее ушла боль, пустую комнату, где голые стены и ничем не заставлен пол, видела около себя. Кто-то пискнул за бабкой Алтачихой, шлепки по мокрой заднюшке. Заплакал маленький… громче, громче… баском рокотнул… Это был Митя, ее первый сынок, мазунчик матуськин. Родился он в рубашке, потому и не закричал сразу, попридержал голосишко, пока не достали хлопчика из прозрачного гнездышка. Значит, счастье ему на роду написано.
Хлопот много принес ей первый сыночек, а ни свекровь, ни мачеху не звала после родов в помощники. На втором месяце врожденная грызь у Мити обнаружилась. Плохо спал, буркотня в животике, понос открылся — надо самой лечить. Домашнее врачевание переняла от своей матери, а та умела лечить много болезней, целебные травы знала, чуть ли не каждый день кто-нибудь из станичников приходил со своей бедой к Домне Глущенчихе. Ульяна подмечала, запоминала, спрашивала у мамы и сама находила в лесу и в степи растущее в земле лекарство. Мать лечить сестриц и братусек со временем научила, заговорное слово передала. Познала, для чего можно применять резак, зверобой, пустырник, подорожник, адамово ребро, девясил-лопух, шнил-хмель, тысячелистник, пастушью сумку, череду.
Она не тетешкала Митю сверх меры, не портила слабостью. Едва начал ползать по хате и ручонками до всего прикасаться, стала одергивать: «Нельзя! А то мамка будет на-на Митю!» И он рано познал запреты, отличал, что хорошо и что плохо, перенял ее привычку всматриваться пристально в каждый предмет, с вопросом в глазах и вырастал.
В два годика скажи при нем какое-нибудь слово не так — рассердится и стучит по столу ладошечкой: «Матуська плохо говорит!» Не исправишься — плакать начнет и добьется своего. Таким и рос, уж что задумает свое — с ноги своротит. И левшой ведь вырос, никак не брал в правую руку ни ложку, ни игрушку. И варежку ему завязывала на «окаянную» ручонку, и шлепала по заднюшке — нет, правая рука мальцу как помощница пустяковая, а к главному делу обязательно левая тянется.
В голодный род наткнулась в прибрежных кустах у Псекупса на птичье гнездо с яйцами. Как рябые камешки, лежали они в круглой пуховой колыбельке, ни за что не взяла бы их в другое время. Но тут свои дети голодными птенчиками сидят дома взаперти, ждут кормилицу-матуську. Принесла яички, сварила: ешьте, детки, по три штуки вам. Варенька и Ваня завизжали от радости, схватили по яичку, а Митя голову опустил, уши красные стали. Так и не съел ни одного. Расплакался, залез под стол и там бурчал сквозь слезы: «Нехорошая матуська… птичку разорила…»
На ученье Митя способный был, в три годика начал к отцу приставать: научи грамоте. Она была в таком деле сыну не помощница, но радовалась, что он тянется к доброму, пусть учится, может, дальше мамки и батьки пойдет. К чтению он рано приохотился, и не то чтобы картинки посмотрел и в сторону откинул книжку. Нет, читает внимательно, каждую буковку губами выводит, будто смакует и глотает, набирает в себя книжную премудрость, а то заплачет вдруг и сидит молчаливым.
— Сынок, ты не читай долго книжки, лучше иди погуляй с хлопцами. Горя мы и без книжек повидали не дай бог, — говорила Мите, но он начинал спорить с матерью:
— Вас обижали жадные люди, а тут враги звезды на спине красноармейца вырезают…
— Так то когда было? Ты и на свет еще не появился. Тех ворогов уже и кости давно в земле погнили…
— А новых злодеев разве ж нет, мама? Что сейчас в Испании фашисты творят?
Раньше про такие страны и таких слов, как «фашист», в станице и знать не знали, что ж тут скажешь сыну, если он уже больше матери понимает, что в мире творится, в другое время жить начинает и по-другому, дальше станицы книжки ему жизнь показывают, пусть смотрит, узнает, что к чему. Жалко, что переростком сидит в классе, в голодное время она его дома держала, в школу не пускала.
Пять классов Митя окончил и больше в школу не пошел.
— Стыдно, мама. Детвора на перемене дразнит: «Дядь, достань горобца…»
— А ты тех брехливых цуценят не слухай и своим умом живи.
— И другие хлопцы с тетрадками по станице уже не ходят. Поеду я, мама, куда-нибудь в училище. Иван Задесенец зовет в Новороссийск, там горнопромышленная школа, за два года на шахтера можно выучиться…
Собрала Митю хорошо, новый костюм купила, рубашку и ботинки. Как городской парубок ходил в таком наряде сын по станице и даже в Горячий Ключ успел съездить и на фотокарточку снялся с хлопцами и девчатами. Уже и оттуда несколько фотографий прислал и ее наказ выполнил — не на подземную специальность поступил учиться.
Как Мите передать, что отца взяли на войну? Письмо написать и все там рассказать, как татуся-солдат в хату приходил, домашним борщом угощался и в кузне работал, подковы обжигал для армейских коней? Прочитает такое письмо сынок и начнет обижаться, почему не позвали проститься, память какая осталась бы от встречи.
Неспохватная это была для Ульяны забота, но и не припоздалая, в свой черед подступила, когда все еще свежо от проводов Матвея было и в долгую думу не перешло. Материнский возраст отводит свое место и мужьям, и детям, и теперь к сыну ее опять потянуло, да так сильно, будто изголодалась, терпенья больше нет. Надумала пойти к нему сама, закрыла хату на замок, отвела племянника к Одарке Млынихе. Правильно дедушка сказал, что еще не все дороги к детям прошла…
7
Почти двести километров она днем и ночью шла. За Краснодар выбралась с попутчицей, и зашагалось надежней. Миновали несколько станиц и хуторов и, не задерживаясь вечером на ночлег, решили за ночь дойти до станицы Холмской. Начиналось предгорье, дорога потянула к лесистым холмам, петляла между ними. За каждым поворотом чудилась воровская засада, а тут на тебе — шмыгнула из кустов собака.
— Нюра, бачишь?
— Ага, побегла на другую сторону…
— А тут же никакого жилья…
— Никакого…
Ноги сами понесли быстрее мимо опасного места.
— Чуешь, Нюра, цигаркою запахло?
— Та чую же…
Кто-то невидимый стоял в кустах, курил и наблюдал за ними. Попутчицы молча несли по ночной дороге свои мешки. Никто не догонял сзади, не преграждал дорогу впереди.
Когда выбрались из леса, увидели вдалеке редкие огоньки станицы — тут еще не очень строго было со светомаскировкой, немецкие бомбовозы сюда пока не прилетали.
У моста через речку их задержал часовой:
— Стоять на мисте! Кто такие? На мост не вхо́дить!
В туманном сумраке окрики ударили в уши резко, как выстрелы, и, когда часовой побежал навстречу, деревянный настил множил его топот. Шаги стихли, клацкнул затвор.
— Дядько, не стреляй! — крикнула Ульяна в туман, и последнее слово плеснулось воплем — так пронзительно кричит на реке после выстрела охотника раненая утка. — Не стреля-а-ай… ай-ай…
Опять шаги по гулкому настилу моста, размытый силуэт — шинель, винтовка с длинным штыком, близкий голос:
— Тю, ба-абы… А ну скидай мешки и лягай на землю!
— Да ты шо, дядько?
— А вас в запретную зону бес несет? Так ложитесь, пока я командира те вызвал. Останетесь без мешков и штраф заплатите.
Попутчицы легли у обочины дороги, приклонили головы на свои мешки. Часовой так и не подошел к ним, затаился поодаль, а может, расхаживал тихими шагами по своему посту. Не тронул, не заарестовал — на том и спасибо, наверно, пожилой, последнего призыва, как и Матвей. Ульяна понемногу успокаивалась, переводила думы на свою семью, дорожная усталость сморила ее.
Разбудил их тот же часовой:
— Вставайте, казачки. Теперь, по-светлому, ходить через мост всем разрешаем, а ночью любого приказано задерживать. Так что не обижайтесь: война.
Ульяна от ботинок и обмоток начала вприщур рассматривать солдата и, когда дотянулась до глаз, подхватилась — голодный человек стоит возле нее! Красные глаза, блескучие, давно хлебца ждут. А то чего ради он стал бы будить дорожных теток и про мост так долго рассказывать? Она наклонилась над мешком, затеребила завязку. Крепкая веревочка и узелок тугой, только зубами и можно расслабить…
Часовой в обе ладони принял от нее пышку и кусочек сала, качнул благодарно головой. Молча повернулся к мосту, затвор винтовки блеснул железом, колючий штык косо топорщился у плеча; совсем мирной была походка, на крестьянские лапти похожи ботинки, и ступали с вывертом, будто взмахам косы подчинялись.
Спутница Нюра за мостом свернула в одну из станичных улиц, дальше Ульяне опять идти одной.
За станицей ее обогнала на дороге подвода.
— Дядько, подвези!
— Куда ж тебя посадить?
Садиться и правда было некуда: во весь шарабан подводы лежала кверху зубьями борона. Но сам-то возница сидел на поперечной лавочке — мог бы и подвинуться. Нет, не разрешил сесть рядом, только мешок принял с плеча и спросил:
— Не страшно одной ходить?
— Хоть и страшно, а гонит нужда страшней…
— Где-нибудь на дороге оборвутся ваши годы из-за этого мешка…
— Нехай бандюки теперь ночи ждут, днем видно — малую поживу возьмут с погубленной души…
— Вы не очень доверяйтесь в дороге. А то я сказал: «Клади мешок на подводу», ты и поклала, а сама идешь пешком. Возьму и ударю по коням — рази ж догонишь?
— Догоню не догоню, но до сына дойду…
В поселке цементного карьера, когда она считала, что наконец-то добралась, через пять минут увидит сыночка, ее напугал встречный мужик, да так сильно, хоть закидывай подальше свой мешок и возвращайся назад в станицу, потому что напрасно мытарилась в дороге.
— Табак у тебя, тетка, есть? — спросил он. — Если есть, продай, а то тут курева нигде не достать.
— Я сыну принесла и никому не продам.
— А сына твоего тут уже нема. — Мужик даже губы заслюнявил, будто уже закрутил в бумажку ее табак и сейчас прикурит цигарку, посмакует дымком. — Точно тебе говорю, что нету. Вчера всех молодых хлопцев с карьера повели на станцию Гайдук, а оттуда их повезли на фронт. Махорку уже старшина выдал твоему сыну, а я тебе за табак гроши дам. Держи и считай. Сколько возьмешь за стакан?
— Отстань, дядько… Какие там гроши… Тут ноги оборвались…
— Ну дай хоть на закруточку…
— Лучше меня не трогай, — отмахнулась Ульяна от мужика, собираясь идти дальше. Так она и поверила первому встречному, так и отдала то, что сыночку приготовила. — Вот вам дулю, а не табачок сынов.
Мужик отступил в сторону и кинул ей в спину, как камнем ударил:
— Кугутка! Будешь вертаться — я тебя встрену!.. Я тебя потрусю, жадобу!..
Больно ударил, идолова душа. Такой и среди бела дня человека зарежет. Другие там, на фронте, под пулями в окопах сидят, не пускают немцев в русскую землю, а этот за цигарку табаку тут на своих людей кидается. Ульяна уже считала своего сына солдатом, а себя солдатской матерью. А губы слюнявил, тьфу, дезертир из лесу. Пойду на станцию, там узнаю про курсантов, оттуда и поездом можно назад быстрей вернуться…
Длинный барак показался ей пустым — ни одной занавески на окнах и других примет обжитого человеческого жилья. Ульяна невольно замедлила шаги и вдохнула глубже раз и другой. Сердце затомилось горькой досадой. Пусто в бараке, где жил сыночек и в окошко не раз смотрел. Она уже побывала на станции, узнала, что не всех курсантов увезли вчера на фронт. Может, и Митю вернули? С этой слабой надеждой и возвратилась в поселок, нашла курсантское общежитие.
Как родному она обрадовалась вышедшему из двери курсанту:
— Сынок, ты Полукаренка Митю не знаешь?
Тот, ничего ей не ответив, сразу крикнул:
— Полукаренко!.. Полукаренко!.. Полукаренко!.. — Вызывал и заглядывал в окна, пока не добежал до конца барака, где была вторая входная дверь.
«Значит, Митя тут. Они друг про друга все знают, — решила Ульяна и пожалела, что оставила свой мешок на станции. Хотелось накормить этого хлопчика — вон как старался и руками крутил против ветра, чтоб швыдче бежать, а сам схудливый».
Самое трудное — о Матвее и фронте — пока откладывала, будто забыла. Хотела забыть. Но была исписана крупными белыми буквами вся стена барака, и по складам Ульяна прочитала лозунг: «В тылу, как в бою, защищай Родину свою!» Это и к нему относилось, к Мите, ее сыночку. Курсанты жили под этими словами, и барак был похож на армейскую казарму.
Митя вышел из дальней двери, огляделся и стоял, поджидая, когда мать сама к нему подойдет.
«Мой ты цветочек, стоишь, до мамы не подходишь? Так далеко ты от материной хаты, никто ж тебя тут не кохает… — хотелось выкричать Ульяне, но удержала крик в груди и шла к сыну молча, с расстояния окидывала его острыми глазами. — Далеко краснеет твоя повязка дежурного, а ножки твои она ж не опутала».
От моря тянул тугой холодный ветер, сбивал ей дыхание, сек по глазам, она прижмуривала их, смаргивала слезу. Сын стоял поодаль, был без фуражки, подправлял левой рукой светлые волосы, потирал щеку — привычку отцову повторял, когда волновался. И не хватило все ж таки терпения ждать, побежал навстречу матери. Она тоже ускорила шаги, заторопилась.
— Иди, сынок, фуражку и кухвайку надень, а повязку свою передай кому-нибудь из хлопцев, сходим до станции — там я мешок оставила.
— Я и так не замерзну, мама. В поселке «моряк» слабее дует.
— Ты с тепла выскочил, а я третий день на сквозняках, так что не спорь с матерью.
Митя ушел в барак и долго не показывался. Быстро смеркалось. Окна барака одно за другим задернули плотными занавесями, сквозь крохотные щели просачивался слабо электрический свет. Это было знамением войны, напоминанием об опасности. Наверно, и сына задержали сейчас в бараке какие-то дела, другой причины и быть не могло, не так она воспитала Митю, чтоб он мать бросал на ветру одну. Так оно и оказалось.
— Я дежурство, мама, сдавал, а сменщик бузовый кричит: «Иди сперва обеспечь светомаскировку, а то раньше одиннадцати не приму дежурства!» Пришлось хлебом и салом задабривать, — сказал Митя, вернувшись. Он был теперь в фуражке и в коротком курсантском пальто с эмблемами в петлицах, в форменной одежде выглядел строгим и взрослым, и Ульяна сразу заговорила о том, что ее сейчас больше всего тревожило:
— Тебя вчера тоже на фронт отправляли?
— Да, ходил на станцию тоже. Там наших хлопцев день продержали. — Митя плотнее надавил фуражку с большим квадратным козырьком, чтоб морской ветер ее не сорвал с головы. — Меня оставили. До особого распоряжения. Взяли тех, кто с двадцать третьего и двадцать четвертого года. Двадцать пятый пока не берут. А наш татуся возле наковальни воюют?
Сын легко обо всем говорил и спрашивал, как и Матвей, когда ему дали первую отсрочку от фронта. Чем-то роковым показалось Ульяне такое совпадение. Ведь тяжело уходил последний раз Матвей из хаты, ох тяжело. И Митя, наверно, не раз вспомнил маму и папу, пока ждали отправку на фронт, а никого ж из родичей рядом нет. Так и уедет на войну без прощания, без материнского благословенья, и надо сказать сейчас ему: «На фронте уже твой татуся, под пулями». Для того и прорывалась сюда — из рук в руки передать весточку. Хорошо, что сам сказал про кузницу. Можно рассказать, как вернул Матвея на работу директор МТС, как ездили после к Виленковскому хутору за сеном. И про Толика Митя еще не знает, и про тетю Орину, покойницу. О многом они могут поговорить, если встретились.
Шли на станцию, тихо разговаривая. У Мити была специальность взрывника, для военного времени больше пригодная, чем для того, чтоб зарабатывать таким ремеслом на жизнь.
— Не страшно тебе, сынок, взрывать? Опасное ж дело. А вдруг что не так получится?..
— Если с умом браться, бояться нечего. А дурня корчить — везде будет опасно. Так, мама?
Ульяне нравилась рассудительность сына. И ростом уже мать перерос, весь в Матвия фигурой. Неужели и тебя, сынок, война у матери отнимет?.. Она сегодня не наступала себе на душу, хотела отдать сыну всю свою нежность и ласку. Никогда еще не ласкала его в открытую, всегда придерживалась правила казачьего домостроя: «Ласкай дитя так, чтоб оно не знало про твою ласку». Не простился с татусей сынок, значит, и отцовскую долю ласки он теперь должен от нее брать, оправдывала себя Ульяна. Паек у них тут тощий, а хлопцам самое время расти, мужскую крепость набирать. Худы-ый ты стал, сынок, чужие руки не покохают тебя, як материны.
Напряжение от трудной дороги постепенно отпускало Ульяну. Впервые за последние дни ей помогал во всем теперь не кто иной, как ее родной сын, значит, достигла в конце пути, чего хотела, можно и отдохнуть со спокойной душой. Они о многом поговорили по дороге на станцию, и в бараке он все устроил, соседей по спальным койкам уговорил перейти ночевать в другую комнату.
Когда они остались в комнате одни, ряды заправленных белыми простынями пустых коек смутили ее, курсантская спальня показалась больничной палатой. И к похудевшему сыну она присматривалась какое-то время, будто он был больной и лежал здесь на больничной койке, далеко от родной хаты и кровных родичей. Вот и пришла матуся и принесла гостинцы сыночку…
Ульяна сидела на табуретке у Митиной койки и страдала от таких горестных надумок и своего бессилья изменить что-нибудь в теперешней жизни, когда разбросана в разные стороны семья, как уголья из домашнего очага. Ее отвлек голос сына:
— Мама, идите к столу. Я сейчас кипяточку принесу. Ой, вам же умыться с дороги.
Сын сводил ее в умывальную комнату и сам пустил из водопроводного крана воду. С непривычки ей показалось, что воды тратится слишком много, нельзя так транжирить добро — вон сколько льется в прорву, ведь не собрать теперь и не плеснуть на огород или виноградник, а то и худобу напоить можно было бы.
— Закрой! Закрой! — замахала она руками на Митю. — Не с речки носите, привыкли тратить воду. — Сама довернула край до самой малой струи, какую привыкла выдавливать из рукомойника, и начала растирать воду в ладонях.
— Намыльте, мама, — подсказал Митя и опустил ей на мокрые руки полбруска крепкого коричневого мыла. Она осторожно приняла и погладила мыло между ладоней. Таким куском две домашние стирки можно справить, а тут вон сколько набросали курсанты — как сухари плеснявые, валяются на полке.
Самую малость обмылила Ульяна руки, лицо и шею, а запыленные в дороге ноги мыть под краном не решилась — не хотела голенастой перед курсантами выставляться. Умывалась и то с оглядкой, но мыло привернула полотенцем — обстирать Митю намеревалась, без этого разве могла уехать назад в станицу.
Вечеряли по-семейному, хотя и сидели за казенным столом. Ульяна резала ломтиками сало, разливала в алюминиевые кружки домашний молочный кисляк. Пятилитровую банку почти полную донесла, сама в дороге припасы по крошке, по капелюшке, как птичка, наклевывала — все хотела сыну оставить. И сейчас больше ему подкладывала и подливала: ешь, ты из-за матери без казенного ужина остался, так теперь на домашнюю снедь нажимай, а на меня не смотри, я стряпуха — с пальцев и погляда сыта.
При ярком электрическом свете Ульяна лучше видела сына, перемены в нем подмечала. Лоб не закрывает уже белявым чубчиком, уложил волосы красивой городской прической, теперь уши меньше топырятся по сторонам, брови черные загустели, ямочка на подбородке затвердела, упрямый характер выказывает, скоро усы брить начнет и со щек белый пух соскребет. Доброго парубка вырастила, а в родимой хате не удержала, вздыхала она, но и радовалась своей материнской удаче. На пути никакого лиха с ней не приключилось, сына пока не отправили в окопы, встретила, повидала. Разве ж не счастье — проведать в чужой стороне родную кровиночку, когда кругом война?
После ужина Ульяна едва успела приклонить голову к подушке и забылась уморливой дремотой. А ночью курсантов подняли по тревоге, и материнское чутье сразу толкнуло ее к Мите: куда посылают? Не насовсем уведут?
Сын одевался быстро, по-солдатски. В минуту натянул обмундирование, сунул ноги в большие башмаки, схватил с тумбочки фуражку.
— А вы спите, мама. Не беспокойтесь. Я вас снаружи закрою на ключ, и сюда никто не войдет, — сказал быстрым шепотом. Шумно сейчас было в бараке, курсанты бегали по коридору, хлопали дверьми спален.
— Ага, «спите»! Смеешься ты над матерью? Тебя уведут незнамо куда, а я ухо закладывай подушкой и спи, так?
— Совсем не так, мама. Это нас на погрузку вагонов подняли. Днем в карьере взрывают камень для цемента, а ночью вывозят на завод. Цемент сейчас для фронта дороже снарядов.
— Так почему ж ты вечером не сказал? У меня сердце зайшлося. А тебе и байдюже[3].
Ульяна всхлипнула, уткнулась лицом в подушку.
— Я хотел, чтоб вы отдохнули, мама. Не каждую ж ночь нас так поднимают. Могло и не быть тревоги. В общем, я пошел. Утром открою вас.
— Нет, я одна тут не останусь! Как хочешь ругайся на мать, а я пойду туда, куда и ты. — Ульяна сбросила с себя одеяло, нашарила на тумбочке свою одежду. — И не думай меня закрывать под замок. Я и через окно выйду!
Митя отошел к столу. Оттуда, из полутьмы, сказал обидчиво:
— Неужели, мама, вы не понимаете, что сейчас не мирное время?.. В карьере вас задержит охрана, — К вагону на станции тоже не подпустят близко. — Думаете, вас долго будут ночью расспрашивать, почему вы оказались в запретной зоне? Ну зачем вам все это, мама?..
— Ладно, оставь ключи и иди. Я и сычихою тут до утра посижу, никому беду не накликаю…
Митя вывернулся за дверь, оставив ключ в замочной скважине. Его сразу в коридоре кто-то окликнул по фамилии, потребовал становиться в строй. Тот же мужской голос начал делать перекличку, и скоро курсанты затопали в ногу, удалились на выход из барака.
Ульяна притиснулась к окну, отогнула уголок занавески. Курсанты перестраивались в походную колонну, перебегали из одной шеренги в другую. Лиц в темноте невозможно было различить, лишь приглушенный говор долетал снаружи и шевелилась густая людская масса. И там среди многих был ее сын. Может, по росту занял место где-то впереди строя. Оглянулся ли хоть раз назад, где оставил мать?
Спать больше Ульяна не могла. Хоть выходи во двор, кидай очи до горы и проси: «Зори, зори, зоривницы, есть на свете три сестрицы: одна вечерняя, другая полунощная, а третья световая. Возьмите себе крикливицы, а нам дайте сонывицы…» Нет, все наговоры, наверно, для родных стен сотворены, в обжитом углу действуют…
Едва забрезжило светом по краю неба над горами, Ульяна подхватила свой мешок и вышла из барака. Митя ж второпях на ночную работу сорвался, ни хлебца, ни сальца в карман не поклал.
8
В станицу Ульяна вернулась через пять дней. Одарка хвалила племянника и рассказала, как он рассмешил один раз всех. Ее дочка Галя училась в пятом классе и в школе поссорилась с дочкой Верки Устинчихи. Верка прибежала и стала ругаться за дочкины обиды. Толик слушал, слушал, как кричит незнакомая тетка, да и сорвался — отвел ручонку на полный замах и на Устинчиху набежал: «Тетя, не лугайтесь на мою сестлу, а то я щас як дам! — Самого от земли не видать, но кулачком маленьким грозится. — Щас як дам!.. Щас як дам!.. Не лугайтесь на мою сестлу!..»
Одарка рассказывала и гладила белую головку Толика:
— В матуську, в матуську хлопчик. Орина боевая та балакливая, царство ей небесное, была. Ой и рано ж своих деточек сиротами по белу свету пустила…
В Ульянину породу был Толик, белоголовый и сероглазый, но мамой не хотел называть — родную помнил и часто спрашивал, когда она приедет за ним, плакал, тер кулачонками глаза, не накормить после слез. Редкую ночь оставался Толик сухим, даже днем часто мочил штанишки, с вечера долго не засыпал, и она определила, что хлопчик «зляканный». Как казнила себя, только бог знает! То ж ее вина за испуг Толика. Везла его попутной машиной из Краснодара, и шофер гнал сильно. Недавно построенную дорогу успела разбить военная техника, размыли осенние дожди, во многих местах появились ухабы, и на одном из них полуторку так сильно тряхнуло, что в кузове пассажиров подбросило на лавках, а Толика — выше всех. Он закричал, как раненый зайчонок, и она после боялась, что у Толика от испуга будет болеть голова, как и у его покойной матери. Нет, по-другому отразился испуг на хлопчике: тихий он стал и на мочу слабый. Значит, надо лечить.
Лечение от испуга считалось среди станичных лекарей самым трудным делом. Мать Ульяны умела изгонять эту хворь, а сама она не усвоила все тонкости, могла только приблизительно вспомнить, как творилось таинство. Помнила, что лечила испуг мать только по четвергам. Суровой ниткой измеряла рост больного ребеночка и отрезала такой кусок нитки, а другой отрезок брала с ширины плеч. После состригала клок волос с головы и ногти на руках и ногах, собирала все это в пучок, подводила ребенка к дверному косяку, после этого читала наговор.
Слова Ульяна припомнила и несколько раз прочитала вслух весь наговор. «Переполох водяный, ветряный, надуманный, погаданный, девочий, парубочий, женский, мужчинячий, конячий, скотынячий, собачий, кошачий, жабьячий и мышачий! Я тебя вызываю, я тебя выкликаю из ручек, из почек, из буйной головы! В голове тебе не стоять, червонной крови не сосать, щирого сердца не вялить! Я тебя сгоняю, я тебя сдуваю туда, где людская нога не ступала, где людской глаз не заходил — под гнилую колоду! Там тебе исчезать!..»
Было похоже, что слов для наговора достаточно, и все были на памяти. Но все ж таки спотычка имелась: во время наговора рядом с больным ребенком должна стоять у порога хаты его родная мать. Может, заменить на крестную или на другого кровного родича? Ульяна сомневалась, прикидывала так и сяк, и, ни на какой замене не утвердившись, решила испробовать другой способ.
Вечером, когда куры после захода солнца уселись на насест, она повела Толика в курятник.
— Пойдем, детка, там куры между собой балакают. Сперва я у них поспрашую, а ты стой, молчи, не балуйся и голосу не подавай, тогда куры и с нами забалакают.
Притворив плотно дверь, присела на корточки, начала нашептывать: «Куры, куры, куревницы…» Племянник обхватил ее ручонками за шею и слушал. Поддавшись игре, он ожидал чуда, поверил, что куры умеют говорить.
Потолок курятника был плотно промазан глиной, стены и дверь не пропускали света, крепко пахло куриным пометом. Мягкие детские волосенки племянника прикасались к щекам Ульяны, бередили в ней материнскую нежность. Приучит она Толика называть ее мамой, заменит ему свою сестричку Орю… Сотворив короткий наговор, она взглянула вверх. Куры отозвались сразу и забушевали тревожно, слышно было, как они слетали с шестка, бегали по глиняной стеле, дробно стуча коготками и заполошно шурша крыльями. Толик задышал ровнее, легче — дождался отзыва кур, сейчас они ему что-то скажут… Он перестал сдавливать шею Ульяны. Сейчас он вскинет ручонки, заговорит сам… Ульяна толкнула наружу дверь — в курятник ворвался свет, таинственный мрак исчез, малец отвлекся от квохчущих вверху кур.
— Пойдем, сынок, — шагнула к свету Ульяна. — Гомонят наши куры хто на шо. Другой раз послухаем, может, разумливей скажут. — И она подхватила Толика на руки.
Еще два раза носила Ульяна племянника в курятник, творила там наговор, и Толик стал шустрее, спал без капризов, кушал лучше, но постель по утрам по-прежнему оказывалась мокренькой.
Отойдет хлопчик, надеялась она, поживет у меня подольше, и выправлю ночную хворобу травками или загоню переполох под гнилую колоду. Ни одна станичная брехуха не скажет, что я подло кохаю малого, а то нашлись уже такие, позавидовали. Ось вам — дулю, тем, кому наша родна дытына в глазу свербит!..
Пока недобрые разговоры и попреки шли от сторонних людей. Колдовские наговоры, мол, над малым дитем она творит и взаперти содержит целыми днями. Но вот уже и золовка Одарка с неохотой стала соглашаться принять в компанию своей детворы Толика. Та самая Одарка, какой подарила Ульяна на своей свадьбе газовый шарфик («На тебе, моя хорошая, на счастье. Будет и у тебя невестин наряд»). Вышла она замуж, мальчика и девочку родила и жила от Ульяны неподалеку — на углу Базарной улицы и Холодного переулка. Родичались они хорошо, пока Матвей дома был, а взяли брата на фронт, и Одарка в калитку братового подворья стала реже приворачивать, хотя и с коромыслом к речке каждый день мимо бегала. А однажды, когда Ульяна привела к ней Толика, сказала:
— Передавала Малиниха, что тебя в тюрьму за хлопчика посадят.
— Нехай та твоя Малиниха не брешет! Ей для того депутатскую книжку дали в стансовете? Я сама пойду до председателя. Не похвалят твою Малиниху за ту брехню. Шо это такое? Она как депутатка пособлять, должна людям, а не свары разводить. Хоть раз спознала та Малиниха, как бабы-солдатки живут? До кого-нибудь на подворье зашла с добрым словом? Брехать ей привычней. До войны кто был горластей всех активисток? Малиниха. А посуду солдатскую из части кто, как не Малиниха, таскала в помойных ведрах? Пока не поймали, на всех станичных баб наговоры были. Про то она молчит? Твоя Малиниха кого угодно заплутает!..
Покричала Ульяна на Одаркину подружку и саму золовку заодно отругала, что та сплетни дальше пускает. А в своей хате и своим слезам волю дала. Кто ж ее, сироту, пожалеет, кто заступой крепкой сейчас встанет?
«Ох, сестрица ты моя, глубоко ж ты лежишь и далеко… Та твои глазыньки закрытые, та твои ручки сложены, все дела на белом свете переделали, не обнимут сыночка, не обкохают та у злыдней языки не вырвут…»
Жалко было отдавать Толика, когда Тимофей Лабунин приехал за ним, — привыкла Ульяна заботиться о малом, больше двух месяцев был он ей за младшего сына, в тепле и ласке жил.
Тимофей снял шапку и несколько раз пытался повесить на гвоздь, но промахивался и попадал на стену, обеливая известкой рукава фуфайки. Наконец повесил шапку и прищурил на сына веселые глаза. Не такими они были у него на фотокарточке, которая тогда уже висела в горнице. Сфотографировались родичи у гроба Орины, и муж покойницы сидел горем придавленный, безутешная тоска была в его запавших под лоб глазах. Потому его веселье не понравилось Ульяне — обида за недавно схороненную сестру в ней заговорила.
— Как же ты хлопчика малого повезешь, если ты пьяный? — упрекнула она Тимофея и в этот упрек вложила всю боль, что держала на сердце за неудачное замужество сестры-покойницы. «Что Орька хорошего знала с тобою? — думала она, глядя на пьяного зятя. — Ничего. Допировался до седых волос, а все наг и бос. Таскал бедную Орьку с детьми то в одну, то в другую станицу, хаты своей до сорока лет не построил, семье не подмогал ни харчами, ни одежею…»
Многое могла сказать, но воздержалась ругаться при ребенке. Смотрела с укором на дремлющего возле теплой печки зятя, головой покачивала, хотя слова так и просились с языка. Когда уводил отец Толика, закутанного в ее платок, она стояла у калитки, смотрела вслед и слез сдержать не могла. Знала, что к мачехе повезет, по своему сиротскому опыту знала, как жить у мачехи. Осталась на другой день Ульяна жить в своей хате одна.
9
Осенью и зимой полевой работы не было совсем, но бабы из Ульяниной бригады не сидели днем в хатах, дела для них в конторе «Заготскот» находилось много. Они заготавливали в лесу дрова, кормили и доили гуртовых коров, сопровождали их в отгоне на бойню в Краснодарский мясокомбинат и откормочные пункты. За пятьдесят километров и дальше гоняли по осенней распутице, по предзимним приморозкам, по снегу.
Отгонщицам нужно было закаменеть сердцем и забыть свою женскую жалость и слабость. Они и внешне выглядели сурово — стеганка, большой плат завязан по самые глаза, юбка из плащ-палаточного полубрезента, глубокие резиновые галоши, кнутовище в руках, а на боку сумка с дорожными харчами. Когда Ульяна шла, юбка громко шуршала в складках грубой ткани. Она даже оглядывалась не раз — кто там наводит шум? А, юбка солдатская! Они и сами были солдатками и, заботясь о солдатском пропитанье, всегда помнили, не могли забыть тех, кого взяла у них из семьи война.
Матвей прислал первое письмо из станицы Кущевской, после писал из Недвиговской и Синявской, поминал станции Злодиевскую, Ольжинскую, Чалдар, Новобатайск. Все это были прифронтовые места, дивизионный обоз часто переезжал, и везде Матвей первым делом отыскивал сельскую кузницу, разжигал там горн, ковал армейских коней. Как-то Иван Тимошенко заскочил в станицу на короткую побывку, и Ульяне передали, что Иван видел Матвея на встречном эшелоне — стоял Матвей на платформе с военным грузом, и штык на винтовке был привинчен. «Значит, пока живой, жди от самого весточки с нового места», — успокаивали Ульяну доброхотливые соседки. Позже письмо и правда пришло из-под Миллерово: «Бомба разорвалась возле кузни, осколок пробил стену прямо против моей наковальни. Еще одна смерть просвистела мимо…» И замолчал Матвей. Как отсекло руку с пером. Почтальонка стала торопливее бегать мимо Ульяниной хаты. «То ж затишок у них сейчас на фронте, — успокаивали бабы Ульяну. — Немец мерзлякуватый и зимой не дужий на драку, сопли на морозе сморкает в кулак, значит, и наши мужики перезимуют живыми…»
В эти сумные дни Ульяна близко сошлась с Ольгой Куренчихой. Ольга из станицы Пензенской приехала с мужем еще перед войной. Она была молодая, в дочки Ульяне годилась и всегда к ней подходила с добрым словом, уважительным тоном любое дело обсуждала.
— Тетя Уля, нам завтра с вами на быках дерево тягать в лесу, так вы какого привыкли водить, Рябого или Артема?.. Ой, тетя Уля, третью неделю пустые дни живу. Ни одного письма от Василя…
— И я ж червивыми кислицами откидаю таки денечки, — вздыхала Ульяна.
На ожидании фронтовой весточки и завязалась их дружба. Ульяна позвала Ольгу в свою хату ворожить на мужа, ворожба показала, что Василь живой, скоро Куренчиха стала ее квартиранткой. Она написала письма фронтовым командирам: сообщите, мол, как наши мужья воюют, а то плохому не хочется верить без писем от них, отпишите вы нам весточку, чтоб надежнее знать. И пришел обоим ответ: Василий Курень отправлен с передовой в тыл по случаю ранения, а Матвей Полукаренко переведен в другую часть, живые оба. Вот и подтвердилось Ульянино гадание на Василя, и ей надежда проблеснула — живи дальше, жди Матвея и верь, что муж вернется.
Девятнадцатого декабря, на престольный николин день, отгонщицы возвращались из Краснодара на попутной машине. Скот удалось сдать пораньше, на базар успели заскочить, выменяли за табак кто мыло, кто платок головной или носки теплые. Ульяна везла толстые шерстяные рукавицы для Матвея. Теперь он, может быть, и не возле кузнечного горна горячего стоит и руки в тепле держит, приходится, наверно, и в карманы шинели прятать, а то и за мерзлое железо винтовки хвататься зимой голыми пальцами. Шапку вот тоже из дому не захватил, добрая была своя шапка, потеплей солдатской, тоже надо посылать в посылке. Просил в последнем письме из рубашек какую-нибудь, под гимнастеркой, мол, буду носить, и такую достала, отправит. Она так отрешилась мыслями, что почти не замечала дороги. Езда чуточку укачивала, сиди, баба, со своими домашними думами (другие и в голову не идут на возвратной дороге), в своей станице тебя ударят по плечу: приехала, плати шоферу троячку.
За развилкой дороги у Прицепиловки машина остановилась. Кто-то забросил в кузов тощий солдатский сидор, поклажа упала Ульяне на ноги. Следом потянулась к боковому борту одна рука, а другая так и оставалась где-то внизу. Кособочась, вскинулся на колесо красноармеец и рывком перебросил через борт обмотанные до колен ноги в ботинках.
— Ну и ветер злой, — пожаловался он, упрятывая под шинель забинтованную правую руку. Повязка была длинной, значит, ладонь у раненого осталась целой, а может, и пальцы будут пригодны к работе, знать, потому и разговорчивым выказывал себя фронтовик. Кроме него в кузов добавились две женщины, одетые по-городскому, — этим ехать до Горячего Ключа.
— Землячка, мой сидор ваши ножки не отдавил? Вижу, нет. Закурим по такому случаю. — Раненый выдернул за шнурок кисет и протянул Ульяне. — Там и газетка. Закрутите, не посчитайте за труд. Огонек я сам добуду. — Посмотрел внимательней — станичница перед ним, трудовая тетка. — Вы не с Псекупской будете?
Ульяна ничего не ответила, пока не скрутила ему цигарку. Машина уже набрала опять ход, махорка просыпалась из газетки, она ловила закрутку нахолодавшими пальцами, зыркала искоса на солдата — не обессудь, мол, не мастерица на такое мужское дело. Цигарка получилась пупырчатая, с неровной склейкой, хоть за борт машины кидай или высыпай махорку обратно в кисет. Но раненый принял курево без упрека, подпалил зажигалкой.
— Спасибо, землячка. Дай тебе бог, чего хочется. Домой, значит, в теплую хату, к детишкам, свекру сердитому…
Солдат говорил ей и не ей, будто сам с собой привык больше о жизни толковать, себя спрашивать и себе же отвечать. Шапка-ушанка у него была отвернута вниз, сидел он к Ульяне боком, она за табачным дымом плохо видела его лицо. А тут еще снежной крупой обсыпало всех сверху, пассажиры сидели в открытом кузове, нахохлившись, как куры. Слева от дороги была приснеженная степь, справа тоже, но чуть поодаль она переходила на этой стороне в колючее мелколесье, а еще дальше — холмы и ущелья предгорья. Сейчас ничего из дальних примет нельзя было разглядеть. Но солдат что-то высматривал вокруг, крутил головой по сторонам и чаще хватал дым из цигарки.
— А ты сам вроде как не псекупский, — сказала ему Ульяна. Времени на расспросы оставалось мало — справа замелькали казармы воинской части. — Там не попадался тебе кто-нибудь из наших?
— Имеретинский я, землячка, — откликнулся солдат, повернувшись и опустив от лица руку с цигаркой. Не больше тридцати ему, серые глаза, курносый, и верхняя губа приподнята уголками — такие губы всегда со смешинкой, будто резинкой растянуты, и та водит их туда-сюда, на минуту не оставляя на месте. — Богато было кубанских и закубанских там, — мотнул солдат головой на отбегающую назад дорогу. Сказал так, будто они проехали недавно сквозь густую толпу вооруженных казаков, где было много знакомых лиц, а теперь никого не осталось, пусто на дороге, и его самого увозит с того места случайная машина; он уже не строевой, слава богу, что остался живым. — Я с тем, землячка, шо под Таганрогом не дай бог сколько наших, побитых минами та пострелянных… — Раненый курнул цигарку, придержал дыхание и выпустил дым наружу медленно, будто сам дымился тлеющим огнем. — Иван Терещенко в госпитале рассказывал про ваших, псекупских. Хутор какой-то у немца отбивали. Вчетвером бегут вперед с тем, что минометный расчет. Один трубу возле пояса держит, а у троих мины связками на спине. Старшой остановился, мину в ствол кинет, она — бух, полетела. Подавай другую. А немец им свою, калибром покрупней, — под ноги! Старшего на спину опрокинуло взрывом, труба так в руках и осталась. Крамаренку — вверх тормашками… Одной ногой дрыгает и воздухе, а другую под корешок срезало… Полукаренко сидит на земле, и за пробитую каску руками хватает, хватает, а сам кричит: «Братцы! Дайте шапку, а то голова сильно мерзнет… Где моя шапка?..»
Ульяна цепко поймала плечо солдата:
— Стой!… Подожди трошки… Скажи еще раз…
— Про Крамаренку? Чи про старшого? Перхун был, звать Павлом.
— Я за Полукаренка пытаю… Ты фамилию такую от Терещенка взял?.. Может, другой кто?
— Да ты шо, землячка? Рази ж я могу в таком деле сбрехать? Он родичем тебе, да? Ото и хорошо… Может, другим сама передашь вестючку, а то побывка моя короткая?..
— Про других после балакать будешь… Ты мне скажи, как звать Полукаренка?.. Матвий?
— Матвеем звать, могу побожиться. Иван Терещенко два раза с ним на свадьбах гулял.
Ульяна разжала свои пальцы, сжимавшие плечо солдата, и отшатнулась от него.
— Землячка, а землячка, — затеребил ее немного погодя попутчик. — Я до Первомайского хутора с вами. А дальше — на другую попутку… Нема Матвея Полукаренка живого…
Слева виднелся Молькин хутор, за вторым ериком будет и Первомайский. Осталось десять минут ходу, и раненый фронтовик выпрыгнет за борт, дальше машина пойдет без него. Был и не был. Говорил не говорил…
Черные колючие деревца и кусты пропадали за машиной. Ульяна боялась повернуться к фронтовику. Снеговая крупа секлась порошей, быстрый ход машины крутил на дороге снеговые вихри. Мелькнула на бугорке пирамидка Сорокиной могилы, дорогу повело под уклон ко второму ерику. Сорока был красноармейцем, его убили на посту в мирное время. А Матвия? Убили ж и Матвия. Уби-и-ли-и!!! Уби-и-и-и-ли… А машина куда и зачем едет?.. Надо ж в другую сторону… где Матвий остался… Ой жарко… дыхнуть нечем… Ма-атя-а-а…
Машина остановилась у Первомайского хутора. Из кузова никто не выпрыгнул. Шофер для верности посигналил, подождал еще минуту. Все пассажиры остались на местах, поехали дальше. Городских попутчиц ссадили перед мостом через Псекупс, остальные потребовали, чтобы шофер повернул с главной дороги направо и вез их до Холодного переулка: в кузове был больной человек. Это Улья«а стонала и задыхалась от удушья, рвала с головы платок.
Мать-я-а-а…
10
Казаков убивали в чужих краях часто, и всегда их заочно отпевали в родной станице. На видном месте стоял в Псекупской христианский храм, у большой дороги. Всяк проезжающий мимо казак осенял себя крестом и спешил жить дальше, веруя и надеясь на удачу и счастливую судьбу. Церковь была деревянная, срубленная из молодого дуба, самого ходового строительного материала в станице. Воздвигли ее быстро, не так, как строили в черноморских и предгорных линейных станицах, где пользовались кирпичом и добавляли в известковый раствор яичный желток. Там огромные соборы росли вверх медленно, храмовый яичный налог квартал за кварталом обходил станицу и ближние хутора. Зато и поныне стоят они, как красные крепости, и еще долго будут хранить старину. С тех пор как в двадцать седьмом году церковь в Псекупской сгорела, православные обряды стало справлять хлопотно, службу справляли то в одной, то в другой хате, на свой толк и лад.
Ульяна несколько дней вопила по убитому на войне мужу и, откричавшись, повела свой счет до первого поминания, до второго, в свой срок готовилась и годовину отметить. «Для меня Матвий живой был до миколина дня, — сказала она мужниной родне, — так я и запечатаю». Знали золовки ее характер и спорить не стали: вдовье, мол, дело, когда мужа поминать и назначать гостеванье за скорбным столом.
Исполнить прощальный обряд Ульяна пригласила на сороковой день бабу Томильчиху. Ее она знала давно как светлую тихую старушку. Все церковные законы та верно блюла, помнила старину. Такая не будет после сплетничать, если что выйдет по трудному военному времени не так, а все сделает честь по чести.
Старушка несла от речки ведра с водой на коромысле. Несколько платков намотала на голову, бурки теплые сберегала от грязи глубокими галошами и под тяжестью двух полных ведер воды гнулась чуть ли не до земли. Ульяна подошла сбоку, тронула бабкино коромысло:
— Хведоровна, я до вас хочу побалакать.
Томильчиха, обернувшись, показала клочок старого лица — нос и рубцы под ним, где должны быть губы, — и закивала куталом платков: признала, мол, соседку, слушает. Ульяна сняла с бабушкиной спины тяжелое коромысло, глянула вниз, можно ли поставить ведра на землю. Грязь под ногами была глубокая, глинистое скользкое месиво — до апреля, до настоящего тепла будет теперь Холодный переулок таким. Нельзя ставить чистые ведра в такую грязноту, и Ульяна перекинула коромысло на свои плечи.
— Пойдемте, Хведоровна, до вас, я донесу воду.
Так они и шли по слякотному переулку — Ульяна с коромыслом и ведрами, бабушка порожней. Дорогой они обговорили все, и Томильчиха согласилась прийти в ее хату и там сотворить священную справу.
— Я не самоправна одна спивать: не божественна, — сказала она. — Могу только по божьим книгам прочитать. А своих дома не осталось — все поотдавала. То те просят, то другие. Думаю, нехай божье слово ходит по людям.
— У меня Ювангиле есть. Далеко заховано, так найду ж, не беспокойтесь, Хведоровна. А с собою певчих не ведите.
— Ну, тогда годи, — блеснула бабушка глазами из-под платков. — Пашенички не забудь приготовить мисочку.
— Где же достать? Кукурузу посыплю в святой угол…
Ульяне плохо спалось в канун отпевания. Думы теснились одна другой горше, и все спрашивала она себя, чем провинилась перед людьми и богом, за что ей покара такая? И, перебирая свой бабий век, где всякое бывало — и матусю с татусей схоронила, и двух братусек, и двух сестриц, и деточек троих, — она как в глухую стену толкнулась, когда к убитому Матвею думой приблизилась.
Теперь и захотела б, да не могла не вспомнить подробности из рассказа того раненого красноармейца о смертном часе Матвея.
…Под Крамаренку немцы вторую мину бросили, ничего от живого человека не оставили. Матвей скинул пробитую железную каску на землю и рану свою руками накрыл, сам все про шапку спрашивал. Но почему-то не текла с головы кровь, странное было ранение… Иван Терещенко, счастливо уцелевший от немецких мин, опять надел Матвею каску, просунул свой ремень под его ремень и такой солдатской связкой понес на спине. Возле какого-то сарая опустил на землю, оглянулся: немцы бегут к ним. Отскочил от Матвея — дай самому бог ноги… А тут снаряд прямо по сараю — дым, куча соломы горит на том месте, где Матвей остался лежать…
Такие слова взяли от попутчика в тот миколин день ее товарки. Сама она головой тогда заморочилась, трясло всю, и разум мутился, слова прыгали. Откуда взялись? Куда попадут? Не угадать… Снова хотелось кричать и возносить кулаки: «Нехай наши слезы не падают на землю, а немецких ворогов жгут!.. И пожгут!.. Всех повыжгут…»
Она знала, что под Москвой уже победила первый раз немчуру Красная Армия, начала изгонять ворогов с с русской земли. Если бы сразу встали все да ударили по злодиям — отбили бы охоту на чужое добро и не пустили ни под Таганрог, ни под Харьков. А может, и бабы тут виноваты? Каждая ж хотела задержать возле себя муженька и сыночка, свое жалела и не оглядывалась туда, где других в этот час убивали. Она тоже отсрочкой попользовалась, счастливей других ходила по станице. Выходит, те две недели искушением были.
А та ночь, когда вернулись от школы, ох какою ж она была для них с Матвием!
Да о такой и через тридцать лет спроси — готова вспомнить до слова, ничего не забыть, каждую подробность потрогать рукой: вот она, картиночка моя дорогая… И разве ж не хотела брать свое бабье все остатние дни?
Как-то не вытерпела, поджидая Матвея на обед, и сама понесла снедь в кошелке. Через Псекупс бродом Полянским перешла, чтоб сократить дорожку и меньше знакомых баб встретить. В станице ведь каждая останавливала: «От мне завидно, Кононовна: ваш муж не сразу на фронте…» По заречью до кузницы МТС добежала без всяких встречных разговоров, ни с кем своего Матвея не обглядывала, не делила. А ему и домашний обед в тот день был не в надобность. Под акацией сидел с кузнецом Ленькой Ковальчуком — на траве пирожки столовские, губы от водки у обоих мокрые.
— А, пришла, моя громовница? — такое спасибо от Матвея приняла за свои хлопоты. Ну и похрестила обоих, навела шуму!
Долго обиду носила на Леньку за то, что спаивал мужа, теперь отвела душу. За давнее отругала, за нынешнее и завтрашнее.
«Почему тебя, бугая такого, за цепку не потянули ни в первый призыв на фронт, ни во второй, ни в третий? И с военкомата в станицу вертаисся с мокрыми губами и незрячими очами? На расплод оставили? Гожий ты, аж некуда! Пятый год твоя жинка порожними цыцками трясет…»
Остался ведь дома Ковальчук. Живой, мордатый, и от водки губы не просыхают. Как встретит в станице, так и кричит: «А, громовница! Пожадувала налить Матвию фляжечку в дорогу…» — «Сроду водки никому никогда не наливала в дорогу». — «Та шо ж ты туда сама сдоилась, чи шо?» — «Идолова ты душа, тьфу на тебя!»
А было время, когда Ленька и в хату к ним приходил, за столом закуску ему подкладывала: «Ешь, кум, швыдче, а то пьяный до дому не дойдешь». И отводила, подставляла плечо, чтоб не падал. Ленька Ковальчук учил Матвея кузнечному ремеслу и выучил, к директору Важинскому сам пошел: «Ставьте Полукаренка на самостоятельное горно, справится».
Руки Матвея много работы знали, к ним бы характер покрепче, перцу куда надо присыпать бы, чтоб позлее был мужик, не дожидался, когда его прижгут. Был Матвей работником у богатых казаков, у греков, кормился впроголодь, получая копейки там, где должны платить рубли, а никого злым словом никогда не помянул, греку в морду кислым молочным арьяном не плеснул — сухую мамалыгу ел и на вопрос грека: «Почему арьян не ешь?» — смирно говорил: «Та для нас, русских, такая еда не добра». Обиды к нему как репьи липли и тут же слетали, горе и беду тоже не принимал в себя — снаружи сбрасывал. «Приходится зменьшаться», — скажет и живет дальше. Целый мир не мог, по его разумению, быть несправедливым. Нет такой силы, какая может погубить всю жизнь. Значит, живи, как жизнь позволяет. Такие тихони будто для того и живут, чтобы злые и неправые себя миру являли. Без них они задохнулись бы собственной злобой или погинули в грызне с такими же. Может, на долготерпении смирных и мир выстоял, не перестал быть добрым, жадностью и злобой не погубил самое себя?
Ульяна первый раз постигала своего мужа целиком, весь он ей высветился в долгой думе, и все мелкое, пустое отлетело, как пыль на ветру. Готовясь к прощанию, она брала на долгую память только то, что скрашивало и облегчало их трудную жизнь, скрепляло души, помогало выжить, было и смыслом, и верой, и правдой. И этого нового Матвея оценила такой высокой мерой, какой не знала раньше. Вот когда наконец все высмотрела и поняла, дотянулась к родному. Теперь и любить, и беречь знает как, да поздно. Почему ж, почему припоздала? Куда спешила-торопилась? По каким таким делам? Есть ли в этой жизни что-нибудь важнее и дороже, чем забота о кровнике, о родной душе? Ведь с этого начинается человеческая жизнь, на том стоит род человеческий…
Ульяна не к смирению выходила, не к всепрощению затворницы, не к злобе на весь мир. Печалью наполнилось ее сердце и болью за боль других.
Давно в ее хате не было так многолюдно. Пришли помянуть Матвея его сестры — Таисия и Одарка, ближние соседи, Ульянины товарки с работы. Мужчина был среди гостей один — бригадир Иван Самсонович Стрекота. А Митя не приехал. Пробовала Ульяна подавать телеграмму, но на почте у нее потребовали официальный документ на право вызова, и она отступилась — думала сама сходить еще раз к сыну.
Распоряжалась всеми приготовлениями бабушка Томильчиха, даже свечки принесла свои. Где она их достала в такое бедственное время, никто не спрашивал. Только Ульяна, пока не было других гостей, спросила: «Вы, Хведоровна, на свечи потратились?» Томильчиха так на нее посмотрела, что лучше б не спрашивать.
Сама Ульяна, кроме лампадки и каганца, ничего не могла засветить. Да и в других мелочах пришлось пойти на подмену. Вместо рисовой сладкой кутьи сварила кукурузную кашу и положила в нее изюм. Варили ж греки кутью из пшеничной крупы. Обшугают от кожуры зерно, и такая ядреница получается — ничуть не хуже рисовой каши. Разве можно достать сейчас пшеничного зерна? Последний раз летом видела, и то со стороны, когда везли на заготпункт в колхозных подводах. Про рис и говорить нечего. Кисель поминальный тоже заменила узваром. На крахмал картошку жалко стало тратить, не перетирала теперь, когда началась война.
Прикидывала Ульяна замены и подмены и надумала, что и землю будет «печатать» свою, а не кладбищенскую. Матвей каждую грудочку земли на своем огороде отработал и руками потрогал, так не над этой ли землей и надо сказать святые слова и успокоить его душу во веки веков: «За святое дело — за землю родную убиен, спи спокойно».
Евангелие Ульяна отыскала на горище в старом коробе, куда складывали много лет всякую отслужившую свое всячину, какую выбрасывать все ж таки жалко — может пригодиться в хозяйстве. Когда-то с этой книжкой бегали в школу Ульянины братья и сестрицы, а после революции она утратила надобность как учебник. Матвей, будучи не очень набожным, даже стал делать на ней кое-какие хозяйственные записи. «Корова отелилась шестого декабря… Пшеницы-белотурки взяли с озимого клина 17 мешков…» Разве ж думал он, что эта книжка подведет итог его земным делам, освободит от работы его руки и навсегда успокоит душу? Пусть только бабушка Томильчиха найдет в этой книжице самое лучшее место. Должно в ней быть такое. Господи, неужели и правда все сегодня закроется и запечатается?..
Ульяна ходила по своей хате и плохо все видела: из глаз натекала и натекала слеза. Черная косынка укрывала ее седую голову, лицо было само страдание, заострился нос, и она часто пошмыгивала и сморкалась в платочек. Не думала она, что ей будет так горько, что с этого прощального дня по-настоящему познает вдовью долю, начнет жить черной головой.
Входили гостьи, крестились на икону, снимали фуфайки и теплые платы, и каждая была в повязанной еще дома темной косынке. Бригадир Стрекота пришел в черной косоворотке, а когда шапку снял смушковую и обнажил голову, то все увидели, какой он старый: белый пух над большими ушами, сивые усы, и кадык топорщился над воротом рубахи, как потресканный зоб. Он только кивнул гостям, а к иконе не приблизился. Шепнул Ульяне: «Я там мясца чуток, на борщ…» В другом случае Ульяна сказала бы: «Опоздал, Самсонович, с таким гостинцем. Уже сварила борщ, добыла мяса у добрых людей». А на поминках какие могут быть укоры гостю? Спасибо, что пришел, не загордился. Подозвала Ольгу Куренчиху, сказала, куда убрать бригадирово приношенье.
За окнами хаты январское небо было мглистым, ветки шелковицы у калитки дергались от ветра. Уже больше недели не показывалось солнце, но и снег не падал на землю, морозы крепкие отошли, зимний воздух сырел, набухал влагой. В любой момент мог начаться дождь или сыпаться снеговая крупа — южная зима ни в чем не уверит, жди и приемли какова есть. Ульяна сегодня была смиренной, удерживала себя, не кричала о своем горе. Все, кто пришел в ее хату, знали, что война свела их сейчас вместе и соединила общей бедой, но не померк белый свет, вокруг свои люди.
Старушка знала наизусть все нужные к отпеванию слова и уже с первой фразы не удержала такт чтицы — она пела, и пела самозабвенно, отстраняясь от всех и вся. Что-то она видела такое, что уносило ее от людей, стоявших рядом.
— Воина убиен Матфея-а-а-а…
…Свечи у фотографии покойного догорали. Томильчиха сняла со стола икону, обратила к фотографии Матвея и перекрестилась. Потом придвинула к себе поминальную «грамотку» и вывела под списком отживших Ульяниных кровников еще одно имя: «Убиен Матфей».
— Теперь спи, Матюша, спокойно.
И Ульяна повторила:
— Спи спокойно, Матя.
Она начинала жить другой жизнью, все заботы о доме и сыне теперь брала на себя. Навсегда брала, пока будет жить…
Поминальный обед затянулся до позднего вечера, и в окнах Ульяниной хаты мерцал огонь, не затворялись ставни. Ветви шелковицы у калитки дергались под ветром, Матвеевой шелковицы, будто он оставался на подворье и все не кончалось долгое прощание…
Часть 2 Знойное лето
А громы грохочут все ближе,
Все чаще тревожная весть…
1
В мае Ульяна и Ольга затеяли стройку. Вокруг ползал холодный шепоток соседей, сводки с фронта секли по глазам сильнее, а они наперекор всему месили босыми ногами глину с половой, высушивали саман в пирамидке и поставили новый сарай, стропила на крыше Ульяна заключинами без гвоздей накрепко свела в конек и на кровлю траву сухую приспособила, чтоб в трудный час поддержать корову-кормилицу. Управившись с коровьим жильем, принялись за ремонт хаты, чем вовсе убедили всех, что горевать-бедовать не намерены.
Видя, как заходятся в работе на подворье вдова и квартирантка, сестры Удовенчихи пустили сплетню: приймаков готовятся взять Полукаренчиха и Куренчиха. Ульяна поймала на таком слове Дуську и, крепко захватив в кулак крендель ее прически, сказала: «То вам с Фенькой, сучкам незамужним, одни кавалеры на уме. А я Олю за дочку приняла. Зять, покалеченный на войне, будет жить в моей хате, поняла? Вы ж до своей старой халабуды рук не прикладаете, сроду добры люди до вас не зайдут». Насчет «покалеченного на войне зятя» она не совсем права была, потому что прислал Василь Курень одно письмо из уральского госпиталя, подразнил приездом и не приехал — прямым ходом снова отправили на фронт, сейчас где-то у Брянских лесов воевал его кавалерийский полк.
Чувствовала Ульяна сердцем, что война долгая на этот раз выпала, много еще впереди людского горя и тех, кто в лихую годину будет искать крышу над головой. Так пусть ее хата кого-то примет и хозяйку после кто-то добрым словом вспомнит. Ей в такой хоромине одной делать нечего, возле людей да в заботах о других всю жизнь жила, так и дальше хочется, такая вот есть.
А солнце как запекло с апреля, так и гнало, торопило, все сроки работ сокращало и подталкивало: успевай, а то поздно будет! К июню зной прожег до корней травы, перегретая земля во многих местах полопалась трещинами, до ручья обмелел на перекатах Псекупс, досуха выпарило солнце воду из ущелистых ериков. Тучи ходили где-то стороной, по краю горного окоема, и, потому что они были дальние, трудно стало угадать, изломная ли хмарь зависла в блеклом небе или горная гряда открылась просторнее и белели сквозь дымчатое марево снеговые вершины, — тогда быть перемене погоды. Но по-прежнему было жарко на земле.
Через станицу в эти дни двигались сплошным составом военные обозы, и тяжелое положение на фронте не трудно было заметить в пульсе движения. Уже сильно проредился поток армейского транспорта, спешащего на запад, где была нужда в свежей силе и куда весной часто везли на быстрых машинах новобранцев, в открытых кузовах их лица бодрились по-молодому, острым словцом задевали солдаты встречных, а то и песней убеждали: поправятся скоро дела на фронте, для того нас, молодых и крепких, туда и посылают, ждите хороших вестей.
Теперь красноармейцев чаще везли назад в неторопливых машинах с красными крестами, хотелось узнать, кого же покалечило на войне, нет ли среди раненых кого-нибудь из земляков или кровников, их почти всех уже забрали из станицы и послали отбиваться от немцев. Иногда узнавали, вскрикивали по-южному громко и спешили передать весть нужному человеку, и даже нежеланная горькая новость сближала людей — всем миром второй год отбивались от ворогов, уже много пролили в боях своей крови защитники…
В конце июня хату Ульяны заняли солдаты-связисты. «Все грамотеи, стрекотит ихний аппарат, и сами на буковках отстукивают, как на гармошке играют», — рассказывала она о своих постойщиках, и получалось, что эти армейские тыловики сильно осложнили ее жизнь, а сама ж и рада, что ей такую честь оказало военное начальство и хату из других выделило, вроде похвальной отметины топорщится антенна под соломенной крышей.
В первый день, как вставали к ней на квартиру связисты, сержант ходил по Ульяниному жилью и все разглядывал, на свою мерку прикидывал, а хозяйка была для него вроде уборщицы при казенном помещении.
— Придется вам, мамаша, спальню тоже освободить. Нельзя вам находиться рядом с нашей аппаратурой, военная тайна — связь в армии.
— Так тут тебе не армия и не казарма, — заспорила Ульяна, привыкшая сама распоряжаться в своем дому.
— Сейчас вся страна стала казармой. Везде фронт, все в строю, — сказал сержант и уселся за стол, портсигар с папиросками открыл, огоньком из зажигалки-пистолета плеснул.
— Не, то вам брешут. Цивильни люди спокон веку не воевали. Не было ще такого, хлопчик, и ты меня военными словами не сбивай. Лучше скажи по-людски: «Теть, можно мы велику хату займем, там для нас удобней». А ты — «военная тайна!» Кто же моего мужа убил — не немцы? Мы работаем на «Заготскоту» с зари до ночи, а своя худоба на зиму голодна останется, всю люцерну и каждый шматок сена отдаем казенной худобе — то для кого «военная тайна»?
Сержант недаром на связи службу служил, попривык словами орудовать.
— Вот вы и сами, мамаша, доказали, что везде фронт, — сказал он и на том закончил свою агитацию. Ульяна, однако ж, от своего не отступилась. Следила, как устраивались солдаты в ее хате, за всем приглядывала — глаза под черной косынкой сухие, колкие, самой малой провинки не простят такие. Ох и шуму навела она в первый день своим постойщикам, чуть из хаты за шиворот не повыбрасывала! Досталось и за шибку стекла, раздавленную в окне, когда выводили антенну наружу, и за огонек самокруток, что не притушили солдаты, взобравшись на потолочную стелю и пристраивая провода под стропилами и нарыжниками соломенной крыши.
— Вам абы нашкодить — и гайда, побегли дальше! — кричала Ульяна на все подворье. — Чужого добра вам не жалко, бо не ваши ж ручки работали, не ваша спина гнулася!..
А вечером, к удивлению солдат, молока кринку им выставила на стол, картошки чугунок, бельишко потребовала в стирку, занавески на окнах сменила. Вся мебель осталась солдатам, вся посуда, и под иконой в углу теплилась негасимая лампада. Пообжившись и попривыкнув к нраву хозяйки, связисты иначе как мамаша ее не называли, по поводу лампадки и черной косынки зряшных вопросов не задавали. А однажды принесли муку, и она с охотой засучила рукава, взялась готовить хлебную запару. Дрожжи у нее свои висели в мешочке на стене, давно висели — от последней выпечки остались, когда отщипнула от готового теста шматок и растерла до сухих крошек. Хлеб хороший испечь обещала, только одно условие оговорила: если в бомбежку немецкая железяка влетит в хату и расколотит макитру с запарой, с нее, хозяйки, спросу не будет — немец виноват. Все тогда обошлось, солдатам понравился Ульянин хлеб, и они еще несколько раз кушали ее свежую выпечку, а за добро расплачивались добром — допускали к свежим новостям с фронта. И бабы тормошили Ульяну, не давали ей проходу.
— Ну как там наши? Все отступают?
— Не, отходят на второй эшелон обороны. Занимают заранее подготовленные позиции, — отвечала Ульяна словами армейской сводки и дополняла: — Ведут бои с превосходящими силами противника. — А после такой разминки срывалась до крика, до вопля: — Нападают немцы, идоловы души, по четверо на каждого красноармейца и минами кидаются!.. Харьков и Таганрог уже не наши. А за Крым и Ростов бьются!..
Жалела других красноармейцев, а вспоминала своего Матвея. Как провожала на фронт, какими долгими были те проводы. Но не лишние слезы пролила, нет, не лишние, сердце до сих пор неутешным горем кричит. Подтвердился рассказ того случайного попутчика-фронтовика, вызывали ее в конце февраля в военкомат и вручили извещение, что «красноармеец Матвей Степанович Полукаренко пропал без вести в бою под местечком Волноваха». Она вернулась домой и кричала тогда на своем подворье, вознося кулаки: «В безвисть Матвий пропал? Шо ж его, молня шальна пожгла? Нет, немцы убили!.. Убили!.. Убили!.. Убили!..» — твердила как проклятие врагам, и были в этом жесте непрощение и жажда доказать кому-то, что люди на войне не пропадают случайно, как от ненастья, значит, есть немец, виноватый за погубленную жизнь мужа, за ее вдовье горе, за Митино сыновье сиротство.
2
Полевая бригада уже три недели работала на покосах, старалась каждую лишнюю травинку подрезать, чтоб худобу конторы «Заготскот» обеспечить кормом. Майский укос люцерны взяли до первоцвета хорошим, а вторую отаву еле-еле выскребли в начале июля, по такому знойному лету и думать нечего, чтоб взять третий и четвертый раз, как выкашивали до войны. Теперь добирали в корм дикую траву, все лесные поляны вокруг станицы повыкосили. Отыскали и в березках малорослую траву, там наскребли несколько возов, и сенокосные хлопоты продолжались опять, без роздыху и остановки. Жаркая была работа, некогда спину разогнуть и на божий мир глянуть, что вокруг творится. Духота и к вечеру не спадала, и ночью, по горячей земле ходили босиком косарки с одного покоса на другой, и вскинутые на плечи косы блестели острым железом, как солдатские штыки.
Ульяна исхудала, будто выгорела под знойным солнцем, покоробилась морщинами, как матерое дерево. Как-то она пожаловалась бригадиру: «Знаешь, Самсонович, уже рука косу не держит. Так плечо болит!..» Бригадир не сказал: «Отдохни, Кононовна, побудь пару дней дома». По-другому помог: «А ты смешай керосин и перец с солью, натри и замотай руку». И вытравила Ульяна хворь примочкой по бригадирову рецепту и работу ни на один день не бросила.
В один из июльских дней она выгружала сено на скотном дворе. Брала на вилы первая, бросала Ольге Куренчихе, а та откидывала бригадиру Стрекоте. Иван Самсонович был главным метальщиком на возах и теперь городил скирду. Три воза прошло сегодня через их руки. Накосили в дальнем месте — за Гридневым хутором, куда выехали на быках пораньше, и, пока от Прицепиловки добирались лесной дорогой к Адыгеевскому юрту, солнце палило уже вовсю. Подсекли косами сухую скрипучую траву, сгромадили к вечеру граблями (так быстро сено прокалилось под горячим солнцем) и до заката вернулись в станицу. К концу выгрузки все работали неспешно — намахались за день косой и вилами, приморились.
«Хоть бы ветром потянуло от снеговых гор, — вздыхала Ульяна. — Есть же где-то там, подальше, холод на горах, или так и будет в этом году белый снег дразнить издалека и ни прохлады, ни дождя все лето ждать не дождешься?» Она выпустила вилы из рук, темная косынка не спасала от жары, а нельзя пока на белую менять, от вдовьей доли отмахнуться. Пора было корову из череды встретить, за курами приглянуть, чтоб все поднялись на сидало и квочка не потеряла своих цыпушек. Борька-трехмесячник в поросячьем сажке все корыто, наверно, уже рыльцем подчистил и наводит голодный шум и визг.
Прорва дел летом в домашнем хозяйстве, хоть целый день толкайся от одного к другому — все равно все не переделать, на утро что-то останется, а с нового утра и новые хлопоты. Иной раз кое-что справляла днем, а сегодня без догляду оставила все свое хозяйство, огородное пугало раскинуло тряпочные руки над грядками огурцов и помидоров, и у нее вечером никто не спросит, как дома дела, чего не успела сделать за день. В ночлежниц превратились с Ольгой, казенная работа весь белый свет застит. Приедет Митя днем — борщом никто не накормит…
Последнее время Ульяна все думы к сыну сводила, день за днем откидывала, добираясь к последнему, когда срок учебы кончится и на побывку домой отпустят. А вдруг далеко куда-нибудь отправят на работу или сразу в красноармейскую форму переоденут — и на фронт, под пули, под мины? Что будет дальше, и подумать страшно. Тут Ульяна всегда саму себя одергивала и дела искала такого, чтоб и голосом перебить опасную думку.
— Оля! — крикнула она напарнице и рукой помахала. — Иди сюда!
На скирде было уже порядочно сена. Ольга откликнулась издалека и зашагала широким шагом, пружинисто, в такт шагам, поднималась и опускалась наверху скирды ее белая косынка. Но вот молодица присела над краем скирды и оперлась на вилы:
— Шо, тетя Уля-а-а…
— Та не кричи так, а то все галки с белолиста послетят. Давай у Самсоновича выкосы просить? Глянь сверху по заречью — за Зиньковским садом добра полянка в кущьях. И за Багметовым хутором я знаю две, и за Кругликом.
Ольга приподнялась, приставила к глазам ладошку. Высота обирала у нее рост, да сено рыхлилось под ногами — снизу она казалась круглощекой куклой, и движения были кукольными, не своими: подняли ее, повернули, туда-сюда, куда теперь? Снять бы ее с верхотуры и под скирдой в тенечке усадить, голосом доброй мамы посюсюкать: «Уморилась, моя Олечка? Мы дедуське Стрекоте набьем!»
Бригадир после выгрузки бегал, прихрамывая, вокруг скирды и обравнивал ее стенки граблями, заставлял собирать очесы в кучки и забрасывать наверх. А когда всю скирду обдергал и огладил, взялся мороковать с подсчетами — измерял шагами длину скирды, прикидывал навильниками ее высоту и ширину, замеры вписывал в блокнот, доставая из-за уха огрызок карандаша и снова туда упрятывая. Это была самая главная часть его бригадирской работы, и он исполнял ее молча, с видом очень занятого важным делом человека, будто он один переделал всю эту гору работы и теперь составляет отчет, чтоб доложить результат начальству.
— Самсонович! А Иван Самсонович! — позвала Ульяна. — Ну, товарищ бригадир…
— Пасля, девчата, пасля…
И опять разговор на прежний круг:
— Иван Самсонович, погодьте трошки…
— Занят я, девчата. Пасля, пасля вас паслушаю…
Донским переселенцем за Кубань был Иван Самсонович Стрекота, до коллективизации жил в линейной станице Мартановской, а в Псекупской появился недавно, никто не знал, из каких дальних или ближних краев он сюда попал, считали чужаком, часто затевали с ним спор. Вот и сейчас Ульяну прорвало.
— Та шо ты, Самсонович, крутисся, як бес перед заутренней? Сховай ты свою грамотку в карман и нас поел ухай!
— Чт-то?.. Чт-то?..
— Дело у нас.
— Я пасматрю, пасматрю на вас у Дьяченки!.. Там вы пакрутитесь да самай заутрени… Там вы наслухаетеся!..
Вот и поговори с таким. Только одно и знает орать: «Дьяченки приказ!.. Дьяченка заставит!.. Дьяченка накажет! Дьяченка пошлет туда, где Макар телят не пас!..» Хоть укладывай на ручную тележку домашний скарб, привязывай бечевкой корову и тикай из станицы вместе с беженцами. Бросай хату, катись куда очи глядят… А кто ж Матвию слово давал? («Не бросай, Ульяна, хаты…» — «Так и будет, как ты сказал…») Нет, Самсонович, я подожду, пока ты начальству из своей грамотки все повыкладаешь, так и свое тебе скажу. Ты до моего Матвия раньше дорожку добре в кузню знал со всякой железякой: «Матвей Степанович, подклепай трошки…» А теперь — «пасля» и «пасля»?..
Ульяна ушла к своей арбе, проверила у быков ярмо и налыгач. Ольга сделала то же самое. Своих слов она бригадиру не говорила, ругать ее у Дьяченки не за что, и, выкос ей нужен или не нужен для козы, сказать не могла. Безответное и безропотное существо: обидят — стерпит, приласкают — довольна. Безхатная, с корней сорванная. Пока прижилась на другом месте, а земля тут ей все равно не родовая. Всегда Олька между чем-то живет, куда судьба катнет…
— Полукаренко и Курень! — Бригадир, склонив шею долу, стоял у скирды с затененной стороны и руками подзывал к себе. Вислые сивые усы и мятый козырек стерханой фуражки-сталинки как бы досказывали: «Уморился я, не стариковские это хлопоты — допоздна с казенными делами. На лавочку уже пора сесть и на закат вприщур глядеть…»
Когда Ульяна и Ольга подошли, бригадир распружинил осанку, но все равно смотрелся рядом с рослыми крестьянками как усохший старичок. Будто сердитый свекор стоял сейчас перед невесткой и внучкой и голосом домашнего деспота устраивал обоим разнос:
— На Валошиных палянах сена асталась?
— Нема сена на Волошиных, — ответила Ульяна в тон бригадиру строго и официально.
— А на Карагодавских?
— И там. Корогодовские поляны колхоз «Восьмое марта» покосил.
— Олинские кто? — продолжал допрос бригадир и делал в своем блокноте какие-то пометки: к докладу готовился.
— На Олинских люди для своей худобы нагромадили копицы — вот кто.
— Если не вывезли, вазьмем.
— Рази ж можно брать чужое? Люди нам за свою правду очи заплюют. Спокон веку я чужого не брала и не возьму! — Ульяна плюнула и отвернулась от бригадира.
— А ты знаешь, какая сейчас правда? — бригадир обежал вокруг Ульяны и козырек фуражки азартно подбил кверху. — Кугуты пад себя гребут, а там… там… на фронте — Матвей твой и другие… Каму ж мы тут мяса сабираем?.. Краснай Армии — вот каму! — Иван Самсонович закашлялся и дрожащими пальцами перебирал пуговицы на расстегнутом вороте гимнастерки. Куда-то высоко он смотрел и кричал не для двух слушательниц — сейчас договорит все, застегнет воротник гимнастерки и после слов приступит к исполнению. — Прикажут — вазьмем сена и са двара. Из сараев повыгребаем!.. Кровь из носа, а выполни приказ!..
— Наверно, не твоя, Самсонович, кровь… И не Винниченки?..
— А при чем тут Винниченка?
— Ему ж ты в плавнях дал участки на выкос. Там сено чистое, Винниченка и косить успевает, и продавать. Губы вместе за то сено водкой мочите?..
Бригадир прокашлялся в кулак и резко отмахнулся:
— Ты, Канонавна, хать каго абкрасишь!..
— А кто за мной непорядок находил? Мы с Ольгой не сидим, как другие, по полтора часа за обедом. Покусали хлебца и встали опять на работу. Дывысь яку гору корму заготовили мы казенной худобе? Не заробили, по-твоему, и себе покосить? А ну дай сюда свои глаза, Самсонович…
— Гм, где ж вам участак дать? Да вы лучше меня все пакосы знаете. Где найдете, там и режьте. Но предупреждаю: днем с работы не ухадить самавольна. И пра Винниченку малчи, Канонавна. За ветром пускай брехню. Быков маих атгани на канюшню — я да Дьяченки пашел.
Иван Самсонович, припадая на правую ногу, поковылял к конторе. Спина у бригадира заранее согнулась и большие уши по-заячьи прижались к высокому околышу полувоенной фуражки.
3
До конюшни напарницы решили ехать вместе в одной арбе. Ульяна связала цугом все три упряжки и, когда вернулась к головной, оглянулась — все ли там, сзади, нормально? Оглянулась по пустяку, а увидела такое, от чего у нее и дыхание сразу зашлось, и глаза засмотрелись туманно, — на скотный двор входил сын.
— Ми-и-итя-а-а… Мой ты цветочек…
Ульяна зашебаршила руками по плащ-палаточной юбке — то ли оттирала их, чистоту наводила на мозолистых ладонях, то ли тяжести остатки сбросить спешила, чтоб легкой рукой обнять сыночка, пригладить поласковей.
Митя был в форменной фуражке и в черной гимнастерке, перехваченной в поясе широким ремнем, левая рука висела на повязке. Он услышал, как вскрикнула испуганно мать, и остановился посреди скотного двора, заранее виноватясь ее тревогой, ее бедой.
— Ой горе!.. Ой горючко-горе… — задышливо пришептывала Ульяна и шла к сыну медленно, будто ее задерживали эти слова, передышку давали, но белый бинт так и сек по глазам, застил все другое… — И где ж тебя так, сынко?..
— Та не беспокойтесь, мамо, уже заживает. — Митя приобнял ее здоровой рукой, наклонился, чтоб поцеловать.
— Ага, заживает… Рази ж ты скажешь теперь матери всю правду… У меня за тебя, мой цветочек, все сердце сгорювалось. Вот и ручку на чересплечник не вчера ж ты подвесил… Наверно, и у вас уже немец бомбы кидает? — Ульяна чуточку отстранилась от сына, заглянула ему в глаза. Пусть он правду ей скажет. С первых слов только правду говорит!
— У вас тут, мама, тихий курорт, — неопределенно сказал Митя и покачал раненую руку на повязке. Снизу локоть поддерживала узкая полоска фанеры, а рукав гимнастерки на больной руке был подвернут к самому плечу. — Смотри сколько хочешь на солнце, загорай…
— И охота тебе, сынок, дурницу плести? Лучше скажи: сильно руку побило? Кости все целые? А то и не отпустили б до матери… Надолго приехал?
Ульяна забрасывала сына вопросами и тянулась к его глазам, высматривала там ответы, а Митя все норовил уйти из-под материнского огляда и этой изворотливостью настораживал ее и заставлял страдать еще больше.
— Все скажу, мамо, все покажу. Только не здесь. Дома про все перетолкуем…
— Шо ж, садись, прокатим на быках, а то ты уже и забыл, где «цоб», а где «цобе». Оля, пустим кавалера на одну лавочку? Чи дадим ему своих вороных с рогами? — Ульяна перекинула в арбу фанерный чемодан сына.
Ольга уже развязала косынку с головы, открыла свою прическу и теперь стояла в сторонке и сбивала скомканной косынкой сенную труху с волос и голых плеч. На вопрос Ульяны она кокетливо лизнула язычком по обветренным губам и покрутила круглыми щеками: не знаю, мол, я тут не хозяйка. Но радовалась, откровенно счастливо смотрела на мать и сына — вот какая сегодня хорошая встреча, и она в ней участвует, будет теперь разговоров. Неужели тетя Уля и Митя не понимают, как хорошо, когда два родных человека встречаются? Господи, да улыбнитесь же! Да поспешите к дому, под крышу хаты своей…
Они и десятком слов не обменялись, пока ехали в арбе через станицу. С каждой встречной знакомой делилась бы Ульяна радостью, да помалкивал сын, надолго ли приехал, тут сама сперва, мать, разберись, а после радуйся или кручинься. Солнце соскользнуло за Татарскую гору и откуда-то посылало красный свет, будто прожектором водило по небу в одном месте, а вокруг синева сгущалась, и над ущельями предгорья начинали зависать легкие дымки сумерек.
Сейчас настороженной жизнью жила станица. С запада уже появлялись немецкие самолеты с черными крестами и так низко снижались над хатами и так страшен был их утробный рев, что все живое цепенело от ужаса. Никогда такое не творилось на закубанской земле, не с чем было сравнить, нечем выразить. Все подворья в станице пустели, редкий женский платочек промельтешит, как белый флажок, предупреждая не стрелять, пощадить человеческую жизнь, и скроется в укрытии. «Кто ж в тех бомбовозах немецких сидел? Кто стрелял с неба в живых людей? — недоумевали станичные бабы. — Посмотреть бы хоть раз на очи: человек то, а может, дьявол волосатый и рогатый?..»
В первый налет немцы сбросили бомбы и обстреляли шоссе у моста через Псекупс. Здесь обозного транспорта скапливалось особенно много, и налетчики ударили сверху по живому и раз, и другой, и третий, и беженцев на обочинах не минули их пули, ни старого, ни малого, а из станичных людей немцы убили Мотьку Щулячиху и ее дочку. На другие улицы бомб пока не бросали, но пулеметами били в упор, губя худобу, калеча мирных людей.
Вспомнили станичники саперную науку, которую им преподносили перед войной в кружках Осоавиахима и на которую они тогда смотрели как на обузу: война, мол, до наших хат не дойдет, вестись будет на чужой территории, да и земля у нас не для окопов — решетом воду цедит. Теперь почти в каждом подворье появились укрытия. Выкопала и Ульяна щель по всем правилам: подальше от хаты, ход зигзагом, отсек с нишей для хранения запаса еды, пол соломой застлан. Но пользоваться убежищем ей пока не довелось: много дел уводило ее из подворья и заботы кружили слишком часто в стороне от хаты.
Ульяна не один раз взглянула в ту сторону, где село солнце, и по дороге к конюшне постепенно обострялась слухом, стала чаще посматривать на запад, даже слова выталкивала сквозь истончившиеся губы, заклинала, что ли, нечистую силу не появляться, не губить ее с дитем и других людей пожалеть. Вскинулась в арбе на ноги, ударила по спинам быков длинной хворостиной:
— Цоб! Цобе!.. У, бис-совы души!..
Быки сбили шаг, побежали мелкой трусцой. Ульяна стояла во весь свой большой рост в арбе, трясла над спинами быков хворостиной и гнала, гнала вперед. Сзади тарахтели колеса еще двух упряжек; много шума наводила воловья кавалькада в притихшей к вечернему покою станице.
Ольга никогда не видела Ульяну такой. А уж знала ее всякой, не раз и на одной повозке вместе ездили, но чтоб ругаться вот так на худобу — такого еще не было. Это после того миколиного дня сердце сорвала криком и не все откричала. Теперь вот сына под свою защиту приняла, под материнский непокой. Ее дочка была с начала лета в детском садике под присмотром воспитателей, там и на ночь оставалась, и Ольга подумала, что сегодня надо обязательно проведать Нюсечку.
Можно было обминуть свое подворье, чтоб, отогнав на конюшню быков, прийти сюда пешком и глазами хозяйки все окинуть. До утра не будет помех в домашней работе, сама себе командуй, сама все и делай. Но чутьем Ульяна уловила издалека перемены. Проезжая по Береговой улице, она повернулась к своей хате и не увидела над крышей радиоантенны. Ворота подворья были открыты настежь, стекла окон просвечивали горницу необычно сильно, бросовым жильем предстала глазам чистая половина хаты, которую занимали солдаты-постойщики. Связисты уехали, наверно, по тревоге, даже книжки свои побросали на полу.
Было по-прежнему тихо в станице. Удивительная тишина зависла, как перед грозой. Что-то там, вверху, сегодня происходило не так, и молчало небо. На радость пли еще большую беду, но молчало. Ну и пусть молчит. Связисты могли б сказать, да теперь не скажут, что сорвало их с места, какую весть антенна с неба приняла. Ох ты, горючко-горе…
Забыть про войну Ульяна не могла, каждой мелочью она напоминала о себе. Вот и горница оставалась на ночь неприбранной, и не знаешь, хозяйка ли ты опять этому своему углу, или другие военные постойщики займут, и быки казенные с арбой стоят возле двора, с ними тоже надо что-то делать, и сынок вроде жеребенка-подранка заскочил на родной двор, а теперь виноватый какой-то блукает по хате. Не находила под своей крышей покоя Ульяна. И, как уже не раз делала в трудных случаях, она к одному делу толкнулась как к главному, а остальные отодвинула. Пусть Ольга отгонит быков на конюшню, не толкается ей сегодня помехой в хате.
Не прошло и часа, как она уже мыла горячей водой сыну голову. Митя стоял на коленках перед корытом-купелем, раненая рука покоилась на табуретке, правая упиралась в пол, и в такой позе он и правда был похож на жеребенка — отфыркивался от мыльной пены, узкую длинную спину выпирал горбиком, подрагивая косточками позвонков с нетерпением стригунка.
Ульяна любила мыть сына, помнила именно по мытью, как он подрастал. Маленьким Митя и сам любил полоскаться, как белый утенок. Визгу, смеху наведет в купеле, расплещется — одна радость мыть такого карапуза. Чтоб хоть раз ревушки и капризы устроил, на мыльную пену в глазиках пожаловался, не помнила Ульяна. Зато, если поплавать в купеле намытому не дадут — держись тогда все семейство, хоть уши затыкай и из хаты выскакивай.
«А он у нас не худливый, — любила говорить раньше Ульяна, обмывая и напаривая Митю, и после, когда сушила его розовое тельце теплой простынкой, еще раз подтверждала: — Нет, не худливый, в самый раз справный хлопчик». Правда, выпало на ее материнскую долю несколько таких лет, когда лучше б не смотреть на родимое дитя, раздетое нагишом, — одно горе мыть голодное, еле живое. Но все равно и тогда мыла сына в свои сроки. Давилась слезами, а мыла, содержала в чистоте. И сегодня первым делом с мытьем наладилась.
4
На вымытого и чистенького сына можно засмотреться. Ульяна кормила Митю ужином и думала о том, как завтра пойдет с ним по мужниной родне, как заприкладывают золовки к глазам платки и она всплакнет с ними, вспомнив Матвея и прежнюю жизнь…
Сама она устроилась ужинать на маленькой скамеечке, на какую присаживалась обычно, когда доила корову. Подол широкой грубой юбки прикрыл полностью хлипкое сиденьице, и видны были на глиняном полу большие ступни крестьянки, будто на них только она и опиралась сейчас, как и всегда, выполняя любую работу, прочно чувствовала под ногами землю. Хлебала борщ из поставленной в подол миски, снизу поглядывала на сына. Так уж она привыкла обходиться без стола — подоит корову, унесет из сарая подойник вместе со скамеечкой и присядет в хате с кружкой молока. Много ли ей кушанья надо — молочко или миска борща с хлебной прикуской, да и ту крошила и черпала ложкой вместе со щербой — юшечкой жидкой.
Митя сидел к столу боком и здоровой правой рукой то носил ко рту деревянной ложкой борщ, то прикусывал кукурузный пляцик[4]. Пшеничный хлеб совсем исчез из станичного магазина, не выдавали даже по карточкам — так вгоняла в нужду война. Хорошо, что Ульяна добыла крупорушку, не пожалела отдать за нее шестьдесят пять рублей, теперь кукурузную муку для пляциков есть на чем молоть. С огорода помидоров принесла, перекрошила с луком, олии (масла постного) плеснула чуток — это сыну на второе. А огурцы не уродили по бездожживьему лету, ни свежих, ни на засол не взяла, и сейчас нечего было подать к столу.
Свет каганца — слабого светильничка — мерцал как лампадный, желтые блики скользили по Митиному лицу, оно казалось бледным, слабым, и шея проступала из расстегнутого воротника гимнастерки по-детски худенькой, как белый росток. «Перебита ручка, наверно, и щас болит, — присматривалась Ульяна к сыну. — Пускай повечеряет, и тогда спрошу, где поранили и чем, может, и пухири там под бинтом, так травами можно быстро загоить. Ох, горючко-горе…»
— Надо уходить, мамо, — сказал Митя, уловив ее вздох.
— Куда ж ты, сынко, ночью пойдешь? Переночуй дома, а утром сядешь на попутную машину до города… — Ульяна даже привстала со своей малюсенькой скамеечки и к Митиному лицу голову наклонила («А ну, сынко, дай мне свои глаза…»). — Молчал, молчал и на, мать, наплету тебе дурницу. Так? Э-э-э…
— Не знаете вы, мамо, что на фронте сейчас… — Митя отставил табуретку здоровой рукой и распрямился над столом в полный рост — молодой высокий тополек, но раненый ведь, господи, так не хватает ему сейчас главной левой руки! Чего-то он не договорил и, раздумывая, тер ладонью щеку, а сам смотрел мимо матери, будто что-то видел за стенами хаты. — Наши Ростов уже сдали… Через два дня немцы тут будут… — Он сказал тихо, почти шепотом и повернулся к матери, оглядел всю один раз, и другой, и еще, словно прощался надолго и запомнить хотел.
— А ты сам не с Ростова щас? Сам ты тех немцев видел?
— Тех? Нет. И не хочу! — Митя отшатнулся от стола. — Зато видел, мамо, в Новороссийске, как они бомбы на людей кидают!.. И в карьере нашем видел… и на станции. Если мне не верите, что они творят, когда приходят как оккупанты, то послушайте, я сейчас вам прочитаю, как пишут те, кто видел. — Митя присел к своему чемодану, откинул верхнюю крышку. Шурша в фанерном коробе газетами, он какую-то выискивал, одной рукой у него это плохо получалось.
«Теперь сделал добрый запас бумаги на курево», — подумала Ульяна и удержала сына:
— Не бурхоти. Ты грамотный — то я знаю. Слухала я, тут вот слухала, в великой хате: ще бьются наши за Ростов!
— Это раньше бились, а сегодня перестали… Вы, мамо, думаете, я борщом домашним приехал пузо наедать? — Митя встал, в руке у него была нужная газета. А в голосе обида плеснулась. — Я ж из-за вас, мамо, утек из карьера…
— Шо ты кажешь? Шо ты кажешь? — зачастила Ульяна. — А ну дай мне свои глаза! С карьера утек?.. А я при чем? — Она встала в независимую позу, руки держала на бедрах и покачивала широко раскинутыми локтями: — Не учила я тебя такому и не буду. То ты свое задумал! — погрозила пальцем и ткнула, как штыком, в сына: — Как утекал — так и назад дорогу найдешь!.. Да был бы щас покойный батько в хате, он такого штурхана б дал — и сам ты, и твой чемойдан уже за порогом валялися бы, и газетки твои, як граки[5], поразлеталися по подвирью…
— Мамо, послушайте, что я вам скажу…
— Мать виновата? Давай, давай, обвинувачивай, за нее заступиться щас некому… Никуда я не стронусь из хаты — я твоему батьке, Митя, слово дала!.. А ты, родный сын, тикай дальше и всем скажи на дороге: «Я сам утикач, а моя мамка квочкою в хате сидит. Она моему батьке слово дала, що высидит до конца войны…» Та шо с тобою балакать? Побежишь завтра дальше и скажешь: «На шо она сдалась, такая мать!..» Поеду за сеном. Хоть худобе пригожуся… — Ульяна и правда засобиралась в дорогу. Сняла с гвоздя фуфайку, теплый платок из сундука достала.
— Мам, я не так выразился…
— Шо, маленький кричал: «Матуська плохо говорит!» А теперь — «не так выразился»?
— Да, теперь я ругаюсь на себя, — согласился сын. Точно так же Матвей соглашался в те последние побывки в хате. Подневольные люди, наверно, все одинаковые. И отцы и дети…
— А как же Ростов?
— За Ростов еще идут бои.
— Ну-ну, интересно… Какая ж брехня ще у тебя за пазухой? Доставай, не крыйся. — Ульяна понемногу успокаивалась. Фуфайку опять на гвоздь подцепила, за крышку сундука взялась, а сама не отпускала глаза сына.
— Можно и достать. — С этими словами Митя отвернулся, как будто и правда собрался, как фокусник, вынуть что-то из-под гимнастерки, но в пазуху не полез, а скинул с шеи перевязь, поддерживающую локоть левой руки. — Нема никакой тут раны… — Схватил левой рукой табуретку и приподнял от пола. Ему этого показалось мало, и он обхватил обеденный стол, чуть ли не к потолку вскинул вместе с чугунком борща и миской.
Ульяна ахнула, руками всплеснула:
— Ну, Митя… От за це… За слезы мои…
У нее не хватало слов. Подняла над головой кулаки, сжала:
— Ниякою покутою[6] не отпросисся… — Отвернулась от сына, кулаки себе на глаза наложила, завехлипывала: — Та за шо мне такая покара господня?.. Та рази ж то я от родного сына заслужила?..
Не было сил продолжать дальше спор. Первый раз она переживала в своей хате такое. И от кого? От сына, от своей последней надежды… Если уж дети стали такую шкоду творить, то где же, где искать правду по белу свету? «В своей хате — своя и правда…» Нельзя ж брехнею жить, господи-и-и… Она стояла, закрыв глаза, ей не хватало воздуха… Ушла в спальню, тихо притворила за собой дверь. Постель сыну в хатыне приготовила раньше. Пусть сегодня ляжет без материнского благословенья.
А все ж таки верно кто-то подметил, что материнский гнев как весенний снег: и много его выпадает, да скоро тает. Ночная бессонница растворила Ульянину обиду на сына. Куда ж звал мать и куда сам хотел сховаться от войны? Да разве ж станет когда-нибудь перекати-поле сильнее дерева, что ушло корнями глубоко в землю? И чьи ж стены крепче и теплее родимых? Чьи руки и плечи надежней в лихую годину, как не материны? Тут, в материной хате, все ты и познаешь, сынок. Мало ты еще на белом свете пожил, а книжки и газеты тебе про чужую жизнь рассказали. Вот если б взялся кто мамкину описать, да все по правде, как своими глазами видела, как своими ушами слышала, как сердцем своим приняла. Ого, тогда б такая книжка прибавила тебе ума, сынок, рассмотрел бы ты хорошо мамкину дорогу да присел и подумал хорошенько про жизнь и про то, куда самому выходить. А ты загордился своей грамотой, сынок, мать учить взялся, газетками ей глаза застишь. Я тебе жизнь дала, спородила, вскормила, от меня твои первые шаги по земле, от материного сердца добро тебе мир дал…
Переливала Ульяна думы, оглядывалась на свою жизнь и самой долгой радостью Митю видела, а остальное отошло от нее, отплыло, впереди только любимый сын остался. Значит, такая судьба ей, надо жить дальше этой главной заботой. С этой мыслью она поднялась с постели, осенила щепотью икону богоматери и, как была в длинной рубашке-исподнице, так и пошла на летнюю половину, где спал сейчас сын.
Митя стонал во сне и бредил. Один раз даже сел в койке и начал шарить вокруг себя. Приподнял подушку, под ней проверил, а сам все спрашивал: «Где запал?.. Где?» Глаза открыты, руки покоя не знают — ищут, беспокоятся…
— Утром найдешь, сынок… Утром…
Ульяна прикоснулась к Митиным острым плечам, легонько нажала, чтоб уложить сына опять в постель.
— Где-то тут был… Только что сам поклал, — не переставал бормотать сын и искать вокруг себя.
— Если сам поклал, утром сам и возьмешь. Спи, спи, сынко…
— Та нет — найду… такая… такая… маленькая штучка. Где?
Пришлось пошлепать Митю по щекам, чтоб прогнать дурницу сна, и силой опрокинуть из сидячего положения на спину. Он узнал мать, обидчиво повернулся на бок, но все равно сразу не уснул — донимала его опять пропажа «маленькой такой штучки». Ульяна смотрела на сына, и сердце сжималось болью, ничего не имело смысла и силы перед жалостью к своему ребенку, цветочку ненаглядному. Она загородит от него лихо, спасет от немецких ворогов…
Ночная тьма объяла весь мир за окнами хаты, будто никогда не всходила яркая луна, не обжигало землю дневное светило, — черную мглу и запеклый дух творило дыхание войны. Гудели пролетающие высоко в небе военные самолеты, сполошный обозный гомон не смолкал и ночью на главной дороге в горы. Сын Ульяны спал опять молодым сном — перевернулся на спину, одну руку свесил с койки, голова на тонкой шее выгнулась к правому плечу, большие ступни топорщились из-под простыни. Набегался, сердешный, по военным дорогам, спал под материнским кровом.
5
Сады в станице краснели поспевающей вишней, яблоки-скороспелки сквозили на солнце восковитым наливом, абрикосы-жердели осыпались густо с веток, желтая кожица на них быстро темнела, высыхающий сок скапливал у земли острый запах прели, а прозелень винограда светлела, тугие ядрышки разбухали от зноя и висели тяжелыми гроздьями. Самая хлопотливая пора в году наступила, но и самая благодатная, самая сытная, когда духом спелой жизни наполнен воздух, — подышал и насытился, заботы о дневной еде мало занимают голову, вперед хочется смотреть человеку и готовить припас на завтрашний день. А война заслоняла от станичников привычную крестьянскую работу, подступала все ближе, и все больше роилось слухов, никто не знал, как будет жить завтра.
Много пришлого люда было сейчас в станице. Нашествие немцев согнало людей с обжитых мест, и они, уходя от разбойной чужой орды, хотели верить, что найдут пристанище, нет в большой русской земле чужой стороны. На подводах и арбах беженцы ехали на восток, за спасительные горы, кони и быки тянули их тяжело нагруженные возы, и верблюды откуда-то появились и тоже везли в упряжке чье-то добро-имущество. Казалось, и саму станицу вот-вот подхватит поток этого безостановочного движения, подворья теряли устойчивость постоянного жилья, хаты становились ночлежными домами.
Окна лицевой стороны Ульяниной хаты смотрели на горы, глухая стена повернута была к Холодному переулку, а Полянский брод сделался сухой дорогой, сюда настелили от берега до берега хворост, прикатали стлань, и с ходу, с разбегу проскакивали в этом месте через Псекупс военные обозники и беженцы с ручными тележками.
Тихий и малоприметный по доброму мирному времени переулок с приближением войны наполнился гулом и треском машин, тарахтеньем повозок, голосами разноязычной речи, жил нервным пульсом человеческой спешки. Из мелкого, второстепенного капилляра, где еле-еле может что-то просочиться, Холодный переулок раздувался в эти дни до широкой артерии. Много народу тут проехало и прошло, протаскивая в узком коридорчике между хат и плетенных хворостом заборов к Полянскому броду свои заботы, нужду и непокой лихолетья.
Ехали-катили тысячи колес поспешающей ездой, пылили, углубляли колею…
Сколько раз Ульяна выходила к калитке и стояла здесь, думая горькую думу. Не жалко было раздавленной и погубленной под колесами зеленой травы и земли Холодного переулка, прогнувшейся под непосильной тяжестью протаскиваемых грузов, — жалко было попранной и сорванной с места жизни. Она всматривалась в лица красноармейцев и беженцев, почти каждого хотела запомнить и у каждого спросить, где жил до войны, какая семья, куда ж ты теперь опешишь и как думаешь жить завтра. Иногда удавалось завязать разговор, напоить дорожного человека молоком, переломить с ним пополам свою кукурузную лепешку. Люди эти рассказывали о своих бедах по-разному и по-разному намеревались жить дальше. Где — им было все равно, только без немцев и там, куда вражья орда не должна дойти. Ульяна слушала и согласно кивала, свою станицу тоже считала таким местом и себя оставляла здесь на всю войну, на долгое жительство.
Военные больше не квартировали в ее хате. Она снова перешла жить в чистую половину и Митю туда перевела и Ольгу с дочкой (сделала для квартирантки отгородку), а в хатыну пускала беженцев, предварительно проверив у них документы и предупредив квартального: слухи о немецких диверсантах и грабежах толкались в эти дни по станице — днем было тихо, а ночью лихо.
Как-то она заметила, что на ее огород пролезла через плетень воровская рука и настригла колосьев с полоски пшеницы. Ага, не буду ждать, пока всю пожнет тот, кто не сеял, две сотки всего и могла занять под зерно, и на те чужой глаз засвирбел. Взялись с Ольгой за серпы, сжали огородную пшеничку и на горище поставили снопы досушивать, три ведра зерна с них намолотили цепом и отвеяли, на черный день припасли. Исхитрилась Ульяна и сена для своей коровы накосить вместе с Митей и перевезти на подворье.
Все чаще брала она с собой на работу сына, к нему присмотрелись в конторе «Заготскот», допускали к самостоятельной работе по перевозкам. О своих задумках уйти из станицы он помалкивал. Ульяна знала, что он ходил в военкомат и просился на фронт: взрывник, мол, я, почти готовый солдат. «Комсомолец?» — «Да». — «Жди, можешь пригодиться на важное дело…» Она тому разговору мало поверила: «А, брешут. Когда ж это семнадцатилетних хлопченят толкали на войну? Ще материно молоко у них на губах не обсохло…»
Их работало сейчас в конторе «Заготскот» трое одного возраста хлопцев: Митя, Иван Конюк и Николай Трахов. «Три танкиста — три ездовых друга» — так окрестили приятелей знакомые станичники. «А слабо на спор, если нас вместе пошлют в танковое училище? — горячились хлопцы и рявкали в три молодые глотки: — Нам разведка доложила точно…» Для верности в дружбе они сфотографировались и троих девчат, как невест, рядом с собой перед фотографом поставили. Видела Ульяна ту фотокарточку — что тут такого, дело молодое, пусть память остается о молодых годах. О последних мирных днях, могла б добавить, да кто ж знал точный счет тем дням? Но поворачивалось все к тому.
Уже заговорили об угоне казенного скота на восток, и Горячий Ключ немцы бомбили чуть ли не каждый день, объявилась на Одаркином подворье городская старушка, ушедшая оттуда из-за бомбежек, и козу с собой привела.
Опять-таки, как верить всем слухам и в тот угон худобы на восток, если бригадира Стрекоту послали в эти дни скупать по станицам и хуторам мясную живность и он так удачно скупал, что одной арбы ему не хватило, телеграммой из Мартановки затребовал, чтобы прислали вторую. Пришлось Ульяне быков запрягать и ночью в кромешной тьме искать перед Мартановкой брод через речку. Хорошо, что быки сами вошли в нужном месте в воду, — знали ту переправу, вывезли арбу, и назавтра в арбе этой закудахтали куры в клетках, крутили длинными шеями гусаки. Дед Стрекота обрадовался подмоге, был необычно разговорчивым после наезда в свою родовую станицу, разрешил Ульяне брать яйца, какие вдруг обнаруживались в клетках после кудахтанья кур, и даже сам подсказал, что с одной худой овцы шерсть сама слезает, скуби, мол, ее, Кононовна, вовны тебе на теплые носки пригодятся. Отогнали после ту худую овцу на полигонную бойню, сдали почти голенькой на солдатское пропитанье и другую худобу продолжали сдавать по разным назначениям. И все ж таки привычная жизнь истаивала, как льдинка, попавшая на летний солнцепек. Наступил и такой день, когда Ульяну вызвали в кабинет Дьяченко.
Были слухи, что бывший пехотный капитан умел стрелять, прижмуриваясь только правым глазом, а этот боевой глаз ему выбило осколком. Потому, мол, и демобилизовали как непригодного к строевой военной службе, по той причине и семью не успел завести. Жениховскую красоту война отняла, но прознал отставной капитан дорожки к хатам замужних молодых блудниц — в офицерских скрипучих и блестящих сапожках ходил туда, полевая сумка-планшет через плечо, командирским широким ремнем гимнастерка стянута в складки за молодой верткой спиной, и фуражка со звездочкой надвинута козырьком на черную повязку через правый глаз. Кадровый военный, строгий начальник, на улице никогда не крикнет, не обругает никого, а в кабинете и кулаками по столу грохал, и матерные слова кидал в виноватого. Случай, по какому вызвали Ульяну в его кабинет, как раз был из таких: ее назначили в отгонщицы, и в тот же день пришла из военкомата повестка Мите — как же могла уйти незнамо куда в горы, бросить хату (Ольга Куренчиха тоже должна была идти с ней) и не проводить на войну родного сына? Заспорила с бригадиром Стрекотой, слезного шуму навела, и тот не захотел отступиться: есть приказ — выполняй или иди сама к Дьяченке.
Дьяченко собрал в своем кабинете всех отгонщиц. Кроме Ульяны и Ольги тут были Орина Кустенчиха, Елька Грущенчиха, Танька Полянская, само собой, и бригадир Стрекота присутствовал. Все ожидали крика, разноса, угроз и прочих строгостей военного времени. Ничего такого поначалу не происходило. А может, и всегда таким он был, их грозный молодой начальник? Сидит за директорским столом раненый фронтовик, предупреждает мирных жителей о приближении наступающих вражеских войск, советует, как спасти общественный скот, куда доставить в полной сохранности стадо. Ну не совсем это простой разговор — тут и приказ под каждое слово подведен как главное условие для исполнения работы, и добровольного согласия у отгонщиц не спрашивают.
— Мы посылаем вас, товарищи, в командировку. Подобные задания вы уже выполняли, новичков среди вас нет. Условия, правда, будут потруднее — горная местность, лесные массивы, но вы справитесь. Да, справитесь со всеми трудностями — руководство конторы уверено в вас, товарищи. Подчеркиваю, речь идет о выполнении срочного задания государственной важности. На это время придется отложить все личное, чтоб не оставить врагу народное добро. Выполнив приказ, вернетесь в свои дома, к своим семьям. Бригадиру товарищу Стрекоте подчиняйтесь беспрекословно. Один день даем вам на сборы и домашние дела. У кого есть вопросы по существу предстоящего задания?
Никто не спешил спорить с начальством. Дьяченко ждал, легонько барабанил правой рукой по крышке директорского стола. Напряженными были лица отгонщиц, никто не выказывал согласия и готовности действовать по его приказу. И тогда он решил кое-что дополнить к сказанному.
— Да, вот еще что. Продуктов домашних можете в командировку не брать: питанием вы будете обеспечены бесплатным — за счет конторы. Для отдыха и подвоза необходимого имущества выделяем подводу с лошадьми. Ею можно будет воспользоваться и в случае… чьей-нибудь внезапной болезни…
Лучше б он не упоминал о «внезапной болезни». Женщины закричали все сразу об одном. Невозможно было кого-то выслушать первой, а от остальных потребовать тишины.
— Ага, сразу и упали на ту подводу!.. Туда ногами вперед покладут!..
— Немцы стадо свиней за мостом бомбили… Троих отгоничей сразу убило!..
— Худобу жалкуют немцу отдавать, а люди нехай под бомбы головы кладуть?.. Нехай меня в своей хате убьют, чем на дороге…
— Нехай те, кто в отступ собрался, и гонят казенную худобу с собою, а мы никуда в такое время из станицы не пойдем!..
— Тих-хо!.. Эт-то чт-то?! Саботаж?! — Дьяченко поднялся над столом бледный и глазом единственным забуровил кричащих в его кабинете женщин: — Да за эт-то вас… Я сам… своею рукой… — он слепо нашаривал что-то у себя на правом боку…
Бабы бросились врассыпную из кабинета, в дверях столкнулись кучей, затолкались локтями, выдавили друг дружку в коридор, побежали на выход из конторы…
6
Последние новобранцы уходили из станицы на войну. Они собрались утром у стансовета, ждали транспорта на Горячий Ключ, но, так и не дождавшись, пошли пешком по дороге в горы. Их было мало, человек двенадцать, и каждый уходил в окружении стайки родичей, под слезный крик и причитания. Ульяна свое откричала ночью, до утра глаз не сомкнула, а за подворье вывела Митю тихо и напутствие давала одно: пиши, сынок, когда тебе трудно будет, не держи на своем сердце беду — переклади матери, а самому станет легче, вот увидишь. Я выдюжу, если буду знать, что ты живой. Главное — пиши… Когда стали поворачивать на Базарную улицу, увидели стоящую у калитки Одарку.
— Я сбегаю, мама, попрощаюсь с крестной. — Размахивая руками, Митя побежал к Одарке, они обнялись, всплакнули, за что-то она говорила ему спасибо, он обещал никогда-никогда не забыть, если вернется живым. У Родниковской улицы Таисия перехватила Митю, были опять слезы и обещания помнить. В центре станицы сошлись все «три танкиста», невесты нацепляли каждому носовых платочков на грудь, барабанщик среди провожающих был, гармонист, плескалась самогонка из длинных четвертей в граненые стаканчики… «За моего сына, не побрезгуйте, люди добрые… Эх, не батько провожает казака служить…»
До хозяйственного двора МТС шла за новобранцами плотная толпа провожающих, а здесь многие стали прощаться. И Ульяна остановилась, придержала Митю у груди. Третий раз на этой черте стояла: два раза отсюда Матвей уходил от нее на войну, теперь туда же провожала сироту-сына. «Я тебя буду ждать, мой цветочек… Один ты у меня на всем белом свете…»
Простилась и Ольга Куренчиха с Митей, дальше его поведет под руку Катя Дашкова, невеста шутейная. Но не спешил Митя уходить от матери. Вот и простился, сказал «до свидания» и опять подбежал.
— Мама, я все-все помню… Я все, мама, для вас…
— Вертайся живым, сынок… Храни тебя господь…
Крестила путь впереди сына — пусть идет навстречу ворогам, пусть с другими защитниками не пускает немецкую вражину к родному порогу…
Днем почти не было работы. Ульяна два раза разнесла сено по коровьим кормушкам, несколько ведер воды споила худобе, курам и гусям сорного высеянного проса сыпанула. И другие отгонщицы толкались по скотному двору как неприкаянные, работали вполсилы, чаще собирались где-нибудь в скрытном месте и обсуждали вчерашний скандал в кабинете Дьяченки. Никому не хотелось уходить домой и готовиться в дорогу, считать себя командированными.
— А Стрекота с нами и балакать не хочет, — рассказывала Орька Кустенчиха. — Как попадется навстречу — усищи вспучит, як наче мышу в зубах несет, и мимо молчком шкандыб, шкандыб. — Орька надувала свои смуглые щеки, закрывала верхней толстой губой узкий крючковатый нос и выхрамывала в сторону. Ульяне было не до смеха и шуток. Она с Митей весь день прощалась и не могла по-настоящему проститься, чтоб скрылся как за поворот, совсем чтоб не видели глаза. «Я тебя тоже помню, сынко, всего-всего помню, до каждой родиночки… Ох как же я тебя, родненького, расцелую… Ты только вернись в материну хату… Живым вернись… Я подожду… подожду, мой цветочек…»
В третьем часу, в самую знойную пору дня, выбежала на конторское крыльцо секретарша Кланиха и заоглядывалась. Заметила сидящих под скирдой сена отгонщиц и рукой к себе поманила.
— Наверно, командировочные бумажки забрать зовет…
— Нет, какую-то новость узнала…
— Иди спроси ты, Орька…
Кланиха и Кустенчиха о чем-то зашептались на крыльце, к скирде Орька не раз оборотилась и поддакнула, косынку развязала и заново запнула и вдруг катнулась с крыльца и бегом припустила назад, кидая на стороны загорелые до черноты лодыжки ног.
— Хлопцев наших, забратых седня в солдаты, отпускают с военкомата до дому!.. — выпалила она единым духом, когда подскочила близко. — И Мытю Полукаренко… Ивана Конюка… Мыколу Трахова…
— Да ты шо кажешь, Орька?.. Та неужели то правда?…
— Кланиха сказала: дед Стрекота утром пробовал по телефону дозвониться до военкомата, а с Горячим Ключом связь оборвана была — наверно, опять там бомбы немцы кидали… А после обеда Самсонович дозвонился и просил вернуть наших хлопцев, Дьяченка, мол, им задание важное даст. Там сказали: забирайте, возвращаем.
— Наверно, вместо нас отгонычами отправят…
— И добре, чем сразу в окопы попадут наши хлопченята… Нехай остаются «три ездовых друга». Танки, люди кажут, у немцев крепче наших…
— Примета плохая — вертаться с полдороги… Другой раз все равно погонят на войну… Ото ж и твоего Матвия, Кононовна, вертали, вертали та и замотали в безвисть… Зови нас вечером на гулянку и платочки Митины раздай нашим девчатам… Может, Митя счастливей батьки, отвоюет возле своей хаты…
— Як с того свету сынов вернули до матусек…
Развеяла новость кручину отгонщиц, еще долго не затихал их бойкий говорок. Как пчелы, брала каждая свою долю от события и несла в свою хату и семью. И на горький цветок пчела садится.
К вечеру узнали, что не всех освободили от командировки: Ольге Куренчихе и Таньке Полянской идти в отгон — живут, мол, безхатними, домашнего хозяйства не держат. С ними уходят завтра утром и «три танкиста».
— Значит, сосватал нас дед Стрекота в пастухи… — Митя сидел вечером в горнице хмурый и растерянный, как молодой журавль, которому увечье помешало отлететь вместе со своей стаей в дальний путь. — Сердце, мама, колет и колет…
— Так ты, сынок, сказал бы там, в военкомате. Комиссию врачей проходили ж…
— А, какая там комиссия… Руки-ноги целы — значит, годен. Смотрят врачи, чтоб симулянты не объявлялись, сами себя не покалечили.
И опять Ульяна мужа вспомнила. Да, сходится пока отцова и сынова военная судьба, не дай бог во всем повторится. Она хотела, чтоб сын этот последний вечер побыл дома. Пусть и не на войну уйдет завтра, но отдохнуть же надо перед отгонной работой, никто ему ту подводу бригадирскую не отдаст с первых километров, будет сбивать ноги, как и все отгонычи. Она ходила вокруг Мити, много говорила сама и его часто спрашивала о разном, газеты, мол, ты, сынок, читаешь, там сейчас много новостей, и в городе, наверно, насмотрелся и наслушался всяких слухов. Расскажи, как там — живут люди или разбежались от немецких бомб? Подорожные харчи тоже собирала ему не молча, каждую цибульку с разговором укладывала в сумку, зная, что любит сын хрумкать за обедом луковицу, смакует, как лакомство. Цыплят прирезала чуть ли не десяток («Со своим мясом отправлю тебя, сынко. Казенную еду жирную в дороге не подадут»). Варила, пекла, жарила, обкидывала Митю внимательными глазами, будто огляды тоже собирала в котомку и оставляла себе, на материнское гореванье припасец готовила…
Хлопотный был день, и вечер не вел к покою. А ведь еще с утра светилась под иконой лампадка по случаю «громового» праздника и полагалось оглянуться на прожитое, вспомнить о божьей покаре, отмолить у бога прощение за содеянные грехи. Август начался, духота последние дни была особенно сильной — перед дождем парило солнце и наползала со стороны гор белесая наволочь, но тихо так наползала, как дым от дальнего лесного пожара. И прошумел все ж таки над крышей хаты дождь, громы разверзлись резкие, эхо в горах многократно их повторило. Значит, ильин день по всем правилам откатывался, с грохотом небесной колесницы и с окроплением всех земных вод, нельзя теперь купаться в речке ни человеку, ни худобе.
Лил бы подольше дождь, хоть всю ночь и на день перелился, тогда удалось бы попридержать сынка дома, у матери еще парочку денечков пожил бы, так нет — помрячил минуты и стих, немотою растворился за стенами хаты…
— Пойду я, мам. Книжек обещали дать на дорогу…
— Ой, не придумуй, сынко. Когда ж те книжки ты будешь читать? Я за худобою набегалась в отгонах, знаю ту умору… Мимо Дашковых завтра пойдешь и встретитесь с Катькою. Вам и будет обоим самая интересная книжка…
Не удержала — ушел сын в станицу. Вернулся под утро, прилег, не раздеваясь, на койку, притворился, будто уснул. Ульяне опять не спалось. Чуть развиднело, она встала и вышла из хаты во двор. От вечернего дождя осталась в станице лишь туманная сырость, из-за нее рассвет проступал медленнее, туман будто нехотя сползал с косогора вниз, высветлялись первыми верхние хаты у Татарской горы, потом до подгорных очередь дошла и до прибрежных, над Псекупсом завис холодный парок.
Когда по восточному окоему горной гряды закраснело солнце, Ульяне вдруг захотелось подольше подержать в глазах его свет, будто приучала себя смотреть в ту сторону каждый день, куда провожать и откуда ждать сыночка. Малиновый шар солнца накалялся, вставал выше и с высотой терял объем, в глазах Ульяны заплавали цветные круги, и само солнце запрыгало в многоцветном ореоле. Был такой старый обычай — встать пораньше в пасхальное утро и наблюдать восход: считалось, что солнце радуется в этот день празднику христова воскресенья и танцует в небе, — все живущее на земле ликуй и славь жизнь, которая торжествует, смерть поправ. Пусть и сынок ее живет и минуют его пули вражьи, небо пусть всегда будет чистым над его головой, пусть там только солнышко светит и не застят света черные кресты чужих бомбовозов…
Этот раз она прощалась с Митей у калитки. Протянула сыну свернутый узелком носовой платок:
— Тут грошей трошки. Трать с умом и никому не показуй… Ивана и Мыколы держись, но в шкоду не давай себя втягувать…
Митя спрятал деньги в карман и ждал, что скажет мать еще. Пастушья сумка с харчами висела у него через плечо, какую-то книжку он заткнул за пояс поверх форменной гимнастерки, серые в полоску брюки были ему уже малы, штанины не доходили до щиколоток.
— Все будет хорошо, мамо…
— Дай бог, чтоб оно было так, сынко…
Ульяна спохватилась и, шепнув Мите: «Погодь трошки», ушла в хату. Проскочила в спальню, сняла с угла икону богоматери. В горнице прощалась с дочкой Ольга. Девчушка спала в кровати, лежа на боку и посасывая во рту большой палец. Ольга сидела взлохмаченная, с мокрыми от слез круглыми щеками.
— Пойдем, Олечка, нехай дивчина спит.
— Ой, тетя Уля, вы мне как мама и доченьку ж мою-у-у…
— За Нюсю не плачь, пока она в моей хате и я живая. И накормлю и покохаю — перед иконой тебе, Оля, слово даю, богородицей святой клянусь. — Ульяна перекрестилась я вывела Ольгу из хаты.
7
Близкая война поглотила тишину. Не проходило часа, чтоб земля не содрогнулась от дальних и ближних взрывов, и по ночам не смолкал гул канонады, плескалось в черном небе пламя пожарищ. Жизнь сбивала дыхание — цепенела, сжимала станичников в комок во время бомбежек и толкала из щелей укрытия наружу в паузы затишья: где упала немецкая бомба? Кого сегодня убили вороги? Слухи и новости будто подстегивали станичников, не держали на месте. Беготня, разговоры, непокой тревожного ожидания перемен. Готовились к худшему, выжидали.
Начали отступать в горы войска. Почувствовали близкую опасность семьи красных партизан — подавались в горы к утайным ущельям за Хребтовой горой, там разбили лагерь, создали отряд. Остались в станице пустыми хаты Рогозов, Иващенковых, Калещуков, ушли партизанить Григорий Ярема, Иван Скрынь, Петр Суровцев, Игнатий Абакшин, директор МТС Важинский, управляющий конторой «Заготскот» Дьяченко, ветеринар Рева. Работа всех станичных учреждений быстро свернулась, расчет никому не оформили, за июль не выдали зарплату. Теперь вся жизнь станичников ушла под свои крыши и заботы кружили по подворьям, но властвовал над всем главный вопрос бытия человеческого: сегодня живу, а буду ли живой завтра?
К обороне в Псекупской никто не готовился, потому что оборонительный бой грозил сейчас большой опасностью и для наших войск, и для мирных жителей, и потому войска спешили миновать последнее открытое место и скорее втянуться в горы. А наступающие немцы наглели, пользовались преимуществом военной обстановки, чтоб безнаказанно убивать сотни людей. Вот когда Ульяна своими глазами увидела, какое зло творят немцы на русской земле, как они воюют.
Немцы начали сажать свои самолеты за станицей, там подвешивали к ним бомбы и налетали на красноармейские обозы и беженцев, скопившихся перед мостом через Псекупс.
Ульяна пряталась в щели укрытия и оттуда наблюдала, как падали из-под брюха немецких бомбовозов черные капли, оглушительные удары минуту спустя рвали землю, и налеты продолжались опять и опять. Сколько горя людского и крови пролилось в станице в этот день!.. А когда минеры взорвали мост, все, не успевшие переправиться на правый берег, побежали к Полянскому броду и к мосту через Холодный ерик, откуда дорога вела на Калужскую станицу…
Немцы заняли станицу в тот же день. Въезжали на покрашенных в звериный цвет машинах, мотоциклах, конных повозках и останавливали свой транспорт у хат, догонять отступивших красноармейцев не спешили. Какой-то обозник подошел к двери Ульяниной хаты, потащил с плеча винтовку. Немец был мордатый, толстые щеки лоснились от пота, и мундир под мышками пропотел темными кругами. Ульяна наблюдала за ним из щели укрытия и не торопилась обнаруживать себя — думала, увидит немец замок и отойдет прочь от запертой хаты. Но тот топтался на месте, сопел, как голодный хряк перед загородкой с кормом, приподнял винтовку, намереваясь ударить прикладом по замку.
Ульяна выскочила из укрытия, подбежала к немцу. Он обернулся, опустил винтовку и левой рукой выгреб из кармана мундира горсть овса, кивнул на повозку, стоящую в переулке. Она отрицательно замотала головой: нету овса, нету в моей хате. Тогда немец злобно пристукнул об землю винтовкой и снова примерился сбивать замок. Пришлось открывать, если так пристал, идолова душа. Немец вырвал у нее из рук открытый замок, потряс в кулаке и швырнул далеко за подворье.
— Никс, никс, — тыкал он пальцем в замочные петли и в горнице сразу шагнул к сундуку, коротким резким ударом винтовки сокрушил сундучный висячий замок. — Никс, никс… — Вскинул крышку, запустил туда руку. Пилотка немца сползла на жирный загривок, тесный мундир обтянул покатую спину, из ушей торчали пучки седых волос, нечеловечьим запахом провонял, вражина. Немец рывком рыболова выдернул руку из сундука и запрыгал на одной ноге, а сам крутил на указательном пальце кожаную шапку Матвея.
Ульяна следила за пришельцем и вспоминала, как сын читал ей из газеты про такого же немца, как тот ограбил чей-то дом и шел по улице, убил раненого русского, насвистывал песенку про какую-то Пупхен, сам пьяный, из карманов торчат серебряные ложечки и дамская кофта. И этот бандит и мерзавец. Как в чужую хату влез, скорей до барахла загребущи лапы протянул.
Немец обшарил всю хату, на горище влез, а щель запечья, где спрятано было выращенное на огороде пшеничное зерно, для него оказалась слишком узкой, туда он не смог протиснуться. Уходя, на пороге остановился, еще раз стукнул прикладом винтовки в петли наружного запора хаты и губы выпятил, вонючим ртом исторгнул шумный протест, будто собирался укусить хозяйку или забрызгать слюной.
На сарае висячего замка не было, немец прошел было мимо, но, учуяв запах курятника, остановился и протянул шапку Матвея:
— Матка, яйка, яйка…
— Подавился б теми яйками… Нехай сгорит на тебе, ворюге, чужая шапка, — цедила сквозь зубы Ульяна, вынужденная подчиниться вооруженному немцу. Выгребла из корзинки штук семь яиц, опустила в шапку покойного мужа и протянула грабителю. Как ей хотелось разбить все эти яйца об его морду и прикладом винтовки размозжить ему череп, чтоб залился вражьей кровью!.. За Матвея, за всех погубленных на русской земле…
Маленькая Нюся заждалась в щели укрытия и обхватила ручонками ее шею:
— Дядя селдитый?.. Кака дядя?..
— Моя ты хорошая, не видать бы твоим глазочкам тех ворогов…
— Волохи кака…
— Кака, кака. А штаники у Нюси мокрые? Пойдем мы в нашу хату…
Вечером при свете каганца она кормила малышку кукурузной кашей-пшынкой и молока подливала в миску. В наружную дверь постучали и что-то крикнули по-немецки. Когда открыла, ее оттиснули в сенях, и несколько немцев с ручными фонарями прошли на чистую половину и в хатыну. Горницу осматривал офицер, два солдата стояли у дверного косяка, светили фонарями. Офицер обшарил лучом фонаря спальню, осветил стену, где висели семейные фотографии.
— О-о, — всматривался он с любопытством в старинные фотографии и горбил спину, чтоб лучше разглядеть. Выхватывал пучком света то один, то другой семейный снимок и почти каждый сам пояснял вслух: — Козачий фамиль… Георгий крест… кинжаль… — И вдруг приостановил осмотр, толкнул раз и другой зажженным фонарем, будто кого-то поджечь на стене хотел. — Комиссар!.. — Подскочил с перекошенным злобой ртом к Ульяне и ей крикнул, как плеткой хлестанул: — Комиссар? Эт-то есть комиссар!.. — Шипел резко и за кобуру пистолета хватался, крышку отстегивал, светом фонаря полосовал то место, где висела так озлобившая его фотография. Ульяна вгляделась: на маленьком снимке был Матвей, одетый в солдатскую стеганку и шапку со звездой. Ответ придумала мгновенно:
— То не комиссар, не… Миллерово… плен… плен! — убежденно повторяла.
— Миллер? Плен? Комиссар никс?
— Не, пан, — плен…
Немец убрал руку от пистолетной кобуры, что-то приказал солдатам, те вытянулись и отдали честь, когда он проходил в сенцы. Через минуту в горницу вошли еще трое солдат — те, что осматривали летнюю половину. Все пятеро вставали в этой хате на постой.
В эту первую ночь оккупации думы одна другой горше теснили ей голову. Как жить? Как жить, господи, если нелюди в хате топчут душу? С первыми двумя столкнулась, и оба грозились убить. А за что? Замок к чужому добру мешал воровскую руку протянуть? Значит, ломай, а того, чье добро, стреляй?.. Та по какому ж это закону?.. Спокон веку казаки вора били: «Не тронь чужое!» И крепко били, чтоб другим неповадно было. От малых лет детей в семье за воровство самым жестоким боем бьют, как за тяжкую провину. Учили жить в чести, никогда ни она, ни Матвей не марали рук даже самой мелкой покражей. А пережили ж такое время, столько лиха выпадало на веку!.. Выжили, не спадлючились, душу не заклали дьяволу… Что ж того немца заставляет грабить людей? Какая нужда? А то ж для чего другого они на русскую землю пришли б? В Матвее комиссара признал! Та ты ж, идолова душа, иди и воюй с ними на фронте. А ты в хату влез с целою бандою и бабу тем наганом стращать взялся… Скажи я по-другому за Матвея — убил бы…
Томильчиха не про мою хату сказочку читала? «И берете собою семь других духов, злейших себя, и, вошедши, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого…» Незанятый дом и прибранный… Без сыночка дом всегда пустой… «Где ты, Митенька? Где? Я ж тебя жду — не дождуся… Вторую неделю ты блукаешь…»
Хотела хоть в думках подольше побыть рядом с сыном, а не смогла — опять немцы-обидчики вспомнились. Чертыхнула вражин, к Матвею думой переметнулась. Пленным ведь назвала, живым… Своим словом с того света вернула, чтоб самой жить, и спаслась — отвела немецкую пулю!.. Не может быть, чтоб счастливый случай помог. Тут другое… А вдруг и правда плен?.. Терещенко живым Матвия у сарая поклал, а на кучу соломы и дым издаля зыркнул, когда сам от немцев тикал… «Господи, скажи — Матвий где? Перед твоими очами все живое и неживое… Я ж Матвия законная жена… У меня ж от Матвия дите… Скажи: «У вас есть защитник — живой муж ваш и отец…» То ж твой голос, господи, Миллерово назвал, сама своим умом я никогда б про тот город не вспомнила… Не сказала я ж ироду, шо пан под Волновахою убитый… А может, я грех на душу приняла неправдою? Ты и в грехе вразуми, господи».
8
Ночная смута о судьбе Матвея и днем ее не отпускала, так и хотелось подойти к немцам-постойщикам и спросить: «А вы под Таганрогом не сидели в окопах? Может, моего пана пленным видали? Дужий ростом, смаглявый, а глаза синие — редко у мужиков смаглявых синие глаза бывают». Но не спрашивала, и вообще старалась держаться от немцев подальше — добра от них не ждала. Не хотелось и верить, что они заняли станицу надолго. С утра очень ясно стали простукивать пушки в стороне гор, значит, бьются красноармейцы там. Может, дальше Горячего Ключа и не отступили? В горах наши лучше будут воевать. Где винтовка на винтовку, штык на штык — там немцу против русского не устоять, и бомбовозы туда не полетят. Ульяна зацепилась за слово «наши» как за надежду, и теперь все, что касалось немцев и оккупации, она откидывала за его черту как чужое, как то, чего быть не должно.
Сперва присмотрись к вражинам, изучи всю их повадку, найди слабину, тогда и начинай гопки вставать, урезонивала себя Ульяна и в первые дни не роптала в открытую, подчинялась понуканиям немцев-постойщиков. Судя по рассказам соседок, по другим подворьям немцы кур и свиней резали, коров до пустого вымени выдаивали. Надо б и ей было больше остерегаться, от других мародеров живность свою упрятывать, а она пока мало была научена горьким опытом, к соседям с Нюсей часто уходила, и у нее тем временем свели со двора кабанчика Борьку. У Одарки Млынихи немцы тоже отобрали хряка.
— А я ж плачу, а я ж переживаю, — рассказывала о себе Одарка. — Это ж пудов шесть мяса. Яки гроши могла выручить за того хряка!.. А теперь все — пропали гроши… Ну а вы, кума, як то порося отдали?
— Та шо про то порося балакать, если меня немец саму чуть не убил. Уже не надо было бы ниякого добра… — Ульяна рассказала, как немецкий офицер фотокарточку Матвея увидал и за пистолет хватался («Комиссар!.. Комиссар!..») и как она про город Миллерово вспомнила вовремя, откуда последнее письмо от Матвея получила. — Кричу тому немцу: «Пан — плен! Пан — плен!» А сама Матвия живым бачу. От ни разу ще такого видева не знала — живой в глазах Матвий, и немцу кричу: «Плен! Плен! Плен!..» Шо, ты думаешь, показало мне Матвия?
— Ой и сказать боюсь, як меня у самой за Матвия сгадано. Скажете: «Опять Млыниха брехню за правду вкручуе».
— Та не, сперва послухаю, шо за Матвия скажешь…
Одарка пуговицы на кофте затеребила, все до одной перебрала и не убирала от них рук, беспокойно бегали пальцы по пуговкам, а глаза тоже были сейчас бегливые, будто разные картинки перед молодицей мелькали — посмотри, посмотри…
— А немыць к моим пуговкам придрался. Смотрите, Кононовна, — со звездочками пуговки. Я их с красноармейской гимнастерки перешила. Немыць увидал, за руку меня — хвать: «Пан — партизан?»
— Ты мне теми пуговками голову не морочь. Мы ж за Матвия начали балакать. А ты черти куда сводишь… — Ульяна взяла золовку за локоть и посмотрела ей в глаза: — Ты сама на Матвия ворожбу творила?
— Как вам сказать… Как вам сказать… — Одарка опять вывернулась бегливыми глазами. — То не ворожба… То — голос Матвиев…
— Ну, ну, интересно… И шо ж он сказал?..
Золовка задержала на месте бегающие по пуговицам кофты пальцы (длинные они были, как у городской барышни) и сказала, кинув глаза к потолку, будто прислушивалась к отдаленному звуку:
— Я на огороде картошку подкапувала, смерком уже, когда детвору спать уклала. Чую голос сзади: «Сыстрыця, я исты хочу…» Оглянулась — никого. А Матвиев был голос, узнала. Он же у нас всегда «хочу» як «кочу» сказувал. А другой раз воду с речки набираю днем, на полудень солнце, а с-за спины як наче кто крадькомой спустился под берег и просит: «Ой, сыстрыця, и пить же я хочу…» Братов голос опять.
— Значит, и голодный Матвий, и непоеный? И то и другое ему надо, как любому живому человеку?.. Так, Дора?
— Та ото ж… Я пляциков напекла и людям раздала, шоб не просил Матвий. И ведро воды по кружке проезжие та прохожие, шо в отступ люди шли, выпили… Может, вам и не понравится, кума, а я Матвия за живого считаю… — Одарка сделала паузу, сняла с кофточных пуговиц руки, будто освободила их для какого-то другого дела, и опять заговорила быстро, новый рассказ сопровождался взмахами рук, себя показать не забывала («А я ж переживаю. А я ж беспокоюсь…»).
Ближе к вечеру в тот первый день захвата станицы немцами со стороны Калужской станицы въехала в Псекупскую рессорная выездная линейка. Мосток через Холодный ерик минула, пострекотала по бревнам настила и дальше катит, пыльцой слегка соря. На линейке сидел, свесив ноги в хромовых сапогах и сломив лакированный козырек фуражки на глаза (жара напекла, нажгла за день зрение), штабной сомлевший офицер, и ездовой сморился не меньше своего начальника, конями правил кое-как, ноги спустил по другую сторону тарантаса, подремывал на ходу. Встряхнулись оба от немецкого окрика: «Хальт!» Это из-за Одаркиной хаты выскочили два немца на дорогу. К офицеру сразу потянулись, на воротник гимнастерки засмотрелись, что там за знаки отличия: шпалы, ромбики, кубари? Возница гимнастеркой голову накрыл и вдруг прыгнул зайцем в дорожную пыль. Замелькал голой спиной и подошвами больших солдатских ботинок молодой хлопец, уносил себя на крыльях страха от смерти. Да не только себя спас — еще и машину, битком набитую красноармейцами, остановил, быстро-быстро та развернулась и помчалась в обратную сторону, туда и стрельнуть никто из немцев не успел.
— Шо значит — судьба у военных людей. Не пожалкувал ездовик ту гимнастерку — зато живым до своих до-бег… Немцы думали, он шось страшное им под ноги кинул. Пока за коней ховались, пока ждали, рванет чи не рванет из кинутой гимнастерки граната… А мы Матвия уже ж запечатали, кончили ждать… Вы, кума, до годовины черною головою будете ходить чи до митревской недели, шо в октябре, Томильчиха сказала?..
Ульяна слушала Одаркину колючую воркотню и прощала за главное: любит сестра Матвея, любит и даже накормила, мол, и напоила людей за Матвея, считая живым. Вот и побалакали о кровнике и помирились, сами роднее стали. Лихую годину не передюжить, если в одиночку колотиться.
Они еще повспоминали свои обиды на немцев. О шапке Матвеевой пожалели (память была, могла Мите пригодиться), а над Одаркиными рассказами и посмеяться было бы иной раз не грех, но всему свое время. В ту пору день, прожитый без слез, казался праздником.
9
В августе Псекупс обычно глубеет, может в один день вдруг вспучиться и выплеснуться из берегов. Этим посушным летом такой напасти от речки никто не ожидал — много надо было дождевой и снеговой воды, чтобы Псекупс добрал хотя бы то, что выпило из него знойное солнце, а уж наводнения — нет, пустая думка. Грозы несколько раз стреляли коротко, проливали наскокливые дожди и отходили. Полянский брод был по-прежнему сухим, теперь тут стал главный перевоз немцев, просачивающихся в горы, чтобы выйти к Черному морю в районе Туапсе. Под Новороссийском, по слухам, их остановили наши войска и не пускали дальше вдоль побережья.
Ульянины постойщики несли у Полянского брода караульную службу. Нашествие немцев до закубанского предгорья целый год задерживали красноармейцы, и от партизан вражья сила несла урон, а отсюда в двух шагах были лесистые горы, ущелья — как не ждать оттуда лихого ночного налета партизан? Ждали их немцы и боялись, выставляли секретные посты и караулы, всю ночь слонялись немецкие патрули по станичным улицам. «Хальт! Хенде хох! Ком хир!» — весь этот набор немецких слов станичники усвоили в первые же дни оккупации и опасались выходить из хат с наступлением темноты: каждый мирный житель был для немцев ночью «партизан».
Для Ульяны августовские ночи сделались настоящей пыткой. Днем она себе и по хозяйству работу находила, и с Ольгиной дочкой нянчилась, отвлекала тревогу о Мите. Ночью от материнских дум никуда деться не могла. Чего только не приходило ей в голову! И все предчувствия были плохими, гнали сон, солеными слезами изъели глаза. Откуда только и выжимала их боль — иссушило знойное лето ее плоть, все соки выпарило, кожу дочерна прожгло.
Все ей чудились под окнами шаги, голос Мити звал ее, и она вскакивала среди ночи, вглядываясь в темень, напряженно ждала: вдруг не пригрезилось и сын войдет сейчас в хату, скажет: «Здравствуйте, мамо!» Сколько раз просыпалась так, не смыкала глаз до утра, и день наступивший был еще одним днем ожидания сына. «Ой, сыночек мой! Сколько думок о тебе уже мать передумала… Уже ж очи мои повымарювались выглядать тебя… Где ты, сынко? Если не можно тебе вернуться в материну хату, так подай хоть весточку-у-у… Знал бы ты, как трудно матери ждать в лихую годину, как сердце сатанеет, кровью обливается-а-а… Может, укрылся у добрых людей? А весточку через фронт не перекинешь с нашей стороны…» Как через глухую стену через немцев к своему сыну толкалась, ушибленная, ослабевшая, давилась молчаливыми слезами и богу напрасно молилась — жестоким был к ней в эти черные ночи бог…
Такой слабой она никогда в жизни, наверно, не была. В голодные года молодостью выдюжила, заботой о пропитании для малых деток своих, а теперь еды хватало пока, и Ольгина дочка не обременяла уходом, но годы уже не те, и нервы износились, как нитки на старой рубахе, то там лопнут, то в другом месте разошлись швы — плечо вдруг заболит, крестец, ноги охолонут в жаркий день… И сжималось спазмами сердце — этой хвори опасалась больше всякой другой. Сорок лет — бабий век… Ее сердце три таких века отработало, потому что много людей прожило в нем, и сейчас было не пусто. Дождусь Митю, дожду-у-сь… И Оле дочку с рук на руки передам… Заваривала настой пустырника, врачевала сама себя и жила дальше. «Живу, сыночек мой, живу-у-у!..»
Митя и Ольга вернулись дождливой ночью, намокли и глинистой грязью с ног до головы выпачкались, пока через всю станицу пробирались в темноте до Холодного переулка.
— Та вы ж, мои деточки, до рубца промокли… Та як же вы долго ту худобу по горам та по лесам гоняли и на самих кожа та косточки пооставались… Щас борщом накормлю вас, мои ж вы родненькие… — причитала и всхлипывала от радости Ульяна, кружась по горнице и обнимая то сына, то квартирантку, обоих хотелось приласкать.
— Ешьте, ешьте, мои хорошие, бо наголодувались. И молочком припивайте… и молочком… — Ульяна, когда волновалась, повторяла какие-нибудь слова. — И молочком… и молочком… Без мяса борщ, постнесенький. Знала б днем, шо будут таки гости, курку зарезала б — все равно немцы сожрут. Очи б тех ворогов не бачили, земля не носила б… А лезут в людску хату, вонь та заразу разводят… Щас от дождя в хатыну нашу сховались, а должны ж у Полянского броду патрулювать и партизанов ловить. Вошей своих ловлят та кохвею напиваются, як самогонки, вояки чертовы. И як от таких наши красноармейцы тикают?..
— Мамо, вы не ругайтесь так громко, — предупредил Митя. — Могут же услыхать немцы и прийти сюда, к нам с Олей придерутся: «Партизан? Партизан?..»
Он снял с себя мокрые рубашку и штаны, завернулся в суконное одеяло с головой, вид у него сейчас был как у ребенка, закутанного после купания. «Хлопченя ты, хлопченя, — смотрела на него Ульяна. — И ты, Олечка, сиди в кутале теткиного платка. Я тут за вас обоих от немцев отобьюся. Я ж вас не отдам во вражьи руки, ни за яку покару не отдам… Соскучилась я за вами, ото и гримкотю богато…»
— А ты уже и про партизан знаешь, сынок?
Митя и Ольга переглянулись — вспомнили что-то свое. Ульяна перехватила этот немой разговор и насторожилась: рисковыми взглядами обменивались сын и квартирантка, не скохались ли?
— Всех сразу ловили вас немцы чи по одному? Признавайтесь, худобу казенную пропасли? Чи немцы отняли?
— Худобу мы, мама, не пропасли. В общем, не догнали до места назначения: Белореченку немцы раньше захватили, — стал рассказывать Митя, а сам все на Ольгу вопросительно взглядывал: правильно, мол, я говорю или ты дальше будешь рассказывать? Та кивала замотанной в большой теплый плат головой (очень она сейчас была похожа на куклу-матрешку — круглые щеки, а вокруг закутка), и Митя продолжал: — Погнали мы худобу на Майкоп…
Ульяна перебила сына:
— Полсотни ж коров дойных, овечек штук семьдесят…
— Вы о чем, мамо? — Митя даже ложку отложил и Ольге глазами свой вопрос перекинул. Квартирантка недоуменно поводила круглыми щеками.
— Я за деда Стрекота хочу спытать. Воровкуватый же, а назначили старшим над вами, молодыми… Потому и «не догнали до места назначения», шо Стрекота махлювал? Так, сынок? Он для того от нас, языкачих баб, и отбился перед Дьяченкою. Мы б того дида за учкур не раз вместе со штанами от земли повыше подкинули…
— Да, барашек дед Стрекота куда-то замотал. По-моему, возле Мартановки мы тогда в щели днем стояли. Так, Оля? Осы та овода нас до печенок закусали, над худобой тучами жмухтают, и нам от них, зараз, ни закутаться, ни отбиться, ни мучного хлебова сварить. Попадали под кусты подальше от худобы и лежим, жароту пережидаем. На заходе солнца вертаемся до стада: коровы есть, а овечек — тю-тю, овода поели. До Стрекоты: «Куда барашек подевал, диду?» — «Не ваше дело. Я тут за старшого, знаю, что делать. А вы до барашек не касайтеся…» Та еще, знаете, мам, как он умеет на «а» нажимать: «Я за старшага…» Милицию ж не потащишь в лес искать тех овечек. Там столько было бродячих коров, хоть две, хоть три забирай и веди к себе на двор.
— А у вас налыгачей не нашлось, и с пустыми руками вернулись до дому?
— Нет, нам на конях захотелось вернуться. Корова у нас, мама, есть. А вот коняка пригодилась бы в хозяйстве…
На игривый тон разговор сбился, но Ульяна не пристраживала ни Митю, ни Ольгу — так давно не было нормального человеческого разговора в ее хате, почему б сегодня не пошутковать, не расслабить душу.
— Тетя Уля, хлопцы, правда, коней бродячих нашли. А Митя и седло под кустом взял. Меня учил ездить верхом. У Мыколы кобыла смирней была, а Митя не пускал на ту: «Охляпом, говорит, женщинам нельзя на коней садиться».
— Кони у нас были — это правда. А куда ж сейчас от немцев тикать? Кругом немцы… — Митя сказал слова, какие просились у него с языка уже не первый раз, и пригорюнился, как после тяжелой и опасной дороги, когда пройти туда, куда хотелось, нельзя и уже нет сил на новый путь. — Майкоп немцы захватили, Ставрополь, Пятигорск… А тут, мама, далеко немцы в горы прошли?
— Наверно, нет. Сегодня ночью дождь, а то б вы побачили лесну заграву — нарошно немци запалюют лес, шоб наших сбивать дальше. Ой и лисичина ж была добра за Лысой горой… Так шо, коней у вас немци отняли?
— А то кто ж, мама, кроме них, людей грабит?
— Та есть уже и наши бандюки с ихними винтовками… Значит, наудачу казак на коня сидае, наудачу его и конь бье, сынок. Пора спать лягать. Олечку уже давно позихи забирают. — Подломила Ульяна свою колючку, по-доброму хотела закончить затянувшийся допоздна разговор и даже кровать с пуховой периной, где спала сейчас маленькая Нюся, уступила квартирантке. Заставила Ольгу помыть ноги и пустила к дочке: — Только тихенько, Оля, ложись до дивчины. Не плачь над нею и не балакай громко — переполоху ей накричишь. Утром тебе здорову та брехливу передам, тогда хоть весь день кохай малу та смейтесь и плачьте — то ваше будет дело. Переполох на лечение ох и подлый же!.. Толичку, племянника моего, помнишь, осенью «на курей» носила?
— А как моя Нюсечка?
— Ця тоже ленива ночью на горшок сидать. Спокойной вам ночи…
Теперь к Мите надо было подойти и присесть у койки. После общего разговора душа просила семейного, хоть на два-три слова, для больших речей — время позднее, да и уморился сынок в дороге, вымок под дождем. Ульяна прибирала со стола и двигалась по горнице крадущимися шагами, а сама к сыну все оборачивалась, на виду чтоб он у нее был. Митя сидел на койке, одеялом по-прежнему окутывал плечи и голову. Что-то заботило хлопца, он потирал щеку, вздыхал.
— Наверно, без курева подушка крутлива — спать не дает? — спросила Ульяна.
— Намок табачок… У нас хоть листик где-нибудь в хате завалялся, мам? Привык с хлопцами смолить, що поделаешь.
— А ты знаешь, Митя, — нема ни листика. Ще ж на сушке все рамы пустые. На ниве остался табачок колхозный, и я своего цей год не сажала без батьки — под пшеничку табачные грядки заняла. Хочешь, у немцев куревом разживусь? Они гомонят, я чую…
— Для кого, спросят, среди ночи табачок потребовался? Партизану курить? Не ходите до них, мамо. Я лучше подушку на кулаках покидаю, шоб помягчела. И вы ложитесь, мамо.
— Та теперь нам ни на работу, ни на службу рано не вставать. А как твое сердце, сынок, прибалювало там?
— Все прошло уже. Теперь меня «там» нема. Дома я. Вас, мама, вижу, значит, живой-здоровый. Разве ж это мало? Это очень много сейчас, я серьезно говорю.
Митя лежал на койке, натянув одеяло до подбородка. На спине лежал и ноги вытянул во всю длину. Говорил медленно, раздумчиво, будто сам себя успокаивал и баюкал. А Ульяне хотелось припасть к изголовью сына и тихой лаской усыплять, как в детстве усыпляла. И каганец-светильничек хотелось приблизить к родному лицу, все-все там высмотреть за те сумные тягучие ночи и горючие дни. Вернулся, мой цветочек, навсегда-навсегда… Тут лихую годину и переждешь, тут. Никуда теперь не заблукаешь от материной хаты…
— Мама!
— Да, сынко!
— Светят… светят… Щас бомбы кинут!.. Разбегайся, хлопцы!.. Диду… гони коней в кущья!.. Та гони ж!..
Бредил сынок. Был он «там», и не скоро его успокоит родная хата. Такой молодесенький, а уже надорвал сердце. От же война проклятая як сгубила мое хлопченя… Пожгут вас, вороги, наши слезы! Пожгут… Всех до одного…
10
Митя вышел из хаты рано утром, не заспался с дороги. Стоял посреди тесного двора и заламывал, потягиваясь, руки на затылок. Майка открывала его худобу, висела под мышками просторно, как рыбачья сеть на просушке, и брюки за ночь не успели просохнуть досуха, коробились большими влажными складками, а вверху над рубищем одежды светилось радостью молодое лицо. От росы искрилось и блестело все кругом. Шелковица у калитки под лучами утреннего солнца серебрилась каплями, казалось, что это созрели за ночь тысячи светлых ягод — чуть ударь по дереву, и они посыпются на землю необычным урожаем. Успевай поймать на лету, запомни, как сотворено чудо! Надолго запомни, и себя в эту минуту запомни…
Как после болезни, смотрел Митя вокруг, узнавал мир заново — росистую шелковицу, кусты винограда у хаты, близкий берег Псекупса и подальше, за окоемной кромкой горной гряды, виднелись изломистые кручи снеговых вершин — редкое по красоте зрелище. И станица отсюда виделась красивой. Хаты стояли по длинному косогору на разной высоте, сады, омытые ночным дождем, дымились под утренним солнцем красноватой испариной, пирамидальные тополя высокими шеренгами обозначали полукруг большой дороги, проходящей через центр станицы в сторону Горячего Ключа. Хорошо жить тут в доброе мирное время, выходить по утрам из родимой хаты и так вот оглядываться, чтоб взять радость в нарождающийся день и дышать ею, и глазами помнить и душою, и работать в охотку, в наслаждение, и отдыха после хлебнуть глоток — и дальше жить! Хорошо… Было хорошо и будет когда-нибудь опять. А когда кругом война и враги, озирать родные места и радоваться можно лишь одно мгновение, а в другое радость обернется защемленной болью.
— Долго не стой, сынок, на подворье, тут немцы, — сказала Ульяна, унося от коровы подойник с парным молоком. Митя вошел следом за ней в горницу и попробовал осмеять ее осторожность:
— Ну и напугали ж вас немцы, мама. Даже днем возле своей хаты боитесь.
— А ты знаешь, Митя, шо меня немыць чуть не убил?
— Я на станицу давно не смотрел в такое хорошее утро, мама. И снеговых гор давно от нашего двора не видел. А за что вас хотели немцы убить?
— А за карточку батькову — вот за шо!.. — Ульяна уже выправила голос и перестала сморкаться в передник. А сын нервно шагнул в сторону своей кровати, присел, сгибая длинные ноги в коленках и зажав лицо в ладони.
— Даже не верится, мам. Я спрашивал за что, а меня в этот момент трусонуло: мою маму… немец убивает!..
Митя откинулся спиной на стенку и совсем закрыл лицо ладонями. Его давили слезы. Чуть слышные всхлипы прорывались сквозь ладони. Давно не видела Ульяна сына плачущим так горько. Последний раз это было в марте, когда она добралась к нему в Новороссийск с военкоматским извещением на батьку. С живым батькой жил Митя не очень дружно, один раз Ульяна слышала, как он сказал ему: «Не прощу я вам, папа, за то, что вы мою маму обижали». Матвей брови на лоб подвел: «Шо?.. Та я никогда…» Наверно, простил все ж таки батьку, если так горевал от похоронки… Значит, любил… И матуську щас жалеет…
— Не, Митя, — говорила Ульяна немного погодя нараспев, чтоб сын лучше усвоил то, через что она, его мать, уже прошла сама и что для нее было решенным раз и навсегда. — Наши люди такими подлыми никогда не были и не будут, як те немци, шо тут щас в станице. Хоть дида Стрекоту, хоть Абакшина, хоть кого возьми из тех, шо над станичными людьми змущались[7], так они нам щас все равно роднийше — то свои. Седня они зробылы шось такое, шо не нравится людям, а завтра той же Дьяченка чи Стрекота на одной с нами работе себя не жалеют, и сердце у людей отходит, уже по имени и по отчеству их: «Иван Самсонович, Виктор Анатольевич…» Немыць не такой — он себя больше всех других жалеет. Их, фашистов, мы не будем никогда по именам та по отчествам называть, они всегда подлы: седня, завтра и всегда будут такими…
— А я вам, мама, что говорил, когда звал в отступ? Вы ж меня тогда не слушали…
— Погоди, не сбивай, а то я забуду, шо хотела тебе, сынко, сказать, и вспомню хто зна когда. Так и есть: забыла.
— Вы сказали, что фашисты всегда подлы.
— Ага. Теперь, Митя, слухай, шо дальше скажу. — Ульяна оглянулась на дверь и заговорила тише: — Немцы ще и брехуны. Обещают якойсь-то новый порядок тут в нашей станице заводить, а для того молодых хлопцев полицаями служить заманюют. Уже нашлись такие, шо им поверили и ходят с винтовкою и белою повязкою на руках: Васыль Белинка, Панько Белозер, Петько Зонь. Не я ихняя маты — я б им таку винтовку показала, щоб свет замакитрився. На своих людей с винтовкой? Та як же ж так можно? На тебя, на меня, на сусидей своих… А в кореши кого взяли? Немцев! Тьфу, и казать даже тошно. Зайди хоть раз в хатыну, посмотри и понюхай. Та тебя другой раз туда палкой мать не загонит!..
Митя воспользовался новой паузой в рассказе матери и заговорил сам:
— А бригадира Стрекоту напрасно вы по имени и по отчеству…
— А шо такое?
— Ту подводу дед себе присвоил и в Мартановку угнал. Когда мы назад через Мартановку шли, нам люди рассказали, что Стрекоту в тридцатом году там раскулачили, отобрали у него дом и самого куда-то в Сибирь выслали. Теперь он поехал отнимать свой дом у квартирантов. Не исключено, что и он возьмет от немцев винтовку. Скажут: вернем дом, а ты нам служи. Так, мама?
— Может, и наймется. Ему все равно, кому служить, абы водка та гроши. От шкандыба проклятый…
— И еще за одно не прощу деду…
— Ты уже того Стрекоту за шкирку взял и под суд потащил? Смотри, как бы нам самим от таких не плакать. Пока ще немец проклятый на нашей земле.
— В том все и дело, мам, что «пока», но этого не будет всегда.
— Ты к горам ухо повертал седня? Не гримкотят уже ни пулеметы ни пушки — сбили опять наших немцы. Ох ты, горючко-горе… А Дьяченка с красными партизанами щас гдесь в щельях. Так шо: Виктор Анатольевич. Понял, сынко?
— А деду Стрекоте мы все равно ноги переломаем…
Ольга заспалась на пуховой перине. Дочка проснулась, ползала по ней, целовала мать и в щеки и в ухо — не разбудила. Ульяна одела Нюсю, расчесала волосенки и подвела к кровати:
— Просыпайтесь, мамаша. — А когда Ольга открыла сонные глаза, добавила: — Получайте свою дочь.
— Моя ты красавица… Дай я тебя поцелую…
— Долго спите, мамаша. Дочь раньше вас встала и вас всю уже обцеловала: и в щечки, и в ушки, и в глазики. Согласны вы принять такую дочку? А то я могу забрать обратно. Пойдет Нюся жить с бабой?
— Ма-аа…
— Матуськина дочка, матусенькина. Забирайте ее от меня, мамаша. И со всеми куклами нехай уходит, я с ней больше не гуляюсь и вавки лечить не буду, если она бабу ни разу седня не поцеловала.
С раннего утра Ульяна топила две плиты — одну в горнице, другую на дворе — мытье и стирка стали на утро главной ее заботой. Выкупала сама и сына и квартирантку, а заодно и Нюсю в купель к матери бултыхнула. И тут за мытьем и стиркой опять выспрашивала обоих, как жили в отгоне, какое горе мыкали. При свете дня она хорошо увидела Митю всего и на левой руке высмотрела рубцы шрама у локтя, и выгиб в этом месте был покривлен. Значит, не совсем дурницей была та повязка и фанерка под локтем — перебивало чем-то сыну руку и калечило. Выше левого виска чуткими материнскими пальцами тоже затянувшуюся рану нащупала. Боже мой, сколько ж ты, сыночек, перетерпел и молчишь, не расскажешь матери, где больно было… Я б ту болячку в себя перетянула. Свежих ран не нашла — обминули в том отгоне ее сына и вражьи пули, и осколки бомб, не царапнуло когтистое железо, не пробило ни ручек, ни ножек, ни головы, глубоко ушла боль, до самого сердца, так та похуже наружных ран…
— Сынок, а на вас немцы бомбы кидали? — спросила она, вспомнив, как бредил Митя ночью и как сполошно рвал голос.
— Как вам, мамо, сказать?.. Фух, мыло в правом глазу, подайте, мамо, корец холодной воды… — Сын пофыркал, сбил водой мыльную пену с лица, распаренные щеки закраснели румянцем. — Днем наше стадо не бомбили. А гнали ж мы вдоль дорог — туда немцы старались побольше кидать, на военные обозы. У меня с карьера трясучка осталась. Как увижу, что летят бомбовозы с крестами, так и всего и заколотит… Я в Новороссийске после немецкой бомбежки девочку увидал… Головка, отбитая осколком, а бантики на косах — синие-пресиние… Трясусь с тех пор, когда начинают бомбить… Ночью в горах завоют вдруг над головой моторы, и блым — светло от ракеты: то немец на парашюте кинул, перед тем как бомбить… Ой, мамо, вы лучше меня про другое спрашивайте, а за бомбы не надо…
— Не буду, сыночко, не буду. Теперь все поняла. Так ты кричал ночью про те ракеты! Теперь буду знать, буду знать…
Разговор с Ольгой Ульяна завела о бригадире Стрекоте.
— Чем дед Стрекота так Мите наперчил, не знаешь, Оля?
— Та у Мити ж приступ сердца один раз был. Думали, кончился хлопчик… Упал на траву и лежит, белый-белый…
— Та шо ты кажешь? Неужели так и падал?.. Ой, боже!.. Ой, боже!.. А шо ж вы? А дед Стрекота?.. Отхажували Митю или так на дороге и кинули?.. Як же ж то могло?.. Уже б Мити и живого не было… А вам трудно было на подводу хвору дытыну покласть? Для того ж Дьяченка и давал ту подводу… На внезапну болезнь… Знала б — сама с худобою ушла гойдаться… А я ж хворого сына за себя… От грех взяла так взяла…
— Бригадир Стрекота больше вас виноват, тетя Уля, Митя ж не сразу упал… Мите до приступа сумно стало, он на подводу к деду запросился, а тот не пустил и поехал куда-то. Часа три его не было. Вернулся — Митя без признаков жизни лежит. Переклали хлопцы… Ой, тетя Уля, не могу… щас опять заплачу… Мы-м… мы все над Митей плакали… Думали, неживой наш Митя… А дед Стрекота ще и на муку Митю обделивал… Ты, мол, у нас новенький, мало отработал в конторе, щоб со всеми одинаково получать паек… А мы четверо получим та в один мешочек с Митиной мукой и ссыплем. Хлопцы Митю уважали, он у них как за старшого был…
Ульяна никак не могла справиться с собой, так оглушил ее рассказ Ольги о сыновом сердечном приступе.
— Ну, и долго ж Митя в той подводе пролежал? Лекарства давали какого-нибудь?
— Откуда оно у нас, тетя Уля? — Ольга перестала шурыгать белье о стиральную доску. И Ульяна рядом стирала, корыта стояли на табуретках вплотную. На вольном воздухе домовничали, чтоб не так парко было от кипятка и горячего белья. Поставили табуретки в огороде, где росла недавно полоска пшеницы, принесли корыта, тазики, сняли с плеч кофты и работали — заматеревшая казачка в черной косынке и красная после купания молодица. Тут же ползала и хватала обоих за подолы юбок маленькая Нюся. Ей тоже пришлось выделить миску, налить туда воды, покласть лоскуты тряпочек, но мылом баловаться не дали — цены ему сейчас не было, обменом и то трудно добыть. А Митя покупался часом раньше в горнице и теперь там прилег отдохнуть.
— Значит, ни лекарства, ни другого уходу? — продолжала свои раздумки вслух Ульяна.
— Почему — без ухода? — встрепенулась Ольга. — Я оводов та ос от Мити отгоняла, мокрой тряпочкой виски смачувала, к сердцу ухо прикладала. Стукало сердце… Тихенько так, як ото ходики прослухуються, шо в дальней комнате висят: тик-тик маятник, и стихло. А посля опять: тик-тик. Мы подводы с места не трогали, пока Митя не очнулся. Смотрит на нас, пробует голову поднять — место не узнавал, где мы. Дед Стрекота богородицу припомнил, вернула, мол, с того свету нам душу Димитрия…
Надо б спасибо сказать Ольге — как смогла, облегчила сынову хворобу, радовалась, что ожил. А не находила Ульяна таких слов, какими оценила бы услугу квартирантки. Только сын больной был перед глазами, и себя к нему вплотную придвинула, сама слушала пульс, дождалась, когда открыл глаза. Что ж это такое с ней? Ревность? Обида? Или слепота, какую называют куриной? Или разум помутила война?..
— Матка, вашен, вашен…
— От принесло вас, идоловых душ, на нашу голову… — Ульяна оборотилась на голос немца и узнала одного из постояльцев: лет сорок пять ему, коренастый, волосы рыжие, редкие, большие залысины спереди. Про себя она прозвала этого немца Лысым, он был вроде завхоза в патрульной команде и больше всех остальных досаждал: то котелки грязные мой матка, то печку топи — «швайнсуппе» варить будут из краденой свинины. Сейчас этот немец держал в руках наволочку, набитую грязным исподним бельем, и показывал знаками, что все это надо срочно выстирать.
— Не, — замотала головой Ульяна и черную косынку от глаз кверху подбила тыльной стороной ладони. — Никс вашим. Мыла никс. Нечем, — она потерла пустые кулаки один об другой: — Понял? — И чуть не добавила — Лысый.
Немец ткнул указательным пальцем свободной руки в кучу белья, уже выстиранного и уложенного в тазик, и с грозным видом шагнул к Ольге:
— Вашен! Шнель!
— Ага, ага, — испуганно закивала Ольга, приняла мыльными руками от немца наволочку с исподним бельем, некоторое время подержала ее на весу.
— О! О! — погрозил немец Ульяне и вдруг поддел сапогом тазик с настиранным бельем и стал вдавливать в землю. — Штурмлюг! Штурмлюг! — ругался он и, натоптавшись, удалился во двор, насвистывая что-то.
— Тетя Уля, давайте я вам помогу перестирать, — Ольга показала рукой на втоптанное в грязь белье.
— А ты шо, богачка на мыло? — Ульяна заговорила тихо, но слова были тяжелыми. — Или пойдешь у Лысого просить? Иди, подстелись заодно, штурлючка… Ты ж ни в чем не отказуешь, а Васыль далеко… Та я ж твои кучери щас потаскаю, шоб не сгадувала немецкою подстилкою стать… — Ульяна громыхнула корыто об корыто и с расстояния вытянутой руки вцепилась в Ольгины волосы. Дергала крепко и слегка водила вытянутой рукой.
— Теть Уля, пустите… Я ж за нас обоих испугалась… Больно! Ой, мамочка…
Заголосила маленькая Нюся, громко и слезно. Сидела на корточках над своей стиральной миской и наддавала голосу. Детский плач образумил Ульяну — сколько жила, всегда бедой принимала детские слезы, и сейчас сразу расслабила пальцы, сдавливавшие волосы квартирантки, уже через секунду ее опустевшая ладонь готова была гладить молодицу. И, отталкивая назад руку, опять спросила себя: «Разум помутила война?» Покидала в корыто свои постирушки, унесла на плече в горницу — достирать там, где стены и дверь от чужих закрыта.
Через два дня Ольга ушла на другую квартиру, и Ульяна не отговаривала ее, не просила прощения. Митя заикнулся было об этом (сказала ему Куренчиха о драке, слов много на описание потратила, действуя по принципу: кто рассказывает, тот и прав), но мать ударилась в амбицию: «Ага, щас навколюшки стану перед Олькою! Отстань ты от меня с той Куренчихою…» Сын не знал о материных подозрениях и еще несколько раз заводил разговор о бывшей квартирантке. Ульяна отмалчивалась.
Часть 3 Нашествие
Там пыль не дымится ль, не виден ли след,
Не видно ли там подмоги?..
1
Знойное солнце долго жгло в это лето землю, и лесные пожары в горах источали жаркую мглу, дым наползал на станицу, растекался по долине Псекупса, медленно уходил в закубанскую степь гарью близкого фронта. Нет, не удалось немцам пересилить горную оборону наших войск, станичники чутко вслушивались в недальнюю канонаду и нашествие немцев не принимали надолго. Особенно сильно укреплялась надежда, когда дул горный ветер полуденник, с которым всегда станичники связывали перемены в погоде. Сейчас горный ветер доносил до станичных улиц дыхание смертного боя. Бьются наши, не отдают ворогам русскую землю! Пускай сильней разъедает глаза фронтовая гарь, зато своим защитникам, может, полегче придется.
Над косогором на далеко видном месте, как раскинутые голые руки вражьих трупов, торчали немецкие кресты, день ото дня немецкое кладбище расширялось — споткнулось нашествие. Есть у Красной Армии сила, она повернет вражьи орды вспять!..
А пока Псекупская стала для вражьей орды ближним фронтовым тылом, они обживали станицу. Откровенное мародерство проявляли, правда, уже не так нагло, как в первые дни, установили даже некую систему: постойщики не давали грабить хозяйку своей хаты — режь кур, отбирай коров, свиней в другом месте. Это было рассчитано на то, чтобы уменьшить сопротивление нашествию.
Ульянины постойщики больше не посылали Людвига к хозяйке, Лысый шкодил теперь и злопыхал исподтишка, а со всеми бытовыми мелочами к ней обращался Ральф, почти ровесник Мити. Ральф же отвадил от ее коровы «доярок» — так называли станичники немцев, выдаивающих чужих коров.
…Ульяна возвращалась от речки, несла на коромысле два ведра воды. Открыла ногой калитку, шагнула на подворье и увидела выбежавшего из хаты Митю. Окинула сына глазами — у того радостное лицо и руки водит какими-то веселыми кругами, будто вот сейчас вытопчет перед матерью гопака.
— А у нас новость, мамо!..
Ульяна поставила ведра на гравийную дорожку к порогу хаты, освободилась от коромысла. Митя подхватил ведра, унес в горницу и сразу же вернулся во двор, кивнул в сторону сарая:
— Идите, мам, посмотрите, что у нас там появилось…
Еще раз обкидала молча сына глазами и пошла к сараю широкими шагами хозяйки, просторная юбка замоталась по сторонам. Отворила плотную, как в убежище, дверь (в войну сама сарай строила) и ахнула:
— Мое ты мале!.. Та и где ж ты блукало?.. — Выглянула во двор, спросила у сына: — Як же порося вернулось?
— Плетень за хатой турлуком затуляю, глядь — Борька наш под калиткою.
Ульяна взяла поросенка на руки и чмокнула его в мокрый пятачок. Борька похрюкивал — хозяйку признавал, крутил от радости вьюнчатым хвостиком.
В сарае было просторно и полутемно, шатни в солнечный день — ничего не увидишь со свету, пока глаза не привыкнут. Стены саманные ставила Ульяна, объемистые и плотно слитые самодельные кирпичи пули и осколки не пропустят. Тут и решили спрятать кабанчика от немцев и доски на такое дело употребить от пустовавшего во дворе сажка[8], где раньше Ульяна содержала многих кабанчиков и хрюшек, без свиного мяса ее семья не жила. Не медля с таким делом, Митя взялся за топор.
Ульяна с необычной легкостью закружилась у дворовой печки, чтоб сготовить сегодня хороший обед, будто ожидался семейный праздник, будто будут за столом гости, она будет их потчевать-хлебосольствовать и про сына рассказывать, какой он у нее хороший помощник, всю мужскую работу справляет сам, одна радость иметь такого сына-работника, посмотрите сами, какой парубок вырос в материной хате, тут и о невесте самый подходящий случай словцо ввернуть. И она хлопотала около печки, хлопотала…
Митя топор держать в руках умел, не раз и с батькой ездил на Лысую гору заготавливать тесанину, и всю домашнюю плотницкую работу на себя еще до войны взял. Матвей обрадовался, с готовностью передал сыну весь немалый комплект инструмента по дереву, накопленный несколькими поколениями Полукаренковых. «Я металлист, я до железа охочий, — балагурил Матвей, передавая сыну разные рубанки и ножовки, пилы и подпилки, зензубели и коловороты. — Вот тебе, сынко, верстак, а я себе беру слесарные тиски. Зубила, пробои и терпуги, косы тоже мои и серпы. С чем не справимся дома — в мою кузню понесем, дома горно не будем разводить, хоть у нас тут и есть свое ковалдо, та коней давно нема…» Ульяне тоже тогда в радость была ранняя сыновья мастеровитость в таком ходовом на станице ремесле, как плотницкое, и она согревала в груди думку, что Митя найдет для своих рук здесь работу, не перекинется сын в отхожие работники, на материной хате будет он начинать и заканчивать круг дневных забот. Живут же другие так, и хорошо живут, а почему ее материнская судьба должна быть хуже? Не выпало ей такого счастья — два года не жил сын дома и ремеслу выучился совсем другому. Но теперь он дома и не воюет, значит, опять к работе по дереву можно повернуть. Да он и сам с охотой за прежнее плотницкое ремесло взялся. Одарке уже столбы для забора поставил и тут, на своем подворье, сам себе работу находит. Молодец, мой сынок, не ленись, с ремеслом и калека хлеба добудет, а ты у меня вон какой рукастый и набираешь мяса на свои косточки и выправляешь худливое тело на справное…
Обедать посадила сына со словами:
— Ты заробил седня мясную закуску и не маленький стаканчик водки, а добру четверть на стол… А мать мясную закуску от тебя, сынко, — в сарай и горилку чем-то белым разбавила.
Сын похлебал постный борщ, остановил ложку и сказал со смехом, чтоб не сбивать хорошего материного настроения:
— Наш Борька пока не мясное блюдо. Диетическое блюдо — вот что он такое сейчас. Потому как есть… молочное порося. А всем известно, в том числе и вам, мама, и как я сам успел заметить, все немцы — ярые мясники. Значит, наше порося им на кушанье в данный момент не подходит, поэтому, находясь в немецком плену, осталось живым и совершило побег из неволи к своим родным и близким, то есть к нам.
— Хватит, сынко, хватит дурня корчить, а то как бы плакать нам не пришлось. Научился ты циркачить в Новороссийске! Там, около моря, все такими робляться балакливыми? Стрекотить такой язычок так швыдко, шо мать и не все успевает ловить с твоего стрекоту, та ще и балакаешь не по-станишному, городских слов нахватался, як кобель блох. И я седня с тобой разбалакалась, за то мне первая плетка, щоб прикончила дурницу плести.
— Ага, мам, перестали. Я успокаиваю свои расшалившиеся нервы вашей белой горилкой. Я все сказал по первому вопросу, перехожу ко второму. Картошка жареная? Та ще с цибулькой, та ще с укропчиком? Мировое блюдо, мам!
Переменчиво семейное счастье и в доброе мирное время. А когда кругом горе войны? Какое оно, когда оккупанты шмыгают по подворьям, бьют сапогом в двери хат, стреляют на твоих глазах в ни в чем не повинного человека, отнимают нажитое и добытое трудом добро, и совладать с ними ты не можешь? Какое оно тогда, семейное или простое человеческое, счастье жить на земле? Нет его в лихую годину.
Когда два незнакомых немца прошли через калитку, Ульяна и Митя не заметили. Обедали в горнице, ставни на боковых уличных окнах были закрытыми. Летом закубанцы старались с полудня закрывать в горницах все ставни, чтоб сохранить прохладу, а эти два боковых окна Ульяна держала всегда закрытыми с начала оккупации, ей хватало света от трех окон, выходящих во двор и тем как бы замыкающих ее интерес к теперешней жизни. «Чужие» немцы обнаружились уже во дворе.
— Шо им тут надо? — заволновалась Ульяна. — Шо они на нашем подворье поклали, а теперь шукают? Щас пойду узнаю.
— Не ходили б вы, мам. С автоматами немцы, может, из тех, каких «карателями» называют и посылают партизан ловить?..
— Та прямо! Шо, я на своем подворье покару заробила? — Ульянина юбка уже моталась от быстрых шагов. — А ты, сынко, не выходи из хаты. Даже если шо случится, все равно не выходи, — сказала Ульяна с порога, и под дверным косяком мелькнула ее темная косынка.
— Свине, свине, матка, — загородил ей дорогу рыжий немец. Толстые руки были у него по локоть черными от густой волосни и сложены на автомате, висящем поперек груди. Его напарник уже стоял в раме сарайной двери и смотрел вовнутрь. Он тоже был рослым, и так же висел у него на груди автомат, кожаная опояска автоматного ремня проходила под воротом серого мундира, и так же по локоть были подвернуты у второго немца рукава, но породой от белявой немкени уродился. Все это Ульяна схватила острыми глазами в первое мгновение, едва шагнула за порог хаты во двор, и сразу же поняла, что этих двоих словами не отбить. А что ж у нее было под рукой? Какое оружие, кроме голоса и слез? Но пошла вперед, вывернулась из-под первого немецкого автомата, в темноту сарая прыгнула и столкнулась лицом к лицу со вторым немцем.
— Отдай! То не твое свине! Ты его, идолова душа, наживал? Кому кажу — отдай! — И шла, шла вперед…
Немец не ожидал такого натиска, отступал от Ульяны в глубину сарая и вполуоборот отворачивал от нее взятого на руки, как малое дитя берут, поросенка. Этот второй немец был одного возраста с Ульяной, и, если б не было при нем автомата и солдатского мундира, в чужих краях сработанных, то одолеть такого мужика нашлось бы у нее сил — она билась за свое. Немец пятился, бормотал что-то похожее на оправдание и на ответную претензию, и все не перекладывал руки на свое оружие: поросенок ему нужен был, свине, его руки слились с белой щетиной кабанчика, глаза выбеливали ресницами, в них был такой же животный испуг — большой кабан смотрел на Ульяну и уклонялся от разлуки с малым, не отнимай, матка, у меня мале свине, не отдам!.. Ульяна все ж таки дотянулась к Борьке, ее рука заскользила по щетинистому боку поросенка, но в этот момент ее схватили сзади за шею, отшвырнули к боковой стене сарая. Она даже не ойкнула и ничего другого сообразить не успела, кто ее так больно ударил, что теперь дальше делать, — она падала в какой-то глубокий колодец, цветной круг уменьшался, отлетал, исчез…
Очнулась быстро, «чужие» немцы еще гомонили где-то близко, и слышался резкий визг поросенка. Откуда-то снизу доносило поросячий шум, значит, зачем-то на землю скинули немцы с рук украденного кабанчика. «Швыдкое порося, может, вырвалось и тикает», — вяло подумала Ульяна. Почему-то не хотелось вставать с пола, куда сползла по стене, когда ее ударили. — Зачем то порося? Больше всего щемила сердце обида на того, кто ударил ее так сильно и так несправедливо. В этом мире ее бил только родной отец. Те побои давно забылись, будто и не терпела их никогда. От Матвея тоже не помнилось ничего серьезного из семейных скандалов. Случались такие, у кого без свары, тихо-мирно семья живет? То и не семья тогда, где себя никто не проявляет и от своего норова отказался. Лучший ли тот, кто подмял под себя твое? Ой, никто же не знает… Ее сегодня не просто чужой мужик ударил — то немец, вражина, бил!.. Шо им тут, на русской земле, надо? Ульяна стащила с головы черную косынку, растянула на вытянутые руки, долго смотрела на нее невидящими глазами. В дверной проем она выступила из сарая простоволосая, у висков свисали серые паутинки, и на затылке узелок волос растрепался, черная косынка из опущенной руки волочилась по земле, будто ею Ульяна проводила через подворье какую-то черту. А может, через свою жизнь ту черту вдовьим платком прочеркивала и оставила открытой голову, чтоб по-другому видеть и чувствовать мир?
2
Немцы скапливались перед входом в горы, топтались в Псекупской, как топчется воровская шайка, поджидая сигнал главаря, чтоб кинуться на разбой. В станичных подворьях всякую минуту торчала немецкая каска, а то и не одна, от гомона чужой солдатни русской речи не слышно было.
Ульяна и счет вести затруднялась, сколько же у нее сейчас в хате вражьих постойщиков: в летней половине квартировало не меньше двенадцати, в горницу восемь поселилось, в сарае даже толкалось то четверо, то шестеро. Иногда немцы только приходили ночлежниками, а днем толкалась в дверь другая партия. В такой круговерти даже варево на плите нельзя было оставлять — обязательно заглянет кто-нибудь в чугун и ложку свою складную с вилкой крутит над ним.
Пришлось Ульяне взять Митю в свою спальню и класть спать валетом. Мать и сын будто отступили в своей хате и последнюю позицию в маленькой отгородке заняли, окно спальни на глухой стене хаты выглядывало в Холодный переулок, как бойница. А крашеные под пятнистых зверей машины ползли и ползли мимо хаты по Холодному переулку и по ночам светили фарами, как глазищами кровожадных тупорылых чудовищ. Машины были крупными, таких в станице никогда не видали, их было много, казалось, что эта железная звериная сила все уже сокрушила на долгом пути от своего логова и не ослабла, а, наоборот, укрепила мощь попутной добычей, теперь ей ничего не стоит опрокинуть горные преграды и выпить после в свое железное нутро целое море. Не хотелось быть свидетелем того и ходить безоружным около жестокого зверя, готовящегося к прыжку…
С подходом крупных сил немцев обнаглели полицаи. Командовал ими одетый в офицерскую казачью форму бывший школьный учитель Якубский. До войны он ходил по станице в вышитой украинской сорочке с узким ремешком в поясе, походка была у него ровная, твердая, светлые волосы аккуратно зачесаны назад. Со станичниками Якубский тогда разговаривал вежливо, его обхождение бабы своим мужьям в пример ставили: «Наш Геннадий Никифорович всегда чистый та беленький, а с нами за ручку здоровкается, про здоровье спрашивает, про деток, около такого мужчины упасть — счастья другого не надо…» И вот теперь, когда стал предателем, да еще командовал полицаями, станичники узнали, что он был офицером в чине подхорунжего, служил при штабе Деникина.
Были слухи, что скоро на Кубань вернется и сам Деникин с казаками-эмигрантами, генерал Шкуро собирает их в казачий корпус в Югославии, перетягивая на службу немцам и военнопленных кубанцев. «Будут плетки опять гулять по красным спинам! — грозились полицаи. — Мы ще напомним про наше кубанское казачество!..»
Ульяна от таких слухов отмахивалась: «Та, брехуны, осталось их тут в станице полторы неробы, а горло взялись драть за всех казаков. Настоящие кубанские казаки щас бы сами с тех выхлюстней штаны поспускали та плеток по голому гузну добре дали б. Под Кущевкой, Матвий писал, кубанские казаки устроили немецким ворогам добру прочуханку! Ото и напомнили всем, шо казаки на Кубани не перевелись…»
Возле Остащенской криницы немцы расстреляли молодого хлопца и пожилого мужчину. Поймали их в лесу возле станицы, документов при них не оказалось — значит, партизаны. Убивали днем и могилы заставили самих вырыть себе. За Холодным ериком расстреляли четверых женщин-беженок — жен красных командиров. Полицай Щерба застрелил мужа Марии Приймак, пришедшего в станицу из окружения. Какой-то немец остановил вечером пятерых станичных подростков, шедших из полигона, куда утром их отогнали на работу: «Аусвайс?» Ни у кого пропусков не оказалось. Немец загнал хлопченят в кирпичный сарай табачного склада, и те три часа просидели там, ожидая смерти.
Митя тоже оказался среди них и пришел домой поздно. Ульяна уже и живым не чаяла увидеть сыночка, всю родню по станице обежала, всех знакомых и в хату к Дашковым наведалась — нет нигде.
На Мите лица не было, когда вернулся и сказал:
— Все, мамо, больше работать на них не пойду…
— А ты, сынок, думаешь, мне охота ходить на ихнюю работу? И налоги немецкие тоже с охотою выкладаю? То им сорок карбованцев каждый русский отдай, то молоко носи по литру в день. Та наше ж молочко они пьют наполовину разбавленным, и Мотька Полежайчиха принимает и таким и подхвалюет: «У Полукаренкив добра жирность». Нет, сынко, тут надо с умом шкоду творить. От хоть бы так для начала: ты в той комендатуре отметься утром, а пока людей всех на работу собирают, ты другой дорогой до дому вертайся. Назавтра, если не спросят, скажешь — заболел, не спросят — опять после записья тикай. Пока вот так спробуй, после и что-нибудь получше придумаем.
— Хочется придумать, мамо, такую шкоду, чтоб ни одного гада в станице не осталось и ни духом немецким не пахло, ни полицаем, — процедил Митя сквозь стиснутые зубы. Ульяна испугалась тона, каким сын свою угрозу говорил, и обхватила его за плечи, на кровать усадила:
— Ты шо, сынок? Ты то из головы выкинь, если живым хочешь переждать лихую годину. А то и самого убьют, и мать свою сгубишь. Ты думаешь, один ты тех зараз хочешь со свету посводить? Богато есть таких и в станице и подальше. Так те ж в горах ховаться умеют, та воюют не с пустыми руками. А у нас шо? Не, Митя, ты то с головы, ще тебе раз кажу, выкинь, шо ты сказал матери. И в другом месте нигде таких слов не скажи, а то и за слова щас могут такой тяганиной оплутать — кручину спознаешь, як та упряма овца, що волку в корысть. Ты слухай мать, я тебя ни в яку яму не втолкну, а, наоборот, из любой вытягну…
— Очень много, мамо, не от вас зависит, — отодвинулся от нее сын и сел подальше на кровати.
Поза спорщика у него сейчас была, характер требовал выхода из-под материнской опеки. И он заговорил резче, голос острил словами и так и сяк, будто лезвие шашки или кинжала оттачивал, — была в оружии нужда. — Значит, по-вашему, я только на мелкую шкоду гожий, та и на ту ждать должен вашего разрешения? Так, мамо?
— Ой, Митя, ты меня щас на спор не подбивай. Не подбивай, — закрыла глаза Ульяна (была у нее такая привычка выходить из спора — закроет глаза и видеть ничего не хочет: ушла по другим делам, а это ее уже больше не интересует). — Я ще от своего шуканья ни одному глазу отдыха не дала, доси выглядаю, где ж мой сыночек заплутался, а может, и живого нема, не у добрых же родичей с утра гостюет, а на немецку работу хлопца погнали.
— Пивня[9], мам, не заставишь вместо квочки над выводком квохтать — у него свои песни и свое дело…
— Та пивни ж тоже разные бывают: один шпоры для бою нагострюет, другой — щоб перед курами красивше выхажувать. А про песни так скажу: шо ни пивень — то со своим спиваньем. Ты, по-моему, сынко, за второго сойдешь. Знаю, перед кем из дивчат ты свои шпоры показать хочешь. Та и той невесте ты живой нужней.
— Под Сталинградом трудно нашим, мамо. И тут сколько вон немцев скопилось. Они ж не на черноморские курорты приехали. Говорят, через Волчьи Ворота за Безымянкой наши не пускают их на Туапсе… — Митя потер щеку, вздохнул: — Эх, лучше б меня тогда не завертали с военкомата на отгон той худобы… Был бы щас там и знал бы одно — стрелять, стрелять, стрелять!..
— Тих-хо!.. Размахався кулаками… Та пустые ж твои кулаки… А мать так и хочешь из хаты выгнать? Шо ж, я пойду…. — Ульяна встала и задержала глаза на сыне. — Проверю, не тягают корову за пустые титьки наши сарайные квартиранты? — Она вышла из спальни, оставила сына одного — лежи, мол, отдыхай, набирайся сил, завтрашний день неизвестно как переживать придется…
Штурмовая группировка немцев отхлынула из Псекупской в один день. Господи, сколько ж наших людей побьют, крестилась Ульяна, вслушиваясь в рев моторов за глухой стеной хаты и не выглядывала в окно на Холодный переулок, будто вместе с хатой своей немецкому нашествию спину показывала: не повернусь до вас, вороги, не хочу об ваши поганы морды свои очи марать! А когда стихло за окном и хата без вражьих постойщиков опять стала просторнее, вышла в горницу — на горы смотреть: там наши, оттуда придут опять. Они ж тоже собирали силу и на своих горах лучшие места позанимали для боя. Когда немцы кучей в те Волчьи Ворота полезут, их и бить удобнее, каждая пуля найдет ворога.
Стояла Ульяна у окна, до рези глазной всматривалась в горы, чтоб укрепиться душой и сыну сказать: «Видела, своими очами видела: стреляют наши немцев, як ты, сынко, хотел. Богато уже пострелянных…» Ей казалось, что так все и вершится на самом деле, и до той горной теснины от станицы рукой подать, если завтра захочет, сможет и сбегать туда пешком, как бегала к сыну, когда надумывала повидать: оклунок на плечи, ноги в подхват — и спешит-поспешает, верный путь правит: не к сыну — к продолжению жизни. А ну, что там-впереди — дайте самой досмотреть.
Теперь красноармейцы воюют лучше и уже больше месяца отбивают нашествие немецких ворогов, по крестам на немецком кладбище видно — добре отбивают. Говорят, в горах дуже земля крепкая, ни лопата, ни кайло не берут, немцы и ленятся долбать там могилы для своих пострелянных вояк, а через ихнее ледарство русские люди правду узнают про войну, никакою брехнею про взятый Сталинград ту правду не замазать. Вон они, свежие кресты немецкие, торчат над косогором, и каждому все ясно.
Ульяна будто наговор творила и каждым своим словом хотела уберечь всех до одного красноармейцев, желала им победы в смертном бою и возвратной дороги домой, тогда и ее жизнь, и вся жизнь на русской земле вернется в прежнее русло, трудная жизнь, но своя, самими установленная и самими поправляемая, жизнь без вражьей орды на станичных улицах и в хатах. И будет в той жизни живым ее сынок, жизнь продолжит в детях и внуках — с крепкого казачьего корня пошли, не остановить, не сгубить всех…
Правду ведь высмотрела Ульяна из окон своей хаты. Назавтра, и на третий день, и почти каждый последующий до конца сентября немцы хлопотали с расширением своего кладбища в Псекупской, возили трупы убитых в горах штурмовиков в таком количестве, что не успевали делать для них гробы, хотя заготавливали их всегда заранее и снабжали тыловики окопников ими по какой-то обязательной норме.
Гробовщики как раз обосновались по соседству с Ульяниным подворьем, возле хаты Груни Чеснычихи складывали штабеля смертных ящиков и крестов, так что Ульяне было отлично видно, как много у них появилось работы после штурма Волчьих Ворот.
Однажды она стояла во дворе, наблюдая за хлопотами немецкой похоронной команды в соседкином дворе. Окликнула проходящего мимо Людвига, кивнула в ту сторону:
— Шо, отвоевались там в горах? Вышло як у того волка, шо пийшов на овчарню овцу резать, та самого собаки зъилы? Э-э-э… — протянула медленно Ульяна и по-индюшачьи издала клекот: — Штурлюх-штурлюх-штурлюх…
Лысый пятнами красными залился:
— Швайне!..
Хорошо умела бегать в нужную минуту Ульяна — успела заскочить в сенцы своей хаты, дверной засов крепкий был. Сквиталась с Лысым за старую обиду.
Так бы и с другими, а может, и похлеще стебануть всех остальных немцев, каждому свое, кто что заслужил.
3
Немецкие горные штурмовики объели станичников, как объедает хлебное поле саранча на своем опустошительном перелете. Год и без того неурожайным выпал из-за бездожживья, картошка совсем мелкой уродилась, как горох, и ту, шныряя по подворьям, чужая солдатня находила и поедала. Ульяну тоже такая беда не минула.
К началу октября совсем на выскребе оказался ее зимний припас, а ей же и сыночка кормить надо, да обстирывать, да одеждой теплой обеспечивать, все привыкла Ульяна делать сама. Не теперь, в октябре, спохватилась, что схудливый ее нынешний припас на зиму, и в августе пробовала кое-что добывать на стороне, на ниву военного подсобного хозяйства за Псекупс хаживала, чтоб кукурузных качанов подналомать, подсолнечных шляпок с семечками нарезать, картошки подкопать. Все добро там было тогда бросовым, и ее удивила соседка Дуська Удовенчиха, когда однажды сказала:
— Ты, Кононовна, почему ходишь по колхозной ниве?
— По колхозной? То ж военные ниву бросили на Зиньковских садах. А от колхоза «Восьмое марта» та земля давно отрезанная.
— Была отрезанная, а при германских властях опять стала колхозной. У меня целый список таких, как ты, шо в колхозе не роблят, а по колхозным нивам шастают. Будете помнить до новых веников, як в комендатуру потягнут!
Как тут не отступишься? Правда, табачные листья Ульяна не раз наталкивала за кофту и выносила из табачной сушилки, так та ж рядом с ее хатой, всех знала, кто в колхозном табачном звене работал, риска никакого не было, и табачок — товар очень удобный. А все равно промышлять в своей станице теперь опасно, иди, мать, в другие станицы к добрым людям, куда не долетала таким скопом серая немецкая саранча, и там как-то покрутись, где за гроши, может быть, купишь снеди, а где и схристарадничаешь, от хороших людей кусочек хлебца добудешь.
В задумке у нее был один адрес, где можно достать зерна совсем малой платой: Тимофея Лабунина имела в виду, который жил на колхозном бригадном стане в степи среди хлебных амбаров и конюшен.
В общем, потянуло Ульяну в гости к сестриным деткам, бывшему зятю и его новой жене. Есть теперь такая женщина — Елька Алехова, на пятнадцать лет младше Тимка, белявая и кругливая телом, до песен, как и Орька-покойница, охочая, вместе кухарили в бригаде и песни спевали, а теперь взял ее с малым дитем Тимко до кучи своей детворы, трое хлопченят у них сейчас, с маленьким Минькой было бы четверо, но пропал, бедненький, без материнского грудного молока, нет уже на свете живого. Все это описал Ульяне в письме Тимко. Весной его вернули с трудового фронта в семью, признали по болезни глаз негодным к службе в действующей армии.
То письмо она получила в июле, оно было последним перед оккупацией, а как сейчас живет Тимко с семьей и где, Ульяна точно не знала и потому решила сначала к Насте в Пашковке зайти, разведать, что и как. Митю одного в хате оставить можно, в станице жизнь вошла в тихое тяжелое русло, во всяком случае, станичники притерпелись, в лицо врага заглянули — вот ты, немец, какой, теперь я тебя знаю…
Совсем было Ульяна собралась в путь неблизкий, осталось поговорить с Митей, наказы сыну сделать, как за хатой должен следить и за коровой, куриц всего три штуки осталось, их бы тоже до весны додержать надо, новым цыплятам мамками-квочками станут. Как он сказал тогда? «Не заставишь пивня вместо квочки над выводком квохтать…» И про свои песни добавил. То ж он хотел доказать матери, какой уже взрослый стал, и поспорить — мол, умею и шкоду немцам сотворить большую. Не так это просто, если на жизнь вперед смотреть. А если не жить, то и думать много не надо — протопила в хатыне печь для постойщиков и вьюшечку раненько хлоп, прикрыла. Утром всех постойщиков выноси с коек ногами вперед — спеклись невидимым угарным дымком. И Лысый, и все другие, и Ральф. Нет, этого жалко. Тоже немец, а все ж таки… Как же убить Ральфа, если никакого зла в ее хате он не сотворил и на подворье не раз ей помог и кому-нибудь на улице… Не слышала от людей, но характер же добрый. «Камрад, камрад» — всегда на Митю, то ж не ругня, как у того Людвига «швайне» — свиняче…
Вот и разделила немцев на добрых и злых Ульяна, ушла в сторону от главного зла. А ведь подступалась уже к нему близко не раз, особенно там, в сарае, где ее волосатый немец больно ударил. Вот оно, сердце бабье, отходчивое. Не для злобы оно сотворено на земле и к добру возвращается опять и опять, как намагниченное в одну сторону. Может на какой-то момент лихо отклонить или сломать, но держаться своею охотою к злобе сердце женское не будет, нет, если оно познало материнство…
Вечером она, как бы невзначай разломив кукурузный пляцик, стала собирать просыпавшиеся на стол крошки и, откусывая дальше, ворчала, какая, мол, пышка крохливая, то ли дело хлебец пшеничный, да еще свежей выпечки, и добавляла другие подробности в этом роде (у коровы сухостойный запуск начинается, без молока скоро останемся), чем раздразнила-таки сына, и он сказал, что многие русские люди сейчас пышных караваев не пекут и не кусают от них ни крошки, молоко тоже редко пьют. Втянуть втянула сына в разговор, а он опять спором оборачивался и на такое Ульяну вывел, чего она никак не ожидала и после каялась не раз: сама, сама своими руками все сделала! Та где ж был мой разум? Та как же сердце свое не услыхала — не могло оно не стукнуть один раз посильней; точки не поставить в том споре…
— Я до Лабуниных хочу сходить, может, помогут зерна достать, — сказала Ульяна, уйдя в спальню. И Митя туда же вошел. — Настя Лабунчиха добрый оклуночек от Тимка из Платнировки принесла в Пашковку летом. Может, и наш латками дырки позатулювать та и проверить, шоб гожий был на такую ж, а то и потяжелийшу вагу?[10] Как ты думаешь, сынко, дотягнет твоя мать мешок с зернем до хаты? Или по соседям начнем пуховые подушки разносить и по пол-литровой баночке кукурузку соберем, спечем с десяток пляциков и опять зубы на полку? Топором та молотком ты щас не заработаешь, как летом мог бы. Надо идти до Платнировки, а там на Сергиевку дорога с Ростовского профиля…
— Далековато, мам, если учесть, что осень, дожди на дороге застанут, полицаи будут говорить: «Тяжелый оклунок у вас тетя, давайте облегчаем, чтоб удобней нести через плечо…» Скажете, привычно для вас — пешком в гости за сто двадцать километров до родичей? До меня, мам, вы и за двести ходили.
— А может, то не самое лучше, шо ты кажешь? Слушаю тебя, сынко, и думаю: теперь осталось нам обоим сидеть в хате и труситься. Так тут с голоду и помрем, бо, кроме коровы та тех трех курей, нам исты нема чо-го. Картошку на посаду ще можно поисты…
— Зачем труситься обоим? Я могу до тетки Наты сходить. И до дядьки Тимка… — Митя говорил о своем уходе, как о чем-то уже решенном для самого себя, а, сказав, теперь ждал, что думает об этом мать. Ульяна молчала. Ей захотелось закрыть глаза, и все — нет ее, она вышла. Не тот был случай, и она сказала:
— Один раз ты, Митя, уже уходил из станицы заместо мамки. Так тогда рядом с тобою свои хлопцы были та дивчата и подвода… — Видя, что Митя собирается заспорить, она поправилась на ходу: — Ну, назовем ту подводу дедовой или казенной, шо от того изменится?
— А то, мамо, изменится — я ругаться начну, и крепко. Зачем вы ту подводу мне в очи? Я что-нибудь плохое сделал тогда? Не ожидал я от вас, мамо…
Ульяна продолжала гнуть свое, запретила сыну идти за пропуском в немецкую комендатуру, а назавтра сама пошла к квартальному полицаю Воловику домой.
С Воловиком связывало Ульяну давнее знакомство. А точнее, завязал его первым Матвей еще в двадцатом году. В то время банд разных названий в закубанских лесах скрывалось множество. Некоторые лесные отряды помогли Красной Армии добить остатки войск белоказачьей Кубанской рады — перекрыли вход в горы возле Псекупской станицы, не пустили на Туапсе.
Матвей Полукаренко служил в Краснодаре и однажды приехал оттуда, рассказал, что там сдавшимся добровольно с оружием бандитам сохраняют жизнь и дают специальный мандат о помиловании, есть, мол, верная гарантия от расстрела. Слухи об этом донесли верные люди до леса. Остатки банды ушли хлопотать об амнистии в Краснодар и вернулись в станицу живыми все, кто там сдался. После Лидка Воловичка, жена Филипка, и он сам не раз при встрече говорили Матвею и Ульяне: «Ой и спасибо ж, шо вытягнули в двадцатом году из лесу живым. Того мы до скончания веку не забудем…»
И вот началась новая война, и опять в станице смута, вспомнились старые раздоры, но теперь враги трудовой власти перекидывались на службу к чужеземной орде, пробовали устанавливать чужие порядки, говорить со станичниками стали языком немецких приказов и предписаний. На холуйскую службу нанялись и в себе последнее человечье потеряли.
«Надо было расстрелять Филипка Воловика в двадцатом году как бандита, — думала Ульяна, подходя к его подворью, — не выкобенивался бы теперь с немецкой винтовкой и на поклон к такому выхлюстню люди не ходили б».
Огромный черный пес из породы волкодавов бегал на цепи перед калиткой по натянутой проволоке. До войны Филипко Воловик был сторожем на колхозной овчарне, оттуда и приволочил волкодава на охрану своего подворья. «От идолова душа, и тут поживился казенным кобелем», — чертыхнулась Ульяна. Пес прыгнул на штакетник калитки и злобно ощерился. Воловик выглянул в исподней рубахе, увел минут через десять волкодава в сарай.
— Прийшла по делу или так, в гости? — полицаи плотоядно ощерил щучий рот и застыл в такой позе. Было ему лет сорок пять, но седые спутанные волосы под кубанкой и квелые мешки у глаз старили его лет на десять. Он стоял по другую сторону калитки — короткий кожух накинут внапашку на исподнюю рубаху, синие галифе, глубокие галоши.
— В город съездить до родичей треба. — Ульяна переступила с ноги на ногу, но Воловик продолжал молчать, и тогда она сказала: — Ты же утра очи залил. Не пособишь?..
— А вас, Полукаренкив, немцы знают як лодырей. Сколько у вас с сыном выходов на работу? Меньше всех с улицы. Так не сдумай бегать. — Полицай вытащил руки из-за спины, протянул вперед, будто собрался сбросить кожух и обнять гостью. Повис на штакетнике калитки, дыхнул самогонным перегаром: — Принесла шо-нибудь?
— Хоть бы и принесла, так ты ж лодырями обзываешь — то кому понравится? — Ульяна отвернулась, избегая запаха от пьяного полицая.
Воловик приосанился, потом вдруг предложил:
— Пойдем, Ульяша, в хату, Лидка к родичам ще с вечера ушла.
— И не выдумуй! — Ульяна попятилась от калитки, плюнула несколько раз и пошла прочь. — От выхлюстень!.. От идиот… Як наче я шалава… Тьфу на тебя, ирода!..
4
Сборы в Пашковку Ульяна отложила до удобного случая. А пока другую работу на ум взяла: топку на зиму давно пора заготавливать по-настоящему. В доброе мирное время проще простого привезти из лесу воз-другой дров. Выпиши в станичном лесничестве квитанцию на порубку, узнай, где можно рубить, и поезжай поработать на самого себя, и лесоочистку заодно сделаешь на общую пользу. А то и с бечевкой сходи пешком за станицу и вязаночку хвороста насобирай — никто не запретит. Есть и другой очень хороший способ заготовки дармового топлива: заплаву в Псекупсе ловить. По осени, когда в горах идут часто дожди, смирный и тихий летний Псекупс круто меняет норов и таким полноводьем расплескивается — не узнать. Полянский брод на перекате уходит глубоко под воду, два рукава, подтекающие сюда, раздуваются и заливают остров, он скрывается, напоминает о себе только редкими верхушками верб и ольхи. А дальше, на пути к центру станицы, взыгравшая горная речка еще выше вспучивается, топит высокие ущелистые берега, перехлестывает через мост, заливает приречные подворья. Это уже наводнение, стихийное бедствие для тех, кто построил у речки хаты, соблазнился удобством жить в самом центре станицы, а в такие моменты у этих станичников одно на уме: спасай домашний скарб, сгоняй с подворья всю худобу и домашнюю птицу, а пуще всего не спускай глаз с малой детворы, не так уж редки бывали случаи, когда дети бесследно исчезали в водах бурливого Псекупса.
В эту осень дожди задержались до середины октября, раньше похолодали ночи, и станичные старики определили по приметам, что быть зиме морозной, надо крепко подумать о топливе. А одними думами хаты не протопишь. Из всех вариантов остался один: лови заплаву. Все другие отменили немцы — закрыли запретами от станичников лес, утыкав все подходы к нему табличками с грозными окриками.
Для ловли заплавы нужен не просто глубокий Псекупс — такой, кроме годной для питья воды, ничего мимо станицы не пронесет. Другое дело — взыгравшая речка: вода в ней мутная, крученая, злая и походя рвет берега, под кручами хватается за корни огромных белолистных тополей и дубов, стаскивает кусты боярышника и бузины, роняет столбы с телефонными и электрическими проводами — все попутное деревянное плывет с гор вниз вместе с потоком буйной воды. Тогда наступает самый удобный момент хватать из Псекупса дармовую топку. Чуть ли не вся станица выходит ловить заплаву. У каждого ловца в руках веревка с острокрючковой железной «кошкой». Увидел плывущий мимо карч — кидай в него «кошку», каким-нибудь из трех крючков да зацепишь и тогда скорее тяни веревкой добычу, пока ее не накрыло плывущее следом дерево с ветками и листьями, где запутается веревка, и не отпустит ее никакая твоя сила, значит, не поймал в речке дармовое добро, а потерял свое, остался без «кошки» и без дров. Никто не даст свою «кошку» другому — не принято, у каждого должна быть своя, у многих к тому же была «заговоренная» на удачу. Нет, не проси, не сбивай наговора, оставайся без заплавной топки, но будь добрым сусидом, а то незалюблю, и надолго ж…
Ульяна всю жизнь прожила у берега Псекупса. Ей ли, с ее характером и непрочным семейным достатком, стоять в стороне от такого удалого занятия, как ловля заплавы? Труситесь другие дивчата и бабы, а Ульяшку Глущенчиху не удержишь пустой на берегу бурливого Псекупса! Она уже сама изготовилась, как кошка, и веревки моток у нее на одной руке, в другой когтистые прутья железные, цепким взглядом мутную воду цедит, цедит, и вдруг — прыжок на месте, и «кошка» взлетела над крученым быстрым потоком, цап, схватила добычу гнутой лапой!
От малых лет каждую осень и весну выходила Ульяна к Псекупсу с «кошкой» в руках и добывала в речке топливо, считала себя в таком деле удачливой. Однажды такой карч привернула к берегу — дров с него хватило на целую зиму. Долго ту удачу помнила и знакомым часто рассказывала, как увидела, как точно «кошкой» в него кинула еще на подходе, еще когда течением огромнущий карч водой к ней подносило, выбрала удобное место на берегу и к вербе конец веревки привязала, а то не взяла б такую добычу, не осилила без хитрости.
Мост через Псекупс, взорванный нашими минерами в момент отступления в горы, немцы пока не могли восстановить и гнали всю свою технику в объезд сюда, к Полянскому броду, мимо Ульяниной хаты. Ох и надоел же ей рык ненавистных чужих моторов под спальным окном, хоть саманом закладывай светлое стекло и оставайся в потемках, если и на саму жизнь затмение нашло. И потому осенних ливней ждала, как спасения сразу от двух зол — холода и немцев. Не проедут немецкие машины в горы через ливневое ненастье, а тут Псекупс начнет топить у Полянского брода немецкое железо, появится запруда, где дровяную заплаву легче ловить.
Ждала такого момента и причиной заплаву держала, чтоб не пускать сына в Пашковку. Заготовим, мол, вместе топку, тогда посмотрим, может, что изменится к лучшему, может, и наши скоро вернутся. «Силы ж мои уже не те, сынок, глазами прислабла, точно и «кошки» теперь не кину в речку, та и на крепку потяжку веревки не гожа, так шо пособи матери с заплавою, а там посмотрим, посмотрим…»
С пропитаньем становилось все хуже. Впору было позавидовать корове Вербе: в сухостое безмолочном перед отелом, а корм получает, позаботилась о ней хозяйка летом, накосила и навозила сенца и сейчас скармливает потихоньку копицу за копицей, несколько их за сараем, должно хватить коровьего корма до первых выпасов, до молодой травки, да неприкосновенный запасец сарайной покровлей лежит; жуй, жуй свою жвачку, безмолочница, выручишь и ты хозяйку, придет такое времечко. А пока перебивались мать и сын кое-как.
Ульяна старалась каждую малость снеди сыну подкладывать и однажды рискнула — на попутной немецкой машине (шофер был русский, работавший у немцев по добровольному найму) она проскочила с двумя пуховыми подушками до Прицепиловки, там променяла на десять пол-литровых баночек кукурузной муки. Пряталась в кузове хорошо между штабельками колотых дров, да еще брезент сверху шофер на дрова накинул, никто ее в той машине не видел из станичных людей, назад перед самым смерком вернулась, когда еще мало придираются выставленные на край станицы немецкие патрули. Вечером сидела опять в хате своей живая, сына видела, а себя считала сотворившей против немцев мелкую шкоду.
— Куда, мам, подушки отнесли? — спросил Митя. Она еще не показывала сыну муку, хотела попозже слепить из нее пляцики, когда немцы уже не входят в хаты со всякими проверками. Как гостинец нежданный, пусть скушает Митя сегодняшний свежий пляцик из кукурузки. Надо что-то сказать о подушках такое, чтоб меньше его волновать: ничего не знает про мамкину отлучку (в центр станицы ушел, когда ей попутка подвернулась), и хорошо, пусть это останется ее маленькой тайной. Ответила с легкостью, будто пух подушечный на ветер выпускала, — улетал, не собрать, как осеннюю паутину.
— Та отнесла людям, не спать же нам голодными. Нехай, и без них осталось шо под голову класть. Вместо перья десять баночок кукурузной мукички в наволочке принесла. Не хуже для нас такая набивка под щеку?
— Нема рыбы — буду ловить раков. Так у нас получается, мамо?
— Ну, таких желтеньких ще можно половить, — Ульяна потрясла перед глазами сына кукурузную муку. — А вот зелененьких, як лягуны, не пришлося бы…
— Та я такой, шо лучше б щас сереньких та беленьких наловил в пашковском Карасуне и в платнировских Кирпилях…
Какое-то время мать и сын молчали. Игра слов приостановилась, будто оба сейчас действительно ловили раков, запустив руки в воду, и туда, на глубину, сосредоточили все свое внимание. Наконец Ульяна сказала:
— Нет, сынко, в тех речках щас вода дуже мутная, ни рыбы, ни раков там нельзя ловить, давай лучше в своем Псекупсе на заплаве счастье пытать. Без такой рыбалки нам никак не обойтись.
— По Псекупсу плывет кое-что похуже лягунов… Не дай бог зацепишь «кошкой» — так и кинешь сразу бечевку: не надо мне такого карча, шо в немецких сапогах…
Ульяну подкинуло на табуретке, она закрестилась на икону. Потом как-то боком, боком обошла стол, за которым они с Митей сидели, разговаривая, лицом к лицу приблизилась к сыну:
— То ты брешешь!.. То ты нарошно, Митя!.. Надумал так от заплавы тикать? Знаешь, я мертвяков боюсь, и кажешь нарошно про немецкие сапоги в речке?.. Ну скажи матери правду: сам своими очами хотя одного немца раздутого в том Псекупсе видел? Когда?.. — Она тратила много слов на свои вопросы, потому что сказанное сыном рушило все ее планы, сбивало с работы, на какую она себя уже хорошо настроила и какую без Митиной помощи ей не сделать.
— Плывут — точно. Я не брешу, мам. Уже несколько немцы сами выловили. А теперь, люди говорят, немцы на речку будут наших станичников гонять, как на принудиловку…
— Та я ж после такого и близко до речки не подойду… До Тайкиной криницы буду бегать с коромыслом. Нехай далеко, а из той погани и для худобы ведра не зачерпну… Ой, сынко, дожили ж мы с тобою… — Ульяна закачалась, поднесла к глазам передник. — Спокон веку тут люди жи-и-или… Всю жизню с той речки бра-а-али-и-и…
— Речка, мамо, очистится… Пойдут в горах дожди, и очистится Псекупс, когда воды будет много. Через камни и песок проливается там, — пробовал сын обнадежить мать, очень уж она горевала. Ульяна вытянула к сыну длинную шею, клюющими жестами задергала крепким горбатым носом и слова произносила быстро:
— Шо ж те немцы — последние постреляны? Другие нехай, по-твоему, живыми остаются? Будут их наши со свету сводить, увидишь — будут!.. Они ж нам, сынко, всю жизню потравили, та и не нам одним…
Поговорили и опять ни до чего не договорились. Еще один день войны миновал. Рисковато прожит, со следами, но под своим кровом и закончился стряпней кукурузного хлеба.
И подступили холодные дни, выгнали Ульяну за порог своей хаты на отхожий промысел по окрестным станицам. Не одна ходила, с попутчицами, такими же горемычными бабами. Стиркой или иной поденщиной у немцев не могла себя и сына прокормить. У своих русских людей выменивала еду Ульяна и потому гордость свою ущемляла не очень — было уже такое прежде в гражданскую, в голодные тридцатые годы. Первый выход на этот раз сделала к Алексеевскому хутору возле Пашковской станицы. Там была Черномория, зерно добывалось легче и людей не так объели немцы, как в Псекупской.
От двора к двору ходила вместе с молодицами Дашкой Николаевой и Елькой Мерченковой: «Возьмите белую кофточку. Ношена мало, оборочки та строчечки в подгрудях, смотрите, яки ладненьки… А может, табачку надо? Есть табачок, крепкий та пахучий…» Побывала Ульяна и на зятьевом родовом подворье, но Настю Лабунину не застала дома, двоюродная сестра рассказала ей, что Настя ушла к брату в Платнировку, значит, и еще раз соберется без лишних уговоров.
Переночевали у Марфы Лабуниной и пошли по пашковским улицам дальше: «Вот кофточка… Есть табачок…» Кофточку Ульяна отдала за пятнадцать блюдечек кукурузы, и табак разошелся. На четвертый день вернулась в Псекупскую и занесла в свою хату полтора ведра желтого крупного зерна: «Ну вот, сынко, мы с хлебушком опять и куриц подкормим…» Но быстро разошлась добытая обменом кукуруза — опять иди, мать, за подворье, ищи себе и сыну пропитанья.
Менять больше из мелких вещей было нечего. Митя снял с себя майку:
— Несите, мамо, может, хоть два блюдечка кукурузки дадут…
И взяла, и понесла в кошелке со двора сыново исподнее белье.
Теперь на Суздальскую станицу путь держала, по знакомым местам шла, где на быках летом ездила. С ней пошли Верка Устинчиха и Галька Бельченчиха. Суздальцы установили другие мерки и запросы — тем тряпки не нужны, им деньги подавай, в торговом ходу у них был только русский рубль, а немецкие марки и не показывай, не пользовались временными, чужими деньгами, вперед смотрели — на послевоенную торговлю.
В Суздальской Ульяна купила кукурузное зерно по полтора рубля за пол-литровую банку — цена в самый раз по бесхлебному времени. Истратилась до копейки, зато и тяжелую вагу до дому волочила, какой и не унести на бабьей отощавшей за войну спине, тут попутные колеса только довезут. Хотя тишком, с перекладом назад добиралась, а все добытое сохранила, на свое подворье доставила, с трудом не посчиталась.
Когда отхожие хлопоты закончила и взялась за домашние дела, к ней подошел в сарае Ральф.
— Мамка, комрад ком комендатур: «Партизан, партизан — матка… Ком партизан…»
Опять Людвиг ей пакостил. Ах ты, хабарник лысый!.. По-твоему, мы в лес к партизанам ходили?.. Ты чужими руками со мною покару не сотворишь!.. Я ж тебе, поганцу, докажу!.. Ты надо мною рыготать не будешь в той комендатуре…
Ульяна и минуты не задержалась в сарае, побежала к Верке Устинчихе — сейчас у нее будет в руках доказательство, сейчас… Ух и надает она Лысому по мусалам «асвасом»… Ух и надает, шоб знал, шо не на такую русскую бабу напал… Я ж тебе, лысый вражина, докажу… Выходит, рано успокоилась, зря отдала Верке свой пропуск на выход за станицу: ты, мол, ближе к комендатуре живешь — сдай и наши с Галькой пропуска заодно со своим…
В хату Устинчихи вбежала, запыхавшись, будто заскочила сюда от погони:
— Вера, ты не отнесла наши с Галькой пропуска в комендатуру?
— Не. Хотела дивчину послать, а сама отдыхиуть упала на койку, бо захеканная ж с чувалом до хаты прийшла… — Устинчиха и правда выглядела неважно — глаза провалились, померкли и не смотрели на гостью, взгляд уходил к потолку хаты, туда же и голос следовал. Подломилась Верка в промысле и заботе о своей голодной детворе, лежала как больная. Тем бойчее казалась гостья и крепче ее слова, будто не за одну себя отбивалась Ульяна от немцев.
— Отдай, Вера, мне обое пропуска, а то найшовся уже немыц, той Лысый, шо самый вредный с моих постойщиков, и хочет на нас доказать в комендатуру, шо в лес к партизанам мы хо́дили… Я ту немецку брехню за ветром пустю!.. За то, шо они у нас творят, последние наши харчи посжирали, и мы теперь ходим христарадничать… Та за то нам давно пора всем в красные партизаны перейти, а не сидеть по своим хатам. От тогда они б с голоду посдыхали, все лысые та волосатые обезьяны немецкие! Мне сынок правильно читал, шо немцы лезли на Кавказ с мешками для добычи…
Давно Ульяна так не кричала в чужой хате, а сегодня разошлась, пользуясь тем, что Устинчиха жила без немецких постойщиков — никто в ее старой и маленькой саманной хижине не рисковал жить в квартирантах. Трое детишек к тому же было у хозяйки, сейчас все они бегали на вольном воздухе. Смолчала Верка, так и оставалась лежать на койке, не поддержала рискованный разговор, и Ульяна заторопилась назад в свою хату, где намеревалась навести не меньший шум, чем у соседки.
Немца Людвига она застала в хатыне и сразу с ходу набежала на него:
— Шо, крест хочешь заробить брехнею? До яких таких партизан мы, по-твоему, ходили? А вот до каких — по пропускам вашим немецким! «Асвас» кто нам давал, как не ваша комендатура? Пойдем вместе до вашего начальника и я ему расскажу, как я ходила: «Эссэ-эссэ дайте, добры люди» — и как ты на меня брешешь та штурлюхаешь!.. Вот тебе два «асваса». И третий принесу, понял? Э-э-э…
Кроме Людвига в хатыне было еще три постойщика, поэтому он не кинулся на хозяйку хаты, ограничился тем, что забормотал обескураженно:
— Партизан — никс, никс… Аусвайс, аусвайс, матка…
— Ото ж…
И все четверо немцев загомонили: «Аусвайс, матка. Гут, гут…»
5
Митя стал по вечерам уходить из хаты, и случалось, не возвращался до утра. А в конце октября затеял вечеринку. Собрал хлопцев, девчат, кто-то принес патефон, Иван Конюк пришел с гармонью, и шумное молодое веселье плеснулось огнем в стенах Ульяниной хаты, того и гляди, прорвется сквозь закрытые ставни, сквозь осеннюю тьму и скрытную затишь немотной жизни, в какую повергли теперь станицу немецкие порядки. Звучали довоенные новые песни, и русской пляской вызвенивалась гармонь. Потом до тех газет, что Митя привез летом из Новороссийска, дело дошло.
— «Русские березы и украинские вишенники шелестят ветвями: «Мы не хотим зеленеть для насильников», — читал Митя.
И молодые гости подхватили:
— И мы не хотим!
Куда-то далеко за горы отодвинулся от станицы фронт, не слышалось теперь с той стороны никакой стрельбы, и Сталинград, немцы хвалились, уже был разрушен дотла. Притихните ж и вы, хлопченята, перегодьте, надо ж выдюжить, чтоб на всю войну терпения хватило. Так думала в эти дни Ульяна и сына пыталась выводить из-под опасности, тем и жила. С вечеринки она несколько раз выбегала во двор, караулила: не дай бог подслушивает кто-нибудь под ставнями.
Да сыну мало показалось того, что мать весь вечер и ночь промучилась страхом, — листки со статьями Ильи Эренбурга появились утром на заборах. Полицаи забегали по станице, грозились дать плеток тем, кто раскидал «жидовские грамотки». А Митя делал вид, что он тут ни при чем, и, когда Ульяна вечером намерилась не выпустить его из хаты, сказал обидчиво:
— Не застуйте, мамо. Хватит вокруг меня квочкой ходить. Я уже вырос. Не цыпля.
— Не, Митя. Я ще покажу тебе отцовского ремнюки… — Она загораживала дверь, держа руки на бедрах, локти были вскинуты вверх, как приподнятые крылья. На индюшку сейчас смахивала Ульяна и в сторону сына кидала торопливые слова: — За яким чертом те газеты из чемойдана доставал та по станице раскидувал с детворою?.. За то ж немцы расстреляют!.. Без вас есть кому воювать. Щас же скидай шапку! Никуда с хаты не пойдешь!..
— Годи, мамо, а то немцы на ваш крик, наполохнут. — Митя попятился до двери, присел на табуретку у стола, сбросил шапку. — Пора уже отвыкать от дурной моды… — Насупился, потер ладонью щеки и закурил.
— Меня и такую добры люди привечают, никто не обзывал, як ты, родный сын, седня… — Ульяна убрала руки с бедер, обхватила ладонями плечи и сразу слабее стала видом и старее, голос усталой обидой вытягивала к сыну: — А то, шо мать по ночам не спит, стадует, где ты блукаешь, то уже для тебя ничого? Нехай она жива в гроб ляжет, абы тебе не мешала блукать? Э-э-э… Так ото не думай, що ты вырос, як бугай, для того, шоб мать не слухать. Я ще с тобою справлюсь, пока ты в материной хате… Ще не так а материна мода подла, як кажешь ты, задирикуватый пивень…
Долго спорили, и все ж таки принял ее думки сын, сказал:
— Некому нас, мамо, сгуртовать, прикончим творить мелкую шкоду…
Печь еще топилась, Митя покидал в огонь оставшиеся в чемодане газеты, истолок кочережкой пепел: успокойтесь, мол, мамо, все доказательства против меня сгорели..
А рано утром явился в хату незваный гость — полицай Воловик. Ульяна не успела под коровой в сарае прибрать, замешкалась. Пойло для коровы грелось на плите в горнице.
— Собирайся! — приказал Мите полицай, никак не назвав, ни по имени, ни по фамилии, будто незнакомого арестовывал. Митя опустил босые ноги с койки:
— Дядя Филипп, за что?
— Цыть! Тебя не спрашують!
— Мамо!..
Ульяна стояла посредине горницы, теребила беспокойными руками пуговицы на стеганой безрукавке, белый платок охватывал голову и был подвязан, как у сестер больничных палат.
— Зато я спрашую: чого тоби в моей хате надо? Чого ты тут на мою дытыну винтовкою клацаешь? — Ульяна опустила руки вниз и шла на полицая, широко развернув пальцы в ладонях, — опасная была поза. Полицай забеспокоился, винтовку дулом к ней повернул, но руки держал-высоко от курка:
— Щас стрельну!.. Не подходь!..
— Стреляв заиц охотника… А ну — геть с моей хаты! Ах ты, выхлюст падлючий!.. Ты еще и на меня винтовкою клацать? Та в моей хате мою дытыну лаять?.. Щас же с моих очей за порог!..
Ульяна так громко кричала, что на ее крик вбежали в горницу немцы-постойщики. Ей только этого и надо было — подмогу вызвать. Увидев штатского с винтовкой в руках, немцы приняли Воловика за партизана или грабителя. Он не успел ничего предпринять, как его разоружили и крепко завернули руки назад.
— Партизанен? — громче всех кричал Людвиг, поднося полицаю большой, заросший рыжей шерстью кулак под нос. — Партизанен?..
А Ральф уже стоял возле Ульяны и осматривал ее всю, нет ли на ней каких-нибудь следов насилия.
— Мамка, никс? — показывал он знаками, не бил ли ее этот ворвавшийся на половину хозяйки чужой человек. Воловик тем временем извивался как уж и растягивал злобой свой большой рот:
— Та пустить же!.. Шо вы руки ломаете?.. От мать вашу в три господа!.. Я ж свой!.. Ах, расстуды ж вашу… В комендатуре ж вам… А вас… вас… — задыхался полицай злобой на мать и сына. — Вас обоих… И хату спалим…
— Я, я… комендатур, — поддакивал Людвиг и связывал Воловику руки солдатским брючным ремнем — ловко это делал, опытный был вязальщик.
Когда полицая вывели во двор, Ральф кивнул Ульяне: иди, мол, с нами как жертва разбойного нападения.
— Разбирайтесь вы, немцы, с ним сами, — отмахнулась она. — Никуда я из своей хаты не пойду…
Ральф и Людвиг увели полицая, остальные трое немцев остались и еще какое-то время топтались в горнице, гомоня между собой по-своему, и, взглядывая на хозяйку, сочувственно кивали: все, мол, обошлось, мамка, мы подоспели вовремя. Мотались бы и вы следом, думала Ульяна, прикидывая, сколько времени у нее остается, пока в комендатуре Воловик поднимет сполох. Мало ей тех минут, и она подняла руку, посигналила немцам: идите на свою половину, идите. Немцы вышли, оставив ее с сыном наедине.
Митя сидел на койке и молчал.
«Сыночко, родной, спроси шо-нибудь!.. Говори… Может, последние твои слова услышу…»
Ульяна тянулась к сыну, хватала сына глазами, как голодная, как перед казнью выхватывают последнее из уходящей жизни. Сколько сил ей стоило сдержаться… Если б только Митя знал, если б догадался узнать…
— Сховайся пока у Тайки… Где Лабунины в Пашковке живут, ты знаешь? Должен знать… — Ульяна торопилась. Какая-то мелькнувшая у окна тень человека заставила ее отпрянуть к простенку — то прошел по двору один из немцев-постойщиков. — Тикай, сынок, щас до Тайки… Я тебя сама найду… Не у Тайки, так в Пашковке… Всю землю пройду… Иди ж, а то поймают тут обоих… — она сама сорвала с гвоздя Митину фуфайку, накинула ему на плечи. Рукава извивались, подпрыгивали. Митя хотел скорее протолкнуть туда кулаки. Ульяна обхватила последний раз сыново лицо, обцеловала, выдохнула стон: — Ти-кай-а-а-ай! И уже через окно: — Родненьки-и-ий… живая найду-у-у-у…
Воловик вернулся вместе со старостой Плужником и гаркнул:
— Руки до горы, падло!
Все, думала Ульяна, живой, паразиты, не выпустят. Не плакала, не просила простить. Об одном жалела — Митя остается один, пропасть может сынок без ее материнского нагляда. Молча выходила с поднятыми руками из своей хаты, ни о чем не спросила полицаев, пока гнали ее до комендатуры. Шла навстречу осеннему солнцу, встающему за дальней пологой кромкой гор, не щурила глаза и на родимую станицу смотрела прощально. Холодный иней еще студил землю, не истаял с крыш хат, мелкой солью взблескивал на кровлях, деревьях, траве, уже прижухлых, будто до времени состарившихся, и на подворьях Ульяна не заметила ни одного молодого лица, а старухи, вставшие по привычке рано, отводили от нее глаза — арестантов всегда осуждали в станице.
6
В комнате, куда Ульяну ввели, за столом сидел в белой черкеске Якубский. Он просматривал какие-то бумаги, голову наклонил низко, лица почти не было заметно, только известная всей станице прическа выдавала в нем прежнего школьного учителя — волосы были теми же прямыми и зачесанными назад, сливались одинаковым цветом с черкеской, но были сейчас обрезаны короче и чем-то смазаны, будто для того, чтоб поспешнее снимать с них кубанку перед немцами и не портить прическу. «Ты не просто опять на военную службу вернулся — ты к немецким ворогам перекинулся, — смотрела на Якубского Ульяна. — А может, и Алексей не в безвисть пропал на гражданской войне, а ушел с кадетами за границу и тоже вернется в станицу для того же? И Матвий в плену мог немецкую винтовку взять в руки? Та такого брата и такого мужа я до скончания веку откину от глаз и плюну: «Не нужны вы мне теперь, прихлюстни немецки!..»
— Одну взяли? А где ее сын? — Якубский спрашивал полицаев, но смотрел на Ульяну, изучал, готовил и ей вопросы. Привычка к власти над людьми всегда оставалась в нем, сейчас Якубский упивался ею за все двадцать лет своей вынужденной скрытной жизни. Теперь он не на школьном уроке допрашивал малых, теперь он калифствовал над всей жизнью станичников и спешил показать свою власть.
— Ты шо ж, стерво, в своей хате устроила? — спросил он вкрадчивым тоном и начал приподниматься над столом, а в серых глазах уже волчья жажда крови взблескивала, за сомкнутыми губами крепкие зубы скрежетнули.
— А вы не обзывайтесь! — отбила первый наскок Ульяна, невольно подаваясь вперед, в словесной перепалке она была не из слабых. — То по закону митревская суббота была, именины сыновы.
— Шо? — Якубский крутнул к ней ухо, будто ответ ученика не понял на уроке. — Дмитриевскую святую субботу знаешь? И преподобного Сергия Радонежского? И Куликово поле? Та я ж тебе напомню и про макарьев день! И великомучениц из княжьих и царских фамилий заставлю молитвами оживить!..
— На то я не самоправна…
— Шо?
— Не самоправна людей с того свету вертать…
— Молчать! — Якубский схватил со стола плетку, подбежал к Ульяне и ткнул ей рукоятью под губы, придержал, чтоб она не могла ничего сказать и допрос на спор не переводила, даже провернул рукоять, чтоб удар получился с оттяжкой. — С большевистских газет грамоту уразумела? Кто принес в твою хату? Кто по станице раскидал? Кто?..
Якубский кричал и угрожал долго, махал плеткой перед лицом Ульяны и в конце концов объявил, что наказывает штрафом в сто марок и месячной принудиловкой.
Запомнилась ей эта принудиловка, отольются Якубскому и другим ворогам людские горючие слезы!
Работа была подконвойная, тянулась с утра до вечера, как у невольников, и никак не оплачивалась. По немецкой команде в комендатуре строили невольников, куда-нибудь уводили с конвойным немцем или увозили и туда же, в комендатуру, возвращали. Никто не знал, будет ли работать после утренней команды, на допрос ли потянут, оставят ли жить, убьют ли, отпустят ли на ночеву в свою хату. А каждая невольница была матерью и главной хозяйкой, на подворье и в хате ждали ее дети, сиротское горе с утра до вечера мыкали, от домашней работы отвыкали ее руки, горькие думы затесями морщин секли губы, сушили глаза. Печальнее нет материнской неволи в лихую годину войны. Неволя у родимого крова во сто крат горше, от нее стареет земля, древо жизни усыхает на корню…
Ульяна возвращалась вечером из немецкой комендатуры на свое подворье, как на пепелище. Тихо было, ни человеческого голоса, ни жилого тепла.
Было когда-то людно в ее хате, была шумная жизнь, а сейчас пусто, как в старом скворечнике зимой, и даже корову не хотелось ей лишний раз проведать в сарае, да и та в эти дни молчала, потому что стояла с порожним выменем в стойле, сама не просилась на раздой, каким-то чудом оставались живыми три пеструшки в курятнике. Однажды она обнаружила их во дворе сестер Удовенчих и заставила Дуську открыть калитку — отдай, мол, моих курей, а если не веришь, посмотри сама, до какого подворья они побегут от твоей калитки. Вернула свое добро, без радости упрятала назад в курятник…
Не раз Ульяна в эти арестантские дни хотела наложить на себя руки, и только материнская тревога о сыне оставляла какой-то смысл в этой жизни и к чему-то обязывала. И она рассказывала о своем сыне богоматери, не утаивала, что всегда любила Митю больше других своих детей, за это много раз терпела покару господню, а отступиться от своего греха не может и сейчас.
У нее появилась привычка «балакать» со своими кровниками. В таких разговорах она много раз переживала свою жизнь заново, эта привычка стала для нее единственной спасительной отдушиной и утешением. Она собирала под свой сиротский материнский кров всех, кого любила и хотела любить, ей очень не хватало сейчас именно этого, чтобы выжить среди злобы и нежитья.
Возвращаясь с немецкой принудиловки, шла в первую-очередь к стене, где висели семейные фотографии, со всеми родичами и знакомыми здоровалась, каганец-светильничек, как поминальную свечу, мимо каждого кровника проносила и начинала с общего разговора: какая была за день погода, рассказывала, что немцы делать заставляли и где, каких людей немцы сгубили, с кем из новых невольников познакомилась. Она была первой невольницей из всего своего древнего казачьего рода, никто из ее кровников не знал, что такое плен, да еще немецкий, да еще в своей станице, которую от века никакой ворог чужеземный не завоевывал, где нерусскую речь никогда не слыхивали на станичных улицах и в казачьих хатах. Значит, горше ее доли никто из родичей не познал. Но вспоминала сына и мучилась еще больше своим бессильем помочь ему сейчас, когда больше всего и нужна ее помощь. «Где ж ты, Митенька, где? Я, наверно, тебя не дождуся. Ты, сыночко, правду когда-то сказал: «Много сейчас, мамо, не от вас зависит». А я таких слов никогда отцу и маме не говорила. Они ж мне не давали заплутаться, всегда я могла их закликать на помощь, всегда отзовутся, помогут, спасут».
Будто вопленица, кричала Ульяна в стенах своей хаты, забывалась, уводила себя из неволи в другую жизнь…
Вспомнилось, как ехали двумя подводами со степи в станицу. На первой подводе отец и мать, заднюю подводу она гонит. Так хорошо было ехать вечереющей степью, хотелось до неба взлететь и петь там, как жаворонок. Выше гор залетела б и сверху на землю глянула… Засмотрелась высоко, про степную дорогу забыла и куда ноги свесила, не заботится. Закубанская степная земля на прогиб податливая: дождик прошел — под колесами уже колея, а между канавками колеи вырастает «грива» и сохнет, со временем становится крепкой и опасной для ездоков. Забыла тогда наказы отца, чтоб опускала ноги из шарабана осторожно между постромочными барками, на дышло чтоб ставила свои босые пятки. Закрутило любопытство ее глаза вверх, куда-то ноги на сторону скользнули — вот сейчас оттолкнусь от земли и взлечу…
— Тату!.. Татуся!.. А-а-а… Больно-о-о-о….
Обе ноги подминало, давило о твердую земляную гриву.
— Та-а-а-ту-у-у-ся-а-а…
Отец страшной силой поднимает на руках подводу над дорогой, спасает…
А Митю один раз Матвей спас. На хуторе тогда жили, в первой хате-зимовнике, на своем наделе земли работали, дети крутились на ниве или в хате забавы себе находили. Другого жилья близко нет, ерик Дыш неподалеку от хаты, там густые кусты по летней поре все дно скрывают и берега, Мите три годика, его чаще в хате оставляют под присмотром Вареньки, и тот раз оставили. Днем он заснул, дочка надумала к матери на ниву сбегать, пока братик спит. Вернулись вместе — Мити в хате нет. Искали везде, кричали на все стороны: «Ми-и-итя-а-а-а!..»
Вечерело быстро, чуть ли не с последними полосками заката начинали проблескивать первые звезды и угасал день. Митю нигде не нашли, отца на помощь позвали. Матвей спустился по тропке в ерик Дыш. Сырой после недавнего дождика тропка была, на ней Матвей обнаружил отпечатки собачьих лап и детских сандаликов. Вернулся назад часа через два — Митя лежал на отцовых руках.
— Живой? О господи, та где ж найшовся сынок?.. Та мы с ума посходили…
— Сидит на баштане Водяного и с собачками играет. Они и сманули хлопченя от хаты.
— А я же бегала в ту сторону… До самой Бакинской станицы сгойдала…
…Теперь опять надо искать сыночка. Не задержался у зовички Тайки, куда-то дальше из станицы побег, и не один, а с Мыколой Траховым. Хотели хлопцы и невест с собой увести, но те отказались уходить от мамок, под материнскими крышами остались ждать женихов. Если б те крыши своими всегда были, та всегда в своей хате и своя правда была… Война всю жизнь переколоматила, всем старым законам проверку устроила.
Ой как мало осталось твердого под ногами и в душе человеческой. Как жить, господи?.. Как устоять перед ворогами, душу не дать затоптать? А хата и другое добро — оно теперь твое и не твое… Душу как сохранить своею и в ней одной спасти и веру и правду? Как? Нельзя ж в чистую душу немецкую погань пускать — там же дети, там память родовая… А может, и у других станичных людей такие ж думки и есть общая правда на всех, кто ворогу души своей не отдает на поруганье?..
7
Ночью станичники слышали шум отдаленной перестрелки в горах, и в той стороне часто взлетали ракеты, высветлялось небо огнем пожаров. Давно не было оккупантам такого сполоха.
Немцы выскакивали из хат, подняли в Псекупской весь гарнизон по тревоге, несколько машин с солдатами уехало к Горячему Ключу, на патрульную службу заступили полицаи. Их и утром не сразу отпустили спать, почти до полудня они слонялись с винтовками по улицам, глаза у всех были шальные, красные с недосыпу.
Ульяна перехватила в Холодном переулке Василя Белинку. Стоял тот у плетня, будылковатый и темный, и кубанка широко нависала над худой шеей, будто осенний подсолнух. Сутулил полицай спину и сапоги в закрутку сплел — то ли пьяным ночью подняли в караул, то ли команд пришлось много выполнять и умотался к утру, прикорнул у плетня, затих, присогнулся.
— Эй, Белинка, ты чо на лису упал? Ты ранетый?
— Ты, тетка Ульяшка, молчи, сама арестаничка, хуже ранетой. Теперь немцы вас научат работать, раз в сталинских колхозах не научили…
— Про то не тебе, неробе, знать. Богато ты тою винтовкою с самого лета накосил и под озимые напахал? Таким, як ты, стороживачам, лишние гроши немцы не дадут…
Опасный вела разговор, да не могла в это утро сдержаться, захотелось хоть словом прижгнуть какого-нибудь вражину здесь, в станице. Пусть потрусятся и тут, как те, кого били этой ночью в горах. Дойдет очередь — и сюда заскочат и нагонят страху. Белинку лаять можно, тот стерпит, ни на кого с улицы пока немцам не доказал, хотя и брехать по-ихнему научился.
Работать невольниц заставили в Холодном переулке. Тут опять под колесами немецких машин сильно продавилась земля, и дорога превратилась в грязную протоку — окатили станицу припоздавшие осенние ливни, подпортили улицы и проезды. Но теперь дорожную распутицу не принимали станичники в тягость, некуда им было ездить и не на чем, весь транспорт был в немецких руках, пусть загрузают их колеса, пусть непроезжей станет для ворогов вся русская земля.
А день выдался сквозящий. С утра от гор тянуло резкой прохладой, хотелось услышать с той стороны громкую стрельбу, чтоб увериться крепче в своей самой сокровенной надежде. Не хотелось в такой день портить радость немецкой принудиловкой, носилки казались слишком тяжелыми, и каждый шаг от речки к Холодному переулку удалял, казалось, от своих, был отсрочкой и зряшной ходьбой.
Сушило осеннюю землю ветром и солнцем, тучи вверху рвались тонкой куделью, не застили света, горка гравия на носилках быстро теряла сырость, парила высушным парком, как и вся земля вокруг, — так зачем нести, пусть остается галечник на речном перекате, время залечивать раны Холодного переулка пока не приспело.
Хотя и работали на сквозняке, а всем захотелось скинуть фуфайки и подставить спины попутному ветру — от гор дует, от своих, такому наветрию душу распахнуть самое время и к сердцу холодок допустить, чтоб тревожней забилось и кровь погнало азартной силой — поживем, переживем, дождемся!.. Ульяна свернула фуфайку и понесла в свою хату. Вышагивала широко, просторная юбка ширхалась у самой земли, будто парус Ульяну подхватил к толкает попутным ветром, толкает.
— Кононовна, отнесите в хату и мою кухвайку, — просит Малиниха.
— И мою, и мою, — окружают другие невольницы. Немец-конвоир занят губной гармошкой, пробует разучить новый мотив, вытягивает из плоской ячеистой колодочки звуки долгие, как волчье завывание, — грусть какая-то гложет в далеком от дома краю, и немец хочет от нее избавиться, закладывает гармошку в рот.
В горнице Ульяна разложила фуфайки на койке, будто у нее в хате появились гости. Каждого хотела усадить, всем давала место под своим кровом. И не удержалась, прошла к стене своих родичей, постояла там, но рассказывать хорошие новости было некогда, отложила до вечера разговор. Уходя, рукой провела по групповой фотокарточке, где был Митя со своими друзьями-«танкистами» и их невесты, — будут у вас свадьбы, хлопцы, обязательно будут!..
Немец-конвоир поднял все ж таки легкий сполох в отсутствие Ульяны, взялся считать работающих невольниц и недосчитался одной. «Айн, цвайн, драй… Во ист эльфте? Вохин геен?..» Достал из нагрудного кармана мундира свисток, зафырчал, чтоб все шли к нему. А тут и Ульяна вывернулась из-за плетневой ограды и попала на повторный пересчет. Конвоир для верности пересчитал и третий раз — теперь убедился: все одиннадцать на месте, пусть продолжают работать.
К полудню вернулась из Горячего Ключа немецкая подмога. Уезжали немцы на трех машинах, а назад ехало пять, в двух задних не торчало над кузовами ни одной козырькастой каски, но груз был, иначе не затянули бы сверху брезентом.
— Гробовщикам работу повезли…
— Таскать не перетаскать…
Невольницы стояли у Холодного переулка, перекидывали друг другу слова, будто дождались, когда начнет отступать немецкая орда, и теперь плевали ей вслед. Сквозящий ветер дул от гор не переставая — много накопилось там силы, быть скорым переменам, быть, быть…
Когда надевали вечером фуфайки, Малиниха шепнула Ульяне:
— К вам сегодня три раза постучат в ставню — то придут свои и что-то скажут. Так откройте ж, не спутайтесь… Три раза стукнут после восьми часов… Кадушку на речной угол хаты поставьте, если у вас немцы не будут ночевать…
Свисток немецкого конвоира заставил Малиниху прервать шепот, оглянуться на окна, и Ульяна спохватилась как хозяйка хаты, все ли гостьи разобрали свою одежду, пора выходить на конвойный насмотр, поведет их немец в комендатуру, там еще раз всех пересчитает и доложит своему начальству, как работали. Так она ничего и не ответила Малинихе, немецким свистом, как передышкой, воспользовалась, заговорила с другими невольницами, потом собрала всех общими словами:
— Айда, дивчата, на двор, а то наш наглядач каменюками по окнам начнет кидать — не нравится, шо загостювались, а самого за подворьем скучать одного оставили.
— Та он же с гармошкою.
— Нехай немкеням играет похоронного «жмурача».
— Давай и мы стопчем гопака за ночную прочуханку?
Выходили из стен Ульяниной хаты невольницы опять на ветер. Лица у баб засвежели, хоть песню запевай, как после доброго застолья. Музыка рядом была, да гармонист был чужак, чарки не испробовал. И воли не было, шагу не ступи, куда пожелалось, — впереди немецкая комендатура, сзади немецкий конвоир с винтовкой — уймись, русская душа, придержи свою песню. До лучших денечков придержи… Но горный ветер был вольным, от своих наддувал, если острее принюхаться — дымок красноармейской махорки учуешь, русский говор уловит заждавшийся слух. Близко фронт, близко свои, дыши одним с ними ветром, жди…
В сенцах Малиниха придержала Ульяну:
— Так чуешь, Кононовна? Никуда из хаты вечером.
— Осталась сторожихою, гавкаю тут одна сама на себя.
— Скоро придут гости… Много гостей. Наши бабьи хлопоты найдут пригоду…
К ночи горный ветер утих, выпала холодная роса. Тучи остановились вверху, упрятали звезды, но те редкие, что остались открытыми, светили ярко и были заметнее в захмаренном небе. Ульяне звезды всегда казались живыми людьми, точнее, души их она видела в ночной вышине — были на земле, а теперь улетели туда и живут там, напоминают о себе дальним светом. Призывно ли кличут, утешить ли хотят, но жить помогают, нельзя представить себе, чтоб угасли совсем, навечно вычернилось все вверху. В доброе мирное время появлялись ответные огоньки в станице, широко и просторно светилась по округе оконная россыпь, на свету мелькали людские лица, то там, то там распахнут настежь дверь — тепло крова истекало наружу, дышала ночная земля миром и покоем, вершилась в мирозданье жизнь. И вот все порушено. Наглухо затворены ставни на окнах, заперты двери хат, люди в темноте, как затворники, пережидают ночь, встречают без радости утро, не спешат наполнить дневным светом жилье, отпереть, отомкнуть свою жизнь — нет воли за стенами хат, прежней жизни нет, неметчина не в надобность…
Ульяна до назначенного Малинихой часа старалась находить себе дела вне хаты. С коровой затеяла долгий разговор, вспомнила, как водила ее на ферму колхоза «Парижская коммуна» по мартовской склизи и чуть было не сорвалось все дело, потому что быку после зимнего бескормья никак было не направиться на огул, у колхозных нетелей перегорали все сроки, но все ж таки покрылась Верба, не осталась порожней, ждет теленочка, скоро должна народить, совсем скоро, так что и уход сейчас большой нужен, и корм послаще и посытней. За этим разговором Ульяна и о своих родах вспомнила, рассказала о них Вербе и на Митю вывела, как поправился сынок быстро летом на коровьем молочке, да на творожке, да на сметанке и маслице, пока дома жил, а теперь ничего такого не знает, не кушает, и неизвестно, как живет вдалеке от материной хаты. Молозивом бы сыночка покормить и покохать, как малое тилятко, лобиком в пелену мамкиной юбки пригнуть, пристрожить, чтоб не шкодил. Был бы живой, живое живого дождет…
Замыкала думки своим привычным кругом и оттуда, как из укрытия, выглядывала, урочный час стука ждала.
«В своей хате — своя и правда. Держись, Ульяша, за хату». Так ты сказал, Матвий.
Нет, Малиниху тоже нельзя с порога привечать. Пусть входит в хату, как гостья, пусть уважит хозяйку, покажет, с чем пришла и чего ей нужно, от кого приветы передает и кому поклоны понесет. Я тебя, Марфа, по отчеству перегодом назову, а пока подожду, когда ты на мои очи другою повернешься, когда заслужишь такого привечанья. А может, в окоп сховаться и оттуда все высмотреть, кто в оплутах Малинихи по станице ходит ночью, как домовой, мимо немецких патрулей от хаты к хате гойдает?..
Малиниха сама пошла в немецкую комендатуру и заявила о пропаже ста пудов свинины. Малиниху в немецкой комендатуре долго расспрашивали, потом вызвали туда раз, другой, потом задержали на принудиловку. Что-то от Малинихи хотели узнать еще, кроме убытка в «сто пудов свинины».
— Покрали свиней, — твердила Малиниха на допросах. — Покрали ночью. А кто — не знаю…
— Та ты ж цыганка, знаешь, как уводят со двора потихому свиней цыгане, — настаивал Якубский. — Партизанам сама за станицу вывела?
— Сто пудов мяса покрали. Помогите, господин Якубский, поймать ворюг.
— От подшмалим весь твой цыганский выводок — сама покажешь, по какой дорожке уводила свиней до партизан и чем рыло свинячье присыпала, чи мукою, чи песочком, шоб тихо вести…
Такие вот разговоры водила молва по станице про Малиниху, и Ульяну они не обминули. О Марфином убытке в «сто пудов свинины» она не жалела, а за поведение дочек и за подсобку на немецких кухням сама выхрестила б, подвернись удобный случай. И за старое добавить было бы не грех.
Вместе отбывая немецкую принудиловку, Ульяна и Марфа не сближались, обе делали вид, что не знакомы. Другие невольницы над ними подтрунивали: «Два черта сошлись? Обоим ругня привычней, так ждете, кто первый начнет?» Сегодня Малиниха первая порвала молчанку. Выбрала ж день, когда у каждого станичника одно на уме про красноармейцев: пусть скорее вернутся и прикончат в станице неметчину. А все ж таки страшно ждать три постука в ставню и открывать ночью хату незнамо кому.
«Ой, не заплутала б Малиниха та не вкрутила б куда-нибудь с теми «гостьями»… Насчет пригоды рано балакать, пока хата пустая. Нехай сперва прийдут добры люди, я их глазами обкидаю, тогда и пригоду добру прикладу».
На стенных ходиках время повернуло к девятому часу и стрелки потихоньку прокручивались дальше, но никто не напоминал снаружи о своем приходе, условного стука не подавал. А кадушка стояла на нужном углу хаты, не спала Ульяна, помнила о словах Малинихи, поджидала, когда ж заявится ночной гость. Несколько раз прошли мимо хаты немецкие патрули, прочавкали своими сапогами по слякотной тропке, вытоптанной вдоль плетневых изгородней, отгуркотили непонятные слова. Машинный рык сорвал затишь за окнами хаты, стекла задзенькали и скоро уняли дрожь.
Ульяна загасила каганец, лежала на кровати в горнице, ознобилась спиной, ноги в шерстяных носках протиснула сквозь спинку кровати в самое нутро духовки — истопила жарче обычного сегодня печку-грубу и в чайнике кипяток душистый с веточками вишни приготовила. Неужели напрасно хлопотала? Ой и выхристю ж я тебя, Марфа, если падлючить в моей хате нагадала…
Часы на стене тикали, пропадало время, растворялось темнотой…
Не знала Ульяна, что Малиниху в эту ночь схватили на подворье немцы и расстреляли в «глинищах» у Псекупса. Немец-конвоир сказал на другой день: «Марфа — никс, никс. Марфа пуф-пуф. Никс Марфа…» А позже запохаживали в станицу партизаны, и вести хорошие с ними входили по ночам в станицу: про Сталинград, не отданный немцам, про окружение крупного скопища немцев в приволжских и донских степях, изгон их от Восточного Кавказа и ставропольских предгорий. Нашествие было обречено.
Часть 4 Разведка боем
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!
Как спелые звезды, летим наугад…
1
Снег наметало торопливым нахлестом, он был мокрым и то густел, то прореживался, зависал крупным пухом и вдруг опять секся под ветром, рассыпался порошей. Студенистая сырость накрывала станицу, скользила по угористым улицам, крышам хат, липла к оконным стеклам, веткам деревьев, плетням винограда. Февральский день так и не смог набрать силу, проблеснуть полуденным светом. От снеговой мокроты в воздух наползал туман, скрадывал видимость, и, когда к вечеру снегопад сменился дождем, сумерки вовсе пригасили округу. В темноте дыхание непогоды казалось зловещим и само время расплескивалось, теряло привычную меру — убыстряло ход, когда резче хлестали по ставням дождевые струи, и замедлялось притихшим шумом воды, прожитый час ничего не значил, ничего не изменял в жизни.
Ульяна с вечера закрыла хату на все запоры и по-старушечьи прилегла в стеганой безрукавке на койку. Не с кем было перекинуться словом, вспомнить прожитый день, загадать завтрашние дела. Лежала в темноте одна, слушала, как стучит в ставни зимний дождь, покряхтывала. Все снега и дожди она ждала заранее (ревматизм предсказывал, будь он неладен), и нынешнюю непогодь, что принес морской ветер бора, хворь ей раньше напророчила. Значит, лезь, баба, на горище, высматривай прорехи в соломенной крыше и ставь под них посудинки, если хочешь по-людски в сухой хате жить, а то размокнут киселем глиняная стеля потолка и турлучные стены, повывалится из них глина, и будешь даром топку палить, белый свет отапливать. Думала так Ульяна, крышу, как старую рубаху, на свет высматривала, все ли прорехи учла и залатала, где могут появиться новые, под какими уже натекло полные посудинки, и пора опрастывать их в кадушку, чтоб на стирку сгодилась мягкая небесная водица или голову помыть. И никак в житейских думах не могла она обойти войну. Не краем, не углом та касалась дум, а вставала на пути глухой стеной, куда хоть стукайся лбом, хоть ори до хрипоты, хоть плюйся…
Неволя продлилась всю осень, в зиму перешла. Поныне колобродила чужеземная орда в станице, хуже лютой стужи холодила душу неметчина.
В том ночном октябрьском бою много постреляли немцев в Горячем Ключе. Напали на них красноармейцы, и эта новость сильно обнадежила тогда, поверилось, что начала наступать Красная Армия, не сегодня, так завтра освободит и Псекупскую. Но не сбылось то мечтание, не наступило избавление от ворогов так скоро.
Уже около двух месяцев мучило дурное предчувствие — с тех пор как в декабре корова сгубила телочку. Не иначе, кто-то из немцев навел порчу на худобу, и та растелилась мертвым дитем. Есть такие и среди русских, у кого глаз черный. От того сглазу и бык Рябой в двенадцатом году сдох в день Алексеевой свадьбы, и корова Рябуха в двадцать четвертом году молоко загубила, теперь до Вербы порча пристала. Не перекинулась бы дальше на людей, господь сохрани и помилуй…
Зимний дождь постукивал в ставни, заглушал все наружные звуки. Под такой ширхун хорошо дремлется в протопленной хате, но что-то отгоняло сон, держало Ульяну в напряжении. В эту дождливую ночь она знала, что уже выбили немцев из Хадыженской, погонят их и от Горячего Ключа, и отсюда, из Псекупской, хотя и нарыли здесь блиндажей на Татарской горе, установили на косогоре у кладбища пушки.
Вчера подъехали поздно вечером немцы на подводах со стороны Береговой улицы, загомонили по-своему у порога ее хаты, но в дверь не постучали и хозяйку не вытребовали во двор — впотьмах обшаривали подворье, подсвечивая фонариками. И нашли ж, идоловы души, за сараем две последние копицы сена, какие всю осень и зиму сберегала, сколько раз отбивалась от других немцев. Те приходили отнимать сено днем, когда ей не так было страшно воевать за свое добро, и криком и когтями могла отбиться от вражьей бандитской руки. Этих, ночных, остереглась — только что отступили с фронта, значит, злые и скорые на расправу. Потому и не сунулась за порог хаты, через окно из летней половины наблюдала за немецкими ворюгами и молча утирала слезы. На плащ-палатку, окаянные, перегорнули копицу и несли брезентуху на четыре угла, а третий сено поддерживал одной рукой и светил, светил фонарем, да на окна хаты скрива оглядывался. И вторую копицу так же украли. Шоб вы сами подавились тою жвачкою, иродово племя! Шоб ваши кони на все четыре копыта поспотыкались та середь степу посдохли! Та и вы с ними, будь вы душою проклятые!..
Ульяна долго хрестила немцев, переходя на разговор вслух и тем забивая маету одиночества, и все ж таки в какой-то момент расслабилась, явь у нее обернулась видевом.
Тихий летний вечер. Солнце скользит на Татарскую гору. По Холодному переулку едет необычный всадник — черный картуз, черная гимнастерка, брюки, тоже черные, навыпуск. Ульяна от калитки смотрит из-под руки на всадника и слышит, как соседки Удовенчихи говорят: «То ж Полукаренчихин сын-фэзэушник. Дывысь, як вычипурился на краденом коне…» Едет и правда Митя. Хочется Ульяне бежать навстречу и обнять сыночка! Но так не положено: казачка-мать должна открыть сыну ворота родимого подворья. И Ульяна ждет, на сплетниц-соседок не обращает внимания. Вот она приняла повод уздечки, вороной масти конь, белявая лыска на лбу. Митя наклонился от седла… И вдруг — хлоп! хлоп! Конь взвился на дыбы, поскакал и скрылся из виду. «А-а-а-а», — кричит кто-то поодаль, и не понять, Митин ли голос, чужой ли…
Ульяна вскинулась и сразу определила: выстрелы простукивают за Холодным ериком, оттуда же и крики. Она быстро нащупала на полу возле койки глубокие галоши, фуфайку надела. И стрельба и крики стали слышны отчетливей.
— Наши! Неужели идут?.. То ж они «ура» кричат!..
Она хотела бежать вон из хаты туда, навстречу красноармейцам, а сама стояла в темной горнице, ждала верных примет ночного боя, теплый плат не торопилась глухо повязывать. Комкала его в руках, причитала: «Господи, царица небесная, за все наши слезы… за деточек наших…»
Кто-то громко застучал, в наружную дверь. Слышно было, как бежали через двор.
«А вдруг немцы?..»
— Хозяйка, открой… Свои. Хлебушка вынеси…
— Щас, родненький… щас…
Ульяна закружилась в темной хате — куда-то за дверцы кухонного стола убирала вечером кукурузные пляцики, чтоб мыши не погрызли… Руки у нее дрожали, пышки крошились в ладонях. Она понесла еду на вытянутых руках, как слепая, угадывала путь на выход… Ее ждут красноармейцы, в двух шагах ждут… А тут засов в сенцах, каюдубина, не вытащить занятыми руками…
— Мамаша, быстрей! — попросили со двора, и Ульяна снова обострилась слухом. Кричали «ура» теперь совсем близко, в Холодном переулке, и громко били винтовки. Немцы не отвечали пушками, только взрыгивали короткие автоматные и пулеметные очереди. Чуть ли не зубами она откинула последний запор, и дверь сразу подалась на нее, а проем заслонила фигура бойца в плащ-палатке.
— На, родненький… Бери чуреки…
Кто-то еще протягивал к ней руки.
— Берите, шо есть… А хлебца нема, хлопцы…
Русские солдаты кусали мягкое крошево и о чем-то говорили торопливо между собой, а сами оглядывались кругом, просили дать еще. Ульяна метнулась назад в хату, выгребла из-под миски последнее…
Четверо красноармейцев подкрепились у ее порога, побежали дальше в глубь станицы. Там сейчас стреляли густо и совсем смолкло «ура». Немцы выскакивали из хат, выбеливали в темноте исподним бельем. Крики, выстрелы, короткие стычки рукопашной схватки. Не уйти ворогам! Не сносить головы!..
С Татарской горы застучали тяжелые пулеметы немцев, плеснулись в небо огнем ракеты, по-гусиному шипели, будто злились на дождь, что мешал им светить в полную силу.
Звуки ночного боя быстро множились. Ударили немецкие пушки с косогора. Снаряды с воем пролетели над крышами хат и упали за Холодным ериком, взрывы сотрясали землю. От других залпов не слышалось грохота взрывов — снаряды лопались на высоте, сверху осыпались на землю осколками железа. С частым визгом секли воздух немецкие мины, все отчетливее выделялся в шуме ночной схватки треск немецких автоматов, их очереди посыпались в темноту.
Красноармейцы начали отход. То в одном, то в другом месте вспыхивал из тьмы винтовочный выстрел, и туда сразу же пролетало несколько злых автоматных очередей…
Над Ульяниным огородом зависла немецкая ракета. Видно было, как, убегая от немцев, перемахнул через плетень красноармеец в плащ-палатке и тут же споткнулся, выронил из рук винтовку. Больше он не приподнялся от земли. И еще несколько убитых застыло под зимним дождем…
— Господи, та шо ж это такое?.. Господи… — хваталась за голову Ульяна, когда заскочила обратно в свою хату и заперлась. — Та как же так можно?.. С одними винтовочками и — «ура»?.. Та кто ж их заставлял-то «ура» кричать?.. Подкрадайся по-тихому, если жить охота… Рази ж тем криком пулеметы та пушки передюжишь?..
Когда снова раздался стук в наружные двери, она приготовилась к самому худшему. Но все ж таки пошла открывать — иначе немцы забросают хату гранатами.
Ее сразу ослепили светом ручных фонариков и оттиснули в сторону.
— Иван пуф-пуф? — спрашивал кто-то, трудно дыша. Она закрывалась руками от жалящих ее лучей света, ничего не могла ответить толково. Несколько человек пробежало вовнутрь хаты. Зашарили светом по стенам, один полез на горище. «Никс, никс», — слышалось оттуда. И вдруг чужая орда отхлынула, хата снова опустела.
Ульяна боялась верить, что осталась жива. Может, немцы отошли, чтоб стрельнуть от сарая?.. Давала ж пляцики красноармейцам, а кто-то мог смотреть, як наглядач…
2
От земли струилась туманная испарина, дымно застила хаты, хозяйственные постройки, плети виноградников висели как обрывки колючей проволоки. Все сотворенное руками человека виделось зыбко, непрочно, проступало из рассветной хмари частями, деталями, будто на краю станицы после ночного боя ничего не сохранилось целого, есть лишь кое-что уцелевшее от порухи. И сама Ульяна, когда стояла утром на огороде и осматривалась, была похожа на побитую грозой старую яблоню — крепка статью, почернелое лицо искороблено морщинами, и в глубоких впадинах глаз взблескивает потаенный огонь.
В сторону Холодного ерика изредка пролетала немецкая ракета и зависала над покатым выгоном, уже блеклая, ненужная, чужая. Никакого отзвука не доносилось с той стороны, откуда наступали ночью красноармейцы, будто все они полегли под пулями, и некому хоронить убитых… Доколе? Та где ж та покара господня, где? Та неужели ж очи твои, господи, стали незрячи? А может, ты отвернул их от русских людей и перекинулся к ворогам?
Идти к хате по раскисшей глинистой мокроте огорода было трудно, тяжелые комья налипали на галоши, она будто выворачивала себя из земли, продвигалась медленно, неохотно, как возвращаются к разрушенному крову, к пепелищу, куда нельзя не прийти, не взглянуть. Но подошла к сараю, уловила залах коровьего стойла, и сердце захолонулось острой виной перед другим живым существом, которое терпеливо дожидалось ее рук, надеялось на уход и заботу.
Корова тянула к ней голову через маленькое сарайное окошко, шершавый язык сухо терся по раздувавшимся ноздрям, фиолетовые глаза ртутно блестели. Ульяна выгребла из кармана фуфайки горсть кукурузных крошек, протянула на ладони:
— Вербочка… Вербочка… Моя ж ты хорошая, и ты ночью стукоты спугалась? Стоишь тут одна и плачешь, моя умница…
Голос Ульяны отсырел, рвался сиповатым хрипом, она оглаживала коровью шею, втягивала в себя жилое тепло ее стойла и сама согревалась, отмякала душой. А хозяйские хлопоты уже подступали: живая осталась, значит, надо работать, некогда ахать и досадовать на разор. Наложила кукурузных будыльев в коровью кормушку, затопила в хате печь-грубку, сладила корове на питье замешку, прибрала в стойле, в хате взялась порядок наводить.
Первым делом она полезла на горище. Оскальзываясь на мокрой глиняной стеле и горбясь под стропилами и нарыжниками соломенной крыши, доставала в разных местах то наполненную до краев водой жестяную консервную банку, то старый чугунок, то тазик, выплескивала из них воду в ведро. Справив дела на горище, принесла с речки свежей воды, замочила кукурузную крупу под пляцики и старалась жарче протопить печку в горнице, а на русскую печь в хатыне рукой махнула: дождусь лучших времен, тогда и высушу летнюю половину. Раньше только хлебы выпекали там зимой, а нынче немцы-постойщики заставляли каждый день греть для них теплую лежанку — порохом спалились запасы. Ульяна все ж таки осенью несколько раз выходила к Псекупсу ловить заплаву и хорошо натаскала, надеялась, что хватит на зиму, а пришлось тратить на две печи и протратилась, не дотянуть до весны. Сегодня, когда набирала в речке воду, проплыл мимо Полянского брода здоровущий карч. Так жалко было, что не захватила с собой веревки с «кошкой» — закинула бы и притянула к берегу, до вербы приарканила и никуда не делся бы. Уплыла добыча, ничего не поделаешь, если сама жизнь с круга сбилась…
Хозяйские заботы кружили Ульяну по подворью, но наружу она старалась днем выскакивать реже, движения и походка были сегодня другими, будто цеплялась она постоянно за что-то мешающее и часто останавливалась, застывала на одном месте и без этих остановок не могла самого малого дела сделать. Ей становилось жарко, хотелось, доделать начатую работу и освободить себя, не думать о новой, держать на уме только одно свое, а от остального, как от постороннего, закрыть все щели и отдушины. И когда спохватывалась, подбегала к окну, невидящим взглядом тянулась куда-то поверх крыш соседских хат к чему-то дальнему, известному только ей одной, а глаза натыкались на Татарскую гору, изрытую немецкими блиндажами, и тогда лицо Ульяны тяжелело, казалось, что оно блекло и коробилось морщинами не постепенно, а как-то вдруг, когда случалась беда.
Неудача красноармейцев в ночном бою опять отбросила к постылой жизни, ничего пока не переменилось, и сына скоро ей не видать. Присела у печки, пригорюнилась. Голова побаливала от недосыпу, морозилась спина остатками ночного страха. С августа, как фронт подступил к станице и наши войска ушли в горы, она и спать по-людски не спала — чуть брякнет, грохнет где поблизости или корова мыкнет в сарае, она встрепенется, как пугливая птица, и потом до утра сторожко караулит беду. Хата ж на краю станицы стоит, а крайнему всегда первому достается. Где ж тут храброй бабой остаться, если за два года войны столько горя выпало, что прежнюю жизнь дымом застлало и веру в лучшую долю пеплом покрыло? Теперь вьют веревкой страх и ожидание, в любую минуту может оборваться та веревочка, а счастье куда же подевалось-развеялось?
За стенами хаты снова взыграла непогодь, по ставням хлестко плескало, и Ульяне казалось, будто ее несло в лодке по горной речке, стукало о камни, крутило на водоворотах, она кричит о помощи, но близко никого нет, лодку вот-вот перевернет в круговерти, и ей не выплыть (не научилась плавать, хотя всю жизнь возле Псекупса живет). Значит, надо крепче держаться за лодку-хату, в этом спасение…
Скинула стеганую безрукавку, разулась до босоты, подобрала широкий подол юбки и взялась мыть в горнице деревянные полы — не любила подолгу без дела сидеть и хату привыкла холить и скрести.
Начала приборку со спальни. В узкую отгородку была втиснута деревянная кровать с полукруглыми спинками, на боковой стене пустовала вешалка с полкой. Кроме кровати и табуретки, другой мебели сюда не вмещалось, и единственным богатством здесь осталась пуховая перина. Когда-то и целая гора пуховых подушек возвышалась над кроватью, были, да сплыли, по одной повытаскала, проела, теперь и перину пора отдавать в миньбу. Откинула подзор, протиснулась на четвереньках под кровать и услышала, как порскнула мышь. «Ох ты, господи, сбаловались без кошки. Возьму у бабы Томильчихи, она тут вам бою задаст!» Ворчала без сердца (кто ж на глупую мышу лютует?), а под кровать так заглянула, страх свой ночной выгнать, промыть, чтоб совсем не осталось, когда красноармейцы придут. Не сегодня, так завтра погонят все ж таки немцев, если начали наступать. Скорей бы, а то жизни совсем не стало от ворогов, одна тяганина, одна тяганина…
3
Щеколда стукнула чуть слышно, и дверь приотворилась плавно, Ульяна и не подумала, что кто-то вошел в горницу — почувствовала, как холодом потянуло из сенцев, значит, дверь плохо прикрыла. Оглянулась от стола, на котором месила в этот момент кукурузную крупу под пляцики, — в дверном проеме стоял красноармеец.
— Тетя, можна ваша хата погреца? — спросил он быстрым полушепотом, ждать позволения в сенцах не стал, но, притворив за собой дверь, у косяка снова задержался, прислонил винтовку в простенок, похукал в кулаки — наследить, что ли, стеснялся на чисто промытом полу?
Она боком прошла к плите, подкинула ножом над сковородкой пляцики, перо гусиное в смалец окунула, а сама искоса взглядывала на совсем молодое лицо красноармейца, отмечала попутно комья глины на обувке (подметки ботинок отстали и прикручены куском провода), пятна грязи на обмотках, штанах и локтях потертого ватника. Ростом, как и ее Митя, высокий и в плечах не узок, ладони крупные, крестьянские…
В какой-то миг ей почудилось, что войны нет и к ней забежал погреться один из дружков сына, с которыми он когда-то возил мясо в потребиловские ларьки, сейчас и Митя войдет в дождевике и крикнет: «Сюда, старцы, — тут блинцы!» Заблестела глазами навстречу счастливому видению, рукой, приглашающим жестом повела и посторонилась, высвобождая красноармейцу место у печки. Что-то удерживало ее от расспросов и настораживало.
И он молчал. Согревая руки, пошевеливал зяблыми пальцами над горячей плитой, сразу как-то обмяк, вяло уронил вниз голову, от его плащ-палатки стало парить, на смуглых щеках истаивала синюшная стылость, появлялись красные пятна. Оживал человек…
— Разведка боем ночью, — заговорил красноармеец, и было трудно определить, сказал наяву или сбредил во сне. Ульяна невольно вздрогнула, будто сама пробудилась от одного сна и сразу увидела другой: стоит перед ней странный гость, надо обсушить его, собрать что-нибудь на стол, а потом дать приют в своей хате, точнее, от немцев тут прятать… И когда он спросил после тягучей паузы о немцах, она окончательно пришла в себя, заоглядывалась на окна и на внезапного гостя, отворила дверцу печки, подложила в огонь несколько корявых корневых обрубков.
— Пачиму пра нэмиц малчишь? — забеспокоился красноармеец, подступая к ней ближе.
— Та сам повернись до окна. Вон кресты грузят на подводу в соседкином подворье, — ответила она, все больше напрягаясь: тупо заболел затылок и начала слегка кружиться голова.
Крадущимся шагом красноармеец двинулся к окну и с минуту хмуро всматривался, красные пятна сходили с его лица, нос хищно горбился. У него тоже была где-то мать, а сейчас он прятался от врагов в незнакомом месте, заскочил в первую попавшуюся хату, неизвестно, что с ним будет через час, останется ли живой, терзалась неопределенностью Ульяна и не выдержала, всплеснула руками:
— Ой горе!.. Ой горе!.. Немцы ж ловят вас по станице! Убьют же нас обоих!..
— Пугливий авца хади сиридина стада. Трусливый чилавек — на край ауля не живи! — красноармеец отшатнулся от окна, сверкнул белками глаз.
— Сам чи не крадькомой по краю станицы блукаешь? Чо ж ты с винтовкою за бабьячу юбку ховаешься? Иди — бейся с немцами! А негожий щас для бою — заходь до цивильных людей по-тихому и ночи жди. Иди сюда, набирай чуреков та лезь на горище… — Ульяна сейчас и свою правду в своей хате доказывала, и свою материнскую правоту, слова получались крепкими и громкими.
Красноармеец вернулся к печке, стал рассовывать крошащиеся пышки в карманы ватника и штанов. Оглянувшись на открытое окно, коротко шикнул:
— Зачем, тетя, кричишь? Без винтовки салдат нелзя. С винтовкой салдат — смелий джигит, без винтовка — пуг-лпвий авца…
— Тикай на горище, ховайся, пока тут не застали.
Ульяна подтолкнула красноармейца к двери, сама нажала на щеколду, а в сенцах указала на лесенку. Он мигом вскарабкался наверх, с такой же быстротой втянул лесенку туда же, и над проемом горища некоторое время было пусто, но Ульяна не уходила из сенцев, только осенила себя крестным знамением — слава богу, спрятан красноармеец, опасную заботу спроворила. Слышно было, как он ходил под крышей, соображал, наверно, что дальше будет делать хозяйка хаты, и скоро появился в рамке чердачного люка, ткнул себя в грудь:
— Мой мама симмя балышой… Старший я, Гурам, девять брат, сестра… Нылзя сюда нэмиц…
— Та и ты подальше сховай свою винтовку.
Ульяна ушла в горницу — там варилось в духовке горячее хлебово. Сейчас она принесет миску супа Гураму, кукурузные пляцики быстро ж сохнут, икота от них берет.
Вечером к Ульяне забежала золовка Одарка. Наведалась под предлогом суровых ниток и цыганскую иголку попросить, чтобы подошву Степушкиного ботиночка пришить, «бо исть детинова обувачка просит, а где ж купить другую и на яки гроши?». И засиделась, забалакалась. При свете каганца на смазливом узком лице золовки, будто изморозь на ночном стекле, то проступали бледные сетчатые тени, то, исчезали. Одарка на глазах Ульяны и старилась, и выглядела бойкой молодицей.
— Подоила я корову, — говорила Одарка, теребя кисти платка, — иду с подойником через сенки, а двери до моего немца-постойщика раскрыта. На полу термос стоит, крышка на нем откинутая и на столе кофейные чашки недопитые — убег, значит, комендант со всеми своими корешами на Татарскую гору, в блиндаж там поховались от наших. А я ж переживаю! А я ж беспокоюсь — хата без охраны на ночь остается и раскрытою — кто хочешь заходи, шо взял, то твое. Надо б затулять на засув, а боюсь, та плачу, та переживаю: немцы ж привыкли по тревоге выскакувать из хаты и вертаться. Легла на койку, детвору до себя пригорнула, убьют — так нехай сразу всех. Ночью — просыпаюсь — винтовки стукают, та десь близко. Я на детвору скорей пуховые подушки, сама — под кровать. Чую — бах, бах под самой хатой. Стекла — дзинь, дзинь, — то по немецькой половине ктось пристрелявся. А я ж переживаю! А я ж беспокоюсь: в наше окно гранату не кинули б! Когда стихла гримкота по-за хатой, двери — хлоп, и немиць-часовой, смотрю, прыг на нашу половину: «Ай, богато Ивана забито!.. Иван плен никс… Иван капут». А сам наших людей и убивал.
— Та ото ж. Такие грехи не отмолить и в землю не сховать, — откликнулась Ульяна и в свою очередь рассказала, что пережила этой ночью и днем.
Поговорили о родичах, кровных и дальних, повспоминали, всеми станичными новостями обменялись, пора было уже Одарке гостевание свертывать. Нет, вспомнила еще под конец что-то, загадочно придвинулась почти вплотную, платок к платку, зашептала:
— От Феньки и Дуськи Удовенчих до хаты Устинчихи красноармеец утром убег. Фенька сама на речке сказала. Устинчиха бросила ж свою хату, к родичам на Широкую улицу перешла жить, на подворье только корову оставила. А вы, кума, что-нибудь про других знаете?
— Не, живу сама, балакать не с кем. Так, наверное, и лучше, а то наше бабье радио и немцы могут слухать. Я принудиловку уже раз заробила, с меня хватит того одного разу. Ой, не заплутайся и ты, молчи про того красноармейца, за ветром пускай ту слухьянку, где взяла.
Дотлел разговор, и Одарка ушла.
Лучше б совсем не являлась на очи и в смуту и в грех не вводила. Верно говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Ульянины думки и хлопоты после ее прихода наперекос повело. Одарка сказала, что коров немцы будут угонять, и она нагадала: вот утихнет в станице немецкий гомон, и погонит свою Вербу к Псекупсу, где у берега конюшня заготскотовская. Там сейчас пусто, ни коней, ни другой худобы, всю немцы повыгнали, поразмотали, и собирать некому. На отшиб тот и патрули теперь не заходят, да и вообще прикончилось немецкое ночное дежурство в станице. Рассказывали люди, что Петько Суровцев из партизанского леса каждый день на домашнюю ночеву похаживает и хвалится: «Ночью мы хозяева в станице, а ночь зимняя долга, значит, станица наша». Если б так было по правде, то где ж ваша подсобка заплутала? Если б гуртом с разведчиками красноармейскими кинулись вчера и партизаны биться с немцами, разве не захоплили б станицу? Уже ни одним ворогом не смердило б тут, ни немцем, ни полицаем, а в каждой хате был бы праздник — все молочко вам, вызволители из неволи, вся ласка наша и привечанье. Пока ж нет того. Гони ночью со двора свою худобу, хозяйка, трусись, но спасай свое добро от немецких ворюг и, жди другой ночи, чтоб взять утайное молочко или себя загубить…
Почти все тут было ясно Ульяне, куда вести корову от немецких глаз и что после делать. Такую ж ясность и о Гураме-разведчике до поры до времени выстроила: пересидит на горище до прихода своих, уйдет опять воевать, может, когда-нибудь вспомнит добрым словом русскую бабу. Но теперь Одарка выкинула на глаза хату Верки Устинчихи. Есть уже там один разведчик, а с Гурамом будет два, вдвоем веселей в пересидке, и две винтовки крепче стукнут, если случится держать отстрел… Только бы не сорвалось, только бы Гурам согласился. Хоть и веры не нашей, господь и его в обиду не даст… Так внушала она себе и будто за чужую спину пряталась, смуту греха прояснить хотела и сбивалась вдруг воспоминанием о сыне, никак не могла утвердиться на жестокости притчи: «Тогда будет двое на поле: один берется, а другой оставляется…»
Печку она топила целый день, Гураму было тепло возле дымаря, но хата Устинчихи давно не топлена, гололед к вечеру пал на станицу, ветки на деревьях посогнуло ледяной коростой до земли, пропадут у многих людей сады. Не передюжит Гурам в своих разбитых мокрых ботинках морозную ночь, вот беда…
От Мити никакой обувки не осталось, только лежали в сундуке мужнины хромовые сапоги с голенищами выше колен. Отомкнула замок, откинула крышку сундука. Мелькнули наклеенные изнутри пестрые бумажки, царские деньги, и реклама, на которой краснощекая и волоокая красотка зазывала в салон мастера Розенблата делать «вечную» завивку. Из вещей Матвея сохранились сапоги и «кавказская рубаха», похожая на военную гимнастерку, синие галифе. Свои наряды Ульяна за войну почти все износила да проела, давно уже не покупала обновок, а из старого сберегла лишь оборчатую юбку до пят и штапельную кофту-«гусарку».
Достала Матвеевы сапоги, развернула из свертка газет и поставила на табуретку, под свет каганца. Смалец густо покрывал хром, мягкая кожа матово лоснилась, не отражала света. Глянула на сапоги, и сразу наплыло, накатило, туман в глазах, лицо мужа проступает смутно, потом яснее, вот уже и сказал что-то, сам молодой, только что со службы вернулся… «Танцувать теперь буду. Чи негожий на такое дело?..» — «Гожий, гожий…» — «Не один казак сам соби шкоду шкодив, шо от молодой жинки у войско ходив…»
Поздно вечером она отвела корову в заготскотовскую конюшню и, воротясь в хату, долго не спала, все слушала и слушала ночь. Гурам спустился с горища, она покормила его картофельным супом, предложила ему Матвеевы сапоги — бери, примеряй.
Она все мытарилась, как втолковать ему про хату Устинчихи и второго разведчика и под утро все ж таки попыталась сказать. Гурам скрипел зубами, рубил стиснутым кулаком воздух, смотреть на него было больно — немцы всю ночь палили по краю станицы ракеты, а Псекупс от последних дождей вспучился, крутил водовороты, не переплыть такую взыгравшую речку, не перебежать, как в иное время.
Махнула Ульяна на все страхи рукой, решилась оставить Гурама у себя. Да только метнулся он опрометью за калитку, перебежал наискосок переулок и растворился, исчез во тьме шаром гонимого ветром перекати-поля, колючего и сгорающего в секунды…
4
Прошло два дня. Погода резко повернула к зиме, дождь опять сменился мокрым снегом. Потом подморозило, снег больше не таял, сыпал и сыпал на станицу, притихшую за эти дни в тягостном ожидании. Подробности ночного боя передавались из хаты в хату, заставляли людей опускать глаза и горестно покачивать головой.
Немцы отступили за косогор и оттуда сторожили подступы к станице, вниз спускались, чтоб добрать из хат свои пожитки, многое не могли взять с собой в отступ и кидали в кучи на подворьях, обливали бензином, поджигали. Горели в станице дымные, чадящие немецкие костры…
Днем Ульяна часто посматривала на хату Верки Устинчихи. На речку ли с коромыслом шла или за другим делом на свой двор выходила, но обязательно взглядывала на Веркино подворье — как там красноармейцы, живые ли, по-прежнему ли сидят на горище или ушли ночью к своим?
Один раз днем увидела, как несла Верка от хаты охапку сена в сарай и в этот момент на подворье вбежали два немца, оттерли Верку от коровы, один схватил в руки конец веревки и потащил корову из сарая. Верка заламывала руки, плакала, умоляла немцев, ее отталкивали в сторону прикладом автомата, она бежала вслед за немцами, уводящими ее корову, и голосила, голосила…
Под вечер Ульяна несла на коромысле воду из речки и увидела: мимо Веркиной хаты бежали немцы. Они приблизились к калитке. Вдруг резким ударом сапога один их них отбросил дверь хаты вовнутрь, взмахнул рукой и тут же отпрянул назад. Глухо рявкнул взрыв, из просеченной осколками кровли заструился желтый дым.
Казалось, хата загорелась и вот-вот соломенная крыша полыхнет большим пламенем. Но огонь не вспыхнул, дым от взрыва гранаты поплавал над крышей и растаял, ничто не отозвалось изнутри хаты, будто немец бросил камень, а не начиненное взрывчаткой железо. Не останавливаясь, немцы побежали дальше.
Ульяна следила за уходящими немцами и переводила глаза на Веркину хату — не случайно ж кидал немец гранату, значит, кого-то заметили и убили той гранатой? А может, только поранили? Раненый человек подал бы голос…
Она стояла с коромыслом на плечах, ждала, высматривала. Немцы ушли. Но Ульяна все стояла, не трогалась с места и ничего не смогла больше высмотреть на Веркином подворье.
В горнице она поставила ведра на столик к углу, присела рядом, руки опустила. Когда ж все это кончится и перестанут убивать немцы людей? Опять она стала случайным свидетелем, как третий лишний в драке. Мало ей того, что взяла на свои глаза в ту ночь, когда шли красноармейцы в темноте на смерть, кричали «ура» и на каждый русский крик летели злым роем немецкие пули? Мало ей того видева и горя? Людей убивают, а ты ничего не можешь поделать и берешь на себя чужую вину, душу свою терзаешь вопросом: доколе ж то будет твориться?.. Доколе?
Мысли Ульяны рвались клочьями, ничего целого из них не удавалось скроить, и снова вспоминала о взорванной немцами гранате. Гадай не гадай, а пособлять поздно… Последние слова она сказала вслух и вздрогнула от звука своего голоса — до чего дожила баба от такой жизни, нехай она сказится! Но потом продолжила разговор сама с собой, о корове своей повздыхала — не нашли б ее немцы в заготскотовской конюшне, по следам на снегу не приметили б схоронку худобы. О следах на снегу она помнила, из-за них к хате Верки Устинчихи ни разу не наведалась ночью, боялась, что заметят немцы утром следы во дворе и овчарок на красноармейцев натравят. Вот и нашла себе оправдание, вот и полегчало, можно теперь жить дальше. Не было на том горище никого. Пересидели там красноармейцы один день, а ночью ушли за Псекупс к своим. Чего бы не уйти, если с разведкой не повезло и сил маловато для штурма станицы? Вон сколько у немцев на косогоре пушек, и пулеметы возле блиндажей на Татарской горе. Сама те блиндажи копала, глубоко заставляли рыть землю, из тех нор немцев трудно выгнать, ой как трудно… Значит, пособила ворогам больше красноармейцев убить? Свят, свят, святый боже… Я ж боюсь мертвоты, через то болею, если возьму на глаза. Пора до людей притулиться, нельзя ж тут самой — тут и грудь и спина у цивильных под пулями…
Только было надумала Ульяна большой плат на столе расстелить и завязать в него узел пожиток, чтоб хоть с чем-то из хаты к добрым людям уйти, не с пустыми руками встать под окна и христарадничать, как к ней самой гости в хату пришли — Елька Грущенчиха попросилась на ночлег и детвору с собой привела. Наполнилась Ульянина хата женским бойким разговором, детским щебетом, порскливой беготней. Детворе молочко нашлось, пляцики, припечек для согрева, накормили и быстро спать уложили малых. А старым не спалось.
Ульяна и Елька лежали на одной кровати, говорили, говорили, до утра хватило б им разговоров. Елька тоже, как и Ольга Куренчиха, была родом из Пензенской станицы. Работу сама нашла себе в конторе «Заготскот», а жилье ей как многодетной матери стансовет выделил в пустующей хате у Холодного ерика — давно пустовала там земля, — и дополнительные участки под огород им выделили возле Псекупса, рядом. Особенно удачно вызревала там кукуруза, по два, а то и по три початка на одном корню Ульяна брала, но и сажала хитро, как ее научила одна черкешенка, лунку делала под зерно большую, как для картошки. Тот секрет Ульяна и Ельке передала, они после и подводу брали одну на двоих, чтоб кукурузу домой возить со своих подсобных участков. В общем, не просто были знакомыми, считались корешками, и сегодня обе рады были встрече, слова для разговора легко находили. Тема, конечно, одна больше всех других интересовала: сколько еще немцы продержатся в станице и как они людей обижают.
Голос у Ельки басовитый, а на слух туговата, любит больше сама рассказывать, нежели слушать других. Ульяна знала эту ее повадку, не перебивала без большой нужды рассказы гостьи. Говорила Елька больше о своих постойщиках-немцах, чье поведение было почти во всех станичных хатах одинаковым. Верховодил в ее хате капрал Гюнтер, прозванный ею Гунтырем. Он и солдатню другую пристраживал, и прикармливал Ельетну детвору, когда поступали из Германии посылки. На этот момент всегда кто-нибудь из солдат оказывался штрафником — его посылку Гюнтер отдавал хозяйке. Детвора постоянно вертелась возле этого старшего по чину немца, чуть ли не в рот ему заглядывала: какой гостинец сегодня даст?
— И шо ж ты думаешь, тот Гунтырь посылками наших красноармейцев встретил, когда ночью они на нашу хату наскочили? — спросила Елька басом, и Ульяна поняла, что для самой себя та вопрос задала. — Нас под пули посажал — вот какие им посылочки наготовил! У нас хата без сенок, две комнаты с одной дверью. Наше окно на Холодный ерик выходит, туда он и посадил меня с детворой на койку — прямо под окно, а сам с пулеметом сел к другому окну, шо на станицу. Наверно, ждали уже немцы наших той ночью, когда разведка «ура» кричала. Винтовки застукали за Холодным — немец Гунтырь сразу до нас. Передвинул койку от боковой стенки до окна, детвору туда, как цуценят, — кыдь, кыдь, та на меня пальцем — сидай, мамка, с ними. Сам до пулемета побег, а на нас винтовки другие немцы держат на сготовку. Сидим, затуляем окно, шо ж тут поделаешь, жить же охота, и детвору жалко. Подбегает до окна русский, вижу, шо плащ-палатка на нем, в руке граната — щас кинет в хату, убьет нас всех! «Не кидай, — кричу, — мы русские! — и в форточку сама голову высунула: — Не кидай, а то дитей поубиваешь!» Он руку с гранатой опустил и просит: «Мамаша, дай что-нибудь покушать… Дай скорей!»
Просунула кусок мамалыги в форточку: «На, поешь та тикай от окна…» Побег, мамалыгу на ходу кусает. За угол хаты завернул, а тут немыц Гунтырь из пулемета от другого окна — прямо ему в спину!.. Так с мамалыгой в руке и упал, кончился… Ой, Ульяша, богато же тех разведчиков тогда полегло!.. А мы ж перетрусились за себя самих, та за детей, та за добро свое… Немцы, когда наших разведчиков поубивали, у Холодного опять цепью залегли, стреляют, а дальше вперед не лезут. Слышу, Абросимчиха кричит: «Пан, не стреляй! Пан, не стреляй!.. — Выводит корову свою прямо на немецку цепь: — Пустите пройти до станицы, а то там дуже стреляют!» Немцы погуркотили, до себя взяли. Значит, корову ей свою так жалко было, шо и от своих до немцев перекинулась? От идолова душа!
Елька прервала рассказ, ждала, что Ульяна тоже начнет ругать Абросимчиху. Ульяна отмолчалась. Выходит, и Ельке удобнее в свидетелях ходить и других виноватить, чем самой быть виноватой. И ту Абросимчиху спроси — тоже расскажет, как много наших разведчиков немцы погубили, и похрестит, наверно, ворогов, а русских пожалеет и скажет, что с перепугу ту корову на немецкую сторону погнала. Немцам того и надо, чтоб цивильные русские в драку не встревали, привыкли плевать на всех цивильных, ни за людей, ни за воинов не признают — пустое место, на глаза нечего брать. И на Малиниху так залютовали, до «глинищей» приставили, шо не такая баба, какой считали. Вот с кем щас побалакать бы…
5
И еще три дня тянулась военная передышка.
Немцы пока удерживали Псекупскую и сюда торопились вывести остатки разгромленных в горах гарнизонов и обозы ближних тылов.
В станице опять стало многолюдно. От Горячего Ключа, Калужской, Суздальской и Бакинской станиц отступало сюда побитое немецкое воинство, солдаты были грязными, небритыми, многие были перевязаны бинтами, утратили весь свой воинственный пыл, с каким подступали осенью к горам.
Дождались станичники вражьего позора, осмелели, забегали от хаты к хате с одной общей радостью. В некоторых подворьях собиралось по нескольку семей, чтоб вместе переждать остатние часы неволи, люди много говорили, взглядывали через окна на отступающих немцев, как узники, нетерпеливо ждали освобождения.
Ульяна и Елька Грущенчиха ушли на Широкую улицу к Орьке Кустенчихе. Орька за время оккупации поистратилась здоровьем и норовом сникла, встретила их не очень приветливо.
— Некуда вас, дивчата, принять.
— Та мы хоть в погребе или в сарае пересидим…
— Не, не. Сарай занятый — там уже ховаются люди. А в погреб нельзя…
Не узнать Кустенчиху. Скажет что-нибудь быстро и губы прикусит, крючковатый нос книзу наклонит, будто слушает уличный шум, на двери хаты огляды держит. Так лесная пугливая птица от своего гнезда опасность обычно уводит, спасая птенцов.
«Страх Орьку оплутал, — приглядывалась к ней Ульяна, — а была ж отчаюгою. Все мы теперь кручены та биты». Она уже знала, что в недавнем ночном бою красноармейцы прорвались и к Широкой улице, здесь затеяли перестрелку с немцами, и шальная пуля убила Орькину корову. Мясо, конечно, не пропало, Орька разрубила коровью тушу на куски, спрятала в землю на огороде, так что мясным пропитанием сейчас была обеспечена, но разве ж в радость хозяйке убитая корова? А все ж таки то уже позади, что случилось с Орькиной коровой. Почему ж до сих пор не выправилась баба? Какую такую заботу не спроворила, что она ей покоя не дает? Чужая душа — потемки, верно сказано.
Гостьи молча топтались на снегу, детвора плотнее облепила Ельку Грущенчиху, годовалую дочку та держала на руках. Из окон Орькиной хаты выглядывали ее дети — дочка и сын, плющили носы о стекла. Она оглянулась от крыльца туда, погрозила пальцем и вдруг резко присела и крикнула:
— Та-та! Та-та!
Орькины дети порскнули от окон.
— Вот так вас. А то повылуплялись, як наче людей не бачили. — Орька шагнула со ступенек крыльца, оскользнулась кожаной подметкой бурок о льдистое крошево и схватила Ульяну за руку — то ли здоровалась, то ли равновесие хотела удержать. — Ладно, дивчата, рази шо в хате переспите покотом на полу. Трое малых с вами, а то не пустила б…
— Дома на своих пуховых перинах отоспимось, а в гостях — куда хозяйка покладет, — пробасила Грущенчиха, покачивая на руках грудную дочку, а остальных подтолкнула локтями вперед. Ульяна взошла на крыльцо последней. Она не задавала Орьке вопросов, соглашалась и с малым квартирантским уютом.
Когда гостьи сложили свои пожитки, присели и расслабились немного в теплой хате, а Елькины дети уже с Орькиными общие дела нашли, Кустенчиха сказала:
— Пришли до меня живыми, так слухайте, шо я вам скажу: ни сами, ни детвора днем за порог хаты ни шагу. Если прийдут немцы, молчите, а то не дай бог на моем подворье стрелять начнут. И те, шо проходят мимо хаты, нехай идут своей дорогой, вы на них через окно не выглядайте. Приемна вам моя хата, значит, делайте, як я кажу. А нет — шукайте себе другую.
— Ты, Орька, як наче тот Дьяченка, даешь приказ, — махнула на товарку Грущенчиха.
— В своей хате — своя и правда.
— Та ото ж. Другую шукать не пойдем, — примирительно кивнула Елька и опять, как и во дворе, покачала на руках дочку.
— А для меня твой приказ не приемный. Я днем на горшок не сидаю и в своей хате, а в чужой и подавно не сяду, — поднялась с лавки Ульяна. — Так шо я за порог пошла. Ховайтесь вы тут без меня и сами за собой горшки выносьте. — Она запнула расслабленный моток головного плата, потом подхватила на руку свой узел с пожитками и вышла.
«Не выкинет теперь Орька на глаза, шо под захист своей хаты в лиху годину принимала та на свой горшок сажала. Ще и брешет про свою правду в своей хате, а про то, яка правда схована в погребе та в сарае, молчит. Может, из хаты Устинчихи до Орьки перебегли разведчики? Потому и немцы кинуть кинули гранату, а сами на горище не полезли? На всякий случай кинули ту гранату в пустую хату? Через то и Орька трусится за свой погреб, а то не сказала б про порог и про немцев».
Ульяна брела с узлом пожитков назад в свою хату, рассуждала вслух. Сама себя на одиночество вытолкнула и теперь в надумках покаяние себе выговаривала. Одиночество русской бабе — самая горькая мука, сродни покаре господней, подобно бесплодию. Ульяна была матерью, жила сердцем, а сердце, как верно подмечено, умнее головы. Скажи ей Кустенчиха доброе слово при встрече, хорошо в глаза посмотри — засветилась бы Ульяна вся изнутри ответно, не помыслила б остаться в долгу за добро, за участливый интерес к ней, к ее судьбе. И это чувство было ее правдой. Своя правда, а вернее, своя правота, была и у Орьки. Может, столкновение яснее всего выявляет истину и высекает искру надежды на справедливость в этом мире?
Был канун освобождения станицы, последняя передышка перед штурмом.
Утром возле Холодного ерика взлетело на воздух несколько хат и еще последовали взрывы — немцы порушили жилье станичников, расчищая сектор обстрела. Красноармейцы сумели подтащить свои пушки за Холодный ерик и оттуда ударили залпом по немецким позициям на косогоре. Началась артиллерийская дуэль. Немцы, стреляя сверху, быстро накрыли снарядами красноармейскую батарею, перенесли огонь дальше к горам, постреляли туда вслепую, для острастки. На этом громкая стрельба смолкла, зависла гнетущая тишина. Где-то накапливались для штурма станицы красноармейцы, нервной дрожью стучали время от времени немецкие пулеметы с Татарской горы, простреливая низину перед Псекупсом и за Холодным ериком, взлетали разноцветные сигнальные ракеты — бой мог возобновиться с часу на час.
Немцы не надеялись удержать оборону, сняли с косогора артиллерийскую батарею, заменили ее гусеничным броневиком, он выполз вверху, как паук, стрельнул вдоль Широкой улицы, откатился назад, исчез, минутами позже выставился в другом месте на верхней кромке косогора, нацелил дула пулеметов вниз, угрожал смертью.
Красноармейцы появились из-за Псекупса ближе к вечеру. Короткими перебежками пехотинцы по одному проникали в сараи табачных сушилок, там выждали, пока соберется побольше группа, и оттуда рванулись вперед по Береговой улице, свернули на Широкую. Густые и высокие будылья бузины, как лес, росли тут на просторном прогоне, сквозь них красноармейцы незаметно пробежали низинное место перед косогором, где вверху ползал немецкий броневик. Двое пехотинцев бежали в атаку с длинными бронебойными ружьями — на бронебойщиков была вся надежда наступающих.
— Фитисо́в, вперед! — командовал лейтенант-осетин. — Хачатрян, заходи отрава!.. Вперед!.. По браневику — агонь!..
Немцы сверху заметили атакующих высоту красноармейцев, повели частую заградительную стрельбу. Опаснее всего стреляли из броневика. Пули пэтээровцев рикошетили по его овальному брюху, будто дразнили паука, и он плевался пулями чаще, делая паузы, высматривал, откуда на него нападают, снова посылал вниз очередь за очередью, а сам оставался неуязвим.
— Фитисо́в, меняй пазицию! — кричал внизу командир взвода пехотинцев. — Хачатрян вышел из строя, на тебя, дарагой, вся пехота смотрит!.. Падбей, слушай, Петя, ноги этаму фашистскаму гаду!..
Молоденький бронебойщик заскочил в кирпичный дом, в котором был раньше станичный продуктовый магазин, выставил в окно длинное дуло противотанкового ружья, стрельнул по броневику раз, другой — не подбил. Броневик снова уполз за косогор. Фитисов скрутил цигарку «козьей ножкой», покуривая, ожидал удобный момент, но опытные немецкие вояки засели в броневике, не подставляли под удар уязвимые боковые борта машины и стреляли умело, заставили пехоту приостановить атаку.
Фитисов поудобнее устроился на своей позиции, лег за окном на длинные деревянные магазинные полки, вытянулся на них во весь рост, изготовил к стрельбе свое боевое ружье. И тут снова застрочили пулеметы немцев из броневика, метя на этот раз именно в бронебойщика (наверно, высмотрели через бинокли, где он укрылся), и подбили парня, он схватился за раненую ногу, втянул вовнутрь магазина свое длинное ружье, опираясь на него, как на костыль, похромал в безопасное место.
Только на присмерке подобрался к ненавистному вражьему броневику смельчак пехотинец и бросил под гусеницы несколько гранат, перебил ему паучьи ноги, заставил умолкнуть пулеметы. А с Татарской горы немецкие пулеметы огрызались до полуночи — там немцы глубоко спрятались в землю, сопротивлялись отчаянно, как обреченные.
Немцев изгоняли в эти дни с Кавказа по широкому фронту. Они спешили выскочить из горных ущелий в ставропольскую и закубанскую степь, сплошного фронта уже не существовало, немцы метались в предгорье, нашествие оборачивалось опасливым бегством. Скрылись оккупанты и из Псекупской.
6
Ульяна обнаружила себя под кроватью в спальне. Лежала на полу, прислушивалась к наружным звукам, удивляясь, что утро занималось спокойно и тихо. После вчерашней кутерьмы в тишину было трудно поверить, она казалась всего лишь затишьем, короткой паузой, божьей милостью за пережитые страхи и поруху. Закрытые ставни сбивали ее с толку — может, за ними хмарая ночь и в узкие щелки сочится лунный свет, холодным лучом шарит по оконным стеклам? Значит, до нового дня еще далеко, есть время взять в думу вчерашний.
На глаза, на повторный погляд, выкинуть почти нечего — весь день перебегала с места на место в темной хате (окна закрыла ставнями с самого утра, едва уняли стекла дрожь от первых немецких взрывов), как слепая, хваталась за стены руками, вставала и падала, ползала на коленках, незрячими очами вышаривала в хате место понадежней, нигде не чувствовала себя в безопасности. Красноармейские пушки стреляли за Холодным ериком залпами совсем близко, хата отзывалась на выстрелы резкой встряской и нутряным стоном, будто вторила эху и корчилась болью, как живая. Ульяна тоже постанывала от страха, что-то кричала, творила молитвы, цепенея, ждала ответных выстрелов немецких пушек, каждый немецкий снаряд, считала, бил в нее.
В какую-то небыль ввергнулся вчерашний день, мучилась долго, а вспомнить нечего, даже самой малой работы не сделано ни для себя, ни для худобы. Разве то жизнь? Вчера будто сорвалось в ней что-то главное, на чем она удерживала себя все полгода постылой жизни при немецкой оккупации, будто вынашивала дитя, жила материнством, сквозь все запреты чужеземцев прорывалась, наконец дождалась последнего дня и вдруг вся сокрушилась. Не было сил даже бога позвать, царице небесной пожаловаться. Не было ни бога, ни богоматери, и ничего не было святого ни на небе, ни на земле, живых людей не было — все обращалось в поруху, в тлен, в дым, в пламень, в геенну огненную, в нежить. Осталась одна в пустой хате…
Где сыночек? Где люди живые? Живая ли сама?
Наверно, все ж таки уже утро, значит, поспала, укаталась в уморе, пора жизнь дальше править и на божий свет себя выводить. Сейчас понятней и ощутимей донимала худливая плоть, в одной позе не улежать долго на досках — то бока заболят, то крестец, вставай, баба, на легкие ноги. Но еще помедлила, прикинула, на какую работу себя настраивать. Первая утренняя работа всегда для коровы, ей самые ранние хлопоты. Последнее время эту работу пришлось передвинуть на ночь. Теперь отбили всем ворогам охоту шлындать с винтовками по станице. Господи, даже не верится… Спасла царица небесная и помиловала… Щас я побалакаю с тобою, щас всю правду скажу, за себя и за сыночка спытаю…
Вытолкнула свое костистое тело из-под кровати, устроила себя на согнутых коленях перед иконой богоматери и начала кланяться до пола и носить щепоть ко лбу, плечам и до поясницы: «Маты, царица небесная…»
Шептала слова поначалу тихо, но постепенно выправила голос, и звучал он крепко. Все нетерпеливее задавала Ульяна вопросы небесной матери, того и гляди, заставит сойти на землю, а здесь уже проще доказать ей свою правду в своей хате.
Всего несколько минут простояла Ульяна на коленях перед иконой в спальне, на свежий воздух выйти скорее захотелось. Икону Христа в горнице она обкидала щепотью торопливо и «Отче наш» прочитала скороговоркой: работы домашней невпроворот и перемены в станице своими очами посмотреть хочется, чтоб знать, как жить с людьми дальше. Но вышагнула за порог хаты, на сарай глянула пустой и сразу на корову хлопоты направила. Живая Верба? Без корму ж стоит вторые сутки в заготскотовской конюшне… Подхватила на руку ведро с водой, побежала за калитку приседающим скоком, второй рукой широкий подол юбки придерживала, чтоб грязью не пачкалась одежка.
Пригнав корову домой, Ульяна взялась чистить ее всю и мыть ей вымя. За работой она мало обратила внимание на приход Одарки. Та несколько раз забегала в сарай — побалакать, мол, до вас, кума, треба, но Ульяна просила «трошки подождать» — знала, что золовка осталась без коровы, так что сейчас ей нужно для детворы молоко и с пустыми руками от родички не уйдет.
«Не от Одарки ли, случаем, до немцев дошло о разведчиках в хате Устинчихи? — подумала она вдруг и сама испугалась своей догадки. Вспомнила, как часто Одарка хвасталась, что переводчик словак Ян заступается за нее, помогает отбиваться от немцев. Вот и недавно рассказала случай. Понимали немцы, что скоро погонят их из станицы, и постойщик-комендант сказал Одарке, чтоб подальше прятала харчи свои, а то придут, мол, комиссары и все съедят. Одарке бы промолчать, а она брякнула: «Вот и хорошо, нехай приходят». Немец аж побелел от злости и за пистолет схватился. Убил бы, если б переводчик Ян за руку не удержал. Может, и за корову она Яну заикнулась, а заодно и про красноармейцев сказала? Вот же дурна, если так то было…»
Управилась с коровой и вошла с подойником в хату. Половины ведра не надоила, но и тому молоку была рада и, если б не тот случай с гранатой, предложила бы Одарке каждый день приходить и брать глечик молока для детворы. По-другому все оборачивалось теперь, не шел тот случай из головы, травил душу. Хмуро посмотрела на сидящую за столом Одарку, на ее кошелку, которую та сразу подхватила на руку, будто собралась уходить.
— Кошку накормить хватит с удоя? — спросила было Одарка, чтоб взять разгон в разговоре, а то засиделась, игра в молчанку не для нее, но под взглядом Ульяны сникла и затеребила кисти платка: — Пойду я, кума, а то детвора потеряла уже меня.
— Погодь, Дора, — Ульяна взяла из ее рук кошелку, отставила в сторону. — То ты сказала Яну про красноармейцев?
— Сдурели вы, кума? Рази ж я гавкала сучкою на людей? Лидка Воловичка — та сказала б. Той со своим кобелем все равно на кого брехать, абы немцы ей мяса кинули… — Одарка отвернулась, зашмыгала носом. — Мы ж с вами, кума, спокон веку родичались, и вы ж меня вкручуете…
Ульяна молча придвинула к себе кошелку, налила в Одаркин глечик молока, посоветовала:
— Ты передо мною не трусись — то я так спытала. Дети ж у нас…
— Если б не было, может, греха не боялась.
На том они и разошлись.
7
День выправлялся. С утра был легкий морозец, снег хрустел под ногами, искрился под солнцем, казалось, что сам воздух был теперь другой, дышать стало легче, смотрелось вокруг шире. Над крышами хат заструились в чистое небо дымки, миром и покоем начиналась жизнь в станице.
Немцы за ночь исчезли, не напоминали о себе никакими звуками: ни словесной чужеземной гуркотней, ни рыком своих машин и мотоциклов, ни выстрелами. Но и красноармейцев Ульяна все утро не видела на станичных улицах. Вслед за отступившими немцами ушли? Или, как той ночью, наскочили, наделали в станице сполоху да и опять вернулись в горы, как партизаны? Пойду к Маруське Любивой, крупорушку свою заберу и побалакаем.
Мария Любивая жила наискосок, по другую сторону Холодного переулка. Едва Ульяна переступила порог ее хаты, как та огорошила новостью:
— Кононовна, а у меня гости! Наши уже в станице!
Мария прошлась игривой походкой к русской печке, и Ульяна, следя за ней недоверчивым взглядом, увидела развешанные перед шестком портянки и солдатские ботинки на полу, услышала мужской храп с лежанки. Сама Мария принарядилась, ситчиковая васильковая кофта очень шла ей под цвет глаз, и черная юбка плотно обтягивала бедра. Рыжие вьющиеся волосы она недавно вымыла и еще не успела просушить, но сережки блестели уже на мочках ушей, успела подцепить и встряхивала возле них кудри волос кончиками пальцев.
Так это все было неожиданно (или слишком долгожданно?) — и соседкин модный наряд, и безмятежно спящие на печи красноармейцы, — что Ульяна не смогла удержаться от вопроса:
— Ой, Маруся, совсем они пришли? Больше не отступят? — И сгребла принаряженную соседку, затискала: — Не дай господь, если отступят…
— Не отступим. Теперь везде капут фрицам! — Занавеска на русской печи отдернулась, с лежанки свесил голову молодой красноармеец, румяный и блаженный со сна. — Неплохо бы по такому случаю горилки, а? — он щелкнул себя по горлу.
Ульяна опустилась на лавку, смотрела на красноармейца растерянно, борясь с желанием броситься к нему на шею, обнимать, целовать, как сына. Слезы сами собой навернулись на глаза, лицо молодого солдата увеличилось, стало расплывчатым розовым пятном.
— Рази ж нам, родненький, до самогонки было при немцах? — произнесла она прерывисто, делая паузы между словами, — трудно ей было говорить сейчас, но и не тягостно, как с тем разведчиком Гурамом. И она повернулась к хозяйке: — Маруся, айда со мною до Веркиной хаты. Там двое красноармейцев ховалось, а немцы ж гранату на горище кидали…
— Про ту гранату я знаю, — ответила Мария, становясь озабоченной. Она быстро оделась по-уличному и кивнула солдату на спящих в кровати трехлетних девочек-двойняшек: — Поухажуй пока за дивчатами, я скоро вернусь.
Солдат спрыгнул вниз, потянулся:
— С голодного кавалера какой толк?
— Та картошку я уже сварила, — откликнулась Мария, — и в погреб не отнесла под замок.
— Оце добре, — обрадовался солдат, потирая руки. — Оце казачка. — И он вытянул губы, тряхнул стриженой головой, изображая воздушный поцелуй.
— Ты не придурюй, як циркач. Я тебе ухи надеру, если в хате шо случится. — Мария скорым шагом пошла к двери.
Они спустились по Холодному переулку вниз, миновав хату сестер Удовенчих, повернули налево. Тишину нарушил гул самолетов — это быстро летели от солнца два «ястребка». Над станицей они сделали вираж, хорошо были видны красные звезды на крыльях. Ульяна и Мария замахали приветственно руками (наши, наши летят! Ура!), но радость быстро погасла, когда они подошли к подворью Устинчихи. Ни одного следа не было на снегу, нежилым духом повеяло от закрытых ставен, и они переглянулись: что будем делать?
— Давай побольше соберем баб? — предложила Ульяна. — А то я боюся мертвоты.
Оказалось, что почти все соседи знали о разведчиках, к хате Устинчихи согласились идти еще три женщины. Почему-то не видно было нигде самой Верки. Хозяйка хаты, где она квартировала, сказала, что та ушла от нее два дня назад. Больше искать не стали, говорливой бабьей компанией вернулись от Широкой улицы на Береговую, а перед калиткой нежилого подворья притихли, затолкали друг дружку локтями, никому не хотелось заходить первой — пропустили вперед Ульяну. Закрытая изнутри дверь хаты опять всех озадачила: никто из них не рисковал зайти на Веркино подворье после наскока немцев.
— Эй, хлопцы! — закричали бабы разом все. — Открывайте! Нема уже немцив в станице! — Стали колотить в дверь кулаками, плечами толкать. Не отзывались изнутри живые. Бабы ослабили напор, перестали закликать, и тогда в тишине уловили шумок ворохнувшейся на крыше соломы. Как по команде, все вскинули глаза кверху. Кто-то продирался там сквозь снеговой куржак и солому, прогреб дыру, высунул макушку серой шапки, а после и мужское лицо обозначилось, да было таким замороченным, что бабы закрестились.
Худой человек в шапке со звездочкой смотрел вниз. Он хрипел и не мог ничего сказать. Закрыл глаза, протиснул к шапке руку, шевелил пальцами, стараясь догнать, коснуться чего-то ускользающего, досадовал, что сил не хватает, и дышал надсадно, хрипом исторгал себя наружу. Вместо слов он показал растопыренную ладонь, поочередно складывал пальцы. Женщины поняли: их там пятеро. Эта новость придала им силы, они все нажали на запертую изнутри дверь хаты, выдавили засов и повалились в сенцы.
Из чердачного люка высовывались красноармейцы. По впалым щекам красноармейцев текли слезы, опущенные вниз руки понятней всяких слов показывали радость. Женщины тоже заплакали, хотели поскорее поздороваться, подпрыгивали снизу, норовя коснуться солдатских рук.
Ульяна первая дотянулась до чьей-то протянутой сверху ладони и вдруг почувствовала, что холодные пальцы красноармейца сопротивляются, он хочет собрать их в кулак, а сил мало, сжать кулак он не может и дергает назад руку, будто пойманную в капкан. Ульяна тревожно глянула вверх и натолкнулась на злые глаза Гурама. Она тотчас выпустила его руку и отошла в сторону.
Соседки гомонили и плакали от радости, что видят столько спасшихся от немцев разведчиков, но радость эта отдалилась от нее, чужой себя здесь она почувствовала, горечь одиночества растекалась въедливой тоской. И когда красноармейцы рассказывали, как они сидели тут голодными пятеро суток, слизывали от жажды иней со стропил и соломы, отощали до того, что без помощи и с чердака не могут спуститься, а бабы заревели в голос, теперь уже от жалости к военным страдальцам, Ульяна стояла молча, глаза ее были сухими, невидяще буравили светлый квадрат, отпечатавшийся в сенцах от распахнутой наружной двери.
— Будем по одному брать хлопцев до своих хат, — сказала Мария Любивая. — Ты, Кононовна, не возьмешь? То больше всех хлопотала, а теперь — гайда, бабы, я пошла в сторону?
— Не чипляйся! — огрызнулась Ульяна. — Я не бесхатняя.
Сил у красноармейцев было совсем мало, и они просили скорее дать им хоть что-нибудь пожевать съестное. Но станичницы были опытные в таком деле, по себе знали, что такое голодовка. «После, родненькие, после пособим с едьбою, потерпите, а то от сухоежки пропадете», — объясняли они.
На перекладины лестницы настелили бабы свои фуфайки и по ним осторожно снимали голодных красноармейцев вниз. У Гурама оказались отмороженными ноги, а выглянувший с крыши был контужен, с ним пришлось труднее всего. Говорить он не мог, жалобно хрипел, показывая на открытый сухой рот и опираясь на приклад автомата; на ремне у него висел нож с целлулоидной цветной рукояткой. Такого оружия не было ни у кого из всей группы спасшихся разведчиков, чувствовалось, что он держался на особом счету, привык действовать сам и подталкивать к действию других. Ульяна выделила его в свою хату, узнала, что его зовут Федей. Гурама взяла Мария, сбегав за подмогой к своим постойщикам, остальных разобрали по хатам соседки.
По дороге к хате раненый присмирел и ноги старался ставить тверже, хотя вид у него был куда как не бравый. Ульяна несла автомат в левой руке, а правой подхватывала Федю под мышку. Он был ниже ее ростом, часто останавливался передохнуть. Измаявшись, она решительно зашла вперед, подкинула на закорки и понесла.
В хате первым делом взялась кипятить воду. Пока кипяток грелся и остывал, снова с беспокойством голодного человека мычал молодой разведчик и показывал знаками, что хочет похлебать чего-нибудь.
— Подожди, родненький, я пока не варила, — втолковывала ему Ульяна и переворачивала перед его глазами пустые чугуны и кастрюли, — щас сварю, щас…
Покормила она Федю первый раз картофельным супом, кукурузный пляцик, прежде чем дать, в кипятке размочила. Федя следил за каждым ее движением, крутил головой, захватывал ложку зубами. Ульяна легонько дергала деревянную ложку назад, успокаивала:
— Не захватуй, не захватуй. Супа богато, больше никому не отдам. Потрошку будешь исть, а то желудок твой щас негожий. Привыкнет к горячему, тогда и наисысь до пуза…
Все, что осталось из варева, она вынесла в сенцы — не дай бог изголодавшийся хлопчик съест много и пропадет, бедный, от заворота кишок. А самого Федю уложила в койку, накидала сверху побольше покрывал, чтоб скорее согрелся и уснул. Пока печка была горячая, она прокипятила в большом чугуне его солдатское обмундирование, потом выстирала все, кроме ватника.
За всеми этими хлопотами Ульяне в этот день так и не пришлось по-настоящему порадоваться освобождению из немецкой неволи и настроить себя на ожидание сына. Война откатилась от порога ее хаты, но еще далеко и долго предстояло идти от этого поворота к доброй мирной жизни. Впрочем, она никогда еще не жила бесхлопотно и беспечально.
8
Контуженый красноармеец креп день ото дня. К нему вернулась речь, не совсем чистая, правда, с заиканием, но человек на глазах менялся, обретал самого себя, был рад этому и выражал свою радость по-молодому бурно.
— Мам Уль, а я п-парень ничо? Ж-женить пора? Давай казачку сватать?..
— Подожду, пока чуб и усы казацкие отростишь, — в тон отвечала Ульяна. Федя трогал стриженую макушку и рыжий пух над верхней губой, сокрушался:
— Ус-сы и у к-кошки есть…
— В нашей станице теперь женихов богато. И с золотыми погонами, як у кадетов были, появились.
Ульяна поджимала усохшие полоски губ и вспоминала своего сына. «Где ж ты, Митенька? Где? Я тебя жду не дождуся…»
И все ж таки выздоровление красноармейца и его бойкость отвлекали от кручины. Поначалу ей было жалко беднягу. «От гранаты немецкой другие сховались, — думала она, — а его, дурня, оглоушило. Не убег подальше за дымарь, как другие, а с автоматом до люка полз: хоть одного немца убью, чем ждать, пока гранатами закидают. Молчком после и корчился, ранетый, товарищей не хотел выказать своим покриком, та те хитрей оказались».
Мысли эти приходили мельком, вскользь, и на Федю она тогда смотрела как на случайного квартиранта — побудет недолго в ее хате хлопчик и уйдет опять воевать, она скоро забудет его, своих забот хватает. Но Федя слишком быстро освоился в ее хате и не походил на квартиранта. Фамилия его была Савостин, родом из брянской деревни, родители рано умерли, с восьми лет он кочевал на Украине по детским колониям и приютам, да еще и сестренку и братуську всюду возил с собой. В одном месте их задержит милиция, они приживаются все трое, потом Федя исчезает в разведку, ищет, где есть лучше колония, а сестренка и братик ждут, и скоро перелетная стайка малых сироток опять взлетает.
— Значит, босотою ты был до войны? — спрашивала Ульяна. — И как тебя в Красную Армию взяли такого?
— А вот взяли и на офицера еще послали учиться, да я утек из училища на фронт. Вот такие пироги, мамуля. — Федя чуть ли не с первого дня свел два слова и получилось ласковое обращение, приятное для Ульяны. Станичники давно Полукаренчихой или по отчеству ее закликали. А красноармейцы зовут «мамулей», как сыночки. Чего лучшего желать одинокой бабе? — Так что не «босота» я, а доброволец Рабоче-Крестьянской Красной Армии, — пояснял Федя свое теперешнее положение. В данное время нахожусь во втором эшелоне, значит, в пути на фронт опять. Азимут у меня точный, и боевой счет личной мести врагу имею — девять фрицев уже уложил в «ящик». А ты, мамуль, говоришь «плохо подстрижен и без казацких усов». Погоди, оклемаюсь, посмотрим, какие фраера в вашей станице.
— Ты, хлопчик, не матюкайся. Шо ты швыдкий, то я бачу, но в моей хате на уркачей моды спокон веку не бывало.
— Опять двадцать пять. Перебор. Полюбил мамулю, а она сердитая…
— Ты сперва сбрешешь, а посля чуб чешешь…
Слова словами, а едва Федя оправился от голодухи, как стал искать какого-нибудь дела и, пока был слаб, взялся художничать. Рисовал Федя на обложках Митиных книг и тетрадей, которые нашла Ульяна на горище. Сначала что рука выведет — мужские и женские профили, картинку с пачки папирос «Казбек» (на фоне высоких гор скачет всадник в папахе и в бурке), а потом вдруг объявил, что хочет нарисовать ее портрет.
— И не выдумуй, — отмахнулась Ульяна. — Таку страшну только под крест покласть, а не делать с меня партрет чи малюнок. Обезьяной стала тетка Ульяна.
Сказала для отговорки, а вспомнила старшую сестру Акулину. Увез ее грек в Сухуми, да и самого, вместе с другими греками, не принявшими советского гражданского подданства, вывезли на пароходе в Грецию. Другого мужа нашла Килька — военного, и опять неудачно: исчез незнамо куда сухумский комендант. Осталась Килька безмужней, за обезьянами в питомнике ухаживала, с ними фотографировалась. «Нехай они сдохнут, те мартышки краснозади», — плевалась Ульяна, получая до войны в письмах от сестры такие снимки, и Кильку не жалела: слишком уж та загордилась в своей городской жизни, нарядами перещеголяла сестер, а детей бог не дал.
И сейчас вроде бы для сравнения посматривала на свой портрет, станичным фотографом сработанный. Был на снимке солнечный день, и Ульяна стояла под вишней, чуть прищуривая серые глаза; белое платье с прямыми плечами молодило ее и придавало уверенности и той чисто женской гордости, какая сквозит часто во взгляде зрелой женщины, у которой все в жизни складывается хорошо: есть муж, дети, достаток и до старости еще жить и жить да радоваться. Фотографировалась она в тридцать седьмом году, когда жизнь ее в лад вошла… Матвей работал кузнецом в МТС, Митя учился в школе, вытягивался ростом в отца, а она работала в полевой бригаде военного подсобного хозяйства, ходила в ударницах, и, будь грамотной, назначили б звеньевой.
Этой фотокарточкой Ульяна очень дорожила и ни в какую не соглашалась, когда Федя сказал, что расчертит ее на клетки, чтоб точнее перерисовать, а после сотрет следы карандаша.
— А чем твои клетки стирать? Загубишь карточку, и все.
— Разведчик свои секреты не выдает. Ловкость рук, одно куриное яичко и никакого мошенства!
— Отстань, босота. Курей у меня не осталось, и позычать до людей не пойду. Малюй, но карточка чтоб чистой была, а то ухи надеру.
Между тем слух о пятерых разведчиках, скрывавшихся в хате Верки Устинчихи, и о гранате, брошенной в них немцами, быстро распространился в станице. Возникли толки и перетолки, рассказы и пересказы, нашлись свидетели и очевидцы. Слух плутал и менял окраску, вбирал в себя слова и терял, замельтешил, приобрел живучесть, завис у всех на виду.
В один из этих смурных дней к Ульяне забежала Мария Любивая.
— Можно в цей хате погреться? — Мария затолкала варежки в карман фуфайки, подула на ладошки и прислонилась спиной к печке, красная с мороза, в цветастом платке с кистями — ягодка баба, спелая вишенка в соку.
Слова и цветущий вид соседки смутили Ульяну. Женским чутьем она угадывала ее притворство: поглазеть на молодого хлопца та пришла, хотя дома детвору оставила и не должна бы так крутить хвостом — молодица, но вдова все же таки, не дивчина, летом похоронку на мужа получила. И она ворчливо ответила:
— Свои женихи не греют, думаешь у соседки отбить?
Мария отмахнулась:
— Ой тошно-лихо, умора с этими женихами — то густо, то пусто, ни одного щас. А твой гладкий стал…
— Хвастается: «Дам бою фраерам в станице». То он матюкается, как ты думаешь, Маруся?
— Ревнивый он. Наверно, кавалеров наших так называет, — Мария прыснула в ладошку, а Ульяна дополнила:
— И кажет: «Разведчик ничего на свете не боится…»
— Ой тошно-лихо, как вспомню про своего. Привели его в хату, теперь надо ж с ногами что-то делать? Ставлю перед ним тазик с водою: опускай туда ноги, пусть отходят. А он мотает головой и бормочет: «Ны хачу!» Красноармейцы окружили, начали стращать, шо попадет ему как симулянту от фронта. Проняло. Я сбегала к Зойке Кравцовой, гусячьего жиру выпросила. «Ну, думаю, теперь свое «ны хачу» забудет». Когда смазала ему пухири на ногах и закрутила чистыми тряпками, подходю с миской супа: «Хлопчик, похлебай горячего». Отвернулся к стенке и молчит. «На кого ты сердишься?» — спрашиваю. «Эта мой деля. А кушать ны хачу!» Опять красноармейцы ума вкладывать взялись ему: «Чо психуешь, Гурам? Курсак у тебя пустой, так рубай, пока дают». Ой тошно-лихо, — Мария покачала досадливо ладошкой у запунцовевших в тепле щек и покосилась на Федю. Тот петухом скокнул с кровати на пол, прошелся в носках по горенке, надув щеки и выгнув грудь колесом перед Марией:
— А мен-ня мам-муля об-бещает ж-ж-женить скоро. Айда, девка, за м-меня!
— Та про тебя ж по станице кажуть, шо ты негожий жених. И уши у тебя посечены гранатою, и очи ослепли, и голова разбитая. Так и кажуть, шо ничого от малого хлопца не осталось. Дай, думаю, на свои очи один раз возьму, чем десять раз слухать про жениха твоего, Кононовна. Если побачу, шо брешут, то отобью.
— Ты про своего не все сказала. Чем он тебе не занравился?
— Про то расскажу, если мне в цей хате кухвайку помогут скинуть, та до стола за ручку проводят, и шось налитое поднесут, як невесте…
— Та у тебя щеки и без налитого, дывысь, як зажеврилися. Наверно, чуют, шо Гурам ругается?
— Ой, в руку, не скажи, Кононовна. Пристал на другой день: бомагу и ручку с чернилами найди ему, записку напишет в штаб: «Ны хачу ваш станица, госпиталь отправляй». Нашли бомажку и карандаш. Он всех от себя прогнал и начал маракувать с той запиской. Строчку нацарапает и ляжет, лоб с натуги в поту. Дописал бомажку, просит опять: «Дай адин картошка вароний». Принесла картошку, жду. Он давай свою грамотку конвертом заклеювать и до меня: «Грамотный?» Я головою мотаю: нет. «Бегай штаб. Пакет читать нилзя — сикрет». — «Ой, тошно-лихо, думаю, с твоим секретом не хватало мне хлопот, та теперь, может, заберут тебя от моих очей». В общем, сбегала в комендатуру, сдала «пакет». Вернулась, «Ны хачу» лежит на кровати, сам на горы поглядует, скучает.
В госпиталь сдала с рук и думаю: «Ну, теперь тошно-лихо кончилось». А тут на тебе, кавалер комендатуры и заявился в гости та и зовет с собою. «У меня ж детей, кажу ему, двое, они собачатами гавкают на военных и мамку за юбочну пелену держат, никуда из хаты не пускают». Не, увел в комендатуру, перед собою в своем кабинете посадил…
— Ничо не пойму, тетеньки, — закрутил головой Федя. — Скажите ладом, о чем речь?
— На допросы таскают — вот о чем! — крикнула Мария, отскакивая от печки. — И за горло берут: «Ты выдала разведчиков немцам?» А я и знать про то не знаю, як до них дойшло!.. — Мария закрыла лицо руками и заплакала навзрыд. Ульяна отвела ее к столу, усадила:
— На хлопца не кричи, Маруся. Какой с него спрос за начальство?
— А с нас какой? Чи с-за нас немцы за Кубань прийшли? — Мария закачалась над столом. — Як жить, Кононовна, если уже душа пуста, як наче гильза стреляна? Неужели мы никому не нужны и таки подлы, по-ихнему?..
— И правда, заручины за баб щас нема, — пригорюнилась и Ульяна. — Нас по одной и щиплят, як тех кур, шо без пивня нестись перестали…
— Мамуль, спроси насчет… — подал Федя голос и показал жестом нечто круглое. Ульяна поняла, что просил яйцо, и отмахнулась: нашел о чем сейчас спрашивать!
— Шо ж, сусидским теплом не угреешься. Хоть поплакала у добрых людей, и то дело. — Мария встала из-за стола: — Ты заходи, Кононовна, раз кавалер у нас с тобою щас один.
Ульяна тоже встала, собираясь проводить гостью.
Во дворе Мария шепнула:
— Гурам, когда маракувал с бомажкой, твою фамилию спрашивал…
— И ты сказала?
— Сказала. И тот, шо допрашувал в комендатуре, спросил за тебя, чи не замечала я шось такого, як ото немцам пособляла Дуська Удовенчиха и Лидка Воловичиха. «Не, кажу, такого не было за Полукаренчихою…»
— Уважила…
— Ой тошно-лихо, уже и перед сусидкою виноватая. На грец бы мне сдалась та Гурамова грамотка?.. — Мария подцепила ведра на коромысло, прошла в калитку боком. Следов слез и трудного разговора уже не было на ее свежем лице; блестел на солнце цветастый платок, щурились от яркого света синие глаза — бойкая бабенка, да и только, пойдет сейчас по переулку с полными ведрами на коромысле, щедра на улыбку, востра на язычок…
9
Ульяну вызвали в комендатуру. На следователе был новый офицерский китель и новые погоны со звездочками, и сам он показался ей новым человеком, с каким еще ни разу в жизни не встречалась и не водила знакомства, не вела разговоров. Хотелось с первых слов узнать, как зовут этого молодого офицера, из каких он мест родом, какая у него семья, тогда и о себе можно рассказать.
В кабинет никто не входил. Ульяна сидела напротив следователя, не знала, куда деть свои руки и можно ли ей снять фуфайку или хотя бы расслабить на шее моток головного платка.
Надумки отвлекали ее от вопросов к себе, так уж привыкла, бывая в гостях, думать о том, как живут в этой хате, какой правят устав и каковы сами хозяева. Тут, конечно, была не хата, комендатуры для чего-то другого затеяны, не для человеческой жизни и доброго гостеванья, но все ж таки люди и сюда приходят каждый со своим, с чем из-под своего крова вышел на общее дело.
Неизвестно, как долго бы она плутала в своих мыслях, коротая время перед началом допроса. Следователь наконец поднял глаза от бумаг и, строго спросив фамилию, имя и отчество, потребовал рассказать о себе все: кто родители, сколько братьев и сестер, где они, как вели себя в гражданскую войну, как относились к колхозам, кто и почему оставался на оккупированной немцами территории.
— Отвечать кратко, говорить только правду.
— То ж давно было — гражданская и колхозы? Рази ж я, неграмотная дивчина, понимала, шо вокруг на гражданской войне творилось и в станице, и десь ще? Знаю, шо людей богато под кресты поклали на горе и в гражданскую войну, и при колхозах. Всех родичей по именам называть? Может, за поминальной грамоткою сбегаю до хаты?
— Гражданка Полукаренко, вопросы здесь задаю я!
— Та вы ж спрашуете, хто зна шо…
— С полицаем Воловиком была связана?
Ее всю передернуло.
— Связана? Шо я, по-вашему, шалава? Спросите людей с нашей улицы, они скажут, а я с-за того выхлюстня чуть под немецьку пулю не угодила… А сынок мой досе в безвисти блукае…
— Спросим, если понадобится, и об этом. А сейчас отвечайте: бутылку самогона носили ему? Задабривали предателя? Или все по порядку вам прочитать? — следователь прошелестел от стола какими-то бумагами, их он, наверно, и читал так долго перед началом допроса. — И про сына вашего, и про корову, которая у вас почему-то целехонькой осталась, когда немцы у всех отбирали… — Последовала пауза, следователь искал в канцелярской папке нужную бумажку. — И про то, через кого немцы о разведчиках узнали, нам известно… Вот заявление красноармейца Гурама Алиева, оно вас касается, гражданка Полукаренко. Пишет он по-русски не очень грамотно, но пишет правду, ему мы верим как защитнику Родины. — И следователь начал читать: «Наш рота получил приказ на разведка бой станица Псекупская. Мы не баялся, бежал атака, стрелял винтовка. Немец пускал ракета, кидал мина и шрапнель, но мы ворвался станица. Приказ командира рота выпалнил бальшой кровью, назад нилзя. Я сидел да утра табачный сушилка. Када замерз и хател кушать, хадил хата гражданка Полукаренко. Ныхароший женщин прагнал свой асвабадитель и астался раб. Я нашел пустой хата и ждал там сваих. Нас прятался пять чилавек. Кушать не был, салдат мерз, кругом немиц. Ныхароший чилавек местный люди выдавал нас. Немиц кидал нас граната, мы прятался, адин ранен. Пят сутак ничего пит и кушать. Салдат савсем аслап и чуть не умер галодный смерть, а я памарозил ноги. Так нилзя. Ныхароший чилавек не живи за эта! Смерть предателям!»
Следователь выкрикнул последние слова так громко, будто произнес их на митинге или перед большим солдатским строем дочитал приговор. И как об истине, проясненной теперь до конца, сказал напоследок:
— Все написано верно, отпираться бесполезно вам, Полукаренко. Придется отвечать за связь с врагом трудового народа.
— Ни на себя, ни на людей я брехать так никогда не буду. Шо хотите со мною вы тут ни сотворите, — обронила Ульяна тяжелые, как камни, слова.
Ее продержали в комендатуре около четырех часов.
Приводили на очную ставку Воловика, и тот подтвердил, что Ульяна приходила к нему с бутылкой самогонки домой, а потом ездила в город торговать картошкой. Как ни доказывала она, что бывший полицай «брешет, як поганый кобель, абы и другие люди подлы были, не один он со своею сучкою», ей не верили.
Верка Устинчиха рассказала на следствии, как она первая обнаружила в своей хате русских разведчиков, когда пришла на подворье кормить корову, как разведчики откликнулись и подали ей с горища сено, предупредив, чтоб она не выдала военной тайны, и попросив у нее еды, как немцы отняли у нее корову. На Веркины показания обратили мало внимания, мол, тебя тогда возле хаты не было, когда немцы кинули на горище гранату. Твоя вина, гражданка Устинова, в том, что ты разгласила военную тайну и оставила без пищи советских воинов, преднамеренно обрекла их на голодную смерть.
По-разному разложили общую вину и на других соседок и временно отпустили всех домой, предупредив, чтобы никуда из станицы не выезжали — вызовут еще. Оставили под стражей одну Дуську Удовенчиху, она обвинялась в измене Родине — преступлении наитягчайшем по военному времени.
Ждать беду тяжело, а терпеть напраслину вдвое горше.
Ульяна всегда была узка лицом, тонка шеей, а теперь вовсе на нет схудала, заострился еще больше горбатый нос, глаза будто пеплом покрылись, одежка складками висела на плечах и бедрах.
Разговор со следователем не давал спать по ночам, и в бессонницу приходили на память обиды и напраслины, вся жизнь казалась Ульяне сплошным горем без просвета и радости.
Вина ли то была или беда ее, разобраться сама сейчас не могла, себе не принимала ни то ни другое, все считала наговором и напраслиной и ждала сына, звала к себе: «Где ж ты, Митенька? Где? Я ж тебя жду не дождуся…» Когда рядом родная душа, не так горе кручинит голову и сердце рвет, знала она.
10
Портрет Федя нарисовал похожим. Из доски штакетника он вырезал финкой рамочку и преподнес рисунок Ульяне:
— Бей меня, с-сукина сына, мамуля, по рукам, чтоб б-бумагу не п-портил.
— Язык твой брешет, по нему надо бы ремешочком, а руки — не. Глянь, похожа выйшла, не стыдно малюнок и на стенку повесить. — Ульяна разглядывала рисунок, крутила тетрадный листок так и сяк. Федя нарисовал ее не в полный рост, сделал высокую прическу и вместо платья подрисовал кружевную кофту и строгий черный жакет, отчего выглядела Ульяна на рисунке и старше своих тогдашних лет, и на городскую даму больше смахивала, хоть Кильке на зависть посылай. Подняла довольные глаза на Федю: — Значит, с меня приходится? В праздник Красной Армии рассчитаемся. Подождешь недельку, крепше будет горлушко. Бог даст, и Митя к тому времени вернется…
О сыне Ульяна думала все эти дни по-прежнему часто, но жил в ее хате Федя, и тоска одиночества материнского не мучила ее на полную силу. Да и жизнь в станице переменилась, как это бывало с Псекупсом: мельчает до ручья, а потом вдруг за один день превращается в глубокий быстрый поток и бурлит, как щепки несет деревья, выплескивается из берегов.
Безлюдные при немцах улицы станицы стали оживленными, в центре появился репродуктор, и сразу фонтан новостей хлынул из него, вытащил псекупцев из-под своих крыш и помог увидеть и узнать так много, будто открыли они дверь в целый мир, который долго был отрезан от них оккупацией. Самой главной новостью был, конечно, Сталинград. Бьют наши немецких фашистов, берут в плен тысячами, гонят, проклятых, от Волги и Дона, вышибли уже из Краснодара, очистят скоро всю Кубань и уже не остановятся, не отступят…
Стали приходить в станицу письма с фронта, и о каждом фронтовом письме знала вся улица, радость и беда становились общими. Принесли похоронку на мужа Одарки — Захара Млына, и Ульяна пошла к ней, проплакали вместе вечер, а на другой день заказали Томильчихе отпевание. Старушка опять так душевно пела, что сердце Ульяны рвалось, и она, слушая ее песнопение, дала себе клятву соблюдать теперь все посты и праздники, молиться чаще, чтоб господь бог услышал ее молитвы и взял под свою защиту.
С полчаса простояла она на коленях перед иконой, чем удивила Федю, но сказать он ничего не сказал, придержал язычок. И так она себя настроила, что почувствовала облегчение, будто луч надежды пробил тяжелые тучи и светил ярче, ярче… И когда вдруг почтальонка Клава привезла письмо от Мити, не чем иным, как покровительством господа бога, она эту весточку долгожданную не объясняла. Упросила Сырмолотиху сразу же и прочитать.
Митя писал, что служит в Красной Армии и проходит подготовку в Тихорецке. Сколько пробудет там, не знает, в любое время могут отправить на Голубую линию, но если она быстро соберется, может приехать — к другим новобранцам уже приезжали матери. Как он скрывался от немцев, Митя ничего не написал в своем солдатском треугольничке, расскажет все, мол, когда она приедет к нему.
Ульяна в мыслях уже мчалась к сыночку, останавливала попутные машины, просилась на подводы, бежала бегом. Скорей, скорей, только бы застать, взглянуть на цветочка своего, обнять родного, а там бог ему поможет и сбережет от пуль. Подбежала к иконе, часто-часто закрестилась и стала отбивать поклоны. Стук наружной двери спугнул ее, заставил обернуться. На пороге стоял Федя.
«Вот и уехала… Вот и повидала сыночка, — досадливо покосилась на него Ульяна. — Рази ж сынок знает, как мамка тут бьется одна и тюрьмы дожидает…»
— Никак, письмо, мамуль? — заулыбался Федя. — Вот прозевал почтальонку, а то плясать заставил бы.
Он стоял в накинутом на плечи ватнике, в шерстяных носках, казался уже совсем здоровым — только что сидел за хатой и грелся на солнышке, блаженствовал.
— Тебе щас абы придурювать, — проворчала Ульяна. — А мой сын, может, уже в окопах, а то и похуже…
— Куда загремел, если не секрет?
Ульяна взяла со стола раскрытое письмо, погладила ладонью:
— С Тихорецка пишет. На пулеметчика его там учат. Он же дужий ростом…
— «Кабы я бы да не маленькой был», — затянул Федя дурашливый куплет и подбоченился, будто в пляс намеревался удариться. Курносый, скуластенький, с крапинками веснушек, он выглядел сейчас озорным подростком, и Ульяна, глядя на него, не представляла, как такой замухрышка мог убить девять немцев, которые, казалось ей, были мужчинами крупными.
— Я тебе, кроме игрушечного нагана, ничего в руки не дала б, — пресекла она Федину шутку. — Стреляй с пистонов, ими не убьешь никого.
— Нет, мамуля, я теперь только своим автоматом буду их, гадов: та-та-та-та-та-тата-та. Пачками — в «ящик». И на крышечке цыганочку сбацаю. — Федя все ж таки показал свой характер, а минутой раньше куда девался в нем озорной хлопчик — темными пулями мельтешили зрачки, кривились пухлые губы, и тряслись руки, изображавшие стрельбу из автомата.
Ульяна замахала на него руками:
— Хватит! Что ты из себя дурня корчишь? Ты на горище радый был той немецкой гранате или крестился, пока не рванула? Не кажи мне ничого — и слухать не буду!..
— Вот-вот, — подхватил Федя. — И я когда-то так говорил. А война — случай, мамуля, не тот. Я ж на фронт ангелом попал, а не «босотой», как ты говорила. Сначала в стрелковый взвод загремел, а потом пожалели разведчики: «Куда тебе с трехлинеечкой — айда, Малышка-художник, в наш кубрик». Сами все усатые, тельняшки носят — с флота их в пехоту перевели. Приемам они меня скоренько поднатаскали, и айда за «языком» — фрица в плен брать. Ночь, снег метет, нас семь гавриков. Остальные мужики тертые, а часового убивать меня, салагу, посылают и еще одного молодого кореша: пошел, мол, в соколы — не будь вороной. Залегли с двух сторон, ждем удобный момент. Ты знаешь, мамуля, как я бога молил, чтоб греха на душу не брать! Лежу, чуть не плачу: «Ну прикончи, кореш, этого фрица!.. Ты ж их сколько уже в «ящик», тебе ж это — семечки…» Мотался часовой туда-сюда, спину корешу не подставил — случай все ж таки мне выпал…
Федя прикрыл глаза, зябко повел плечами под накинутым ватником и заговорил тише, почти шепотом:
— Я как саданул ему своей финкой под лопатку, так и статью сразу вспомнил, сколько за «мокрое» дают. Тошно стало, хоть вой и под трибунал иди сам. А сопли мотать на кулак некогда — уж рядом старшой и вся группа. Заскочили всем гамузом в землянку, там десять фрицев, как волки в логове, спят. Семерых убили, троих потащили с собой. Сматываемся назад по-быстрому, где скоком, а где и боком. Бах, ракета прямо над нами. И начал миномет нас крыть. Наших трое не убереглись, и двух фрицев ранило. Мы фрицев финками добили, одного только сдали в штаб. Немного погодя смотрим — сало и спирт понесли нашему фрицу, сейчас разговорят голубчика. Он спиртику хватанул и растрепался про тех двух, которых мы финками прикончили, раненых. Вместо наград чуть трибунал не схлопотали. Вот видишь, мамуля, какие пироги? А фрицам и подавно не привыкать грех на душу брать. Могут шлепнуть любого и не спросят, когда он купался и мамку видал. Так что давай не будем…
Ульяна отвернулась, не знала, что можно тут возразить. Хотелось побыть одной, нареветься по-бабьи, остальное потом, само как-нибудь образуется, как ей быть и что делать…
Не больше пяти минут просидела она в задумчивости, а потом встала, и привычные хлопоты по хозяйству отвлекли ее, то одно, то другое требовало рук и глаза, а откладывать работу она не любила и просто не умела. Федя пособлял ей чем мог, как всегда, балагурил, считая, что ничего такого он не сказал: поворчали друг на друга, и ладно, мол, бывает.
К вечеру, когда подтаявшую днем землю вновь схватило морозцем, они привезли на ручной тележке хвороста. По пути в лес завернули к братским могилам. Федя сказал, что хочет проведать убитых дружков, и она возражать не стала.
На огороде деда Черноцкого они увидели продолговатый глиняный холм, в изголовье могилы лежали каски. Федя подбежал, стал разглядывать каждую. Делал это суетливо, пошмыгивая носом, и вдруг всхлипнул, потащил с головы шапку. Уронил лоб на холодный, выпуклый кругляш пробитой осколком каски…
Ульяна стояла в сторонке и утирала глаза. Федя раньше рассказывал ей о своих друзьях-детдомовцах, и почти всегда рассказы сопровождались какими-нибудь забавными историями, а тут на тебе, так убивается, бедный. Она старалась не смотреть в его сторону, вообще затихнуть, чтобы он не ощущал ее присутствия, побыл наедине со своим горем.
«Сложили Федины товарищи головы тут, под станицей, где у них ни родичей, ни даже знакомых не было, — вздыхала она, вспоминая ту ночь, свои страхи, как она пряталась в своей хате, когда красноармейцы шли в темноте на смерть, падали под пулями немцев, а живые метались в свете ракет между хат, чтоб спастись. — Это же у нас защиты просили, а после на горище в холоде и голоде сидели, раз мы повыгнали их, родненьких… Как же нас война, проклятая, спадлючила…»
К Мите она так и не поехала. На кого бы оставила хату и корову, как до того Тихорецка добралась бы, когда фронт был близко и станицу нет-нет да и бомбили немецкие самолеты. Не пускал и Федя. Не то чтобы отговаривал, но само его присутствие в ее хате связывало ей руки, сказать: «Уходи, хлопчик, в другую хату, а то мне до сына съездить надо» — она не могла. Не квартирант он был, и язык у нее не повернулся бы сказать ему такое, особенно после тех слез у братской могилы. Больше ста красноармейцев полегло под пулями при освобождении станицы от немцев, у каждого была семья, родичи. Сколько сгублено жизни тут и в других местах, куда докатилась неметчина…
Они тогда и к «грушкам» сходили, где была еще одна братская могила, и примет убитых друзей Федя там не обнаружил, и оттуда смотрели на лепящуюся по косогору станицу, на изрытый воронками снарядов бугор Татарской горы. Как Федя переживал, что в той ночной разведке боем немцы могли расстрелять с таких удобных позиций и целый полк наступающих пехотинцев с винтовочками.
— Мы ж были как котята, которых кладут битком в мешок, а потом ночью выпускают в незнакомом месте! — ругался Федя. — Нам сказали, что станицу можно взять с ходу — немцев там мало, побегут, когда услышат наше дружное «ура». Большинство-то молодые были, считали — легким будет бой и к утру портянки в теплых хатах высушат и успеют отоспаться. Фрицы и положили спать… Кто через ерик напрямую рванул, того не скосило сразу пулеметами, а большинство на мостик подались… — Федя помолчал, а потом заговорил о том, что было после боя: — Думаешь, мамуля, чо мы в той хате чуть концы с голодухи не отдали? То своих к вечеру ждали, думали, что в разведку боем не зря ломили, то овчарок опасались на след навести. Это ж меня тогда днем немцы засекли во дворе — я огневые точки по ориентирам рисовал, хотел, чтоб другие вслепую не штурмовали, да припоздали наши пушечки, и меня самого… В общем, под трибунал не загреметь бы…
— Рази вас тоже будут таскать в комендатуру?
— А как ты думала?
— Ты глянь… — недоверчиво протянула Ульяна. — Рази вам мало горя досталось? Вы ж не виноваты, шо живые остались, а ваши товарищи побиты… И на вас покричит офицер с новыми погонами, шо нас допрашует и со станицы не выпускает. А я ж до Мити так хотела съездить!
— Ну, насчет вас мы с ним потолкуем завтра. А мне могут пришить, что сачкую от фронта, свою часть не ищу, на теплой печке долго отлеживаюсь. Оклемался малость — и в бой пора, ек-макарек…
11
Со двора послышался топот множества ног, постучали в двери и закрытые ставни:
— Принимай, хозяйка, гостей!..
Ульяна испугалась, что Федя арестован, а теперь пришли за ней. Он ушел утром в комендатуру, не вернулся до вечера, и она закрыла хату на все запоры, успела задремать. Чтобы как-то выгадать время, она ответила сонным голосом:
— Я гостей ночью не пускаю.
— Не боись, хозяйка. Из комендатуры к тебе на ночевку послали, — донеслось со двора. — У тебя ж не семеро по лавкам? Пустая хата, нам сказали…
— У меня уже есть на постое красноармеец. Он раненый, — упорствовала Ульяна.
Снаружи грохнул хохот:
— Вот шельма, как пристроился наш Малыш. Сам ел, а другим не велел…
Когда шум поутих, тот же голос, который ссылался на комендатуру, вновь крикнул:
— На фронте уже твой постоялец, хозяйка! Мы тоже завтра туда. Так что не томи, открывай, а то вставать нам рано!
Солдаты вошли все сразу, стали сбрасывать с себя амуницию и журить Ульяну:
— Что ж ты, казачка, разведчиков плохо встречаешь? Аль много нас? Так выбирай одного, а остальным поднеси снотворного. Есть небось?
— Не чипляйтеся, а то швыдких и языкатых в сенцы на ночеву выгоню, — грозилась Ульяна, прикидывая, как лучше разместить солдат. — Печку вам затоплять? Портянки будете сушить?
Спрашивая, она смотрела на коренастого, средних лет, сержанта. Он вошел в горницу первым, поздоровался, приложив руку к шапке, и она узнала по голосу, что это он кричал с улицы про комендатуру и все остальное.
— Портянки ерунда, хозяйка, высохнут и от старого тепла твоей печурки. И насчет ужина не беспокойся — голь мудрена: и без ужина спит. А вот чайку утром надо бы. Сладишь? — Сержант говорил все просто, как старый знакомый, и приглаживал острые кончики русых усов.
— Та шо ж не сладить… — почему-то смутилась Ульяна.
— Ну и добро. Я тебе помощника выделю — топки подложить, воды принести. Кстати, Чершинцев я. — Он оглядел солдат и приказал: — Гилев, ко мне!
Откликнулся долговязый молодой солдат. Он уже успел сбросить с себя шинель, стоял в шапке и гимнастерке без ремня. На ходу загягиваясь ремнем, подбежал и молча вытянулся.
— Вольно, вольно, — шлепнул его по спине сержант. — Поможешь вот хозяйке утром.
— Та я сама управлюсь. Рази мне трудно воды чугун скипятить, — отнекивалась Ульяна.
— Ничего, подневалит. Вы обязательно разбудите его пораньше, — распорядился Чершинцев и, достав кисет, стал скручивать цигарку, потом прикурил от каганца. — А теперь, хозяюшка, два слова о Феде. Что с ним за комедь вышла? — Сержант снял ватник, расстегнул воротник гимнастерки. Крепкий он был мужик, надежный, и тельняшка мелькнула синими полосками, как спрятанная под испод рубашка. Захотелось вдруг, чтоб он снял и отдал постирать ее. Приятно было думать о сержанте, а надо переключаться на другое. Ответила неопределенно:
— Та рази ж с ним одним…
— Ну про других нам не так интересно. А Малыш и есть Малыш. Один он у нас такой — где шустрый, а где муха и та обидит.
Что знала, Ульяна рассказала, скрывать ей было нечего. Без Феди и у нее стало как-то пусто на душе, будто сына потеряла, хотя всего неделю и квартировал хлопчик в ее хате, да такой уж оказался, что и память и тоску-кручину оставил.
Сержант слушал ее не перебивая, но по тому, как часто прикусывал цигарку и сплевывал в горсть крохи махры, она понимала: на кого-то он сердится, и, заканчивая свой рассказ, побаивалась, не вышла бы ей боком откровенность.
— Н-да, дела гулевые: голый босого щекочет и шумит: «Не мни рубашку…» — Сержант стал скручивать новую цигарку, прикурил от своего бычка. — Не хотел я Малыша отпускать в ту мясорубку. Так он пристал, как цыганенок: «Корешей детдомовских встретил, они добровольцами идут в разведку боем. Жалко салажат, хоть автоматом своим или финкой помогу…» — Помолчал, снова достал кисет, хмыкнул чему-то своему: — Под Абинку подался гулеван, на Голубую линию. Там немцы опять много наших выбьют. Жалко пацана…
При свете каганца солдаты укладывались спать. Тени их на потолке и стенах были большими, лица выхватывало иногда желтым отсветом. Ульяне не по себе становилось, когда она замечала на себе их мужские взгляды, казалось, не уснет она теперь до утра, страху натерпится от того, что столько мужиков среди ночи нагрянуло в ее хату. Она ушла в спальню, прикрыла за собой дверь, тихонько набросила крючок. Заспорили вдруг солдаты, кому где спать, — всем хотелось поближе к печке, только за сержантом безоговорочно признавалось право занять койку. Он цикнул на спорщиков, ввернул крепкое боевое слово, и те подчинились, попритихли.
Ульяна одетая лежала на кровати. Думала о нежданных ночлежниках и о том, что ждет их завтра, но дальше того, как они с автоматами за спиной и финками на поясе идут большой колонной по дороге в город, представить ничего не могла. Дальний фронт казался ей большой дракой в степи, где все время стреляют, сходятся врукопашную, лиц дерущихся не разобрать, видно только, что красноармейцы не так одеты, как немцы, и каски тоже разные. Где-то уже ввязался в драку и Федя, мстит за товарищей-детдомовцев, строчит из автомата.
А Митя где? Ничего ясного. Даже как выглядит в солдатской форме, неизвестно. Когда она работала в военных лагерях, случайно наблюдала иногда учебные бои красноармейцев, слышала холостые выстрелы из винтовок и пулеметов. Вот и Митю так же гоняют. Она жалела сына, ругала себя, что не поехала к нему, а только сходила к Дашковым, продиктовала Кате письмо и просила беречь себя, а то один у матери остался на всем белом свете. Катя и от себя передала привет Мите, дописала внизу: «Ждем ответа, как соловей лета». Хорошие детки у них с Митей получатся. Про любовь тут гадать нечего, давно он ей нравится, фотокарточку не зря ведь выпросила, хоть и маленькую, что осталась, когда он на паспорт снимался, а все же таки память…
Господи, а как хорошо ей было с Матвеем, каким родным был запах его пота от подушки… Первое время она часто просыпалась по ночам и гладила его смоляной чуб, лицо и руки целовала. Любовалась мужем и не верила своему неожиданному счастью. Ведь ей всего семнадцать было, не знала она раньше никого-никого, но она ему, возможно, не первая, вдруг уйдет к другой, любая баба такому мужику будет рада…
Будто вчера это было с ней, а не двадцать лет назад… Ульяна встала с постели, открыла дверь в горницу. Солдаты спали. Постояла, загасила каганец. Утром надо встать пораньше и сварить для солдат картошки (спасибо Одарке — выручает в обмен на молоко), а сержанту надо хорошего табачку найти, пусть хоть трошки подымит в свое удовольствие. Махра рази курево для такого мужика?..
Часть 5 Записка от сына
…Все обратилось у ней в одно материнское чувство.
1
На лобастых склонах гор веснушками проступила молодая зелень. День ото дня зеленых кустов становилось больше, они густели и постепенно сливались, споро тянули в рост все травы, и станичники стали выгонять коров на первые выпасы в поредевшую за время немецкой оккупации череду, подступались к огородам. Но у ранней весны всегда строптивый норов, и однажды утром открылись снеговые горы, холодом потянуло от них, потом сильней задул горный ветер, засвистел на высоте и наклонил в одну сторону пупыристые ветки тополей и акаций, снизился и пронесся сквозняком по садам, ударил где-то в стену хаты сорванным с петли ставнем, и стало ясно, что налетел полуденник и будет дуть, как всегда в эту пору, долго.
Вслед за горным ветром поползли в закубанскую степь тучи, тяжелые, низкие, на крыши хат шумно сыпалась снеговая крупа, округа потемнела без солнца, пригасла, охолодала, конца ненастью не виделось, и все эти дни Ульяна почти не выходила из хаты, да много ли дел тут, если у хозяйки ни мужа, ни детей? Подолгу сидела у плиты, вспоминала. Припомнилось, как в тридцать восьмом году полуденник крышу сорвал с хаты, — на краю станицы стоит, самое раздолье тут для горного ветра. Налетел он тогда из распадка, ударил сбоку и солому с крыши как метлой смел. Матвей близко от дома работал, прибежал первым, когда ему передали в кузницу о беде, и одни стропила на крыше увидел. Перекрыл крышу снова соломой и обещал со временем добыть кровельного железа, да так и не успел из-за войны. Теперь, если ветер порушит крышу, перекрывать будет нечем, а то сама справилась бы, но все же таки верно говорят, что без хозяина дом сирота. Горевала Ульяна и начала тоскливо вполголоса напевать:
Поехал казак на чужбину далеко, Далеко на добром коне вороном, Свою он навеки покинул краину, Ему не вернуться в отеческий дом…Вдруг о Мите подумалось — забыл матуську сынок, совсем забыл! — и песня на такой случай нашлась горькая, слезу накатила. Не знала раньше Ульяна за собой такой слабости, чтобы плакать от песни, и вообще певуньей себя не считала, к голосу своему не прислушивалась, когда подпевала иногда в общем хоре застолья или с девчатами в полузабытой молодости, а в одиночестве распелась, расчувствовалась — и была уже не одна: уносила ее песня из глухих стен хаты, горе вдовье переживать помогала.
Однако весна не зима, ее не пересидишь, глядючи в окошко, и Ульяна, как только послабели утренние приморозки, стала сажать лук. Митя любил лук, всегда помогал ей сажать и выкапывать, а за обедом густо солил луковку и хрумкал, радовался, как малое дитя.
Она брала вымоченные луковицы из ведра и невольно переводила думы на сына, материнским сердцем считая его таким же слабым и требующим бережного ухода, не для войны пригодным, а он уже третий месяц в солдатах и прислал всего одно письмо. Почему ж не пишет? Был такой заботливый, на «вы» мать всегда называл, а не шлет писем, гадать ее заставляет и тревожиться, что с ним и почему молчит. «Где ты, Митенька? Где? Я ж тебя жду не дождуся!..»
Одно письмо пришло от Феди. Чужой ведь хлопчик, перекати-поле сиротское, а не забыл «мамулю», доброе слово издалека донес солдатским письмецом и оглянулся на ее хату, перед тем как идти в бой на немцев. «Спасибо, спасибо, мамуля…» И тебе тоже дай бог, сынок, ты теперь мне тоже сынок, Хведенька… Я ж тебя тоже никогда-никогда не забуду! Ты ж за меня тоже ходил биться и спас сироту-мамулю от плутов та от тюрьмы… Я ж за тебя уже и молилась, господу богу и царице небесной все про тебя рассказала… Я твое добро до скончания веку запомнила… От бы вы встретились с Митей в моей хате, как браты…
— Теть Уль-а-а-а… запи-и-иска те-бе!..
Через двор к огороду бежала Зойка Кравцова. Встречный ветер трепал ее серый платок, сбивая на сторону, она придерживала его левой рукой, а правую сжимала в кулачок и держала над головой. Ульяна бросила лопату, заспешила навстречу. Обе запыхались, когда стали рядом. Зойка протянула кулачок:
— На… От сына… — и, отвернувшись за ветер, перевела дух.
Ульяна развернула вчетверо сложенную бумажку. Это был клочок листа из школьной тетради в косую линейку. Написанные карандашом буквы зарябили в глазах… Она узнала Митин круглый почерк и какое-то время оставалась в устойчивой прежней позе — матерое дерево с одного стука не валится.
— Зоя, будь ласка, почитай, шо Митя тут пишет? — она протянула соседке записку на раскрытой ладони, большим пальцем слегка прижимая, чтоб не сдул бумажку горный ветер. Зойка приняла весточку и, захватив тетрадный листок в кулачки, поднесла к глазам.
— «Мама, я пока живой, — прочитала Зойка нараспев и ободряюще вскинула глаза к Ульяне, но та напряженно ждала, будто замкнула себя, почуяв недоброе. Зойка уловила ее тревогу, решила вернуться к бодрому началу записки и повторила: — Мама, я пока живой. Сейчас есть возможность встретиться. Приезжайте в Краснодар…»
Зойка увела глаза от записки, опять посмотрелана Ульяну, все, мол, хорошо, встреча с сыном предстоит, и сделала третий заход от первых слов записки:
— «Мама, я пока живой. Сейчас есть возможность встретиться. Приезжайте в Краснодар и найдите госпиталь на улице Шаумяна…» — Зойка легко пробежала последние пять слов, будто со скользкой горушки катнулась.
— Все? — спросила Ульяна. — Там, по-моему, больше написано. Читай до конца, не вкручуй мою голову тем, шо я неписьменна.
— Та я ж прочитала вам главное, тетя Ульяша. В Краснодаре Митя, зовет вас до себя и на улице Шаумяна встречу назначает. Про то ж и в конце записки пишет, от слухайте: «Родичей сюда пускают. Приезжайте, буду очень-очень рад повидать вас, мама. Жду». — Зойка опустила руку с Митиной запиской, снизу вверх глянула на Ульяну: — Вот и все. Писал восемнадцатого марта. Подпись свою хитровату крутнул понизу. Все вам, ей-богу, все прочитала. Неужели не верите? Могу еще раз повторить все, каждую буковку и слово. Хотите так, тетя Ульяша? — И Зойка порхнула к ней, как птичка, спряталась от ветра.
— А ну пойдем до хаты, бо ты балакуха, не дай господь. Думаешь, от ветру сховалась, так теперь набрешу сусидке ще больше? Я ту твою брехню уже за ветром пустила, а в хате ты мне всю правду скажешь — там ветра нема и там иконы, не одна я тебя слухать буду.
Ульяна так и не приняла от Зойки листок с Митиной запиской, будто и весть саму пока отстранила от себя, чтоб смута хоть чуточку прояснилась. Подхватила в одну руку ведро с луковичной посадой, в другую взяла огородную тяпку и повела соседку к хате.
Трудными были для Ульяны эти шаги — к беде гнало ее ненастье, к сыночку пораненному: «Буду очень-очень рад повидать вас, мама…»
В горнице она села на табуретку у стола, развязала теплый платок, чтоб надежнее слушать, даже нижнюю белую косынку сдвинула с уха.
— Теперь читай, Зоя. Та не торопься, тут ветру нема, все буквочки сыновы до меня передай. Все до одной, шо своей ручкой он написал…
Голос Ульяны уже слабел, но она крепилась. Она уже глазами рану искала сынову и, пока не увидела, внешне оставалась спокойной.
Зойка осталась стоять у двери, напротив нее в окне дергалась рамка открытой форточки и в ветках шелковицы высвистывал ветер, туда и ей сейчас упорхнуть бы вместе с запиской, в распух улетят и слова. И она начала читать, а сама вприглядку смотрела на открытую форточку, будто туда выпускала их, протягивала голосом, готовясь с последним словом исчезнуть сама:
— «Мама, я пока живой. Сейчас есть возможность встретиться. Приезжайте в Краснодар и найдите госпиталь на улице Шаумяна. Родичей сюда пускают. Приезжайте, буду очень-очень рад повидать вас, мама, жду». Писал восемнадцатого марта.
— Значит, раненый Митя… Так, Зоя?
Ульяна обращалась к соседке, а говорила для себя и видела в этот момент Митю. Весь в бинтах, в крови, лежит он один в комнате. Стонет. Просит пить. Но некому напоить ее сыночка. Некому подушку поправить…
— Ой, сынок, сыно-о-о-ок!.. — схватилась она за голову. — Чи целы у тебя ручки-но-о-о-ожень-ки-и-и… Куда же тебя по-ра-а-а-ани-и-ило?.. — Подняла заплаканное лицо и, путаясь ногами и продолжая сдавливать голову, побрела в спальню. Когда Зойка заглянула туда, Ульяна лежала ничком на кровати, ее всю трясло, руки рвали прочь с головы косынку. Зойка с минуту смотрела на ее большое распростертое тело, повертела в руке Митину записку, положила на стол в горнице и вышла.
2
Очнулась Ульяна от забытья, когда в хате стало уже сумеречно, и не сразу сообразила, вечер на дворе или утро. Встала, вышла в горницу, увидела красные стены и сполохи заката над Татарской горой и засуетилась: к Мите ведь надо собираться, к сыночку скорее ехать, узнать, как он там в госпитале, живой ли? Ой лихочко, а что она возьмет с собой, чем порадует сыночка? Нет, гостинцы потом, потом… Надо узнать сперва, не едет ли кто из станичных людей в Краснодар, может, и уехать добры люди подсобят? Повязала платок, кинулась на улицу.
От речки шла с коромыслом Зойка. Ульяна окликнула, та поставила ведра на землю, подошла.
— Зоя, ты не знаешь, кто-нибудь из людей в город на базар сбирался ехать? Может, и меня до себя в компанию возьмут?
— А я ж сама и сбираюсь племянника в город завтра вернуть.
— И я с вами! Возьмете? Вашей коняке не будет важко ще одну пассажирку тягнуть так далече?
— Своею тягою шкандыба́ть при́йдется, так давайте, Кононовна, до нас подпрягайте свои два колеса, та и покатымось пешею командой.
— А машины попутны берут?
— Берут. Як же не будут брать, если грошей богато шохверу подадут? А такие богачи, як мы с вами, пешки сбок дороги идут. Пустокарманных нужда сама швыдко до города гонит.
— С попутным ветром и выйдем завтра до дороги с утра пораньше, так, Зоя? А щас скажи, кто тебе записку Митину передал? На ней же ни адреса, ни фамилии не написано, так?
— То долга история. — Зойка оглянулась на ведра, оставленные на земле, коромысло держала, как лыжу. Поговорить она любила, а тем более сейчас, когда жила одна. Но Ульяна на улице разговаривать была не охотница.
— Зайдем до меня в хату, там все и оббалакаем, — пригласила она соседку.
С полчаса они обговаривали случай с запиской и завтрашний путь. Зойка рассказала, что к ней приехал из Краснодара на попутной машине племянник, а с ним вместе сидела в кузове женщина из Горячего Ключа. Возвращалась она из госпиталя, где проведала сына, и, когда уходила из палаты, молодой раненый боец попросил ее передать записку для матери — он знал, что женщина поедет через Псекупскую. Попутчица передала записку мальчику, а он отдал ее первым попавшимся в станице женщинам, потому что на записке не было адреса, наверно, Митя слишком торопился или очень уж заволновался, когда посылал весть матери.
— Я как узнала про записку, так сразу про вашего Митю сгадала, — рассказывала Зойка. — Побегла в центр, найшла Колесничиху, шо возле моста живет: «Отдай, Степановна, записку — то моей сусидке сын написал». — Передавая эти подробности, Зойка делала строгие глаза, но в тоне голоса не скрывала радости от того, что помогла соседке в таком важном деле, — у нее самой хоть и не было детей, но муж воевал с начала войны на фронте и уже два раза попадал в госпиталь, присылал оттуда письма. Договорились, что Ульяна рано утром забежит к Зойке, потом они заберут мальчика у бабки (ее хата под горой, по пути) и пойдут в город втроем.
Ушла Зойка довольная разговором, еще раз у калитки напомнила, что надо выйти из станицы пораньше, до света, чтоб ночь в дороге не застала, а то переночевать никто незнакомых людей не пустит. А Ульяне предстояло в этот вечер переделать еще уйму дел. Перво-наперво надо было с работы отпроситься. Она работала снова в полевой бригаде конторы «Заготскот», дел пока было мало, но неизвестно, сколько дней пробудет она в госпитале. И она пошла к бригадиру домой.
Григорий Северьянович Коломиец — так звали нового бригадира, который заменил не вернувшегося из Мартановки Стрекоту, — жил неподалеку, на Береговой улице. Ульяна застала его в сарае, где он опутывал рога корове, делал «налыгач», чтоб не бодалась во время дойки. «И Северьянович не побоялся расстрела — ховал свою бодучую Зорьку в конюшне». Ульяна, наблюдая за бригадиром, сказала, зачем пришла. Коломиец был небольшого роста, с брюшком, седые усы свисали по-казацки вниз. Он провел Ульяну в хату, там еще раз выслушал просьбу (он был туговат на слух), набычил крутую шею, подергал свирепо усы, однако отпустил без возражений и в сроках отлучки не ограничивал.
— Поезжай, Кононовна, — сказал он. — Сколько треба, столько и побудь у Мити. Привет передай. Драл я ему ухи за табак, та он малый был, а уже курить учился…
Возвращалась Ульяна от бригадира уже в потемках. Ветер дул боковой, иногда даже приходилось придерживаться за попутные заборы. Надо было добежать до Одарки, весточкой от ее крестника поделиться, но пожалела Ульяна время — не было его на расспросы да пересуды, только слез прибавит эта встреча. Одно теперь Ульяну беспокоило: что она Мите в госпиталь понесет? Выходило, что, кроме молочного кисляка, нести нечего, даже крупа кукурузная, как на грех, сегодня утром кончилась, а картошки только на семена осталось одно ведро, значит, менять на кукурузу нечего. Но что-то надо было придумать, чтоб выкрутиться и не прийти к сыночку в госпиталь с пустыми руками.
Дома она сразу полезла в сундук и с самого дна достала почти новое армейское одеяло — ночевали у нее как-то красноармейцы и по тревоге сыпанули во двор да так и не вернулись обратно в хату, а одеяло осталось. Ульяна убрала его в сундук, решив, что приедет Митя на побывку, она ему и отдаст. Теперь вот надумала променять на кукурузу, чтоб хоть чуреков испечь для сына, если лучшего гостинца не достать в такое время.
— У деда Турчина кукуруза есть, — говорила она сама с собой, заворачивая одеяло в мешок. — Ой, дожила, самой себя совестно: ни дома исть нечего, ни сына раненого накормить, если казенное одеяло не выручит…
К старику Турчину надо было идти мимо табачного сарая, потом немного пройти по Береговой улице и повернуть направо в заулок. Ульяна знала стариков еще с детства — наискосок жила от них в родительском доме. Воспоминание это мелькнуло и пропало, не до того сейчас ей было, торопилась она и бежала по темной улице с опаской.
Все окна в хате Турчиных были уже закрыты ставнями, и дверь долго не открывали. Потом старик через сени спросил:
— Кого там чорты носят? По якой нужде?
Ульяна назвалась по девичьей фамилии, но дед засомневался:
— Никого из Глущенкив в станице щас нема. Я ж знал их всех: дида Канона, жинку его, Домну, дивчат — Кильку, Ульяшку, Орьку и хлопцив — Алексия, Сэмэна и Хведьку.
— Я Ульяшка, диду. За Матвия Полукаренка я выйшла. Около Полянского броду мы живем. Открой, диду, я не с пустыми руками прийшла.
— Ты одна, чи с тобою ще кто?
— Никого больше. Та и я не шлындала б по станице, на ночь глядя, если б седня люди весточку от сына с госпиталя не передали. — Терпение кончилось, ушла бы Ульяна прочь, если б знала, у кого другого сможет обменять одеяло на еду. — Ой, диду, чи бабы боишься? — упрекнула она.
Изнутри загремели засовы, дверь приоткрылась — гостью рассматривали в щелку, потом все же таки впустили…
Спать в эту ночь Ульяне не пришлось. Дед Турчин дал за армейское одеяло пятнадцать качанов кукурузы в початках, которую надо было освободить от кочерыжек и перемолоть, и она сбегала к Марии Любивой за своей крупорушкой — та опять взяла и придержала. Побалакали, повздыхали, что чуть было в тюрьму не угодили, но, слава богу, в комендатуру уже месяц как не вызывают. Спасибо Феде, похлопотал за них, может, совсем пронесло, обошлось и запрет на выезд за станицу теперь не действует.
Пока молола крупу, пекла чуреки, крошила листья табака и укладывала в кошелку узелок с гостинцами для Мити и пока привела из сарая корову и устроила в сенках, натаскав ей корма и воды на два дня, время к четырем утра подбежало, к Зойке было пора.
Еще не развиднелось. Ветер по-прежнему дул с гор, полукруг луны желтел в бледном ободе, крупные звезды мерцали тускло — к морозу. Придерживая кошелку, чтобы не раскачивалась и не выплескивался кисляк, Ульяна скорым шагом двинулась через переулок. Комья мерзлой глины скользили под ногами, как обмылки, она чертыхалась, но осторожничать было некогда — сегодня ей предстоял долгий путь.
Зойкина хата, маленькая, как улей с соломенной крышей, боковыми окнами выступала в переулок. Ульяна ладошкой слегка стукнула в закрытый ставень, постояла, зябко поежилась. Невмоготу было стоять одной в темноте на таком ветру, и она постучалась вторично. Сквозь щели в ставне проникли желтые полоски, свет мигнул, стал слабеть, истаял вовсе — Зойка пошла с огнем открывать и скоро забрякала в сенцах щеколдой.
До дома, где ночевал мальчик, было рукой подать, в пять минут они добежали туда. Открыла им бабка, усохшая, согнутая пополам старостью. Двигалась она, однако, шустро, говорила, как и Зойка, скороговоркой, не напрягая слуха, чтоб услышать ответ.
— Миколай сказал про записку, а я и сгадую: чей хлопец матери с госпиталю пишет? Так то ваш Митрий, Кононовна? Помню Митю, помню, от корогодивской породы белявесенький. А щас кругом одно горе, одно горе, царица небесная… В городе голодуют, не дай бог…
Мальчик спал на русской печке и, когда его разбудили, стал одеваться проворно, как солдат. Ему было лет двенадцать, смуглое лицо от недоедания пожелтело, щеки ввалились, и только карие глаза сохранили живость, смотрели вокруг с интересом, детского любопытства не утратили. Поняв, что взрослые говорят о вчерашней записке, он сказал:
— Та тетя говорила: он в ногу раненный.
Ульяна закрыла рот ладошкой — дыхание у нее занялось. Подбежала к мальчику, присела и затеребила за рукав.
— А шо ще сказала та тетя, родненький?
— Сильно забинтованная нога… — Мальчик виновато помолчал, будто прослушал объяснение школьного учителя, и добавил: — Под Абинкою много наших немцы поубивали…
— Ой, горе… Лежит сынок, на ножки не встает… Чи застану живого?.. — Ульяна, постанывая, забегала по хате. Зойка и старуха тоже всхлипнули. Мальчик растерялся от женского плача, стал успокаивать старуху:
— Ба, не плачь… Ба…
Просьбы мальчика заставили и Ульяну остановиться. И она вытерла глаза, подошла к Зойке.
— Подожди меня, Зоя, трошки. Побежу я до Одарки, отдам ей ключ от хаты, а то у меня там корова, закрытая в сенцах.
Вспомнился ей сон — Митя во всем черном, конь вороной. Видево то было неспроста — страшное знамение…
3
Двор был разгорожен, хата с черепичной крышей осела на глухую стену и показалась Ульяне намного меньшей. И сами Лабунины такие, вспомнила она, каким увидела Тимофея первый раз и каким знавала позже. Настя, открывшая дверь, тоже предстала совсем другой — до войны была дебелой незамужней дивчиной, а теперь вышла на крыльцо сутулая и дряблая, как старуха. В сумерках, которые быстро сгущались, не узнала б Ульяна в закутанной большим платком и одетой в фуфайку и валенки маленькой женской фигурке прежнюю Настю, если б та не подала голос:
— Неужели ты, тетя Ульяша, пришла?
— Я. Открывай, Настя, не боись Тимковых родичей!
Вглядевшись в Ульяну и узнав ее с трудом тоже, Настя привстала на цыпочки и потянулась целоваться. Сухими губами чмокнула Ульянину щеку, расстроилась и завсхлипывала с подвывом:
— Ой, молодец, шо зашла, не загордилась… Здоровья щас моего совсем не стало…
Ульяна тоже прослезилась, но думала и горевала о своем. Досадовала, что вот наконец-то почти добежала до города, а к сыну попасть не может, вынуждена толкаться по чужим хатам, когда каждая минута дорога и за это время может всякое случиться. Она и в пути отдыха себе не давала, не шла — летела все пятьдесят километров по разбитой машинами и бомбами дороге, Зойку с племянником в три пота вогнала, и сил хватило бы еще столько пешком пройти, чтоб только увидеть сыночка и твердо знать: живой, живой мой цветочек! И не задержалась около попутчиков, когда Кубань минули и в первые кварталы пригородного хутора попали.
Пока стояли на крыльце, совсем стемнело. В доме Настя включила свет. Лампочка была слабая и горела тускло, но Ульяне с непривычки показалась ярким чудом из другого мира — В станице дармового света люди сейчас не знают.
— Забор на топку зимою пошел? — спросила она, чтоб не молчать, о Мите ей не хотелось сразу заводить разговор.
— Сгорел, нечем было топить при немцах. — Настя зябко поежилась. — Табуретки та лавки тоже пришлося спалить. Так мерзла в хате, не дай господь. И щас чай нечем скипятить, холодную воду пью, до чего дожила.
Настя села на железную широкую кровать, покрытую старым стеганым одеялом, и предложила гостье присесть рядом. Поставив кошелку у стола, Ульяна присела. Сетка под ней скрипнула и прогнулась почти до пола. «Кровать чужую не сломать бы», — испугалась она, привстала. Но пересесть было некуда: в горнице, кроме кровати и стола, стоял только громоздкий шифоньер в углу, где положено было висеть иконе. Настя, перехватив ее взгляд, кивнула в сторону шифоньера:
— Думаешь, богато добра там? Пустой стоит — в нем от крыс ховаюсь. Ночью набегут, прокляти, хто зна сколько. Хоть «ратуйте»[11] кричи. А с вечера, пока в лампочке свет горит, под полом пищат. — Настя наклонилась, отодвинув с уха платок, послушала. — А ты завтра — на базар?
— Нет, около базару… чи на той же улице… Шаумяна, кажись… Ранетый Митя… сыночек мой… А ты — базар!.. До госпиталя — вот куда бегла пешки от самой станицы!.. Ну так шо, на ночеву пустишь, чи до другой хаты под закрыты ставни пойду?
— Оставайся, рази ж я тебя куда прогоняла? И чо ты сразу не сказала за Митю! Он же заходил зимою, я и до Тимка в Платнировку выво́дила…
Это уже другой был разговор — от сердца сразу отлегло. Ульяна поделилась чуреками, что несла для Мити, сама дорогой не ела и готова была теперь слушать свояченицу хоть всю ночь, лишь бы хоть что-то новое узнать о сыне. Она смотрела, как Настя жадно ест, запивая крохливые чуреки холодной водой и следя, чтоб кукурузные крошки не сыпались на пол, а задерживались на широком подоле юбки, и ждала, когда та снова заговорит о Мите. Но Насте было невдомек, что Ульяну интересуют только такие новости. Она давно прихварывала, почти не выходила из дому и рада была сейчас свежему человеку, а тем более что в гости наведалась родичка с гостинцами.
Говорить Настя могла сегодня о чем угодно и, подкрепившись чуреками, начала жаловаться, что живет одна-одинешенька, никому из родичей до нее нет дела, спасибо двоюродной сестре Марфе, что рядом хата в хату живет и приходит проведать, а то и все, сдохла б тут, в отцовой хате. Все четверо братов на фронте, невестки и в доброе время не родичались, а теперь, в войну, и подавно. На этих словах Ульяна задержала Настю и повернула разговор на то, как приходил зимой Митя и как она встретила его и провожала в Платнировку.
В девять часов отключили электричество. Повеяло сразу жутью и подозрительными шорохами. Ульяна взяла кошелку на колени, стиснула плотно верх и посоветовала Насте говорить громче. Они сидели впотьмах в холодной нетопленной горнице, обе в фуфайках и больших платках, делились своими бедами, как две одинокие ночные птицы, и, коротая гнетущую ночь, шумно сыпали во тьму слова, стараясь рассказать все подробности, чтобы разговора хватило надольше.
В этой хате Ульяна до жгучей боли осознала, как много содержит в себе материнство. Не дай бог в такой пустоте жить, как Настя живет. Тут не хата выстудилась — тут человек пропадает, никого не любя, ни о ком не заботясь. Ой, напрасно ты, Настя, людей виноватишь, посмотри на саму себя!
Как только стало развидняться, Настя пошла открывать ставни, а Ульяна заспешила в город искать госпиталь. Настя не могла быть ей провожатой, посоветовала идти по трамвайным путям, до которых был один квартал и по которым движение трамваев после оккупации еще не наладилось.
Километров шесть Ульяна шла по трамвайным путям мимо пашковских хат, крытых черепицей и железом. Думала о ночном разговоре с Настей и поначалу не корила ни ее, ни Тимка Лабунина, наоборот, была благодарна обоим. Митю Настя приняла в Пашковке хорошо, а Тимко взял в свою семью за старшего сына, да жил ведь бывший зять в лихом месте: кругом степь, случись что, ни самому не спастись, ни людей на помощь позвать. Настя вернулась от брата живой-здоровой и вагу добрую зерна приволочила в свою хату, но с Митей, с сыночком, вышло не так, ой не так, знала бы — где-нибудь в своей станице сховала от полицаев, ближе к очам, ближе и к сердцу: что сама на огляд не взяла, про то добры люди расскажут, а там серы волки морды об стекла окон чухают, а вороги ще похлеще тех волков. Румыны на конях подскочили, на детвору — шашками, на Митю: «Партизан?» Тимко отбил до себя хлопца, так румыны посуду давай из хаты таскать и в подсумы около седла запихувать. В станицу переехали — там немцы до Мити: кто такой? Тут Елька Алехова, дай бог ей здоровья, за Митю взялась биться: «То мой сын! Сын мой, и все!» А самой двадцать четыре года. И поверили ж, отступились и немцы…
Ульяна шла и разговаривала вслух. Никто ей не мешал говорить с собой, держать перед глазами сына; трамвайный путь был прямым, тоже не отвлекал ее. Слова тоже подбирались легко, будто шпалы впереди выстеливались под ногами.
«Поехали Митя и Тимко в бригаду добрать на подводу остатки домашнего добра, заночували, а тут русские разведчики и вышли из степи на свет в ихнем оконце. Митя давай проситься к ним в группу: «Взрывник я, возьмите в пригоду», те и свели от Тимка хлопца». — «Справным парубком уходил сынок в солдаты, а теперь лежит с перебитой ножкой, на госпитальной койке матуську ждет».
Город был в этот ранний час тусклым, всюду виднелись развалины, редкие фигуры горожан двигались между развалин вяло, будто тени деревьев, голые ветки которых раскачивал сквозящий вдоль улиц ветер. Центральная больница оказалась разрушенной, таблички с номерами домов и названиями улиц были во многих случаях сорваны, на их месте выделялись на стенах светлые или темные пятна.
Ульяна проходила квартал за кварталом, от дома к дому и не могла найти госпиталь, пока не увидела в одном месте, как со двора выехала подвода, за ней шло четверо солдат, а возница почему-то не сидел на передке — с вожжами в руках шел с подводой рядом. Она уже хотела окликнуть солдат, как справа оказался тот самый двор, откуда выехала подвода, и через него двое санитаров в армейских шапках несли носилки, накрытые простыней. Санитары скрылись в дверях двухскатного, камышом крытого погреба, но быстро вышли назад с пустыми уже носилками.
«Тут Митин госпиталь и есть», — смекнула Ульяна и пошла к главному входу одноэтажного здания, стоящего буквой «п» в глубине двора, в обоих крыльях дома тоже было по входу с высоким каменным крыльцом.
В вестибюле ее остановила женщина в шинели и в шапке со звездочкой:
— Гражданочка, сюда посторонним входить нельзя.
— Сын записку из госпиталя прислал. Может, он тут лежит? Шаумяна улица ж… Санитары военни, а не нянечки…
— Все верно: и насчет улицы и какие у нас санитары, а пропустить вас в палаты я не имею права. Запрещены посещения в такое раннее время. Выйдите, гражданка, на улицу и там ждите, когда разрешат допуск посетителей к ранбольным.
— Я ж весь день вчера бегла от станицы, за ночь глаза ни одного не заплющила…
Ульяна с надеждой заглядывала в глаза вахтерши. Та окинула ее оценивающим взглядом.
— А как фамилия вашего сына?
— Полукаренко. А звать Митей. Сам дужий на вырост, а с лица белявесенький, — сказала Ульяна привычным набором сыновых примет. Добавила: — В ногу поранетый… Кажись, под Абинкою.
— Помню, помню, — оживилась вахтерша. — Я ж Митю и привезла из-под Абинки. Живой Митя. Крови потерял, правда, много, но рана у Мити не опасная. Так вы, значит, Митина мама? Он очень ждет вас. Как вы узнали? Он вам записку послал и вы так быстро ее получили и сразу сюда бегом? Или городские родичи вам сообщили? Я ж до Митиной тетки бегала с его запиской…
Вахтерше было около сорока лет. Ульяна быстро почувствовала себя равной с ней, тоже стала задавать ей вопросы, они разговорились, раненый Митя сблизил обеих.
Попутно вахтерша рассказывала и о своем сыне («Убили Юрочку, прошлым летом убили под Ростовом. Из десятого класса Юрочка ушел в окопы, надо найти обязательно Юрочкину могилку…»), а Ульяна выжидала в разговоре удобный момент, когда можно от слов уже перейти к делу, хоть издали посмотреть на сыночка пусть разрешит ей Клава или скажет, в какой палате Митя лежит сейчас. Но Клава придерживала ее около себя, ей наскучило ночное дежурство, приморило, а разговор материнский взбодрил, и она посвящала Ульяну в женские хлопоты фронтовой санитарии и вообще в обстановку, какая была в эти дни на близком фронте. Наступление приостановилось, нашим войскам никак не удается полностью очистить от немцев всю Кубань, те укрепились, создали вдоль приазовских станиц Голубую линию. Сбить немецкую оборону очень трудно, в боях наши части несут большие потери, все госпитали переполнены ранеными красноармейцами, а с фронта везут все новых и новых, нуждающихся в госпитализации…
— Я вашего сыночка четыре дня тут не могла сдать, — рассказывала Клава. — Говорят: нет мест в палатах, ждите, когда освободятся. А где ждать? На землю клали, солому и хворост не под каждого подстелешь. Митино счастье, что я к городским родичам сбегала, те принесли одеяло ватное и фуфайки.
— А где он лежит, в какой палате? — спросила Ульяна срывающимся голосом.
— Тут он рядом и лежит, в пятой палате. Тетя Паша два раза уже сюда приходила к нему.
— А мне можно пойти?
— Сейчас — нет. Я вам уже сказала: рано для посетителей. В такое время мы никого в палаты не допускаем, кроме медперсонала. Спят ранбольные, а вы плакать будете возле сына, разбудите других…
— Ей-богу, не заплачу. Пусти, Клава, а?
— Я тебя, Уля, понимаю, но и ты пойми меня — ты же не в гости до меня пришла? У меня тут дежурство, и порядок нельзя нарушать. Видишь, и гардероб закрыт, а без халата в палату входить нельзя. — Вахтерша кивнула на закрытую висячим замком дверь деревянного тамбура, примыкающего ко входу в вестибюль. — Ладно, стой тут, я гляну, нет ли в коридоре дежурной санитарки, у нее должен быть ключ. — Клава направилась в коридор. В черных туфлях-лодочках на высоком каблуке вышагивала, бетонный пол отзывался на быстрые шаги вахтерши дробным стукотком.
«Справная дамочка, — смотрела ей вслед Ульяна. — Наверно, безмужняя щас Клава и родить гожа. Весной сок в бабе бродит, кружит очи та сердце бабье дурит…»
Глянув в оба конца коридора, вахтерша вернулась на место.
— Нет дежурной, придется подождать. — Взялась руками за свою солдатскую шапку, поправила под ней пышный узел темных волос. — Та не переживай, Ульяша, — увидишь теперь сыночка. Я сама возьму у санитарки для тебя халат. А сейчас иди, глянь на Митю хоть в окошко. Справа второе от входа. После пройдешь и в палату.
— Спасибо, ой спасибо ж тебе, родненькая…
Ульяна, откинув руку с кошелкой, кинулась на выход, как молодая, сбежала со ступеней, с замирающим сердцем приникла к оконному стеклу.
«Где ты, Митенька?.. Где?.. Где ж тебя тут поклали?..»
4
В просторной комнате бывшего школьного класса лежали на полу раненые солдаты. Ни матрацев, ни подушек под ними не было, только желтела труха мятой соломы. Ульяна пригляделась к лицам раненых и сразу узнала сыново. Как Митя изменился за эти последние три месяца, что не был дома; остриженная голова казалась непривычно маленькой, а уши большими, в уголках губ залегли горестные складки, расстегнутый ворот исподней рубахи открывал острые ключицы.
«Ой, сынок, сынок, шо ж война с тобою сотворила? И в хлопцах не успел погулять, а уже состарился», — надрывала свое сердце Ульяна, но держалась, не плакала, помня предупреждение вахтерши.
Сын лежал под окном, укрытый серым армейским одеялом, правая нога была выпростана из-под одеяла и почти вертикально пристроена на подставке с роликом, через который на шнурке свешивался в мешочке груз, большая голая ступня посинела, остальную часть ноги скрывал бинт, намотанный толстым слоем вокруг жестких подкладок. Чужой показалась Ульяне сынова раненая нога, особенно эта омертвевшая ступня, и ее током пронзила тревожная мысль: «Живой ли ее сыночек?» Она готова была бежать к нему, срывать, разматывать огромный бинт, скорей вызволить из пут повязки пораненное место, чтоб всю боль сынову на свои глаза взять и в себя вытянуть, только б он открыл родные глаза и больше не мучился никогда-никогда…
Митя еще не проснулся, лежал на спине, подложив под затылок ладони. А в палате между тем возникло оживление, многие раненые уже не спали, заметили Ульяну, стали тоже рассматривать ее, посыпались шутки. Шум разбудил Митю, он открыл глаза, почти тотчас заметил в окне лицо матери и махнул рукой: заходи, мол, в палату. Ульяна заставила себя улыбнуться, согласно закивала: «Здравствуй, здравствуй, сыночко мой. Признал матуську? Я ж сразу по твоей записке прибегла… Я ж и гостинцев выгадала, а не пускают пока до тебя, солнце ще низенько, ще по-за горами заплуталось и по-за крышами, бо хаты тут в городе высокие…»
Она объяснялась с сыном языком жестов, душа ее кричала немым криком.
От нее сыночка отняли, запретами ноги опутали самой, как волчиха, под окном… Это ж не по-людски, не для материнской свиданки с пораненным сыном такой распорядок… Ульяна отшатнулась от окна, будто ставни припоздала отворить в своей хате на полную раму, давно пора высветить горницу полностью — там же сынок ее ждет, давно ж не видались… Развела несколько раз от груди ладони в стороны, на крыльцо ринулась, будто штурмовать решилась госпиталь.
Когда вбежала в вестибюль, замка на двери гардероба уже не было. Дежурная санитарка забуровила ее подозрительным взглядом из-под кудлатых черных бровей и начала ворчать, что скоро обход врачей. Если бы не вмешательство вахтерши, не попасть бы Ульяне скоро к сыну.
— Ты, баба Горпина, над человеком не змущайся, — подступила она к ней. — Мать пешком из станицы пришла, ночь не спала. Отдаст она тебе халат, на грец он ей сдался!
— Швыдка ж ты командувать, а у меня есть свое начальство тут. Вернысся в свою часть полеву, там и командуй в обозе!
Халат все ж таки Ульяне выдала, отобрав взамен фуфайку и верхний платок. Халат был стиран давно, замызгали его посетители госпиталя, пятен на нем понасажали.
— За такую поганую тряпку мороку людям творит, — брезгливо морщилась Ульяна, охватывая халат поясом и берясь за кошелку. — Рази ж кто в госпиталь красть приходит?
Войдя в палату, Ульяна в замешательстве потопталась у двери. Раненые солдаты лежали в три ряда на полу, проходы были узкими, идти предстояло осторожно, кошелку держать выше, чтоб не дай бог не сделать больно какому-нибудь калеке…
Митя не мог повернуться ей навстречу со своего ложа — он лежал на спине затылком к двери — и только приподнял руку, мол, тут я, мама, сюда пробирайся. Ульяна двинулась к нему на цыпочках, приподнимая свои глубокие галоши, и ей казалось, что она навела в палате слишком много шума, хотя все раненые уже проснулись, не смотреть на нее не могли просто из молодого любопытства, каждый, наверное, завидев ее, вспоминал свою мать. Наконец она опустилась на корточки возле сына, прижала его поднятую руку к своей щеке. Митя дернулся было, чтоб привстать, но она мягким движением коснулась его груди:
— Лежи, сынок, тебе ж больно, — и наклонилась сама, поцеловала его. Он взял ее руку и стал гладить, приговаривая:
— Ничо, мам, страшного. Живой я…
— То ты мамку успокаиваешь, а самому ж больно, — заглядывала Ульяна в глаза сына, как всегда привыкла сама там все выверять с правдой, и замечала сейчас попутно воспаленные веки и темные круги у переносицы. Огладила Митины щеки, на лбу ладонь задержала, привыкая к сыну заново после долгой разлуки, собиралась с мыслями. Каждое ее материнское слово должно сейчас помогать ему, никогда ж такой беды еще не было у сыночка, кто ж ему первый утешитель.
— Приехали, мам, на попутной машине?
— Не, сынко, попутным ветром…
— Значит, пешком шли. В станице, наверно, теплее, чем тут?
— Та одинаково, шо тут, шо там. Щас не от погоды людям морока, а от войны… — Ульяна в полуприседе придвинулась к раненой ноге сына — до паха скрывала рану повязка, а для чего-то ведь и подставка с роликом, и груз на шнурке висит. — Ой и богато ж, сынок, тут у тебя понамутовано и понатянуто, — показала она на роликовую подставку. — Наверно, так ножка поранета, шо и ковалю не склепать? Будут на операцию класть?
— На вытяжке я, мам… Резать не дался…
— А то тебя, сынок, спросят? Вас тут лежат сотнями и всем места не хватает. Спите без подушек, без простыней, даже коек для вас не нашлося…
— Вы мне, мам, принесите завтра подушку от тети Паши, ладно?
— Принесу, сынок, принесу. А ты гостинцев мамкиных покуштуй. — Ульяна достала из кошелки узелок. — Вот тебе пышки, кисляк, табачок…
— Табак, мам, не доставайте. Я курить бросил. — Митя, прищурясь, разглядывал еду в ее руках. — Покладите, мам, все на подоконник, я щас кушать не хочу. Давайте лучше побалакаем больше. Я по вас, мам, соскучился. У дядьки Тимка часто вспоминал, как мы в нашей хате при немцах балакали. Освобождали нашу станицу, наверно, трудно?
— Трудно, Митя, ой трудно. Целу неделю бились. И хаты летали по ветру от рук немецких взрывачей, и от пушек стекла с шибок сыпались. Всего было. Сперва от Холодного наши ночью заскочили — и «ура», а потом всех и поклали кого где. Ховались красноармейцы и в пустых хатах, и люди до себя ховали, в нашу хату один разведчик заходил… То все кончилось, сынок… — Ульяна хотела совсем на другое перевести разговор, но вспомнила, где она сейчас и почему, и поспешила поправиться: — В нашей станице кончилось…
— Я вас понял, мама. А как полицаи — успели удрать из станицы?
— Кто утек, а кого и поймали. Филипка Воловика. Васыля Белинку. А Щербу бабы зарубали тяпками около Псекупса. Первая Мария Приймак начала христосувать, за своего Грицька убитого счеты сводить, а потом другие бабы Маруське пособили. В общем, отслужился Щерба на немецкой службе. А староста Плужник на быках со всем своим барахлом тикал.
— Я и Воловика своей рукой бы…
— Давай, сынко, за шо-нибудь другое балакать? Войны ще хватит на наш век. Я ж тебя с нашего подвирья выглядала, выглядала: где мой цветочек? Шось долго до дому вертается, чи живой?
— Я не страус, мам, хотя и шея у меня долга стала в бегах, та и ноги в солдатских обмотках тоньше…
— А шо это такое страус? То ты, наверное, словами из книжек со мною балакать начинаешь? Откинь ту дурницу, сынок…
— Вы мое письмо из Тихорецка получили, мам? Встретились бы месяц назад…
— Месяц назад не самоправна была…
Установилась неловкая пауза.
— Посетителям освободить палату! — раздался в этот момент звонкий девичий голос. Оглянувшись на дверь, Ульяна увидела молоденькую медсестру. — Вас, тетя, касается, — пискнула она, растворив дверь и стоя в выжидательной позе.
Митя взял материну ладонь в свою, прощально потряс:
— Обход сейчас будет. Идите, мам, а то начальство тут строгое. Завтра днем приходите.
Она подхватила на руку пустую кошелку и медлила, не уходила.
— А после обхода пустят до тебя, сынок? Мы ж и не побалакали. Рази так можно?
Он виновато посмотрел на мать, и столько Ульяна прочитала в его усталых глазах, что не выдержала, упала на колени и зашлась в рыданиях:
— Ой, как богато начальников щас над тобою, сынок… И родну маты от тебя прогоняют, побалакать ей с тобою нельзя… Як волчиха, под окном я опять стой, да?..
— Может, вечером пустят. Я поговорю с медсестрой. А сейчас до дядьки Семена сходите. Он на этой же улице живет, возле водокачки. У него и переночуете, а то до Пашковки далеко вам отсюда ходить.
— Я вас долго буду ждать, гражданка? — снова подала голос медсестра.
— До вечера, мам, — попрощался Митя.
5
К сыну вечером ее не впустили. Вахтерша стояла у входа другая, а дежурная санитарка та же. Раскричалась, что по два раза в день нельзя посещать раненых, ничего не могла поделать Ульяна. Позаглядывала в окно на сына да с тем и ушла из госпиталя.
Не хотелось ей идти коротать ночь к городским родичам, но пришлось. Не оставаться ж было на улице, где черт-те что будет твориться ночью, могут и убить, и раздеть, и никто в темноте не заступится. Днем пересидела, передремала на солнышке, на Сенной площади по базару потолкалась, чтоб время скорее прошло, а теперь вот деваться было некуда — деверь Семен родичку под свою крышу должен пустить, отказать в ночлеге не посмеет.
Старые свары не время напоминать, а есть крепкая обида на деверя — последний мешок кукурузной крупы унес из ее хаты в голодное время. Мог не забирать, другие сделали вид, что в хате Полукаренчихи забрано все, искать тут нечего, но Семен вернулся и достал из запечья, будто не был родичем, хата к хате не жил. Не на таких ли мешках разбогател и в город перебрался жить? Что было — стерпелось, пережито, надо жить дальше, зменьшаться, как Матвей говорил.
Деверь и его жена приняли Ульяну честь по чести, ужинать посадили и вообще делали вид, что всю жизнь были самыми близкими людьми. Семен, правда, почти весь вечер просидел с газетой (одной породы с Матвеем был, за чаркой только балакливым в мужской компании становился), а Прасковья, или, по-станичному, Паша, тараторила и тараторила, хоть уши затыкай.
Через полчаса Ульяна уже многое знала о Митиной ране. И как пуля разрывная подкосила его в тот момент, когда он перетаскивал свой пулемет «максим» на новую позицию, и как санитары не стали подбирать его, посчитав за убитого, а он тогда только сознание потерял и очнулся днем в луже своей крови, много ее было на земле, и шинель ею всю пропитало. Подобрали Митю через сутки, а только на пятые он попал в палату на врачебный осмотр. Паша после записки сразу побежала в госпиталь, три дня ухаживала за ним, и, как она сегодня утверждала, это спасло Митю.
Рассказывая, Паша не щадила ее материнского сердца, выкладывала: такие подробности, от которых Ульяну бросало в дрожь, она хотела крикнуть: «Рази ж вам и правда жалко моего сыночка?» Но приходилось молча слушать, а чтобы сердца не все касалось и не каждое слово жгло, она осматривалась в квартире, переводила глаза с одного на другое.
Гость немного гостит, да многое видит, и Ульяна скоро поняла, что жили Семен и Пашка в городе безбедно. Еще до войны они уехали из станицы, купили в самом центре Краснодара половину крепенького кирпичного дома с отдельным входом и своим двором. Семен работал возчиком в гужевой конторе, а Пашка устроилась работать уборщицей на колхозном рынке и приторговывала там макухой, жмыхом, семечками, овсом, кукурузой и другим фуражом, который добывал Семен, имея под рукой пару лошадей. На фронт его не взяли по возрасту, и все скопленное добро осталось приглазным, на распыл не пошло. «Та кони ж у меня и тогда были», — только и сказал молчун Семен, когда Ульяна спросила, как они жили при немцах. Выходило, что жили не тужили, добро наживали. А на виду в квартире из двух комнат и кухни они ничего лишнего не держали, будто виноватить их не в чем. Мебель была расставлена так, что достаток в глаза не бросался, хотя, на взгляд Ульяны, столько добра у всей станичной родни Семена не набралось бы, а у нее тем более ни кожаных диванов, ни шифоньеров, ни буфетов, ни венских стульев, ни абажуров с кистями и этажерок сроду не было, и вообще, кроме сундука, другой мебели она не знала и то, на чем спят и едят, добром не считала.
Все вещи в квартире деверя были подержанные, но на век хозяев рассчитанные, и сами они были под стать им — в меру потускнели и покоробились, однако до старости обоим супругам было жить да жить.
Ульяна устала от Пашкиных разговоров и вообще от событий последних дней и в седьмом часу вечера начала поклевывать носом и резко вздрагивать, когда ей в этот момент задавали вопрос. Спать ей смерть как хотелось, но для гостя стелет хозяин, значит, снова надо было терпеть и ждать, когда предложат и куда положат. А чтобы не сидеть сонной курицей без дела, она взялась сшить подушку для Мити — у Пашки просить пуховую подушку, она поняла, бесполезно.
— Семен, я у тебя сенцом не разживусь? А то Митя без подушки спит на полу в госпитале, — сказала она, не очень рассчитывая, что и это дело у нее выгорит.
Пашка сразу завертела шеей, ожидая и вторую просьбу — о материи для наволочки, но Ульяна тут же нашлась и сказала:
— Я из косынки своей наволочку сошью. Все ж таки хлопцу хоть трошки удобней будет спать, а то на спине он лежит, та ще до раненой ноги камень привязали…
Семен молча взял фонарь «летучая мышь» и пошел в сарай.
Встали Семен и Пашка рано и разбудили Ульяну, как она просила. Вместе с Пашкой она пошла на базар выменять на табак гостинцев для Мити и в госпиталь попала позже, чем вчера. Заглянув мимоходом в окно, убедилась, что с ним за ночь ничего не случилось (он лежал на прежнем месте), и уверенно толкнула входную дверь. Дежурившая у входа вахтерша Клава встретила ее как старую знакомую, халат ей тоже выдали сразу. Эти две хорошие случайности подняли ей настроение, и в палату сына она вошла спокойно, будто в свою хату. И подушку отдавала Мите с легкой душой и одной мыслью, что теперь лежать ему будет удобнее.
Сын не спал и встретил ее вопросом:
— Ночевали, мам, у дядьки Семена?
— А то ж у кого, раз он тут самый ближний родич, — ответила она, косясь на раненую ногу сына, заметила на подоконнике нетронутые вчерашние гостинцы и в свою очередь спросила: — Ты чо ж, кисляк и пышки не съел?
— Аппетита нет, мама…
— Тогда хлопцам кому-нибудь отдай…
— Теть, можно я возьму? — спросил молодой раненый с забинтованной култышкой правой руки. Он был Митиным соседом и слышал все, о чем она говорила с ним.
— Возьми, хлопчик, раз мамкины гостинцы ему не нужны. А я дурна, «жаворонков» на базаре добывала… Праздник сегодня ж, люди сдобу пекут, весну закликают на счастье…
— Мам, не плачьте… Я правда не хочу.
Ульяна взяла с подоконника банку кисляка и пышки, подала раненому, который просил, а у самой руки дрожали и сердце сжималось, когда он брал еду одной левой рукой, укладывал на одеяле, а потом по очереди то жадно откусывал чурек, то прихлебывал из банки кисляк, слизывая белые круги над верхней почти детской губой, — правой руки у солдата не было, значит, отвоевался и в работники был теперь негож.
«И с Митей неизвестно как случится», — беспокойно взглядывала она в лицо сына. Что-то случилось с ним все ж таки за эту ночь, а что именно, она пока не знала и не догадывалась, но поняла, что ему стало хуже и уезжать в станицу ей теперь нельзя, пока не определится, очень опасно это для него или нет.
Митя на ее глазах чернел, стискивал от боли зубы, на щеках, будто дотлевающие угли в пепле, проступали красные пятна.
— Мама, выйдите, пожалуйста. Я врача буду вызывать… Ногу печет с ночи, как батькин горн раздувает, — простонал он, катаясь головой по подушке. Она попятилась к двери, считая, что выйдет ненадолго, а потом опять можно будет зайти к нему. И сразу же ее настороженный слух резануло криком сына:
— Вра-ча-а-а!..
Она вернулась, присела над ним, но он протестующе замотал головой:
— Мам, уходите… Я щас ругаться буду… — голос Мити рвался, глаза краснели и слезились. — Вра-а-а-ча-а! — крикнул он, приподнявшись на руках и напрягаясь худой шеей. Его крик подхватили другие раненые.
— Вра-а-а-а-ча-а! — кричали со всех сторон вокруг Ульяны, и скоро прибежала медсестра. В палату она только заглянула и тут же исчезла.
— Тетенька, выйдите, а то ему больнее при вас, — посоветовал кто-то сзади Ульяне.
— Да, да, — поддержало просьбу несколько голосов. — Врач все равно вас выгонит и допуск к сыну запретит. Себе хуже сделаете…
Она понимала, о чем ей говорили, но не могла оторваться от сына, оставить его одного в такой беде.
— Ой, не могу, — стонал Митя, снова откинувшись на подушку и прикрыв глаза. Слезы накатывались из-под ресниц, текли по впалым горящим щекам на сухие побелевшие губы. Вдруг он рывком откинул вверх веки, но мать уже не просил выйти — смотрел прямо на нее, не замечая, не узнавая. Зрачки от боли расширились и были полны ужаса, видели что-то свое, чего другим не являлось, наружу, а было его внутренним, с чем он не мог справиться сам, и исступленно стал звать на помощь, уже не криком, а слабым шепотом, быстрым и неразборчивым. Он корчился и стучал кулаком об пол и вдруг пронзительно тонко взвизгнул:
— Ма-а-ама-а-а!.. Ма-ма!
Ульяна большой белой птицей взметнулась над стонущим сыном, распахнула дверь из палаты в коридор и хотела бежать искать доктора, но, увидев спешащих навстречу людей в белых халатах, прижалась к стене. Цветные круги замелькали в глазах, и она куда-то провалилась…
Когда пришла в себя, почувствовала резкий запах и легкую тошноту. Вахтерша держала возле ее лица клочок ватки, смоченный нашатырем, и спрашивала:
— Что, Уля, сердце, или голова закружилась?
— А грец его знает… Мой сынок живой?
— Не беспокойся: живой. Унесли в операционную. — Вахтерша помогла Ульяне встать и вывела во двор: — Побудь на воздухе.
6
Было свежее утро. Солнце светило еще розовато, но день обещал быть ясным и без ветра. Ульяна стояла на главном крыльце госпиталя, не зная, что делать дальше, как ей быть и куда идти. Белый халат у нее отобрали, значит, сегодня на свидание с сыном больше надеяться нельзя, надо ждать до завтра, а Митя ж в операционной…
Она зашла в вестибюль, прислонилась к тамбуру гардероба. Вахтерша не прогоняла ее, но и не утешала больше, вполголоса напевала какую-то фронтовую песню:
Там, за горами, закат догорает, Пышный, румяный закат, А у сестры на груди умирает Юный красавец моряк. Только недавно осколком шрапнели Рану ему нанесли, И в лазарет на его же шинели Санитары его принесли…Слова песни Ульяна ловила краем уха, в смысл их вникнуть не старалась, а мотив ей нравился, хватал за душу, и песню вахтерши она принимала как сочувствие. Стояла, подпирала спиной дощатый тамбур, смотрела в коридор и загадывала, не понесут ли здесь Митю обратно в палату?
В госпитале был в это время обход. Сновали по коридору санитарки, врачи переходили группой из палаты в палату, обменивались на ходу репликами. Побывали они и в Митиной палате, а когда вышли, продолжали что-то обсуждать, и Ульяна вся напряглась, не назовут ли ее фамилию, не скажут ли чего нового о сыне. От группы врачей отделилась санитарка и скоро показалась в коридоре с охапкой костылей. Была она простовата лицом и костыли несла, наложив их сверху на руки, как дрова. Ульяна помогла ей открыть дверь в палату, не удержалась, спросила:
— Вы и моему сыну тоже такие ножки принесли?
— Вашему пока нет, — ответила санитарка и сделала преграждающий жест: — Без халата сюда нельзя.
Пришлось ни с чем вернуться в вестибюль. Ни о чем, кроме беды сына, думать она не могла и вспомнила, как перед войной вздулись у него возле паха внутренние нарывы. Он тоже тогда ходить не мог, лежал на кровати и кричал от боли. Вызванный из станичной амбулатории фельдшер Гребенюк объявил, что у Мити заразная болезнь, и отказался лечить. Тогда она достала подводу и повезла сына в воинскую часть, где работала в то время прачкой. Полковой врач и спас Митю, сделав сразу операцию, а то и все, пропал бы сынок. «Тот хирург был опытный, а какие тут? — сомневалась она, терзаясь неизвестностью за исход операции. — Может, пока я тут под окнами стою, моего сыночка уже и калекою сделали?» Повернулась к вахтерше, попросила:
— Клава, будь ласка, сходи до врачей и про сыночка моего спроси, как сделали ему операцию? А я тут за тебя постою, никого в палаты пускать не буду.
Вахтерша согласно кивнула и скрылась в коридоре. Вернулась она быстро, вид у нее был спокойный, весть принесла хорошую:
— Живой ваш Митя. Не думайте ничего такого. Операцию делать ему не стали. Лежит сейчас на койке в другой палате, никто его там не беспокоит. Я заходила к нему, он сказал, что боли прошли, мать пусть не переживает.
— Ой, спасибо, родненькая! Дай бог тебе счастья! А со двора в окно его видно?
— Видно. Сейчас скажу, какое окно. Четвертое, с левого крыла. Можешь, Уля, посмотреть и сама убедиться: там он. А сейчас, наверно, уснул… после укола.
Ульяна нашла нужное окно, а роста, чтобы заглянуть, у нее не хватило — выше были окна в крыльях бывшего школьного здания, видимо, учились тут ученики начальных классов и не должны были отвлекаться во время уроков, и к ним любопытные заглядывать не могли. Она попробовала отойти на большее расстояние, но солнечные блики играли на стекле, отражая камышовую крышу погреба, ее фигуру в большом головном платке, фуфайке и глубоких галошах. А то, что происходило внутри палаты и кто там лежал, не было видно. И все ж таки Ульяна продолжала наблюдать за окном. Глаза уставали от пристального вглядывания, и она вздрагивала от волнения, ей казалось, что в палате сына что-то происходит, значит, она сейчас узнает о нем что-нибудь новое. Ничего такого не было…
Она томилась бесконечно долго и решила снова узнать новости через вахтершу Клаву, уже отходила от окна, когда внутри сыновой палаты забелело множество фигур в белых халатах и докторских шапочках. Ей видны были затылки и профили совсем молодых ребят и девчат, а почему они оказались там и что делают, было невдомек. «Может, шефы гостинцы раненым по палатам носят и песни спивают? А где им столько халатов и шапочек выдали? В гардеробе было всего три халата для посетителей». И Ульяна пошла спросить у вахтерши, откуда молодежь в госпиталь заявилась и зачем.
— Ты, Уля, все за своего сына переживаешь? — встретила ее вахтерша вопросом.
— А как же, Клава, не переживать, если другие дети уже в палате на костыльках прыгают, а мой сынок лежит и не встает. — Она произнесла последние слова уже на всхлипе и больше не могла удержать себя от слезной просьбы: — Сбегай, Клавочка, родненькая, глянь, как он там… Может, завял уже мой цветочек?..
Как стучало ее сердце и охватывало холодом спину, пока дожидалась она вахтершу из палаты сына! Как самой хотелось бежать туда и скорее глянуть на него… Только слезам своим она была здесь хозяйкой, да и те уже не слушались, застили глаза, солоновато жгли губы…
Когда она увидела бегущую в слезах вахтершу, ей все стало ясно, слова были уже не нужны, но та закричала с подвывом:
— Ой, Уленька-а-а… уже ж за-а-вя-а-ал… цвето-о-очек тво-о-ой!
7
Что с нею было и как она очутилась в палате, Ульяна после ни понять, ни объяснить себе не могла. Как без халата бежала по госпитальному коридору и потом все остальное делала — снимала с головы своей легкую белую косынку, подвязывала сыну подбородок и зубами рвала ненужные теперь бинты на раненой ноге. «Господи, какой ты белый та чистый, мой цветочек… Ой и горько ж такого сокола в землю ховать!..»
Входили в палату люди, говорили о чем-то своем, что им надо было сделать в связи со смертью от газовой гангрены еще одного раненого красноармейца, а у нее теперь была одна забота — приготовить покойного сына к погребению, как положено по христианскому обычаю, и самой проводить его в последний путь. Она шла рядом с носилками, когда раздетое тело Мити санитары несли в погреб под камышовой крышей, проследила, в каком месте его положили, и наказала никуда не перекладывать и не трогать, пока не придет за ним сама.
Пришлось сбегать в канцелярию за справкой, и только после этого кладовщик, толстый пучеглазый малый лет двадцати пяти, одетый в дубленую меховую безрукавку и новую офицерскую шапку, пустил ее в цейхгауз[12] и стал подавать ватник, шинель, штаны и гимнастерку. Она стояла с откинутой на сторону рукой, принимала одежду, особо не разглядывая, а потом случайно заметила, что штаны и гимнастерка малы размером.
— Ты же чужое даешь! На шо оно сдалось, если не сыново? — она резко опустила руку, и все попадало на пол.
— Ишь ты какая разборчивая! — заорал кладовщик. — Или бери это, или уходи совсем. Тут тебе не барахоловка!
— Бессовестный ты! Как крыса тут шныряешь. В куче часов, с мертвых красноармейцев снятых, рылся… А ще мать срамишь: сыновы вещи с тебя спрашует, чужих не берет… С твоей мордой давно на фронте надо быть!
— А у меня грыжа, — огрызнулся кладовщик.
— Ты знаешь, как бугая от грызи лечат? — Ульяна злым прищуром сверлила кладовщика. — В ярмо забивают — и на пахоту! Отдай по-хорошему сыновы вещи, а то до начальства дойду!
Кладовщик не ожидал такого напора, уставился в недоумении на Ульяну, покусал толстые губы, потом пообещал:
— Ладно, найду. Не шуми только много. Ишь расшумелась, как холодный самовар…
— Был бы тебе и кипьяток…
— А, связываться с тобой, тетка, неохота. Ты поди-ка на улку погуляй — я закрою склад, чтоб сюда посторонние не зашли. — Кладовщик стал, теснить Ульяну к двери и закрылся изнутри.
В госпитале продолжалась обычная жизнь. К погребу подъехала подвода, та самая, которую увидела вчера Ульяна. Беспокоясь, что увезут Митино тело, она заспешила к подводе. Подбежала к раскрытым дверям погреба, глянула в то место, где оставила сына, и обомлела — не было ничего там. А солдаты между тем уже набросили на подводу брезент, ездовой дернул вожжи. Кони тронулись с места, и следом за подводой поплелась похоронная команда.
— Хлопцы, постойте! Родненькие, послухайте. Вы ж сына моего ж тоже взяли! Я сама его поховаю… в землю… — Ульяна обращалась сразу ко всем солдатам. — Родненькие, остановите! Шо ж вы робите? Чи вам трудно придержать коней? — умоляла она, семеня рядом с подводой и перебегая от одного солдата к другому. — И у вас же мать родна есть… Рази ж так можно над горем матери знущаться?..
Наконец она выбрала одного помоложе и, преградив ему дорогу, ухватилась за рукав его шинели:
— Ну скажи хоть ты, почему вы мать не слухаете? Чи не люди вы?
— Сыкало, останови — пусть посмотрит. — Солдат освободил свой рукав от цепких Ульяниных пальцев и посоветовал: — Только брезент шибко не откидывай, а то зеваки сбегутся.
Ульяна мигом взобралась на задок подводы. Не обращая внимания на запах, скопившийся под брезентом и теперь резко шибанувший в образовавшуюся щель, она осмотрела все лица покойников и в смятении спрыгнула на землю.
— Перекладывали мы одного в сторону. Может, он твой сын и был, — пробормотал солдат, который помог задержать подводу.
— Тогда извините, хлопцы, — только и могла ответить Ульяна. Медленно побрела она к госпиталю — спешить ей теперь было некуда.
Во дворе попалась навстречу женщина с подушкой и, признав в Ульяне осиротевшую мать, поделилась своим горем:
— Вчера сынок просил принести подушку, а сегодня уже нет его… Сказали: умер ночью…
Они разминулись — у каждой было свое горе.
— Эй, тетка, где тебя носит? — крикнул ей с высокого крыльца кладовщик. — Или сыновы вещи не нужны стали?
— С чего ты взял, шо не нужны? Тебе и заботы, абы не брал никто, тогда б ты на толкучку выносил…
В цейхгаузе кладовщик показал ей пустой матрас, растянутый мешком и, прикинув наметанным глазом его содержимое, определил:
— Видишь, какой узелок остался тебе от сына? — Он взял углы матраса и вытряхнул на пол носки, шапку, гимнастерку и шинель. — Тот раз я тебе больше давал. Зря, выходит, ругалась.
— То по-твоему зря. А я считаю: за дело! — возразила Ульяна, завертывая одежду сына в пробитую и окровавленную шинель. — Кто в окопах головы кладет, а кто ихние шапки посля продает. Тю на вас! — плюнула она и зашагала с узлом на выход.
8
Гроб сделал Семен, но приехать на подводе за Митиным телом не обещал (занят был на работе, боялся, что накажут, если отлучится с казенными конями по личным делам), мог только Пашку послать с ручной тележкой. И на том спасибо. Что Ульяна могла сказать еще? Хоть такая, а все ж таки помощь, одной бы ей не управиться с похоронами сына в чужом городе. Договорились, что она с утра пойдет хлопотать о выдаче тела Мити, а Пашка прикатит тележку часам к одиннадцати — ей утром на базаре надо было поторговать.
Нелегкими оказались последние Ульянины госпитальные хлопоты. Три раза Ульяна подбегала к начальнику госпиталя.
— Подождите, я занят, — отвечал он и скрывался надолго. Ульяна бродила по госпитальному двору, от нечего делать ко всему приглядывалась. Был такой же, как и вчера, теплый весенний день, иногда на госпитальный двор опускались скворцы, подергивая часто рябыми головками, молча бегали по вымощенным кирпичам. Ульяне вспоминалась станица, брошенное подворье и Зойка Кравцова, бегущая с Митиной запиской: «Теть Уль-а-а-а… запи-и-иска те-бе!..» Как давно это было… Уже целый день как нет с ы н а. Совсем нет. И никогда Мити больше не будет… А тогда с ы н б ы л… Лежал Митенька на соломе, как упавший из гнезда птенчик, и ждал маму… «Буду очень-очень рад повидать вас, мама…» Покалеченный уже звал, но живой, живой!..
Всплакнув, она подхватывалась искать начальника госпиталя, заглядывала в двери канцелярии, спрашивала, когда ж он наконец освободится. И снова ждала, ждала…
Привезли с фронта очередную партию раненых красноармейцев. Торопились и гнали коней вовсю — пар шел от конских боков, и в пене были железные удила уздечек. Ульяна следила со стороны, как санитары носили раненых в правое крыло, где помещались цейхгауз и баня. Что-то знакомое показалось ей в одном из раненых. Подошла ближе к подводе и… узнала Федю. Он был без памяти, лежал на спине, откинувшись на левую щеку, а справа чья-то заботливая рука положила два кусочка рафинада. Сахар, как и шинель Феди, обсыпало землей, лицо покрывала копоть. Он опять побывал в самом пекле войны, шинель была накинута сверху, как смертное покрывало. — Куда ж тебя поранило, сынок? Где ж ты был, Хведенька?.. Где?.. А твоего братика Мити уже нема… Уже не повидаетесь вы в нашей хате… И тебя я там чи ж дожду-у-уся?..
9
Паша прикатила тележку, а Ульяна все не могла перехватить начальника госпиталя. Высокий, моложавый, в шапке на чернявой шевелюре, в офицерской удлиненной шинели и блестящих узких сапогах, он ходил по госпиталю, заложив руки за спину, и человек, обратившийся к нему с просьбой, чувствовал неловкость, говорил вполголоса. То же было и с Ульяной. Подходила несколько раз, робко просила выслушать ее, получив отказ, пристыженно уходила. Но ее кротости не могло хватить надолго. И в конце концов она решительно встала на пути начальника госпиталя.
— Вы опять ко мне? — крутнул он в сторону холеное лицо. — Я занят! Занят!
— Отдайте сына, товарищ начальник, — медленно, слово за словом выдавила Ульяна. — Второй день мой сын у вас в погребе лежит… Отдайте…
— А где живете?
Она назвала станицу и сказала, что гроб уже сделан, госпитальный не потребуется.
— Могилку копачи уже копают… Тут, на Старом кладбище, схороним, до станицы не повезем…
— Идите в канцелярию, вам напишут расписку.
Ей выдали в канцелярии госпиталя официальный документ:
«Красноармеец Полукаренко Дмитрий Матвеевич, 166 ГВСД, 1925 год рождения, умер от ран 21.03.43 г.
Труп выдан матери для производства потребления».
Справка была как справка, по всей форме, с подписью и двумя печатями — гербовой и квадратной. Но на оборотной стороне четвертушки плотного листа были рассыпаны немецким шрифтом названия донских и кубанских станиц, а прямо по немецким буквам вывел карандашом торопливые записи госпитальный завхоз, хлопотавший о весеннем севе:
«…овса, 1,6 ячменя 17 картофеля 5 га парники 130 кв м огороды 24 озимых 180 га тягла две пары…»
Кто смог бы сейчас растолковать Ульяне, что оборотная сторона справки о смерти ее сына есть не что иное, как немецкая оперативная карта, захваченная красноармейцами в бою, и что русский текст, написанный сверху рукой госпитального завхоза накануне посевной кампании на освобожденной кубанской земле, есть торжество жизни в своей непреложности и постоянстве, а гибель Мити — всего лишь случай, эпизод, неизбежная потеря на войне? Опаленное материнское сердце не внемлет рассудку, горе солдатских матерей неутешно, и никто ничего не объяснял ей в этот горький час прощания с сыном…
Мелкие неурядицы вовлекали ее в работу, обо всем она хлопотала сама, не занятой делом минуты не выпало. Платформа ручной тележки оказалась мала, вытянутое во весь рост тело сына не умещалось на ней, и не хватило шинели, чтоб укрыть полностью. Ульяна обмотала фартуком Митины большие босые ноги, поддерживала их в пути от госпиталя до городской квартиры деверя, а там и домовина выявилась короткой, уклали покойного сына в гроб наискосок. Даже на кладбище ей не сразу удалось сосредоточиться на главном и постигшее горе перевести в скорбную думу. И тут поначалу дело нашлось, и обычаи брали свое, не оставляли ей воли и покоя.
Место она выбрала сухое, под высокой акацией, и хоронила сына без слез, чтоб не на мокром лежал с самого начала — такое уж поверье знают люди про жизнь на том свете, не ей нарушать обычай. Скоро белый цвет акации раскинется над Митей, потом душистые лепестки опадут, выстелют его могилку белым ковриком, и летом тут будут расцветать цветочки — мелькали сквозь тяжесть непоправимой навсегда беды утешные крохи из той жизни, какой ей отныне предстояло жить, и эта новая жизнь без сына в хате вся будет здесь, не оторвать ее отсюда никакими силами, не сдвинуть в сторону других забот, а черный плат по сыну, убитому на войне, ей надевать теперь в эту весеннюю пору до конца дней своих. И не кончится никогда ее материнство.
Насыпали холмик, когда проехала неподалеку госпитальная подвода и похоронная команда проплелась следом — красноармейцы продолжали умирать от ран, их надо было предавать земле.
— Глянь, без одежи привезли и всех кладут в одну могилу, — толкнула Ульяну в бок Паша. — Рази ж то по-людски?
Ульяна не обернулась — видела вчера ту подводу, брезент поднимала над нею и на глаза все взяла, а сейчас свои заботы на уме. Креста вот нету деревянного над могилкою сына. Рази ж не обидно ей, матери, хоронить пусто хрещеное родное дитятко? Она продолжала оправлять холмик, потом кусочками дерна выложила сверху крестик — не могла унести много земли с ранней травкой, наскубла во дворе деверя Семена, как украла. Паша ворчала, что-то у нее спрашивала насчет девятого дня, отпевания и других поминок, а она вдруг вспомнила о раненом Феде, и так тревожно стало на сердце, такая боль стиснула горло, что дышать не было сил. С закрытыми глазами посидела на корточках, потом резко распрямила спину и зашагала в сторону госпитальной подводы.
Огрузаясь галошами, взошла на рыхлую отсыпь и, склонившись над широкой ямой, стала осенять крестом прах чужих сыновей. Солдаты похоронной команды с недоумением косились на нее, но не прогоняли. Ульяна еще несколько раз взмахнула рукой над разверстой братской могилой красноармейцев, отбила тройной поклон.
Станица Новотитаровская — Ленинград. 1977—1980 гг.
Примечания
1
Пинка.
(обратно)2
Праздничная одежда кубанских казаков, по форме похожа на черкеску, какие носили горцы Кавказа.
(обратно)3
Все равно, нет никакого дела.
(обратно)4
Сдоба из кукурузной муки.
(обратно)5
Грачи.
(обратно)6
Прощением.
(обратно)7
Куражились.
(обратно)8
Свинарника.
(обратно)9
Петуха.
(обратно)10
Тяжесть.
(обратно)11
Спасите.
(обратно)12
Армейский склад.
(обратно)
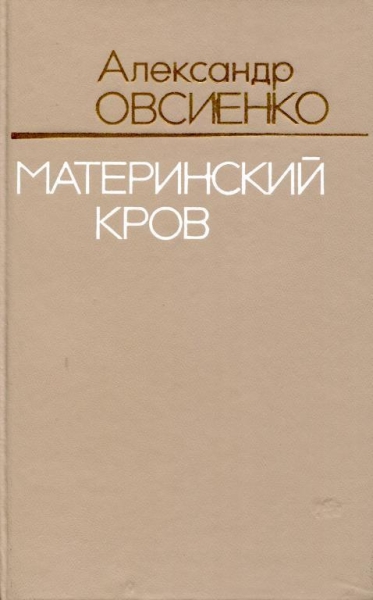

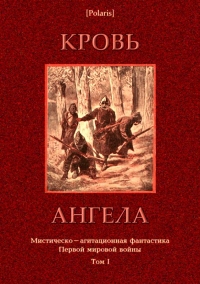

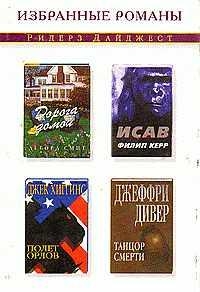



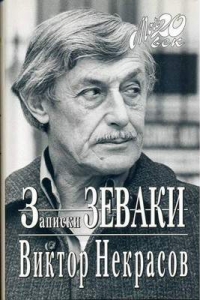



Комментарии к книге «Материнский кров», Александр Матвеевич Овсиенко
Всего 0 комментариев