Современная югославская повесть. 70-е годы
ПРАВО ВЫБОРА
В этой книге читателя ждут суровые картины, трагические судьбы, неукротимые страсти. Можно подумать, что составитель отдал дань сильнодействующим средствам, предпочтя драматизм сюжетов неким иным тонам и краскам югославской прозы… Но это не так. Пять повестей современных югославских авторов очень типичны для многонациональной литературы Югославии. Героический народ, отстоявший в далеко не равной борьбе свою независимость и свободу в огне сражений с фашизмом, драматически пережил эту эпоху, переживает ее и сегодня — война остается доминирующей темой в литературе.
Три повести из пяти — о войне и ее последствиях, в двух других («Terminus» Нады Крайгер и «Рот, полный земли» Бранимира Щепановича) исследуется проблема смерти как высшего испытания личности, — проблема, несомненно, «навязанная» годами жестокой проверки ценности человека в горниле партизанской войны…
И во всех без исключения случаях речь идет о праве выбора. И о достойном выборе.
Известный писатель Мирко Божич (р. в 1919 г.), автор романов, новелл, драм, чье творчество в пятидесятые годы ознаменовалось поворотом к аналитической, порою сатирической литературе гоголевского плана, по определению критики — тонкий психолог, в «Колоннелло» ярко проявил себя как стилист, чувствующий живой народный говор родного ему далматинского края. Его герои — партизаны, берущие в плен итальянского полковника, — живые, горячие, непосредственные люди, крестьянское прошлое которых неистребимо. Лукавые, хитроватые, наивные и чистые, они пока почти не умеют воевать, учась на ходу, по необходимости, этой странной, противоестественной для них профессии — убивать. У советского читателя герои М. Божича вызовут в памяти образы «Железного потока» Серафимовича, а порою — и Бабеля. Марко, Чоле, колоритнейший священник-связной и другие персонажи никак не войдут в «роль», предназначенную им суровыми обстоятельствами. Голод, холод, отрыв от большого фронта, крестьянское недоверие к командиру-интеллигенту, превосходство которого над ними они и признают, и инстинктивно опасаются последствий этой подчиненности ему, — все эти мотивы странного, порой непонятного читателю напряжения, нависшего над отношениями партизан, не боится показать Мирко Божич.
Но они могут быть героями — вот главное! Они готовы накормить пленного «колоннелло» — изнеженного старикашку, попавшего во время своей нелепой охоты на фазанов в их жесткие лапы, — последним яйцом, испеченным в золе, а сами будут глотать слюну — что ж поделаешь, если Пипе, их ученый командир, требует беречь эту «важную птичку», может, и впрямь удастся обменять его на оружие и продукты, ведь, говорят, их «колунел» — друг самому Муссолини. Но делают все это они поначалу воистину нехотя, стиснув зубы. Все противится в них, все бунтует: фашиста, убийцу детей и женщин надо откармливать, как каплуна. Но постепенно происходит… незапланированное: один за другим добрые эти люди, почти с удивлением к собственным поступкам, проникаются жалостью, пусть пока смешанной и с презрением, к пленному полковнику. Он болеет — его отхаживают. Утром, когда Чоле и двум его дружкам вести Колоннелло на обмен к Волчьему логу, где их ожидает отряд, они уже искренне жалеют беспомощного старика, дрожащего в лихорадке. Под обстрелом берегут они пленника пуще самих себя — и не так просто понять: дело ли в военной целесообразности или… в человеческом чувстве жалости.
М. Божич сумел исподволь подготовить читателя к этой трансформации поведения своих героев, и мы вовсе не удивляемся героическому финалу повести: узнав, что по пути к месту обмена Колоннелло куда-то запропал, командир партизан принимает неожиданное решение — отказаться от доставленных им противником автомашин с боеприпасами и продуктами питания… Враг должен знать, что слово чести для партизан неколебимо! Пленного нет — условие не будет нарушено. Потрясенный итальянский офицер говорит командиру партизан: «Я вас никогда не забуду». И голодные, полузамерзшие люди видят, как уходят по горной дороге не охраняемые никем машины… И то, что это воля не только командира, что люди его отряда оказываются на высоте «жертвы», которая оборачивается победой духа, — знаменательный, поистине романтический финал «Колоннелло».
Йовану Павловскому (р. в 1937 г.), македонскому поэту и с недавнего времени прозаику, исполнилось всего лишь четыре года, когда фашистские оккупанты вошли в его родной город Тетово. Повести его «Близкое солнце» предпослан эпиграф: «Бойцам Третьего тетовского партизанского отряда — тем, кто пал смертью храбрых, и тем, кому, довелось жить, с уважением и благодарностью, а также с чувством грусти, что я не мог быть с ними». Это звучит как клятва верности отцам и старшим братьям поколения, которому «выпало жить».
«Близкое солнце» — повествование о трагической судьбе молодых добровольцев, вставших на защиту родины и почти поголовно погибших в бою у села, окруженного баллистами[1]. Многие из героев Й. Павловского были совсем мальчишками, но сделали свой выбор — и бесповоротно. И автор, ощущая с ними кровную связь, внимательно, почти стенографически пунктуально регистрирует последние часы и минуты их юных жизней, отданных за свободу добровольно, сознательно. Если экспозиция повести кажется несколько затянутой и речи героев излишне патетическими, то дальнейшее развитие сюжета заставляет изменить первоначальное впечатление. Ближе знакомясь с персонажами повести, начинаешь понимать, что высокие слова и торжественность их клятв продиктованы юностью и тревожным ощущением исторической роли, которую они должны сыграть здесь, завтра, на родной земле, необученные, почти безоружные, малочисленные герои, сердца которых переполнены любовью к жизни, ненавистью к убийцам и насильникам, пришедшим на их землю, чтобы сделать их рабами. И медленное развитие событий в начале повествования по-своему оправданно: мы должны успеть вслушаться в юные эти голоса, всмотреться в лица, пока эти юноши живы, полны надежд и прекрасных помыслов… Пройдет несколько часов, и большинство из них падет, истекая кровью.
Построение повести, несомненно, свидетельствует о точности композиционного мышления Й. Павловского. Желая «сберечь» образы своих героев, каждого из них запечатлеть навечно, словно бы стремясь встать на место каждого из них в те огненные часы, что разделили их жизнь и их смерть, автор снова и снова «припоминает» трагические события. Каждая глава начинается с одного и того же мгновения, с одного и того же первого выстрела на окраине села. Только просмотрена эта кровавая лента памяти каждый раз глазами нового героя. И снова и снова видим мы, как просыпается человек, выбегает на улицу, слышит выстрелы или крики соседей, бежит поскорее занять свое место в ряду бойцов, как видит он смерть близких, как участвует в бою, как спасает друга, взрывается с гранатой, близко подпуская врага, или подрывает гранатой пулемет противника… И — как правило — сраженный, падает сам, удивленно замечая, что смерть так легка и неожиданна. Не случайно столь часто повторяется один и тот же финал: пули прошивают тело героя, а он не чувствует боли. Словно засыпает на ходу, всегда растерянно и удивленно чувствуя слабость и темноту, в которую уходит из этого солнечного мира…
Образ солнца в повести Й. Павловского эпичен. Вот как видит его один из героев: «Товарищи выбьют баллистов и продолжат свой путь. С ними уйдут крестьяне Селицы, а по дороге к ним присоединятся жители других сел, и вместе они пойдут к Дебарцам и к Копачии, чтоб влиться в бригаду, а поведет их солнце, чистое и ясное, словно мать выкупала его во дворе их домика в Тетово. Она купала его в разных зельях и снадобьях, и оттого оно теперь такое яркое и чистое. Оно такое близкое, что он может дотянуться до него рукой». Повесть начинается и заканчивается образом солнца. И пусть его вначале видит Иван, которому суждено погибнуть, а юный Сашо, вырвавшийся из окружения, смотрит на солнце последним в этой повести, все, кто остался в живых в Селице, сохранят память о жертвах, принесенных народом на пути к счастью.
Все внимание автора направлено на героев, тех, кто остался верен чести и достоинству человека. Но кто другие — враги? Только однажды, в горячке боя, странная мысль поразила одного из персонажей. «Баллисты все приходили и, кажется, очень торопились. Душан смотрел на них: люди как люди, каких в базарные дни он видел в Тетове, но то были смирные крестьяне, продававшие творог, брынзу, перец и помидоры и любезно предлагавшие попробовать все, что было на прилавке. Теперь перед ним суетились хмурые убийцы, и в этом-то заключалось необъяснимое».
То, о чем задумался герой Й. Павловского, стало сюжетом повести Душана Калича (р. в 1925 г.) «Берег без солнца». Есть, по сути, далеко не случайная перекличка названий в сопоставлении произведений Й. Павловского и Д. Калича. Несмотря на трагический колорит повести македонского писателя, его герои выходят из боя о надеждой на конечную победу. Солнце светит им щедро, оно близко. Герою же повести Д. Калича, полковнику королевской югославской армии Филиппу Ивичу, оно не светит даже в дни относительной безопасности. Совесть его в вечной темноте, и она долго преследует Ивича, догоняет его, убивает. Мы застаем Ивича в момент, когда он, бывший интернированный офицер, просидев в офицерском лагере, просит в Вене визу для возвращения на родину, в уже свободную, уже социалистическую Югославию. Но невидимые руки держат полковника — держат цепко. Его шантажируют, ему грозят убийством «друзья» — антикоммунисты-соотечественники, люто ненавидящие новый строй, демократический порядок на бывшей своей родине. Резкой, беспощадной кистью рисует Д. Калич жизнь эмиграции, позорное прозябание потерявших чувство достоинства прислужников чужой воли, опустившихся, изверившихся людей.
Островком родины представляется им старая баржа, давно севшая на мель на берегу Дуная. Старый, затхлый дух смерти и разложения пронизывает воздух заведения под красноречиво-издевательским названием «Отечество». Омерзительный хозяин трактира Стева, сводник и обирала опустившихся «сородичей», проститутки-официантки, сумасшедший, мечтающий сиять с мели баржу, перед тем как утопиться самому в ночном Дунае, — вот в каком «обществе» вынужден обретать «родину» полковник Ивич.
Есть в эмиграции и «высший» слой. Это воевода[2], бежавший в Америку с золотом, предназначенным для армии, или кровавый палач Васич, генерал, павший в конце концов от руки Ивича. Полковник боится Васича, тот знает слишком много из его прошлого. Вот это прошлое и брезжит в воспаленной памяти Ивича. В лагере он выжил ценой подлости, может быть, единственного подлого поступка, но разве в морали есть количественные показатели? Ивича преследует сознание вины, тяжелой вины, а минутная решимость вернуться на родину, забыв страшное прошлое, разбивается о страх: архив лагеря не уничтожен, капитана Радича, выбравшего возвращение на родину, убили агенты Васича. И единственное, на что решается измученный Ивич, — убийство главного виновника его мучений, генерала Васича.
Повесть Д. Калича вызывает в памяти советского читателя другое произведение об эмиграции, принадлежащее перу чешского писателя Зденека Плугаржа «Если покинешь меня…». Снова и снова перед человеком нашего времени встает проблема выбора. Родина и свобода — две величайшие ценности. И если в поисках свободы человек продает свою родину, он, как показывает опыт, предаст и свободу, ибо свобода одного неотрывна от свободы всех, а все это — родина. Нет, не фантазия художника, не литературный прием — сближения, которые то там, то тут замечаем мы в двух сопоставляемых книгах югославского и чешского писателей. И название кабака — «Отечество», а барака — «Свободная Европа» — не остроумная выдумка писателей, а трагическая, горькая правда. И образ свалки — не общий у них образ, это общая судьба всякой эмиграции. Человеческая свалка — вот что такое «землячества» изгоев, если «земляки» навсегда оставили родной кров и родную землю. Один из героев романа Плугаржа говорит, что «эмиграция — это ожидание». Верные слова. Все живут ожиданием. Ожиданием Ничего. Есть чувство самосохранения, боязнь раз и навсегда оборвать нить жизни — тусклой и никчемной — у героя повести Д. Калича. Порой ожидание возникает из неожиданно обретенного сочувствия, но чаще всего — это лишь иллюзия любви. И здесь сопоставление романа Плугаржа и повести Калича особенно красноречиво. Попытка спастись через любовь обречена и там и тут. Габриэла — венская проститутка, по вине отца оказавшаяся в эмиграции из Венгрии, — боится своего чувства к Ивичу, как не без основания не верит в спасительную роль любви и Катка в романе чешского автора. И они оказываются дальновиднее своих растерянных, но верящих в иллюзии партнеров… Гибнет Катка, гибнет Габриэла.
В произведениях об эмиграции, о предательстве свободы и родины не случаен мотив бездуховности, животного, полуинстинктивного существования человека. Этому виной не только убогий быт, материальные лишения, но, главное, опустошенность души, подымающая со дна личности атавистическое бремя животных комплексов. Д. Калич подробно рисует картину падения человека, грязной и тяжелой сосредоточенности завсегдатаев «баржи» на эротике, где каждая женщина, объект однообразно-мучительных посягательств, вызывает темные и маниакальные инстинкты. В этой беспросветности не живут чувства, им нет места. Одна за другой наступают смерти…
Но смерть смерти рознь. В повестях «Рот, полный земли» сербского прозаика и сценариста Бранимира Щепановича (р. в 1937 г.) и «Terminus» словенской писательницы Нады Крайгер (р. в 1911 г.) смерть героя в центре внимания. У Щепановича — повесть-притча, аллегорическая картина, символическое исследование проблемы выбора: ведь жизнь и смерть — это еще и воля жить или умереть. Другого рода проблема — в повести Нады Крайгер. Умирает прекрасный человек, врач-фтизиатр, личность, поразительно сосредоточенная на работе, отданная своему делу как долгу, который и не ощущается как долг, а принят решительно, без колебаний — как императив личности, для которой нет жизни вне борьбы за жизнь других людей. Выбор для героя повести Н. Крайгер — это лишь предпочтение большой работы менее масштабной, предпочтение огромной ответственности меньшей ответственности, выбор максимума в его споре с минимумом, какими бы масками этот минимум ни прикрывался.
Герой Щепановича бежит от людей, узнав о своей смертельной болезни. Но случайные свидетели его бегства, повинуясь поначалу безотчетному чувству помочь человеку или по крайней мере объяснить беглецу, что они не хотят ему зла, бросаются вдогонку. По пути к ним присоединяются другие люди (пастух, которому кажется, что бегущий человек украл у него некогда что-то, лесник, тоже перенесший на беглеца свои счеты и заботы, отдыхающие — из чувства солидарности с догоняющими и для развлечения и т. д.). Постепенно картина погони приобретает все более мрачный колорит, в преследующих пробуждаются инстинкты, забытые комплексы обиды, опасения оказаться обманутыми, осмеянными, оскорбленными в лучших чувствах… Бег человека от погони других людей начинает восприниматься как страшная, тотальная угроза, лишающая его возможности даже умереть так, как ему хочется… Но философия повести глубже: вопреки кажущейся безвыходности, затравленности бегущего — именно желание воли, свободы придает ему силы, которых вроде бы уже и не было. Исчерпанность жизни оказалась мнимой. В борьбе с обстоятельствами рождается второе дыхание жизни. Рождается даже некое ощущение счастья. Ведь силы, вернувшиеся к смертельно больному, рождают желание бороться со смертью всерьез, доказать, что от человека тоже что-то зависит…
Может быть, в этом и коренится общее между такими непохожими произведениями, как повести Крайгер и Щепановича. Герой «Terminus» — светило, талант, которому нет цены, — меньше всего думает о своем даре, отдавая себя окружающим. Герой Щепановича весь во власти отчуждения, оно гонит его от общества, заставляет забиться в нору и умереть, как умирают не люди, а животные. Одному. Только бы не на глазах других особей. Это в них — героях повестей — разное. Но, повторяю, воля к жизни, пробуждающаяся в момент решительной опасности, упрямство борьбы с небытием — в этом и Крайгер и Щепанович едины. Бегущий человек поначалу выбрал смерть просто потому, что она «выбрала» его; нужно, чтобы насилие других людей над ним, его волей пробудило волю к сопротивлению этому насилию. Но в сопротивлении насилию других людей и проявилась та воля к жизни, которая опровергла самое смерть. Вот почему в финале герой Щепановича лежит на вершине скалы с улыбкой, а тело его засыпает цветочная пыльца. Он в единении с природой торжествует свою победу над обстоятельствами внешними и покоряется лишь высшей судьбе — смерти, победившей его в честной борьбе. Он не сдался, а был побежден. В бою, в котором он бился до конца.
«Terminus» — в самом названии этом («срок», или, по мифологии древних, «бог границ», «межевой знак») таится намек на отпущенное человеку для жизни его пространство действия. В пределах этого пространства человек может успеть многое, а может и не заполнить его делами. Герой Н. Крайгер, кажется, сумел растянуть и расширить границы до бесконечности: так много он успел сделать добрых дел. Повесть — хроника любящего человека, который восстанавливает в памяти эту жизнь, эту борьбу с роком по крупицам, по ассоциациям, по годам, которые тасуются в нервном ритме воспоминаний (если можно назвать словом обращенное в прошлое, ежесекундное присутствие человека в твоей душе, в твоем сознании…).
Весь мир вобрала в себя деятельность героя. Разные материки, разные эпохи, разные расы, рассветы и закаты, горы и пустыни — все роскошное многоликое дыхание жизни, кажется, вместил этот человек, а с ним и другой человек — его друг, не тень, а свидетель, сам действующий, комментирующий чужую (чужую? — свою! вторую!) жизнь по закону, которому служил и Он, — закону самозабвения, отдачи другому, а через него — другим! Трудно понять эту диалектику только умом. Это диалектика сердца. Когда любимый человек живет в тебе как общее дело и общее с тобой присутствие там, где он (ты) находитесь каждый час, каждую минуту… Отдельно и вместе.
Не раз и не два автор опровергнет мнение, что здоровье человеческое — в руках врачей. Крайгер знает, что личность, ее дух, ее воля — главное. Болезнь — неразгаданная данность. Натура может диктовать и может покоряться. И это не сугубо «медицинская» проблема. Герой «Terminus», по словам рассказчика, больше всего любил свою землю. Родину. И отдать ей все, что он мог, может отдать, было движущей силой его жизненной воли.
Выбор для героев этой книги определяла судьба родины.
Те, кто сложил свои головы за ее свободу, и те, кому «выпало жить», — сделали выбор.
Те, кто предал себя и родину, — сделали выбор.
Те, кто встал против судьбы и смерти, борясь до конца, делясь с людьми всем дорогим, — сделали выбор.
Об этом югославская проза 70-х годов.
В этом томе собраны произведения нескольких представителей многонациональной литературы — сербской, хорватской, словенской, македонской. Это в полном смысле слова «текущая» литература. И разумеется, по произведениям включенных в книгу авторов нельзя судить о достижениях всей современной прозы Югославии. Но и у авторов, которым предоставлено слово на этих страницах, разные подходы к материалу жизни, к слову, словесной краске.
Лепка образа у Мирко Божича определена крепким, народным, «поговорочным» словом, и в этом сила и яркость его письма. Он любит парадоксальные столкновения противоположных черт в одном характере, неожиданные проявления страстей человеческих.
Слово Бранимира Щепановича подчинено стилю напряженного, притчеобразного повествования, где роль абстрактных, символически окрашенных понятий превалирует над конкретным описанием, жизненно достоверной ситуацией.
Душан Калич любит сильные, экспрессивные средства, метафоры его как бы перешли грань поэзии и задержались в прозе. Образ Калича может быть порой избыточным, теряющим очертания реальности, чуть-чуть театральным.
Протокольно точна Нада Крайгер. Стиль ее прозы дневниковый, исповедальный, но всегда аскетически сдержанный. Как и сам автор, герои Н. Крайгер не любят говорить о чувствах. Язык повести назывной, информативный. Фраза лаконична, как в сценарии.
Йован Павловский пытается совместить в повествовании описание действия, освобожденное от эмоциональной окраски, с речью персонажей, которая несет на себе следы фольклорного, условно-поэтического ряда.
А все вместе авторы данной книги демонстрируют сегодняшний день югославской прозы, день, однако, далеко не будничный — наполненный бодростью, радостной работой, хотя в сознании людей еще жива острая память о ночи, чьи тени и тревоги не изжиты в народном сознании, эхо большой народной войны все еще звучит в памяти поколений, даже тех, кто эту войну не изживал в себе, но несет в крови.
Несет, как напоминание о героике и вечном долге.
Как суровое напоминание о необходимости выбора.
Владимир Огнев
Нада Крайгер TERMINUS
NADA KRAJGHER
TERMINUS
Ljubljana, 1975
Перевод со словенского А. Д. Романенко.
ИЮЛЬ
В июле мы перевезли его в больницу. Он болел давно, но до сих пор мы так остро этого не ощущали. Он ходил по квартире, сидел с нами, разговаривал, словом, так или иначе участвовал в нашей жизни. Только после приступа он уже не оправился. Это случилось в начале июля.
День с утра обещал быть ясным и не слишком жарким.
Смотри, какая погода! — воскликнул он, глядя в окно. Давай съездим к тете Мици?
Давай.
Мы и прежде, когда тетка жила в городе, регулярно навещали ее. Обычно раз в неделю. Нашу тетю Мици, которая, собственно, не приходилась родственницей ни ему, ни мне… Удивительная это была женщина! Маленькая, худенькая, с огромным благородным сердцем. И очень живая, несмотря на свои восемьдесят шесть лет.
Я провожала его до подъезда и ехала дальше на работу. Он медленно поднимался — три пролета лестницы, потом звонил, хотя дверь ее квартиры никогда не запиралась.
Ждал он недолго. И едва тетка подбегала к порогу, они принимались — старая забава! — за свой обычный церемониал: кланялись друг другу по-китайски. Сложив на груди руки, низко опуская голову и почти касаясь друг друга теменем.
Тетка помогала ему снять пальто, улыбалась. Она ему даже до плеча не достает! И вела его в комнату, усаживала в удобное кресло.
Вот так хорошо? Сейчас сварю кофе, минутку подожди, пожалуйста!
Ее вовсе не беспокоило, если он вдруг задремлет в кресле. Ей было приятно уже само его присутствие, и она терпеливо ждала, пока он проснется.
Смотри-ка, кофе на столе! — спустя некоторое время с удивлением восклицал он. И весело добавлял: я, значит, немного вздремнул!
Они смеются, пьют кофе, а потом пускаются в долгие разговоры об искусстве, о музыке, о минувших временах, которые они оба живо помнят, и ждут, пока я за ним приду.
В тот день, о котором я вспоминаю, он рано утром предложил навестить тетю Мици, отдыхавшую на даче.
Разумеется, я согласилась.
Родственники вызвались подвезти нас.
Только не гоните, предупредила я, быструю езду он не выносит.
Племянник внял моей просьбе, и машина ползла как улитка. И хотя расстояние было небольшим, мы добрались до места лишь около двенадцати. Никого не удивило, что сразу после обеда он задремал в кресле. К тому же он выпил стакан пива. Вполне естественно, что его потянуло ко сну.
Сон был долгим и глубоким. А когда мы возвращались, он пожаловался на головную боль. Мы ехали медленно и осторожно, и до самого нашего дома я не замечала в его поведении ничего необычного.
Только помогая ему выбраться из машины, увидела, что он не может идти.
Что с тобой? Тебе плохо? Что-нибудь болит?
Нет. Он хорошо себя чувствовал, только ноги не слушались.
Ты видишь?
Вижу. Но все-таки давай попробуем!
Несколько неверных, маленьких шагов, и опять остановка. Словно бы каблуки врастали у него в землю.
Теперь мы оба с племянником его поддерживали.
Ну еще несколько шагов! — подбадривала я.
Кузина побежала за стулом.
Садись, сказала я, передохни, ведь ничего страшного не случилось!
Я должна что-то говорить. Сейчас мне нельзя поддаваться панике. Сейчас, когда он сник и всем телом тяжело опирается на меня. Нельзя!
Так шаг за шагом мы двигались вперед. Несколько мелких шагов — и остановка. Ступеньки, одна за другой. Руками передвигаем ему ноги, переставляем на ступеньку повыше, помогаем идти. Проходит бесконечно много времени, пока мы достигаем цели. Мы дома.
В растерянном взоре кузины вопрос. Ты сама его уложишь в постель? Помочь тебе?
Он перехватил ее взгляд и покачал головой.
Мы сами, не волнуйтесь! — успокоил он ее. Я полежу, а потом присоединюсь к вашей компании.
Тебе лучше? — я хотела ободрить его и утешить себя. Ну как ты?
Уже проходит! — усмехнулся он. Хотя в глазах у него неуверенность. Ты иди к ним, а я следом за тобой!
Как странно изменился его голос: протяжный, монотонный, с хрипотцой.
Я закрыла за собой дверь и пошла в гостиную.
Племянник и кузина смотрели на меня. В их глазах вопрос и тревога.
Нет, нет, ничего страшного не должно случиться, не должно! Скоро все опять будет хорошо, не тревожьтесь!
Разве раньше что-нибудь…
Н-нет, протянула я. Такого еще не бывало. Мысли мои разбегаются в разные стороны словно в поисках воспоминаний прежних лет.
Собственно говоря, с ногами у него давно неладно. Впервые это произошло, когда мы собирались идти на какое-то торжество…
Ты готов? — спросила я, повесила на руку его пальто и вошла в комнату.
А он стоял на месте, испуганно глядя на меня.
Что с тобой?
Я не могу двинуться с места, растерянно сообщил он и слабо улыбнулся.
Как не можешь? — удивилась я, глядя на его ноги. А ты пытался? — глуповато спросила я и почувствовала, как страх холодом поднимается у меня по спине. Тебе помочь?
Он тоже посмотрел на свои ноги, которые его уже не слушались.
Погоди, решительно произнес он, сейчас пойду! Раз, два — раз, два.
И когда все было позади, мы оба расхохотались, а через несколько дней забыли об этой истории.
И вот все эти годы ему то лучше, то хуже. Бывало, что с ногами вроде бы в порядке, но трудно говорить. Я слыхала, что внешние признаки болезни именно такие. Однако сейчас лучше об этом не думать. Сейчас нужно думать о чем угодно, только не об этом. Сейчас нужно перекричать горькое чувство собственного бессилия. А наши уши тем временем настроены на малейший шум, который может раздаться оттуда, из-за закрытой двери, и напряженные мускулы только и ждут команды, чтобы перенести нас к нему, если он позовет.
Минуты тягостного ожидания, и вдруг мы услыхали, как его дверь тихо открывается.
Ку-ку! — он стоял на пороге и лукаво нам улыбался, ку-ку!
Мы смотрели на него, как на призрак. Видно было, что ему доставляет огромное удовольствие стоять на собственных ногах. Во всяком случае, так мне сперва показалось. Потом наши взгляды встретились. И я внезапно поняла, что он опять не может сдвинуться с места.
Я подбежала к нему и обхватила его.
У него в глазах безмолвный вопрос: думаешь, пройдет? И просьба: помоги!
Конечно пройдет. Вот смотри: раз, два…
Два маленьких шага. Остановка. И опять: раз, два.
Наконец добрались до стола.
Тебе лучше?
Улыбка словно застыла у него на лице. Делает вид, будто все в порядке.
Ну и ночь! Непонятный шум разбудил меня. Что случилось?
Я вбежала к нему в комнату и вижу — он упал с постели и барахтается, пытаясь подняться.
Мы долго мучились. Теперь я уж и не знаю, как в конце концов мы с этим справились!
Подожди, говорю, сейчас я поставлю кресло рядом с кроватью, вот так! Лягу здесь и буду следить, чтобы ты опять не свалился.
Ночная лампа у меня за спиной отбрасывает причудливые тени на стены и потолок. Я смотрю на его бледное лицо. Вздрагивающие веки, темные круги под глазами. Спит?
Прошла целая вечность, прежде чем ночная темень за окном начала отступать перед утренним светом. На колокольне куранты отбивают каждую четверть часа. Шестьдесят долгих секунд через пятнадцать бесконечных минут. Бом.
К утру я поняла — случилось что-то серьезное. Теперь и без советов врачей ясно: надо ехать в больницу.
Я могу узнать, что, собственно, с ним?
Видите ли…
Нет, нет! Все во мне протестовало. Я ничего не хочу знать. Я не буду вас слушать, хотя, разумеется, сообщу детям… И Мариан.
До вечера я лихорадочно занята какими-то ненужными делами, пытаясь избавиться от леденящего, пронизывающего страха. Перед сном приняла сильное снотворное, которому надлежало навести хоть какой-нибудь порядок в моей смятенной голове и вызвать ту бездумную тьму, погрузившись в которую я могла бы дождаться утра.
Наконец-то утро! Свежий, еще не тронутый день наполняет меня надеждой.
Как давно это началось? — спросила Мариан, прямо с вокзала примчавшись в больницу.
Depuis quand?[3] — твердит она, обнимая меня. На своем лице я чувствую ее теплые губы.
Слушай, она усадила меня в кресло, устроившись рядом со мною на ручке.
Ее длинные пальцы обхватили запястья моих рук. Как она их сжимает. И ее растерянный взгляд. Давно?
Совсем недавно, Мариан, робко отвечаю я. Все будет хорошо!
Разумеется. Я, однако, должна тебе кое-что объяснить.
Не надо. Не говори ничего. Он очень сильный и бесконечно привязан к жизни. А ведь это главное, ты согласна?
Да. Хотя атеросклероз, как ты сама знаешь…
Да, я знаю.
Иногда случаются судороги, которые поражают жизненно важные центры, и тогда…
Не хочу ничего слышать. Я вовсе не обязана внимать ее словам. Правда, Мариан наш близкий друг, его сотрудница. Они долгие годы работали вместе. Вместе ездили на конгрессы и международные конференции… Все это так, но, в конце концов, Мариан только врач. Ей не дано ничего предвидеть, и она не может знать силы его характера. Я не стану ее слушать. Я оборву ее раз и навсегда.
Тебе не кажется, что погода меняется? Вот-вот выглянет солнце! А он очень чувствителен к капризам погоды.
Необходимо перевести разговор на другое. Я не желаю слышать медицинских советов и прогнозов, особенно если они плохие! Забудь, что ты врач, Мариан, и поговорим о чем-нибудь другом, хотя бы о погоде!
Мариан не уступает.
Она должна разъяснить мне его случай. Есть вещи, говорит она осторожно, которые следует знать, потому что они неизбежны. Она уже несколько лет наблюдает за развитием его болезни.
Я знаю. А ты заметила, что мне дали для него те самые комнаты, где он лежал два года назад? Вот повезло, верно? Хотя в его теперешнем состоянии ему не нужно так много места.
Две отличные комнаты в больнице-санатории. Спальня и гостиная. Обе окнами в сад. А какие большие окна! Солнца в его комнатах в изобилии.
Прости, Мариан, я должна задернуть шторы, чтобы ему не мешал яркий свет.
Я вхожу в спальню и задергиваю шторы.
Вот так будет хорошо — я разговариваю сама с собой, ведь он не может мне ответить. Тебе лучше?
Я осторожно прикрыла дверь и вернулась к Мариан.
Ему хорошо, сказала я, избегая ее тревожного взгляда. Хочешь сигарету?
Мариан пристально смотрит на меня. Глаза ее за толстыми стеклами очков, кажется, округлились от удивления.
Пойми, Мариан, начала я решительно, глядя в эти блестящие стекла, пойми наконец, что я не хочу так просто сдаваться. Как я смогу ему помочь, если сама впаду в отчаяние? Ведь может случиться, что через день, другой все будет в норме. Ты не веришь? Ты забыла, что два года назад… три? Ну да, три года назад! Ты забыла?
1966:
Уже в мае Мариан сообщила, что вместе с сестрой и братом хотела бы провести отпуск у нас на побережье.
В течение целого месяца письма шли из Порторожа в Париж и обратно, пока наконец все не уладилось. Но в последний момент телеграмма от Мариан: на своей машине они не могут приехать.
Придется мне отправиться в Триест, сказала я. Если поеду одна, и то места в машине на всех едва хватит.
Но он не отпускал меня одну. И хотя уже был тяжело болен, решил вместе со мной встретить гостей.
Можно попросить Яна поехать на другой машине, решил он. Всем будет удобнее!
Мы отправились заблаговременно, но приехали с опозданием. Наши гости ждали нас у вокзала. Рядом с ними высилась гора чемоданов.
Так-таки гора? Mais n’exagère pas, voyons![4]
Я вовсе не преувеличиваю.
И вот мы все дружно едем в Порторож. И ослепительное солнце светит нам целый день.
И гостиница всем понравилась, маленькая, уютная, одна из тех, что уцелели еще в укромных уголках побережья, которое когда-то находилось под властью Франца-Иосифа. Даже наша атомная современность, превращающая любой живописный уголок в туристический кемпинг, не могла уничтожить аромат далекой эпохи. Вот только ступеньки меня беспокоили.
Не слишком ли круто? — раздумывала я.
Но Мариан успокоила. Не волнуйся и возвращайся на работу, заявила она, я сама за всем прослежу. И буду каждый вечер тебе звонить, положись на меня!
Ему гостиница тоже пришлась по душе.
Будто по заказу для отдыха! — и, вопросительно взглянув на меня, добавил: и для работы…
Он не переставал надеяться, что еще будет участвовать в той исследовательской работе, которая в последние годы уже целиком перешла в руки Мариан.
Домой я возвращалась засветло. Всю дорогу меня одолевали тревожные мысли об этих крутых ступеньках, а что, если у него вдруг закружится голова. Я была недовольна собой. Нельзя впадать в панику, внушала я себе, надо твердо верить, что все будет хорошо.
Едва переступив порог дома, метнулась к телефону.
Да, Мариан, это я. Как он? Все нормально?
Ее далекий голос мгновенно перенес меня туда, откуда я только что приехала…
…и опять я сидела на просторной веранде гостиницы и разговаривала с ним. Он прикидывал, когда сможет взяться за работу. И сможет ли?
Мариан отвечала спокойно. Как вообще в этом можно сомневаться? Ведь ты один из ведущих фтизиатров мира. И сам знаешь, как мне нужны твои советы, твоя помощь! Но сейчас спешить некуда! Нам всем нужно как следует отдохнуть! А о работе поговорим позже, не возражаешь?
Ну что ж. Позже так позже.
Озорная усмешка скользнула по его лицу и смягчила неестественно застывшее выражение.
Далекий голос Мариан снова звучал у меня в ушах.
Ты слышишь меня? Я была у него. Он спит. Ты меня слышишь?
Слышу.
Я легла, потушила лампу и снова увидела его лицо. Бледное и даже во сне сведенное судорогой. Под глазами темные круги. Веки нервно вздрагивают.
Утро всегда вестник новых надежд.
Славно, что сейчас он на море с Мариан и ее родными. Они любят прогулки в горах. Брат Мариан увлекается гимнастикой. Я была убеждена, что они его расшевелят и это пойдет ему на пользу.
Сколько раз я пыталась заставить его делать зарядку, но он всегда отшучивался…
Как хорошо, что он с ними, говорила я себе. И погода стояла чудесная. Лучшего нельзя было и пожелать!
И вдруг в мою благодушную успокоенность врывается телефонный звонок Мариан. Скорее приезжай. Состояние резко ухудшилось. Афазия[5], выдохнула она и положила трубку.
Это случилось два года назад, ты помнишь?
Три года, поправила меня Мариан. Но тогда болезнь проявлялась иначе.
Что ты имеешь в виду? Он тогда с большим трудом говорил, и у него часто кружилась голова. Я хорошо помню, это было похоже на то, что сейчас, но…
Мариан молчала.
Она молчит, потому что три года назад и в самом деле все было иначе. В тот день мы еще не доехали до дома, а ему стало легче. Я до сих пор помню ту поездку. Лило как из ведра. По крыше автомобиля стучало и барабанило с такой силой, что нам приходилось кричать друг другу. Молнии разрывали небо и лишь на мгновение освещали дорогу.
И мы все очень удивлялись: ему вдруг стало легче, он говорил почти без усилий. Даже смог нас убедить, что ему совсем хорошо.
Везите меня домой, решительно заявил он, а в больницу завтра, нам спешить некуда!
Мариан по-прежнему молчала.
Я отдавала себе отчет в том, что слишком много болтаю, но ничего не могла с собой поделать.
Она по-прежнему неподвижно сидела на своем стуле, очень прямо. Даже слишком прямо. Стройная фигура в черном, красивые глаза за толстыми стеклами очков и странно напряженное выражение лица.
Почему ты так на меня смотришь? — спросила я.
Я на тебя смотрю, в самом деле?
Мариан взяла сигарету и не спеша прикурила. Ты говори, продолжай, я тебя слушаю!
Ну вот, после того случая я и доставила его сюда. Он получил эти две комнаты. И очень скоро поправился. Афазия или что другое быстро прошло. И он очень скоро поправился. В больнице он пробыл только несколько недель.
Мариан изредка кивала, не глядя на меня. Она знает эту историю до мельчайших подробностей, но я не могу остановиться. Я должна еще раз все пережить.
1966:
Три года назад, когда он выходил из больницы, стояла невыносимая жара. Она вполне могла и здорового-то выбить из колеи.
Тебе не хочется съездить на Гореньско? — предложила я.
Пожалуй, нет! — смеясь возразил он. При моих хворях мне больше нужны люди, чем свежий воздух. Кроме того, жара как раз по мне.
Однако на душе у меня было тревожно. Всем нам было тревожно. Тогда-то и пришел на помощь директор санатория, который просил его написать историю этого лечебного заведения. Кто лучше вас может с этим справиться? — убеждал он его. Ведь санаторий — ваше детище, поживите у нас, оглядитесь.
Я с облегчением вздохнула, когда в конце концов он согласился и принял это предложение. Я была убеждена, что мы его перехитрили. А на самом деле он в тот день записал в дневнике: чувствую себя плохо. Кружится голова. Депрессия. Беспокоит меня слияние клиники с институтом. Это надо уладить, пока не поздно. Снова принимаю снотворное. Жара в городе становится невыносимой. Они хотят обмануть меня и отправить в санаторий. Дескать, писать его историю… Или они в самом деле считают, что к справлюсь?
Это было три года назад. После Советского Союза и перед Румынией. Он был уже тяжело болен и готов на все, лишь бы одолеть болезнь.
В санатории ему предоставили светлую комнату с большой верандой, перед которой росли высокие, стройные и гордые сосны.
Великолепные деревья, так бы и смотрела на них все время…
Ну, где же ты? — оглянулась я.
Он занимался своим кабинетом.
Пока я была на веранде, ему принесли еще один стол, который он велел поставить возле самой кровати, и на нем тут же выросла груда книг, бумаг и рукописей.
Не вздыхай, успокаивал он, все будет хорошо! В первую очередь хочу как следует отоспаться. Знаешь, от этого воздуха меня отчаянно клонит ко сну. А потом, вот увидишь, начну потихоньку работать!
Ах, если бы он в самом деле смог работать!
Иногда я не находила себе места от отчаяния. Хотя и понимала, что должна быть сильной — ради него, ведь он хватался за меня как утопающий за соломинку.
Куда ты?
Ухожу.
Я должна уйти, чтобы не выбить у него из-под ног последней опоры.
Телефон тебе поставить?
Конечно!
Если ты не сможешь выбраться ко мне, я все-таки…
Да, да. Конечно.
Но это было в самый первый день. А потом разлука с домом становилась для него все более мучительной. Он часто звонил мне.
Алло, алло, ты дома? Это ты?
Навеки остался у меня в ушах его дрожащий голос. Вибрирующий от тревоги, тоски, беспомощности и грусти.
Как только мне удавалось освободиться, я спешила к нему. Дорога к санаторию словно сама устремлялась мне навстречу. Точно старая, добрая знакомая. Настолько знакомая, что я свыклась с ней, хотя все равно восхищалась ею. Восхищалась ранним утром, когда природа протирала глаза после сна, и вечером, когда мягко погружалась в туманную дремоту.
Ну разве не чудо? — спрашивала я тетку, с которой мы часто ездили вместе.
И она тоже радовалась.
Потому что человеку доступно одновременно многое. Наслаждаться красотой, хотя сердце у него разрывается от тоски и тревоги. Будет ли ему сегодня лучше? Удастся ли вообще побороть болезнь?
Я знал, что ты приедешь, сказал он, улыбаясь, я чувствовал!
Я смотрю на него и стараюсь уловить признаки малейших перемен к лучшему. Он держит себя в руках или в самом деле ему стало легче? Собранности больше или…
Ну, как дела?
Идут помаленьку.
На прогулке с ним то и дело здороваются, заговаривают. Господин главный доктор, называют его здесь.
На вершине холма нас встретил Матичек.
А ведь вы спасли мне жену и сына, не забыли?
Ну полноте…
Но Матичек рассказывает. Рассказывает мне, а господин главный доктор озирается по сторонам, делая вид, что не слушает, занят другим.
Ох господи, какой ливень лил в ту ночь! Господин главный доктор пришли к нам до костей промокшие! Тогда еще нельзя было подъехать к дому, как сейчас! Тогда надо было порядочно пройти пешком! И все в гору, да такую крутую, что хоть колени кусай!
Первенец, одно слово! Пришлось наложить щипцы — на кухонном столе при свечах! — и вода на очаге булькала — ни одной живой души, даже бабки нету! Громыхало точно сто чертей! А наш дом у самой вершины! Кто бы в такую ночь к нам полез…
На сегодня, пожалуй, хватит, пошли обратно?
Матичек проводил нас до самого санатория.
Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что на его жизненном пути было немало светлых вех.
Его комнату заливал зеленый свет. Сосны опьяняли.
Пошли на веранду, сказал он, ведь раскладушки там?
Да, ты приляг, отдохни, я сейчас приду!
На письменном столе у него опять беспорядок. Возможно, ему нужно расчистить стол, прежде чем приступить к новой работе. Но дело не идет дальше разбора бумаг. Я роюсь в бумагах, и их шелест выдает меня.
Не ищи, доносится с веранды, я еще не продвинулся так далеко. Пока я только разгребаю письменный стол. Ведь еще уйма времени!
Разумеется.
Ага, есть что-то! — обрадовалась я, увидев папку с надписью: «История…»
Несколько страничек, исписанных мелким неуверенным почерком, строки сползают вниз, точно уже сейчас хотят нырнуть в пустоту. По всему видно, что это черновой набросок. Но все-таки он начал работать.
Чем ты занята? Где ты?
Иду, ответила я, возвращаясь на веранду. Тебе не холодно? Дать одеяло?
Прикрыв глаза, он покачал головой. Ему хорошо.
Мне тоже.
А когда-то я вот так же лежала и ждала. Ждала его. Еще до войны.
В жаркие летние дни наши кровати выносили в лесочек, и до полудня мы лежали среди сосен и лиственниц.
Кровать Вукицы стоит рядом с моей. Вплотную, хотя это не разрешается. Почему ты не отодвинешься?
Вукица отодвигает кровать. Сегодня, говорит она, ко мне никто не придет.
Придет, наверняка придет, ведь еще рано!
Вукица все равно волнуется. Если главный доктор не придет, говорит она, то после полудня я сама отправлюсь к нему.
Наши надежды целиком связаны с ним.
Вукица даже умереть не могла, не увидев его, она до тех пор удерживала свой последний вздох, пока он не вернулся из Краня. Он присел у ее изголовья и, взяв за тонкие запястья, стал говорить о том, как они поедут в Венецию. Разумеется, вместе. И пока он будет на заседании, Вукица станет его ждать…
…я буду кормить голубей на площади святого Марка… в облаке взметенных крыльев…
Даже смерть не смогла стереть с ее губ счастливой улыбки.
Почему ты молчишь? О чем ты думаешь?
О минувших днях. Сколько раз я так же лежала…
Его горячая рука накрыла мою.
Опять в санаторий? — спрашивали друзья, а не тяжело тебе?
Разве может быть тяжело, если ты знаешь, что кому-то нужен? Я чувствовала, что становлюсь сильнее с каждым днем. За двоих.
И всю дорогу до санатория я разговариваю с деревьями. В санатории, который стал делом его жизни, он наверняка поправится. Он основал этот санаторий, направлял его развитие и отдал ему свой ум и сердце.
Он до конца сражался за жизнь своих больных. Даже когда в бессилии отступала наука, он умел помочь любовью, уважением и верой в человека и в его силы.
Я верил в него как в бога! — признался мне вчера Миха. Стоило ему присесть на мою постель, и мне становилось легче! Его слова для меня значили больше, чем любые лекарства! Он словно передавал мне свою силу, веришь?
Верю.
Волю и силу, значит, можно передавать, как бы переливать из сосуда в сосуд. Надо попробовать! Я гляжу на деревья и вижу, что они меня понимают. Одобрительно кивают мне зелеными ветками, а между собою о чем-то таинственно перешептываются.
Я бесшумно открываю дверь в его комнату и останавливаюсь на пороге. Он спит. Даже во сне его лицо напряжено. Только когда он проснулся, лицо смягчила ласковая улыбка.
Как хорошо, что ты приехала! Ты мне так нужна… прости меня!..
Не надо! — я возражаю ему улыбкой, пряча свою растерянность, не надо! Молча умоляю его, чтобы он ни в чем не оправдывался; убеждаю его, что черпаю силу в его бессилии.
Завтра приедешь?
Завтра, видишь ли… Ты бы мог обойтись завтра без меня? В порядке исключения. Я буду работать дома, и как только ты меня вызовешь…
Ну разумеется! Работа есть работа, как не понять! Да я и сам примусь за работу, хватит бездельничать, будь покойна!
Так мы условились. А на другой день я едва переступила порог, как зазвенел телефон.
Санаторий.
Господи, что случилось?
У меня сжимается сердце, когда я слышу голос медсестры. Ему плохо?
Нет, нет, все в порядке. Она только хотела мне сказать, что он забыл о нашем уговоре и уже целый час ждет меня в коридоре…
И в следующую минуту я уже за рулем.
Я вот что тебе скажу, Мариан, ведь этот, приступ три года назад был коротким, недолгим, понимаешь? Почему бы и сейчас ему не выкарабкаться? Может, не так скоро, как тогда, но все-таки…
Мариан потирала тонкие руки и молчала. Она не желала спорить со мной.
В конце концов, она врач.
Но позволь и мне думать собственной головой, не перегруженной медициной. И что вы, врачи, знаете о силе внушения?
Очень многое, дорогая!
Видишь ли, он крепко привязан к жизни. И все силы приложит, чтобы выбраться из своей неподвижности. Ты веришь?
Всякий раз, когда Мариан поворачивается к окну, в стеклах ее очков прыгают зайчики. На меня она смотрит украдкой. Изредка. Она не находит нужных слов. Я знаю ее и знаю, что она никогда и ни во что не верила слепо. Хотя и не отговаривала нас, когда мы поехали в Советский Союз (а потом в Румынию) с надеждой, что еще не поздно и там ему смогут помочь.
Просторные советские вагоны. На столике у окна лампа под абажуром.
1966:
Хотите чаю? Хотим. Мы глотаем горячий напиток, полеживаем, почитываем, беседуем. По коридору ходят пассажиры. Едем бесконечно долго. Равнина уходит к горизонту и еще дальше. Здесь все широко, необъятно, необозримо.
Просторны московские улицы и площади. Огромен и наш номер в гостинице, построенной много лет назад. Полы в ней устланы толстыми коврами, колонны позолочены. Она очень теплая и уютная. И горничная напоминает добрую няню.
Николай Николаевич проводит обследование.
В свободное время Наталья Ивановна возит нас по Москве. Мы с ней знакомы уже давно. По Женеве, Парижу, Лондону, по конгрессам и конференциям. Она тоже считается светилом фтизиатрии; бегло говорит по-французски, но с очаровательным русским акцентом. Впрочем, едва заметным.
Восьмисотлетняя Москва.
Вот памятник Островскому на площади Свердлова. Рядом с Большим — Малый театр. Центральный детский театр и памятник Марксу. Вот улица Горького, а там, в конце ее, Кремль.
Мы переглядываемся. И вспоминаем нашего поэта, который в годы оккупации слушал кремлевские куранты, подвергаясь смертельной опасности.
На одной из улиц передвигают дом, имеющий историческое значение. Его сняли с фундамента и теперь передвигают на катках со скоростью восемь километров в час.
Площадь Пушкина с памятником поэту. Новый кинотеатр на две тысячи мест. Здание газеты «Известия». Музей Революции, площадь Маяковского и пятнадцатикилометровое Садовое кольцо…
На сегодня хватит, прошу я Наталью Ивановну. Боюсь, он слишком устанет. Поедем обратно в гостиницу.
Постели высокие, мягкие. В одной из комнат письменный стол с телефоном.
Ты приляжешь? Ложись, передохни немного! Вечером у нас «Дон Карлос», а до этого ужин с Наташей, ты не забыл?
Да, я, пожалуй, вздремну немного. От масштабов этой великой страны у меня перехватывает дыхание даже в комнате отеля.
Ну, ложись, я скоро вернусь!
Николай Николаевич долго беседовал с вами. Потом наедине со мной признался, что уже поздно рассчитывать на быстрое выздоровление.
А геронтологический институт в Киеве?
Пациент очень сильно тоскует по дому, и Киев едва ли может быть ему полезен…
Наталья Ивановна первой назвала мне институт доктора Аслановой в Бухаресте.
Новая надежда, за которую цепляешься с новыми силами.
Когда мы вернулись домой, позвонила из Парижа Мариан. Она хотела знать, что мне удалось сделать.
Я упомянула об институте Аслановой и по молчанию на другом конце телефонного кабеля поняла, о чем думает Мариан. Зачем ты таскаешь его по свету, ведь никто ничего не может сделать?
Неужели она не понимает, что жизнь только там, где действие, в примирении с судьбой ее нет.
Близкие тоже притихли, очевидно подавленные той же мыслью. Мне пришлось обратиться к его младшему сыну, с которым мы были во многом единодушны.
Если я попробую отправиться туда? — напрямик спросила я его, ты поедешь с нами?
Он с радостью согласился. До Бухареста рукой подать. И говорят, летом это настоящий цветущий сад.
1967:
Опять мы в дороге.
Какое наслаждение, говорил он, путешествовать всем вместе, втроем.
И город восхитительный. Какие ухоженные парки, сады и бульвары.
В институтском саду мы с Владо не раз находили четырехлистный клевер. Добрая примета!
До полудня и после полудня проводились обследования, с наступлением вечера доктор Булла показывал нам город.
Мы совершили прогулку к Дымбовице, посидели на ее берегу и покатались по живописным озерам.
Неделя пролетела быстро. Слишком быстро. Нам с Владо пришлось ехать домой, хотя мы видели, что он охотно присоединился бы к нам.
Ведь он мог бы и дома продолжать лечение…
Мы его уговаривали. Как-никак здесь он будет лечиться под наблюдением авторитетных врачей.
Вы правы, я постараюсь быть дома раньше, чем вы думаете.
Но перед самым нашим отъездом он опять приуныл.
Вам именно сегодня необходимо уезжать? Отложить нельзя?..
Когда нужно было ехать на вокзал, мы незаметно дали ему снотворное, чтобы легче было перенести отъезд. А с вокзала перед отходом поезда написали ему. Писали и с каждой большой станции по дороге.
Из его писем мы поняли, что его грызет тоска по родине и долго он не выдержит.
Лучше всего, писал он, если б ты приехала сюда и мы вместе махнули бы к Черному морю. Это заставило бы быстрей бежать мою холодеющую цыганскую кровь. Телеграфируй, когда приедешь!
Коротенькое письмецо, но слова разбросаны по всей странице.
Спустя четырнадцать дней меня вызвала доктор Асланова. Продолжать лечение можно дома.
Это его идея?
Приезжайте за ним, посоветовала она, он очень тоскует по дому.
* * *
Мариан по-прежнему считает, что эти поездки ничуть не помогли.
Ты не можешь так говорить, сопротивлялась я. Кто знает, что бы случилось, если бы мы все не перепробовали. И потом, я не верю, что состояние безнадежное.
Когда произошла та автомобильная катастрофа?
Но ведь болезнь не имеет к ней никакого отношения!
А все-таки когда?
Десять лет назад.
1959:
Работы у него было более чем достаточно. Университет, клиника, разные комиссии и комитеты дома и за границей и санаторий в Сежане.
Санаторию в Сежане он отдавал всю свою душу. Он стремился чаще бывать там, и если обстоятельства позволяли, то в конце недели мы убегали туда из Любляны.
Чудесные места! — любил говорить он, останавливая машину на обочине. Терпкая прелесть нашего Краса!
Крас всегда изумителен. Особенно осенью, когда вспыхивают дуб боровой и виноградная лоза.
Задняя стена нашего дома упирается в холм. До вершины Табора каких-нибудь двадцать минут. Он всегда обгонял меня, чтобы первым быть на вершине.
Эй, кричит он, мы опять очень удачно вышли, кресла нас поджидают!
Мы садимся на скалы — в наши кресла — и наслаждаемся пейзажем. Внизу раскинулась Випавская долина, вокруг горы. В хорошую погоду видны даже отдаленные Доломиты!
И когда возвращаемся домой, солнца еще предостаточно. Мы выходим на балкон и смотрим через границу в сторону Италии. В ясные дни, особенно после непогоды, видны даже море и контуры Градежа.
А потом мы работаем до самой ночи. Каждый у себя. Двери на общий балкон распахнуты, и дробный стук наших машинок причудливо смешивается.
Когда перестает стучать его машинка, я догадываюсь, что он пошел на кухню варить кофе.
Я на цыпочках пробираюсь на балкон и заглядываю к нему в комнату. Так и есть. Комната пуста, и дверь в кухню прикрыта.
Возвращаюсь к себе и продолжаю работать, будто ничего не заметила.
А вскоре на мои бумаги падает его тень. Словно солнце на мгновенье тускнеет.
Ох, как ты меня напугал! — шутливо кричу я.
Галантным жестом он приглашает меня на чашечку кофе.
Как жалко, сокрушался он, зажигая нам сигареты, что мы не можем здесь жить постоянно!
Я смотрела в раскрытое окно. Темно-зеленые сосны, невысокие терновые кусты и огненно-красные деревья. Точно языки пламени в зелени.
Конечно, жалко, но что поделаешь? Ты сам на себя столько взвалил. И целыми днями в дороге.
Пожалуй, ты права, я и в самом деле много взвалил на себя. Кое от чего можно бы и отказаться…
От чего, собственно? Откажешься от двух обязанностей, останутся еще двадцать две.
Ну зачем же преувеличивать, весело смеялся он.
Я преувеличиваю? Пожалуйста, считай: университет, клиника, санаторий, Общество университетских профессоров, академия, президиум Общества врачей, какие-то дела в Белграде, Загребе и кто знает где еще… а за границей: секретарь Американского общества фтизиатров, член Британского медицинского общества, эксперт Всемирной Организации Здравоохранения, да еще конгрессы, конференции, комиссии и семинары и так далее и тому подобное… У меня не хватало пальцев на руках.
Ну, ну, прервал он, ты же знаешь, что все это не требует от меня полной отдачи… Смотри, какой свет! Не двигайся, пожалуйста, я должен тебя сфотографировать!
И в один из таких субботних дней, когда мы ехали в свой тускул[6], случилось несчастье.
Центр города остался позади, и только я миновала Долгий мост, сразу увидела, как шедшая навстречу «альфа-ромео» пытается обойти маленький «фиат». Оба автомобиля находились еще довольно далеко, и шоссе было почти пустым. Места хватало всем.
И тут «альфа-ромео» на полной скорости стало заносить то влево, то вправо. Что с ним, он с ума сошел?
Видимо, водитель потерял управление. Машину бросало из стороны в сторону, и трудно было сказать, куда она метнется в следующий миг.
Я сбросила скорость и осторожно перевела машину в крайний правый ряд. Собственно говоря, я уже остановилась, когда он врезался в нас. Мне показалось, будто я пережила эту катастрофу еще до того, как она произошла, и будто мои страхи магнитом притянули к нам эту «альфа-ромео». Ведь дорога была пуста. Кругом достаточно места, взбесившийся автомобиль могло швырнуть в любую сторону.
Оглушительный грохот смятой стали и треск разбитых стекол.
Несмотря на шок, я видела, что он, сидевший рядом со мною, головой ударился о крышу автомобиля и вылетел на дорогу — дверца была сорвана.
Я бросилась к нему. И по сей день мне кажется, будто он пришел в себя сразу. Хотя позже он с трудом вспоминал этот эпизод. Или вспоминал неточно.
Милиционер прочел мне его показания, и меня поразило его утверждение, будто «альфа-ромео» была темно-зеленой, ведь она была ярко-красной!
В больницу его приняли с диагнозом: fractura baseos cranii[7]…
* * *
Подняв палец, Мариан прервала меня. Тише! Мускулы у нее на лице напряглись.
Кажется, он проснулся.
Мгновенно оказываюсь у двери и заглядываю в щелку. Затылком ощущаю горячее дыхание Мариан.
В комнате темно — шторы закрывают окна. Я скорее чувствую, чем вижу, что глаза у него открыты.
На цыпочках подхожу к постели. Мариан — с другой стороны.
Так и есть.
Он неподвижно лежит на спине. И его большие темные глаза широко раскрыты. Ему хочется говорить, но слышно лишь невнятное бормотанье.
Сейчас все пройдет, не беспокойся! — говорю я, чтобы хоть что-нибудь сказать.
Видишь, кто приехал к нам в гости? — я улыбнулась и указала на Мариан. Целую неделю она пробудет у нас. Я отдам ей твою комнату, разрешаешь?
Он молча благодарит меня.
Белые руки Мариан — на его скрюченных пальцах. Тревожный взгляд ее — на напряженных мускулах его лица. Когда она поворачивается ко мне, я вижу в ее глазах слезы.
Нет, Мариан, неправда, он не безнадежен. Пойми, если мы хотим ему помочь, мы сами должны верить! Мариан, прошу тебя, перестань!
Мариан послушно отошла к окну и громко всхлипнула.
Да? Я повернулась снова к нему, к его глазам, которые хотят что-то сказать мне. Да?
Но я не могу ждать ответа, которого не будет. Я сама должна говорить, чтоб он не подумал, будто мне его жаль. Я должна что-то придумать. Что-то хорошее. Ох, как же я могла забыть, ты знаешь, Яра с детьми в Любляне!
И прихожу в себя, заметив, как вспыхивают его глаза. В них зажигаются огоньки.
И боюсь, как бы он не догадался, почему они в городе. Впрочем, он не догадается. Он радуется своим детям. Ждет не дождется, когда их увидит.
Он медленно, с усилием повернул голову к стене.
Его всегда успокаивало, когда я слегка массировала ему затылок. Так хорошо? Совсем хорошо? Доброй ночи, дорогой мой, спи! До свиданья!
Мариан удивленно глядит на меня.
Ты не считаешь, что лучше остаться в больнице? — спрашивает она и беспомощно разводит руками — где-нибудь здесь устроимся?
Нет. Ничего не случится. Пошли?
А когда я отпирала дверь квартиры — телефонный звонок. Пронзительный и зловещий.
Да, слушаю. Кто? Ах, это ты? Я с облегчением перевела дух и рукой прикрыла трубку, чтобы объяснить Мариан, кто это. Не из больницы. Брацо и Сека едут сюда.
А ты перепугалась? — весело спросила я ее, глядя на смертельно побледневшее лицо Мариан.
Мариан знает, что Брацо и Сека очень близкие нам люди. Она знает и ценит всех наших добрых друзей. Я хочу сказать, тех, кто еще остался.
Впрочем, для быстро развивающегося общества потребления стало характерным, что яркая личность, с определившимися культурными запросами и трудовыми навыками, оказывается подчас одинокой.
Иногда и молодые люди с трудом находят себя. Они суетятся и топают ногами. Где наше место, кричат, что нам делать? Кидаются из стороны в сторону.
Потом, может быть, успокаиваются. Утихают и приспосабливаются. Или не желают приспосабливаться и уезжают. Или даже превращаются в хиппи и на всю жизнь остаются младенцами. Или же…
А наших сверстников общество давно уже оттеснило в тупик и там о них позабыло. Мы общаемся, обсуждаем разные проблемы и удивляемся, что никому не нужен наш мозг. И мы продолжаем работать, хотя знаем, что многие подлинные ценности обесценены. Остались пустые фразы…
Я протестую. Я не терплю малодушия. Если ты знаешь верную дорогу, иди по ней. Всего общества не изменишь, а свое окружение можешь…
Если у тебя есть мечты, осуществляй их! (Что со мной происходит? Почему я кричу на них, ведь они не глухие! Хороша хозяйка!)
В комнате вдруг воцарилось тягостное молчание. Взгляд Мариан за толстыми линзами очков буквально остекленел. Она слабо улыбалась и время от времени втягивала носом воздух.
Брацо сидел опустив голову, глядя на свои руки, вертевшие зажигалку.
Сека отвернулась к книжной полке и копалась в книгах. Будто они ее сейчас интересуют больше всего.
Ну почему я так себя веду? Почему пустяк вывел меня из себя и сдали нервы? Или мне так его не хватает? Нам всем его не хватает. Если бы он был с нами, он нашел бы ласковое слово и всех успокоил. А я по-прежнему нетерпима к людям!
Считай! — приказываю я себе.
Считаю, хотя толку никакого. Через тонкую стену слышу нервные шаги Мариан. Будь я одна дома, я бы разревелась в полный голос… А сейчас я прислушиваюсь к сухому покашливанию и всхлипам, долетающим из соседней комнаты. Мариан не на шутку встревожена. Она считает, что болезнь — следствие той автомобильной катастрофы, но она не права! Я хорошо помню все, что было потом.
1959:
После катастрофы он вернулся из больницы всего на несколько дней. Только чтобы собраться в санаторий.
Сперва сопротивлялся. Не нужно, спорил, зачем?
Ведь это пойдет тебе на пользу!
А ты? Ты поедешь со мной?
Я тебя буду навещать!
Медики — трудные больные. Да еще эти его многочисленные неотложные дела.
Перед самым отъездом мы чуть не поссорились.
Зачем ты суешь в чемодан столько бумаг? — спросила я.
Он растерянно посмотрел на меня, как застигнутый врасплох школьник. Потом решительно захлопнул крышку чемодана и уселся на него.
Послушай, взмолилась я. Ведь ты знаешь, твоя первейшая обязанность — отдыхать. Затем…
…затем я должен буду делать зарядку, плавать, гулять и так далее!
Это хорошо, что ты знаешь, ответила я. Вот поэтому и не бери с собой никакой работы, лечись!
Ты немного уступишь, и мы договоримся, ладно?
Ладно.
Мне редко удавалось настоять на своем. Я всегда ему уступала. Да к тому же мы торопились.
В результате он веял с собой корректуру журнала «Туберкулез» и письма, которые ждали ответа.
Работа не шла у него, хотя он и пробовал что-то сделать. Часто я заставала его за письменным столом.
Почему ты не на воздухе? Ты не слишком много работаешь?
Ну что ты! Это мне только помогает позабыть о своих неприятностях. Слушай, а я тебе показывал письмо Джоса? Меня опять приглашает Всемирная Организация Здравоохранения. Надо ехать в конце июля. Что скажешь?
Не знаю, что тебе сказать, ответила я и спрятала письмо, даже не прочитав его.
Не будешь читать? — разочарованно спросил он.
Разумеется, прочту, только дома, в спокойной обстановке, ведь особой спешки нет?
Ему, очевидно, не хватало терпения, потому что уже на другой день я получила от него письмо.
Погода ужасная, сетовал он. Льет как из ведра! А у меня в комнатке слишком тихо и мирно. Мне очень тревожно, и все действует на нервы. Только и думаю, принимать женевское предложение или нет. Сам не знаю, могу ли я брать на себя новые обязательства. А как ты считаешь? Эти сомнения меня буквально съедают. Ты уже решила? Если да, то поговори с секретарем факультета, ладно? Скоро приедешь? Приезжай! Вчера все было просто и ясно. Когда ты рядом, я верю в себя. Но если тебя нет… Вот сейчас, например, я разорван на мелкие лоскутки, которые порхают по комнате. Тебе смешно?
Включил радио. Моя родина. Гениальная музыка! Не можешь себе представить, как меня трогает! Или я сейчас слишком обостренно все воспринимаю?
Проблема родины его всегда чрезвычайно волновала. Родине он отдавал все свои силы, знания и любовь. Самое скромное признание дома означало для него бесконечно больше, чем самые высокие почести, которыми его осыпали на чужбине.
В последнее время я заметила в нем перемену. Прежде всего повышенную отзывчивость на добро.
Необходимо сражаться за его здоровье, как за все в жизни. Бой — единственное содержание жизни. Нужно драться. Но как? Где тот допустимый предел? Достаточно ли у него сил для новых обязательств? Пусть соглашается, если предложение столь привлекает его.
Снова и снова перечитываю письмо Джоса.
Руководитель секции туберкулезных заболеваний Всемирной Организации Здравоохранения считал, что следует подвести итоги международной акции по прививкам. Несколько заполненных мелким шрифтом страничек. Почти сплошь специальные термины, и в конце письма предложение, которое требует немедленного ответа.
Принять ли ему должность чрезвычайного эксперта сроком на шесть месяцев? Сможет ли он за столь короткое время разобраться во всем и представить исчерпывающий доклад?
Я советовалась с врачами, коллегами, друзьями, собирала самые противоположные суждения.
Он еще не готов для серьезных занятии… Умеренная работа могла бы ему помочь… Совершенно исключено, он должен отдыхать, отдыхать, отдыхать… Никаких перегрузок… Бездельничая, он ни за что не выкарабкается. Рано или поздно придется опять приняться за работу… Ему нужно испытать свои силы.
Но эта должность чрезвычайного эксперта меня беспокоила. Беспокоила из-за ограниченности сроков. Что делать? Конечно, интересная работа не может никому повредить. Только надо разумно к ней подойти. С чувством меры. А что значит разумно? И какое чувство меры истинное?
Все эти вопросы и ответы мы потом обсуждали вместе. И хотя несколько раз перечитали письмо Джоса, и вместе и каждый в отдельности, времени от этого больше не становилось.
Меня это беспокоит, в который раз осторожно начинаю я.
Тебе срок кажется небольшим? — бодро спрашивал он, и я чувствовала, что ему уже не терпится приняться за дело.
Только не спеши, умоляла я его, хорошенько все обдумай!
Да ведь я только это и делаю! — вздохнул он и посмотрел в окно.
Солнце падало прямо на его письменный стол. Папиросная бумага, вложенная в машинку, свернулась от жары.
С тех пор как я получил это письмо, сомнения одолевают меня. С одной стороны, дело мне по душе, а с другой — я боюсь… А ты, как ты считаешь?
Я колебалась. Напряженная работа потребует от него много сил! А какая работа не требует сил? И вообще, что может быть прекраснее дела, которое тебя радует?
Со своими колебаниями, впрочем, он наконец справился, а мои больше не принимал в расчет. Он убедил меня, и мы телеграфировали о его согласии.
В июле он уехал.
В поезде он снова и снова перечитывал письмо, и настроение его менялось. От твердой веры в себя он переходил к отчаянию. И только после разговора с Джосом все прояснилось.
Задача была настолько обширной, что даже целая комиссия вряд ли решила бы ее в течение года. Судя по всему, никто не отважился взяться за ее решение, а он просто-напросто попал в западню.
Если б хоть ты была со мной! — сетовал он в своем первом письме. Мне так не хватает твоей энергии, сейчас она мне дьявольски нужна! О моем здоровье не беспокойся, я обязательно покажусь врачам!
И несколько дней спустя:
Я обложен материалами, как ватой, из которой изредка высовываю нос, чтобы глотнуть свежего воздуха! А крайне нужные данные получаю с трудом. По-прежнему нахожусь в начальной стадии работы: обдумываю общий план. И каждый день у меня головные боли. Но если судить по анализам, все как будто в порядке: гемоглобин 92 %, давление 150 и так далее и тому подобное. В легких чисто!
* * *
Бесконечно долгая белая ночь. Только три? Позвоню в больницу.
Пожалуйста, тихо говорю в трубку, опасаясь разбудить Мариан, позовите дежурную сестру.
А Мариан уже в комнате. Как дух. Как ангел ночи.
Что случилось?
Я качаю головой. Звоню дежурной сестре… Сестра? Как дела?.. Он не просыпался? Хорошо, спасибо. У вас ведь есть мой номер телефона, да? Большое вам спасибо, спокойной ночи!
Я тебя разбудила? — спрашиваю Мариан, ты испугалась?
Ох, что ты, ведь я еще не спала, а ты?
Я все думаю — где, когда это началось…
Неужели катастрофа?
Нет. После той катастрофы он активно работал. Но еще до нее у него иногда бывало такое состояние, которое очень напоминало теперешнюю болезнь. Это случалось всякий раз, когда по тем или иным обстоятельствам его работа теряла смысл.
Какое состояние ты имеешь в виду?
Как тебе объяснить! У него будто наступал паралич воли.
1951:
Он в Белграде. Простенькая студенческая комната. Старый кособокий письменный стол, постоянно заваленный книгами и рукописями. На полу, на стульях кипы книг и бумаг.
Прошу садиться, поддразниваю я его, в тщетной надежде озираясь вокруг. У тебя не найдется еще одного стула?
Но сегодня ему не до шуток. У него голова идет кругом от предстоящего доклада.
Для него очевидно, что войну против туберкулеза необходимо вести из одного центра. Действия должны быть согласованы, нужно наладить контроль и проверку исполнения. Для него очевидно, что…
С утра до вечера доклады, лекции, заседания.
Как увязать проблемы эпидемиологии и требования профилактики в медицине с децентрализацией? И что сейчас наиболее важно в борьбе против туберкулеза как массового заболевания?
Коллега Воя упорно уговаривает его согласиться на объединение с клиникой.
Ни в коем случае! Слияние с существующей клиникой для меня неприемлемо! Я вам уже давно предлагал открыть кафедру эпидемиологии и социальной патологии. А против слияния я решительно возражаю. Я не могу принимать к себе работников, если заранее знаю, что сотрудничества не получится!
Мы все устроим, не беспокойся! Главное, чтобы ты остался. Чтобы работа велась под твоим руководством.
Доклад отложили. Он и сам не верит, что с массовым заболеванием можно бороться на основе добровольных соглашений. Даже с помощью авторитетного центра немного добились.
А должны.
В области борьбы с туберкулезом за последние двадцать лет произошли огромные изменения. Они заставляют нас пересмотреть прежние взгляды. Необходимо развивать научно-исследовательскую работу, чтобы окончательно ликвидировать это заболевание.
Телефон.
Совещание комитета. Совещание в Центральном правлении Красного Креста. В министерстве…
А вечером движемся дальше…
Почему Югославия, несмотря на стремительный подъем экономики, несмотря на развитие всех сил общества и непрерывное повышение уровня здравоохранения… в сравнении с государствами, идущими похожим путем… в борьбе против туберкулеза отстает. Отстает. В среднем по стране чахотка не сдает своих позиций, я имею в виду как число заболеваний, так и остроту процесса.
Неужели настолько серьезно?
Да, и данные коллеги Савича это подтверждают! Разумеется, есть различия по республикам, по местностям. И хотя важную роль играют общественно-экономические условия, факт остается фактом.
Что делать?
Следует бросить все наши силы туда, где это больше всего необходимо. Мы должны работать для всего общества, а не для отдельных личностей…
Другой важнейший принцип заключается в том, что мы должны добиваться максимальных успехов с минимальными затратами. Тривиально звучит, правда? Но когда видишь, как легко этот принцип забывается, совсем не думаешь о тривиальности! Одни сверх всякой меры расточительны, другие экономят там, где не следует!..
Третье важнейшее условие… борьба против туберкулеза как массового заболевания возможна только по заранее разработанному плану. Детально продуманному и в то же время гибкому. Но для подготовки такого плана опять-таки необходимо ориентироваться в эпидемиологической ситуации и четко представлять, какими возможностями мы располагаем на данном этапе. Ведь только так мы определим стратегию и тактику и решим, как лучше распределить наши силы…
Идем дальше. Поскольку в условиях децентрализации уже сама идея руководства из одного центра отпадает, значит, мы должны договариваться о…
Ох, как все запутано! — он обхватил голову, ведь даже при руководстве из одного центра не все шло гладко! Больше не могу!
И не надо, быстро согласилась я, хватит на сегодня! И включила радио.
Шестая — «Патетическая» — Чайковского.
Странно, наши станции передают самую чудесную музыку чуть ли не глубокой ночью.
Он и теперь у меня перед глазами. Оперся локтем о стол и спрятал лицо в ладонях. Все тело дрожит от душевного и физического переутомления.
И следующую неделю он не мог по-настоящему работать. Подавленный, целыми днями бродил от стола к постели. Его все время клонило ко сну и мучили сильные головокружения.
* * *
Я смотрю на Мариан, которая не переставая ходит из угла в угол. Будто потерянная душа. То исчезает во тьме, то выходит к свету. Поблескивают стекла очков. Но я не знаю, открыты у нее глаза или зажмурены.
Успокойся, пожалуйста, прошу я. Ну что ты все время бродишь точно призрак. Присядь!
Мариан послушно села на постель, подогнув ноги. Она в черной шелковой пижаме. Не шевельнется. Словно Будда в очках. Я смотрю на ее бледное лицо и вновь погружаюсь в прошлое, оживляя его, связывая оборванную нить.
Из-за начавшейся тогда перестройки в Комитете по здравоохранению воцарилась порядочная неразбериха. Никто не знал, во что выльется эта реорганизация, и многие специалисты возвращались к себе в республики. В разгар суматохи он и получил несколько приглашений из-за границы.
Его приглашали в Копенгаген в Институт туберкулеза Всемирной Организации Здравоохранения, его приглашал Всемирный союз по борьбе с туберкулезом на должность секретаря исполкома. Но его звали и в Словению, где предлагали прочесть курс лекций в университете и взять на себя руководство санаториями в Приморье.
При таком количестве приглашений, шутила я, тебе придется четвертовать себя! А что же с Белградом?
Это самое важное, сказал он. Чего бы я только не отдал, плюнул бы на все приглашения в мире, если б мог по-настоящему работать дома! Попрошу встречи с министром.
Но еще до этой встречи положение прояснилось само собой. Децентрализация набирала темп, и у многих уже не было уверенности в том, что без него не смогут обойтись.
Совещание у министра. Участники его уютно расположились в глубоких креслах, пили кофе, курили, беседовали о разных, ничего не значащих вещах.
Убедившись, что толку из такой беседы не будет, он попросил слова.
Товарищи, я предлагаю поговорить откровенно. Отведаем, так сказать, неразбавленного вина. Я получил несколько интересных предложений. Мне хотелось бы знать, какие у вас планы в отношении меня. Чего вы от меня хотите? Я учту ваши пожелания и приму решение!
Он умолк. Потом спокойно потягивал сигарету, пережидая, когда схлынет поток комплиментов, планов и проектов. Из этой словесной лавины он понял, что все хотят, чтобы он остался в Белграде. Однако конкретной работы ему предложить не могут. Вот, правда, если он согласится на слияние с фтизиатрической клиникой…
Этого-то я и обсуждать не стану. Руководство делить я ни с кем не намерен. У меня есть горький опыт…
Но мы ведь собираемся преобразовать фтизиатрическую клинику в институт…
По существу это ничего не изменит. Еще что?
Планируется строительство крупного санатория на четыреста мест. Это позволит развернуться… Как ты считаешь?
Слияние с фтизиатрической клиникой исключается, это первое. Строительство санатория — пока только перспектива, это второе. Я же считаю, что нам следует решать вопросы кардинально. Все мы знаем, что следовало бы предпринять: отправить на пенсию нынешнего руководителя клиники. Коль скоро этого сделать нельзя, у меня есть конкретное предложение, которое всех устроит.
На мое место, продолжал он, вонзив взгляд в министра, и тот нервным движением стряхнул на ковер пепел, идет серб — свой человек. Нынешняя реорганизация продлится еще долго, такие дела за неделю не делаются! Используйте это время и отправьте нескольких человек за границу, на специализацию. Подготовьте своих профессоров-фтизиатров, не откладывайте! Позаботьтесь о смене!
Все протесты и уговоры после этого стали пустой формальностью. У всех отлегло на душе. А он вернулся в Словению.
* * *
Почему ты молчишь? — спрашивает Мариан. О чем ты задумалась?
Я вспомнила то время, когда он вот так бесцельно погрузился в ничто, в пустоту. Время, которое для зрелого человека с каждым днем становится все драгоценнее, которое необходимо использовать до капли. А его силы между тем оставались без применения! Ощущение, что дома ты никому не нужен, убивает. В Словении у него не было даже клиники, а санаторий еще только строился…
Идем-ка лучше спать, скоро рассвет.
Я до смерти устала и постараюсь больше ни о чем не думать. Не думать даже о том, что одни люди все силы отдают работе, а другие — заняты только собой. Он принадлежал к первым. Обществу, которое сумело бы правильно использовать его, и сейчас пригодились бы его обширные знания, опыт. И сейчас…
Все-таки мы чуточку поспали. Поедем в больницу?
Мариан считает, что слишком рано. Мы только помешаем врачам. Дай мне еще кофе, пожалуйста!
Я прекрасно знаю, что Мариан кофе не любит. Она нарочно медлит.
Ведь мы могли бы подождать и в больнице! Мне там как-то легче!
Судя по всему, мы слишком рано явились.
Мариан отдергивает шторы и настежь распахивает окна. Правильно, только так.
Я прилипаю к двери в его палату и осторожно пытаюсь ее отворить. Оглядываюсь на Мариан, да перестань ты метаться по комнате. Она выбрасывает окурки и перехватывает мой взгляд. Ну что?
Жестами я подзываю ее.
И когда она оказывается рядом со мной, я медленно, осторожно, опасаясь малейшего скрипа, отворяю дверь. Так и есть.
А чего мы, собственно, ждали?
Мы обе стараемся скрыть свое разочарование. В конце концов было бы уж слишком самонадеянно думать, что он проснется и нас узнает!
Я стою у двери, за которой таилось столько надежд.
Ну, ты будешь смотреть эти бумаги? — спрашивает Мариан, протягивая мне папку. Я ведь тебе говорила, что еще слишком рано. Пока не будет утреннего обхода… Впрочем, после снотворного мы все кажемся немного странными…
Стучат?
Да. Это — сестры. Мы уходим на веранду, не желая мешать им.
Молча стоим возле перил. Дым наших сигарет привольно плавает, гонимый слабым ветерком. Потом Мариан спрашивает, выйдет ли он еще на эту веранду, как два, нет, три года назад…
Вернувшись в палату, я просматриваю его дневники, письма и рассказываю Мариан о том, как мы переселились в Сежану.
1951:
Переоборудование больницы в полном разгаре. На письменном столе у него груды проектов. В кабинете пеленой стелется табачный дым. В доме непрерывно люди. Архитекторы, прорабы, поварихи. Все хотят помочь своими советами. Спорят, потом разбегаются по стройке и снова прикидывают, раздумывают…
Наш пострел везде поспел! — пытаюсь я вечером шутить.
Да, мне жалко своего времени, отвечает он, задумчиво глядя в открытое окно. В конце концов, у меня его не так уж много остается. Надо бы заняться своей работой, знаю! Но что поделаешь, если в данный момент я лишен такой возможности.
Его достаточно высоко ценили за границей, и Всемирная Организация Здравоохранения пригласила его как специалиста в Копенгаген.
Мариан хорошо помнит то время. Он писал ей в Париж, хотел, чтобы и она работала в институте борьбы против туберкулеза.
Я знаю, он рассказывал. Работа в институте сделала его совсем другим человеком, хотя он пробыл там всего несколько месяцев.
Прочесть тебе некоторые его письма, а?
…ну вот, теперь мое время снова нормально течет. Дома дни ползли, как улитки, а теперь мчатся. И помчатся еще быстрее, потому что работа целиком захватила меня! Я живу в атмосфере научного поиска. Атмосфере, которую я, к сожалению, вряд ли бы смог создать у нас. Работы, конечно, много, но условия великолепные, о таких можно только мечтать. Ты понимаешь, что я имею в виду.
Эти слова мне придется разъяснить. Она ведь не знает, что в первые послевоенные годы у нас не хватало даже самых обычных канцелярских товаров, не говоря уж о пишущих и счетных машинах, диктофонах и тому подобном.
И о зависти. Ее достаточно везде, но в этом институте работал дружный коллектив, и ей там не было места.
Лидия тоже была в той группе? — с любопытством спросила Мариан. Впрочем, почитай еще!
…Мир окутан серым туманом. В порту непрерывно воет сирена, чтобы корабли не столкнулись друг с другом, воет надрывно и тоскливо — у-у-у! Но мне это ничуть не мешает! Потому что мы с моей сотрудницей (помнишь Лидию из Бари?) только что закончили очень любопытный эксперимент. Трудились от зари до вари.
Не скучай! И чтобы ты не волновалась за меня, признаюсь, что работа здесь мне доставляет истинное наслаждение.
Потом он писал мне из Норвегии.
А через три месяца, если меня не подводит память, он вернулся на стройку, на которой мало что за это время изменилось.
Стоя на балконе, мы смотрели на двух рабочих, а те в свою очередь, опершись на лопаты, смотрели на солнце. Полдень? Может, хватит на сегодня? Они не спешили. Водопровод по-прежнему был только на бумаге. Денег ни гроша. И лишь груды проектов переносили с заседания на заседание. А без денег стройка не сдвинется с места. И с клиникой обстоит не лучше.
Не знаю, чем заняться. Оказался не у дел.
И все-таки тебе следует что-то предпринять.
Да, конечно…
Если ты считаешь, что зря тратишь здесь время, решайся и принимай приглашение из Женевы.
Но все эти переезды меня дьявольски утомляют. Мне уже под шестьдесят, а там потребуется определенная гибкость, она же никогда не была мне свойственна.
1952:
Два невыносимо долгих месяца перед отъездом в Женеву.
Однажды я вошла к нему, он сидел за письменным столом и листал какие-то бумаги.
Ты собираешься писать? — обрадовалась я. Меня никогда не покидала надежда, что он напишет курс лекций, подготовит учебник или еще что-то в этом роде. Пишешь?
Нет, просто разбираюсь.
А не хотелось бы?..
Мне трудно сосредоточиться. Попытаюсь.
После обеда он стал раскладывать пасьянс.
Не жаль времени?
Мало ли чего жаль!
Поднялся из-за стола и лег в постель. Среди бела дня.
Тебе нехорошо?
Да так. Голова что-то кружится, пройдет!
* * *
Значит, уже тогда, почти двадцать лет назад, у него начались приступы апатии, рождавшие во мне страх и печаль. Это случалось и позднее. Всякий раз, когда он чувствовал, что не может заняться настоящим делом и что…
Тише! Тише!
Что такое?
Сюда кто-то идет.
Мы разом повернулись к двери.
Два врача и старшая сестра. С сосредоточенными замкнутыми лицами. Слегка кивнули в ответ на наше приветствие и прошли в его палату.
Мы обе замерли. Я судорожно цеплялась за свою надежду. Мы будем упорно сражаться за его здоровье. Жизнь — вечный бой, твержу я себе.
Смотрю на Мариан. Лицо ее точно высечено из мрамора. Она не сводит неподвижного взгляда с ногтей, покрытых лаком.
Ты не знаешь, что у людей, когда им угрожает смертельная опасность, появляются сверхъестественные силы!
На ее поникшей голове лежит солнечный луч. Как белая бабочка на темном цветке.
Они вышли. Оба доктора и старшая сестра, серьезные, озабоченные.
Мы садимся вокруг столика посреди комнаты. Глотаем кофе, бог весть кем поданный, и курим.
Я не различаю их голосов. Заставляю себя сосредоточиться, вникнуть в слова, которые бьют мне в уши. Ригидность[8]. Нарушение мозгового кровообращения. Прогрессирующий процесс.
Я начинаю злиться. Не из-за этих слов, но из-за того, как они произнесены. Неужели они не хотят принять во внимание… В конце концов, течение болезни зависит и от…
Снова мы вдвоем с Мариан. Не помню, когда врачи ушли. Мариан с разгоревшимся лицом что-то мне втолковывает. Даже руками размахивает, хотя обычно она очень сдержанна.
Я говорю, что можно ожидать… Прости, тебе нехорошо?
Не знаю. Вот здесь где-то лежит тяжелый камень. Но ведь любую физическую боль можно подавить с помощью…
Пожалуйста! Возьми себя в руки. Ты не можешь вынести правды?
…разума. Значит, силой разума мы можем устранить болезнь.
Дети пришли вместе. Четверо его и мой. Когда они здесь, все по-другому. Мне стало легче, и теперь я даже могу разговаривать. Рассказываю им, как обстоят дела. И подчеркиваю главное: надо надеяться… В ближайшие дни все прояснится. А может быть, через неделю, через две…
Предлагаю сигареты. Ох, в самом деле, совсем из головы вон, что ты не куришь. А помнишь, как в прошлом году он быстро поправился?
Как не помнить!
Ну так вот. И на этот раз ничего страшного не случится, верно?
Они охотно верят мне и надеются, хотя трое из них врачи. Но сейчас они прислушиваются к моим словам.
Внушая им надежду, я сама собираюсь с силами. И я тоже убеждена, что все кончится хорошо. Ведь природа иногда творит чудеса! Об этом нельзя забывать!
Ну, пожалуйста, прошу тебя, не плачь! Ради отца ты должна быть сильной. Если ты дрогнешь, он лишится последней опоры, слышишь?
Мы разговариваем вполголоса, пытаемся обсудить наши повседневные дела, но снова и снова возвращаемся к тому, что нас тревожит.
Как он хорошо себя чувствовал, когда мы виделись в последний раз.
Может быть, мы поздно обратились к врачам?
А как было два года назад?
Это было три года назад!
Да, да, три года. Он тогда еще не совсем поправился, но уже сел за письменный стол, вот этот самый, и работал, работал…
Наконец они уходят. Поочередно прощаются. Завтра придут снова. Хочешь, я останусь с тобой?
Ни за что. Я тебе позвоню, если… да ведь ничего страшного не случится, не беспокойся!
После их ухода мы с Мариан сидим молча. Пустые — точно воздушные шары, из которых выпустили воздух.
А через три дня Мариан уезжает. Ее ждет срочная работа. Недобрые предчувствия одолевают ее.
Перед самым отъездом мы идем к нему. Мариан наклоняется, что-то говорит. И он на нас смотрит. Даже делает вид, будто все понимает. Улыбается. Потом пытается поднять свои жалкие, высохшие руки. Точно хочет сказать, смотрите, как хорошо я владею своими руками!
Ждем поезда на перроне. Сморкаемся, как будто у обеих сильный насморк. А может быть, это и от погоды. К вечеру температура так резко понижается.
Ну вот, мы обо всем договорились? Дома я бываю около десяти. Пожалуйста, звони!
Поезд трогается. Мариан стоит у окна. Светлая фигура в черной раме. А потом я вижу только ее вяло машущую мне руку. И вот Мариан уже точка, которую я с трудом могла бы различить, даже если бы у меня были совсем сухие глаза.
Всю дорогу домой пытаюсь избавиться от назойливых тревожных мыслей. Выравниваю ритм дыхания соответственно ритму ходьбы. Четыре шага — вдох. Полный, как у йогов, вдох. Следующие четыре — задерживаю дыхание, затем — долгий выдох. И снова. Без устали. До самого дома.
Принимаю снотворное и ложусь. Завтра — новый день.
Сразу после двух я отправляюсь в больницу. У лифта встречаю одного из наших знакомых, тоже врача.
Опять? Зачем? Ведь ты ничего не изменишь. Я даже не знаю, нужна ли ты еще ему.
Ты так считаешь?
За ним здесь прекрасно ухаживают. Тебе надо подумать о себе. Ведь это может растянуться до бесконечности!
Но я не просто так хожу к нему, говорю я себе, я делаю это с радостью. Я все больше и больше убеждаюсь, что он действительно нуждается во мне. И я уже привыкаю к его нынешнему образу жизни. Меня ничто не смущает.
Сперва заглядываю в щелочку, только чтобы понять, как дела.
Он дремлет. Лицо — сплошное тусклое пятно.
Тихонько вхожу в комнату и разглядываю его. Со вчерашнего дня он ничуть не изменился.
Рот приоткрыт, дыхание чуть заметно, опущенные веки подрагивают. Лежащие поверх одеяла руки сжаты в кулаки. Чуть позже, проснувшись, он поднимает ладонь в знак привета, не замечая, как она у него сведена. Обеими руками я пытаюсь разжать кулак. Однако пальцы его сжимаются сами собой. Это плохой признак. Надо помешать его ногтям вонзиться в ладони. Надо купить резиновые мячики и сунуть ему в руки. Маленькие, пестрые детские мячики, которых я нигде не могу найти. Продаются только большие мячи. Или шарики для пинг-понга, но они слишком малы и выскальзывают у него из рук.
Однако вскоре мне удалось их купить. Ему стало полегче. Но чуть судорога проходит и пальцы обретают некоторую свободу, мячики выкатываются у него из рук. Я подбираю их и снова втискиваю в ладонь. Нет, ей-богу, ему и впрямь становится лучше. Когда он не спит, пальцы у него начинают немного двигаться.
Разумеется, ему становится лучше, упорствую я, стараясь не замечать удивленных взглядов окружающих. Вы не так часто бываете у него и поэтому не обращаете внимания на небольшие улучшения. Вам трудно понять, ведь неделю назад его положение вообще было отчаянным, и нынешнее состояние — хотя и не бог знает какой прогресс — все же лучше вчерашнего!
Он спит, а я сижу за его письменным столом в соседней комнате. Потом кормлю его. Он никогда не был таким худым, как сейчас. Кожа да кости. Ребра наперечет, хотя ест он неплохо. И даже пытается взглядом дать понять, что еда ему нравится.
Я давно заметила существование обратной связи между свободой движения и свободой речи. Так и у него. Если судорога ослабевает и оцепенение чуть-чуть проходит, он едва говорит. Если же тело сковано, слова льются потоком.
Вот, например, сейчас он лежит неподвижно, сжав кулаки, лицо окаменело, но слова бьют из него ключом. Они не связаны с окружающей обстановкой, и все-таки в них есть своя логика.
Я опять опаздываю на лекцию! Студенты ждут, а мы все возимся, говорит он и умоляюще смотрит на меня.
Ничего, ничего, убеждаю я его, вот только кофе выпьешь, и можно идти! Машина ждет!
Ну, ладно! Тогда хорошо, успокоился он. Я бы не хотел заставлять студентов ждать. Я люблю молодежь. Мне стыдно, что я так мало им даю. А вчера я и вовсе не подготовился. Да, чтоб не забыть! Диапозитивы у тебя? Проверь, пожалуйста!
Все в сумке, не беспокойся!
Ну, тогда пошли?
Уже идем!
Никогда не превышай скорость! Быстрая езда последнее время очень меня утомляет. Начинает кружиться голова, я тебе, кажется, говорил?..
Нет, пожалуй, сегодня мне не придется ехать. Позвони секретарю, извинись! Скажи, что я на конференции. Да, чуть не забыл, завтра здесь будут гости. Кто-нибудь позаботился о гостинице для них?
Разумеется. Позвонила секретарша и сказала, что бронь есть, беспокоиться не надо.
Ну, слава богу! Было бы очень скверно, если б мы не смогли это организовать. Так ты говоришь, что в гостиницах есть места для всех? Несмотря на то что в городе полно иностранцев? Опять какой-нибудь чемпионат?
Все в порядке, не волнуйся! Спортсмены живут в Гробле.
За городом?
До Гробле рукой подать. И в их распоряжении автобус, он и возит их туда и обратно.
Могли б и мы им помочь, нам же отремонтировали машину, как ты считаешь?
Конечно. Вечером я могу отвезти их обратно в Гробле, а утром…
Утром тебе придется приехать сюда, чтоб мы успели написать заключение о слиянии клиники с санаторием. Я давно уже обещал написать, но до сих пор не написал. Не выходит, да и все тут. Эти вечерние заседания буквально сжирают у меня время. Как смешно звучит, правда? Сжирают время! Уже половина второго или около того, а я еще не делал обхода. И больные ждут. Дай мне ботинки, пожалуйста.
Тебе помочь?
Нет, не нужно! Я сказал ассистенту, чтоб он начинал обход без меня. И он позвонил, сообщил, как обстоят дела. Правда, Селену придется оперировать, но об этом мы поговорим завтра на летучке. Ой, да ведь завтра я не успею! Завтра я еду в Париж на конференцию Союза! Видишь, чуть не забыл! Билет уже у тебя?
У меня. Не волнуйся!
Да я и не волнуюсь. Я бы волновался, если б речь шла о самолете. Но я еду поездом. Там я могу писать, времени предостаточно. Вот взгляни-ка в окошко, какой вид!
Да, багряная листва точно костер посреди поля. Милый наш Крас! Какое счастье, что мы живем на Красе.
Я здесь! Ты меня зовешь?
Ух, как долго я тебя зову! Где ты так долго была? Я уже стал беспокоиться, не случилось ли чего. Что это? Землетрясение? Кровать качает!
Мы с сестрой переложили его, и нервная дрожь прекратилась.
Ты обо всем договорилась?
Обо всем. Все тебе шлют привет и просят передать, что им очень тебя недостает, ты понял?
Да? (Лукавый взгляд из-под опущенных век.) Это хорошо, очень хорошо, потому что на самом деле незаменимых людей нет!
И лицо его озарила улыбка.
Ну, вот ты и успокоился, шепчу я. Даже ногти у тебя больше не вонзаются в ладони. Но на всякий случай я всуну мячики, хорошо? Пока человек сражается, он не побежден, хотя и может проиграть. Ты слышишь меня?
ОСЕНЬ
Он лежит без движения.
Почему ничего не предпринимают? Неужели все настолько заняты, что никто не может подойти? Где сестра? Сестра-а-а!
И опять все сначала.
Опять я беседую с врачами и тону в бесконечно долгих разговорах. Попытаемся применить новые таблетки, лекарства, уколы.
Опять обследования и консилиумы.
Я должна избавиться от страха. Подавить его силой. Ибо страх убивает людей, уничтожает надежды, страх — самый большой враг человека!
Смотрю на деревья в парке, их сгибает ветер. Вслушиваюсь в стук дождевых капель по оконным стеклам. Или просто-напросто вглядываюсь в тусклый свет, гаснущий за тонкими занавесками.
Я знаю, так нельзя. Нельзя плыть по течению. Заколдованный круг я должна разорвать активностью, действием.
Машинально сажусь за письменный стол и включаю свет. С тех пор как уехала Мариан, я забросила его бумаги. А теперь у меня снова появилось время. Время, тяжкое и липкое, лежит у меня на раскрытых ладонях. Я отбрасываю его. Отбрасываю обратно в прошлое. И поворачиваюсь к ушедшим годам, точно направляю луч фонаря во мрак. Что, например, было десять лет назад? Я никогда не верила, что именно та катастрофа могла повлечь за собой болезнь. Ведь после нее он много работал, много ездил…
…и отовсюду писал. Из Женевы, из Скандинавских стран. Большое письмо пришло из Польши. Когда я ехал через Галицию, писал он, мне невольно вспомнились годы первой мировой войны. Меня призвали сразу же после окончания гимназии…
1916:
Долгая вереница вагонов, набитых австрийскими солдатами, ползет к Галиции, где наступают войска генерала Брусилова.
Прибыли.
Длинные колонны солдат тянутся от станции разгрузки к полю боя.
Деревушка, куда они следуют, под непрерывным огнем противника. Понтонный мост разбит, дома изрешечены пулями.
Грохот немыслимый.
Густой, низкий туман пронзают ослепительные вспышки, слышится рев орудий, треск пулеметов, разрывы гранат.
Горстка солдат медленно продвигается вперед. Они падают, прячутся за мелкими кочками, ползут и опять поднимаются. Отдышаться можно только в окопах, к которым, кто знает благодаря какой случайности, вышли. Дьявольская передряга, сущий ад!
По-прежнему моросит, туман рассеивается, и взгляду постепенно открывается опустошенная местность.
Он растерянно озирается по сторонам, не зная, что делать.
Нигде ни души.
Его товарищи тараканами расползлись по окопам, и оттуда доносится неясный гул голосов.
Ему показалось, что стрелять стали реже, и он решил осмотреться.
Значит, вон там. В той стороне проходит линия русских. Там противник. Какой он? Как выглядит?
Вдруг снова посыпались пули, и он упал на дно окопа. Он в самом деле видел вражеского солдата или ему только показалось?
Он ждал. А когда выстрелы стихли, осторожно приподнял голову… в этот момент пуля его и настигла.
1959:
Путь через Галицию, писал он, невольно отбросил меня почти на полстолетия назад. И я посмеялся над зеленым гимназистом, которого ранило в первый же день, едва он высунул нос из окопа!
Собственно говоря, я вернулся к действительности лишь на вокзале в возрожденной Варшаве. И поразился. Когда только удалось полякам поднять свой город из руин? Он такой же, каким был прежде!
Вопросами здравоохранения здесь главным образом занимаются женщины. Сегодня одна из них отвезла меня в министерство, где состоялось первое заседание. И оно прошло успешно, несмотря на обилие языков, на которых мы разговаривали. Истинный Вавилон.
На обратном пути мы осмотрели одну из клиник. Больные преподнесли мне большой букет красных гвоздик. Посылаю тебе несколько лепестков!
Во второй половине дня я увидел группу по прививкам за работой. Организация дела меня вполне удовлетворяет, и замечаний у меня нет. Я побывал также в школе, где делают прививки детям и где нас очень тепло встречали.
В гостинице у меня просторный номер с ванной, но я здесь почти не бываю. У меня всегда времени в обрез. А если б мне и удалось его выкроить, я предпочел бы побродить по городу. Но пока не выходит. Осматриваю больницы, институты и так далее. Женщины-коллеги неутомимы!
Особенно мне нравятся в Польше города. Повсюду зелень, газоны и сады… жаль, что у себя дома мы уделяем озеленению городов мало внимания!
…Только что вернулся из Люблина, расположенного на равнине. А вокруг сосновые леса, вспаханные поля…
Под Люблином осматривал институт вакцин, там вырабатывают противодифтеритную сыворотку.
В Люблине существует также институт, где готовят сыворотку против тбц и поливакцину. Производство очень простое, но результаты отличные. После обеда совершили небольшую экскурсию в старый город, который, подобно Варшаве, полностью восстановлен. Я любовался ренессансной архитектурой и с удовольствием осмотрел необычайно богатый музей, расположенный в древней цитадели.
…Очень доволен поездкой в Польшу. Удалось собрать много интересных материалов. Исключительно любопытен Институт туберкулеза. Все девяносто его врачей живут в небольших временных помещениях, но клинический тракт на удивление просторный и превосходно оборудованный!
Сегодня возвращаюсь в Женеву.
Не обошлось без осложнений. В результате неправильно оформленных билетов пришлось сделать пересадку в Вене. Воспользовался случаем и выпил чашку кофе в том самом кафе, где несколько лет назад нам было так хорошо.
Я отлично помню то время. Он сообщил мне с Цейлона, что конгресс состоится в Вене.
Найди возможность и приезжай хотя бы на несколько дней.
1954:
Когда поезд вошел в вокзал, я висела в окошке и сразу заметила его. Эгей, здесь я, здесь!
А потом мы пешком гуляли по Вене, и он взял на себя роль гида. По этим улицам он бродил еще в студенческие годы.
1959:
Телеграмма из Женевы. По дороге в Грецию смогу побыть дома. Разумеется, как всегда, недолго! Ровно столько, чтобы встретиться и попрощаться.
Время мы использовали максимально. Навестили родных и друзей, повидали много людей, с которыми ему нужно было встретиться. Всюду были вместе, но никогда не оставались одни.
* * *
…Уже поздно.
Убираю бумаги, подхожу к дверям его комнаты. Затаив дыхание, напряженно вслушиваюсь. Ничего не слышно. Заглянуть? Спит? Дремлет? Ждать его сына? А он придет? Да, непременно. Как бы ни был занят, он всегда найдет время заскочить к отцу.
Он часто мне рассказывал о своем младшем, способном, но физически слаборазвитом мальчике.
Идет! Я узнаю его по быстрой, летящей походке. Только походка осталась прежней. Во всем остальном он очень изменился. Похудел, лицо бледное, осунувшееся. Точно сам слабел вместе с отцом.
Ну как дела? — Тревожный взгляд в мою сторону.
Пойдем поглядим!
Мы приоткрыли дверь и осторожно, на цыпочках, подошли к постели.
В свете ночника он выглядел еще более бледным.
Спит, говорю я, но почему стонет?
Юноша протягивает руку к запястью больного. И взгляд его застывает на секундной стрелке.
Я тоже смотрю на эти часы и вдруг осознаю, что прошло целых два часа с тех пор, как мы с сестрой перевернули его.
Ему тяжело лежать в одном положении, объясняю я. Давай сами переложим?
Он обнял отца и крепко, но нежно прижал его к себе, а я массировала ему спину и расправляла простыни. Не должно быть ни единой складки, ни одной морщинки.
Ну вот, все в порядке. Сейчас явятся сестры готовить его ко сну. Пошли?
1965:
Опатия, санаторий. Он жил в комнате с балконом, откуда открывался великолепный вид на побережье.
Он любил сидеть здесь, наслаждаясь морем и солнцем. Или лежал в шезлонге с книгой. И ждал меня.
Я приезжала по обыкновению сразу после обеда, ставила машину и свистела.
Потом мы выходим на прогулку. Идем по тропинке вдоль берега, здесь он обычно гуляет с главным инженером. Его трость в правой руке отбивает такт: раз, два — тук, раз, два — тук.
А почему бы не провести один из международных семинаров по борьбе с туберкулезом именно в Опатии? Эта идея целиком захватила его, и он готов отдать ей свои последние силы.
А ты справишься?
Не волнуйся, все будет хорошо! Мариан мне поможет, она приедет сюда на неделю раньше.
Я возражаю, однако недостаточно решительно. Может быть, он прав! Для человека нет ничего хуже, чем ощущение своей ненужности обществу. Это ранит даже молодых, абсолютно здоровых. И они порой готовы пойти на что угодно, только бы их заметили, обратили на них внимание.
Тогда он впервые сказал, что принимает первитин, прелюдин, сама не знаю, что еще!
Владо молчит. Широко раскрытыми глазами смотрит мимо меня куда-то во тьму.
Знаешь, на Цейлоне нет большего мученика, чем одинокий слон. Слон, которого отвергло стадо. Ты понимаешь?
* * *
Снова суббота. Конец рабочей недели. Раньше, когда он был дома, он всегда придумывал, как провести свободный день.
Ну-ка поглядим, сегодня, кажется, суббота?
Завтра будет суббота, сегодня пятница.
Ах, завтра! Значит, есть время позвонить в Загреб и пригласить Франьо и Фанику, не возражаешь?
И отвезти их завтра в Шкофью Локу в музей, если они еще там не были.
Были.
Да? Ну, что ж. Тогда отвезем их на Любель. Там они наверняка никогда не бывали.
А потом по канатной дороге на Зеленицу, и…
И гигантский слалом!
Ничего прекраснее быть не может!
И когда мы на следующий день повезли друзей на Любель, он не забыл о Зеленице.
Съездим? — предложил он не без колебания, однако с очевидным желанием испытать свои силы.
Франьо и Фаника, оба врачи, испугались.
Не слишком разумно! — возразили они, смущенно улыбаясь. И поглядели на меня, дескать, что ж ты-то молчишь?
Я направилась к канатной дороге.
Фаника подбежала ко мне.
Зачем ты это делаешь, зашептала она, это может ему повредить! Да ему и не забраться на сиденье!
А мы на мгновенье остановим кресло, пособим ему, давай лучше подумаем, как побыстрее все сделать!
И вот мы поднимаемся кверху.
Горы уменьшаются, отступают куда-то вниз, зато целиком раскрывается небо, оно становится огромным и беспредельным, легкие наполняет весенний, холодный воздух, и душа замирает перед безмолвным величием природы.
Я оборачиваюсь, машу ему, что-то кричу.
Ого-го-го! — откликается он. И смеется. Смеется во весь рот и по-мальчишечьи болтает ногами.
Неужели все это было в апреле прошлого года?
Когда мы достигли вершины, пошел снег. Мягкий и обильный, и скоро мы стали похожи на снежных баб.
Потом внизу мы весело смеялись, стряхивая снег с пальто перед входом в маленькое кафе.
Неужели это было всего десять месяцев назад? И сейчас он лежит неподвижно, оцепенело?
Сейчас ему никто не нужен. Он скован сном.
Каждые два часа приходит сестра, чтобы перевернуть его, оправить постель, помассировать спину.
По-прежнему стою в затемненной комнате и вслушиваюсь в его равномерное дыхание. Мне жутко. Мне вдруг показалось, что его уже нет, хотя он еще дышит.
Нет, нет, я не поддамся этому чувству. Потому что он жив в своих письмах и записях.
1959:
Я проснулся в горах северной Греции, утопающих в солнечном свете! Леса в теплых осенних красках. Сверху — синее небо, на котором пасутся белые кудрявые овечки.
Поезд стремительно движется к Афинам.
В Афинах я искал Мака. И мне трудно сказать, нашел я его тогда или нет. Потому что настоящего Мака, того, с которым мы познакомились в Женеве и которого я полюбил, больше не было. Теперь это старик, выброшенный жизнью на свалку. Измученный, отупевший.
Я совсем забыла о Маке! Его история совершенно выветрилась у меня из памяти, а ведь когда Мака отстранили от работы во Всемирной Организации Здравоохранения, я была очень огорчена. Его погубили сплетнями.
Они работали вместе, и Мак совсем не казался старым, хотя возраст у него был почтенный. Работа шла успешно, и в Маке организация очень нуждалась.
Интриги начались, когда назначили нового руководителя секции. Мака постепенно оттеснили на задний план, а потом и вовсе стали обходить. И уже не нужны были его знания, его богатый опыт, его рекомендации, его острый ум. Он был обречен.
Во время прощального ужина в Женеве он сидел за столом на почетном месте, но глаза у него были печальные.
В его честь произносили тосты, говорили, как много он сделал для спасения человеческих жизней, желали ему дальнейшей успешной научной деятельности, хотя знали, что отныне он будет безвыездно жить в Афинах в скромной квартире, вдали от всего.
Далеко за полночь мы проводили его до гостиницы. Он шел, тяжело опираясь на наши руки, и ему никак не удавалось попасть с нами в ногу.
Sic transit gloria…[9] — усмехнулся он, прощаясь.
* * *
Весь этот длинный день Мак не выходит у меня из головы. Мак, для которого так много значила работа и так мало — личная жизнь. Мак, целиком отдавший себя обществу и зависящий от него. Мак, которого опутали интригами и выставили. И он сдался.
Но ведь он — не Мак! И в Греции у него не будет времени думать об этом. Он должен проверить работу институтов и диспансеров…
1959:
Наш автобус взбирается на Парнас. Гора Аполлона, Диониса и муз.
Камни среди вереска. Самые разные оттенки лилового и серого.
Пастбища пустынны. Скот перегнали выше в горы. Повсюду стройные кипарисы. Как юные животные. Как дети. И все дышит близостью Средиземного моря.
Тысяча метров над уровнем моря.
Вылезаем из автобуса, полной грудью вдыхаем горный воздух.
Вот эту деревушку нужно сфотографировать, как она называется? Арах?.. Арах — паук, Арахна — пряха из Лидии, да? Та самая, что бросила вызов Афине Палладе. Та самая, что изобразила на полотне амурные приключения богов. Афина, конечно, разгневалась, уничтожила ткань, а самое девушку обратила в паука. Вот что случается с человеком, если он шутит с богами или прохаживается на их счет!
Ты рассказываешь коллегам, что у нас в Македонии есть похожие деревушки. Только вместо колоколен в небо устремляется тонкий минарет.
На узких уличках Араха местные жители продают изделия ручной работы. Как у нас в Македонии, скажешь ты, точь-в-точь!
Целых два часа осматривали мы Дельфы. Даже на холм взобрались и отведали чистой студеной воды из священного Кастальского ключа.
А гостиница выстроена на самом краю пропасти, представляешь? Внизу голубое море, над головой синее небо, а кругом острые скалы и высокие, тонкие сосны…
…и в горах выстрелы, эхо разносит их по скалам… и звон колокола… ди-динь… ди-динь…
* * *
Разумеется, телефон. Должно быть, я задремала. Ошибка.
В полусне у меня все перепуталось: его поездка по Греции и наше возвращение из Соединенных Штатов.
1946:
Старенький турецкий пароход везет нас из Нью-Йорка в Пирей.
Когда мы уезжали из Нью-Йорка, началась забастовка моряков. Выбора у нас не было, к пришлось сесть на этот захудалый пароходишко.
И по сей день я словно ощущаю под ногами покачивающуюся палубу. Четырнадцать дней плаванья при безоблачном небе.
Уже спозаранку он на палубе. Не поднимая глаз от пишущей машинки, сунул мне несколько страничек отчета, почитай!
Отчет военной делегации Красного Креста Югославии. Делегация из трех человек пересекла Соединенные Штаты Америки от Атлантического до Тихоокеанского побережья. И Канаду от Ванкувера до Монреаля.
С раннего утра до поздней ночи переговоры, выступления на митингах в различных обществах, по радио. В среде, которая ему чужда, как никакая другая в мире. Все вокруг озабочены одним — добыванием, выколачиванием денег. Денег, которые дают силу, власть и уродуют человека…
И вместе с тем здесь удивительный народ. Особенно старые переселенцы. Возможно, впервые в жизни испытывающие гордость за свою родину, которую им пришлось покинуть. Они волновались до слез, слушая нас. Они отдадут последний цент, если потребуется! Они готовы помочь! Everything for the old Country![10]
Нет, так мы не хотим! Не так «for the Old Country»! Мы намерены принести это в дар своему краю! Какому-нибудь острову в Далмации или Коновле, или какой-нибудь деревушке в Белой Крайне. Только так.
Каждая группа сама по себе, строго изолирована от остальных. И внутри этих групп тоже нет согласия. Отдельные деревья, леса нет.
Мы измучились. Убеждали, разъясняли. Предлагали свой план помощи родине. Детская больница в Словении будет предназначена для всех детей, в том числе и для тех, что родились в твоей деревне, в Белой Крайне, как ты этого не понимаешь?
Да нет, ты сам пойми! Нас здесь всего горстка! Мы годами копили деньги, чтобы помочь родному краю. Почему ты нам не даешь своей поликлиники?
Ух!
И жгучая тоска по родине. С каждым днем усиливающаяся и невыносимая. Испытываемая постоянно, хотя дел очень много. В особенности у руководителя делегации, который в ответе за все.
Его приглашают во многие места. Его называют Ambassador of good will[11]. Он успокаивает, убеждает. Занятый донельзя всюду успевает, укрепляет организацию и не выпускает из рук бразды правления. Чтобы сберечь время, ездит только по ночам. И хотя сильно похудел, по-прежнему остается решительным и бодрым.
Как ты это выдерживаешь? — удивлялись мы с Гайо.
Он только весело улыбался.
Я понимаю, что именно вот такая, с широким размахом работа — та стихия, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Он убежден в правоте своего дела, и успехи не замедлят сказаться.
Отчет подробный и содержит все необходимые сведения. Даже в избытке! Это уже не отчет, а роман! Только кто его прочитает?
Пока ты!
Я не могу. Хватит с меня Америки, по горло сыта! Давай лучше пройдемся по палубе, насладимся утренней свежестью, времени достаточно!
Более чем достаточно.
Пирей.
Первые шаги по земле Балкан. Теперь все будет в порядке. Мы почти дома!
Попытаемся пароходом?
Говорят, югославских судов пока не ожидается.
Тогда поездом?
Поезда тоже не ходят!
И тут меня осенило — ведь у нас есть два джипа, приобретенных для нужд югославского Красного Креста.
Может, на автомобилях?
Это невозможно.
Поездки из Греции в Югославию запрещены. На дорогах небезопасно. Особенно на горных перевалах. Разве вы не слыхали о партизанах Маркоса?
Но нам нужно домой!
Маленький смуглый лейтенантик с блестящими глазами продолжает горячо убеждать нас, что ехать на машине очень опасно.
Что же делать?
Спросите в министерстве.
И вот мы бегаем из учреждения в учреждение. Одного чиновника нет, другой — на заседании, третий — болен, четвертый — только господь бог ведает где! И стереотипный ответ: приходите завтра!
Мы осматриваем памятники, купаемся в море и посиживаем в маленькой кофейне на углу, где варят настоящий сербский кофе — по-домашнему.
Пошли к Акрополю?
Но у Акрополя мы бывали уже много раз. И при свете луны и при свете солнца.
Что тебя туда тянет? Тебе нравятся развалины?
Да. Я могу любоваться ими часами. Там я не чувствую, как убегает время.
А время между тем убегало, и нам тоже пришлось как следует побегать, чтобы выбраться из ловушки.
Он носился из канцелярии в канцелярию со своей толстой сумкой, набитой миллионами драхм, чтобы смягчить сердца чиновников, сидевших за решетчатыми оконцами. После долгих мытарств ему удалось получить необходимый пропуск на выезд.
Склонившись над картой, мы намечали маршрут. Сперва в Ларису, затем Салоники и Белград.
Если мы будем ехать днем и ночью, рассуждала я, мы будем дома уже через… Дома. Вы представляете, что это значит? Я думаю о той минуте, когда мы окажемся на границе, и судорога сжимает мне горло. Придется сдерживать себя, чтобы не упасть на землю и не поцеловать ее. И только потом, когда мы окажемся достаточно далеко когда нас никто не увидит, мы поцелуем эту землю. Свою землю. И еще напьемся прозрачной воды из журчащего источника, поцелуем друг друга, украдкой смахнем слезы и отправимся дальше.
Мы в самом деле двигались днем и ночью по этим немыслимым дорогам. Иногда со скоростью улитки. Он ехал первым, таща тяжелый прицеп, мы с Гайо следом.
У подножия Олимпа останавливаемся на ночлег. Серебристый лунный свет, погруженная в сон окрестность, и вдруг — автоматные очереди, которые эхо разносит меж скал и сбрасывает в бездонные пропасти.
Тебе не страшно? — спрашиваю я.
Он с удивлением посмотрел на меня, наверное, ему тоже не по себе. Но это не мешает ему любоваться окружающей природой.
Вот прими, он протянул мне таблетку, и поезжай за мной. Упивайся красотой. Да я и по глазам твоим вижу, что ты уже не боишься.
Как легко он убеждает меня, что я лучше, чем есть на самом деле. И не только меня, любого. Всегда.
* * *
Он не должен нас покинуть. Я не могу это допустить. Завтра же поговорю с врачами. Они должны помочь. Слишком многие в нем нуждаются!
Например, маленькая Татьянца. У нее подозревают саркому плечевого сустава. Белые от ужаса лица матери и отца, судорога сжимает им горло, они едва могут говорить.
Ампутация руки?
Это невозможно!
Подожди, маленькая, вот дядя посмотрит, и все будет хорошо. Он посоветует, он все сделает, все.
И бабушка Татьянцы, которая уже седьмой год лежит неподвижно. Лицо у нее белое как бумага: она не сводит больших светлых глаз со входной двери.
Ох, хоть бы господин профессор пришел!
Придет, конечно, придет. Он всегда приходит, и едва он касается ее руки, как старой женщине становится легче.
Вы верите, что мне лучше?
Верит. Верит всей душой, всем сердцем, хотя знает, как у нее обстоят дела.
Скольким людям он помог, а ему никто не может. Как мне ему помочь? А вдруг мне не хватает веры? Неужели в этом причина? Гоню от себя тяжкие, мрачные мысли и цепляюсь за тонкие нити надежды…
* * *
Тебе лучше? — Я буквально порхаю по комнате, так что его широко раскрытые глаза едва за мной поспевают.
Какая ты веселая!
Да. Врач говорит, что мы начнем с массажа ног, укрепим мышцы, что мы…
Врач говорит???
Сегодня ему лучше. Тело еще, правда, сводят судороги, и надо следить за руками, сжимающимися в кулаки, но он пытается разговаривать.
Ему в самом деле лучше? Ох, если б это было так! Почему мы не можем энергию одного человека передавать другому? Ведь это очень просто. Переливаем же мы воду из одного сосуда в другой. Наклонилась бы я над ним и перелила в него свою волю, здоровье, силу — чтобы он поскорее встал на ноги и вышел на веранду.
Смотри, как хорошо! — сказал бы он. Взгляд его ласкал бы зелень кустарников, кудрявые кроны деревьев, а потом унесся бы вдаль, к темным горам на горизонте. Как прекрасна наша страна, добавил бы он, вот только ноги окрепнут, и отправимся в горы!
Непременно отправимся, но сперва придется навестить больных, которые его ждут. Больных нельзя разочаровывать.
И еще нужно будет подготовиться к лекции, просмотреть номера «Туберкулеза», написать доклад для конференции, для конгресса… Какое счастье, что он рвется к работе, что люди ждут его, что он нужен людям. Ничто не могло вывести его из равновесия. Взятые на себя в Женеве обязательства он выполнял с легкостью и радостью. Вопреки сжатым срокам, безжалостно преследующим его, вопреки утомительным поездкам…
В Греции, например, он посетил много районов, чтобы собрать побольше материала…
* * *
Вы понимаете, что я имею в виду? — спрашиваю я Брацо и Секу, которые вместе со мной ожидают, пока закончится осмотр.
Понимаете, что это для него значит? После долгого вынужденного перерыва приняться за настоящее дело!
Помните, еще в прошлом году… когда его наградили премией имени Кидрича[12]? Помните, как он стряхнул с себя оцепенение, просто-напросто ожил?
У меня много тому доказательств… Например, весной в санатории проходил международный семинар — впервые без него. Об этом семинаре я ему ничего не сказала, чтобы не волновать. А когда он заканчивался, мне позвонил доктор Мича и попросил разрешения югославским участникам навестить его. Только поздороваться, сказал он, если можно.
Сразу впятером? — испугалась я, однако разрешила им прийти.
Поразительно, как на него подействовала эта встреча. Он сам вел беседу, и речь его была гладкой и свободной.
Уходя, они недоуменно посмотрели на меня. Прячешь ты его от нас, что ли?
Я просто счастлив, что он поправляется, сказал Мича. Разве я вам об этом не рассказывала? — спрашиваю я Брацо и Секу, которые молчат, а я все говорю и говорю. Брацо уставился в пол. Сека перебирает бумаги на письменном столе.
Здесь есть что-нибудь любопытное? — обращается она ко мне, пытаясь перевести разговор на другое.
Но я продолжаю развивать свою идею и принимаюсь рассказывать им о Маке, хотя его историю они хорошо знают.
Нельзя сравнивать, возражает Брацо. Его-то чтили всегда… Член комитета…
Разумеется, за границей его ценили, а дома не очень. И признание его трудов за рубежом не доставляло ему особенной радости…
Дома? Да ведь дома у нас все иначе, мы друг другу мешаем!
Молодежь напирает, это верно! И нужно освобождать место молодому поколению. Оно не может ждать!
Но разве во время войны существовала проблема поколений? Разве молодые и старые не стояли тогда плечом к плечу во имя единой цели!
Это было тогда!
Это было тогда, когда мы работали от зари до зари, и не оставалось времени думать о себе…
1946:
В Белграде много разрушенных домов. Нужно было расчищать дворы, улицы.
Зачем ты-то пришел? — сердилась я на него. Оставь это нам, неужели у тебя нет другого дела?
А он гордо шел рядом со мной в рабочей одежде, с лопатой на плече и весело посматривал на меня.
Почему ты не отвечаешь?
Назло тебе. Ведь такая работа — активный отдых. Жаль только, что не удается устраивать его почаще!
Я не бог весть как ловко управлялась с лопатой. Копала скорее символически. А взглянув украдкой в его сторону, поняла, что у него дело спорится. Точно он в жизни ничем иным и не занимался!
Если человек хочет идти вперед, он должен уметь избавляться от хлама, смеялся он.
И на обратном пути пел вместе со всеми… Эх, партизаны… та-ра-ра-ра… та-ра-та-та…
А слов не знаешь?
Напиши мне, я забыл! Та-ра-та-та!
В столовой перед нами ставят тарелки с мучной похлебкой. От усталости ложка дрожит у меня в руке.
Ему хоть бы что. Ложкой он орудует так же ловко, как лопатой. И я восхищаюсь, глядя на его руки.
Отличная похлебка, а? Delicious![13]
Delicious! Тем же тоном, каким хвалил отменнейшие блюда в нью-йоркском отеле.
Эта похлебка после полного трудового дня в бригаде стоит всех банкетов мира!
И тогда никто не интересовался твоим возрастом. Никто не смотрел косо, когда ты выкладывался на работе, отдавал все свои силы. Тогда каждому находили место. Ставили туда, где он был нужнее… А сегодня… если представляется случай, тут же избавляются.
Ты преувеличиваешь. Ведь и сегодня никто не вынуждает тебя уходить на пенсию.
Конечно. Все только добра желают. Видят, что ты устал, нуждаешься в отдыхе! Устал от суматохи. Реорганизация за реорганизацией, а возможностей работать все меньше и меньше. И вдруг ты чувствуешь, что ты в пустоте, вертишься вхолостую…
Не надо так громко!
Раньше, ты понимаешь, речь шла о том, чтобы давать, а сейчас только о том, чтобы брать, вот в чем дело. Но я опять раскричалась. Волнуюсь. Что он там делает, этот врач, почему его нет?
Наконец-то! Мне стало легче, когда врач вышел, и я накинулась на него с вопросами, Ну что? Когда мы начнем…
Посмотрим, понаблюдаем! Надо набраться терпения, успокаивает он меня.
Что еще сказать? Годы, болезнь. Прогрессирующий атеросклероз. Конечно, имеют место некоторые изменения. Колебания в ту и другую сторону. Чудес, однако, не бывает. Поживем — увидим. И знаете, как раз сейчас у меня несколько случаев еще более трагических, чем этот. Юная жизнь, например, которую съедает рак…
И вот уже странно изменившимся голосом доктор рассказывает нам о женщине, своей родственнице, которой осталось жить считанные дни. У нее муж и двое детей. Эх, да что говорить, он махнул рукой и встал.
Я не решаюсь больше расспрашивать его.
У двери он вдруг оглянулся на меня — если быть объективным, состояние его немного лучше — и ободряюще улыбнулся.
Если быть объективным, состояние его немного лучше!
Я уцепилась за эти слова и теперь полна новых надежд. Пусть во мне теплится хоть крохотный огонек надежды, пусть он тускло мерцает! Я защищу этот огонек ладонями. Прикрою от ветра, но огню нужен кислород — иначе он погаснет.
Нельзя позволить ему уйти, нам так много еще нужно сказать друг другу!
Тише!
Сека приложила палец к губам: зовет?
Ты меня звал? Ну вот видишь, дело идет на поправку!
Кто там с тобой?
А Брацо и Сека уже возле постели. И делают вид, будто не замечают, что у него остались одни глаза. Будто и не замечают, что он протянул им стиснутый кулак вместо раскрытой ладони.
Опять эти мячики ускакали? Где же они? Ага, вот они! Как это мы здорово придумали. Давайте и мы поиграем.
Сека зажгла лампочку в изголовье, мячик, летая, отбрасывает тени на потолок и стены.
* * *
Ура! — кинулась я к Дарье, вошедшей как раз в эту минуту.
Она всегда рядом, если нужна помощь. Она тоже врач. Друг-врач или врач-друг, как угодно. Но сейчас она — врач-пессимист…
А ты не обратила внимания, что я тебя встречаю возгласом «ура»? Победоносным «ура»? И не знаешь почему? Ну, потерпи немного, и тебе все станет ясно!
В чем дело?
Я жду сестру Шпелу. Вот и она! Теперь иди, сама увидишь!
Потому что он чувствует себя лучше. Доктор сказал, что объективно… ты понимаешь?
И пока мы помогаем ему встать с постели, я все говорю и говорю. Конечно, он пока не может ходить один! Мы с сестрой руками передвигаем ему ноги. Для начала неплохо. А главное, лед тронулся, так или нет? Вижу, как Дарья посмеивается надо мной, а мне что, главное, он опять сидит в кресле.
Там кто-то пришел, слышишь? Дарья, посмотри, пожалуйста!
Это Владо! Как удачно!
Лицо Владо светилось счастьем.
И он тоже сияет, хотя слегка и подшучивает над своей немощью. Дело идет на лад, только вот шагать еще сам не могу!
Подожди, ведь ты впервые встал сам. А потом увидишь. С каждым днем тебе будет лучше и лучше!
Надеюсь… А где тетя Мици?
Я не могу удержаться от смеха. Ведь это у него по ассоциации с креслом, подмигнула я Владо, у тетки он всегда сидел в кресле и пил кофе!
И вот, точно по волшебству, секунду спустя в дверях появляется тетя.
Они обнялись.
Я тебя вызвал магической силой, смеется он. Я ведь говорил тебе, что все мои желания непременно сбываются! Сейчас мне очень захотелось увидеть тебя, угостить кофе.
Какая удивительная неделя! Лихорадочные усилия, и что ни день, новые надежды. Новые лекарства, ванны, массажи, а после полудня прогулка к креслу.
Еще шаг вперед. Завтра выйдет на веранду. А может, попробовать сделать это сегодня?
Немного ветрено, ну да ничего! Вот так, в коляске, с одеялом на коленях и в берете, совсем неплохо.
Тебе хорошо?
Очень. Голос его дрожит от волнения. Ведь он уже не надеялся выйти на свежий воздух.
И темнеющие на горизонте горы, очевидно, вызывают у него в памяти события давно минувших лет…
Когда мы были на Комне?
Давно… десять лет назад.
1959:
Мы поднимались не спеша, шаг за шагом.
Оба мальчика впереди. Я иду за Фране. Кажется, мне в два раза легче взбираться, если я иду по его следам. Он точно подтягивает меня кверху. Фране идет большими шагами, не останавливаясь. По-альпинистски.
За нами Брина и он. Они все время разговаривают, то и дело останавливаются. И рассуждают, что это там виднеется далеко внизу в долине. Чей-то дом?
Уже поздно вечером добрались мы до горной хижины.
В сенях сняли обувь, надели туфли.
Как ты себя чувствуешь?
Великолепно! Я просто не верил, что смогу сюда добраться!..
* * *
Принеси мне, пожалуйста, темные очки, солнце слепит! Спасибо. Вот теперь прекрасно все вижу! Знаешь, а мне казалось, будто это пальмы на берегу!
Какие пальмы?
Цейлонские! Они часто ко мне возвращаются. И еще я часто вспоминаю, как мы купались в океане. Ты помнишь те волны?
1955:
Разве их можно забыть? Казалось, на берег ринулись морские чудовища. Они взлетали высоко, затем выгибались и с шумом кидались на берег. Я никак не могла войти в воду. Меня тут же выбрасывало обратно.
Нам пришлось вернуться в мотель. С веранды мы потом часто глядели на рыбаков, которые вытаскивали сети и тут же на берегу их чинили, а в заливе, подобно усталым животным, отдыхали катамараны.
А помнишь каучуковые плантации вдоль дороги?
Мы тогда ехали и считали подвешенные к деревьям длинные металлические бидоны, в которые стекал сок. Вернулись домой поздно ночью.
Не устал? — спросила я, потому что ты сразу же сел за письменный стол.
Конечно, устал, ответил ты, но что поделаешь? — и добавил: а ты даже не представляешь, сколь многого здесь не хватает! Диспансеров нет совсем, их нужно строить. Персонал надо или приглашать со стороны, или готовить на месте. К тому же…
И тут мы попадаем в заколдованный круг. Потому что благодаря развитию флюорографии и хорошо поставленной диспансерной службе мы будем выявлять все большее количество больных, и, следовательно, нам понадобится еще больше коек…
А лечение на дому?
Если мы не возьмемся за все сразу, мы будем напрасно тратить время. Хочешь, я покажу тебе план?
Значит, так: сперва выявляем тяжелобольных и изолируем их. Вопрос: куда и на какой срок? Затем надо обезопасить тех, кто пока не заразился. Значит, служба прививок. А это опять-таки требует специально обученного персонала, транспортных средств, контроля за работой и так далее, и так далее. Не забудь, что профилактике также необходим многочисленный персонал; и вот уже встает вопрос подготовки кадров…
А выздоравливающие! Ведь для них понадобится специальный центр со своим персоналом и оборудованием. А когда больной поправится, мы обязаны подобрать для него работу. И в течение всего периода госпитализации заботиться о его семье.
Но, может быть, ты все-таки ляжешь? — предложила я.
* * *
Может быть, ты все-таки ляжешь? — и теперь спрашиваю я его, потому что он вдруг закрыл глаза. Наверно, опьянил свежий воздух. Пойдем в комнату?
О нет, нет, посидим еще немного. Здесь так приятно… совсем как на Цейлоне…
1955:
Цейлон. В воздухе носится аромат жасмина, перца, камфоры, каких-то диковинных целебных трав.
И всюду люди в пестрых одеждах, обнаженные до пояса рикши, упряжки буйволов, босоногие велосипедисты, множество легковых автомобилей и грузовиков…
Когда мы покидали Цейлон, кое-что из задуманного тобой уже осуществилось. Стали строиться туберкулезные диспансеры, в маленьких провинциальных лечебницах открывались отделения для больных туберкулезом, и только что подготовленный медицинский персонал делал прививки все в новых и новых районах.
С Цейлоном мы прощались в декабре, в пору самой невыносимой жары.
Вильсон громко смеялся, хотя было заметно, что он огорчен нашим отъездом.
Милый Вильсон, с которым тебе так хорошо работалось. Энергичный и добрый, прекрасный специалист и чуткий товарищ.
Больше всего меня радует, говорил он, что сестрам удалось пройти полный курс обучения. Эх, если бы Всемирная Организация Здравоохранения всегда посылала знающих специалистов, мы бы многого добились. А то сколько здесь перебывало случайных людей. Год поработают и рвутся домой, а дело ни с места. Ты первый, кто…
Не преувеличивай, друг! — ты потрепал его по плечу, и голос у тебя тоже дрогнул.
Сверху Вильсон показался крохотной точкой на площадке аэродрома.
* * *
Какая поразительная неделя! Сколько планов, радостного волнения. Чуть свет я звоню сестре Шпеле.
Что нового?
Приехать бы вам сейчас, смеется она в трубку, у нас отличное настроение!
Я бросаю все и спешу в больницу. Но приезжаю слишком поздно. Он уже задремал.
Ведь мы приняли ванну, утешает меня сестра. А утром он был в прекрасном настроении. И все съел, смотрите!
После обеда снова мчусь в больницу. Врачей обхожу стороной. Не хочу слышать ничего неприятного. Я знаю об их сомнениях, но именно теперь они меня меньше всего интересуют. Теперь я хочу подольше удержаться на самом гребне волны. На самом гребне как можно дольше.
А потом миновала эта поразительная неделя, и он погрузился в дремоту. Не могу вспомнить, как он ускользнул от нас.
Вновь обращаюсь к его письмам. Хочу знать, когда же все-таки это началось.
1959:
Вернувшись в конце года в Женеву, он сильно простудился. Пустяки, писал он, обычный насморк. Но при этом чувствовал себя очень плохо. Так скверно себя чувствую, читала я, что пришлось лечь в постель. Я был убежден, что больше не встану.
А на другой день картина прямо противоположная.
Настоящее чудо, писал он, — простуда исчезла за одну ночь! Я вновь в отличной форме, и это великолепно, потому что работы невпроворот.
Я получил два письма, совершенно различных по содержанию. Помнишь, я тебе говорил, что решил узнать мнение некоторых своих коллег о прививках? Ну так вот! Сегодня пришли два ответа. Известный специалист в этой области доктор Аллин вообще не верит в прививки. Зато Миллер горячо их поддерживает. Прививки, пишет, лучшее средство из всех профилактических мер против туберкулеза — особенно в развивающихся странах!
И я этому чертовски рад, потому что сам придерживаюсь такого же мнения.
«Луна-3»! Просто невероятно, сколь огромны достижения человечества.
Поистине человек бессилен только перед смертью. Даже если в один прекрасный день нас сунут в холодильники и заморозят на несколько столетий, это не изменит суть дела! Рип Ван Винкль[14] всегда был для меня печальным образом!
Работа идет полным ходом. Надеюсь, что результат не окажется слишком мизерным в сравнении с вложенным трудом. Только Африку мне пришлось вычеркнуть из своих планов…
И поэтому прошу тебя расторгнуть договор, который со мной заключило издательство на книгу «На краю черного материка». Ведь я верил, что вернусь в Африку. А теперь вижу, что ничего не выйдет, и нет смысла писать об Африке на основе впечатлений шестилетней давности! Собственно говоря, это попросту невозможно. Ситуация там непрерывно меняется. И сегодня она, вероятно, совсем иная, чем была тогда…
Ну и что, думаю я, если сегодня она совсем иная, рассказал бы о том, что было тогда…
1953:
Дакар. В крупнейшей больнице континента беседуем об африканских медиках!
Какие они? Можно ли с ними работать?
О нет, для работы они не слишком пригодны, заявляет французский врач и презрительно кривит губы. И опять начинает возиться с рентгеновским аппаратом, что-то тай настраивает. Они, собственно, как малые дети, добавляет он, с техникой никогда не имели дела.
Клиника переполнена больными. С трудом пробираешься по лестнице и через длинные коридоры к ординаторской. И кого здесь только нет. Мусульмане в длинных одеждах и фесках. Мавры с косматыми, взлохмаченными бородами. Дети, притулившиеся на спинах матерей. Наголо остриженные женщины — только прядь волос на макушке. Они открыто смотрят на тебя большими ласковыми глазами. Приветливо улыбаются.
Они доверяют белой медицине, хотя, возможно, ищут помощи и у своих знахарей.
Мы забегаем в кофейню, надеясь выпить чего-нибудь прохладительного. Но это не так просто. Торговцы выстроились перед нами стеной.
На, бери! — повелительно произносит один из них, протягивая статуэтки из черного дерева. Всего тысяча пятьсот франков! Даром, говорю тебе, отдаю. Бери, пока не раздумал! Только потому и отдаю, что ни гроша в кармане, честное слово! Не хочешь? Ладно. Обещаешь никому не рассказывать… отдам за тысячу двести, идет? Что не надо? Господи, да где у тебя глаза? Вы оба ничего в искусстве не понимаете! И за тысячу двести франков не возьмете? За тысячу? Восемьсот? Семьсот? Шестьсот пятьдесят? Пятьсот? Четыреста? Окончательная цена триста. Только, смотрите, никому ни слова!
И чего только не предлагают! Золотые браслеты, сумочки из крокодиловой кожи, ожерелья и статуэтки из эбенового дерева.
Вот-вот упадет ночь. Здесь ночь в буквальном смысле слова падает, мгновенно превращая свет во тьму. Горизонт исчезает, и очертания предметов растворяются в темноте.
Фритаун у подножия горы Мэртон чем-то похож на Нови Сад на отрогах Фрушкагоры. На Фритаун — колониальный городок, небогатый и неуютный.
Здесь мы впервые попробовали африканскую кухню. Какая-то жидкая кашица из маниоки и палавы, остро заправленный гуляш из мяса и рыбы. Все приготовлено на пальмовом масле. Очень вкусно.
А на юге африканцы выглядят совсем иначе, чем на севере. Разница примерно такая же, как между сицилийцами и шведами. Но женщины и здесь высокие, статные, и походка у них удивительно красивая.
Перед детской клиникой еще до начала рабочего дня собираются больные. Палаты набиты малышами, многие из них тяжело больны. Вот этот, например, шестилетний мальчуган — живой скелет, покрытый гноящимися язвами. Что с ним будет?
От одного лечебного учреждения к другому. Сплошные страдания, которые ты ничем не можешь облегчить. Нас все сильнее охватывает смятение и чувство бессилия.
Неужели придется исколесить всю Нигерию? Вдоль и поперек? Кажется, да, но не сегодня. Сегодня мы идем на концерт в англиканскую церковь. Пятая прелюдия Баха и «Реквием» Моцарта.
Черные лица, пестрые африканские одежды — и новехонький электроорган.
Несмотря на дьявольскую жару — непередаваемое наслаждение!
Энугу. Кано. Ибадан. Лагос.
Мы мчимся со скоростью шестьдесят миль в час. Слишком быстро. Пожалуйста, прошу я, помедленнее, хочется полюбоваться вечнозелеными лесами.
Смотри-ка, здесь тоже исследовательский институт.
Знакомимся с большим хорошо оборудованным институтом, где вырабатывают сыворотку против бешенства, оспы и желтой лихорадки.
Медленно переходим из лаборатории в лабораторию. Нам показывают овец, жертвы, принесенные на алтарь науки. Животные смотрят на нас печальными круглыми глазами…
* * *
Стучат или мне показалось?
Вслушиваюсь — нет, тихо.
Снова стук, и очень отчетливый.
Отложила бумаги и подошла к двери.
Ты спишь, Сореллина?
Дане!
Брат надувает щеки для поцелуя. Сперва левую — круглую, как мяч, затем правую.
Он очень плох? — спрашивает Дане серьезно. Можно его повидать? Его большие бархатные глаза светятся лаской.
На цыпочках подходим к дверям палаты. Замираем на мгновенье. Прислушиваемся. Потом осторожно, боясь малейшего скрипа, открываем дверь. Хотя я почти убеждена, что скрип никого не потревожит.
Чего ты ожидаешь? Чуда? Человек — неисправимый оптимист. И остается им до конца дней своих. Малым ребенком, раскинув руки, он проковылял от одного конца стола до другого, где его поджидали мать или отец. Ведь кто-нибудь поджидал его непременно. Ребенок знал это. Но даже если бы у противоположного края стола никого не было, все равно он шагнул бы — в пустоту.
Брат встал у изголовья и принялся просматривать историю болезни. Syndroma psychoorganicum. Arteriosclerosis cerebri. Aphasia. Анамнез… И так далее, и так далее…
Лекарства, препараты, процедуры. Диагностика и терапия.
Это все старое, говорю я, переворачивая странички, ты забыл разве, что он здесь был два года назад?
Брат отложил историю болезни и кивнул. Нет, не забыл.
Он стоит, выпрямившись, у постели. Руки глубоко засунул в карманы брюк. Должно быть, сжимает кулаки, не отводя взгляда от друга и, возможно, прощаясь с ним.
Ведь не так давно, растерянно бормочет Дане, он был у меня… Это было в прошлом году, да?
1968:
После обеда я проводила его на вокзал. До самого отправления поезда он убеждал меня поехать с ним. Он, видимо, забыл, что у меня командировка в Белград — поэтому я и позвонила брату.
Ах да, вздохнул он, вчера ты договаривалась с Дане, теперь вспомнил! Очень меня радует эта поездка, чертовски хорошо, а ты ко мне не присоединишься?
Брат встретил его на станция. До самого дома они шли пешком. Уже тогда Дане заметил, что мысли у него прыгали и он с трудом находил нужные слова.
Ходишь ты здорово — сказал ему брат. Может, завтра махнем куда-нибудь?
Однако на другой день ему стало легче разговаривать, зато труднее ходить. Они еле-еле добрались до Кальварии. Часто останавливались, и он все время искал взглядом, скамейку, чтобы передохнуть.
Потом грелись на солнышке и толковали о школе, о студентах и лекциях. Брат никак не мог взять в толк, отчего он волнуется перед каждой лекцией.
Дане казалось, что волнение ему вообще неведомо!
Мне неведомо? — удивленно воскликнул он.
…вот он перед своими слушателями. Сердце стучит у него в висках, в кончиках пальцев. Он весь — большое, трепещущее сердце, выставленное напоказ целому свету…
Аудитория битком набита! Сколько глаз, устремленных на него. Вопрошающих. Любопытных. Требовательных. И даже скептических и недружелюбных. В эти глаза он особенно вглядывается.
В чем дело? — мысленно спрашивает он. Отчего недружелюбие?
Но постепенно взгляды молодых людей смягчаются, и он чувствует, как ослабевает напряжение, успокаивается сердце, он уже единое целое с ними. Они уже друзья, и он беседует с ними о вещах, равно интересных и ему и им.
* * *
Почему ты молчишь, спрашиваю я, чтобы прервать недоброе молчание. Я все труднее переношу тишину, когда я не одна. Хотя прекрасно понимаю, что брату нечего сказать.
Поздним вечером сидим у нас дома. Разговариваем и время от времени косимся на его кресло. Теперь оно пустое.
Что ты делаешь после работы? — спрашивает брат. Вот сегодня, например, что ты делала?
Сегодня! Я попыталась вернуться назад в отлетевший солнечный день. В тот час, когда я спешила в больницу. Я бежала мимо швейцара вверх по ступенькам и упрямо надеялась, что, может быть, он меня ждет.
Сидит обложенный подушками и смотрит на дверь. Ведь бывало же так прежде!
Ты уже здесь! — скажет он. Я так давно тебя жду! Ты мне поможешь? Надо срочно отправить несколько писем. Всегда я отвечаю с опозданием. Поможешь? Да?
Конечно, с удовольствием.
Но у его изголовья я расстаюсь со светлыми мечтами. Я не нужна ему. Нисколько.
И я опять погрузилась в воспоминания. Жалела, что он не взялся за книгу об Африке. Он тебе рассказывал о той поездке? Показать фотографии? Вот, гляди, это Дагомея, вот Абиджан — Берег Слоновой Кости, а это Либерия…
Сколько здесь интересного! Знаешь, он сам жалел, что ничего не сделал. Из Женевы писал…
1959:
Мне жаль, но книгу об Африке я и не смог бы написать. Я уже отошел от всего этого. Мне не терпится закончить свою работу. И чем больше я углубляюсь в эти исследования, тем необъятнее представляется мне моя тема.
А сегодня день моего рождения, опять я постарел на год. Печально, но ничего не поделаешь. Однако я не чувствую себя старым, скорее просто пожилым.
Пригласил я, значит, этого пожилого господина в ресторан, и выпили мы с ним по бокалу «божоле». Спасибо за поздравления! Жду твоего звонка, ведь ты позвонишь, я не ошибаюсь?
Он не ошибался. Я целую вечность ждала вызова, а когда наконец меня соединили, мы оба вдруг словно онемели. Так были взволнованны. И долго молчали — каждый на своем конце провода. А потом все-таки условились, что Новый год будем встречать где-нибудь в наших горах.
Например, на Комне, идет?
Идет. Но еще обсудим!
Нет, нет, обещай!
Обещаю!
И вскоре телеграмма: приезжаю тридцатого.
Телеграмму я показала сначала Брине, потом Фране и, наконец, обоим вместе.
Ура! Он приезжает! Он обещал поехать с нами на Комну! Здорово, правда?
Но Фране не выглядит очень уж обрадованным.
В чем дело?
Видишь ли, долгая, утомительная поездка, и в тот же день на Комну, он вообще-то бывал в горах?
Я пожала плечами.
Брина — оптимист. Великолепно, засмеялась она, у меня по крайней мере будет спутник, а то я всегда последняя!
Конечно, в тон ей откликнулась я, почему бы ему не подняться на вершину? Пойдем медленно, не торопясь, как-нибудь доберемся, чего ты боишься?
Он не привык много ходить, не сдавался Фране. Пройдет чуть-чуть и останавливается. То что-то рассказывает, то восхищается природой, в горы так не поднимаются.
А вы, хмурится Брина, упретесь лбом в камень и даже не замечаете, что растет у дороги. Все равно что на небоскреб лезете. Для вас нет никакой разницы!
Не будем спорить, вмешиваюсь я. Каждый пойдет так, как ему хочется. Главное — добраться до вершины и встретить Новый год в горах.
Ты знаешь, каким поездом он приезжает?
Конечно. Пойдете со мной встречать?
Разумеется.
Мы обо всем договорились, и мне остается только ждать.
И ожидая, я мысленно брожу по Женеве, там, где мы когда-то были вместе. Вместе или порознь, какая разница!..
Как, ты уже видела эти старинные резные двери? А когда ты там была? Нет, мы должны пойти туда вместе, непременно!
И вот я иду по Женеве. Стрелки часов приближаются к четверти.
Он скоро закончит работу. Секретарша ставит на полки толстые папки.
C’est tout, monsieur?[15]
Да, ключи, вспоминает он и снимает с кольца ключи от кабинета, письменного стола и шкафа.
Voila, и вручает их ей, c’est tout[16].
Секретарше очень жаль, что она больше не будет с ним работать, впрочем, он ведь еще вернется, не так ли?
C’est possible[17], улыбается он и идет по длинному коридору от кабинета к кабинету.
Поразительно, как сближает людей работа! И как быстро человек ко всему привыкает, привязывается.
Hallo, you are leaving? What a shame![18]
До свиданья, счастливо!
Потом он спускается в кафетерий. Быстро съедает бутерброд и выпивает кофе.
Да, надо еще купить зимнюю одежду и снаряжение. Успею? Смотрит на часы. Времени хватит.
Он опоздал. Автобус только что ушел. Придется идти пешком.
Но вот он добрался до магазина, который я ему указала.
Ты без всяких хлопот приобретешь там все, что нужно, писала я. Тебе еще и посоветуют!
Продавщица действительно выносит навстречу гору белых коробок, демонстрируя горнолыжные ботинки всевозможных фасонов.
Он в растерянности рассматривает эту обувь, не зная, какую ему выбрать, пускай она ему посоветует…
Конечно, monsieur, я бы порекомендовала вам эти… Они удобные, теплые и продаются по сниженной цене!
Хорошо, я возьму их.
Куртка с капюшоном. Очень удобная застежка, видите? Что еще?
Спортивные брюки и теплые носки. Еще что?
Сколько же ненужных вещей она ему навязала. Что поделаешь, торговля есть торговля.
С большим свертком прямо из магазина он спешит на вокзал. Там он оставляет сверток в камере хранения и возвращается в город проститься с друзьями.
Говорят, что время и расстояние разрушают дружбу. Это верно. Новая работа и новые заботы стирают старое. Письма становятся все более и более редкими и в конце концов перестают приходить. Это так.
Но бывают друзья, к которым это не относится. С ними можно увидеться спустя десятилетия и продолжить разговор, который пришлось в спешке прервать.
Такая дружба не имеет цены. Amici più unici che rari[19], говорят итальянцы. Именно таковы были Давид и Элизабет, с которыми он в последний раз ужинал в Женеве. Они так увлеклись беседой, что совершенно забыли о поезде. Когда вспомнили, было слишком поздно.
Вот это номер! — воскликнул Давид и поспешил в гараж, чтобы отвезти его на машине в Лозанну.
Шоссе из Женевы в Лозанну он знает как свои пять пальцев. Сколько раз мы вместе ездили по нему и не переставали удивляться его однообразию.
Сравнить, например, эти восемьдесят километров с шоссе Любляна — Сежана…
Сейчас, правда, ночь и за окном темень. Они все говорят и говорят, а Элизабет лихо ведет машину.
И вот Лозанна. Прощаемся?
Нет, нет, мы с тобой!
Не нужно, возвращайтесь, поздно уже!..
Они помогли ему внести багаж, устроили в купе.
Взволнованный, он стоял у окна и улыбался им…
Hallo, hallo, we’ll be seeing you![20]
И он тоже кричал им что-то, по пояс высунувшись в окно.
На другой день мы встречали его.
С нетерпением расхаживали по перрону и все посматривали в ту сторону, откуда должен был появиться «скорый».
А когда мы уже почти забыли о поезде и стали толковать о лыжах и трамплинах, когда наши мысли уже витали возле покрытого снегом Богатина, показался поезд.
Все ближе, все громче…
И не успели еще вагоны остановиться, как я его увидела. Он спустился со ступенек в полном альпинистском снаряжении.
Ура!!!
* * *
А потом пришло лето с незабываемыми прогулками в горы. Комна была лишь началом! Мы поднимались на Воглу и на Орлову главу, по Усковнице до Планики, и если бы нам не помешали дожди, то, вероятно, забрались бы на самую вершину Триглава!
Открытие Тихой долины было, конечно, венцом всего, я согласна. Через Коньщицу к Драшским вершинам…
Ты думаешь, хватит сил?
Но почему же нет?
Вы обо мне говорите? — спросил он. Все гадаете, хватит ли у меня сил? А я вот назло вам пойду первым и буду ждать вас на самой вершине!
И вот мы оказались в Тихой долине. Которая вовсе не долина, а маленькая, окруженная горами поляна. Только вступишь на нее, и тебя вдруг охватывает густая, умиротворяющая тишина. Она словно подкрадывается на мягких лапах и принимает тебя в свои крепкие объятия. Даже родничок, певуче журчащий под скалами, не нарушает ее.
Бездонное голубое небо лежит над горами, и на душе становится покойно и мирно.
Остальные догнали нас, и волшебство рассеялось. Только тогда мы взглянули на окружающее трезвыми глазами и заметили тропинку, круто уходившую вверх к распятию.
Тропинка не слишком крута?
Тебя опять беспокоит, хватит ли у меня сил? — усмехнулся он.
Нет, нет, ничуть! — улыбнулась я, тогда меня в самом деле ничто не беспокоило.
ЗИМА
Как долго он дремлет?
У меня над головой Сашин голос. Невольно вздрагиваю. Даже не слышала, как она вошла.
О, я не знала, что ты здесь.
Все с бо́льшим трудом переношу я врачей. Их всезнающие, пронзительные взгляды, которыми они смотрят на него. Их застывшие улыбки, когда они слушают мои теории о жизненной силе. Правда, теперь я говорю об этом реже.
Саша стоит у постели и слушает его пульс.
Конечно, она — исключение. Множество хороших и горьких воспоминаний сближает нас. Все последние десятилетия связаны с ней. Она была с нами в самые трудные, самые значительные минуты. Например, когда мы возвращались с Цейлона и сердце у нас готово было разорваться от любви к родной земле.
1955/56:
Мы подъезжали к Сежане, и нам было трудно справиться со своим волнением.
Он чувствовал, что подошел к новому рубежу своей жизни. Age Limit[21]. Надо спешить, чтобы отдать людям богатства ума и сердца, накопленные за долгие годы. Он еще понадобится людям. Он будет им нужен.
Конечно, согласилась я, а как хорошо, что мы дома. Смотри! Ты видишь? Нас встречают. Эй, эй, Са-а-аша, Дра-аго!
Они нас заметили, машут руками.
Тонкая, в перчатке, рука Саши мечется как птица. Как испуганная птица. И большая трудовая ладонь Драго описывает широкие круги. Словно притягивает к себе поезд. Все ближе и ближе.
А дома новый сюрприз.
Только я стала искать ключ, дверь распахнулась и на пороге предстала кто? Шьора Ана, хранительница нашего очага.
Руки сложены над белым ослепительным передником, волосы гладко зачесаны и собраны на затылке в пучок. В глазах — сверкающие звезды.
Мы обнимаем ее, и все вместе входим в комнату.
Неужели мы снова дома!
Все будет хорошо! — ободряю я его.
Вскоре он с головой ушел в работу. Его избрали деканом медицинского факультета, и, кроме того, он стал читать лекции по введению в медицину.
Не тяжело тебе будет?
Тяжело? — Он изумленно глядит на меня. Да разве может быть большее наслаждение, чем отдавать свои знания людям?
И однако…
Да, да, конечно, чувство меры, умение соразмерять свои силы! Все это я от тебя уже слышал! Не беспокойся, я помню об этом!
Он по-прежнему серьезно готовился к лекциям, засиживался далеко за полночь.
Сколько ты еще будешь работать? Почему не бережешь себя? — хотелось мне спросить, но я заранее была уверена, что услышу в ответ: молодежи — все наши знания!
Ты не знаешь сегодняшнюю молодежь! Я вхожу в аудиторию, как в храм; когда я вижу их глаза…
…критически на тебя смотрящие?
Да, критические, но разумные и честные… И представляешь, я теряюсь. Мне хочется самому стать богаче, чтобы дать им как можно больше.
Последнее время у нас все поглощены реформой университетского образования. Собственно говоря, ее проводят уже давно, но пока без успеха. Как заставить врача стать ученым-теоретиком, если уже завтра он должен выйти к больным и заняться практической медициной? Как совместить?
А фельдшеры во время войны?
Во время войны — иное дело. Тогда у этих слабо подготовленных и наскоро обученных лекарей была какая-то практика. А мы исподволь знакомили их с теорией. Сейчас же…
Не так уж это нереально!
Это абсолютно нереально! Кому в голову такое могло прийти, почему, перед тем как приступить к реформе, они не посоветовались со специалистами?
Но ведь…
Для чего тогда вообще существуют специалисты?
Ну, ну, не волнуйся, в конце концов все встанет на место!
Бог знает сколько различных комиссий занималось этими проблемами. Он тоже работал в одной из комиссий — с утра до вечера. Они всерьез отнеслись к своей задаче, старались совместить определенные рекомендации руководства с суждениями специалистов.
Сколько энергии было потрачено впустую! Сколько рабочих дней выброшено на ветер! Напряженнейшая работа, но практически ничего сделать не удалось.
Кому все это было нужно? И почему такая спешка? Все так не продумано, не подготовлено. Скольких людей это повергло в состояние отчаяния и бессилия. Разве мы кругом дураки? Беда в том, что, когда речь заходит о серьезном деле, тебя не спрашивают! Просто-напросто ставят перед свершившимся фактом — и давай, жми! Осуществляй проект, который неосуществим!
Только пережили одну перестройку, как на тебе — новая реорганизация!
И тоже не последняя! Жизнь надо принимать такой, какая есть. Изменить ее ты не изменишь. Делай свое дело и не пускайся в рассуждения! Они только портят настроение и подрывают здоровье! Нынче не такое время. Нынче следует принимать все как есть. Ведь по этому поводу создали даже целую теорию! Нашел теплое местечко, ну и не высовывай нос на мороз! Береги себя и свое, свое, свое — об остальном забудь! Зажмурься, когда смотришь вперед! Да гляди под ноги, чтоб не споткнуться, а прочее пусть летит ко всем чертям!..
* * *
Тогдашние проблемы теперь так далеко! Прежде всего далеко от него.
Саша, как всегда, не отходит от его изголовья. Вот ее гибкие пальцы скользят по его шее. Точно тонкие гусеницы. Аорта. Каротиды. А теперь она просматривает историю болезни. Как долго!
Сварить кофе?
Саша смотрит на часы. Вечно она спешит.
Ну только если быстро, мне надо торопиться!
Она всегда спешит! Сколько я ее помню. А как она всех подгоняла, когда строилось институтское здание! Институту она отдавала все свои силы, все свои помыслы, обучала кадры, выводила их на арену практической деятельности. Она считала, что нужно создавать новый тип научного учреждения, где бы наилучшим образом сочетались теория и практика, профилактика, диагностика, терапия заболевания. Она отстаивала свою концепцию, пропагандируя ее где только могла. У нее нашлось много сторонников за рубежом, ее концепция была признана Всемирной Организацией Здравоохранения. А дома к ней относились так, будто она проповедовала чушь и ересь. Она сражалась в одиночку, но не падала духом.
И до каких пор ты будешь биться?
Не знаю. Предел у людей разный.
Пока черпаешь силу в работе, происходит процесс постоянной регенерации, и усталость не ощущается. Но как только теряешь перспективу, неважно, по какой причине, — нарушается гармония! Вот тогда тебе конец. Тогда тебя начинают одолевать болезни, не важно какие, любые, к каким ты восприимчив!
И все-таки надо сражаться!
Саша внимательно смотрит на меня. Она хочет, чтобы я ей открылась, хочет понять, действительно ли я верю в чудеса.
Ты не забыла, осторожно начала она, глядя на меня исподлобья, в тот день, когда к нему вернулось сознание, я была здесь?
Да, я помню!
Ведь он тогда нас вообще не узнал! Дочь он назвал сестрой… помнишь?
Да.
Мы вместе наблюдали, как он просыпался. Удивленным взглядом медленно обвел комнату. Словно возвратился после долгого отсутствия.
Мы молчали. Дали ему время осмотреться да оглядеться. И тут пришла Неда.
Леночка! — воскликнул он обрадованно. Ханнерль, Ханнерль, погоди у меня, чертенок! И даже пытался погрозить ей судорожно сведенным пальцем.
Из глаз Неды брызнули слезы. Она только что вернулась с похорон его сестры.
Я мысленно просила ее — держись!
А он повернул ко мне голову и улыбнулся — видишь, какая? Стоит ей пальцем погрозить, и она уже в слезах… Я ведь шучу!
Не надо ее дразнить, перестань! — ласково попросила я.
Но потом он узнал свою дочь.
Разве? Я что-то не помню!
Это произошло позже, когда ты ушла. А пришли ребята. Они все трое стояли вон там. И вдруг…
Вдруг он умоляюще посмотрел на меня и протянул к ним руки. Он хотел что-то сказать, но не мог.
Я подошла и соединила их руки. Я понимала, чего он хочет.
Он поблагодарил меня взглядом и отчетливо произнес: всегда будьте вместе — вот так, и коснулся моей руки.
* * *
Он опять погрузился в сон, до меня доносится только его слабый хрип.
Перехожу из одной комнаты в другую. А совсем недавно мне казалось, будто кризис миновал. Когда это было — дней десять назад?
Стою у окна, гляжу в парк — и ничего не вижу. Неужели опять его состояние… нет, нет, мне невыносимо это слово — «ухудшилось». Оно всегда первым приходит в голову, хотя я его терпеть не могу.
Что-то нужно предпринять, что-то сделать. Нужно снова искать. Мы не должны подчиняться обстоятельствам.
Ох, чего только мы не перепробовали за эти бесконечно долгие и так быстро пролетевшие последние годы! От известных лекарств до психотерапии, наркотиков и гомеопатии. Ты лучше чувствуешь себя?
Как нельзя лучше, смеялся он. Ведь должно же помочь!
Сначала мне казалось, что его недуг скоро пройдет. Я каждый день возила его на работу в институт, и хотя он уже ничего не мог делать, сам факт, что он на своем рабочем месте, оказывал на него положительное воздействие. Сохранялось ощущение, что он кому-то нужен. Он разбирал бумаги, перекладывал их из папки в папку. Непослушными пальцами раскладывал марки по конвертам, чтобы отнести детям. И всегда радовался, когда к нему обращались за помощью. Люди по-прежнему охотно делились с ним своими большими и маленькими заботами. Приходили коллеги, друзья, больные. Приходили служащие.
Заехать за тобой после двух?
Нет, сегодня я посижу до вечера, я сам тебе позвоню.
Конечно, я знала, что долго он не просидит. И в самом деле, как только я переступала порог квартиры, раздавался телефонный звонок.
Я бы поехал домой, если ты не возражаешь, а когда ты сможешь сюда приехать?
Все чаще и чаще его охватывала гнетущая тоска. Он не мог примириться с бездельем. Его по-прежнему тянуло к людям, к своим сотрудникам. Но работать, как прежде, он был не в состоянии. И ничем не заполненное время всей своей тяжестью навалилось на него, и у него не хватало сил с ним справляться.
К Борису не поедем? На полчасика…
У Бориса, как водится, мы сидели дольше. Борис, Мета и Мик. Старые, добрые друзья. Они относились к нему просто и сердечно и старались не замечать, как он изменился. И ему всегда было приятно у них бывать.
Тогда мне еще казалось, что все образуется.
Даже когда у него начались галлюцинации…
Однажды мы ужинали у Генри и Польди. Польди всегда поражала нас своим кулинарным искусством. Он сел за стол, протянул руку к салфетке, и вдруг рука его застыла в воздухе.
Эге, он обвел нас изумленным взглядом, видели?
Никто ничего не заметил.
Вы не видели маленькую букашку?.. Она только что сидела на моей салфетке, и вдруг — вжжж — улетела.
Ничего не понимая, мы глядели на него.
Ты тоже не видел? — он повернулся к Генри. Крохотная букашка, похожая на крокодильчика, а? Она еще зажужжала, прежде чем улететь. Только что она была здесь…
Генри внимательно слушал его. Понимаешь, неуверенно начал он, очень может быть, такие букашки-крокодильчики существуют, но…
Да, да, он замахал руками, она промелькнула как молния. Ты думаешь, у меня галлюцинации, но я прекрасно слышал. У самого уха пролетела. Ну ладно, спрошу у энтомолога.
Когда я привезла его в санаторий, стало еще хуже, а я не была к этому готова…
1968:
В ту субботу после обеда мы довольно долго гуляли. Трижды обошли парк, а потом направились вдоль берега реки. Я даже удивилась, как легко он идет.
Сегодня мне хорошо, сказал он, но все-таки хочется полежать.
Мы вернулись в комнату, и он вскоре задремал.
Не знаю, долго ли я читала, вдруг раздался его полный ужаса крик.
Гляди, вот они!
Я бросилась к нему.
Приподнявшись на локте, он с ужасом смотрел в угол. И лицо его было багровым.
Что с тобой?
Тише, тише, они услышат, он приложил палец к губам.
В чем дело? — спрашивала я. Тебе что-нибудь показалось?
Да нет, я их наяву видел! Два черных человека. Только что стояли в дверях. Двое в масках. А теперь там никого нет!
Запереть дверь? — спокойно спросила я, хотя знала, что она заперта.
Запри, запри, обрадовался он, голос у него дрожал.
Я подошла к двери, загремела ключом.
Иногда, знаешь, больные по ошибке заходят не в свои палаты.
Ты так думаешь? — с тревогой спросил он.
Стараясь отвлечь его, я стала говорить о книге, которую только что читала.
А он вскоре снова уснул. Вот тогда мне стало страшно. Что с ним? Поговорить с врачами? Позвать Владо?
Ночью галлюцинации повторились. Он вскочил, но, увидев меня рядом в освещенной комнате, мигом успокоился.
Те же самые были, твердил он, что и днем!
Он не захотел больше оставаться в санатории, и мы вернулись домой.
В тот же день я позвонила Владо. Мы решили, что нужно обратиться к психиатру.
На другое утро он проснулся в прекрасном настроении. В назначенный час явились Владо и врач-психиатр, и он им очевидно обрадовался.
А, гости, как приятно! А с вами, коллега, мы давно не виделись!
Да, растерянно ответил врач, в последний раз как будто в Белграде…
Да нет же, товарищ! Последний раз мы встречались на праздновании Прешерновой[22] годовщины, вы забыли? Вы рассказывали мне о своей заграничной поездке…
А ведь верно! Поразительно, как вы это помните!
Я даже помню, в каких городах вы были…
Психиатр внимательно слушал, изредка поглядывая то на меня, то на Владо. Он явно недоумевал — кто здесь больной?
Но тогда, хоть и происходили непонятные вещи, я верила, что он скоро поправится. А сейчас…
А сейчас я знаю, он скоро придет в себя. Но если он будет в возбужденном состоянии, то мне легче не станет. В такие минуты мне очень трудно за ним угнаться. Особенно, если он возвращается в прошлое, к тем временам, когда мы не были вместе. Я не сразу нахожу нужный тон, с трудом припоминаю, как благоухали цветы, о которых он рассказывал, какими живописными были пейзажи, которых я не видела, мне не казались смешными его детские шалости.
Ты помнишь? — настойчиво спрашивал он, не сводя с меня глаз, неужто забыла? Ленка тогда была совсем маленькой! Маленькая, пухленькая и юркая как угорь! Ты будешь сидеть на месте, егоза, а она — фрр! — и нет ее! Только звонкий смех доносится откуда-то из-за дома! Помнишь?
Я помнила.
Что же мне оставалось делать?
А потом, когда я вернулся с войны… с той, первой мировой, все не мог наглядеться на свою милую Леночку! Какой она стала взрослой, настоящая барышня!.. Ты опять шалишь? Ты что, забыла, что я твой старший брат и ты должна меня слушаться?
И он хмурился. Притворялся строгим, а в уголках губ таилась счастливая улыбка.
Ты поняла, Ленка? Слу-шаться! Ясно? Ох ты моя глупышка, громко смеялся он, да ведь я тебе ничего не сделаю! Ты только погляди на нее! Чуть что в слезы. Ну что ты? Милая. Недица моя, ведь я пошутил! Ну посмотри на меня, вот так… Ох, не могу повернуться… Ты мне поможешь?
Конечно, помогу.
Я поправляла постель, подкладывала подушки и не могла избавиться от ощущения страха, который лишь усиливала его болтовня. Он лихо проскакивал десятилетия, для него не существовало границы между минувшим и настоящим. Надо успокоиться, надо взять себя в руки! Я должна все испробовать, вдруг поможет. И в самом деле, ведь для мысли нет границ. Почему бы мне не последовать за ним? Сейчас я сестра, потом дочь, мать, жена. Далекое прошлое, конец первой мировой войны и сегодняшний день — почему бы их не воспринимать как одно мгновенье. Почему?
Тебе лучше? Хочешь пить?
…Ты знаешь, я часто путаю Елену и Неду! Неда давно уже не приходила, она звонила тебе? Не больна ли? Беспокоюсь я за нее, здоровьем похвастать она не может. Помню, вернулся я с войны, а она была такая худенькая… Да это и понятно, мама мне потом рассказывала, что им пришлось пережить в годы войны… Но Лена скоро поправилась. И когда приезжала ко мне в Вену, выглядела уже совсем здоровой… Ты шторы не задернешь? Свет мне режет глаза. Теперь хорошо. Надо бы к окулисту сходить. Все время у меня перед глазами какие-то пятна, точки. Вон в том углу. Как будто mouches volantes — летающие мушки… шпанские? Вот видишь, а в Испании мы еще но были, а так хотелось. Но пока правит Франко, нам делать там нечего. Ты хочешь что-то сказать? Нет? Я не слишком много говорю? Сегодня слова у меня сами собой слетают с губ. А мысли уносятся далеко-далеко. Я с трудом поспеваю за ними. Ты заметила? Я пытаюсь следовать за ними… Пытаюсь удерживать вожжи, ну-ну, вот так! Нет, лежать не очень удобно. Каждую пружинку спина чувствует. Ты не могла бы…
Но только желания мало. Неподвижное тело обладает невероятной тяжестью. Одной мне не справиться.
Бегу за сестрой. Вместе мы переложили его, перестелили постель. Я не могу уже уследить за словами, которые у него налетают, наскакивают друг на друга, пока он погружается в бездну.
* * *
Первый миг пробуждения, когда человек с трудом вырывается из объятий Морфея и, лениво потягиваясь, высвобождается от паутины сновидений, — этот первый миг для меня, как всегда, самый радостный. Точно с новым днем заново начинается жизнь. Точно вовсе не было вчерашнего вечера, отравленного тоской и болью. Темная ночь, в которой ничего нельзя различить, вбирает в себя все ночные кошмары.
Сегодня утром я чувствую себя рожденной из морской пены. Разумеется, это только сперва. Позже… позже все вечерние беды опять обрушиваются на меня. Чуть погодя выясняется, что и это утро — всего лишь продолжение вчерашнего дня, вчерашнего бытия, которое уже изначально движется к своему концу.
Ну? И каким же должен быть человек после такого пробуждения? Разумеется, бодрым.
Иногда мне даже выпадает счастье сохранить бодрость на целый день. Работа сама по себе уже источник бодрости. Она легко избавляет человека от многих неприятных мыслей. На работе некогда искать у себя пульс и отсчитывать его биение. Ты во власти тягот и бед других людей и потому забываешь о собственных.
Зато, когда кончается рабочий день, тяжелее.
По дороге в больницу, например, я уже напрягаю силы, чтобы отогнать усталость, боль и заботы, одолевающие меня.
А у его изголовья силы иссякают. Мне не на что опереться, чтобы сохраните бодрость. Она ускользает. И даже если мне удается ее удержать, он этого не замечает, мои усилия для него ровным счетом ничего не значат.
Он тихо хрипит. Нет, нет, еще нет!
Я опускаюсь рядом и начинаю равномерно поглаживать ему затылок. Легкий массаж — не могу видеть его угасшее лицо, его сжатые кулаки.
И вдруг я чувствую на себе его взгляд. Широко раскрытые глаза устремлены прямо на меня.
Ты проснулся? — глупо спросила я, только для того, чтобы что-то сказать, и машинально принялась массировать ему руку.
Он пристально смотрит на меня. Тепло, ласково, умоляюще.
Как ты себя чувствуешь?
Только взглядом он попытался ответить.
Он никогда не жаловался. Даже глаза его. Они оставались ясными и необычайно добрыми.
Пусть свыкнется с обстановкой, сказала я себе. Я должна говорить, должна дать ему время высвободиться из тяжких оков.
Какие сегодня чудесные горы и как они сверкают под солнцем! Они совсем близко. Хочется протянуть руку и коснуться их. Отчетливо видна каждая впадина и темно-фиолетовые тени ущелий. Удивительно красиво! Как театральные кулисы в глубине сцены. Яркая, веселая декорация…
Он медленно приходил в себя.
Ты знаешь, с трудом произнес он, не хочу умирать, еще рано! Улыбка чуть оживила застывшие черты лица. Широко раскрытые глаза устремлены на меня и готовы меня поглотить.
Ну что ты, я же с тобой, поспешно возразила я. Ведь я здесь для того, чтобы ничего не случилось!
Столько дел, которые я начал… Их надо закончить…
Времени хватит, не беспокойся!
Не знаю, не знаю. У меня голова перестает работать. Веки его дрогнули. То говорят — давай вправо, потом — влево, то одно неверно, то другое… Понимаешь, как сложно! Теперь у меня в голове такая каша, что я не в силах управлять своим телом. Руки вот с трудом поднимаю, не слушаются больше, видишь?
А ты в самом деле хочешь их поднять? Ты пытался? — пошутила я. Сколько раз ты пытался?
Еще ни разу! — улыбнулся он. Я ведь знаю, вышло бы, если б я всерьез попытался. А теперь нет времени, надо ехать, ты забыла? Ты знаешь, мне нужно в Джафну, он забеспокоился, ты разве не заправилась, как я тебя просил?
Ага, значит, мы опять на Цейлоне. Я смотрела, как дрожит его правая рука. Попыталась подложить подушку, но он нервно оттолкнул меня.
Ну, пожалуйста, идем, наконец, мы опоздаем! И надо к Вильсону заглянуть.
Но ведь Вильсона не будет дома, возразила я, пытаясь не оборвать эту тоненькую ниточку.
В самом деле! Тогда поищем его на обратном пути. Или поедем в Велисаро, он должен быть там. Диспансер давно обязаны были открыть, не понимаю, чего они тянут…
И опять мы ехали через джунгли, смотрели на огромных аллигаторов, которые блаженствовали в теплых лужах вдоль шоссе, любовались озорными обезьянами, перелетавшими с ветки на ветку.
Но так было раньше — не помню уж когда. Сейчас все иначе. Он не откликается, когда я массирую ему руку, бездумно, механически. Раз, другой, третий.
Его руки как будто ему не принадлежат. Они так крепко сжимаются в кулаки, что пальцы уже не распрямить.
А прежде… Как много он успевал сделать этими вот руками.
…я люблю выслушивать больного своим ухом, простукивать своими пальцами, порой именно это оказывается самым надежным. Хороший, неторопливый разговор с больным и осмотр его говорят мне гораздо больше, чем снимки и анализы.
А техника?
Техника тоже важна. Она помогает врачу, но заменить его не может. Пальцами я могу обнаружить малейшее поражение в легких. Разговаривая с больным, я узнаю еще больше. Но если бы у меня не было непосредственного контакта с больным, вспомогательные средства мне помогли бы очень мало. Да, человеческая рука — превосходный инструмент.
Этими вот руками…
Этими вот руками он делал из бумаги невероятно маленькие кораблики.
Сделать еще меньше? — спрашивал он ребенка и ставил перед ним крохотную ладью.
Сделай, у того округлялись от изумления глаза, а ты сможешь?
Он мог.
И своими грубыми пальцами складывал совсем крохотный кораблик. Это будет самое маленькое суденышко в мире, оно уместится на ладошке, а другая ладошка позаботится, чтобы его не сдуло ветром.
Я перестала растирать ему руки. Скоро придет врач. Он расскажет о результатах последних анализов. Может быть, они совсем иные? Может быть, они лучше?
Машинально беру листок с письменного стола и начинаю складывать кораблик. Почему это я вдруг? Ведь у меня никогда не получалось так искусно, как у него. А если сейчас выйдет? Если б мне сейчас улыбнулось счастье… и я бы сложила крохотный бумажный кораблик… если бы… если…
Вот уже сколько времени я обманываю себя этими «если». Если сегодня Шпела будет дежурить, то все будет хорошо! Если сегодня, когда я войду к нему, он не будет дремать… Если… если…
Однако бумага меня не слушается. А может, виноваты пальцы, искривленные ревматизмом.
Пробую еще раз. А врача все нет. Вдруг он вообще не придет! Ага, вот он, кораблик! Правда, очень нескладный! Борта неровные, а вот здесь, слева, зияет дыра. Как глубокая рана. Сделать еще один? Кто там?
Голова сама поворачивается к двери.
Мы некстати? Ты кого-то ждешь?
Врача.
Дрея и Блаж смущенно улыбаются.
А к нему можно?
Конечно, если он не спит…
Первой вхожу к нему в комнату и сразу замечаю, что глаза у него открыты.
Да ты вовсе не спишь, обрадовалась я.
Он молча кивнул. Перевел взгляд на гостей. Потом посмотрел на меня, дескать, кто эта пара?
Это Дрея, ты его не узнаешь?
Дрея? Ну как же, он улыбнулся. Я люблю этого парня!
Его рука чуть шевельнулась на одеяле.
И Блаж здесь, ты видишь?
Он медленно перевел взгляд с лица Дреи на Блажа. Пристально посмотрел, но не узнал.
Здравствуйте, произнес Блаж, как дела?
Ага! Теперь он узнал. Что-то промелькнуло в его взгляде.
Теперь ты знаешь, кто это, да?
Ну, как же! Я очень рад, что он пришел. Это прекрасный парень и ничуть не похож на своего отца, который… который…
…который был по существу «eine niedrige Kreatur…»[23]
Погоди, погоди… Ты что-то, наверное, перепутал? Дрея недоумевал.
Но глаза его уже закрыты, он в забытьи.
Блаж понимал и не обижался. Еще ребенком, в Бари, он явился свидетелем их ссоры, повинен в которой был его отец. Они схватились у всех на глазах. И хотя с тех пор прошла целая вечность, понимал, что обида осталась!
Однако меня это удивило. Он так редко отзывался о людях плохо! Обычно ко всем был настроен дружелюбно.
Э-э-эй! Э-э-эй!
Мы здесь, здесь! Я думала, ты уснул.
Он энергично покачал головой. Знаешь, начал он торопливо, и мы понимаем, что он говорит Блажу, хотя и не глядит на него. Знаешь, ты не обращай внимания на мои слова. Я ведь уже забыл о той истории! Так, с языка сорвалось, и я жалею об этом… Нельзя пачкать общий сосуд…
Сестра Шпела уже здесь. Она всегда появляется в нужный момент.
Мы повернемся? — весело спрашивает она. И он улыбается ей в ответ.
Ласковая сестра — подлинный дар господень! А здесь прекрасные сестры. Они только переступают порог, и в палате словно становится светлее. Я еще ни разу не видела их хмурыми или в дурном настроении. Поправляя постель, давая лекарства, они все время говорят что-то ласковое: вот, вечером мы искупаемся, а завтра будет прекрасная погода, и тогда посидим на веранде…
Мы переложили его на другой бок, и он уснул.
В соседней комнате Шпела поставила кофе и настежь распахнула окно.
Что он имел в виду, когда говорил о сосуде? — спросил Дрея, устремив на меня свои большие задумчивые глаза.
Ах, это!
Мне бы не хотелось, чтоб они смеялись надо мной. Хотя я-то знаю, что́ он имел в виду. Много раз, уже будучи больным, он говорил, что мир напоминает ему некий огромный сосуд. Впервые я услышала об этом несколько недель назад.
Послушай, что я тебе скажу. Это очень важно. Ты должна понять, мир — это огромный сосуд, составленный из живых людей. Понимаешь?
Я кивнула.
Ну вот, следовательно, большой сосуд всех людей, сколько нас ни есть на белом свете! Ясно, что мы обязаны заботиться о том, чтобы он оставался чистым, если хотим в нем жить. Ты понимаешь, должны. Ведь из нас, из людей, и сделан этот сосуд. Ты слушаешь?
Я пересела поближе и втиснула в его кулак детский резиновый мячик. Пусть думает, будто я в самом деле его слушаю.
Внимательно слушаю, продолжай!
А если мы сливаем в него грязь… Ты знаешь, что я имею в виду, да? То вся эта пакость неизбежно пристанет к нам же, коль скоро мы сами часть этого сосуда… Вот почему этические нормы всех древних религий совпадают… Не желай дома ближнего своего… и так далее. Сосуд составлен из живых людей, к которым всяческая нечисть пристает очень быстро! И мы не должны его пачкать дурными помыслами, словами, деяниями… Ты понимаешь? Согласна? Я сам понял это поздно, хотя подсознательно всю жизнь старался не пачкать этот сосуд.
Я невольно улыбнулась.
Даже и сейчас при воспоминании об этом разговоре я улыбаюсь. Нет смысла разъяснять им все это, лучше в другой раз! Ну, как вы его нашли?
Вполне в норме, ведь он нас быстро узнал!
Притворяются. Выдумывают или в самом деле не видят в нем перемены. А мне кажется, он очень плох. И просыпается все реже. Тяжелый дурманящий сон изо дня в день… Ох, я уже сама не знаю, чего требую от людей. Когда друзья обеспокоены, мне не по себе… Ведь я-то знаю, ему сейчас не так худо! И пока в человеке тлеет искра жизни… Если же я вижу, как вот сейчас, что друзья удовлетворены его состоянием… я недовольна. Они лгут, думаю я. Явно лгут. Чего я в конце концов хочу? Я должна взять себя в руки. Я слишком ослабила узду, в этом все дело.
Целую ночь мне снится этот сосуд, на который я теперь гляжу с большой высоты, и он кажется мне радужным, удивительно красивым. Надо разглядеть его вблизи, говорю я себе, делаю глубокий вдох и стремительно взлетаю еще выше. Парю. Лечу. Потом спускаюсь. Все ниже и ниже. Замираю в воздухе над этим прекрасным сосудом. Смотрите! Подо мною люди различных рас, различного пола и возраста. Сосуда больше нет. Там, внизу, лишь бесформенный муравейник — черным-черно от людей, мешающих жить друг другу. Они ходят по ногам, по рукам, по головам, плюют друг другу в лицо, стреляют.
Меня охватывает ужас. Что вы делаете? Не нужно, умоляю я, не нужно! Я кричу во весь голос, хотя знаю, что никто не слышит меня, перестаньте! Что вы делаете? Неужели вам непонятно, что так нельзя жить? Успокойтесь, договоритесь между собой, ведь вы люди! Места для всех хватает, почему же вы кидаетесь друг на друга, вы совсем обезумели? Где удивительная гармония сосуда? Ее больше нет, теперь это ад! Что вы творите, аааа? Безууумцы, безууумцы, безуумцы!..
* * *
Оптимизм мой убывает с каждым днем.
Даже по утрам мир уже не кажется мне гармоничным и цельным. Проснувшись, я с трудом открываю глаза, солнце меня раздражает, и во всем теле свинцовая тяжесть. Я не могу понять, откуда это тягостное ощущение, почему я чувствую себя точно рыба, выброшенная на берег.
И потом вдруг вспоминаю: в его состоянии давно нет перемен. Вот и мои силы слабеют. Больной лишает меня их, и я не знаю, где их черпать. Он невольно втягивает меня в свой призрачный мир, в мир своих видений вне времени и пространства.
Смогу ли я следовать за ним? — спрашиваю я себя. Ведь это единственная помощь, которую я в силах ему оказать. Последняя.
Нет. Не хочу думать о том, что будет, если… Я должна находиться в самом центре восьмерки, там, где соприкасаются составляющие ее окружности.
Левый круг. Круг повседневных обязанностей, в нем я вращаюсь машинально. Потому что даже когда все рушится, жизнь идет вперед. И хорошо, что это так.
Беседуешь с посетителями, отвечаешь на истерические телефонные звонки, занимаешься повседневными неотложными делами. Не проходит и часа, как текучка подхватывает тебя и ты ни о чем другом и не думаешь, кроме своей работы.
Но где-то рядом другой круг, громоздкий, мрачный, непроницаемый. Вздохнешь только, вспомнив о нем.
Правый круг — его. Его мир, который сильно изменился, уменьшился за последнее время, утратил связь с реальностью и в который он невольно вовлекает и меня. Когда я возвращаюсь по вечерам домой, мои мысли целиком там, в его мире.
В конце концов, не все ли равно, что подлинно реально и что всего лишь порождение больной фантазии? Ведь реальность так или иначе сохраняется, только сперва ее было больше, вымысла меньше, а теперь, наверное, наоборот.
Когда, собственно говоря, человек умирает? Разве то, что ему сегодня осталось, жизнь?
Да. Это тоже жизнь. Иная, правда, но жизнь. Жизнь, которую он постигает неким глубинным подсознанием, о котором мы мало что знаем. Все реже и реже показывается он на поверхности, и все реже и реже удается ему ухватиться за ту нить, которая нас связывает.
А я по-прежнему надеюсь. Да. Я цепляюсь за соломинку надежды и качаюсь вместе с ней вверх и вниз.
Нелегко. Особенно по вечерам — дома. Квартира живет и дышит. Отзывается его голосом, его шагами по паркету, его тихим стуком в дверь моей комнаты… Выпьешь кофе?
С удовольствием!
Я продолжаю работать, вполслуха прислушиваясь к тому, что делается на кухне. Щелк — зажглась конфорка на плите. Тишина. Наверное, что-то ищет. Вот потекла вода. И опять все стихло. Потом неверные шаги мимо моей двери.
Пора, говорю я себе. Встаю и тихонько отправляюсь на кухню. Мне надо убедиться, что все в порядке. И конечно, в порядке не все. Он насыпал кофе в зернах. Осторожно все исправляю, я не хочу, чтобы он застал меня на месте преступления и понял, что кое-что ему уже не под силу.
Ау! — окликаю его чуть погодя и трижды стучу в тонкую стенку, разделяющую наши комнаты, ау, у тебя кофе выкипит!
Ой, в самом деле, совсем забыл!
Чашечку он держит обеими руками. Не доверяет он им больше.
Такие видения буквально одолевают меня. Стоит мне заняться приготовлением кофе, и я слышу его неуверенные шаги, его голос… а может, я сама уже понемногу схожу с ума?
Вот кресло. Оно пустое, и оно тоже — ожидание. Завтра суббота, говорит оно, завтра ты свободна и можно куда-нибудь пойти. Что ты сказала?
Я ничего не сказала. Только вздохнула.
И окно зовет меня к себе. Подойди посмотри, как он гуляет по двору.
Подойди, ты увидишь, как я твердо ступаю. Кажется, я стал лучше ходить! — весело говорит он. Сама увидишь. Ты останешься у окна?
Я остаюсь. В самом деле, он хорошо идет. Большими шагами, спина прямая. Старается. Знает, что я за ним наблюдаю. Помахивает тростью, постукивает ею.
Далеко ушел, к самой школе. И вдруг исчез! Нет его, нигде нет.
Я по-прежнему стою у окна. На Граде видны маленькие фигурки гуляющих. Во дворе играют дети. Мальчишки катаются на велосипедах. Девочки всякий раз взвизгивают, когда они проносятся мимо.
Он идет. Возвращается. Наверное, забыл, что я торчу у окна. Теперь он идет медленно и мелкими шагами. Сутулый, утомленный. И сердце у меня сжимается в ледяной комок.
Я высовываюсь по пояс в окно. Машу ему. Знаю, это придаст ему сил. Увидел меня, выпрямился, шаг стал шире. И опять машет палкой. Игра для обоих. Передо мной и перед собой разыгрывает здорового.
Ну хватит, говорю я себе, на сегодня хватит. Иди домой, машу я ему, возвращайся!
И спешу по ступенькам вниз, чтобы помочь ему, если понадобится.
Пока не нужно. Моральной поддержки вполне хватает.
Медленно подходит к своей комнате. Ты устал? Хочешь прилечь?
Да, я не прочь вздремнуть. А потом зайдем к Татьянце, к Борису, может быть, к Брацо заглянем или к Шонцовым… Хорошо?
Да, конечно. Только ты отдохни немного. Накрыть тебя?
Он послушно лег и почти сразу же заснул. И спал очень долго, так долго, что уже было поздно идти в гости. Но кое-куда мы еще успеем…
Непременно нужно к больным, которые его ждут. И прежде всего к бабушке Татьянцы, которая уже седьмой год прикована к постели, для нее он — последняя надежда.
Как хорошо, что вы пришли, господин профессор, стоит только вас увидеть, сразу легче становится!
Оба весело смеются, довольные друг другом.
Мы до сих пор не сказали старой женщине, что ее доктор сам лежит в больнице, и лежит уже долгие месяцы. Мы сказали ей, что он уехал. Кто знает, как она приняла бы правду.
Если профессор скоро не вернется, шепнула она мне в прошлый раз, я умру!
Разве можно так, матушка, возразила ей я, а что он скажет, не найдя вас здесь? Дождитесь его, потерпите!
Да ведь я жду, покорно отвечала она, ведь я терплю!
* * *
Опустевшее кресло все чаще подает голос. Философствует, пускается в рассуждения, как совсем недавно он сам.
Он считает, что врач не должен говорить больному всей правды. Не должен говорить, что болезнь неизлечима.
А в Америке, замечает Брацо, даже от раковых больных ничего не скрывают!
Я знаю. Однако убежден, что всю ответственность должен брать на себя врач. Человеку противопоказана мысль о смерти, хотя никто из нас не бессмертен. Каждый надеется победить болезнь и избежать страданий.
А нынешняя молодежь?
Молодежь вообще не думает о смерти. Она озабочена настоящим и считает, что ей жить вечно! Поэтому она так активна, восторженна и беззаботна. С возрастом, конечно, лет в запасе становится меньше… Но я-то не совершал таких ошибок. Я до конца продолжал надеяться вместе со своими больными.
Ты в самом деле надеялся или делал вид ради них?
В самом деле… А что умеет нынешняя медицина? Слишком мало, чтобы избавить людей от страха смерти. Врачи могут только помочь — доброе слово тоже оказывает целебное действие.
Я помню тот разговор. Он сидел вон там в кресле, а мы втроем — вокруг стола. Двое Шонцовых и я.
Но бывают обстоятельства, когда больному нужно сказать всю правду.
Какие же?
Ну вот, если бы я одна кормила семью, неуверенно начала Сека, то хотела бы знать, как долго мне еще остается жить. Мне многое надо подготовить, сделать для своих детей. В этом случае…
Нет, ты не права. В наше время человек часто умирает скоропостижно. Сколько жизней уносят одни только автомобильные катастрофы… По нынешним временам каждый должен принимать это в расчет, даже если он не болен.
Или вот такой случай. У меня был хороший приятель, который, рассуждая примерно так, как ты, захотел узнать всю правду о своем положении. Ему сказали, но, умирая, он пожалел, что знал все. Не уступайте никому, сказал он мне, и молчите!
Мы долго тогда беседовали, а он задремал. Я увела его в спальню, и кресло осталось пустым. Как сейчас. Только, пока он был дома, оно молчало. А теперь подает голос. Оно не вступает в разговор, лишь размышляет вслух.
Пустое кресло удивляется, например, почему я поздно возвращаюсь со службы.
Где это она так долго задерживается, отчего ее нет? — говорит оно, катаясь по коридору у входной двери. Останавливается перед нею и ждет. Через некоторое время ему начинает казаться, будто снизу доносятся шаги… Ну вот, пришла, радуется оно, вернулась!
Ух, наконец-то дома! — встречает меня оно.
Разумеется, звука моих туфель на каучуковой подошве оно слышать не могло. Какое-то иное чувство подсказывает ему, когда я возвращаюсь. Всякий раз приходя с работы, я знаю, что оно ожидает меня у самой двери.
И в комнате много предметов, которые разом подают голос.
Книжный шкаф. До самого последнего дня он не расставался с книгами…
А вот письменный стол. Заваленный бумагами. Последнее время он уже не читал их, только перекладывал.
Вот его марки. Он осторожно отделял их от конвертов и бережно укладывал в коробочки. По странам. И отдельно — изображения птиц и цветов с Цейлона, из Африки, отовсюду.
Ты на эту взгляни, настоящее чудо! Кажется, Тото недавно говорил, будто он собирает марки?
Конечно!
Может, после обеда пойдем к нему, обрадуем, а?
А можно его к нам позвать, если хочешь!
До самого вечера они с Тото разбирали марки, сортировали их пинцетом и в конце концов уселись за шахматы.
Не могу избавиться от воспоминаний. Они лишают меня силы, которой у меня так мало. И это кресло, что таращит свои пустые глаза, выводит меня из равновесия. Хотя это вовсе не настоящее кресло, а обычный раздвижной стул с двумя подушками. Но мы называли его креслом. Он любил его, ему было в нем удобно. Устроившись в нем, он мог смотреть телевизор, да и входная дверь была видна. Как только раздавался звонок в дверь, он поворачивал голову и радовался, когда приходили гости.
Ты смотри-ка, кто пришел! Вот те на, кого мы видим!
И комната тогда выглядела иначе. Она излучала счастье и радость, которыми светился он. Он искал меня глазами и озабоченно спрашивал, найдется ли у нас что-нибудь перекусить, сможем ли мы хорошо принять наших гостей, и извинялся, что сам не в состоянии обо всем позаботиться.
Я кидалась на кухню, рылась в холодильнике и на полках… да ведь и магазин за углом! На лету подхватывала большую сумку и вот уже мчалась по ступенькам.
Эге-ге!
Следом за мной спешил Давид. Куда ты, давай мы с Ники сбегаем, или с Ниной, или с Ричи…
Как я могла забыть, что у меня куча помощников, внуков!
Давид резал хлеб толстенными ломтями, Ники накрывала на стол. Нина делала бутерброды. Я за всем наблюдала и прислушивалась к беседе.
Владо рассказывал о каком-то сложном заболевании. Правда, интересно, спрашивал он отца.
Вот и напиши мне статью для «Туберкулеза»!
Но ведь в «Туберкулезе» только научные статьи?
Нет, у нас публикуются и врачи-практики. В свое время мы так решили: сорок — пятьдесят процентов журнальной площади — оригинальным научным работам, десять — двадцать — материалам по организации здравоохранения и эпидемиологии, а двадцать пять — тридцать — сообщениям. Ты обязательно напиши.
А какой у вас тираж?
Две тысячи экземпляров. Но дотации нам не дают, живем только подпиской, скромно, конечно, но дело все же идет. Главный редактор ничего не получает, это почетная должность. Статьи, разумеется, оплачиваем. Ну, а остальное…
Меня всегда поражало, как живо он откликался на все, что касалось его специальности. Но стоило нам перейти на другие темы, увлечься обсуждением экономических или политических проблем, он умолкал. Он словно оберегал себя от тех забот, с которыми уже не мог справиться. Его отяжелевшие веки сами собою опускались.
Ты устал? Хочешь прилечь?
Да, я бы, пожалуй, прилег, если вы ничего не имеете против, улыбается он, но я вернусь, вы не расходитесь!
Все это было и остается в этой квартире, где я теперь не нахожу себе места. Ожившее прошлое окружает меня. Оно выглядит иным, чем на самом деле, свободное от всего дурного, если оно и было.
Бланка сидит неподвижно. Она пришла узнать, как дела, и замерла, подавленная моим настроением.
Извини, я смущенно закуриваю, мне необходимо избавиться от воспоминаний, иначе они задушат! Ну, вот уже лучше!
Господи, вдруг осеняет меня, как я могла забыть! Ведь совсем недавно Бланка пережила то же самое. Она тоже непрестанно натыкалась на мертвые предметы, которые вдруг ожили и заговорили. Этого нельзя избежать. Прости, Бланка!
Только когда я переменила жилье, мне постепенно полегчало, говорит она, с трудом выдавливая из себя слова.
Позднее слова, мимоходом брошенные Бланкой, превращаются в довольно конкретный план, и вот с ее помощью — такое под силу, пожалуй, только Бланке! — я переехала на другую квартиру.
И в самом деле словно ожила. Словно натянула новую шкуру, которая нигде не терла и не давила. И благодаря которой я опять обрела силы.
Новое жилье было тихим, и если хотело поведать мне о чем-то, то говорило о светлых минутах. Если случится чудо, которое еще возможно, сказала я себе, он получит свою комнату. Комнату с балконом и видом на самые прекрасные горы в мире! Ему здесь будет даже лучше, чем в старой квартире. Хотя, если уж говорить откровенно, вид из окон прежней квартиры был отличный…
Ты погляди, как красиво! — нередко повторял он, когда комната пылала в лучах заходящего солнца.
Или когда на Граде устраивали фейерверк.
Мы гасили в комнатах свет, поудобнее располагались на диване и смотрели на яркую россыпь огней, которые взлетали у нас перед глазами.
Там было хорошо. А здесь, убеждаю я себя, еще лучше. Во-первых, квартира очень светлая и не связана с воспоминаниями. И пожалуй, самое главное — она молчит. В ней, следовательно, живут только бодрые, светлые мысли, только надежды. Я вновь готова к отдаче.
Отдача. Единственная подлинная радость в жизни. Хотя… всякое деяние связано с получением. А мой приемник уже сильно ослаблен.
* * *
К нему все реже возвращается сознание, и я все глубже погружаюсь в далекое прошлое. В то время, в котором я с трудом ориентируюсь, которое я познаю лишь из его дневников и писем.
Вчера, например, он спросил меня, помню ли я, как отец приехал к нему в Стражище. На итальянском фронте, возле реки Сочи…
* * *
Он по-прежнему спит. На этот раз особенно крепко и долго.
Последнее время я не закрываю дверь в его комнату. Не хочу упустить момента, когда он проснется, то и дело подхожу к двери и заглядываю.
А сейчас взгляд его устремлен в потолок. Когда он проснулся? О чем думает, если вообще думает?
Тихо подхожу к постели. Он меня не заметил. Смотрит вверх. Долго, отрешенно и сосредоточенно.
Я присела на краешек кровати, чтобы получше видеть его лицо, чтобы по глазам, которые то вдруг вспыхивают, то вновь угасают, угадать, о чем он думает.
Он зашевелился. Наверное, почувствовал, что я здесь. Взгляд его медленно скользит вниз, опускается и, наконец, упирается прямо в меня. Ничего не выражающий взгляд.
Я жду.
Тебе помочь? Скажи, чего ты хочешь?
Не сразу, после глубокого вдоха, глаза его начинают оживать. И лицо постепенно смягчается. Словно оттаивает под робким весенним солнцем стылая земля.
Чуть заметно дрогнула правая рука на одеяле. Я беру ее в свои ладони и слегка массирую. Не сводя глаз с его лица. И вижу, он хотел бы что-то сказать мне. Он чуть шевельнул головой и прикрыл глаза.
Хорошо… Мне кажется, я поняла его.
Ты не напрягайся, отдыхай. А я буду говорить за двоих.
В прошлом году в канун Нового года я вот так же думала и рассуждала за двоих. Нам не всегда удавалось вместе встречать Новый год. Далеко не всегда! Но если мы не могли быть вместе, то обязательно около полуночи звонили друг другу.
Алло! Алло! — кричали мы в трубку. Слышимость часто была плохая, и обрывки фраз летали между нами, как целлулоидные мячики. Что делаешь? Компания хорошая? Как настроение? Ты меня слышишь? И разговор еще продолжался, хотя связь уже была прервана.
Было ведь так?! Ну вот видишь. А в прошлом году, когда тяжелый год близился к концу… что? как? ты не помнишь? Ты раньше заболел? Возможно, ты и не помнишь, но эти воспоминания не горькие, они приятные. В последнее время, когда ты часто уходишь от меня, я уже свыклась с этой новой, двойной ролью. Всякий раз, ожидая твоего ответа, я вслушиваюсь в себя и угадываю, как бы ты ответил, что посоветовал бы, если… И большей частью, мне кажется, я угадываю верно.
Ну так вот, на рубеже старого и нового года мы разговаривали. О чем? Да обо всем. И о череде долгих лет, ушедших в прошлое. Как мы разговаривали? Да очень просто. Так же, как сейчас. И желали друг другу здоровья и успехов во всем.
А потом?
Потом меня позвал к себе твой письменный стол. Он словно изнывал от нетерпения. Даже скрипел, требовал, чтобы я подвела в дневнике итоги минувшего года.
Да, надо бы, согласилась я, перелистывая дневник. Только я не знаю, как подводить итоги. Как далеко вернуться назад? Нырнуть в шестидесятый год? В тот период, когда на горизонте уже стали собираться тучи: Age Limit во Всемирной Организации Здравоохранения и новые волнения в связи с работой на родине?
1960:
Мы проводили друзей, с которыми ужинали. А потом ты вдруг исчез у себя в комнате и больше не показывался.
Что ты делаешь? — крикнула я.
Подвожу итоги, ответил ты, сейчас приду!
Заглянув через плечо, я увидела только что сделанную тобой запись под датой — 31 декабря. Итоги минувшего года удовлетворительны, хотя возраст дает о себе знать и все говорит о том, что окружающие также замечают во мне перемены. Да и молодые, сорокалетние, поджимают со всех сторон.
Но работы было более чем достаточно. Даже для человека помоложе! И успехами, несмотря на кое-какие незавершенные дела и неисполненные обещания, можно в целом быть довольным.
Я много ездил. Дважды побывал в Далмации, несколько раз в Париже, в Англии и в Шотландии. Познакомился с известными специалистами, и все шло гладко — кроме досадных мелочей в Сежане.
В новый год вступаю с отличным настроением, хотя чувствую, что дальнейший путь будет более крутым. Только бы рядом был добрый товарищ, мой неиссякаемый источник силы.
Покажи мне, что за листок ты приклеил в дневник. Это стихи?
Каждый старик по-своему король Лир, труд и борьба давно отошли; страданья и страсти утихли и скрылись. Юность живет для себя и собою; кто настолько безумен, чтоб ей приказать: вместе со мною иди!Конечно, ехидно заметила я, стихи, безусловно, прекрасные, но ведь это чистой воды капитуляция! Начинается новый год, а ты штык в землю!
Его громкий смех заставил меня умолкнуть. Я ушла к себе и разыскала томик Гёте. На другой день я ему прочитала: Das Unmögliche behandeln, als wenn es möglich wäre![24]
Я долго думала об этих строках. Я хотела понять их. Подсознательно, спустя много времени, я искала подтверждения своим раздумьям в каждой книге, попадавшей мне в руки. И не находила. Мне пришлось признать, что твой страх перед пенсией был более основателен, чем мой оптимизм.
Хемингуэй, например, считал, что худший вид смерти — это отлучение от работы, которая сформировала человека. Почему мы не смогли поговорить об этом всерьез, пока не стало слишком поздно?
То, что в свое время я безуспешно искала, я вдруг нашла в «La vieillesse»[25] Симоны де Бовуар.
Пенсия, писала она, самое отвратительное слово. Когда мы уходим на покой и выпадаем из той сферы деятельности, в результате которой мы стали тем, что мы есть, мы словно бы заживо ложимся в могилу. Человек не может быть на пенсии и жить.
* * *
Сейчас, когда я еду домой, на душе у меня спокойно.
Гляди, говорю, дождь!
Я по-прежнему веду себя так, будто он рядом.
Вместе наблюдаем мы за отражением фонарей на мокром асфальте и за красными змейками автомобилей далеко впереди. В центре города светло. Как в любой другой, большой или маленькой, западной столице. Разницы никакой.
Старая часть города выглядит более интимной, в ней гораздо приятнее.
Если бы он в самом деле был сейчас рядом, то мы, вероятно, поднялись бы к Граду. Вышли бы из машины и прошлись вдоль его стен.
По дороге домой мы почти наверняка встретили бы Польди и Генри. И обрадовались бы друг другу. Ведь Польди и Генри из той породы революционеров, которая не разменяла своих душевных богатств на мелочные интересы…
Я в одиночестве поднимаюсь по лестнице, медленно отпираю дверь, вхожу в переднюю и машинально останавливаюсь возле книжного шкафа.
Что я собиралась посмотреть? Ах да, Гёте.
Взгляд сам собой останавливается на небольшом желтом томике, который я, бог весть почему, уже давно не брала в руки. Раньше… раньше он всегда был рядом. Простенькое издание, а сколько в нем мудрости и красоты.
Вот она, фраза, когда-то служившая нам девизом: Wie es auch sei, das Leben, es ist gut![26]
Перечитываю, перелистываю книгу, ищу слова, которые помогут мне сейчас и будут помогать потом, до самого конца.
И нахожу их: Willst du mich nicht glücklich lassen, Sorge, nun so mach mich klug![27]
МАРТ — АПРЕЛЬ
Неустойчивая погода, мелкий бодрящий дождик. La pioggerellina di marzo che picchia argentina[28], как писал Анджело Сильвио Новаро. Мы учили эти стихи в школе, запомнили на всю жизнь, и мой брат Дане знал этот текст наизусть.
Неустойчивая, значит, погода и мелкий бодрящий дождик. Та самая pioggerellina argentina. И вместе с тем тяжкая пелена уныния. Подавленное настроение, которому пронзительный телефонный звонок мало соответствует. Скорее, скорее! — подгоняет он. Голос Мариан отвечает моему настроению. Как у него дела?
Откуда ты говоришь? Где ты? В Риме? На конференции? Обратно поедешь через Любляну? Чудесно! Что, что? Самолетом? Поездом?
Как у него дела?
Я бормочу что-то невразумительное. Когда ты завтра приедешь? Я хочу знать.
Около часу дня.
Значит, à demain[29].
Мариан в Риме… Istituto Forlanini, Riunione Internazionale per la lotta alla t. b. c.[30]
Последний раз мы были с ним там шесть лет назад…
1963:
В аэропорту Фьюмичино нас встречала Пэм Стоуби, старая знакомая и близкий друг его еще по женевским временам…
…которая лихо вела свой старый «форд» в стремительном потоке машин. Она обгоняла другие автомобили справа и слева, а когда казалось, что мы в этой ревущей реке сели на мель, бампером подталкивала впереди стоящие машины — тук, тук, su su via[31] — и добивалась успеха.
Эй, Пэм, what are you up to? Что ты делаешь?
Driving like un vero romano![32]
И она громко смеялась.
В Риме, объясняла она, иначе нельзя. Джунгли!
И прибавляла газ. Мы выписывали вензеля по аллеям, бульварам и улицам, мчались мимо знаменитых римских памятников и останавливались лишь где-то за городом.
В семействе Стоуби нам всегда было хорошо, но сейчас Джима не было дома — он работал в одной из международных организаций, ребята просиживали штаны в лондонских школах.
Пэм со смехом читала нам письмо от Марка, который одновременно и огорчался оттого, что его нет в Риме, когда приехали гости, и радовался, что кому-то из нас достанется его комната.
Мы распаковывали чемоданы, выкладывали вещи и переговаривались через распахнутые двери.
Ты знаешь, Адам еще и спортсмен.
Так ведь он уже в прошлом году играл в шахматы?
Иди-ка сюда, посмотри.
Да, в самом деле. В комнате Адама висят настоящие боксерские перчатки. А рядом с ними шахматная доска. И сколько книг! Я подошла к полке. Книги по экономике, математике, физике… Да, видно, Адам пошел по стопам отца.
Потом мы осматриваем комнату Марка, которую предоставили мне.
В углу — электрогитара, на книжных полках — сборники стихов и книги по искусству. Есть кое-что по футурологии и кибернетике. На стене куртка дзюдоиста.
Мы, переглянувшись, рассмеялись.
What’s the matter?[33] — раздался за спиной голос Пэм.
Видишь, как напористо утверждает Марк свою личность? Он ничуть не изменился, такой же, как был!
Ох, Марк!
Пьем освежающие напитки, курим, беседуем. Вспоминаем о совместной поездке по далматинскому побережью.
Сколько лет прошло с тех пор? В пятьдесят седьмом, кажется, это было?
Тогда мальчики были совсем юными и напоминали двух петушков. И все время спорили между собой. По обыкновению первым начинал Марк.
Чего ты все задираешься? — сердился выведенный из терпения Адам, за что ты меня ударил?
I got to fight you[34], наскакивал Марк, чтобы добиться места под солнцем. Ты отбрасываешь на меня слишком длинную тень!
Ах, Марк!
Have another drink?[35] Показать вам диафильмы той поездки?
Я не возражаю — из вежливости. На самом деле мне этот просмотр совсем не по душе. Но Пэм уже все приготовила.
Вот мы, Адам, Марк и Борут в воде. Между ними огромные пенистые водовороты. Широко раскрытые, смеющиеся рты.
Да, припомнила я, мы тогда взяли с собой внука Борута. А где это было?
Где-то между Брелой и Макарской, ты забыла? Мы укрылись от жары в этом прохладном сосновом лесочке. Ребята еще никак не хотели из воды вылезать… Вот тогда я их и снимала.
На другой день Пэм первым делом повезла нас в институт Форланини.
Il professore c’è?[36]
Нет. Профессор Эльторе на лекции. Вас ожидает доктор Д’Агостино из статистического отдела. Прошу вас.
Нам демонстрируют массу интересных материалов. На стене отдела висит даже географическая карта, показывающая области распространения туберкулеза. На первый взгляд дело поставлено серьезно, но, как потом признался сам доктор, многие сведения случайны и вряд ли могут быть использованы без дополнительной проверки.
И когда мы уже прощались, в комнату вошла Мариан.
* * *
Скоро она опять будет здесь. Профессор Мариан из Парижа, кавалер ордена Почетного легиона и так далее и так далее. Моя верная сотрудница — так он обычно представлял ее другим.
Да, Мариан. Одна из тех редких женщин, которые с самого детства боролись за женское равноправие.
Она была младшей в семье. Ее брат, следуя заветам отца, служил в армии, вышел в отставку в чине полковника и теперь преподавал гимнастику в каком-то детском санатории; сестра Сесиль, став магистром, приняла на себя руководство аптекой, Мариан уже в юности отличалась пытливостью, свойственной настоящим ученым. Рене приходилось прятать от нее свои механические игрушки, так как она часто пускала в ход отвертку, чтобы посмотреть, что там внутри. Маленькая и хрупкая, она предпочитала гонять по окрестностям вместе с мальчишками, чем играть в куклы или помогать матери.
Почему ты все время с мальчишками? — упрекала ее мать, посмотри, как помогает мне Сесиль!
В конце концов все смирились. Ни куклы, ни плита, ни наряды не привлекали Мариан. Больше всего ей нравилось ломать новые игрушки. Или гоняться за бабочками и искать птичьи гнезда. А потом она сверх меры увлеклась книгами. Она отдавала предпочтение путешествиям и биографиям великих людей. Ее жизненным идеалом стала мадам Кюри.
Мариан. Трудолюбивая, как муравей, настойчивая, аккуратная и при всей своей врожденной вежливости резкая и неуступчивая. Руководитель исследовательского института при министерстве здравоохранения, секретарь Союза по борьбе с туберкулезом, почетный член… хватит, хватит! Поезд вот-вот подойдет!
Я стою на перроне и упрекаю себя за то, что все время с тех пор, как она уехала… а прошло уже девять, нет, десять месяцев… Так вот, с тех пор как она уехала, я скрывала от нее истинное положение вещей. Она не знала правды. И вот она приезжает!
Подошел поезд!
Толпа бросается к выходу, который поглощает людей, словно адское жерло.
Как бы не пропустить Мариан.
Вот она! В своей серой пелерине похожа на летучую мышь. Маленькая, изящная, настоящая парижанка!
Град вопросов обрушивается на меня. Я пытаюсь уклониться от ответов. Скоро сама увидишь. Сама оценишь, потерпи! Ну, а как в Риме? Эльторе там по-прежнему? Д’Агостино?
Конечно. Но ты не можешь себе представить, как нам его не хватает! Мы по-иному подходили к работе, когда ею руководил он. Всюду сказывается его отсутствие. И в Союзе по борьбе с туберкулезом, и в Париже, везде. Но коллега Кэррол из Копенгагена вообще не знал, что он болен. А как он? Плохо? Почему ты мне не писала? Плохо?
Pas bien du tout — хорошего мало.
Вот так, без обиняков.
Ты удивлена? Но ведь ты никогда не верила, что ему удастся выкарабкаться. Ведь если судить по твоим предсказаниям, отпущенный ему срок давно истек.
Пожалуйста, прошу тебя!
Прости!
Мариан сжимает мою руку. Молча. Тепло и дружески.
Мы не домой?
Нет. Тебя я отвезу в больницу, а мне нужно еще на работу. Я потом за тобой заеду. Хорошо? Чемодан можно оставить в машине!
А ты со мной не пойдешь?
Я попозже, до свидания!
Но мысленно я все время там, в больнице. Я стою рядом с Мариан и всем сердцем чувствую ее печаль и тревогу. Она пока не поняла, что означают мои слова «pas bien du tout — хорошего мало»!
Но очень скоро она увидит. Если б к нему вернулось сознание, если он смог бы ее узнать!
Надежды, надежды.
Я сижу за своим рабочим столом и думаю о вещах, не имеющих никакого отношения к юриспруденции. Я должна взять себя в руки, или мне придется бросить работу. Иначе нельзя.
Всю дорогу к больнице пытаюсь угадать, каким она его увидела. Будет ли она стоять у его изголовья, подавленная его видом? Или станет расспрашивать дежурного врача? А может быть, просто сядет в соседней комнате и уставится в пустоту? Кто знает!
Мне представляются возможными все эти варианты. Тем сильнее мое изумление, когда я застаю их за беседой. Правда, сам он не говорит, но с интересом слушает, как Мариан рассказывает о римской конференции.
Наклонившись к нему, она говорит медленно, отчетливо произнося каждое слово, следя за тем, чтобы не слишком его утомлять.
Заметив меня, он радостно улыбнулся. Слушай, mais c’est excellent, excellent![37] Теперь мы опять примемся за дело. Скажи ей, переведи, что сегодня у меня французский не очень идет. Да и страшновато перед лекцией, придется стиснуть зубы, да? Он смотрит на меня со странной улыбкой.
Придется, соглашаюсь я и перевожу Мариан его слова.. Mais, non, возражает она, pourquoi?[38] Тебе кажется! Riunione, произносит он и снова пытается восстановить оборванную нить. Eltore, n’est-ce pas? Sans moi cette fois![39]
И мгновенно покидает нас. Даже не закончив фразы, точно провалился в пустоту. Только постанывает, и я понимаю, что ему неудобно лежать.
Спустя полчаса мы с Мариан сидим в ресторане. Я не спрашиваю ее, каким она нашла его. Я читаю ответ в ее взгляде. C’est étrange, как странно — повторяет она то и дело, но ведь он так ловко держал тарелку, словно…
…воскрес из мертвых? Чтобы поздороваться с тобой? Это ты имеешь в виду? Он не спал, когда ты вошла?
Не сказала бы. Дремал…
Она долго стояла у постели, потрясенная переменой в его облике. Потом он вдруг открыл глаза и словно вернулся в действительность из беспредельной дали. Мариан считала, что он узнал ее по голосу. Mon dieu, mon dieu![40] Она не может прийти в себя от изумления. И ты тоже очень изменилась.
Мариан во второй раз просматривает историю болезни и проверяет лекарства, которые ему прописаны. Oui, c’est ça[41], бормочет себе под нос. О болезни мы не говорим. Нам уже нечего о ней сказать. Мариан тоже изменилась. Выглядит иначе. Ее уже не назовешь летучей мышью. Теперь она больше похожа на статую. Статую, олицетворяющую изумление.
Это ошеломило меня, признавалась она, громко втягивая носом воздух. Я могла предположить, но твои письма…
Я молчу. А что мне ей было писать? И зачем?
Ну, а теперь?
Я пожимаю плечами. Не знаю. Сама видишь, как обстоит дело. Главное, он не мучается. Я каждый день до вечера сижу здесь и осматриваю комнату, как если бы впервые ее увидела. Он принимает лекарства, и я ухожу. Ночи у меня по обыкновению спокойные. И днем тоже он большей частью дремлет. Недавно… Я ведь тебе писала, мы вывозили его на веранду! Конечно, писала! Даже много раз! И по телефону мы говорили об этом, верно ведь? Даже слишком много, думаю я про себя. Сверх всякой меры раздула я это событие. А потом, когда он уже не вставал, я убедила себя, что все дело в перемене погоды… Пошли?
Мариан понравилось мое новое жилье. Но она не могла понять, зачем я это сделала.
Ведь со старой квартирой связано столько воспоминаний.
Именно они камнем лежали у меня на душе! А я жила надеждами. Я накапливала силы на двоих. Это счастье, что я могла переменить квартиру! В старой квартире, где все тянуло в прошлое, я бы давно сдалась! А тогда это еще не казалось неизбежным, ты понимаешь? Впрочем, я и сейчас не совсем потеряла надежду!
Мариан меня не понимала. Она нашла бы утешение в воспоминаниях.
Я не хочу утешений. Утешений для себя одной.
И вот мы уже обмениваемся желчными репликами. Я убеждаю Мариан, что речь идет не обо мне, а о нем. Ему нужна помощь. Ради него я должна остаться сильной. А как мне найти силы, если в прежней квартире меня преследовали воспоминания? Зачем мне, в конце концов, жалеть самое себя?
А что дальше?
Я смотрю на Мариан, она с трудом сдерживает себя. Она не станет со мной спорить.
Ты по-прежнему просматриваешь его старые бумаги?
Теперь даже чаще!
Зачем?
Последнее время он все больше уходит в далекое прошлое. Я должна быть наготове и знать факты, если хочу его поддержать.
Помнишь, как в Риме я подвела его к рассказу о фронте на Соче?
Нет, когда это было?
Когда Пэм Стоуби пригласила нас на ужин…
1963:
Услышав звонок в дверь, я откладываю книгу и иду открывать.
Вот и мы! Пэм опережает меня, здоровается с Мариан, о которой много слышала, но с которой до сих пор не была знакома.
Я перехватываю взгляд, который Пэм бросает на Мариан. Пэм, правда, моложе, но Мариан привлекательна, как истая парижанка.
За ужином Пэм, видимо, решила нас подразнить. Ухаживает только за ним, угощает, кокетничает.
Ах так, думаю я и перехожу в атаку. Что за дискриминация! — вслух произношу я. Ладно, пусть ты пренебрегаешь мною — quantité négligeable n’est pas?[42] — но как быть с Мариан? Professeur Marianne, porteur de la Légion d’Honneur etcétéra, etcétéra…[43] женщина, председательствовавшая на последней международной конференции… Или все это не так и я что-то путаю? — обращаюсь я к Мариан через стол.
Мариан вспыхнула. Ей это идет.
И вот мы уже встаем с бокалами в руках. Он говорит о поразительном успехе Мариан на конференции, мы чокаемся и смеемся над смущением Мариан.
Пэм не сдается.
Как ты могла выбрать мужчину, который нравится стольким женщинам? Подмигнув мне, она с притворной строгостью смотрит на него.
Да, это правда, всему миру я нравлюсь! — смеется он…
Мы с Мариан засиделись глубоко за полночь. Вновь обращаемся к тем далеким событиям и картинам, которые проступают сквозь тонкую паутину его рассказов…
На другой день мы осматриваем туберкулезные поликлиники. Мариан нужны данные для работы по эпидемиологии, которую они начинали еще вместе.
Как тебя на все хватает! — удивляюсь я, не тяжело тебе?
Да, не очень легко, признается она. Иногда хочется бросить все и сбежать куда-нибудь!.. Когда он всем руководил, нам было раза в три легче! — вздыхает она.
* * *
Мариан уезжает. Ей непременно нужно в Загреб, а потом самолетом обратно в Париж. Ее ждет работа. Жаль, но ничего не поделаешь.
Не надо меня провожать, просит она, ты ему нужна, оставайся с ним. Я поеду на автобусе.
Я провожу тебя.
Не буду ей ничего объяснять, все равно не поймет. Я-то знаю, что он попросил бы меня проводить ее, проводить до аэродрома.
Знаешь, сказал бы он, мне будет спокойнее, если ты проводишь ее, хорошо?
И знал бы, что я ему не откажу. Ведь мы всегда вместе встречали и провожали Мариан. И непременно останавливались по пути в Оточаце. Здесь часто фотографировались. Совсем недавно я рассматривала эти карточки…
Раннее утро, на шоссе почти нет машин. Молча вслушиваемся в шумы пробуждающегося дня, опутанного паутиной сна, пронизанного голосами птиц.
А осенью ты приедешь?
Мой вопрос вдруг перебросил нас в будущее. В то время, когда его, наверное, уже не станет.
Ты приедешь? — настаиваю я и смотрю на нее.
Мариан глубоко вздохнула. Не знаю. Времени мало, а работу обязательно нужно закончить… Если удастся вырваться…
Последняя осень в Бледе была незабываемой, добавила она задумчиво.
Я помню. Твоя комната была рядом с нашей. Обе с видом на остров. И уже с раннего утра в ней стучала твоя машинка — тук-тук-тук-тук.
Ну, значит, до осени.
Ты мне напишешь. Позвонишь.
Шоссе становится более оживленным. Теперь, обгоняя грузовик и цистерну, я на миг умолкаю. Вообще же тараторю — без перерыва. Рассказываю ей о детях, внуках, которые стали совсем взрослыми. Старший внук Борут влюблен в медицину, как и отец. Думаю, что он скоро защитится.
Всю долгую дорогу до аэродрома я болтаю, а Мариан молча слушает. И наверное, вспоминает, как уезжала из Любляны прежде. На аэродроме нас по обыкновению поджидал Драго. Улыбающийся, веселый, сыпал шутками до самого отлета.
С Драго всегда было приятно, да?
Конечно. А почему ты сейчас вспомнила о нем?
Не знаю. Мысли у меня скачут. Я-то уже привыкла, и мне это не мешает. А тебе трудно уследить за мной?
Зачем я все это говорю? — спохватываюсь я. Чего я жду? Чего я хочу? Удержать последнее мгновение расставания? Продлить его сверх всякой меры и в конце концов все-таки дождаться, что здесь, на аэродроме, может, у этого одетого решеткой оконца, где все время толпится народ, вдруг появится он и с радостной улыбкой направится к нам?
Где ты был так долго? — спросила бы я его, и мне сразу стало бы легче, ведь мы снова вместе.
Еще есть время, не надо спешить!
Разумеется, говорит Мариан и обнимает меня, погружая в летучее облако французских духов, которое много дней будет преследовать меня, куда бы я ни пошла.
Прощай, Мариан, счастливо! Ты приедешь на похороны?..
Мариан смешалась с толпой пассажиров. Ее серую пелерину ветер раздувал, будто флаг.
В одной руке она несла сумку, другой высоко подняла белый платок. И лицо ее, когда она смотрела назад, было бледным…
КОНЕЦ
Конец, который неизбежен и который мы тем не менее воспринимаем как участь, могущую коснуться только других. Не нас и не наших близких. Пока нет. Еще не сегодня.
Это, разумеется, относится к нам, кому он так дорог. К нам, всем. Ко мне, для которой само сознание того, что он дышит, важно. Хотя с каждым днем мне все труднее выносить его неподвижность.
Неужели никак нельзя помочь? Неужели больше нет таких лекарств, уколов, препаратов, сама не знаю чего? Что-то нужно дать ему, оживить его мышцы, вырвать из оцепенения.
Доктор Боян молчит. Смотрит в окно, одну за другой курит сигареты.
А совсем недавно, вспоминаю я, доктор был такой разговорчивый, все шутил, и хорошее настроение передавалось даже ему. И он каждый день с нетерпением ждал Бонна, словно верил, что этот доктор сумеет его спасти.
Боян понимал, что его присутствие важнее любых лекарств, расставленных на ночном столике. И очень часто навещал нас. И каждый раз творил чудо воскрешения.
Доктор Боян опускался на стул, и у больного исчезала вялость, черты лица оживали, и он казался вполне здоровым человеком. Иногда он не мог произнести слово, другое, но ведь он был так взволнован, а может быть, сказывалось действие лекарства. Некоторые лекарства вызывают у него аллергию, он мне сам говорил.
А беседы с коллегой словно вливали в него силы.
* * *
Когда же наступил конец?
Он подкрадывался медленно, незаметно, день за днем. Все то время, пока я пыталась сохранить последние искорки сознания. Когда я бережно прикрывала чуть тлевший огонек, который освещал минувшее, куда мне столько раз удавалось проникнуть. Я пыталась удержать тонкие нити, ведущие в наше, в его минувшее, но они ускользали, обрывались. Я пыталась беречь то малое, что еще связывало нас, перерыла груду бумаг, чтобы быть с ним до конца. И часто мне это удавалось. Вот совсем недавно он увидел меня в образе матери.
Я быстро подошла к его изголовью, но он меня не замечал. Господи, бормотал он, как они обходятся без меня, я так долго болею! Потом повернул ко мне голову и пристально на меня посмотрел.
О, сказал он со слезами на глазах, мамочка моя!
И вот я уже принимаю облик той женщины, чья фотография в кожаной рамке всегда стояла у него на письменном столе. Я почти физически ощущаю, как изменяются черты моего лица.
Как приходилось выкручиваться, чтобы большая семья могла прожить от начала одного месяца до начала другого? Счастье еще, что у меня такой взрослый сын, на которого я могу положиться.
Я тебе буду помогать, не волнуйся! — убеждал он меня, пытаясь поймать мои руки.
Конечно, сынок, конечно, ты мне будешь помогать, ведь ты скоро выздоровеешь.
Выздоровею, вернусь домой и останусь с тобой. Буду приглядывать за ребятишками, колоть дрова — все буду делать. Ох, нет, ничего не выйдет, ничего!
Почему не выйдет? — пытаюсь я угадать.
Ты забыла, что Хеда тяжело больна? Дорога такая дальняя, ты не можешь к ней ехать одна…
1918:
Мы едем по Галиции, дремлющей под ласковым солнцем. Точно нет и в помине инфлюэнцы.
Страх сопровождает нас всю дорогу. Что с Хедой? Жива ли она?..
* * *
А если это произойдет уже завтра? Пять минут опоздания, и ты меня никогда не узнаешь и ни с кем не перепутаешь! В твоем взгляде будет только изумление, откуда взялась эта боль, и мольба об избавлении.
А если я приду к тебе в тот самый миг, когда ты будешь громко стонать от невыносимых мук? Жизнь — это напряжение и расслабление, череда вдохов и выдохов, а ты будешь лежать оцепенело, скрюченный жестокой судорогой. И будешь стонать.
Сестра-а-а, сестра-а-а! Позовите врача, пожалуйста, найдите его! Сделайте укол, вы видите…
Впрочем, кто знает, что обрушится на меня завтра. И завтра ли оборвутся твои путешествия в прошлое, когда я пойму, что тебе очень плохо. И у меня будет только одно желание — чтобы ты не мучился. Ибо нет ничего страшнее, чем быть свидетелем чужих страданий, когда уже ничем не можешь помочь.
Держа в руках оборванные нити, я обращусь в слух. В комнате воцарится могильная тишина. И станет слышно, как уходит жизнь.
Мои желания будут все скромнее и все эгоистичнее.
Только бы ты дышал, говорю я себе, только бы не так сильно мучился. Только б тебе не становилось хуже… Хуже? И вдруг молнией сверкнула мысль. А разве может быть хуже того, что есть? Ведь мы уже дошли до крайней точки, и любое движение от нее может быть только в сторону улучшения.
Разум мой отказывается служить. Я не в состоянии больше об этом думать. И кроме того, праздник у порога.
Дни Первомая, город опустел…
Вряд ли даже сестру дозовусь! И врача со шприцем долго придется ждать.
Я буду массировать тебе затылок, как столько раз делала прежде, долгими, равномерными движениями. И хотя ты уже ушел, ты откликнешься в последний раз. Ты перестанешь стонать и утихнешь.
Он уже утих! — скажу я врачу, который прибежит со своим шприцем. Ему ничего больше не нужно, может быть, понадобится позже. Я позову вас!
Сделайте ему укол, буду умолять я врача. Может быть, ему все-таки станет легче…
И вскоре я превращусь в одно сплошное ожидание…
И в конце концов я узнаю, что состояние его изменилось.
Ухудшилось?..
Улучшилось?..
Мирко Божич КОЛОННЕЛЛО
— СКАЖИ, СЫНОК, КЕМ ТЫ СТАНЕШЬ, КОГДА ВЫРАСТЕШЬ?
— ЧЕЛОВЕКОМ!
— НЕЛЕГКОЕ ЭТО ДЕЛО, СЫНОК, НО ПЕРЕД ТОБОЙ ВСЯ ЖИЗНЬ!
MIRKO BOŽIĆ
COLONNELLO
Zagreb, 1975
Перевод с сербскохорватского И. М. Лемаш.
ОХОТА
Колоннелло охотился.
«Хватал охоту», как сказал бы наш Марко. Звенит осенний солнечный день, расцвеченный яркими красками, доверху, словно спелый гранат, наполненный багряным соком. Воздух чист, свеж, напоен запахом земли и сосен, все вокруг дышит легко, полной грудью. Тихое воркование, свист, щебет, чириканье, скрип птичьих голосов — все это устремляется ввысь, точно из отверстия огромной свирели. Да еще слышится приглушенный клекот, щелканье, точно какое-то самозабвенное любование одной нотой. Дрожание струны. Пиццикато. Журчание воды где-то неподалеку словно охвачено послеполуденным отдыхом и дремотой. Ленивое sonnelino pisolino. Leggerissima dormitina[44]. Полусонная покорность солнцу и лени, покорность даже на охоте.
Колоннелло беспечно шагает, бредет, ступает, а то и крадется по низкой сухой траве, которая шуршит под ногами. Он напевает: «Come le rose… d’aprile»[45]. Он идет, блаженствуя, скорее поглощенный своими мыслями, чувствами, нежели страстью охотника. Что касается охотничьей осанки, о ней нет и речи. Даже свою двустволку, «беретту», он держит небрежно, помахивая ею, точно палкой, хотя время от времени, встрепенувшись, принимает подчеркнуто напряженную позу, так что кажется, он мгновенно готов вскинуть ружье, ловко прицелиться, метко выстрелить. Но этого нет и в помине. Колоннелло мечтает — мало ли о чем — то о бокале вина, то о Матильде, давнишней своей возлюбленной и супруге, то об остром соусе, то о непойманном охотничьем трофее. Он уже промахнулся, что правда, то правда, но это нисколько его не печалит. Его не печалят ушедшие годы, не печалят седины, еще густые и шелковистые, впрочем, утратившие буйность и непокорность. Нет, он не грустит, потому что не относится к числу тех добряков и глупцов, что понапрасну взывают к прошлому, к растраченной силе и ушедшей молодости, хотя у него мечтательные, с мягкой, можно сказать, всепрощающей улыбкой глаза. Нет! Возможно, это просто готовность к самопожертвованию, мужская гордость, высокая печаль, проистекающая из чувства собственного достоинства, из снисходительного отношения к миру и жизни вообще. Сколько чувств! Но сколько их существует! Вот именно! Опыт — всего лишь прелюдия к непрестанному созреванию. И прощению. И в то же время к решительности и бескомпромиссности. Но не сейчас об этом.
Человеку всегда свойственно считать себя более молодым, чем он есть на самом деле. К тому же эта прелесть — воздушная ванна, тишина дикого леса, в самом деле — вокруг только птичий гомон. Именно таким должно быть пианиссимо величественного произведения — дикая красота дикой покоренной земли, все целиком рождает гордую уверенность, и проявляется она в мягких линиях отеческих морщинок, в насмешливо-ироничных движениях губ. В игре глаз — выражение неразгаданной тайны. Да! Это роскошь — чувства, восприятие тенистого леса, ярких кустов, умирающих в осеннем блеске, роскошь — едва слышные голоса птиц и призывы прошлого «Come la rose… d’aprile».
Эта все нарастающая ласка воздуха, льющейся потоком жизни! Звучание сокровенных струн! Святое небо! Так превращаешься в поэта, так растворяешься в музыке! Мы! В нас самих вечный источник весны, в нас самих один-единственный бог!
— Ну подойди, подойди поближе, баран ты зеленый! — цедит сквозь зубы Марко, притаившись за пушистым кустом, а его горящие, как у ястреба, глаза отмечают каждый шаг праздношатающегося Колоннелло.
— Тс-с! — толкает его Лука, прижимая палец к губам, и напрягается, словно они собрались воровать и опасаются разбудить сторожей.
Марко огрызается, протестующе поднимает брови и устремляет взгляд к двуногой дичи в зеленом мундире.
И вдруг — птица! Взвилась в воздух. Шум крыльев, сухой, шелестящий, тяжелый. Фазан!
Колоннелло стремительно вскидывает ружье, прищуривает левый глаз, прицел, мушка — скорее! Спуск! Первый, второй ствол. Выстрел.
Колоннелло, почувствовав отдачу ружья, точно чей-то дерзкий толчок, после которого он устоял, вдохнул синеватый дымок пороха. Глаза таращатся в изумлении, рот приоткрыт, дыхание учащено.
— Как? Промазал! Идиотизм!
— Насыпь ему соли на хвост! — злорадствует за кустом Лука.
— Жалко пули, — Марко сплевывает сквозь зубы и смотрит на берсальеров.
Не более чем в ста метрах от Колоннелло, возле военного джипа, полосатого, точно зебра, два берсальера, прерывая игру в карты, смотрят в пустое небо: невеликий охотник этот синьор Колоннелло!
— Опять… промазал. А жаль.
— Пустяки.
И продолжают игру.
Марко их видит как на ладони. Внезапный ветерок пошевелил перьями на шляпах, и Марко подумал: а что, если ветерок подает им знак, напоминает об опасности тайным сигналом — предательским покачиванием перьев на шляпах. Но нет, берсальеры продолжают играть спокойно и увлеченно.
А Колоннелло подымает плечи. Подумаешь, фазан! Ведь это забава, прогулка, отдых. И какая теплынь! А если его и высмеет какой-нибудь недоносок, так ли это существенно? Его стала одолевать дремота. Una leggerissima dormitina dopo pranzo[46].
Насвистывая, он согнул двустволку, выбросил гильзы, подул в стволы, заново зарядил, щелкнул затвором. Можно начинать. Только без спешки. Игра есть игра. Может быть, исчезла уверенность? Нет, почему же? Вот излишняя охотничья горячность ни к чему, ведь мы не собаки с бесконтрольными инстинктами, мы люди, трезво направляющие свои развлечения и страсти.
Он повесил ружье на локоть левой руки, а пальцами правой, как по клавишам, прошелся по патронташу. Видела бы его Матильда! Армейская полевая форма, берет с пером, сверкающие сапоги — и без брюшка! Так и пышет здоровьем! Как в дни их молодости. Высоко поднятые брови, залихватский вид. А дальше что? Oblio, забвение, или элегическое lamento, стенание? Что? Что?..
Впереди мелькнуло что-то лохматое и черное, опалив огнем, словно чудовище… Сзади навалилось что-то тупое, холодное, проникнув до костей и перехватив дыхание.
— Что? Кто вы? Что надо?
Он нелепо замычал. Марко зажал ему рот черными пальцами и, выпучив глаза, ухнул, как сова безлунной ночью. Лука крепче воткнул револьвер ему под ребра.
Будто ястребы, молча, дыша тяжело, со свистом, они принялись его обирать, точно труп, точно падаль: двустволка оказалась на плече у Марко, а Лука сорвал патронташ, швырнул в кусты берет, снял пояс в надежде увидеть револьвер, ощупал карманы, сминая их кулачищем. И все это, великий боже, как певчие на отпевании, не позволяя перевести дыхание, молотят кулаками, тумаки под ребра, хмурые лица, страшные глаза.
Потом его повели через лес. Подталкивая, погнали трусцой. Все глубже в лес, все дальше от берсальеров. И ни минуты передышки для здорового звонкого смеха. Задыхаясь, он шагал между ними, точно Иисус, и пейзаж теперь был совсем иным — серые обрывистые скалы. Обливаясь холодным потом, Колоннелло понял наконец, — он уже не на охоте, не на прогулке. А эти вдруг стали мягче. Лука даже заворковал, на него напал смех, похожий на кашель.
— Что ж это ты, братец, старик уже немощный, а на охоту отправился. Ха-ха!
— На охоту пошел, а самого поймали! — глухо пролаял, Марко. И плюнул.
— Ну и ну! Что только сталось! И что ему дома не сиделось, по-хорошему, тихо-мирно, а? — укорял Лука.
— Чему быть, того не миновать! Дьявол свое возьмет, — разглагольствовал Марко, довольно подмигивая, точно после удачной поездки на базар. — А, Колоннелло?
В ушах у него приглушенно бил барабан.
Святой боже! Барабан? Предсмертный зов? Нет! Это стучало его сердце. И только всевышний знает… куда его гонят… и чем все кончится. В какое-то мгновение он подумал, что сейчас проснется в своей постели и с облегчением убедится, что все было страшным сном. Но он уже был совершенно уверен — это не страшный сон.
Come Dio vuole! Alia peggio? На все воля божья. Не так ли?
ДОБЫЧА
Пипе нашел камень с выбоиной, похожий на кресло со спинкой. Всегда-то он отыщет себе местечко получше. С самого детства.
Теперь сидит, развалясь, и смотрит на друзей со снисходительной улыбкой и беспокойными мыслями, как на детей, которые, заигравшись, изорвали себе штаны. Четырнадцать человек. Молодость. Вернее, пора возмужания. Еще двое пошли добывать еду. Ему с ними забавно, им тоже.
Они отдыхают голодные. Спят на послеполуденном солнце, чинят одежду, чистят оружие. А некоторые, слишком чувствительные, ищутся. Умеют же насекомые устроиться, угнездиться в космах. Если постараться — прежде чем избавишься от вшей, выдерешь все волосы.
И Пипе нет-нет чувствует их под меховой шапкой. Все уговаривает себя, что они только щекочут, а не кусают. И не желает расчесывать себе кожу. Или притворяется? Ему не хочется, чтобы люди видели, как он занимается тем же, что и все.
Люди молчат. Голодны, как волки, грезящие об овцах, а взамен краюхи хлеба, что поделаешь, лишь мечты. Значит, голод не самое страшное, если можно наслаждаться мечтами, к тому же мечтами о будущем.
Чоле — часовой. Стоит на высоком утесе, отсюда ему виден серый каменный склон, голубоватая долина и белый Медовац. Высокий, могучий человек, плечи точно крылья, глаза вприщур. Опытный боец, всегда начеку, а со стороны кажется — он спит стоя.
— Они! — хрипло крикнул Чоле, изумленно глядя во все глаза.
Кто же ему не поверит!
Скорее в засаду! Гляди налево, гляди направо! Не оставляй следов! Прячься! В расселину! За скалу! В мгновение ока! Не суетись! Не шуми! Уйди в себя и в камень! Винтовку вперед! Гляди! Затаи дыхание!
Что там еще, подумал Пипе. Что случилось? Чоле улыбается: ничего себе учеба! Пусть не засиживаются. Прищурившись, смотрит вдаль и спокойно, с какой-то жуткой медлительностью, позевывая, пересчитывает воз яиц:
— Лука… Марко… и черный… зеленый! Ведут его!
Все выглянули. Сглотнули слюну. Переговариваются. Ну и Чоле!
У Пипе на кончике языка одно ругательство, другое, он что-то бормочет под нос и бежит к Чоле.
Чоле не мигнет, хотя внутри у него все дрожит от радости. Смотрит напряженно вниз. Но не может спрятать улыбки, блуждающей на губах и в карих глазах.
Пипе тоже поглядывает со скалы. Он видит Луку, Марко и с ними итальянского офицера. Они неторопливо, пошатываясь, как пьяные, идут по каменистой тропинке, а за ними — каменное море.
— Послушай, Чоле! — чуть слышно шепчет Пипе, а кадык у него так и ходит. — Какой смысл читать проповедь? Если нет хлеба, можно закусить и ругательством. В другой раз, милый, сперва кричи «Лука, Марко!», а потом уж «Они!».
— А вы что, успели попрятаться? — Чоле изображает удивление. В душе он радуется. И не отрывает глаз от путников.
Пипе старается держаться спокойно. Поднял голову и смотрит в небо. А кто-то еще говорит, что у Чоле душа мягче сыра. Только это рыхлый, водянистый сыр, его нарочно смочили, чтоб стал тяжелее.
Путники подошли метров на пять — десять ближе. Марко неуклюже переваливается и чуть клонится вбок, будто под ветром. Лука, как обычно, грызет соломинку. А офицер… офицер без шапки, с седой головой, словно кланяется, ступает с опаской, чтобы не ободрать сапог. Ну и потеха!
— Господи! — Чоле даже глаза вытаращил. — Шишка фашистская! Подполковник или даже полковник! Полковник! Как бог свят! — изумленно, с восхищением кричит он, не скрывая радости. И тут его взгляд прикипел к черным блестящим сапогам полковника. Словно увидел фейерверк в родной деревне. И еще в детстве на рыбалке так неотрывно он смотрел на луч фонаря, посасывая палец.
Он и не заметил, как все собрались вокруг него и Пипе.
Тут путники подошли. Марко и Лука — переполненные требующим признания высокомерием, и Колоннелло, запыхавшийся, выбившийся из сил.
Но на охотников никто не обращает внимания, все разглядывают дичь.
Перепуганный, седой, похожий на барана старик с пестрой бородкой, круглыми мигающими, как у клоуна, глазами и умоляющими гримасами. Губы у него дрожат, он пытается что-то пробормотать или приглушенно крикнуть — и почему-то всем кажется смешным и одновременно жалким, точно полоумный.
Но взгляд их строг, они смотрят вдаль и видят там свое страдание и решимость. Один только Чоле не отрывает глаз от сапог старика.
— Вот тебе, Пипе, браток, как на подносе, на гвантиере! — крикнул Лука, весело щурясь.
— Гвантиера, гвантиера, — обрадовался полковник. — Кто-нибудь говорит по-итальянски?
— Глянь-ка на него! — обиженно вспыхнул Лука. — Распетушился! Полковник! Ублюдок фашистский!
— Я ж говорил — полковник! Сразу сказал, когда увидел! — заторопился Чоле, боясь, как бы другие не заслонили его перед Пипе, и тогда, чего доброго, он останется без того, к чему сразу прирос сердцем. — Вот, получай, Пипе, живьем! Ведь я сразу сказал — полковник!
Но тут к Пипе подошел Лука и загудел, довольно улыбаясь:
— Охотился спокойненько, как дома! И тут, братец, попался между нас двоих, мной и Марко! Как барашек попался! Марко скрутил ему руки, а он удивляется. И что за тварь человек: не ожидал никак.
Но никто не смеялся.
Пипе подошел к Колоннелло и сказал по-итальянски:
— Добрый день!
— Добрый день! — закивал Колоннелло с внезапно вспыхнувшей надеждой. — Добрый день! Вы… вы… но где я? У партизан?
Пипе смотрел на него то как на спелый апельсин, то как на холодную картошку.
— Сладко поет, мать моя! — обрадовался Чоле. — Все выдаст, вот те Христос!
— Да! — ответил Пипе спокойно и небрежно, не желая, впрочем, чтобы в его тоне чувствовалось превосходство. — Да! Вы наш военнопленный. Прошу вас вести себя соответствующим образом!
Колоннелло вздрогнул и побледнел.
— Господи, да тебя слушать страшно! — помрачнел Чоле и с сомнением посмотрел на Пипе. — Не пойму, что ты мелешь? — А Пипе смотрел поверх его головы серьезно, насупившись, стараясь казаться загадочным.
— Вы их командир? — пробормотал Колоннелло.
— Да, пока не появится другой! — весело выпалил Пипе.
— Что же… со мной будет? — отважился прошептать старик.
— Ничего особенного! — непринужденно ответил Пипе, повторяя интонации отца, когда тот ставил ему клизму. — Смерть — составная часть жизни!
Несмотря на наигранное равнодушие, у Пипе мороз прошел по коже, но он подавил это чувство, вспомнив о своем положении и правом деле, за которое сражается.
— Ради всего святого! Смерть?! Но за что, за что? Я ничего плохого не сделал… и… без суда, боже мой!
Лицо полковника стало серым, скорбным, он плакал без слез, посиневшие губы дрожали, он был в ужасе и что-то бормотал жалобно, по-детски.
— Что он тебе городит, черт побери! Будет наступление? — решительно и недоверчиво вмешался Чоле.
— Боится! Страшно ему! — ответил Пипе.
— Кто бы не боялся на его месте! — отрезал Чоле. — Знает, что его ждет! — Потом нагнулся к уху Пипе и настойчиво зашептал: — Послушай, Пипе! Мне бы его сапоги! Ты погляди! — хныкал он, незаметно указывая на свои опанки[47]. — Не могу больше, стыдно, эх, господи! Твой адъютант, а погляди! — Его лицо так сморщилось от досады, отвращения, стремления быть убедительным, точно у него закрутило в животе.
Лука и Марко посмотрели на него и злобно заморгали: еще чего не хватало, похоже, Чоле решил урвать кусок от их добычи! Как бы не так! Кукиш!
— Коменданте… послушайте! Ведь я стар… я профессор, — стонал Колоннелло.
— К сожалению, вы фашист! — кольнул его Пипе.
— К сожалению! — тихо признал старик.
— Теперь поздно! — ответил Пипе.
— Однако… я не… — тяжело дыша, но уже живее начал оправдываться Колоннелло.
— Только не убеждайте меня, что вы пацифист! — усмехнулся Пипе. Перед глазами у него пронеслись картины сожженных деревень, червь раздражения ожил и зашевелился.
— Скажу вам правду! Я большой друг нашего дуче. Вы можете получить за меня все, что хотите. Мертвый… я ничего для вас не представляю. Но живой… многое!
Теперь он озирался круглыми печальными глазами, с искренней и наивной уверенностью, будто надежда его осуществилась. И не ошибся.
Пипе смотрел мимо него, он видел прошлое как в воде — как партию в карты. Слова Колоннелло — ведь это корона червового короля! Карие пестрые глаза полковника, точно санки, унесли его вниз головой в заднюю комнату прокуренной кафаны, где давно, до войны, он сидит в канун Нового года сытый, с картами в руках, с тремя королями, и вот теперь вместо сброшенного туза, после трех обменов в последнем прикупе, который он, сгорая от нетерпения, медленно приоткрывает, показывается корона четвертого короля, червового! Какой шанс! У противника не может быть комбинации выше. Но противник пасует, и банк остается прежним. И сейчас слова Колоннелло — разве это не корона четвертого короля? Разве не шанс?
— Великолепно! — приглушенно воскликнул Пипе, сразу пришедший в хорошее настроение из-за такого подарка судьбы. Но мыслить следует логично. Война есть война. Полковника надо использовать. А в остальном вся жизнь — игра, если смотреть на вещи философски. Он всегда был готов на риск. И всегда в нем жила надежда.
— Oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà[48], — живо, нараспев произнес Пипе итальянскую скороговорку, добродушно и широко улыбаясь и всматриваясь, giocoso[49], в лицо Колоннелло.
Колоннелло задрожал от вспыхнувшей надежды. Правда, пока она ничем не подтверждалась, но и отказываться от нее не было оснований. А вот отдаляло или приближало ее это удивительное поведение то мрачных, то глуповато-веселых и улыбающихся солдат и их главаря, ради всего святого, он же не говорит — бандита?
— Я вам верю! — сказал Пипе по-итальянски, уже спокойно и серьезно. — Все будет в наилучшем виде!
Колоннелло перевел дыхание. От облегчения земля поплыла у него перед глазами.
— Послушайте, товарищи! — быстро заговорил Пипе, но бойцы уже насторожили уши, вслушиваясь в непонятный диалог между Пипе и Колоннелло. — Чтоб никто его пальцем не тронул! Чоле, ты за него отвечаешь! Береги как зеницу ока! Марко, дай ему свою шапку!
— Какую шапку? — запальчиво воскликнул Марко, красный от гнева.
— Ту, маленькую, «охотничью»! — небрежно бросил Пипе. — Не видишь, солнце садится? Ему холодно будет в горах. Не хватает мне, чтоб человек простудился! Чоле, следи за ним. Устанет — стой, захочет пить — воды. И шапку дай. Не видишь, что ли, он без шапки! Чего ждешь? Пошли!
И Пипе вежливо указал Колоннелло дорогу.
— Вы куда-то направляетесь? Куда же? — перепугался старик, но голос его звучал предупредительно.
Пипе дотронулся до его руки и повел по каменистой тропинке, беззаботно болтая о завтрашнем погожем дне.
Колоннелло одобрительно кивал головой, холодный пот леденил ему шею, он инстинктивно следил за тем, чтобы не оступиться и не сломать ногу в этом аду, в окружении дьяволов, которые то хмурятся, то смеются, как и серое небо — над быстро мрачнеющими скалами и над его непостижимой судьбой.
Партизаны остановились.
Многих удивила резкая перемена в поведении Пипе, они его не понимали, но и осуждать не брались. Пипе слыл мастером на всякие неожиданности. Сейчас им казалось, словно кто-то пригласил их в дом и захлопнул дверь перед носом — вроде бы и дверь не заперта, и зов повис в воздухе. И они были в недоумении. Партизаны сгрудились вокруг Чоле, адъютанта Пипе, точно хотели узнать что-то новое. Найти какое-то прибежище, может быть, не слишком надежное, но единственно возможное в эту минуту. Усталые, растерянные, они обескураженно смотрели на Пипе и Колоннелло, идущих в гору, на плечистого Пипе и старика полковника, точно видели чудище, уносящее у них барашка прямо с вертела.
Марко снял шапку, лицо его выражало немое изумление и муку, он желал всем показать, что выполняет приказ, хоть и не может с ним примириться. И действительно, глаза у него горели, а руки не слушались. Он никогда не умел скрывать возмущение.
Лука как всегда грыз соломинку — он тоже ничего не мог изменить, хотя был не так глуп, чтобы не отскочить перед дышлом. Но оставался при своем мнении. Пока человек жив, найдутся лекарства, говорили его старики.
— Господи, твоя воля! Что же это? — взмолился Чоле, тиская в руке шапку, с важностью, которая неизвестно откуда появилась. — Он ему «да-да-да», а тот ему «что вы, что вы», и… под руку взял. Святая матерь божья Медовацкая! Такое и во сне не привидится. И что говорит: как устанет — стой! Пить захочет — воды! И шапку отдай! Во имя святого Пипе, может, ты мне прикажешь штаны ему замывать? — Тут Чоле вспомнил еще кое-что и начал срывать звезду с шапки-титовки. — Не носить Колунелу мою звезду, хоть теперь она никуда не годится… Тьфу! Солнце жареное! Всю жизнь земля мне была постелью, а теперь какой-то Колунел топчет ее новыми сапогами, а я его нянчи! Как это понять? И что думает Пипе, мать родная? Все равно я ему верю, видит бог, ведь мы готовы… и я… и он… и все мы… — Озабоченный, нахмуренный Чоле спрятал в карман тряпичную красную звезду и тихо добавил: — Кто знает, что Пипе задумал… с этим… солнце жареное!
Все смотрели на Чоле, но слушали равнодушно. У него всегда, когда разволнуется, глаза белели, а зрачки уходили куда-то во мрак, за неповоротливыми мыслями. Но всякий раз он возвращался из этого своего странствия еще более преданным делу, спокойным и умиротворенным.
Чоле очнулся и бросился в гору вслед за Пипе. Нахмуренный и взъерошенный, сунул в руки Колоннелло шапку — выполнил приказ.
— Что с тобой? Что ты натворил? — спросил Пипе.
— Об этом с глазу на глаз, при нем говорить не стану! — оборвал его Чоле и, не переводя дыхания, бегом спустился с горы к товарищам.
Потом и Марко поднялся к обоим начальникам, молча ткнул свою шапку Колоннелло, резанул Пипе косым насмешливым взглядом, может быть, даже коварным, и тоже спустился к «простым солдатам». Ему всегда было чихать на любое начальство, что, впрочем, могло означать, что он сам стремится попасть в их число.
Пипе мельком взглянул на него, точно на упрямого мула. Он не видел смысла быть рассудительным в своих причудах. Усмехнулся. Тяни, Марко, свою песню, пока не подхватишь мою! Будь ты жив и здоров, ты найдешь свое, правда, с моей помощью, но и тебе придется попыхтеть. От Марко несло потом, как от барана, а голоден он был как волк: так что не грех было иной раз смотреть на него сквозь пальцы, не замечать его строптивости. Но если бы Пипе и мог закинуть ему в клюв какую-нибудь мелочь, тот не остался бы доволен. Лишняя обуза иметь на войне гурмана.
Пипе и Колоннелло продолжали подъем, а партизаны неторопливо шли в отдалении, ворча что-то под нос, перебирая про себя свои вопросы, домыслы, толкования, и мало-помалу, незаметно небо прояснилось, в их душу стала проникать надежда, и это прежде всего нашло выражение в улыбках и шутках.
Вдруг Колоннелло остановился и сел, вернее, упал на спину, точно перегруженный конь. Хрипит, стонет. На губах выступила пена, веки стали смыкаться, как перед смертью. И зевает, будто рыба на песке.
— Вы можете сделать хоть один шаг? — без особого участия спросил его Пипе по-итальянски.
— Нет… не могу… больше не могу, — выдохнул в отчаянии полковник.
— Помог бы ему кто-нибудь! — закричал Пипе. Все стояли, глядя в сторону, точно не слышали.
— Я же говорил — не выдержит, — глядя в землю, прошептал Чоле. — А сапоги… мне.
— Ты, что ли, его поймал? — зло зарычал Марко, не разжимая зубов, чтобы другие не слышали.
— Так ты ведь отдаешь сапоги не мне, Чоле, а адъютанту Пипе, эх, черт побери! Ты меня понял?
Но Марко уставился в небо.
— Никто не может помочь, а? — снова крикнул сверху Пипе. — Чоле, что ты там говоришь?
— Марко говорит, что он выдержит еще двадцать три шага, — брякнул Чоле, — а по мне, ему не сделать и одиннадцати!
Раздался смех, но какой-то отрывистый, неуверенный.
Пипе с грустью посмотрел на Колоннелло.
— Что поделаешь, милый человек? Все мы умрем.
— Что вы говорите?.. — испугался старик, жалобно глядя то на Пипе, то на ухмыляющегося Чоле.
— Вот, ждет вашей смерти! — выпалил Пипе подчеркнуто погребальным тоном, вдруг став серьезным, как сама смерть.
— Моей смерти? О!
— Если вы не можете идти дальше, «прощай, милая жизнь!» — тихо пропел Пипе.
— Почему не могу… Могу… вот я! — через силу улыбаясь, старик поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел дальше.
Неплохо поддержали ему сердце. Браво, Колоннелло. Не сдавайся! Если ты поможешь себе сам, поможет тебе Пипе.
— Посмотри на него, Чоле!
— Что с ним сталось? Вскочил как ослик-трехлетка.
— Да я сказал ему пару слов, он и вскочил! — пояснил Пипе.
— А что же, черт возьми, ты ему сказал? — разинул рот Чоле, сгорая от любопытства.
— А… что ты хотел бы сменить свои опанки на его сапоги. Но он не хочет, — ответил Пипе, и дружный хохот был ответом на его язвительную шутку.
Растрескавшиеся губы Чоле растянулись, будто ему забили в рот сырую картофелину, а глаза прищурились, словно он шел против ветра. То ли его подкалывают рожном, то ли на него наткнули?
Вот как тебе приходится, мой Чоле. Обманули, провели, оставили в дураках. Когда дело доходит до тебя, ожидай громкого хохота, а когда речь идет о Пипе — сдержанного смеха, даже улыбочки. Так всегда было, я в том не виноват, Чоле. Маленькие люди смачно, свободно, разнузданно смеются над собой и тайком, трусливо, очень осторожно шутят на счет своих начальников. Глупо, но мы дошли до этой ступени. Так что тебе, Чоле, можно лишь изредка и легонько ущипнуть, а острить можно мне; пусть острота и окажется глупой.
— А можешь ты с ним чем-нибудь сменяться, а, Пипе? — поинтересовался наконец Чоле, туповато щурясь и злясь в меру, не больше.
— Надеюсь, ты это сам увидишь. И останешься доволен, — снова остротой ответил Пипе, широко улыбаясь.
— До сих пор я еще не был доволен, Христом клянусь, — проворчал Чоле, брезгливо плюнул и сошел с этого проклятого места, где Пипе кольнул его в самое сердце.
Колоннелло бодро карабкался по крутой тропинке вслед за Пипе. За их «команданте». У него за спиной он чувствовал себя немного увереннее. Он все осматривался, ожидая опасности. Украдкой, испуганно поглядывал на Чоле, на его физиономию в дикой поросли, на черные грозные, как у голодных неаполитанцев, глаза, длинные, характерные для горца ноги, казавшиеся резиновыми. Колоннелло била легкая дрожь, наверное, так дрожит форель, перед тем как проглотить наживку на удочке. Глупо, ужасно глупо он дал себя изловить! Глупо, сто, тысячу раз глупо!
Однако только не останавливаться, per amor di dio, ради всего святого!
НАДЕЖДА
Уже заметно стемнело, когда они достигли ночлега, грабовые леса стали иссиня-черными, вверх неслись непонятные тихие и дрожащие звуки, отразившись в вышине, они возвращались на землю тишиной. Пала ночная роса, и небо расписали светящиеся дороги, на которых вспыхивали первые звезды. Их пристанищем был каменный хлев с кровлей из каменных плиток, расположенный на опушке рощи, вплетающейся ветвями в громадный ноздреватый утес. Хлев был скрыт от взглядов, точно какое-то тайное чудо. И правда, в него не входили, а вползали — таким его сложили для овец, и еще потому, что такой было легче слепить на скорую руку.
Партизаны скинули с плеч мешки и винтовки. Одни тут же опустились на камни, другие еще покачивались на ногах, стараясь отдышаться, третьи прогуливались налегке, как взмыленные лошади. Кое-кто уже забрался в хлев с охапками хвороста для костра.
Колоннелло грохнулся на землю. Ночной черный воздух, обдав его холодом, стягивал кожу, как спирт свежевыбритое лицо. Он не мог сдержать болезненные стоны, дышал открытым ртом и трясся, точно крышка на чайнике. Что ж, он показал себя молодцом в напряженном переходе, а теперь было даже забавно смотреть, как он кипел на огне. Голова его горела черными и красными языками, как сырая головешка, брови грустно нависали, точно у барсука, и больше не выражали самодовольства, как у тетерева, нижняя губа отвисла, будто он отведал от гнилого, а глаза выражали страдание. Пипе было его жаль, но он старался, чтобы это никто не заметил.
— Теперь надо его накормить! — обратился он к Чоле.
— А чем? — пророкотал Чоле и хмыкнул.
— Всем, что есть… Неси! — торжественно объявил Пипе.
— Есть одно яйцо!
— Отдай ему!
— А нам что?
— А нам ничего! Омары в меню не числятся.
— Не понимаю я тебя, ей богу! — насмешливо и упрямо сказал Чоле.
— Ты меня хорошо понимаешь… только вида не показываешь, — попробовал смягчить обстановку Пипе.
— Как прикажешь, — огрызнулся Чоле и громко крикнул: — Товарищи! Директива такая: Колунелу яйцо, а для нас и дерьма нету!
Но никто не смеялся. Только у некоторых губы растянулись в торопливой бледной улыбке. Чоле плюнул и, разочарованный, пошел в хлев, видимо, за яйцом.
Немного погодя все сбились в хлеву у костра, украдкой поглядывая, как Колоннелло, у всех на глазах, ничуть не смущаясь, быстро и ловко уничтожил крутое яйцо и, причмокивая, облизал кончики пальцев. Он ощутил небольшой прилив сил, точно чуть-чуть прояснилось небо, хотя из мрака и полумрака прямо на него угрюмо смотрели блестящие глаза. Эти глаза настораживали его, вызывали любопытство, но он держал себя осторожно, приниженно, хотя в нем жило какое-то тайное сомнение, которое, возможно, про себя он окрестил бы рассудительностью — ведь стало чуть-чуть теплее и напряжение немного спало. Правда, глаза ему выедал дым, что, впрочем, не угрожало его будущему, и, отодвинувшись в сторону, он мог этого избежать. И хотя он не сидел вместе с ними у огня, они выделяли его, предоставив ему единственный лежак, стоявший недалеко от костра. Во всяком случае, они все время помнили о том сообщении, которое было сделано им у входа и которое могло и для него, и для них стать решающим.
— Я буду краток! — громко начал Пипе, глядя в огонь и почесывая в затылке, а это значило — всем замолчать, кончать болтовню, он считал, что правильнее брать быка за рога. — Возможно, для нас это великая удача. Он — личный друг Муссолини! Он, Колоннелло!
В первую минуту можно было подумать, что с небес подают жареные индейки: все с несказанным удивлением, разинув рты, смотрели на Колоннелло. Может быть, Пипе преувеличивал, но похоже, что это было правдой. Молчание. Никто не шевельнулся. Вздувшиеся на висках жилы, в глазах изумление, недоумение.
Взволнованный, перепуганный множеством широко раскрытых глаз, без стеснения уставившихся на него, словно готовые выстрелить дула винтовок, Колоннелло соображал, что он мог для него означать, этот внезапный интерес. Великий боже, что иное, как не «pollice verso»![50] Что же, если не «pollice rovesciato»?[51]
Один только Чоле чуть хмурился, что не ускользнуло от орлиного взора Пипе. Если полковник большая шишка, как говорит Пипе, тогда прости-прощай мечты о сапогах!
— Не надо хмуриться, Чоле! — продолжал Пипе, усмехаясь и прерывая возникший гул голосов. Он любил подразнить Чоле. Это всегда создает близость и доверие. Тому, кого упоминаешь, становится теплее, когда он видит, что о нем не забывают. — Слушайте! Мы можем требовать за него выкуп, поняли? Давайте теперь хорошенько обсудим, что мы должны за него потребовать?
Молчание.
— Я не слышу! Давай ты, братец Марко.
Марко повернулся к Колоннелло и смерил его взглядом с ног до головы.
— Трус несчастный! Ну что за него получишь? — сплюнул Марко. — С паршивой овцы хоть шерсти клок!
— А ты, Лука? — настаивал Пипе.
— А?.. — Осмотрительный Лука пожал плечами и чуть прищурился. — Вот дали бы за него каждому по пачке махорки…
— Махорки? Махорки? — встрепенулся Чоле, сообразив, что у Колоннелло в карманах его щегольских брюк мог быть портсигар или что-нибудь из курева, подскочил к пленному и с неуклюжими жестами, выражавшими горячее желание хоть раз затянуться, спросил: — Слушай-ка, Колунел, табак есть… а? Хоть одна сигарета, а?
— Спасибо… я не курю! Нет, нет, спасибо!.. — с натянутой любезностью, думая, что ему предлагают сигарету, ответил по-итальянски Колоннелло.
Пипе рассмеялся про себя.
— Как же ты живешь, горемыка! — с презрением запричитал Чоле. — А еще полковник. — Сплюнул и отошел к огню.
— Я бы потребовал за него еду: мешок-другой муки… армейские консервы, — предложил Петар.
— Браво! — согласился Пипе и облизнулся.
— А я — гранаты! Десяток, нет, два десятка! — крикнул Боже.
— Браво! Еще лучше! — одобрил Пипе.
— Мешок сахара и… мыла, братцы! — скромно сказал Мартин.
— Отлично! — расцвел Пипе, еще раз утверждаясь в своем добром мнении о людях и их душах.
— Э, други мои, что вы мелете, — заговорил Чоле ханжеским тоном сельского мудреца-проповедника, чей опыт пронизан вечным разочарованием. — Поглядите на него! Кто за него столько даст? Нет от него проку ни войне, ни бабе! Не пьет, не курит! О боже! Ему бы только гулять и все. А кто это даст выкуп за человека, которому только бы гулять? Или… — Он все еще не мог выкинуть из сердца предмет своих вожделений и добавил: — Так считайте, есть только то, что на нем. Я согласен с Марко. То, что на нем, стоит больше, нежели он сам. Мне бы его сапоги…
— Что ты присосался к этим сапогам, как пьяница к ракии? Все одну козу дерешь! — перебил его Пипе. — Слушайте меня внимательно! Я напишу письмо и отошлю его в Медовац, попу Ошкопице[52], для передачи итальянскому коменданту. Посмотрим, что получится. — Он смолк и окинул всех беглым, но выразительным взглядом — их надо было держать в руках. — Ты спрашиваешь, Чоле, что я напишу в этом письме?
— Ничего я не спрашиваю! — отмахнулся Чоле. Его снова обидели, но он прощал. Так он приобретал склонность друзей, вызывал сострадание, а что ему еще оставалось в неравной борьбе с Пипурином?
— Мы потребуем за полковника пять грузовиков… — размеренно произнес Пипе.
— Ух! Сказал бы уж пять вагонов, — не удержался Чоле и сел развалившись, с вызывающим видом.
— Потребуем пять грузовиков, — твердо повторил Пипе, и глаза у него расширились, как у орла, падающего на добычу. Пусть видят, что он не шутит. — Потребуем пять грузовиков, а в них чтобы было все: оружие, снаряжение, да… шинели, плащи, палатки, сахар, мыло, табак, башмаки, сапоги…
— Вот это дело! — вырвалось у Чоле.
— Ну-ка, подскажи мне, Чоле… — коварно приоткрыл ловушку Пипе. Все напряженно молчали, — …и шахматы!
— Вот это да! — закричал в восхищении Чоле. — Ты мастер издеваться! Издеваешься, да, Пипе? — спросил он настойчиво, с ухмылкой, но осторожно.
— Тебе правятся сапоги, а мне шахматы! — отрезал Пипе без злости, но поучительно, со всепрощающей улыбкой, стараясь, чтобы его голос не звучал покровительственно, а слова не казались двусмысленными. — Когда говорят о том, что ты любишь, ты всегда: «Да, так!» А когда говорят о том, что я люблю, ты считаешь, что это издевательство! Вот так, Чоле, и нечего тут злиться, своя рубашка ближе к телу. Та же тебе всемирная история!
— Да, конечно, это ты верно говоришь! — пожал плечами Чоле, чувствуя, что снова его обошли, если не высмеяли, и принялся высекать из себя, правда не без труда, искру слабого протеста, даже сопротивления. Поведение Пипе не только начинало его раздражать, но и разбудило затаенную ненависть.
— Надо написать получше, — продолжал Пипе, — и потребовать, чтобы прислали наверх к перевалу Волчий лог через неделю, в три часа дня пять грузовиков только с шоферами, без охраны. Кто «за»? Все. Единогласно. Порядок. Теперь не мешайте мне. А ты, Марко, готовься, пойдешь в Медовац.
— Что же ты не послал меня в Медовац раньше, пока я не забрался сюда… к чертовой матери… за тобой? — яростно загремел Марко.
— Хотел, чтоб ты посильнее проголодался! — улыбаясь во весь рот, ответил Пипе и подмигнул ему.
Марко скрипнул зубами, он сжался точно пружина — того гляди, лопнет. Но зад широкий, да штаны узки.
А ведь верно, Пипе не обманывался.
Марко покорно нагнул голову. Однако глубоко ошибся бы тот, кто поверил, что дикий кабан в нем уснул. Он уже точил зубы на добычу, какой в этой волчьей яме ни в жизнь не найти. И начал собираться в дорогу. Сгреб с лежака куртку, сунул Колоннелло свою вшивую шапку, поигрывая револьвером, чтобы припугнуть фашиста. При этом одарил его кривой улыбкой (что снова встревожило Колоннелло) — что ни говори, если бы не Колунел, не было б и надежды наполнить свой пустой бурдюк.
На измятом клочке старой пожелтевшей оберточной бумаги Пипе вперемежку с солеными шуточками написал попу Ошкопице несколько слов. То была не военная, а «гражданская», даже «личная» связь Пипе, — туда он посылал запросы «тылового характера»: просьбы о медикаментах, провианте или домашних лакомствах — благодать, такую неоценимую при всеобщем оскудении военного времени. Эту связь не так-то просто было раскрыть — она окроплялась святой водицей лицемерия, а корни ее уходили в крепкое братство, в старые родственные связи между двумя широко разросшимися семейными деревьями — поповским и его, Пипе. Он уже представлял себе перепуганного попа и наслаждался безвыходностью положения, в которое повергнет его это письмецо: вот он, точно крыльями, машет жирными ручками, будто отгоняя мух и оводов, вот сыплет невнятными проклятиями, будто у него чирьи прорвались или лягушка к нему прилипла. И все же поп всегда отвалит что-нибудь существенное, не откажется выполнить и трудное поручение.
Тем временем вокруг Чоле собрались друзья-приятели послушать обстоятельное объяснение и толкование былых приключений, изменчивых снов и острот Пипе. Это было своеобразное развлечение молчаливого большинства, словно кофе после обеда, — забавными небылицами, пикировкой, конечно, до известной границы, и всегда полное живой, манящей надежды — ведь источником этого пустословия было простодушие, а Чоле был само простодушие. И если кто-нибудь слишком увлекался, Чоле первым останавливал такого, что уже говорило само за себя.
— Зарвался, зарвался сверх всякой меры! Пять грузовиков! И посылает Марко в Медовац! Ха-ха! Да он над нами насмехается. Если они и придут, эти грузовики, то придут пустые. — В болтовне Луки было неверие.
— Сильно палило солнце дорогой! Напекло ему голову, это точно! — весело откликнулся Чоле.
— Какое солнце? Осень ведь, — бросил Лука.
— Пойдем, смочим тряпку, замотаю ему голову, — продолжал Чоле, словно не замечая направленных на него издевательских взглядов.
— А все ты виноват. — Он резко повернулся к Колоннелло. — Ни крошки табака нету! Плевал я на твой фашизм! Тьфу!
Пипе весело подошел к Колоннелло. Он всегда радовался, когда появлялась новая надежда, возможность рассчитывать на скрытую карту, как на солнце за облаками.
— Не хотите ли написать пару слов вашему командованию? — протягивая свое послание, предложил он старику. — Вы знаете, что мы просим в обмен на вашу персону?
Но перечень товаров не интересовал Колоннелло.
— Да, да, с удовольствием, с удовольствием! — обрадовался он, взял у Пипе бумажку, карандаш и огляделся в поисках подставки.
Пипе подмигнул Марко, уже собиравшемуся в путь, тот держался важно, подчеркнуто исполнительно.
— Марко! Давай, брат, Марко! — обратился к нему Пипе, почесывая в затылке, и это значило, что задание неприятное, но неизбежное. — Послужи ему столом! Подставь спину, чтоб человек мог написать своим пару слов!
Марко проглотил ругательства, немного подумал, однако согнулся и подставил неуклюжую крепкую спину, ноги он чуть-чуть раздвинул, словно ждал — вот сейчас на него навалят что-то тяжелое, мешок с зерном.
— Grazie, — любезно пискнул Колоннелло и начал писать красиво и быстро, угадав в словах Пипе соломинку, которая может помочь его спасению. Старательно вывел подпись, не слишком лихо и небрежно, с барочным росчерком, свидетельствующим о мощи и исключительности своего общественного положения — на самых верхах древней и могущественной иерархической лестницы. Правда, особой уверенности в успехе у него не было. И здесь сказался его горький опыт.
Все выбрались из хлева проводить Марко, в том числе Колоннелло, завернувшийся в его куртку. Остальные дрожали от холода.
Сейчас Марко был для них воплощением надежды, надежды пусть неведомой, призрачной. А во что выльется эта надежда, вопрос другой, об этом сейчас лучше не думать. Во всяком случае, в рулетке сделана заветная ставка, и, как знать, вдруг счастье само их выберет? Чувствуя важность происходящего, все смотрели на Марко суеверно, с опаской, точно на горбуна в лихую годину. Но никому ни за что на свете они в этом не признались бы.
Марко с порога махнул им рукой. Сразу же за оградой его окутала тьма, и они ему мысленно махнули в ответ и долго шагали с ним по каменистым тропинкам, которые знали, как свое подворье. Счастливо! Они глубоко и неровно дышали, точно азартные игроки. А потом дружно начали в душе опекать Марко, предрекая ему страшные беды, бессмысленные, нелепые, и густой туман, и кромешную тьму, и беспросветную несчастливую ночь, зло и позор. Все, кроме Пипе, который словно на сказочном Пегасе несся вскачь вместе с Марко.
— А вдруг его убьют, а письмо отнимут? — не выдержал Лука, бросив укоризненный взгляд на Пипе.
— Ну, главное, чтобы почта попала по назначению, — не без иронии заметил Пипе. Сейчас все должно служить «высшей цели» — и перст божий, и червовый король, и турецкий рок, и сапоги, и война — хорошему человеческому смеху, свободе, правде и будущему.
— Так было и будет, — с горечью мудрствовал Чоле. — Колунела береги пуще глаза, а Марко пусть черти унесут, пошли ему господь удачи.
— С Марко, милый, ничего не случится, — защищался Пипе. — Из пушки по воробьям не стреляют. К тому же Марко бережет себя с самого рождения, как и ты, а полковника всегда должен кто-то охранять: там Муссолини, здесь я…
— Ну, сравнил! — возмутился Чоле.
— Политика, мой Чоле, политика, — возразил Пипе.
— Курвинская! — припечатал Чоле и даже испугался: — Я если люблю — так люблю, а если ненавижу — так ненавижу, ей-богу!
— Вот и ладно, — насмешливо поддержал Пипе. — В любовь верь, а умом проверь. Так говорил твой отец, умнейший был человек.
— Вот бог его и прибрал… в последний день первой мировой.
Чоле с горечью сплюнул. Заговорили все разом и стали забираться в хлев, пропустив первым Колоннелло — «для пущей безопасности».
МАРКО
По пути в Медовац вечно голодный Марко мечтал о еде и, чтобы скорее шло время, размышлял обо всем на свете. Но что-то поминутно отрывало его от дум — то ночной шорох, то предчувствие внезапной опасности, — тогда все чувства мгновенно обострялись и напрягались до трепета. А опасность ждала за каждым кустом, за каждым камнем, готовясь застать его, «молодого и непорочного» — на пасху ему исполнился двадцать один год, — врасплох. Он шагал осторожно, упруго, чуть склонившись набок; тело его было соткано из нервущихся, точно воловьи жилы, волокон, он казался набитым бугристыми мышцами, как кабан. «Смахивает на отца», «вылитый дядя», «как две капли воды покойный дед». А камней потаскал и клецок поел — на всю жизнь. Мало того, что он был, как говорится, плотный и сбитый, мало его сходства с кабаном — словно о нем была сложена народная пословица: «Плохо скроен, да крепко сшит». «Похож на кабана, что ж из того? Многие люди похожи на животных», — так говорил Марков старик. «Неправда, что он похож на кабана. Как может молодой парень походить на поросенка?» — удивлялась тетка, на что мать отвечала: «Он видный, крепкий, здоровый парень. Любая будет рада его обнять, когда он станет мужчиной!» Всяк сам по себе хорош. И он всегда был склонен неплохо думать о самом себе. И потому верил, что не так черт, а тем более человек, страшен, как его малюют. Ладно, пусть он напоминает какую-то тварь, но он же человек, парнище в расцвете лет и еще не вкусил жизнь, а ведь жизнь-то должна повернуться к лучшему. Не может человек вечно оставаться голодным! А вдруг и его голова уцелеет в этой кровавой бойне! Гм, кабан?
Он не хрюкает. Ступает аккуратно, слух насторожен, как у оленя, револьвер в руке, на взводе, «клюет на муху», а рука в мешке, перекинутом через правое плечо.
Он надеялся добраться до Медоваца часа через четыре, к десяти. Не уляжется же поп спать в такой ранний для города час? А если и уляжется, он поднимет его, растрясет ему двойной подбородок, как гроздь винограда. Только тихо, без шума, не наткнуться бы на итальянский патруль, не наскочить бы на засаду. Вот поднялся бы шум, крик, пальба, точно лиса забралась в курятник. Патронов бы потратили больше, чем в жестоком бою. «Молчи, не поминай черта!» А правда, зачем это итальянцы так густо натянули колючую проволоку, понастроили бункеров возле Медоваца, укрепили городок артиллерией, нагнали танков да пехоты, когда партизан тут всего один летучий отряд да их группка? Не рассчитывают ли они, чего доброго, и после войны остаться в Медоваце? Сейчас осень сорок второго, не будут же их носить здесь черти до весны. Затянется война, где напасешься еды для солдат и людей, ведь никто не сеет, не сажает? Запасов никаких, черт побери, а если поля не засеяны, хоть сто лет ищи, не найдешь зерна, чтоб мышь червяка заморила. Тогда зачем итальянцы огораживаются и закапываются в землю — чтоб жечь все вокруг и палить из пушек по ослам и детишкам в горных селениях? Или оккупанты несчастные трусы, или не представляют, сколько нас и чего им ждать из-за гор?
А что-то происходило, чего он не знал и о чем никогда не узнает. Было ведь что-то сверх его, Марка, разумения, необозримое, как море, — он его не видел, но много слышал, особенно от «американцев», тех, что вернулись из Америки, у которых все, что бы они ни видели, в конце концов превращается в весомые слова. Все-то они расписывают, черт побери! И все-таки что-то будет. Что-то произойдет за Северным хребтом! Там, за горами и лесами — вся сила партизанского войска. И Пипе говорил, что мы повсюду, что нас полным-полно и в бою, и в землянках, а связные еще рассказывали о каких-то «страшных» соединениях, оснащенных легким и тяжелым оружием, как перед войной на параде в Медоваце. Пипе хитрый и мудрый, он не держался бы так уверенно, если б не сила, великая сила, а за ней — Россия, Англия, Албания. Он никак не мог представить себе фронт, но никому об этом не говорил, молчал, хоть убей. Он даже не знал, как летит, свистя в воздухе, винтовочная пуля, пока ему не объяснил Павал, старый вояка. («Пуля летит вперед-вверх и вниз, господи, как бы тебе растолковать — как машинка парикмахера: сначала по темени, а потом круто на затылок».) Марко было стыдно. Когда объяснят, кажется, совсем просто, а ведь это только зернышко науки, как для ребенка. Надо признать, про себя, конечно, голова его не была перегружена знаниями, она была легкая, как перышко. Зато был он хитрец, лис молодой, но бывалый. И потому молчал. Если б товарищи проникли в истинное положение вещей, шерсть с него полетела бы клочьями. Он не мог уяснить себе, где сражаются русские и англичане против швабов и итальянцев, что значит вести бой с самолетами, с кораблями, где располагается штаб Сталина и Черчилля, как выглядят противотанковые рвы и каким образом столько народов договариваются между собой.
Да оставь ты, Марко, фантазии и россказни Пипе, займись своими делами. Кто о чем, а мы о своем. Есть наши и в городах. И в Медоваце их, значит, достаточно. Есть там и коммунисты, как Пипе, у них своя организация, как знать, может и поп с ними заодно, ведь попы, они все грамотные, говорят, что по книге читают, кому, как не им, водить «коло[53] войны», и лучше им быть с нами, чем против нас, дьявол их побери. Итальянцы редко стреляют, не вылезают из Медоваца, а усташи[54], те не могут воевать за швабов на фронте и воюют возле своих домов. Так что если уж и поп с ними, то ему, Марко, сам бог велел, — он куда беднее попа, да еще и неученый. А таких много, бог знает сколько, ими можно море засыпать. Так вот, чертова тетка, «что бабе мнится, то бабе и снится!». А поскольку он еще ни одной не прижал в кукурузе, он называет их «женским мясом». У-у-ух! А возраст у него самый подходящий. Ох, братцы мои, как начнется такое, забудешь и про войну, боже милосердный, не то что про пахоту. Черт возьми, из головы не выходит, а ведь пустое место! И все, что человек в жизни делает, все пустое. Из пустого в порожнее, из пустого в порожнее, вот тебе и вся жизнь, вернее, житье-бытье, как у быдла. Разве это жизнь!
Так размышлял Марко, угрюмо, мелко и грязно, шагая нога за ногу, и около одиннадцати часов подступил к гудящей медовацкой проволоке, предательски опасной, — только и гляди, наткнешься и выдаст она его, молодого и непорочного. Марко знал вход в город, как в пещеру, где играл в детстве: под проволоку, по ручью, через густой дубняк, вдоль бузины до старой дороги, а там уже просто. Он бесшумно крался темными пустыми улицами Медоваца, кошкой перемахивал через ограды, миновал развалившиеся железные ворота и наконец оказался в знакомом просторном богатом поповском саду, где — ну и дьявольщина! — даже во время войны росли цветы вместо овощей и картошки.
Марко спрятался в большой куст сирени. Он, Марко, и сирень! Это показалось ему таким несуразным, как черт и ладан, как кабан на клумбе с гвоздиками.
Затаил дыхание. Прижался к земле, точно на охоте, перед птичьим гнездом, когда с восходом солнца ждешь не дождешься хлопанья крыльев. Правда, сейчас тишина. «Не нагнал бы черт — ни шума, ни света».
Он поднял камешек и швырнул в закрытый ставень. Потом еще раз.
Вскоре за окном брякнуло, послышался скрип рассохшейся рамы, и мглистый лунный свет выхватил большую круглую голову с ямами вместо глаз и рта — совсем ярмарочная моментальная фотография в золоченой рамке.
— Кто здесь? — хрипло спросил поп.
— Это ты, поп Ошкопица? — отозвался из тьмы Марко, раздвигая куст.
— Я спрашиваю: кто здесь? — сердито повторил поп, и недоброе предчувствие потянуло его обратно.
— Ага, пароля ждешь? — ехидно спросил Марко, ярость попа развеселила его, прямо разбирало до колик. — Ну вот тебе: «Пипе Пипин, покойного Пипа!»
Поп что-то проворчал в ответ и проснулся окончательно, глаза у него вспыхнули, будто явился сам сатана из пекла, он лязгнул зубами и захлопнул ставень.
Марко снова скорчился в кусте. Сколько поп заставит его ждать? Ну что ж, тем хуже для него!
Но отворилась тяжелая дверь, поп огляделся вокруг, злой и встревоженный, и, тихо чертыхаясь, кликнул Марко. Марко мелькнул тенью, бочком пробрался мимо поповского брюха, как мимо раскрытого зонтика, поп неслышно притворил дверь и тут же, в прихожей, начал разнос:
— Пароль все тот же, да? Ведь война! Черт бы вас побрал всех! Вместе с Пипуринами! И тебя, дай бог, раз ты с ними!
Марко молча поднялся по скрипучей лестнице, и, когда поп наконец запер дверь комнаты, видно было, что он разомлел, точно большой кот у огня, — от него так и несло потом. Марко, не дав ему отдышаться, спокойно, хладнокровно отчеканил:
— Ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не видел, а что знал, то позабыл! Получай письмо и хватит чертыхаться!
Попа уже трясло от бешенства, оно овладевало им, как лютая коварная болезнь, но письмо он принял, поскольку этот деревенщина совал его упорно, настойчиво, как одержимому или вероотступнику суют крест. Опять та же вонючая, неотесанная креатура, ну просто, господи прости! — Венатор, Маллеус, Пэрцус. И снова посылает этот проклятый Пипурина — Пеккадор, Экстерминатор, Морс[55]. Но что попа задевало больше всего, так это флегматичный тон Марко, его манера говорить с оттенком поучения, богомерзкого поучения, точно обращается к своему быку перед тем, как взяться пахать свои три ютра[56] земли. К тому же голос у него невыносимый: орет, надсаживает разбухшие голосовые связки то ли от злобы, то ли от тугоухости; не приведи бог, услышит кто-нибудь в такой-то час, тогда жди бед и напастей. Нет, видимо, таким обращением он хочет задеть священника, которого до последней минуты, до этой самой минуты, уважал и возносил. Но этот мошенник не сможет его спровоцировать, теперь он проник в его жульническую, злонамеренную цель и не станет ему потакать. Нужно беречь свой покой! Только так!
Поп решил держаться до конца, единственное, что ему оставалось.
— «Хватит чертыхаться», а? — хлопнул он по плечу Марко, и похлопывание незаметно перешло в сдержанные, но ощутимые шлепки, рывки, щипки, точно у попа горели руки от потребности наказывать. — Нечего чертыхаться, а? Вот ты как, а? Со слугой божьим, а? — И каждое «а?» сопровождалось шлепком тыльной стороной ладони по затылку, по губам, по лбу, по темени, по ушам. — Великолепно, браво, а? Ты ученик Пипе, а? Узнаешь еще, где раки зимуют! А? Браво, браво! Ничего не скажешь! А? — Наконец после изрядной передышки голос его переходит в печальное «ламенто», в сокрушенную жалобу с нотками самоуничижения и укора себе самому и времени, в котором он живет: — Ах! Господи, господи! До чего мы дошли, и куда мы зашли — далеко, дальше некуда…
— А куда мы зашли? — заходили скулы у Марко. — Я пока что с места не сдвинулся!
Услышав эти твердолобые, откровенно дурацкие мужицкие слова, поп задохнулся, кровь у него вскипела, сердце заколотилось, и гнев его излился в искрометной фуге:
— А ты мог бы на минуту, по своему желанию, по необходимости, по божьей милости, или во имя всего святого, голопузый, — ben trovato[57], — заткнуть себе глотку, чтобы я смог прочитать это послание твоего любезного, но безграмотного начальства? А? Или ты и дальше, спрашиваю я, будешь чинить мне препятствия в этом сверхпечальном деле? — задыхаясь от полноты, поп взвыл, как собака, а под конец чуть слышно проскрипел, почти проплакал: — А, а?
— Много, брат, болтаешь! Я бы за это время уже наелся! — с грустью укорил его Марко, непоколебимый как земля, а затем сказал нараспев: — Словами сыт не будешь.
Понятное дело, у попа тут же разлилась желчь, глаза бешено загорелись, рука задрожала от сильных толчков пульса, он замахнулся (в этот момент он замахнулся бы и на рай, и на ад!)…
— Ты! Знаешь! Молчи! — Но, собрав все душевные силы, взял себя в руки (ему, должно быть, пришла на память одна из десяти божьих заповедей — по всей вероятности, «не убий!») и в последнюю минуту подавил греховную мысль — словно пламя свечи метнулось на сквозняке.
— Ладно, давай читай письмо! Уймись! — пожалел его Марко, он и вправду хотел, чтобы поп успокоился, понимая, что достаточно его подразнил и напугал своей фронтовой лихостью, словно это был псарь, а не — как ни суди — слуга божий.
Понемногу успокаиваясь, поп повернулся к нему спиной, стараясь спрятать свое разъяренное лицо, грешное и жалкое, и в то же время не видеть этой препротивной рожи.
— Aquilla non capit muscas, non capit muscas! — бормотал он вместо «mea culpa»[58], разворачивая мятую бумажку, которую лесовики называли письмом.
— А? — переспросил Марко, не улавливая слов.
— Орел не ловит мух! — вразумительно произнес поп, воспрянув духом, и закрыл в раздумье глаза.
— А-а, понятное дело! — согласился Марко, точно услышал нечто совершенно естественное, о чем нечего зря говорить, и мало-помалу стал двигаться к заветной цели — поповской кухне.
Поп надел пенсне с проволочным ушком на самый верх раздваивающегося на кончике носа и скосил строгие острые глаза в письмо. Он чувствовал себя самым последним, самым бесстыдным расточителем, и в глазах у него, помимо приличествующей сану строгости, светилось искреннее раскаяние.
— «Дорогой шпион»! Неплохое обращение, — ехидно осклабился поп уже в самом начале, но затем молча стал глотать тяжкие для восприятия слова Пипе со все нарастающим удивлением. Его брови, торчащие вверх, издевательски поползли еще выше, а выражение сжатых губ стало брезгливым, точно под носом была падаль, а не письмо.
— Браво! Чем дальше, тем лучше! — фыркнул поп. — Он мог бы потребовать самолет, линкор или собор святого Петра! Браво! — Но ответа не услышал. Огляделся, ища парня, углядел его в кухне, где тот неловко и робко примащивался возле стола, и закричал:
— Знаешь ты, что он требует?
— Ничего я не знаю. Знаю, чего я ищу! — отрезал Марко.
— А что вы сделали с этим несчастным? Бедняга, каково-то ему в лесу, среди волков! — запричитал поп, а в голосе у него слышались издевка и зловещее предчувствие. Но одна нотка в этом голосе была фальшивой: он знал, ничего плохого пленнику не сделали, даже больше, что ему ничего плохого и не сделают, и он словно жалел об этом, словно был разочарован «их» великодушием.
— Дал бы ты мне поесть и попить! — спокойно выразил свое постоянное желание Марко.
— Нет, вы только поглядите, какой скромный да почтительный! — снова вспылил поп, а на лице у него гримаса печали сменялась гримасой отвращения. — А знаешь ли ты, который час и где ты находишься, и я с тобой овец не пас!
— Если б ты со мной пас овец, я бы тебя не просил — знал бы, что у тебя ничего нет! Где было, там будет, где бродило, там и будет бродить! — ответил Марко врастяжку, не без удовольствия и даже со скромным наставлением, словно говоря: вот тебе то, чего ты добивался!
Поповская твердыня опять задрожала, теперь у самых основ. Перед этим бесчинством, перед воплощением тупости и безбожия, перед ядом змеи, перед олицетворением хладнокровного злодейства и свирепости, готовым убить из прихоти, из каприза, ради наслаждения, он был бессилен, как путник перед дикими зверями. В глазах Марко трепетала насмешка и застыла мольба о еде — поверх всего, как копоть на кастрюле, чернел неизбывный человеческий голод. Поп не мог не видеть этого. Добрые люди преданы проклятию милосердия, и для них бесполезна броня горького опыта, которой они пытаются защититься. Но поп не сдавался:
— А что будет, когда мы победим, дикарь несчастный? — завопил он.
— У меня станет больше, у тебя меньше! — воспрянув душой, весело откликнулся Марко, ударил себя в грудь и неловко дотронулся до попа, словно в детской считалке.
— Ох, ох… Боже мой! — устало начал поп, вознося благодарность богу за великий его дар — терпение. — Это Пипе, это исчадие ада, вас выучил, будь он проклят.
— Ты поп, он дьявол — как палец и ноготь!
— Ах! Прости его, господи! — болезненно застонал поп. С языка у него чуть не сорвались непотребные слова. И снова он отрекся, отказался, отступился — такой уж это был несдержанный, яростный характер — от великой божьей милости: терпения. Он стукнул себя кулаком в грудь, резко повернулся, точно его подкинуло, скуфейка на нем подпрыгнула, он опрометью кинулся в комнату и захлопнул дверь.
Марко это озадачило. Неужели поп оставил его с носом?
— Дашь ты мне поесть… или я сам возьму, а? — крикнул он и прислушался, так что лицо его напряглось, как у глухого, но из комнаты не доносилось ни звука.
— Видно, придется самому! — успокоенно вздохнул он и принялся отворять дверцы старого поповского буфета. Застоявшийся кислый запах ударил ему в нос.
ПИПЕ
В хлеву все спали, кроме Пипе, Чоле и Колоннелло.
Пипе летел на одном из своих бесчисленных ковров-самолетов, на крыльях безудержной врожденной фантазии, окутанный тогой ярмарочной пестроты — от маленьких иллюзий до сказочных видений.
В очаге догорал буковый пень, покрытый белым раскаленным инеем, сияния от него исходило все меньше, да и тепла тоже, словно они удалялись от одной звезды и сквозь леденящую тьму приближались к другой.
Часы пущены, игра началась. Может ли это упорное состязание шевельнуть колокольчик, отмечающий мизерную удачу, дабы приблизить заветный час — звон колокола победы? Захотят ли итальянцы теперь (в этой игре вокруг полковника) согласиться на обмен? Не много ли он просил? Захотят ли они отнестись по-человечески к своему старику, когда по-зверски обошлись с тысячами наших? При существующем положении вещей Колоннелло получит поддержку на своей земле: множество и наших, и чужих стариков было бы расстреляно за одного-единственного друга Муссолини. У Пипе, конечно, прекрасная карта, так что пусть противник раскошеливается, если хочет видеть Колоннелло живым и здоровым.
Дни приходят и уходят, пустые, смутные, слепые, кровавые, счастливые и несчастливые, на рубеже великих битв и великих свершений. Человек погибает, борется, ждет, поскольку он кузнец своей судьбы (приятно иногда что-то утверждать без особых доказательств), он может предвидеть и надеяться, потому-то ему и позволено изредка, самую малость, предаться мечтам — возле них он может погреться, пока жив и здоров, пока способен радоваться завтрашнему дню. Вот так. Будем живы, доживем! Ведь завтра — это сегодняшняя улыбка. Надейся. Не смей складывать руки, но и надрываться не надо, ты не осел. Посмотри на Пипе!
Кем был Пипе? Никем и ничем. К счастью, не было никого, кто бы о нем печалился (а может быть, и радовался за него, как знать), все давно отошли в лучший мир, а его бросили как зверька, чтобы жизнь стегала его кнутом, словно зверек был бешеный. И все его школы — от основной до диплома — в голове! Нужны доказательства? Вот они: первое — седой клок на щетинистой тыкве головы на тридцать шестом году бродяжничества по разным дорогам (без ремесла и дела, а ведь хлеб за брюхом не ходит); второе — язвительная неудержимая насмешливость, точно шпага лихого фехтовальщика Фербенкса-старшего, только у Пипе язык вместо шпаги, и это куда опаснее — разит наповал; третье — глаза, где цветут розы (с шипами!), откуда бьют лучи от преувеличенно гордых до преувеличенно убийственных; и в сочетании — это его жизнь. Когда он среди добрых людей, это — лукавство и истина. Редкий счастливец получает такое от судьбы (пока его не разгадают!), потому дар свой он должен старательно оберегать и хранить, если у него хватает ума и таланта развивать его своими поступками и поведением с людьми. Например: невзначай брошенные слова в какой-то момент соединяются в одно веское! (Порой можно и передохнуть, ведь как-никак, каждый имеет право на свое сокровенное, на свою маленькую тайну.) Человеку не дано делать то и так, что и как он хочет, жизнь сильнее, она как ветер — то чуть коснется ласково, то унесет безвозвратно, словно вихрь соломинку. И люди больше уважают тех, кто не открывает им душу: непознанное имеет свое обманчивое очарование.
Пипе любит себя, любит пусть скромное, но возвеличивание («щегольство и суета из единого гнезда»). Другие демонстрируют это открыто и шумно. Хотя, когда его возвеличивают открыто и шумно, ему это нравится. Как говорится — не бог весть какие расходы, а ободряюще действует на любого простака, почему же ему быть исключением? Но правда и то, что временами он думает о себе хуже, чем его самые заклятые враги, и именно тогда, когда смешит и смеется сам. Следовательно, в основе его воодушевления лежит малодушие, как у того пусть самого маленького исчадия ада. Может ли человек всегда сохранять внутреннее равновесие? Не лишит ли его это равновесие человечности, и вообще, существенны ли подобные размышления для мира? Куда лучше одним махом избавиться от них, как он выбрался из лабиринта размышлений о боге, о женщинах, о поисках места под солнцем!
Конечно, можно сказать, что он был ничем и станет всем! (Если забыть о скромности!) Конечно, он мастер на все руки. В карточной игре ему нет равных. Он идет по жизни с шутками и прибаутками, знает все, не зная ничего! (Нужно иметь отвагу это признать!) Он не шел (когда случалось) на патетические компромиссы, не поддавался неоправданной растерянности! (Все и рассчитано и естественно.) А в общем-то каждый по-своему полезен и все необходимо в какой-то определенный момент. Самый ничтожный человек, и тот может принести пользу. Каким образом? Просто самой своей ничтожностью, которая всегда вызывает мятеж и кипение. И презрение достойно обожания, если оно искреннее, а обожание — презрения, если оно неискреннее.
А Марко у попа, известное дело, — ест! Такого прожорливого существа не найти даже в Китовом море. Поп все толстеет, как и все его родичи по нисходящей (правой) линии, — и не столько из-за плохого пищеварения, как они утверждают, или от склонности к подкожному отложению жира, сколько из-за лицемерия! Вот придут семь (или девять!) голодных лет, тогда приверженцы голодания потолстеют (неплохо бы вписать это в Библию). «А разве для тебя это не важно, Пипе?» — «Нет, не важно! Я не голоден — я за день достаточно наговорился!» — «Однако эта мудрость, записанная в Библии, не так уж далека от истины — ведь тебе приносят лучшие куски». — «Прости меня, но только тогда, когда и у других есть кусок, и, в конце концов, кому до этого дело? Ведь я не скотина, и голод не будет длиться вечно, к тому же, если повезет, и нам скоро выпадет большая удача. Я говорю, если выгорит дело с полковником!» — «Тогда, после экскурса в прошлое, чего ты не любишь, разберемся, в чем все-таки дело?» — «Дело во вращении земли»! (Не обязательно всегда говорить просто понятными или просто непонятными словами!) Конечно, во «вращении земли»! Только каждый человек каждый день должен хоть чуточку ее подтолкнуть. (Хорошо, если бы толкал каждый пятый!) И пусть толкают всякий ее клочок, и тогда все люди на ней окажутся на лучшем месте. (И займет это совсем мало времени — мгновение.) Толкая, творения приближаются к лучшему месту (хотя некоторые и отдаляются от него), главное — начало, ведь вопрос не только в том, быть или не быть, и не всегда будут задаваться вопросами, как и каким образом ее толкают. (Пусть это будет лягание лошади, прикосновение стрекозы, даже сложенные на груди руки, все равно, и первое, и второе, и третье вместе продвинут дело!) Не надо ждать, как до сих пор, пока начнут цвести одни розы, и мало-помалу каждый станет чище (это не сразу, так прорастает зерно без солнца), и он, по своей воле, однажды передвинется на лучшее место, и завтра, ну послезавтра (осторожность никогда не мешает), станет больше человеком, чем был вчера и позавчера, если, конечно, при этом движении (и отталкивании — сила силу не ломит, ты по гвоздю, а гвоздь в доску!) не потеряешь голову или память, не упьешься славой или вином и не пошлешь все к чертовой матери! (Но это существенно только для единиц, ведь все разом не могут потерять голову, и сохранившийся росток не погибнет, он всегда будет готов выстоять и взойти, даже после «судного дня».) Человек не может вечно угождать людишкам, от которых зависит, он обязан думать о будущем.
Тогда уже не будет отдыха, мы не дети (хотя и рады детям), разве что изредка (чтобы стимулировать труд — ведь человеку недолго и заболеть — и чтобы поощрить отличившихся, может, и для некоторых других, пока еще неясных целей). Именно тогда, в ту светлую пору, пробудится счастье. Оно придет и расцветет в свой единственный час! (А не так, как теперь, когда он «прикупил» четвертого короля, червового, а у противника на руках «пять досок» вместо приличной карты, и все карты на столе биты; и рухнул карточный домик — исчезли все междоусобицы, спало внутреннее напряжение и осталась ерунда, мелочи, мурашки по телу, и нужно глубоким, очищающим выдохом остудить сердце, снять сильный спазм, словно на смертном одре. Страсти незаметно, с улыбкой умирают бесконечное число раз, и всегда заново, с улыбкой рождаются, горячие и уверенные в себе, а перед смертью остается самая твердая вера — в загробную любовь.)
«И все-таки лучше тебе, Пипе, сейчас поспать; война — это самое подходящее время для познания большого и бесконечно малого, но сейчас надо хоть немного восстановить свои силы. Ты же сам говоришь: при движении Земли и тебе необходим какой-то комфорт!»
Пипе оглядел сумрачный хлев — языки пламени на головешках угасли, огромные тени успокоились и висели, как сохнущие кожи, по балкам и стенам.
Партизаны лежали вокруг огня, на охапках прелой соломы, прижавшись друг к другу спинами, как вяленая рыба, укрывшись кто курткой, кто плащ-палаткой, а кто и просто обняв себя самого за плечи. Дышали тихо, вздымаясь, словно летели в детских недосмотренных снах, оборванных и исковерканных. У одних оружие словно приросло к костям, другие прижимали его к себе сведенными пальцами, будто куклу, которую защищают и которой защищаются от новых незваных и опустошительных снов.
Жар, подымавшийся к каменной кровле, отдавал стираным бельем и сушеными фигами, как в канун праздника. Пипе наслаждался этим запахом. Вонь прелой соломы и пропитанных потом завшивленных курток почему-то напоминала ему запах коптящегося мяса, аромат черногорских лесов, ключевой воды, вольного воздуха, и хлев показался чистым и светлым.
Чоле нервничал. Колунелу сколотили деревянную постель, как и Пипе, из развалившихся ясель, а Чоле лежит на земляном полу, в углу, в стороне от других. Он нервничает, глаза у него горят, и не столько от бессонницы, сколько от кипящей внутри злости и досады, она нет-нет да и сверкнет, как нож по яблоку. Правду сказать, на душе у него скребло: его затирали, им пренебрегали, а он уже считал, что наперед определил свое место, правильно разобрался в том, что имеет, что ему по душе и что должно ему принадлежать. Тут он перехватил быстрый взгляд Пипе.
— Надо бы и здесь поставить часового, — озабоченно шепнул он, поняв, что Пипе не спит.
Пипе бросил со своего высокого ложа косой полусонный взгляд на вечно бодрствующего адъютанта и спросил:
— Зачем?
Чоле кивнул на полковника.
— А вот схватит автомат, пока мы спим, и всех нас до единого — тра-та-та-та, к дьяволу!
Движения у Чоле скованны, он свернулся в клубок и словно боится пошевелиться, чтобы не разбудить товарищей.
Пипе только взглянул на него и закрыл глаза. Голос Чоле странно глухой, хоть и несколько выше обычного, и прерывается, словно его схватили за глотку, а это значило, что он подбирается к чему-то, как кошка к мыши.
— Вижу, не доверяешь ты ему… — уже сквозь сон, с трудом открывая рот, произнес Пипе.
— Доверять? Фашисту? — поднял брови рассвирепевший Чоле и свел их, мрачно и зло. — Он тебя не околдовал ли?
Пипе насмешливо прищурился, добродушно и наставительно сказал:
— Скорей я его околдовал, Чоле. Мы его околдовали, Чоле. Вот как ты должен на это смотреть. И на все вокруг, Чоле. Понимаешь?
— Я и о тебе подумываю, Пипе! Куда это тебя заведет? — Чоле продолжал обиженно хмуриться: и в глазах его не было уверенности, в них звучала фальшивая озабоченность, если не сказать притворство, и стремление как-то выйти из положения.
— Хорошо, что ты заботишься обо мне, это хорошо. Но скажи откровенно, считай, я тебе вроде исповедника: не подумываешь ли ты и о сапогах, а? — Приподнявшись на локте, Пипе всматривался в него со своего ложа и качал головой. — Правду скажи! Я никому не выдам!
Чоле не выдержал его пронизывающего взгляда.
— Да… я… вот что… — забормотал он и поник головой, покаянно и смиренно, хотя и не без расчета: за признание полнаказания, а там и все скостят. — Отчитываешь меня, как по-писаному. Теперь я верю, что ты его околдовал. Ты сильнее его, сильнее.
Пипе опустил голову на прикрытое платком твердое изголовье — мешок с опилками. Правда, мы сильнее, но что о том толковать, это всем известно и понятно. На мгновение он ощутил и себя очень сильным, но тут же подавил это чувство: человек может сознавать себя сильным, если видит силу другого, а Чоле ягненок, его приходится гладить по голове, когда время от времени он начинает беспомощно блеять.
Сон покрыл его мутной, проникающей до мозга костей пеленой и потихоньку баюкал. Пипе плыл в легком полусне по неведомым сферам, сплошь заполненным людьми из Медоваца, их силуэтами, голосами, смехом, пока на мглистом горизонте не появились размытые контуры величественной крепости — огромного пламенеющего сердца, похожего на сказочные гигантские меха. Оно ковало свое счастье, а в нем, во всех его залах и коридорах, во всех его жилах и клетках бродили веселые, приветливые, благодушные толпы, и где-то в самом укромном уголке, в высоком кресле развалился Пипе, а в руках у него «прикупленный» червовый король, и он открывает его, сдвигая карты и сгорая от нетерпения. Пелена сгущалась. Лучше грезить о завтрашнем дне. Но тонкий луч, острый, пронзительный, ударил в самый верх проклятой карты (в корону червового короля), которую он хотел от кого-то спрятать, — в ней крылась тайна, изнанка его души, страшный недуг, который вот-вот его свалит. Он знал, что разделен на две призрачные половины: ему изнанка милей и дороже лица, но никто не признавал и не хотел признавать изнанку! Глубокая, только его, страшная тайна! Почему не признают изнанку, почему? Разве это не человеческое — пороки, страсти, слабости, бурлящая кровь, непреодолимая жажда игры, ставшая дороже жизни?! Не было бы никаких недоразумений, стоит признать, что любая медаль имеет оборотную сторону, и ее не надо скрывать, надо только раскрыть карты, ведь иначе не будет волшебства, толкающего землю и приближающего человека к крепости-сердцу — к завтрашнему дню…
Свернувшись под плащом Марко на деревянной постели, Колоннелло полуспал, полубодрствовал, как старый забегавшийся заяц. Глаза его словно уменьшились, ввалились, как у черепахи, и утонули в снопах морщин. Отяжелевшие, отекшие, изъеденные стелющимся дымом и колючими слезами, они не смыкались, видно, не избежать конъюнктивита. В этом ужасном, холодном хлеву со спертым воздухом, полном неожиданностей и страха, он успокаивал себя надеждой, что все пройдет — очень скоро, с первым пароходом или, еще лучше, самолетом он вернется домой, в роскошную Умбрию, и отдохнет. Надежду подогревало то, что он лежал на досках — подобие кровати. Возможно, это и есть их пресловутое гостеприимство, идущее от язычества. Или жалость к старому несчастному человеку? Или они берегут его для обмена? Пусть будет, как будет. Он с трудом дожидался рассвета, когда ослабят болты, развяжутся узлы, распустятся петли ночи, все решится, и ему обязательно посчастливится — все будет хорошо, очень хорошо. Venire a bene, venire a bene![59]
ПОП
Начальник итальянского военного гарнизона в Медоваце ходил перед попом взад-вперед, словно маятник старинных часов. Как только он прочитал послание полковника — настоящий вопль — и удостоверился в его собственноручной подписи (к тому же было неоспоримым фактом, что он куда-то исчез), как только поп изложил требования мятежников, он глубоко задумался и принялся вышагивать. Выбрался из-под висящих крест-накрест знамен и портрета короля с ликторскими пучками по бокам, точно скрипучие качели выплыл из-под реликвий, которые требовали топота сапог и боя барабана. Среди ликторских пучков королевский портрет висел надежнее и выглядел привлекательнее, как козлик за решеткой в волчьей клетке. Согрешив мыслью, поп тут же смиренно и покаянно опустил голову, обвиняя во всем свое крестьянское происхождение, от которого он еще никак не мог полностью отрешиться.
Поповская желчь медленно прокисала (при этом должно заметить, что в иных случаях она могла легко воспламениться). В то утро он наскоро проглотил содержимое небольшой миски и заторопился в итальянскую комендатуру. Поспешный солдатский шаг за стенами команды отдавался в ушах, раздражая и нервируя. К тому же этот тройной смрад казармы, застойный, тошнотворный запах — сапожной ваксы, лаванды и пороха! Его ноздри судорожно втягивали липкий смрад по составляющим, очевидно из-за голода, с той минуты, как он почувствовал его. Итальянские офицеры безжалостно душатся, от них исходит приторный запах. И это офицеры армии цивилизованной страны! (Он никогда не скажет «оккупанты», и как может «longe in posterum prospicere futura» — заглядывать далеко в будущее?) Боже! Лаванда на войне! Точно война — дешевое любовное приключение! Господи! Этот землисто-бледный, в позолоте человек шагает как острозубый вампир в клетке, так что у попа замелькало в глазах. По всему видно — не любишь ты их, поп. Не в этом дело, ты не тревожься. Все люди — божьи творения, все исполняют свой долг. Но есть что-то, чего он не любят, не может любить, оно сидит в нем глубже — войска, насилие и предательство, суета и неразбериха, ненависть и страх, злодейство и грех, все эти кошмарные окружения, засады, зверство, скрежет, бешенство, безумие.
— Синьор командант! — закричал по-итальянски поп. — Нет выхода! Надо отдать все, чтобы спасти этого честного, храброго и достойного человека! Как сказал Данте: будьте людьми, а не тупыми овцами!
— Кто овцы? Мы?
— Боже сохрани! — в ужасе отшатнулся поп. — Но… — Он привычно воздел глаза к потолку, подчеркивая (привычно) гримасами свое предложение, — но ведь это возможно, ничего другого не остается, как уступить грубой силе. — Он поднял руки, благословляя и обнимая. (Ego sum pastor bonus[60].)
Комендант подошел к нему лицом к лицу. Маятник остановился. Умный, собранный, холеный человек лет пятидесяти — седой, костистый, с зеленоватыми глазами. Он старался проникнуть в душу попа холодным, испытующим и словно бы отрешенным взглядом. Наконец, не мигнув, погладил пальцами подбородок, — попа ослепили сияние массивного обручального кольца и насмешливый блеск чуть усталых глаз.
— А как вы обо всем этом узнали? — вдруг спросил комендант.
— Об этом бог знает. Мне исповедовался один крестьянин. Тайна, похороненная в душе. К сожалению, такова моя профессия, — по-итальянски ответил поп.
Комендант продолжал отсутствующим взглядом смотреть мимо его притворно горящих и беспокойных глаз. Нет более жалкого зрелища, чем игра и лицемерие провинциального попа, особенно когда его вынуждают исполнять роль святоши, обманщика, ревнителя божьих помыслов. И все-таки его занимала поповская тупость, слабость, банальность объяснений и отговорок.
— А как вы передадите ответ партизанам?
— Один бог знает!
— Это тоже святое дело?
— Это моя профессия!
— Вы глупый баран! — взвизгнул офицер, и белесые глаза его вспыхнули.
— И на то воля божья. Пусть будет так! — ответил поп твердо и тупо: упрек офицера укрепил его, как ветер столярный клей, он выставил нижнюю челюсть, сунул руку в карман и сложил кукиш. Таким ругательством он отвечал лицу, которое превышало свои обязанности и стремилось проникнуть в области, ему неподвластные. («Non est in potestate vostra», мой недозрелый офицер! Это не в вашей компетенции».)
И комендант замолчал. У рта обозначилась презрительная складка.
— Завтра я дам вам ответ, — хмуро буркнул он и, скрестив на груди руки, отвернулся.
«Совершенно неотесанный», — подумал поп, молча поклонился с видом оскорбленного достоинства, высоко вскинул голову, точно певец, которого больше не вызывают, и, взмахнув полами пальто, нырнул в дверь, ведущую на лестницу.
По улицам Медоваца, где, несмотря на военное время, с раннего утра болтался всякий люд и проходимцы, поп спешил домой. Нет, он не семенил, он ступал широкими шажищами и топал, будто с каждым шагом перескакивал через ручей. В душе у него угнездился непонятный страх и стыд из-за двойственности своего положения — должностного и человеческого. Короче, он был подвешен, точно балкон, — между небом и землей. Лицо его покраснело от возмущения, будто у проказника ученика, битого розгой. «За что меня мучают, пречистая дева и все святые?! Кому я служу? Будь я проклят, если уже не проклят». Он клял свою горькую судьбу и тяжкие поручения, которые должен был исполнять и от которых никуда не мог спрятаться. Он влетел в дом распаленным и бурлящим вихрем. Бормоча проклятия, ввалился в переднюю и закричал в ужасе: — Что это?
Он увидел невозмутимого, сонного обжору Марко, обжору из обжор, за столом в кухне — тот с урчанием жевал, с чавканьем перемалывая остатки вчерашнего мяса и капусты. Перед ним стоял закопченный жирный горшок.
Свернулся, как червяк от укола. Деревенщина, антихрист, ишь ты, снял башмаки, а от влажных шерстяных носков исходило зловоние прели и гнили, будто под опенками у него закипел перестоявшийся густой виноградный сок, к тому же это зловоние смешивалось с запахом подгорелой капусты и жгло, жгло, как купорос!
— Ты… еще жрешь?! — завопил поп, будто его ударили в больное место.
— Я и рад бы не есть, да не могу! — спокойно проворчал Марко и лениво пояснил, не переставая жевать: — Сам понимаешь, должен я хоть немного набить брюхо впрок. У наших со вчерашнего утра крошки во рту не было, заклинаю тебя всем на свете! Что было, все Колунел сожрал. А у нас, поп, в утробе совсем пусто, как бог свят… Стой, куда же ты?
Но поп, словно на перебитых ногах, в полуобморочном состоянии, в тихой истерике потащился в свою комнату.
— Не хочешь со мной разговаривать, так! — запричитал Марко с пьяной отрыжкой. — Не удостаиваешь, попик, разговором, так! Я для тебя голодранец, так! — бормотал он, а сам уже принялся за свиную ножку.
КУПАНИЕ
Дни стояли теплые, солнечные, а в надежде и ожидании они казались еще светлее. Голод забывался в этом сказочном волшебстве, украшавшем голую, суровую и ранящую душу правду и снимавшем муку и усталость. Третий день торчал Марко в Медоваце с боевым заданием (если, конечно, его не ухлопали и не затравили как собаку), третий день, как из нежной фиалки надежды прорастала дикая трава сомнения и прямого неверия в безумный план Пипе.
После полудня леса окутывала синеватая, похожая на пороховой дым осенняя мгла, она застилала горизонт, а потом поднималась в струящееся небо, наполняя душу непонятным ощущением потери, тихого томления, глубокой радости или близкой надежды. Мгла отлетала, как привидение, а с ней и теплящаяся надежда. Партизан охватывало сперва тупое бесчувствие, а затем, с наступлением сумерек, возвращалась щемящая тоска и пустота вместе с неотвратимыми тенями смерти.
Пока не рассеивался туман, часовой уходил далеко от хлева, иной раз на самую кручу, откуда можно было разглядеть козью тропу, по которой, если он жив, должен был вернуться Марко. Но с первой звездой часовой возвращался, подгоняемый одиночеством и пустотой горизонта.
К утру в них вновь загоралась надежда, как от чудодейственной могучей молнии. Ели жидкую кукурузную кашу, пили воду из родника, прятавшегося во мхах. Долог день, хоть через плечо его перекидывай, и тяжек, как свинец. Однажды прибежал на коротких, как у таксы, ногах, по-ребячески гордый и радостный Лука, захлебываясь от счастья: из полковничьей двустволки он пристрелил куропатку!
Все горячо принялись за дело.
Сначала сгрудились возле куропатки, как древнее племя вокруг жертвенного камня. Потом ощипали ее, разделали, насадили на вертел, повесили над огнем и стали аккуратно поворачивать, точно быка. Сидя на корточках, помешивали огонь, давали советы, увлажняли шершавую синеватую кожицу тряпкой, смоченной в соленой воде, облизывали пальцы, исходя слюной, и вдруг, когда кожица натянулась и покрылась коричневато-золотистым румянцем, над их головами послышался плаксивый, раздражающий писк.
— Святое небо, как я голоден! — простонал полковник.
— Это горный воздух! — пояснил Пипе. — Готово у вас?
Люди оцепенели.
— Я сказал — человек голоден! — пояснил Пипе.
— Ах, господи боже, он голоден! — сплюнул Лука, и вертел задрожал у него в руке.
— Чего ты ждешь? Дай ему куропатку! — приказал Пипе резким тоном. — Пусть полижет. Человек привык есть жирно и сладко. Для него это и обед, и ужин. Пусть потом не говорит, что его тут морили голодом. Несчастная куропатка, не на что глядеть, кожа да кости. Как раз по нему. Тебе ее и на зуб не хватит.
— Чтоб она ему поперек горла стала, — пробормотал Лука, и глаза его сами заплакали по жареной куропатке, но он ткнул ее в руку полковнику, словно оплел его обжигающим кнутом.
Медленно, веером люди отошли от Колоннелло, посмеиваясь над своим маленьким несчастьем и чужим счастьем, будто промахнулись, играя в мяч.
Колоннелло прежде всего сделал попытку угостить Пипе. Но тот только презрительно растянул губы. Тогда Колоннелло у всех на глазах принялся обгладывать куропатку, высосал косточки, без стеснения облизнулся — проделал все это мгновенно, будто на спор. Улыбнулся блаженно, вежливо и благодарно, точно совершил преступление, которое ему простили.
Пипе был поражен. Удивительный тип! Другой бы ударил его, что ли (в знак признательности!), и это было бы просто и естественно. Конечно, не годится угощать человека, а потом укорять, что он принял угощение. Лицемер с ревностью смотрит на чужую простоту. Все выглядело так, словно Колоннелло уже свыкся с ними, держался он свободнее, с какой-то доверчивой безоглядностью. Пипе даже ему завидовал, потому что сам не умел жить без оглядки.
— Может, нарвать травы на салат, а, Пипе? — со злобой предложил Чоле под осторожный смех окружающих.
— Прекрасный день, — прищурился Пипе, глядя в небо, и обратился к Колоннелло: — Не желаете ли искупаться?
— Неплохо бы.
— Вот и отлично, — кивнул Пипе. — Чоле, отведи-ка его к ручью и смотри, чтоб у него уши не заложило и сапоги не приросли к ногам. И береги, не то он может остаться босиком!
Никто не смеялся.
И Пипе был не в духе. Он не спеша пошел прогуляться по серым камням. Павал, вооруженный автоматом, сопровождал его.
Чоле проследил за ними неподвижным, мрачным взглядом. Обязательно напомнит про сапоги, чтобы щелкнуть по носу. Жаль, что он не так скор на язык, как этот Пипурина, — пока он раскроет рот, глядь, птичка уж улетела, а у него на зубах остался только ее помет.
— Ступай, — зло дернул он Колоннелло за рукав. — Ступай, тебе полезно выкупаться. Заблагоухаешь, как дерьмо на дожде.
Партизаны громко шутили и весело смеялись им вслед, пока они не скрылись в лесу.
На западном склоне рядами темнели сосны, поседевшей рыжиной пестрели клены, белели ясени, трепетным огнем горели листья осин, а потом стали попадаться ели с золотящимися на солнце султанами в прохладном окружении темно-зеленого подлеска. Каменистая тропинка поблескивала. Они спускались в ущелье, спуск становился все круче, под ногами осыпались комочки земли.
Колоннелло с трудом удерживал равновесие, хватался за камни, то подбадривая себя громкими восклицаниями, словно рисовался перед девушкой, то вдруг становясь серьезным, начинал спускаться со всяческими предосторожностями.
Этот мир устроен в виде лестницы — кто-то поднимается вверх, кто-то спускается вниз. Трудно спускаться, но трудно и подниматься, ведь, по закону тяготения, силы тяжести никто не может преодолеть.
Чоле внимательно наблюдал за Колоннелло. Он боялся, как бы итальянец не сорвался, не поскользнулся, не упал и не поранился об острые камни или не сломал ногу, что было бы совсем худо — тогда пришлось бы тащить старика на своем горбу, тащить в гору, надрываясь, как навьюченный осел, а под конец выслушивать упреки Пипе. Поэтому Чоле то и дело останавливался, давая Колоннелло отдохнуть, и взглядом измерял головокружительную глубину теснины. А у Колоннелло расширилась грудь, раскрылись глаза, он спешил, словно в зачарованный и неведомый край.
Стремительный горный поток до корней разрезал ряды елей, а красную землю — до голого камня; устремляясь в провал, быстрая зеленоватая вода гремела по белым валунам. Яркое осеннее солнце драгоценным жемчугом искрилось в воде. Ажурными каскадами ниспадала вода в каменные раковины, переливаясь, как из пригоршни в пригоршню, под равномерный шум деревьев неслась в долину, в ручей, и исчезала вместе с ним неведомо где. Боже, какая красота! Будто смарагдовое ожерелье, которое он подарил Матильде в день серебряной свадьбы. Nozze d’argento! Серебряная свадьба! Все так живо, кроме лица Матильды — оно растопилось, словно было из воска, в памяти отпечаталась только ее тень, ее дух. А вот все другое осталось. Festa di famiglia. Семейное торжество. Старинная красная вилла, гости в смокингах, неизменное жабо, шампанское, тосты, звон хрустальных бокалов при желтом свете фонариков, выглядывающих из гроздей муската дедовских виноградников, длинный каменный стол, гирлянды и иллюминация, заказные конфеты с миндалем, заказной торт, концерт, менуэт Боккерини, танцы и курьер с подарком от дуче! Какая помпа, шик, статьи в газетах, присутствие епископа, бенгальские огни! А под конец ее измученное, постаревшее лицо и вздох облегчения — кто дает праздник, тот им не наслаждается. Всю жизнь она незримо страдала, всю жизнь отравляла веселье другим. Вот и тогда так же. Ее ответом на все это торжество, блеск, признание, почести был только этот лакейский вздох и долгое молчание, потребность в покое — бесконечное преддверие смерти.
Боже, о чем он думает? Что ему приходит в голову на этой ужасной войне, при полном самоотречении, в таком бессмысленном положении, в такой страшной ситуации — бандит с землистым лицом и орлиными глазами, ведущий его в ад? Боже, весь мир — сплошная глупость! Клетка безумного! Неужели он когда-нибудь снова станет убаюкивать себя слабоумным поэтическим вдохновением, жить в нереальном, потерянном мире, неужели он снова впадет в то бессмысленное, обманчивое состояние, спрячется в темный, мертвый Ноев ковчег? А ведь отвращение уже начало его глодать — кожа напоминает изъеденный гусеницей лист. Господи, помоги! Когда от красоты ничего не остается, приходится следить за кожей. Он почувствовал какой-то новый, удивительный прилив сил, стремление к маленьким плотским радостям.
И Колоннелло решительно спускается к ручью, с трудом снимает сапоги, носки, стягивает серо-зеленую блузу, черную рубашку и зябко, весело, дрожа и стуча зубами, брызгает на себя водой, взвизгивая и бормоча что-то от прохлады и удовольствия. Он растирается, почесывается, плещется и похлопывает себя пальцами, будто утка короткими крылышками.
Чоле смотрел на него с изумлением. Ну и ну, как влюбленный зайчишка. Разыгрался, распрыгался старикашка, чисто пескарь в горшке. Голенькое божье создание. Тварь фашистская! Чуть пятнистый от старости, но прилично упитанный. Уже не зеленый огурчик, но еще и не старый мерин. Раскормленный, ухоженный. Только вот темный живот натянут на ребра, как барабан, и пупок вздутый, такой он видел в Медоваце у негритят в цирке. Наверно, разбух после той куропатки, которую он проглотил, как жабу. Бедняга, прозрачная, тонкая кожа с красными жилками. Как красные буквы на желтоватом полотенце над кухонным столом у братовой богатейки жены: на мельнице кофе варится, у хорошей жены дом не валится! Должно быть, сладкая пища для наших неизбалованных вшей. Дошел до ручки. Гляди! Оса!
— Ш-ш-ш! — зашипел Чоле, а Колоннелло замер с выпученными от страха глазами, увидя перед собой морду, точно у готового к прыжку тигра.
Чоле ловко и мягко прыгнул, взмахнул, как саблей, рукой и полоснул ребром ладони по шее Колоннелло — оса зажужжала у него в кулаке. Он остервенело сжал кулак, а затем раскрыл его.
— Оса! Оса! — гордо и радостно указал он на раздавленное насекомое, а Колоннелло вздохнул с глубоким облегчением. — От меня не уйдешь! Что ко мне в руки попало, то пропало. Давай, давай, побарахтайся еще немного, и пора обратно.
Чоле улыбнулся, подбадривая старика чуть виноватой и извиняющейся улыбкой, неловко показывая глазами — жаль, мол, что он его не понимает, отвернулся и — увидел сапоги. В сердце у него кольнуло. «Как бы их ухватить, пока зайчик намывается?» Посмотреть, подойдут ли. Можно будет взглянуть на себя в тихую воду, как в зеркало. А Колоннелло пусть обует опанки.
Он еще раз взглянул на Колоннелло: тот сидел посреди ручья на валуне и мыл ноги. Чоле не спеша поднял сапоги за голенища. Колоннелло занимался своим делом. «Я вспомню добром этого тихого зайчишку», — подумал Чоле. Он наверняка будет кротким и не станет злиться или кричать из-за какой-то несчастной обувки. А распетушится — Чоле вернет сапоги, и делу конец. Посмотрим, чем все обернется!
ПОРУЧЕНИЕ
Еще издали все приметили странную, гусиную походку Чоле, подивились они и нетвердо ступающему, подскакивающему, как непоседливый ребенок, Колоннелло. Глаз был наметанный — «господин сменил обувь!». Все сбежались и обступили их, точно встречали неизвестных, но заведомо добрых людей.
Колоннелло обвязал ремешки опанок вокруг штанов, словно древний римлянин, и шагал, то как аист, медленно, согнув колени и широко расставляя ноги, то семенил, подскакивая, как воробей. Он выглядел веселым и радостным, точно выпущенный из заключения узник или солдат, возвращающийся с военной службы.
Все усилия Чоле казаться спокойным и уверенным были напрасны. На лице отражалась скорее острая боль от стиснутых мозолей — пострашней, чем игла в мозгу, — нежели бахвальство. Сапоги, дьявол бы их побрал, жали так, что глаза вылезали из орбит, и перед ним то и дело вспыхивал свет, подобно зарницам из черного облака. Пальцы на ногах подогнулись, будто их свело судорогой, после того как он босиком карабкался по скользкой коре гранатового дерева. Но эта нестерпимая боль, железной колодкой сжимавшая ноги, на лице у него превращалась в такую покорную улыбку, какой могли позавидовать медовацкие монахи. Сапоги, сапоги! Вся душа из-за вас выболела, истерзалась, и не очиститься ей от скверны. Будь проклят тот час, когда он на них позарился, завидев на детских ножонках старика. Уже по одному этому фашисты проиграют войну в наших лесах: нет у них приличного обмундирования — удобной растоптанной обуви, пригодной для быстрой ходьбы по скалам! Но он не допустит, чтобы друзья насмехались и над ним подтрунивали. Не видать им на его лице и тени муки, и не узнают они о его нервах, «нервозных и нервических»! С этой минуты прочь всякая боль, и если не выдержит, то, как бог свят, ходить ему босиком. Уж такая у него сила воли.
— Легкие-прелегкие, — с веселым удивлением сказал Колоннелло, подойдя к Пипе и показывая опанки на своих тощих кривых ногах, вдруг почувствовав себя крепким и жилистым. Это ощущение создавалось непривычной легкостью обуви — он выставлял то одну, то другую ногу, поднимал их, похлопывая ладонью по подошве, точно проверяя подковы на копытах. И только сейчас люди заметили! — а может, это только показалось — косоглазие, делавшее лицо полковника придурковатым. И почему-то это вызвало прилив злобы.
— Махнулись мы, махнулись, вот как, товарищи, спросите у него! — с ходу заторопился Чоле, опережая вопросы и намекая, что обмен был добровольным и не было бесчестного вымогательства (как они думали).
— На каком же языке ты с ним договаривался, а? — с издевкой спросил Павал.
— Кулаком, а не языком, — со злобой уточнил Лука, и его глаза сверкнули молнией, а подбородок выдвинулся вперед.
Пипе чуть-чуть сощурился, ожидая, как повернется дело. Под черными ресницами блеснули фиолетово-серебряные капли расплавленного свинца. (Цвет глаз у него постоянно изменялся, как стеклышки в калейдоскопе.) Он молчал, будто каменное изваяние, но всем было понятно, что он хотел сказать и что вкладывал в их сознание: в любом случае его слово — решающее и последнее; он еще сильнее прищурил глаза, однако молчал, лишь уголок рта слева чуть заметно опустился, что придало его лицу выражение сомнения и насмешки. (Делал он это умело, научившись у одного медовацкого мудреца, и всякий раз пользовался этим в сложной ситуации.)
И правда, Чоле занервничал.
— Шли мы купаться… Ну, потом я обул сапоги, он — опанки. Он веселый, ничего не говорит, я веселый, ничего не говорю, не к чему много болтать, чтобы понять друг друга. Да, Пипе? Ты ведь сам меня учил. Разве не так? — зачастил он.
Огонь злобы и возмущения, вызванный дурацкими объяснениями Чоле, вспыхнул, точно сухой хворост, все схватились за оружие, но тут, как раз вовремя, часовой со скалы закричал:
— Марко идет!
Теперь не до Чоле, не до сапог — все было забыто, как вчерашний день и прошлогодний снег. Да и сам Чоле, захваченный важной новостью, во все глаза глядел с утеса.
Марко шел с трудом. Два огромных мешка явно резали ему плечи, одной рукой он придерживал мешок, сползавший на шею, а другой загребал, словно веслом. Кряхтел, красный, раздувшийся, как заряженная пушка. Видать, и выпил немало — он покачивался и позевывал, Брел медленно, нога за ногу заплеталась. Часто останавливался передохнуть, крупные капли пота стекали с подбородка, блестевшего от жира — следа недавнего обжорства.
Он улыбался во весь рот, причмокивал толстыми губами и походил на объевшегося сметаной кота или на ярмарочного торговца, нагруженного подарками. Если б не горы и не тяжелые мешки, он бы запел. Заметив на вершине скалы людей, Марко закричал:
— Не хочет ли кто помочь?
Никто не шевельнулся.
— Тогда буду сидеть, пока не съем весь хлеб и солонину, — пригрозил он и уселся на плоский камень.
Чоле и Лука в страхе переглянулись. С него станет, этот обжора все может. Бегом кинулись они в горы: чтоб не успел проглотить ни кусочка. Чоле в полковничьих сапогах казалось, что рассвирепевшие черти схватили его за ноги острыми клещами, прижимают в адской кузнице раскаленное железо к его воспаленным глазам и ворошат кочергой в голове. Он стиснул зубы (и в мозгу зашипело). Еще крепче стиснул зубы: не давать повода этим зубоскалам злорадствовать, терпеть, пока ноги не привыкнут.
Добрались до Марко, в сердцах чуть не силой выхватили мешки, словно наказывали его за непростительную сытость, и отправились обратно.
Теперь Марко шел налегке. Пусть! Пусть потаскают! Быстро прибежали! Как на блины! Знают, с кем дело имеют! Не для себя же он нес! Когда он обозлится, может съесть все до последней крошки, особенно если знает, что кто-то хочет его провести, как воробья на мякине, воспользоваться его страданиями. И наоборот, когда он видит душевное отношение и доброжелательность, тогда, уж поверьте, он расшибется в лепешку. Вот и сейчас, Марко, брось придирки, пересолишь, и кошке не годится. Пусть разглядывают тебя с ног до головы, а ты знай свое дело и в душе можешь порадоваться, как они перед тобой лебезят. Чего ты ждешь? Не будет признания, не будет похвалы, ведь и от тебя этого не дождешься. Не хвастай перед голодным, посмейся над ним в душе, если он наглец, а сам держись с достоинством, как хозяин доброго коня (если не ты конь!); это пройдет, как и голод.
— Видать, тяжко тебе пришлось у попа? — насмешливо спросил Лука.
— Раскормил, как поросенка на рождество, — прохрипел Чоле.
— По своей воле ничего бы не дал, из него ничего не выжмешь. Да только и я не простак, — незлобиво, с ленцой бормотал Марко.
— Если ты не принес табак, я тебе ухо оторву! — вдруг выпалил Чоле.
— Почему ухо? — удивился Марко.
— Ты же все равно глухой, чтоб совсем ничего не слышал. — И Чоле захохотал.
— Ишь ты! — выдохнул Марко. — Красиво поешь, да противно слушать. Тебе бы вернуться в твою овечью шкуру, в ней ты куда умнее. И добрее.
Чоле смолчал. Он не мог понять: похвалил его Марко или обидел! Искоса глянул на Луку; тот, как обычно, осмотрительно держался середины — ни за, ни против. Значит, так и есть — укусил его Марко, да крепко, до крови, дальше некуда. Ловко. Браво, Марко! Ловко. А раз ловко, отомстить трудно. Но зачем мстить? Было б за что. Никому не надо мстить без большой на то нужды. Сейчас он сам виноват: язык у него болтается, и небо кажется с овчинку, только все это не от злобы, а из-за тесных сапог.
Пипе вышел навстречу и воздел руки.
— Блаженны очи, что тебя зрят! — обратился он к Марко, как с амвона, а затем железным голосом объявил: — Если не несешь доброй вести, лучше бы тебе не возвращаться.
— Ничего я не знаю, — проворчал Марко, ему показалось, будто его окатили холодной водой. «Этот Пипе тебя, братец, и образует и опечалит в минуту, что молодка. Такой уж он человек — все в нем как град и солнце для виноградника!»
Пипе развернул письмо, пробежал глазами первые строчки и крикнул взволнованно:
— Читать буду вслух.
Сел на камень, подождал, пока все окружили его, как цыплята наседку. Колоннелло тоже нерешительно придвинулся вместе с партизанами, но остановился чуть поодаль, не желая навязываться и в то же время показывая, что он не просто пленный, но и соучастник. Быть или не быть — он ощущал роковое значение момента, — жизнь или смерть. Глаза испуганные и молящие, как у нищих стариков, в них застыли слезы, зрачки сузились, однако где-то в глубине мерцали искорки надежды. Он стоял недвижимо, истуканом и смотрел на Пипе, как фанатик на царские врата, и лишь беспокойно шевелил пальцами.
— «Дорогой Люцифер, — начал читать Пипе, и усы его задрожали от смеха, — прежде всего о деле. Благодаря мне все выгорело». Ишь, без попа в рай не попадешь, — бросил Пипе с кислой усмешкой. — «Меня чуть не убили!» Врет! — добавил он хмуро и чуть обиженно. — «Еле разобрались. По радио советовались с Римом. Похоже, у тебя важная птица, друг Муссолини!»
Все невольно повернулись к Колоннелло. Тот растерянно завертел головой, словно оправдывался или извинялся, — не понимал, почему все на него смотрят, не понимал, о чем они говорят между собой, но догадывался, что речь идет о нем, и еще догадывался, что жизнь его висит на волоске. Нервы его были на пределе, как у полуживого, оцепеневшего подопытного кролика, его била лихорадка. Он обезумел бы, если б не обманчивая и неопределенная улыбка Пипе — она оставляла ему надежду даже в преддверии ада.
— «Согласны на все условия, — читал Пипе, а сердце у него от буйной радости прыгало до самого горла. — Чудеса. А еще говорят, Пипе, что люди на войне теряют разум!» — Тут Пипе хотел было обидеться, но взял себя в руки. — Уж поп сумел бы командовать на войне, не потерял бы разума, зато потерял бы Колоннелло. Пошли дальше! «Итак, в субботу к четырем часам дня грузовики прибудут на Волчий лог, на перевал, только с шоферами, без охраны. Встретьте их по-хорошему и верните человека в его стадо. Пусть в душах ваших живет вера в то, что все люди — божьи творенья и с ними следует поступать милосердно, а не жестоко и безбожно!» Уворовано из довоенной проповеди, — звонко рассмеялся Пипе, смех его перешел в хохот и зазвучал, словно большой колокол. — «А что до подсвинка, которого ты мне прислал и который передаст тебе мое письмо…» Это, Марко, о тебе.
— А я что? — спокойно ответил Марко. — Изверг он и скупердяй.
— «…мне не то жаль, что он съел и выпил месячный запас в доме, а то, что я сжевал и проглотил столько невысказанных ругательств», будто сардины! — вставил Пипе. — «…что мне не найти теперь, кому исповедаться. Если ты захочешь меня совсем извести, пришли мне еще такого же поросенка, чем навеки погубишь своего шпиона. Спасибо тебе за все…»
— Не за что! «Твой Пипе Пипин покойного Пипе! P. S. Смени этот идиотский пароль, мы не в цирке».
— А что значит это P. S.? Шифр? — спросил Лука.
— P. S. — значит «после сортира»! — буркнул Марко, распалившись оттого, что отомстил попу. — Я слышал от наших школяров, — пояснил он спокойно.
Все заговорили разом.
— Великое дело! Люди! Товарищи! Великое дело! — гремел Пипе, воодушевившись, увлекая всех близкой и осуществимой надеждой. В кипении своей крови он чувствовал приближение бури, некую принадлежность к тайне, опасности, риску, его пронзило неосознанное беспокойство — что-то от безграничной слепой страсти, влюбленности, преданности увлекательной и опьяняющей игре, воистину единственному проявлению подлинной жизни, как у детей-фантазеров. Но, наткнувшись на чью-то осмотрительность, скептическую усмешку — приготовишь вертел, а заяц-то еще в лесу, — вдруг словно опомнился и серьезно, деловито стал объяснять: — Вот мой план. Слушайте. Завтра суббота. Ты, Марко, с Лукой берешь пятерых и идешь в село, там созываешь мужчин, женщин, от мала до велика, чтоб завтра все как один были в три часа у Волчьего лога.
— Народ-то зачем, Пипе, ради пресвятой богородицы? — удивился Марко.
— А кто будет таскать товары и оружие из пяти грузовиков? Ты вот еле два мешка доволок, — ответил Пипе.
— Не растащили бы они товары, братец! — испугался Марко.
— Пусть. И у них растащат, — сказал Пипе.
— Марко по себе судит, — съязвил Чоле.
— Люди с нами не пойдут. С Пипе пойдут, а вот с нами… нет! — размышлял вслух Марко.
— Верно, — поддержал его Чоле. — Только на Пипе они и слетаются, как мухи на… сам знаешь, да, Пипе, это так, Без тебя никого не мобилизуешь.
— Добро, — согласился Пипе. — Мы пойдем в село, а ты, Чоле, останешься с полковником. И ты, Павал, и ты, Боже. Как зеницу ока будете его беречь, поняли?
— Поняли! — ответил Чоле.
— Завтра пораньше с утра отправляйся с ним в Волчий лог, чтобы поспеть туда минута в минуту, к трем часам. Ты меня понял?
— Понял! — снова ответил Чоле.
— А теперь киньте что-нибудь человеку в клюв, — весело сказал Пипе, поднимаясь с камня. И только тогда увидел Колоннелло.
Старик дрожал. То ли от неведения, то ли еще от чего, только в его поведении чувствовалась какая-то неестественная суетливость. Пипе подумал, как бы старик не размягчил их больше нужного — все-таки фашист, — и вгляделся в него. Глаза Колоннелло полузакрыты, как у деревянных медовацких святых, но не в молитве; а может, это игра, тогда играл он хуже плохого актера. А возможно, человеку и впрямь холодно — солнце уже зашло. И все же, почему бы ему не приподнять крылья, ведь появились неплохие виды на крупную игру?
Пипе не спеша подошел к нему, как к знакомому. Ему хотелось ободряющим и многозначительным взглядом подготовить старика к доброй вести, от которой тому могло стать дурно, заколоть сердце, ведь его ставка в этой игре — жизнь.
— Все в порядке, Колоннелло. Завтра произведем обмен, — негромко сказал ему Пипе по-итальянски.
— Спасибо, — равнодушно пробормотал старик, и покрасневшие, набрякшие его веки упали, как увядшие лепестки цикламена. Он весь трясся.
Чоле обеспокоенно пощупал ему лоб.
— Господи боже, да у него лихорадка.
— Дай ему горячего меду, — съехидничал Пипе. Ему хотелось выглядеть перед всеми бесстрастным, непоколебимым, эдаким железным человеком, никогда не допускающим душевной слабости.
— А откуда, ради бога вечного? — завопил Чоле.
— Ты знаешь, да не хочешь сказать! — укорил его Пипе насмешливо.
— Пусть ложится в постель! — посоветовал Павал. — Какие тут шутки.
— Ему надо дать чего-нибудь горячего! — сказал Боже.
— И мокрую тряпку на голову, — добавил Марко.
— И положу, хоть ты и издеваешься, — огрызнулся Чоле и бережно, как тифозного больного, повел Колоннелло.
— Ну кто бы поверил, что мы будем так ухаживать за каким-то полковником-фашистом? — выпалил Лука, хитро прикрывая глаз в насмешливой улыбке.
— Все болтаешь, — одернул его Пипе. Лука побледнел, замолчал, сразу скинув шутовскую маску.
Темнело, между соснами плыл лиловый туман. Чоле направился в хлев.
— Подъем! — крикнул Пипе, все оживились и с готовностью вскочили.
Пипе задержал Чоле в дверях хлева.
— Береги его как зеницу ока! Помни — от этого может зависеть исход войны!
— Убей тебя бог! — вытаращил глаза Чоле, но тут же выдохнул: — Понимаю, Пипе!
Пипе посмотрел на него долгим пристальным взглядом — словно доводя приказ до его сознания. Затем взгляд его повеселел, стал доверительным. Он повернулся и пошел. Поглощенный новыми мыслями, прошел мимо Павала и Боже, они махнули ему рукой, но он не заметил — торопился за людьми, спускавшимися цепочкой вниз по ущелью.
Чуть только Пипе повернулся спиной, Чоле сел, так и свалился на каменный порожек. Вконец измученный, из последних сил, точно живую кожу, стянул он проклятые сапоги. Ноги заполыхали огнем, затем раскаленные иглы стали понемногу отступать, боль смягчалась дуновением прохладного ветерка. Чоле вздохнул глубоко, с облегчением. К счастью, ему никуда не надо идти. Можно передохнуть, успокоить раны, а утром, обвязав ноги мягкими тряпками, надеть носки и опанки. А Колунелу — вот они, его сапожищи, и будь проклят час, когда он на них польстился.
ГЛОРИЕТА
Колоннелло лежал скорчившись, как улитка, на деревянных нарах без изголовья, на охапке сухой соломы, укрытый с головой тяжелым домотканым одеялом. Он трясся всем телом, внутри у него дрожала каждая клеточка, и зубы стучали непрерывно, будто это были и не зубы, а какие-то хитрые скоростные механизмы под током.
Чоле набросил ему на плечи свою куртку, укутал его. Задумался: ему не приходилось видеть такой страшной лихорадки, прямо собачья горячка, и чтоб так стучали зубы — не иначе старика оседлала сама смерть, а он безропотно и безвольно ей поддался. Больной стонал беспрерывно и как бы стал много меньше. Казалось, одеяло неровно вздымалось на гладком месте. Он словно горел коптящим пламенем и кипел в ледяном поту.
Чоле, обворачивая ему голову мокрой тряпкой, случайно прикоснулся к его изнеженной шее: она была горячей и шершавой, как усохшая лепешка.
Голова Колоннелло пылала, наполненная жужжащим, глухим звоном, непонятными зовами и огненными кошмарами, все кружилось, будто в водовороте. Он боялся, что откроется заповедный ларец Пандоры — и выплеснутся его давние воспоминания. До последней капли сознания он старался держать его закрытым, запертым. Но в необычных ситуациях, в печали, в бреду он, очевидно, сам открывался, опасно манящий и таинственный, скользкий, как мокрая улитка.
В ткань его помутившегося пылающего сознания вплелась Глориета в черных, обвитых плющом решетках, словно качающийся в океане покинутый остров ушедшего детства. Все другое — будто клочья паутины, не связанные между собой картины какой-то бессмысленной спешки, тлеющие кратеры чуть затянувшихся, с виду заживших ран. Глориета! Из далекого, испарившегося детства прорастает, одновременно увядая, этот таинственный цветок, то ли призрак, то ли действительность, наказание или милость, осквернение или очищение, место, где зародилось злодейство, или невероятное, созданное в бреду и расплывшееся видение.
Глориета!
Напрасно он старался утопить ее в тумане серых будней, искоренить, вырвать из грез и счастливых озарений. Напрасно! Минутное исчезновение старых глубоких впечатлений — тщета воображения. В действительности (он вынужден был это признать) он не мог жить без той беседки в парке его предков, без ее обтрепанного волшебства, без ее бессмысленной и роковой привлекательности. Как только ему начинало казаться, что она уходит из памяти, он со всей страстью бросался вслед за ее таинственной, неистребимой ничтожностью, за ее безумным очарованием, за торжеством ее отчуждения и незначительности (или всего-навсего концом жизни инфантильного болвана?). La cerimonia di un rituale occulto. (E di alienamento?)[61]
Он всю жизнь мчался за Глориетой. Но перед кораблем преследования эта чудесная беседка детства удалялась и исчезала, как видение, ее уносили шумные быстрые волны. Что-то заставляло его продолжать поиски в насквозь продуваемых мрачных пустынях. А разве в этом роковом, бессмысленном преследовании сам ищущий не растворялся в воздухе, не превращался в вымышленную, ложную предпосылку, в идею, которая без всякой цели и оправдания преследует человека? Или, может быть, именно в таком растворении человек находит непостижимое счастье или второе, более возвышенное рождение? Могут ли безумства приносить радость утешения, если ты привык к ним, как к воздуху, если изначально это твое одно-единственное сознание?
Но это была не просто навязчивая идея Глориеты, это было утверждение чего-то, чем он был одержим. Это было возвращение несправедливо прерванного, полного тайн детского сна, какого-то удивительного органического состояния, которое ни в коем случае не должно было потерпеть позорный крах, иначе в будущем все основы окажутся неустойчивыми и прогнившими.
Следовательно, это было важное дело, справедливый приговор к величайшему позору, который когда-то был вынесен ему, Ренцо и святой Глориете. Глориета и разрушенная осталась неизбывным переживанием, грубым шрамом, невосполнимым ущербом свободе и мечтам детства.
Потому-то в нем всегда и таилась странная, сокровенная тоска по Глориете, а какую боль она ему причиняла! Он постоянно слышал ее неожиданные призывы, приглушенные крики: его давний детский грех, отклонение, безумие должны были быть поняты и превратиться в заслугу, найти признание, быть воспеты, чтобы в нем уснуло наконец раненое детство. Увидеть наяву возрожденную, сияющую, благоухающую Глориету в ореоле детских фантазий, а не только в снах и кошмарах, охваченную огненными языками уничтожения и бурными ветрами изгнания! (Он и Ренцо с тех пор отдалялись друг от друга, как две кометы.)
Сырой, мрачный и вместе с тем величественный коридор бесконечной лентой несся рядом с ним, монументально неподвижным. Он скользил по желатину расплавленного мозга, и вдруг в темной нише промелькнул полоумный, косоглазый и смешной Ренцо, тоже неподвижный и блестящий, точно кукла из папье-маше, верным псом в позе напряженной покорности. Он, вероятно, ждет, укрывшись в темной нише, что вот-вот его позовут, обманут и вовлекут в авантюру. Он сладостно переживал любое самоуничижение и смерть ради Глориеты и ее величия. В этом состояло счастье и несчастье маленького Ренцо — в покорности, в привычке ко всякой неожиданности, к любому проявлению добра и зла.
Сияющая Глориета поднималась из тумана, подобно неподвижному истукану, разрывая покровы покоя, ускоряя биение сердца.
В глубине старинного запущенного парка, под роскошной уединенной пинией, точно под гигантским балдахином, притаилась Глориета, как волшебный гриб (тайные посевы лесных дев?). Парк совсем одряхлел — всклокоченный, с обгорелыми ребрами, оборванный, точно седой, мрачный пустынник, чей некогда блестящий фрак теперь разодран в клочья и покрыт пылью. Парк разрушен долгим запустением, смертельно изранен в схватках с непобедимым временем; его брали под защиту и укрывали тайные, верные и ловкие сообщники: черные дупла, оживающие тени, ковры сосновых игл, сломанные ветки, гниющие листья, светящиеся краски воздуха; по жилам земной коры переливались животворные соки, в небо рвались объятия диких переплетений, беспорядочная молодая поросль, голые сучья и причудливо спутанные мощные колючие травы стелились по земле. Некогда подрезанные густые кустарники застыли, точно оледенелые водопады, буйные кроны деревьев, подстриженные когда-то так, что напоминали гигантские силуэты греческих и римских богов, теперь являли жалкое зрелище — стояли понурившись, как печальные вербы, как огромные погасшие свечи, с которых, словно окутывая их, сползали ручейки воска. Они покорялись запустению, забвению, перерождались, будто ненужный хлам столетней давности где-то на чердаке, затянутый паутиной. Прадедовский парк походил на заброшенное кладбище угасшей славы, с расплывшимися контурами, с глубокими тенями и забитыми травой крестами, и единственный источник жизни, единственное бьющееся сердце во всем этом неощутимом кровотоке среди умирающих растений была — Глориета.
Глориета! Начало его трепетных, искренних, чистых убеждений, негасимый светильник исконной и вечно молодой родовой мощи! И теперь она сияла в его памяти, как костер в мрачной пещере, в самой утробе истории.
На месте сожженной Глориеты вскоре был воздвигнут бронзовый памятник ему и Ренцо, памятник «юности, ранней и горькой» («Fanciullezza amara e precoce»), а не «мальчишкам, испорченным и грязным» («fanciullaglia corrotta, contagiosa»), как называла их банда Мартино.
Зачарованный, уединенный, таинственный уголок заброшенного парка точно скорлупка на высокой скале. В самом деле, он тогда чувствовал себя и адмиралом и капитаном артиллерии. Ренцо предпочитал сушу, он не умел плавать и никогда не претендовал на то, чтобы быть вождем. Его не вела мечта, зовущая к полету, к возвышению, она не призывала его сделаться адмиралом стального военного флота, когда среди молний в небесах и на море, оседлав стремительные века, на черной заре, под черными облаками рождаются божьи избранники. Она не сокрушала в неудержимом полете звезд, гидр и драконов опасные бурлящие толпы черни, не попирала низкие творения.
Решетки и колышки изящного портика Глориеты, соединенные крепкими звеньями, Ренцо окрасил черной и серой краской, а медную с куполами крышу и кружевной карниз — зеленой. Тем самым они надеялись скрыть ее от недостойных нечистых взоров. Они считали, что Глориета неприступна. Ее подножие уходило в заросли крапивы, укропа, бузины и папоротника, выбивавшиеся из черной земли, а из каждого узора решетки свисали розы с шипами, они струились, точно клубки змей, обрамляли всю южную сторону беседки. Говорили, что рядом, в изрезанных громадах скал, водились змеи. Их-то они и считали своими защитницами, весталками, хранительницами тайн детского воображения. И все-таки здесь мальчиков никогда не оставляло чувство проникавшего до костей страха. Они были вынуждены с ним настойчиво бороться и его истреблять. Придумали игру: «единицу страха». Уговорились, что будут наказывать себя «по собственному разумению и выбору». Ренцо всегда признавался во всем и бывал бит волосяной плеткой-девятихвосткой. Сквозь загорелые ребрышки у него, казалось, высвечивались бледно-розовые внутренности, а он желал, чтобы за каждую «единицу страха» его били «до крови». Но обычно удары были сдержанные, несильные, кроме одного случая, в страстную пятницу, когда Ренцо бредил, сходил с ума по воплощению Спасителя. После бичевания он носил Ренцо кофе с молоком и большой калач из топленого сыра и меда, он прятал все в обложку, словно это была книга, и тайком выносил из большого отцовского дома. Сам он никогда не позволял Ренцо бить его, это было бы недостойно вождя, хотя и он не раз наливался «единицами страха», змеиным чувством, о котором они ничего не знали вплоть до того рокового утра, когда Мартино разрушил и сжег Глориету. Но возможно, и это произошло в тревожном, обрывочном сне.
Ему было тринадцать лет, он только начинал превращаться в юношу, шелковистые усики пробивались у него над бледной верхней губой, будто травка на разрыхленной клумбе. Серые штаны для верховой езды, желтые сапожки, охотничий кинжал с насечкой, углом скроенный военный коричневый плащ с квадратными карманами, cravatta a farfalla[62] в красную крапинку, кожаный пояс с серебряной пряжкой (гербом их древнего рода), серебряный двуствольный пистолет (pistola a futile) — «совсем молодой аристократ с портрета Веласкеса» — это были слова старой монахини, приживалки в доме отца, болезненной и тощей как палка. «Хорошо, что он любит природу, будет здоровым», — говорила монахиня. Но Мартино — он слышал это от Ренцо — величал его «надутым клоуном».
Клоун как клоун — яркие краски, Запах отвратный, глупая маска.Мартино еще сказал о нем, что он «una piccola vipera arguta e maliziosa»[63]. Но он мало думал о великих полотнах, о природе, о злопыхании простолюдина. Мартино и его «полевые мыши» были для него неодушевленными предметами.
В первые дни Глориеты он и Ренцо всего один раз, случайно, распаленные и одурманенные летней послеполуденной жарой, сошлись вплотную и прикоснулись друг к другу, но тут же испугались и отскочили в разные стороны в какой-то жалкой подавленности. Это безмолвно и навеки было вычеркнуто из памяти. Понемногу создали неписаный устав Глориеты, где отражался ее исследовательский, отшельнический дух… Они никогда не вспоминали о «позорных прикосновениях» (Ренцо, конечно, в глубине души записал их себе в перечень «смертных грехов»).
Ренцо был не только на голову ниже ростом, но и слаб духом. Он ходил босиком, в тельняшке и совсем коротких, обшитых кожей грязных штанах, а в Глориете повязывал широкий парусиновый пояс, сделанный из пожарного шланга, с конским хвостом — это была и бахрома, и ножны, — хвост ритмично покачивался, когда он приплясывал, переминаясь с ноги на ногу, как бормочущий свои заклинания шаман. Ренцо! Сын сельского звонаря и живодера. Ренцо был его игрушкой, домашним животным. Немного постарше него, с быстрыми прозрачными розоватыми глазами, его холуй, добровольный льстец, вассал, жертва, вещь, мазохист, его обожатель, наслаждающийся своим подчинением, влюбленный в него, своего вождя, как в свою противоположность. Ренцо! Живая кукла, полезная в руках создателя (не бога!) и дрессировщика «черного вида» живых существ.
Ренцо расцветал. Румянец у него становился все ярче, как полевой мак, а его лицо все явственней бледнело и обретало тонкость — словно изваянное из алебастра. Заметно выступили подкожные гнойные прыщики — свидетельство неосознанного плотского волнения. Но выражение у него было одухотворенное, преднамеренно скромное и одновременно наглое, говорящее о беспредельной работе мысли. Круглые черные глаза с гадливо-насмешливым выражением, полуопущенные, как у молодых послушников, веки — он был средоточием спеси и ненависти, испытывал восторг и негу тайных помыслов, мрачное «вдохновение черного вида». Кто знает, откуда, как и почему тот чудовищный замысел овладевал им, к повседневной жизни он был глух и слеп. Путаный замысел истребления был основой его существования, его первой потребностью. Стеклянные глаза его слепли от великого, грозного стремления растоптать мир и толпу, чтобы этой всеобъемлющей жертвой воздвигнуть бесконечное количество крестов, на которых он видел распятыми не только школу, учителей, музыку, церковь, Мартино и толпы простолюдинов, но и, в минуты ненависти, родную мать — золотистую матрону, лишенную, подобно камелии, тепла и аромата; она так ни разу и не съездила с ним на каникулы в загородную виллу в Умбрии. Из всей его плоти било острое желание уничтожать существа определенного рода, определенного вида, определенных миров. Он рос с этим желанием, наслаждался им и видел его долгожданные, но приметные последствия, Уметь подчиняться, чтобы подчинять других и при этом сознавать, что время уходит быстро, без пользы!
Мутные воды всегда стремительны. В «священной» Умбрии тоже. Живому потомку славных предков даже само столетие казалось усталым, ленивым, лживым, умирающим, в то время как, он слышал, в утробе земли кипят и бурлят ключами опасные толпы черни, будто змеи под Глориетой.
Глориета мало-помалу заполнилась предметами, символами и тотемами «черного вида» вещей. Казалось, что их собирали какие-то могущественные руки индийских созидателей и разрушителей мира, а не хрупкие руки его и Ренцо. В ней скопились груды хлама, выброшенных, сломанных, украденных, бесполезных предметов. Чем же все-таки была Глориета? Свалкой тайного наследия или обретением древней (голубой) крови? Мертвенной и зловещей предпосылкой глобальной катастрофы? Почему он становился все более постоянным и горячим приверженцем «черного вида» вещей?
По женской линии в его роду были только рабыни — плоть и слезы Марии Магдалины. От мятежных, блудниц, развратниц, поборниц и послушниц до плакальщиц, рецидивисток, кающихся грешниц, мучениц. Чем усерднее они служили кипящей плоти, тем выше возносили роскошь голубой крови и культ мощных предков.
В бархатном альбоме, окованном серебром, бледно-рыжие фотографии, снятые при солнечном свете. Печальное выражение желтых, темных и черных глаз, окруженных коричневыми тенями, фигуры в длинных, свободно ниспадающих, как у римских богинь, платьях. Кресла с черными вышивками и белыми кружевами. Широкие соломенные шляпы, точно сосуды для ползучих растений. Перед зеркалами — вазочки из керамики, причуда госпожи. Под кроватями тяжелые ночные посудины из майолики с выпуклыми фиолетовыми розами. На ночных столиках деревянные крестики и массивные молитвенники. Подчеркнуто интимные запахи кожи, пота, одежды. И голые животы.
Захлопни расшитую обложку. Аллеи, гулянья, часовни, будуары, шепот, молитвы, слезы, хохот. Какие-то голубые, серые, серебристо-зеленые всадники. Усы подстриженные, английские, закрученные, в виде ласточкиного хвоста, нафабренные. Качели в тени и пуховые постели. Любовь, обман, благословение, растление, надругательство.
А на втором плане — в изобилии маслобойки и печи, масло и хлеб, жернов и нож. Вещи. Крестьянки, слуги, лошади, коляски, очаги, навозные кучи, плуги, волы, фонтаны — вещи. Груди молодых селянок, млекопитающие с мышцами, жилами, хрящами, неведением, утробой, спермой. Вещи. Спазм в горле, отвращение, бессознательность, падение!
И пробуждение.
Фаланги очищения. Запреты на дыхание, смех, шепот, отправления желудка. Изгнание в ад. Камень на шею — и в воду. Стерты все самобытные цивилизации — американская, китайская, русская, балканская, испанская, все дикие страны, все миры полукровок, фальсификаторов и рассадников животных инстинктов, тупой, разлагающей, ленивой, животной жизни и издыхания. Еще одна фаланга из тысячи, миллионов фаланг, которые сами должны стать жертвами. И Ренцо в конце концов должен стать жертвой. Неизбежное зло и величие века — пресмыкание. Насилие во имя избранных, карабкание на престол избранных, а не историческая игра с бандой Мартино.
Глориета была не одной из возможностей жизни, но единственной.
Ко́злы, увешанные бубенцами, для ампутации крыльев распятых летучих мышей, чтоб заглушить их писк. Черные булавки, вколотые в темя живых лягушек — тренировка в прыжках назад. Серебряная кадильница, полная птичьих и осиных перепонок — против дурного глаза.
Под решетом всегда наготове злые жуки, целый улей свирепых насекомых, переносчиков чирьев, чесотки, коклюша, зубной боли, запоров, страданий и смерти. Череп с тремя зажженными свечами в трех зияющих отверстиях, фонарь для приманки убежавших жуков. Стеклянный шар, в нем ладья с невольниками, воздушный змей из человеческой кожи, древний пергамент с римскими цифрами, отсчитывающими время взрыва адской машины. В темном углу Глориеты висел, покачиваясь, один из тайных драгоценных трофеев — черный тяжелый крест с распятым серебряным Иисусом, отрезанный с епископского пояса на традиционном летнем домашнем маскараде. (Епископ был вне себя от злости и возмущения, а отец его успокаивал, поддакивал, они расстались — епископ позволил поцеловать руку, благословил, отец поклонился.) И при этом была еще тьма других ничтожных, неполноценных, бессмысленных вещей, которые позднее подло взбунтовались.
Был здесь и тот квадратный столик с навесом — «мучилище» — с приспособлениями для пыток («испанским сапогом» ): большой старой трещоткой, которую использовали от великого четверга до пасхи, а теперь ее деревянный желоб служил в качестве тисков и ждал первую жертву.
Однажды Ренцо ожерельем из проколотых косточек, окрашенных в белый и зеленый цвет, заманил Изотту, такую же белую и зеленую. Она стояла в дверях Глориеты, как листок белого ясеня. Дрожащее созданьице с мутными голубыми глазками, с воспаленными веками, вокруг которых уже появились коричневые круги, признак какой-то зарождающейся болезни, пепельные, как у старых вил[64], волосы, серовато-белое тело без косточек, худые, широко расставленные ноги, любопытная глуповатая улыбка на сомкнутых губах, как у ангорских кошек. Она вся была студенистая, дрожащая, ни ребенок, ни девушка, способная вызвать соблазн или сожаление, — незавершенное, неопределенное создание, рассеянное, изломанное, легкомысленное, как рисунок малыша, со случайными размазанными контурами и красками.
Иисус на серебряном кресте епископа был недвижим, его покрыли мокрым пестрым платком. Можно начинать волнующее путешествие «в повесть вен». Так они позднее назвали ту первую (злодейскую!) пытку — она должна была помочь им стряхнуть с души бронь навязанных, неестественных, опротивевших навыков и обычаев, освободиться от приобретенных мерзостей, которые, словно у них были руки, преграждали поток живой крови.
Он стоял поодаль, в углу Глориеты, на «заповедном мосту», крепкий, полный достоинства, и не спускал глаз с напряженно трепещущего Ренцо.
Изотта уселась на стульчик, губы сомкнула, любопытная и глуповатая. Стульчик чуть отклонялся, как кресло-качалка, и ноги ее висели над поперечиной. Ренцо притащил скамеечку со вделанным воротом. Изотта только моргнула, Ренцо надел ей ожерелье на шею, и она тут же схватилась за него ручками. Ренцо привязал ее своим парусиновым поясом к спинке «мучилища». Он стонал, дрожа, как пружина. Трясущимися руками взял ее за пятку левой ноги и вставил ногу в ворот. Затолкал ногу поглубже, до упора, — она не проронила ни звука. Затем Ренцо спустил штаны. Его короткие кривые ноги дрожали, когда он поднимал ее юбчонку. Под тельняшкой он был совсем плоским. Его угнетал стыд от предчувствия своего бессилия (хотя по уговору ему полагалось только символически исполнить задуманное). Изотта начала выдергивать связанные руки. Рот у нее раскрылся, глаза округлились в удивлении. Ренцо привел в движение ворот, послышался хруст орешка. Изотта заскулила, как щенок. Ренцо упал на нее, обнял и протиснулся между сжатыми бедрами. Изотта испуганно всхлипнула. Плакала она тихо, жалобно подвывая, а свободная нога дрожала, как крыло бабочки.
Ренцо шумно дышал, вытаращив глаза, он почувствовал слабый, чуть заметный толчок крови в горле и туман соблазна. Он опрометью кинулся в кусты, в заросли, в колючки. За ним летели глаза Изотты: у них была своя душа. Он ждал, что извергнет пламя, как дракон, а пламя превратилось в еле заметное гнусное дыхание, в позор, который он не мог вынести, погасить, как не мог подавить приближающийся бунт вещей.
В общем-то, не Мартино уничтожил Глориету. Первыми взбунтовались вещи.
Отец Изотты шагал твердо, решительно, Изотту он нес на вытянутых руках; безжизненно покачивалась ее изуродованная нога. За ним напирала страшная безмолвная толпа. Как надвигающаяся гроза, приближались люди к большим чугунным воротам. Колокол в капелле ударил девять раз. Им навстречу вышел сам отец. Лишь кое-кто снял шапки (вещи начинали терять почтение), все были хмуры, как небо. (Ко всему в тот день выпал град.) Отец Изотты опустился на колени и поднял дочь на руках, нога, похоже, была вывихнута, кожа содрана, жилки разорваны, в открытой, промытой ране виднелись бледные мышцы. Отец Изотты пожаловался коротко, с мукой и вздохом, а толпа за его спиной глухо твердила длинные, забористые ругательства, время от времени ожесточенно выкрикивая проклятия Глориете. Отец серьезно и озабоченно кивал головой (тем самым еще раз убивая уже мертвых предков). Никто в мире не смог бы и не посмел объяснить отцу удивительное детское стремление к воскрешению мученика и отшельника, детскую тоску по разрушенным царствам и поверженным тронам, непокоренным твердыням и покорным провинциям, по перевернутым с ног на голову ценностям, и все это на пользу избранным, кем был он сам. Впрочем, было поздно. Вещи в Глориете и вне ее взбунтовались.
Ночью Мартино полил Глориету керосином и поджег. Огонь вспыхнул и весело принялся ее пожирать, его аппетит разжигали сухие и горючие взбунтовавшиеся вещи.
Мартино со свойственным ему спокойствием — он словно был создан служить моделью для скульптора — смотрел на этот страшный пожар, уничтожавший важную главу святого и бурного детства графского сына. Мартино ликовал со своими единомышленниками — «полевыми мышами и муравьями», которые обычно сидели на корточках фигурками из обожженной глины, со стрелами из спиц зонтика, в уборах индейских вождей из колосьев пшеницы. Пока жила Глориета, кипевшая и бурлившая детским воображением и тайнами, она раздражала их, будто заветный сундук с золотом. Мартиновы орды соломенных индейцев никогда не решались и за километр подойти к Глориете. А сейчас, глядя, как она погибает, они плясали и ликовали (при поддержке предательских вещей, которые взбунтовались первыми, которые первыми вооружились когтями, шипами и ножами).
На заре он и Ренцо, гонимые страшным предчувствием, взволнованные до глубины души и испуганные зловещим шумом в деревне, прибежали на пепелище — к груде черных дымящихся головешек в раскаленной чаше кустарника. Глориеты уже не существовало. Хоть прыгай по пожарищу и топчи воспоминания своих наивных рондо и менуэтов. Может, Глориета была лишь видимостью убежища? Что она являла собой теперь, обращенная в пепел: место новых зарослей сорняков, будущие норы завистливых крыс и ядовитых змей? Разрушена была Глориета, но не ее дух.
Они легко вспыхнули и так же легко успокоились. Их бешенство не было желчным: они чувствовали себя не виновными, но опозоренными. Они не лили слез, но остались с вечной занозой в сердце, с сознанием тайной силы и временного отступления. (Дуче впоследствии это сумел оценить.) Ренцо упал на колени, уронил голову на землю, словно положил ее на плаху.
Отец бесновался: огонь чуть не перекинулся на сухие ветки, чуть не охватил сосны и пинии, и тогда могли бы сгореть во сне и они сами, и дом, и лошади, и слуги. Он тут же отправил его с учителем плавания в Виареджо, а Ренцо увели карабинеры. Больше его никогда не видели.
А если б проклятые вещи не взбунтовались против «черного вида» вещей, ничего бы не произошло. Упорно ткется паутина, разрастаются сорняки, все покрывается ржавчиной.
Неужели вещи быстрее разрушаются от коррозии, чем люди? Материя разъедает дух? Все древние духи, сиятельные умбрийские мистики всегда стремились помешать ей множиться, воспрепятствовать ее порядку вещей.
Бунт вещей? Возможен ли он вообще? Ведь это простые предметы, обычные инструменты, слуги, неживая материя. А разве, поднявшись над всем этим, нельзя было понять, что они искали свою черную руду, хаотически пронизанную жилками света? Разве они не могли, живя своей непонятной жизнью, создать свой вид, свой образ жизни, свои святыни, свою исключительность? Разве он сам не искал свою черную, пронизанную светом руду? Глупости! Он — высшее существо, а они — вещи, груда вещей, ничтожных и неживых.
В ответ на любой «ужасный» и «щекотливый» вопрос он прятался на своей тайной и пустынной планете. Там, на пепелище, было поколеблено его тщеславие, был зачат страх — ему всегда и всюду терпеть поражение. Именно тогда его окружила невыразимая пустота, молчание. Суета! Смерть!
Голова Колоннелло пылала до самого рассвета, и дрожь в груди не унималась. Всю ночь его терзали страшные, назойливые сны — взбунтовавшиеся вещи.
БУРЯ
Люди с трудом двигались по горам к Волчьему логу.
Шли с запада, пересекая горный хребет наискось, шли навстречу ветру; он дул неутомимо, холодный и влажный. Вот она, буря! Ударила бы сразу, так нет, подкралась исподволь, ползком, потихоньку, как муха, а теперь яростно хватала людей за волосы. Кончилось бы все это поскорее, как и началось. Но видно, еще не вовсю разгулялись свистящие вихри, они резко и глухо подвывали, сдерживаемые зубчато-красноватым солнцем — оно только зарождалось над пепельно-синей грядой. А ветер уже гудел в приземистых кронах полуоголенных грабов, и люди ощущали, как, мало-помалу задирая им полы, он со все больший любопытством добирался до посиневшей кожи.
Продвигались размеренно, упорно, наперекор встречному, сбивавшему с ног ветру, извиваясь меж скал, как караван в пустыне. Впереди шагали старики. Сразу, с самого утра, они пошли неторопливо, часто останавливаясь, точно на поденщине, стараясь сохранить силы для долгого пути, поддерживали женщин и путающийся под ногами молодняк, норовивший поскользнуться и упасть. (Это, скорее, были дети — юноши давно опоясались патронташами и разбрелись кто куда, влекомые военным ураганом.) Женщины укутали головы черными и коричневыми платками, оставив снаружи лишь влажные носы, защищая лицо и глаза от уколов ледяного ветра — словно тысячи игл просеивались сквозь воздушное сито.
Вот и буря, «белая женщина». Дети болтались под ногами у старших, как болотный рогоз вокруг голенастой цапли, зажмурив глаза, противясь ветру, остужавшему горячую кровь. Взрослые шли молча, словно не замечая их. От матери, бабки, деда далеко не уйдут. А ветер крепчал.
И в душе у Пипе с грохотом нарастает буря. Он неспокоен, рассеян, охвачен могучей победной дрожью и невыразимо сладким возбуждением, какое бывает перед крупной игрой. Он часто останавливается и окидывает взглядом тяжело шагающую колонну. Всего сто душ, а растянулись так, что конца не видно, словно весь Медовац вышел молить о дожде. Его бьет озноб от страха и нетерпения: если они и дальше будут так полети, не поспеть им в Волчий лог к сроку, опоздают. Около полудня сделают привал и долго будут жевать черствый хлеб, пока не съедят все, до последней крошки. А опоздают — какой будет толк в том, что все они честно отозвались на его призыв и пошли добровольно, без звука, не спросясь броду, на риск, в неизвестность. Но дрожь сладостного возбуждения не унималась: пусть и они вкусят азарт крупной игры, и как игроки, и как болельщики. Он не мог избавиться от чувства страха и надежды, от притягательного ощущения шального счастья.
Буря изо всех сил вертела трещотку, бросала людей из стороны в сторону, хрипела, как проколотые меха, насмешливо кружилась, извивалась, свистела, шуршала вокруг них, как рой выкуренных из ульев пчел.
Пипе, напряженный, но улыбающийся, обходит людей, кого поторопит, кого подбодрит; будто ниточка муравьев, топчется, уткнувшись носом в бурю, как замерзший нищий в Медоваце перед запертой хлебной лавкой. Но что поделаешь! Старики проводники отмеривали дорогу, рассчитывали силы, так что, разорвись он и превратись в попутный ветер, ему не изменить этот привычный, проклятый ритм движения, не подтолкнуть время.
— Ты что, быстрее не можешь? Нет? Почему не можешь? Ведь ноги у тебя как у молодого? А? Что ты говоришь? У тебя плохо с ушами? Глухой ты, что ли? — приставал Пипе к старику проводнику, но тот словно его не видел и не слышал: его голова обросла белой, как овечье руно, шерстью, на долгих привалах он отдыхал и шел дальше на своих окостеневших ногах, похожий на большого жука. Зачем ему тратить время и силы на бестолковые разговоры?
Разочарованный Пипе шагает вдоль колонны, предоставив старику один на один сражаться с бурей, сосредоточенно преодолевать горы. Сейчас необходимо перекинуться добрым словом и с другими людьми, и не только о переходе. Люди, глядишь, оживятся, ускорят шаг, удивят его, взволнуют и обрадуют. Никогда наперед не знаешь.
— У тебя, вижу, неплохая обновка — что лепешка воскресная. Мальчик! На все сто! Сразу отдавай его в партизаны! Не бойся родов, легче разрешишься! Быстрей пойдешь, и бремя легче покажется, и родишь легче! Трудно, говоришь? В такое-то время? А ты не думай об этом! Так уж суждено! Любовь слепа, но мудра, я уж не говорю — сладка, это ты и сама знаешь! Не будь несушки, не было б ни яиц, ни народа! Курица-несушка петуху всех дороже, и для хозяйства ценнее, и для всего родного края! — приговаривал он, шагая рядом с невысокой крепкой женщиной, и у нее, когда взгляды их встречались, раскрывались губы в вымученной улыбке и взгляд затуманенных глаз обретал твердость.
Люди, придавленные ветром, проходили мимо него молча, сосредоточенно, повинуясь военному долгу, поглощенные своими заботами и надеждой на будущее.
«Все будет хорошо! Надейся, народ!» — И Пипе чувствовал настойчивое и восторженное желание задобрить людей шуткой, поддержать, подкрепить.
— Хорошо не ходить в школу, а? — ущипнул он за румяную щеку маленького крепыша, чем-то напоминающего неуклюжего Марко. — А кому она нужна, правда, если к тому ж и учитель вредный?
Мальчик растянул рот до ушей в глуповатой смущенной улыбке, точно сам учитель перед всем классом погладил его по голове.
— Ну и красива же ты, дочь моя! — самозабвенно крикнул Пипе румяной стройной девушке, ожегшись на ходу о сияние ее девичества, о манящее смущение, как о горячую звезду. Он влюбленным парнем зашагал рядом с ней, как на гулянке, а колонна настойчиво продолжала идти своей извилистой дорогой сквозь бурю. — Сам бог тебя полюбил бы! — воскликнул он горячо, а глаза его вспыхнули, как у зверька, то расширяясь, то сужаясь, словно их слепил яркий свет. (Девушку легко ошеломить — ей глубоко врезается в душу то, что поражает — крепкое пожатие, безудержная ласка, и, хотя она охлаждает себя разумной проверкой, неискушенное сердце вновь загорается, когда перелистываешь воспоминания. Сердце редко ошибается: первая яркая встреча — верный залог счастливой любви.)
— Сам бог тебя полюбил бы! Всем своим божьим естеством! Пусть в тебе не иссякнут соки! Цвести тебе, как липе! Всегда! Что ты сказала? Из моих уст да в божьи уши? Браво! К тому же ты не притворщица, и это мне нравится!
В глазах у Пипе был голод. И он хотел, чтобы она это видела, чтобы почувствовала его голод и жажду и свою божественную, законную, ни с чем не сравнимую власть. Она одна может стать ему пищей, отрадой, спасением. Эх, было бы другое время, и уединение, и трава, и сила — наслаждались бы они да миловались до пота и изнеможения целые дни до заката, ночи до рассвета. В лесных озерах ее бархатных глаз он увидел темно-синюю бездну, непробужденную, затаенную страсть. Девушка — как незажженная свеча. Из тлеющих угольков легко вспыхивает неугасимое пламя.
Девушка стыдливо, как огонек в пламени костра, краснела под его взглядами.
Пипе в мечтах уже унесся с ней в солнечный, теплый лес. Голова у него шла кругом.
Но его бурный восторг мало-помалу угас. Девушка ушла вперед. Он отстал.
— А вот и наши загордившиеся бабы! — крикнул Пипе, не унимаясь. (Перевернул, чтоб не подгорело!)
— Душка! — выдохнула старуха.
— Ты будто моложе стала… как пережаренное кофейное зерно!
— Э, сынок, — промолвила неопределенно старуха, не останавливаясь.
Пипе почесал за ухом — нашел время для разговоров.
— Наговорился сам с собой, а, Пипе? — хмуро спросил его белоголовый старец, он не собирался останавливаться прежде намеченного привала, и, видно, ему было мало дела до того, что скажет Пипе.
— Так интереснее! — спокойно ответил Пипе и пошел с ним рядом.
— Сам спрашиваешь, сам отвечаешь? — усмехнулся старец.
— Так вас же забавляю, чтобы легче было идти.
— А ты можешь сказать, куда ты нас ведешь, а?
— Только не надо наперед спрашивать, мил человек. Все сам увидишь, сам услышишь, и плохо тебе не будет. Лучше будет!
— Ну чисто поп, — шепнул старец соседу.
Но Пипе это услышал.
Он остановился и сделал вид, что внимательно, командирским взглядом окидывает колонну.
Воодушевление, охватившее его, спало мгновенно, как снятое с огня молоко. Находчивый ответ старику уже не радовал. Он не обольщался и беседой с самим собой в попытке обмануть время. Он испытывал какое-то горькое наслаждение от слов старца. Жар раскаяния и стыда опалил его, горечь промаха, как после неудавшейся аферы, стянула ему лицо. Старики сильнее. В их словах нет недомолвок, нет двусмысленности. Почему он не сказал им больше? Зачем втянул их в свою страсть к игре? Понимают ли они, могут ли понять, что все это он делает ради них? Его слова — мотыльки, их слова — камни. Они сильнее. Их мудрость умиротворяет, их проницательность непреодолима, желчность сдержанна. Они интуитивно ближе к истине. Какой истине, чьей истине? Что они хотели сказать? Истина — гора, какой камешек они подняли? Только два слова его задели, вернее, одно. Поп! Пастырю свойственно лицемерие. Но ведь для попа люди не больше чем стадо, а для него — по меньшей мере соль земли. (Разве медовацкий поп ему не родня в седьмом-восьмом колене по женской линии?) Нет, старцы ближе к истине. Разве он сам не почувствовал душеспасительного привкуса в своих разговорах с людьми? (Поп сказал бы — с паствой!) Но и проповедники и послушники стремятся к этому воображаемому, обманчивому прибежищу, а некоторые рвутся к нему по-настоящему, призывая на помощь ложь и воображение. Целая шкала лицемерия — от сладости и необходимости до страха и бесстыдства — к услугам предводителей, все зависит от того, что, когда и зачем выбрать. Все равно. Все виды лицемерия держатся заодно — они друг другу родня и наследники.
Вкус страдания словно сгусток крови в горле. Надежда в нем медленно увядала.
Теперь колонна очутилась под отвесной скалой на самом солнце. Сейчас буря лишь посвистывала над головами и холодила левый бок. Ему показалось, что колонна пошла легче.
Азарт снова охватил его, надежда снова воскресла. Его словно окутал молодой, любовный туман, живее забилось сердце.
ЧОЛЕ
— Вытрясло его ночью немилосердно, как мешок, — сказал Чоле, сочувственно закатывая глаза, и плюнул в самую середину костра. Он только что отнес Колоннелло настой из листьев ивы, шалфея и липы (для больных и истощенных) с последним измусоленным куском сахара и вернулся на свою треногу, к Павалу и Боже, сидевшим у огня.
— Хорошо, что еще живой, — озабоченно рассуждал Чоле. — Горел весь, как баран на вертеле! Не осталось на нем, черт его побери, ни куска сырого мяса!
— У старого человека в лихорадке сердце быстро сгорает! — со знанием дела изрек Боже, таращась на огонь невидящими глазами.
— А что будет, если он не сможет идти? — настороженно прищурился Павал.
— Сможет! — отрезал Чоле.
— А вдруг не сможет? — упрямо стоял на своем Павал. — Ты сам говорил, он всю ночь горел, как полено?!
— Тогда понесем его, — скрипнул зубами Чоле.
— Потопает, еще как потопает! — заторопился Боже, которому вовсе не улыбалась подобная перспектива. — И тиф на ходу переносят, не то что лихорадку.
— Но человек-то чужой, непривычный, изнеженный! — поддразнивал товарищей Павал.
— Поглядим, — буркнул Чоле. — Голову ставлю, будет бегать! Он тоже человек! Домой возвращается. Поставь себя на его место.
— До Волчьего лога даже нам топать добрых два-три часа. А с ним и все шесть! — продолжал стращать их Павал, озабоченно вертя маленькими прищуренными глазками и слегка покряхтывая от глубоко затаенной злости. — Не выспался он, что ли, голодный или чем недоволен?
— Надо бы выйти пораньше, — вставил в наступившей паузе Боже.
— Да, не меньше шести часов, — с горячностью повторил Павал.
— И я так думаю, — согласился Боже и взглянул на больного. — Лучше бы отправляться прямо сейчас.
— Пусть еще полежит, — решительно сказал Чоле и тоже повернулся к Колоннелло. Дело было не только в приказе Пипе, нет, он чувствовал к старику подлинную и какую-то болезненную жалость. Пусть отдыхает! Его не учили рано вставать. Пусть полежит! Может, на его счастье найдется хоть капля силенок… До Пипиных грузовиков, а потом — как бог даст и как ему повезет!
Колоннелло лежал, укрывшись одеялом, вытянувшийся, расслабленный, не отрывая глаз от потолочной балки, тихий и неподвижный, как труп. Он не чувствовал запаха прелой соломы, мужского пота и голоса пустых кишок — лежал изломанный и спокойный, как лес после бури. Лихорадочная дрожь утихла, жар спал, тело стало холодным и вялым. Словно в болотной топи, он медленно погружался в бездонную глубину. Над полем боя нависло глухое затишье, не стонут раненые, смолкли трубы и клики. Недвижное море, полный штиль, море доброй и счастливой судьбы. Казалось, безвозвратно ушли все странные, несуществующие, мерещившиеся ему боли, лоб обсох, а провалившиеся глаза словно плавали в масле.
Осталось только тоненькое жужжание под черепом, едва слышный звон, который вынуждает человека жить, вечно страдая, — один нерв всегда жив, всегда готов проснуться, вызвать адский гул всех бесчисленных нервов и затемнить сознание. Кажется, этот жужжащий на одной ноте нерв и создал тот страшный раздерганный сон. Вполне возможно, что в живом мозге порой — или постоянно — стоит на страже какой-то нерв, который в час волнения будит другие нервы, и, чем он чувствительнее и пугливее, тем сильнее и непреодолимее возбуждение. В этом и заключается правда о ночном бунте вещей. Просто испортилась одна из клавиш, и орга́н зазвучал фальшиво, или на страже оказался взбесившийся нерв, а не умиротворяющий защитник.
Слабая дрожь прошла по спине вдоль позвоночника, как запоздалый порыв утомленного ветра.
Какой тяжелый обрывочный сон, а какой богатый по содержанию! Ведь даже ничтожное и постыдное поднято в нем до возвышенного. И вечно это мучительное изгнание, это больное воображение, океан магических глупых представлений. Вещи? Какие вещи? Это были люди, а не вещи. Просто он слаб, опустошен, измучен телесно и духовно — разве сны могут действовать столь убийственно? Но они действовали. (Преувеличенные, фальсифицированные, с зерном реальности и горой фантазии!) После сладостной предвечерней охоты, закончившейся столь печально, прошло немного времени, а кажется, целая вечность, белая, как полотно, на котором только в темноте появляются видения, люди, вещи. Однако никогда сон не сбывался так удивительно и так полно, как теперь.
Им овладело блаженство, разлившийся по телу покой напоминал умиротворение мягкой осени. Покой вырисовывался, как незнакомый, причудливый, но приветливый пейзаж. Теперь, казалось, он видит все по-иному, из своего еще необжитого поднебесья, а чувства и мысли пока не определились, как у писателя перед чистым листом бумаги. И еще казалось, что это очень важно: смотреть на все по-иному. Исписать чистую страницу. Тогда и вещи выглядели бы иначе, не были бы такими серыми, жесткими, вечными, они стали бы смертными. Был здесь и мятежник с орлиным взором, тот, что укрывал его чем-то и утром дал чудодейственный горький напиток, принесший облегчение. Впрочем, можно и по-другому смотреть на жизнь, на другой манер, наверное, это и есть новый подход? Но существует ли иной подход, иной взгляд, может быть даже более внимательный, на возможность существования других миров? Не исключены здесь и новые мысли, и новый взгляд — когда словно бы расширяются горизонты — и на себя самого и на Умбрию.
Единственное, что его тронуло и взволновало в ночном сне — воспоминание об Умбрии. Он никогда так сильно не тосковал по ней и никогда так не сгорал от острого, непреодолимого желания увидеть ее, может быть, заново прочувствовать (даже наверняка заново) мирные глубокие ощущения и ее красоту. Теперь он воспринял бы все намного серьезнее, в своем пристрастии к страданиям воспринял бы Умбрию как преданную и брошенную любимую жену. А вот возвращение к ней — означало бы оно очищение и прощение? Пережить бы заново всю невинную роскошь пасторали, светлые блики потоков дождя, точно незримый налет нежности, звон серебряного колокола, отдаленный и приглушенный, словно с затонувшего корабля. В сияющем, ярком ореоле вокруг обнаженных горных вершин кружат соколы и отбрасывают на землю летучие, чуть заметные тени. Умбрия дышит уверенно, чистая, преданная, щедрая и строгая, как грудь кормилицы. Полные чудес леса — водопады зеленого бархата, древние кипарисы, оливки, дубы, тихие парки, сады, виноградники, священные луга и пажити, горные долины, отвесные скалы — все дышит ароматами сена и трав, словно курящийся ладан. Герань, гвоздика, мальва, лаванда, базилика, мята, зверобой! И вправду, сейчас, поздней осенью, с умирающих цветов падают и проникают в землю семена, чтобы начать новую жизнь. Frumenta terrae reddere![65] Все противостоит неизбежному, тихому разрушению временем, сопротивляется ему и тем не менее движется в бесконечность, к смерти или к жизни, поэтому даже самый слабый человек чувствует себя сильным и величественным.
Дрожь глубокого необъяснимого предчувствия пробежала по его телу.
Внезапно Колоннелло осознал свое истинное состояние и положение. Словно в последнюю минуту ухватился да ветку спасения в этом потоке нежности. Сегодня день обмена! Партизаны меняют его на пищу и оружие. День обмена! Не дай бог заболеть! Сегодня окончательно, по-настоящему, навеки освободится он от ужасного, страшного сна, который, к великому сожалению, являет собой действительность. А впрочем, эта действительность — так ли она ужасна (если принять во внимание все обстоятельства, при которых действительность эта могла бы быть куда ужаснее)? Не задумали ли бог и судьба испытать его? И выпадет ли ему еще случай обрести милость испытания? Не постиг ли он теперь вещи, о которых стоило бы глубже поразмыслить, глубже проникнуть в их суть?
Сейчас ему казалось, что в памяти все откладывается медленно и мучительно, капля по капле, так столетиями нарастают кристаллы на сталагмите в древней пещере, пока не вырисуется в полутьме человеческий силуэт.
Чоле наклонился над постелью — большой, красный, в короткой военной шинели, перепоясанной кожаным патронташем, набитым патронами.
— Колунел! — позвал он, улыбаясь, прочистил горло и часто-часто заморгал. — Идти надо! Пора в дорогу! — Он взмахнул руками, показывая куда-то неопределенно.
— Si… Si!.. Come no![66] — встрепенулся старик, с трудом приподнялся на постели, и вдруг все поплыло у него перед глазами, он опустил веки и затих в напряженной молитвенной позе.
— Не может, — со злостью бросил Павал.
— Сможет! — ответил Чоле, не вдаваясь в объяснения, и стиснул зубы и кулаки, словно это помогло бы «Колунелу».
И действительно, Колоннелло, постанывая, натянул сапоги, встал на ноги, застегнул блузу. Отрешенно и грустно улыбнулся.
— Вот куртка. Куртку возьми, — весело сказал Чоле, протягивая куртку. — Вот и шапка, на. Буря, как бы тебе не простыть.
— Si… si… grazie! — произнес Колоннелло и натянул шапку. Она была явно велика ему, голова так и ушла в нее, как сыр в мешок. Вдруг Чоле замер. Задумался. Конечно, Павал эту заботу истолкует как слабость. И будет потом всю жизнь попрекать его перед всем отрядом.
— Слушай, Павал! — хмуро, насупясь, сказал Чоле. — От него зависит исход войны!
— От кого?
— От него, Колунела!
— Ты что, тронулся?
— Так сказал Пипе.
— Значит, он тронулся!
— Так сказал Пипе и дал мне приказ! Слышишь?! — загремел Чоле.
— И-их, — сплюнул Павал, лицо его было удивленным и взволнованным.
— А чего мы ждем? — несмело вступил Боже, надеясь пресечь ссору в зародыше.
— И я говорю: чего ждем?! — рявкнул Павел, вздохнул сердито и направился к выходу, бурча себе под нос: — Исход войны! По-Пипиному, по-Чолиному! Ха! Лопнуть можно! От смеха!
Чоле и Боже молча многозначительно переглянулись.
— Будет, как я сказал! — свирепо нахмурив брови, произнес Чоле. — Слышишь, Павал?
— А кто тебе говорит, что не будет?! — Павал резко повернулся и, осклабившись, окинул их дерзким взглядом.
— Порядок! — примирительно сказал Чоле, в душе обрадовавшись очевидной покорности Павала. Он дружески подмигнул Боже — «пора», — легонько похлопал Колоннелло по плечу и подтолкнул к выходу. — Иди, зайчик, и терпи, как положено мужчине. Покажи, что и ты солдат! В поход!
Чоле с друзьями обсудили маршрут. Они решили обойти гору вокруг; по предгорью, по ступенчатым террасам, спускающимся к югу, выйдут под Волчий лог, а затем уж поднимутся на гряду — всего с полкилометра подъема. Лучше, чем тащиться всю дорогу против ветра. Впрочем, это немного дальше, зато будет легче для ослабевшего Колоннелло.
Они шагали свободно, неторопливо, на небольшом расстоянии друг от друга, как на прогулке. Впереди Павал и Боже, за ними Колоннелло и Чоле. Утро было свежее, до краев наполненное холодным солнцем, звучащим безлюдней леса и монотонным шумом бури. Они шли по красноватой тропинке, вдоль каменных гряд и невысоких зарослей, немного защищавших их от ветра.
— Говорил я тебе, что он будет валиться с горы, как старая кляча! — крикнул Чоле Павалу, но тот только презрительно скривил рот, повел глазами и ускорил шаг.
Чоле радовался — вот они и перевалили за половину пути. По его расчетам, близилось время большого привала. Он уже стал присматривать удобное местечко, где бы отдохнуть да перекусить.
Невысокие, густые рощицы — дубки, клены, ясени, сосны и грабы, застланные зеленой хвоей и сухими листьями цвета вялой рябины, — тянулись на север без конца и края по склонам террас, по островерхим холмам, вдоль каменных гряд, как ручьи среди голубовато-серых скал, до самого укутанного облаками пика над вершинами далекого горного хребта. Буря и не думала униматься, она упорно забивалась во все щели, шуршала в ветках, переворачивала листву.
— Принес же дьявол бурю! — выкрикнул Павал и плюнул в лицо ветру. Он пытался наладить отношения с Чоле, заходил издалека, хотел, чтобы между ними все было «по-хорошему». Он не был злопамятен, просто время от времени давал выход бешеной ненависти, «спроси бога как» накапливавшейся в душе и воспаленной, как чирей, а язык его был единственным острием, которым он мог уколоть. — Все злее! Принес ее черт! — крикнул он снова и, прищурясь, посмотрел мимо Чоле, в сторону, будто и не видел его, а его замечание о буре — разговор с самим собой, а не стремление по-человечески поговорить с Чоле.
— Только бы не дождь! — машинально откликнулся Чоле и опять погрузился в свои размышления. Главное, чтоб дождя не было. Весь табак промочит на грузовиках, тогда его придется сушить целую зиму. А кто знает, пришлют ли вообще итальянцы им табак или сигареты? — Ну как ты, мой старый зайчик, а? — остановил он Колоннелло и достал из кармана комок пуры, мамалыги, надеясь угощением расположить его к себе — все ради табака.
Колоннелло вытащил трясущиеся руки из-под накинутой на плечи куртки.
— Хоро-шо… пу-ра, — жевал он слова вместе с пурой, а ветер трепал его куртку, как повисший парус.
— Вот это да! — закричал удивленный и обрадованный Чоле. — Люди, товарищи! Слышите? Заговорил! Колунел заговорил по-нашему!
Павал и Боже подошли к Колоннелло, уставились на него с изумлением и любопытством.
— Заговорил, — с гордостью, точно отец или учитель, твердил Чоле. Он больше всех находился с Колоннелло, говорил с ним ласково, четко, медленно, как с ребенком. И теперь ребенок заговорил. Созрел плод его трудов! Чоле был в восторге, прямо-таки нежно ворковал от радости.
— Пусть еще скажет! — попросил изумленный Боже, его вдруг охватили подозрения. — Давай сначала! — он в упор посмотрел на старика — не обманывает ли их итальянец, а вдруг он переодетый шпион?
Колоннелло смотрел на них равнодушно и хмуро. Дрожь прошла по его телу лихорадочной волной. Но он был спокоен, совершенно спокоен. Только в глазах его, казалось, бился косой язычок пламени, как у блаженных. Он не удивлялся их странному и неожиданному расположению. На их требование он ответил робкой печальной старческой улыбкой, как обращаются к неразумным, и они приняли эту улыбку, точно бальзам на рану.
— Хорошая пура!! Хо-ро-шая пу-ра! — повторял Чоле, как учитель, отсчитывая слоги на пальцах.
— Пура… яйцо… вода… — произносил Колоннелло. — Вода… и баста! — грустно заключил он, как актер на сцене.
Это их развеселило.
— Ловко учится! — серьезно сказал Боже.
— Ей-богу, неплохо! — добавил Павал и сплюнул.
— Если б он еще со мной побыл, я б его выучил говорить слов двадцать пять! — Чоле хохотал во все горло, показывая черно-желтые зубы, и вдруг, на миг окаменев, инстинктивно согнулся, точно над головой у него мелькнул меч, обхватил обеими руками Колоннелло за плечи и грохнулся вместе с ним на землю. Словно прятал его от молнии!
Глаза у Чоле горели, как у ястреба, устремившегося на добычу. В то мгновение, когда он падал вместе с Колоннелло, с которого, как с вешалки, слетела шапка, Боже зло взвизгнул и рухнул набок, в расселину. Ноле успел заметить обгоревшую, разорванную пулей штанину Боже, его подогнувшиеся, скрюченные ноги и боль в глазах, когда он схватился за щиколотку. Машинально он отметил «военную хитрость» Павала — тот катался по земле, а затем увидел его свернутую набок, напряженную голову со стиснутыми веками, прижатую к серому камню, будто у змеи. Тут он ощутил под левой ладонью шею старика, подрагивание кожи, как у испуганного коня, и ему показалось, что он хищник, сжимающий в когтях перепуганного ягненка.
Но все это длилось лишь одно пустое мгновение, мгновение надежды, что все было и прошло, исчезло с ветром. Тут же послышалось зловещее жужжание ос — резкое, свистящее, перекрывающее бурю.
Чоле снова унес горячий порыв. Руки его сжались в кулаки. Он напряженно поднялся на локте, скользнул за камни изумленным взглядом налившихся кровью глаз, оценивая опасность.
Пули яростно свистели, невысоко, срезанные ветром, словно впивались в песок. Если б не буря, они были бы слышнее, и именно это делало их еще подлее и опаснее. Они летели с юга прямо в лоб ветру. Чоле дал короткую очередь вдоль ветра. Он не ждал толку от стрельбы наугад, но ветер донес звуки его выстрелов до настороженного противника. Опуская голову, он приметил за косой каменной грядой на расстоянии полкилометра металлический блеск дул, предательски вспыхивающих на солнце. Оттуда же с запозданием долетел глухой лай тяжелого пулемета — итальянская «бреда». Били и карабины. Могли быть и другие огневые точки, но они пока не проявились. Да, они слишком низко спустились по террасам, почти на расстояние выстрела из главных укреплений, что на подступах к Медовацу. Хорошо, что их не подпустили ближе — тогда их всех, беспечно болтающих, как на прогулке, скосили бы, будто пук травы серпом.
Чоле мигом огляделся. Площадка в горах, небольшие валуны, солнце в глаза. Да из стольких-то стволов и зайца можно стереть в порошок. А за спиной, в десяти метрах, каменная стена и за ней лес — спасение. Все было б просто, не будь с ними Колоннелло. А сейчас надо идти наверняка или по крайней мере почти без риска. Большой куст слева — слабая защита, но лучше, чем ничего. Заползти в его тень, которая скроет их от пулемета, а потом по тени ползти к стене, как раз туда, где она осыпалась, перевалиться через нее между двумя очередями, а там в подлесок, через лес, сперва на север, и только тогда свернуть к Волчьему логу, на восток.
— Павал! Ползи к кусту! Боже! Скорее! — прошептал Чоле и снова выпустил короткую очередь.
— Где вы? — зверьком пискнул Павал, ошарашенно, с какой-то запоздалой горячностью.
— Нога! Я ранен! — захрипел Боже.
— Ползи к кусту! — уже злее прошипел Чоле.
Сам он на спине съехал к полковнику, чтобы защитить его от пуль, и, дернув головой, показал, что не упускает его из виду, потом ткнул легонько в живот и быстро, на локтях, пополз к кусту. Но, оглянувшись, увидел, что старик лежит вниз лицом, закрыв голову дрожащими руками, бессильно скорчившись и постанывая. Сердце его, верно, от страха билось чуть ли не в горле. Чоле положил ему руку на лоб: лихорадка возобновилась, взгляд блуждающий, отсутствующий, глаза остекленели.
Теперь среди них было двое раненых.
Он оглянулся. Павал и Боже уже доползли до куста. Старались отдышаться.
— Перебирайтесь через стенку! Скорей! — крикнул Чоле и стал стрелять отрывисто, короткими очередями, чтобы обеспечить их отход.
— А как? — закричал Павал, перекрывая ветер.
— Помоги! Чего ждешь?
Павал кое-как взвалил Боже себе на плечи, подобрал автоматы и, согнувшись, спотыкаясь, заковылял к камням неуверенно, словно ступал по воде. От чрезмерного напряжения он громко сопел, того гляди, душа вылетит и глаза выскочат. Наконец с громким выдохом, без сожаления перебросил Боже через камни, в подлесок, скинув его с плеч, как мешок с зерном, и сам свалился за гряду, волоча за собой автоматы, осыпающиеся камни и ветки.
— Прикрывай! — крикнул Чоле, увидев, что они в безопасности. — Прикрывай! Слышишь? Скорей!
Как только автомат Павала застучал из-за стены, Чоле без промедления опустился на колено, рукой обхватил старика за живот, взвалил на плечи, как мешок пшеницы, и глубоко вдохнул, точно собирался нырнуть. Потом напряг железные мышцы и крепкие жилы на ногах и широкими прыжками кинулся к стене, размахивая автоматом, как подраненная птица здоровым крылом. Теперь пули летели сплошным дождем, но он стремглав мчался среди огня, разбивая грудью ветер, волосы его развевались, глаза горели жестоким огнем. Чоле благополучно достиг каменной стены, доходившей ему до пояса, с ходу перекинул через нее старика в кустарник, а сам уселся верхом, разрывая сукно штанов и обдирая бедра о колючие камни, словно оседлал бешеного, с торчащими острыми позвонками коня, и наконец перевернулся сам. Он долго переводил дыхание, прижавшись головой к стене. Тело его словно одеревенело, болела затекшая рука и саднили исцарапанные бедра.
Продолжая стрелять, Павал почти неосознанно, не признаваясь себе в этом, восхищался Чоле. Будь Чоле трус или слабак, пришили бы его, как пить дать, к камню, словно червя. Правда, это не значит, что он ему таким нравится. Он ему просто завидует. В бою любой рядом с Чоле чувствует себя жалким и несуразным, как у моря. В сражении перед Чоле все ученики. Но не ему это признавать, а уж тем более восхвалять! Если не ради чего другого, так от сглаза; не то, чего доброго, окажешь ему медвежью услугу. Насколько Пипе скор на язык в мирной беседе, настолько Чоле ловок в бою. Как белка, как машина! Таким уж его бог создал. Он не камень, он вода — всегда пробьет скалу и найдет дорогу. Он видел, как Чоле схватил Колунела, точно горный орел овцу. Боже, к счастью, этого не видел: он был занят своим автоматом и к тому же он перепугался. Что есть, то есть: Чоле в бою как заговорным маслом смазан, в нем загорается сокрушительное пламя боя, рождается шестое чувство, скорость, изворотливость, нюх, прости господи, как у зверя, и, как у рыси, легкая и гибкая поступь. А после боя, убей его бог, — трутень трутнем, неуклюжий, отупевший, глупый, ленивый, переваливается с ноги на ногу, как раскормленная утка, вечно словно жвачку жует, а храпит… боже милостивый! Кажется, глух, а цыпленка в яйце услышит!
— Скорей! — Чоле вскочил и, встряхнув, поднял полковника на ноги. — Быстро! В лес! Ши! Да! — тянул он его за руку, как упрямого ребенка, взглядом-молнией зыркнув по окрестности. На лице его мелькнуло удовлетворение: лес с густым кустарником, насколько хватал глаз, тянулся ярким языком, словно специально для них. — Ши! Ши! Курс по лощине! Ши! Быстро! Иди! Иди! Быстро! — толкал он полковника. — Слышишь, свистят? Айда! Быстро! А я мигом за тобой! — Он еще раз подтолкнул старика и отбежал, чтобы взглянуть на раненого Боже и заменить Павала.
Колоннелло дернулся и, шатаясь, двинулся по лесной лощине, слепо, наугад, словно во сне. Он горел, и в то же время его сковало холодом. То огонь, то лед. Жуткое, но спасительное объятие. Этот дикий, безумный кошмар невидимого боя (к тому же он зарылся головой в землю) стоял у него в глазах — дым, вихри и потоки магмы. Внезапно его захлестнуло злобное чувство непостижимости пространства и людей. И времени. Блестящий военный атташе — и вот марионетка в руках мятежников. Он побежал. Упал. Полное отчаяние, отупение. Совсем как кукла без главного нерва, без оси, без равновесия. Неужели снова зловещий сон? Нет, явь. А он то горит в лихорадке, то стынет от предчувствия новых кошмаров. Может, это и закономерно, не удивительно? Он споткнулся. Пополз на четвереньках. Присел между стволами деревьев и рухнул в сплетение кустов. Весь в огне, в пламени. Раздался гром. И все же один едва слышный, тяжелый вздох вылился в паутину голоса: «Che imbecille! Andar a caccia!»[67]
ВОЛЧИЙ ЛОГ
Вскоре после полудня партизаны и крестьяне добрались до Волчьего лога.
Пипе продумал всю игру до последнего хода и сейчас смотрел на ущелье, как на карточный стол, вокруг которого скоро усядутся игроки и болельщики. Замысел игры возник легко и неожиданно, как с неба свалился, он стал реален после того, как было получено при содействии попа согласие партнера вести игру. Ну а Пипе сообразил, что не стоит большого труда загнать лягушку в болото. Почему бы на войне не разыграть партию, не обмануть время, не получить свое и неприятеля «не раззадорить»; если тебе представился такой случай, ты не должен открывать карты да еще доказывать всеми способами, что тебе никто ничего не сделает, что с картами или без них ты непобедим, если полон решимости погибнуть за свое дело. Игра начата, теперь тебе деваться некуда, нужно идти до конца. А что тут делать: оружия нет, патронов нет, людей мало, провианта еще меньше, и если при этом потерять чувство юмора — быстро проиграешь войну. И что же останется? Останется висящая на тонкой, хоть и шелковой, ниточке надежда. Согласитесь, это не бог весть что.
Волчий лог — перевал в горах, к которому ведет высеченная в камне, вьющаяся змейкой дорога из Медоваца в Сыровац, она соединяет две долины, два соседних городка — «Сыр» и «Мед». Крестьяне, называя так эти забытые богом местечки, зло посмеиваются над своей горькой судьбой в этой земле обетованной, где вместо «молочных рек» течет «сыр и мед». Но все же, надо признать, находятся и такие, что вправду или хотя бы на словах веруют в «молочные реки», имеются и ярые их противники, которые верят исключительно в «хрен и редьку». Основываясь на воинствующих, противоположных, сильных и неоспоримых убеждениях, со временем здесь образовались две секты, два взгляда на мир, первый — слишком радужный, второй — нарочито мрачный. Большинство жителей, не желая осуждать верующих, сомневалось в предумышленном названии городков. Только с давних пор — а может быть, так было всегда (к сожалению, или к счастью, в зависимости от взглядов) — медовые речи всех властителей рассматриваются здесь как утешительная ложь. Ну, а если бы каждый сам себе был властитель, никто никогда не увидел бы земли обетованной. Это Пипе было ясно. И вообще, если не засучить рукава, манна не упадет с неба. Она никогда и не падала.
Издавна в ходе сменяющихся событий и веков Волчий лог называли «проклятым местом», «волчьим логовом», «гайдучьей таможней». А древние старики говорили, что в давние времена Волчий лог называли «Пировац» (между Медовацем и Сыровацем — Пировац), но места эти больше походили на прибежище для волков, чем на место молодецкого веселья, так что название Пировац теперь забыто. В обыденной жизни от суеверного страха Волчий лог всегда представлялся вражьим гнездовьем, пристанищем зверей и злых духов, да еще под самыми облаками, на зло богу, небу и людям. А из-за всего злого и дурного, что царствует в мире, добро всегда будет казаться страшным — пока человек забит и несчастен, — и наоборот. По преданиям, в Волчьем логу полновластными хозяевами были кровожадные волки и налитые кровью сластолюбивые оборотни, скрипучие, блудливые ведьмы, прирученные гайдуками собаки и кошки, и все это посреди треска, рокота и грохота, так что, если уж надо, лучше миновать его в полдень, стороной, перекрестившись и обязательно трижды сплюнув. Говорят, гайдуки хранили там волчьи шкуры и турецкие кинжалы, но это не совсем так — гайдуки ходили в овечьих, а не в волчьих тулупах. А в наше, военное время Волчий лог вошел в народный говор как «партизанский пост», по образцу итальянского выражения «posto di blocco» — застава на подступах к оккупированным городам и местечкам, с которыми неприятельские войска быстро справились и выстроили свою линию обороны, чтобы легче было наблюдать за появлением каждого нежелательного элемента.
С первых же дней войны Волчий лог окружила яркая фантастическая легенда, что подкреплялось засадами партизан и надеждами жителей. В глазах народа скала рассеивала туман, отгоняла бурю, отводила вурдалаков, была живой, сияющей и благодатной, а для неприятеля — хмурой, мрачной, жестокой. Ущелье Волчий лог было объявлено неприступной партизанской крепостью, хотя там не было ни укреплений, ни охраны.
Волчий лог — голая гора, обвеваемая со всех сторон ветрами, заснеженная, без окопов, без укрытий. Серый камень, огромные глыбы — темные в ущелье и светлые на склонах, полегший кустарник, подрезанный бурей, снегом, ледяными дождями. Говорят, у страха глаза велики. На самом деле только где-то в глубине теснины громоздились груды камней, разведчики же сообщали командирам альпийских отрядов, что место это непроходимо, непреодолимо. Молву, разнесенную медовацкой и сыровацкой молодежью, лазутчики объяснили по-своему, решив, что в Волчьем логу расположились отряды бандитов и что любая попытка овладеть проклятым волчьим хребтом напрасна и тщетна.
Пипе прилагал все силы, чтобы легенда жила и молва о ней ширилась, чтобы Волчий лог считался пропастью, а для своих был мостом, особенно теперь, когда летучий партизанский отряд отправился в далекий, тяжелый и неизведанный путь. Пипе надеялся, что к его возвращению к весне соберется, вырастет, точно молодой лесок, новый отряд.
Обнаженное солнце горело, не давая тепла, словно буря обломала и унесла его горячие, пылающие лучи. Сейчас с вершины виднелись две далекие манящие долины, чем-то напоминая две постели с единым изножьем, они лежали по обе стороны горы и манили своим уютом, недоступным покоем и отдыхом. Северная песчаная долина, холодная, серо-синяя, бездонная, где, казалось, колючая стужа била как из заброшенного мутного родника, и южная, зеленая, ровная, напротив самого Медоваца, в желтом, дрожащем свете, она как бы уплывала вдаль и терзала душу, как и все желанное, пряталась за чистым золотым горизонтом. Так что мурашки пробегали по лицу и по спине.
— Люди! Послушайте меня! — обратился Пипе к замерзшим, топочущим ногами о твердую землю людям, сбившимся возле него в ущелье. — Всем придется подняться на эти склоны, по обеим сторонам дороги, вы увидите оттуда все, как в цирке!
Крестьяне удивленно загудели, а Пипе возвысил голос, перекрывая бурю:
— Стой! Не будем говорить гоп, пока не перескочим! — Быстро, взмахом руки успокоил он глухой ропот и опустил голову, делая вид, что размышляет, — эта хитрость всегда успокаивающе действовала на толпу, сосредоточивала внимание, и тогда все ожидали новостей или хотя бы свежих идей.
— Не торопитесь! — еще раз воскликнул он. — Вы спрячетесь в расселинах, возьмете камни и по моему знаку, когда я почешу затылок, высунете головы, только головы, и начнете стучать камнями по скале! Все меня поняли?! Это не трудно.
— Значит, ты ведешь нас в бой, Пипе? Ради всего святого, — с волнением произнес старик с испуганно округлившимися глазами.
— Да какой это бой! — отмахнулся Пипе с нарочитой небрежностью. — Бой, да не для всякого! Ни у кого, дорогой мой, волос с головы не упадет!
— А зачем тогда бить камнем о скалу? — старик не отставал, задетый, очевидно, небрежным и издевательским тоном Пипе, а тот ведь любого умел выставить дураком перед всем селом и всем миром.
— Увидишь! Всему свое время! Не будь любопытным! Не лезь вперед батьки в пекло! Ты меня понял, дорогой мой и хороший человек? Все поняли? Вот, погляди! Видишь, как люди поднимаются на скалу по обеим сторонам дороги, словно в цирке, чтобы лучше видеть, погляди, вот они берут камни — по одному в руку, а сейчас присядут на корточки в расселине и спрячут головы. И это видишь? Все правильно, все вы умные и послушные, быстрые, как вода!
— Я вижу, что все стоят на своих местах.
— Тебе так кажется, — улыбнулся Пипе. — Это ведь Волчий лог, друг! Здесь все может привидеться — ведьмы, кошки, оборотни…
— И такие, как ты! — оборвал его старик, довольный тем, что ему посчастливилось не остаться перед Пипе в долгу. И чтобы Пипе снова не взял над ним верх, первым стал смешно карабкаться по склону горы. Остальные последовали за ним, ехидно посмеиваясь.
Крестьяне взбирались по склонам, а стайки детей ползли за ними по скале, как улитки на изгородь. И вот уже выглядывают из-за камней на косогорах, будто птенцы из разоренных гнезд.
Пипе нетерпеливо шел вверх, подняв воротник кожанки, втянув голову в плечи. На миг он вообразил себя командиром огромной армии и сразу подумал, что это смешно, нереально, но кому до того дело? Он смотрел на поле боя хмуро, насупленно, не теряя надежды. Хорошо! Он за пультом, партизаны на сцене, народ в ложах. Внезапность принесет тройную пользу: военную добычу, о какой не мечталось, враг увидит бесчисленное множество бойцов, которые появятся по его команде, и народ будет в безопасности.
— Можете разговаривать друг с другом, сколько хотите! — давал он последние наставления, поглядывая то в одну, то в другую сторону — по склонам.
— Только чтоб видны были головы! Одни головы! Вот так! Вот так, сестрица! А ты, малый, не вылезай, пока я тебе не скажу, чтобы враг не увидел твою голую гузку! Вот так!
Лука шел за ним по пятам и только ворочал глазами. Молчишь, ну и лучше, что молчишь. Молчи, смотри, запоминай. Насмехается, издевается над войной и народом! Да что поделаешь, если сейчас все в Пипиных руках, а вернее, в дьявольских. Потому он только слушает и ничего не спрашивает. Неужели не настанет день, когда он сможет открыть, излить свою душу, без лишних слов и оговорок поставить вещи, по его представлению и требованию, на свои места. Он, Лука, — командир, Чоле — его заместитель, Марко — десятник, а Пипе уйдет на подпольную работу в Медовац или на политработу — «только унес бы его дьявол подальше от военных дел и с моих глаз!»
— А где же Чоле? — мимоходом кинул Пипе, доставая карманные часы — свою точную, как поезд по расписанию, «луковицу», и обернулся к Луке. — Я ему раз сто говорил, чтобы пришел пораньше.
— Видать, Колунел помер! — лениво, не спеша сказал Лука.
Вдруг с высокой «наблюдательной» скалы над ущельем раздался крик Марко:
— Грузовики показались… как гуси! Один за другим!
Обрадованные партизаны смотрели с горы, а крестьяне заволновались не столько из-за резкого крика Марко, сколько из-за того, что грузовики подходили к их неприступной военной крепости, машины, которыми располагает и с которыми умеет обращаться только неприятель. Некоторые крестьяне высунулись из-за камней, беспокойно бросая угрюмые взгляды на извилистую дорогу, но кое-кто еще ниже пригнул голову.
На горной дороге в лучах солнца клубилось облачко пыли, оно исчезало, потом снова поднималось над извилистой каменистой дорогой, будто бесшумный самолет, без звука, без рыка моторов, сносимого бурей в отзывающиеся эхом горные просторы.
— Вон они, вон они! — взвизгивал Марко с какими-то задиристыми переливами в голосе, от возбуждения он акцептировал слоги, казалось, он и ошеломлен, и раздражен, и готов ко всему. Это его мучил голод. А голод терзал Марко всю жизнь, с тех пор как он припал к материнской груди. Голод для Марко был высшим законом, потому и трудно было кому-нибудь приручить его, хотя бы даже на время. Когда у Марко давал себя знать пустой живот, тут уж Марко шипел и бурлил, как прокисшие дрожжи, становился злым, жестоким, его трудно было переварить, как прогорклое масло, голод ощущался в его голосе, дыхании, в неподвижных, горящих, как у волка, глазах.
— Что это, а, Пипе-е-е? — донесла буря хриплый, глухой, как рык, голос.
— Не бойтесь ничего, братья и сестры! — радостно, во весь голос кричал Пипе. — Это военное снаряжение! Военное снаряжение нам прислали итальянцы в обмен на их пленного полковника Колоннелло. Волчий лог — партизанская крепость, мы решили произвести обмен здесь, нам — грузовики и то, что в них, а итальянцам — полковник. Все на свои места! Порядок и спокойствие! Когда подам знак — головы вверх и бить камнем о скалу, как договорились! Вы меня хорошо слышите? Кричать громче!
Крестьяне посмотрели на него, пошептались и снова спрятались в расселинах. Буря ревела между скал.
Все слышали, как надсадно гудят грузовики.
Пипе взволнованно махнул Марко, тот подбежал, мигом вокруг них образовалась группка.
— Где Чоле? — встревоженно выдохнул Пипе, уставившись на Марко. — Видит кто-нибудь Чоле?
Ответом был неумолчный гул.
Марко, прикрыв глаза рукой, поглядел на освещенный солнцем западный склон. Пустые скалы, казалось, дрожали и шуршали на ветру. Там ничего живого он не обнаружил.
— Придет, я уверен, — ответил Лука, но, наткнувшись на удивленный и колючий взгляд Пипе, сразу отступил и пробормотал: — Плохо, если он опоздает. Что скажут военные, солдаты?
— Какие военные? — обозлился Пипе.
— Шоферы… итальянские… — неуверенно произнес Лука.
Пипе опустил голову.
— Чоле никогда не опаздывает! — сказал он с горечью.
Машины подошли к последнему повороту перед подъемом. Глаза, тайком наблюдавшие за ними, насчитали пять военных грузовиков, крытых темно-зеленым брезентом. Они держались близко, на небольшой дистанции, точно были аккуратно нанизаны на шнурок, как бусы на четках, ехали неторопливо, осторожно, то замедляя ход, то останавливаясь, шипя и пыхтя, снова трогались, напряженно, шумно, громко скрипя, дымились перегретые моторы.
Вот они вошли в ущелье, вот уже едут по ущелью.
Офицер, сидевший в кабине первого грузовика, через запыленные окна сразу увидел редкую цепочку партизан. Все держали оружие наготове, давая знак ехать медленно вперед. Высокие, крепкие люди, разношерстно и плохо одетые и обутые, на всех перекрещенные ремни и пулеметные ленты, сбоку у пояса гранаты. Голые руки сжимали винтовки на ледяном ветру. Головные уборы самые разные — треухи, кепки, береты с красными звездочками, за плечами вещмешки, ранцы, свернутые плащ-палатки и куртки. Офицер заметил над каменной глыбой торчащую голову, рядом пистолет-пулемет, за остроугольным камнем мелькнуло что-то черное. А потом их остановили в десяти метрах от вершины три партизана, они стояли посреди дороги, двое по краям с пистолетами, а в центре — высокий, мускулистый мужчина с красивой, массивной, как у сенбернара, головой и чудными, пронизывающими глазами.
Офицер вышел из кабины — мотор продолжал работать, — снял измятый зеленый маскировочный плащ, поправил берсальерскую шапочку с пером, затянул широкий кожаный пояс с черной пряжкой и неторопливым, невоенным шагом направился к партизанскому командиру (вероятно, командиру).
Пипе быстро вытащил из кармана и надел расшитую золотом плоскую коричневую меховую шапку с пятиконечной звездочкой — единственный партизанский знак различия. Опустил воротник кожаного пальто, и ветер, как ножом, резанул его шею, пронизал с головы до пят. Пипе эта торжественность показалась смешной, ненужной, он опять поднял воротник, но руки в карманы не спрятал. И стоял серьезный, немного взволнованный, скрестив руки на груди, ожидая офицера. Потом стиснул их так, что хрустнули суставы. Глаза его холодно улыбались, отливая то бледно-голубым, то серебристо-серым цветом, только черные зрачки остриями были направлены на приближающуюся цель.
Он не сводил глаз с маленького смуглого офицера с усиками на молодом подвижном лице, тот вроде бы небрежно, но на самом деле осторожно приближался к Пипе — кто знает, что он думал и переживал, чувствовал ли он тоже покой и свободу или веселое возбуждение, как перед сдачей карт? Секунда бессилия и пустоты в предчувствии проигрыша, но только не сомнение в счастье. Дразнящее напряжение нетерпеливого ожидания сладости проклятой игры.
Время словно понеслось вскачь. Пипе казалось, что он учащенно дышит, пылает, хотя знал, что внешнее спокойствие не покидало его. Время — первое условие игры, невесомый туман, испытание, течение вечности, как в обычной жизни. Время — это бесконечная энергия, а на деле — хитроумная приманка, ложный блеск, беглец-предатель, ловко притворяющийся твоим покорным и терпеливым рабом.
Офицер остановился перед ним. Отдал честь. Хотел что-то сказать, но Пипе, приложив руку к шапке, перебил его и заговорил по-итальянски:
— Хороший денек?
— Да… но? — удивился офицер.
— Как доехали?
— Хорошо… команданте.
— Все в порядке?
— Надеюсь…
У Пипе отсутствующий взгляд, он рассеянно смотрит на юного партизана, который откинул брезент на грузовике и бешено машет руками, потом медленно переводит взгляд на седую лохматую напоминающую тыкву голову крестьянина, показавшуюся из расселины в скале, видит и другие головы, торчащие, как подсолнечники, однако сильнее всего в нем в эту минуту ощущение внутреннего напряжения неоконченной игры.
— Лука! Позови их! — спокойно сказал Пипе, достал старую серебряную табакерку, нажал крышку и предложил офицеру — там лежали три самокрутки.
Поручик взял цигарку со сдержанной улыбкой, щелкнул зажигалкой.
Пипе медленно, блаженно выпустил дым через ноздри, несколько глубоких затяжек, и с рыхлой сухой цигаркой было покончено.
Партизаны обступили Луку, Пипе оставил офицера, небрежно, по-свойски махнув ему рукой, и направился к своим.
— Ну, люди мои, сколько добра божьего, такого я еще никогда не видел!
— Пипе, молиться на тебя надо, ведь там и пулемет есть.
— Ну и дела! Чтоб у меня глаза лопнули!
— Сберечь надо, как бог свят, растащат за милую душу, осторожность прежде всего, эти скоты могут все разграбить в минуту! — разошелся Марко.
Пипе видел все как в тумане, он был печален, как на похоронах: все забыли второе условие игры — ставку. Знают ли они, что игра не бывает без времени, ставки и… счастья? Время, ставка и счастье — вот три условия для успешной игры, для полноты жизни. Если не соблюдается одно условие — не та жизнь, не та игра.
— А где же Чоле с Колоннелло? — стонущим голосом закричал он в третий раз.
Ему показалось, что он, как библейский пророк, должен трижды воззвать или трижды проклясть, появилось ощущение, что он забывает свой замысел.
— Перестаньте вертеться возле грузовиков! — тихо приказал он без обычной веселости и легкости. — Они еще подумают, что нам чего-нибудь не хватает. Делайте вид, что не замечаете их, пусть шоферы молчат!
Тишина. Все смотрели на него пристально и недоброжелательно, как дети, которым запретили безобидную игру. С поникшими головами, равнодушные к его невеселым шуткам.
— Ну-ка, пусть они наверху ударят камнем о камень, — кивнул Пипе, успокаивая крестьян.
— А зачем это, Пипе, бог с тобой? — процедил Лука сквозь зубы, с трудом сдерживая кипение своей желчи, но спросил на всякий случай, осторожно, не настойчиво.
— Пусть видят, что мы и камнями стучим!
— Кто мы?
— Мы!.. Все! Народ! У меня с итальянцами крупная игра, никто не должен заглядывать ко мне в карты. Понятно?
— Дьявол тебя поймет… — проворчал Лука.
— Ждем Чоле! — резко бросил Пипе, высоко поднял голову, приблизился к офицеру и сказал по-итальянски: — Придется подождать нашего товарища. Полковник с ним.
И почесал затылок.
В ту же минуту пустые голые скалы зароптали, заговорили, с них покатились веселые каменные звуки, низкие, высокие, глухие, чеканные, редкие, частые. Звуки сыпались сквозь бурю, как жемчуг. Они лязгали, падали, катились, взлетали, разбивались, радостно кричали, стучали, пели; отбивающий дробь барабан ударился о скачущий барабан, затем все стало затихать, успокоенные отзвуки мерно покачивались, смешиваясь, сплавляясь и сливаясь в единую каменную симфонию, — это было соло в сопровождении оркестра. Народ сжал кулаки.
Поручик встрепенулся, подтянулся, сохраняя достоинство, он медленно осматривал склоны хребта, откуда плыли густые и раздробленные звуки невидимых волшебных каменных органов. В какой-то момент Пипе показалось, что в глазах поручика мелькнула тревога, тоска, изумление — все, что он чувствовал сам.
Грохот нарастал, сердце у Пипе затрепетало.
— Это наши помощники, — громко прошептал он офицеру, но буря заглушила его слова. — Голые руки и камень — вот их оружие. — Офицер только пялился на скалы. — Их очень много! Это будущие партизаны, как и вы, может быть! — Офицер опустил глаза корректно, не соглашаясь, и Пипе поспешил добавить: — Как многие из вас… я надеюсь.
От грохота гора казалась еще выше.
Офицер сдержанно улыбнулся, а Пипе — сладко, словно у него в сетях заметалась форель.
Тут часовой крикнул с утеса, глядя на север, на лесистый заслон:
— Идут! Чоле и…
— Ну, слава богу! — возликовал Пипе; оставив офицера, он бросился к роще, навстречу Чоле, за ним следом Лука и Марко. — Пусть поторопятся!
Лицо его вспыхнуло огнем надежды, сердце билось, вспугнутое слепым счастьем. Он был опьянен открывшимися возможностями, поглощен одним чувством, ослеплен своей правдой, как игрок, слишком долго ожидавший удачи.
И вдруг остановился как вкопанный. Остолбенел. Окаменел. Стук ударов раскололся надвое и заглох в гулких теснинах гор.
Они появились из-за острого камня, бледные, взъерошенные, задыхающиеся, будто изможденные тифозные больные. С глубоко провалившимися глазами, едва передвигая подгибающимися, дрожащими ногами. Вот-вот рухнут, как снопы соломы.
Раненого Боже, с перекошенным лицом и бессильными ногами с обеих сторон подпирали, поддерживали шатающиеся Чоле и Павал. Они тяжело дышали, стонали, выпучив налитые кровью глаза, словно видели перед собой свою смерть, свои кости.
Пипе как сквозь пелену смотрел на этих «своих детей», будто преследуемых проклятием, — значит, они попали в руки врага, которому он шаг за шагом проигрывает поединок.
— Пипе! — в отчаянии, как осужденный на смерть, выдохнул Чоле.
Ядовитый ком застрял у него в горле, он упал на колени, не выдержав веса своего тела и тела Боже. Оборванный, несчастный, с непокрытой головой, он не знал, что с собой делать, куда себя девать. Он жадно глотал ветер, беспомощно разводил трясущимися руками.
— Вижу! — резко, хрипло, безжалостно оборвал его Пипе. — Можешь не говорить!
Чоле неподвижно смотрел на него, раскрыв рот в неистовой немой мольбе, у Пипе подкосились ноги, наверное, он врос в землю, не сводя взора с невидимой, по роковой точки.
До самой своей смерти человек одержим счастьем, как всемогущим таинством, как божеством. Он приносит ему в дар тайную глубокую любовь, видит в нем свою самую сокровенную надежду. Одновременно веря в то, что счастье его не покинет или вот-вот придет снова, он бросает в него палки и камни и сокрушается, что несчастье преследует его по пятам. Вот так он сам лицемерно отрекается от своего главного божества. (Мало найдется счастливцев, которые вовремя, пока не поздно, могут разувериться в притягательной силе и очаровании счастья. Но разве и они после такого разочарования завтра же снова не будут о нем тосковать?)
А потом глубоко переживают, кто знает, в который раз, как вот теперь, его измену, уход (его суть и свойственные ему непонятные выходки). И разве человеку не кажется — и это правда, — что всем прочим игрокам счастье дарит удачу и только одного его обходит? Чем преданней ты, тем невернее блудница. Хуже всего, что каждый раз заново, как сопливый мальчишка, Пипе бывал огорчен, поражен, сломлен этим предательством и унижением. В душе — слепое бешенство, на устах — последние ругательства, которые, кажется, могут убить любую, самую отчаянную надежду, любую обманчивую уверенность. (А потом снова, понемногу, с трудом, как цвет агавы, прорастает надежда и убеждение в верности счастья, в его возвращение?) Эта вера — полувера или сверхвера. Ведь игроки не только суеверны, они истинно и беззаветно верующие. Ничто не приводит в такую ярость, как разочарование в счастье, и ничто так не убивает, как разочарование в любви. Суеверный человек готов легкомысленно раздавать, разбрасывать, растрачивать свою жизнь и настоящие ценности, только бы заполучить воображаемое, неуловимое счастье, свою мечту, и со всей страстью, алчно, злобно, смертельно его лелеять. Потому-то разочарование в счастье острее и потрясает больше, чем надвигающаяся смерть. Но разве разочарование в счастье не похоже на разочарование в любви: болезнь обманчива, и настоящее выздоровление близко. Какое выздоровление? Для нового безумия? Разве без счастья не может существовать разумная, полная жизни игра? Вообще, что такое игра? Потребность доказать свое ничтожным вещам. Но не находит ли суеверный душевное равновесие в несчастии, в потрясении? Не приносит ли ему несчастье какую-то терпкую, едкую радость, тайное наслаждение своими утратами, тем, что именно в него ударила молния?
Но все эти мудрствования напрасны. Сейчас он огорчен, разочарован, убит настоящим. Ничто не может его утешить. Им овладела меланхолия, равнодушие, отупение. Дьявол свое найдет. Черная земля уничтожит любую силу, высокомерие — любой призрак; у каждого догорает свеча. Главное, чтобы время шло как можно быстрее!
Но именно сейчас, без страшной гонки время стало ползти (в поисках новой надежды, у истоков нового безумия). Вдруг ему показалось, что без сильного толчка земля вовек не сдвинется с места, даже на самое маленькое деление самой маленькой меры.
Какие ненужные, глупые мысли — просто какой-то тупик.
В эту минуту он отдавал себе отчет в том, что отошел от животворной, настоящей, действенной, разумной идеи, что его поведение лишено здравого смысла. Такое безумие, такие дурацкие рассуждения полностью противоречат понятиям о человеческом труде, противоречат практическим, повседневным задачам, как военным, так и мирным.
К счастью, об этих его малодушных бессмысленных рассуждениях никто не подозревал; миру и соратникам важнее то, что на поверхности, — а на поверхности все шумит, мчится, вздымая пыль; и глубина там, где тишина, покой, мудрость, кто до нее докопается?
— Напали на нас… внезапно! — задыхаясь, выговорил Павал, опустив раненого Боже на землю.
— И никто вас не предупредил! — бросил Пипе. Но Павал хмуро и глухо продолжал:
— Чоле велел Колунелу идти в лес… началась стрельба… Колунел исчез… мы весь лес перевернули — как сквозь землю провалился… сквозь землю!
— А вы случайно его не прикончили? — злобно прищурился Лука, как ножом рубанув рукой по своей ладони.
— Где моя шапка? — вдруг очнулся Чоле и завопил в отчаянии. — И шапку свою с ним потерял! Мать родная!
— Вот тебе и доказательство, Лука, если ты не слепой, — ехидно улыбнулся Пипе. — Была б шапка на Чоле, можно было б предположить, что полковника пристрелили… а так я уверен, что он жив-здоров… Только нет его! Я его не вижу!
Все смолкли, точно по команде, хотя никто ее не слышал и не знал. Моторы грузовиков взвыли и замерли. Утихомирился наконец и последний, упорно стучавший по камню крестьянин, из притихших расселин выплеснулось что-то кипящее и иссякло. Все сразу умолкло. Даже буря сделала передышку. Люди были словно взведенный курок.
Партизаны медленно сжимали кольцо вокруг Пипе и раненых. Часовой на скале вскочил, словно подброшенный волной тишины и поднявшимися над скалой головами. Крестьяне вылезли из расселин и щелей, кто-то стоял, кто-то сидел на камнях, все смотрели на Пипе, на партизан, на грузовики, на итальянского офицера, смотрели в ожидании и недоумении, в недобром молчании, в них была неосознанная неприязнь и злость, издавна взращенная их страданиями, их судьбами.
Чоле стоял с поникшей головой, предчувствуя еще большую беду. На сердце тяжким грузом легла горечь вины и поражения. Казалось, он не мог дышать от стыда и неловкости, и только время от времени тяжко, шумно вздыхал. Глаза сухие, горящие, жаждущие. Он, верно, скулил бы от муки, если б не стыдился людей. Его кудрявые взъерошенные волосы топорщились, как дикий кустарник на ветру, рыжие, они отливали на солнце серебром. Чоле хотелось пригладить их, чтоб они не выдавали его состояния, чтоб никто не понял, как он убит горем. В жестких, корявых руках он держал пистолет, и ему казалось, что он стоит голый и холодный, как ствол пистолета, сознавая свою вину перед Пипе, богом и людьми.
Павал неловко, медленно сполз по стене и опустился на гальку, рухнув наземь, будто соломенное пугало. Его морщинистое лицо исказила гримаса боли, открыв рот, он смотрел в пустоту, шмыгая носом, — от злости он скрипит стиснутыми зубами и замышляет месть.
Чуть в стороне стоит офицер, поручик итальянской королевской армии, не понимая, что происходит среди партизан. В голове у него все смешалось. Несмотря на свою неопытность, молодость и сложность ситуации, он внешне спокоен, держится ровно и с достоинством. На него направлены, и он ощущает это, недобрые взгляды крестьян, выбравшихся из расселин. Партизаны толкутся возле раненого, занятого своей ногой, он перевязывает ее белыми тряпками, разорвав рукава рубахи. Наверное, что-то дрогнуло в душе офицера, и он не без основания подумал, что они могут его посчитать косвенным виновником не только этой раны, но и войны вообще.
Только Марко и Лука, жмуря глаза, как-то равнодушно смотрят на все. Будто их, таких изворотливых и хитрых, трудно понять! Марко щурится, его душит слюна и грызет неимоверный голод. У Луки играет желчь — с каким нетерпением ждет он крика и ругани, которые должны обрушиться не на него.
Пипе взирает на все это спокойно, но на сердце у него тяжело. Он чувствует напряженность минуты, горькую двусмысленность своего положения — роковое перепутье.
Игрок, привычный к непрестанному ожиданию неповторимых радостей, не что иное, как ловец пустоты. Несчастье его характера — самообман: «всего легко достигнуть»; он всякий раз вновь и вновь заставляет его испытывать горькое разочарование. Чем выше и чудеснее взлет, тем страшнее падение. Вот так и сейчас. Да, он упал! Дурак дураком! Плюй! Бранись! Беснуйся!
Голова его идет кругом от ненужных мыслей: право порабощенных выше всех изысканнейших правил вежливости; сейчас идет беспощадная война на истребление между двумя враждующими лагерями, это не поединок между средневековыми рыцарями в доспехах и не злодеяние — отобрать награбленное и раздать его голодным борцам; и если не все условия договора соблюдены, неужели виноват он, а не те, кто стрелял в Чоле и его товарищей? Откуда в нем эта мягкость, слабость, дурость, что с ним, что ему за забота, если кто-то, тем более те, из летучего отряда, будут осуждать его за ненужное, позорное самоуправство?
Люди стоят, возвышаясь над утесом, будто свидетели в зале суда. Неподвижные в своем молчании, загадочные, они кажутся слабыми, но со временем, когда придут воспоминания, у них вырастут крылья, и тогда они встанут в ряд с титанами, на плечах которых держится мир. Можно у них на глазах растоптать свое слово, или они поддержат тебя? Хочешь, чтобы они навеки выжгли клеймо лицемера у тебя на лбу: «Лицо его сияет чистотой, язык лепечет сладкие слова, а сам он полон темных и жалких тайных замыслов»? Ты хочешь взвалить камень себе на душу или сбросить с нее тяжесть сегодняшней му́ки? Хочешь ты продолжать трудный полет вместе с людьми или безумным поступком завершить свое падение?
Любое легко выигранное сражение приносит сладкий, призрачно-усталый привкус «победы», которая в действительности оборачивается настоящим поражением. Не смей жалеть, не укрепляй себя, да, именно не укрепляй горечью поражения. Обретя силу, ты легче найдешь путь в завтрашний день. Поражение не поражение, если ты сохранишь лицо. Убыток вещей — еще не убыток принципов. Разочарование, по-существу, — полное выздоровление.
— Что ж теперь делать? — спросил Лука.
— Ничего. Вернем грузовики итальянцам, — глухо, утробно ответил Пипе.
— Правильно! — зычно рявкнул Марко. — Взять еду, снаряжение, а грузовики вернуть!
— Вернем и грузовики и все остальное, — проговорил Пипе решительно, только совсем глухо.
— Ты сошел с ума? — побагровел Марко и поднял в удивлении брови.
— А что бы ты сделал? — Пипе уставился на него утомленными затуманенными глазами.
— В подземный батальон их! — страшным голосом завопил Марко, так что жилы на шее у него вздулись. — Взять провиант, а грузовики поджечь! Вот как бы я сделал! А что они мне?!
Пипе на секунду закрыл глаза. (Пусть все видят, что он собран и спокоен. Необходимо избежать взрыва. Только бы не повиснуть на рассудительной фразе или остроте.) И вдруг глаза его метнули злые молнии, он обрушился на Марко, заговорил намеренно низким, спокойным голосом, что не соответствовало бешенству в его глазах, будто настоятель монастыря укорял заблудшего инока:
— И потеряешь лицо, растопчешь слово, да? Предашь свою честь? — он окинул взглядом крестьян и, помолчав, отрезал, «пока железо горячо»: — Никогда! Вернем грузовики нетронутыми! Нет Колоннелло, не будет и обмена! Мы сдержим слово! Они должны нам верить!..
— Кто? — крикнул Лука. — Враги?
— Да, Лука! — ответил Пипе твердо (теперь они были у него в руках: появились сила, бодрость и воодушевление). — Если у врага нет веры в нас, все кончено: мы проиграли войну! Понимаешь ты это?
— Не понимаю… не понимаю… — вызывающе, сквозь стиснутые зубы вопил Лука. — Не понимаю… на ежа ты меня сажаешь!
— Нет! Мне будет жаль ежа!
Раздался едва слышный лязгающий смех. Шутка, брошенная в нужный момент, достигла цели.
— В один прекрасный день поймешь, Лука! — заговорил Пипе отеческим тоном. — Пока зеленый пожелтеет, желтый сгниет! У тебя достаточно времени, чтобы опомниться! Иначе, скажите вы мне, мудрый Лука и мудрый Марко, что было бы, если бы завтра мы поймали пять полковников и потребовали двадцать пять грузовиков снаряжения? Поверят они нам, если мы их обманем?
— Ты прав, Пипе! — крикнул в отчаянии Чоле. — Убей меня, я во всем виноват! Казни меня самой страшной казнью: смертью!
Пипе вздрогнул. Он не ожидал такого искреннего, сильного порыва. У него похолодело сердце не столько из-за горячности Чоле, сколько из-за того, что он усомнился в своем решении: оно попирает все, рождает жестокие, гневные чувства и помыслы, создает общую подавленность, и выход из этого тупика должен во что бы то ни стало привести к казни, к внезапной казни, нужна слепая жертва.
— Что такое смерть? — пошутил Пипе в мрачной задумчивости, подходя к Чоле. — Составная часть жизни, ничего больше! Но будет время и для нее! Не каждый день рождаются такие Чоле! И мы не променяем Чоле на пять грузовиков и не променяли бы на целую вражескую армию.
Громко, с гордостью возвысил он голос и почувствовал прилив вдохновения. Он ощущал значение момента, он удивлялся «своей ничтожности» и величию своего поступка, и теперь все смотрели на него с верой, они были единой спаянной семьей.
— Пипе, дорогой! — дрогнул Чоле и, не удержавшись, всхлипнул, две тяжелые слезы блеснули у него в глазах и застыли, будто примерзли. Он упал на колени и обхватил ноги Пипе — он вечный должник, преданный ему до гроба!
— Не позорь меня! — укорил его Пипе шепотом, нагнулся над ним, притворно строго нахмурив брови, и поспешно поднял на ноги. Потом крепко хлопнул по плечу, стремясь этой мужской лаской отвлечь его, привести в чувство, стереть минутное проявление слабости.
Но Чоле глядел на него потерянно, сломленный и беззащитный. В уголках его темных угрюмых глаз все еще поблескивали две смерзшиеся слезы, две капли, выжатые из высушенной виноградины. Он прикипел к скале, врос в нее.
Пипе резко обернулся:
— Понимаешь, Лука? Они должны нам верить, должны!
Лука молчал, он был недвижим. Кусал губы. Снова у всех на глазах его жестоко осадили за несдержанный, болтливый язык. Но теперь он будет держать его на привязи, на короткой цепи, как злую собаку. Он всегда боялся насмешек Пипе, они были как укусы змеи. Он не переносил даже самой невинной шутки на свой счет. Ему всегда казалось, что его выставляют глупым кастратом, а ведь это не так.
Пристыженный, томимый обидой и голодом, Марко решился спросить:
— Хотя бы один мешок можно взять?
— Ну, нет! — обрезал Пипе, теперь совершенно уверенный, что совладал с ним. — Мы не должны терять доверия! Нам не нужно немного доверия, нам нужно все! Не столько ради врага, сколько ради нас самих. Видишь наверху головы среди камней: сегодня за мешок они назовут тебя богом, а завтра грабителем! Сегодня будут кричать: «Да здравствует!», а завтра: «Распни его!» Пусть сегодня кричат: «Распни его!», а завтра — «Да здравствует!», потому что победа нужна завтра. Я в школе всегда любил будущее время!
Тишина, только вой бури.
Не слышно журчащего смеха, не видно света в глазах, все нахмурились, головы опущены.
Пипе подошел к итальянскому офицеру, отвел его к грузовикам.
— Колоннелло исчез, — быстро, торопясь, сказал он по-итальянски. — Не знаю, куда он делся, и мои друзья не знают.
Поручик круто повернулся, широко раскрыв глаза во внезапной растерянности.
— Что же теперь будет? — прошептал он.
— Ничего! — спокойно ответил Пипе, ощутив под ложечкой пустоту и страх, — а вдруг упорные уговоры врага в последнюю минуту изменят его решение? — Ошибка, недоразумение, больше ничего. Можете возвращаться со своими грузовиками. Скорей!
— Как? — удивился поручик. — Вы не возьмете оружие, продукты, палатки?..
Пипе горько усмехнулся.
— Наше слово значит больше, чем вы полагаете! — сказал он серьезно и твердо. — Счастливого пути!
Он повернулся и тяжело зашагал прочь.
— Коменданте! — крикнул офицер и стал навытяжку.
Пипе нехотя остановился.
— Я никогда вас не забуду! — громко сказал офицер и быстро взобрался в кабину грузовика.
Пипе показалось, что офицер взволнован, давая свое торжественное обещание. Во всяком случае, пока будет жив, будет помнить их каменный оркестр.
Усталый, со звоном в ушах, нетвердой походкой Пипе взобрался на голый сторожевой камень, подальше от своих. Грузовики разворачивались. Ему хотелось одиночества, хотелось побыть одному.
Пипе чувствовал себя обворованным, обессиленным, но горечи не было, душа не была пустой, он не ощущал злой боли в сердце, как после безнадежного проигрыша. Только почему он кажется себе странно невесомым, лишенным чувств, звонким, бесплотным, как дух, но не безнадежно несчастным? Будущее виделось ему черным, но приемлемым вихрем, который приближался с нависающим облаком. Это не обманчивое, ложное видение, не уход от повседневности, не уступка снам, ленивым и бесплодным, способным только дразнить надежду и связывать руки. И все же ему казалось, что будущее ускользает из рук, вырывается, уползает, тает, как ледяной шарик, но, несмотря на это, каким-то странным образом становится надежнее, видится реальнее, чем только что развернувшееся перед ним. А еще он подумал — хорошо, что все так, как есть, сохраняется возможность сомневаться в будущем, в завтрашнем дне, а это никак не означает сомнения в далеком, светлом, труднодостижимом будущем, к которому он стремится, потому что если человек куда-то идет, то лучше ему идти со светом в душе и надеждой. Жизнь человека — сплошной труд, безумная игра, неосознанное странствие, и только соединение веры и неуверенности лепит и ваяет человека, потому что одна вера создает робота, только неуверенность — тирана. Человек не должен на своем жизненном пути поклоняться лишь той или другой гордой даме, иначе он попадет в тупик. Он может, угождая им, их обманывать и, защищая их, ссорить между собой, смотреть на них свысока, поднявшись над их необыкновенным, хищным своенравием и лживостью, не вкусив жизни, а может странствовать (и с хорошими людьми) упорно и непоправимо одинокий, разбитый, погибший и опозоренный — как человек.
Грузовики натужно хрипели, будто лошади, тяжело разворачиваясь на узкой, опасной дороге. Наконец вздохнули облегченно, словно освободившись от чего-то, и друг за другом покатились с горы.
Во все нарастающем шуме бури внезапно ожил умолкнувший птичий гомон, возникал и быстро затихал слабый, бессильный щебет, казалось, выгорел большой лес и то тут, то там еще вспыхивали, угасая, огоньки.
Бойцы, окружив раненого Боже, больше не обращали внимания на грузовики: что было — прошло, не вернешь, черт принес, черт и унес. Не стоит в этом разбираться, многое пропало, верно, велик урон, но еще будет время обсуждать это без конца, начиная с сегодняшнего дня и до скончания века.
— Это Чоле во всем виноват! — угрожающе произнес Лука, глянув на Чоле, одиноко скорчившегося между камнями, как железо в горне. — Вытянуть бы ему уши, как ослу!
— Виновата пуля, которая ранила меня в здоровую ногу! — процедил Боже сквозь зубы, все еще обматывая ногу бинтами. — Не попади пуля в меня, мать ее так, были б у меня ноги целы.
— Виноват прошлогодний снег! — отмахнулся Павал обиженно, испугавшись, что кто-нибудь свалит вину и на него.
— Пипе! Никто не виноват, кроме Пипе! — зло сплюнул голодный Марко. — Такого барана свет не видывал!
— Виновата война! — улыбаясь, пропищал совсем юный партизан с детским личиком. Все насмешливо и прощающе посмотрели на сообразительного малого. «Зелен ты еще, малыш, зелен!» — можно было прочесть в их главах.
И снова тяжело вздохнули, вспомнив недавние события.
Сидевшие в расселине, на склоне среди камней старики вдруг разом заговорили, загомонили.
— С ума сошли! Как есть с ума сошли!
— Пипе тронулся!
— У него не-все шарики на месте!
— Не зря его называют Пипуриной!
— Одно из двух: или он дурак, или сумасшедший.
— Сколько добра… и на ветер!
— Болтаете все! — сказал белоголовый старик. — Сначала человек, а уж потом все богатства на свете!
— Это так! Нет у нас пленного, нет и добра: сдержали слово.
— Слово — это честь!
— Мы не волы!
— И все равно, все пропало, все прахом пошло — и дорога, и день!
— И ночь!
— Ничего не пропало! — снова сказал белоголовый. — Умный всегда умный, а дурак всегда дурак!
— А я все равно буду повторять: Пипе сумасшедший!
— Полтора дурака! И я говорю!
— Полтора человека! — заключил белоголовый старик и поднялся.
От внимательного взгляда и горькой усмешки морщины на лбу у него углубились. Если суждено быть несчастью, пусть только так и приходит: с пустыми руками и гордым челом. Всегда может быть еще хуже, война есть война. Большие и маленькие горести текут, как жизнь, и разве что иногда человека оцарапает случайное счастье, главное, он должен жить дальше.
За стариком поднялись остальные, взяли свою поклажу.
Еще раз задумчиво глянули на медовацкую долину.
С далеких темно-бурых вершин пыльными зубчатыми лучами, точно на медовацких иконах, светило заходящее солнце. Грузовики удалялись но блестящей извилистой дороге, пока не исчезли за поворотом на дне ущелья. Таков был конец у чудесной, волшебной сказки.
И тут они вспомнили о далеком доме, тоска и холод придали им силы. Запахнули свои шинели, подняли воротники, накрыли головы платками, заторопились. Путь долгий, а непогода близка. Небо потемнело, надуло все паруса и с силой, бешено, как сквозь распахнутые ворота, двинулось на Волчий лог.
Буря нарастала. Вот-вот повалит снег.
Душан Калич БЕРЕГ БЕЗ СОЛНЦА
ДУШАН КАЛИЋ
ОБАЛА БЕЗ СУНЦА
Београд, 1975
Перевод с сербскохорватского Р. П. Грецкой.
Редактор А. А. Смирнова.
1
Занимался осенний день.
Под абажуром из дорогого старинного фарфора горела лампа. В зыбком свете на грани ночи и дня маленькое продолговатое лицо с ямочками под слегка выступающими скулами обретало цвет и формы нереальной красоты, которая является во сне и исчезает в моросящем дожде утра. Она не спала. Молчала, блаженствуя в приятном тепле чистой постели.
Он лежал рядом, склонившись над ее головой. Гладил кончиками пальцев светлые мягкие волосы и терпеливо ждал ответа. Он знал, что она не спит, мечтает и не отвечает лишь потому, что не хочет менять положения, в котором желала бы остаться до бесконечности. Такой она была с ним всегда. Она лежала, прижавшись к нему, и наслаждалась радостями, каких была лишена в своей вдовьей печали, скованная памятью о человеке, с которым ей довелось пережить в этой постели только первую и единственную брачную ночь. Он давал ей удовлетворение, вознаграждая и себя тем, чего ему так долго не хватало. Встречу с ней он воспринял как игру случая. Она была для него лишь одной из бесчисленного множества немецких вдов, одной из тех несчастных, что тайком провожали эшелоны потерянных и заплутавших в дыму войны людей, готовая даже у них искать утешения и хоть какого-никакого мужского заступничества перед ужасающим нашествием армии победителей. И между ними все произошло именно так, можно сказать, совсем просто: он почти не настаивал, как вдруг оказался в ее доме. Это было время, когда между людьми порой без единого слова заключались различные договоры, когда многое подразумевалось само собой и даже сытые понимали, что есть множество голодных. Нужно признать: он был везуч, ибо Хельга была женщиной, за которой пошел бы любой, и каждый желал бы, пусть на одну ночь, оказаться ее заступником. Так время и проходило: она была счастлива с ним, он же не был уверен, что она не предпримет еще что-нибудь, чтобы удержать его возле себя, чтобы он не вернулся в тот эшелон, откуда она вырвала его.
Она подняла веки, вкрадчиво посмотрела на него своими голубыми глазами и с мягким упреком спросила:
— Почему ты опять говоришь об этом?
— Я только сказал, что мы должны еще подумать… Из-за твоих — они бы тебе этого не простили…
— Я с тобой, Филипп, я этого хочу. Обними меня…
Она затрепетала, затаив дыхание, напряженно впитывая запахи его кожи — они, эти запахи, делали ее счастливой.
— Я этого в самой деле хочу, Филипп. Иди ко мне… Я хочу, чтобы все было именно в такое утро… прекрасное точно утро.
…Как-то вдруг, словно кто-то набросил ему на глаза непрозрачную вуаль, лицо Хельги пропало. Исчез и ее шепот, ее ласковое усилие крепко обнять его своими нежными, белыми в дымке утра руками. Вместо ее лица виделось круглое красное световое пятно. Оно трепетало во влажном, мутном воздухе, и на миг он подумал об огромном ужасном оке циклопа. Он очнулся и про себя рассмеялся своему воображению, перенесшему его в детство, когда в ночи оживали картины из прочитанных книг. «Да, теперь те самые дни, — подумал он, собравшись с мыслями после внезапно возникшего видения грозного ока, — теперь ты оказался в роли Одиссея и отдался на волю своей фантазии, пока не отплыл в Итаку я не заснул». Улыбаясь, он протер перчаткой запотевшее заднее стекло машины и посмотрел на сменяющиеся огни светофора. После желтого загорелся зеленый, и такси тронулось. Он закурил сигарету, откинулся на спинку сиденья, чтобы вновь отдаться воспоминаниям о Хельге.
Адвокат Генрих Штраус курил самый лучший трубочный табак, но Филиппа мутило от его приторного запаха. В тот вечер Филипп сидел в канцелярии адвоката, однако не в той части загроможденного стилизованной мебелью двухэтажного дома, где Генрих принимал обычно своих друзей. Уголок этот был специально оборудован: там стояло два дивана в потертых чехлах из штофа приятных цветов, небольшой, простенький буфет и шкаф-витрина с любимыми книгами адвоката. Через широкие застекленные двери виднелась просторная терраса, откуда по мраморным ступенькам можно было спуститься в маленький ухоженный садик. Узкая дверь рядом с витриной вела в личные покои адвоката.
Уже по тому, что Генрих предложил ему удобное кожаное кресло возле письменного стола, куда он обычно усаживал своих клиентов, Филипп понял, что тот хочет сообщить ему что-то важное. Он размышлял об этом, укрывшись за кипами старых папок, которые защищали его от клубов дыма, валившего из трубки адвоката. Больше всего Филиппа удивляло, что вот уже битый час тот обстоятельно рассказывает ему о каком-то проигранном процессе. Казалось, он сам себя заводит, желая как можно эффектнее решить это дело, в котором ему, как адвокату, наверняка придется взять на себя роль и обвинителя и судьи, — поэтому он, вероятно, и пригласил так внезапно к себе Филиппа. С каждой минутой Генрих все больше отдавался своему гневу, а Филиппу становилось все очевиднее, что его ожидает тяжелое объяснение, только еще не ясно было, какая роль ему отведена: обвиняемого или свидетеля.
Наступило время, когда адвокат наконец подошел к заключительному слову своего проигранного процесса:
— …Видите ли, этот сытый и надутый янки свой диплом юриста забыл в гражданском костюме или попросту сменял его на полковничьи эполеты. Он восклицает: «Истина!» А я вам скажу: труха! Истина имеет тысячу лиц. И если вы к какому-нибудь из них определитесь — совершите роковую ошибку. Мой клиент был воспитан в ненависти к евреям, у него было врожденное отвращение к любому еврейскому имени. Нет, он не убивал. Он ненавидел их… — Адвокат зажег погасшую трубку и с огромным облаком приторного дыма выдохнул остаток своей желчи. — Для мира, в котором я жил и к которому принадлежу, испокон веку аллергеном был запах негра. Я, например, теряю аппетит в их присутствии, у меня высыпает по коже сыпь, словно я съел дикую ягоду. Можно ли меня и всех тех, кто чувствует подобное, судить за это?! — Он кончил, лицо его было бледным, а лоб покрывали бисеринки пота.
— Вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос? — Филипп вымученно улыбнулся, наблюдая, как румянец заливает пухлые щеки Генриха.
— Нет. Вопрос был адресован суду. К вам у меня нет никаких вопросов. Я пригласил вас, чтобы сообщить, что ваш искусный маневр окончился неудачей! — отрезал он.
— Маневр?!
Генрих усмехнулся.
— Да, но отнюдь не военный. Вы обрюхатили Хельгу…
Кровь ударила Филиппу в лицо. Он открыл было рот, чтобы ответить столь же резко, не стыдясь признаться, что сделал это по ее желанию, но Генрих не дал ему сказать ни слова.
— Знаю, вы были ее слабостью, и подозреваю, что из этого извлекли больше пользы, чем предполагали. Позволю себе напомнить вам: вот уже целый год вы не имеете работы. — Он умышленно сделал небольшую паузу, а увидев по лицу Филиппа, что тот набрался достаточно терпения, чтобы выслушать до конца, продолжил: — Я не ставлю этого вам в вину. Хельге не было безразлично, каким видом деятельности вы занимаетесь. У нее своя репутация, но она желала бы сохранять и мою. Однако эту необдуманность я не могу вам простить. Вы достаточно прозорливы, чтобы понять, что Хельга — не то же самое, что любая другая немка в столь трагическом для нашей нации положении. Она не забывает о своем происхождении и должна заботиться о его чистоте, даже жертвуя истинной любовью…
Голос его вдруг смягчился, но Филипп воспринял это как лукавство.
— К тому же, — продолжал Генрих, — неужели необходимо говорить вам о целях вашей эмиграции — они куда возвышеннее, и вы сами должны были настраивать Хельгу на то, чтобы не случилось подобного.
— Выражайтесь определеннее, господин Штраус. Вы хотите сказать, что мне нужно оставить вашу племянницу, или обвиняете меня в чем-то, что считаете только моей виной?
Покраснев от гнева — его так бесцеремонно прервали, — Генрих поднялся с кресла, но, взяв себя в руки, спокойно сказал:
— Оставьте ее в покое. Завтра она уедет со мной в Зальцбург, а оттуда вернется в Мюнхен. Могу я что-нибудь сделать для вас?
Филипп покачал головой. Он взял с соседнего стула шляпу и встал.
— Может, все-таки что-нибудь, — торопливо продолжал Генрих, опускаясь в кресло. Он выдвинул ящик стола и достал конверт с грифом немецкого Красного Креста. — Как-то Хельга говорила мне, что вас интересует судьба майора Фреда Шмидта…
Филипп озадаченно глянул на конверт. Имя, которое назвал Генрих, задело его сильнее всех обид, высказанных ему только что. В голове молнией пронесся разговор с Хельгой о майоре. Он не был уверен, что не открыл ей подлинной причины своего интереса к судьбе этого немецкого офицера.
— Что вы знаете об этом?! — спросил он, задыхаясь.
Генрих не ответил. Он посмотрел на незапечатанный конверт, положил его возле рук Филиппа — тот опирался на край стола — и, словно больше его ничто не касалось, спокойно принялся чистить свою потухшую трубку.
— Неужели вам Хельга ничего не рассказала?.. Что вас заставило заняться розыском майора Шмидта? — спросил Филипп уже почти безразлично, без того волнения в голосе, с каким поставил первый вопрос. Теперь он думал о содержании письма в белом конверте. Ладони его вспотели, пальцы судорожно подергивались возле такого обычного кусочка бумаги, содержащего в себе долгожданную весть и вместе с тем ответ на вопрос: останется ли и дальше его жизнь связанной с неизвестностью, с судьбой заблудившихся эшелонов и метаниями, с тем, что он сам называл наиглупейшей иллюзией — хотя был вынужден верить в нее, будучи не в состоянии противиться самому себе, — или это письмо поможет ему вернуться к действительности, где он разберется в самом себе и с самим собою и обретет хоть какую-то надежность в своей неверно скроенной жизни…
Голос Генриха вернул его к действительности из мучительного отсутствия.
— В конверте ваша виза, которую вы так долго ждали…
Сказал он это уверенно, и нельзя было не признать, что этот старый адвокатский лис знает о нем все до тонкостей. Однако известие это было куда значительнее, важнее, чем считал Генрих, да и все прочие, даже те, ради которых это сообщение о судьбе майора Шмидта было ему необходимо. Деятельный Генрих удивительно подметил: виза, которую он так долго ждал. Филипп взглянул на него, но не с целью укорить за призвук иронии, которая чувствовалась в его словах вместе со сдерживаемым возмущением: «Зачем вы, черт побери, обманывали мою племянницу и себя, раз вы ждали это?!» Филипп хотел поблагодарить его, но не знал, как это сделать, чтобы тот не воспользовался его радостью как еще одним аргументом в своем обвинении. А у него уже не было сил бороться с ним. И мысли его остановились. Было такое ощущение, будто он плывет в облаках приторного дыма, валившего из трубки Генриха.
— Черт побери, — нетерпеливо воскликнул Генрих, — загляните же, наконец, в конверт!
Он взял со стола конверт. Адрес — канцелярия Генриха в Линце. В конверте было краткое извещение:
«Майор Фред В. Шмидт числится в списках пропавших без вести во время войны».
Пристально вглядываясь в эти слова, он слышал голос адвоката:
— Не знаю и не желаю знать, что вас связывало с этим офицером, но могу вам сказать, ему наверняка, даже если он чудом остался жив, и в голову не придет выступить свидетелем против нас. К этому выводу вы и сами могли бы прийти, господин Ивич. Его свидетельство означало бы обвинение против самого себя. Майор Фреди Шмидт работал на гестапо. Что касается его, здесь вы можете быть спокойны и уверенно идти своим путем. Должен вам сказать еще кое-что. Только Хельга могла поверить в вашу наивность. Если вас и впрямь что-то интересовало в том майоре, так это архив его канцелярии.
Он посмотрел адвокату в лицо, самодовольное и надменное, с раскрасневшимися щеками. И Филиппу захотелось влепить ему оплеуху, но он понимал, что этим ничего не достигнет, разве только того, что Генрих, используя свои связи с союзническими военными властями, пожалуй, упрячет его в лагерь для перемещенных лиц. Он промолчал и спокойно сел в кресло.
Генрих предложил ему сигарету, а себе набил трубку ароматным табаком и закончил разговор о немецком офицере.
— Майор Шмидт был хорошим офицером. Вы-то знаете, что моей информации можно верить. Архив вашего лагеря уничтожен…
Счетчик замер. В зеркальце любезно улыбалось лицо шофера. У Филиппа было ровно столько времени, чтобы расплатиться с водителем крупной купюрой за поездку и чаевыми ответить на его любезность.
Филипп торопился на поезд. С чемоданом в руке он направился к зданию вокзала. Шел он быстрым, но размеренным шагом, глядя прямо перед собой, как деловой человек, в самый последний момент успевающий на поезд, чтобы отбыть в неотложный вояж.
С сумраком туман стал плотнее. В нем уличное освещение теряло свой смысл; горящие фонари походили на златокрылых бабочек, рассыпавшихся по мягкому, влажному плащу осенней ночи.
Но Филипп сейчас был совершенно равнодушен к тому, что приглушенный трепет фонарей напоминает о печальной гибели маленьких жизней и что венские улицы ослепнут этой ночью. Он сидел в купе у приспущенного окна и прислушивался к пыхтению паровоза, готового к отправлению, вдыхая с каким-то редкостным удовольствием холодный воздух, смешанный с острым запахом дыма. Он мог бы совсем закрыть окно и все равно в купе ощущался бы запах копоти и слышалось прерывистое шипение пара, — это была жизнь поезда. Но он не сделал этого: его вдруг охватило тоскливое чувство одиночества и неуверенности. «Билеты», — подумалось. А все ли в порядке с его документами. Не упустили ли чего в посольстве? Он торопливо сунул руку во внутренний карман и вытащил документы… Все было в порядке, и все-таки странное беспокойство, внезапно охватившее его, не проходило. Теперь ему захотелось, чтобы кто нибудь вошел в купе, какой-нибудь попутчик. Нервозно глянул на часы. Еще долгих десять минут оставалось до отхода поезда.
«Естественно, Филипп, это же не обычное путешествие».
Он разглядывал свое лицо в окне. Оно продолжало говорить. «Ты не обычный путешественник… возьми себя в руки… Поезд в конце концов тронется; его совсем не касается, что ты его пассажир; этому вагону не известно, как ты метался, отыскивая этот свой поворот на жизненном пути, что тебе потребовалось много мужества, чтобы решиться на эту поездку… Может быть, тебя смутила простота достигнутого, и теперь мучает та могучая сила в душе, которую ты годами копил, не зная на что израсходовать. Да, это верно: было настолько просто, что стало нереальным… Нет, это лишь потому, что ты один… Если бы было кому рассказать, куда ты едешь, ты бы чувствовал себя иначе… И время прошло бы быстрее… Хотя нет, ты, наверное, не рассказал бы правду о своем путешествии. В твоем чемодане нет образчиков товаров разбитного торгового агента; ты не турист, праздно болтающий о красотах неведомых берегов… Ты тот старый, заблудший путник, который втайне стыдится своего возвращения, ибо напрасно и слишком долго бродил по кругу… Что в твоем чемодане? В этом старом потертом чемодане, который постоянно сопровождал тебя в твоих скитаниях? Остатки полковничьей формы, погоны которой растоптаны каблуком страшных окованных сапог и похоронены вместе с ними где-то в грязной луже одной забытой весны».
«Остановись, Филипп!» Его лицо продолжало говорить. «Неужели ты не чувствуешь, что опять окажешься в этом безумном кружении… ты в поезде… Колеса этого поезда катятся по стальным рельсам… Тот, другой поезд остался далеко позади, на том далеком берегу… В твоем чемодане нет уже той формы, из-за которой тебя обуревало и бешенство и стыд, а порой — в грозном одиночестве — желание уничтожить свою собственную тень, потому что она была в офицерской форме с грязными погонами, которые ты вновь вытащил после весенней распутицы из-под сапог мертвеца… Открой чемодан попутчику, который войдет в твое купе. Покажи ему самую лучшую теннисную ракетку и целую дюжину мячей, которые ты везешь Ненаду… Расскажи ему, что твой сын играет в теннис и уже завоевал кубок… расскажи это с гордостью отца… Покажи ему, сколько прелестных вещиц купил ты для Милицы. Скажи, что дочь твоя уже взрослая девушка… Обо всем этом говорят попутчики, Филипп. Они говорят друг другу о радостях встреч… Грустные молчат… А ты радостный пассажир… да, Филипп. Заблудшие при возвращении счастливы…»
В ожидании попутчика он снял с полки чемодан, положил на сиденье напротив, открыл крышку. И попутчик внезапно возник в дверном проеме купе.
Его треугольное лицо с шишковатым лбом, на который падала прядь кудрявых волос, с большими глазами навыкате, зрачки которых были затянуты какой-то сетчатой пленкой, было отнюдь не приятным. Высокий и сильный, стоял он, пригнувшись, нелепый в этом малом пространстве, через которое ему пришлось протиснуться боком.
— Вносите свои вещи, пожалуйста, в купе, — любезно приветствовал его Филипп по-немецки. Пришелец молчал. Филипп подвинул чемодан к окну, желая любой ценой выставить его на обозрение попутчику, и опять любезно улыбнулся. — Похоже, мы будем одни… Хорошо, когда в вагоне можно вытянуть ноги…
Человек с треугольным лицом вздохнул облегченно, словно сбросил с плеч какой-то груз, растянул толстые губы в довольной улыбке и, став по стойке смирно, сказал по-сербски:
— Я искал вас.
— Меня?! — Филипп растерялся.
— Вас, господин полковник!
— Кто вы?!
— Это неважно, но, если вам угодно, господин полковник, меня зовут Милош. Милош Стоянович!
Филипп не успел его даже укорить за то, что он обращается к нему по чину.
— У меня к вам срочное поручение… — Милош сунул ему в руки конверт, где перед именем стояло звание.
— От кого?
— Это неважно… Мне поручено только передать вам это письмо…
Забавен был этот великан, разыгрывающий роль неловкого, необученного солдата, единственная забота которого добросовестно выполнить задание. Но Филиппу было не до смеха. Он уже не замечал присутствия этого человека. Не глядя на глупое лицо, выражавшее нетерпение в ожидании, каков будет ответ на письмо, Филипп понял, что письмо наверняка содержит недобрый привет от тех, кого он покидает.
— Разрешите идти, господин полковник… — подал голос курьер и, не дождавшись ответа, выбрался из дверей.
Филипп скомкал конверт, даже не вскрыв. Он замахнулся было, чтобы выбросить его в окно, но постукивание колес поезда, медленно подходившего по соседней колее к станции, наполнило его душу жуткой догадкой, и рука так и осталась в замахе. Затем она медленно опустилась, и он надорвал конверт.
«Господин полковник, — обращались к нему в письме, отпечатанном на пишущей машинке. — Вы ступили на путь малодушия и предательства. Наш долг предостеречь Вас и в то же время посоветовать отказаться от своего намерения… В противном случае мы будем вынуждены принять решительные меры. Может быть, Вы забыли, что существуют вещи, которых коммунисты Вам никогда не простят. Ставим Вас в известность, что досье из секретного архива офлага не уничтожено. Не вынуждайте нас к ненужным шагам… Помните, что на родине у Вас дети…
Друзья».Отпрянув, словно в ужасе перед призраком, он застыл, оцепенел — не дыша, не ощущая себя в этом закутке поезда, который вдруг превратился в пустоту без кровли и без неба. Он долго витал в этой пустоте. Затем он ощутил биение пульса на руке… почувствовал острый запах копоти… услышал шипение пара и дыхание локомотива… и увидел свой раскрытый чемодан… Глаза обрели стеклянный блеск, а зрачки расширились, наполненные видением маленьких радостей, заполнявших чемодан.
— Нет! Нет! — крикнул он в агонии. Потом онемел, в остановившихся зрачках утонуло видение чемодана, полного маленьких радостей, и Филипп стремглав полетел в пустоту своего бессилия…
Опомнился он на сиденье в поезде. За окном шипел пар. Чемодан лежал напротив него. В нем были аккуратно уложенные теннисные мячи, ракетка и всякие мелочи для Милицы, завернутые в прозрачную бумагу и перевязанные шелковыми ленточками. Из глубины чемодана, далекий, словно из бездны, слышался мальчишеский голос, незнакомый, но родной, смесь печали и радости:
«Дорогой папа, я счастлив, что мы увидимся после стольких лет… Я сильно вырос. Говорят, я уже совсем большой и очень похож на тебя… Письмо Милицы будет длиннее моего… До свиданья, папа…»
«После того как умерла мама, я стала в доме хозяйкой. Бабушка очень постарела, еле ходит, — писала Милица в последнем письме. — Братишка мне во всем помогает, так что домашние дела не мешают мне в учебе. О дорогой папочка, как нам будет хорошо, когда ты приедешь… Мы считаем часы, оставшиеся до твоего возвращения…»
Филипп протянул руку к чемодану, охваченный неодолимым желанием погладить эти маленькие вещички и достать со дна тщательно завернутую связку писем, чтобы разложить их перед собой и еще долго слушать эти голоса. Увидел же он — стоило открыть крышку — свой офицерский китель без погон. Руки, словно сведенные судорогой, так и остались на чемодане, а в голове загудели прерывистые аккорды какого-то жуткого музыкального инструмента, с холодным металлическим звучанием исходившие из глубины каменной бездны. Потом он услышал топот. Казалось, несколько человек поднимаются по нескончаемо высокой каменной лестнице. Металлический звук на мгновение заглушил твердую поступь шагов и утих перед страшным голосом, говорившим по-немецки и тщетно пытавшимся быть любезным: «Господин полковник, теперь мы друзья. Вы будете поддерживать с нами связь через майора Васича… Разумно используйте авторитет и доверие, которым вы пользуетесь в этом лагере, и, естественно, включитесь в коммунистическое движение, если вас пригласят…»
— Майор Шмидт мертв, — сказал он негромко, точно хотел ответить этому голосу, но он уже пропал, а вместо него возник такой знакомый голос, говоривший по-сербски, скользкий и бесцветный: «Времена изменились… Немцы больше нам не враги… Будь беспощаден к коммунистам… Будешь получать специальный паек, еду и сигареты…»
Паровоз загудел. Поезд тронулся, и пар вытеснил полегший загустевший туман. В купе еще острее почувствовался запах копоти. Уличные фонари ожили, пошли с поездом.
Он вздрогнул, в замешательстве огляделся вокруг и, поняв, что состав тронулся, схватил чемодан и панически выскочил из вагона.
2
Окно смотрело в слезливое ноябрьское небо. На окне трепыхалась грязная белая тряпка, которую мотал ветер, посвистывая сквозь дыры подгнившего оконного переплета. Лоскут колыхался почти у самой его головы, словно это судьба вывесила его над ним, этот флаг, символ его несчастья и бессилия, здесь, на мансарде старой венской гостиницы. На потолке торчал ржавый крюк. На крюке болталась веревка, на конце ее виделся силуэт искусно завязанной петли, сквозь которую могла пройти голова человека.
Его голова то поднималась почти до веревки, то утопала в мягкой подушке. Голова была слишком тяжелой для расслабленных шейных мышц, а у него не было ни сил, ни воли остановить ее в этой неистовой борьбе, в этом безумном желании сунуться в петлю.
Он лежал одетый, набросив на себя пальто, и стучал зубами от стужи. Под ним сотрясалась железная кровать с постельным бельем, которое он ненавидел из-за мерзкого запаха вонючего мыла. Из-за этого запаха его мучили кошмары, снились страшные сны: немецкие лагеря, где сжигали людей и из их жира делали мыло для мытья узников и стирки их белья. Пробудившись, он думал об этом и спрашивал себя: а не стирали ли и это белье тем мылом? Почему бы и нет, если правда, что хозяин отеля в годы войны занимался сомнительными делами и был в наилучших отношениях с владельцами тех мыловаренных фабрик. Не обеспечил ли смекалистый венец себя про запас дешевым мылом для своего отеля… и, как знать, не в насмешку ли над теми, кто пришел сюда, изгнав его друзей?
В это утро он об этом не думал, он ни о чем не думал, не чувствовал запаха белья. С некоторых пор он по ночам не сводил взгляда с крюка и веревки. Силуэт петли вытеснял все его мысли и ощущения; в петле исчезало прошлое, пропадал свист поезда, от которого две недели у него гудело в ушах; она сулила сон без страшных видений и кошмаров… Она непреодолимо манила его, предлагая ему бескрайний мир и конец голодным спазмам в желудке. Но до петли голова не могла достать. Он должен был поднять ее. Он стонал и хрипел. Он задыхался от бессилия помочь своей голове в ее стремлении достичь светлого волшебного круга. Он сжал челюсти, напрягся, вытянул руки, словно в молении перед распятием Христа, но исторг лишь вопль, он сорвался с его посиневших от холода губ, полетел и протянулся в глухом эхо.
От постельного белья запахло вонючим мылом. Он задержал дыхание, передернулся от отвращения и сразу поднялся, но не отошел от кровати. Он стоял, словно прикованный к ней, ухватившись руками за холодные железные прутья. Голова уже не висела так вяло, словно ненужная часть тела. Ноги в коленях дрожали и тянули его книзу. Он старался удержаться на ногах, хотя усилие это было для него непонятным, как и то, вчерашнее, как каждое вставание, когда он задавал себе вопрос: «Куда? Куда ты теперь, Филипп Ивич?» Он спрашивал себя и безнадежно качал головой. Какой смысл пожирать собственную утробу, а в душе носить стыд труса, только ради того, чтобы видеть кошмары в этой проклятой вонючей постели?
В дверь постучали. Он вздрогнул, очнулся, точно после глубокого сна, однако не отозвался. Сбросил пальто, быстро снял с себя все, остался в одной рубашке и подскочил к умывальнику, из крана которого сочилась тонкая струйка воды. Он стал умываться, неохотно брызгая холодной водой на руки и заросшее щетиной лицо.
Покончив с умыванием, словно был уверен, что посетитель все еще здесь, посмотрел на закрытую дверь и, грустно усмехнувшись, хриплым голосом произнес:
— Войдите, Ганс…
Дверь отворилась, и в проеме двери возникло добродушное, сухощавое старческое лицо с огромным носом.
Подтянутый, в темно-зеленой ливрее, старик вошел в комнату и озабоченно покачал головой.
— Боже мой, ну и вид у вас, господин Филипп, — сказал он и добавил с мягкой христианской укоризной: — Да минует вас несчастье, но только ведете вы себя так, словно сняли эту комнату под свой склеп…
Ничуть не смущенный его упреком, Филипп провел озябшими пальцами по щетине на подбородке, подошел к старику и нагнулся, чтобы прикурить потухшую сигарету от его трубки. Портье поднес ему зажигалку.
— Значит, не вышло? — спросил равнодушно.
Ганс кивнул. Он смотрел на него какое-то время, словно размышляя, стоит ли вообще что-нибудь предпринимать для этого человека — он держит себя с вызывающим безразличием, — а затем сказал:
— Я сделал все, что мог… При таком огромном спросе на номера господин директор считает…
— Могу я оставить здесь свой чемодан? — спокойно прервал его Филипп.
— Разумеется, мой господин. Я перенесу его в привратницкую, — ответил старик с профессиональной сдержанностью. Надув свои румяные губы — единственное, что выдавало, хотя и в весьма редких случаях, его настроение, — он решительно направился к двери. Нажав на дверную ручку, он немного постоял с опущенной головой, точно задумавшись. Затем повернулся и с искренним сожалением добавил: — Простите меня, но я не понимаю, отчего вы не решаетесь? Почему не вернетесь на родину? Уже давно у вас в кармане все необходимые документы. Простите, но, может быть, не в порядке документы, которые выдало посольство?
Во взгляде Филиппа мелькнуло беспокойство и откровенная ненависть. Пальцы его судорожно разрывали вновь погасший окурок, и табак сыпался на пол. Старик смущенно заморгал и, прикусив нижнюю губу, повторил свое извинение:
— Простите…
— Вы надо мной издеваетесь! — хрипло рыкнул Филипп. Лицо его исказилось, а глаза болезненно остановились.
— Успокойтесь, мой господин, — испуганно сказал старик. — Прошу вас, простите меня, если мой вопрос вас обидел…
Лицо Филиппа стало спокойным. Помутневшие зрачки поглотили блеск. Теперь он опять казался человеком, чья жизнь тихо угасает на дне беспросветного безразличия.
— Вы правы, Ганс… — сказал он со слезами в голосе. — Документы в порядке, это я не решаюсь… я всегда не решаюсь…
Он не заметил, как ушел Ганс. Он стоял, опершись руками на умывальник, и поверх своей головы в зеркале смотрел на трепетание белого флага на окне и веревку, свисавшую со ржавого крюка. Светлело веревочное кольцо петли. В зеркале оно казалось нимбом вокруг его головы. Он застонал, с трудом подавляя в себе боль, силясь не крикнуть и не зарыдать.
— Трусы не решаются, — произнес он, глядя в зеркало на свое лицо и на это знамение в маленьком гостиничном номере.
Наконец, заметив, что старик ушел, стал собирать вещи.
Дождь был лишь мрачной вуалью голода. Филипп шел сквозь него вялой походкой, постигая ту истину, что улицы не кончаются, если на них нет цели. Он не искал ни начала, ни конца этой улицы. Под ногами был мокрый асфальт, обретший свойство зеркала, и он ненавидел его, когда оставался на тротуаре один, потому что должен был идти след в след со своим лицом и своей жизнью.
На каком-то углу его тень коснулась культей, прикрытых солдатскими брюками. Бедняга инвалид был молод, он опирался на слепого в солдатском кепи. Оба виртуозно играли на гитарах и пели. Песня называлась «Однажды в одну войну». Рефреном у нее было: «Мы хотели целый мир…»
Его тень побежала, поплыла мутными дождевыми лужами. На следующем углу ее остановили культи рук. Тот, кому они принадлежали, гордился ими и своей оливково-зеленой формой, в рукава которой он завязал свое военное счастье. Он не пел. За него плакали глаза десятилетней девочки, промерзшей в своем пальтишке, сплошь в заплатах. Она держала прославленную шапку отца. В ней поблескивало несколько серебряных монеток.
За ними огромная, словно иконостас храма господнего, светилась огнями достатка выставка изобилия далекой страны USA. Некоторые прохожие грели озябшие руки в ее сиянии и — с запрокинутой головой и расширенными ноздрями, притянутые лишь угадываемыми запахами — поворачивались по кругу, словно в трансе какого-то ритуала.
Сияние огромной витрины соблазнило и его. Он зашагал в сторону с намерением убежать от своей тени, которая была прикована к лицу печальной девочки и культяпке калеки-воина, но девочка двинулась ему навстречу и встала на пути.
— Мой папа был на войне… — сказала она.
Филипп остановился у своей тени. Ее полный слез голосок разорвал мрачную вуаль голода перед его глазами. Теперь это был просто холодный, осенний дождь, пробивавший тоненькое пальтишко девочки. Рука потянулась к карману.
— У моего папы больше нет рук… — говорила девочка.
Он долго шарил в кармане. Затем медленно вытянул сжатую в кулак руку. Не отводя взгляда от заплаканного лица девочки, опустил руку вдоль бедра. Сквозь пальцы просыпались крошки табака и несколько окурков.
— У моего папы были сильные руки… — рассказывала девочка.
Его тень дрогнула перед культяпками гордого солдата и скользнула по гладкому асфальту к огням достатка в круг ритуального танца. Он оторвался от заплаканного лица девочки и присоединился к своей тени.
Девочка даже не повернулась за ним. Она нагнулась, собрала мокрые окурки и положила их в солдатскую шапку — к серебряным монеткам.
Филипп знал, что на перекрестках улиц нет указателей для теней, бесцельно скитающихся по их плитам и в чужих следах со скрытой завистью открывающих бессмысленность своего существования. И поэтому он их не искал. Он ходил целый день, а где-то к ночи — когда мрачная вуаль голода плотнее стала давить на него и в желудке он снова ощутил, как утром, спазм пустых кишок — с великим удивлением обнаружил свою тень под мигающей иллюминацией увеселительного парка на Пратере[68].
Ночь не стала холодней, чем прошедший день. Похоже было, что дождь давно прекратился.
Он стоял, прислонившись к толстому канату в аллее куполообразных балаганов, внутри которых гремела музыка, словно целый мир что-то праздновал. Откуда-то появились молодые женщины в юбках, забрызганных грязью. Они гнали перед собой двух французских унтер-офицеров, которые держались точно откормленные гусаки, выпущенные в стадо гусынь. Женщины визжали и пронзительно кричали, хохотали и злобно дрались между собой, и казалось, им никогда не прийти к соглашению, кто же будут те две, которые останутся в объятиях этих парней, чтобы отогреть свои озябшие тела.
Французы наконец сдались. Они остановились неподалеку от Филиппа и, подмигнув один другому, высоко подняли руки. Девушки окружили их и, к его удивлению, замолчали. Они переглянулись с упреком, а затем, вытянув шеи, каждая на свой манер продемонстрировала то, что могла предложить. Проделывали они это с нелепыми подмигиваниями и гримасами, которые должны были означать: «Вы, конечно, понимаете, мсье, здесь я вам не могу показать все, что у меня есть…»
Смотр длился долго. Французы не спеша и со знанием дела ощупывали каждую девушку и каждой клали в рот по конфетке. Скорее всего, с помощью этого кавалерского маневра они смотрели им зубы. Вот руки солдат встретились на объемистой груди, откуда начинался смотр, не опуская рук, они взглядами договорились смотр продолжить. Словно по команде, они сунули руки в карманы шинелей и вытащили по кулечку с конфетами и несколько коробок отличных сигарет — и полные пригоршни взметнулись над головами. Круг девушек сплотился и сжал их, конфеты и сигареты рассыпались по мокрому гравию аллеи. Смотр продолжался. В то время как девушки боролись из-за их подарков, они заглядывали им под юбки, щипали их и опять бросали конфеты, пока не нашли то, чего хотели. Двух девушек они повели с собой. По пути они определяли ширину их бедер и упругость ягодиц.
Оставшиеся, показав им вслед язык, пошли навстречу солдатам, которые несли в руках каски с нейлоновыми чулками и шоколадом.
Филипп оглядел то место, где девушки возились с французами. В разрыхленном гравии догорал только один крохотный окурок. А он рассчитывал на конфетку. Во рту было сухо и горько, ощущался сильный запах табака и неприятная пустота чистых зубов. Он хотел найти конфетку. Он был готов без стеснения, на виду у всех прохожих нагнуться и поднять ее, но ненасытные девчонки все собрали, прихватив даже ту, что откатилась почти к его ногам. Она была большая, в желтой станиолевой обертке и походила на шоколадную из набора, и начинка у нее наверняка была кремовая или фруктовая. Ею он, раз уже нет ничего больше, смог бы ублажить пресноту во рту, чтобы потом с более приятным ощущением выкурить один из своих окурков, которыми вот уже целый день утоляет голод. Думая об утраченной конфетке, он не заметил, как возле него кто-то оказался. Человеческая фигура во взъерошенной облезлой лисьей шубке подошла неслышно, остановилась рядом с ним и обратилась к нему шепотом, точно опасаясь нарушить его покой:
— Ненавижу иностранцев. С ними я бы не пошла ни за какие деньги. Клянусь вам, я их ненавижу…
Филипп поднял голову и посмотрел на женщину с отсутствующим видом, так что ей показалось, будто он не понял ее слов. Она приблизилась к нему и, расстегнув шубку, грудью прижалась к его груди. От испитого лица исходил тяжелый запах дешевой косметики. Это была одна из тех девушек, что дрались из-за французских конфет и сигарет. И с черными парнями ей не повезло, потому что в их строю не оказалось достаточно касок. Так как Филипп не отозвался, она сказала громче:
— Пойдемте со мной, мой господин… Вы утомлены. А у меня в комнатке тепло и уютно… Не говорите, что после всего вы бы не выпили чашечку настоящего турецкого кофе… Пойдем, дорогой… За пятьдесят шиллингов вы получите все…
Его тошнило от ее запахов. Откинув голову, он слегка отстранил ее и пошел. Она уцепилась за него и, словно кошка, прильнула к нему.
— О, какие холодные у вас руки, — сказала она ласково, гладя его руку своими, которые она согревала в муфте.
Филипп выдернул руку и, не глянув на нее, пошел торопливыми шагами. Девушка двинулась за ним. Она упорно сопровождала его до конца аллеи, точно он был кавалером, который беспричинно оставил ее. Наконец, сообразив, что зря теряет время, она остановилась на освещенном перекрестке аллеи и крикнула:
— Почему вы сразу не сказали, что вам шрапнель угодила в определенное место?! Повесьте туда все свои ордена и бумажник с деньгами. Ха!
Он почти побежал, сраженный и пристыженный, от этой маленькой проститутки. Он бежал, а за ним волочился смех, точно шлейф безумцев, вышедших в карнавальную ночь, чтобы оказаться среди себе подобных безумцев. Тщетно пытался он избавиться от впечатления, что смех этот гонится за ним по пятам и ему никуда от него не укрыться. Он торопливо шел, стараясь не поскользнуться, не упасть, чтобы прохожие не поняли, что эта истеричная девчонка кричит именно ему свои мерзкие слова и именно вслед ему летит, разносясь по всему пратерскому парку, ее хохот. Смех прекратился вдруг, и он почувствовал тупую боль в отбитых ступнях и тяжесть в пустом желудке. В голове все завертелось, колени задрожали, а перед глазами заплясал рой мерцающих кружочков радужных цветов. Среди них он видел ту девушку, от которой убегал. Она была голая и дразнила его своими огромными белыми грудями, хохотала во все горло и увивалась вокруг него. Он вертелся по кругу, напрасно ища проход, исполненный ярости на нее и на свою неспособность избавиться от этой соблазнительной ведьмы. Он неистово кинулся к ней, почти коснулся ее голого тела, но она ловко увернулась. Ничего не достигнув, он опять полетел сквозь пестрые кружочки. Вырвавшись из них, он увидел, словно в тумане, окружающее, и вдруг что-то вцепилось ему в плечи, повернуло, словно волчок, а затем сильно ударило по спине. Грудная клетка лопнула, а воздух комом застрял на дне желудка. То, что мгновение назад, как багром вцепилось в плечи, теперь освободило его, и он полетел, словно выброшенный катапультой. Падал он долго, точно земля под ним разверзлась. Ощущение было такое, будто он тонет, как камень в глубокой воде. Вокруг мрак и тишина, не слышно ни голосов, ни шума, словно он на краю света в непроглядной тьме ночи.
Падение прекратилось; он лежал, растянувшись ничком, широко раскинув руки. Придя в себя, почувствовал сперва руками, а потом уже лицом, что лежит на шершавой, колючей поверхности, однако он не поверил, что это та самая аллея, откуда, как думалось ему, он улетел в небытие.
Он лежал недвижный и безжизненный, а потом вдруг услышал учащенное биение своего пульса и кошмарное гудение людских голосов.
Где-то поблизости приглушенно играла шарманка, устало тарахтела какая-то машина, и кто-то кого-то звал, и ему уже не было так неловко, как только что, когда он проваливался, и все-таки у него не хватало смелости открыть глаза и посмотреть, где он. И только начал он что-то соображать, как земля под ним загрохотала, словно откуда-то пригнали стадо одичавшего скота. Сквозь топот копыт, галопом промчавшихся возле его головы животных, он услышал хохот женщины — голая, она оседлала быка, и его заросший косматой шерстью круп щекочет ей под коленями. С опасением увидеть весь этот ужас, он медленно открыл глава. Под мелким острым гравием земля пахла осенней сыростью. Почти возле его носа догорал окурок и пощипывал ему ноздри. Множество человечьих ног топталось вокруг его головы, а пара красивых женских ног, бесстыдно расставленных, была прямо у него перед глазами. Теперь ему стало совсем ясно, что он не ушел далеко от аллей Пратера. Стряхнув гравий с лица, он поднялся на колени. Спину — там, куда пришелся удар, — пронзила острая боль. Чьи-то руки подхватили его и поставили на ноги.
— Прошу, господа, не создавайте паники, — говорил человек, стоявший у него за спиной и поддерживавший его. — Видите, с господином ничего не случилось…
Филипп смущенно огляделся и повернулся к человеку, который помог ему подняться с земли. Это был бедно одетый человек, с оттопыренными ушами, напоминавшими крылья летучей мыши, в солдатских сапогах с широкими голенищами, из которых смешно торчали тощие ноги, в обтрепанных кавалерийских брюках, в тужурке черной кожи, а на голове — тирольская шляпа с пыльными орлиными перьями и множеством значков. В руках он держал его шляпу, с которой отряхивал грязь и гравий. Растянув губы в улыбке, что терялась в блеске золотых зубов, он съежился под взглядом Филиппа.
— Вы налетели прямо на мою карусель, мой господин, — сказал он. — Наверно, вам стало дурно…
Филипп взял свою шляпу, посмотрел мимо него на карусель, где деревянных коней оседлали взрослые люди, терпеливо ожидавшие, когда их кони двинутся в пестрый веселый круг.
— Ничего… мне стало дурно, — сказал он дрожащим голосом.
Он нахлобучил шляпу и уже собирался пойти, как перед ним возник негр в форме унтер-офицера американских войск. Негр внимательно оглядел его, словно желая что-то узнать по нему, а затем приветливо и смущенно улыбнулся.
— Я сожалею очень, очень сожалею. Наш конь вас свалил. — Он проговорил это, мешая немецкие слова с французскими. Затем оглянулся и обратился по-английски к красивой темноволосой девушке, стоявшей за ним. — Габи, объясни господину, что мне очень жаль, что все так случилось…
Девушка подошла к Филиппу и нехотя сказала ему на немецком с чистым венским произношением:
— Он приносит вам свои извинения… Вы налетели прямо на нашего карусельного коня.
— Все в порядке… все в полном порядке, — сказал Филипп, желая как можно скорее отделаться от чрезмерной любезности негра. — Я сам виноват в этом маленьком несчастье…
— И все-таки это счастье, мистер, что конь был не настоящий, — пошутил негр, и, очевидно, довольный поведением Филиппа, похлопал его по плечу. — Вы сильный человек, мистер…
Негр протянул ему пачку сигарет. Филипп взял сигарету. Лицо девушки выражало скуку, она дергала негра за рукав.
— Пойдем, Сэм, я страшно хочу есть.
Негр, еще раз дружески хлопнув его по плечу, пошел за девушкой, но, не сделав и двух шагов, снова повернулся к Филиппу. Он вытащил из кармана нераспечатанную пачку американских сигарет и пошел к нему:
— Прошу, господин… Прошу вас, мистер…
Девушка тянула негра за рукав. Филипп взял сигареты и протиснулся сквозь толпу.
Продавец сосисок из дощатого киоска высунул свою вымазанную жиром толстую руку в узенькое оконце на жестяной прилавок, взял из рук Филиппа пачку сигарет и подозрительно оглядел его.
— Есть еще такой товар?
Филипп отрицательно покачал головой. Он даже не взглянул ему в лицо. Взгляд ею приковала огромная кастрюля: из нее валил ароматный пар — варились сосиски. Продавец открыл кассу и извлек несколько мелких монет.
— Вот, держите, это цена американских сигарет, — сказал он.
— Ладно, ладно, — торопливо ответил Филипп и отвел его руку. — Вы дайте мне на эти деньги поесть…
Продавец приготовил два сандвича с сосисками и горчицей. Сжав теплый хлеб застывшими руками, Филипп зашел за киоск и быстро все съел. Потом, утолив голод, он долго сидел на скамейке возле ограды автодрома и размышлял о счастье молодой влюбленной пары, которая — прижавшись друг к другу — каталась в маленьком автомобиле по пустому автодрому. Счастье их казалось полным. Парень гладил девушку по волосам и нашептывал ей, что в один прекрасный день он заменит этот автомобиль настоящим. Она восторженно крутила руль, представляя себя в большой машине. Вероятно, она готова была ездить так всю ночь, но вдруг раздался электрический звонок. Маленький автомобиль сбавил скорость и остановился. Лицо девушки опечалилось. Парень смущенно улыбнулся, погладил ее по волосам и нерешительно сунул руку в карман брюк.
— Еще один рейс, прошу, — сказал он, протягивая два шиллинга человеку с кожаной сумкой через плечо.
Автомобиль покатил. Девушка радостно засмеялась и еще теснее прижалась к своему парню, обещая ему внести свою лепту в прелесть этой ночи.
Филипп придавил ногой окурок и незаметно подтянул его к себе. Было интересно наблюдать, как эти двое молодых людей по простоте душевной обманывают друг друга. Однако он не мог долго оставаться спокойным наблюдателем, который, предугадывая чужое счастье, черпает в нем вдохновение и желание пуститься этой ночью в подобную игру с какой-нибудь приятельницей. Он, только что ощущавший судороги в желудке из-за того, что ему необходим был просто кусок хлеба, сейчас столкнулся с новым вопросом и ответом на него, который он знал, но не смел признаться самому себе и потому должен был идти куда-то, все равно куда, где бы могла родиться идея для решения еще одной проблемы: в эту прохладную ночь найти кров.
Он думал об этом, проталкиваясь сквозь толпу, которая влекла его по аллее, сдавливая и покачивая. «Кров и теплая постель… А завтра? Опять в холодный пустой день, в это ужасное темно-серое ничто… Крюк в потолке гостиничной комнаты на мансарде… Петля на конце веревки… Как долог путь до вечного небытия, до того совершенного мира?.. Миг решимости… Быстрое и ловкое движение рук… Руки могут быть ловкими только на чужой шее… На собственной они сплетутся судорогой трусливого бессилия, и миг этот станет длиннее ожидаемой вечности… Повешенный страшен, он видел. Выпученные глаза, вывалившийся язык, горько склоненная набок голова. А немец был ловкий. Признанный мастер своего дела… Обученный. Человек на виселице был храбр… герой, упрямец сербский… Даже умирая, он плюнул тебе в лицо, тебе и твоему другу Васичу… Зачем ты смотрел ему в глаза? В них были презрение и угроза… Проклятие, после которого ты станешь жалким человеком, никто и ничто среди людей, вол безрогий с ярмом, посмешище на цепи у того подлеца, который привел тебя сюда… Иди и найди его… Убей его или убей себя… Тебе будут сниться глаза того повешенного, и ты будешь ощущать его плевок на своем лице…
Убей себя или его…
Убей его! Найди его и убей! Твой поезд отходит каждый день в пять часов вечера…»
— Дяденька, купите шарик для ребенка… дети любят шарики. Мои шары хорошо летают… Посмотрите! — накинулась на него маленькая продавщица, двигаясь спиной вперед и размахивая перед его лицом связкой разноцветных воздушных шаров.
«…Шмидт мертв… Они обманывают меня, говоря, что у них есть мое досье… Немцы сожгли все досье… Васич — это досье…»
— Вам я уступлю… Сколько у вас детей?
Филипп замахал руками, точно защищаясь от роя надоедливой мошкары, и разогнал шарики. Некоторые сорвались и полетели. Маленькая продавщица побежала за ними.
«…Васич — твое живое досье… Иди и ищи его… Ты должен найти его, пусть тебе придется ползти на коленях и грызть боярышник в Венском лесу… Повесь его, а не себя… Уничтожь эту последнюю страницу твоего прошлого и начни все сначала… Сначала! Для этого начала у тебя уже есть билет в кармане… Поезд отходит ежедневно в пять…»
— Хелло, мистер! — окликнул его кто-то. — Габи, это же наш знакомый с карусели…
Негр и его приятельница стояли перед ним. В руках у них были шары на длинной бечевке. Маленькая продавщица благодарно улыбалась им. Негр взял еще несколько шаров из ее связки и подал Филиппу.
— Отнесите их своим детям, мистер, — сказал он.
— О, Сэм, может быть, у господина нет детей, — сказала девушка.
— А может, у него, как и у меня, есть подружка, которая любит воздушные шары, — добродушно засмеялся негр.
— Сэм, Сэм, ты ведешь себя как ребенок… Господин может обидеться.
— Видите ли, мистер, женщины всегда думают хуже, чем есть на самом деле… Скажите ей, что я не обидел вас.
Филипп посмотрел на шары и грустно усмехнулся. Негр, довольный, похлопал его по плечу, достал бумажник и заплатил маленькой продавщице.
— До свиданья, мистер, — козырнул он, обнял свою подружку и пошел с ней навстречу новым радостям.
Девочка с шарами весело поскакала, оглядываясь на Филиппа, который, судя по ее озорной улыбке, казался ей смешным с шариками в руках.
Он не глядел ни на девочку, ни на веселого негра с девушкой. Он вернулся к беседе со своей тенью — теперь его тень сопровождали тени шаров, придавая ей удивительный, фантастический облик. Сбитый с толку ее размерами и формой, он усомнился, его ли это тень. Он огляделся по сторонам, чтобы убедиться, не идет ли кто рядом с ним или за ним, не шутит ли кто, играя со своей и его тенью. Однако поблизости не было никого.
В той части аллеи он был один со своей тенью и тенями шаров. Оглядываясь то и дело, он вдруг замер, оцепенел, точно оказавшись лицом к лицу с призраком, поднявшимся из-под земли и преградившим ему путь. Он крепко зажмурился, а когда открыл глаза, посмотрел дальше головы своей тени. Теперь он ясно видел — шагах в двух от него на земле лежит большой бумажник черной кожи. Он видел его отчетливо. Кожа блестела, хотя на него падала тень от головы. А тени воздушных шаров — точно хоровод ведьм — вились вокруг него. Они улетали ввысь, кружили, вновь возвращались, нюхали его, словно живые, с недоверием принимая этот волшебный дар, упавший с полночного неба ярмарочного безумия, который, как бывает обычно на ярмарке, — чуть потянешься взять его — исчезнет, словно заяц у иллюзиониста в шляпе. А в самом деле не чудо ли это? Неужели до сих пор никто не заметил его?! Неужели никакая другая тень не споткнулась о него? Сердце билось часто-часто.
Неожиданно носок ботинка задел бумажник. Он перевернулся и, тихонько шмякнув, вызывающе распахнулся. Ботинки его не заметили. Прошли дальше, влекомые музыкой. Чудо? Нет. «Он твой. От тебя на расстоянии искушения. Никогда ты этого не делал… Ты неловкий, и тебя могут заметить… Ангел твоего счастья давно сложил крылья. Тебя схватят и отведут в тюрьму. Васич в твое досье вложит еще одну страницу: вор…
Убей себя или его…
Всего-навсего еще одна сторона искушения. Зато этот бумажник поможет тебе найти Васича! К другой стороне искушения повернись спиной».
Бечевка, к которой были привязаны шары, выскользнула из руки. Шары взметнулись в ярмарочное небо и словно сняли спазм совести. Он не глянул им вслед. Чуть пригнулся, сделал шаг, точно намереваясь наступить на голову своей тени. Затем наклонился, якобы затянуть шнурок на ботинке согнутой ноги, и внимательно огляделся. Он был один на один со своей тенью, и она теперь была бы совсем обычной, как тени людей, проходивших чуть дальше от него, если бы он не находился в таком нелепом положении, из-за чего руки его ужасно дрожали, а ноги словно отнялись.
Потрогав шнурок ботинка, он резко вытянул руку и неловко, но крепко схватил бумажник. Он сгреб даже горсть острого гравия и все вместе засунул в карман пальто. Постоял еще немного, согнувшись и опасаясь, не остановится ли кто-нибудь и не закричит ли «держи вора», медленно распрямился и, не дыша, направился в самую темную часть аллеи.
…У воров должно быть крепкое сердце и быстрые ноги, но и достаточно хладнокровия. Паника выдает… Эту философию он постиг еще в детстве, когда вместе со своими сверстниками лазил по чужим сливовым садам. В военной академии они разбирали случаи паники, охватывавшей целые армии и приводившей их к поражению. Армию, к которой принадлежал он сам, погубила паника. Немецкий майор Шмидт прочел ему и Васичу лекцию о панике и показал им камеру, где сидел солдат, у которого была привычка говорить во сне. В страхе, как бы однажды не выдать свою тайну, он явился и сознался, что ненавидит Гитлера. Шмидт должен был его повесить…
Торопливо шагая, Филипп уходил все дальше от Пратера, думая о случившемся, браня себя и тщетно пытаясь успокоиться. Он избегал взглядов прохожих. Ускорял шаг, если кто-то настигал его. От шума обгонявших трамваев у него сжималось сердце. Он обходил полицейских и судорожно сжимал бумажник в кармане, чтобы не слышался звон мелочи. Только достигнув центра и смешавшись с толпой, он вздохнул с облегчением. Он сообразил, что на мелочь из бумажника может купить трамвайный билет и быстрее убежать из Пратера.
На Мариенхильфштрассе он вошел в общественную уборную.
В чистом, побеленном коридоре с влажным, только что вымытым полом, но уже испещренным следами ног посетителей, сидела за столиком старушка с восково-желтым лицом. Завернувшись в шерстяной платок, она трясущимися сморщенными руками разглаживала кусочки мягкой бумаги и складывала их в стопочки возле маленькой алюминиевой тарелки, куда собирала мелкие монеты. Только он едва ли заметил ее. Он направился в конец коридора, где в длинном ряду закрытых кабинок увидел одну свободную.
На утомленном печальном лице старушки не появилось ни следа укоризны или протеста. Она даже не посмотрела ему вслед. Лишь спустя полчаса после того, как вошел Филипп, не переставая разглаживать бумагу, посмотрела она на запертую дверь кабины номер 15.
На своей службе в подземном отделении венской системы канализации, куда люди заворачивают в случае крайней нужды, она всякого нагляделась. Иногда она вынуждена была подсматривать в замочную скважину кабины, где, бывало, слишком долго задерживался запоздавший прохожий. По опыту она знала, что люди в общественную уборную заходили с разными целями. И только нищие не вызывали у нее беспокойства. К ним она испытывала сострадание, особенно в такие вот холодные осенние дни и зимой. Она понимала, что они заходят сюда, чтобы хоть чуточку обогреться, и позволяла им часами оставаться в кабинах. Кое-кто из них и подремлет, а потом уходит, преисполненный благодарности — она не требовала с них платы. Сейчас, несколько обеспокоенная поведением посетителя из пятнадцатой кабины, она размышляла об этом. К какой группе отнести его? Те, кто приходят с деньгами, держатся с большим достоинством и платят ей вдвойне. Самоубийцы незаметно проникают в кабины и, как правило, не разговаривают с ней. Жулики ведут себя шумно и хлопают дверьми. Полицейские и сыщики прежде всего, рыщут по всем кабинам, а уж потом справляют нужду, если им невтерпеж. Этот же не произвел на нее никакого впечатления. Лицо у него было бледное и потное.
«Боже мой, нужда… Этот господин показался мне таким приличным…» — подумала она.
А Филипп тем временем пытался унять волнение, охватившее его, когда он раскрыл бумажник. В нем оказалось пятьсот долларов — в банкнотах по пять, десять и двадцать — и еще шиллинги. В его положении это было настоящим богатством, которому он бесконечно обрадовался, его лишь несколько опечалило то, что в бумажнике среди разных бумаг он обнаружил фотографию того самого приветливого негра с Пратера и его девушки. Он еще раз посмотрел на клочки бумаг и фотографии, брошенные в унитаз вместе со скомканным бумажником, и с сожалением, но решительно спустил воду. Он дождался, пока вода унесет все это, и, когда унитаз остался совсем пустым, потихоньку отпер дверь и вышел.
Старушке словно бы стало легче, когда она увидела его. Она поднялась со стула:
— Я уже беспокоилась о вас… Думала, вам плохо…
Филипп положил ей в руку несколько шиллингов и задержался у зеркала, висевшего у ее стола. Он поправил шляпу и спокойно вышел из общественной уборной.
Шел дождь, но теперь в нем не было мрачной пелены голода, скрывавшей от взора свет улиц. Филипп поднял руку и остановил такси.
3
Кучка поломанных спичек и щепочек искромсанного коробка напоминала миниатюрный костер, его осталось только зажечь. Пальцы человека, соорудившего костер, нервозно шарили по столу, словно в поисках чего-то, что можно было бы сжечь. Затем пальцы замерли возле костра и смахнули его на пол.
— …Да, и теперь меня зовут Светислав Герман, — говорил соорудивший костер и уничтоживший его прежде, чем спалил на нем то, что хотел. Анемичное лицо сорокалетнего мужчины с бакенбардами с проседью и набухшими подглазными мешками, испытующе вглядываясь, наклонилось над столом. — Что ты скажешь на это: Светислав да еще Герман? — И язвительно добавил: — Переменил я и веру. Теперь я римокатолик…
На сцене под ложей, возле которой валялись искромсанные спички, обнаженная девушка закончила танец живота. В кабаре зажегся свет, и бесчисленные руки потянулись к ней, предлагая нагому телу тепло своих горячих ладоней.
— …Она этого хотела… Понимаешь… Хотела, чтобы я до основания изменил свою жизнь. Я согласился. Бродяге нечего терять. Я был сыт по горло. И Мирьяна писала, что ждать ей меня не имеет смысла. Что я мог ей ответить? Чем воодушевить? Ложью! Или, может быть, заверить ее, что, мол, по возвращении на родину мне обещано высокое положение… — Он замолчал и опять, испытующе вглядываясь, наклонился над столом. — Осуждаешь меня?
Филипп грустно улыбнулся и махнул головой.
— Или считаешь трусом?.. Малодушным?.. Я ни то, ни другое, Филипп. Я попытался хоть раз в жизни быть реалистом. Говорю тебе, как другу, а не как своему бывшему начальнику…
Филипп поднял рюмку и чокнулся с ним.
— Ты говори, — сказал он, — я тебя слушаю, как друг…
Они отпили по глотку. Светислав Герман распрямился. Он был спокоен и, видно, готов храбро высказать все, что думает о себе и своем друге, о всех их друзьях. Пальцы его расслабились и вновь принялись за сооружение костра.
— Я тебе скажу, а ты… как знаешь… Можешь считать меня трусом… Сбрось полковничьи погоны и подумай. Прости, может, тебя произвели в генералы?
Филипп покачал головой без упрека и без малейшего раздражения.
— Говори, как говорят с другом…
— Конечно, только как с другом, — смутился тот. — Неужели тебе не кажется, что наше дело — голая иллюзия? Коли они там не отступили перед Сталиным, что такое мы представляем для них? Я хочу, чтобы ты меня правильно понял. Я их ненавижу… ненавижу всей душой, однако я понимаю, что моя и твоя ненависть не могут ничего изменить…
Филипп заметил, что из соседней ложи жена Германа напряженно следит за ним, стараясь поймать его взгляд Она сидела в компании дремлющего старца, Герман сказал, что это ее родственник. Она была в том возрасте, который считается поздней осенью жизни, исполненная печали и неизбывной ностальгии по весне, которая уже не придет. За ее хорошо сохранившейся внешностью чувствовался живой дух, противившийся неотвратимой поре старости и делавший ее привлекательной и притягательной, так что даже ее совершенно седые волосы — только чуть сбрызнутые лаком и со вкусом уложенные, — казалось, сохраняли отблеск непогасших радостей.
— Тебя жена ждет.
Герман взглянул на жену, улыбнулся ей и жестом показал, чтобы она еще немножко подождала. Она ответила улыбкой, не скрывшей ее нетерпения, а затем еле слышным шепотом, прикрыв рот рукой от родственника, сказала:
— Пора возвращаться к своему столику…
Он согласно кивнул ей и повернулся к Филиппу:
— Может, ты перейдешь к нашему столику?..
— Еще увидимся… Я жду знакомого…
— Тогда заходи ко мне…. обязательно, — торопливо говорил Герман, бросая взгляды на соседнюю ложу. Он вытащил из кармана визитную карточку и положил ее перед Филиппом. — Мой дом для тебя всегда открыт. Заходи и на службу.
Филипп прочитал визитную карточку: «Свет. Герман. Магазин детских игрушек, Мариенхильфштрассе, 571а». Он оторвал взгляд от карточки и посмотрел в глаза Германа.
— Я возвращаюсь домой, — сказал он спокойно.
На лице Германа застыла та приветливая улыбка, с которой он ждал его взгляд. Из полной рюмки — он только что поднял ее, чтоб провозгласить тост, — выплеснулось вино.
Филипп взял у него рюмку и с улыбкой добавил:
— Думаю, в этом нет ничего дурного.
— Конечно, — согласился Герман машинально и через силу озадаченно выдавил: — А они… как считает их посольство?
— Выдали мне визу…
— А наши?
Теперь на лице Филиппа застыла улыбка. Глаза его блеснули. Он взглядом повел вокруг, словно в поисках тех, кого оба они имели в виду. Сквозь стиснутые зубы вырвался огонек раскаленной ярости:
— Кто это наши?!
Герман поперхнулся и онемел. Горячее дыхание Филипповой ярости оставило ярко-красный отпечаток на его бледных щеках. Поднимаясь из-за стола, словно человек, внезапно увидевший в глазах своего друга страшное предательство, он сказал:
— Филипп, ты слишком далеко зашел… Берегись!
Он повернулся и пошел, не дождавшись ответа. Филипп даже не посмотрел ему вслед. Он стоял неподвижно, точно прикованный к столу, глядя на пятно на скатерти возле невыпитой рюмки Германа. Затем порвал на мелкие клочки визитную карточку и бросил их в свою рюмку, в которой еще оставалось несколько глотков вина.
Одноглазая голова с черной повязкой на правой половине лица, закрывавшей, вероятно, пустую глазницу, высовывалась из укрытия, показывая прохожим лицо, заросшее бородой Святителя, призывая их громкими вздохами. Над головой мигала реклама ортопедического магазина. Своими страдальческими стонами калека привлекал к ней внимание прохожих. Увидев пустой болтающийся рукав нищего, прохожий в самаритянском трепете бросал взгляд на механическую ручищу с железными щупальцами, выставленную в стеклянной витрине, и вытаскивал из кармана свою долю пожертвования на воскрешение жизни в пустом рукаве.
Германы далеко не в лучшем расположении духа вышли из кабаре, они решили немного пройтись, а потом вернуться к своей машине, оставленной неподалеку от заведения. Они не спеша приближались к месту, где стоял калека в военной форме. Госпожа Герман, первой увидевшая его, испуганно прижалась к мужу.
Нищий печально улыбнулся. Глаз его забегал и затрепетал, наполняясь слезами, словно говоря: «Простите, госпожа, я не хотел испугать вас». Ее выспавшийся родственник собрался с духом и храбро выступил вперед.
— Несчастный солдат, отчего ты прячешься в темноте? Мы должны понять твою беду.
— Сделай что-нибудь для этого несчастного, — сказала госпожа Герман мужу и зябко поежилась.
Герман и его престарелый родич полезли в карманы. Калека принял от них подаяние и пожелал спокойной ночи.
Они пошли дальше, не обернувшись на нищего. Женщина ускоряла шаг, очевидно желая подальше отойти и побыстрее забыть про встречу с калекой. Да и нищий не посмотрел на них.
Едва удалились Германы, как из заведения вышел Филипп. Он сел в такси и только было собрался объяснить шоферу, куда ехать, как тот сказал:
— Простите, мне кажется, тот человек зовет вас…
Филипп посмотрел в окно. К машине торопливо шел одноглазый. Он кричал и махал рукой, что, очевидно, означало, чтобы его подождали. В дурном настроении после встречи с Германом, а еще больше оттого, что ему ничего не удалось узнать о Васиче, Филипп и не пытался понять нищего. Предположив, что это обычный прием просителя, он достал из кармана мелочь и сказал шоферу:
— Поезжайте!
— Может, инвалид хочет что-то сообщить вам, — сказал шофер. — Вот он, уже здесь!..
Калека остановился у машины, глаз его забегал по стеклу, сквозь которое виднелось лицо Филиппа. Он постучал в окно. Филипп опустил стекло. Нищий, ничего не говоря, показывал кивком головы, чтобы тот вышел. Его настойчивую мимику Филипп воспринял лишь как призыв быть пощедрее. Выбросив в окошко приготовленную мелочь, он прикрикнул на шофера:
— Да поезжайте же, черт вас подери!
Нищий даже не взглянул на деньги, лежавшие у его ног. Машина медленно тронулась. Он шел рядом, прижимаясь головой к стеклу. На лице его сменялись гримасы, одна непонятней другой, которые, очевидно, давали знать Филиппу, что он хочет сказать ему что-то очень важное, но не может этого сделать при шофере. Машина поехала и отшвырнула его в сторону. Нищий споткнулся и упал, а машина покатила по улице, свернула возле скверика и исчезла.
Нищий поднялся и, недовольно качая головой, медленно вернулся туда, где валялись монетки.
Ганс храпел, надувая, как трубач, щеки. Кресло под ним вздрагивало в такт его храпу.
Филипп почти неслышно приблизился к стойке портье, намереваясь взять ключ от своей комнаты и при этом не побеспокоить Ганса. Но чуть скрипнула дверь, старик вскочил и невозмутимо, словно это не он храпел только что, встретил его с профессиональной ревностностью.
— Добрый вечер, господин полковник, — приветствовал он его с многозначительной усмешкой и откровенно посмотрел на большие стенные часы. — О-о, да уже половина второго…
— Я очень сожалею, что разбудил вас, Ганс, — принялся было извиняться Филипп.
— Что вы, господин полковник? Это моя служба, — прервал его тот и положил на стойку два ключа. — Нужно было терпение с ней…
Филипп взглянул на ключи и взял лишь свой.
— Мне очень жаль, Ганс… Спасибо вам, только оставьте это до другого раза. Извинитесь за меня перед девушкой…
Ганс серьезно и укоризненно посмотрел на него. Затем как-то смущенно покачал головой, словно не поверил его словам.
— Вы шутите, господин полковник, — сказал он. — Габриэла этого вам никогда не простит. Она ждет вас…
Филипп пожал плечами.
— У меня плохое настроение, Ганс. Лучше бы сегодня мне не встречаться с этой девушкой. Она меня не знает, скажите ей, что я очень неподходящий тип…
— Хорошо, господин полковник, только в следующий раз не обращайтесь ко мне со своими просьбами, — сказал он и взял ключ. — Вы поставили меня в очень неловкое положение. Габриэла не девчонка, которая легко идет на деньги… Или вы, может быть, думаете, что я и эта девушка…
Филипп только теперь понял, что Ганс всерьез рассердился и его поведение может изменить доброе расположение старика к нему, которым и впредь он мог бы пользоваться. Примирительно улыбнувшись, он перегнулся через стойку и схватил его за руку.
— Давайте мне этот ключ. Пойду посмотрю вашего ангела…
— Вы удивительный человек, господин полковник. Черт подери, кому-то на этом свете бы должны же верить, — оттаял Ганс.
Он проводил Филиппа улыбкой явного удовлетворения. Затем он уселся в кресло и сразу же захрапел, точно попросту вошел обратно в сон, прерванный Филиппом.
Темно-синий нейлоновый платок, небрежно брошенный на лампу на ночном столике, создавал приятный полумрак в комнате, наполненной запахом свежих гвоздик и тихим звучанием негритянского блюза. Патефон стоял на полу у изголовья удобной софы. Очертания женской фигуры вызывали ассоциации с натурщицей в ателье художника. Она не шелохнулась, когда ключ щелкнул в замке, а когда Филипп вошел, только повела глазами на дверь и, оглядев его, обратилась к теням на стене, очевидно занимавшим ее до сих пор.
Филипп постоял у двери, подумав, что она спит закурил и прислонился к стене, соображая, как бы ее разбудить.
— Выключатель возле вашей головы, — сказала она. — Зажгите свет, если вам надо.
— Добрый вечер, мне показалось, вы спите… — удивился он и повернул выключатель.
Ослепленная ярким светом люстры, она прикрыла глава рукой.
— Я уже потеряла надежду на то, что вы придете.
Филипп словно не слышал ее. Он смотрел на нее в замешательстве. Лицо ее показалось ему знакомым. Крохотное сомнение, что где-то он видел эту девушку, разрасталось в непонятное беспокойство. Он пристально смотрел на нее, ожидая, пока она отведет руку от лица. Длинные каштановые волосы скрывали шею и часть лица, не заслоненную рукой. И вместе с тем Филипп не мог не убедиться, что старый Ганс был прав, когда говорил, что он упустит редкий случай, если не пойдет. Теперь для него было ясно все, что касалось ее красоты. На ней была только прозрачная огненно-красная комбинация с узенькими бретельками, пересекавшими округлые плечи.
— Простите, — сказала она, опустив руку. — Я давно сижу в этом полумраке.
Голос у нее был теплый, бархатисто-мягкий, он лился, словно мечтательная исповедь, хотя говорила она о самых обычных вещах. Лицо бледное, с тенями под глазами, что говорило о накопившемся утомлении. И все-таки она была не такой, какую он ожидал увидеть: проститутку с кошачьими зрачками. Ее красивые черные глаза смотрели спокойно, с тихим ожиданием еще одной неизбежной встречи, какую уготовила ей судьба, требуя уплаты долга за красоту, которой наградила.
Однако в его взгляде она прочла выражение, которое отнюдь не вязалось с назначением встречи. Он смотрел на нее испытующе, дерзко, словно хотел сказать что-то обидное, что обычно говорят проституткам, если в них не находят того, что хотят найти за спрашиваемую цену. Она не должна была так думать о себе. Она сознавала свою красоту, но никогда не ставила себя выше причуд мужчин, которым порой изменяет мужество при виде искривленного шва на женском чулке. Потупив взор, она поднялась и спросила:
— Вы разочарованы?
Вместо ответа Филипп быстро повернул выключатель, словно в полумраке хотел скрыть свое смущение от мысли, которая в этот миг пришла ему в голову. Он не обманулся. Да, он уже видел ее. С ней он уже однажды встречался, а эта новая встреча может повлечь за собой куда более серьезную неприятность, чем испорченные отношения с Гансом. Это была девушка того самого негра с Пратера.
— Вам что-нибудь Ганс наговорил обо мне? — спросила она, медленно вставая с софы, чтобы подойти к нему, но ее остановил его резкий голос:
— Стойте!
Она подняла голову скорее удивленная, чем смущенная.
— Что с вами?!
Филипп молчал. Он был вне себя, объятый опасением, что девушка вдруг узнает его. Чуть успокоившись, он заметил, что она все еще с удивлением смотрит на него, очевидно ожидая объяснения его непонятного поведения.
— Вы восхитительны при этом свете, — сказал он ей, пытаясь не выдать своего волнения.
Он сказал правду, хотя и не думал об этом. Свет лампы, оказавшийся за ее спиной, еще выразительнее оттенял контуры ее тела. Филипп же это вряд ли увидел. Он желал только не обнаружить своего неприятного открытия и найти удобный случай сбежать.
— Мое имя — Габриэла, друзья зовут Габи, — сказала она. — А вы тот полковник, полковник Филипп… Подойдите поближе, полковник…
— Останьтесь ненадолго там, прошу вас…
Она засмеялась и приняла позу манекенщицы перед фотокамерой. Потом произнесла:
— Скажу вам откровенно. Со слов Ганса я знала, что вы весьма достойный человек, но ничего подобного я и предположить не могла. Только мальчики могут разыграть такую сцену, и то лишь те, что слишком часто посещают кино и поэтому от своих подруг требуют, чтобы они вели себя как звезды экрана.
Сейчас был самый удобный момент выскользнуть из комнаты, но его остановила мысль, что такой поступок вызвал бы у нее оправданное сомнение и, вероятно, еще большее любопытство. «Если она меня и узнает, — подумал он, — почему она должна полагать, что именно я нашел бумажник ее приятеля? В самом деле, я веду себя глупо! Кто может доказать, что именно я его нашел?» Ободрив таким образом себя, он приблизился к ней и спросил спокойно:
— Мы никогда не встречались?
— Никогда, полковник… Вам нравится, как я позирую?
Филипп усмехнулся.
— Вы любите музыку? — Она села в кресло рядом с патефоном и перевернула пластинку. — Бутылка под столом. Налейте виски.
Филипп взял бутылку, не отводя взгляда от ее лица. Она не обращала внимания на его взгляд. Она смотрела на свою и его тени на стене над софой и слушала негритянскую мелодию.
— Я мечтала однажды побывать в Америке…
— Однажды вы там побываете. У вас есть время…
Она печально усмехнулась.
— Время… Войны ломают время, полковник… Уж вы-то лучше других должны знать это.
— Война давно кончилась, — машинально заметил Филипп. Внимание его привлекла фотография на ночном столике в рамке из хорошей кожи. Это был тот самый снимок, какой он обнаружил в бумажнике негра, только увеличенный.
— Для вас и для меня она не кончилась…
— Почему для вас? Я подозреваю, что Ганс порядочно наболтал вам обо мне, но я и впрямь не понимаю, что связывает вас с моей войной?
— Не волнуйтесь, полковник, я отнюдь не ведьма, — засмеялась Габи. — Просто у нас одинаковые судьбы, полковник. Не осуждайте меня за то, что я так часто обращаюсь к вам по званию. Сейчас эпоха армий. Гражданские титулы теперь почти ничего не значат, а полковник, я думаю, большой чин…
— Вы ненавидите армию?
Габи пожала плечами, взяла фотографию с ночного столика, посмотрела на нее.
— Я оскорбила бы вас, если бы сказала правду…
— Тогда лучше помолчите. После этой войны осталось мало гордых солдат, а я не из их числа. Мне больше бы хотелось узнать, в чем схожесть наших судеб…
— Я думала, вы это уже знаете. Мы оба в чужой стране…
— А я был уверен, что вы коренная венка, — удивился Филипп.
— Надеюсь, это ничего но изменит, если я скажу вам, что я мадьярка и что полиция числит меня в списках мадьярских эмигрантов, хотя я заявила, что не имею политических убеждений. Меня привез сюда отец. Он не мог смириться с переменами в стране. — Она помолчала, словно собираясь с мыслями. — Бедняга, это его не спасло… Кладбища на всем свете одинаковы. Он умер через год после переезда.
Конца этой ее маленькой исповеди он не слышал. Он глядел на фотографию в ее руках и вспоминал встречу в Пратере. Ему казалось, что она узнала его.
— Это мы, я и Сэм, мой черный друг, — удивила она его, заметив его задумчивый взгляд, устремленный на фотографию.
— Вы любите его?
— Смотря как понимать ваш вопрос. Если я скажу, что люблю — не осудите ли вы меня за то, что сегодня я буду изменять ему с вами? — Она шутливо нахмурилась и откинула голову, ожидая услышать его упрек. Затем, словно вдруг вспомнила что-то, торопливо добавила: — Надеюсь, вы не станете говорить мне, что влюбились с первого взгляда и что ревнуете к этому черномазому парню?
Филипп засмеялся и приготовился ей ответить, но она перебила его.
— Конечно, я жду серьезного упрека, — улыбка исчезла с ее губ. Откинув голову еще больше, со сдержанной горечью в глазах она сказала: — Только сначала, полковник, пожалуйста… излейте свой гнев на белую женщину, которая спала с негром…
Филипп потянулся к столику, придвинул пепельницу и загасил сигарету. Потом ровным голосом произнес:
— А если я вам скажу, что все это меня не касается?
— Я вам не поверю.
— Вы злы…
— Да, но не на вас. Что бы вы ни думали обо мне, я докажу вам, что кожа у меня осталась белой — пока вам этого хватит. Если вы завтра утром вспомните меня, может быть, вам станет противно.
Он схватил ее руки, лежащие на спинке кресла, и страстно поцеловал. Медленно притянув ее к себе, он прижался лицом к теплой шее. Габи ответила на его объятие.
Пластинка на диске патефона долго вертелась вхолостую. Габи выключила патефон и вернулась в его объятия, стараясь дать ему ровно столько, сколько, как она догадывалась, он ждал от нее. Потом они лежали в постели. Она рассказывала ему о своем черном парне и о причинах, из-за которых они недавно расстались.
— Он очень воспитанный парень, полковник, — говорила она с упреком в голосе, словно желая защитить своего черного любовника, — Он даже не вспомнил о бумажнике…
Филипп лежал рядом с ней, приятно утомленный и, положив голову на ее плечо, готовился заснуть.
— Я думаю, мне легче было бы перенести откровенное подозрение, — продолжала она, не сводя глаз с фотографии на ночном столике. — Он мог бы об этом как-нибудь сказать мне. Иногда этот проклятый бумажник он клал мне в карман. Сколько раз я сама брала из него деньги, но всегда ровно столько, сколько он мне говорил… Может быть, он усомнился, потому что в тот день у него было много денег. Он получил долг… Не понимаю, не понимаю, полковник, как он мог такое подумать… Всего минутой раньше мы говорили о том, как станем вместе тратить эти деньги… Я хотела, чтобы он купил мне шубу…
— Забудьте об этом, Габи, — сонно пробормотал он.
— Не могу, полковник… Вам никогда не понять этого…
Филипп всхрапнул. Она грустно усмехнулась, аккуратно сняла его голову со своего плеча и положила на подушку. Затем потихоньку вылезла из постели, налила виски в бокал и пустила патефон.
Негритянская мелодия заглушила храп Филиппа.
4
Филипп пробыл у Габриэлы гораздо дольше, чем намеревался. К себе в комнату он вернулся уже засветло и еще долго лежал в кровати, сберегая состояние приятного утомления и чувство вновь обретенной уверенности. Заснул он с мыслями о ней, а когда проснулся, ему вновь захотелось увидеть ее. И в то же время он смеялся над самим собой, ибо он в самом деле получил от нее куда больше, чем ожидал, и теперь, если ему захочется переспать с кем-нибудь, он, скорее всего, пойдет к ней. Сейчас он стоял перед зеркалом и торопливо брился, он решил тут же пойти к ней и пригласить пообедать.
Филипп не заметил, как вошел Ганс. Увидев его в зеркало, он сказал:
— Что вас с утра пораньше мучит, Ганс?
— Ничего, господин полковник, как раз ничего, — отозвался старик.
— Я же вижу по вашему носу, что вы озабочены, — пытаясь сберечь хорошее настроение, настаивал Филипп.
Ганс усмехнулся и машинально дотронулся до носа.
— Вы намекаете на мой большой нос?
— Ничуть! Я вижу, что вы в самом деле озабочены.
— Просто я немного устал после ночного дежурства. Я принес вам зажигалку, которую вы забыли в Габиной комнате. Она просила вам ее передать…
— Неужели она так рано ушла из отеля?!
— Скоро полдень, господин полковник, — заметил Ганс, пряча улыбку, подошел к окну и раздвинул тяжелые плюшевые драпировки. — Все утро вас внизу в холле ждет какой-то нищий…
— Нищий?! — удивился Филипп.
— Судя по одежде, он инвалид войны. Просил сразу же вас разбудить или пустить его к вам наверх.
— Инвалид… — задумчиво проговорил Филипп, надевая костюм. — Не знаю такого.
— Ему известно ваше имя и звание. Он терпеливо и упорно ищет вас. Видно, он принес важное известие. Может быть, его кто послал… — Филипп задумался. — Если угодно, я прогоню его?
— Нет, Ганс, вы правы, его, наверное, кто-то послал, и будет лучше, если я его приму… Зовите его сюда…
Ганс хотел было что-то сказать, но Филипп предвосхитил его замечание:
— Надеюсь, не это вас озаботило?
Ганс, пожав плечами, покачал головой. Было очевидно, что он не решается сказать ему, о чем думает. Положив зажигалку на столик, он направился к двери. Филипп подскочил к нему и взял его за руку.
— Вы, верно, не все сказали мне? Как, говорите, он выглядит? — спросил он, вспоминая нищего, который вчера вечером караулил его перед кабаре, и его странное поведение. Решив, что это, может быть, тот самый человек, он нетерпеливо повторил свой вопрос: — Как выглядит тот человек, Ганс?
Ганс смотрел ему прямо в глаза. Он помолчал, словно колеблясь, а затем сказал:
— Таких нынче вы можете увидеть на каждом углу. Бедняга в солдатских обносках… Но мне кажется, человек этот не принадлежит к числу ваших друзей.
Рука Филиппа, державшая старика под локоть, опустилась, лицо побледнело.
— Я их жду, — произнес он по-сербски сквозь стиснутые зубы.
— Простите, не понял, — смущенно сказал Ганс.
— Пошлите этого человека сюда, — сказал Филипп и чуть не вытолкнул его за дверь.
Ганс попробовал что-то сказать, но тот закрыл дверь перед ним.
Спустя минуту-две в дверь постучали.
Филипп сунул за пояс револьвер и застегнул пиджак. Затем он быстро опустил плотную Штору и отрывисто скомандовал:
— Войдите!
Дверь тихо отворилась, и вошел тот самый инвалид, которому вчера вечером он бросил из такси несколько шиллингов.
— Вы меня ищете? — обратился он к нему по-немецки и недоверчиво смерил его взглядом.
Глаз нищего моргнул, не привыкший к полумраку комнаты. Не ответив даже мимикой, он быстро закрыл за собой дверь. Став по стойке смирно, козырнул и обратился на сербском языке:
— Да, господин полковник! Я вас ищу…
Его чистый сербский язык с провинциальным произношением смутил и обеспокоил Филиппа. Уже не было сомнений в том, что его преследователи все тщательно продумали.
Он положил руку на револьвер.
— Что угодно? — строго спросил он.
— Я друг капитана Милутина Радича, — тотчас же ответил нищий, немного растерявшись. — Меня зовут Лазар Симич, унтер-офицер запаса. Капитан, вероятно, рассказывал вам обо мне, господин полковник…
Филипп сразу же вспомнил эти имена, но этого еще было недостаточно, чтобы доверять пришельцу. Внешний облик калеки сбивал с толку. Трудно было представить, что это унтер-офицер югославской армии — мешала немецкая форма.
Капитан Радич рассказывал ему о нем, как о весьма уважаемом человеке и верном друге, но никто не упоминал, что унтер-офицер — инвалид войны.
— Я знаю унтер-офицера Симича, — сказал Филипп, шагнул назад и, резко отдернув штору, крикнул, выхватив револьвер: — Говори, кто тебя послал!
Нищий дернул головой, отстраняясь от снопа света, который ударил ему в глаз, и, увидев револьвер в руке Филиппа, испуганно улыбнулся. Однако вместо того, чтобы сказать что-нибудь, неторопливо стал снимать повязку с лица. Показался второй здоровый глаз, он заморгал и заслезился от боли, которую причинял ему дневной свет.
— Надеюсь, вы никого не ждете? — спросил, оглянувшись на дверь.
Филипп молчал. Пытаясь скрыть смущение, он стоял у окна с нацеленным на Симича револьвером. Нищий между тем ловко расстегнул китель и высвободил искусно замаскированную левую руку.
— Объясните наконец, что означает этот маскарад! — зло выкрикнул Филипп, пряча револьвер.
Нищий вновь встал по стойке смирно. Теперь — без кителя, лысеющий, обросший серой щетиной — он выглядел куда более несчастным, чем тот «инвалид», который культей и единственным глазом вымаливает подаяния, кляня свою злосчастную судьбу.
— Я думал, капитан Радич говорил вам все обо мне, — сказал он прерывающимся голосом. В этих словах робкой защиты слышался вопль сломленной человеческой гордости. Опустив голову, словно сам хотел увидеть свой жалкий облик, он добавил: — Нет, наверное, не говорил… Капитан не мог вам этого сказать… Он был взбешен, когда узнал, каким ремеслом я промышляю.
Филипп подошел к нему. Он готов был плюнуть ему в лицо, как самую последнюю мразь выбросить за дверь, чтобы его проклял сербский род. «А за что?» — спросил он себя, увидев слезы в глазах Симича и свое собственное лицо, склоненное над унитазом, куда он спустил свой ничуть не меньший позор.
И нищий распрямился. Расстояние между ними было слишком мало, чтобы можно было обманывать друг друга. Больше им нечего было скрывать. Симич готов был отвечать на любой вопрос ощетинившегося полковника. И тем не менее молча стоял перед ним, всем своим оцепеневшим телом и пригнутой головой являя немой укор в ответ на невысказанную ругань и брань за то, что посрамил свой род и замарал воинскую честь. И в какой-то момент он пожалел, что полковник молчит, не выспрашивает, что довело его до такого позора.
— Вы считаете, что это позорнее тех дел, которыми заняты сегодня наши генералы? — неожиданно спросил он. — Вы друг капитана Радича, и я скажу вам правду. Здесь почетнее быть нищим в немецкой военной форме, чем югославским эмигрантом. Нас губит наше плохое произношение, господин полковник. О нас говорят, что мы шайка балканских жуликов.
Филипп поднял голову. В его глазах больше не было упрека; выражение его лица уже не говорило о желании рассчитаться ни с ним, ни с самим собою. Однако нищий неправильно истолковал этот взгляд и неожиданно замолк, а потом уже тише сказал:
— Простите…
— Не хотите ли рюмочку? — спросил Филипп, не поняв, почему тот извиняется.
Удивленный этой резкой переменой, нищий не ответил, Филипп взял со столика бутылку коньяка.
— Надеюсь, Радич написал тебе из дома, — сказал Филипп, наполняя рюмки. — У тебя есть что-нибудь ко мне?
Симич, уже натянувший на себя свой солдатский китель, медленно застегивал его. Филиппу показалось, что гость не слышал его, и, подавая ему рюмку, он повторил:
— У тебя есть ко мне что-нибудь от Радича? Как он там?
Лазар медленно поднял голову. Лицо восковой бледности, в глазах мрачный огонек. Сквозь зубы проговорил:
— Капитан мертв!
Филипп выпустил рюмку. Она упала на мягкий ковер, подпрыгнула и откатилась под кровать, оставив лужицу коньяка. Рука застыла, пальцы свело, точно он все еще держал рюмку.
— Мертв?
— Убит…
— Не может быть! Он уехал с паспортом. Посольство гарантировало, что как возвращенцу ему ничего не будет.
— Его убили наши, господин полковник.
— Наши?! — повторил Филипп. Рука его бессильно повисла, но пальцы все еще оставались скрюченными.
Лазар опустился в кресло. Руки его дрожали, и он никак не мог достать сигарету из коробки.
— За день до отъезда его нашли зарезанным, — сказал он, с трудом выговаривая слова. — Нашли его в канале возле отеля «Континенталь». В центре города, господин полковник…
— Убили Милутина, — повторял словно бы про себя Филипп.
— Я теперь боюсь идти в посольство за своими документами, — прерывающимся голосом сказал Симич. — Они зарежут и меня…
Филипп достал рюмку из-под кровати. Молча налил в нее коньяк. Все это он делал механически, не замечая, что коньяк льется через край и течет по костюму. Перед его взором стояло лезвие ножа, сразившее капитана Радича. В блеске ножа он видел лицо Васича с холодной циничной усмешкой. Он слышал даже его голос: «Филипп, наша борьба будет долгой и беспощадной… У тебя нет выбора… Ты наш…» Он почувствовал его близость в своей ненависти, бившей ключом, и в тревоге от бессилия, что не может встретиться с ним.
Симич с удивлением и опаской смотрел на него. Полковник казался ему еще более несчастным, чем он сам; Филиппа же ввергала в ужас мысль, что и его может постичь участь капитана.
Человек, державший ключи от судьбы Филиппа, в это время был всего лишь в двух трамвайных остановках от него. На той же улице, но в доме без номера, с необычным и непонятным обозначением на двери, от которого прохожие отворачивались, сытые солдатскими забавами. Васич в этот день размахивал знаменем задремавшей войны.
Низенький и тощий, с шелушащейся кожей на лице и руках, он казался совсем плюгавым, когда сидел в огромном плюшевом кресле. Его голова была на одном уровне со столешницей массивного письменного стола. Но это нисколько не смущало его. Напротив, он держался надменно. Своими блекло-голубыми глазами он цепко впился в собеседника и быстро, но не очень разборчиво тараторил на чистом немецком языке.
— …Я говорю с вами как специальный представитель его величества короля и нашего правительства! Прошу вас понять всю серьезность моей миссии…
Человек, сидевший по другую сторону стола в позе Бонапарта, выпрямился на стуле с высокой спинкой. Покусывая толстую сигару, сказал:
— О да! Я вас слушаю. Мы уведомлены о вашем прибытии из Парижа… Прошу вас, продолжайте…
Васич ощетинился.
— Я не дипломат…
— Господин генерал, нам не нужен дипломатический язык, — произнес человек по ту сторону стола.
— Тем более, — подхватил Васич. — Будем говорить прямо. Мы считаем, что наше дело слишком затягивается, а последствия, к сожалению, нерадостные. Мы даем коммунистам время, позволяем им собраться с силами. Надо ли говорить вам о терроре в моей стране, о невинной крови, о страданиях народа, который в отчаянии вопиет, ожидая истинной свободы. Наступил решающий момент для моей родины! Вы понимаете меня?
— А вы сомневаетесь, генерал?!
— Тогда помогите нам в самый кратчайший срок сосредоточить наши силы. Обезглавленным коммунистическим вождям потребуется еще много времени, чтобы собраться с силами после распри со Сталиным. Мы глубоко убеждены, что Сталин не только закроет глаза на события в Югославии, но будет благодарен нам за ликвидацию режима Тито. В общем, весь мир воспримет это как сведение счетов народа с правительством, навязанным ему террором. Вы так не думаете? — Глаза его сверкнули хитрым блеском.
Человек по ту сторону стола поерзал на стуле, что-то пометил в блокноте и строго сказал:
— Я уполномочен выслушать ваши предложения…
Васич побледнел, криво улыбнулся. Помолчал, как бы собираясь с мыслями, и вдруг взорвался:
— Дайте нам полигоны вместо лагерей для перемещенных лиц, куда вы согнали наших солдат! Из-за несогласия определенных личностей огромное число наших людей остались неорганизованными именно на той территории, где могла быть сконцентрирована основная часть наших людей. Коммунисты используют и эту нашу слабость. Их посольство через отдельных агентов и, к сожалению, через известную часть местной печати ведет агитацию за возвращение переселенцев на родину, и особенно бывших военнопленных. Тут мы беспомощны. Безвольные и колеблющиеся отзываются. Верно, мы их третируем как армейских дезертиров и принимаем соответствующие меры, по этого мало. Дайте нам полигоны и оружие! Только это нужно нам!
Человек по ту сторону стола долго записывал. Васич ерзал в плюшевом кресле, нетерпеливо взглядывая на него. Казалось, он только сейчас почувствовал, насколько огромно кресло и как жалок он в нем. Человек по ту сторону стола кончил писать и тяжело поднялся со стула.
— Я доложу о ваших предложениях, — сказал он.
— Буду ждать вашего приглашения в самое ближайшее время, — уже мягче сказал Васич.
Расстались они неприязненно. Васич, хотя с этого важного свидания должен был уйти, очевидно, недовольным — дело-то было выполнено лишь наполовину, — покинул канцелярию, как подобает генералу. Хозяин, проводивший его до середины канцелярии, вздохнул с облегчением, когда дверь за ним закрылась.
В стекле большого окна отражались силуэты десятка мужчин. Они сидели полукругом и молчали. Курящие развлекались сигаретами. Остальные оцепенело таращились прямо перед собой, терпеливо дожидаясь услышать то, ради чего их сюда позвали. Необычайную тишину время от времени нарушало позвякивание металлического предмета о фарфор.
Человек с треугольным лицом, передавший Филиппу в поезде анонимное письмо, стоял в стороне, прислонясь к стеклянным дверям, отделявшим салон от спальни. Атмосфере напряженного ожидания он задавал тон мистерии, на которую собрались фанатики. Скрестив руки на груди, он недоверчиво стрелял выпученными глазами по лицам этих людей, словно поставлен был для того, чтобы джинновским ростом напоминать им о соблюдении спокойствия. Всем своим видом он хотел создать впечатление о себе как о личности, посвященной в тайны мистерии. Толстые губы — к ним лепился погасший и влажный окурок — кривились в презрительной ухмылке.
Васич сидел у самого окна, склонившись над столиком с обильным завтраком, с которым он задержался из-за своей важной встречи. Он ел неторопливо, тщательно пережевывал каждый кусок, словно испытывая терпение своих гостей. Был он в генеральской форме, сшитой у лучшего портного, угадывающего желания и капризы своих заказчиков. В ней он казался гораздо выше и шире! Сейчас он был сдержанно строг, что было несвойственно его вспыльчивой и злобной натуре. Дожевав последний кусок, он запил его большим глотком красного вина и закурил.
— Я требую, чтобы в самый кратчайший срок мне подготовили этот список, — сказал он, словно продолжая свою мысль.
Головы сидящих перед ним задвигались, стулья заскрипели — и вновь наступила тишина. Человек с треугольным лицом неслышно, словно тень, подошел к Васичу, поднял столик с грязной посудой и вынес его из салона.
— Как вы понимаете, — продолжал Васич, — мне нужны имена всех тех типов, которые обратились в коммунистическое посольство с просьбой о возвращении…
— Господин генерал, — поднялась одна голова, — смерть капитана Радича — отличный урок для этих предателей!
— Это было проведено хорошо! — одобрил Васич. Затем прокрался взглядом мимо голов и остановил его на лице с окладистой, заботливо ухоженной бородой. Тонкие губы Васича растянулись в сдержанной улыбке. Он сказал: — Господин воевода, указ о вашем назначении командующим специальным корпусом в составе армии его величества за рубежом будет вручен вам специальной почтой. В состав вашего корпуса войдут члены всех четнических[69] организаций, находящихся в этой стране.
— Передайте мою благодарность королю, — сказал воевода с достоинством.
Васич поднялся с кресла, потянулся, затем обошел кресло и встал за ним, опершись на мягкую спинку. Стерев с лица холодную улыбку, адресованную воеводе, он обратился ко всем:
— Специальный представитель с полномочиями правительства скоро отправится в страну. Господа, я сожалею, что не могу сообщить вам ничего более, прежде чем он пересечет границу и установит необходимые контакты. Прошу вас соблюдать наставления и инструкции, которые вы получили. Помните о важности впечатления, которое производят на союзников и друзей наши действия. На сегодня все, господа! Заседание окончено! До свидания!
Не дожидаясь, пока присутствующие простятся с ним, он быстрым шагом направился к дверям, ведущим в спальню.
— Господин генерал, — обратился к нему воевода.
Васич сразу же остановился, но поворачивался очень медленно.
— Да, воевода?
Воевода не двигался. Лишь когда все удалились, он, сохраняя достоинство, подошел к Васичу.
— Я ждал, что сегодня будут рассмотрены финансовые вопросы…
Васичу стоило больших усилий сохранять спокойствие.
— Дорогой мой воевода, финансовые вопросы отложены до определенного времени…
— Но вам ведь хорошо известно мое…
— Извините, я полагал, вы имеете в виду финансовые вопросы организации…
Воевода пожал плечами.
— Ну… я имел в виду вообще наше финансовое положение здесь, в Вене… Естественно, я прежде всего должен думать о своем положении и своем авторитете… Льщу себя надеждой, что и король думал об этом, когда назначал меня командующим специальным корпусом…
Васич, дойдя до середины салона, неожиданно повернулся к своему телохранителю:
— Милош, оставь нас одних! Садитесь! — кивнул он воеводе.
Воевода недоверчивым взглядом проводил Милоша и неспешно опустился на стул.
— Надеюсь, вы понимаете, в каком положении я нахожусь, — сказал он, несколько смущенный. — Я намеревался обратиться к вам с предложением отправить меня в Париж, чтобы изложить ситуацию правительству или лично его величеству…
— Я бы не хотел сегодня обсуждать этот вопрос, но, поскольку вы настаиваете…
— Мне бы хотелось только напомнить вам…
— Деньги вы получите, — оборвал его Васич, — если угодно, сейчас же. Кстати, я вынужден с вами выяснить еще кое-какие детали, касающиеся финансовых дел…
— Если вы торопитесь, господин генерал, мы можем побеседовать в другое время, — уступчиво сказал воевода, приподнимаясь со стула.
— Мне казалось, вы настаиваете на этом, — хитро усмехнулся Васич. — Я к вам хорошо отношусь. Прощу вас, выслушайте меня. Учитывая положение, которое вы занимали и которое будете занимать, вместе с тем принимая во внимание ваши личные заслуги в борьбе, которую вы вели против коммунистов в нашей стране, король и правительство приняли решение предоставить вам постоянный апанаж, в размере, предоставляемом члену правительства…
— Милость королевская безгранична, — приниженно отозвался голос из бороды. — Его величество знает, что я был верен ему и буду служить его короне до последнего вздоха…
— Рассчитывая на это, я должен от его имени передать вам следующее, — невозмутимо продолжал Васич. — Наше правительство вступило в довольно острый конфликт с теми, кто поддерживает наши действия. Надеюсь, вы догадываетесь, что речь идет о наших союзниках и о финансах. Их разведывательная служба располагает сведениями, что ваши люди, покидая страну, с согласия немцев вывезли огромное количество золота…
— Это наполовину ложь, а вторая половина придумана разведкой, чтобы отличиться, — резко возразил воевода.
— А если это подтверждают и ваши люди?
— Какие это мои люди?!
— Те, что переносили ящики с золотом…
— Впервые об этом слышу. — Воевода перекрестился. — И где же теперь это золото?
Васич достал пачку сигарет и подошел к нему.
— Прошу, — сказал он, поднося ему открытую пачку американских сигарет. Затем отступил к окну. — В этом мы должны будем разобраться на следующем заседании. Хочу также выяснить еще кое-какие детали в связи с этим. Золото и прочие ценности, вывезенные из страны, должны быть переданы правительству. Это неукоснительный приказ его величества…
— Уж не полагаете ли вы, что этот приказ относится и ко мне? — едко заметил воевода.
— Мне бы не хотелось в это впутываться, господин воевода. Вы сами разберитесь, но одно я могу сказать: раз вы назначены руководителем всех четнических сил, вы должны ознакомить с приказом личный состав вашего корпуса…
— Но это… — Воевода смешался. — Я прошу вас, мне бы хотелось лично поговорить об этом с его величеством!
— Этого я вам обещать не могу…
— Я прошу вас известить короля о моем желании.
— Подумайте о нашем разговоре. — Васич пожимал его вялую руку. — У нас будет возможность детально обсудить этот вопрос. Задача, которую вы должны будете взять на себя, в самом деле весьма деликатна, но… неужели необходимо вас убеждать, дорогой воевода, — улыбнулся он как можно любезнее, отпуская руку воеводы. — Я извещу короля о вашем желании.
— Я думаю, это ваш долг! — ответил воевода и быстро вышел из салона.
Васич с силой выдохнул, выпуская из груди с табачным дымом и свою ярость.
Сухой и холодный день, рожденный где-то в уголке человеческого несчастья, умирал в аллеях венского кладбища. Сумрак привидением наползал на землю, сгущаясь оторванными клочьями на голых ветвях вязов и акаций, длинные ряды деревьев с заплаканными кронами стояли, словно безмолвная процессия, провожающая бледный свет умирающего дня. Лишь над одной свежевыкопанной могилой сумрак поднимался высокой дугой. Он ждал, чтобы отдали последнюю почесть тому, для кого предназначалась эта грязная могила, чтобы потом окутать свежий холм мягким отсыревшим покрывалом, которое здесь пахнет увядшими хризантемами и растопленным воском.
Филипп зябко поежился и перевел взгляд на скромную надгробную плиту, возле которой стоял. На камне под крестом было вырезано имя покойного: «Милутин Радич. 1907—1949».
— Полиция нашла при нем документы, — сказал Лазар. Он стоял согнувшись по другую сторону могилы. — Посольство, наверное, уже сообщило его семье…
Они еще какое-то время постояли молча, затем перекрестились и неторопливо пошли сквозь сумрак.
— В десять вечера жду вас у того бара, — сказал Лазар у ворот кладбища.
— А это не поздно?
— В это время на барже больше всего наших…
Из сумрака приглушенно зазвонил трамвай. Затем послышался скрежет железа и звук шагов, удалявшихся к кладбищенским воротам.
— Извините, мой трамвай, — сказал Лазар.
— Тогда до свидания вечером.
Лазар побежал к трамваю, чуть скособочившись, жалко болтался его пустой рукав. Филипп поднял воротник пальто и пошел к своей остановке.
5
На грязной палубе старой баржи крикливые пьянчуги ругали глухую ночь и поносили бога и мать. Ночь безмолвствовала. Крики приглушала пелена ее слепоты. Распахнув двери, люди ненадолго останавливались, а потом уходили во мрак, размахивая руками и качаясь, словно уплывали по волнам неспокойного моря.
Во мраке ночи темный силуэт баржи походил на водяное чудовище, выброшенное волной на берег. Баржа лежала, уткнувшись в белые песчаные дюны, жалко и беспомощно накренясь одним боком к реке, словно обращалась к ней с предсмертной мольбой принять ее обратно в свое лоно. Кто-то построил ее, чтобы она долго плавала по большой реке. И он вместе с ней. Но однажды явились люди с железными головами. Они говорили о великой страшной войне и установили на ее палубе стальные жерла, извергавшие огонь. Потом настала дикая ночь, когда молнии изломали ее утробу и умертвили людей с железными головами.
В боку старой баржи и по сей день зияла огромная воронкообразная пробоина, в которую неслышно прокрадывался туман и сплетал оболочку для ночной слепоты.
Дом на ее палубе был под большой остроугольной крышей, углы которой упирались в туман. Узкие окна до половины были закрыты оранжево-желтыми занавесками. Сквозь них струился продымленный свет и прилипал к туману. Возле узкого трапа, перекинутого к палубе, была укреплена жестяная доска с надписью «Отечество». Под ней перекосившаяся лампочка, засиженная мухами, освещала вход в помещение.
— Ну, вот вам эта знаменитая баржа, господин генерал, — сказал человек с треугольным лицом.
Васич зажег свет и посмотрелся в зеркальце над ветровым стеклом.
— Я же сказал, Милош, чтобы ты ко мне тут не обращался по званию! — одернул он телохранителя, надевая шляпу.
Милош, увидев многозначительно поднятые брови, удивленно посмотрел на него и глупо расхохотался.
— Ясно, господин генерал!
Они вышли из машины и направились к барже. Оттуда доносились музыка и пьяные крики. Один из захмелевших клиентов «Отечества» стоял возле баржи, запрокинув голову и воздев руки к небу, с вытаращенными глазами и открытым ртом, словно в ожидании прихода святого, который поможет ему освободить утробу от тяжести, приковавшей его к песку. Милош подошел к нему, схватил за ворот и приподнял, словно предмет, мешавший ему на пути. Пьяный заверещал и, болтая ногами и руками, полетел во тьму.
Милош пропустил Васича вперед и пошел вслед за ним по узкому трапу. Позади на песке катался темный клубок, изрыгая в ночь блевотину и брань.
В пьяных облаках грязно-сивого дыма лица людей казались расплывчатыми, а тела, безжизненно распластавшиеся на стульях, словно утратили ощущение реальности своего существования. Мертвенная бледность лиц, давно небритая щетина, сизые носы говорили о начале медленного умирания, сквозь стиснутые зубы прорывался шепот глубоко скрытых желаний, иные же, разгоряченные алкоголем, кидались в неистовое веселье, выхватывая из облаков дыма запахи женской косметики, а некоторые сидели, уткнувшись в потные ладони и не поднимая головы над ссутулившимися спинами. Трезвые спешили напиться, а непьющие, очевидно, в молчании скрывали свои причины столь позднего посещения «Отечества». Четверо, с виду трезвые, сидели со скрещенными на груди руками, словно молящиеся, уставившись на музыкальный автомат. Из него вырывалась песня, которую заглатывали их заплаканные глаза, углубляя на лицах морщины печали.
Ты знаешь мою печаль, Ты знаешь, как мне молодости жаль, —пел дрожащий голос; скрипки придавали песне еще большую грусть, сквозь их звуки точно рвалось последнее прости влюбленного. Алчущие глаза плакали над его печалью и сами жаловались на что-то, что не могла вместить эта мелодия.
За высокой стойкой, у пивного крана хозяин кафаны встал на цыпочки, чтобы разглядеть двух незнакомых посетителей. Стева-Мамуза[70], как его называли, стыдился своего маленького роста и кривых ног и потому редко выходил из-за стойки. Да и лицом он был некрасив, что производило неприятное впечатление на тех, кто не привык к нему. Был он рябым, после перенесенной в детстве оспы, а волосы на подбородке так и не смогли пробиться, и потому кожа казалась увядшей. Но все это нисколько не помешало ему карьеру четника сменить на торговлю, вложив в нее утаенные крохи, собранные под бородой своего знаменитого воеводы, вместе с которым он прибыл сюда. Сейчас его маленькие блекло-голубые глаза беспокойно зыркали.
— Паула, эти из полиции, — сказал он по-немецки девушке со шрамом на левой щеке, стоявшей рядом с ним.
Она не слышала его. Она объяснялась с пьяным, который перегнулся через стойку и, распаленный желанием, с хохотом тянулся, норовя ущипнуть ее за пышные бедра.
— Хозяин, скажите этому мурлу, что я разобью ему голову, — говорила она, отбиваясь от пьянчуги мокрым полотенцем.
Стева обругал пьяного и оттолкнул от стойки. Тот, ухмыляясь, плюхнулся на высокий табурет.
— А правду ли говорят, газда[71] Стева, что в Тироле козлы нападают на женщин?.. — сказал он, уставившись масляным взглядом на огромную грудь Паулины. — Люди говорят, что нашу Паулину козел укусил за щеку… Ну, будь добр, расскажи мне про это диво. Я хочу братану написать, какие чудеса бывают на белом свете…
— Сиди тихо, Саватие, и не мели языком, — процедил зло Стева, а девушке сказал: — Иди обслужи тех господ.
Паула вышла из-за стойки, дерзко улыбнулась пьяному, а проходя мимо, хлопнула его мокрым полотенцем. Он задумчиво смотрел ей вслед.
— Похоже, это правда, — говорил он сам с собой. — Такую метину могут оставить только зубы козла…
Паулина приветливо улыбнулась Васичу и Милошу.
— Что угодно господам?
Их взгляды разминулись. Взгляд Милоша покоился на ее бедрах, а взгляд Васича коснулся ее груди, лишь на мгновение задержался на шраме, нимало не портившем красоту ее белого лица, и вернулся к позолоченному портсигару в своих руках.
— Ром, двойной ром, — сказал он.
— А вам, господин? — обратилась она к Милошу, пожиравшему ее глазами. — Что вам угодно, господин?
Тот словно очнулся, похотливо хихикнул, но Васич взглядом осадил его.
— То же, что и господину… — сказал Милош и тут же осекся.
— Два двойных рома, — уточнил Васич.
— Ну да, ром, Милан, — поправился его телохранитель и поник.
Васич промолчал. Он оценивающим взглядом проводил бедра Паулины, искусно избегавшей прикосновения жадных рук.
Она вернулась за стойку и, наливая ром в рюмки, сказала Стеве:
— Эти господа — ваши земляки. Тот, что постарше, похоже, настоящий господин.
— Черт их тут носит, одолели они меня, — сказал Стева по-сербски и вздохнул.
— Простите, я не поняла, — засмеялась Паулина.
— Я сказал: будь с ними любезна.
Она затянула потуже передник, поправила волосы и понесла ром.
К Стеве подошла девушка лет восемнадцати, в таком же белом переднике, как и Паулина. Она была чуть ниже ее ростом и, видно, куда более разбитная. Мелькнув среди гостей, она надолго оставляла вихрь оживления. Ее улыбка словно освежала тяжелый густой воздух прокуренной кафаны. Все у нее было красиво: начиная с глаз цвета молодого каштана до ног. Никто не знал, как она очутилась на барже. Существовала только одна версия: война. Что в эту войну случилось с ней, не интересовало никого из тех, кто хотел бы провести с ней ночь. Все знали, что зовут ее Джульетта, что она итальянка и ей восемнадцать лет. Гости с баржи многое предлагали ей за улыбку, за юность, за имя. Большинство уже пресытилось именами Инга, Паула, Хильда… А за улыбкой Джульетты пряталась ненависть ко всем мужским именам, на всех языках мира. Но очень немногие знали, что в постели улыбка на ее лице гаснет.
— Синьор Стево, я принесла вам ужину, — сказала Джульетта, стараясь правильно говорить по-сербски.
Он искоса глянул на нее и кивнул. Она улыбнулась ему и направилась к клиенту, постукивавшему пальцами по пустой рюмке.
Пьяный, пристававший к Паулине, перевесился через стойку.
— Что это, Мамуза, неужели итальянка и с тобой такая?! — спросил он с издевкой.
Стева ладонью грубо оттолкнул его голову.
— Ступай, проспись!
— Эх, был бы я ей хозяин, — замотал головой пьяный, — поелозила бы она у меня голым пузом…
Он что-то еще говорил, но Стева не слушал его. Он уселся за столик и не спеша принялся ужинать.
Гость, которого маленькая Джульетта обслуживала за стойкой, высосал последние капли и задержал рюмку у своих помутневших глаз. Тупо, бессмысленно разглядывал он рюмку, словно ища там место для своей отяжелевшей головы. Затем он повернул рюмку и неуверенно опустил на грязно-желтое покрытие стойки, почему-то уплывавшей от него.
— Джульетта, еще, — сказал он спокойно.
— Хватит с вас, синьор, — заметила Джульетта, наполняя рюмку.
Он ее не слышал. Он вслушивался в бульканье вина в бутылке. Джульетта подвинула ему рюмку. Вдруг на ее вытянутую руку легла огромная ручища с узловатыми пальцами и коротко остриженными ногтями с вечной чернотой. Джульетта даже не удивилась. Она посмотрела на ручищу, в которой потонула вся ее маленькая кисть — с запястьем и ладонью — и улыбнулась, будто ждала этого.
— Джульетта, — с губ мужчины сорвался шепот, смешанный с перегаром.
Она взглянула на него с вызовом, словно не прочь была пошутить.
— Но, но, синьор Данило, — проговорила она и, надув губы, без усилия освободила руку.
Пальцы огромной руки сжались. Рука бессильно опустилась на мокрую стойку, напряглась и нежно — как могла — погладила то место, где лежала рука девушки.
— Джульетта… ты ангел, — произнес он, медленно убирая свою ручищу со стойки.
Большая неуклюжая рука ненароком задела стоявшего рядом посетителя.
— Ты что тут размахался своими лопатами?! — взорвался тот.
У человека с большими руками были широкие плечи и маленькая голова, покрытая редкими поседевшими волосами. Изборожденное морщинами лицо — обветренное и загорелое, а глаза под густыми насупленными бровями болезненно мутные.
— Прости, земляк… прости, браток, — сипло сказал он, заглядывая доброжелательно соседу в лицо, и покачал головой. — Что-то не признаю я тебя, браток…
— И я тебя не признаю, — оскорбленно закивал пьяный.
— Я — Данило, Данило Вулич. — И он дружески протянул свою ручищу.
Пьяный, глядевший в пустую рюмку, не заметил протянутой руки. Голова его опять начала клониться книзу. Данило облокотился на стойку и грустно смотрел на свои руки. Раздвинув пальцы, он принялся шевелить ими, точно желая снять скрутившую их судорогу.
— Вот видишь, друг, — выдавил он глухо, словно что-то душило его. — Джульетта думает, что я их не мою… Она не знает, что это уголь въелся в кожу.
Подошла Джульетта и наполнила рюмку пьянчуги, настойчиво пытавшегося избежать столкновения своей отяжелевшей головы со стойкой, которая сама приближалась к нему.
— Джульетта, — робко позвал Данило, точно побаивался громко произнести ее имя.
Девушка не откликнулась, не слышала. Она вытирала стойку и озорно кому-то улыбалась. Задетый ее невниманием, Данило придурковато затряс головой, вцепился в лацканы своего пиджака, прихватив и рубашку, и вдруг рванул все на себе, обнажив волосатую грудь. Две пуговки покатились по стойке и упали к ногам Джульетты. Он засопел и, придерживая руками порванную рубашку, медленно перевел взгляд на свою грудь, где был вытатуирован распластавший крылья орел. Взглянув на Джульетту, он понял, что ему удалось завладеть ее вниманием, и улыбнулся.
— Ну, Джульетта, видишь его? — гордо спросил он и заиграл мышцами груди.
Орел замахал крыльями.
— Застегнитесь, синьор Данило… — сказала она, недовольно покачала головой и отошла к другому концу стойки.
Данило обиженно натянул рубашку на грудь, взъерошил волосы на голове и повернулся к стоявшему рядом человеку.
— Видишь, земляк, — сказал он со вздохом, — видишь, отвернулась от меня… А я ее люблю, хотя она и курва. Она это хорошо знает, итальянский ее бог… Все бы отдал, только бы приласкала она меня этими своими крохотными ручонками…
— Все они курвы, — захлюпал пьяный. — Чуть почувствует, что ты к ней с душой, так шкуру с тебя готова спустить, а сама даже к потным подмышкам не даст приложиться…
— А может, она не верит, что у меня есть деньги, может, думает: кто он такой? Данило Вулич, портовый Kohlenträger[72], весь провонял углем и никогда не моется… По чести говорю тебе, кожу сдирал ради нее. Она мне раз сказала, что боится этой моей птички. — Он опять распахнул рубашку. — Видишь… Красивая птица… Иголкой намалевал мне один цыган, а теперь и хочу, да не могу стереть…
— Мало ли что она говорит… Врет, что боится…
— Оговаривает ее эта наша шваль, а мне твердят: вырежи, Данило, этот кусок кожи, и Джульетта твоя. — Он заскрипел зубами. Обернулся, поискал взглядом Джульетту.
Пьяный ушел, а его место занял новый гость — щегольски одетый молодой человек.
— Где же девушки? — обратился молодой человек к Стеве.
Джульетта направилась к нему, но Данило преградил ей путь, ухватившись за стойку.
— Погоди, — сверкнул он глазами.
— Будьте любезны, синьор Данило, — улыбнулась она ему.
— Погоди, раз говорю тебе!
Она прислонилась к стойке перед ним и спокойно посмотрела ему прямо в глаза.
— Скажи, это правда, что болтают? — спросил он, моргая полными слез глазами. — Я все сделаю ради тебя, клянусь, все…
— Вы о чем, синьор Данило?
— Ты знаешь о чем… Вот глянь. — Он распахнул рубашку, схватил пальцами татуированную кожу и стал ее крутить, крылья у орла поникли, а голова захлебнулась в крови, собравшейся под зажатой кожей. — Гляди, Джульетта, я вырву клок этой кожи. — Брови его сошлись на переносице от боли, которую он заглушал желанием подольше держать возле себя девушку и показать ей, на что он готов ради нее.
Она передернулась и отвернулась.
— Не делайте этого, синьор Данило… — сказала она с искренним сочувствием. — Они вас обманывают, а я пошутила… Я не боюсь вашей птицы.
Данило медленно натянул рубашку, наклонился над стойкой и заговорил:
— У меня есть деньги… Я копил, Джульетта! Я берегу их для тебя…
— Не надо, синьор Данило, мне не нужны ваши деньги… Поищите другую девушку. — Она погладила его по руке, улыбнулась ему и повернулась к гостю, с нетерпением ее ожидавшему. — Что угодно синьору?
Тот попытался взять ее за подбородок, но она оттолкнула его руку.
— Виски, — сказал он, напуская на себя важность, точно ему и дела до нее нет.
Данило, не заметивший, что рядом оказался другой гость, теперь, после заявления Джульетты, с еще большим отчаянием, пряча глаза под насупленными бровями, говорил:
— Боюсь, браток, как бы и со мной не случилось того, что случилось с Учо… Свихнулся человек из-за бабы…
Молодой человек отстранился от повеявшего на него перегара и, морщась, сказал:
— Отстань от меня, браток… Вон тебе итальянка, ей и скажи,, что тебе приспичило… а лучше смотай-ка ты, братец мой, к реке, да остуди свою горячую голову в холодной воде…
Данило недоумевающе посмотрел на него, но ответить не успел — около них оказался Стева и оттолкнул Данилу от молодого человека.
— Не приставай к моим гостям, Данило! — сказал он, беря его за ворот пальто. — Иди домой…
Данило перехватил его руку и сжал у запястья.
— Не лезь мне в душу, газда Стева, — сказал он, глядя куда-то поверх его головы.
Рука Стевы посинела, лицо искривилось от боли.
— Если хочешь, чтобы я тебе посодействовал у Джульетты, пусти мою руку и уходи, — простонал тот, пытаясь высвободить запястье. — Знаешь ведь, что не любит она, когда ты пьяный…
Узловатые пальцы Данилы ослабли. Стева, растирая посиневшую руку, пробормотал со злостью:
— Мог ведь кости переломать, дурак… Катись!
— А то, что ты мне обещал? — затрепетал Данило, недоверчиво заглядывая в безобразное лицо Стевы.
— Ты иди, а я с ней потолкую.
— Позови ее, я только скажу словечко и тут же уйду, клянусь.
Стева позвал Джульетту, сделал ей глазами знак и удалился, все еще потирая запястье.
— Вот видишь, Джульетта, — залепетал Данило, — я должен идти… мне надо на воздух. Потом опять приду. Приду перед закрытием, и мы вместе пойдем в город… Я провожу тебя домой… Ты же знаешь, эта шпана, как напьется, может тебя и обидеть…
Она погладила кончиками пальцев его руку. Потом улыбнулась, сощурив глаза, и улыбка эта была такая целомудренная, что Данило почувствовал себя счастливым. Завороженный ее улыбкой, он нежно поцеловал ей руку. Он постоял еще немного, словно перед иконой, повернулся и пошел сквозь дым, унося во взгляде пригоршню надежды, собранной с мягкой кожи ее белой руки.
Джульетта смотрела ему вслед и не подозревала, что, позволив поцеловать руку, сделала его поистине счастливым. Удивленно пожала плечами и занялась своими делами.
Дым становился все гуще, а из общего гула вырывалась брань и истошные выкрики. Приближалась ночь, и теперь кафана полностью отвечала своему назначению — быть местом забвения тоски по утраченному. Поставив локти на стол, Васич маленькими глотками потягивал из рюмки ром и отгонял дым, недовольно потряхивая головой. Сперва он был немного смущен тем, что привлек к себе внимание завсегдатаев этой грязной корчмы, теперь же кипел от ярости и отвращения. Эти непромытые посиневшие лица в его глазах утрачивали индивидуальность и казались ему колышущейся студенистой массой, пролитой на замызганный пол кафаны и источающей гнилостный запах мусора, который пора выбросить в Дунай. Короче, утопить. Он готов был взять на себя этот грех, исполнить это: оттащить баржу от берега и утопить. Сделал бы он это с легким сердцем — потопил бы баржу вместе с теми, кто сейчас был на ней; он потопил бы все баржи со всеми, кто потерял убеждения и веру, стал гнилью, способной скомпрометировать их дело и вызвать чувство огромного разочарования у тех, кому он и его правительство обещают армию антикоммунистических избранников.
В глубине души он уже сознавал, что гниль подтачивает то, что он считал несокрушимым. Милоша не было рядом: на столе стояла его пустая рюмка и лежала непогашенная сигарета, про которую тот забыл, уходя в туалет. Стремясь избавиться от тягостных мыслей, Васич улыбнулся рюмке Милоша. Он считал Милоша глупейшим человеком на свете. Когда бы он ни думал о нем, он всегда представлял себе такую картину: в маленьком черепе нет и намека на мозг, а есть нечто выполняющее функции памяти, которая в состоянии при помощи чужих команд управлять огромным телом. Случалось, он завидовал ему, так как видел практическую пользу от этой ограниченности: Милош был твердым как дуб, не поддающимся воздействию повседневных впечатлений, оказывающих влияние на настроение нормальных людей. Васич, погруженный в свои невеселые думы, не заметил, как вернулся Милош.
А тот терпеливо дожидался, пока Васич поднимет на него взгляд и, растянув рот в довольной улыбке, сказал:
— Все устроено, господин…
Васич молчал, он смотрел на его низкий лоб и сравнивал ценность его головы с теми головами, что маячили в дыму. «Мой Милош, мы бы наверняка победили, если бы все эти подонки хоть чуточку были похожи на тебя…» — подумал он и, улыбнувшись ему, сказал:
— Милош, ты чувствуешь, как эта барсучья нора смердит?
Тот посмотрел на него растерянно, засмеялся и, напустив на себя важный вид, задумался. Васич похлопал его по руке. Он видел, что Милош его не понял.
— Нам пора.
— Сейчас пойдем, господин… Я все устроил. Хозяин ждет нашего знака…
— Хорошо, сделай это без шума. Не хочу, чтобы нас заметили.
Едва они поднялись с места, как возле них появилась Джульетта и поставила на стол две большие рюмки рома.
— Это вам от хозяина, синьоры, — сказала, задерживая взгляд на Васиче.
Генерал смутился от ее озорной улыбки, уши его заметно покраснели, однако он сразу взял себя в руки — из опасения, как бы девушка каким-нибудь образом не выдала его намерения. Хотя он был почти уверен, что хозяин кафаны пойдет разносить историю об одной уважаемой личности, которая «инкогнито» посетила его заведение, а он встретил его как подобает, и дальше все по порядку, вплоть до Джульетты, тем не менее он не хотел дать этому сброду никакого повода, чтобы в нем, бывалом генерале, они увидели свой образ и подобие. Однако Джульетта — ей, очевидно, было сказано, что она имеет дело с некоей весьма уважаемой личностью, — лишь с любопытством смотрела на него во все глаза, ей и в голову не приходило допустить какую-нибудь вольность. Но легче ему стало лишь тогда, когда она опять озорно улыбнулась и подмигнула, словно говоря: «Не тревожьтесь, уважаемый господин, я свое дело знаю…» И спокойно отошла.
Взъерошенный и продрогший, Данило, точно привидение, поднялся из груды пустых пивных бочек, сваленных возле баржи, и как слепой зашагал во мглу. Придерживаясь руками за борт баржи, он приближался к трапу, откуда слышались мужские голоса. Наверху блеснул огонек и раздался женский смех. Он остановился и вслушался. Голос показался ему знакомым, когда смех зазвучал вновь, он убедился, что это смех Джульетты. «Господи, неужели я проспал, — подумал он и заторопился, цепляясь за ящики и доски. — Я здесь, Джульетта, я сейчас…» Возле трапа он споткнулся и упал, ударившись головой обо что-то железное. В глазах потемнело, а мгла словно уплотнилась и стала какой-то липкой, затрудняя дыхание. Он чувствовал, как теплая кровь струится по лицу, по телу бегают мурашки, дрожат руки и ноги. Он обмяк, оглох и больше не слышал голоса Джульетты. Он попробовал было крикнуть, но только захрипел и выплюнул песок.
— Я здесь… иду, Джульетта, — простонал он, затряс головой и поднялся на колени.
Огонек наверху все еще блестел, но голосов уже не было слышно. «Эх ты, глупый Данило, эх ты, голова садовая…» Он заплакал, закрыв лицо вымазанными кровью и песком руками.
Дверь на барже отворялась. Он слышал какие-то голоса, но ему было все равно, он не хотел ни слышать, ни видеть. Он хотел умереть. «Сдохни, горе горемычное, если ты такой никчемушный, — проклинал он себя. — Девушка просила тебя подождать… Джульетта… А ты что о себе думаешь: кто ты такой? Данило Вулич, колентрегер, а она парней не тебе чета прогоняла… Тьфу! — Он сплюнул и с силой шлепнул себя по губам. — Тьфу! Рот твой шелудивый… Только для жратвы тебе бог его и предназначил!..»
— Да, да, Джульетта! — произнес мужской голос.
Данило вскинул голову. Это был голос Стевы. Данило на коленях подполз поближе к трапу и затаил дыхание. Да, назвали ее имя. На миг подумал, не ослышался ли. Может, это не ее голос. Может, Паулина?
— Есть, господин генерал, — сказал Стева. — Она говорит по-сербски, точно родилась в моем Чачке. За два года выучила наш язык.
Данило стал на ноги и прислонился к борту баржи. Теперь он видел их силуэты. Темноту разрывал свет с дороги, да и у трапа было чуть светлей.
— …Что вы, господин генерал, ради бога, — вертелся Стева вокруг Васича. — Конспирация — основа нашего дела. Да и из-за всего прочего…
— Я на вас рассчитываю, — сказал Васич, протягивая ему руку. — Спокойной ночи.
— Спасибо, спокойной ночи, господин генерал…
Васич направился к дороге, а Стева зябко потер руки и стал подниматься по трапу. Данило, выскочив из темноты, ухватил его за ногу. Тот оцепенел от испуга, дико вскрикнул.
— Где Джульетта? — спросил Данило.
Стева немного пришел в себя и заорал:
— Пусти ногу, скотина! Я уж подумал, что черту на хвост наступил. Ты совсем спятил! Шатаешься, как дьявол, по ночам… Идите вы к… и ты и твоя Джульетта! До смерти напугал!
— Скажи, где Джульетта? — с мольбой в голосе повторил Данило и отпустил его ногу.
— Ушла.
— Куда?
Стева посмотрел в сторону дороги. Пятна света завивались в спираль. Медленно описали дугу, блеснули однажды и стали удаляться. Он хитро засмеялся.
— Поехала домой, — сказал он. — Ты же знаешь, в это время она уходит домой…
— А сколько сейчас времени? — полным отчаяния голосом спросил Данило.
— Скоро рассвет, — ответил тот и вошел в кафану.
Данило схватился за голову, затем стремительно зашагал во тьму, отдавшись своей печали. У груды пивных бочек остановился, сел на одну из них. Он смотрел на дорогу, на тот далекий свет, что терялся во мгле. Ему показалось, что это день начал поднимать покрывало ночи. Он заплакал, закрыв лицо руками.
Джульетта играла выключателем, сидя на заднем сиденье машины, и не сводила глаз с Васича. Делала она это, откровенно испытывая его терпение. Любой другой на его месте предпринял бы что-нибудь против этого раздражающего мигания. А он терпел, спокойный, с блуждающей улыбкой на губах. Он сидел в другом углу машины, на приличном расстоянии от нее. Бесстрастно смотрел на однообразный горизонт, расступавшийся в сером тумане перед светом машины. Милош прямо и неподвижно сидел за рулем и, казалось, спал, а руль поворачивался сам собою.
Из приемника звучала итальянская музыка.
— Я слышал, вы отлично говорите по-сербски, — сказал Васич.
— Вас обманули, я часто ошибаюсь в падежах…
— Каждый второй серб ошибается в падежах, — успокоил он ее.
Они снова замолчали. Она не прекращала щелкать выключателем.
Он покачал головой, вытащил пачку сигарет и предложил ей.
— Спасибо, я не курю, — сказала она. — Вы мне скажите, для чего вы взяли меня с собой?
Васич засмеялся. Он был доволен, что в этот момент свет был выключен. Он почувствовал, как кровь прилила к лицу.
— Этого я вам не скажу…
— Надеюсь, я вас не обидела?
Опять помолчали. Теперь автомобиль шел медленнее. Они ехали по венским улицам, и здесь реки тьмы расступались перед ними, как и там, в поле.
— А может быть, вы их новый король? — совершенно серьезно спросила девушка. — Газда Стева так мне рассказывал о вас, что я вынуждена была подумать…
Он от души расхохотался. И Милош смеялся, стискивал губы, чтобы не слышался его смех, но она поняла это по его вздрагивающим плечам. Обиженно надула губы, поджала колени и с ногами забралась на сиденье.
— Король! Ты слышишь, Милош?! — сквозь смех проговорил Васич.
Джульетта смотрела на них с недоумением и наконец рассмеялась. Теперь они хохотали все трое до тех пор, пока Васич не заметил, что его телохранитель в зеркальце не сводит глаз с ее оголенных коленок. Он сказал несколько слов на таком сербском языке, что она не смогла понять ничего, но из того, что затем последовало, сообразила, что человек, которого она назвала королем, чем-то задет. Милош резко прибавил скорость. Руки его крепко вцепились в руль, а могучая шея стала багровой, как панцирь огромного рака. Лицо Васича показалось ей суровым и таким строгим, что она уже не могла представить его себе смеющимся, каким оно было минуту назад. Однако, когда глаза Васича встретились с ее растерянным и испуганным взглядом, губы его вновь растянулись в улыбку.
— Простите, — сказал он. — Милош немного отвлекся, и мы чуть не врезались в витрину магазина…
Джульетта, удивленная, озорно вытаращила глаза и залилась звонким смехом.
— Это было бы очень забавно…
Он придвинулся к ней. Смеясь вместе с ней, погасил свет и положил ей руки на колени.
Милош передернул своими широченными плечами и включил приемник.
Данило рукавом вытер нос и повернулся к человеку, стоявшему рядом с ним.
— Скажи, Учо, скажи своему братану, что ты слышал, — упрашивал он умоляюще. — Скажи, и я тебя угощу… Может, ты хочешь есть, а?
Приятель не отозвался. Он остался глухим и равнодушным к его мольбе. В темном окне отражалось бледное, бескровное лицо бродяги, осунувшееся и испитое, испещренное пятнами лишая.
В своем нищенском одеянии, в заплатах, которые, судя по всему, нашивал он сам, Учо не производил впечатления человека, которого надо уговаривать, чтобы тот принял подобное предложение. Тем не менее он словно колебался. Он избегал взгляда Данилы, а свои большие, неестественно выпученные темно-зеленые глаза вперял в окно, будто опасался, как бы они не выдали причину его колебаний. И в то же время, казалось, он не осознавал, что загадочная, блуждающая на тонких растрескавшихся губах улыбка говорит о том, что ему известно нечто весьма важное. Данилу не смущало его странное поведение. Он заискивал перед ним, умильно заглядывая в глаза, то и дело похлопывал его по плечу, уговаривал, как ребенка:
— Выпей чего-нибудь, Учо… Съешь чего-нибудь, браток, я заплачу…
В какой-то миг Учо решился посмотреть ему в лицо.
— Ты хочешь есть? — встретил его взгляд Данило.
Учо не ответил. Он смотрел на него выпученными глазами и предлагал ему прочесть ответ, скрытый в их холодном взгляде.
— Ты хочешь мне что-то сказать, Учо?
Тот едва заметно кивнул. Он колебался. Глаза его увлажнялись, но в зрачках не погас холодный свет.
— Она дрянь, jawohl!..[73] — сказал он и позволил своим сжатым губам растянуться в злорадной усмешке. — Дерьмо… jawohl! Джульетта — самая обыкновенная курва…
— Зачем ты так говоришь, Учо? Ты ее ненавидишь… — тихо воспротивился Данило.
— Когда вернется, спроси, в чьей постели она была, jawohl.
— Что ты говоришь?! Она же пошла домой…
Учо закусил нижнюю губу и отвернулся. Какое-то время он вглядывался в силуэты на стекле, потом поднял руку и вдруг, размахнувшись, прижал ее к темному окну, точно хотел схватить клок тумана, прилепившегося к стеклу белым брюхом огромного паука. Потом, не глянув на Данилу, удалился.
Данило стоял, тоскливо вглядываясь в отпечатки его пальцев на запотевшем стекле. Он был пьян, но не настолько, чтобы не понять, что ему сказали, или не вспомнить, что Учо год назад помешался и с тех пор частенько говорит бог знает что, как всякий ненормальный, и к тому же ненавидит всех женщин на свете, потому что, как говорят, из-за них-то он и спятил. Данило в эти россказни верил и с иронией усмехался, когда кто-нибудь растолковывал ему медицинские изыскания, объясняющие, что, мол, Учо перенес сильное нервное потрясение и это отразилось на его психике. Некоторые его дружки проводили сбор средств, чтобы по совету врача отправить его на «санаторное» лечение, а Данило это его расстройство по-своему истолковывал и предлагал ему помощь, не скрывая своего страха перед такой судьбой. «Покажи мне эту женщину, я с ней рассчитаюсь, — говорил он ему. — Знаю я твою болезнь, браток. И у меня порой бывает темно в глазах… Эх, не мальчишки мы, чтобы можно было сказать: ступай на улицу да побрызгай на забор… Приходит к человеку ярость, вот и ударяет прямо в голову, как говорят, в сознание, а оно и меркнет, в глазах темнеет, и не знаешь, где хлопнешься головой…» Хотя он и не поверил, что Джульетта ушла с кем-то, а не домой, как сказал ему Стева, тем не менее он связывал слова Учо со своими странными догадками, вызванными ее хохотом в темноте и предчувствием, что она сегодня ночью не вернется на баржу. Не отрывая взгляда с отпечатков Учиных пальцев, он приблизился к окну и остался возле него, размышляя об обмане, который уготовила ему эта ночь.
Учо поднял голову от стола и разгладил засаленные уголки на воротничке своей рубашки.
— Что это вы вдруг забурлили, точно я вам сказал: прирежьте короля?! — сказал он и многозначительно поднял брови, словно ожидая приговора. — Если вы не сделаете, я сам. Жик! — Он резко провел ребром ладони по своей шее. — Жик! И баржа наша. Двинемся по Дунаю, как в Ноевом ковчеге, с божьего благословения, и помашем всем генералам и воеводам: до свидания, сервус, господа… Jawohl!
Люди за столом, к которым он обращался, понимающе переглянулись, чего, мол, слушать его. Это были трое мужчин средних лет с мутными усталыми глазами, словно затянутыми пеленой, скрывавшей их цвет и блеск. Они были в рабочей одежде, перепачканной влажной угольной пылью. Руки, как у Данилы, узловатые, с мозолистыми ладонями, а под ногтями чернота. Молча потягивали они пиво.
Учо все говорил, одержимый идеей своего помраченного разума — уплыть на барже по Дунаю, переводил с одного на другого глаза, горевшие недобрым светом. Он пристально вглядывался в их лица, ожидая ответа на свое предложение — чтобы они взяли на себя ту часть дела, которая ему не под силу.
— На барже мы доплыли бы до самого Белграда. Вы представляете? — напомнил он им. — Прямо в Белград… — добавил он с ностальгическим пафосом, а затем, склонившись к ним, шепнул: — Надо только прирезать газду Стеву. Жик! — и готово. Баржа наша… Ладно… если вы не хотите, пусть кто-нибудь из вас научит меня, как это делается, а Стеву я…
— Учо, дай ты нам с миром выпить свое пиво, — попросил один из них.
Глаза Учо погасли, лицо грустно вытянулось. Он медленно поднял голову, растерянно улыбнулся и стал пятиться от стола, поправляя уголки засаленного воротничка своей рубашки.
— Ух, какие вы… А баржа поплыла бы по Дунаю, — прошептал он и повернулся к ним спиной.
Филипп и нищий Лазар Симич пришли на баржу уже ближе к полуночи. Как и договаривались, первым вошел Лазар, чуть позже Филипп. Они сели далеко один от другого и вели себя так, точно вообще не замечают друг друга, и никто из оставшихся посетителей не догадывался, что они добрые знакомые. Это была идея Филиппа. Предполагая, что за ним следят и что на барже окажется кто-нибудь, кто знает его, он считал, что разумнее будет поступить именно таким образом. По пути на баржу он думал об этом и был попросту поражен поведением Симича. Ни единым словом тот не обмолвился, что боится, направляясь с ним в это куда как опасное сборище эмигрантов, среди которых мог находиться и убийца капитана Радича.
Теперь это был другой человек, не тот нищий, здоровые руки которого в первый момент, когда он открыл ему свой обман, ужасали куда больше, чем пустой рукав; не тот, в ком он усомнился — не провокатор ли, подосланный, чтобы сообщить весть о жестокой расправе с капитаном и напомнить ему, что он, Филипп Ивич, полковник с выездной визой в кармане, полученной в коммунистическом посольстве, ничем не отличается от того несчастного, которого зарезали и бросили в сточный венский канал. Филипп шагал с Симичем твердо, без колебаний, как со старым и верным другом. В душе он был благодарен мертвому капитану за то, что тот послал к нему Лазара, такого, каков он есть: бывшего унтер-офицера запаса, крестьянина Лазара Симича, который сейчас, не скрывая набегающих на глаза слез, рассказывал, как стыдно ему за то, что в безумном политиканском раже он поверил, будто плюет на свои сливнянки и яблони, которые перестанут плодоносить, если хоть чуть заразятся коммунистической бациллой, и которые тем не менее сейчас плодоносили. Нескончаемые бессонные ночи провел он в тоске по сельским нивам, и мотыгу во сне видел, и руки свои, напрасно тянущиеся к ней, — а она уплывала, точно отрекалась и пугалась знакомых ладоней, уплывала и манила его к реке, чтобы он омылся ее водою или утопился в ее омутах; кто знает, о чем должен был сказать ему этот сон, да только ноги у него отнялись — так бывает лишь во сне, — и остался он посреди луга под зелеными ольхами слушать журчание Топлицы…
Он каялся без ложного мужского стыда. По-крестьянски, рукавом вытирая глаза и нос, хотя в темноте мог бы и скрыть свои слезы.
…Отречься от родного дитя… Миладии говорили, зря, мол, она раздирала свою утробу, рождая своих сыновей, и выплакала все глаза в те безумные годы, тоскуя по нему, по своему Лазару, чьи озябшие руки согревала на своей груди, отдала ему все, что имела…
Нищий Лазар Симич в эту ночь был совсем непохож на себя. В свежевыбритом человеке было невозможно узнать несчастного калеку, из единственного глаза которого струятся печальные слезы и вызывают жалость, вынуждая отводить взгляд тех, кто чувствует себя неспособным исправить неправедность этого света. На нем был приличный готовый костюм, хотя и дешевый, держался он как человек хорошо воспитанный, совершенно случайно оказавшийся, на барже. По правде говоря, хозяин баржи и его прислуга, да и все завсегдатаи кафаны знали Лазара Симича, как и всякого другого гостя. Стева, который «делил по рангам» своих гостей, относил его к зеленой фасоли[74], из которой в один прекрасный день можно будет сварить эмигрантскую чорбу. Если принимать его в этой связи за никчемный увядший стручок, никому и в голову не придет заинтересоваться, чем занимается Лазар, да он и сам никогда не помышлял открываться им. Порой он заходил сюда из простого желания поболтать со своими земляками, услышать какую-нибудь новость с родины, а чаще всего поесть чего-нибудь Стевиного приготовления, потому что приправы у него пахли Сербией.
— Не верю я больше россказням, — доверительно говорил ему Стева, склонив голову к пивному крану. — Кричат, кричат, чтобы мы были наготове, — и все впустую.
Лазар повертел стакан с пивом и недоверчиво посмотрел в хитрые Стевины глаза.
— Однажды что-нибудь да получится, — сказал он. — Так не будет вечно…
— Что было, то было, только мне все кажется, что наше время прошло… Пусть они оставят нас тихо-мирно прозябать. А чего нам, черт возьми, не хватает?! Скажи мне положа руку на сердце.
— Мы не можем с этим мириться, — возразил ему Лазар. — У меня там все осталось…
— Остался у тебя там свиной опанок! Посмотри, какой ты теперь: господин, да и своих уж небось в люди вывел, посылая им посылки…
Паула прервала их беседу: она попросила у Стевы мелочи.
— Ты меня понимаешь? — продолжал Стева, опять склонив голову к пивному крану. — Мне не очень приятно, что коммунисты будут распоряжаться в моей стране, но я не хочу, чтобы и тут меня водили за нос. Если что и произойдет, то только когда великие решат, а это может оттянуться. И что же, так сложа руки ждать своей судьбы?! Посмотри на этих идиотов… — Он глазами показал на стол, где сидели четверо, похожие на молящихся, и разевали голодные рты в сизом дыму, жадно вдыхая запах жареного мяса, долетавший с кухни. — С тех пор как я их знаю, они ждут трубного гласа и живут в долг. Да продай я их, мне не выручить столько, сколько они у меня съели… Налить тебе еще пива? — Он сердито фыркнул и отвернул кран, глядя поверх голов своих должников.
Лазар улучил удобный момент, чтобы обменяться взглядом с Филиппом. Филипп безнадежно пожал плечами, мимикой показывая, что еще некоторое время побудет здесь.
…Дым постепенно рассеивался. Один за другим освобождались столы со следами и запахами неопрятной кафаны. Снаружи, из ночи, слышался ор уходивших, они разрывали мрак песнями и бранью. Четверка мужчин, сидевшая за столом, теперь макала ломти черствого хлеба в закопченный горшок с недоваренными листьями квашеной капусты и голыми свиными ребрами.
Паула устало облокотилась на стол Филиппа.
— Мне очень жаль, господин, — сказала она, — только шефу незнаком интересующий вас господин…
Он беспомощно развел руками и приветливо улыбнулся ей.
— Вы запомнили имя? — Он не скрывал от нее, что ему необходимо во что бы то ни стало найти этого человека.
— Да, господин: майор Васич. Вы зайдете еще к нам?
— Несомненно, несомненно, — сказал он и ласково погладил ее по руке, положив в нее десятишиллинговую монету. — Если узнаете что, поинтересуйтесь, где я смогу его найти.
Паула поблагодарила его, явно польщенная беседой с хорошо воспитанным человеком.
Лазар все еще разговаривал с Стевой. Тот что-то объяснял ему, то и дело кивая головой в сторону людей, сгрудившихся вокруг закопченного горшка. Филипп посмотрел на Учо. Он заметил его, когда тот только вошел, а теперь Учо привлек внимание Филиппа своим странным поведением.
Учо сидел за столом, над которым висела картинка — реклама американских сигарет «Кемел». С нее улыбалась красивая рыжеволосая девушка, державшая в изящных пальчиках с огненно-красными длинными ногтями зажженную сигарету. Облокотись на стол, зажав щеки ладонями, Учо нервозно шевелил пальцами, срывая невидимые нити, оплетавшие его голову, и неотрывно смотрел на красотку с рекламного плаката. Иногда, словно вдруг вспомнив что-то, он улыбался картинке. Губы его подергивались. Он что-то шептал рыжеволосой девушке и все быстрее перебирал пальцами, и тогда казалось, что он соединяет воедино нити мрачного крепа, покрывающего его помутненный рассудок.
— И я это знаю, красавица моя, знаю, — говорил он, обращаясь к рыжеволосой. Затем быстро сунул руки в карманы брюк, вытащил полные пригоршни табака и окурков и высыпал все это на стол. — И я курю только «Кемел»… их курят настоящие господа… Не чета этим… Крестьяне, те курят махорку… — Орудуя двумя пальцами, как пинцетом, он порылся в кучке табака, вытащил из нее окурок покрупнее и с триумфом показал его девушке: — «Кемел»!
С зажженным окурком, словно переродившись в его сизом дыму, который он с видимой гордостью пропускал через нос, он направился к музыкальному автомату. Постоял, склонившись над клавиатурой автомата, словно колеблясь, какую музыку выбрать, и, нажав на клавишу, улыбнулся красотке с рекламы, показывая ей взглядом, что эту песню он посвящает ей. По почти пустой кафане полилась песня «Широк Дунай, раздольный Срем». Облокотившись на автомат, Учо опять принялся обирать нити со своей головы. В глазах его плавали искры влажного сияния и, погасшие, оставались висеть на ресницах.
Филипп и Лазар, друг за другом, вышли из кафаны. Один из четверых мужчин смел крошки со стола и отнес пустой горшок на стойку. Стева нажал на кнопки кассового аппарата и, когда металлический звон затих, крикнул задержавшимся посетителям:
— Файронт! Закрываем!
Песня прервалась. Учо вытер увлажненные глаза, грустно посмотрел на свою любимицу и что-то шепнул ей. Она улыбалась ему и, казалось, смотрела только на него. На его губах снова заиграла улыбка. Он подмигнул ей и через плечи глянул на Стеву, пересчитывавшего за кассой выручку. Затем, словно намереваясь что-то украсть, тихонечко зашел за музыкальный автомат.
— Широк Дунай, раздольный Срем… — произнес он. В глазах его блеснули слезы.
Долговязый человек с раскосыми глазами, который, выпятив нижнюю челюсть, шарил неповоротливым языком во рту, вытаскивая из зубов кусочек застрявшей капусты, орудовал метлой. По полу тащилась куча вонючего мусора. За ним тоже с метлами следовали трое его приятелей, с которыми он только что делил скудную трапезу.
Стева, пересчитывавший деньги, поднял глаза и увидел, что Учо опять колдует у автомата. Стева неслышно, на цыпочках подобрался к нему. Учо жалко улыбнулся, весь как-то съежившись.
— Широк Дунай, раздольный Срем… — сказал он.
— Что ты сунул в автомат?! — рявкнул Стева.
Пальцы Учо завертелись как веретено.
— Монетку… — Он заикался. — Монетку я сунул…
Стева обошел автомат, поднялся на цыпочки и глянул Учо прямо в глаза.
— Врешь!
— Ух, газда Стева, что бы я мог сунуть в эту дырку, если не монетку…
Стева стремительно запустил руку в карман его пальто и вытащил оттуда с десяток круглых латунных пластинок, соответствующих размеру монет для автомата.
— А я ломаю голову, ищу жулика среди почтенных людей!
Учо смущенно улыбнулся, лицо его исказила болезненная гримаса.
— Они там в Америке не знают наш Срем… это я для нее, — кивнул он на рекламу. — Пусть девушка слышит, как прекрасна наша земля.
Стева в ярости крякнул и ударил его кулаком в лицо. Из стиснутых губ Учо побежала тонкая струйка крови. Он не издал ни звука, словно ничего не произошло, и по-прежнему кротко улыбался, лишь ресницы увлажнились, и он сжимал их, стараясь скрыть слезы. Медленно, с опущенной головой пошел он между пустыми столиками. Из кафаны вышел не обернувшись, чтобы по привычке с порога еще раз попрощаться с рыжеволосой девушкой на рекламной картинке.
Там, где во мраке только угадывалась дорога, вдруг вспыхнули большие желтые круги и окрасили серую ночь приглушенным нереальным светом. Свет продвигался потихоньку, проникая пядь за пядью в сгустившуюся тьму, пока не достиг тропки к барже, и здесь замер.
Данило прикрыл заспанные глаза застывшими руками. Его не испугало неожиданное появление света, и он не поверил, что это новый день постучал в двери кафаны. Он знал, что это свет фар автомобиля, которого он давно ждет. Он полегоньку выкарабкался из большого ящика, где сидел, съежившись и затаив дыхание, прислушался — шум реки мешал слышать голоса, которые вместе со светом должны были долететь сюда. Он постоял, скособочившись, и неторопливо и бесшумно зашагал сквозь мрак к трапу.
В машине, которая остановилась на пригорке с приглушенным мотором, но не выключенными фарами, Джульетта подняла голову Васича со своих колен и стала надевать пальто. Он потянул ее на сиденье и снова уткнулся лицом в ее теплые бедра.
— Иди, отдыхай, дорогая, — шептал он, целуя ей ноги. — Завтра ты уже не пойдешь сюда. Эта берлога не для тебя. Ты будешь только со мной, и тебе будет хорошо… Понимаешь, Джульетта, с завтрашнего дня я буду заботиться о тебе…
Пока он тыкался головой в ее бедра, осыпал несбыточными обещаниями, она спокойно приводила в порядок волосы. Иногда, когда его колючая щетина щекотала ей ноги, она громко смеялась и зажимала колени. А он от этих шаловливых движений впадал в еще больший экстаз.
Милош расхаживал перед автомобилем, с неудовольствием вдыхая прохладный воздух. Ему стоило немалых усилий, чтобы не заглянуть в окно и не посмотреть, что там его генерал так долго делает с этой маленькой проституткой. Чтоб не впасть в искушение, он отходил подальше от машины, злясь и в душе издеваясь над генералом: «…Да что он может! Этой итальянке нужно полтора мужика… Наверно, он спит у нее на коленях, а она шурует в его карманах… Эта кроха полна дьявольского огня… распалила она его. Может, он там с ней до утра будет возжаться, а ты, болван, сучи тут ножонками в темноте…» Он ворчал про себя, сжимая кулаки в карманах. Порой, чтобы прогнать эти беспокойные мысли, он командовал себе «смирно», потом — «шагом марш» и принимался вышагивать строевым шагом взад и вперед.
Джульетта вышла из машины и остановилась у обочины поправить чулки. Затем она обернулась и помахала рукой полосе желтого света, которая медленно уходила в темноту. Тряхнув головой, точно удивляясь тому, что желтый свет уносил с собой, она зябко поежилась и, напуганная своим одиночеством в ночи, побежала к барже. Каблуки ее туфель тонули в песке. Неподалеку от трапа она резко остановилась, словно ударилась о невидимую стену. Пораженная и испуганная, она хотела крикнуть, позвать на помощь, но голос задохнулся в горле… С запрокинутой головой и расширенными руками, в которых держала маленькую сумочку и платок, она была похожа на утомленную манекенщицу, застывшую в картинной позе перед фотокамерой. В силуэте человека, неслышно, точно призрак, возникшем из тьмы и преградившем ей путь, она узнала Данилу. У нее бессильно опустились руки, и в первый момент, придя в себя от пережитого страха, она хотела обругать его. Однако, жалея его, лишь укоризненно покачала головой:
— Чао, синьор Данило, что вы тут делаете? Перепугали вы меня, ей-богу…
Он стоял подле нее, съежившись от холода и чуть наклонясь влево, куда тянуло его искривленное плечо, которым он чаще пользовался в своем ремесле грузчика. Он смотрел прямо ей в лицо и, казалось, не видел ее, словно его болезненно помутившиеся глаза были устремлены к каким-то другим горизонтам. Даже тогда, когда Джульетта громко, с укором в голосе поздоровалась с ним, на его посиневшем лице не дрогнул ни один мускул.
Джульетта подумала, что ему плохо, — он ведь был пьян, когда они расстались. Она приблизилась к нему, чтоб поддержать его, и протянула руку.
— Ох, синьор Данило, как бы вам не схватить белой горячки. Ну, дайте руку вашей Джульетте.
Данило задрожал, как в ознобе, закрыл глаза и судорожно сунул руки в карманы брюк. Он царапал ногтями грубое сукно своей рабочей одежды, а вместе с ним кожу.
Джульетта опустила протянутую руку и смущенно улыбнулась:
— Вы будете жалеть, если меня не послушаете…
Данило молчал. Туловище его покачивалось. Он смотрел мимо нее, словно отзываясь на чьи-то далекие голоса, летевшие из мрака, потом сделал шаг вперед, поднял руки, будто вдруг ослеп и ощупывает пространство в поисках опоры, а затем медленно опустил руки ей на голову и стал нежно гладить.
— Пойдемте отсюда, синьор Данило, мне холодно, — сказала она, задрожав, готовая от страха ответить на ласку его грубых, закоченевших рук.
Его руки соскользнули с головы девушки к шее и охватили ее холодом сырого промозглого тумана. Он тяжело дышал, словно ему не хватало воздуха. Она посмотрела ему в лицо и испуганно улыбнулась.
— Вы все еще любите меня, синьор Данило?.. Видите, я не боюсь вашей птицы… — Она прислонила голову к его волосатой груди, пропахшей туманом, пробравшимся сквозь расстегнутую рубашку. Вместе с его холодными пальцами эти запахи стали потихоньку душить ее. — Синьор Данило, вы меня душите… Отпустите мою шею… Мне больно, синьор Данило… Что вы делаете, вы же меня задушите… Синьор Данило!..
Ее приглушенный крик остался у него в сердце. Долгий теплый выдох, вылетевший из ее перенапряженной груди, согрел птицу на съежившейся, посиневшей коже. Голова девушки обмякла, руки соскользнули по его ногам и зарылись в песок.
Данило в оцепенении стоял над ее телом, глядя на своя руки со скрюченными, узловатыми пальцами, которые уже не ощущали прикосновения нежной кожи тонкой девичьей шеи. Словно не узнавая своих собственных рук, он поднял ладони к самому лицу, осмотрел их со всех сторон и заплакал.
Где-то далеко по реке, в той дали, которой отзывалась озябшая душа Данилы, мрак стал редеть. Светало.
Стева, Паула и несколько припозднившихся завсегдатаев кафаны замерли на палубе баржи и в мертвой тишине смотрели на сцену, открывшуюся им. Пониже, на трапе, стоял один из уборщиков кафаны с помойным ведром. Он первый это увидел и позвал остальных. Теперь, растерянный, что никто ничего не предпринимает, он таращился на Стеву.
— Я же говорю тебе, газда Стева, девушка мертвая, — сказал он испуганно, чуть слышным шепотом, словно опасаясь, как бы Данило не услышал его.
Но и Стева его не слышал. Ему и так все было ясно. Он был бледен и напуган. Говорил сам с собой, понося Данилу и кляня свою долю.
«Ну что я скажу полиции? Что я скажу?..» — рвался из его груди беззвучный крик.
Паула, онемев от страха, тупо уставилась в согнутую спину Данилы, закрывавшую от взглядов Джульетту. Паула трясла головой, точно отгоняя страшное видение.
Чуть подальше на берегу сидел Учо, спиной к барже и песчаным дюнам, по которым легкий предутренний ветерок гнал вместе с туманом шелковую косынку Джульетты. Заплаканными глазами он смотрел на реку и бросал в воду свои латунные монетки.
Данило теперь опустился на корточки и держал на коленях голову Джульетты, повернутую лицом к его обнаженной груди. Глаза ее были открыты, они все еще сохраняли цвет каштана, и казалось, что девушка просто забылась, разглядывая птицу на его волосатой груди, и лишь на мгновение затаила дыхание. А Данило, замерзший и окоченевший, с опухшими от похмелья и слез глазами, раскачивался из стороны в сторону, будто баюкал девушку в своих объятиях.
6
Газетный лист, пахнущий свежей типографской краской, зашуршал в руках Васича. Лицо побледнело и передернулось в судороге вспыхнувшего гнева.
— Если этот идиот назовет на суде мое имя, я вынужден буду оставить Вену, не сделав дела… — сказал он, даже не посмотрев на своего телохранителя Милоша, сидевшего напротив.
— Зачем ему вмешивать вас в это?! — успокаивал его Милош. — Вы ту девчонку и видели-то всего раз в жизни. — Он немного помолчал и, словно вдруг ухватив спасительную мысль, поспешно добавил: — Может, она и не назвала ему вашего имени…
— Не из-за него я тревожусь, Милош, — покачал головой Васич, словно говоря «дурак ты дурак». — Этого Данилу врачи признали сумасшедшим. А вот негодяй Стева-Мамуза заявил в полиции, что она ту ночь провела с каким-то генералом и Данило убил ее из ревности. Испугался, кретин, как бы полиция не закрыла его кафану… Об этом уже пишут вовсю газеты и называют меня «генерал — эмигрант — соблазнитель». Если завтра обнародуют и мое имя, понимаешь, что это будет означать?
Милош растерянно заморгал и хотел было сказать что-то, но Васич ответил за него:
— Это будет означать, что наша миссия провалилась к черту!
— Выходит, эта темная голова может вас… — сказал он, наконец уяснив причины тревоги своего генерала, однако, не уверенный, что сумеет выговорить слово «скомпрометировать», показал руками, словно что-то наматывает, и многозначительно кивнул. — А если мы его… — Теперь он закрутил руками в обратном направлении. Это напоминало жесты затейника, объясняющего правила какой-то немудреной игры. — Может, он забудет ваше имя, господин генерал…
— Мы поговорим с ним, — прервал его Васич, доставая карманные часы. — Иди в гостиницу и дождись людей. Скажи им, что у меня важное свидание и я, наверное, освобожусь к обеду. Пусть ждут.
Милош ушел. Васич выпил глоток остывшего кофе и опять взял газету. Он снова и снова перечитывал статью, описывающую убийство Джульетты — «маленькой грил-герл»[75], как ее теперь называли газеты. Под крупным заголовком криминалистической рубрики «Ужасное преступление на барже!» набранный жирным шрифтом шел репортерский комментарий: «Кровавый эпилог соперничества между неизвестным югославским генералом в эмиграции и его солдатом!» Васич побледнел.
— Проклятый газетный пачкун, — процедил он сквозь зубы, скомкал газету и отшвырнул ее на край стола.
Поглощенный своей заботой, потеряв интерес ко всему, даже к приходу человека, которого ожидал, он еще долго сидел в кафе «Шварцберг». Отсутствующим взглядом глядел он в дождливый день, который не мог ему показать ничего, что увело бы его мысли с той глупой ситуации, в которой он оказался. Затем в какой-то момент он заметил, что окно, у которого он сидел, совсем запотело, он все время видел перед собой только косые дождевые струи и силуэты спешащих прохожих. Хорошо знакомый голос застал его врасплох.
— Как всегда, в позе мыслителя, господин майор?
Васич поднял голову и увидел того, кого ждал. Это был человек его возраста, с коротко подстриженными седыми волосами, с моноклем в правом глазу, ко всему этому — правильные черты холеного лица. Васич взглянул на монокль и золотую цепочку, спадавшую в кармашек элегантного темного костюма, и эта обязательная деталь, которая и прежде делала его похожим на добропорядочного немца, напомнила ему о многом. Васич поднялся со стула и дружески протянул руку.
— А вы, капитан Ланге, как всегда, элегантны и беспечны, — возвратил он комплимент. — Вы были уверены, что узнаете меня?
— Совершенно, и был весьма доволен, когда услышал, что мы снова будем работать вместе, — сказал тот, разглядывая Васича, словно проверял выправку солдата в строю. — Должен сразу подчеркнуть, что особа, направившая меня к вам, и не подозревает, как далеко начинается наша дружба. Разумеется, я не горю желанием открыть ему это, потому не упрекайте меня, что по телефону я говорил с вами суховато. Я говорил из его канцелярии. Видите ли, эти господа из-за нашего прошлого все еще держат нас в резерве. Но боже мой, они на многое смотрели как на резерв, однако многое пошло таким путем, как то и было уготовано историей… Я опасаюсь, что время сделает свое, и однажды они вынуждены будут признать даже то, что, несмотря на самые лучшие побуждения, не могут сделать, оставаясь «союзниками». — Он усмехнулся лишь уголками своих пухлых, оттопыренных губ и, протирая монокль, добавил: — Союзники… История, очевидно, и не помнит более лживого союзничества…
Васич все еще смотрел на цепочку его монокля. Он слушал его куда с большим вниманием, чем тогда, когда стоял перед ним по стойке «смирно» с номерным знаком узника на офицерском кителе. Сейчас он слышал только его голос и спрашивал себя, что произошло за истекшее между их двумя встречами время. Сказались ли на словоохотливом капитане Ланге последствия войны, в которой он, разумеется, участвовал, или он лишь сменил облачение и вступил в новую войну. Так или иначе, Васич в это мгновение дивился ему. От него, от этого незначительного капитана Ланге, заурядного помощника коменданта одного из офлагерей, каких в Германии была тьма-тьмущая, он впервые услышал истину, которую время с безукоризненной точностью подтвердило… «Если Германия и проиграет войну, это будет лишь кошмарный короткий сон», — сказал он ему тогда, вербуя на работу в свой отдел.
— Запад должен будет удвоить свои усилия в деле исправления ошибок, допущенных в отношении нас, — разглагольствовал он, все больше становясь похожим на того Ланге, который сохранял оптимизм даже в тот момент, когда, переодетый в гражданский костюм, расставался с ним, Васичем. — Насколько иллюзорно было рассчитывать на союзничество с коммунистической Россией! Ради этой комбинаторики пожертвовали почти половиной Германии. Теперь видите, что получилось. Война, рано или поздно война! — Он вставил монокль в глаз и по-дружески похлопал Васича по руке. — Эта война решит и вопрос с вашей страной. Коммунизм должен быть истреблен в Европе…
Васич заметил, что газета лежит под руками у Ланге. Он взял ее словно бы машинально и незаметно подвинул к себе. Затем сунул в карман.
— Не отметить ли нашу встречу? — спросил Васич.
— Конечно, — подхватил Ланге. — Выпьем за прошлое и за будущее.
Пили коньяк. Ланге каждый глоток крепкого напитка смягчал кружком лимона.
— Моих шефов интересует информация из достоверных источников, — сказал он сквозь стиснутые зубы, в которых был зажат кусочек лимона. — Меня же интересует, каким образом вы своего человека собираетесь переправить в Югославию?
Васич пощелкал языком и, с хитрецой глянув на него, улыбнулся. Ланге понял, что тут он ничего не добьется.
— Коньяк, что пил я когда-то у вас, был куда тоньше… — сказал Васич.
— Увы, миновали те славные времена, — спокойно отозвался Ланге и словно для того, чтобы это неожиданное и нелепое замечание о коньяке не прервало серию вопросов, которыми он намеревался засыпать своего старого знакомого, сразу же спросил: — Вы доверяете этому человеку?
Васич подтвердил легким кивком и многозначительно улыбнулся. Эту улыбку Ланге воспринял лишь как сигнал к началу мелочной торговли вокруг платы за информацию, не догадываясь, что на кончике языка Васича в этот момент вертится имя человека, деятельность которого ему к его шефам не оплатить. Единственной заботой Васича в это время оставалось не впасть в искушение или как-нибудь случайно не упомянуть имя полковника Филиппа Ивича, о котором Ланге знал столько же, сколько он сам.
— Капитан, вам очень хорошо известно, что я не связываюсь с кем попало… — ответил он после продолжительной паузы и, задетый, надолго замолчал.
Ланге взял в рот кружочек лимона и криво усмехнулся.
— Вы знаете, что́ нас интересует в Югославии.
— А вы всегда стучитесь в открытые двери, дорогой мой капитан…
Отнюдь не польщенный его замечанием, Ланге продолжал:
— И все-таки я вам советую серьезно продумать кандидатуру и не строить свои надежды на кривотолках о том, что югославские коммунисты слишком расстроены ссорой со Сталиным. — Вставив в глаз монокль, который он выталкивал всякий раз, когда клал лимон в рот, он посмотрел на часы. — К сожалению, дорогой друг, я должен вас оставить. Ваш парижский адрес у меня есть. Наш человек в условленное время будет навещать вас в соответствии с вашей с ним договоренностью. — Не дожидаясь ответа, он встал и протянул руку. — До свидания. Будьте уверены, мы снова встретимся…
Он ушел, оставив на ладонях Васича ощущение влаги потных рук. Это заставило Васича вспомнить свою первую встречу с ним, которая была не слишком сердечной. Ланге тогда так же засыпал его вопросами, желая увериться, что на него можно положиться. И тогда руки у него были потные, только тогда влагу его теплых и потных ладоней он ощутил на лице. Тот дал ему несколько пощечин, а потом долго и заразительно смеялся в его растерянное, испуганное лицо: «Майор, вы отлично справляетесь с ролью идиота… Вы будете работать на нас…» Васич поднял правую руку к лицу, посмотрел на ладонь, все еще чувствуя сведенные мышцы после сильного пожатия, и усмехнулся — вот она, ирония судьбы.
Длинный и сухой указательный палец, а вместе с ним уродливая тень медленно двигались по извилистой линии границы между Югославией и Австрией на крупномасштабной карте Европы, разложенной на столе. Над ней лепились тени мужских голов, утопали одна в другой и образовывали густой мрак. Клубы табачного дыма, поднимавшиеся над плотными тенями, рисовали в воображении тревожное темное небо, угрожающе нависшее над этой частью света.
— Нет! — сказал Васич, с силой прижав указательный палец у входа на родину окутанных дымом теней. — О нелегальной переправке через границу больше не может быть речи… Даже наши сторонники не верят в успех подобных акций…
— И чего союзники впутываются в такие дела, когда выполняют это не их люди?! — Помрачневшая тень головы черной тучей отделилась от неба и сбежала к указательному пальцу.
— Мы просим у них помощи, а они требуют аргументов! — Указательный палец Васича ударил в лохматую тучу, и она медленно устремилась к потолку. — Что мы им до сих пор предлагали? Добрая воля — это отнюдь не гарантия…
Над картой склонилась тень головы с торчащими редкими волосами. Из нее закапал тонкий голосок и обрызгал указательный палец липкой слюной. Палец скрючился и отступил с пограничной полосы.
— Я полностью согласен с вами, господин генерал, — сказало добродушное облако. — Прежний опыт нелегальной переброски весьма горек. Мы отправляли своих самых лучших людей, и ни одному из них не удалось уйти дальше пограничного наряда без связанных рук. В этой ситуации, господа, мы не смеем жертвовать ни людьми, ни временем!
— Итак, мы принимаем ваше предложение, господин генерал, — лениво шевельнулась одна тень.
— Однако мне не верится, что тот человек согласится с нашим планом… — снова громыхнула лохматая туча. — Неужели для вас недостаточное доказательство — его решение возвратиться на родину?! Думаю, что после этого нет необходимости сомневаться, разочаровался он в деятельности эмиграции или нет. Я глубоко убежден в первом.
— Вы ошибаетесь, — воспротивился тонкий голос, — случай с капитаном Радичем должен повлиять на него. Я верю, что человек этот хочет жить и, стало быть, его ужасают грязные каналы, где он может очутиться. Вы так не думаете, господин генерал?!
Васич обеими руками оперся на стол, и его тень целиком накрыла карту.
— Письмо, сообщавшее о том, что его досье из офлага находится в наших руках, и снявшее его с поезда, надеюсь, полностью его отрезвило, — утомленным голосом начал он излагать свою мысль. — В остальном не забывайте, что он только предполагает, что я нахожусь поблизости. Если он об этом уже узнал, тем лучше. Я думаю, что он сгорает от нетерпения встретиться со мной. Он достаточно интеллигентен, и я убежден, что там же, в поезде, понял, что наше письмо было не только желанием удержать его от возвращения…
— Разумеется, господин генерал, — нетерпеливо вмешалась тень головы с редкими волосами, все ближе подступая к тени Васича. — Только меня смущает, не истек бы срок его визы…
— В этом случае мы должны будем найти причины для ее продления…
Из лохматой тучи повалил дым с запахом дешевого табака.
— Еще много о чем нам надо как следует подумать, — сказала она. — Мы забываем, что и у коммунистов есть свои планы в отношении возвращенцев. Один из них — получить представление о том, что нас о них интересует. Вы думаете, они встречают их хлебом-солью… — Табачный дым разорвал хриплый смех. — Кто из вас пережил их печальной памяти застенки?! С меня хватит уже того, что я понюхал их плесень. Вы думаете, что полковник в случае… боже мой, ведь и об этом надо думать… выдержит?..
Васич оборвал его:
— Должен признаться, что я располагаю информацией, согласно которой коммунистические власти в этом отношении проявили исключительный такт. Нам не известно ни одного случая, когда бы возвращенец имел большие неприятности с их полицией, за исключением этих ваших… — Васич резко оборвал свою мысль, однако тут же спокойно продолжил: — Наше счастье, что такие сообщения редко доходят до тех наших людей, которые непогрешимы перед их революцией…
— Меня это не очень ободряет… — из темной глубины произнес раздраженный голос — Коммунисты прибегают к куда более изощренным приемам.
Васич нервозно затряс головой и еще тверже оперся руками о стол. Взглядом, выражавшим утомление от давящей темноты и отвращение к насыщавшему ее дыму, обвел он разделившиеся тени голов. Они вновь стали сливаться одна с другой, словно у них не было сил поодиночке выдержать выстреливающий взгляд его глаз.
— К каким бы приемам ни прибегали коммунисты, полковник — наш! — сказал он. — Прежде чем закончить заседание, я приказываю вам, господа, сегодня же выяснить, о какой поездке воеводы идет речь и как долго его не будет в Вене… Милош, после ухода господ подними шторы и открой окна…
Тени заколыхались и поплыли сквозь дым, освобождая от себя карту, пропитанную дыханием их ненависти и ярости, и подавляя в себе вспыхнувшее желание вдохнуть аромат желтых и зеленых просторов по ту сторону долины.
Наутро, едва Васич проснулся, Милош вместе с кофе принес ему сообщение об отъезде воеводы.
— Господин генерал, наш воевода смылся, — сказал он.
— Не болтай ерунды, Милош, — оборвал его Васич и понюхал кофе в джезве. — Кофе у тебя не свежий…
— Сегодня поджарю новый. А о воеводе верно. Нынче ночью слышал от его людей. Говорят, поплыл наш воевода в Америку.
— Быть этого не может! — взвизгнул Васич.
— С таким-то золотом, господин генерал, он может махнуть и в Америку…
Васич побледнел. Губы растянулись в неестественной улыбке, а глаза впились в чашечку с кофе, словно в ее черной поверхности он увидел корабль с бородатым путешественником. Он поднес чашечку ко рту и в два глотка выпил обжигающий кофе.
За время многолетней жизни на чужбине — хотя думы о потерянной родине, о земле, где остались его корни, мысли о том, что покинул он ее, как беспомощное суденышко, унесенное волнами человеческого безумия, ни на день не оставляли его, хотя порой мучили его приступы невыносимой тоски, безнадежной ностальгии — Филиппу никогда и в голову не приходило пускаться в философские размышления о трагической общности всех утративших свое небо. Однажды Хельга неосознанно навела его на это размышление. Сделала она это невольно, в постели, где, как всегда, становилась еще красивее; такой он представлял ее в первую брачную ночь, невинную и скрытную, задохнувшуюся в откровенном жаре страстного желания.
В ту ночь, уже под утро, они не спали и, приятно утомленные, смотрели в окно с раздвинутыми шторами на небо с миллионами звезд. Она прошептала, что среди них ищет свою звезду, а потом замолчала и молча сидела, глядя на его грустное лицо. Она уже сожалела, что напомнила ему, что это небо не его и что на нем нет его звезды. А он угадывал ее желание подарить ему свою звезду. Оба обрадовались рассвету, потому что на небе уже не было звезд; больше они никогда ночью не раздвигали штор. Теперь, глядя на лицо Габи и в ее глаза, всегда полные грусти, он думал о мире, к которому принадлежит. По существу, он лишь вспоминал их первую встречу, их разговоры об общности судеб и осознавал истину, от которой хотел убежать, — что счастливыми и в любви могут быть только люди, принадлежащие одному и тому же миру. Он думал об этом и спрашивал самого себя, думает ли Габи так же, внушила ли и ей жизнь — пусть безжалостно и грубо — то же представление, ибо без него она не сможет ни понять то, что он хотел ей предложить, ни поверить, что это единственная причина, почему образ Хельги стал бледнеть в его воспоминаниях, и что ее, Габи, он полюбил любовью тех, кто понимает друг друга.
Она стояла рядом с ним с букетом красных гвоздик в руках и смеялась трюкам старого клоуна, зазывавшего публику перед цирковым шатром. Она не почувствовала, что Филиппа нимало не занимает эта прогулка по Пратеру, где она выбирала программу, желая порадовать его, своего единственного гостя, в день двадцатипятилетия.
— Хочешь, посмотрим это? — спросила она его, совсем как девчушки рядом с ними, умолявшие родителей пойти в цирк старого клоуна.
Он ее не слышал. Он вырвался из размышлений, только когда она его спросила:
— Может, ты не любишь цирк?
Он что-то сказал, смущенно улыбаясь, но Габи не могла слышать его из-за громких выкриков старого клоуна, через огромную картонную трубку зазывающего публику:
— Так даже мать в колыбельке вас не смешила, щекоча голые пяточки. Войдите, если хотите узнать свою судьбу… Неужели вас не интересует, что принесет вам завтрашний день?! Неужели вы не хотите узнать, не постигнет ли и ваш город участь Хиросимы?! Дамы и господа, всего только два маленьких шиллинга! — Заметив их, он отнял трубу ото рта и наклонился вперед, как бы желая доверительно к ним обратиться, и крикнул, перекрывая многочисленные голоса: — Войдите, чтобы я перед людьми не открыл вашей тайны… Уговорите его, барышня… Видите, он боится. Вдохновите его женскими чарами…
Габи подхватила Филиппа под руку и повела в цирк. За ними потянулись дети, повиснув на рукавах родителей. В распахнутом пологе шатра их встретил бравурный марш и пронзительный свист черной атомной бомбы. Укрепленная на проволоке, она кружила над маленькой ареной.
Она пересчитала гвоздики в красивой керамической вазе, стоявшей между ними на столике, покрытом белой скатертью.
— Двадцать пять, — сказала она, не скрывая удовольствия, что число цветов, которые он подарил ей, соответствует числу ее лет.
— Габи, — он взял ее руки в свои. — Скажи мне…
Она подняла на него глаза… Филипп увидел в них слезы и, пораженный, произнес:
— Габи…
— Не расстраивай меня, Филипп, — попросила она и улыбнулась. — Это так… не из-за тебя… Мы, женщины, умеем так, даже когда счастливы…
Вокруг них было еще много счастливых. Они так же держались за руки, однако только у нее от счастья глаза были полны слез. Филипп поразил ее своим вопросом, пробудил в ее сердце девичий трепет, заглушенный бессчетными встречами с мужчинами, которые оставляли на ее теле следы обмана и уходили, слизывая с губ вкус ее молодости.
Он не был похож ни на одного из них. С первой встречи она ему верила: она полюбила его голос, выдававший порыв одинокой и разочарованной души, поняла, что он не из тех, перед кем она не смела показывать слезы, потому что никто из них не поверил бы, что в самом деле можно так долго тосковать о потерянном небе. Она сразу поняла: ему можно рассказать, что небо над ее родиной совсем другое, и что отблески света с будапештских крыш, точно улыбки, слетают к звездам, и что оно там шире, чем здесь, и что на нем больше звезд, чем на этом, и что Дунай там был красивее, чем этот здесь. Обо всем этом могла она ему рассказать и была уверена, что он будет терпеливо слушать ее и не станет с удивлением смеяться над тем, что она так безумно тоскует в этом нынешнем веке, когда люди открывают новые берега и новое небо. «Ты бы поехала со мной на мою родину?» — спросил он и больше не добавил ни единого слова. Он казался смущенным, именно такими она представляла себе сватов, он смотрел на нее робея, словно кто-то привел его сюда на смотрины и он мучительно, точно деревенский парень, подыскивает слова, боясь, не сорвалось бы чего лишнего, больше того, что он может ей предложить, если она согласится пойти за него замуж. Она заметила это, хотя и сама была смущена, может быть даже не меньше его, потому что он был первый, кто говорил с ней так.
И теперь она слушала, втайне желая, чтобы это ощущение ожившего девичества продлилось как можно дольше. Она боялась — нет, не узнать, что он придумал эту красивую игру и назавтра скажет ей, что это была лишь шутка по случаю дня ее рождения, — она боялась самой себя, своей неловкости оттого, что включилась в такую красивую игру, потому что всегда мужчины играли с ней иначе. «А если Филипп думает так серьезно, — размышляла она, пряча глаза за гвоздиками, — как ему ответить… Как девушки ведут себя в подобных случаях? — Она грустно усмехнулась, — Нет, нет, дорогой Филипп, будет лучше, если ты все это задумал лишь как красивую игру…»
— Габи, я серьезно об этом думаю, — сказал он, словно угадав ее сокровенные мысли. — Ты полюбишь мою страну…
Она прислушалась к музыке и, посмотрев на площадку для танцев, сказала:
— Ты хотел, чтобы мы танцевали…
— Габи, — нахмурился уязвленный Филипп, — я с тобой говорю серьезно и прошу, выслушай меня до конца. — Она перевела взгляд на гвоздики, а он продолжал: — Я рассказывал тебе, что у меня двое детей. Ты видела их на фотографиях. Они уже взрослые. Тебе не придется заботиться о них…
— Филипп, — почти крикнула она. Лицо ее побледнело. Она дрожала, глядя прямо ему в глаза, всерьез разозлившись на его настойчивость, которой уже страшилась. Теперь она твердо знала, что Филипп не шутит, а сама она не умела такое обратить в веселую игру, как не была готова серьезно задуматься о его предложении. Мучило ее что-то, что было сильнее ее нежданной любви к нему, сильнее его упорной настойчивости. Только она не хотела говорить ему сегодня об этом, и никогда, наверное, никогда не скажет, чтобы не потерять его как друга. Она пожертвовала бы им как любовником — их у нее было достаточно в жизни. Чтобы оттолкнуть его, ей достаточно было бы нескольких банальных слов, может быть, одного жеста, каким женщины, подобные ей, пользуются в случаях, если мужчина вдруг слишком увлечется, забывая, что заплатил только за определенную игру. Но он не относился к такому сорту мужчин, она верила в это и потому сказала: — Филипп, неужели ты считаешь, что это возможно?
— Как?! — растерялся он. — Ты не смеешься надо мной?
— Нет, разумеется, нет, — поспешила добавить она. — Признаюсь, ты смутил меня… Все это так неожиданно… Просто не могу понять… мы же очень мало знаем друг друга…
— Я не хочу знать больше того, чем вижу сам…
— Ты думаешь, что видишь все? — засмеялась она.
Он погладил ей руки.
— Все… то, что сам хочу видеть… А что бы ты хотела знать обо мне?
Габи медленно покачала головой. В глазах ее блеснули слезы. Усмехнувшись, она сказала:
— Ничего, Филипп, дай мне немножко подумать.
— Может, тебя смущает, что тебе придется поехать в Югославию?
— Нет, это меня меньше всего смущает… — Она наклонилась над столом и смотрела на Филиппа широко открытыми глазами, словно хотела сказать ими всю правду, правду обо всем. — Мне все равно, куда ты меня отвезешь. Я хочу покоя… тишины и покоя, Филипп…
Он больше не слушал ее, смотрел в ее влажные глаза, глядевшие на него словно в нетерпеливом ожидании ответа на невысказанный вопрос: сможем ли мы оба найти покой под чужим небом? Он думал, как объяснить ей свое положение, попытку уехать и все последовавшее за тем: письмо, которое получил; Васич, который преследует его и которого он преследует; жизнь в лагере; убийство капитана Радича. Как тут не испугаться, что жизнь ее с ним — здесь или там — будет в тени беспрестанного гонения и ожидания часа расплаты, потому что с кем-то он должен будет остаться во вражде. А она говорила о покое, который необходим и ей и ему; о тихой жизни, где оба они дадут отдых своим утомленным душам и предадут все забвению; о жизни, где их не грызла бы тоска о том, что остались они без своих звезд. Он видел это в глубине ее прекрасных глаз и ощущал, как из них струится какая-то необычная теплота, которая постепенно растопляла убаюкивающее его счастье и возвращала его к мрачным лабиринтам действительности.
Словно очнувшись от прикосновения ее рук, он обратил внимание, что в ее глазах погас свет, только и у него уже не было больше сил вновь вытянуть себя из мрачного лабиринта. То, что он сейчас чувствовал, было необъяснимо для него, как и само ощущение бессилия — он уже не мог в своей горящей руке согреть ее остывшие пальцы и из глубины ее зрачков вызвать иссякший смех.
— Тебе холодно, Габи, — сказал он.
Она с отсутствующим видом кивнула, не отводя взгляда от его лица.
— Ты хочешь потанцевать?
— Да, это согрело бы меня, — улыбнулась она.
Они встали и, держась за руки, как молодые влюбленные, пошли на танцевальную площадку.
7
Красные гвоздики и заплаканные глаза Габи среди них остались для Филиппа волнующим воспоминанием о праздновании дня ее рождения. Тогда оба они почувствовали ту ужасную горечь невысказанных мыслей, которые ложатся осадком на границе беспомощности, и без слов договорились, что заливают их сладким, игристым шампанским. Пили они целую ночь, и, когда опьяневшие вышли на улицу, Габи была в одной туфле. Потом она сняла и вторую и нацелилась в какое-то привидение во мраке. Звон разбитого стекла показал, что она угодила в витрину пекарни. Они кинулись наутек и долго бежали по мокрым улицам, пока она не остановилась, судорожно прижав руки к животу. Она упала ему в объятья и смеялась. Теперь он вспомнил, что она закашлялась и не дала ему возможности спросить, что с ней. Однако самым непонятным было то, что она не пустила его в свою комнату. В дверях она сказала:
— Спокойной ночи, Филипп, увидимся завтра. — Он засмеялся, подумав, что она шутит, и только было хотел ей ответить, как она приложила палец к его губам и слабо улыбнулась. — Женщинам позволительно некоторые вещи скрывать от мужчин.
Думая, что правильно понял ее, он поцеловал ее и ушел.
— Не могу понять, Ганс, — сказал он после длительной паузы, разглядывая ключ от Габиной комнаты, висевший на доске портье. — Она должна была мне что-нибудь передать…
— Я же говорю вам, господин Филипп, она ушла, не сказав ни слова, — повторил Ганс, словно сам раздумывал о Габином внезапном решении уйти из отеля. — Ну что ж, будем терпеливо ждать от нее адреса, куда можно будет переслать ей вещи…
— Я в самом деле не понимаю… — скорее для себя сказал Филипп. Он посмотрел на Ганса и уже громче добавил: — Вспомните, Ганс, может, она все-таки что-нибудь сказала в связи со мной…
Ганс вдруг покраснел и, не скрывая неудовольствия, ответил, повысив голос:
— Но, господин Филипп…
Филипп замолчал. Он швырнул ключ от своей комнаты и направился к дверям. Сделав несколько шагов, резко остановился, словно что-то преградило ему путь. Кровь ударила ему в лицо, потом он побледнел, как-то сжался, съежился, по телу побежали мурашки. В подъезде между двойными стеклянными дверями стоял негр Сэм и старательно вытирал ноги о половичок.
Филипп круто повернулся и возвратился к стойке портье.
— Дайте мне ключ от номера, я забыл кое-что, — попросил он смущенно.
Ганс протянул ему ключ, но, заметив негра, задержал его в руках.
— Это он… — сказал Ганс, указывая головой на двери.
— Дайте мне ключ, Ганс! — раздраженно прервал его Филипп и почти выхватил ключ у него из рук.
Ганс, пораженный его поступком, проводил его взглядом. Негр подошел к стойке и козырнул.
— Добрый день, господин Ганс…
— Здравия желаю господин унтер-офицер! — дружески приветствовал его Ганс — Что-то вас давненько не видно. Я совсем забыл запах хорошего табака… Шучу, унтер! — засмеялся он и показал ему трубку, зажатую в зубах. — Такой курильщик, как я, ие пропадет…
Негр достал из кармана пачку первосортного трубочного табака, понюхал ее и положил перед Гансом. Старик обрадовался как ребенок.
— Спасибо, унтер, — сказал он, глубоко вдыхая сладковатый аромат табака. — Я думал, вас откомандировали из Вены…
— Разве Габи вам ничего не говорила?! Удивляюсь, как это она не рассказала вам о том, что между нами произошло.
— Уж не думаете ли вы всерьез, что она мне обо всем рассказывает?! — добродушно запротестовал старик и многозначительно поднял брови. Он солгал. Лишь улыбка, спрятанная в уголках рта, выдавала, что ему льстило опасение негра. — Габи такая девушка, что и родному отцу не пожаловалась бы, только, я думаю, у нее не было причин жаловаться на вас…
Негр чуть склонил голову и принялся ногтем царапать поверхность стойки. Когда спустя некоторое время он поднял взгляд, Ганс увидел в его больших черных глазах печаль.
— Я обидел ее, — сказал он с вздохом, словно это короткое признание он вырвал из печали, мучившей его.
Он рассказал о случае с бумажником, называя себя самыми оскорбительными словами, которые только мог произнести, за то, что в его пропаже он заподозрил ее.
Он вытащил из кармана новенький бумажник черной кожи и бросил его на стойку перед Гансом. Теперь в глазах его загорелся огонек вновь обретенной надежды, которую вселял в него придуманный им конец истории: в тот день у него не было с собой бумажника, он забыл его в рабочем костюме. Негр надеялся этой ложью загладить свою вину перед Габи.
— Верьте мне, Ганс, я не думал всерьез, что она могла что-то подобное допустить… Я лишь спросил, может, она помнит, где я оставил бумажник…
Ганс лишь делал вид, что внимательно слушает. Он разглядывал черное прыщавое лицо и сравнивал его с Габиной белой красотой. И назвал его, как и при первой встрече, когда по ее просьбе передал ему ключ от ее номера: «Габино безумие, о котором она однажды пожалеет, чтобы забыть как кошмарный сон». Портье был уверен в этом. А когда она сказала, что порвала с негром навсегда, он подумал, что она сама подстроила эту игру с бумажником, чтобы отделаться от него. Это было похоже на Габи. Каждого своего любовника она прогоняла таким манером, чтобы у того не оставалось возможности к примирению. Было ли это от ее распущенности или это было бегство от настоящей любви, обязывающей ее к жизни, которая ей не подходила и которую она не хотела принять? Ганс не мог понять этого и давно смирился с тем, что не может для нее сделать ничего больше того, что делает. «Только как она хочет», — твердил он, успокаивая свою совесть. Очнувшись от раздумий, он сказал негру:
— Габи ушла, покинула наш отель…
Улыбка, постоянно блуждавшая на губах Сэма, открывая ряд белых крепких зубов, как вызов всей белизне этой страны, утонула в черноте его исказившегося лица. В глазах появилось беспокойство, как у ребенка, которого кто-то обидел докуки ради. Растерянно, дрогнувшим голосом он проговорил:
— Но вы, наверное, знаете, где я могу ее найти… Вам она должна была сказать, куда уходит…
— Я думал, вы пришли за ее вещами. Она ушла рано утром и сказала, что пришлет за своими чемоданами…
Договорить им помешал бой больших часов, висевших над головой Ганса, которые отсчитали двенадцать раз. Негр с тоской посмотрел на соединившиеся стрелки.
— Я должен идти. Я позвоню вам. Очень прошу, передайте ей, что я искал ее.
— Не беспокойтесь, господин унтер-офицер, до свидания. Спасибо за табак…
Негр торопливо пошел к выходу, но с полпути вернулся.
— Будете говорить с ней… — начал он растерянно и с мольбой, однако смущенно улыбнулся и добавил: — Это я сам должен сказать ей, извините. Завтра я загляну к вам. Может, вы уже будете знать, где ее найти.
Ганс проводил его взглядом. Нельзя было сказать, что его удивило поведение негра. Ему было ясно, что тот серьезно влюблен в Габи, и, поскольку был уверен, что она решила избавиться от него любым способом, с удовлетворением признал, что сделала она это искусно. Через несколько мгновений — негр, вероятнее всего, не успел даже повернуть за угол отеля — возле стойки оказался Филипп. Ганс ждал его, в душе посмеиваясь над неловкостью его маневра, так как все время, пока негр находился здесь, чувствовал, что Филипп стоит на лестнице и прислушивается к их разговору.
— Извините, вы, кажется, хотели мне что-то сказать? — обратился к нему Филипп.
— Ничего особенного, господин полковник, — криво усмехнулся Ганс.
— Вы начали говорить что-то об этом негре, который входил сюда, когда я отдавал вам ключ, — напомнил ему Филипп, хотя заметил, что старика разозлило это его напоминание.
— Ах, ну да, и все-таки ничего особенного. Очевидно, я хотел сообщить вам о его приходе…
— Зачем он приходил? — упорно добивался своего Филипп.
— Искал Габи.
— Да, да… — недовольный ответом старика, пробормотал он. — Спасибо, Ганс. — Уходя, он бросил ключ настойку, однако старик остановил его и сказал миролюбиво:
— Он пришел извиниться перед ней из-за бумажника. Говорит, что нашел в кармане другого костюма… Все равно Габи ему не простит…
Филипп покраснел и поспешно перевел взгляд на большие настенные часы.
— И в самом деле, уже полдень…
Старик удивленно таращился на дверь, которая еще долго качалась после ухода Филиппа. Ему казалось, что это ветер унес Филиппа.
Учо разговаривал с рекой, он рассказывал ей о своих бедах и бросал в нее латунные монетки. Вода журчала, прикрытая туманом, уходила от него с тихим всплеском, с которым принимала монетки. После того случая, когда Стева выгнал его из-за обмана у музыкального автомата, он больше не поднимался на баржу. По ночам подходил он к ней и, боязливо озираясь в ее свете, шел мимо, к реке, чтобы ей открыться.
— Стева больше не серб… и не человек, — повторял он из ночи в ночь. — Забери у него баржу, утопи ее… и его, Стеву, утопи… пусть его рыбы съедят…
Шмыгая носом от холода, он печально разглядывал последнюю монетку у себя на ладони. Он знал, его беседы с рекой закончатся, когда он бросит эту монетку, а ему этого не хотелось. Всплески латунных монеток делали его счастливым. Его замерзшие уши воспринимали эти звуки как шепот воды, как ответ реки на его печальную исповедь. Тоска терзала его и до Стевиной оплеухи. Река всегда утешала. Он приходил на реку поговорить о своем Среме, но эти всплески он понимал по-другому. Сейчас река звала его к себе, советовала ему отказаться от баржи и обещала отнести его к родным берегам, к тому маленькому островку, покрытому зеленой ольхой, где в пятнадцать лет он смотрелся в реку и стыдливо проявлял радость, счастливый от своей расцветшей мужественности.
Он грустно улыбнулся и, всосав влагу, промочившую его взъерошенные усы, высоко подбросил монетку и затаил дыхание. Раздался всплеск.
— Приду, сегодня же ночью приду… До свидания, — попрощался он с рекой и словно, запахнулся плащом тумана, неслышно пошел к барже.
Нищий Лазар, уже долго блуждавший по берегу в поисках Учо, наконец заметил, как тот вынырнул из тумана. Лазар преградил ему путь, встал перед ним… Учо остановился, но как-то странно взмахнул руками, словно перед ним вдруг оказался призрак. Нищий поспешил поздороваться.
— Здравствуй, Учо!
Тот опустил руки, которыми закрыл было лицо, и посмотрел отсутствующим взглядом. Казалось, он вообще не замечает его.
— Учо, это я, убогий Лазар, — засмеялся нищий. Так Учо его называл, но что он при этом имел в виду — может, сравнивал с Лазарем, которого Христос воскресил из мертвых, — нищий никак не мог себе объяснить. Смеялся над этим прозвищем и порой думал, что Учо, пожалуй, скорее прикидывается безумным, чтобы самому посмеиваться над всеми. Люди от него не таились, и он мог сесть за любой стол на барже. Каждый верил, что в его безумной голове гуляет ветер и что в памяти у него ничего не задерживается, и при нем говорили обо всем и обо всех. Потому-то Лазар и надеялся узнать от него кое-что о человеке, которого Филипп тщетно искал. К этому его побуждала и еще одна причина: случай с Джульеттой открыл Филиппу, что Васич разминулся с ним на барже. Однако с тех пор генерал как сквозь землю провалился. Если кто на барже и знал что-то об этом человеке, то, как он предполагал, это должен был быть Учо. — Я ищу тебя, Учо, целую благословенную ночь, а ты бегаешь взапуски с туманом, — опять пошутил он. — Так вот, убогий Лазар пришел спросить тебя, а ты будь добр, выслушай меня внимательно!
— Спроси реку… — хихикнул Учо. — Я уговариваю ее унести баржу и утопить Стеву-Мамузу…
— А почему только Стеву?! — хитро подхватил его слова нищий. — Ты знаешь, кто виноват в несчастье Данилы? Ты ведь любил и Данилу и Джульетту… Тот генерал их обоих сделал несчастными…
— Стева выродок… Я ненавижу Стеву… Иди, спроси реку, убогий Лазар. Я в нее последнюю монетку бросил, — сказал Учо, отстранил Лазара, словно помеху, и медленно прошел мимо.
Нищий понял, что сейчас с ним бесполезно разговаривать, и позволил ему идти своим путем.
Венские газеты еще только однажды вспомнили про случай с Джульеттой. Это было краткое сообщение о том, что убийца покончил с собой в следственной тюрьме. Затем все ушло в забвение, о генерале больше никто не упоминал в связи с этим случаем. Баржа продолжала жить своей пьяной жизнью, распространяя вокруг запахи несвежей пищи и злобную Стевину брань. Джульетту в кафане заменила Розали, девушка из ярмарочного балагана Пратера, которая на своих подвязках принесла сюда дюжину национальных флажков союзников.
Розали, которая на первых порах была удивлена и смущена присутствием такого числа мужчин, одичавших в своей мужественности, которым она — в отличие от тех пратерских поклонников — не могла ничего продемонстрировать из своей роскошной женственности, вскоре стала истинной королевой на барже. Договор, заключенный со Стевой, обязывал ее каждый вечер танцевать для гостей. В остальном на барже ничего не изменилось. Обстановка и освещение в кафане сохранились прежние, а программой Розали Стева никогда не интересовался, так как не имел ни малейшего понятия об искусстве. Она же исполняла под пластинку какой-нибудь восточный танец. Делала она это без всякого усилия и воображения, механически демонстрировала публике кое-что вызывавшее желание увидеть ее обнаженной. Во время танца много рук тянулось к ней с намерением ухватиться за край ее шелковых одежд и стянуть с нее все, но в облаках табачного дыма судорожно сведенные руки замирали, скованные жалким страхом обидеть ее. После танца Розали принималась за обязанности официантки. Это была вторая часть ее программы, которую все признавали интереснее и важнее первой, поэтому желание видеть ее обнаженной приглушалось, а руки с сильными мышцами — вымытые и немытые, исполненные грубой силы — были бессильны проявить себя до конца с этим тоненьким женским одеянием, как Лазар назвал пару шелковых лоскутков, прикрывавших лишь некоторые части ее тела.
Розали в роли официантки была безупречна, и все-таки это было не основное ее занятие. Кончался танец, и после короткой передышки кафана вновь содрогалась от мужских голосов. Но это уже не были нечленораздельные вопли, вызванные ее танцем, а отчетливые выкрики: «Розали, вина!.. Розали, пива!.. Розали!» Каждый хотел, чтобы его обслужила Розали. С вином и ракией она приносила надежду, что тот, кого она обслужит, будет ее избранником в эту ночь. И это походило на обряд. Гость, с кем она чокалась своей рюмкой, которую всегда держала на подносе, мог считать себя приглашенным. Принимала она только тех, кто вперед не спрашивал о цене. Об этом она уговаривалась с глазу на глаз. А поскольку клиенты — каждый по своим причинам — помалкивали в ответ на вопросы заинтересованных, сколько должны были оставить под ее подушкой, избранникам предоставлялось достаточно времени на подсчеты.
Стева ее деловитость комментировал с гордостью: «Она не из уличных. По тарифу да по очереди, как когда-то у нашей Милевы, той, что обслуживала у весов. Пять динаров у забора, в кровати — червонец, братец мой, от такой бы и царь Иосиф не отказался… Но и деловая. Сколько этих наших подонков кидалось к ней со спертым дыханием, а возвращались ни с чем из-за дырявого кармана. Или это… когда у тебя ничего не выходит, она ведь никому ни слова».
Как и каждый вечер, когда Розали переходила ко второй части своего выступления, Стева и сегодня, засучив рукава, дожидался вспышки нового волнения, готовый тотчас же рассчитаться с тем, кто будет особенно бесцеремонен с его любимицей. Подле Стевы стоял нищий Лазар, облокотившись на стойку и отвернувшись от «сцены». Он был единственным человеком на барже, остававшимся равнодушным к танцу красавицы Розали. Он спокойно потягивал свое пиво и время от времени что-то спрашивал у Стевы.
— Кто его знает… Не моя это забота… Что я?.. Кто это говорит?! — автоматически, неохотно отвечал Стева, порой не дожидаясь, пока Лазар доскажет свой вопрос до конца. Он был целиком поглощен тем, что происходит вокруг Розали.
— Я слышал, этот генерал приехал сюда как специальный представитель короля… — упорно продолжал Лазар.
— Э, да не мели ты, Лазар, чтоб ему… — зло огрызнулся Стева, размахивая руками, точно отгоняя комара. — И что ты ко мне, черт бы тебя подрал, привязался с этим генералом?!
— Да так, спрашиваю… А неужели тебе все равно, зачем он приехал в Вену?
Стева фыркнул.
— Чтоб мне вообще никогда ничего о нем не слышать…
— А мне бы хотелось взглянуть на этого человека…
— Иди-ка ты вместе с ним к… Здесь ты, конечно, его не увидишь… Такие господа — клиенты «Униона»… — Вдруг лицо его помрачнело, а жилы на шее набрякли. — Ты глянь на этого кретина, лезет ей прямо под юбку!
Пока он, ощетинившись, ждал, чем кончится инцидент между Розали и мужчиной, который на четвереньках ползал по полу возле ее ног, Лазар, все так же, без малейшего интереса к происходящему, спокойно допил остаток своего пива и незаметно вышел из кафаны.
Розали в сопровождении Паулы и заспанного, хмурого и равнодушного кельнера обходила столы. Оба помогали ей разносить заказы. Клиенты попонятливей, убедившись, что на Розали им рассчитывать не приходится, довольствовались тем, что щипали Паулу за бедро. С полным подносом в руках она не могла ответить затрещиной. Но зато не отказывала себе в удовольствии визгливым голосом осадить нахала.
А игра продолжалась. Мужчины пожирали глазами Розали. Она же словно бы и не замечала их похотливых взглядов. Многим любезно улыбалась, но ничьих предложений не принимала, и было похоже, что сегодня все напрасно надеются. Пьяный, ползавший у ее ног, вдруг куда-то исчез. Он, оказывается, уселся под столом, чтобы при удобном случае заглянуть ей под юбку.
— Розали, если ты сегодня не чокнешься со мной, я сгорю, — обратился к ней посетитель с маленькой головой и огромными красными лопухами-ушами.
Она прошла мимо, не понимая вопля, вырвавшегося у него на сербском языке, однако его смешные уши развеселили ее. Она улыбнулась ему и бедром задела его по носу. Он сидел ошеломленный и онемевший от того, что такая ее милость предназначалась именно ему, и лелея надежду, а вдруг уже этой ночью он будет ее избранником.
Розали остановилась у стола, где сидели три брата Бешича. Двое старших — мужчины средних лет в дешевых костюмах из магазина готового платья. Они были очень похожи друг на друга, у обоих волосы черные, кудрявые и густые, даже морщины на нахмуренных лбах одинаковые. Третий был молодой, совсем мальчик. Внешне похожий на своих старших братьев, он хмурился, точно как они. Облокотившись на стол, он уставился в пеструю скатерть, чтобы не глядеть на Розали.
— Оставь нас в покое. У нас нет таких денег, — сказал ей один из старших, скребя грязным ногтем указательного пальца по краешку рюмки. Поймав взгляд брата, он понял, что сказал по-сербски, и, неуверенно подняв голову, повторил на плохом немецком: — Wir haben kein Geld…
Розали хлестнула его взглядом и упрямо взяла свою рюмку с подноса. Кафана на миг замерла, а затем в тихом ворчании выразила неудовольствие ее выбором.
Норовистых братьев Бешичей не любили завсегдатаи кафаны, хотя о них никто ничего не знал, разве только то, что прибыли они откуда-то с юга Сербии. О старших говорили, что они невезучие и нравные люди, ни с кем не уживаются и младшего таскают за собой, точно боятся, не отнял бы кто его у них. Четники долго их обхаживали и даже были уверены, что в один прекрасный день они встанут в их боевой строй. Однако вскоре прошел другой слух: братья Бешичи возвращаются на родину. Едут к коммунистам на поклон, за милостью. Главным виновником такого решения считали младшего. «Побоялись братья, как бы братишка от тоски не усох…» — сказал кто-то слишком громко, а братья на его слова ответили так, как все и ожидали: избили на глазах у всей кафаны. После того как болтуна выбросили на палубу баржи, самый старший Бешич обратился к Стеве-Мамузе, да так громко, чтобы вся кафана слышала его и уразумела, что его слова относятся ко всем присутствующим: «Слышал ты, газда Стева, что говорит этот свиной опанок? Или его не гложет тоска, что над чужим горем измывается? Знаем мы таких, из-за них мы тут и очутились! А если кто спросит, скажи, что братья Бешичи, Милисав и Живадин, такие, какие есть, и света белого невзвидит тот, кто тронет нашего Будимира!»
Стева и слова не проронил, только в душе молил бога, чтобы кто из гостей не услышал и не стал перечить Бешичу, а то, чего доброго, дойдет до потасовки, тогда уж всё начнут крошить. К тому же он с Бешичами был в хороших отношениях и рассчитывал на их помощь, если что случится в кафане. И если кто тут и мог сказать, почему старшие братья столь чувствительны, когда кто-то даже без злого умысла пытается подшутить над младшим, так это он, Стева. Старший Бешич как-то открыл ему сердце: «Душа разрывается из-за нашего мальца… Видим ведь, как он прямо сохнет… Бывает, целый божий день слова не промолвит. А то вдруг глаза зальются слезами, посмотрит на меня и Живадина, будто хочет сказать нам, отчего теснит сердце, и опять молчит. Помолчит да махнет головой, словно про себя скажет: «И чего вы хотите от меня услышать? Точно не знаете, что было бы со мной, если б не вы оба…» А ведь прав он, знаем и я и Живадин, что его терзает, — не будь нас, он бы первым поездом подался домой, и будь что будет. И то правда, ему-то ничего бы и не было. Пока шла война, он был дома, у стариков, а из-за нас, кто знает, что с ним теперь сделают соседи… Утаили мы про это от него, а когда уезжали, отец и мать сказали ему, почему он должен ехать с нами, только вот…» Здесь он замолчал и чуть искоса посмотрел на Стеву, словно говоря: «Смотри, Мамуза, если кому скажешь, над чем Бешичи голову ломают…» С тех пор никогда больше они об этом не говорили, а Стева вел себя так, словно никогда ни единого слова о тоске младшего Бешича и не слышал.
Розали подняла рюмку, чтобы чокнуться с младшим, Будимиром Бешичем.
— Я тебя выбрала, — сказала она, улыбаясь мальчику.
Братья скрестили взгляды. Мальчик покраснел и еще глубже зарыл голову в руки.
— Отстань от брата… — сказал средний.
Розали взорвалась. В ней закипело тщеславие признанной королевы баржи, она замахнулась, готовая выплеснуть рюмку вина в лицо старшему брату, но сдержалась, поднесла к губам и отпила глоток.
— Я знаю, что у него нет денег. Он будет моим гостем…
— Он не хочет быть твоим гостем, Розали, — спокойно прервал ее старший.
Розали словно оглохла. Быстро поставила поднос на стол, ухватила парня за волосы и подняла его голову. Сунув ему в лицо свою полуобнаженную грудь, с вызовом сказала:
— Ну же, скажи своим братьям, что они попросту ревнуют тебя. Скажи им, что хочешь того, чего им не достать за свои деньги…
— Парень тебя не понимает, Розали, — сказал средний брат. — Он не говорит по-немецки.
— Понял он получше вас обоих, для чего приглашает его Розали!
Парень молчал и краснел. Он был смущен и пристыжен. Он не понимал ни своих братьев, ни Розали. Он чувствовал лишь боль у корней волос, за которые она его сильно тянула. Хотя ему были известны правила ее игры и хотя до сих пор он втайне много раз желал оказаться в числе ее избранников, чтобы в ее объятиях пережить то, что в нем поднималось как прилив и обозначалось неистребимыми запахами, сейчас он чувствовал себя несовершеннолетним и бессильным. Единственное, чего он желал, — чтобы она выпустила его из своего нахального объятия, не выставляя на посмешище всему свету, а братья перестали бы важничать и поскорей ушли из кафаны. Розали же еще сильнее потянула его за волосы и прижала лицом к своей груди.
— Скажи братьям, что ты хочешь… — шепнула она ему.
Парень мотнул головой, но не сразу оторвался от ее груди.
Розали взвизгнула, оттолкнула его и нависла над столом.
— Дураки! — сказала она и плеснула в старшего липкой желтоватой жидкостью из своей рюмки.
Братья обменялись взглядами и бранью, а младший уперся локтями в стол так, словно пытался пробить его. Из густого сизого дыма прорвался гул голосов. Бесчисленные руки взметнулись за ароматами, которые Розали расточала за собой, разъяренная возвращаясь к стойке.
Посиневшее лицо Учо со сплющенным на запотевшем стекле носом, заплаканное и печальное, смотрело из темной осенней ночи. Никто в кафане его не замечал, даже те, что сидели за столом у самого окна, в которое он таращился.
— Прощай, — проговорил он, обращаясь к красивой девушке на рекламе «Кемел». От его теплых вздохов окно запотевало, и он вытирал его рукавом, чтобы снова видеть ее. Розали и ее обожателей он не замечал. Для нее и для них у него не осталось ни единого «прощай» из тех, что он высказал сегодня в ночи. Ее он не любил, как ему казалось, из-за ее истеричного визга, который во мраке напоминал сатанинский хохот. Их он презирал за то, что они не отобрали у Стевы баржу, чтобы на ней отправиться к далеким берегам его родного Срема. И если чье-нибудь знакомое лицо появлялось у окна или кто-то останавливался возле него, чтобы о влажное стекло охладить свой разгоряченный лоб, он отодвигал голову и терпеливо ждал, когда ему освободят обзор.
— Jawohl, красавица, я всегда курил «Кемел»… Прощай, — сказал он в последний раз и полегоньку стал сползать. Он посинел, сплюснутый нос его печально тянулся по стеклу, оставляя замусоленный след разлуки. А когда колени его коснулись палубы, он истово перекрестился. Затем на четвереньках отполз во тьму.
Под трапом баржи, до которого Учо, хотя и полз на четвереньках, добрался быстро, запахло бензином. Полную банку бензина он вылил на деревянную обшивку баржи, а остаток выплеснул на трап. Потер от удовольствия руки, потом перекрестился, пробормотал что-то вроде молитвы и неспешно вытащил из кармана зажигалку. В его грязных ладонях затрепетал огонек, словно испуганный светлячок, заметался и задрожал посреди моря заплаканной мглы. Ладони поднесли огонек к зловещим запахам и отдали тьме, а сами сжались, в ярости и бешенстве, в клубок задуманного греха.
Из брошенного огонька рванулось яростное пламя. Красные языки разорвали сизую ткань тумана, в которой ночь прятала печаль севшей на мель баржи, защелкала сырая гниль, стреляло источенное червем дерево, запахло осмолившимися волосками — сжатые в кулаки руки взметнулись вслед за пламенем; перепуганные люди были похожи на летучих мышей, вырвавшихся из удушающего дыма на простор, чтобы с высоты своей бессильной мести послать последнее «прости» своему разоренному гнезду.
Стева стоял на пригорке в клочьях дыма, который ветерок доносил с пожара, стоял как вкопанный, как обгоревший черный столб, и беззвучно открывал рот, заполненный белой пеной. Из-под опаленных бровей вытаращенные, налитые кровью глаза стеклянно блестели в отсветах огня, лили тихую слезу, оставлявшую бороздки на его закопченных щеках. Рядом стояла Паула — испуганная, лицо в копоти, платье разодрано, словно ее терзали сотни рук. Она плакала и непрестанно повторяла:
— Иисус-Мария… как страшно…
Розали стояла в стороне от всех. Ее заплаканные глава выдавали печаль по «королевству», которое пожирал огонь. На ней не было заметно никаких следов пожара, и оттого казалось, что она пришла сюда как сторонний наблюдатель, который спокойно вернется в свою теплую постель, унося с собой запахи беды, о которых сразу же забудет. То, над чем она уже теперь должна была задуматься, было далеко от реальности, спаленной вместе с баржей. С робкой надеждой, хотя и без особой радости, потихоньку отворачивалась она от пожара и оглядывалась на сияющие огни Пратера, где ждал ее старый балаган.
Остальные тихо, без слез горевали о несчастье человека, который был им дорог, хотя и ругал их и оскорблял, но все-таки делал он это на их родном языке.
Последние языки пламени полыхнули из обгоревших обломков, лизнули туман, вновь наползавший от реки, и незаметно погасли вместе с огоньком, из которого были рождены. В белом свете тлеющих угольев дверь бывшего дома на барже казалась призраком. Жестяная вывеска, раскачиваемая ветром, печально заскрипела, сорвалась и упала на пепелище.
Стева застонал, согнулся, точно что-то внутри у него переломилось. Он испустил короткий дикий вопль, а затем взвыл, заламывая руки и колотя себя по голове, в своем великом отчаянии уверовав, что это только кошмарный сон, от которого надо каким-то образом избавиться.
Паула заголосила вместе с ним.
Розали здесь уже не было.
Толпа редела и словно растворялась в густевшей мгле.
Стевины причитания и выкрики Паулы вдруг заглушил хриплый голос из тьмы. Кто-то оттуда, с берега, кричал, но слова не были слышны. Нелепая кучка людей сбилась плотнее, с опаской вглядываясь в непрозрачную пелену ночи. Наконец из мглы возникла фигура человека. Он бежал, задыхаясь, исполненный ужаса, одной рукой он придерживал неподпоясанные брюки, а в другой была шляпа, из которой лилась вода. Это был один из известных всем на барже пьяниц, один из тех, кто свою ярость вымещал во мраке, и люди сердито цыкнули на него, думая, что своей пьяной головой он еще не понял, какая беда приключилась нынче ночью. Он отпрянул, пораженный их поведением, и с тоской посмотрел на мокрую шляпу, которую держал в руке. С трудом ворочая языком, словно боясь сообщить им эту, куда менее важную, чем пожар, новость, с опаской проговорил:
— Учо утопился…
Люди искоса смотрели на него, думая, что он болтает спьяну, а стоявшие поближе сквозь зубы процедили свои упрек и брань:
— Мели, Трифун, мели. Спросить бы тебя, где-то ты завтра в долг налижешься. Неужели не видишь, что у нас «Отечество» сгорело?
Пьяница — сейчас ни пьян, ни трезв — замолчал и послушно стал среди них. Он попытался было в своей помутневшей голове привести в порядок мысли, понять, что же в самом деле произошло этой ночью: действительно ли он держит в руках шляпу утопившегося Учо, и неужели он и впрямь видит перед собой пепелище старой, доброй кафаны «Отечество». А когда понял, что и то и другое правда, закрыл лицо Учиной шляпой и заплакал.
8
Проехала белая каталка, беззвучно, точно небесная колесница, груженная чем-то, что, завернутое в белую полотняную простыню, лежало неподвижно, словно чурбак.
Филипп сидел на белой скамейке. В длинном коридоре бело. А его утомленное лицо было пепельного цвета, цвета пола из полированного мрамора, в чьем сиянии отражалась белизна коридора.
Белый цвет источал тяжелые запахи: пахло чистотой, болезнями и лекарствами, выздоровлением и смертью. Он думал об этих запахах. От них он задыхался, они душили его и мучили, как слабая доза цианистого калия, которым эсэсовцы умерщвляли свои жертвы в душегубках и газовых камерах.
Цианистый калий, валериана, йод, мышьяк… Чистота. Ему становилось все хуже. Голова горела, а в горле рос безвкусный комок из этих тяжелых запахов. Сухими глотками задерживал он его в себе, чтобы ком не выкатился изо рта. Эта неприятность с ним наверняка произошла бы, если б каталка не свернула и не исчезла из глаз. С ней исчез и запах смерти.
На отполированном пепельно-сером мраморе раздался равномерный скрип неразношенных туфель. Это портье Ганс считал свои шаги. Десять между боковыми стенами. Иногда, не переставая считать шаги, он всматривался в глубь коридора. Отсюда до конца было бы приблизительно шагов сто пятьдесят. Белый коридор ужасно длинный, особенно сейчас, поздней ночью, когда мимо неслышно проезжает белая каталка. У него не хватало смелости двинуться по его длине.
Филипп смотрел на него и завидовал. Лицо старика в этой белизне сохраняло свой естественный цвет, и голова у того не горела, как у него. Ему не мешали тяжелые запахи, казалось, он только измеряет длину белого коридора, до того угла, куда свернула белая каталка с недвижимым грузом.
Скрип туфель прекратился вдруг. Ганс остановился как-то растерянно, словно кто подставил ему ножку. Филипп поднял голову и опять опустил ее. Все вокруг вертелось и было бело. Видел он только туфли Ганса и чувствовал, что больше не может сдерживать пресный комок в горле. Туфли дважды коротко скрипнули и подступили к нему.
— Врач, — сказал Ганс.
Филипп поднялся и ощутил, как комок из горла соскользнул в глотку. Перед ним стоял человек в белом с ужасно грустным лицом.
— Извините, мне плохо от больничных запахов, — сказал Филипп, чувствуя, что выглядит жалким.
Человек в белом попробовал было поднять свою усталую голову и произнес:
— Мы сделали все, что было в наших силах. Доза мышьяка, которую она приняла, оказалась смертельной.
Глаза Ганса чуть заметно заслезились. Туфли скрипнули, только ноги остались словно прикованные к полированному мрамору. Лицо Филиппа на мгновение обрело естественный цвет, а затем опять побелело и налилось пепельной серостью.
— Бедная Габи, — произнес он.
— Почему она это сделала? — спросил человек в белом. — Она убила в себе еще одну жизнь. Она была уже на третьем месяце беременности. Вы это, наверное, знали…
Человек в белом смотрел на Филиппа. Тот смотрел поверх его плеч в белые распахнутые двери и долго кивал головой.
«…После смерти отца я была страшно одинока, Филипп. Я встретила Сэма. Вначале он смотрел на меня как на святую… Неужели только потому, что он был черный, а я белая?..»
Красный лучик пересек лицо Филиппа и погас. Затем в окно блеснул оранжевый свет и молнией озарил мрачную комнату отеля. Теперь его лицо окрасилось в восково-желтый цвет. С открытыми глазами и остановившимся взглядом оно казалось лицом умершего человека, заглядевшегося в бесконечные дали, куда его заманила смерть.
Мигающий свет улицы был исполнен музыки, которую Габи так любила. В маленьком бистро под отелем Филиппа кто-то и этой ночью наслаждался или грустил под негритянские мелодии.
Подкошенный кошмаром отталкивающих запахов, которые он принес с собой из белого коридора, Филипп, одетый, лежал на постели. Он слушал музыку и Габин голос.
Голос дрожал и, как всегда, бархатисто-мягкий струился из грустной мелодии, которая время от времени возникала из тоски в нем самом.
«…А расстались мы так глупо из-за его бумажника… — Ее лицо улыбнулось лучику красно окрашенного света. — В Пратере было полно жулья, а он заподозрил меня в краже бумажника. Я никогда так не поступала, Филипп… Я всегда получала достаточно за то, что могла дать… У него я ничего не брала… Он сам приносил мне что-нибудь из того, чего не было в магазинах…»
Оранжевый свет залил ее лицо. Еще какое-то время он мог видеть ее заплаканные глаза.
«Я был голоден, Габи… ужасно голоден, и меня выбросили на улицу, — произнес его голос. Ему показалось, что это кто-то чужой, скрытый темнотой говорит от его имени с ее заплаканными глазами. — Нет, я никогда не смогу тебе в этом признаться… — сказал тот, в темноте, и голос его из тихого шепота превратился в звериный крик. — Я был ужасно голоден!»
— Я был голоден, Габи, — сказал Филипп и только сейчас узнал свой голос — Понимаешь, Габи…
«Ты в самом деле хочешь жениться на мне?» — спросили ее глаза. Они блекли в оранжевом свете.
«Конечно… Посольство выдаст мне визу и на тебя, — произнес его голос. — Ты полюбишь мою страну, Габи…»
«Не могу, Филипп. От той негритянской любви во мне что-то осталось».
Ее глаза совсем посветлели в красном свете, сменившем оранжевый. Из бистро уже не слышалось музыки. Тот, кто наслаждался или грустил под негритянские мелодии, сейчас уходил во мрак улицы, оплакивая утраченное, а может, надеясь вновь его обрести. Он вспоминал ангела и какое-то имя. Ругал и войну и мир.
Филипп встал и подошел к окну. Его била дрожь от пронизывающего холода. Влажное белье холодило и липло к телу.
Жмурились зажженные фонари, вывешенные, точно отрубленные человеческие головы, на крючковатые бетонные столбы, которые опоясывают грязную бесконечность ржавыми устрашающими колючками. Завывают клекочущие голосищи ада; небо — как ушат злого джина с выбитым дном, из которого изливается жидкая грязь, словно дьяволы купают свое потомство в эту сатанинскую субботнюю ночь. Молнии сверкают из мертвых глаз темнокрылого бронзового орла с изломанным крестом в когтях и пугают недремлющие глаза, прячущиеся во тьме нависших потолков низких деревянных бараков, похожих на огромные гробы.
GOTT IST MIT UNS![76]
Клекочет бронзовый орел и молнией освещает путь ногам в рваных солдатских башмаках и отрепанных офицерских брюках.
Две пары ног месят топь.
— Ты идиот! Я свою жизнь и свое будущее не поставлю на проигранную карту! — сообщает голос над одной парой ног. — Вороны еще не высосали мой мозг! Я знаю, что делаю.
Вырвалась брань, и ноги остановились. Филипп поднял голову от своих заляпанных грязью ботинок к лицу Васича и увидел, что из его глаз вырываются языки пламени.
— Неужели ты не понимаешь, что я не могу этого сделать?! — сказал Филипп. — Профессор Марич всего-навсего человек с демократическими взглядами. Его в лагере все уважают и любят… Дай мне вернуться в свой барак…
— Сегодня ты должен пойти со мной. Нас ждут!
Сверкнули молнии из мертвых глаз бронзового орла и осветили ногам путь в узком коридоре с бетонным полом. Филиппу показалось, что отсюда начинается перепутье дорог и ад человеческого непостоянства.
Позвякивали подковки на ботинках Васича. Он шел парадным шагом навстречу теням с огромными железными головами.
— Распрямись, Филипп! Тверже шаг, полковник! — жалили языки пламени из его маленьких глазок. — Демократические взгляды профессора Марича! Ха! Ха! Ха! — Смех гудел, словно церковный набат. — В будущем эту интеллигенцию придется как следует прочесать. Жик! Жик! Понимаешь…
Падают отсеченные головы. Коридором течет поток крови и заплескивает Филиппу лицо.
— Я не могу этого… Не могу, Васич… — вопит он, захлебываясь теплой кровью.
— Ты это можешь! Кого ты жалеешь?! Это наш долг. Мой и твой!
Каркает бронзовый орел в сатанинской ночи.
Gott ist mit uns!
— Профессор нездоров… — говорит Филипп.
Васич увлекает его в тень человека с железной головой.
— Ты в своем уме? Они могут услышать, — жалит его язык. — Его демократические идеи принесли ему расположение коммунистов… Он знает их имена… Я уверен, что знает…
И опять парадный шаг Васича. Туп! Туп! Туп! К бесконечности. К источнику молнии.
— Кого ты жалеешь, Филипп?!
«Почему молния не поразит его язык?» — спрашивает сам себя Филипп, но идет вперед, в ногу с ним.
— Если они победят, горькой будет наша судьба! — вырываются языки пламени из глаз Васича.
Филипп идет в ногу с ним. Туп! Тап! Туп! Тап! Вперед! Парадным шагом сквозь тени людей с железными головами.
…Он или его совесть. Что-то от него осталось посреди узкого коридора. Украдкой наблюдал он за собой и Васичем, как они идут навстречу мрачнокрылому орлу. Сверкнула молния, и они оба вдруг исчезли, стертые светом пламени.
Оттуда, из бесконечного мрака, идут два солдата с железными головами. Между ними и солдатами тень огромной виселицы.
Гремят барабаны. Парадным шагом идут два солдата с железными головами. Между ними обвисшее окровавленное тело человека в форме югославского офицера с клеймом узника.
Глаза мертвеца открыты и напряженно вглядываются сквозь тень виселицы, словно ищут его во тьме.
«Неужели не видишь, Филипп! Это я — профессор Марич», — говорят глаза.
Он или его совесть… что-то украдкой выбралось из него в темноте, побежало… только затемненные пути вернули его обратно пред мертвые глаза. У железных голов были его и Васича лица.
— Профессор, назови нам имена коммунистов твоего барака, — сказал Васич и потряс мертвое тело. — Даем тебе последний шанс!
— Профессор использовал свой последний шанс. Он мертв, — сказал Филипп.
Мертв! Мертв! Мертв!
Отозвались тысячи голосов. Их перекрывает клекот бронзового орла:
Gott ist mit uns! Gott ist mit uns! Gott ist mit uns!
«Филипп Ивич, твое досье из тайного архива офлага не уничтожено!»
Цокает язык из железной головы с лицом Васича и бежит длинным коридором бесконечности. Он гонится за ним сквозь эхо голосов. Летит и виселица в клюве бронзового орла…
«Убей его или себя, Филипп… Убей его… Он — твое досье…»
Давно рассвело, но в комнате Филиппа царил полумрак. И на улице было неприветливо и хмуро. В окно виднелся кусок холодного, слезливого дня, заполненного нытьем какого-то убогого нищего.
Филипп не спал. Он тихо лежал в постели, недоверчиво глядя прямо перед собой в пробудившийся день, словно побаивался, что где-то на его затененном горизонте появится продолжение кошмарного сна. Он полежал еще, а затем, чувствуя, что приятная теплота постели может снова унести его в сон, неохотно поднялся. Не зная, с чего начать этот день, он бесцельно выглянул на улицу. Вдруг из раздумья его вывел короткий и резкий стук в дверь. Он обернулся с намерением встретить посетителя, однако дверь не открылась и после его приглашения. Несколько удивленный, он подошел и только тогда заметил белый конверт, выглядывавший из-под двери. Он поднял его и стремительно распахнул дверь. Длинный коридор отеля, застланный мягким ковром, был пуст. Портье Ганс спускался с верхнего этажа. С грустным лицом — грусть он вчера принес с Габиных похорон — поздоровался с ним:
— Доброе утро, господин полковник…
— Доброе утро, Ганс, — ответил тот, пряча за спиной письмо. — Вы никого не заметили возле моих дверей?
— Нет, господин полковник. Я иду из своей комнаты. Вас кто-то побеспокоил?
Филипп на мгновение задумался, а затем поспешно ответил:
— Нет, все в порядке, Ганс. Похоже, мне показалось, что кто-то постучал в мою дверь.
— Может, кто-нибудь ошибся. Вы уходите?
— Еще ненадолго останусь у себя, — сказал Филипп, медленно закрывая дверь.
На этот раз он хотел избежать посещения Ганса. Связывая таинственное появление письма со своим сном, он предчувствовал, что с этого дня начнется то, чего он так долго ждал и во что не имело смысла втягивать доброго старика. Прислонившись к двери, он торопливо вскрыл конверт. Письмо было короткое и написано четким почерком, который он узнал сразу, и все-таки взгляд его прежде всего задержался на подписи: «Всегда твой, Васич». Старый знакомый писал ему:
«Дорогой Филипп, несколько дней назад я приехал из Парижа. К сожалению, только сегодня узнал, что ты находишься в Вене, и вот спешу тебя уведомить. Я счастлив после столь долгого времени снова увидеться с тобой. Я привез тебе много вестей из нашего центра. Новости в связи с моим производством в генералы, надеюсь, тебе уже известны. Об остальном, когда увидимся, поговорим вволю.
Я остановился в «Унионе», комната 125. Такой же и номер моего телефона в отеле. Позвони мне, как только получишь записку. Я могу прийти к тебе сам, или же ты приходи ко мне. Можешь упаковывать свои чемоданы и переселяться ко мне в отель. Сообщи сразу же».
По комнате распространился запах нафталина, который он когда-то насыпал в карманы своей офицерской формы. Он сидел, склонившись над столом, тяжело опершись локтями на его край, словно поддерживал дрожащую руку, которой писал. Перо скрипело, чернила расплывались по бумаге, но он не останавливался после помарок. Он зачеркивал неясные буквы и целые слова и продолжал писать. Кончив письмо, он отряхнул пепел сигареты на кляксы, которые не впитала бумага. Потом бегло перечитал:
«Дорогой Лазар, я должен немедленно ехать. Мы не увидимся долго. Может быть, встретимся на том свете. Не теряй больше ни минуты. Немедленно иди в югославское посольство, возьми свои документы и уезжай первым же поездом. Не беспокойся, я постараюсь, чтобы с тобой ничего не случилось. Будет все в порядке, если ты меня послушаешь. Уезжай немедленно! Спасибо тебе за все… Я нашел человека, которого искал. Все будет хорошо.
Прошу тебя, навести моих. Передай им мои приветы, а детям отдай те пакетики, которые я оставил у портье отеля, старого Ганса. Счастливого тебе пути, добрый мой друг.
Твой Филипп».Поверх военной формы он натянул свое старое зимнее пальто с потертым меховым воротником и с чемоданом в руке вышел из комнаты.
После него остался запах нафталина.
Улицами утекал плач дня. Его грязное и озябшее лицо переглядывалось с лицом Филиппа в черном зеркале асфальта. Они были похожи друг на друга и казались бы близнецами, если бы и Филипп плакал.
Поезд входил в поля и леса. Вена тонула в ночи и влаге иссякшего дня.
Пальцы на руках Лазара Симича словно впитали жирную краску со свеженапечатанной газеты. Побледневший, точно смерть коснулась его лица, он аккуратно вырезал портрет Филиппа с газетной полосы. Над пустотой повис длинный заголовок: «ПОЛКОВНИК УБИЛ СВОЕГО ГЕНЕРАЛА. — Сведение счетов между югославскими эмигрантами. — Убийца схвачен». Симич скомкал газету и бросил в открытое окно своего купе. Ветер схватил ее и понес в круговерть жара и копоти.
Бранимир Щепанович РОТ, ПОЛНЫЙ ЗЕМЛИ
BRANIMIR ŠĆEPANOVIĆ
USTA PUNA ZEMLJE
Beograd, 1974
Перевод о сербскохорватского А. Д. Романенко.
Завернувшись в грубые шерстяные одеяла, мы лежали не двигаясь и молчали, словно эта близившаяся к концу августовская ночь опьянила нас терпким запахом леса, кромка которого в распахнувшуюся щель палатки казалась извивающейся черной змеей. На самом же деле мы просто очень устали и хотели спать.
Он сидел в душном купе пассажирского поезда номер 96 и смотрел в бездонную тьму августовской ночи. И ничего не видел. С четырехугольного закопченного стекла ему отвечало размытое отражение его собственного лица, которое выглядело настолько измученным, что казалось почти чужим. Однако он улыбнулся своему изменившемуся обличью. Но сделал это недружелюбно и пакостно, точно издеваясь над самим собой из-за того, что спустя много лет ему приходится возвращаться в Черногорию вопреки ясному осознанию того, что там уже нет никого, кто бы обрадовался ему или хотя бы даже его узнал. Если бы в эту минуту можно было вновь извлечь из накрывшего все мрака какую-нибудь картину детства, чье-либо лицо или пускай давно позабытый голос, то, вероятно, он легче воспринял бы свое внезапное решение умереть на родине. Однако он не был в состоянии ничего вспомнить. Ничто теперь не отзывалось ему.
Однако сон долго не приходил к нам, хотя для этого не было никаких видимых причин: ничто нас не волновало и не беспокоило. Ничто нас не мучило и не держало в ожидании. Напротив, в этом глухом краю, где за последние годы мы летом проводили по нескольку дней, нам без труда удавалось позабыть о своих заботах и обязанностях, о своем обыденном, монотонном существовании, сводившемся к дому, службе и кафе, и, таким образом, в некотором роде отдалившись от самих себя, мы могли предаться неведомому, почти необъяснимому покою. И в этот раз вне всякого сомнения, не могло быть иначе. После долгого путешествия поездом и многочасового пешего перехода по бездорожью мы в конце концов оказались у цели, в пустынной необитаемой местности, переполненные, точно накрытые бесшумной синей волной, ощущением бесконечного умиротворения, которое настолько уравнивало наши мысли и настроения, что мы оба в любой миг без усилий могли прочитать желания и побуждения друг друга. Поэтому, должно быть, мы теперь и молчали.
Тогда он попытался поднять окно. Несколько минут мучился, прежде чем отказался от этого намерения, и вновь опустился на грязное и теплое сиденье. Бессильно вглядываясь в тьму, он в конце концов смог увидеть, как вдали то и дело вспыхивали и угасали какие-то огоньки, точно неведомый робкий ветерок попеременно уносил их и возвращал обратно. Эта обычная и неважная в любой иной ситуации картина вызывала теперь смутное предчувствие, что, по существу, мимо него мчится весь мир. Мысль эта, странное дело, его обрадовала. Он даже вдруг захотел сразу уловить в металлическом перестуке колес ту тишину, которая наступит потом, когда все окончится и исчезнет, словно никогда и не существовало. Оцепенев, без единой мысли в голове, он ожидал, что чувство это заполнит его целиком и тогда отпустит необъяснимая судорога, перехватившая пищевод, и он сможет, укрывшись в глубине неосвещенного коридора или даже в клозете, выплакаться и, очистившись и опустошившись, как если бы уже оплакал самого себя или примирился со смертью, натянуть на лицо маску каменного равнодушия, которая защитила бы его от постороннего любопытства и особенно от навязчивого людского сочувствия. Однако, как ни силился он поскорее привести себя в состояние отчаяния, чтобы тем быстрее его и преодолеть, нечто с непонятным упорством отвращало его — точно так же изнутри — от этого. Он чувствовал зловоние людского пота и смешанные запахи прогорклой колбасы, чеснока и ржаного хлеба, но вместо той опасной и желанной тишины слышал довольное чавканье своих незнакомых спутников, чьи безличные голоса и приглушенный смех все более побуждали его включиться в их долгий и неинтересный разговор. Потом он ощутил голод и устыдился этого — должно быть сознавая, насколько в обстоятельствах, которых нельзя было больше избежать, этот естественный инстинкт представлял позорное доказательство его бессознательного сопротивления всякой попытке очутиться лицом к лицу с ужасной правдой. Сидевший напротив человек молча протянул широкую мозолистую ладонь, предлагая ему ломоть хлеба и тонкий кружок колбасы. Он поблагодарил неопределенной улыбкой и принялся за еду, не ощутив в первое мгновение никакого вкуса. Потом почувствовал тошноту и вышел из купе. В конце коридора он поднял окно и выплюнул пережеванную пищу, хватая широко раскрытым ртом прохладный ветер, который равномерно заплескивал его светящимися жучками и угольной пылью. Наступило мгновенье, когда он больше не был в состоянии определить, ни сколько времени он провел в этом поезде, ни даже понять, когда он прибудет в Черногорские массивы. Он почти уверовал в то, будто мысли его остановились. Лишь чуть погодя он осознал, что поезд встал на маленькой глухой станции, и обратил внимание на дородную деревенскую тетку, которая с кучей пестрых узлов, неловко переваливаясь, бежала вдоль вагона. Она миновала его, и ему показалось, будто в воздухе запахло сыром и каймаком, однако ощущения голода он теперь не испытывал. Он ничего теперь не испытывал. И внезапно протянув руку, нажал на желтую никелированную ручку и неспешно, ни о чем не думая, спрыгнул во тьму.
Мы с Яковом продолжали молчать, глядя на звезду, которая, подобно подстреленной птице, падала как-то боком, медленно и нерешительно. Она падала прямо на нас, и, наверное, нам обоим подумалось, будто в тот самый миг, когда ее мерцающий свет потухнет в наших глазах, оба мы погрузимся в сон и пустоту.
Ковыляя по черному и сыпучему шлаку, он мог видеть; как светлый луч рассек небо и мгновенно исчез, прежде чем удалось проводить его взглядом. Обернувшись к непрозрачной дали, которая, будучи ледяной и недоступной, тем не менее как-то доверчиво откликалась приглушенным гудением рельсов у его ног, он встревожился, точно с этой исчезнувшей звездой он утерял нечто важное, чего не может припомнить или в чем как будто раскаивается. Он не знал, ни где он находится, ни куда он пойдет, ни что станет делать. Он знал лишь, что больше не увидит те маленькие черногорские деревни, где он когда-то и страдал и был счастлив, ибо в эту минуту, устремив взор в самого себя точно в теплую ночь, он прощался, не проронив ни единой слезинки, с окружающим миром.
Открыв глаза, мы не сразу могли сообразить, как долго мы спали. Несколько мгновений мы лежали безмолвно, затаившись, точно в самом деле были одни на всем белом свете в этой почти ирреальной тишине августовской ночи. Потом Яков решительным движением откинул полы палатки и глубоко вздохнул.
— О чем ты думаешь? — шепотом спросил я.
— Ни о чем, — ответил он, — жду пока рассветет.
А уже рассветало: небо в вышине все более растягивалось и становилось прозрачным, совсем как редкая серая ткань.
Когда рассвело, он решил передохнуть. Он не знал, как долго он шагал в темноте по бездорожью и куда зашел. Но зато был уверен, что поступил правильно, сойдя с поезда на крохотной неведомой железнодорожной станции, когда растерянно стоял в одиночестве среди рельсов, металлических бочек для мазута, разбросанных и разбитых деревянных ящиков, почувствовал желание убежать во тьму, подальше от людей и всего того, что хотя бы на миг могло побудить его искать утешения или помощи у кого бы то ни было!
В этом его желании уйти далеко, оторваться от мира, пока не уверует, что тот вовсе ему не принадлежит, отсутствовала ненависть или зависть к людям. Он желал лишь избавиться от возможных унижений, которых нельзя было бы избежать, — независимо от того, сам бы он искал чьего-либо сочувствия или был бы вынужден это сочувствие принять. Устремившись в ночь, жаждая умереть в тишине и безлюдье, подобно одинокому хворому и беспомощному животному, он с каждым своим шагом старался привыкнуть к тайной мысли, которой в первый миг испугался и даже устыдился, что было бы лучше, если б он нашел в душе достаточно мужества самому наложить на себя руки. Теперь, на заре нового дня, усталый и запыхавшийся, он сумел различить вдали темный лес, а чуть подальше зубчатые пики каких-то гор, во всем походивших на вершины его Прекорницы, где давно, лет тридцать назад, одной глухой ночью он впервые подумал о смерти как об избавлении. Разумеется, он с трудом мог бы поверить тогда, что, ведомый инстинктом, снова возвратится к горе своего детства, но именно поэтому он был теперь убежден, что ту давнюю мысль он наконец осуществит, все равно, повиснет ли он на высоком одиноком дереве или обрушится в бездну, которая издавна его поджидает, зияя мраком и пустотой. Размышляя об этом, он не испытывал ни страха, ни отчаяния. Наверное, можно было бы сказать, что он был спокоен и примирился с собою: глубоко вдыхал он прохладный воздух и вслушивался, как в вышине, над ним, поют какие-то невидимые птицы.
Скрестив ноги, мы сидели на траве перед палаткой у костра, источавшего аромат сосны, и завтракали печеными яйцами с салом. Мы ели медленно, наслаждаясь каждым куском. И, лишь проглотив последние крошки хлеба, пропитанные жиром, вытерли руки о сырую мягкую траву и поднялись, чтоб оглядеться. Местность, которая буквально на глазах у нас возникала из утренней дымки, показалась в чем-то иной, чем была прошлым летом. К северу выгибалась темно-фиолетовая нить леса, а совсем внизу, на противоположной стороне волнистого синего склона, виднелось резко очерченное русло реки. Мы находились между рекой и лесом и, оглядываясь по сторонам, пытались открыть ту возможную и пока неуловимую перемену, из-за которой поначалу мы не смогли реальную картину этого простого и уже хорошо знакомого пейзажа совместить с ничем не поврежденным изображением нашей памяти. Две эти картины в чем-то воистину различались. Потом мы заметили человека и поняли, что именно его необъяснимое присутствие нарушило гармонию и чистоту этого пустынного края, к которому мы уже привыкли. Человек выглядел почти нереальным, размытым темным пятном. Потом он стал похож на какое-то огромное насекомое. Он стоял недалеко от нас, и по его двигающимся плечам мы, не успев еще задать себе вопрос, как он здесь очутился, сумели понять, что в этот миг он вдруг остановился в некоем вполне определенном движении или готовясь к новому.
Он стоял, изумленный тем, что он более не один, и не мог отвести взгляда от двух незнакомых людей, чьи лоснящиеся лица под смешно украшенными охотничьими шляпами безжалостно напоминали ему о тех людях из поезда, от которых он убежал, обо всех людях, с которыми он не желал встречаться. Он перевел глаза на их ноги, потонувшие в траве, уже засоренной яичной скорлупой, скомканными газетами, пустыми консервными банками, пятном от костра. Возле охотничьих ружей и удочек он заметил небольшой транзистор, который пока не успел нарушить утренней тишины, поэтому он мог слышать, или так ему по крайней мере казалось, их равномерное дыхание. У него возникло желание подойти к ним и попросить поесть, а потом указать ему дорогу к ближайшей станции или автобусу. Это желание, перечеркивавшее его твердое решение двигаться навстречу смерти, было настолько неодолимым, что он был уверен: сейчас он обязательно подойдет к ним, если немедля не заставит себя повернуться и пуститься в бегство. Распинаемый между этим желанием и побуждением открыться, он готов был заплакать. Пытаясь справиться со своей внезапной слабостью, он быстро поднял глаза к небу и, уподобляясь молящемуся человеку, сосредоточил все свое внимание на пепельно-серых птицах, испещренных черными пятнышками, которые подобно брошенным кем-то обожженным камешкам то и дело пролетали у него над головой и облачками дыма растворялись в розовой выси. Могло даже показаться, будто он наслаждается созерцанием. Однако на самом деле он лишь собирал всю свою решимость, чтобы уйти.
Пока каким-то растерянным взглядом он как бы оценивал нас, ни Яков, ни я не были в состоянии произнести хотя бы одно слово или даже подумать, как, может быть, следует поступить. Наверное, мы ожидали, что он первый нарушит молчание или каким-либо жестом выкажет желание приблизиться к нам, и тем самым сделать хотя бы чуть более непринужденной эту неожиданную встречу. Однако вопреки всяческим ожиданиям он повернулся к нам спиной и, тряхнув головой, как взнузданный конь, кинулся но склону, топча своими длинными и неловкими ногами высокую траву.
В тот миг, когда он кинулся бежать, солнце хлестнуло его по глазам, и почти ослепленный, спотыкаясь в густой и мокрой от утренней росы траве, он подумал, что эти два человека, вероятно, смотрят ему вслед и удивляются его странному поведению.
Мы молча глядели ему вслед, не понимая, что могло заставить его столь нерасчетливо нарушить тот исстари почитаемый обычай, согласно которому даже случайные путники в безлюдье пусть ненадолго сходятся друг с другом. Но это не взволновало нас. Мы приехали сюда не для того, чтобы завязывать знакомства. И нас не мог особенно интересовать этот человек, чье лицо за те мгновения, что он стоял перед нами, нам не удалось даже разглядеть. Поэтому, должно быть, видя, как он спотыкается и нелепо взмахивает длинными руками, мы были настолько равнодушны к нему, что наверняка бы навеки о нем и позабыли, отвернись мы сразу в другую сторону.
Он не стыдился того, что бежит. С тех пор как позапрошлой ночью в белградской клинике, томимый бессонницей и скукой, ничуть не беспокоясь, что его задержали на исследование из-за болей в желудке, он вошел в пустую ординаторскую и совершенно случайно увидел на заваленном бумагами столе свою историю болезни, которая в трех кратких и холодных латинских речениях предсказывала ему неминуемую смерть через несколько месяцев, — с тех пор он непрерывно от чего-то бежал. Правда, он теперь уже и не помнил, что он испытал в ту минуту. Возможно, он не был в состоянии что-либо почувствовать. В шлепанцах и пижаме, издававшей печальный запах пота и лекарств, он выбежал в ночь и добрался до своей маленькой квартирки на Бирчаниновой улице, где, запершись в одиночестве, почти весь следующий день пытался избавиться от видений своего тела, медленно распадающегося в страданиях и смраде. Тщетно пытался он заплакать, чтобы хоть слезами замутить ту ужасную картину. Но когда он вспомнил о своих умерших родителях, о детстве и о родимом крае, глаза его мгновенно очистились, точно их озарил испепеляющий свет. Это, должно быть, и побудило его сразу же, первым поездом, выехать в Черногорию, чтобы там найти утешение и покой. Однако в поезде, прорываясь сквозь бесконечную ледяную тьму ночи, окруженный людьми, которые потели, закусывали и пели, он внезапно понял, что в смерти, которая стала для него единственной очевидностью, он должен быть один, и, собравшись с духом, он убежал от мира, чтобы затем в этой дикой местности при совсем случайной встрече с двумя незначительными человеческими существами окончательно осознать, что, если он захочет, как подобает настоящему человеку, рассчитаться со своей судьбой, ему придется предварительно расстаться со всем тем, что еще связывало с жизнью его душу! И вот теперь, убегая вдоль поросшего травой склона, он, в сущности, пытался убежать от самого себя, с каждым своим шагом преодолевая искушение остановиться и вернуться к двум незнакомцам, о которых он склонен был даже предположить, что, может быть, само провидение ниспослало их облегчить ему этот ужасный и, судя по всему, последний день. Чтобы не спасовать, он заставлял себя думать только о том дереве, которое выросло для него, и только о той пропасти, которая где-то вдали его ожидала!
Внезапно, повинуясь какому-то сильному побуждению, мы разом бросились за ним. Это было неожиданно для нас самих, но в то же время мы действовали словно бы по некоему молчаливому договору. В этом нашем на первый взгляд странном поступке не было ничего странного. Ничего, кроме желания показать ему, что глупо и не нужно убегать от нас, что он может, коль скоро он оказался в беде, попросить у нас помощи. Наши намерения, следовательно, были честными. Мы хотели помешать ему быть жалким и смешным. Тем самым, разумеется, мы хотели успокоить и свою совесть, поскольку нам вовсе не по нраву была мысль, будто мы оба, пусть невольно, вынудили его так поступить.
А когда случайно, ничего не подозревая, он оглянулся, то увидел двух людей, бегущих за ним. Он подумал, что глаза, раздраженные слишком ярким светом, обманули его и что это две обыкновенные, ожившие тени превратились в человеческие фигуры. Он оглянулся еще раз, надеясь освободиться от гнетущего впечатления. И продолжал бежать, повернув голову, назад, пока окончательно не убедился, что двое на самом деле бегут за ним.
Мы не решались крикнуть ему, чтоб он остановился и не валял дурака, так как понимали, что наш окрик напугает его: коль скоро он оказался таким нерасчетливым, то вполне мог подумать, будто мы угрожаем ему или пытаемся как-то обмануть. Поэтому мы продолжали бежать молча, стараясь уменьшить расстояние, которое между ним и нами уже превышало тысячу метров. Правда, в какой-то миг Яков предложил остановиться. «Пусть себе уходит куда угодно, — сказал он, — и чего мы стараемся?» — «Погоди, — возразил я, — мы бежим быстрее его и скоро выясним это глупое недоразумение!»
Напрасно он спрашивал себя, что это за люди. Видя их одежду, шляпы, ружья, удочки и палатку, он мог предположить, что они охотники или туристы. Однако это простое и логичное открытие не удовлетворило его. Его интересовала их суть. В тот миг, пока они упрямо мчались за ним, он хотел проникнуть в их чувства, хотя у них не было никаких оснований за ним бежать, а ему было безразлично, что они могли о нем подумать при мимолетной встрече. Однако ответа он не находил и, испытывая почти тоску, ускорил бег.
Но он убегал от нас, наклонясь всем телом вперед, точно какая-то чудесная сила, которая была сильнее страха, толкала его в спину, не позволяя оглянуться, остановиться или выпрямиться. А когда на какой-то миг он выпрямился во весь рост, мы заметили, как его большая и светлая шляпа, которую он придерживал от ветра левой рукой, вдруг пойманная косыми и сверкающими лучами солнца, вспыхнула факелом, и нам почудилось, будто этот смешной человек, если он продолжит свой бег, подожжет тот высокий камыш, к которому он стремительно приближался.
Вдруг у него мелькнула мысль, что эти двое, возможно, по его лицу поняли, к чему он готовится и что намерен сделать. Осознав эту возможность, он еще более убедился в оправданности своего поступка. Незнакомые люди, чьи лица он не мог вспомнить, теперь представляли для него опасность, которой он должен избежать. Нельзя было позволить им догнать себя, поколебать, отговорить и помешать исполнить задуманное.
Потом нам показалось, будто он несколько замедлил свой бег. Должно быть, он устал, хотя его темная высокая фигура скорее говорила о какой-то странной расслабленности, как если бы он был уверен, что мы не сможем его нагнать или что он вовсе позабыл о нас. Как бы там ни было, нам больше не казалось, что он чего-то боится, и менее всего нам могло прийти в голову, что он боится нас — меня и Якова — это означало бы, что все те причины, в силу которых мы побежали за ним, больше не существовали. Мы должны были тотчас вернуться к палатке, взять удочки и спуститься к реке. Однако Якова вдруг осенило, будто этот человек отнюдь не бежит прочь, но, наоборот, сам кого-то преследует. «Кого же?» — удивился я. «Все равно кого: какую-нибудь редкую бабочку или человека, какая разница!» Я убеждал его, что это невозможно, однако Яков не расставался со своей идеей. Как бы там ни было, мы оба были согласны в том, что человек этот, в темном, словно парадном костюме и большой светлой шляпе, не охотник, не альпинист и не турист. А кроме того, коль скоро у него но было никакого багажа, даже самой обычной сумки или зонта в руках, нетрудно было прийти к заключению, что он вряд ли был случайно заблудившимся путником. Кем же он был? Каким необъяснимым образом появился он возле вашей палатки и отчего теперь бежал, если у него не было оснований опасаться меня и Якова? Эти вопросы мучили нас обоих. Мы то и дело останавливались, чтоб перевести дыхание и обменяться мыслями по этому поводу. «А что, если это беглый каторжник или убийца, который ищет здесь убежища; или еще чище — какой-нибудь маньяк, дезертир из армии или шпион, собирающийся переправиться через границу!» — «Ты говоришь ерунду, — заметил я, — ты сам отлично понимаешь, что в этом случае он не мешкая повернул бы к лесу и горам». — «Ты прав, — вздохнул Яков, — а он по-прежнему бежит прямо, точно слепой». Он помолчал, как бы о чем-то размышляя. И добавил: «Что же с ним, черт возьми, тогда, не спятил же он?» — «В этом никогда нельзя быть уверенным, — ответил я, — может, и спятил, а может, по какой-либо причине бесконечно счастлив и таким путем пытается освободиться от слишком сильно обуревающего его чувства! Впрочем, догнав его, мы это узнаем!» Но Яков по-прежнему полагал, что беглеца не надо преследовать, хотя я стоял на своем. «Неужели ты откажешься догнать его, неужели тебя ничуть не интересует, что с ним?» — подхлестывал я и себя и его.
А ему хотелось остановиться и удовлетворить свое любопытство: если они не объяснят, что их вдруг обуяло, тогда он сам осведомится у них, по какому праву они вторгаются в его жизнь, или, точнее, в его смерть.
Теперь, выходит, мы бежали из самого что ни на есть обыкновенного любопытства. Мы рассуждали так: если у него есть право без всякой причины убегать от нас, тогда и у нас есть право таким же образом его догонять; если он своим странным поведением, не чинясь, возбуждает наше любопытство, тогда и мы, не чинясь, можем позволить себе это любопытство удовлетворить. Поэтому мы продолжали упорно следовать за ним по широкому примятому следу в шуршащей темно-желтой траве, которая, местами достигая наших плеч, брызгала нам в лица прозрачными и ароматными капельками утренней росы. Но он, словно почувствовав, что мы так просто не откажемся от своего намерения его догнать, медленно остановился и повернулся к нам лицом. Скорее удивившись, чем обрадовавшись этому, мы некоторое время еще продолжали бежать изо всех сил.
Он стоял, поджидая их. Прерывисто дышал, и пот выступал у него на лице, пожелтевшем от налипшей цветочной пыльцы. Он не испытывал волнения, и глядя, как они приближаются к нему по высокой траве, широко размахивал руками, не думая о том, что могло произойти в следующее мгновение.
Теперь мы уже могли видеть, как он левой рукой сдвинул на затылок шляпу, открывая высокий, блестящий от пота лоб, а потом скрестил руки на груди как человек, готовый лицом к лицу встретить все, что его ожидает. Бедняга! Ведь это были только Яков и я. И мы не желали ему зла. Мы хотели только спросить, что с ним, не случилось ли с ним беды и не можем ли мы быть ему полезны. Если же наша помощь окажется ненужной, пускай себе идет на все четыре стороны. И чтобы показать ему это, мы остановились метрах в тридцати от него, дабы он убедился, насколько мы оба, при всем своем вполне оправданном любопытстве, учтивы и ненавязчивы.
А он смотрел на них, совсем не выделяя их, точно они были частью пейзажа, на котором отдыхал его взгляд.
Однако мы чувствовали, что нужно немедленно к нему подойти, прежде чем это мгновение, полное всепоглощающей тишины, превратится во что-то мучительное и неестественное. Но его отсутствующий и словно слепой взгляд загипнотизировал нас, и мы не двигались с места.
А он, всматриваясь в их огрубелые и невыразительные лица, пытался понять, что их удерживает на месте. Только что они выбивались из сил, стараясь его догнать, и теперь — он не мог поверить — из какой-то щепетильности не решались к нему приблизиться, равно как не исключал он и возможность того, что они, такие безбоязненные на вид, вооруженные охотничьими ружьями, в силу осторожности или страха опасались преодолеть эти двадцать шагов, их разделявших.
Если б мы могли обнаружить у него на лице любопытство, страх, радость или боль — наверное, нам было бы менее неловко приблизиться. Однако лицо его походило на оледенелую, белую маску, за которой не ощущалось ничего, кроме пустоты: ни единой мысли, чтоб оживить его, ни единого чувства, чтоб вернуть ему утраченную краску. Он не двигался и ничем не показывал, что вообще намеревается это сделать.
Потом, кто знает каким органом, он почувствовал, что между ним и этими людьми существует некая странная и, возможно, нерасторжимая связь. Он не знал, что бы это могло быть, и, очевидно, поэтому в чистом небе, точно в бескрайнем зеркале, долго стремился вызвать некий далекий и неяркий проблеск воспоминаний, которые помогли бы ему если не понять, то хотя бы уловить смысл этой возможной связи. И взгляд его, потерявшись в прозрачной вышине августовского полудня, обнаружил одну-единственную птицу, слишком реальную для того, чтобы считать ее предвестником чего-то.
Вдруг мы заметили, что руки у него повисли вдоль тела, а взгляд, только что блуждавший вдали, снова обратился к нам. В этом взгляде мы могли теперь различить дерзость и насмешку, а может быть, даже и презрение, которого мы не заслуживали. «Смотри-ка, он молится, — шепнул Яков. — Ведет себя так, будто нас здесь нет, будто нас вовсе нет!» — «Наоборот, — сказал я, — он бросает нам вызов: пытается нас оскорбить или высмеять!»
Ему показалось, что лица у них стали коварными и хитрыми. Поэтому, видимо, прежнее его желание убежать от них независимо от их намерений вдруг сменилось чувством отвращения и гадливости ко всему, о чем эти люди — своей ли лукавой повадкой, равномерным и учащенным дыханием и непонятным голодом во взгляде — ему напомнили. По сути дела, они напомнили ему испуганных и опасливых гиен, почувствовавших его гибель. Несколько мгновений он смотрел на них, не зная, как поступить, ибо уже не верил, что от них можно убежать.
И точно осознав, что мы все-таки приближаемся к нему, он внезапно снова пустился в бегство. Только теперь он бежал по направлению к лесу, отталкиваясь от земли сильно и стремительно, точно дикое животное.
Задыхаясь и пошатываясь от усталости, он надеялся, что у него хватит сил добраться до трепещущего фиолетового леса, где он уже не позволил бы им себя догнать!
Вот и у нас появилась основательная причина его догнать. И мы поднажали без малейших колебаний: к этому нас побуждало уже не прежнее забавное любопытство, во самое обыкновенное упрямство. Мы хотели доказать ему, что он ничуть не более быстр, не более дерзок и не более храбр, чем мы. В конечном счете мы хотели поскорее лишить его возможности нас оскорблять!
Когда он оглянулся убедиться, что они продолжают его преследовать, они показались ему и выше, и сильнее, и даже быстрее, чем он полагал, должно быть, оттого, что ружья свои они теперь сняли со спины и держали в руках, направив стволы в его сторону. Несколько мгновений он бежал, ожидая выстрела. Потам чуть пригнулся: шляпа соскользнула с головы и осталась в воздухе белой бабочкой. Простоволосый, с освободившимися руками, он напряг свои силы. Но сделал это не из страха, ведь ему было безразлично, станут ли они стрелять: он хотел умереть. Просто он пытался убежать от них потому, что они старались его догнать, словно имели на это какое-то право! Он хотел лишить их этого права. Назло!
К сожалению, он опять ушел вперед, и до леса догнать его было невозможно. Мы подумали было выстрелами в воздух остановить его, но отказались от этого. Ибо, сообразив, что жизнь его под угрозой, он помчится еще скорее. Что нам оставалось делать? Ждать, пока он споткнется и сломает ногу? Или свалится от усталости? Нет! На такое чудо надеяться не приходилось. Да и мы не могли уже остановиться, хотя отдавали себе отчет в том, что если и дальше продолжим эту игру, то покажемся себе смешными в своих собственных глазах.
«Господи, дай мне сил добраться до леса, — думал он. — В лесу — мое спасение».
Тут навстречу нам попался чабан, у которого, к нашему удивлению, не оказалось в руках посоха, а на плечах — кожуха. Похоже, и пса с ним не было, а от небольшой кучки стриженых его овец почему-то не слышалось блеяния. Он стоял недвижимо, как будто ни беглец, ни мы не вызывали у него ровным счетом никакого любопытства. Казалось, он целиком погрузился в свое привычное равнодушие, в праздное и опустошающее спокойствие. Как бы там ни было, он наблюдал за нами, прямой и безмолвный, словно бы не понимая, что происходит, или вообще не желая когда-либо это понять. У нас не было надежды, что он к нам присоединится, тем не менее мы с Яковом закричали: «Держи ею!», «Лови его!», «Не давай ему уйти в лес!» Чабан, однако, продолжал стоять, будто наши призывы не доходили до его сознания. И вдруг неожиданно, к нашей радости, он рванулся с места, отрезая беглецу путь к лесу.
На опушке он опять оглянулся и увидел, что к нему приближается третий человек. Он не был вооружен, но показался ему более опасным, чем те двое: размахивая над головой руками и испуская какие-то отрывистые звуки, словно рыча, он недвусмысленно выражал свое бешенство. Взяв чуть левее, чтоб ему не отрезали путь к лесу, беглец спросил себя: отчего тот человек присоединился к тем двоим и отчего в его намерении догнать его столько злобы! Может быть, тот рассудил, что, убегая, он уже тем самым доказывает свою вину? И удалось ли тому вообще что-либо рассудить или он оставил это на более позднюю пору? Но как бы там ни было, независимо от того, что здесь могло оказаться истинным, этот третий человек в его сознании оживил ту ужасающую суть угрозы, которая давно висела над ним. Собственно, лишь сейчас всем своим существом он осознал: коль скоро он примирился с мыслью, что спасения нет, ему не должно быть безразлично, как он умрет: он не смеет оказаться под ногами этих озлобленных людей, корчась от боли и мук, униженный, как собака, лишенный даже единственного утешения самому избрать место, время и способ ухода из жизни; он никому не должен позволить осквернить последнее мгновение своей жизни; он должен сохранить достоинство в своей смерти; он должен быть абсолютно один, чтобы спокойно, с ясным разумом и чистым сердцем проститься с неоглядным миром; из этого безжалостного и чудесного мира, который он так толком и не узнал, он должен уйти с любовью, не с ненавистью! Раздумывая об этом, он бежал все скорее, ибо черпал теперь силу не в своем упрямстве, но в самом глубинном и прекрасном отчаянии, которое когда-либо испытывал.
Тщетно мы втроем напрягали свои силы: тот, кого мы догоняли, внезапно, точно ящерица, исчез среди густых шелестящих листвой деревьев. Посрамленным и беспомощным, нам оставалось остановиться и плюнуть на все! Мы с Яковом наверняка так бы и поступили, однако чабан принялся убеждать нас, будто в этом лесу он знает каждое дупло, каждую нору, каждый лишай. Он утверждал даже, будто без труда может обнаружить в чаще и сову и лисицу, а куда проще учуять этого отменного господина, который весной убил у него овчарку и из-под самого носа сбежал! Переглянувшись, мы с Яковом молча последовали за взволнованным человеком, убежденные в том, что совесть человека, которого мы ищем, обременяет, вероятно, нечто пострашнее убийства сторожевого пса. Впрочем, независимо от того, кем он был на самом деле, нам с Яковом полагалось кое о чем с ним потолковать. Собственно говоря, будучи доброжелательными и порядочными людьми, мы всегда были склонны каждому помочь в беде, а во благе — исчезнуть, разумеется, при условии, чтобы никто нас не оскорблял и над нами не насмехался. Он же своим беспричинным бегством недвусмысленно дал нам понять, что ему страшен наш облик, точно мы были какими-нибудь чудовищами или выродками, чем, ясное дело, непростительно нас оскорбил, равно как и чуть погодя, когда, остановившись, он вызывающе молился у нас на глазах, и здесь ему удалось нас унизить, а теперь после всего, укрывшись в лесной чащобе, он может злорадно ухмыляться. Поэтому мы были полны нетерпения, лихорадочного ожидания, надеясь, что острый, собачий нюх чабана, который вел нас, очень скоро отыщет его след, и уж тогда мы без обиняков покажем ему, какую скверную и опасную игру он затеял.
Наконец он был один. Укрывшись за стволом дерева, он несколько мгновений вслушивался в их неразличимые голоса. Потом пошатнулся и опустился на колени. Однако он недолго оставался в гаком положении — тут же рухнул ничком на землю, плечи его дрожали; зарыв лицо во влажный, похожий на губку мох, он ждал, пока успокоится. Затем медленно перевернулся на спину и стал смотреть в широкие кроны златолистых буков, пытаясь припомнить их латинские названия. И хотя это усилие вызвало у него почти волнение, он не смог выдавить из памяти короткое слово. Он подумал, что, может быть, наступил момент, когда все забывается, и испугался, что позабудет даже о своем намерении, осуществить которое по собственной воле теперь представился случай. Оставалось лишь забраться на ветку потолще, которая выдержит восемьдесят три килограмма его веса. Он понимал также, что, если он не сделает этого сейчас — прежде чем эти трое его найдут, — он подохнет как собака. И тем не менее он не пошевельнулся. Он продолжал лежать, вытянувшись во весь рост, бездумно, точно на что-то надеялся или ожидал, будто произойдет нечто непредвиденное. И тут в его сознании выплыло то латинское название, которое он только что искал, и он радостно, как будто в этот миг осуществлялось его заветное желание, произнес, не пошевелив пересохшими губами: «Fagus[77]».
Осматривая вместе с чабаном влажные норы, густые буковые кроны, высокую траву, росшую меж высохших пней, мы различали запахи смолы, трутника, прелых листьев и мха. Однако присутствия нашего беглеца нам не дано было обнаружить.
Он приподнялся на локтях и по живописным теням попытался определить, как долго он лежит под златолистой кроной, закрывавшей от него небо. И хотя сразу же убедился, что тени не подвинулись даже на миллиметр, не мог избавиться от впечатления, что уже долго находится в этом прохладном месте. Теперь он мог слышать бестолковые призывы птиц и вполне отчетливо представить, как спокойно и глубоко дышит лес. Он чувствовал, как тело его наполняется силой, а сознание, совсем недавно погруженное в летаргическую пустоту, пульсирует быстрее, должно быть, удивленное тем неоспоримым фактом, что один-единственный миг, в течение которого ничего не произошло, показался ему долгим и неизмеримым, чуть ли не бесконечным. Он улыбнулся. Понял, что это объясняется тем обманчивым чувством по отношению ко времени, которое всегда воспринимается соответственно состоянию человека. Ведь мгновение страдания всегда длится дольше, чем мгновение радости. И, однако, он спрашивал себя, относилась бы и к нему эта странная закономерность, если б он передумал и решился прожить столько, сколько отпущено судьбой: показалось ли бы ему воистину более долгим оставшееся время, как и всякое страдание или, наоборот, утвердилось осознание того, что оно быстрее уходит, уменьшаясь подобно кусочку хлеба на жаркой ладони — минувший ужас последней иллюзии. Что бы там ни было, он хотел по крайней мере рассчитать, сколько реального времени ему еще остается. Он считал медленно, обращая дни в часы, часы — в минуты, и в конце все перемножил и подвел итог: если ему суждено прожить еще девяносто дней, значит, остается 2160 часов, или 129 600 минут, однако он не причислял сюда сегодняшний день, который, судя по всему, был уже напрасно потрачен. Потом ему показалось, что и это не так уж мало, разумеется, при условии, что эти мгновения он проведет на полном дыхании, так, будто каждое из них в самом деле дает единственную возможность последний раз в жизни почувствовать нечто прекрасное и совершить нечто значительное.
Вскоре к нам присоединился лесник. Сделал он это очень странным образом. Бесшумно подкрался к нам сзади и вдруг крикнул: «Тот, кого вы ищете, теперь в моем владении!» Мы вздрогнули и разом обернулись. Прежде чем смысл этих слов проник в наше сознание, он стоял важный и надменно ухмылялся, понимая, что поразил нас своим появлением и своей наглостью. «Тот человек принадлежит мне одному!» — повторил он. «Как это вам? — пробормотал Яков. — Может, вы объясните?» — «Это очевидно: в этом лесу я ответствен за флору и фауну, то есть за весь растительный и животный мир!» — «Но вы не ответственны за людей, и, следовательно, у вас нет никакого права защищать того, кого мы ищем», — сказал я. — «А у меня и нету намерения его защищать, — доверительно шепнул лесник. — Наоборот, мне хотелось бы первым схватить его за шиворот!» Но мы с Яковом этому решительно воспротивились. Мы считали, что нашего беглеца никто не может ни присваивать, ни отнимать у нас, поскольку мы с самого раннего утра бежали за ним к этому проклятому лесу, где он, к сожалению, ускользнул. Лесник в свою очередь осведомился, что нам сделал этот человек. Мы промолчали, не считая нужным разъяснять ему все те резоны и обстоятельства, которые вывели нас из блаженного спокойствия и привели в состояние необъяснимого возбуждения, с чем, судя по всему, нам не удастся справиться, пока мы не схватим этого сукина сына. «Значит, речь идет о тайне», — ухмыльнулся он. «Нет никакой тайны, но мы не желаем вам исповедоваться», — сказал я. Лесник не ответил. Зажмурив глаза, он сделал несколько затяжек. Потом деланно усмехнулся и сообщил, что этот человек, который, он сам видел, спрятался за буком, в прошлом году, осенью, украл у него ружье, и ему пришлось влезть в долги, чтоб приобрести другое, потому что в лесхозе ему было стыдно признаться, что его во сне разоружил самый обыкновенный жулик, которому, если он его сегодня поймает и тот не вернет ему двустволку или не возместит ее стоимость, он готов своими руками вырвать сердце из груди! Стараясь перекричать чабана, также требовавшего возмещения — за свою собаку, мы с Яковом решительно предупредили разъяренного лесника, чтоб он не спешил, ибо с этим человеком, пока у него бьется в груди сердце, мы должны свести кое-какие свои, и притом неотложные, счеты и поэтому предложили не терять время в напрасных препирательствах, а немедля, пока не поздно, сообща схватить дьявола за рога. Лесник, к нашему удивлению, согласился, поставив, правда, суровым, почти ледяным тоном условие, чтобы с этого момента он, лесник, стал нашим вожаком!
Он встал и коснулся ладонью нижней ветки златолистого дерева, на которой он уже не собирался повиснуть. Однако он не знал как быть: укрывшись ли в развесистой кроне дождаться ночи или же сразу вернуться на железнодорожную станцию. Он буквально чувствовал, как подобно песку осыпается его тщательно высчитанное время, и понимал, что каждый оставшийся ему миг придется распланировать и наполнить чем-то, ради чего стоило бы жить. И тем не менее он не двигался, точно был не в состоянии поверить в смысл и значение своего внезапного преображения. Он долго стоял, вслушиваясь в какой-то непонятный ему внутренний голос, пока не уяснил, что этот голос, собственно, и не принадлежит ему. Это был некий угрожающий шум, подобный скрежету металла или реву какого-то животного, коль скоро он не был приглушенным перешептыванием его преследователей. При мысли об этом его охватил страх, и очертя голову он кинулся в глубь леса.
Мы приняли это забавное условие, тогда лесник, неслышно ступая, привел нас к одинокому буковому дереву, у подножия которого мы с сожалением увидели притоптанную землю, развороченную, влажную листву, вырванный мох и шелковый черный галстук, непонятно зачем связанный в узел с тонким кожаным ремешком. Однако наш вожак, не испытывая ни тени тревоги оттого, что беглец исчез, не без превосходства усмехнулся и гордо, как олень, повернул в сторону голову. Стоя неподвижно и закрыв глаза, он пытался в тихом таинственном шелесте леса, чьи кроны, хотя не было ни малейшего дуновения, необъяснимо между собой шептались, различить и уловить шум или запах, который навел бы на след человека, всех нас интересовавшего. Вдруг, когда мы менее всего ожидали, лесник сорвался с места и ринулся в глубь леса. Поспешая за ним, мы думали, что он лишь набивает себе цену, пока среди гладких и все более густо стоящих деревьев не различили темную высокую фигуру человека, который словно топтался на месте, как перепуганное животное на исходе сил.
Ноги его по щиколотку утопали в мягкой и влажной листве, и ему показалось, что он прихрамывает. Потом он сообразил, что где-то потерял правый башмак, и, оглянувшись, поискал его взглядом. И мгновенно увидел меж высоких деревьев четыре согнутые человеческие фигуры. Сперва он даже не понял, что число его преследователей увеличилось. А когда в последующий миг его сознание приняло этот простой и очевидный факт, он поверил, что не сможет уйти от этих людей и никогда не выберется из этого страшного леса! И все-таки он продолжал бежать, чувствуя, как его страх возрастает соответственно с уже пробудившимся и все нарастающим желанием жизни. В какой-то миг, даже не остановившись, он быстрым и неловким движением руки сорвал с ноги левый башмак, и ему стало легче бежать.
К сожалению, мы с трудом поспевали за ним, потому что бежал он быстро, поворачивая то влево, то вправо, рассчитывая сбить нас со следа.
Теперь ему казалось, будто он бежит по кругу, ибо он потерял всякое представление о пространстве и о времени. Во всеобщей и неестественной тишине лес воспринимался холодным и неподвижным, точно вырезанный из темно-желтой меди, и он уже не различал даже собственного дыхания, а тем более движения птицы или шума листьев на ветках.
И в самом деле, ему удалось раствориться в этом лесу, который в дрожащем свете августовского полдня был наполнен гомоном птичьих хоров и бесчисленными таинственными звуками, точно выражая таким образом свою радость оттого, что предоставлял ему убежище, а может, и спасая его.
Он вертелся в заколдованном кругу леса и тишины, и ему вдруг почудилось, будто его окружает тот самый лес призраков, в который давно, в одну из ночей своего детства, он убежал с пастбища на Прекорнице, и, хотя он уже не помнил, был ли он тогда виноват или только думал, будто провинился — как, впрочем, и сейчас не знал, какая вина связывает его с теми, кто столь упорно его преследует, — он только хорошо помнил, что той далекой ночью больше боялся людей, чем волков, почему он и не откликнулся на призывы своих родных, которые с зажженными факелами искали его, умоляя вернуться; испытывая усталость, голод и холод, дрожа от пронзительного волчьего воя, он оставался до рассвета в лесу, глядя на самую большую белую вершину Прекорницы, занятый мыслью, как бы на ней, под мерцающим небесным сводом, найти убежище и освободиться от своего страха. Он вспоминал сейчас об этом, и та нереальная белая вершина вдруг снова, точно из тумана, возникла у него перед глазами и тотчас подтвердила впечатление, будто он по-прежнему находится в ледяном лесу своего детства.
Мы долго искали его, судя по всему тщетно, терзаемые шипами, сучками и крапивой, попадая в муравьиные кучи и каменные норы, заросшие высоким бурьяном. Ветки хлестали нас по глазам, и пчелы кусали нас. В царапинах, мокрые от росы и перепачканные землей, мы, разумеется, испытывали безумную ярость к этому сукину сыну, которому громко сулили, что, мол, попадись он нам в руки, он горько раскается в том, что вообще попался нам на пути.
Он вдруг споткнулся и ощутил резь в глазах от ослепляющего сияния августовского дня и колеблющегося простора плоскогорья. Однако устоял на ногах и зашагал все еще твердо, прикрыв козырьком левой ладони глаза и таким образом защитив их от жгучего солнца и дрожащего марева дали.
Выйдя из леса, мы опять увидели его: он уходил по зеленой равнине. И хотя он далеко нас обогнал, было видно, что он качается и ковыляет, точно пьяный или вконец изнемогший от усталости, первым делом напрашивался вывод, что он не в себе, ибо вышел на эту неоглядную равнину, где у него не было никаких шансов от нас ускользнуть.
Однако, независимо от того, какую радость и облегчение он испытал, вырвавшись из холодного и мертвенного леса, он пока не знал, сможет ли обогнать солнце и удастся ли ему преодолеть эту неизмеримую даль перед собой.
Нас обуяло бешенство, оттого — это без всякого преувеличения можно было предположить — что здесь, на гладкой равнине, от нас не уйдет и самый быстрый зверь, а тем более неловкий и утомленный человек.
Он больше не оглядывался, проверяя, сколько человек его преследует и как близко они к нему подошли, так как знал: глаза, в сверканье раскаленного дня, наверняка бы его обманули. Он бежал прямо по пустой и мягкой траве, волшебными горами манившей его и призывавшей нырнуть в нее, как в колышущуюся воду — вот так, вытянувшись, недвижно он бы камнем пошел на дно! Желание это стало внезапно столь сильным, что он подумал, будто не сможет воспротивиться ему, хотя и сознавал, что не смеет больше останавливаться, позволяя этим людям приблизиться. «Если ты не выдерживаешь, — сказал он себе, — попытайся найти силу, думая о самом важном! Думай о том, ради чего ты решил жить!»
Потом мы заметили, что с нами бегут какие-то люди, чье присутствие мы не были в состоянии объяснить. Можно было, правда, предположить, что это отдыхающие из какого-то дома отдыха, расположенного неподалеку в горах, или бездельники-туристы, не устоявшие перед заманчивым искушением принять участие в волнующей и как будто азартной игре. Разумеется, нам ничто не мешало осведомиться у них, кто они и для чего к нам присоединились. Но мы этого не сделали: раз уж мы все вместе преследовали одного человека, какое значение имело то, что объединило нас против него!
Взглядом, обращенным назад, в прошлое, он пытался уцепиться за что-нибудь, что придало бы ему и воли и, силы. Однако тщетно: у него не было сына, который продолжил бы его род; не было жены, которая оплакала бы его; не было даже, после пятнадцати лет упорных исследований, той химической формулы, которая сохранила бы след его жизни! Ему вдруг показалось, будто он оставляет после себя лишь пустошь и праздность, из которых он не в силах вызвать хотя бы одно событие, одно лицо, один голос, один запах — ничего из того, что бы могло убедить его, что он воистину жил. Вытянув руки к фиолетовой дали, которую нельзя было охватить даже взглядом, он вдруг зарыдал: он глотал слезы, смешанные с потом, отягощенные желтой пыльцой, которая, осыпаясь с растоптанных им цветов, парила над ним, точно рой сверкающих насекомых. Но и в эту печальную минуту своего преображения он сам не понимал, плачет ли он оттого, что все в жизни ускользнуло от него и промчалось мимо, точно он не умел или не хотел жить, или же своим недоступным контролю внезапным плачем он, по существу, примирялся с фактом, что за отпущенные ему такие мгновенные 2160 часов он не сможет возместить ничего из того, что за прошедшие тридцать семь лет упустил.
Вскоре мы узнали, почему к нам присоединились эти хлопотуны. Один из них вдруг крикнул: «Я больше не желаю убегать! Я не виноват!» Приятели окружили его, убеждая, что они тоже ни в чем не виноваты, но вот убегают, ибо приходится, из этого следует, что ему не стоит столь легкомысленно подвергать себя опасностям. Мы наблюдали за ними со стороны и смеялись их ошибке. Яков сказал им: «А мы не убегаем, мы сами преследуем!» Они взглянули в том направлении, куда Яков вытянул свою длинную руку, и лица их прояснились. Потом они принялись расспрашивать, что нам сделал этот человек и как мы решили поступить, когда его догоним. Мы же, ясное дело, помалкивали. Они упорно к нам приставали, и я не выдержал: «А какое, черт возьми, вам до этого дело?» — «Простите, но уж коль скоро мы кого-то преследуем, то хотим знать, в чем заключается его вина», — ответил тот, что утверждал, будто он не виноват. — «А кто сказал, что мы позволим вам его преследовать», — осклабился лесник. Отойдя в сторонку, те стали шепотом совещаться. Наконец один из них решительно произнес: «И тем не менее мы тоже за ним немного побегаем, поскольку никто нам этого запретить не может». — «А что вы имеете против него?» — спросил я. «Это наше дело, — надулся самый маленький среди них, — мы не обязаны давать вам отчет, не так ли?»
Потом ему пришло в голову: может быть, и не все для него потеряно; если каждый последующий миг он проживет на полном дыхании, как будто последний в жизни, — возможно, в конце концов он поверит в то, что прожил столько, сколько нужно!
И теперь мы все вместе его догоняли. Но поскольку ему — не оттого ли, что он бежал прямо и больше не оглядывался, — каким-то чудом удавалось сохранять между нами прежнюю дистанцию, мы сами себе казались смешными и жалкими: солнце било нас по затылку, пот заливал глаза, мы спотыкались от изнеможения, нас мучила жажда. Возможно, поэтому мы вдруг стали ругать его, называя разными бранными именами и осыпая самыми черными проклятиями, которые недвусмысленно говорили о нашей решимости рассчитаться с ним без пощады.
Однако он не знал, что нужно сделать, дабы в это поверить: найдет ли он то, может и не существующее, химическое соединение, на поиски которого растратил свою молодость; успеет ли познакомиться с теми далекими городами, горами и морями, по которым он так тосковал, откладывая путешествие на потом, до лучших времен; перецелует ли он за эти короткие оставшиеся ему ночи женщин, которых, запершись в своей лаборатории, он не успел даже пожелать; сможет ли испытать волнение по поводу тех явлений, которые оставляли его равнодушным; сумеет ли в том, чего не замечал всю жизнь, вдруг найти красоту, доставляющую наслаждение; сможет ли испытать страдание и счастье в той мере, насколько необходимо для того, чтобы поверить, будто ты на самом деле прожил отпущенный тебе век?!
Но беспомощно поспешая за ним, мы уже боялись, что не догоним его, потому что на самом-то деле он бежал быстрее нас и с каждой минутой удалялся все больше, словно там, на краю пожелтевшего плоскогорья, его ожидало нечто, к чему он отчаянно стремился. Что нам еще оставалось, как не возненавидеть его? Разумеется, возненавидев его, мы в первый миг даже не подозревали о том, насколько это сильное и удивительное чувство, определившее наше отношение к нему, стерло все различия в побуждениях, по которым мы до сих пор его преследовали, так что вскоре, сближенные и чем-то ставшие одинаковыми даже внешне, мы теперь походили друг на друга: потные, с искаженными лицами, устремленные вперед, мы бежали в одном ритме и дышали одним дыханием, точно стая измученных собак, чьи силы поддерживались яростью и ненавистью.
Пока он искал ответа на эти вопросы, жизнь его — из собственной смерти, в которую он смотрел точно в темное зеркало, — внезапно, с ужасающей ясностью отразилась подобно некоей картине, с неверными контурами и кричащими красками, заплясала перед глазами, неожиданно открывая, что смысл человеческого существования прежде всего заключается в любви и красоте, следовательно, во всем том, чего на этой выцветшей и искаженной картине его жизни вовсе не бывало. Он был взволнован постижением этой чудесной и простой тайны, всегда ускользавшей от него, и ему показалось, будто местность вокруг преображается: зубчатые и черные вершины гор становились прозрачными и, подобно утопающим теням, растворялись в лоскутном, пестром своде неба; острая трава, совсем недавно опутывавшая его ноги, становилась мягче и голубее, а целая эта колышущаяся равнина казалась ему морем! Однако всеобщая перемена не удивила его. Он понимал, что зримое в нем преломляется иначе, ибо он уже был в состоянии во всем обнаружить ту потаенную красоту мира, которому принадлежал, и ощутить любовь ко всему, что этот мир составляло. Он уже верил, что ему удастся обмануть свою судьбу. Должно быть, поэтому он и бежал быстрее, сознавая, что в безумной гонке его поддерживают теперь не страх, не отчаяние, но лишь та трепетная мысль о возможности подлинного спасения, мысль, от которой он все больше приходил в восторг, он спотыкался, чувствуя, как у него в груди ширится огненная волна, а тело полыхает внезапной и необъяснимой тоской по морю!
По существу, наша ненависть к нему была равна самому удивительному и самому жгучему желанию.
Он желал в тот миг услышать не поддающееся разгадке звучание волн, бьющихся о берег; усыпляющую тишину штиля тех ослепительных дней, когда на потемневших камнях согреваются лишаи, а перезрелые, потрескавшиеся смоквы истекают сахарным соком; он желал услышать то высокое, почти болезненное стрекотание невидимых кузнечиков; почувствовать горький и едкий запах соли, дегтя, морской рыбы, высохших водорослей, йода, красного вина, прогорклого оливкового масла; он желал увидеть тихие ночи под низким небом, которое, подобно серебристому колоколу, мерцает в недрах морской пучины; он желал оказаться на каком-нибудь пустынном южном пляже, возле Будвы, где, вытянувшись на раскаленном песке, будет лежать один, неподвижный, опьяненный всем сущим, словно оно создано ради него; и на грани отчаяния он желал жаркого, бесстыдного женского тела, оголодавшего от солнца и ожидания, тела, в которое он погрузится целиком, позабыв о смерти и времени!
Мы хотели поскорее догнать его и за все испытанные нами муки и за все беды, сопутствовавшие нам, как могли, сурово наказать. Охваченные этим неодолимым желанием, мы не в силах были удержаться, чтобы короткими, отрывистыми возгласами и яростными воплями, которых он, к сожалению, не мог слышать, не обещать ему, что мы раздавим его, как змею, пока последняя крупица плоти не отвалится с его тела, а кожа не станет синей, как индиго; мы вырвем ему ногти и выдернем зубы; мы набьем ему рот землей; мы наплюем ему в глаза; и наконец, пока он будет жить и понимать, что с ним творится, мы вырвем у него сердце, ежели оно у него вообще существует!
В этот дивный миг, когда, сгорая от тоски по морю, он обнимал весь неоглядный мир, ибо сам к нему принадлежал и знал, что будет принадлежать до последнего дыхания, ему и в голову не приходило, что его израненные ступни оставляют на смятой траве кровавый след. Глаза у него перестали болеть, и он уже не защищал их ладонью от слишком сильного света, а в волнующемся пространстве, границы которого постоянно раздвигались, он не чувствовал себя мелким и беспомощным, как совсем недавно.
Но пока, почти ослепнув от жажды, гонки и ненависти, мы мыкали свою муку, к нам непрерывно присоединялись, точно вырастая из земли или сваливаясь с неба, крестьяне с вилами, косами и кольями, альпинисты в пестрых шапочках, ботинках с шипами и кругами веревок, немощные и бледные туристы в чистых и светлых летних костюмах. И все они, независимо от того, были ли у них причины к нам присоединиться или они, увидев нас случайно в нашей безумной гонке, открыли для себя неожиданную возможность пережить нечто особенное и возбуждающее, на удивление легко приспосабливались к нашей ненависти и включались в нашу шумную толпу, которая ближе и ближе, подобно обезумевшему ветру, подобно огню, настигала этого обессиленного и, судя по всему, погибавшего человека.
Все вокруг казалось ему прекраснее и реальнее, чем утром, и он больше не думал о том, что кто-то мог или желал причинить ему зло.
Подхваченные неизмеримой злобой, объявшей нас, мы не сразу заметили, что с нами бегут какие-то женщины в черном, маленькие и сухонькие, точно лесные вороны: они то и дело останавливались и гнусавыми тягучими голосами, всхлипывая, на что-то жаловались, поминая господа и, должно быть, умоляя нас о милосердии — что нас еще больше распаляло и заставляло изо всех оставшихся сил устремляться вслед человеку, к которому мы настолько приблизились, что теперь даже чудо не могло бы его от нас спасти.
Словно желая убедиться, что ему ниоткуда не грозит никакая опасность, он неожиданно остановился.
Внезапно, не понимая, что с ним произошло, мы увидели, что он стоит, как-то нелепо перегнувшись пополам и раскачиваясь, будто кому-то кланялся, или земля, до судного часа, влекла его к себе и не давала выпрямиться. Лишь спустя несколько мгновений заметили мы, как он выпрямился во весь свой полный рост.
И медленно повернулся, почти убежденный, что никого не увидит.
И вот так, выпрямившись во весь рост, тощий, абсолютно черный, он ожидал нас, похожий на оголодавшего ворона.
В самом деле, сперва ему показалось, будто в этом равнинном пейзаже, погруженном в фиолетовую тишину послеполуденного часа, все неподвижно и он наконец остался один. Но обширное пространство между лесом и ним вдруг ожило, у него перехватило дыхание, и он спросил себя, можно ли вообще верить тому, что увидели его глаза.
Едва ли можно было поверить, будто он настолько наивен или поглупел, чтобы у нас, которым он бросал вызов, которых унижал в мучил целый день, он теперь мог искать милосердия, зачем он нас тогда ждал? На что он надеялся?
А глаза его увидели, как сквозь высокую траву подступает к нему бесчисленное множество человеческих фигур. Они обгоняли одна другую, падали, снова поднимались и все стремительнее приближались к нему, точно соприкосновение с землей, на которой они унюхали или лизнули его кровавый след, влило в них силу и подкрепило ненависть, а он почти не мог избавиться от впечатления, будто в эту долгую и страшную минуту на него кидается свора разъяренных собак, которым ничто не помешает разорвать его и по клочьям, как тряпку, разнести по этому синему плоскогорью, в чьих проснувшихся высотах он уже слышал вой заблудившегося и равнодушного ветра, а гложет быть, то самое неумолимое и невозможное звучание времени!
Мы догоняли его, и наша ярость не ослабевала — теперь ничто не могло нас ни поколебать, ни остановить!
А он и не собирался убегать, так как чувствовал, что от высвобожденной ненависти стольких людей нельзя и некуда убежать!
Однако мы внезапно остановилась, потому что неведомо отчего он двинулся нам навстречу. Потрясенные, мы смотрели, как неспешно он подходил к нам, будто не касаясь земли и глядя куда-то поверх наших голов, должно быть вдаль, и улыбался, точно слепой или безумный. Со лба его стекал пот и струился по продолговатым заросшим щекам, отчего казалось, будто он плачет.
Он улыбался, вспоминая, как в детстве, сразу после смерти отца и матери, он вообразил, будто из любого взгляда и любой руки, пусть даже протянутой для ласки, ему грозит некая непонятная опасность, почему он всякий раз — когда его охватывало отчаянье, причины которого он не мог разгадать, или, как подобает сироте, чувствовал себя среди сердитых и грубых родственников потерянным и ненужным — стремился к нереальной белой вершине Прекорницы, которая с той самой волчьей ночи в такие моменты казалась ему единственной возможностью избавления, и вот спустя столько лет, к своему удивлению, сейчас, в эту минуту, шагая навстречу бурлящей человеческой массе, он отчаянно старался увидеть чистые и светлые контуры в пустынном небе и таким образом хотя бы мысленно возвыситься над самим собою и своим страхом.
И только когда он приблизился к нам вплотную, мы разглядели отражение гримасы невыносимой боли на его заострившемся, удлиненном лице, с большими побелевшими глазами.
Но теперь он не смог, как бывало, с затуманенным взором вызвать спасительное видение и с грустью и изумлением спросил себя, как мог он позволить этим людям — от которых ведомый необъяснимым инстинктом еще в детстве убегал скорее, чем от волков, — позволить догнать его именно сегодня, когда более всего ему нужно было от них убежать?
И точно увидев воочию перед собой дьявола или вампира, мы замерли на месте от ужаса!
Потом ему показалось, что в той прежней картине, которая жгла ему глаза, нечто изменилось, но он не мог сразу понять, что бы это могло быть. И только спустя несколько мгновений заметил, что люди, утомленные и взмокшие от пота, медленно отступают, отодвигаясь от него, словно опасаясь, как бы он не приблизился к ним. Он улыбнулся еще раз, удивленный этим неожиданным поворотом событий, в который было трудно поверить, и подумал, что, наверное, и в нем что-то стало меняться, так как в трепетной и сладостной жути своего тела уже мог почувствовать совсем новое и сильное ощущение, которое под приглушенный шум крови стремительно отодвинуло все в нем существовавшее до той минуты.
Мы попятились, уступая, видимо, почти нечеловеческой ненависти в его лице, которая, к нашему удивлению, внушала не страх, но лишь некое непонятное бессилие, мешавшее в эту минуту ему противостоять.
Он понимал, что в нем растет ненависть к этим людям, отступающим перед ним, к траве, впитывающей его кровь, как росу, к морю, которое он никогда не увидит, к женщинам, которых он хотел любить, к свету, который потухнет у него в глазах, ко всему сущему, потому что все это будет существовать и без него!
Мы готовы были поверить, что он чем-то нас околдовал!
И вот, возненавидев весь сущий мир, он поверил, что может сгореть или сойти с ума!
И только женщины в черном своими всхлипываниями и чуть слышными причитаниями, наверное, могли противостоять той незримой и неодолимой силе, которую этот преобразившийся человек, видимо, приобрел над нами!
И тут из тумана некоего совсем иного времени возникло и, как ясное незамутненное явление, приблизилось все, что когда-то, в детстве, он слышал в причитаниях и шутках при рассказе о необъяснимом событии, происшедшем за много лет до его рождения, может быть, именно в августе — раскаленном, как сейчас, и, может быть, в тот же самый день, когда его прадед Йоксим, старец девяноста трех лет, начал свою иную жизнь, причем в тот миг, когда люди, собравшиеся вокруг его смертного ложа, на котором, неподвижно вытянувшись, он уже давно лежал почти без дыхания, трепетавшего подобно огоньку свечи на ветру, — люди считали, он скончался, что, однако, неожиданно оказалось ошибкой, так как этот огромный опухший старик вдруг открыл левый глаз и долгим взглядом, в котором не было ни блеска, ни боли, ни надежды, обвел лица домашних, родных и соседей, ничем не показывая, что кого-либо узнал или что-либо от них ожидает, пока, вероятно, случайно, не заметил на земляном полу приготовленный гроб, грубо сколоченный из сырых ароматных еловых досок, и белый саван, пожелтевший от дождей и солнца, и это, несомненно, побудило его, вопреки всем законам природы, приподняться, но так медленно, точно на спине своей он поднимал гору или стряхивал с себя смерть, уже оседлавшую его, а затем, ко всеобщему изумлению, совсем встал и, не глядя ни на кого этим своим открытым глазом, как вампир, медленно и беззвучно приблизился к пылавшему очагу и еще медленнее костлявой рукой вытащил из закипавшего котла кусок мяса, приготовляемого по установленному обычаю для трапезы за помин души, и точно не утоляя голод, но кому-то назло, съел этот кусок, и сразу после этого, опять-таки словно был здесь один, взял тяжелый топор и, тяжко вздыхая, как больное животное, разрубил на кусочки свой пахнущий древесиной гроб, а был тот длиною в два метра, а шириной как его огромная спина, которая вдруг, едва он выпустил топор в ароматные и белые щепки, сама собою согнулась в дугу неведомой угрозы — адресованной домашним, родным и соседям, по-прежнему убежденным, что своим неожиданным воскресением он желал последний раз с ними пошутить — в чем он их тут же разуверил, когда, прикрывшись хитрой улыбкой, отчего еще глубже стали борозды на сморщенном лице, раскрыл и второй глаз и впервые, огромный, лохматый и опухший, воняющий мочой и смертью, взглянул на них всех, разглядывая их пронзительно и строго, в то время как они, толкаясь, опустив глаза, отступали в ужасе от пережитого и не подозревая, что в конце концов тяжелым и грубым ругательством он их всех разом выгонит из дома, который еще в молодые годы голыми руками построил, и таким образом недвусмысленно их убедил, что он на самом деле отложил свою кончину, хотя они могли уразуметь это и на основании его требования из савана сшить ему рубаху и двое портов, которые в течение девяти лет, что он прожил после этого, надевал лишь в исключительных случаях, когда кого-либо из этих людей, перед чьим потрясенным взором он восстал из мертвых, надо было проводить на кладбище! Думая теперь об этом как о чуде, которое никогда никому не удалось объяснить, он словно темным предчувствием ощутил, что пращуру его, Йоксиму, лишь ненависть ко всем этим людям, равнодушно ожидавшим, пока он испустит последний вздох, могла возвратить утраченную силу и влить упрямства, чтобы продлить почти угасшую жизнь. И он обрадовался, что сумел проникнуть в эту тайну, точно и сам верил, будто, подобно старику, кровь которого текла в его жилах, в своей ненависти сможет найти избавление, которое — увы — не удалось найти в любви. И в самом деле, ему показалось, будто легче дышится, будто из земли через окровавленные и изрезанные ступни в него проникает неведомая сила, которая, может быть, и не принадлежала ему. И он подумал, что сейчас смог бы убежать от этих людей, если воспользуется своей ненавистью прежде, чем они придут в себя!
И тут перед вашими изумленными взглядами он закружился на месте как волчок и опять пустился бежать. Мы смотрели ему вслед, не трогаясь с места. Он бежал так быстро, что мы не могли уже отделаться от впечатления, будто ему помогает невидимая таинственная сила — вне всякой яви, которую мы были бы в состоянии понять.
И вот теперь, вновь убегая, он понимал, что всей тяжестью своего отчаянья опирается на старца Йоксима, своего страшного и незнакомого предка, чью неизбывную ненависть и нечеловеческую силу он словно принимал в себя, защищая этой простой и реальной связью — восстановленной сквозь непонятную пустоту пространства и времени — чудесную надежду, что ему все-таки удастся совладать со своей судьбой!
Одному богу ведомо, почему мы вдруг кинулись за ним. Наверняка не из зависти. В нас не было той ненависти, которая могла вновь погнать за этим призраком, при виде которого волосы у нас вставали дыбом и застывала кровь в жилах. Речь шла, следовательно, о чем-то ином, более страшном и опасном. Может, это была смерть, увидев которую у него на лице, мы в первый миг не узнали, но которой не могли противостоять, — безразлично, преследовали ли мы это исчадие ада, с тем чтобы его уничтожить, прежде чем он нас подчинит себе, или же сами повиновались его магической силе и лишь следовали беспомощными тенями, влекомые его волей.
И он уже надеялся, что, упившись дыханием своего прадеда Йоксима, сможет отпущенные ему минуты растянуть, как знать, и на девять необозримо долгих лет жизни.
Разумеется, все мы, кто как умел и знал, отгоняли от себя даже самое мысль о том, что этому призраку удастся нас одолеть: одни крестились, другие плевали ему вслед, третьи что-то пели, иные, украдкой, плакали, в то время как женщины в черном, отстав, теперь в полный голос зловеще причитали, то ли над нами, то ли над ним!
Он даже спросил себя, почему он считает свои дни и годы, почему не надеется на нечто светлое и прекрасное, почему не поставил своей целью достичь глубокой старости деда Йоксима — раз уж знает, что найдется и для него лекарство во всеобъемлющей и всепобеждающей материи природы, и раз он чувствует, что лекарство это, вероятно, уже завтра кто-нибудь обнаружит. Убыстряя бег, он свыкался с этой мыслью, и ему казалось, что он заплачет от благодарности к этому неизвестному, маленькому и, скорее всего, несчастному и одинокому человеку, который и ему, и целому миру принесет спокойствие своим, наверное, совсем случайным открытием.
Лесник и мы с Яковом, стреляя в воздух или, быть может, в него, подобно остальным, пытались избавиться от страха и всех тех чувств, которые в ту минуту были не в состоянии осознать.
Но внезапно его охватил страх: а вдруг ему не удастся дотянуть и из-за подлой игры судьбы он умрет в тот самый день, когда спасительное лекарство будет найдено. И вновь у него перед глазами возникла страшная картина разложения.
Как бы там ни было, у нас в самом деле больше не осталось к нему ненависти, она угасла, должно быть, оттого, что нас слишком занимала мысль о том, что между нами и этим человеком — который опять, высокий и словно нереальный, в трепетном свете солнца уходил по пожелтевшей равнине — встала нечистая сила, удерживая нас с ним в какой-то невидимой и загадочной связи!
И он подумал, что ему не будет спасения, если, подобно своему прадеду, он сразу не сделает что-то исключительное, выше сил и разума человеческого, и самому себе в последний миг не поможет! Он бежал, спрашивая себя, как бы поступил его пращур, на чью силу и ненависть он еще опирался, и мгновенно его охватило сверхъестественное предчувствие, что удивительный старец Йоксим каким-то вновь обретенным инстинктом, чутьем нашел бы ту единственную траву со спасительным противоядием посреди живописной луговой растительности. И тут же ему почудилось, будто кто-то влечет его руку к высокому стебельку белладонны, чье латинское название Atropa Belladonna показалось ему теперь прекраснее имени любой женщины. Не останавливаясь, на бегу, он сорвал ее листок, похожий на табачный, поднес его, точно молитвенник, к потрескавшимся губам, а куснув, мгновенно почувствовал на пересохшем нёбе горький вкус ядовитых алкалоидов. Разумеется, он не ожидал чуда от этого широкого и шершавого листа, покрытого белесыми ворсинками, но вдруг до отчаянной боли ему захотелось найти на этом лугу, очаровавшем его своими трепещущими красками, одурманившем сильными запахами, все те целебные травы, которые он в состоянии был припомнить: спорынью, шалфей, лютик, кукушкины слезки, дурман, белену, красавку, полынь, наперстянку, горицвет, горчицу, ландыш, мыльнянку, хвощ, татарник, мать-мачеху, кантарион, можжевельник, тысячелистник, стальник, ромашку, коровяк, тимьян, болиголов, анис, мяту, медуницу, донник, лаванду, чистотел. Подчиняясь этому желанию, он опустился на колени и, как животное, вдруг лишившееся всей инстинктов и рефлексов, судорожно пополз.
Насколько эта связь между ним и нами была прочной и неразрывной, яснее всего обнаружилось в тот момент, когда он исчез из наших глаз, — может быть, столь же необъяснимо, как и возник на рассвете передо мною и Яковом, — ибо вместо того, чтобы почувствовать облегчение и даже запеть от счастья, что наконец-то мы от него избавились, мы вдруг взволновались, точно не могли существовать без него.
Он ползал и совал в рот, жадно и судорожно глотая те целебные травы, которые ему удавалось узнать или которые, как он думал, узнавал, не пропуская ни одного перезревшего колоска или метелки, ни одного терпкого, сладкого или сочного лепестка, ни одного синего, розоватого, голубого, темно-зеленого, желтого, красного или белого цветка, ибо не знал, в каком из них скрывается тайна его спасения. Ужас и отвращение наполняли его, вызывая рвоту. Но он был этим счастлив, так как по вкусу на губах был убежден, что сейчас в самом естественном виде поглощает кумарин и танин, сапонин и гликозид, соединения фенола, хлорофилла и органические кислоты, слизи и эфировые масла, арбутин, сахар и многие иные незнакомые и пока не обнаруженные химические субстанции, которые, он надеялся, все вместе, перемешанные и смоченные его слюной, восстановят гармонию и взаимную связь в новой и чудотворной формуле, которая его полностью исцелит.
Не удивительно, что мы ощущали: этот человек слишком вошел в нашу жизнь, чтобы мы могли примириться с мыслью, что он навсегда для нас потерян.
Потом он лег и закрыл глаза. Он не испытывал больше ни страданий, ни отвращения. Он был абсолютно спокоен и опустошен, поверивший в то, что спасен и будет жить!
Мы долго искали его — озираясь и рыская взглядами по гладкой равнине. Но его не было. И только заметив, как вдали, над травой то и дело взлетают птицы, точно их кто-то вспугивал, мы опрометью, без колебаний устремились туда. Нас вели Яков и лесник, стреляя на бегу чаще, чем прежде, — не для того ли, чтобы дать понять этому необъяснимо исчезнувшему существу, что мы от него не отреклись.
Мысль о преследователях заставила его открыть глаза: он глядел в высоту, в бесконечное небо, но, по существу, был устремлен в самого себя. И он вопросил себя: «Спасен ли я? Есть ли для меня спасение?» И, не двигаясь с места, лежал, спокойный и умиротворенный, сознавая, что сделал все, что мог, для своего спасения и уже ничто не зависит от него.
И хотя мы бежали наугад, подгоняя друг друга, ибо солнце, склоняясь к острым пикам гор, предупреждало, что день на исходе, о чем можно было заключить и по встревоженным птицам, которые, кружась плотной стаей у нас над головой, искали места для ночлега. Значит, нельзя терять ни мгновения, а надеяться приходилось только на случай или чистое везение, удастся ли обнаружить беглеца.
Взгляд его вновь взмыл в пустынное пространство и остановился на белом, пронзенном светом облаке, которое возникло подобно снежной вершине Прекорницы, и он с радостью подумал, а вдруг он все-таки достиг своей Черногории и что, если его не обнаружат до конца дня, ему удастся достигнуть родины. Поэтому он решил здесь, скорчившись и укрывшись в высокой траве, дождаться ночи.
Устремись вперед очертя голову, мы заметили слева — точно она выросла из земли — одинокую лачужку, у желтой выложенной из тесаных бревен стены чернели две человеческие фигуры. Судя по всему, мужчина и женщина. Они махали нам, как-то замедленно и отсутствующе, точно руки им плохо повиновались. И собака, которой нам не было видно, как-то одышливо выла.
И все-таки он не сумел преодолеть искушения выпрямиться. С трудом держась на исцарапанных, опухших ногах, он медленно повернулся. Он был уверен, что левым глазом — потому что правый был закрыт, как у старца Йоксима, когда тот восставал из мертвых, — увидит обезумевших людей, которые, высунув языки, с пожелтевшими зрачками беззвучно подбираются к нему с ружьями, вилами, топорами, ножами и палками. К своему удивлению, он никого не увидел! А когда раскрыл и тот, другой свой глаз, понял, что он на самом деле один.
Почему тот человек и его жена так долго махали нам, словно навеки нас провожали? Почему их собака так испуганно выла, словно учуяв в нас дыхание смерти? Почему нас охватило отчаяние при мысли о том, что этот человек навсегда исчез? В самом ли деле мы стремились к нему? Или обманывали себя — пытаясь убежать от самих себя? Что происходило с нами?
Чуть погодя он увидел людскую лавину — слева от него она катилась по крутому откосу точно разбитый рой пчел. В обманчивом свете августа ему показалось, будто это не люди, а злые духи, которых он, отчаявшись, что не может убежать от самого себя, призвал наяву, чтобы, спасаясь от их ненависти, обрести право возненавидеть весь мир, который ему приходилось покидать. И он уверовал в то, будто выдумал боль в своем желудке, будто все происшедшее с ним этим пустынным и знойным днем — лишь его собственное видение, какой-то тяжелый и необъяснимый кошмар. И он обрадовался, что теперь навсегда избавится от этого кошмара, вместе с этими нелепыми призраками, исчезнувшими в дрожащем мареве солнечного заката. Он чувствовал, как возвращается к нему сила, но в бегстве не помышлял. Наконец-то он мог определить свое место в этом беспредельном мире, ибо был уверен, что станет жить и после всего минувшего и потонувшего в бездне, сумеет жить так, как следует! Теперь он знал тайну, потому что постиг суть бытия — смысл сущего прежде всего следует искать в любви и красоте. Может быть, поэтому он и захотел одним-единственным взглядом охватить неизмерную ширь этого дикого и неведомого края, где ему удалось победить самого себя! Он оглянулся по сторонам, а потом, освобожденный от страха смерти и страха перед людьми, устремился к высокой зубчатой скале, которая подобно огромному пористому грибу возвышалась посреди волнующейся равнины. Он бежал, не чувствуя ни усталости, ни боли. И даже не опирался на силу своего пращура Йоксима. Ничья помощь ему не требовалась!
Мы понимали: ответ на вопрос, порождавший в нас страх и беспомощность, таился в человеке, который столь необъяснимо у нас на глазах исчез. Поэтому мы не могли прекратить поиски его, хотя нам начинало казаться, что мы его не найдем!
Он стоял на вершине скалы, задыхающийся и счастливый, в то время как внизу бесцельно бродила толпа людей, правда, уменьшившаяся и прореженная. Между бездонными просторами земли и неба она показалась ему жалкой и беспомощной горсткой. Он видел, как люди нагибались к земле и рыскали в кустах, а потом, должно быть, полные отчаяния, что его нигде нет, крутились, как осы, накрытые большой стеклянной банкой. Они казались ему такими ничтожными и несчастными, что он стал сомневаться в их существовании. У него возникло желание крикнуть им что-нибудь обидное или сделать вызывающий жест, так как он был убежден, что избежал опасности, словно уже находился на белой вершине Прекорницы.
В своих становившихся все более безнадежными блужданиях мы совершенно случайно обнаружили родник, который, к нашему удивлению, не выходил из берегов маленького естественного ложа, похожий на крохотное озерко, фиолетовый зрачок гор, устремленный в неизмеримую даль ослепительного неба. Слишком разгоряченные и взмокшие, мы не решались пить! Лишь в первый миг искушения мы склонились к прозрачной студеной воде, чтобы остынуть в ее дыхании — вовсе не предполагая, что в ней, точно в живом зеркале, отразятся наши измученные, чужие после сильных волнений и пробудившихся страстей обезображенные лица. Смущенные собственным видом и пристыженные, мы позабыли о своей недавней осторожности и разом, точно повинуясь какому-то внутреннему голосу, ладонями возмутили и разбили это отвратительное и неприличное видение, предававшее нас в собственных глазах. Лежа на животе друг возле друга вокруг этого ледяного котла, мы утоляли, точно изнеможенные животные, свою мучительную жажду!
И в самом деле, он ничего не боялся. Устремленный ввысь и трепещущий — подчиняясь высоте, с какой он смотрел на мир у своих ног, — он думал: «Значит, эти люди не существуют, если мне удалось навсегда от них убежать!»
Потом мы лежали в траве — неподвижные и, должно быть, опьяненные благотворным и едва ли не чудесным действием живой студеной воды, возвращавшей нам утраченную силу и пробуждавшей ту подавленную благость и давно утраченное спокойствие, отчего неожиданно возникало желание оставить наконец это проклятое привидение и, коль скоро это возможно, вовсе о нем позабыть.
Из простого и очевидного факта, что вопреки всему он от них ускользнул, он теперь сделал вывод, что оказался и быстрее и выносливее их всех вместе взятых, а это в его только что пробудившемся сознании было более чем веским доказательством того, что он здоров и что в его историю болезни по чьей-то грубой ошибке записали чужой диагноз. Теперь он был в этом убежден, точно так же как уверен в том, что из-за трех латинских слов — которые никогда не относились к нему — он убил бы себя, если б игрой случая самым своим появлением не пробудил в людях страстный инстинкт догнать его, а может, и покончить с ним, что заставило его пройти сквозь всевозможные искушения, сквозь тяжкий сон, сквозь таинственные дебри и неведомое в себе самом, пока в конце концов, очистившись, ему удалось постигнуть и почувствовать суть и смысл жизни, а тем самым обнаружить во мраке, в котором он почти исчезал, подлинный путь к избавлению, к неведомой прежде высоте, недоступной их взглядам. Думая об этом, он вдруг испытал к этим жалким и смешным человеческим существам теплую и неизмеримую благодарность — ведь он им в самом деле был обязан. Но в то же время, сочувствуя в их панических попытках обнаружить его, он пожалел их, в чем, несомненно, проявлялось его истинное превосходство, превосходство над тем, чего он когда-то страшился, и над каждым, кого он когда-либо опасался!
После долгого молчания кто-то сказал: «А что, если этого человека вообще нет?» В неожиданной вопросе, который поначалу мог показаться бессмысленным, было что-то пугающее и опасное, превосходившее возможности нашего разума. Должно быть, оттого мы все разом обрушились на этого придурка, вдруг, видите ли, вообразившего, будто можно преследовать тень, мечту, предчувствие. Однако он лишь рассмеялся нам в лицо: «Если вы гнались за чем-то, за живым существом, тогда объясните мне, что с ним произошло? Как он мог на этой голой равнине исчезнуть у нас на глазах? Что, он превратился в птицу или в крота? А может, оседлал облако или провалился сквозь землю? Не пчелка ли его какая съела? Или чудом он стал невидимкой?» Мы умолкли. Воистину разве могли мы на это ответить? Все для нас вдруг окуталось тайной: и человек, в чьем существовании мы больше не были уверены, и наш собственный безудержный инстинкт, который завел нас сюда, где мы не узнавали самих себя!
Он был уверен, что стоит на высокой и белой вершине Прекорницы, к которой, напуганный людьми, устремился далекой глухой ночью своего детства, и что отсюда, точно с крыши мира, он сможет одним-единственным взглядом окинуть свою жизнь и все внутри ее, что было и что должно быть, ибо в эту минуту все имевшее хоть какую-либо с ним связь, вращалось по замкнутому кругу, в центре которого, подобно замолкшему колоколу, утихая, гудело его сердце, поэтому он ничуть не удивился, увидев одновременно острые синие вершины гор и раскаленные и многолюдные пляжи; и одинокие корабли на пучине, вздымающиеся и подступающие стеной озера, сонные реки, над которыми медленно махали крыльями птицы, и побледневшие леса, уныло стонущие на сером и ветреном рассвете, и давно позабытые зори; и далекие и неведомые города, и все пределы, с которыми он лишь собирался познакомиться, и все глухие городки Черногории, которые слезами, муками и кровью врезались в его сердце, как на географическую карту, и среди них особенно — Бриестово, приросшее к потемневшему камню, из чьей твердой плоти испокон веку отчаянно выбивались смоквы, полынь и бурьян, и пыльные Горица и Ждребаоник, и студеная и затаенная Зета, в темно-зеленых омутах которой он мог уловить теперь отражение своего невозвратимо исчезнувшего лица, и Жагарац, потерянный в тишине, в цветущем терновнике и диком шиповнике, и вонючие топи Сушицы, возле которой, оглушенный лягушачьим кваканьем, он пас коров, и чистое море возле Петроваца и Будвы, где иногда он чувствовал себя счастливым, а потом все те клетушки на белградских чердаках, в которых годами он голодал, поглощая химические формулы и мечтая о неведомой прекрасной жизни, и, наконец, та холостяцкая квартирка на Бирчаниновой улице, затемненная и превращенная в лабораторию, перепачканная химикалиями, где он в конце концов потерял душу, чтобы только теперь вновь обрести ее, в эту неизмеримую минуту продления, когда стирается различие между воспоминаниями и предчувствием, ибо времена, подобно узкому пучку света, вдруг преломляются в сознании — почему, должно быть, он и сумел в огромной, спрессованной людской массе, необъяснимым образом возникшей перед ним, безошибочно узнать отца и мать, прадеда Йоксима и других более далеких предков, состарившихся родственников, бывших друзей, товарищей юности, случайных знакомых, попутчиков из того поезда, своих первых преследователей, всех, кто когда-либо чем-нибудь обязал его или обидел, всех, кому он помог или причинил зло, всех женщин, с которыми он был или только будет связан, и, одновременно узнавая их всех разом — и живых и мертвых, — он не был ни напуган, ни удивлен тем, что видит их всех вместе, устремивших свой взгляд в вышину, на него, потому что знал — все они пришли ради того, чтобы проводить его в ту новую, единственную, истинную жизнь, тайну которой он наконец постиг на белой вершине Прекорницы, под самым небом — так похожим на шатер циркачей, вспыхнувший многоцветьем фиолетовых, красных, желтых, серебристых красок, в переливах и вихрях которых он, к своему удивлению, мог одним всеобъемлющим взглядом различить невидимые спектры кислорода, азота, угледиоксида, аммония и гелия, подобно тому, как всеслышащим ухом, сросшимся с горячей почвой, он отчетливо улавливал, как в глубине, подобно беременной женщине, тяжело и таинственно дышит земля, и это его лишь еще больше убеждало, что ему удалось в конце концов вдохнуть в себя потаенную красоту мира, к которой он всегда стремился, испытывая искушение лизнуть языком или хотя бы коснуться рукой всего того, что он видал, слышал, желал и предчувствовал; однако он всегда опасался сделать это, понимая, что взятая в рамку картина, где с непостижимой гармонией пульсировало его кошмарное видение всего сущего, осыпалась бы, точно состояла из пыли, если бы он своим гипнотическим взглядом, волшебной силой тяготения не поддерживал ее в этом состоянии, поэтому-то он и теперь не решался отвести от нее взгляд, боясь пошевельнуться, хотя в ту минуту он ощущал непреодолимую потребность запеть и возвестить миру о том, как он счастлив, перехитрив свою судьбу!
Вдруг раздался жуткий протяжный вопль. Мы не смели сдвинуться с места, охваченные страхом и изумлением. Сперва он показался нам предсмертным криком неведомого животного, эхом голоса, дошедшего из иных эпох и иной яви. Вероятно, мы бы уверовали в это, если б в голосе, трепетавшем в невидимой световой пыли, не звучало нечто настолько ужасное и отчаянное, что единственно могло принадлежать человеческому существу. Только это помогло нам осознать, что кричит человек, тот самый человек, которого мы ищем, — он существует. Этот ли крик или нечто внезапно обнаруженное в себе заставило людей, которые присоединились к нам в течение дня и теперь выглядели пристыженными или напуганными, заставило их неслышно, без единого жеста прощания разойтись по широкой равнине. Нам с Яковом в ту минуту они показались жалкими, чужими и какими-то опустошенными, потерявшими нечто, чего уже не найти и не оплакать! И вопль вдруг утих. Однако мы с Яковом успели заметить место, откуда он исходил: это была одинокая скала высотою в несколько метров. Но пока мы бежали к ней, она изменяла свою форму, точно состояла из тумана: она то казалась грибом, то просверленным насквозь конским зубом — видимо оттого, что у вершины она была широкой и ровной, а к земле резко сужалась столбом, в центре которого зияла тонкая вертикальная скважина.
Он пел, удивленно не узнавая собственного голоса. Потом с ужасом понял, что его ртом — ртом, полным земли, — стонет из тьмы прадед Йоксим, зловеще возвещая, что лишь теперь его настигает истинная смерть с концом его потомка, которому, увы! нет спасения! «Но ведь я спасен, — подумал он, — я ведь убежал!» И объятый мыслью о том, что нужно скорее встать, он едва пошевельнулся. От этого, одного-единственного движения чудесная картина многоликого мира, которую он видел до сих пор, вдруг осыпалась, точно сделанная из праха, и все находившееся внизу беззвучно устремилось ввысь, а сверху все посыпалось в его широко раскрытые изумленные глаза.
Мы нашли его на этой скале. Он навзничь лежал в траве, обнаженный. Сперва мы подумали, будто этот огромный человек с широкими плечами, прекрасный в своей неподвижности, точно вытесанный из камня — попросту спит. И только потом заметили, что его большие, широко раскрытые, голубые глаза не реагируют на меркнущий свет заходящего солнца и на наше присутствие, а изо рта его тонкой пиявкой вытекает темная струйка крови. Поэтому мы заключили, что он мертв. И все-таки Яков прислонил свое маленькое и закрученное ухо к его волосатой груди. Он выпрямился, и я уже понял, что он ничего не услышал. Мы молча стояли над телом, бессильные что-либо сделать. Собственно говоря, мы ничего не могли ему сделать. Теперь он стал для нас недоступен и недостижим. Мог ли он это предвидеть, а если предвидел, намеренно ли своим воплем помог нам найти мертвое тело, тем самым неопровержимо доказав, что ему удалось ускользнуть и от нашего любопытства, и от нашего упрямства, и от нашей ненависти? Возможно ли, что в последний миг своей жизни он был настолько счастлив, что вместо нас его настигла смерть — поэтому и улыбался? Глядя на него, мы начинали в это верить, ибо на его продолговатом, испачканном жирной глиной, но тем не менее прекрасном лице нам не удавалось обнаружить следов судороги, малейшего следа муки, ничего, кроме торжествующей улыбки, которая приводила нас в отчаяние, ибо с неумолимой, мстительной злобой говорила о том, что для нас и этот человек, и все, что находилось в какой-либо с ним связи, останется одной огромной тайной: и как его звали, и чем он занимался, откуда возник и куда направлялся, и почему бежал, и отчего умер? Нам даже показалось, будто его смерть сродни самому подлому обману. Иначе, как можно объяснить то обстоятельство, что он лежал на этой скале голый. Куда девался его черный костюм? Где он спрятал сорочку, трусы, ботинки и документы? И зачем он это сделал, если не для того, чтобы уничтожить всякий след и память о себе, и даже будучи мертвым, сохранить определенную дистанцию между собой и нами или теми, кто случайно мог найти его на этой скале прежде, чем птицы выклюют ему глаза и звери растащат его кости по равнине. И надо признать, это ему удалось. Тщетно пытались мы обнаружить след его бытия. Мы раскрыли его сжатые ладони, но в них ничего не нашли. Правда, рот его был полон земли и каких-то пахучих трав. Впрочем, все это не имело ровно никакого значения. Он уже принадлежал земле: длинные светлые волосы смешивались с травой, а цветочная пыльца, которую приносил ветер, припорошила его живот, бедра и мужской член, меняя цвет кожи. Ступни ног были поранены и покрыты запекшейся кровью, а длинные, согнутые над головой руки походили на две сломанные палки. В ухо уже вползали муравьи. И наверное, перед таким его неизбывным страданием мы испытали бы преклонение или хотя бы сочувствие к тому, что он умер один, без единой близкой души, на этой скале, где его никто никогда не найдет, если б в этой его улыбке не преобладало выражение какого-то странного и, возможно, только нам адресованного сожаления. По крайней мере мне так показалось. И чтобы проверить свое впечатление, я обернулся к Якову. Но Яков беззвучно плакал, глядя на меня сквозь слезы — точно не узнавая меня. Сумерки сгущались: окружающий пейзаж, весь многоликий мир стремительно исчезал во тьме, а на вершине одинокой скалы, разлученные таинственным, нагим человеком, который улыбался даже будучи мертвым, мы погружались в мучительное молчание.
Йован Павловский БЛИЗКОЕ СОЛНЦЕ
БОЙЦАМ ТРЕТЬЕГО ТЕТОВСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА — ТЕМ, КТО ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ, И ТЕМ, КОМУ ДОВЕЛОСЬ ЖИТЬ, С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ С ЧУВСТВОМ ГРУСТИ, ЧТО Я НЕ МОГ БЫТЬ С НИМИ.
ЈОВАН ПАВЛОВСКИ
БЛИСКО СОНЦЕ
Скопје, 1975
Перевод с македонского Д. Толовского и И. В. Макаровской.
1
Иван Йовановский с усилием открыл глаза: последние лучи заходящего солнца словно вдруг кинули в них горсть острых иголок, и он почувствовал множество мелких уколов. Слезы сами собой появились на глазах и медленно покатились по щекам. Иван стер их рукавом рубашки и отвернулся. Привыкнув наконец к свету, он осмотрелся. Село, точно воробьиное гнездо, умостилось меж холмов, а это уже нехорошо — попробуй здесь прими бой, пробейся, да и как уйти отсюда в случае нужды. Он еще раз обвел взглядом горы — небольшие, с верблюжий горб, они постепенно росли, ширились, вздымались вверх, внушая ужас молодому командиру. Он гнал от себя мысль о том, как они, усталые и изможденные, одолеют такие горы, не нравилось ему и то, что лес подступал к самым домам, переходя в сады. Иван посмотрел в сторону мельницы — бегущий с севера ручеек плавно огибал рощу, в стремительном броске наскакивал на мельницу, а потом, смирившись, кротко и лениво продолжал свой путь по селу. В крайности можно будет воспользоваться его руслом, подумал Иван и тут же одернул себя — нельзя раньше времени отчаиваться. Он закрыл глаза и потянулся, по телу разлилась приятная истома. Поспать бы немного или, на худой конец, просто полежать, забыть обо всем на свете, даже про боль в правой ступне. Нет, о таком блаженстве он сейчас и мечтать не смеет.
Жара, кажется, пошла на убыль. Она спадает сразу, лишь только солнце скроется за холмами — все вокруг словно обдаст легким дыханием. Но это пока не ветерок, просто мягкая освежающая струя. Иван достал платок, вытер шею, лицо и тесно прижался к ограде. Он понимал, стоит ему хоть на миг размякнуть, и коварный сон разом, отнимет его у всех неотложных дел и забот. Иван старался не думать о последних днях. Худшей беды не могло с ними случиться — крестьяне Подгорья узнали о движении отряда. Всего через несколько часов после выступления партизаны заметили, что за ними следят, следят за каждым их шагом, ни на секунду не выпуская из виду и терзая своим невидимым, но вероломным присутствием. Расстояние между ними не менялось, во всяком случае в первый день. Спустя девять часов после сформирования отряда Иван вынужден был принять свое первое решение: не делая привалов, ускоренным маршем двинуться к Маврово, вопреки начальному плану, предусматривавшему целый ряд агитационных мероприятий в селах Дарежье, Сомово, Турево и Ласкарци, где, согласно предварительной договоренности, к ним должно было присоединиться человек восемь из молодежи. Но в создавшейся обстановке от этого пришлось отказаться.
Иван Йовановский упорно гнал от себя тяжелые мысли, полагая, что гроза миновала, и все же смутная тревога щемила сердце. Из последних сил боролся он с обволакивающим его сном. Надо проверить, как устроились товарищи, назначить караул и уж тогда спать. А пока он может позволить себе одну маленькую радость — снять башмаки и окунуть ноги в бурливую речушку, которая делит село на две неравные части.
Командир опустился на корточки, потом сел и начал разуваться. Голова сама приникла к ограде. Свежий воздух сквозь носки коснулся ног, и по телу пробежала волна удовольствия. Превозмогая сонливость, Иван встал и стянул шерстяные носки, напомнившие ему вдруг, как мать собирала его, заталкивая в небольшой рюкзак трусы, майки, пару ботинок, три рубашки, свитер, мед и даже маленькую кастрюльку.
— Пригодится, — говорила Доста, хлопотливо набивая рюкзачок. — Пригодится, — повторяла она, не глядя на сына.
Иван знал, что старуха заплачет, если посмотрит на него.
— Вряд ли все поместится, — робко сказал Иван, стараясь не обидеть мать.
— Поместится, поместится, — возразила она.
И только тут взглянула ему в глаза.
— На войну идешь. Должно поместиться. — Она не плакала. Только смотрела на него своими ясными, добрыми глазами, словно хотела запомнить его таким — высоким и по-своему красивым, с тонкими усиками над румяными губами. Тихо, с мольбою попросила: — Береги себя! Надень их. Носи всегда, — и подала ему шерстяные носки.
— Но ведь сейчас лето, — воспротивился было Иван.
— Жарко, а они собирают пот.
Пришлось взять. Он разложил влажные и все еще теплые носки на камнях у ограды и, закатав штанины, пошел к реке. Холодная вода обожгла его, сон пропал, и вслед за тем он почувствовал необычайный прилив сил и бодрости.
Опять вспомнилась мать — высокая, добрая ласковая. Она вырастила его, стирая чужое белье и убирая чужие квартиры. Доста Йовановска и ее муж Румен приехали в Тетово из Поречья, не имея за душой ничего, кроме своей молодости. Здесь и родился Иван. Ему не было еще и двух лет, когда умер отец — иссушил его и свел в могилу какой-то злой недуг. Так начал свою жизнь Иван Йовановский.
— Бедность не порок, — часто говаривала мать. — Бедности не стыдись, стыдись лжи и бесчестья.
Иван улыбнулся. Когда в тридцать восьмом его приняли в СКОЮ[78], он сразу сказал ей об этом. Мать вскинула на него удивленные глаза:
— А что это такое?
— Политика это, мать, политика, — с улыбкой ответил он.
Мать кивала, а Иван был уверен, ничего-то она не поняла.
А недавно, после решения организации, он сказал ей:
— Ухожу к партизанам.
— Я ждала этого, — тихо проговорила она и, опустив глаза, захлопотала по дому, чтоб он не заметил ее тревоги. А потом вдруг ни с того ни с сего сказала: — Ване, там недолго погибнуть. Я не к тому, чтоб ты был трусом, такого сраму я не переживу. Я другого боюсь: торопок ты больно, все делаешь рывком да с сердцем. Берегись, сынок!
И погладила его по волосам. И тихо, беззвучно заплакала. Впервые за столько лет. Может, она и раньше плакала, просто Иван никогда не видел ее в слезах, не помнил такого.
— Ладно, ладно, — успокаивал он ее. — Смелого пуля боится!
Мать улыбнулась сквозь слезы:
— Так-то оно так, а все же — берегись. Помни — один ты у меня.
Иван вздрогнул, почувствовав на себе взгляд. Шагах в тридцати от него, опираясь на палку, стоял старик в наброшенном на плечи овчинном тулупе. Постояв немного, легкой крестьянской походкой направился к нему.
— Не ты ли командир, сынок? — спросил он, останавливаясь в нескольких шагах от Ивана.
Иван окинул его испытующим взглядом.
— А что?
— Да так, — сказал старик. — Слышал я, что командир пошел к мельнице. Видать, это ты и есть.
— Ну, скажем, я. Что случилось?
— Ничего. Ничего особенного, только мне все равно обида.
— Кто же тебя обидел?
— Вы, вот кто. Обходите мой дом, брезгуете моим угощением. Дважды заходили партизаны в Селицу, и оба раза никто не наведался к Арсо Алексовскому. Бедный я, верно это, но матеница[79] и хлеб всегда найдутся. И сейчас ко мне никто не завернул. Все по справным хозяевам разбрелись.
У Ивана на сердце потеплело от таких слов.
— Это чистый случай, дядюшка, — сказал он. — Мы не делаем различий между людьми.
— А почему этот случай всегда мой дом обходит? Вот уже третий раз.
Иван выпрямился, все еще босой.
— Ладно, дядюшка Арсо, коли так, принимай меня, я еще бесприютный.
Старик широко улыбнулся.
— Ты это всерьез? — спросил с сомнением в голосе.
— На полном серьезе, — ответил Иван. — Ну, веди.
Они двинулись к селу. Старик шел легко и быстро. Иван, не привыкший ходить босиком, то и дело вздрагивал, сторожко ступая по колким камням. В одной руке он нес носки и ботинки, в другой — винтовку.
— Жизнь, скажу я тебе, сынок, — певуче говорил старик, захлебываясь словами, — что пыль на ветру. Семьдесят лет работаю не покладая рук, а заработал — избу на сваях да два десятка овец. Только и всего. Жена померла, годов десять уж будет, детей нет. Много я повидал на своем веку войн да разбоев разных, а того не видел, чтоб, можно сказать, дети воевали… — Вдруг он остановился, повернулся к Ивану. — Вот, скажем, ты. Сколько тебе годков? Двадцать-то будет?
— Двадцать один, дядюшка, — со смехом поправил его Иван. — Уже старик — двадцать один.
Старый Арсо Алексовский закачал головой.
— Двадцать один, двадцать один. Дети вы, сынок! — весомо сказал он, сам ошарашенный неожиданностью собственного вывода.
— Да, дети, — по-прежнему смеясь, согласился Иван. — Только взрослые.
Старик раздумчиво зашагал к селу, а потом, словно подтверждая свои мысли, изрек:
— Дети вы, сынок, и притом хорошие. Умеете побеждать!
Иван кивнул, забрасывая винтовку на плечо.
— Да, дядюшка, побеждаем и будем побеждать. До самой победы.
Арсо Алексовский покачал головой:
— Побеждайте. Наверно, потом будет лучше.
Иван взял его за руку. Они остановились. Мгновение смотрели друг другу в глаза, но каким долгим показалось им это мгновение. Затем Иван произнес твердо и вдохновенно:
— Не наверно, дядюшка Арсо, а наверняка.
2
С десяток пожилых крестьян сошлись на церковный двор, чтоб послушать юного партизана. Расположившись под большим тутовым деревом, в его прохладной, умиротворяющей тени, ждут, что новенького скажет им этот светловолосый, казистый лицом, да уж чересчур худой и бледный парень. И какой из него партизан? А Благоя Донческий-Муф, напустив на себя серьезность и стараясь быть как можно убедительнее, говорит:
— Спасибо вам за гостеприимство. Мы знаем, чем вы рискуете, и потому особенно вам благодарны…
Сорокасемилетний Петко Узуноский прерывает его:
— Не впервой принимать нам партизан. Научились уже. К тому же вы наши дети.
Легкий одобрительный гул. Петко Узуноский продолжает:
— А кто не рискует в такое время?
— Каждый, — поддержал его Муф, — все мы рискуем, только кто меньше, кто больше.
Илия Зареский, высокий старик, вдруг выкрикивает:
— Хватит о том, парень. Мы рискуем, потому как вы свои. Ты нам лучше скажи, что нового на фронте — виден ли конец войне?
Благоя Донческий словно того и ждал. Он слыл лучшим оратором среди студентов-юристов. Всего месяцев пять назад, на апрельском конкурсе красноречия в Белградском университете, речь его о Цицероне и смерти последнего вызвала бурю оваций. Благоя подтянулся, расправил плечи и дрожащим от возбуждения голосом заговорил:
— Виден, дядюшка, виден. Разве не слышали вы, как наши братья, русские, разделали немцев под Сталинградом? Сломали им хребет, намяли бока, сбили с них спесь и бахвальство. Лопнули их планы, как мыльный пузырь. Это конец, конец страданиям, поверьте мне.
Крестьяне внимательно слушали этого статного светловолосого юношу, который словно бы пришел из старой, много раз слышанной сказки.
— Мы тоже побеждаем. Всего в пятидесяти километрах отсюда есть свободная территория, уже наша, — Дебарца и Копачия. Мы побеждаем и будем побеждать до тех пор, пока повсюду не взовьется знамя свободы!
Благоя говорил взволнованно, размахивая руками, чуть подаваясь вперед, словно отжимая из слов густой красный сок. И люди верили ему, радовались, что дело обстоит именно так. «Если освобождение не за горами, — думал Петко Узуноский, — выходит, Ице скоро вернется». При этой мысли что-то теплое, похожее на надежду зашевелилось в его сердце. Уже два месяца не подавал тот о себе вестей, но ведь и плохих вестей о нем не доходило, это утешало — а плохие вести разносятся, что ураган. Скоро год, как Ице вместе с Веце Синадиноским и Сретеном Абеским ушел к партизанам. А Петко все кажется, что было это вчера. Время летит, точно ласточка, быстрокрылая. Ему Ице не сказал и слова. Доверился матери: «Я ухожу! Поменьше говорите обо мне на селе». Она смотрела на него не понимая, думала, что сын собрался в Тетово, а может, в Скопле. А Ице опять за свое: «Станут спрашивать, скажите, ушел в Скопле. Отправился, мол, на заработки». С этим и ушел. Отцу ни гу-гу. «Видно, боялся, — подумал Петко Узуноский. — Боялся, что не отпущу. Дурачок! Чего бы я стал его удерживать? Не первый и не последний он. Такие времена настали, поди там со своими лучше, чем здесь, в селе. Видимость одна, что тут безопасно, налетят, как коршуны, изведут кучу патронов, разграбят дом, уведут скотину, опозорят женщину, расстреляют для острастки первого попавшегося бедолагу — вот тебе и безопасность!» Петко со злостью сплюнул и тут же поймал на себе недоуменные взгляды односельчан.
— Задумался чуток. О сыне, — смущенно объяснил он, красный от гнева и беспокойства.
Люди понимающе кивают. Знают, волнуется Петко. Как-никак отец, а об Ице давно ничего не слышно. Говорят, что его бригада отправилась на юг к Фуштани, а вести оттуда ползут еле-еле. Да и не всегда верные. Вот, к примеру, прошел слух, что погиб Веце Синадиноский. Одни говорят — Веце, другие клянутся — не Веце погиб, а сын Йордана Абеского — Сретен. Погоревали об обоих, а уж потом Стоян Шаклеский принес точные сведения — погиб все-таки Веце. Его отделение должно было взорвать эшелон с боеприпасами. Бойцы не заметили, а может, и заметили, да не придали этому значения, что в крайних вагонах полно итальянских солдат. Важно было любой ценой не пропустить состав через Кичево. Если верить Стояну, погибло шестеро наших, только эшелон с итальянцами разлетелся на мелкие кусочки. Иные потом утверждали, что Веце погиб не от пули, он бросился с гранатами под поезд — с ними и взлетел. Однако ничего подобного Стоян тогда не говорил. Рассказывать стали потом. А люди поверили в это, потому что знали, каким бесстрашным был Веце. Когда в Селицу впервые пришли баллисты, Веце подошел к ним и так прямо в лицо сказал: «Ежели причините зло людям, в вас прогоркнет молоко матери!» Они его, понятно, избили до полусмерти, но он-то им сказал, что хотел. Похоже, они его побаивались. Знали, что Веце Синадиноский не им чета, нет ему равных в смелости и отваге.
Так получилось с Веце. А вот об Ице Узуноском совсем нет вестей. Петко молчит, не жалуется, но люди видят в его глазах тревогу и надежду. И прощают ему этот, невольный срыв.
Благоя смотрит на людей — верят ему. Это он по их глазам видит и потому словно млеет от удовольствия. Солнце заходит, оставляя за собой красный след, похожий на хвост кометы, только начинающей свое путешествие. Благоя посмотрел на горы. «Рдеют, как знамена», — подумалось ему. В общем-то, он всегда был далек от романтики: заход солнца, луна, журчание горного потока… «Закаты везде одинаковы, и речки везде одинаково журчат», — полагал он, понимая, однако, что не рожден с душой поэта. Сейчас он пытался вспомнить, сочинил ли он когда-нибудь стишок. Нет, никогда. Даже не читал стихов, кроме Абрашевича[80] и Рацина[81]. Они словно дополняли то, что он находил в политических и экономических трудах. «Что поделаешь, если именно эта литература впилась в меня, как клещ, — оправдывался он перед самим собой. — Вот и к танцам был равнодушен. Сколько раз товарищи звали потанцевать, а я подумаю-подумаю, да и уткнусь в «Империализм, как высшая стадия капитализма». Такой уж уродился!» Он ни о чем не жалеет. Нет. Просто пытается вспомнить. Весной сорок первого Надюша Чамчева писала ему ласковые письма. Хотела встретиться. Но тут началась война, и восемнадцатилетнему выпускнику гимназии Благое Донческому было не до свиданий. Как-то под вечер он встретил ее в Саат-маало[82] и на одном дыхании выпалил: «Не могу я сейчас гулять с девицей по турецким улочкам. Партия требует от меня другого. Пойми меня правильно. Отложим любовь до лучших времен». Девушка смотрела на него растерянно и, глотая слезы, наивно повторяла: «Хорошо, отложим до лучших времен».
Надюша была привлекательная девушка, но Благоя не знал компромиссов: две недели назад Краевой комитет призвал партийные организации активно готовиться к борьбе, и времени было в обрез. Хочешь не хочешь, а любовь в сторону. Ему еще только исполнится девятнадцать, а он уже три года состоит в организации. Так имеет ли он право думать о любви и подобных вещах теперь, когда он нужен борьбе?
Этим вопросом он задавался тогда, пытался ответить на него и сейчас, когда крестьяне внимательно слушали каждое его слово. Его слова для них — целебная трава, успокаивающая боль. И, отбросив от себя все мелкое, личное, Благоя заговорил горячо и проникновенно:
— Мы должны победить, потому что боремся за общество, где человек человеку будет друг, а не враг и не волк! Скажите, что вам дала жизнь? — задал он вопрос крестьянам.
Не получив ответа, продолжал с еще большим жаром:
— Клочок земли, ломоть кукурузного хлеба и вечный страх: что будем есть, если не пойдет дождь? Какая будет цена на шерсть? На муку? Как дотянуть до нового урожая? Вот она ваша жизнь! А мы вам предлагаем уверенность в завтрашнем дне, новое общество вам предлагает спокойную и мирную старость, электричество и водопровод, школы, пенсии для всех, бесплатное лечение. Словом, все, что нужно человеку! — Благоя остановился. Перевел дух. Боясь сбиться, он все это произнес на одном дыхании. — Вы и сами это знаете. Только я совершенно уверен, что ваши дети, наши товарищи — Веце Синадиноский, Сретен Абеский и Ице Узуноский — куда лучше себе представляли то, во имя чего взялись за оружие. Веце даже жизнь свою отдал за это великое дело, и отдал ее не напрасно, поверьте, не напрасно, ибо близок час победы!
Благоя умолк. Он считал — на сегодня хватит. Интуиция не подвела его. Люди задвигались, зашевелились, о чем-то тихо переговариваясь. Поднялся Илия Зареский.
— Парень, — начал он, — успокоил ты нас, это верно, и обнадежил. Ведь мы и сами видим, что звери хилеют не по дням, а по часам. И тем хуже они обращаются с людьми, чем меньше у них остается сил. А обращаются они с нами плохо. Потому мы верим тебе, верим в скорую победу. — И, обведя взглядом односельчан, старый Илия громко спросил: — Скажи, парень, что нам надо сделать для борьбы?
Одобрительные возгласы стали сильнее. Люди, торопясь высказаться, говорили все разом. Слова их сплетались, вязались в узлы, не давая Муфу ухватиться ни за одно из них. Но он понимал, что это слова одобрения, и ему приятно, приятно. Он поднял руку, желая успокоить их, и все постепенно притихли.
— Мы воюем, — сказал Муф, — не только с фашистами и их пособниками. Мы боремся не только с оккупантами, но и за новые отношения между людьми. Поэтому вам надо создать новый Народно-освободительный комитет, ибо прежний ваш комитет распался, после того как увезли в Тирану его председателя Славе Чупеского. Так ведь?
Все поддержали его.
Ответил же Илия Зареский:
— Правильно, парень, комитет совсем не работает. Славе увели, секретарь его Панде из села Горушевцы уехал в Тетово, и комитет остался без руководства. Да и люди малость струхнули — плохие ведь времена. Комитет распался, это верно, но любовь к вам не погасла. Вы наши дети! Вот я и хотел бы стать председателем!
Крестьяне захлопали. Поднялись. Старый Илия сказал дело, они были довольны. Кто-то громко предложил!
— Пускай Петко Узуноский будет секретарем!
Снова одобрительный гул. И тут, неожиданно для всех, Петко сказал:
— Отказываюсь! Не буду я секретарем.
Муф решил, что он ослышался. Не хотел поверить. Но Петко вышел вперед и громко, членораздельно произнес:
— Не могу я взять на себя эту обязанность! Не могу, потому что утром ухожу с детьми. Вот с ними!
Муфу теперь показалось, что он вообще ничего не слышит. Это было как гром среди ясного неба. Ему хотелось обнять всех и запеть; и все-таки он был бы во сто крат счастливее, если бы на месте Петко Узуноского стоял его отец, адвокат Михо Донческий, и говорил: «Дети, я иду с вами!»
Нет, Муф вовсе не считает отца плохим человеком, напротив, именно благодаря отцу он заинтересовался марксистской литературой. И тем не менее в глубине души он осуждал отца за несогласие с марксизмом. Уважаемый гражданин города Тетово, он отличался широтою взглядов, однако в партию не вступал. Даже к народно-освободительной борьбе относился с недоверием, покачивая головой. От этого Муф больше всего страдал. Они плохо понимали друг друга, и разговоры их, как правило, заканчивались холодно. Часто Благоя думал о том, какой моральной победой городской организации было бы вовлечение отца в их борьбу. И всякий раз приходил к выводу, что Донческий-старший — честный человек, но чересчур упрям и, пожалуй, даже по-своему принципиален: он не отступал от своих убеждений. Неприятие идеалов организации было его бедою. Вот почему комиссару отряда Благое Донческому-Муфу хотелось, чтобы на месте Петко Узуноского стоял его отец. «А впрочем, мало ли чего мне хочется», — одернул себя Муф и, раскрыв объятия, пошел к крестьянину. Обменявшись взглядами, полными взаимопонимания, они обнялись крепко, как отец с сыном после долгой разлуки.
— Благодарю за доверие, товарищ Петко, — прошептал Муф, еле сдерживая слезы радости и счастья и в душе подтрунивая над собой: «Хорош комиссар, того гляди распустит нюни при всем честном народе».
Пораженные происшедшим, крестьяне только хлопали в ладоши. У них на глазах обнимались, как равные, бледный городской паренек и их земляк, жилистый мужик с изборожденным горными ветрами лицом, на котором тяжелый крестьянский труд оставил свои следы.
Муф, словно угадав их мысли, сказал:
— В этом величие нашей борьбы: все мы равны и все одинаково рискуем жизнью…
Муф еще говорил, когда Васил Павлеский отделился от крестьян и легкою порхающей походкой направился к нему.
— Товарищ комиссар, я тоже пойду с вами!
Благоя посмотрел на него: подвижный невысокий человек лет тридцати пяти с доброй улыбкой на худощавом лице.
— Каждый честный человек — с нами, — произнес Благоя, подавая ему руку.
— А я-то думал, обнимемся! — разочарованно протянул Васил.
Смех заплеснул Муфа. Сам задыхаясь от смеха, он обнял нового бойца. Опять взрыв рукоплесканий. Петко Узуноский дал Василу рекомендацию:
— Это Васил Павлеский, товарищ комиссар. Уходил на заработки. Отец троих детей. Хороший человек.
Муф покачал головой:
— Нет плохих людей, есть плохие пути. Да, а секретарь? Мы же не выбрали секретаря комитета!
Сквозь общий гул пробился голос:
— Я буду секретарем!
Это сказал Гроздан Павлеский, младший брат Васила. Внешне братья мало походили друг на друга, но глаза у обоих смотрели тепло.
Солнце уже зашло за кромку гор, и ветерок, точно дыхание ребенка, ласкал лицо Благои. Собрание затягивалось, время кончать, потому как у людей дел невпроворот. Снизу от реки шел старик Алексовский с Иваном Йовановским. Иван прихрамывал, осторожно ступая по камням. «Нога еще не прошла», — подумал Благоя.
— Здравствуйте, товарищи! — приветствовал их запыхавшийся Иван. — Провели собрание?
Благоя утвердительно кивнул:
— Только что кончили, товарищ командир. А у меня новость — отряд наш пополнился двумя бойцами.
Иван посмотрел на Петко Узуноского и Васила Павлеского. И, не скрывая симпатии, подал им руку:
— С такими людьми мы непременно победим, непременно!
Дядюшка Арсо глядел на них изумленно и, ударяя рукою в руку, шептал:
— Ну и дела! Скинуть бы мне годков десять!
3
Женщины смотрели на нее с нескрываемым любопытством: партизанка, а стирает, как все. Ничего в ней партизанского, разве что лежащая на камушках титовка с пятиконечной звездой, — и все-таки она — партизанка, пришла сюда с отрядом, значит, воюет. Добре чувствовала на себе их взгляды, слышала невнятный шепот и, продолжая стирать, думала о том, что женщины вправе удивляться. Наконец Добре Галевская достирала рубашку и разложила ее на камнях сушиться. Одна из женщин несмело подошла к ней.
— А ты, девушка, тоже с отрядом?
Добре утвердительно кивнула:
— С отрядом.
— И твои знают, что ты пошла воевать? — Женщина пытливо вглядывалась в ее лицо.
— Знают.
— Ты партизанка, да? — допытывалась женщина.
— Да, партизанка.
— А, скажем, не боишься?
В глазах у Добре мелькнуло изумление.
— Боюсь? Чего?
Женщина растерялась.
— Ну, скажем, смерти?
— Умереть можно везде, даже у себя в деревне. Не так, что ли?
— Это так, — согласилась женщина. — Недели четыре тому назад пришли к нам баллисты и расстреляли троих. Партизан они вроде бы укрывали. Собрали все село и на глазах у всех убили, точно скотину.
Подошла вторая женщина.
— А ни в чем они не виноваты. Ни в чем. Просто ткнули в них пальцем и повели на расстрел.
— Вот видите, — сказала Добре Галевская. — Умереть можно где угодно, смерть всюду одна. Так чего же мне бояться?
— Твоя правда, — подтвердила первая женщина. — И мы так думаем.
— А раз так, то уж лучше погибнуть в борьбе за то, что тебе дорого, за свободу, к примеру, — продолжала Добре.
По спине у нее пробежал холодок. К чему эти разговоры о гибели и смерти? Поняла, люди любопытны, их удивляет все, что выходит за рамки повседневности, и все же лучше не говорить о смерти сейчас, когда она подстерегает за каждым буком, за каждым камнем. И чтоб переменить тему, спросила:
— А как вы тут живете?
Женщины пожали плечами.
— Как живут в селе, — ответила первая. — Две овцы да кузовок земли, вот и тянем лямку годами.
Разговор оборвался. Женщины растерянно смотрели друг на друга и молчали, не зная, о чем бы еще спросить. Нарушила молчание Добре.
— Поговорили и будет. Мне пора. Рубашка здесь останется, ничего? Не пропадет?
— Да куда ей деться? — торопливо ответила вторая женщина. — Если хочешь, постережем.
И вдруг робко, словно стыдясь того, что давно уже вертится на языке, сказала:
— Девушка, мы хотим у тебя кое-что спросить!
— Спрашивайте, — обернулась Добре.
— Хотим мы спросить, — замялась женщина. — А ты не боишься — вокруг столько мужчин?
Вопрос был неожиданным, и Добре сначала растерялась, а потом вдруг расхохоталась.
— Боюсь? Чего мне их бояться? Они мои товарищи, а с Живко мы вместе выросли.
Партизанка покраснела. Почему-то именно сейчас ей вспомнилось, как Живко Тевдоский поцеловал ее первый раз:
двадцатого января сорок второго, после заседания исторического кружка. В тот вечер они по обыкновению вышли вместе, и в темноте, тяжелой и липкой, какая бывает в Тетове зимой, почти у подъезда гимназии она почувствовала его губы на своей щеке. Она даже охнуть не успела, как он повернул ее к себе и торопливо спросил:
— Мы уже не дети? — Добре не видела его лицо, только чувствовала его чуть насмешливую, но теплую улыбку. Во всяком случае, так показалось тогда гимназистке седьмого класса Добре Галевской. — Взрослые мы или нет, Добре? — услышала она его голос.
Она собралась было ответить первое, что придет на ум, но губы его уже коснулись ее губ. Потом, обнявшись, они молча пошли к Чапчаковской улочке, где жила Добре, под ногами у них скрипел снег, а сверху падали крупные мокрые хлопья.
Добре подняла взгляд на, женщин.
— С Живко Тевдоским мы вместе росли. И вместе вступили в СКОЮ, и аттестат зрелости вместе получили месяц назад.
Снова покраснела. Что за дурацкая привычка краснеть по любому поводу! И почему она, собственно, оправдывается? Могла бы и промолчать.
— Это его рубашка? — спросила вторая женщина.
— Да, его, — смущенно пролепетала Добре.
— И вы поженитесь? — выпалила первая.
— Да, как только победим! — не задумываясь ответила Добре.
— А долго ждать победы?
— Недолго, — уверенно ответила Добре. — Фашизм трещит по всем швам. Осталось его добить… — сказала она с неожиданной для себя жестокостью и, стукнув кулаком о кулак, повторила: — Добить!
— Твоим бы медом да нас по губам. Мужик у меня в лагере, в Ясеноваце. В сорок первом призвали, попал в плен у Славонского Брода. Пишет иногда.
Добре осмелела.
— Вот скоро победим, и он вернется. Не сомневайтесь в этом.
Разговор оборвался. Все три разом увидели Живко. Он несся во весь дух к речке. Добре засмеялась, увидев на нем белую рубашку с пуговицами на воротнике. Она и раньше не могла смотреть без смеха на эту рубашку, даже в тот сентябрьский вечер, когда он впервые появился в ней на танцах. Ей самой непонятно, что смешного в этой рубашке, которую ему сестра привезла из Нови-Сада, но почему-то ей всегда казалось, что эта строгая, элегантная сорочка как-то не вяжется с его атлетической фигурой и улыбающимся лицом.
— Он? — спросила первая женщина.
Добре утвердительно кивнула.
— Видно по тому, как бежит! — заметила женщина, довольная своей догадливостью.
— И по тому, как ты на него смотришь! — добавила вторая.
Подбежал Живко, запыхавшийся, радостный. Шутя пролетел сто пятьдесят метров, отделявшие центр села от речки. «Не зря он считался лучшим футболистом в гимназической команде, — с восхищением подумала Добре. — Кажется, такой крупный, а в ловкости и скорости никому не уступит».
— Хочу искупаться, да не знаю, какая вода, — сказал он, еще не отдышавшись. И обратился к женщинам: — Летом вы здесь купаетесь?
— Мы нет, а ребятишки плещутся, — ответила первая, растроганная его непосредственностью. — Да только в августе, а сейчас, хоть и июль, вода холодная.
— Тогда я только окунусь, — решил Живко.
— Холодная вода, — остерегает его Добре. — Простудишься. Лучше умойся.
— Так и быть, умоюсь, — согласился Живко, стягивая с себя рубашку и майку.
— Мы пойдем. — Первая женщина обратилась к Добре: — Ежели еще не встала на квартиру, я пришлю за тобой Насте… Мы здесь недалеко.
— Спасибо, — улыбнулась Добре, — я уже остановилась у Ачковых.
Женщина поспешила выразить свою радость:
— Стеван — мой деверь.
Добре пояснила:
— Мы познакомились с Гроздой, ровесницами оказались.
— Я бы рада была взять тебя к себе. Я ведь одна с детьми.
Женщины пошли по взбегающей наверх тропинке. У колодца они обернулись, словно за это время должно было что-то произойти, и молча, не глядя друг на друга, заторопились дальше.
— Был момент, здорово они меня испугали, — призналась Добре, садясь на камни и обнимая руками колени.
— А в чем дело? — спросил Живко, брызгая в лицо водою.
— Да вот, спрашивали, не боюсь ли я смерти и тому подобных вещей.
— А ты?
— Сказала, что если надо умереть, то уж лучше за свободу.
— Я бы так же ответил.
— Ответила я им правильно, только не очень приятно говорить о таких вещах.
— Это верно, — согласился Живко, — хотя порой и о смерти не мешает поговорить. — И повернулся к ней. — Готово. Кинь мне полотенце.
Вытираясь, он думал о том, выдержит ли Добре трудности походной жизни. Сможет ли эта хрупкая, нежная девушка привыкнуть к зрелищам смерти, к ежедневным утратам. Правда, за эти двое суток он не слышал от нее ни слова жалобы или протеста, но от глаз его не укрылось, какого напряжения стоило ей держаться. Не привыкла она к этому. Живко снова взглянул на Добре: глаза бездонно-голубые, и вся она такая ясная, светлая, словно из горного хрусталя.
— О чем задумался? — спросила Добре.
— О тебе. Ты такая красивая, нежная, вот я и спрашиваю себя, по силам ли тебе то, что нам предстоит?
Она улыбнулась.
— Отчего ж не по силам?
Живко подошел к ней. Нравится ему ее твердость и то, как мило она ее проявляет. Любит он ее лучезарную улыбку.
— Хорошая моя, — сказал он и нежно погладил ее по голове. Она взяла его руку, приложила к своей щеке и вдруг приникла к ней губами.
— Нас могут увидеть, — спохватился Живко.
— Разве это грех?
— Сейчас — да. Сейчас у нас одна-единственная любовь — свобода!
Она выпустила его руку, подняла на него глаза:
— Скажи, Живко, скажи, что война кончится скоро, очень скоро!
Он подсел к ней.
— Скоро, Добре, скоро. Все войны когда-нибудь кончаются. Ты боишься?
Она кивнула.
— Только это не страх. Я сама пришла в отряд и знаю, для чего я здесь. Просто я не люблю войны и чувствую себя глубоко несчастной, когда слышу о смерти.
Они умолкли. Вокруг стояли горы, а прямо над головой полыхало пожаром огромное заходящее солнце, далеко отбрасывая красные отсветы, и казалось, будто на рощи, скалы и людей выплеснули чад с красной водой.
Добре взяла его за руку:
— Знаешь, что я сказала женщинам?
— Что?
Щеки ее покрылись легким румянцем. А может, это последние отблески солнца?
— Только не смейся надо мной: я им сказала, что мы поженимся сразу после победы.
Живко улыбнулся.
— Как бы я тебя расцеловал! Целовал бы долго-долго, до тех самых пор, пока солнце не спрячется за горами Тетова.
4
Срмен Чадловский никогда не видел таких больших и красивых овец — кажется, они вобрали в себя столько сочной травы с окрестных лугов и лесных прогалин, что молоко само вот-вот брызнет из набрякшего вымени и потечет рекой. А какое у них густое и мягкое руно! Рука проваливается в липкую, сальную шерсть. «Эх, носков бы хватило на весь отряд. Да еще и осталось бы». Воды и травы в Селице сколько душе угодно, потому и овцы просто на загляденье. Срмен осмотрелся по сторонам: у самого села зеленые холмы, а за ними горы, и трава там, наверное, по колено. Эта Бистра, не Жеден[83], растрескавшийся, высохший от вечной тоски по воде и траве. Срмен старается не думать о прошлом, но оно приходит не спросясь, захватывает его целиком. И пока он смотрит на горы, гадая, какой высоты там трава, к нему, словно сквозь туманную мглу, подкрадывается его прошлое.
— Берегись змей! — кричит ему мать с веранды.
Упитанный и румяный мальчик лет десяти впервые один гонит коз на Жеден. Он по-детски счастлив и возбужден. В домотканой торбе ломоть кукурузного хлеба, завернутый в платок творог и фляга с водой. Для него это царское угощение. Многое уже память растеряла, но жеденское солнце он запомнил на всю жизнь. Медленно наступает жара. Солнце превращается в раскаленный шар, такой яркий, что на него нельзя смотреть. А взглянешь — глаза сразу заслезятся и будто рой светлячков закружит перед ними. Срмену становится жутко: он уже в горах, а куда ни повернись, одни опаленные деревца, даже не деревца, а, скорее, чахлые кусты — ни зелени, ни тени. Солнце печет голову, дурманит, преследует на каждом шагу и, к немалому его удивлению, высасывает из него пот. Срмену не до коз — все три, не обращая внимания на, зной, спокойно и неторопко щиплют мелкие запыленные листочки, раскаленный, ослепляющий шар их не беспокоит. «Коза она и есть коза», — думает десятилетний Срмен, напрасно отыскивая местечко, где бы можно было укрыться от палящего солнца. Есть ему не хочется, только горло сохнет, и он то и дело хватается за флягу, забытую в их доме неизвестно кем и неизвестно когда. Но тепловатая вода не утоляет жажды, и мальчик уже готов заплакать, как на ум ему приходят слова бабушки: «Не плачь, не плачь, не то змеи приползут!» И он задрожал от страха. Бабушка Яглика пугала его так, когда он был совсем маленьким, и с тех пор страх перед змеями всегда удерживал его от слез. И сейчас, гоняясь за козами, Срмен только и думает о том, как бы не наступить на серую змею, затаившуюся среди таких же серых камней. На Жедене их тьма-тьмущая. Испуганный и измученный пастушонок бежит от солнца, но на Жедене оно всюду, даже в сухой и словно умирающей земле.
Глядя на окружающие горы, Срмен пытается вспомнить, не тогда ли убил он палкой первую змею. Наверное, это случилось позже, потому что в тот день он был слишком напуган. Ему долго казалось, что его непременно ужалит змея.
Но однажды, заметив, как посреди козьей тропы медленно и величаво ползет большая и серая, как камень, змея, он почти машинально поднял палку и стал с остервенением бить ее. К его вящему удивлению, она не защищалась, даже не старалась улизнуть, а только вертелась, свиваясь в клубок, что маленькому Срмену облегчало задачу, ибо каждый удар разил окаянную сразу в нескольких местах. Усталый и насмерть перепуганный первой встречей со змеей, он удрал, даже не взглянув на то, что осталось на узкой козьей тройке. Убийство змеи предвещало ему дальнюю дорогу, во всяком случае так считала бабушка Яглика, и она оказалась права: месяца через три пришла красная осень, а вместе с нею письмо из Белграда от его дяди Зафира Чадловского. Дядя звал Срмена к себе — будет-де помогать ему в пекарне. Вот и оказалось — права была бабушка Яглика.
Срмен не смог объяснить, почему перед ним вдруг возникли эти картины. Может, жара, а может, и овцы пробудили в нем воспоминания. В Жилче никто не держал овец, только коз, потому что на Жедене, начинающемся сразу под селом, нет травы, голая, задавленная камнями земля с редкими запыленными кустами. И козы-то в Жилче как с того света — кожа да кости. Молоко у них горчит, быстро пригорает и словно бы пощипывает язык; однако оно весьма полезно — жилчане не знают дурных болезней, голова у них всегда ясная, не ведают они зубной боли, на теле и руках не бывает язв. Все говорят, что это благодаря молоку.
Из дома вышла женщина лет пятидесяти — чуть больше, чуть меньше. На голове новый черный платок — видать, умер кто-то из близких. Срмен Чадловский оставляет овцу и идет к ней. Наверное, хочет о чем-то спросить.
— А я тебя, парень, не знаю, — опередила его женщина. — Ищешь чего?
Голос у нее резкий, грубоватый, она не из тех, кто терпит возражения. Женщина величаво стоит в дверях и смотрит ему прямо в глаза.
— Да, мы с товарищами только что пришли, и мне поручено запасти немного пищи на дорогу.
— Из Первой македонской? — так же резко, не разжимая губ, спросила женщина.
Срмен отрицательно покачал головой.
— Нет, из Тетова. Нас всего одиннадцать, хотим присоединиться к бригаде у Пресека или у Извора, где получится.
Женщина не сводит с него пристального взгляда. Оба молчат. Пареньку не больше двадцати, довольно плотный, со здоровым румянцем на щеках и с прямыми волосами, непокорными даже роговому гребню. На нем коричневые штаны из грубого домотканого сукна, длинные, до колен, носки и тяжелые бутсы. Титовка с пятиконечной звездой продета за ремень рядом с кобурой. Присмотревшись к нему, женщина говорит:
— Всякие тут ходят по горам. Поди знай, кому можно доверять.
Срмен расправил плечи:
— А разве по мне не видно?
— Мой дом на отшибе, я и не знаю, что в селе делается. К тому ж я только что с выпаса.
Женщина умолкла и, немного поразмыслив, решительно сказала:
— Входи уж!
Дом был низкий, крепкий, без веранды. Совсем не похожий на остальные дома в селе. Несмотря на летний зной, внутри было темно и холодно. Срмен с удивлением уставился на бетон, заменявший половицы.
— Раньше здесь был жандармский участок, — объяснила женщина. — Лет пятнадцать назад жандармы съехали, и мы купили здание.
Из другой комнаты донесся тяжелый, прерывистый кашель, казалось, кто-то задыхается или борется с удушьем.
— Мой муж, — сказала женщина. — Его разбил паралич, когда мы узнали о сыне. Отнялся язык и вся правая сторона. Только лежит да стонет. — И добавила, то ли поясняя, то ли чтоб снять с души тяжесть: — Вецко был нашим сыном. Вецко Синадиноский. Восемь месяцев назад погиб на Буковике.
Женщина уголком платка смахнула слезы. Тело ее содрогалось от беззвучных рыданий. Присевший было Срмен встал: о храбрости Вецко он слышал еще в Жилче на одном из собраний партийной ячейки. Секретарь местного комитета товарищ Борко Чомческий говорил о смелости бойцов, уничтоживших на Буковике эшелон с боеприпасами. Говорил и о Вецко Синадиноском: раненный в живот, он с двумя гранатами бросился под паровоз, и его разнесло вместе с эшелоном.
— В Тетове товарищи сочинили песню о Вецко, — сказал Срмен, глядя на женщину.
Женщина подняла глаза, снова вытерла слезы, но казалась уже спокойной. Высокая, сухая, стояла она в другом углу точно изваяние.
— Он был отчаянный! — И после недолгого колебания добавила: — Один он у нас был. Дочь и старший сын умерли маленькие. — Женщина опять помолчала, а потом, будто хотела выговориться, продолжала: — Он был помолвлен с Гроздой Ачковой. Теперь она нам как дочь. Каждый день забегает — и по хозяйству подсобит, и слово ласковое скажет. — И вдруг, чтобы закончить этот тягостный для нее разговор о Вецко, Грозде, обо всем, что терзает ее изболевшуюся душу, спросила: — Поди, проголодался, сынок? Садись, садись, сейчас принесу тебе поесть.
Срмен подошел к женщине и взял ее за сухую, костлявую руку, обтянутую прозрачной, как пергамент, кожей.
— Нет, мать, я не голоден. Нас уже накормили в селе. Я хотел только спросить, не найдется ли у вас чего-нибудь для отряда — на дорогу. Выдадим справку, после освобождения расплатимся!
Женщина похлопала его по плечу.
— Найдется, — сказала она и впервые улыбнулась. — Есть у меня брынза, целая кадушка. Берите всю. А ночью я спеку вам питу[84].
— Это уж лишнее!
— Совсем не лишнее, — скомандовала женщина, и Срмен понял: с нею не поспоришь. — А теперь садись, принесу тебе ракии и брынзы.
Она вышла.
Срмен не прочь был пропустить рюмку-другую, просто чтоб сполоснуть горло и вернуть твердость ногам. Ему нипочем несколько дней ходьбы, и все же хорошо сейчас вот так вытянуть ноги и почувствовать ток крови в жилах. Он его и в самом деле чувствует.
Началось это года через два после поступления в пекарню. В один прекрасный день он вдруг ощутил, как по всему его телу, по каждой жилке словно разливается горячая кровь. Боли не было, только сделалось ему будто не по себе. А когда это повторилось еще и еще, он рассказал обо всем дяде Зафиру. Тот лишь рукой махнул: от долгого стояния вены расширяются. Это у всех пекарей. Потом Срмен привык к бурному току крови, начинавшемуся после долгого стояния у корыта с тестом, и даже вроде бы испытывал при этом приятное чувство. Много позже, когда Срмен, вступив в партию, познакомился с Благоей Муфом и всей душой привязался к этому умному, серьезному парню, он поведал ему о столь странном состоянии.
— Твой дядя прав, — деловито сказал Муф, — Это от работы в пекарне.
Лет восемь прошло с того дня, когда появились первые признаки этого загадочного состояния, однако болезнь дальше не пошла, а в последнее время и вовсе отпустила его. Похоже, и дядя и Муф ошибались.
Мать Вецко вернулась с графинчиком ракии и брынзой. Поставив все это на софру[85], она отошла в сторонку.
— Вот тебе. Ешь и пей на здоровье!
Ракия обожгла рот. По всему телу разлилось приятное тепло.
— Ну и злая! — воскликнул Срмен.
Женщина кивнула:
— Злая, верно, зато усталость как рукой снимает. Я дам тебе в дорогу. И молодым бывает не худо подкрепиться.
Мать Вецко причислила его к молодым. Что ж, у каждого свой взгляд на вещи. Окинув мысленным взором свои двадцать лет, он подумал о том, что прожил долгую жизнь. Может быть, ему так кажется оттого, что он помнит много ненужных подробностей, которые хотел бы забыть. К примеру, первые три-четыре года жизни в Белграде. Пекарня хозяина Трипуна находилась на Зеленом Венце, в той части города, где был большой базар. В этом поистине сумасшедшем доме днем и ночью шумела, бурлила, клокотала, ни на секунду не затихая, своеобразная и кипучая жизнь. Срмен долго не мог понять, кто поедает столько хлеба и пирогов. Работая в две смены, они без передышки месили и месили здесь же, за магазинчиком, и в короткий срок все это съедалось подчистую. Иные мастера, выбившись из сил, чуть не замертво валились на бетонный пол, но работа не прекращалась. Именно поэтому Срмен ничего не увидел в Белграде в эти годы. Едва отдохнув после изнурительной работы, он опять вставал к корыту. И так день за днем. Весь заработок они с дядей Зафиром отсылали в Жилче, потому что жили они одной семьей и там всегда не хватало денег. Срмен без труда припоминает свои развлечения в Белграде: несколько раз ходил в кино, однажды с Калемегдана смотрел, как Алексич, привязанный к самолету, перелетал через Дунай, несколько раз прошелся он по белградским улицам.
И это все за три года. Белграда он тогда так и не узнал, зато хорошо узнал, что такое работа на измор. Лицо посерело — и вовсе не от въевшейся в него мучной пыли, как он сам любил говорить, а от постоянного пребывания в темном и сыром помещении. Единственное окно выходило во двор — колодец, куда даже не заглядывало солнце, — путь ему преграждали высокие дома, и потому во дворе месяцами не просыхали лужи.
Срмен поднялся.
— Спасибо, теперь можно и идти.
— Один не донесешь, — сказала женщина. — Кадушка хоть и невелика, а попробуй-ка ее поднять.
— Я-то попробую. Только как мы это потащим по горам?
— А верно. — Мать Вецко немного поразмыслила и решила: — Брынзу я заверну в платок, а ракию перелью в две бутылки. И уложу все в переметные сумы.
Срмен признал, что так оно лучше. И то подумать: хороши б они были, появись с бутылью да кадушкой в бригаде. Да и скоро ль дойдешь с такой поклажей?
Женщина собрала сумы. Срмен поднял их без труда. «Ничего, не оттянут рук».
— Сынок, а твоя мать знает, где ты? — вдруг озабоченно спросила мать Вецко Синадиноского.
Срмен оторопел. Вопрос поразил его в самое сердце.
— Нет, — ответил он, потупившись. — Не знает.
— Надо было ей сказать. — В голосе женщины послышался укор. — А отец?
— У меня нет отца. А маме я не решился признаться. Сказал, что еду в Белград — в пекарню. В Жилче остались два младших брата. У нас немного земли и штук двадцать коз. Да еще небольшой виноградник.
— А надо было бы ей сказать.
Срмен даже самому себе не мог объяснить, почему он не сказал матери. Не хотел, чтобы в ее сердце вселилась лишняя тревога? По правде говоря, он боялся ее запрета. Она бы плакала, заламывала руки, а это было для него страшнее смерти. Горячо и нежно любил он свою мать, которую не видел годами, знал, как тоскует она по своему старшенькому, на чьи детские плечи легла забота о семье. У него язык не повернулся сказать ей, что идет воевать, когда в Жилче только и разговору было, что об убитых да о сожженных селах и городах.
Узнав о бомбардировке Белграда и не получая вестей от сына, она вовсе перестала есть и совсем зачахла. А Срмен в эти смутные времена не мог послать ей весточку. Только через месяц дядя Зафир решил попробовать добраться до Жилче. Где-то у Ниша его схватили, и он дней двадцать просидел в наспех сооруженном лагере при Бубане[86]. К счастью, ему удалось оттуда бежать. В Скопле он узнал, что новая государственная граница пролегла где-то неподалеку от Жилче — ближе к Тетово. Теперь там албанское государство, а по сю сторону — болгарское. Стало быть, надо переходить границу там, где вчера еще было поле, единая страна, — на это ушло две ночи. Днем он отсиживался в укромных местах, прячась от пограничников. Словом, лишь через два месяца узнала она, как Срмен пережил первую бомбежку и что у них все в порядке. А до того, казалось ей, выплакала все глаза, вот и здоровье пошатнулось. Поэтому Срмен и не решился признаться. «Вернусь-ка я в пекарню, — сказал он, уходя. — Надоело слоняться по селу. Полгода бью баклуши». Братья молчали, а мать пыталась отговорить: война, мол, на дорогах опасно, а поискать, то и здесь можно найти работу. Только Срмен не уступил. День выхода назначен, и никто не вправе менять его. К тому же Срмен дал слово Муфу вступить в отряд, это его партийный долг, дело его совести. Как может он подвести Муфа в такой час, когда идет проверка людей на самое главное?
— Я боялся ей сказать. Она бы этого не вынесла, совсем бы зачахла от тревоги. Не поспел, и все тут.
Женщина понимающе кивнула.
— Как и всякая мать!
Оба молчали, подавленные каждый своими мыслями и неразрешимыми заботами.
Восемь месяцев минуло с того дня, как в село пришло известие о гибели Вецко, а мать никак не верит в это. Кажется ей, что однажды ночью Вецко постучит в окно и она выбежит открывать ему. Так и будет. Она, конечно, понимает — ждать напрасно, но не может, вернее, не хочет думать по-другому.
«Давно ничего нет от Вецко, уж не случилось ли с ним беды!» — говорила она, встречаясь с сельчанами. И только поймав их растерянные, недоуменные взгляды, возвращалась к горькой действительности. И все же никогда не поверит она в то, что Вецко не пройдет по селу, не закружится в праздничном хороводе, не погонит на пастбище овец. Люди сочувствовали ей, говорили, мол, жизнь, она все равно собачья, и дольше своего века не проживешь, и многое другое, но от всех этих слов ей не делалось легче. Утешала ее лишь мысль о том, что Вецко не единственный, кто отдал свою жизнь за свободу.
— Да, — повторила она, — как и всякая мать.
Пожалуй, женщина права: какая мать не любит своих детей. Только любовь любви рознь. У одних она таится в глубине души, у других разливается, как река в половодье, затопляя все вокруг. Взять, к примеру, его мать. Сколько сваталось к ней людей степенных, положительных, но она и слышать не хотела о замужестве. Срмен улыбнулся, вспомнив, как в жатву приезжал в Жилче.
В Белграде от жары и раскаленного бетона нечем было дышать, и люди разъезжались по курортам. Мать долго обнимала его и гладила по лохматой голове, а Срмен, в сущности еще ребенок, млел от счастья, чувствуя на щеках ее сильные шершавые руки. Близость матери, с каждым годом заметно увядавшей, действовала на него удивительно благотворно. Срмен часто просыпался по ночам и всегда видел одно и то же: освещенная луной, сидела она на краю ветхой кровати и смотрела на троих сыновей-погодков. Ну как есть добрая фея из старой сказки.
— Мать, ты опять не спишь? — удивлялся Срмен.
Она вставала, накрывала его одеялом и шептала:
— Тише, разбудишь братиков!
Но Срмен упрямо допытывался:
— Почему ты не спишь?
А она гладила его по голове и говорила:
— А ты спи. Сон — это здоровье, а мне здоровье — смотреть на вас здоровых.
И так много раз.
— Да, — подтвердил Срмен, — как всякая мать! — И, подняв сумы, сказал: — Ну, я пошел. Солнце садится, а мне еще надо заглянуть в несколько домов. — И, помолчав, добавил: — Хотите, я оставлю вам расписку.
Женщина обиделась.
— Зачем мне твоя расписка? Вы мои дети, считай, что брынзу и ракию я поставила за упокой души Вецко. Зачем мне расписка?
Срмен согласно кивнул. Но спросить надо было — таков порядок. Он протянул ей руку, поблагодарил и пошел к двери. Из соседней комнаты донесся кашель. Срмен остановился.
— Он давно так, с тех пор как узнали про Вецко, — поспешила объяснить мать Вецко Синадиноского. — Ему уж ничем не поможешь, а был крепкий как скала.
И во дворе добавила:
— Завтра поутру принесу вам питу, ночью испеку, будет горячая.
Срмен, заглядевшийся было на овец, обернулся — женщина стояла у двери, прямая, величавая, в легком, поблекшем от солнца и дождя платье и в черном платке. Срмену на мгновенье показалось, что он видит свою мать. Нет, не только свою, всех матерей мира видел он в этой доброй и сильной женщине, и захотелось ему сказать ей что-нибудь хорошее, приветное, ласковое, но вдруг понял, что ей это не нужно. Не нужны ей никакие слова, кроме разве одного. И, махнув рукой, крикнул:
— До свиданья, мать!
Она, по-прежнему прямая, стояла у порога, и от Срмена не укрылось, как легкая судорога прошла по ее телу. Сейчас она не плакала, а мягко улыбалась, второй раз за все время.
— До свиданья, сынок. Берегите себя — и ты, и все вы.
Расталкивая овец, Срмен вышел со двора и по сухой и пыльной тропинке зашагал к селу. Солнце быстро садилось, заливая все вокруг тревожным багряным светом, от которого болели и заволакивались пеленою глаза.
5
Разговор окончился.
Доне Симческий вышел из комнаты, сердито хлопнув дверью. И Сашо двинулся было за ним, но передумал и, попыхивая догорающей сигаретой, подошел к открытому оконцу, забранному снаружи деревянной решеткой. Докурив сигарету, он выбросил крошечный окурок и принялся корить себя за то, что резко разговаривал с братом. Ни к чему было лезть в бутылку. В конце концов, Доне по праву старшего может делать ему замечания, высказывать опасения и даже накричать. А его дело — слушать и соглашаться. Доне на веранде. Надо бы подойти к нему, повиниться, попросить прощения. Хотя нет, не стоит. Доне отходчив, незлобив, а пока он злится, к нему лучше не подступаться. Он слишком погорячился, да это и понятно. Ольга осталась со стариками в Тетове, а ведь они меньше года женаты. Ушел, не сказав ни слова. Духу не хватило. Смалодушничал.
Они вышли вечером, будто прогуляться перед сном, а сами прямиком к мануфактурной лавке Крсто Змейковского, где Доне служил уже восемь лет и, по сути, вез на себе всю работу, ибо старый, к тому же страдавший астмой хозяин не справлялся с делами. Сборы были недолгие: башмаки, свитера, брюки и новая «беретта» уже ждали их в маленьком складском помещении без окон, как нельзя лучше подходившем для хранения оружия и нелегальной литературы. Оттуда, не заходя домой, направились к Кале. Обогнув кладбище и миновав редкую рощицу, братья вышли к виноградникам. Тут дорога обрывалась. До условленной встречи оставалась еще уйма времени, но они спешили. Не сбавляя шага, переходили из виноградника в виноградник, поднимаясь все выше и выше. Под ногами шуршала и осыпалась земля, но они все шли и шли, не оглядываясь на сверкающий огнями город и не замечая высокого июльского неба, усыпанного горящими звездами. Лишь у самой вершины, возле крепостных стен Кале, Сашо предложил:
— Давай присядем, рано еще.
Он не видел лица Доне, затененного деревьями и словно бы слившегося с ночным мраком. Обрадованный его молчанием, Сашо прислонился к стволу и вытащил сигарету.
— Не советую курить. Могут увидеть.
Наверное, что-то в этом роде сказал Доне. Это были его первые слова за время их пути. Голос был тихий, но строгий. Сашо не расслышал слов и стал неуклюже чиркать спичкой: мешали рюкзак и прочее снаряжение, которое он тащил.
Доне сказал громче:
— Я же просил: не кури!
— Я не расслышал. Ладно, потерплю!
Доне вправе приказывать. Он старше, а кроме того, член партии.
Оба молчали, подставляя себя ветру. Здесь, у Шара[87], всегда так. Днем стоит изнуряющая жара, а ночью с вершин Церипашины и Кобылицы вдруг повеет свежий ветерок, пробежит над полями и рощами, путаясь в ветвях и шепча им что-то свое, таинственное, и примчится в город. Смело, по-хозяйски врывается он в дома, принося отдохновение людям и навевая легкий и долгий сон. Сашо любит эти летние ночи, любит слушать шепот ветра в листве яблонь и персиковых деревьев. Он подолгу лежит, прислушиваясь, пока где-то около полуночи, а то и позже сон не оплетет его своими длинными шелковыми нитями.
— Не надо было тебе идти!
Сашо ясно слышал: не надо было тебе идти!
— Странно ты говоришь.
Доне помолчал, как бы собираясь с мыслями.
— Надо было остаться дома со стариками!
— Почему? — удивился Сашо.
Доне не ответил. Темнота словно нарастала, растворяя в себе его самого.
— Почему ты так считаешь? — не унимался Сашо.
Доне махнул рукой, а может, сделал какой-то другой жест. В темноте не понять. И, чуть подавшись вперед, прошептал:
— Ладно. Я сказал просто так.
Но Сашо не проведешь. Нет, не просто так он сказал. Он же видел, как нервничал брат последние дни. Однако сейчас ему было не до пререканий. Долгие месяцы подготовки, уход из дому, предстоящая встреча с товарищами — все это сейчас захватило его целиком. Он понимал, что многим обязан брату. Кто, как не Доне, наставил его на путь истинный, на путь, что зовется классовой борьбой? Это он связал его с Драганом Илкоским и Кузманом Димитриеским — руководителями СКОЮ в Тетове, он его рекомендовал, и, наконец, это он раскрыл ему значение борьбы, которую ведет партия. Стало быть, он вправе о нем беспокоиться. Правда, Сашо уже не ребенок, в другой раз он бы ощетинился, но сейчас смолчит. Пусть брат говорит, ему и карты в руки, а Доне только и сказал:
— Пошли! Лучше на десять минут раньше, чем на пять позже.
Сашо Симческий вспоминал это, глядя на идущих к церкви крестьян. Преждевременные морщины на лицах. Идут на собрание. Муф назначил собрание; а Сашо, как связной, оповестил людей, переходя от дома к дому. К счастью, Селица невелика. Крестьяне, услышав крик: «Эй, хозяин!» — в страхе приоткрывали дверь и, только узнав, что в село пришли их дети, вздыхали с облегчением, хотя в глазах еще оставался вековой, неизбывный страх. «Ничего удивительного, — думал Сашо. — Война есть война, каждый день приносит смерть и разлуку».
Он опять закурил. Сигареты успокаивали. Правда, от курения он начал кашлять — это в восемнадцать-то лет, — но бросить не хватало воли. О том, что он курит, дома знали только Доне и Ольга. Дважды в гимназии его ловили в уборной с сигаретой и оба раза снижали оценку по поведению. Даже после этого он не бросил. В рюкзаке у него лежат три пачки итальянских сигарет, он их достал через соседа Славчо Маслака, известного тетовского спекулянта, но Сашо они не по душе — чересчур слабы и быстро сгорают. Раз-другой затянешься, и нет. Впрочем, как и все итальянское — на фу-фу! Поэтому он захватил с собой еще с килограмм махорки. От нее во рту горько, зато тяжелый дым успокаивает растревоженную душу.
Надо бы выйти на веранду и закончить разговор с Доне. Не годится, чтоб между ними оставалось что-то недосказанное. Брата он любит и уважает, ну, а если и спорит с ним, то потому лишь, что думают они по-разному. Имеет же он, черт подери, право на собственное мнение! На веранде послышались шаги — это Доне возвращается в комнату. Открыл дверь и молча подошел к рюкзаку. Вот он взял полотенце, что-то поискал — ага, мыло, — затем выпрямился и зашагал к двери, пробормотав:
— Пойду умоюсь!
Полотенце и мыло — всего лишь предлог, чтоб вернуться в комнату. Сашо уверен: брат уже остыл и теперь хочет показать, что предал забвению недавнюю стычку. Сашо любит брата таким — с его добрым щедрым сердцем, не помнящим обид.
— Доне, забудем! — сказал Сашо, решив первым пойти на мировую.
Доне остановился посреди комнаты и посмотрел ему в глаза.
— О чем ты?
Сашо подошел к нему и легонько стукнул кулаком в грудь. Брат на три года старше его, но ростом пониже.
— Забудем наш разговор. Ладно?
Доне улыбнулся. Сашо знает, что теперь с его души камень свалился.
— Хорошо, — согласился Доне.
— Глупо нам с тобой спорить об этом.
— Да нет, не глупо, — возразил Доне, — особенно если один прав.
— Ты за свое? — вспылил Сашо.
Доне утвердительно кивнул. Они стояли посреди комнаты, готовые ринуться в бой.
Наконец Сашо не выдержал:
— Думаешь, война, а на войне чего не бывает, даже может случиться и самое худшее. Если меня убьют, ты будешь считать себя виновным.
Доне опять кивнул.
— И чтоб освободиться от чувства ответственности, хочешь вернуть меня назад?
— Не поэтому. Есть другие причины.
Доне умолк.
— Говори, раз начал.
— Тогда слушай, — неуверенно заговорил Доне. — Мы полагали, что отряд будет хорошо вооружен. Ты же знаешь, что нам не удалось захватить военный склад. Теперь трое из нас, можно сказать, туристы, револьвера и того нет. Максимальная вероятность погибнуть, это во-первых.
— Значит, опять твое чувство ответственности.
Доне резко взмахнул рукой, и полотенце колыхнулось, точно флаг.
— Глупости. Не о том речь. Просто ты мне слишком дорог.
Довод вполне убедительный. Ничего не возразишь.
— Думаешь, не мудрено погибнуть? — спросил, помолчав, Сашо.
— Да. Мы плохо вооружены, идем наугад, не знаем людей. Поди разберись, кто друг, а кто враг. Пока не присоединимся к бригаде, мы ежечасно, ежеминутно рискуем жизнью.
Разговор шел трудно.
— Ты испугался? — спросил вдруг Сашо.
— А ты как думаешь?
Сашо вскинул голову.
— Нет, но хочу быть уверенным.
— Нет, не испугался, — сказал Доне, не глядя на него. — Я не из пугливых. Пора бы тебе знать хоть это.
— Ну, а во-вторых? — спросил Сашо, полагая, что речь пойдет об Ольге, и заранее готовя ответ.
— Второе — это родители, — неожиданно ответил Доне.
— Как?
Доне кивнул.
— Не знаю, поймешь ли ты меня. Ты считаешь, мы вправе причинять им такое горе?
— Какое? — удивился Сашо.
— Чтоб они потеряли обоих сыновей и остались совсем одни?
Сашо понимающе кивнул.
— Ты, конечно, прав, но мне неясно, почему именно я должен был остаться в Тетове или, еще того хуже, вернуться с полпути, покинуть отряд?
— Как почему? Ты моложе. Да и твой долг по отношению к организации не столь велик. Тебя постановления местного комитета пока не касаются. А я обязан безоговорочно выполнять их.
— Но я член СКОЮ, — запротестовал было Сашо.
— Верно, — согласился Доне, — и все-таки мой долг куда выше.
— Пусть так, и тем не менее у тебя есть серьезная причина остаться в Тетове.
— Какая же?
— Ольга.
— Это не препятствие к вступлению в партизанский отряд.
— Препятствие, — упорствует Сашо. — Она твоя жена.
— Ну и что?
— Ты должен быть с ней. Года еще нет, как вы поженились.
— Глупости!
— Не такие уж глупости!
У самой двери Доне обернулся.
— Тысячи бойцов оставили дома жен и детей и вовсе не собираются возвращаться. Вот хоть Аризан.
— Ты все ищешь веское обоснование, чтоб вернуть меня домой, — спокойно, но твердо сказал Сашо. — Поищи-ка его лучше для себя.
Доне покачал головой.
— Ничегошеньки ты не понял.
Доне хотел выйти, однако Сашо схватил его за руку.
— Постой. Я больше не стану спорить, только объясни, почему именно я должен вернуться в Тетово?
Доне снова повернулся к нему:
— Хорошо, слушай. Говорю тебе в первый и последний раз: я не хочу потерять тебя. Ты молод и должен жить.
— Но Боби еще моложе. Ему только исполнилось шестнадцать, а я уже получил аттестат зрелости.
— Ты, Боби, Добре и Живко — все вы должны жить. На заседании местного комитета я решительно возражал против принятия вас в отряд.
— Ты возражал?!
Сашо не верил своим ушам.
— Я считал это своим долгом.
— Как ты мог?!
— Что думал, то и говорил.
— Если уж на то пошло, сам-то ты всего на три года старше.
— Вполне достаточно, чтоб быть капельку умнее.
Поведение брата на заседании местного комитета показалось Сашо возмутительным, но он смолчал, чтобы не осложнять разговора. Да и к чему, раз Доне не настаивает на его возвращении, как полчаса назад.
— Чтобы быть значительно умнее, — уточнил Доне и вышел.
Да, Доне прав. Тема исчерпана до конца. Хорошо хоть, они снова не расшумелись. Чистое безумие — вернуться сейчас. Просто смешно!
Сашо повторил про себя: «Безумие!» — и швырнул в окно яркий огонек — все, что осталось от сигареты. Стало быть, верно, будто на последнем заседании местного комитета в Тетове вышла ссора. Ссора или недоразумение, дело не в названии. Краем уха он слышал о предложении Душко Ункоского, но что Доне поддержал его — ни сном ни духом не ведал. А раз Живко, Добре, Боби и сам он остались в отряде, значит, предложение брата отвергнуто. Как бы узнать подробности? Теперь ему понятно, почему Доне нервничал перед уходом из дому.
Пора. Он устал, ноги гудят от долгой ходьбы, но идти надо. Он связной, он должен знать, кто где остановился на ночлег. К тому же ему не терпится увидеть Душана Ункоского. Тот, конечно, скуповат на слова, но попытаться стоит. Они соседи, даже дальняя родня, как знать, может, удастся вытянуть из него главное.
6
Хозяин дома Стаде Лазеский сказал, что на днях поедет в Тетово, и Душан решил написать своим коротенькое письмецо, чтобы не волновались. Карандаш и бумага под рукой, да и никаких серьезных дел до вечера, разве что почистить винтовку, если это считается серьезным делом.
Невысокий, подвижной Душан расстегнул спортивную сумку — рюкзака у него, к сожалению, не нашлось — и вынул из внутреннего кармашка карандаш и блокнот, куда он записывал отдельные мысли, мудрые изречения из произведений Маркса, Ленина, Чернышевского, Пушкина, Гоголя, Горького, Синклера. Стоя на коленях, он пробежал глазами кое-какие выдержки.
Душан хотел учиться, но отец решительно воспротивился. Тогда он возненавидел отца, а теперь понял, что старик был прав: восемь ртов в доме, а работник один. Не хватало даже на хлеб — на портняжном деле много не заработаешь. Одиннадцатилетнего Душко отдали в ученики к сапожнику Доксе Анескому. Целых двенадцать лет небезуспешно постигал он искусство шить туфли и сапоги, еще чуть — и вышел бы в мастера, но любовь к книге никогда не покидала его. Он собрал библиотечку, гоняясь за книгами по всему городу. Об этой его страсти звали все, и потому никто не удивился, что в числе молодых энтузиастов, ходатайствовавших в тридцать восьмом году перед городской управой об открытии в городе читалища[88], был Душан. Четверо из них состояли в СКОЮ. Собственно, идея о читалище родилась на одном из собраний ячейки, и подал ее подмастерье сапожника Душан Ункоский.
У него вошло в привычку выписывать все, на его взгляд, важное и интересное. В блокноте, с которым он никогда не расставался, были мысли Маркса и Энгельса, Ленина и Горького, а также изречения, вроде такого: «Нет ничего страшнее для девушки, чем потерять способность краснеть». Смешные, сентиментальные слова и вряд ли нужные революционеру, но ведь они принадлежали Гёте, а Душко, преклоняясь перед «Фаустом», признавал за великим писателем право сказать порой что-нибудь не столь уж значительное. Прочтя эту фразу, Душан улыбнулся: не зря он ее выписал. Не так давно она ему пригодилась.
Дочка Чучевских стала появляться на тетовских улицах в обществе итальянских солдат и нередко прогуливалась даже у здания начальной школы, где разместилось итальянское командование. Душан знал ее еще девчонкой и, встретив однажды в Саат-маало, сказал:
— Частенько тебя люди видят с макаронниками!
— Ну и что? Пусть видят! — как отрезала она, без тени смущения.
Душан пожал плечами.
— Ничего, конечно, только знай, грош цена девушке, если она не умеет хотя бы краснеть!
И ушел, оставив Чучевскую в полной растерянности. Она долго еще стояла с раскрытым ртом, пытаясь понять, пошутил он или зло посмеялся над ней.
Душан перелистал блокнот и, найдя чистую страничку, улегся на пол, так как в комнате не было стола.
«Дорогие мои папа и мама, — писал Душан, — дорогие сестры Ленка и Елица, сообщаю вам, что я жив и здоров и что дела идут в основном по плану. Просто не верится, что я, вчерашний подпольщик, теперь партизан! Трудно привыкнуть к такой перемене, но, как говорится, человек ко всему привыкает. Перед уходом я сказал вам: «Мы победим». И я свято верю в нашу победу! Эта часть Балкан обретет наконец свободу и заживет своей собственной жизнью. Близится час освобождения, и это истина, которую я без устали повторяю и во имя которой готов отдать свою жизнь. Старайтесь пореже попадаться на глаза оккупантам, теперь они будут следить за вами, а может статься, и допрашивать. Держитесь стойко — вы обо мне ничего не знаете. Человек, который принесет вам эту записку, расскажет подробности. Целую всех. До свидания в свободном и коммунистическом Тетове. Любящий вас Д.»
Две странички из блокнота — целая прокламация. Душан с улыбкой перечитал написанное — и впрямь вышла прокламация. Пусть, зато поднимет в них дух. У каждого времени — свой язык и свой стиль.
Душан встал, оттолкнувшись от пола руками. Новые, белые половицы пахнут лесом и смолистой сосной. Сложив вчетверо исписанные странички, он лег на большую железную кровать, неведомо как очутившуюся здесь, и, блаженствуя, водрузил ноги на спинку. Только теперь он почувствовал усталость. Но голова оставалась по-прежнему ясной, и он вернулся к мучившему его вопросу: прав он или нет?
Он сказал: «Отряд должен быть вооружен до зубов». А где взять оружие? Тут-то и пришла ему шальная мысль напасть на склад оружия, и он сразу выложил ее перед собравшимися. Шло расширенное заседание местного комитета, на котором, помимо членов комитета, присутствовало несколько старых коммунистов. Все в растерянности молчали; слово взял секретарь Борко Чомческий.
— Нет! — твердо возразил он и рассек рукой воздух. — На такой риск мы не пойдем.
Одни поддержали его, другие молчали. «Значит, согласны со мной», — подумал Душан и спросил:
— Мне неясно, чем мы рискуем.
Секретарь пожал плечами.
— Что ж тут неясного? Нападение на военный склад активизирует действия врага. Начнутся аресты, пойдут провалы, усилится охрана. Я считаю, этого не стоит делать перед выступлением отряда.
— Посмотрим со стороны, — упрямился Душан. — Мы создавали отряд, много месяцев готовились, а в результате имеем: ручной пулемет, несколько винтовок, три пистолета и двадцать семь гранат!
— Хватит на время перехода, — в спор включился Муф. Он года на два моложе, и тем не менее Душан преклоняется перед его умом. Правда, чересчур строг к себе и к другим, но делу предан всей душой.
— Боюсь, что не хватит.
Душан встал. Товарищи не правы: чтобы добраться до Дебарца, надо пройти всю Западную Македонию, где их на каждом шагу подстерегают опасности. С месяц назад местный комитет дважды пытался установить связь с бригадой, и оба раза люди попадали в засаду. Если враг выследил связных, то уж про целый отряд и подавно пронюхает.
— А если нас накроют по пути к бригаде?
— Примем бой, — решительно заявил Муф.
Неожиданно к Душану присоединился Доне Симческий:
— Душко прав. Мы почти безоружные, а с нами идут дети.
— Какие дети? — удивился Борко Чомческий.
— Живко, Добре, мой брат, Слободан.
— Они окончили школу, им уже по восемнадцать!
— Слободану шестнадцать! — возразил Доне.
Борко постучал кулаком по столу:
— Маленькому маляру тоже было шестнадцать, когда он ушел в партизаны. Теперь ему семнадцать, а уж он комиссар роты!
— Доне из-за брата!
Все повернулись к сидевшему справа от Доне Миле Папароскому. Противная физиономия его расплылась в довольной ухмылке.
«Гадина!» — с омерзением подумал Душан и встал с кровати. «Гадина, — повторял он, шагая по комнате. — Нет для него другого названия. На собраниях кричал громче всех, а на Кале, на место сбора, не явился! Больше часа прождали. Трус. На заседании он обвинил Доне Симческого. Он-де против выхода молодых, потому что его брат в отряде. Подлюга и гнида! В Тетове его строго накажут. И поделом. А мы такой гадине доверяли! Доне держался молодцом».
Когда Папароский ввернул, мол, он из-за брата, Доне смело бросил ему в лицо: «Не только. Они еще дети, и мы не вправе подвергать их опасности».
Секретарь Борко положил конец спору:
— Развели дискуссию, черт побери! О каких это детях идет речь? Все четверо — члены СКОЮ и, стало быть, уже не маленькие. — И перешел к вопросу о военном складе: — Кому слово?
Воцарилась тягостная тишина.
— Я отказываюсь от своего предложения! — сказал Душан, несколько ошарашенный тем, что вызвал разногласия в рядах коммунистов. — Но остаюсь при мнении, что мы плохо вооружены, а это может привести к плачевным результатам.
Борко Чомческий требует ясности:
— Значит ли это, что ты предлагаешь отсрочить выход отряда?
— Нет, — ответил Душан, — но настаиваю на детальном рассмотрении любой возможности получить оружие.
Борко нервничает. Он здесь самый старший. До войны был учителем, один из первых коммунистов в Тетове, больше полутора лет находится в глубоком подполье. Когда в апреле прошлого года разбили тетовский отряд, Борко резко осудил местный комитет и его секретаря Якима Думеского за плохую подготовку. А ведь они были неразлучными друзьями. Потом на мельнице Сачевских проходило собрание и организация единодушно выбрала новое партийное руководство. Борко стал секретарем. Беспокойство его понятно — трагедия не должна повториться, тем более что именно он критиковал комитет за недостаточную боевую готовность отряда.
— Мы исчерпали все возможности! — сказал он, разводя руками.
— И тем не менее вооружены плохо! — не сдавался Душан.
И тут встал Иван Йовановский:
— У отряда нет боевых заданий. Это ясно. Его цель — присоединиться к бригаде до того, как она двинется на юг.
Это заявление решило исход голосования.
Девять человек были «за», и только Душан и Доне проголосовали «против», искренне полагая, что надо повременить с выходом. Они оказались бессильны перед аргументом, что дней через десять бригада снимется с места и возьмет курс на юг, к границе.
Душан распахнул окно: жара, кажется, спадает. И солнце уже не слепит глаза. Отсюда все село как на ладони. Дворов восемьдесят будет. Дома деревянные, с большими верандами на втором этаже. При каждом доме — небольшой загон для овец. Красиво здесь летом, ничего не скажешь, а как зимой, когда кругом снег? Наверное, люди месяцами отрезаны от мира. Впрочем, может, оно и к лучшему.
Душан решил пройтись по селу. Усталость как рукой сняло, хоть отправляйся в новый двухдневный поход. Во дворе Стаде Тевдоский и его жена возились с овцами. Штук двадцать белых овец — настоящее богатство в эти тяжелые военные годы, когда молоко и брынза на вес золота, в поте лица заработанного на чужбине, в пекарнях Валахии и Сербии, на стройках и в шахтах Америки и Канады.
— Как жизнь, дядюшка Стаде?
Стаде прислонил к стенке лопату, которой чистил загон, и отмахнулся:
— Какая тут жизнь — маета одна.
— А кому сейчас легко, дядюшка Стаде? Вот кончится война, тогда и заживем на славу!
Стаде недоверчиво покачал головой. Давно он живет на свете, а хорошего не видел. Собачья жизнь, а тут еще война, и сыновья молчат. В Торонто они уж полтора года. Хоть бы словечко от них или какая оказия. Изгоревались они с женой, сухою коркой перебиваются, а все надеются получить добрую весть. А ее все нет и нет. Откуда тут быть вере в лучшие дни?
Душан шел по селу, погруженный в свои думы. Пять, нет, восемь дней минуло с тех пор, как он выступил на заседании местного комитета, а его все грызла мысль: имел ли он право накануне выхода отряда вносить в ряды бойцов сумятицу и нервозность? Говоря по-честному, его поведение можно расценить и как нарушение партийной дисциплины, как своего рода саботаж.
Думать так о нем может только круглый дурак. Ведь он в интересах организации и ее членов указал на то, что отряд плохо вооружен. Нельзя идти на заведомый риск. Новый провал тяжело скажется на жизни Тетова. Люди не любят рисковать. Если и второй отряд будет разбит, деятельность организации заглохнет, как это случилось осенью сорок первого после гибели Димче Костоского и Малины Вукоской, вожаков тетовских коммунистов.
Подходя к церкви, он увидел Муфа — тот под шелковицей беседовал с крестьянами. Чтоб не мешать им, он повернул назад.
Две женщины прошли мимо, смерив его долгим любопытным взглядом, а игравший на дороге мальчуган встал по стойке «смирно» и отдал ему честь. Душан потрепал его за вихры и козырнул в ответ. На перекрестке, куда сходились все сельские улицы, его поджидал Сашо Симческий.
— Ну выкладывай, что там у тебя, — обратился к нему Душан.
— Да ничего, вот хотел знать, где ты остановился, ведь я связной. Может, придется ночью будить.
Душан объяснил, где находится дом Тевдовцев — на взгорке, метрах в ста отсюда.
— Знаю. Я уж там был, — смущенно выслушал его Сашо и вдруг без всякого перехода заговорил: — Слушай, Душко, я хочу спросить у тебя о заседании комитета в прошлую пятницу.
Душан оторопело уставился на Сашо.
— Что именно?
— Хочу знать, правда ли, что Доне был против моего вступления в отряд.
Сашо с волнением ждал ответа. Если Душан скажет «да», у него на всю жизнь останется горечь. И перед товарищами будет совестно.
А Душан сказал:
— Ты же знаешь, заседание было закрытым.
— Знаю. Но это я должен знать. Мне будет больно, если подтвердится.
— Я не имею права говорить, Сашо.
— Да или нет? — чуть не со слезами допытывался Сашо и, схватив Душана за руку, заглядывал ему в глаза. — Да или нет?
Душан покачал головой.
— Нет, ничего подобного он не говорил!
Сашо выпустил его руку и просветлел.
— Мы слегка поссорились, наговорили друг другу кучу глупостей, и он мне сказал, что на комитете выступал против меня. Наверное, сгоряча сказал.
Душан кивнул. К чему открывать ему правду? Что она даст? Выхваченная из разговора и сведенная к односложному ответу, она лишь укрепит Сашо во мнении, что брат его пекся только о нем. А это уж никак не похоже на правду. И потому он с легким сердцем может ее утаить. Кажется, Чернышевский где-то сказал о двух обманах — настоящем и утешающем. Душан улыбнулся и вдруг обнаружил, что солнце уже спряталось за горами, лишь последние лучи его трепетали на желтом небосклоне, который постепенно менялся, принимая багряный оттенок. Значит, завтра будет погожий день!
7
Слободан Апостолоский удивленно смотрел в окно — он и не заметил, как солнце опустилось за горы. Небо у горизонта было сначала желтым, точно лимон. А теперь прямо на глазах желтый цвет переходил в мягкие красноватые тона, которые все густели, и вот уже низкое, нависшее над селом небо полыхает пожаром. «Это день догорает», — думал Боби, держа в руках тетрадь, в которой старался зафиксировать каждую минуту этих двух суток. Полтетради было занято задачами по планиметрии. Чистой тетрадки не нашлось, а он с детства привык вести дневник. Чернильным карандашом он вывел:
«16 июля 1943 г., суббота,
с. Селица, после полудня.
Теперь я партизан, боец Второго тетовского партизанского отряда, и от этого я чувствую себя бесконечно счастливым. Несколько дней назад прошел слух, что гимназистов не будут брать в отряд, и я не на шутку испугался. Мы, видите ли, еще не доросли. Я вполне допускал это, хотя в глубине души считал такое решение несправедливым, ибо уже семь месяцев состою в СКОЮ. Кроме того, я окончил шесть классов[89] и, стало быть, уже не маленький и могу быть партизаном. Слухи не подтвердились, и вот я в Селице, где остановился наш отряд. Вначале нас было десять, а на Шаре к нам примкнул, разумеется добровольно, албанский паренек, Ризван. Так что теперь нас одиннадцать. Дня через два будем в Дебарцах, где вольемся в бригаду, и вместе с ней пойдем к южной границе. Миле Папароский не явился на место сбора. Коммунист, а струсил. Все остальные пришли позавчера, в четверг, в полночь, на Кале, где формировался наш отряд. Его поступок мы осудили, ведь настоящие коммунисты проверяются делом. То же сказал и присутствовавший при формировании отряда секретарь тетовской партийной организации товарищ Борко Чомческий. По правде говоря, этот Миле никогда мне не нравился: задавака. Не уйти ему от справедливой, заслуженной кары.
Я написал: нас одиннадцать человек. Командир — Иван Йовановский — Ус, подмастерье портного. Ему 21 год, а уже старый коммунист. Это он рекомендовал меня в СКОЮ — ведь мы живем в Тетове в одном районе. Он серьезный и строгий, и я рад, что он наш командир. Правда, его назначение явилось для вас неожиданностью. Все думали, что командиром будет Душан Ункоский, сапожник, член местного комитета. Мне кажется, он и сам этого ждал, хотя, как видно, отнюдь не в обиде за то, что руководство доверили Усу. Товарищи поговаривают, что на расширенном заседании местного комитета вышел спор и будто Душан занял там не совсем правильную позицию и потому-де его и не назначили командиром. Впрочем, слухи ходят самые разные. Одни говорят, что Душко по прибытии в бригаду предстанет перед трибуналом и что у Муфа есть на этот счет решение местного комитета, которое он должен доставить в штаб бригады; другие, наоборот, утверждают, что Душана назначат заместителем комиссара всей военной зоны Западной Македонии. Поди знай, кому верить. Я люблю Душана и буду рад, если его назначат заместителем комиссара, но, если члены комитета считают, что его следует наказать, так тому и быть. Я за железную дисциплину. Комиссар отряда — Благоя Донческий-Муф. Ему тоже 21 год. Он студент, настоящий товарищ, он строг и требователен к себе и к другим. У него хорошая библиотека, и я брал у него книги, когда он на каникулы приезжал из Белграда. Его я тоже люблю и уважаю, но больше всех люблю Добре Галевскую и Живко Тевдоского. Они только получили аттестат зрелости. Все знают об их любви. Это прекрасно, никто из нас не чужд любви, только всему свое время. Они это понимают и терпеливо ждут, когда смогут пожениться. Я думаю, Добре записалась в отряд ради Живко, хотя она тоже член СКОЮ. Возможно, я ошибаюсь. В отряде есть еще один выпускник гимназии, Александр, Сашо Донческий, наш связной, спокойный, молчаливый парень, член СКОЮ и мой хороший, пожалуй, даже лучший друг здесь. Его брат Доне самый старший среди нас. Ему двадцать два. Работал в мануфактурной лавке. Такой же тихий и молчаливый. Женат. Аризан Нестороский тоже женат. Аризан из села Фалише, это недалеко от Тетова. У него уж и сын есть. Он член партии и, как мне кажется, самый добрый. Мы иногда подтруниваем над ним, а он только улыбается. Срмен Чадловский из села Жилче тоже коммунист. Очень симпатичный человек, чуткий товарищ. С ним и с Аризаном я познакомился позавчера на Кале, и они мне сразу понравились. И наконец, Ризван (фамилии его не знаю) — пастух из села Подгорье на Шаре. Он чуть старше меня и намного крупнее. Приятный парень. Решил прийти к нам и пришел. Некоторые ему не доверяют, но я считаю, из него выйдет хороший боец.
Отряд мы формировали в четверг в полночь на Кале. Не было только Уса — он ждал нас на базе, у заброшенной молочной фермы на Соленой Скале. Когда мы построились, Борко поздравил нас и пожелал успехов в предстоящих операциях. Он красиво говорил о нашей борьбе и о нашем долге перед родиной. С нами он не пошел. На него возложено ответственное задание: укрепить партийную организацию и, как говорят, собрать еще отряд в семьдесят бойцов, который будет действовать в районе Тетово — Маврово. Он расцеловался с каждым из нас. По пути к Соленой Скале мы запели было, но Муф запретил, по-дурацки-де выдадим себя. Он прав. К базе нас вели Душан и Аризан — оказывается, они там были накануне.
У нас мало оружия, и потому мы вынуждены осторожничать, контролировать каждый свой шаг. Говорят, что Муфу строжайше запрещено принимать бой — надо присоединиться к бригаде. На весь отряд один ручной пулемет, который несет Аризан, пять винтовок — у Муфа, Душана, Доне и Живко, и у Уса своя винтовка. У Живко даже не винтовка, а маленький карабин, однако говорят же: на безрыбье и рак рыба. Пистолеты у Муфа, Срмена и Сашо. У Сашо вообще ничего не было; это на Кале секретарь Борко отдал ему свой, сказав: «Связному он нужнее. А я что-нибудь придумаю!» И обнял его. И еще у нас штук тридцать гранат-крагуевок[90]. Добре и я несем по четыре. Ризван безоружный — мы его проверяем. Вот и все наше вооружение. На мой взгляд, не так уж мало. Вернее, достаточно, чтобы добраться до бригады.
До вчерашнего утра, вплоть до прибытия на Соленую Скалу, мы шли ускоренным маршем. На базе нас ждали Иван с Ризваном. Там мы сообщили Ивану, что он назначен командиром. Он удивился, почему не Душан, но тот даже не дал ему договорить. С восходом солнца, сразу после завтрака, отряд в полном составе двинулся дальше. Мне показалось, что днем нас видели здешние крестьяне. Ус посовещался с Душаном и Муфом, и мы сразу изменили курс. Вел нас Ризван: он прекрасно знает местность. Мне было как-то не по себе оттого, что Иван шел за ним с пистолетом наготове. Все еще не доверяет ему. Ночевали под открытым небом. Я попросился в караул первым. Мне разрешили. До боли в глазах всматривался я в темноту, но ничего подозрительного не заметил. Чуть свет все были на ногах: не очень-то разоспишься на холодной земле. У тех, кто не привык много ходить, болели ноги. А я не чувствовал усталости. Мы помогали Добре, все же она девушка. Я нес ее одеяло, а Живко — рюкзак. Потом ей помогали другие. Мы шли лесом, порой далеко обходя открытые места. Около восьми мы прошли над Врутоком и обогнули Гостивар. Мы не знали маршрута. Конспирация. Так и надо. Дважды мы делали привал и быстро, наспех ели. В Селицу прибыли за полдень. Это село наше, коммунистическое. Несколько здешних парней давно уже партизанят. Крестьяне нас встретили сердечно, сразу развели по домам. Завтра утром снова в поход, а сейчас нужно отдохнуть, набраться сил».
Слободан прочел свою запись, где-то исправил, что-то добавил и удовлетворенно улыбнулся. Самое важное сказано. Можно бы, конечно, поведать и о том, как он стал партизаном, целых две недели собирался на глазах у родителей, младшего брата и только что вернувшейся из Скопле старшей сестры, но лучше не стоит. Хорош он, нечего сказать.
Когда домашние спросили, зачем ему летом теплые ботинки и шерстяные брюки, он, чтоб избежать расспросов, солгал: «Записался в альпинистскую секцию. На днях отправляемся в переход от Люботена к Турчину». И, странное дело, они поверили, а мать даже разворчалась: «Нашли время для альпинизма! Горы кишат баллистами, партизанами и качаками[91]! Жить вам надоело!» — «Какие еще качаки! — успокаивал ее Боби. — Всего три недели назад группа альпинистов прошла до Белого озера, а оттуда — к Призрену. Никаких тебе разбойников, ни баллистов, ни партизан!» Отец молча курил, глядя на своего повзрослевшего сына. А ведь будто вчера он видел его хилым, болезненным ребенком, задававшим столько хлопот и тревог. С самого рождения он, казалось, непрерывно плакал и ни за что не хотел спать, особенно по ночам. Приходилось брать его на руки и укачивать до тех пор, пока сам не свалишься с ног.
А подрос, шли на всяческие ухищрения, чтоб его накормить, бегали за ним по саду, просили, уговаривали, обещали звезды и луну, рассказывали сказки, стращали Бабой Ягой — лишь бы раскрыл рот. И от ангин не было спасу. А теперь уже бреется и хочет перейти через Шар. Боби казалось, что отец о чем-то догадывается. До войны он был учителем математики в Тетовской гимназии. С приходом оккупантов оставил гимназию и занялся мелкой торговлей. Часто ездил в Тирану и Драч, где за небольшое вознаграждение скупал для престарелых торговцев одеяла, шелк, скатерти, перины и всевозможные ткани. Случалось ему отсутствовать по нескольку дней, и дома всегда думали, что он уехал по торговым делам. Он как-то сразу постарел, сник, перестал шутить и мало говорил. Несколько раз тайком переходил новую болгарско-албанскую границу у Грумшина и ездил в Скопле проведать Борку, старшую дочь, учившуюся там на агрономическом факультете. На людях он не появлялся: не любил кофейни, в карты не играл, а для серьезных разговоров в Тетове, когда каждый только и думал о том, как выжить, трудно было найти собеседника. Боби казалось, что его отец отрешился от мира и жил узкими семейными интересами.
Сейчас Боби усомнился в правильности этого вывода. Из головы не выходит разговор, который они вели в четверг перед уходом Боби к месту сбора.
Отец постучался, впрочем, он никогда не входил без стука, Боби набивал рюкзак, не зная, что делать с множеством таких привычных и вроде бы нужных мелочей.
— Сколько времени пробудешь с альпинистами? — спросил отец.
— Дня три, а может, и все пять, — ответил Боби.
Отец молча стоял у двери. И вдруг неожиданно спросил:
— А если ваш альпинистский поход затянется?
Догадывался он о чем-нибудь? Нет, это чистая случайность. Но почему тогда отец сказал: «Надолго уходишь, возьми на всякий случай теплые вещи!» И добавил: «Мне показалось, что и Иван собирается. Он что, тоже член альпинистской секции?»
Не поднимая головы, Боби ответил:
— Да, тоже!
Димитар Апостолоский постоял немного и, уходя, дал сыну еще один совет:
— Не пей воду из родников, если хочешь уберечься от ангины.
Боби согласно кивнул. Отец вышел, не сказав больше ни слова.
Вечером его не было, что очень удивило домашних. Боби не смог даже попрощаться с ними.
В воздухе кружились первые хлопья сумерек. Неплохо бы сейчас пройтись. Может, кого-нибудь встретит, поговорит. Он сунул тетрадь в рюкзак, встал и надел титовку. Ага, вот что он забыл записать в дневник: Борко Чомческий вручил им одиннадцать титовок с вышитыми на них красными пятиконечными звездами. Сшили их мастера из швейной кооперации, а звезды вышила мать Ивана, тетушка Доста.
Как легко дышится в горах! Боби глубоко вдохнул и тут только заметил поднимающихся по улочке Ивана и Благою. С ними было несколько крестьян. «Наверное, еще не кончили с размещением», — подумал Боби и поспешил им навстречу.
Иван приветственно махнул ему.
— Боби, давай сюда! — крикнул он и, опередив спутников, сам зашагал к нему.
— Боби, запиши в свой дневник, что мы создали народно-освободительный комитет и получили подкрепление в количестве двух бойцов! — весело сказал Благоя.
Что это с ним? Благоя никогда так много не говорил.
Иван лихорадочно шарил по карманам.
— Знаешь, у меня письмо для тебя.
— Письмо? — удивился Боби. — От кого?
— Увидишь, — лукаво улыбнулся Иван. — Грамотный — прочтешь.
Наконец он вытащил из внутреннего кармана письмо.
— Немного помялось, по буквы целы, в этом я уверен.
Боби нетерпеливо разорвал конверт, быстро пробежал глазами письмо и замер, потрясенный.
— Ну? — спросил Иван.
— Он все знал? — прошептал Боби.
Иван кивнул.
— Знал.
— Значит, никудышная у нас конспирация?
Иван улыбнулся.
— А ты меня позабавил.
— Тем, что конспирация плохая?
Иван покачал головой:
— Нет, конспирация отличная. Забавно другое — твое полное неведение. Ведь твой отец, Боби, — один из старейших коммунистов в Тетове.
У Боби потемнело в глазах. Не хватало грохнуться оземь. Как в романе с неожиданной развязкой. Иван похлопал его по плечу.
— С тридцать седьмого, Боби.
И побежал догонять Муфа с крестьянами. Боби, растерянный, стоял на месте, глядя то на письмо, то на удаляющегося Ивана.
Немного успокоившись, снова развернул письмо.
«Дорогой, любимый сын мой, — писал отец. — Ты будешь далеко в горах, когда прочтешь эти строки. А я, я буду всегда с тобой, потому что знаю, куда ты отправился и какой тернистый, но благородный путь избрал в свои шестнадцать лет. У меня тоже нелегкая задача: утешать и успокаивать твою мать.
Но письмо это я пишу не затем, чтоб поделиться своими заботами. Я хочу сказать, что горжусь тобой. Не знаю, поймешь ли ты меня: я счастлив, что ты стал настоящим скоевцем без моей помощи. Я наблюдал за твоим становлением, следил за каждым твоим шагом — через твоих друзей по СКОЮ. И всегда радовался. У меня были причины стоять в стороне, а главная заключается в том, что я не хотел навязывать тебе свои убеждения, да и боялся потерпеть неудачу. Поэтому я поощрял твою дружбу с Иваном и Благоей. Прости, что у меня не хватило смелости сделать это самому.
Дорогой мой Боби, еще несколько слов: история учит, что победа всегда на стороне тех, кто любит свободу и верит в нее. Завоюют ее раньше или позже, это не столь существенно. Держись в седле, сынок, ведь ты борешься за самое святое, самое великое, самое прекрасное в жизни — за свободу своего народа. Я верю в тебя, любимый мой. Твой любящий отец».
И словно в шутку прибавил:
«Береги горло. Партизану не к лицу болеть ангиной!»
8
Они вызвали его, потом еще много раз вызывали. И всегда та же песня: «Иди, Селим, к нам, а?» А он только головой качал: «Я политикой не занимаюсь. И убивать не хочу». Отец был крутой человек, но честный. Не пошел он к ним. Мы все знали, они ему отомстят. Зекир Речани не любит, когда ему перечат. И пуще того злится, когда гнушаются его приглашением, Тут уж добра не жди. Сотрет в порошок. Ведь у него человек сто пятьдесят головорезов, да у его брата около ста двадцати. Мы со дня на день ждали грозы. Когда в схватке с партизанами Речани потерял семнадцать человек, он заявился к нашему дому:
— Селим, выходи, хочу кое о чем спросить тебя.
Отец побелел. На лбу под кече[92] выступили крупные капли пота. В дверь заколошматили. Отец молча встал, провел рукой по моей щеке, словно перекладывая на меня тяжелый груз, через веранду спустился во двор и вышел в переулок. Мы, шестеро детей и две матери, оцепенели от страха. Прогремели выстрелы. Я стоял ближе всех к окну. Мигом подскочил и еще увидел, как отец оседает, держась левой рукой за грудь. А тело его как бы поворачивалось к двери. Думаю, он уже был мертв, но голову даю на отсечение, что правую руку он протягивал к двери, как будто хотел коснуться ее или закрыть. Бандиты все стреляли, а отец, мертвый, словно вздрагивал и поворачивался.
Я не плакал. Только сжимал решетку окна и молил бога прекратить эту ужасную стрельбу. И лишь потом, когда пас в горах овец, я плакал от своего бессилия, что не помог. А Зекир Речани распространил по селам слух, будто отец предал их и, мол, предатель получил по заслугам. Крестьяне молчали, ведь он был скор на расправу. Уже тогда, стоя у окна, я поклялся во что бы то ни стало расквитаться с Речани. Расквитаться во что бы то ни стало.
Ризван Селими умолк. Взгляд его рассеянно блуждал по потолку. Аризан, недовольный паузой, ждал продолжения. Он чувствовал, что должен что-то сказать, но язык ему не повиновался, да и подходящие слова не шли на ум.
Ризван повернулся к нему.
— Тебе не надоело слушать меня?
— Что ты, — поспешил разубедить его Аризан. — Просто я не знал, что тебе сказать, — большое у тебя горе. — И, немного помолчав, спросил: — И поэтому ты пришел к нам?
— В некотором роде — да, — не кривя душой, ответил Ризван. — Надо было решиться: с вами или с ними. Хотя я не колебался, знал — не с ними, все никак не мог связаться с вами — ведь Подгорье заодно с Речани. И когда я заметил вас у Соленой Скалы, решил окончательно — пойду.
Аризан присмотрелся к нему — огромный детина, лицо серьезное, задумчивое, но белый грубошерстный свитер словно подчеркивает его совсем еще детские черты. «Ребенок, — подумал Аризан. — Ему не больше семнадцати. Как Боби, может, на годик постарше».
— И когда ты нас заметил?
— Уса в первый же день. С Черной вершины Соленая Скала видна как на ладони. И бывшая молочная ферма. Сразу не разобрал, кто там. Сначала подумал, мой земляк. Но когда назавтра увидел троих, то уж точно знал, что это не подгорцы.
Аризану ясно — место для базы было выбрано неудачно. Ферма находится на открытой площадке и хорошо просматривается с окрестных пастбищ. Если Ризван их видел, то вполне вероятно, что и крестьяне из Подгорья заметили их.
— Как ты думаешь, могли нас там заметить? — спросил Аризан.
— Конечно. Вокруг Соленой Скалы полно отар. А у пастухов глаз зоркий, от него ничто не ускользнет.
Ризван положил руки под голову.
Два-три дня какие-то неизвестные сновали возле заброшенной молочной фермы Исаака Гаши, что сразу под Соленой Скалой. Сначала появился один, потом еще двое. Ризван решил было, что это альпинисты, но тогда почему они так странно ведут себя — никуда не ходят, все крутятся у фермы. Да и альпинисты сейчас, в войну, повывелись. Назавтра под вечер Ризван тайком подобрался к ферме. Просто из любопытства, чтоб хоть чем-то скрасить свое нудное пастушье житье. Через крошечное оконце в кладовке, где когда-то стояли кадушки с брынзой, нельзя было ничего рассмотреть, но сквозь большой проем в стене видна была комната, где обычно спали мастера и пастухи. Сначала Ризван ничего не увидел, только слышал голоса, хотя слов не разобрал. Однако понял: эти люди ждут кого-то, чтобы вместе идти к Копачке. Затем Ризван увидел направлявшегося к двери высокого парня с усиками. «Темнеет, он хочет впустить свет», — подумал Ризван и не ошибся. Скрипнула дверь, и в просторном помещении сразу стало светлее. Высокий парень снова пересек комнату, возвращаясь назад.
Ризван напряг память: тогда он решился или чуть позже? Пожалуй, позже, когда они заговорили про оружие, про то, что они почти безоружны. Он вдруг вспомнил, что дома у них есть ружье, которое отец купил незадолго до войны, так, на всякий случай. И, тут же забыв про него, шагнул к двери. Риск невелик. Примут — скорее столкнется с Речани. Не примут — он ничего не теряет. Когда он встал в дверях, трое в комнате словно окаменели. Несколько секунд молча смотрели на него, а потом парень с усами потянулся к поясу.
— Зачем? — сказал Ризван. — Я пришел как друг.
Высокий парень опустил руку. С приветливой улыбкой Ризван принялся объяснять:
— Я уже второй день наблюдаю за вами. Если бы хотел, давно рассказал бы в селе. Я и вправду пришел как ваш друг.
Они пытливо смотрели на него — долговязый парень, тот самый, что открыл дверь, парень пониже, с резкими чертами лица, и спокойный и крупный человек в штанах из грубого домотканого сукна. Это и был Аризан Нестороский.
— Мы альпинисты, — сказал тот, что пониже. — Думаем пройти через Шар и спуститься к Призрену.
— Возьмите меня с собою, — не растерялся Ризван.
Все трое смешались. Первым пришел в себя Аризан.
— Садись, поговорим, — сказал он, вставая, и кивнул на высокого с усами: — Это Иван Йовановский — Ус. Это Душко Ункоский, а я — Аризан Нестороский. Вот мы и знакомы.
Ризван утвердительно кивнул.
— Я — Ризван. Ризван Селими из Подгорья.
Он сел. Ждал вопросов, но они молчали.
— Аризан, а вы могли меня убить? — наивно спросил Ризван.
— Еще как, — коротко ответил Аризан.
Аризан вглядывался в пришельца — совсем ребенок.
Когда он появился в дверях, Аризан подумал, что это товарищ из города, и потому никак не реагировал. Но вдруг вспомнил, что о базе не знает никто. Только сегодня вечером они спустятся к Кале и приведут товарищей. К тому же на голове у пришельца кече. Одно это должно было насторожить его. Но паренек ему нравился. И глаза и весь его облик излучали какое-то доверие. Он был такой открытый. Его приход изменил их планы — вечером Аризан и Душко отправятся на место сбора, а Иван останется с пареньком на ферме.
— Вы мне на доверяете, да? — спросил Ризван и, не дождавшись ответа, с горечью добавил: — Честное слово, вы это зря. У дома ружье. Можно я схожу за ним?
Все трое, не сговариваясь, подумали: хочет уйти к своим. Выло безумием отпустить его. Правда, сейчас каждая винтовка на счету, и все же рисковать нельзя. Ризван — албанец, и вовсе не исключено, что он вражеский лазутчик, хотя вроде и не похож.
— Значит, я арестован, да? — опять подал голос Ризван.
Паренек нравился Аризану.
— Нет, — сказал он, — не арестован. Но некоторые меры безопасности мы обязаны принять.
Ризван кивнул: ясно.
В комнату ворвался свежий воздух.
— Аризан, скажи по правде: выстрелил бы ты в меня, если бы заметил что-нибудь подозрительное?
— Я уже сказал: еще как!
Оба умолкли. Аризан, видимо, счел своим долгом объяснить:
— Более восьми месяцев мы готовились к походу. Первый наш отряд разбит. Мы потеряли бесценных товарищей. И потому не имеем права идти на новый риск. Во имя общего дела и во имя собственной безопасности, черт побери.
Ризван кивнул.
— Да, ты прав.
Потянуло прохладой. Медленно опускался вечер. Казалось, сумерки с гор падают крупными темными хлопьями. Аризан Нестороский никогда не видел такого заката. Все вокруг пылало пожаром. Протянешь руку — и обожжет. Небо переливалось всеми оттенками красного цвета — от яркого и прозрачного, как кровь цыпленка, до густого и темного, как сок вишни. Красный свет заливал их, окрашивал кожу, одежду, слепил глаза.
— Я думаю, что солнце так заходит только у Люботена, — сказал Ризван.
Аризан молчал. Дома уже убрали пшеницу. Дней пять уйдет на просушку.
Последние двадцать дней он жил только одной мыслью: чтобы отряд отправился после жатвы. Чуть свет, а то и ночью бегал он в поле и просил пшеницу поскорее поспеть. Он брал колос и, словно лаская, проводил по нему рукой, чтобы проверить, не отделяется ли зерно, и теплая волна нежно охватывала его, когда зерно под пальцами выходило из своего гнезда. А вести из Тетова приходили все чаще и чаще: «Скоро выступаем. Готовься!» Когда, с кем — об этом ни звука, только одно — готовься! Успеть бы убрать пшеницу. Он уйдет со спокойной душой, если в доме будет мука. Отец с матерью еще не стары, но одним им не управиться. Иванка не может отойти от Илчо, а сестра Слободанка тоже плохая подмога.
Аризан улыбнулся. Вспоминая Иванку и Илчо, он всегда расплывался в блаженной улыбке. Через месяц с небольшим, двадцатого августа, мальчику исполнится год. Подумать только, уже парняга.
Как он радовался отцу, протягивал к нему ручонки и что-то весело лопотал! Аризан любил смотреть на него ночью, когда тот спал в своей зыбке, посапывая и забавно раскинув над головой ручонки. В свете луны его пухлое личико казалось еще круглее. «Не трогай его, разбудишь», — беспокоилась Иванка, а он все гладил малыша по пухлым щечкам и вытирал оросившие его лоб жемчужинки пота. А сердце затопляла сладостная, щемящая нежность.
С того дня, когда связной впервые сказал: «Готовься!», Аризан больше времени стал проводить с женой и сыном. Ему хотелось ежеминутно видеть их, слышать их голоса. Иванка, не подозревая о его тайных помыслах, целиком отдалась своему счастью — Аризан почти не уходил из дому: что-то чинит, проверяет, суетится, отыскивает себе новые дела и занятия. А если когда и отлучался, то разве что к Николе Терзиескому или к Здравко Бигорскому. Те малость постарше, но это не мешает Аризану дружить с ними. Все село знает про их давнюю дружбу, только ни одной живой душе не было известно, что их накрепко связала партия. Никола еще в тридцать девятом, когда работал пекарем в Белграде, познакомился со студентами-коммунистами из Тетова и Скопле и вступил в КП, а с приходом оккупантов вернулся в Фалише и принялся создавать там партийную ячейку. Он сам, Здравко, Аризан, Любо Катеский и Чеде Сароский составили ее ядро. Любо и Чеде вошли в сформированный осенью тетовский отряд. Отряд был разбит у Кале, и Чеде Сароский погиб в числе первых. Любо вместе с уцелевшими бойцами удалось пробраться в Косово и связаться с призренским отрядом.
Аризан ненадолго уходил к Николе или Здравко, поговорить, почитать, обменяться мнениями и услышанными новостями. Затем Аризан возвращался домой и снова брался за дела. А когда сжали пшеницу, у него словно гора с плеч свалилась. Уже на следующий день, во вторник, он сказал отцу:
— Завтра еду в Тетово, скоро не ждите.
Отец заворчал, но Аризан прервал его:
— Тише! Так надо!
Однако Йордан все же высказался:
— Война, что я буду делать один с тремя женщинами и ребенком на шее?
— Друзья помогут, — успокоил его Аризан.
— Война ведь, у каждого свои заботы, — не унимался старик. — Завтра же про нас забудут.
— Я говорю, друзья помогут, значит, помогут.
Старый Йордан недоверчиво качал головой.
— Сейчас каждому до себя.
Отец и сын, оба высокие, крупные, смотрели в глаза друг другу.
— Послушай, — сказал отец, — я не хочу, чтобы люди всякое болтали про тебя, не хочу, чтобы на мой дом пал позор. Об Иванке и Илчо не беспокойся — они мои дети.
Они обнялись крепко, по-мужски и долго стояли так у скошенного поля, пока солнце заходило за горы и небо оставалось румяным. И Аризан сказал, не разнимая рук:
— Аризан никогда не покроет позором свое имя и свой дом.
— Аризан, ты меня не слушаешь, — обиженно протянул Ризван. — Я говорил, что так солнце заходит только за Люботеном.
Аризан улыбнулся.
— Я слушаю, просто задумался. Над Фалишскими горами солнце тоже бывает кровавым, хотя и не такое, как здесь.
Аризан и Ризван любуются закатом. Красный цвет все больше темнел, и вот уже пали летние сумерки, обволакивая сном утомившихся за день людей. У обоих слипаются глаза. «Надо бы проверить пулемет», — подумал Аризан, но сон горячей волной накатился на него, увлекая в свою пучину. И Ризван, словно желая наверстать упущенное, повернулся на бок, даже не накрывшись ямболией[93], которую им дала хозяйка Ристана Вецкоская.
Засыпая, Аризан слышал шаги на деревянной лестнице. Кто-то быстро поднимался наверх, громко стуча тяжелыми башмаками. Шаги приближались. У Аризана еще достало сил разомкнуть веки. В дверях стоял Сашо Симческий.
— Аризан, Ус назначил тебя в караул. В десять тебя сменит Срмен. Ступай к церкви.
«Только этого не хватало, — с тоской подумал Аризан, с трудом держа глаза открытыми. — Ладно, по крайней мере пулемет почищу». Он надел пиджак, взял пулемет и пошел к двери, но с полпути вернулся, накрыл спящего Ризвана ямболией и потихоньку, на цыпочках, чтоб не разбудить парнишку, вышел вместе с Сашо.
9
Кругом так тихо, что Доне даже немного не по себе. Высоко в небе мерцают звезды. Теплая ночь плотно обнимает все, а на востоке уже яснеет. Это еще не заря, просто светлые полосы протянулись по небу. Надо долго смотреть на звезды, чтоб увидеть, как они меркнут и потухают. Иные уже погасли — это заря предупреждает о своем приходе. На западе совсем темно. «Скоро рассвет», — подумал Доне и потянулся. Ему казалось, что ночью его и пушкой не разбудишь, что он может проспать не одни сутки, а проснулся сразу, как только Срмен свистнул под окном. Странно, но сейчас он чувствовал себя на удивление бодрым и свежим.
Доне встал. Обойдя несколько раз село и не заметив ничего подозрительного, примостился на пороге дома и стал ждать рассвета. Да и что заметишь в окутанном мраком горном селении, где все погружено в тишину и покой! Разве что собаки бродили по улочкам. Правда, он заметил еще кое-что, если это вообще стоит включать в доклад, который он сделает утром Усу: в светло-желтом одноэтажном домике в стороне от села всю ночь горел свет. Доне даже подошел к дому — ничего подозрительного, горит керосиновая лампа. Он вернулся, снова обошел село и теперь будет ждать — на рассвете отряд тронется в путь.
Вдруг над горами взметнулся рой искр. Доне не поверил своим глазам. Неужели это солнце высылает дозором свои лучи и они, точно ножом, рассекают воздух и тьму на западе? Хотя тьмы уже нет — пока он шел к речке, намереваясь еще раз пройтись по селу, ночная мгла поредела, возвещая наступление нового дня.
Он подошел к воде. На том берегу, чуть ниже по течению, стояло несколько домов. Сразу за ними начинался лес. Доне хотел идти дальше, как вдруг у самого леса мелькнула тень. Словно бы человек перебежал с места на место. Он не ошибся. Солнце еще не вышло из-за гор, но было достаточно светло, чтоб на таком расстоянии заметить тень. И хотя в темном лесу невозможно было что-нибудь разглядеть, Доне не сомневался — там прячется человек.
Прежде чем поднимать тревогу, надо проверить. Он стянул с плеча винтовку, снял ее с предохранителя и в два прыжка по камням перескочил речушку. Теперь ему казалось, что лес словно бы приблизился и распахнулся перед ним. «Наверное, кто-нибудь из крестьян, но я обязан проверить!» Он пригнулся и быстро пошел к лесу. Шагов через двадцать остановился, чтобы сориентироваться — идти напрямик к тому месту, где заметил человека, или взять чуть выше. Вдруг из-за деревьев брызнули ослепительные искорки, вслед за тем он почувствовал на теле и в левой руке горячие уколы. Казалось, будто солнце пронзило его огненными лучами. К своему удивлению, Доне не слышал выстрела. «Если они стреляют в меня, — подумал он, падая, — если стреляют в меня, то почему я не слышал выстрелов?» И вообще с ним происходит нечто непонятное: лес вдруг пустился наутек, а сам он летит в бездну, один край которой вздымается к небу, а дно усеяно острыми камнями. Не расшибиться бы. Упав ничком на камни, он застонал и только тут осознал, что ранен. Но как это могло случиться, если он не слышал выстрелов? Правда, временами он чувствовал обжигающее прикосновение каких-то маленьких предметов. А что, если это не пули, а просто раскаленные на солнце камушки? Вот почему он корчится на земле — это тело реагирует на жгучие уколы. Хотя нет, он плывет в пустоте, неведомо куда. «Надо сообщить товарищам, это мой долг», — думал Доне, в то время как тело его сверлили куски металла, но теперь они не жгли, как поначалу. К собственному удивлению, он еще не потерял способности думать: «Я должен сообщить товарищам, что на нас напали». Теперь он не сомневался в том, что тяжело ранен: теплая густая влага пропитывала одежду и медленно растекалась по телу, приятно лаская его.
Лежа ничком, он чувствовал резкий, животворный запах земли, ощущал ее вечное тепло, которое поднимается из ее глубин вместе с солнцем. «А может, это кровь», — мелькнуло в голове у Доне. «Может, и кровь», — повторил он про себя и хотел поднять правую руку, но не в силах был это сделать — рука отяжелела или он ослаб, Доне не знал, одно ему было ясно: он не может шевельнуть рукой. Теперь он уверен в том, что ручеек, начинающийся где-то в волосах, — кровавый. Вот-вот он доберется до бровей и, переливаясь через левый глаз, устремится по щеке вниз, к шее, или будет стекать на землю. Он не ошибся, тоненькая струйка медленно пересекла лоб, наполнила глаз и поползла вниз. «Раны тяжелые», — понял Доне и удивился, почему он не думает о смерти. А вроде бы самый раз сейчас подумать о ней, коли уж ему раньше такие мысли не приходили в голову. Колоть перестало. «Решили, что я мертв, — подумал Доне и попытался улыбнуться. — Если я и впрямь умираю — то смерть не так уж и страшна. Только отдалится лес, упадешь, и все!» Но товарищам он должен сообщить. Они, наверное, тоже не слышали стрельбы и могут налететь на засаду.
Доне попробовал приподняться, но не смог даже оторваться от земли. И все-таки он должен, должен сообщить товарищам, они должны знать, что в лесу прячутся вооруженные люди, они притаились за деревьями, и неразумно бежать навстречу их пулям. Собрав последние силы, взбадривая и понукая себя, Доне пополз к речке. «Только бы доползти до воды, там будет легче. Там меня заметят товарищи или крестьяне — ведь день уже!» И он полз, опираясь на локти. Левая рука тоже болит, и тело временами наливается свинцом, а Доне все ползет и ползет. «Вода меня подбодрит», — думал он. Винтовка осталась там, где он упал; издали он, наверное, похож на ком земли, медленно перекатывающийся через белые блестящие камни, выброшенные рекой когда-то во время мутных разливов, которые здесь так часты, в особенности в пору весеннего паводка. За ним змеился тоненький красный след, а Доне полз, не чувствуя ни боли, ни страха.
Снова захлопали выстрелы, пули отскакивали от камней, а он все полз и полз.
«Сашо должен был остаться дома, — думал Доне. — Он еще ребенок, и я не имел права отнимать его у стариков!» Вокруг алмазной россыпью разлетались камушки. Нет, не камушки, а пули. Значит, опять по нему стреляют. Но он ничего не ощущал, напротив, тело его стало необычайно легким, невесомым, вот-вот он достигнет воды. Оттуда до товарищей рукой подать. Он полз с закрытыми глазами — то ли так приятней, то ли веки чересчур отяжелели, он хорошо слышал журчание речки, чувствовал свежесть воздуха. «Вода», — обрадовался он и неожиданно очутился в детстве.
Стайка ребятишек плетет из прутьев щиты и мастерит на Пене запруду. Теперь можно вволю поплавать. Доне слышит голоса своих маленьких друзей. Они зовут его прыгнуть со скалы, а ему страшно. Это не очень высоко, меньше человеческого роста, но он не прыгает, боится высоты, а пуще того — разбиться о подводные камни. «Мы-то прыгаем!» — кричат мальчишки, но Доне отмахивается. Ему еще нет и десяти, и он в самом деле боится. Среди детей он видит Ольгу — она в короткой белой юбочке и тоже зовет его, что-то кричит — и удаляется…
Доне ползет к воде. Или ему так кажется? Голоса ребят утихают, и ему чудится, что теперь он в безопасном месте. Вокруг тишина, не слышно свиста пуль, совсем нет боли. Только горло жжет, словно в него льют кипяток. Напиться бы сейчас, один-единственный глоток поднял бы его на ноги. Он уже не чувствует ран, а тяжесть в тело совсем не помеха сообщить товарищам, что на них напали с восточной стороны села, из леса. Еще одно усилие, и он будет у речки, она все ближе и ближе, уже можно опустить в нее руку, хотя трудно разобрать, что это такое — вода или холодное стекло. Доне неподвижно лежит, окунув в воду правую руку. Волосами его играют веселые волны. А люди в лесу все стреляют. Заметив, что он снова пополз, они возобновили стрельбу и теперь уж старались во что бы то ни стало добить его. Вокруг распластанного на земле тела рвались и свистели пули…
Доне лежал у воды. Из-за горы, точно шар, выкатилось яркое пламенеющее солнце, оно прилегло на вершинах холмов и озарило теплым светом Селицу. А за телом убитого партизана затвердевал узенький кровавый след. Казалось, он тщится прикипеть к земле вечным напоминанием людям о кровавом событии.
10
Иван вскочил. Он хорошо слышал выстрелы — один, другой, третий… Стрельба усиливалась. Старый Арсо Алексовский уже встал.
— Стреляют, — сказал он, глядя на Ивана. — Где-то здесь стреляют.
Ус схватил винтовку и выбежал во двор. Он спал одетый и мог не тратить время на сборы. Арсо, босой, в белых подштанниках, поспешил за ним. В дверях они остановились, ослепленные ярким светом дня. На удивленье быстро пролетела ночь. Стреляли у речки. Иван помчался было туда, но выстрелы с небольшого взгорка справа заставили его растянуться прямо в пыли.
— Ложись! — крикнул он, приникая к земле.
Голос его затерялся в треске выстрелов. Он не поднял голову, чтоб посмотреть на дядюшку Арсо. И вдруг его слух уловил тяжкий, как стон, звук. А вслед за тем — глухой удар, какой бывает при падении человеческого тела. Повернувшись на спину, он с ужасом увидел, что старый Арсо скрючившись лежит у его ног, а по белой рубахе и подштанникам расплываются алые пятна. Совсем рядом умирал человек, умирал тихо, безропотно, без единого стона, только чуть содрогался, будто через его тело пропускали электрический ток.
Иван впервые в жизни видел, как умирает человек. Нет, он не испугался. Просто было непонятно: всего пять секунд назад он был жив, говорил: «Где-то здесь стреляют», а теперь жизнь покидает его, и он уже никогда ничего не скажет. Иван осмотрелся — двор обнесен плетнем из ивовых прутьев, под ним низенький каменный цоколь. Значит, можно ползти, оставаясь незамеченным. С холма не стреляют, хотя наверняка держат двор под наблюдением. Иван подполз к дядюшке Арсо и поволок его к дому. Старик был еще теплый. Иван обрадовался — значит, жив. Иван втащил его в темные сени, положил на спину и стал нащупывать пульс. Ему хотелось помочь старику, но сейчас важнее собрать товарищей. А вдруг это засада? Надо было ночевать в одном доме. Теперь, пока соберемся, всех перебьют.
Старый Арсо не подавал признаков жизни. Конвульсии прекратились. Все еще не веря в его смерть, Иван опустился на колени. В деревне было тихо. Только тревожный лай собаки да далекий женский голос нарушали тишину раннего утра. Внезапно опять захлопали выстрелы. Теперь стреляли у реки и гораздо чаще. Случилось что-то непредвиденное. Теряясь в догадках, Иван лихорадочно думал, как бы незаметно выбраться на улицу.
Иван вспомнил, что в примыкающем к сеням коровнике есть выход на задний двор. Он его заприметил вчера, когда дядюшка Арсо показывал ему свою немощную корову. Оттуда недолго добежать до дома Сандро Ястреского, где ночует Муф.
Корова смотрела на него с любопытством и опаской. Иван толкнул дверь и ползком выбрался наружу. У забора он поднялся и выбежал в узенький проулок. Муфа в доме Ястреского не оказалось. Насмерть перепуганный хозяин сообщил ему, что Благоя умчался куда-то вниз.
— По нему стреляли? — спросил Иван.
— Нет.
— А у нас стреляли. Убили дядюшку Арсо.
— Его дом на краю села, — деловито пояснил Сандро. — Открыт для обстрела. Наш посередине, до него не скоро достанешь.
— Верно, — подтвердил Иван. — Я пошел за Благоей.
Солнце уже стояло над горами, подступал зной. Улочка спускалась к центру села. Здесь не стреляли, но Иван на всякий случай бежал вдоль заборов. Вот дом, где приютили Живко и Боби. На этом самом месте он вечером отдал письмо Боби. Иван остановился в нерешительности — войти в дом или бежать дальше к реке. Выстрелы опять прекратились, но все же надо выяснить, что случилось. Посреди деревни — чешма[94], гордость крестьян, хотя воды в ней давно нет. Чуть поодаль — церковь. Иван решил добежать до церкви, но его окликнули. Он обернулся и в купе жавшихся к забору цветущих акаций увидел Муфа и Душана.
— Осторожно! — кричали они. — Беги вдоль забора!
Иван побежал. Короткая пулеметная очередь заставила его лечь.
— Ползи! — крикнул Муф.
Иван пополз. У акации он выпрямился.
— Убили старого Арсо, — сообщил он друзьям.
Душан пальцем показал на реку:
— Доне там убили.
От них до речки было метров сто. Перед тем как войти в лес, она плавно сворачивала влево. И здесь, у излучины, лежал человек, Доне. Иван не мог разглядеть, где его голова — в воде или на берегу. Муф отвлек его от горестного созерцания:
— Я не спал, когда началась стрельба. Прибежал сюда и видел, как Доне полз к речке. Но к нему меня не подпустили — застрочили по мне. Потом снова по Доне. Считаю, мы в кольце.
Помолчали. Иван думал, зачем Доне понадобилось переходить через речку. Там с десяток домишек, вторая половина села. Видимо, осматривал их.
— Вчера я был на мельнице. Оттуда можно отступить вверх по речке, — сказал Иван.
— Но сначала надо дойти до мельницы! — остудил его Муф.
— Я против отступления, — заявил Душан. — Даже если это и возможно, я решительно против. Они сотрут с лица земли все село. Надо обороняться.
Они снова умолкли.
— Ты прав, — согласился Муф, отлично понимая, что для них значит обороняться.
Иван кивнул.
— Остаемся. Будем держаться до последнего патрона.
Душан не ждал иного решения. Расплываясь в улыбке, он удовлетворенно покачивал головой.
Стрельба усилилась. Теперь стреляли со всех сторон. С небольшими промежутками строчил пулемет, поливая дома. Сквозь треск выстрелов слышался жалобный звон разбитого стекла.
Иван быстро распорядился:
— Я иду вниз. Вы оставайтесь здесь, будете защищать село. Соберите поскорей отряд и экономьте боеприпасы.
«Сущий ад! Нагоняют на нас страху, хотят сломить ваш дух», — думал Муф, бегом направляясь к дому Аризана и Ризвана. Во-первых, надо сообщить ребятам о решении держаться до последнего, а кроме того — в этом он был твердо убежден, — предупредить, что именно у них разгорится жестокий бой.
Душан Ункоский остался за акациями. Ему надлежит вести наблюдение за сельской площадью и информировать товарищей о действиях противника.
Иван бежал вниз. Тем самым путем, который он вчера проделал босиком с дядюшкой Арсо Алексовским. В него стреляли. Иван слышал свист пуль, но, к счастью, все пролетали мимо.
Пуля настигла его, когда он почти добежал до домов у воды, ему хотелось занять удобную позицию, откуда была бы видна речка. Острая боль в левом бедре чуть не свалила его с ног. Едва удержав равновесие, он бросился в первое подходящее укрытие — заросшую травою яму. Иван выругался с досады. Вот уж некстати ранили. Нога не болела, только сильно чесалась. Он сел. Брюки продырявлены лишь в одном месте. Стало быть, пуля застряла в бедре. Из раны текла липкая кровь. Иван оторвал от рубашки рукав и прямо на брюки наложил жгут. «Вот я и ранен. Остановить бы кровотечение!» Он глянул за речку и чуть не вскрикнул от неожиданности: крайний дом был объят пламенем. Сначала он услышал голоса, затем увидел людей. Женщины, ребятишки и трое мужчин бежали к речке. Вдогонку им неслись пули — одна из женщин упала на камни. Следом за нею растянулся мужчина. «Ну и гады! — кипел от негодования Иван. — Стреляют в женщин и детей!»
Выстрелы мешались с криками перепуганных людей. Иван, выбравшись из укрытия, побежал навстречу им с такой легкостью, будто в нем не сидела пуля. Они уже перешли речку в том самом месте, где он вчера умывался, и поднимались по откосу.
— По дворам, — кричал Иван. — Прячьтесь по дворам!
Поравнявшись с крестьянином, прижимавшим к себе ребенка, Иван с силою дернул его за руку. Человек ошалело уставился на него.
— Скорее во двор, во двор! — кричал Иван. — На площадь нельзя, там стреляют.
Человек шарахнулся в сторону.
— Они всюду стреляют!
Подбежали остальные. Растерянные, жалко смотреть. Дети, мал мала меньше, плачут, дрожат от страха. Во что бы то ни стало надо запрятать их во дворы, не то покосят. Он подтолкнул человека с ребенком к ближайшему двору.
— Во двор! Тебе что, жить надоело?
Человек, словно нехотя, побежал к дому, остальные потянулись за ним. К счастью, ворота были не заперты, и все, толкая и опережая друг друга, ввалились во двор.
Иван помчался дальше к реке. На бегу успел заметить, как у самых ворот упала женщина, она опускалась так естественно, будто садилась на корточки. Он слышал ее протяжный стон и причитания. Но ему было не до нее. Скорее за речку, может, удастся уберечь от огня дома. «А меня точно ветром несет, — думал Иван, кидаясь прямо в воду, — эка важность ноги промочить». Миновав убитых крестьян, он зигзагами побежал к ближайшему дому, убеждая самого себя, что смерть, если захочет, повсюду отыщет, даже под землей. Наконец он приник к стене дома и задышал жадно и емко. В воздухе уже не чувствовалось запаха леса и свежей травы. Теперь в нем стоял запах пороха и гари. Временами он ощущал на лице уколы — это долетали до него искры.
Они будто чего-то искали. Иван их сразу заметил: четверых вооруженных людей с факелами в руках и патронташами на груди, рыскавших вокруг дома метрах в пятидесяти от него. Шныряют, точно крысы. Чего им надо? Конечно же, ищут хозяев. Поджигатели проклятые! Иван прицелился. Он не ощущал боли, не было у него боязни промахнуться. Огромная волна ненависти захлестывала его в эту минуту. Он отомстит за Доне. Его выстрел затерялся среди других выстрелов, и баллист упал. Иван хорошо разглядел его загорелое лицо с обвислыми черными усами. Согнулся вдвое и нелепо упал, словно для потехи. Оставшиеся растерянно озирались по сторонам. Охнул еще один и, схватившись за руку, лег. Другие повалились рядом и начали стрелять. Иван тоже лег и, положив винтовку, отстегнул гранату. «Достану», — подумал он и, отведя руку к плечу, с силою бросил гранату через голову. Комья земли долетели до него. Послышались стоны. Его неодолимо потянуло туда, где корчились в предсмертных судорогах эти выродки, которые упивались видом крови, убивая мирных жителей, точно баранов. Доне и эти несчастные отомщены. Перед глазами мелькнуло пламя факела, и вслед за тем по лбу словно полоснули ножом. Он уже ничего не видит, но слух улавливает топот ног и незнакомые голоса. Иван не уверен, слышит он или ему чудится:
— Берите его живьем! Живьем!
И вдруг эти злобные выкрики заглушил громкий и отчетливый голос его матери:
— Иван! Иван! Иван!
В голосе нет ни страха, ни жалости, только всесокрушающая любовь, которая проникает в него, взбадривает и словно поднимает с земли.
Иван не понимает, что с ним. Нигде не болит. Только глаза не открываются. А слух различает незнакомые голоса и топот бегущих.
— Берите его живьем!
«Как бы не так!» — подумал Иван, нащупывая вторую гранату. События развивались молниеносно, но ему казалось, что время остановилось. Он приподнялся и начал искать гранату. Топот приближался, нарастал. Несметные полчища врагов неслись на него, и от их топота гудела и содрогалась земля. Руки немели, Иван понимал, что каждая секунда дорога. Почувствовав под пальцами холодную сталь, он улыбнулся, или ему почудилось, что улыбнулся. Сейчас для него смешались явь и грезы: зов его матери и топот ног, стоны раненых и голоса убитых крестьян. Наконец он отцепил от ремня гранату и быстро отвинтил колпачок. Потом стукнул ею о землю и лег на нее.
Секунды томительно долги. Бригада недалеко. Товарищи выбьют баллистов и продолжат свой путь. С ними уйдут крестьяне Селицы, по дороге к ним присоединятся жители других сел, и вместе они пойдут к Дебарце и к Копачии, чтоб влиться в бригаду, а поведет их солнце, чистое и ясное, словно мать выкупала его во дворе их домика в Тетове. Она купала его в разных зельях и снадобьях, и оттого оно теперь такое яркое и чистое. Оно такое близкое, что он может дотянуться до него рукой.
Они упали как подкошенные. Пятеро вскоре поднялись и пустились наутек. А трое остались лежать. Им уж никогда не подняться — слишком прытко они спешили к раненому партизану. Хотели взять его, да он их перехитрил. Живые в панике бежали. И мертвый, он им внушал ужас. Ушел от них, не стал их добычей. Нет, такого им не понять. И тем сильней их страх и ужас.
— Давайте живого! — летел навстречу им голос из леса. — Почему отступаете?
А они бегут без оглядки, и вовеки не избыть им страха и охватившего их вдруг чувства собственной обреченности.
11
Она давно его оплакала. Сначала кручинилась по Вецко, потом и по нему, а теперь вот тихо плачет у его постели, вспоминая их долгую совместную жизнь. Тридцать четыре года шли они рука об руку, деля горе и радость. Осиротели они после гибели Вецко, потом пришла новая беда — его разбил паралич. И все же для нее было счастьем слышать его кашель, ухаживать за ним, быть подле него. Теперь и этого нет. Одно утешало — умер без мучений. Занимаясь на кухне пирогом, она вдруг почувствовала мертвенный покой, объявший дом. Прислушалась — ни кашля, ни тяжелого дыхания. Опрометью бросилась к нему и уже с порога поняла, что осталась одна на белом свете, как обгоревшая, никому не нужная головешка. Однако сейчас не время предаваться горю. Хлопот с покойником порядочно, а где возьмешь среди ночи помощников. К тому же ей хотелось все сделать самой. А утром она оповестит село.
Долго стояла у постели, глядя на его высохшее тело. А какой он был до болезни — высокий, крупный, косая сажень в плечах. И Вецко пошел в отца: рослый, могучий, не человек — скала. А отца извели хворь да кручина. Она замечала, как он плачет украдкой, когда отпустит кашель. Отвернется к стенке и плачет, орошая слезами постель. Он не мог излить ей душу, но эти его слезы говорили больше всяких слов.
Стало светать. Восток небосклона зардел тонкой розовой полосой, предвещавшей наступление дня. Она пойдет в село, понесет партизанам пирог, а заодно скажет о случившемся. А потом — одинокая, безрадостная жизнь до самой гробовой доски.
Стрельба отвлекла ее от горестных раздумий. Стреляли в конце села, где-то у Сланеца. Она обомлела — в воскресенье, в такую рань? Обычно они заявлялись в село неслышно, без единого выстрела, не уведомляя жителей о своем приходе. А сейчас стреляют. Значит, пронюхали, что здесь дети, потому налетели как коршуны. Она подбежала к окну, откуда видна тропка к селу. Ни души. И в лесу вроде спокойно. Стрельба перестала, вдруг через минуту началась, теперь уже не только у реки, но и в верхнем конце села. Внутри у нее все похолодело от дурного предчувствия.
Ружейные выстрелы покрыл оглушительный взрыв. За ним второй. «Ребятки», — подумала мать Вецко, охваченная неведомым ей доселе страхом, от которого волосы шевелятся на голове и горло перекрывает ком. Что делать: быть подле покойного мужа или идти в село — а вдруг и ее помощь понадобится. И тут она увидела Грозду. В белой ночной рубашке, простоволосая, босиком, бежала она по тропинке к их дому. Сердце женщины сжалось в тоскливом предчувствии.
Теперь уже стреляли в селе. За рекой что-то горело, ей не видно было, что именно, она просто догадалась. Жирный черный дым, накрывая дома, клубами поднимался к еще серому небу. Грозда пробежала какой-нибудь десяток метров, когда из леса начали стрелять. Женщина у окна слышала эти близкие выстрелы. «Никак все село обложили, — подумала она с тревогой. И вдруг спохватилась: — Девочку, девочку мою убьют!» И как была, с непокрытой головой, бросилась к наружной двери, думая только о ней, о Вецковой невесте. Она открыла дверь и услышала:
— Мама, мама!
Голос Грозды заглушают раскаты выстрелов. Женщина видит: девушка бежит, раскрыв руки, словно спотыкается. И бег ее замедляется. «Ранена», — решила женщина и кинулась ей навстречу. А вокруг свистели пули, точно ожившие деревья стреляли.
Грозде казалось, что ее бьют по ногам. Внезапно она ощутила необъяснимую слабость и поняла, что не добежать ей до дома родителей Вецко. А ей так хотелось быть рядом с ними в эти страшные минуты, когда за стрельбой не слышно собственного голоса.
— Мама, мама!.. — крикнула на бегу Грозда и испугалась, не упасть бы здесь, на тропинке. «Ну не смешно ли, вот так умереть!» Боли никакой, она только слабеет, теряет силы. Добежать бы. Со двора кинулась к ней мать Вецко. Еще чуть-чуть, совсем немножко. А из леса стреляют, стреляют, точно по вражеской армии, остервенело и беспощадно.
Грозда тяжело рухнула в объятия женщины. Мать Вецко почувствовала кровь под пальцами. Белая рубашка Грозды в красных пятнах.
— Родная моя! — шептала женщина, судорожно прижимая девушку к груди, словно хотела удержать тепло в ее теле, принять ее в свое лоно.
Пули свистели, вспахивая землю вокруг, а они, точно заговоренные, стояли, держа друг друга в объятиях. Мать Вецко плакала, слезы ручейком текли по ее щекам. Она боялась взглянуть на Грозду. Понимала, ей уже не жить! Почувствовав, что Грозда не дышит, нежно и любовно отстранила ее от себя и посмотрела в удивительно ясное девичье лицо — никогда еще не казалась ей такой красивой эта ее несуженая невестка, разве что бледновата и глаза закрыты.
— Дитя мое, единственная моя! — шептала сквозь слезы мать, опуская Грозду на тропинку. Потом выпрямилась и медленно, величаво зашагала к лесу. Она не видела никого, но знала, что они там и что она на прицеле.
— На, погань, на, — говорила она, обращаясь к тем, в лесу.
Высокая, в черном платье, шла она, не убыстряя шага. А они остервенело стреляли. «И стрелять-то путем не умеют», — думала женщина, идя навстречу смерти. Много смертей видела она на своем веку, хоронила близких и соседей и всякий раз пыталась представить себе, в каких муках, телесных и душевных, умирает человек. А выходит, совсем и не страшно — нет ни грусти, ни сожаления. Одного ей хочется — плюнуть им в лицо и сказать, что не боится она их пуль.
— Стреляйте! — прошептала она, распахивая на груди платье. — Стреляйте, стреляйте! Стреляйте же, будь вы прокляты!
Ей казалось, что ее игра со смертью затянулась. Лес был совсем рядом. Вместе с щелканьем затворов она слышала запаленное, отрывистое дыхание и про себя дивилась их неловкости — никак не попадут, с такой-то близи.
Внезапно она остановилась. Что-то кольнуло в грудь. Еще крепче сцепив на груди руки, она закрыла глаза и упала навзничь, не издав ни единого стона.
12
Они с недоумением смотрели друг на друга.
— Стреляют у реки, — сказал Живко.
Боби подтвердил кивком.
Живко оделся.
— Ты побудь здесь, а я сбегаю к Добре, посмотрю, как она там, и заодно узнаю, что за стрельба.
— Не останусь я один! — взбунтовался Боби.
Живко пожал плечами.
— Ну, тогда дуй со мной.
Боби и Живко выскочили во двор и побежали вниз по улочке. Не добежав до центра села, свернули вправо, в Ястров проулок, — там в доме Ачковых ночевала Добре.
— Стой! — остановил их голос Муфа. — Здесь стреляют!
Добежав до центра села, он понял, что оказался под перекрестным огнем, и решил подняться по проулку.
— За мной! Надо держаться вместе.
Живко тоскливо посмотрел вперед: всего-то крохотное открытое место и дом Ачковых. А в нем Добре. Наверное, испугалась. Для ответа нет времени. Муф уже в верхней части села, откуда только что спустились Живко и Боби. Бегом назад.
— Держитесь стен! — кричал Муф. — Пригнитесь!
Выстрелы участились. Теперь к ним добавились короткие пулеметные очереди. Боби впервые слышал, как строчит пулемет — непрерывно и словно выводя какую-то свою жуткую мелодию.
Все трое подбежали обратно к их дому. Из соседнего двора слышен стрекот ручного пулемета. Не скрывая радости, Боби схватил Живко за руку:
— Это Аризан!
Тот кивнул.
Чтоб подобраться к Аризану, надо пересечь двор. Но это не так-то просто. Муфу почему-то казалось, что его взяли на мушку. Пулемет, установленный наверху, держит под прицелом эту часть села: дом Аризана и тот, чуть повыше, где, по всей вероятности, сидит Сашо. С невысокой скалы буквально в двух шагах от них так и разлетались смертоносные брызги.
— Попробуем подобраться слева, — сказал Муф.
С левой стороны скала обросла травой и кустами, достаточно высокими, чтобы укрыть лежащего человека. «Здесь не увидят», — рассудил Боби и вскочил, порываясь бежать, но Благоя остановил его.
— Куда?
— Я должен! — И, бросив на него гневный взгляд, Боби грубо вырвался и прямиком помчался к кустам. Хлопнули выстрелы, но стреляли не со скалы, а оттуда, из леса. Боби упал на землю и пополз.
— Успел! — прошептал Живко, снимая с предохранителя свой карабин. От страха за Боби к горлу подкатил комок и стал душить его.
— Успел, успел, — поспешил подтвердить Благоя.
Оба, словно сговорившись, открыли огонь, то по скале, то по лесу, откуда стреляли в Боби.
— Экономь патроны, — распорядился Благоя.
Живко кивнул.
На миг прислушались: Аризан стреляет в сторону леса. Вряд ли он догадывается, что они сидят на соседнем дворе, просто-напросто решил унять тех, что засели в лесу, тем более что по лесу он мог бить прямой наводкой, а пулеметные очереди сверху его не доставали.
Боби быстро полз, радуясь, что остался цел. Сухая трава и кустарник царапали лицо, от травы шел чуть горьковатый запах, чем-то похожий на запах сена. Ползать для него одно удовольствие: на тренировках и на учениях под Непроштеном он всегда был самый ловкий.
В перерыве между выстрелами Живко сказал:
— Боби прекрасно бросает гранаты. На учениях был лучшим.
— Слышал, — ответил Муф.
Живко посмотрел на него: губы напряженно сжаты, лицо бледнее обычного, а лоб прорезала голубая вена. Муф стрелял почти с равными интервалами, словно отсчитывал про себя секунды.
— Я переберусь к курятнику, — заявил Живко.
Муф придержал его за руку:
— Оставайся здесь.
— Там я буду ближе к Боби. Да и оттуда лучше видно.
— Оставайся здесь, — резко повторил Муф. — Ближе, да опаснее. Подстрелят, пока будешь перебегать двор.
— Тут всего-то несколько шагов!
— Я приказываю остаться!
— Я нужнее там. До курятника несколько шагов. Ничего со мной не случится.
Муф быстро зарядил винтовку.
— Ну, можно? — пристает Живко, уверенный, что Муф сдастся.
Тот утвердительно кивнул.
— Погоди, я прикрою.
Муф начал стрелять, Живко, согнувшись, с карабином в руке, бежал через двор к курятнику. В него стреляли, но словно бы неуверенно и с опозданием — казалось, враги ошарашены смелостью парня. Живко прижался к низенькой каменной ограде возле курятника, оттуда неслось тревожное квохтанье и кудахтанье. Скала с пулеметом совсем близко. Он уже видит дуло и вылетающий оттуда сноп ярких искр. Живко выглянул из-за ограды: трава скрывает от него Боби. Живко примостил карабин на ограду, но стрелять зря не стал — отсюда пулеметчика не снимешь.
Боби, словно шутя, полз к скале. Совсем не так представлял он себе войну. Думал, насмерть перепугается при первом выстреле, а на поверку оказалось ни капельки не страшно.
Сейчас им движет одно желание — во что бы то ни стало уничтожить пулемет. Это избавит отряд от лишней опасности. Внезапно он почувствовал усталость и решил передохнуть. Жарко. Солнце, яркое и чистое, начало свой обход, предвещая знойный день. За травой не видно, насколько он приблизился к пулемету, но ему кажется, что их разделяют каких-нибудь сто метров. Половину этого расстояния он еще проползет незамеченным, а дальше до самой вершины трава совсем низкая и редкая. Отдыхая, Боби пытался представить себе отца. Сейчас он ходит по саду и курит. Он сказал дома, что Боби ушел с партизанами, а не с альпинистами. И теперь утешает маму. А может, еще не сказал, ждет, когда придет весть о присоединении отряда к бригаде. Как бы там ни было, Боби уверен, что его отец, попыхивая сигаретой, ходит по саду. Как ему хочется, чтобы отец знал о том, что́ он сейчас делает. Чтоб мог гордиться сыном. А еще ему хочется, чтоб его увидела Наде Исаеска из шестого класса «Б». Разве плохо, что он сейчас думает о ней? Они ходили в кино, держась за руки, и она была ему по-своему дорога. Зимой он ради нее участвовал в лыжных соревнованиях и, разумеется, плелся в хвосте, не давались ему лыжи, другое дело — борьба, но он все равно принял участие. Ну и анекдотов потом ходило на его счет, а Наде с восхищением говорила: «Ты все можешь!..» И он, млея от счастья, заверял ее: «В будущем году опять пойду».
Боби полз. В него не стреляли, значит, не заметили. Он устал, рубашка намокла. Пулемет совсем рядом, почти над ним. Проклятье. «Ну погоди, я заставлю тебя замолчать — думал Боби. — Непременно заставлю». Натруженные локти болели, ломило поясницу, но он все полз и полз. Трава редела, темный, чудовищно длинный ствол пулемета изрыгал снопы слепящих, горячих искр, которые гасли на лету, оставляя в воздухе легкий белый дым и тяжелый запах горелого мяса. «Это порох», — подумал Боби.
Он остановился, чтобы отцепить от ремня гранату. Делал он это спокойно, словно закуривая в часы досуга. Пулемет замолчал, но зато в землю вокруг него стали зарываться пули, посланные из леса. «Значит, заметили», — подумал Боби и заторопился. Лежа на животе, зубами выдернул чеку. Правой рукой взвел гранату и выплюнул чеку. Ударил взрывателем о землю. Она глухо простонала в ответ. Опершись о левую руку, Боби привстал на колено, потом выпрямился и спокойно, точно камушек, бросил гранату в сторону пулемета. Боби следил за ее полетом: описав большую дугу, она, казалось, собиралась шлепнуться где-то вблизи скалы. Боби испугался. Неужели не докинул? Нет, все в порядке, граната продолжает свой полет и исчезает за вершиной скалы.
Как в игре!
Острая боль пронзила грудь, потом живот. Но Боби еще держался на ногах, вглядываясь в замолчавший пулемет. В ту секунду, когда он стал оседать, раздался оглушительный грохот, яркая вспышка ослепила глаза и со скалы посыпались комья земли и камни. Падая, Боби успел заметить, как взметнулись кверху искореженные части пулемета. Услышал крики и стоны. Боби упал на спину, перевернулся и покатился вниз, больно ударяясь о землю. Сухая трава колола лицо, голову и руки. Боби даже не пытался остановиться — в полном изнеможении, безучастный ко всему, проваливался он в бездонную пропасть, силясь только понять, кто это курит в саду — он сам, его отец или еще кто-то. Табачный дым застилает город, скрывая солнце и звездное небо. Над городом висит острый запах горелого мяса, горестно вздыхают напуганные и растерянные тетовцы. Боби скатился в густую высокую траву. Что с ним? Почему он летит ночью по лестнице тетовской гимназии, да еще во время летних каникул?
Живко заметил Боби еще до того, как по нему стали стрелять. Он следил, как Боби полз, видел, как остановился.
— Успеет! — закричал Живко, повернувшись к Муфу. Тот молча и неотрывно смотрел на скалу.
Какое-то время Боби недвижно лежал, словно выбирая подходящий момент, потом встал во весь свой высокий рост и бросил гранату. Живко видел, как он схватился за грудь и упал с грохотом взрыва и взметнувшимся фонтаном разъявшейся вдруг земли.
— Он ранен! — крикнул Живко.
Благоя стрелял в сторону леса, стрелял часто, стрелял не целясь, в порыве ненависти… Живко не ждал приказа. Оставив карабин, он ловко перескочил через ограду и побежал наверх, к Боби. Голову и плечи осыпала земля, а он все бежал и бежал. Он знал, что сейчас начнут стрелять, и это придавало ему сил. На бегу он с радостью заметил, что Боби уже не скатывается.
Запыхавшийся, подбежал он к Боби. Тот лежал на спине и тихо стонал. Из груди и живота хлестала кровь. Опустившись на колени, Живко взял друга на руки и, не обращая внимания на пули, поспешил вниз. «Легче пушинки, — думал Живко. — Впрочем, он всегда был хрупкий и слабый». Только бы вынести из-под огня. Что будет потом, кто поможет раненому — об этом Живко как-то не задумывался.
Вроде бы ничего не произошло. Но внезапная слабость в руках и коленях да прибавившаяся к ней боль в пояснице заставили Живко поверить в то, что в него попали. Боль была такая острая, что, если б не эта проклятая слабость в руках, он все равно не удержал бы Боби. Живко опустился на колени, положил безжизненное тело товарища у своих ног и чуть не вскрикнул: у него было такое ощущение, будто живот буравило длинное стальное сверло. Он сцепил зубы, чтобы не закричать, и в этот самый миг внутри у него забили тысячи ключей, их огненные струи поднимаются все выше, лижут грудь и горло, пламенем жгут и сушат душу и везде на своем пути оставляют ожоги и горелое мясо. «Значит, так приходит смерть», — думал Живко, даже не пытаясь вырваться из ее когтей. В него по-прежнему стреляли, иной раз попадали, но теперь он относился к пулям с полным равнодушием. Не разжимая зубы, закрыл глаза, медленно повернулся на правый бок и куда-то тихо-тихо поплыл…
В пропахший порохом воздух утренний ветерок принес запах пожара. Перестрелка продолжалась, а на небольшой скале лежали рядышком Живко Тевдоский и Слободан Апостолоский. И казалось, будто они уснули после напряженной борьбы на спортивной арене — усталые и счастливые прилегли отдохнуть, собраться с силами для будущих побед, для новых состязаний и незаметно для себя заснули.
Так оно и было.
13
Благоя Донческий-Муф не мог смотреть на скалу. Зажав голову руками, лежал он, еле сдерживая слезы: нет больше Живко и Боби. Дней десять назад он встретился с Живко у Баниче. Растянувшись на камнях у извивающейся среди скал Пены, Живко сказал:
— Если б не война, я пошел бы на археологический.
— Почему? — удивился Благоя.
Живко повел плечами:
— Люблю копаться в древностях, открывать прошлое.
— Но сейчас война.
Живко лег на спину — лопатки потемнели от загара.
— Да, война, и потому иду в партизаны.
— Жалеешь? — спросил Благоя.
— О чем?
— О том, что вместо того, чтобы готовиться к поступлению в институт, ты готовишься в партизаны?
Живко повернулся к нему. Солнце било прямо в глаза Муфу, и он неясно видел лицо Живко, зато хорошо слышал его звонкий и чистый баритон:
— Наоборот, я счастлив. Война скоро кончится, тогда и за книжки!
Сейчас Муф боялся смотреть на скалу. Ему не страшно, просто не время предаваться унынию, вспоминать былое. Еще, чего доброго, раскиснешь. Но воспоминания сами оживали у него перед глазами. С каким нетерпением ждал Боби его приезда из Белграда. Не успеет он порог переступить, а Боби уж тут как тут. А как светились его глаза, когда он рылся на книжных полках. Часами мог он перебирать книги, откладывая еще не читанные. А потом, заворачивая их в газету, говорил: «Книгу надо беречь!»
Благоя горестно улыбнулся. В шестнадцать лет Боби отличался удивительной зрелостью мысли, хотя кое в чем еще оставался ребенком. Однажды весенним вечером он пришел, явно взволнованный.
— Что-нибудь случилось? — спросил Благоя.
Тот смотрел на него, по-детски надув губы.
— Говорят, комитет решил не брать гимназистов в отряд — не доросли, мол, еще.
Благое показалось, что Боби вот-вот заплачет.
— А я уже собрался.
Благоя с улыбкой взъерошил ему волосы:
— Ну и прекрасно.
— Это правда? — настаивал Боби.
Благоя пожал плечами.
— Я секретов не выдаю. Тебе сказали, что надо готовиться?
Боби утвердительно кивнул:
— Да.
— Кто-нибудь освобождал тебя от подготовки?
Боби отрицательно покачал головой:
— Нет.
— Тогда зачем спрашиваешь?
— Сегодня у меня счастливый день! — радостно воскликнул Боби.
Благоя Донческий поднял голову и вынужден был ущипнуть себя, чтоб проверить, не сон ли то, что он видит: шестеро бандитов с винтовками наперевес приближаются к Живко и Боби. Они шли осторожно, точно псы, обнюхивая каждую травинку.
Благоя, не раздумывая, вскочил. Нет, не позволит он глумиться над мертвыми товарищами.
День давно уже вступил в свои права. От жары запеклись губы, и Благоя обливается потом. Увидев густой, темный дым, он понял, что горят дома в нижней части села. Слышны крики крестьян. Стрельба не утихает, наоборот, стала такой ожесточенной и повсеместной, будто сошлись тысячные армии.
— Сколько же их, черт побери? — воскликнул Благоя и бросился через двор к курятнику, но не стал прятаться за оградой, где так недавно стоял Живко. Перемахнув через ограду, он остановился: теперь между ними только низкая трава и тела его друзей. Те замерли, как громом пораженные. Муф вскинул винтовку и выстрелил. За первым выстрелом последовал второй, третий…
Двое, даже не охнув, медленно повернулись вокруг собственной оси и шмякнулись оземь. Остальные попятились, отстреливаясь на ходу. Вскоре их поддержали из лесу. Благоя, стоя во весь рост, трижды выстрелил в убегающих. Один вскрикнул и качнулся. Сделав несколько шагов вперед, он выронил винтовку. Благою взяла досада — загубил два патрона. А ведь он был восьмым на студенческих соревнованиях по стрельбе в Белградском университете. Так промазать! В секцию по стрельбе он записался по заданию организации. К собственному удивлению, оказался неплохим стрелком. Стрельба увлекла его, к тому же тренировки давали широкую возможность для общения с товарищами по ячейке, ибо в секции занимались в основном молодые члены партии.
Он снова зарядил винтовку. Трое стреляли, теперь уже лежа. Пули отскакивали от каменной ограды с таким шипением, словно их поливали холодной водой. А потом, подхваченное эхом, зловещее шипение долго еще кружило над ним, постепенно отдаляясь, пока не замирало где-то вдали.
Благоя не видел своих врагов. Только выпархивающие из винтовок желтые огоньки указывали на место, где они залегли. Нелегко бить по почти скрытой от глаз мишени. Прицеливаясь, Благоя неожиданно для себя пришел к выводу, что те из рук вон плохо стреляют. «Нам бы столько людей и боеприпасов!» — вздохнул он и зашагал к ним с таким спокойствием, будто охотился на зайцев. Прямой, русоволосый, шел он к скале, полностью отдавая себе отчет в своем поступке и стреляя на ходу в сторону желтых вспышек. Вдруг один из них вскочил и, словно забыв про винтовку, опрометью кинулся назад, в лес. «Трусливый заяц», — брезгливо подумал Муф и остановился ровно на секунду — взять его на мушку. Какое-то мгновение ему казалось, что в руках у него не винтовка, а туго натянутый лук. Вот тетива ослабла, и убегающий человек, взмахнув руками, упал ничком в траву, не успев вскрикнуть. «Трусливый заяц», — снова подумал Благоя и взглянул туда, где лежали Живко и Боби; подсчитал — вместе им не было еще и тридцати пяти. «Совсем не умеют стрелять! Они проиграют войну хотя бы потому, что плохо стреляют!»
А врагам чудилось, что на них движется не человек из плоти и крови, а сам сатана. Был он неуязвим. В него стреляют без передышки, из леса тоже стреляют, а человек дерзновенно и смело идет вперед. Объятые суеверным страхом, Они уже готовы были дать стрекача, и только печальная участь приятеля, доживающего последние мгновения невдалеке от них, удерживает их на месте. Ну хоть бы один встал! Тогда уж не будет промашки. Неважно, сколько их там, главное — стрелять и стрелять. Впервые в жизни он стрелял в человека, и притом так спокойно, хладнокровно, будто дело происходило на учениях и перед ним был кусок картона. Впервые он убивает людей, если этих можно назвать людьми, убивает, охваченный неистовой, беспредельной жаждой мести. Он стрелял, как-то упустив из виду, что одна из свистящих вокруг пуль может сразить его. Помыслы его чисты — спасти от надругательства мертвых товарищей. Они совсем рядом; если протянуть руку, достанешь до них. Они будто спят в траве, Благоя чуть поворачивается в их сторону — и все.
Пуля вошла в него сзади, в спину. Благоя Донческий подтянулся, словно встал на цыпочки. Руки, выронив винтовку, безжизненно повисли вдоль тела. Лицо исказила гримаса боли. Он стоял так ровно мгновение. Потом вдруг медленно завертелся на месте, думая о том, что это вращение никогда не кончится; но вот его настигла вторая пуля, схватившись за живот, он перегнулся пополам и стал падать, как падает выкорчеванное дерево — бесшумно до той поры, пока под тяжестью его не дрогнет и не загудит земля.
А из травы продолжали стрелять. Врагам хотелось убедиться, что этот отчаянный парень уже мертв, но встать, чтобы убедиться, они боялись. И потому стреляли, стреляли, чтоб унять свой темный безотчетный страх. Из лесу стреляли, ибо тоже не верили в смерть высокого русоволосого паренька, который открыто шел под пулями, мешая их представления о сне и яви.
14
Грозда выбежала, услышав первые выстрелы. Она считала своим святым долгом быть с родителями Вецко. Мать отговаривала — того гляди убьют, но Грозда отмахнулась и, как была — в ночной рубашке, босая, простоволосая, — выскочила из дома. Стрельба застала их в постели. Добре выглянула в окно: перед домом и в обоих отходящих от него проулках ни души. Спокойно и неторопливо шла собака. Стрельба усиливалась. Казалось, стреляют во всех концах села. Добре торопливо одевалась, одеревеневшие руки плохо слушались ее. Стреляют, а их всего одиннадцать человек. А где сейчас Живко? Почему его нет?
Стоя у окна, Добре думала, как ей быть. Выйти — пожалуй, еще разминешься с товарищами. Надо ждать здесь. Да и куда идти? Она ведь не знает, кто где ночует. Живко и того не сумеет найти. Отвлекли ее громкие всхлипы. Плакали мать и младшие сестры Грозды. Прервав свои размышления, она подошла к ним и, с трудом подбирая слова, принялась успокаивать их — скоро, мол, все кончится, наши отобьются, и плакать не надо, — потом, томимая страхом за товарищей, снова прильнула к окну. Временами шальная пуля отскакивала от стены, в соседней комнате выбило стекло. Страх овладел всеми. Обе девочки жались к матери и отчаянно, взахлеб ревели, а та, сотрясаясь от коротких сухих рыданий, шептала омертвелыми губами: «Куда ты, родимая, ушла в такой час?» Добре взяла себя в руки и опять принялась утешать их. И снова кидалась к окну. Неподалеку от их дома упал пожилой крестьянин. Неясно, откуда стреляют, но человек упал точно подкошенный. Он пополз, оставляя за собою кровавый след. Добре оцепенела от ужаса. У нее на глазах умирает человек. Может быть, он кричит, зовет на помощь, просто за выстрелами ничего не слышно. Он прополз немножко, вдруг как-то странно дернулся, поджал колени и замер в неподвижности.
— Убили, — прошептала Добре. — Человека убили.
Людей не видно, а человек упал, сраженный не одной пулей. «Значит, мы в кольце», — с тревогой подумала девушка, и, глядя на порыжелую, пыльную землю с распростертым на ней мертвым телом, тихо проговорила:
— А Живко? А товарищи? Почему никого не видно?
Село словно вымерло. Убитый не в счет. Некому даже склониться над ним.
Вдруг она заметила бегущую по проулку женщину. Следом за ней бежали двое детей. «К нам, — пронеслось в голове у Добре. — Страшно одной с детьми. Только ведь ей нельзя сюда, у дома их подстрелят. Надо остановить ее».
Добре пересекла веранду и стала спускаться вниз. Девушка ощущала непонятный прилив сил. Руки отошли, страха нет, тело обрело удивительную легкость. Словно на крыльях подлетела она к двери и, забыв про опасность, распахнула ее. Главное сейчас — предупредить женщину. Это она вчера приглашала ее на ночлег. Муж у нее в концлагере в Ясеноваце. А еще она спрашивала: «Как ты думаешь, война скоро кончится?» Надо ее остановить.
Женщина поравнялась с убитым и на мгновенье оцепенела. Потом прижала к себе детей и, не отрывая от мертвого недоуменного взгляда, стала далеко обходить его. Пулеметная очередь пропахала вокруг нее землю, подняв клубы пыли.
— Ложитесь, ложитесь! — крикнула Добре.
Женщина словно не слышала.
Тогда Добре бросилась к ней.
— Ложитесь же, ложитесь!
Добре бежала, забыв про то, что теперь и она стала мишенью для пулеметчика. Женщина выпустила детей, схватилась руками за лицо, чуть подалась вперед и, обливаясь кровью, упала. Добре остановилась. Сначала она подумала, что женщина услышала ее, облегченно вздохнула и вдруг поняла — она мертва.
Дети растерянно смотрели то на мать, то на приближавшуюся к ним партизанку.
— Детки, — прошептала она, с трудом переводя дыхание, и обняла обоих. — Скорей в дом!
И, пытаясь заслонить от пуль, потащила к дому. Дети заплакали, рванулись назад, к матери, а Добре, словно прикрывая их собой, тащила к двери. Старший мальчик упирался особенно рьяно.
— Потерпи, золотко, потерпи, — уговаривала его Добре. — Мы к ней вернемся.
До двери всего несколько шагов, она слышала причитания хозяйки на лестнице. Наверное, видела все в окошко и поспешила им навстречу. «А хозяин, как назло, спозаранок уехал в Гостивар», — подумала Добре и, не вскрикнув, рухнула вниз лицом.
Боль была такая, будто внутри все разворотили. Кровь хлынула к горлу. Сквозь мутную пелену она видела мать Грозды, в ужасе застывшую на пороге. Добре хочет сказать ей, чтоб поскорее увела в дом детей, но язык не слушается, кровь с бульканьем заполняет рот, нос, мешаясь с пылью, образует у щеки густую лужицу.
Мать Грозды втащила детей в дом и, превозмогая внезапную слабость, принялась тут же, у порога, осыпать их поцелуями. Оглушительный взрыв отвлек ее. Она машинально повернулась к двери и увидела, как вершина скалы взметнулась к небу землей и камнями. А прямо под нею выпрямился во весь рост человек, а потом упал и покатился вниз. Теперь она кинулась к Добре и, не помня себя от страха, повернула к себе лицом. Девушка захлебывалась кровью. Пулеметная очередь прошила ее от поясницы до шеи. Женщина приподняла голову Добре, взяла ее под мышки и втащила в дом. Дети, не переставая дрожать, молча смотрели, как она, заламывая руки, бестолково суетится вокруг девушки.
А Добре казалось, что она после дальней дороги зашла сюда передохнуть, чтоб затем снова отправиться в путь. Она устала, внутри все болит и жжет, она пытается криком заглушить ужасную боль, но из груди вырываются только тяжкие хрипы. Вдруг появился Живко. Он положил руку на ее пылающую грудь и зашептал ей нежные, ласковые слова, потом он с упоением говорил, как выучится на археолога и будет раскапывать тетовское Кале, где обязательно найдет массу восхитительных предметов, которые поведают миру об истории человечества. Боль утихла, она силится поднять руку, чтоб коснуться Живко, почувствовать его близость, но он внезапно отпрянул, побежал, перемахивая через горы, почему-то превратился в шмеля, покружился над ней и снова подошел, озаренный счастливой улыбкой, теперь уже с футболчсьным мячом в руках. Он подбросил мяч и приглашает ее поймать, но мяч уносится ввысь; это уже не мяч, а большая желтая птица, размахивающая крыльями. Живко смеется, а она протягивает руку, чтоб коснуться его.
Мать Грозды испугалась. Рука девушки словно взывала о помощи. Женщина встала на колени, подложила ладони ей под голову и попыталась приподнять. Но Добре вдруг сникла, отяжелела и застыла на руках у женщины.
Стрельба у скалы усилилась, только пулемета уже не было слышно.
Женщина опустила Добре на пол и, словно забыв про детей, склонилась над ней и прошептала:
— Ох, девочка, девочка!
15
Селица горит. Первыми вспыхнули домики за речкой, затем загорелись дома в южной части села, и, наконец, пламя, точно зараза летом, пошло гулять по селу, пожирая дом за домом. Пласты густого, жирного дыма плыли по небу, закрывая солнце.
Крестьяне попрятались, боятся нос на улицу высунуть. Выйдешь — не вернешься. Стреляли отовсюду, из-за каждого дерева, из-за каждого куста. Кто стреляет — не видно. Нет-нет, выскочат из лесу люди с факелами и подожгут дом. Обитатели его, спасаясь от огня, под пулями бежали к соседям, все больше народа собиралось по дворам. Сквозь шум и гром пальбы слышался протяжный вой напуганной скотины. Срмен Чадловский видел, как обезумевшие коровы и овцы неслись по улочкам, натыкаясь на заборы и плетни и отшвыривая неосторожных людей. Они бежали до тех пор, пока их не настигала пуля. А пули настигали всякого, кто появлялся на улице. Даже коров и овец. «При чем тут скотина?» — в который уж раз спрашивал себя Срмен, глядя, как расстреливают отару овец. Стреляли без передышки, словно боялись, не уцелела бы хоть одна овечка. Похоже, задались целью уничтожить все живое.
Он побежал к церкви, куда набилось чуть не полсела. Но люди пришли сюда не на молитву — на бога плохая надежда, куда надежнее толстые церковные стены. Они-то и защитят людей от огня и пуль. Пулемет давно затих. Срмен догадывается, кто заставил его замолчать. На сельской площади теперь не опасно. Иногда, правда, залетит шальная пуля, но уж это не в счет.
Отчаявшиеся было люди вздохнули с облегчением. Одни засыпают Срмена вопросами, другие молча глотают слезы, третьи цепляются за него, умоляя чем-нибудь помочь.
— Пробьемся, пробьемся! — вырвалось у Срмена.
Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Сказал — действуй.
— Где у вас лес пореже?
Их было человек сорок — женщин, детей и до времени состарившихся мужчин. Сквозь узкие оконца, чуть пропускавшие свет, помещение заполнялось запахом пожара и пороха.
— Над мельницей, — ответил немолодой на вид крестьянин. — Там метров на двести его почитай что и нет.
— Пойдем задами.
Теперь он знает, что делать. Случайно вырвавшаяся фраза: «Пробьемся!» — обернулась единственно правильным решением. Прорыв будет их моральной победой над врагом.
Вовсю сияло солнце. «Наверное, шесть, а то и семь часов», — подумал Срмен, решительно направляясь через церковный двор — задами они выйдут к южной части села, а уж оттуда — к мельнице. Рядом с ним шел крестьянин, говоривший про лес, потом остальные. Толкаясь, протискивались они в ворота, некоторые перелезали через заборы и все шли и шли, забирая по пути всех, кто не был в церкви, и тем замедляя свое движение. Последний двор уже не смог вместить разросшуюся толпу. Срмен посмотрел в сторону леса: тот начинался сразу за полем и был такой редкий, будто по нему прошлись исполинским топором. Внизу мельница, справа от нее лес. А еще правее, на взгорке, горел желтый приземистый дом Синадиноских. Сердце его сжалось от боли. Внезапно взгляд его зацепился за что-то непривычное — белые сугробы. «Овцы», — догадался Срмен и отвернулся. Люди застыли в ожидании.
— Видите это поле? — крикнул он им. — Бегите к лесу. Бегите пригнувшись. Они будут стрелять, а вы все равно бегите. За мной! — И Срмен Чадловский побежал. Он слышал за собой топот множества ног, слышал тяжкое дыхание людей и радовался тому, что не стреляют. Срмен бежал впереди с винтовкой в руке, готовый ответить на огонь.
Первые выстрелы раздались, когда они пробежали полпути. Стреляли из леса, поле огласилось криками и визгом. Срмен знал, что будут остервенело стрелять, знал, что без жертв не обойтись, и тем не менее каждый вскрик больно отзывался в его сердце. Но останавливаться нельзя. Он верно рассчитал: там, где лес пореже, засады нет. Здесь, конечно, тоже стреляют, но не так, как наверху. Вдруг Срмен увидел, как над землей поднялись две фигуры и стали почти в упор стрелять по бегущим. Срмен вскинул винтовку и трижды нажал на спуск. Стрелявший упал, но второй продолжал стрелять. Срмен снова поднял винтовку и не удержал — такой она стала тяжелой. Острой болью обожгло живот, руки повисли как плети, и он упал, но у него хватило еще сил подняться на колени. Колонна приостановилась. Шедший рядом с ним мужчина склонился над ним, но Срмен закричал изо всех сил:
— Бегите, бегите!
Мужчина побежал, остальные бросились за ним. Срмен опустил голову и сцепил зубы: боль от живота расползлась по всему телу, разнося сухой, колючий жар. Люди бежали, задевая его и переступая через него, а он только шептал:
— Бегите, бегите!
Как долго они бегут! Сердце его вздрагивало каждый раз вместе с глухими ударами падавших тел.
Баллист без передышки стрелял по крестьянам, испытывая мрачное удовольствие, когда кто-нибудь падал. Но не сразить ему всех. Бегущие люди уже совсем близко, и он не успевает зарядить винтовку. Влекомые жаждою жизни, люди надвигаются на него, сбивают с ног и, перекатившись через него вздыбленной волной, яростно набрасываются на других. Разъяренные люди бьют, душат, норовя разорвать на части, мстя за все — за убитых, за свои сожженные дома, за истребленную скотину, за почерневшее в дыму пожаров солнце и за это святое воскресенье, омраченное смертью и печалью. А когда из-за деревьев раздались выстрелы, люди, подхватив вражеское оружие, устремились в гущу леса.
Срмен видел, как крестьяне добежали до лесной прогалины. Отчего они замешкались? Он обернулся — с десяток трупов отмечали путь, пройденный людьми. Близ него лежала женщина с детьми. Боль уже заполнила тело. Видно, и ему лежать на этом поле. Клубы дыма скрыли солнце, но Срмен знает, что оно прямо над ним. Собрав последние силы, он взял свою винтовку, поднялся и, спотыкаясь, пошел за людьми. «Там змеи, — думал он, стараясь не выронить винтовки. — Они жалят коз и иссушают жеденскую землю». И Срмен шел освободить мир от змей и прочей нечисти, так расплодившейся в последнее время.
Засевшие в лесу баллисты, словно забыв про крестьян, остервенело стреляли в партизана, вымещая на нем всю свою злобу и ярость. При каждом попадании Срмен судорожно вздрагивал, но, не сбавляя шага, все шел и шел. На нем не было живого места, весь окровавленный, он держался на ногах наперекор всему. Потом он уже не мог идти, а только поворачивался навстречу пулям. А когда враги на миг остановились перевести дух и зарядить винтовки, тело Срмена медленно опустилось на землю, так медленно, словно приникало к сестринской груди.
16
«Куда они так торопятся?» — думал Душан Ункоский, равнодушно глядя на быстрые, ловкие движения. Он был так спокоен, будто петля, которую осталось только перебросить через сук тутового дерева, предназначена не для него. Человек тридцать крестьян, согнанных на церковный двор, в горестном молчании взирали на палачей. Были здесь и женщины и дети. Люди тесно жались друг к другу, как бы ища опоры и утешения. Страх прорезал на их лицах новые морщины. «Боятся, — думал Душан, — что следом за мной и их поставят на ту вон табуретку, найденную на чьем-то дворе. Что ж, умирать никому не хочется».
Как по-дурацки все вышло. Душан гнал от себя мысли, но они, как назло, не уходили.
Солнце поднялось уже высоко, было, наверное, часов восемь, когда донеслись крики — горел дом. Он кинулся на помощь, и у самого дома на него набросились четверо баллистов, скрутили ему руки и повели к сельской площади.
Душан понимал, что дело его плохо. Да и его ли только! Доне погиб, Иван сам подорвал себя, село горит — яснее ясного, что отряд разбит. Какой смысл отвечать на угрозы, уклоняться от ударов. Ему теперь все безразлично. Сначала он думал, что его станут водить по селам, показывать как живой трофей, но, увидев на церковном дворе крестьян, понял, что спектакль состоится здесь. «Расстреляют», — решил он и даже почувствовал некоторое удовлетворение — он погибнет от пули, как подобает солдату. Но когда притащили табуретку и веревку, он уже знал наверное, что его ждет.
Баллисты суетились. Но стреляли только в верхней части села. «Это Аризан поливает из пулемета», — думал Душан, радуясь тому, что сражение продолжается. Значит, не все погибли. Баллисты все подходили и, кажется, очень торопились. Душан смотрел на них: люди как люди, каких в базарные дни он видел в Тетове, но то были смирные крестьяне, продававшие творог, брынзу, перец и помидоры и любезно предлагавшие попробовать все, что было на прилавке. Теперь перед ним суетились хмурые убийцы, и в этом-то заключалось необъяснимое.
Они спешат. «Потом кинутся на Аризана», — думал Душан, счастливый от того, что не ощущает ни страха, ни слабости, свойственных людям в подобных обстоятельствах.
Досадно, что он не встречал — или, может быть, не выписал — хорошей мысли о смерти. Сейчас бы она ему очень пригодилась. К нему подошли и неожиданно развязали руки, хотя теперь это уже не имело никакого значения. Не все ли равно, как умирать. Двое, видно полагая, что он будет упираться, схватили его под мышки, но он ловко оттолкнул их и сам направился к шелковице. Настороженная тишина придает ему сил, наполняет спокойствием. Спокойно подошел он к петле и, взглянув на нее, увидел перед мысленным взором всю свою недолгую жизнь. Если б ему дали вторую жизнь, он прожил бы ее так же.
Душан обратил внимание на женщину — она рукавом утирала слезы, а стоящий рядом с ней мужчина толкает ее локтем в бок — наверное, успокаивает ее. Двое баллистов завязали ему глаза черным платком, от которого разило потом. Он сорвал платок, швырнул на землю, вспрыгнул на табуретку и накинул петлю себе на шею. Ему показалось, что стрельба прекратилась. Это единственное, что он мог сделать сейчас для товарищей и организации. На какую-то долю секунды мелькнула мысль о бегстве. Но он тут же отказался от нее. Лучше умереть сейчас, чем получить пулю в спину. И он обратился к крестьянам:
— Моя смерть не страшнее любой другой. Поэтому не жалейте меня. Радуйтесь: близок час свободы!
Баллисты не останавливали его, хоть целую речь произноси. Да только какой от этого прок? И тогда он крикнул:
— Смерть палачам, свобода народу!
Все, что произошло затем, продолжалось не долее хлопка в ладоши. Душан поднялся на цыпочки и оттолкнулся от табуретки. Кувыркаясь, она покатилась к ногам палачей. Потрясенные люди отвернулись. Женщины плакали, ладонями закрывали глаза детям. Мужчины пытались проглотить застрявший в горле ком. Люди шли к церкви. Баллисты не мешали им. Кругом полыхало пламя пожарищ. Что-то будет?
17
Ризван потянул за рукав:
— Это его люди! Клянусь, это его люди!
Он дрожал.
Аризан сменил магазин и почему-то почувствовал смертельную усталость. В душу вкралась тревога. Стрельба в соседнем дворе указывала на близость товарищей, но с некоторых пор он слышал только редкие пистолетные выстрелы. В чем дело? Не могли же они отступить, не дав ему знать. О худшем он думать не хотел. Ризван время от времени бегал в комнаты, выходящие окнами во двор, и каждый раз, возвращаясь, качал головой: ничего не видно. Прошел не один час.
— Я думаю, хватит, — сказал Аризан. — Надо искать товарищей.
Ризван вроде бы возразил:
— Надо, но только тогда они и здесь все сожгут. — Сказал, а душа его нетерпеливо рвалась — жаждала встречи с Речани. И если они уйдут отсюда, шансы на встречу значительно возрастут.
— Посмотрим, как там наши, — не сдавался Аризан. — Ты думаешь, двором можно пройти?
Ризван кивнул.
— Поползем вдоль ограды. Из лесу двор как на ладони.
Аризан взял с подоконника ручной пулемет.
— Пошли, Сашо в соседнем доме. Это его пистолет.
Они быстро спустились по лестнице во двор, где собралось все семейство хозяина.
— Уходим, — сказал Аризан.
Хозяин растерянно молчал.
— Уходим от вас, в селе остаемся, — пояснил Аризан.
Хозяин понимающе кивнул.
Партизаны, толкнув калитку, вышли на задний двор. Стрельба почти прекратилась. Слышно было, как трещат и рушатся пылающие бревна. Из соседнего двора по-прежнему раздавались редкие пистолетные выстрелы.
Все произошло в какую-то долю секунды.
— Аризан! — крикнул Ризван и как-то странно рванулся к нему.
Глухо тявкнула винтовка, и голова Ризвана приникла к груди Аризана. Он притянул к себе погрузневшего вдруг парнишку и быстро осмотрелся. Баллист перескочил через забор и вскинул винтовку, Аризан выпустил тело Ризвана и выстрелил. Баллист, взмахнув руками, рухнул.
Аризан встал на колени подле Ризвана, вгляделся в его лицо. Совсем живой, только губы посинели. И ни единой капли крови. Аризан не сразу заметил на белом грубошерстном свитере Ризвана расплывающееся алое пятно. К глазам колосса Аризана подступили слезы. Значит, предназначенную ему пулю принял Ризван. И в самом деле, пока он раздумывал, как лучше добраться до Сашо, Ризван заметил высунувшееся из-за забора дуло и метнулся к приятелю, заслоняя его. Пуля, войдя в спину, пронзила сердце.
Аризан лихорадочно соображал, как поступить, и вдруг из уст его сама собой вырвалась клятва:
— Я отомщу за тебя, Ризван, отомщу!
Он выпрямился во весь свой огромный рост. «Мы были несправедливы к нему. Не доверяли до последней минуты, хоть в душе сразу полюбили бесхитростного пастушка. Нелепая формальность», — думал Аризан, а по щекам его текли крупные слезы.
И, забыв про опасность, памятуя только о клятве, данной юному албанцу, он кинулся к дому, откуда стрелял Сашо.
18
Баллисты вышли из леса и разбрелись по селу, полагая, видимо, что с партизанами покончено. Аризан Нестороский, Сашо, Симческий и Петко Узуноский лежали в огороде Вангела Ристоского. Словно прикрывая их, поднималась молодая кукуруза сквозь ласкающий слух шелест, напомнивший им вдруг родные нивы и поля в Фалише и у Вардара. Аризан слышал голос Петко:
— Выберемся. По огородам они не шарят. — Петко вихрем ворвался к Сашо, где был уже Аризан, и прерывисто крикнул: — Прячьтесь! Сюда идут!
Пробрались в соседний огород. К счастью, кукуруза у Ристоского вымахала в человеческий рост. Не успели они залечь, как на улочке появились трое баллистов. За ними на некотором расстоянии в свирепом молчании шествовали остальные.
— Душана повесили на шелковице у церкви, — прошептал Петко.
Ребята поникли.
Наконец Сашо прошептал:
— А как Доне? Он жив?
Аризан пожал плечами.
— Не знаю, — сказал Петко.
— Он был в карауле, когда начали стрелять.
В это время раздались отдаленные выстрелы, они перемежались с воплями и плачем. «Расстреливают крестьян, у которых мы ночевали, — догадался Аризан. — Всю Селицу спалили. Уцелевшие дома можно по пальцам перечесть. Оставались, пока там были наши, теперь и их сожгут».
— Не перебраться ли нам на тот конец? — спросил Петко. — До леса там рукой подать.
Они поползли к ограде, подминая под себя не окрепшие еще стебли. Кукуруза кончалась у самой ограды, сложенной из светлых окатышей. Невдалеке чернел лес, а чуть ниже плавно поворачивала речка, прежде чем войти в нижнюю часть села.
— Отсидимся здесь до ночи! — предложил Аризан.
Петко утвердительно кивнул.
— И я не возражаю, — сказал Сашо, поудобнее устраиваясь в кукурузе. Солнце поднималось все выше, с трудом прорываясь сквозь дым, густыми клубами стоявший над Селицей.
Сашо заметил их первый.
— Смотрите! — прошептал он.
Все разом взглянули на лес, откуда выходила большая группа баллистов. Впереди скачущей походкой шел итальянский офицер. Чуть сзади шагал верзила с патронташами на груди и с автоматом в руках.
— Это Речани, — сказал Петко.
Аризан натянулся точно струна и выпалил!
— В атаку! Прорвемся!
Сашо, словно годами ждавший этого, повторил торжественно:
— В атаку! Прорвемся!
Петко раздумчиво покачал головой:
— Многовато их. Человек тридцать будет.
— Внезапность решает исход боя, — возразил Аризан.
— Ну, вам виднее, — сдался Петко. — Я на все согласный. Двум смертям не бывать. Одной не миновать.
— Подпустим их поближе. А потом — за мной! — Скомандовал Аризан и, немного подумав, добавил: — И вот еще что — Речани оставьте мне.
Они готовились. Аризан проверил свой ручной пулемет, Сашо зарядил пистолет, а Петко Узуноский осмотрел винтовку, взятую у убитого баллиста.
Баллисты приближались. Речани омерзительно хохотал, а итальянец, тщетно пытаясь сохранить подобающую высшему офицеру важность, все нелепо подпрыгивал. Не доходя до ограды, они остановились. Похоже было, дальше не пойдут. Незачем идти в горящее село, коли и отсюда можно всласть налюбоваться делом рук своих. Речани откровенно ликовал. Вдруг он поднял руки и громко крикнул:
— Селицы больше не существует!
Итальянский офицер захлопал в ладоши.
«Ну и спектакль», — подумал Аризан и вскочил. Сашо и Петко тоже поднялись. Их «ура» покрыло ликующий возглас Речани. Стреляя наугад, Аризан ворвался в самую гущу вооруженной банды. Те и ахнуть не успели, как он разметал половину! Речани, казалось, так и застыл с поднятыми руками, только вдруг рухнул наземь, итальянский офицер подпрыгнул последний раз и покатился клубком, иные растянулись во всю длину. Сашо и Петко стреляли по флангам. Мощная фигура Аризана, заслоняя горизонт, прикрывала их, точно цыплят. «Это вам за Ризвана, за сожженную Селицу, за отца Ризвана, за моих товарищей, за все беды и несчастья, которые вы принесли людям», — приговаривал про себя Аризан, строча из пулемета. Баллисты в страхе бросались на землю. Трое партизан прокладывали себе путь к лесу. Когда до леса было уже совсем близко, Аризан остановился.
— Бегите! — услышал Сашо его команду и тоже остановился. — Выполняй приказ! — крикнул Аризан. — Бегите!
Стрельба усилилась. Баллисты не преследовали их, только стреляли. Петко потянул Сашо за рукав:
— Ты слышал?
Сашо побежал, успев заметить, как Аризан опустился на правое колено. Сашо не надо было объяснять, что Аризан, жертвуя собой, прикрывает их отход. Сашо хотел обернуться и вдруг почувствовал удар электрическим током в руку, и вслед за тем рука одеревенела. «Ранили», — подумал Сашо, входя вместе с Петко в лес. Теперь можно было перевести дух.
«Наверно, добежали», — с облегчением подумал Аризан, не обращая внимания на пулю, пронзившую лицо. «Пулевые раны, наверное, не болят», — снова подумал он, выпрямляясь. Но едва он встал, как крупное тело его качнулось и стало клониться книзу. Аризан лежал на спине. Сквозь дымную мглу просвечивало солнце и, казалось, приветливо улыбалось ему.
19
Прищурившись, Сашо смотрел, как солнце уходит в синюю бесконечность. Перед глазами пробегали серебристые светлячки, временами они гасли, превращаясь в темные точки, потом снова вспыхивали еще ярче и ослепительнее, и оттого, видно, у него слезились глаза. Не сдерживая слез, он повернулся к Петко Узуноскому. Тот обрадовался, увидев его улыбающееся лицо.
— Держись, сынок. Трница уже близко.
— Я думаю об Аризане, — признался Сашо. — Не знаю, что с братом, но почему-то больше думаю об Аризане.
— И правильно делаешь. Такого человека нельзя забывать.
Сашо шел, держась за Петко. Перебитая кость поначалу ныла, но дядюшка Петко наложил ему самодельную шину, туго стянул ее рукавом своей рубашки и сказал: «Не унывай, молодые кости быстро срастаются!» И в самом деле, боль вскоре унялась, и теперь Сашо чувствовал лишь небольшую слабость, к которой примешивалось беспокойство.
Некоторые погибли, это он знает. Но где остальные? Должны же прорваться?
— Дядюшка Петко, я уверен, я абсолютно убежден, что мы победим. Мы обязаны победить!
Старый крестьянин готов был заплакать.
— Конечно, сынок. Непременно победим. Эта вера и дает нам силы. Ну как, дойдешь? — спросил он, отводя взгляд, чтоб не заплакать, и принялся клясть в душе тех, кто придумал войну.
— Дойду, — ответил Сашо. — Даже если бригада будет за тридевять земель, все равно дойду.
Петко Узуноский покачал головой. «Этого не выбьешь из седла. Вот, оказывается, какие у нас дети!» И ему почудилось, что это его Ице идет рядом, а вместе они идут к Трнице, чтоб оттуда продолжить путь к бригаде.
— Держись, родимый, держись. Еще чуть-чуть.
— Дойду, дядюшка Петко, дойду, — отвечал Сашо.
И вдруг они услышали голоса, хруст валежника и топот множества ног.
Они затаились за деревьями. Голоса и шаги приближались. Петко Узуноский вскинул голову — голоса знакомые. А когда показался первый человек, он, раскрыв объятия, кинулся ему навстречу.
— Вангел!
И суровые крестьяне, не стыдясь слез, крепко обнялись при всем честном народе. Радостные лица, каждый не прочь обнять Петко и того славного паренька, что стоит в сторонке и улыбается им счастливой улыбкой.
— Твоя кукуруза нас спасла, — сказал Петко.
Вангел засмеялся и, обняв его еще раз, спросил:
— Куда направляетесь?
— В Трницу. А потом — в бригаду.
Вангел Ристоский обратился к людям:
— Может, нам по пути, а?
Все одобрительно загудели.
— Тогда пошли! — скомандовал Вангел.
И люди пошли. Впереди Петко Узуноский, Вангел Ристоский и Сашо Симческий. За ними — все, кто остался в живых в Селице.
Сашо посмотрел наверх — сквозь верхушки деревьев виднелось солнце. Никогда еще оно не было таким близким и дорогим. Кажется, протяни руку — и коснешься его. Сашо широко улыбается: люди идут по узкой лесной тропинке, испещренной солнечными лучами, идут вперед, идут к призывно манящему их близкому и яркому солнцу…
Примечания
1
Баллисты — члены националистической профашистской организации.
(обратно)2
Воевода — высший военный чин в Югославской королевской армии.
(обратно)3
С каких пор? (франц.)
(обратно)4
Ну, не преувеличивай! (франц.)
(обратно)5
Полная или частичная утрата речи вследствие поражения головного мозга. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)6
Тускул (Tusculum) (лат.) — уединенная вилла Цицерона в Тускуле (ныне Фраскати), стало нарицательным названием.
(обратно)7
Перелом основания черепа (лат.).
(обратно)8
Ригидность — оцепенелость, вызванная напряжением мышц.
(обратно)9
Так проходит слава (лат.).
(обратно)10
Все для старой родины! (англ.)
(обратно)11
Посол доброй воли (англ.).
(обратно)12
Борис Кидрич (1912—1953) — политический и общественный деятель Югославии. Премия имени Кидрича ежегодно присуждается в Словении за достижения в области науки и техники.
(обратно)13
Восхитительно! (англ.)
(обратно)14
Герой популярного рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга.
(обратно)15
Все, мсье? (франц.)
(обратно)16
Вот… все (франц.).
(обратно)17
Возможно (франц.).
(обратно)18
Хелло, вы уезжаете? Как не стыдно! (англ.)
(обратно)19
Истинных друзей по пальцам можно перечесть (итал.).
(обратно)20
Мы еще увидимся с тобой! (англ.)
(обратно)21
Возрастная граница (англ.).
(обратно)22
Франце Прешерн (1800—1849) — великий словенский поэт.
(обратно)23
Низкая тварь (нем.).
(обратно)24
К невозможному так относиться, как если б оно было возможно! (нем.)
(обратно)25
«Старость» (франц.).
(обратно)26
Что б ни было, жизнь все же хороша! (нем.) Перевод М. Лозинского.
(обратно)27
Если ты не желаешь меня осчастливить, Забота, тогда вразуми меня! (нем.)
(обратно)28
Секущий серебряный мартовский дождичек (итал.).
(обратно)29
До завтра (франц.).
(обратно)30
Институт Форланини, Всемирный союз по борьбе с туберкулезом (итал.).
(обратно)31
Эй, эй, дорогу! (итал.)
(обратно)32
Езжу, как настоящий римлянин! (англ., итал.).
(обратно)33
В чем дело? (англ.)
(обратно)34
Я должен драться с тобой (англ.).
(обратно)35
Хотите еще что-нибудь выпить? (англ.)
(обратно)36
Профессор у себя? (итал.)
(обратно)37
Но ведь это блестяще, блестяще! (франц.)
(обратно)38
Но почему? (франц.)
(обратно)39
Союз… не правда ли, Эльторе? На этот раз без меня! (итал., франц.)
(обратно)40
Господи, господи! (франц.)
(обратно)41
Да, верно (франц.).
(обратно)42
Это можно оставить без внимания, не так ли? (франц.)
(обратно)43
Профессор Мариан, кавалер ордена Почетного легиона и так далее и так далее… (франц.)
(обратно)44
Короткий послеобеденный сон (итал.).
(обратно)45
«Как апрельские розы…» (итал.)
(обратно)46
Легкий короткий сон после обеда (итал.).
(обратно)47
Опанки — крестьянская обувь из сыромятной кожи.
(обратно)48
Сегодня неясно, завтра будет ясно, а не будет ясно, прояснится (игра слов, итал.).
(обратно)49
Играя (простонародное выражение, итал.).
(обратно)50
Опущенный палец (итал.) — знак смерти для побежденного гладиатора.
(обратно)51
То же.
(обратно)52
Скопец (сербскохорватск.).
(обратно)53
Хоровод (сербскохорватск.).
(обратно)54
Усташи — члены хорватской военизированной фашистской организации.
(обратно)55
Имена дьяволов в отряде «изгнания злых духов». — Прим. автора.
(обратно)56
Земельная мера, равная 0,5 га.
(обратно)57
Se non è vero, è ben trovato (Если это и неправда, то хорошо придумано) (итал. пословица).
(обратно)58
Моя вина (лат.).
(обратно)59
Чтоб все было хорошо, завершилось счастливо (итал.).
(обратно)60
Я добрый пастырь (лат.).
(обратно)61
Какой-то таинственный ритуал. (И отчуждение?) (итал.)
(обратно)62
Галстук-бабочка (итал.).
(обратно)63
Злобный, оскалившийся змееныш (итал.).
(обратно)64
Вила — русалка, фея, мифическое существо в южнославянском фольклоре.
(обратно)65
Возврати земле хлеб! (лат.)
(обратно)66
Да… Да!.. Почему бы нет! (итал.)
(обратно)67
Ну и кретин! Пошел на охоту! (итал.)
(обратно)68
Пратер — популярное место отдыха в Вене.
(обратно)69
Четники — члены сербской реакционной монархической организации.
(обратно)70
Шпора (турецк.).
(обратно)71
Хозяин (сербскохорватск.).
(обратно)72
Грузчик (нем.).
(обратно)73
Да!.. (нем.)
(обратно)74
Здесь игра слов: в сербскохорватском языке «зеленая фасоль» и «мелюзга» обозначаются одним словом.
(обратно)75
Официантка (англ.).
(обратно)76
С нами бог! (нем.)
(обратно)77
Бук (лат.).
(обратно)78
СКОЮ — Союз коммунистической молодежи Югославии.
(обратно)79
Матеница — разбавленная водой простокваша.
(обратно)80
Коста Абрашевич (1879—1898) — сербский поэт, революционер.
(обратно)81
Кочо Рацин (1908—1943) — македонский поэт и революционер. Участник народно-освободительной борьбы. Погиб в 1943 г.
(обратно)82
Саат-маало — название одного из районов в Тетове.
(обратно)83
Бистра, Жеден — названия гор в Македонии.
(обратно)84
Пита — слоеный пирог.
(обратно)85
Софра — круглый стол на невысоких ножках.
(обратно)86
Бубань — тюрьма в окрестностях Ниша.
(обратно)87
Шар — гора в Македонии.
(обратно)88
Клуб (макед.).
(обратно)89
Шесть классов гимназии. В гимназию поступали после окончания начальной четырехлетней школы.
(обратно)90
Крагуевац — город, где находится ружейный завод.
(обратно)91
Разбойники (макед.).
(обратно)92
Мужской головной убор (алб.).
(обратно)93
Ямболия — теплое шерстяное одеяло с длинным ворсом.
(обратно)94
Чешма — водоразборный колодец особой архитектуры.
(обратно)
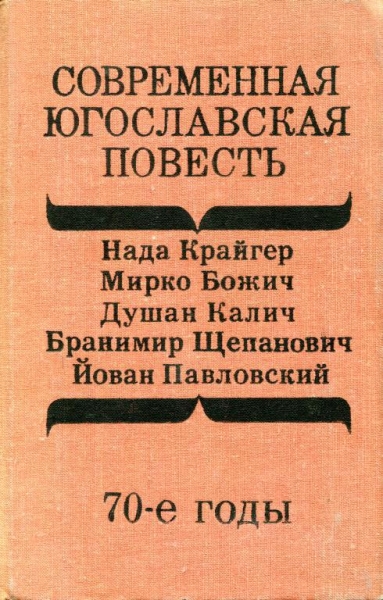

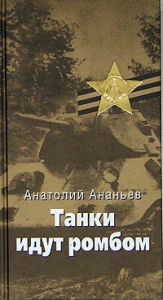
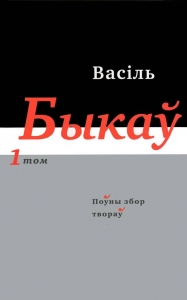




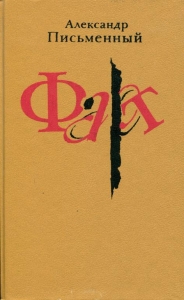
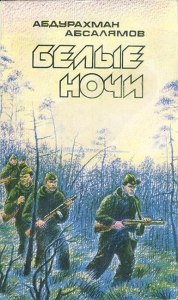
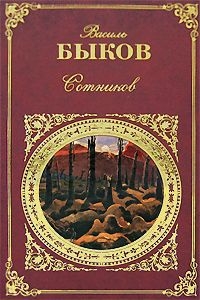
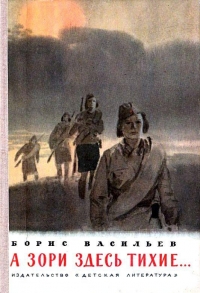
Комментарии к книге «Современная югославская повесть. 70-е годы», Нада Крайгер
Всего 0 комментариев