Решающий шаг
Моим дочерям —
Оле, Ане и Валюше
РАССКАЗЫ
ПАРАШЮТ
Фотограф Тимофей Минович Тихомиров, жизнерадостный и приветливый житель города Валдая, к тысяча девятьсот сорок первому году слыл опорой местного горкомхоза, равно как и супруга его, парикмахерша Варвара Онисимовна, энергичная, дородная, бездетная женщина, счастливая обладательница глубокого, самой природой поставленного голоса. Ударник труда, Тихомиров возглавлял обычно колонну сослуживцев на праздничных демонстрациях; небольшого роста, широкоплечий, крепенький, он выглядел в качестве знаменосца весьма импозантно, и только необычный блеск глаз выдавал посвященным его душевные муки: Тимофей Минович тихо терзался, не имея возможности навечно запечатлеть себя в миг гражданского величия, — снимки друзей-любителей удовлетворить виртуоза не могли.
Легко понятные каждому терзания эти не давали ни малейшего повода заподозрить Тихомирова в тщеславии или там в честолюбии, — слишком ровно он жил и трудился, слишком далек был от налаживания самой скромной деловой карьеры, хотя все двери, все пути были ему открыты и в городке он пользовался всеобщим уважением. Нельзя не заметить, впрочем, что его продвижению по служебной лестнице мешало и одно совершенно конкретное обстоятельство: Тихомиров был отчасти тугодум, ему всегда требовалось некоторое время на обдумывание своего решения, своей позиции, своего поступка.
Этакая медлительность, при другом темпераменте даже и полезная — сдержать излишний пыл всегда неплохо, — доставила Тимофею Миновичу массу неприятностей уже в хрупком отрочестве. И не в том беда, что трудно учился — это еще куда ни шло; родители, люди простые, мальчика не донимали, а ему самому было, казалось, решительно все равно, какие отметки получать.
Нет, не успеваемость портила ему жизнь, а отношения с учителями: все они, за редким исключением, предпочитали детей сообразительных, быстро схватывающих материал — лови взгляд наставника и тяни руку!..
Тихомиров же по доброй воле руки никогда не поднимал, ждал, пока вызовут, и лишь после этого, не торопясь, пытался нащупать нить ответа. Такая неразворотливость, такая приторможенность, подчас казавшиеся даже и нарочитыми и вроде бы свидетельствовавшие об отсутствии интереса к предмету, который они преподавали в с ю ж и з н ь, обижали учителей, раздражали их, мешали лицезреть мгновенный эффект их пояснений, мгновенную отдачу, сбивали с ритма по минутам расписанный урок — словом, причиняли массу дополнительных сложностей.
Кому они нужны?
Но это было еще не все. Застенчивый, почти никогда не шаливший и не дравшийся мальчик проявлял время от времени совершенно неожиданное, а потому особенно непонятное и неприемлемое для воспитателей упорство.
Он категорически отказывался, например, вносить деньги на разного рода подношения. По странному стечению обстоятельств, ростки этого печального явления, пышным цветом расцветшего после войны, уже в конце двадцатых годов произрастали в их тихой провинциальной школе, — хотя, в сущности, что здесь удивительного, глубочайший п р о в и н ц и а л и з м добровольно-принудительной системы подношений несомненен.
Старик директор, всеобщий любимец, увлеченный музеем родной природы, который он сам же и основал, фактически передоверил руководство школой завучу, энергичной даме из духовного сословия, преподававшей пение. Кто знает, чем руководствовалась Зинаида Ксенофонтовна — то ли стремлением развить в учениках чувство почтения к их наставникам, как она неоднократно заявляла, то ли желанием материально поддержать учителей, что было вовсе не лишним при их более чем скромной зарплате, или, быть может, ей попросту вспоминалось детство и мерещились бесчисленные узелки и кульки со снедью, которые бабы со всех сторон тащили ее папаше, сельскому священнику (разбирать приношения мать доверяла Зине), — но в несколько лет своего «правления» она сделала подношения нормой.
Кому охота спорить с начальством, да еще таким примерным, велеречивым, правоверным?
Но Тимоша хорошо запомнил растерянный взгляд своего вечно больного отца в тот день, когда сын впервые произнес: «Батя, мне нужно…» — не понимая еще, что речь идет о сумме существенной для родительского бюджета. Запомнил и н и к о г д а больше и ни на что денег не просил. Чтобы заплатить за учебники, он подрабатывал сам: собирал ягоды, грибы, продавал их на рынке; став постарше, колол и разносил по квартирам дрова.
Свою позицию он возвел постепенно в некий принцип. «С какой стати получают подарки эти люди? — рассуждал он. — За что, собственно? Только за то, что они делают свое дело? Гм… Одни делают его лучше, другие хуже, а подарки получают все…»
Скорее всего, кто-либо из взрослых высказал при нем подобную точку зрения, и она пришлась ему по душе.
— Давайте тогда уж и Ключареву соберем, — ответил Тимоша однажды прилизанной, румяной девочке-старосте, пытавшейся получить с него очередной взнос, и дернул ее за толстую косичку. — Лучший милиционер в районе, вчера один трех бандитов задержал, сколько жизней спас, а ему никто ничегошеньки не дарит…
Когда Тихомиров учился в пятом классе, собрался на пенсию директор. Классная воспитательница Валерия Павловна, женщина молодая, непривлекательная, незамужняя, упоенная и тем, что она получила наконец высшее образование, и благородством своего порыва — посвятить жизнь детям, — и отчасти той властью, которую она имела теперь над этими детьми, собирала деньги на подарок директору во время своего урока географии. Проинструктированная завучем, она еще накануне строго велела принести «кто сколько сможет» и теперь называла по журналу фамилии, многие из которых были ей еще незнакомы, ибо класс она приняла недавно; дети по одному подходили к столу, а учительница, произнеся вслух полученную от каждого сумму, составляла список.
Когда дошел черед до Тихомирова, тот встал и тихо, но внятно сказал, что денег нет.
— То есть как это нет?! Вызови отца! — приказала Валерия Павловна. Лицо перезревшей девицы приняло оскорбленное выражение.
Тихомиров молча сел. Остаток урока он сосредоточенно думал о чем-то и, очевидно, успел додумать до конца. В перемену он подошел к учительнице и заявил:
— Валерия Павловна, я отца не вызову.
— Это что еще за разговоры?! — Валерия Павловна вздрогнула от возмущения. — Завтра же чтобы был! В класс не пущу!
Ответ переминавшегося с ноги на ногу парнишки на этот раз не заставил себя ждать.
— Я уйду из школы, если надо, — сказал он, глядя хищно склонившейся над ним женщине прямо в глаза. — Я уйду из школы, но батю вы, пожалуйста, не трожьте. Он — бедный.
Учительница опешила. Густо покраснев, она выпрямилась и отступила на шаг. Ей померещилось на секунду, что перед ней вовсе не ребенок, а тщательно взвесивший свои слова взрослый, причем человек, заслуживающий уважения, а она-то… Потом это ощущение прошло, уступив место совершенно уже необъяснимой уверенности в том, что мальчик обязательно выполнит свою угрозу и тогда дело дойдет до директора, и она, так хорошо все подготовившая, окажется в дурацком положении.
Как быть? Отвести мальчишку в учительскую, к Зинаиде Ксенофонтовне? А ну ее, твою же собственную беспомощность тебе же в нос и ткнет…
Некоторое время они молча таращились друг на друга, оба малиновые, оба растерянные, — при всей своей решимости следовать раз принятому решению, Тихомиров был еще очень мал. Их разговора не слышал, по счастью, никто из детей — ничто не мешало Валерии Павловне отступить.
— Ну ладно, Тихомиров, — процедила она наконец. — Обойдемся без ваших денег… Я думала, ты любишь директора, — съязвила, не удержавшись.
— Очень даже люблю, — спокойно ответил мальчик, солидно, по-деревенски, поклонился и отошел, громко топоча сапогами.
В день торжества Тихомиров притащил огромный букет полевых цветов. Явившись в школу спозаранку, он вошел в пустой кабинет, дверь которого директор принципиально никогда не запирал, и положил букет на стол.
Воспитательница, от имени пятого класса, торжественно преподнесла ветерану массивный чернильный прибор из девяти предметов, приобретенный по случаю у одной валдайской дамы «из бывших».
Столкновение вскоре забылось, и Тихомиров вновь занял привычное место среди малозаметных, но успевающих учеников, Только Валерия Павловна как-то неожиданно для самой себя стала время от времени прибегать к его помощи в случаях конфликта с классом — и ни разу в Тихомирове не ошиблась.
Кончив неполную среднюю школу, Тихомиров поступил учеником в фотоателье. Прилежен был необычайно и вскоре стал подмастерьем; потом мастером.
Прошло еще несколько лет, умер отец, вскоре за ним — мать, к которой Тимоша был очень привязан.
Уже приобретя немалую квалификацию в своем лишь с виду простом деле, Тихомиров повстречал Варвару Онисимовну, увлекся ею — ему всегда нравились высокие, полные женщины, — женился и был счастлив, обретя в ласке жены то ощущение спокойной уверенности, которое утратил было, осиротев.
Вновь все заблестело в мамашином буфете, и, хотя порядок там наводила теперь другая женщина, жизнь, казалось, вошла в то же привычное русло и потекла размеренно, без треволнений и бурь. Тимофей Минович пристрастился к пирогам, полюбил рыбную ловлю, дальние прогулки, по-прежнему охотно ходил за грибами и ягодами.
Острые уголки постепенно сглаживались, и характер его с каждым годом становился все более уживчивым и ровным. Вот только руки́ он не тянул и потом. Лучший в окру́ге мастер-фотограф, он попал на доску Почета да так там и остался; отпуск проводил в домах отдыха, разок даже в Сочи заехал, — всего этого ему было вполне достаточно.
А ведь дошло, дошло и до того, что, услышав о новом начальнике, Тимофей Минович не сомневался, что сейчас будет названа фамилия одного из его бывших однокашников, а то и помладше кого. Но реакция его на сообщения такого рода каждый раз поражала даже тех, кто знал его не первый год и, казалось, должен был видеть Тимошу насквозь.
— Ты подумай… — говорил он рассеянно.
Иногда задумчиво добавлял:
— Чехарда…
Своего физического недостатка — одна нога его была от рождения короче другой — Тихомиров не замечал совсем, да и Варваре Онисимовне, пользовавшейся в девичестве немалым успехом, легкая хромота Тимофея Миновича не помешала сделать его своим избранником, Так что смысл слов «ограниченно годный» Тихомиров понял, в сущности, только когда началась война.
После неоднократных визитов в военкомат ему удалось все же добиться своего: его призвали поздней осенью сорок первого, когда беда подкатилась близехонько и в Валдае разместился второй эшелон штаба фронта.
Собрался Тихомиров, вопреки обыкновению, в один миг — бельишко, кружка, ложка. Секунду поколебавшись, он сунул в чемоданчик любимый старенький «кодак». Варвара Онисимовна, позволившая себе всхлипнуть лишь в самый последний момент, порылась в бельевом шкафу и вручила мужу машинку для стрижки волос — заветную, приберегаемую для постоянных клиентов, причесывать которых она ходила на дом.
— Сам аккуратно ходить будешь и товарищей пострижешь.
Она знала, что делала: желая разгрузить жену, Тихомиров так наловчился стричь по воскресеньям соседских ребятишек, что мог бы спокойно работать и в парикмахерской, не будь у него любимого призвания.
Тимофей Минович принял дар супруги с почтительной благодарностью — по тем временам машинка представляла собой немалую ценность. Когда чемоданчик вместе со штатской одеждой пришлось сдать на хранение, он заботливо обернул оба свои сокровища мягкой тряпочкой и уже более с ними не расставался.
К величайшему удивлению и даже ужасу, он обнаружил свое имя в списках команды, направлявшейся на пополнение летной части. Взглянув хоть раз на это поразительно мирное существо, которому ни шапка со звездой, ни брезентовый пояс, больше всего похожий на обруч от бочки, не могли придать хоть сколько-нибудь воинственный или просто суровый вид, нельзя было не подивиться вместе с ним такому назначению.
Но на Тимофея Миновича так никто и не взглянул: в штабе запасного полка его фамилию из одного, большого, списка попросту перенесли в другой, маленький. Набравшись храбрости, Тихомиров сделал попытку обратиться к какому-то начальнику: он, дескать, не только никогда ни на чем не летал, но даже подступиться к самолету не знает как и, почему тот поднимается в воздух, понятия не имеет, и вообще, пока привыкнешь к другой стихии… Пусть лучше в танкисты — все к земле ближе.
— В танкисты? — переспросил начальник, удивленно подняв бровь, и больше не сказал ничего.
Правда, попав к летчикам, Тихомиров разом успокоился, как успокоился бы всякий, кто ожидал невесть чего, а встретил порядки давно знакомые. Людей в части было много, а боевые вылеты совершали единицы; остальные — о б с л у ж и в а л и.
«Совсем как у нас в ателье», — подумал Тихомиров.
Разница заключалась в том, что там, дома, он сам «выходил на цель», а здесь первое время находился при кухне. Доброжелательство и старательность вскоре принесли новичку устойчивое положение, тем более что неожиданные вспышки упорства, так не нравившиеся учителям и с годами шедшие на убыль, в армии стушевались совершенно: и поводов особых не было, и резону — попадешь на гауптвахту, и делу конец. Когда же выяснилось, что у Миныча есть машинка и он умеет стричь не только наголо, но и фасонно, он сразу сделался фигурой заметной и даже необходимой. Случалось, он так ничего и не успевал по кухне — столько народу являлось стричься, — но он никому не отказывал, а повар не бывал на него в претензии. Каждый понимал: дело нужное и никто другой, кроме Тихомирова, сделать его не сможет.
Примерно раз в две недели Тихомирова, вызывали в штаб, где он не торопясь, с достоинством стриг комсостав; только просьбы побрить он отклонял вежливо, но категорически, ибо сверкающее лезвие бритвы в руках держать не умел и не любил, а собственную щетину тихо скреб безопаской.
Общие симпатии к этому обходительнейшему человеку питались еще и тем, что он, как и в мирное время, никуда не лез и никому не завидовал. Родители воспитали Тимофея Миновича в такой вере: что есть — то и хорошо, что наше — то лучше всех. Он был сыт, одет, обут, не мерз на морозе, регулярно получал письма от совсем близко обитавшей супруги — намечалась даже возможность съездить на денек повидать ее, — вечерами читал сравнительно свежие газеты, смотрел фильмы, забивал козла. Вскоре пришло и первое поощрение — ефрейторские лычки.
Чего ж еще?
Трудно сказать, почему именно, но о своей основной специальности, равно как и о фотоаппарате, уютно покоившемся на дне вещмешка, Миныч до поры до времени молчал. То ли стеснялся еще одного сугубо мирного штриха своей биографии, то ли считал совершенной утопией заниматься фотографией в боевой обстановке, то ли попросту из природной скромности. Молчал, и все.
Но вот однажды, подстригая комиссара и болтая с ним, как и подобает парикмахеру, обо всем и ни о чем, Тихомиров краем уха услышал вдруг о трудностях с фотографом — обещали, дескать, из политотдела прислать, а все нет и нет.
— Зачем он вам? — удивился Миныч, деликатно поворачивая комиссарскую голову налево и вниз, чтобы добраться до выемки за правым ухом.
— А ты как думаешь? — комиссар любил отвечать вопросом на вопрос. — В партию принимаем, людей надо фотографировать на партбилеты, уже десятка полтора ждут. Верно, нет? В стенгазету хотели кое-кого, кто заслуживает. Так? Домой каждый не прочь послать карточку с наградами…
Тимофей Минович вздохнул.
— А ты не вздыхай, не вздыхай, — решил успокоить его комиссар. — Не век в хозвзводе околачиваться. Заслужишь — и тебя представим.
Тут стригшая комиссара рука дрогнула, машинка дернулась и больно оцарапала ухо: Тихомиров представил себе, как он забирается в самолет, и…
— Я не к тому, — сказал он поспешно. — Кому-то надо же и картошку чистить. Просто наше фотоателье вспомнилось.
— Валдайское? — Комиссар прекрасно знал, кто откуда.
— Точно.
— Ты — чего? Часто бывал там?
— Уж куда чаще.
— Зазноба небось? — подмигнул комиссар в зеркало.
— Что вы, товарищ комиссар, у меня супруга — женщина хоть и приятная, но крайне серьезная.
— Чего ж ты туда бегал?
— Работал я там.
— Уж не фотографом ли?! — резко повернувшись, комиссар сдвинул закрывавшую его туловище простыню.
Тихомиров кивнул.
— И ты не взял с собой аппарата, голова?!
— Аппарат имеется, — как-то глухо пробормотал Тихомиров.
— Где?
— У меня в сидоре.
— Шутишь? Чего молчал?
— Никто же не спрашивал, — пожал Тихомиров плечами. — И потом, аппарат — полдела. Где остальное взять? Пластинки, бумагу, химикалии?
— Эх, темнота! — Комиссар снова откинулся на спинку стула, Тимофей Минович стал поправлять съехавшую простыню. — Да неужто я этой дряни не достану, раз у меня и аппарат, и фотограф налицо! Верно, нет? Дострижешь — покажешь.
Аппарат был принесен, и судьба Миныча решена окончательно. Его послали в командировку в Валдай, откуда он привез фотобумаги, и пластинок, и еще штатив, и много всяких мелочей. Он больше не чистил картошку, не выносил помоев, не колол дров. Его незаменимость стала неоспоримой. Подчинялся он фактически непосредственно комиссару и был на дружеской ноге почти со всеми офицерами, частенько просившими сфотографировать их после очередного награждения.
Его еще раз повысили в звании, выдали сапоги.
Казалось, положение его незыблемо, на самом же деле оно было непрочным, как это часто бывает на войне, да и не только на войне…
Началось наступление, стричься и фотографироваться было недосуг, люди сутками не спали, и не желавший отставать от товарищей Тихомиров изменил своему обыкновению и «поднял руку»: попросил дать ему боевую нагрузку. Комиссар выслушал его, молча кивнул и послал помогать укладчикам парашютов.
Работник аккуратный и усердный, Тихомиров вскоре овладел и этим специфическим и ответственным делом. Сперва его работу тщательно контролировали; постепенно он стал таким же укладчиком, как и другие.
Тут и подкралась беда.
Ранним летним утром крепко спавшего после ночного дежурства Тихомирова разбудил сосед по нарам:
— Вставай, Миныч, вставай!..
— М-м… — потряс головой Тихомиров, в глубине души убежденный, что уж его-то повар без завтрака не оставит. Он совсем было повернулся на другой бок, но сквозь дрему уловил еще два слова:
— Комиссар разбился…
— Что?! — Тихомиров разом сел на нарах.
— Комиссар, говорю, разбился…
— Как — разбился?! Где?!
— Я-то не видал… Взлетел, говорят. Подбили. Загорелся. Выбросился, да вроде поздно…
Тихомиров тупо, не моргая смотрел на говорившего. Он успел всей душой привязаться к своему веселому и простому начальнику; особенно дороги были мирному тихомировскому сердцу спокойные, всегда уважительные нотки в голосе комиссара.
Теперь он вдруг — как это было в день смерти матери — почувствовал себя беззащитным.
Тимофей Минович стал быстро одеваться. И тут смятение, какого давно не испытывал этот солидный человек, заставило его запнуться о какую-то непривычную, встревожившую его мысль. Попытки быстренько распутать клубочек ни к чему не приводили, он все время сбивался, так и не добравшись до конца, а мысль продолжала назойливо пульсировать в сознании. Главное, приходилось все снова и снова возвращаться к гибели комиссара, а это было мучительно. Обдумать же все с привычной обстоятельностью он не мог: презрев обычную инерцию, его существо лихорадочно куда-то спешило…
— Тихомиров, к командиру части! — в дверях показался молоденький посыльный. — И поживей!
— Где он, в штабе? — спросил Миныч, натягивая гимнастерку.
— Нет, у себя. Туда и тебе велено!
Посыльный исчез, не подождав Тихомирова, хотя тот был уже совсем готов.
«Странно», — мелькнуло и ушло, а на первый план теперь неумолимо выбрался вызов к полковнику — факт небывалый, исключительный, не имевший прецедента.
Застегнувшись, приладив свой теперь уже кожаный ремень, прилепив пилотку, Тихомиров быстрым шагом двинулся вперед, морщась и пытаясь хоть приблизительно представить себе, зачем он мог понадобиться полковнику, да еще в такой ранний час, да еще у него в землянке.
Хорошие отношения чуть ли не со всем полком не помогли Тихомирову ни на шаг приблизиться к его командиру. Молодой для своего звания, отменной храбрости кадровый летчик, полковник выделялся среди других офицеров замкнутостью, аскетичностью, резкой требовательностью, категоричностью суждений. Его отличало также редкостное хладнокровие, умение владеть собой в самых критических ситуациях.
Тихомиров наблюдал командира полка, естественно, издали, да и что общего могло быть между не по летам степенным сотрудником валдайского горкомхоза и не представлявшим своей жизни без полета асом, воевавшим в Испании, властным командиром, настолько привыкшим подчинять себе технику, что и повиновение людей стало казаться ему делом естественным.
Впрочем, как это — что общего? Они же были ровесниками, они принадлежали к одному поколению граждан нового общества, стремившегося стереть перегородки между людьми.
Все было как обычно, только пустынно что-то. Поэтому, когда навстречу Тихомирову из-за куста неожиданно вынырнул лейтенант Авдюшко, молодой вихрастый летчик, кавалер трех орденов, весельчак, балагур и любимец полка, Минычу на минутку стало легче на сердце. Он вспомнил, что еще прошлой ночью отпечатал для Авдюшко две фотокарточки — «одну мамане, одну Манюне», — и решил тотчас же вручить летчику свой маленький подарок.
Остановившись, он ласково улыбнулся и полез было в карман гимнастерки, да так и застыл: лейтенант, которого он, как и все в полку, звал просто Мишенькой и даже был с ним в особо близких отношениях по той причине, что Авдюшко был родом из Крестцов и, следовательно, приходился Минычу земляком, этот самый лейтенант прошел мимо с таким видом, словно никакого Тихомирова тут не стояло, словно пустое было место — немного травки, кустик, и все.
Авдюшко уже удалялся, планшет на немыслимо длинном ремне бил его при каждом шаге по голенищу тонкого хромового сапога, а бедняга фотограф стоял и оторопело глядел ему вслед.
Что такое?!
Как что, спохватился он, комиссар же разбился! И потом… Все та же подспудно бившаяся в мозгу мысль, которая не покидала его, оказывается, ни на секунду, стала зудеть уж и вовсе невыносимо. Тихомиров сделал еще одну попытку добраться до ее истоков, но вспомнил, куда и зачем он идет, встряхнулся и скатился по лесенке в землянку командира полка.
В предбаннике, возле небольшой плиты, колдовал ординарец полковника ефрейтор Осповат. Немолодой запасной, он изо всех сил старался выглядеть заправским служакой, ревностно тянулся перед сильными, был хамоват с теми, кто послабее, и носил старенькое, но смотревшееся еще и ладно пригнанное офицерское обмундирование. Обычно благоволивший к Минычу и благосклонно допускавший его в замкнутый кружок, с которым он поддерживал дружеские отношения, Осповат сейчас только вскинул на встревоженного товарища маленькие глазки, кивнул на вторую дверь и отвернулся.
Тихомиров и эту странность ощутил как некое зловещее предзнаменование, хотел было призадуматься, да уж тут времени не было вовсе. Оправив гимнастерку, он кашлянул зачем-то в кулак, робко стукнул в дверь и, не дожидаясь ответа, толкнул ее и вошел.
Заложив руки за спину, полковник, в расстегнутом кителе, глядел на расстилавшееся за крохотным оконцем поле; кисти рук были крепко сжаты.
На столе стояла непочатая бутылка водки и стакан.
Тихомиров потоптался у дверей, полковник молчал. Пришлось кашлянуть.
— Кто? — не оборачиваясь, спросил полковник.
— Младший сержант Тихомиров по вашему приказанию…
— Тихомиров?
— Так точно!
— Знаете уже?
— О Сергее Иваныче? Слышал… Вечная ему память…
— Не кощунствуйте! — Полковник резко обернулся и поморщился, увидев испуганное лицо вытянувшегося перед ним человека. — А-а… — покачал он головой. — Видно, не всё вы знаете… Вам сказали, отчего?
— Сказывали, как же… Подбили… Загорелся… Ранили… — лепетал Тихомиров, сверхъестественным усилием воли заставляя себя говорить, чтобы хоть бессвязными словами заслониться от чего-то неизбежного и грозного, что надвигалось на него. — Поздно выбросился…
— Нет, не поздно! — крикнул полковник. — Не поздно! Я сам за боем следил! Не поздно! Парашют у него не раскрылся!!
— Па-ра-шют… — в ужасе прошептал Тихомиров и, забыв о требованиях устава, схватился руками за голову, закрыв отчасти лицо. — Парашют… но как же так… парашют… не может быть…
— Не может?! Сходите, полюбуйтесь! — отрезал полковник, тоже забыв об уставе. — Ваших ведь рук дело…
Пригнувшись под тяжестью свалившейся на него решительно непосильной ноши, даже не пытаясь поймать и связать воедино сумбурные обрывки мыслей, мелькавшие в мозгу, Тихомиров вдруг ощутил странное для столь трагической минуты облегчение. Ну да, конечно, вот она — та самая мысль! Он столько времени пытался ее нащупать, а она никак не могла пробиться сквозь не оттаявшее еще после сна сознание, — эта мысль теперь определилась, выделилась наконец, и тягостное чувство вины мгновенно овладело несчастным.
Комиссар летел с парашютом, который укладывал он.
— Не может этого быть… — машинально продолжал бормотать Тихомиров и тут услышал:
— В трибунал…
Полковник произнес роковое слово нарочито спокойно; он был недоволен тем, что не сдержался и стал кричать. Тимофей Минович этого не знал, он уловил в интонации командира полка лишь безразличие к своему искреннему и глубокому горю. Это было хуже всего.
— Какого человека погубил…
Если, несмотря на скорбь, вызванную известием о гибели комиссара, в душе Тихомирова оставался еще проблеск слепой надежды, теперь он должен был погаснуть. Под сомнение было поставлено единственное его достояние — его имя честного труженика, а он не мог, не смел отвести обвинение. Значит, действительно все погибло, и нет ему прощения, и милости — нет.
Ударить его больнее полковник не мог.
Тихомиров вяло опустил руки и все еще чего-то ждал. Командир полка вновь отвернулся и стал смотреть в окно. Ладони его по-прежнему стискивали одна другую, пальцы побелели.
— Разрешите мне идти? — выдавил из себя наконец Тихомиров; вставленное в уставной оборот «мне» свидетельствовало о мере его унижения, о мере смятения его еле бившегося сердца. Погруженный в свои мысли, полковник этого словечка не услышал.
— Через двадцать минут явитесь с вещами к дежурному по части, — сказал он и, чувствуя, что Тихомиров и теперь еще не сдвинулся с места, снова вспылил и, не поворачиваясь, крикнул: — Да ступайте вы отсюда, черт вас, наконец, побери!
Тимофей Минович вздрогнул, повернулся и, проскользнув мимо Осповата, неверным шагом выбрался наверх.
День был как день. Дул ветерок. Светило солнце.
На какое-то время Тихомиров замер у входа в землянку. Сознание его, словно кольцом, было сжато тоскливым чувством неопределенности и полного непонимания того, как же он оплошал: не только не сумел, но даже не попытался убедить комполка в том, что парашют…
«А точно ли он был уложен правильно?»
Тимофей Минович стал вспоминать, как работал вчера вечером, движение за движением, — ничего не получалось, сумбур какой-то, то ли позабыл уже все мелочи, то ли был слишком возбужден, чтобы сосредоточиться.
В то же время Тихомиров твердо знал, что он не мог уложить неправильно ни этот, ни какой другой парашют. Вся его честная трудовая жизнь давала ему право на такую уверенность. Рисковать чужой судьбой?!
«Что самое главное? Чтобы я был уверен в том, что не виноват в гибели комиссара…» — пытался утешить себя Тихомиров, и тут неожиданно, к удивлению своему, он вновь ощутил некую неосознанную тревогу: вроде бы еще какая-то мысль зарождалась… Он постарался отделаться от этого нового бремени, подумав о делах более насущных, и это без труда ему удалось.
«Собрать вещи, собрать вещи — и к дежурному по части… Двадцать минут…»
Он повернулся и направился назад, к землянке хозвзвода. Пройдя несколько шагов, он обнаружил в поле своего зрения повара, двигавшегося в одном с ним направлении, с котелком в руке, и сообразил, что повар несет кому-то завтрак — кому же, как не ему?
— Семеныч! — окликнул Тихомиров старика, кашеварившего еще в гражданскую. Голода он не ощущал, но надеялся, что беседа с приятелем поможет ему отвлечься от страшных мыслей — и реальных, и еще только зреющих. «Интересно, знает или нет? Наверное, знает».
— Поешь, браток, горяченького, — сказал повар, когда они сошлись, и достал из кармана алюминиевую ложку.
Неожиданно для себя Тихомиров опустился на землю и стал хлебать густой, горячий суп. Ему полегчало.
— Ну? — Повар присел на корточки. — Сердит? — Он кивнул в сторону землянки командира полка.
— Страшно сказать.
— А давеча… — повар махнул рукой. — Сергея-то Иваныча к медпункту привезли, я в аккурат рядом был. Он на поросль, в кустарник упал, парашют не раскрытый, только снаружи ветками нарушен, а сам он — целый, а жизни нету. Полковник как увидел, задрожал весь, на колени стал, своим платком ему лицо вытер…
Замерший было Тихомиров снова стал хлебать суп. Повар грустно смотрел на него.
— Как же ты так, Тимоша? — спросил он немного погодя. — Как же ты так?
— В том-то и дело, — торопливо заговорил Тихомиров, словно только этого вопроса и ждал. — В том-то и дело, Семеныч, как?! — Он поставил котелок на землю, бросил туда ложку, в голосе его зазвучали протестующие нотки: — Сам понимаешь, что́ я доказать могу, ежели полковник лично бой видел? Да и парашют ветками потрепан, говоришь… Что?! А только запомни, что я тебе скажу: парашют Сергея Ивановича был уложен правильно.
— Правильно? — Повар поднялся, достал папиросу, стал закуривать. — Правильно? А ты полковнику докладывал?
— Не успел, — пробормотал Тихомиров. — Все сразу против меня было, я вину свою почувствовал. И потом… Понимаешь, я тогда еще не был окончательно уверен…
— А-а… — недоуменно протянул Семеныч. — Ну, коли так… Но это худо, однако.
— Хуже некуда, — кивнул Тихомиров. — Двадцать минут дал на сборы, и в трибунал отправят, а уж там…
— Скорее всего, в штрафбат, — задумчиво резюмировал повар и поднял котелок. — К себе шел?
— К себе, — подтвердил Тихомиров. — Вещички собирать.
— Пойдем, провожу.
— Пошли, пошли, — встрепенулся Тихомиров, и друзья зашагали рядом. — Да, послушай, — вспомнил он давешнюю встречу, — передай Авдюшке карточки, а то парень и смотреть на меня не стал, ровно я преступник какой…
Он достал смявшиеся кусочки картона и бережно вручил повару.
— Осатанели они, — буркнул тот, сунув карточки в карман гимнастерки. — Ведь прямо на глазах — вот что им обидно. Он раньше всех успел взлететь…
— Да… — неопределенно уронил Тихомиров и снова замолк.
— Слышь, Тимоша, — тронул его за рукав Семеныч, пройдя еще метров пятьдесят, — я вот случай вспомнил… У нас, в девятнадцатом, пулеметчик тоже был один — пулемет запорол… А пулемет тогда, знаешь… И его, как тебя, в трибунал… А он возьми и попроси сутки — дескать, пулемет достану у белых…
— Ну?
— Поверили. Достал.
— Ну и что? — мрачно сказал Тихомиров, с удивлением ощущая, как всколыхнулась та самая, вторая, не оформившаяся еще мысль. — Что я за сутки сделать смогу?
— Комиссара ты не оживишь, это верно, — вздохнул повар. — Но ежели от дела рассуждать — выход быть должон.
— Как же я доказать могу? Ну как?! — Тихомиров вдруг стал как вкопанный. Он даже побледнел от напряженных попыток вцепиться в ускользавшую, как угорь, мысль; голова буквально разламывалась на части.
— Да уж конечно… — повар тоже остановился.
— Слышь, Семеныч, — Тихомиров неожиданно шагнул к старику и взял его за рукав. — А где сейчас… где парашют?
— Сергея Иваныча? Возле медпункта.
— Возле… медпункта… — медленно шевеля губами, повторил Тихомиров.
— Как лежал, так и лежит. Да я же тебе толкую, что он нарушен, ничего по нему не докажешь…
— И никто не трогал?
— Начштаба не велел.
— Значит, лежит, говоришь… — Тихомиров как-то судорожно распрямился и, взявшись за ремень, расправил складки на гимнастерке. — Стоп, Семеныч!.. Стоп! Прощай покудова.
— Прощевай… — слегка растерянно ответил тот. — Да я проводил бы тебя… Все сподручнее…
— Нет, нет, не надо… я сейчас… я сам… иначе никак… — уже совсем бессвязно пробормотал Тихомиров и, повернувшись, бегом побежал обратно.
Повар поглядел ему вслед и покачал головой.
За время отсутствия Тихомирова в землянке полковника ничто не изменилось. Осповат все еще возился у плиты, полковник глядел в окно.
— Товарищ полковник! — закричал, ворвавшись к нему, Тихомиров. — Товарищ полковник, я…
— Вы все еще здесь?! — вздрогнув, повернулся полковник. — Я же дал вам двадцать минут на сборы…
— Товарищ полковник, разрешите мне…
— Вы что — о двух головах?!
Но, как мы уже знаем, додумавшего свою думу до конца Тихомирова не так-то просто было остановить.
— Разрешите доказать, товарищ полковник!
— Что? Что вы можете доказать?!
— Что парашют Сергея Иваныча… был в порядке…
— Да как же вы докажете? Он на кустарник упал… парашют… Пусть в трибунале разбираются…
— Я знаю, что на кустарник, — теперь есть только один способ… только один… Разрешите, я сам… — Тут Тихомиров вдруг смолк и ничего более выговорить был не в силах.
— Чего сам? — переспросил полковник, но ответа не дождался. — Чего сам? — повторил он, и тут только догадался: — Сам хочешь прыгнуть? — спросил он, неожиданно переходя на «ты».
Тихомиров кивнул.
— Раньше прыгал? — голос полковника подобрел.
— Не приходилось, но это неважно… Другого выхода просто нет, товарищ полковник, — стал быстро и, с его точки зрения, весьма убедительно говорить Тихомиров. — Вы только не подумайте… я не суда боюсь, не трибунала… Я ребятам доказать хотел бы… И вам тоже… А главное, самому себе, — добавил он, помолчав.
— Я не вправе вам разрешить, — покачал головой полковник, снова становясь официальным.
— Но ведь это же совсем просто, — прошептал Тихомиров, стараясь унять дрожь и не стучать зубами. — Я сколько раз летчиков спрашивал… Совсем просто — только дернуть кольцо… Заранее возьмусь, еще в самолете… и — дерну… и все! А что я не прыгал, мы никому не скажем… — Тихомиров даже сделал шаг к полковнику, оглянулся и зашептал еще тише: — Кто спросит, скажу: прыгал дома… много раз прыгал… в клубе, в том…
В землянке воцарилась тишина. Давно уже ничего не понимавший Осповат фамильярно просунул голову в дверь. На плече его, на ремне, покачивался автомат.
— Завтрак готов, товарищ полковник, — доложил он, надеясь получить ответственное поручение: связать Тихомирова или взять под стражу.
— Закрой дверь! — услышал он в ответ и мгновенно исчез.
Тогда Герой Советского Союза полковник Иванов впервые за это бесконечно долгое утро заглянул в глаза стоявшего перед ним неуклюжего, смятенного человечка и различил бездонную доброту подернутых дымкой трагедии глаз, и что-то дрогнуло в его сердце.
— Ничего не могу поделать, товарищ Тихомиров, — тоскливо сказал он. — Я не вправе дать вам разрешение на… на самоубийство…
— Как же мне жить, товарищ полковник? — перебил его Тихомиров, нарушая элементарнейшую субординацию. — Как же мне жить, виноватым в смерти нашего дорогого товарища комиссара? Как?! Вот ведь даже такой самостоятельный человек, как вы, не хочет меня понять…
— Кто вам сказал, что я вас не понимаю? — Разжав руки и пошевелив пальцами, полковник сделал правой рукой движение к плечу Тимофея Миновича, но опустил руку. — Это разные вещи: понять вас — и дать разрешение, которое вы просите.
— Но…
— Не могу. Ясно?
— Так точно, ясно, товарищ полковник.
— Ну и вот. Не вправе я также оставить смерть Сережи нерасследованной, — назвав комиссара по имени, как он его всегда называл, полковник проявил максимум симпатии к сержанту из хозвзвода.
— Я бы и расследовал, — едва слышно, на одном дыхании возразил Тихомиров, понимая уже, что из его затеи ничего не выйдет, — сразу все ясно бы и стало…
— Не могу, — покачал головой полковник. — Ступайте с вещами к дежурному по части.
— Разрешите идти, товарищ полковник? — словно ободренный его несомненной симпатией, четко, по-уставному спросил Тихомиров.
— Идите! — привычно твердо произнес полковник.
Выйдя из землянки, Тимофей Минович поплелся по лужку. Вид у него был сперва совершенно отсутствующий, затем — более собранный, под конец — целеустремленный.
Видимо решившись на что-то, он стремительно двинулся по той же тропинке. Дойдя до места, где давеча повстречался ему лейтенант Авдюшко, Тихомиров огляделся и, круто свернув, нырнул в густой кустарник. Уж кому-кому, а ему было прекрасно известно, где любил отсыпаться свободный от дежурства Мишенька.
Прошло некоторое время, и в землянке полковника запищал полевой телефон.
— У нас еще что-то вроде ЧП, Виктор Петрович, — раздался в трубке встревоженный голос начальника штаба. — Авдюшко поднялся без приказа.
— Авдюшко? — переспросил полковник, питавший к молодому летчику ту неодолимую симпатию, которую мы так часто испытываем к людям, напоминающим нас самих в молодости.
— Так точно, Авдюшко, — подтвердил начштаба.
Полковник помолчал.
— Вы в штабе? — спросил он затем.
— Так точно.
— Иду к вам.
Полковник отпустил клапан, медленно положил трубку, покачал головой. «Ах, черти, — подумал он. — Хотя… странно было бы, если б Авдюшко отказался».
По дороге в штаб полковник сделал небольшой крюк и заглянул на медпункт. Там царили тишина и порядок. Только парашюта, с которым разбился комиссар, нигде не было.
Еще раз покачав головой и попросив врача быть наготове, полковник не торопясь отправился дальше.
В воздухе все происходило настолько обыденно, что и рассказывать, в сущности, нечего.
Пока поднимались, Тихомирова било мелкой дрожью, хотя страха он не испытывал, и был он так бледен, что Авдюшко, сжалившись, сделал над аэродромом лишний круг.
Тихомиров почувствовал себя увереннее и, когда было сказано прыгать, сразу прыгнул.
Сосчитал сколько положено — Авдюшко перед взлетом провел краткий инструктаж, — дернул изо всех сил вытяжное кольцо и зажмурился.
Парашют раскрылся.
Дальше он уже ничего не помнил — голова кружилась, летел, как в тумане; приземляясь, шмякнулся обо что-то твердое и на минуту потерял сознание.
Когда же он очнулся, рядом на коленях стоял врач, а поодаль он смутно различил несколько силуэтов и среди них, чуть впереди, стройную фигуру полковника.
Оттолкнув только что освободившего его от подвесной системы техника, Тихомиров с натугой встал и, пошатываясь, шагнул к командиру полка.
— В порядке, товарищ полковник… — еле слышно прошептал он, полагая, что рапортует во весь голос, и делая неуклюжую попытку вытянуться.
— Вы меня извините, товарищ Тихомиров, — громко сказал полковник. — Авдюшко под арест, — тихо добавил он, обращаясь к стоявшему рядом начальнику штаба; что такое арест летчика в боевой обстановке, в дни наступления, всем прекрасно понятно.
— Порядочек… — улыбнулся было Тихомиров, но чуть не упал снова.
Люди поддержали его.
Тихомиров пережил многих из них, и полковника, погибшего в неравном воздушном бою.
Он был награжден медалью «За боевые заслуги».
Вернувшись в родной Валдай, он никому — даже Варваре Онисимовне — не рассказывал об этом дне своей военной жизни.
Все равно никто не поверил бы.
С годами в реальность случившегося перестал верить и он сам.
ТЫ ТЕПЕРЬ УЖЕ БОЛЬШОЙ, МАЛЬЧИК…
За всех не скажу, как знать, со всеми ли такое случается, но когда нас погрузили в эшелон и паровоз с натугой сдвинул состав с места, я стал жить другую свою жизнь — военную.
Нам не было тогда известно, что полгода спустя начнется война; просто с каждым телеграфным столбом, мелькавшим в неплотно прикрытой двери вагона, прежняя действительность растворялась во мгле, уплывала куда-то.
— Ста-ановись!..
Все дальше, дальше… Само прибытие эшелона к месту назначения ничего, в сущности, не определило — расстояние между мною и моими домашними продолжало увеличиваться еще месяца два-три, пока мне не удалось охватить взором перспективу, открывшуюся здесь перед нами, и я вновь не почувствовал себя дома, теперь уже в армии.
— Ра-авняйсь!..
Натянув военную форму, даже самые хлипкие из нас обрели некую «мужественную» независимость, зато мы оказались зависимыми от совершенно иных обстоятельств. Опека семьи, всегда готовой обсудить с пристрастием любой твой поступок и выписать приличествующий случаю рецепт, опека, направленная на тебя лично, сменилась куда более жесткой опекой нас всех, вместе взятых.
— Смир-на-а!..
Конечно, в массе легче затеряться, это верно, только… После первого же проступка и последовавшего за ним возмездия я раз навсегда уяснил себе, что разбираться в первопричинах наших оплошностей здесь никто не станет и ждать с точностью до грамма выверенной справедливости никак не приходится. Тоже радости мало…
Но если бы только в опеке было дело! Здесь все, решительно все было другим. Вместо своего уголка в родительских комнатах — казарма человек на двести. Вместо привольного скольжения куда твоей душеньке угодно — четко регламентированное продвижение вперед.
— Шагом — арш!..
И ни минуты одному, ни минуточки. Разве вот ночью, во время дневальства, только ночью смертельно тянет вздремнуть, а спать никак нельзя: ты охраняешь товарищей, и оружие, и противогазы, и вообще в твоих руках сосредоточена готовность к бою чуть ли не всей Красной Армии.
— Подъе-е-ем!.. Боевая тревога!..
Какова ответственность! И все же ночью ты один, а днем тебя все время окружают малознакомые люди, так и норовящие грубовато пошутить, поддеть, подглядеть твою слабость, высмеять. Помните, как хохотал над неурядицами, случавшимися не только с его дружками, но и с ним самим, матрос Фадеев, вестовой И. А. Гончарова во время плавания на фрегате «Паллада»?..
Сталкиваясь изредка с чем-то подобным дома, я отнюдь не прерывал контактов с родными, близкими, друзьями, одноклассниками. Теперь же, если и подворачивался кто-то, кому можно было поплакаться в жилетку, он, скорее всего, так же плохо ориентировался пока в этой особой жизни, как и я сам.
— Ра-азговорчики в строю!..
Мне еще посчастливилось: я попал в полк связи, дислоцировавшийся в городе Риге. Полк был нацелен не на шагистику, а на техническую подготовку и выучку, а то, что находились мы в недавно освобожденной Прибалтике, вдвойне стимулировало выход личного состава на самые передовые, по тому времени, рубежи.
…Вообще пристальное знакомство с Прибалтикой — тогда с Латвией, впоследствии с Эстонией и Литвой — много значило в моей жизни, кое-чему научило, часто заставляло задумываться. Трудолюбие, несомненный вкус к работе — но и умение отдыхать; память о прошлом всего народа — и одной семьи: помню первое впечатление от десятков огоньков на могилах в день поминовения усопших; тщательная отделка вновь строящихся зданий, скверов, парков, мостовых, высокий, в общем, уровень жизни — но и недостаточная подчас ее духовная насыщенность; обогащение как самоцель — так и стоит перед глазами латышский хутор с прекрасным каменным, светлым коровником-домом — и хижиной с земляным полом, где ютились хозяева; десяток ухоженнейших коров — и изможденная женщина, с утра до вечера вращающая ручку сепаратора: казалось, не она вращает прислуживающую ей машину, а требовательный, без устали жужжащий аппарат приковал ее к себе.
Контрасты…
То есть, собственно, сказать, что я «попал» в полк связи, будет не совсем точно. Когда я еще учился в школе, классе в десятом, нас вызывали в военкомат и приписывали к тому или иному роду войск, считаясь, по возможности, и с нашим желанием. И вот в тот день, когда подошла моя очередь идти в военкомат, меня остановил в верхнем коридоре школы наш военрук, пожилой человек, судя по выправке и удивительно аккуратно лежавшим белоснежным волосам, из бывших офицеров. Я ведал военным сектором в комсомольском бюро и был одним из активных его помощников — любил стрелять, и стрелял неплохо, и, главное, ощущал в военном деле, как и в физкультуре, определенность, так недостававшую мне в других предметах. Правда, в военное училище я поступать не стал, хотя большая группа старшеклассников нашей школы поступила туда весьма охотно.
— Ты куда собираешься приписываться, Вася? — спросил меня военрук.
— В артиллерию, — ответил я без особой, впрочем, уверенности. Мне казалось, что артиллерия самый «научный» род войск — там же нужна математика, баллистика, и потом, «поражать цель» и командовать «огонь!» было так эффектно… Что знал я об артиллерии не на экране кино, а на реальном поле боя?
Военрук поглядел на меня задумчиво и сказал:
— Знаешь, мальчик, иди-ка ты лучше в связь.
Круто повернулся и удалился. Я даже уточнить ничего не успел — почему именно в связь?
Сколько раз впоследствии я с благодарностью вспоминал его совет… Но тогда, после призыва, дело было не в том, как все обернется на войне, а в том, что в полку связи нельзя было не уделять особенного внимания специальной подготовке — в этом смысле моя мечта сбылась. А в том подразделении, куда меня зачислили, в так называемой роте двухгодичников, технике уделяли двойное количество времени. Призывникам со средним и высшим образованием — тогда как раз отменили все отсрочки — предстояло пройти здесь расширенный курс полковой школы, затем год стажироваться младшими командирами и уйти в запас лейтенантами.
— Тверже ножку!..
Идея была неплохая, но требовали с нас, по старинке, во много раз меньше того, на что мы были способны. Ничто так не расхолаживает, а если договаривать до конца — так не развращает людей, как систематическое пренебрежение их возможностями, как жизнь и работа вполсилы.
Все сызнова, все с нуля, все от печки. Единственно сходный, по видимости, момент — учеба. Дома — в средней школе, здесь — в полковой.
Школа красных командиров комсостав стране своей кует…Только по видимости сходный, к сожалению. Там-то мы учились, всерьез, не всерьез, но все-таки тянулись, кто — сам, кто — под нажимом; там многие из нас выкладывались — не все, разумеется, и не все до конца, как я, грешный, но мы твердо знали, что учим на всю жизнь; там допускалось, приветствовалось даже, изложение материала своими словами — не ценили, балбесы, ах, не ценили… Здесь же мы вроде бы и учились, а вроде бы и нет. Уставы и наставления казались слишком элементарными, чтобы основательно в них углубляться, — на сколько они нам пригодятся? на два года? — но те параграфы, отвечать которые было положено особенно четко, слово в слово, приходилось зубрить наизусть.
Таких мест набиралось порядочно, а едва лишь позабудешь последовательность и отступишь от текста…
— Наряд вне очереди!
— Но, товарищ сержант…
— Пререкаться?
— Я же знаю…
— Два наряда! Повторите приказание!
Опытные сержанты не сомневались в том, что курсант с десятью классами за спиной способен вызубрить любой текст. Раз неточно ответил — значит, поленился.
— Есть два наряда…
Только мгновенно признав вину, даже и несуществующую, и можно было избежать крупных неприятностей — каждая опала грозила стать длительной, а то и постоянной: мы же оказались в безраздельном подчинении у младшего комсостава.
Командир взвода, часто наш сверстник, только что окончивший училище, но живший, как и весь командный состав, на частной квартире, появлялся в казарме лишь в часы дежурств и занятий. Никаких внеслужебных контактов у нас не возникало. Судьбе было угодно, чтобы командиром взвода в другом подразделении нашего полка оказался парень из моего класса, из той первой школы, где я учился прежде. Он и возрастом был постарше меня, и кончил школу на год раньше — я же отстал по болезни, — и пошел он в училище, откуда его выпустили досрочно. Словом, не виделись мы с ним года три, а тут столкнулись неожиданно на дворе, я его поприветствовал, вроде бы шутя, а вроде и всерьез, мы поболтали немного, посплетничали об общих знакомых, он стал в разговоре называть меня Васей, я его Колей, потом он вдруг опомнился — покраснел, стал оглядываться… Мы постояли еще немного друг против друга — он в новехонькой, изящной, хорошо подогнанной гимнастерке, бриджах, хромовых сапожках, только что из города, я в обмундировании третьего срока, с заплатами, в обмотках, не имевший даже еще права выйти в город по увольнительной, — постояли и разошлись. Мы принадлежали теперь к разным военным категориям, и, что самое поразительное, я понимал и признавал это никак не меньше, чем он, и вовсе не был на Колю в претензии. Он бормотнул, правда, на прощанье, что ежели, дескать, что понадобится, то он всегда готов, и я собирался попросить его о чем-то, но при последующих встречах он всегда очень торопился, а я сам его, конечно, не останавливал.
Однокласснички…
Командир роты был с самого первого дня личностью мало для нас досягаемой и отчасти мифической; его полностью замещал и всегда был к нашим услугам отнюдь не склонный к шуткам старшина.
Начальника школы мы видели издали раза два в месяц. Что же касается командира полка, то он почитался уже божеством, обитавшим в каком-то другом измерении, верховной властью, трепет перед которой в нас усиленно, хоть и непонятно для чего, пытались воспитать; наш лучший шахматист, разрядник, с трудом обыгравший подполковника в День Красной Армии на соревнованиях в клубе, с изумлением обнаружил в противнике скромного, доступного человека. С изумлением — и с радостью, естественно.
Младшие же командиры — как правило, прекрасные службисты — имели весьма скромную общеобразовательную подготовку: пять-шесть классов были пределом, достичь которого успели немногие. Им было трудно мириться с ощутимым превосходством курсантов-двухгодичников, своих подчиненных, и это можно понять: далеко не всякий, кто облечен властью, склонен терпеливо сносить подобное несоответствие.
Возникали конфликты, порой довольно острые. Некоторые парни из нашей роты, баловни судьбы и семьи, а также ребятки поскромнее, попроще, но не получившие такой демократической закалки, какую получил от няни и от своих уличных дружков я, перли, что называется, на рожон — так было им обидно, что на них кричат, как на мальчишек.
Окрики были вроде как вынужденными и даже логичными в какой-то мере: условия, в которые мы были поставлены, сами по себе способствовали тому, чтобы взрослые люди вновь превращались в мальчишек. Одна необходимость постоянно «ловчить» перед теми же сержантами и даже пытаться их обмануть чего стоила! А бесконечные придирки во время не менее бесконечных построений, а суровое обучение нас строевому шагу или строевым песням, а походы строем в столовую, где нельзя было без команды сесть, а стрижка под машинку, а «заправочка» — самого, койки, противогаза, — а скучные занятия в классах, где мы все вновь усаживались за парты, и подсказывали напропалую, и играли потихоньку в «морской бой»…
Мне и моим сверстникам было еще просто, мы такими мальчишками были только вчера. Должен признаться, мне даже нравилось ходить с ребятами строем, особенно по воскресным дням, когда подъем был на час позже и все мы были свежими, не измотанными занятиями или разного рода нарядами. Разве не радость — двигаться дружно, в едином ритме со всеми, и чувствовать плечо товарища, и распевать вместе с ним бодрую, звонкую строевую песню; я так старался петь погромче, что старшина решил раз, что я нарочно пытаюсь все испортить, и я получил очередные два наряда… А когда, в период подготовки к параду, впереди нас шел еще полковой оркестр, радость бывала особенно полной, быть может — в той обстановке — даже исчерпывающе полной: ничего больше в эти минуты я и не желал, и даже представлял себе туманно некий идеальный «строй», движущийся по празднично украшенным улицам под моей командой.
Играя с огнем, я позволял себе в первые недели озорные, совершенно мальчишеские выходки. Подделавшись однажды под начальственную интонацию и употребив формулировку, разрешенную только старшему по званию по отношению к младшему, я окликнул старшину нашей роты:
— Товарищ Зайцев!
Стоявший спиной ко мне старшина вздрогнул, молодцевато выпрямился, четко повернулся и… никак не мог понять, кому же это он понадобился, — ни одного командира поблизости не было. И только когда я, с ангельским видом, сообщил ему какую-то безделицу, он понял, кто его окликнул, покраснел до идеально подшитого подворотничка, хотел было обрушиться на бестолкового новобранца, но сдержался и долго, терпеливо разъяснял мне, что следовало обратиться по уставу — «товарищ старшина».
Я и так это знал… Дурацкие шуточки, а во имя чего?
Но было еще одно обстоятельство, помимо моего мальчишеского возраста и настроения, помимо няниной «подготовки», помогавшее мне сносить беспрестанные уколы самолюбию: там же, в полковой школе, я уяснил себе, что эти придирчивые, эти вредные люди ничего, в сущности, не определяют, они — всего лишь неизбежное зло. Я понял, что настоящие солдаты, люди обстрелянные, ведут себя иначе и что они-то и есть главная, определяющая сила в армии.
Наш помкомвзвода старший сержант Власов, ленинградец, рабочий, награжденный за финскую медалью «За отвагу», редкой в то время, а потому почетной, легко находил с нами общий язык без окриков, придирок и оскорблений. В свободное время он охотно беседовал с курсантами постарше, владевшими уже какой-нибудь профессией, — набирался ума-разума. Власов был призван из запаса, рвался домой, а его все не отпускали, чему наш взвод тихо радовался.
Он не был исключением: ядро полка составлял батальон связи, участвовавший в финской кампании, — к сожалению, в полковую школу, тем более в нашу роту, специально подбирали «строевиков».
— Что стоишь, как попка в зоологическом саду?! — лихо перекрикивал Власова, едва он скрывался из виду, отделенный Становенков. «И не лень ему такое длинное слово произносить?..» — удивлялся я.
Странно, что многие из тех, на кого орал Становенков, воспринимали такое обращение совершенно спокойно, как должное; более того, у него оказывались и восхищенные последователи в наших же собственных рядах. Для меня откровением была готовность моего соседа по койке мгновенно растоптать, едва его назначали старшим, наладившиеся было наши отношения. Ради чего? Ради лишней лычки или даже лишней увольнительной? Напряженно прислушивался я к себе и, слава богу, подобных задатков не обнаруживал. Но урок не пропал даром: чем большим количеством людей я впоследствии командовал, тем спокойнее и ровнее стремился держаться с подчиненными.
А на рев отделенных можно было реагировать по-разному: или смертельно оскорбиться, или иронически улыбнуться — в душе, только в душе! — и не обращать внимания. Пусть беснуется, чудак, раз иначе не может, раз больше ему взять нечем. Кто-то должен же втолковывать новобранцам азы, не Власову же этим заниматься. А мне — что? Я знаю теперь, каковы подлинные отношения в армии, как ведут себя с солдатами командиры, понюхавшие пороху…
Рассуждать легко, выдержать несправедливый окрик — куда труднее. Не забудьте, среди нас были и люди солидные, успевшие кончить институт и обзавестись уже семьями, — им-то каково было!
Словом, обстановочка, мягко говоря, была неуютной — стоит ли удивляться, что, простудившись однажды и угодив в санчасть, я воспринял пребывание там как блаженство. Безответственно поваляться в кровати, совсем как в той, прежней, домашней жизни, почитать «для души» — а то я и позабыл, когда в последний раз брал в руки книгу. «Покантоваться», как говорили у нас в полку. Я не только не спешил выписываться, я дважды натирал одеялом градусник, чтобы продлить передышку.
Словечко «кантоваться» относилось не только к санчасти. Мы охотно брались за любое дело, дававшее право не ходить на занятия или, тем более, отлучиться из расположения части, даже если скверно это дело знали. Как ни плохонько играл я на рояле — «бренчал», пренебрежительно говаривала мама, — я поспешил записаться в самодеятельный полковой джаз: нас отпускали на репетиции в клуб, расположенный через несколько улиц, в бывшем баптистском храме, отпускали на целый вечер, и чем ближе к концерту, тем чаще. А выйти в город…
Рига, куда мы попали, была городом таким чистым и нарядным, что просто погулять по улицам уже было удовольствием. Но прогулка сулила нам и радости другого рода. Наше скромное солдатское жалованье нам выплачивали латами, буржуазными латвийскими деньгами, и на эти массивные серебряные монеты можно было в любой мелочной лавочке накупить лакомств, каких я дома не видывал.
Преодолевая робость, впервые открыл я дверь частного магазинчика, ближайшего к нашей казарме. Звякнул прикрепленный к двери колокольчик, я вошел, а навстречу мне, из задней комнаты, выплыла аккуратная, чистенькая старушка в переднике. Больше в лавке никого не было.
Поклонившись почему-то хозяйке, я стал осматриваться. Глаза разбегались, так много всего было наставлено на полках, на прилавке, в каких-то шкафах у самой двери, прямо на ящиках, на полу — повсюду. Яркие банки, незнакомые наклейки, обертки, жестянки, кульки. И ни на одном из выставленных товаров не было цены — не станешь же спрашивать о каждой?
Время шло, старушка глядела на меня внимательно — иронически, как мне казалось, — надо было что-то покупать или уходить, я и так уже злоупотребил ее временем, она же специально вышла ко мне… Но что выбрать? Изобилие товаров часто ставит нас в тупик не меньший, чем их недостаток. А вдруг денег не хватит — стыдно же, я в форме…
Наконец я решился купить то, что никак не могло стоить слишком уж дорого: маленькую бутылку молока и пирожное. Догадаться, что стоявшие дружной стайкой тупорылые бутылочки с белой жидкостью содержали молоко, было несложно, и все же я, с видом знатока, ткнул в их направлении и полуспросил-полупотребовал:
— Молоко?!
Старушка охотно подала мне бутылочку, отрицательно качнула головой и что-то сказала по-латышски.
Тогда я решил щегольнуть своим знанием немецкого языка — многие латыши прекрасно понимали по-немецки — и переспросил:
— Мильх?
Старушка взглянула на меня с удивлением, вновь отрицательно покачала головой и предложила какой-то новый вариант названия, на этот раз, без всякого сомнения, по-немецки.
В бутылочке явно содержалось не молоко, но что именно, я, к стыду своему — вот тебе и знаток немецкого! — опять не понял. Такого слова я не знал.
Я смутился и, наверное, покраснел: мало того, что я не разбирался в элементарнейших вещах — в содержимом стандартной бутылочки, — я оказался профаном и в языке, на который сам же перешел; к такого рода «поражениям» я всегда был дурацки чувствителен. Но и покупать наобум непонятный напиток, стоивший к тому же неизвестно сколько, казалось мне странным — я же был няниным воспитанником.
Так и топтался на месте, сжимая в кармане шинели заветную монету, а старушка умильно мне улыбалась.
В это время вновь зазвенел колокольчик, и в лавочку шагнул ефрейтор из нашего полка. Старослужащий, писарь при штабе, я немного знал его — помогал составлять какие-то ведомости. Поздоровавшись со старушкой по-латышски, как со старой знакомой, он стал хладнокровно, явно не боясь оказаться некредитоспособным, отбирать то, что ему было нужно.
— А ты — чего? — спросил он, заметив, очевидно, мою растерянность.
— Да вот, — ткнул я рукой в стоявшую передо мной на прилавке заколдованную бутылочку. — Хотел молока попить, а это вроде и не молоко вовсе.
— Конечно, не молоко. Сливки.
— Какие еще сливки?
— Вкусные, — спокойно разъяснил он. — Вроде молока, только погуще, пожирнее. Попробуй.
Увы, я не понимал и его. В моем представлении сливками назывался тонкий слой чего-то желтоватого, отдаленно похожего на пенки. Это что-то образовывалось иногда на сыром молоке — в деревне, например, после того как парное молоко постоит в погребе и остынет, или вот раньше нам молочница прямо домой молоко приносила, в большом бидоне… Но чтобы сливок была целая отдельная бутылка и их можно было пить? Ни в Ленинграде, ни в Москве ничего подобного в магазинах не продавалось, да и на рынках как будто тоже…
— А они… не очень дорогие? — спросил я ефрейтора.
— Да нет, гроши, — ухмыльнулся тот. — Возьми, возьми, и еще булочку в придачу.
И мой избавитель собственноручно выбрал в корзинке румяную булочку и накрыл ею «мою» бутылку.
Что оставалось делать? Я выложил на прилавок свой лат, старушка дала мне сдачи кучу мелочи, я отошел в уголок и первый раз в жизни выпил добрый стакан сливок. Мне показалось, что необыкновенная прочность разлилась сразу по телу. А какая булочка была — воздушная, с хрустящей корочкой!
Впоследствии я не раз забегал сюда подкрепиться и запивал сливками то свежее пирожное, то поразительно тонкой выпечки печенье, сладкое или соленое, то кусок сыра или копченой колбасы.
И не я один, конечно. В дни, когда в казарме обновляли так называемый «неприкосновенный запас» и нас кормили селедкой и концентратами, хозяйка лавочки получала недурной доход.
Освоившись с ценами и осмелев, я в одну из вылазок в город приобрел первые в своей жизни кожаные перчатки, у нас их тогда тоже не было. Не скрою: покупая перчатки, я отчетливо представлял себе, как я, уже командир, шагаю, натянув эту отлично выделанную кожу на руки, впереди или сбоку от послушно повинующегося мне строя.
Купил кое-что для мамы — чертежные карандаши, спицы для вязанья, нитки, которыми она любила вышивать. Послать все это домой пока было нельзя, и я хранил свои покупки аккуратно упакованными в тумбочке, только крохотный медальон на цепочке, купленный для няни — я мечтал вставить когда-нибудь туда свою фотографию и так ей подарить, — носил в кармане гимнастерки. В начале лета нас стали отправлять в лагеря, там нам предстояло жить в палатках, ни о каких тумбочках и речи быть не могло, и я отнес свой сверток на огромный чердак, простиравшийся над зданием казармы, и спрятал его там очень умело, как мне казалось, за одну из балок. На рассвете двадцать второго июня сорок первого года мы были подняты в лагерях по тревоге, беглым шагом вошли в Ригу, добрались до казарм, где предстояло экипироваться по нормам военного времени. Несмотря на сумятицу, я успел забежать на чердак. Там все было по-прежнему, только свертка своего я не нашел…
Прошел месяц, другой, третий, и лишь затем, перестав бродить ощупью, мы стали понемногу уяснять себе, что у армейского дела есть свой смысл и что, ежели хорошенько к здешней жизни приладиться, она способна принести и вполне ощутимую пользу, в том числе и там, где ты этого вовсе не ожидаешь.
Я с малолетства страдал от плоскостопия. Походишь побольше, побегаешь, потанцуешь вволю — и в подушечке левой ступни возникает ноющая, временами острая боль. Врачи помочь не могли, ортопедические стельки только мешали, танцевать на таких «подошвах» было и вовсе невозможно, что меня особенно огорчало, да и боль они снимали лишь частично.
Когда на следующий день после прибытия эшелона на место нам выдали тяжеленнейшие армейские ботинки из свиной кожи (и обмотки), а в расписании занятий поставили шесть-восемь часов строевой подготовки в сутки — на первое время: новобранцев лихорадочно готовили к параду, — я сразу понял, что кого как, а меня скоро увезут в госпиталь.
Будучи юношей восторженным, я счел своим долгом поставить в известность об этом командира отделения, тем более что, как я читал в книгах, были времена, когда по причине плоскостопия в армию вообще не брали.
«Они же не знают, что я болен… вот доложу, и…»
На что конкретно я надеялся, теперь уже не помню, кажется, на то, что меня освободят хотя бы от участия в параде.
— Какое плоскостопие?! Что за госпиталь?! Обратитесь, как положено!
Становенков глядел на меня изумленно, негодующе, но и с некоторым любопытством, пожалуй: не как на симулянта, — скорее, как на психа.
Тогда я обратился «по инстанции» («по дистанции», говорили у нас обычно) к либеральному помкомвзводу Власову.
«Уж он-то…»
— Обойдется, — улыбнулся Власов; он явно не придал моему сообщению никакого значения.
Я был оскорблен до глубины души.
«Ладно… Мое дело предупредить…»
Недели полторы было отчаянно, невыносимо больно; ноги, особенно левая, распухали. Стиснув зубы, я держал их вечерами под краном. В санчасть не обращался. Несправедливость и обида изводили меня.
«Ну и пусть… Раз даже Власову все равно… Вот упаду на плацу без сознания, тогда…»
Постепенно, к моему величайшему изумлению, боль стала спадать, а потом… сошла на нет. Я не знал, радоваться или печалиться: избавление от надоевшего недуга доказывало правоту тех, кто, не разбираясь с каждым отдельно, назначал единый для всей полковой школы распорядок.
«Ну что — обошлось?» — казалось, спрашивали лукавые глаза Власова, наблюдавшего, как мы печатаем шаг.
Теперь радуюсь, что и говорить: боль так никогда и не возвратилась.
Но — как это вышло?
Клин клином?
Было в моем организме и еще одно уязвимое место — почки. Это из-за воспаления околопочечной клетчатки я пропустил в восьмом классе несколько месяцев и остался на второй год. После выздоровления мне была предписана диета — ничего острого, соленого, упаси бог, спиртное… — и я старательно, хоть и не слишком охотно, соблюдал ее. В армии диета оказалась недоступной, почки иногда тревожили меня, но не слишком, меньше, чем я ожидал, а после того как началась война — тогда-то я и столкнулся впервые со спиртными напитками, — я начисто забыл о том, что перенес когда-то мучительную и малоприятную по своим последствиям болезнь.
До армии меня часто обзывали безруким, постепенно я уверовал в то, что так оно и есть — в известных ситуациях это даже удобно. Когда мне вручили винтовку, я нисколько не сомневался: если разобрать сложный механизм затвора мне каким-нибудь чудом удастся, то уж собрать… Собирал как миленький, а позже научился так же фамильярно обращаться с пулеметами — ручным и станковым.
Понимаете, каково это было: собственноручно овладеть «максимом», так хорошо знакомым по «Чапаеву» и другим фильмам и книгам о гражданской.
Дома я не умел починить выключатель, из-за такой мелочи приходилось вызывать монтера. Здесь я с каждым днем становился все более квалифицированным специалистом по полевым телефонам, проводам, кабелям и достаточно запутанным схемам связи — каждый провод должен был обязательно где-нибудь кончиться, а раз так…
Сложнее было строить телеграфные линии не на бумаге, а в поле: столбы были сырые, тяжелые, ошкурить их надо было безукоризненно, стоять им надлежало идеально ровно, «в створе», иначе попросту могла упасть вся линия, а устанавливали мы их допотопным способом, часто — в мерзлую землю; взбираться на столб требовалось быстро, четко, красиво, изящно откинувшись назад — с карабином за спиной и полной монтерской выкладкой; натягивать и закреплять провода следовало точнехонько по инструкции, на это давался определенный норматив — две, три минуты…
Постепенно мы ко всему приноровились.
— Разрешите идти?!.
К лету сорок первого я ощущал себя старым служакой, заканчивал полковую школу, готовился принять отделение; за полгода я стал совершенно другим, даже выражался иначе — как мужчина, хлебнувший жизни, прочно стоящий на ногах, неизменно уверенный в своей правоте. Я умел так зычно подать команду, что замирала вся казарма, и это, признаюсь, давало мне некоторое удовлетворение.
— Школа — смир-но!.. Товарищ подполковник…
Я чувствовал себя в армии как рыба в воде, и этот мой теперешний мир был начисто отрезан от прежнего. Где-то там, в далеком Ленинграде, проживала наша семья, но ее существование ничем решительно, кроме писем, изредка — посылок, с моими заботами и тревогами не пересекалось. Последнее, что я из той жизни запомнил, была ненастная тьма октябрьского вечера и моя мама, грустная, молчаливая, в шумной толпе провожающих; на полшага позади нее стоял Володя, товарищ моего детства, — я видел его тогда в последний раз.
Воспоминание это было мне необычайно дорого; первое время, пока я «удалялся» от дома и мне было особенно тяжело, меня согревал прощальный привет моего прошлого, куда я, конечно же, мечтал поскорее вернуться. Многие мои товарищи отмечали в самодельных календариках каждые прожитые сутки, я не делал этого, но домой меня тянуло так же сильно.
Полной мерой оценил я то, чем вчера еще пренебрегал, считая само собой разумеющимся. Вот когда захотелось мне окунуться в прекраснейший на свете процесс у ч е б ы. Вот где понял я, как бесконечно дороги мне занятия историей — тогда-то и пришло окончательное решение посвятить истории жизнь. Как хотите, а армейские будни незаменимы для тех, кто, кончая школу, так и не обнаружил еще своего призвания.
Я был наивен, я не знал, что «возвратиться» в нашей жизни никуда нельзя, что притча о блудном сыне — красивая сказка. То есть можно поселиться вновь в том же доме или той же комнате, но ты неизбежно ощутишь себя в другом измерении, это будет иной этап, не тот, что два года назад, да и сам ты непременно окажешься иным.
В этом смысле недолгий человеческий век более всего напоминает слоеный пирог: так же, как и великолепное произведение кулинарного искусства, его можно, если постараться, разобрать на этапы, слои, прослойки… Можно сжевать и не разбирая.
Впрочем, что толковать: вернуться домой раньше времени все равно было невозможно.
Я чувствовал себя в армии дома к началу военных действий, а мои школьные друзья, получившие по тем или иным причинам отсрочку от призыва, — я завидовал, им всю долгую предвоенную зиму, — а многие мои школьные друзья и подруги погибли, необстрелянные, в болотах под нашим городом.
И Борька Раков.
И Леша Иванов.
И Витя Беленький.
И Лена Климова.
И…
Нам тоже досталось, тем, кто служил недалеко от западной границы, — как нам досталось! Еле ноги унесли, а уж страха и горя хлебнули досыта. Да и могло ли быть иначе, ведь мы внезапно очутились в эпицентре той дикой сумятицы, того безжалостного смерча, который волочет за собой военная туча; в первые дни, по контрасту с невинными барашками мирного неба, смерч выглядит особенно чудовищным.
Потом привыкаешь мало-помалу.
Внезапно… внезапное нападение… момент внезапности… Все это так и было, вероятно, в других местах. Только мы-то служили в Риге, городе, где всегда жило много немцев и где никто, от мала до велика, не сомневался в том, что война с Германией начнется в самое ближайшее время — об этом говорили на улицах, в магазинах, разлюбезная моя старушка в мелочной лавке и та считала своим долгом нас предупредить. Когда на рассвете двадцать второго июня мы входили в город, окна жилых домов были аккуратно крест-накрест заклеены полосками бумаги — считалось, что благодаря этой несложной операции при бомбежке вылетят не все стекла. На рассвете! Жители заранее подготовились, да и мы, солдаты, знали прекрасно, что вот-вот будет война, и говорили, естественно, об этом между собой.
Но несмотря на то что мы заранее знали, что гром должен грянуть, я все же долго и мучительно переживал перепад между последним мирным днем и первым военным.
Как раз к этому времени я успел проникнуться всем тем, чему нас обучали в полковой школе; мое бытие стало определяться уставами и наставлениями, воинским порядком и дисциплиной, приказами и замыслами командования — мне оставалось поточнее эти приказы исполнять, осуществлять эти замыслы.
Несложная задача.
Вероятно, не у всех так было, я допускаю это. Но я так устроен, что, взявшись за какое-нибудь дело или «погрузившись» в него, не мыслю уже себя вне его рамок и стараюсь полностью овладеть «правилами игры». Тут и азарт, вероятно, и качества, унаследованные от мамы…
И вот, едва только успел я «на всю катушку» включиться в армейское дело — еще совсем немного, и я сделался бы заправским служакой, — как вдруг, в одно прекрасное утро, все стройное здание обрушилось, словно карточный домик.
— Во-оз-дух!..
Не дав нам опомниться, на нас навалилось что-то неумолимо грозное, мы не могли толком понять, что это такое. Начиналась какая-то неведомая, совершенно неведомая полоса, и начиналась — смятением.
Мы были приучены к понятию «война» — книгами о первой мировой и гражданской, описаниями будущих победоносных сражений, кинофильмами, пьесами, песнями.
И линкоры пойдут, и пехота пойдет, И помчатся лихие тачанки…Действительность не имела со всем этим ничего общего. Тачанки?..
В книгах гибли другие — литературные персонажи, пусть полюбившиеся. Или реально существовавшие люди, ставшие героями после давно совершенного славного подвига. А здесь совсем не героически умирали мои товарищи, существа из плоти и крови — на них вчера еще кричал младший сержант. Здесь каждую минуту мог запросто погибнуть я сам. Впрочем, со смертью, свирепствовавшей вокруг, я быстро свыкся; просто не умел представить себе, что это значит — совсем умереть.
Во всяком случае, об этом можно было заставить себя не думать, прикрывшись, временно, еще одной няниной поговоркой: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать»; я утешал себя ею. А вот — что дальше? Как? Ведь без четкого распорядка армия существовать не может, а порядка, нам казалось, не было никакого…
Много ли способен разглядеть человек, зарывшийся в землю, да еще и неопытный к тому же?
Нашим кровным делом было сдержать врага и загнать его обратно. Никому из тех, кто меня в те дни окружал, пусть храбрецам или трусам, в голову не приходило бросить оружие или совершить еще что-нибудь в этом роде.
Я так ощущал позицию моих товарищей, и не сомневаюсь и сегодня, что мои ощущения были правильными; если бы это было не так, хоть какой-нибудь отзвук их сомнений, их колебаний непременно донесся бы до меня.
Много лет спустя мне попалась в руки книга, где подробно и достоверно описывался лагерь советских военнопленных в Белоруссии, под городом Борисовом. Это был комбинат смерти, и его основным назначением было массовое уничтожение попавших туда людей. Помимо прочего, в книге говорилось и об отщепенцах, добровольно пошедших на службу к немцам, — приглашения, и достаточно широковещательные, имели место. Одни шли служить фашистам более или менее добровольно — с ними все ясно, не о них речь. Другие, большинство, перед лицом неминуемой смерти в том же лагере уничтожения, рассуждали так: лишь бы мне с е й ч а с выжить, выбраться как-нибудь из этой западни, а потом я, не замаравшись предательством, сбегу. На деле это почти никогда не получалось: фашисты принуждали своих наемников окунать руки в кровь, а потом комплектовали из них отряды полицаев и даже карателей — что-что, а растлевать души и держать подручных в узде они умели прекрасно.
Среди этой второй группы были люди очень разные по возрасту, образованию, социальной принадлежности.
Прочитав об этом, я, умудренный годами историк, которому не раз приходилось сталкиваться с подобными фактами — на протяжении столетий! — я в который уже раз задумался над вопросом: что же все-таки надо, чтобы человек окончательно созрел?
Дать ему образование?
Женить его? Дать понянчить собственных ребятишек?
Научить его строевому шагу, а в руки вложить оружие?
Как ни клади, получалось, что всего этого мало. Люди с самыми благоприятными, казалось бы, и многообещающими биографиями, оставившие дома и жен, и детей, и любимых невест — о матерях говорить не приходится, — оказались в данном случае, как и в летописях Смутного времени, лишь сырым материалом; инстинкт самосохранения внезапно ослепил их, заслонил всю проделанную обществом в годы их взросления подготовку.
Конечно, в мирное время ничего подобного с этими людьми, скорее всего, не случилось бы, даже наверное бы не случилось; и у людей слабых, нестойких по натуре, изъяны духа, самосознания в обычной обстановке не так уж заметны; бывает, незаметны совсем. Но вот настал момент жестокого кризиса, и стало ясно, что человек созревает в личность т о л ь к о в том случае, если он научился самостоятельно мыслить.
Альтернативы нет. И не в образовании тут, конечно, дело, и не в возрасте, и уж конечно не в качестве или длительности военной подготовки, а в воспитании с самых малых лет. Жизнью ли, трудом ли, семьей, случайно встреченным добрым человеком — вариантов не перечесть.
Кто воспитал России Козьму Минина?..
Все дело в воспитании личности несгибаемой, а для того обязательно свободной. Избегающий задавать вопросы — другим и себе — автомат, каким бы послушным в симпатичным он ни казался, будет вертеться, как флюгер по ветру, за тем, кто сегодня сильнее. Как робот — за тем, у кого в руках пульт управления.
Отвлекаясь от раздумий историка, я вспоминал себя — как раз тогда, в том же сорок первом. Мальчишку-красноармейца, встретившего войну совсем близко от Белоруссии. Умел ли я мыслить самостоятельно? Помогли ли мне книги и школа созреть к тому времени настолько, чтобы?.. Что сталось бы со мной, если бы я попал в плен и был заключен в лагерь, подобный борисовскому? Хватило бы моего воспитания для того, чтобы выдержать эту страшную проверку и погибнуть с честью? Или у меня тоже противно задрожали бы колени, и я испугался бы до смерти, и, владея хорошо немецким… О сознательном предательстве, конечно, и речи быть не могло. Но вот этот второй путь, такой с виду заманчивый, — лишь бы сейчас выжить, а уж потом я…
Долго прикидывал, долго проверял себя, и так, и этак, и понял, что не умею т е п е р ь с полной уверенностью ответить на нелегкий вопрос о том, как бы я тогда поступил.
Но выбирать и колебаться мне, слава богу, не пришлось.
Я делал свое дело, как его делали все, выполнял свой долг в меру разумения и сил, хоть и не понимал, как и мои товарищи-солдаты, достаточно отчетливо всего масштаба опасности, грозившей Отечеству. Мы не знали почему-то, что против нас ведется война на истребление, ничего общего с «обычной» войной на Западе, которая началась раньше и характер которой мы знали по газетам, не имевшая — арийцам, видите ли, было необходимо жизненное пространство.
Не знали, что «сверхчеловеки» станут собственноручно выжигать дотла наши деревни.
Не знали, что существует утвержденный Гитлером план затопления Москвы, что русским уготована судьба рабов, существ второго сорта.
— Дранг нах Остен!..
— Зигхайль!..
Быть может… если бы каждый наш рядовой знал своего врага в канун войны… знал и понимал его подлинные намерения… враг не забрался бы так далеко?..
Мы, рядовые, не имели, в сущности, понятия, что представляла собой ворвавшаяся на нашу землю армада — слова «фашистская армия» определяли ее классовую сущность, ее идеологию, но не раскрывали ее структуры, ее внутренних связей, ее конкретных намерений, обозначали, но не характеризовали тип людей, составлявший ее ядро.
Ну откуда нам было знать, что такие же вроде бы, как мы, существа могут готовиться к войне так основательно и дотошно, как рачительный хозяин готовится к севу? Только столкнувшись с военным бытом вермахта — некрасивыми, но неснашивающимися сапогами, тяжеленными фаянсовыми кружками, длиннющими деревянными ручками гранат, тщательно, любовно оборудованными землянками, — только пустив в ход трофейное оружие, безотказные шмайссеры, устойчиво ложившиеся на руку парабеллумы, я и мои товарищи стали понимать, что для нашего противника война — это вовсе не вынужденная случайность, не стихийное бедствие, от которого не уйти, а нормальная форма существования, одна из разновидностей бытия.
Задачка — для русского человека.
Мы слабо представляли себе и духовную нищету кучки авантюристов, исхитрившихся бросить против нас эту орду хозяйчиков-вояк, каждый из которых лелеял мечту о личном обогащении. Хотя здесь дело обстояло несколько лучше, нам говорили об этом в общих чертах на политзанятиях еще в мирное время, и я уже тогда, стоя в одиночестве на караульном посту, размышлял о том, чего же стоит верность этого народа гуманистическим идеалам, если он с такой готовностью устремился за дешевыми демагогами и за несколько лет, н а м о и х г л а з а х, превратился в озверевшее стадо поработителей, — пригодился даже и один курс университета, бывший у меня за плечами.
И все же окончательно прозрел я, только прочитав первую попавшуюся мне в руки фашистскую листовку, — был потрясен низкопробностью непонятно кому адресованной дешевки; авторы ее явно ничего не смыслили в нашей жизни, и это более, чем что-либо, убедило меня.
«Раз так, — внезапно понял я, дважды проглядев смятую бумажку: я не поверил своим глазам, — раз так, значит… значит, и вся эта лавина вымуштрованных подразделений, с таким ожесточением прущая на нас… гибельной, в конечном итоге, быть не может… Побеждает идея, а идеи здесь нет…»
Вот когда вспомнилось адресованное «мне» Шиллером предупреждение! Если это все те же «геслеры» — по странной случайности, имена фашистских главарей начинались с той же буквы и по-русски сливались во что-то смутно похожее на имя шиллеровского негодяя: Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс, Гейдрих, Гесс, — если это всего лишь «геслеры», то с ними мы уж как-нибудь справимся, не те времена, чтобы они побеждали, не та ситуация; впрочем, и Телль в конце не промахнулся…
Как всегда, когда тяжело, на помощь выплыли, неведомо откуда, пушкинские строки:
Хмельна для них славянов кровь; Но тяжко будет их похмелье…Малость полегчало.
Потом мы снова стали отступать, день за днем, ночь за ночью, и уныние вновь охватило меня. Слишком уж все колыхалось, словно во время затянувшегося землетрясения; гибли люди, склады, вооружение, автомашины — их нечем было заправить, — самолеты… Не знаю, кто как, а я остро чувствовал в те дни свою вину, свое ничтожество: мне страшно стыдно было отступать чуть ли не бегом от Риги на Псков, на Новгород.
Гигантский водоворот пытался засосать нас, не давал вздохнуть, оглядеться, опомниться. Он ревел от избытка лошадиных сил в моторах Люфтваффе, он орал о своем превосходстве, — каждому из нас, персонально, прямо в уши! — и несмолкаемый визг авиабомб делал этот вопль особенно красноречивым.
Кто был в силах перекричать его? Командиры среднего звена — с ними мы непосредственно общались, многие показывали нам пример личного мужества, выдержки — не намного лучше нашего разбирались во всей этой каше. Втолковав нам на рассвете очередное задание, они бывали рады, если к концу дня мы встречались вновь.
Задания попадались самые разные. Однажды, еще в последних числах июня, мне было приказано, ни больше, ни меньше, построить солидный отрезок линии связи к запасному командному пункту штаба, а в помощь вместо солдат была выделена группа местных жителей с лопатами на двухметровых черенках — ими было удобно копать глубокие ямы — и подводами.
В неустанных трудах прошел день. Под аккомпанемент не слишком-то далекой канонады крестьяне-латыши старательно готовили ямы, валили деревья, кое-как шкурили их — тут уж было не до наставлений, нормы мирного времени были вмиг позабыты — и развозили по будущей линии. К вечеру мы вымотались так, что свалились замертво и спали, не обращая внимания на то, что делалось вокруг. Прошла ночь. А наутро оказалось, что мы находимся уже в зоне интенсивного артобстрела, и мои помощники торопливо разъехались по домам, никакие уговоры не могли их удержать; я же, понимая, что этот командный пункт явно не понадобится — кроме меня, в его окрестностях живой души не было, — побрел на поиски своего подразделения.
Его я в тот день не нашел, зато обнаружил в лесу группу штатских с чемоданчиками в руках — они неумело прятались за стволами. После недолгих переговоров выяснилось, что эшелон, в котором ехали мобилизованные москвичи, был встречен на станции назначения, в Даугавпилсе, пулеметным огнем — там уже хозяйничала «пятая колонна».
Мы стали пробираться к своим, вооруженные одной лишь моей винтовкой, а когда выбрались наконец, оказалось, что ничего похожего даже на остатки нашей роты поблизости нет. Какой-то энергичный капитан немедленно включил меня в оцепление, охранявшее перекресток дорог от сброшенного где-то поблизости десанта.
В оцеплении, среди незнакомых друге другом, случайно оказавшихся здесь солдат, я почувствовал себя брошенным товарищами на произвол судьбы одиночкой. Ночью была долгая, бессмысленная перестрелка неизвестно с кем, и я стрелял в темноту, и чьи-то пули свистели над низенькой грядкой земли, которую я перед собой накопал, — спрятать я мог, как страус, только голову. Я был голоден, к утру закоченел, лежа всю ночь на земле… Словом, когда утром на перекрестке остановился грузовик и выглянувший из кабины лейтенант громко закричал: «Есть тут кто из полка связи?!» — я одним духом пробежал отделявшие меня от дороги метров пятьдесят и, прежде чем мое новое начальство, успело опомниться, был уже в кузове. Физрук полка, по поручению начштаба собиравший отставших, был для меня в тот момент самым дорогим человеком на свете.
Много военных дней спустя, — ах эти дни, как годы, как годы! — когда мы в третий раз за какие-нибудь двести пятьдесят лет приводили в чувство ошалевшую от крови Европу и несли ей мир, когда мы все могли, решительно все, когда мы были сильнее всех на свете и нам приходилось сдерживать свою силищу, чтобы ненароком не зашибить невинных, — я часто, очень часто вспоминал этот эпизод. Из ничего, казалось бы, из простейших наших окопных будней, с быстротой неимоверной, неслыханной, невозможной для мирного времени — ах эти годы, как дни, как дни! — возник прекрасно отлаженный механизм, исключавший или почти исключавший возможность подобных случайностей.
Из ничего… Прошло еще порядочно времени, пока я кончил учиться и за видимой простотой, естественностью, прямолинейностью социальных смещений сумел, как историк уже, различать хотя бы контуры сложнейших процессов, — и вот тогда я понял, какого самозабвения, какого невиданного напряжения всех сил моего народа, каждого мужчины и каждой женщины, каждого старика и каждого ребенка, способных сжимать рукоятку плуга или молота, потребовало это волшебное превращение.
Понадобились годы, прежде чем я понял и другое: машина военного времени не пошла на слом, не исчезла с демобилизацией великой нашей армии; заложенное ею в сердца людей поступательное движение осталось там навсегда и в значительной степени определило собой жизнь каждого из нас, ветеранов, ошибались мы впоследствии или нет.
Ветеранов и всей страны — тоже.
Народ как бы поднялся, рывком, на следующую ступеньку — или на целый марш? — пути назад быть не могло.
События первых недель войны усугубили мою оторванность от семьи. Даже когда все стало приходить в норму и наша часть занялась наконец своим прямым делом — обслуживанием линий и узлов связи, — ничто не изменилось. Писем я не получал — интересно, по какому адресу стала бы мама писать? Самому мне было не до писем, да и девать их некуда. Правда, почтовых ящиков имелось сколько угодно, но когда и кто твое письмо оттуда вынет, вот вопрос…
Связаться с домом как-нибудь иначе было так абсолютно нереально, что я и не задумывался над такой возможностью. Долго, очень долго мне не приходило в голову соединить, хотя бы мысленно, хрупкие провода фронтовой связи, которую мы непрестанно налаживали, а враг упорно разбивал, с неким таинственным, подземным, по всей вероятности, кабелем городской сети, находившимся в полной безопасности, с кабелем, к концу которого был подключен телефон из моей прошлой, довоенной жизни.
Она и раньше была далекой, та жизнь, теперь же бездна разделяла нас. Здесь — фронт, сражения, непрерывные бомбежки, пожары и кровь. Там где-то высится, как цитадель, Город — мой родной город; там есть и мой уголок, где стоит в тиши и прохладе застланная заботливой няниной рукой моя постель, рядом — полка с книгами, старенький письменный стол на двух смешных тумбочках…
По мере того как мы отступали, иллюзии рассеивались; понятие «дом» и понятие «фронт» стали смыкаться. И не только потому, что мы пересекали одну за другой дороги, ведущие в Ленинград, казавшийся ранее таким недоступным. Мы все отчетливее ощущали глобальный характер начавшейся войны.
Всего несколько лет назад я вполне осознанно пережил вместе со всей страной военные действия в Монголии, Испании, Финляндии. Сводки с фронтов, судьба испанских детей, почтительное, восторженное даже отношение к старшекурсникам филологического факультета, вернувшимся из Испании, где они работали переводчиками, — все это было неотъемлемой частью моего мужания. Но те конфликты были локальными, или казались издали таковыми, там можно было победить врага одним лишь воинским умением — в открытом бою.
Эта война не была уже только солдатским делом, множество примет убеждало нас в этом. Само пройденное нами за первые дни расстояние, покинутая нашими войсками огромная территория, которую предстояло отобрать, — тут у нас никаких сомнений не было! — свидетельствовали об этом.
А бедствия мирных жителей? Их положение было хуже нашего: я был один, мое имущество легко умещалось в вещмешке, меня хоть раз в сутки, но кормили, а им надо было спасать детей, скарб, самих себя наконец, а чем питались беженцы, я до сих пор понять не могу…
Не только солдатским… Вот и мы, связисты, стали использовать местные почтово-телеграфные линии и узлы для налаживания связи наших частей и наших начальников; мы широко сотрудничали с гражданскими коллегами, не успевшими эвакуироваться, — связисты уезжали, как правило, в числе последних; многие из них тут же, на месте, надевали военную форму и зачислялись на все виды армейского довольствия.
Война становилась всеобщей.
Надо полагать, тесное сотрудничество с гражданской связью прежде всего и способствовало тому, что однажды ночью…
Однажды ночью, дежуря на почте небольшого поселка, километрах в трехстах от Ленинграда, я сообразил наконец, что с этого вот самого, ныне военного или полувоенного узла связи я прекрасно могу позвонить домой.
Домой?
Бывают же озарения!
Конечно, обычному солдату, или сержанту, или лейтенанту даже никто бы этого не разрешил.
Но — связисту?
Время, повторяю, было ночное. На узле только дежурная телефонистка да нас двое — я и еще Паша Кирдяпкин, ефрейтор из моего отделения; в то утро он умудрился мимоходом спасти мне жизнь, своевременно стащив в канаву.
Здесь не грех заметить, что, как только возникла критическая обстановка и нашим жизням стала угрожать реальная, а не учебная опасность, «грубоватые незнакомцы», так любившие подшучивать над другими в мирное время, принялись, раз за разом, спасать нас от гибели — среди них были, к счастью, обстрелянные, понимавшие, что к чему, ребята, и мы, несмотря на муштру и зычные голоса, в сердцевине оставались еще зелененькими.
На этот раз, впрочем, никакого особенного военного опыта не потребовалось — все решил случай, как это сплошь да рядом бывало на войне. Мы с Пашкой отсыпались после тяжелой ночной работы под кустиком, у какого-то длинного забора. Начался очередной налет: вражеские самолеты летали тогда нахально низко. Я дрых беспробудно, а Пашка, проснувшись от первого же разрыва, не только успел сползти в придорожный кювет, но и сдернул туда же мое «бесчувственное тело». Скатываясь по откосу и продирая глаза, я успел заметить, как то место, где мы только что лежали, прошили осколки — бомба разорвалась на мощенном булыжником шоссе тут же, над нашими головами; хорошо еще, небольшая была, осколочная.
Только на войне и поймешь, почему среди героев Лермонтова так много фаталистов…
Итак, меня осенило. Ночь. На узле никого, постороннего, и я, не очень уверенно, говорю телефонистке Вале, молодой, румяной женщине лет двадцати пяти, что неплохо бы мне, пожалуй, позвонить домой — верно, мать беспокоится.
Мимоходом говорю, без всякого нажима, самым безразличным будничным тоном.
Валя встряхивает стрижеными волосами, удивленно поводит плечами — где ты раньше был? — и принимается вызывать Ленинград и номер, который я пишу ей на обрывке бумаги; я помнил его, как ни странно.
Сперва гудки долго идут впустую, ночь все-таки. Потом они прекращаются, и в трубке раздается сонный, но, как всегда, твердый голос матери.
Я говорил уже, что с мамой у меня были сложные отношения.
Слишком часто делал я что-нибудь не то или не так, и чем старше я становился, тем больнее ранили меня мамины упреки, а мама, в очередной раз оказавшись в тупике, все с большим основанием ждала неминуемого подвоха.
Это очень ее огорчало; она честно старалась понять меня, но каждый раз что-то ей мешало.
Когда соседка донесла, что видела меня едущим «на колбасе» — нет, нет, не позади трамвая, а сбоку, на подножке наглухо закрытой двери — у вагонов старой конструкции их было четыре, по две с каждой стороны, — мама, бедняжка, долго недоумевала: зачем я это делаю? Сэкономить деньги я не мог, для проезда на уроки музыки и обратно мне предусмотрительно выдавались талоны…
— Где талоны?
Я немедля принес целую пачку.
Мама окончательно расстроилась и недели две со мной не разговаривала. А что я мог ей объяснить? Рассказать, как прекрасно поступать не так, как все? И не толкаться в битком набитом вагоне, а дышать свежим воздухом на «персональной» подножке? Или — какое это счастье — парить в одиночку над гладью реки; мосты у нас чуть ли не в километр…
Только мы помирились, как я вновь проштрафился: не явился домой к двенадцати, как было велено. Не зная адреса, а лишь название переулка, где жила девочка, у которой был день рождения, мама возникла на нашей скромной вечеринке в половине первого ночи с фонарем в руках, в сопровождении все той же соседки. Они приняли решение обойти в этом переулке все дома, зашли во двор дома номер один, заметили освещенные окна и попали точно в цель.
Две рослые дамы с фонарем — сцена из рыцарских времен.
Правда, учились мы лишь в седьмом классе, но до такой степени не щадить мужское самолюбие могла только моя мать.
И ведь она поступала так вовсе не потому, что считала меня еще ребенком или как-то особенно надо мной дрожала, вот что самое удивительное. Совсем малышом она отпускала меня из Евпатории далеко в море, на вертких шаландах, со знакомыми моряками-греками, а сама преспокойно оставалась на берегу; в деревню она нас с няней отпустила; в Крым; с восьми лет я один ездил в Москву к отцу, в пионерских лагерях жил летом постоянно. Так что здесь дело было в другом. В выполнении данного мною слова?
В девять лет я получил от мамы подарок. «Записки охотника» Тургенева, с надписью: «Моему взрослому мальчику — чтобы был умненьким».
Взрослому — мальчику…
Не подумайте только, что я упрекаю мать в чем-нибудь. Скорее всего, ей и нельзя было иначе воспитывать парня — одной, без отца.
Я только хочу сказать, что твердость, прозвучавшая в ту далекую ночь — была ли эта ночь вообще? — в голосе не вполне еще проснувшегося человека, меня ничуть не удивила.
Сейчас я хладнокровно предаюсь воспоминаниям, столько лет пронеслось… А когда я ее услышал, мне было не до рассуждений. Дозвониться домой из этого хаоса само по себе было так прекрасно, что я, как приготовишка, выпалил со всхлипом:
— Мама, это я!
Скорей, скорей, вдруг разговор почему-либо прервется! В наши дни триста километров — пустяк; тогда это было еще расстояние. И вообще, техника дело такое… Я начисто забыл в эти мгновения, что я — связист.
Она сразу меня узнала. Да и сын я был единственный, и никто больше, в целом мире, не мог назвать ее мамой.
Я давно не слышал ее голоса и, как только она стала говорить, сразу зарегистрировал некие незнакомые нотки — облегчение, жалобность, мягкость какая-то, решительно ей несвойственная… Особенно потряс меня ее первый возглас:
— Василек!!
Мама терпеть не могла уменьшительных и ласкательных имен и прозвищ. Она звала меня Васей, и лишь изредка, в дни особо тяжких провинностей, употребляла полное имя — Василий. Я сразу делался себе омерзителен: до чего похоже на кота! Она — человек, а я — кто?! И ведь мама всегда оказывалась права, вот какая незадача…
А тут вдруг — Василек.
Так называли меня совсем другие люди. Мамина самая старшая сестра, ласковая и смешливая тетка Лена, одинокая, бездетная, но такая всегда веселая и до того непохожая на маму, что трудно было поверить в их родство. Так могли воскликнуть иные девочки в школе… Но чтобы — мать?!
У меня дрогнуло сердце от этого явного свидетельства ее слабости; я растерялся от непривычной нежности, особенно неуместной, казалось мне, в этой обстановке. Покосившись на Валю — она мне очень нравилась, и в ее глазах я никак не хотел выглядеть тем, чем был на самом деле: едва оперившимся птенцом, — я спросил небрежно, как и подобает бывалому вояке:
— Ну, как вы там?
Вместо ответа мать стала торопливо говорить, как счастлива она услышать мой голос, как тревожатся обо мне они с няней, как, отмечая на карте населенные пункты, упомянутые в очередной сводке по нашему направлению, они гадают, где я могу оказаться, как не чаяли они уже хоть что-нибудь обо мне узнать…
Какие она произносила слова, я теперь, разумеется, не помню; если не ошибаюсь, мама, человек безразличный к религии, несколько раз упомянула тогда провидение.
Я долго слушал ее, не смея перебить. Судорожно сжимавший телефонную трубку солдатик, повзрослев, обрел в эти секунды чувство ответственности за свою семью — и за собственную жизнь. Я, и только я, был в ответе за нее — за эту слабую женщину, чудом не потерявшую еще единственного сына.
Если он погибнет — что станется с ней?
Если он… Если я погибну?!
Холодный пот прошиб меня. Все это время я просто поступал, как все, и ни над чем таким не задумывался.
Думая о другом, я машинально повторил свой вопрос:
— Ну, а вы-то — как?
В трубке воцарилась тишина, только в отдалении легонечко что-то потрескивало.
— Мама! — позвал я, решив, что нас разъединили.
— Мы — что, мы — в порядке, — словно бы пожала плечами мать.
Я убедился, что Валя не слышит меня — она вышла куда-то, — и, побуждаемый внезапно вспыхнувшим в моем сердце чувством ответственности, бессвязно, запинаясь, чужим, дубовым языком стал произносить чужие, против моей воли проскальзывавшие в трубку слова. Мы отступаем и отступаем, бормотал я, дороги в Ленинград остаются без прикрытия, и все неизвестно чем кончится, и… и… не знаю, может быть… может быть, им с няней стоит уехать?..
Выложив все это, выказав, таким образом, свою заботу о них, я перевел дух; еще минуту назад я ничего подобного говорить не собирался.
— Как — уехать? Куда? — растерянно переспросила мать; я услышал еще одну, новую для меня, ее интонацию.
— Не знаю… К Уралу куда-нибудь… — не успев подумать, брякнул я первое, что пришло в голову.
Должен же я был хоть как-то передать ей накопленный за эти бесконечные километры печальный опыт?! Обязан! Меня душили по ночам кошмары: забитые беженцами дороги, и самолеты над ними, и длинные пулеметные очереди уверенных в своей безнаказанности убийц… Все женщины, женщины, бредущие куда-то… А вдруг и маме придется?!
Стыд, унижение, бессильная ярость, ни на миг не оставлявшие в покое, вынудили меня произнести эти слова. Пусть неуклюже — иначе я тогда не сумел.
Наступила длительная пауза; мама-то была не из тех, кто говорит просто так, не подумав.
Потом она вздохнула и с обычной твердостью произнесла несколько слов, которые и поныне звучат у меня в ушах, словно не пролетело с той поры бог знает сколько времени, словно было все это на прошлой неделе:
— Здесь мой дом, Василий. Я никуда отсюда не поеду.
Возразить ей я не посмел, а сама она больше к этому вопросу не возвращалась.
В сущности, разговор наш тем и кончился. Несколько совсем общих фраз… Ее просьба обязательно позвонить еще, если представится возможность, и писать, писать… Мои приветы — всем, всем… Няне!
Под самый конец мама еще задумчиво добавила:
— Ты ведь теперь уже совсем большой, мальчик…
Валя давно вернулась и, разъединив нас, переговаривалась вполголоса с соседним узлом, Пашка сопел, свернувшись калачиком на огромном деревянном ларе в углу, а я долго сидел у исцарапанного, колченогого стола, — надо думать, не одно поколение местных жителей старательно надписывало на нем открытки, письма, бланки переводов и телеграмм, спеша поведать миру свои радости и печали.
Меня словно плетью стегануло. Ничего обидного мама мне не сказала, и человеку постороннему могло показаться, что разговор наш закончился самым обычным и дружелюбным образом.
Да так оно и было, в сущности.
Но я-то привык с детства различать не только слова моего сурового воспитателя, но и оттенки слов, и в маминой коротенькой фразе отчетливо услышал — презрение.
Ну, если не презрение, то некое пренебрежительное недоумение по поводу того, как я, мужчина, осмелился предложить ей, женщине, нечто подобное.
Что за защитники такие?
Я должна уехать из дома?
Покинуть свое гнездо?
Воюйте там как следует!
Она словно отрешилась в этот миг от того, что я — не просто солдат, что я — ее сын.
Ей словно вдруг стало безразлично, какой ценой отстоим мы город, — погибну я при этом или нет.
Отстоять было моим долгом, и не только перед ней…
Теперь я знаю, что она и сама, лично воевала с немцами. У меня хранятся две очень подробные карты, изданные в 1911 году военно-топографическим отделом Генерального штаба русской армии. Не знаю, откуда взялись они у нас в доме, но на полях уверенным маминым почерком записаны названия населенных пунктов под Ленинградом, услышанные, очевидно, в радиосводке. Самые эти пункты отысканы — потом, скорее всего, когда сводка кончалась, — и тщательно подчеркнуты твердой рукой чертежника.
Мама не могла не видеть по этой карте, как плотно сжимает город кольцо вражеских войск, и, конечно же, в момент моего звонка разбиралась в ситуации куда лучше, чем я. И то, к а к записаны названия, — лучшее свидетельство маминой тогдашней позиции: ни малейшего признака робости, колебаний, страха, наконец. Непримиримость и гнев. Да что гнев — ярость брызжет и сейчас из этих летящих букв, ярость — не страх!
Теперь-то я понимаю, конечно: все эти оттенки маминой речи почудились, померещились мне — она же минуту назад взахлеб радовалась тому, что я жив, что звоню, умоляла беречь себя…
Теперь-то понимаю, но тогда было не до шуток.
Впрочем, нет: я и теперь не знаю толком… Может, так оно и было сказано, как я услышал, — во всем, что касалось долга, мама скидок не делала.
Ни себе, ни другим.
А уж мне-то — подавно.
Пашка заворочался во сне. Я встал, взял шинель, прикрыл его. Неужели с моей стороны было трусостью — предложить ей такое? И откуда только взяла она силы хладнокровно мне ответить? Глубокой ночью, не имея времени толком подумать… Сугубо штатская моя мама, политикой никогда особо не интересовавшаяся…
Я вдруг явственно увидел мать, сидящую в излюбленном уголке на диване. В руках вязанье… А ведь ей негде даже шерсти купить, все распускает какие-то вещи, перекрашивает, снова вяжет. Надо было в Риге… Господи, да какая шерсть теперь!.. Я-то хорош, возомнил себя мужчиной, а ее — слабой женщиной… Слабой… Откуда в ней это в ы с о к о е с п о к о й с т в и е?
Старая закалка?
Что значит — старая? В августе маме должно было стукнуть сорок пять.
Я вышел на улицу, в тихую ночь, ничем не связанную с войной, насилием, смертью. Потеплело… Постоял на крыльце, все еще перемалывая зернышки нашего разговора, послушал извечный шепоток природы — и неожиданно остро ощутил прилив уверенности в своих силах.
Владевшая мною все эти дни слепая ярость становилась целенаправленной; я внезапно обрел способность поразить ею врага, как змея — жалом, как слон — хоботом, как герой моих детских книжек зулус — копьем.
Война ничего не изменила в обычной маминой твердости — вот в чем, пожалуй, было дело. И твердость эта проявилась теперь в столкновении неизмеримо более значительном и сложном, чем те «комнатные» столкновения, что происходили когда-то между нами. А новые оттенки в ее голосе, все эти «васильки» — не более чем тоненькая эмоциональная оболочка, вызванная к жизни необычайной ситуацией, в которой мы с ней оказались.
Основа оставалась незыблемой.
Эта незыблемость, конечно же, шла от привычных маме с юности моральных понятий и норм, но тогда я не был еще способен додуматься до этого. Да и не в том было дело, откуда что происходит.
Простая и ясная мамина позиция попросту передалась мне, ее сыну. По металлическому проводу длиной в триста километров, из трубки в трубку. Основа была заложена, «запрограммирована» гораздо раньше, в детстве и отрочестве, в процессе жесткого воспитания — посланного матерью импульса оказалось теперь достаточно, чтобы я отчетливо осознал свой долг.
Свой долг и уверенность в завтрашнем дне, если этот день для меня наступит.
А не будет его — ну что ж… Каждый, кто эту войну пережил, знает, что бегать от бомбы бессмысленно.
Я повзрослел в эти минуты; перестал быть песчинкой, которую нес ураган.
На скособочившемся деревянном крылечке поселковой почты стоял человек, готовый осмысленно сопротивляться стихии.
ПОЛИТРУК
Г. А. Сергееву
В жизни каждого юноши есть обычно мужчина, за которым он готов пойти до конца. Моя жизнь сложилась так, что, хоть я попал на фронт не прямо с выпускного вечера, таким мужчиной стал для меня не отец, не и старший брат и не школьный учитель, а политрук нашей роты Петр Иванович, столяр из небольшого старинного русского городка, что северо-восточнее Москвы.
Об отце я уже говорил; в его жизни не оказалось ничего, что могло бы захватить его сына, включая «будничную» профессию экономиста, тайн которой он сыну к тому же никогда не раскрывал. Старшего брата у меня не было; с Володей, погибшим под Курском в 1943-м, я крепко дружил и часто ему завидовал: он лихо играл в волейбол, как-то на редкость устойчиво учился и так же устойчиво нравился девочкам; но Володя, мой двоюродный брат и мой одногодок, не мог стать одновременно и моим героем — для этого он должен был быть по крайней мере на несколько лет старше. Школьным премудростям нас обучали по преимуществу женщины, да и я не был увлечен ни одним предметом настолько, чтобы увлечься заодно и тем, кто его преподавал; вот физрук разве, но к десятому классу я хоть и с трудом, но научился разделять мускульную силу от силы интеллекта.
Неуверенным почерком поздно овладевшего грамотой человека Петр Иванович написал мне рекомендацию в партию, и сделал это с полным правом: именно он, мой политрук, и никто другой, за четыре долгих военных года окончательно воспитал во мне необходимую каждому истинному гражданину способность видеть свой долг не только в том, что́ ты обязан, но и в том, что́ ты в силах для общества свершить.
Разница может получиться и небольшая, а может и весьма существенная. У кого как.
С Петром Ивановичем мы повстречались вскоре после того, как началась Великая Отечественная война.
За какие-нибудь десять дней наш полк, вернее, то, что от него осталось, проделал путь от Риги до Пскова; там, на площади перед древним собором, слушали мы по радио выступление Верховного Главнокомандующего.
В Пскове же полк был переформирован, из его состава выделили несколько мобильных подразделений; в одну из отдельных рот связи командиром отделения попал и я.
Перезнакомиться хоть сколько-нибудь основательно у нас первое время возможности не было: продолжалось отступление. Ночевали мы вразброс, где придется, да и спать-то почти не приходилось — круглые сутки линейщики восстанавливали разрушенные линии связи на новых и новых участках, дни и ночи сливались в одну нескончаемую ленту; штаб роты часто и по телефону разыскать не удавалось, не то что добраться до него.
Я получил список красноармейцев, кое-какое имущество, представился командиру взвода — в дальнейшем мы поддерживали связь главным образом по проводам, — видел несколько раз издали командира роты, запомнил его зычный голос, полюбовался высокой, ладной фигурой, перетянутой бесчисленными ремнями и ремешочками — предмет тайных вожделений новобранцев, моих в частности, — отлично знал кладовщика, снабжавшего нас продуктами, и больше, пожалуй, никого.
В эти горячие дни политрук ни разу не побывал в моем отделении, хотя к командиру взвода заезжал как будто. Были участки послабее, потревожнее, каждый день, каждый час менялась обстановка, возникали новые, непредвиденные, сложнейшие обстоятельства, требовавшие пристального его внимания, его присутствия где-то в другом месте.
На будничные же проявления армейской жизни, общепринятые и даже обязательные в иной ситуации, ни у него, ни у нас не оставалось сил. Самолеты противника непрерывно висели в воздухе, — какими желанными казались нам низкая облачность и дождь! — и до сих пор запах травы, уткнувшись в которую мы лежали под бомбами, вызывает во мне чувство унижения. По неопытности мы не понимали тогда, что по кольцу новехоньких «юнкерсов», пикирующих, завывая сиренами, прямо на тебя, есть смысл вести огонь из трехлинейной винтовки образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года.
Но вот вся наша рота собралась в Новгороде. Тут я впервые с начала войны отоспался, привел в порядок обмундирование, сменил белье, впервые выкупался — стояло лето, но мы как-то забыли о том, что можно раздеться и выкупаться в любом водоеме, — в седом Волхове, у быков старого моста, начинавшегося из кремля.
Наши части сдали врагу древний город, предмет вековых вожделений западных меченосцев, но отошли мы совсем недалеко, и дальше уже — ни шагу. Будни стали более организованными и я, оглядевшись, сразу же ощутил присутствие человека с тремя кубиками в петлицах, политрука нашей роты.
Да и трудно было не ощутить, без него не начиналось ни одно серьезное дело; и обстоятельства моего первого с ним близкого знакомства были необычными.
Вечером, в день последних боев за Новгород, Петр Иванович, захватив трех солдат и меня грешного, отправился вывозить ценное, по тогдашним временам, оборудование местного узла связи. Он спокойно мог этого не делать, приказа никто не давал, но полагал, что мы обязаны сделать все, что в наших силах, для спасения имущества, что это — наш долг.
Он категорически настаивал на своем, вопреки возражениям нашего молодцеватого комроты, не желавшего рисковать одной из трех своих автомашин, не хотевшего дать политруку лишний случай проявить инициативу и уж никак не склонного, без крайней необходимости, подвергать опасности самого себя.
— Поезжай ты, — предложил ему Петр Иванович.
— Рисковать людьми и машиной — без приказа? Не имею полного права.
— Получи приказ, — пожал плечами политрук.
— Никого нет, я звонил — ты же знаешь… Да и на черта нам это имущество?!
— Сам отдай приказ, ты — командир роты.
— Именно потому, что я командируя не могу взять на себя такую ответственность.
— Тогда считай, что ее взял на себя я. Сержант! — Это относилось уже ко мне. — Готовьте машину, людей и захватите побольше веревок.
Невольно подслушав конец разговора, я был, по правде говоря, на стороне командира. К чему лезть на рожон? Вникнуть в подлинный смысл их столкновения я не мог, многие простейшие жизненные формулы не были мне еще понятны.
И мы отправились.
Высунувшись в окно кабины, Петр Иванович грустно напевал что-то, мы, рассевшись по бортам, обменивались вполголоса краткими, но выразительными фразами: приказ вновь тащиться в город, где шел бой, особенного энтузиазма ни у кого не вызвал. Наша машина была единственной ехавшей на запад, все живое двигалось навстречу; за дни отступления мы научились хорошо понимать, что это значит. Добро бы еще предстояло что-нибудь этакое, красиво-героическое, лихой налет, что ли, но вывозить брошенное кем-то имущество…
Смеркалось, город словно вымер, добрая треть деревянных домишек заволховской части была в огне; снаряды рвались все настойчивее, слышались не только пулеметные очереди, но и винтовочная трескотня. Мост, кажется, тоже уже горел, но через него нам, слава богу, переезжать не было нужно. Тут бы зарыться в землю, забраться в какой-нибудь погреб да и отстреливаться, как весь честной народ, а мы, подъехав наконец к узлу связи, получили приказание аккуратно демонтировать оборудование, ни в коем случае не повредив, сносить его вниз и тщательно грузить на машину.
Мы ринулись в здание, надеясь, что этого проклятого оборудования окажется не так уж много, но с первого взгляда поняли, какими наивными были наши расчеты.
Петр Иванович, вразвалочку вошел в дом вслед за нами и, не обращая внимания на нашу торопливость, нервозность, суету, на наши возгласы и ругань, стал работать вместе со всеми. Сноровисто орудовал кусачками, отверткой, небольшим ломиком, снимал телеграфные аппараты, коммутаторы, еще какие-то таинственные агрегаты — в полутьме матово светились медные части; неторопливо сносил свою добычу по скрипучей деревянной лестнице со второго этажа, казавшегося нам местом особенно опасным, во двор; с помощью водителя бережно, подложив неизвестно откуда добытого сена, укладывал аппаратуру в кузов, успевая поправить, подвинуть, обезопасить от тряски и то, что кое-как побросали туда мы.
Воркотню солдат и мои похожие на вопли, отрывистые рапорты — «Все ценное уже снято!», «Рессоры прогнулись!», «Пора ехать, товарищ политрук, все уже ушли!» — он встречал едва приметной улыбкой и говорил, не повышая голоса, тоном каким-то просительным даже:
— Ну вот, еще разок сходим — и все.
И мы ходили, ходили, ходили, пока не загорелось от прямого попадания соседнее с почтой здание — в нашем вылетели стекла, — а в кузове полуторки действительно не оставалось уже никакого места.
Все так же хладнокровно — несмотря на вовсе не располагавшую к размышлениям обстановочку, меня разбирало любопытство: выдержка это, усилие воли или природное хладнокровие? — политрук собрал в большую брезентовую сумку весь инструмент, и тот, которым работали мы, и в изобилии разбросанный повсюду, внимательно, явно сожалея о чем-то, оглядел помещение, лестницу, кладовые и только после этого сказал шоферу, давно уже включившему мотор:
— Ну что ж… давай, Саня… только не шибко… Мостовая — сам видел… да воронки еще…
Он усадил в кабину солдата, зашибшего при погрузке руку, двух других каким-то чудом уместил в кузове, затем кивнул мне:
— А мы — на подножках, сержант.
Так и возвращались: он возле шофера, всячески его сдерживая, но и помогая маневрировать в темноте — фары мы не включали, дорогу освещало только пламя пожарищ, — я с другой стороны; время от времени я не выдерживал, просовывал голову в кабину и тихонько просил Саньку поддать — тот только вращал вытаращенными глазами.
Ничего, добрались, сдали имущество дежурному по узлу связи («Хоть бы для себя старались!», — в десятый раз подумал я) и завалились спать. Нам, кажется, даже ужина не оставили.
Хотите — верьте, хотите — нет, но успешное выполнение нами этой весьма скромной операции окончательно помогло мне нащупать почву в зыбком хаосе первых недель войны. Телефонный разговор с матерью обострил чувство ответственности, заставил собраться, призвал к активному сопротивлению — теперь его возможность была доказана личным примером политрука, а я приобрел свой собственный опыт; и то, и другое убеждает, как известно, сильнее всего.
В поведении Петра Ивановича меня поразило не только его хладнокровие и мужество — мужеством было буквально пронизано все вокруг, — но главным образом его хозяйское, рачительное отношение к делу, особенно неожиданное в дни, когда наше положение выглядело отчаянным.
Неожиданное — и желанное. Оглядываясь назад, я думаю, что с двадцать второго июня я каждый день трепетно ждал — не чуда! — а появления рядом со мной именно такого уверенного в наших общих силах, в нашей непобедимости человека, чьи поступки хоть как-то соответствовали бы воспитанному в нас представлению о быстрой победе в грядущей войне. Того, кто воплотил бы наяву ставшие уже тогда легендарными заветы гражданской.
Наяву. Здесь. В этом окопе. Под этим городом.
Рядом со мной.
Вероятно, именно поэтому все в Петре Ивановиче казалось мне таким привлекательным — даже естественность, с которой он подверг опасности наши жизни, выполняя приказ своей совести. А уж то, как запросто, наравне со всеми и как умело он работал, было для меня, попросту откровением: за год службы, в мирное время, я успел привыкнуть к тому, что командир только командует. Петр Иванович даже голоса ни разу не повысил. Он мог разрешить машине уехать немного раньше или немного позже, с полным грузом или с почти полным — и это было то единственное, в чем там, на почте, проявлялась его власть, его право командира. Политрук так пользовался этим правом, что не только согласно уставу, но и по существу, по самому жесткому моральному счету оно казалось мне неоспоримым.
В полковой школе нас учили: главная задача — тщательно выполнить приказ. Мы усвоили это превосходно. Сам того не заметив, я поддался заманчивой возможности снять с себя ответственность за все, что не касалось непосредственно меня, нашего отделения, взвода, роты. Так просто: выполнил быстренько приказ — и совесть чиста. В тот ненастный вечер Петр Иванович наглядно доказал мне, что далеко не все решается единожды и для всех отданным приказом, что многое, чрезвычайно многое зависит и от позиции, от поступков, от решимости, от нравственной силы или слабости одного человека. Доказал — и как бы вновь вручил мне нелегкий, но так необходимый в молодости груз ответственности за то, чем и как живет мой народ.
И так было не только со мной одним. Наша рота не могла бы стать одной из лучших частей связи и успешно прикрывать, раз за разом, самые тяжелые и ответственные направления, руководствуясь только громогласными, но часто суматошными и путаными приказами своего командира. Недалекий строевик, он плохо знал порученное нам специальное дело — бездна разверзлась предо мной, когда я вдруг понял, что он знает связь еще хуже, чем я, — люди быстро раскусили его, подшучивали над командиром за глаза, и это не могло не приглушать их собственную инициативу.
Но их вел за собой политрук, изо дня в день воскрешавший в каждом уверенность в своих силах.
Месяца через полтора или два мне удалось нащупать еще одну точку опоры. Масштаб и значение ее, чисто практические, не идут ни в какое сравнение с психологической глубиной той духовной закалки, какие дали мне разговор с матерью и восхищение политруком, но эта точечка обладала своей особой прочностью и была по-своему необходима каждому бойцу.
Я имею в виду выдачу нам поздней осенью новехонького зимнего обмундирования. «Ого! — восхитился я, намерзшийся всю прошлую зиму на полевых занятиях в одной шинелишке и никак не предполагавший, что н а в о й н е все может быть как раз наоборот. — Ого! Полушубок, валенки, ватные брюки, телогрейка, теплые варежки, портянки… Это же совсем другое дело… так воевать можно».
Самым важным и здесь было не то, что теплые вещи должны были предохранить нас от мороза, хотя и это, конечно, имело первостепенное значение.
Самым важным было то, что о нас своевременно позаботились.
Может создаться впечатление, что, высоко оценивая личный пример и личные качества руководителя, я не признавал дисциплины, не видел в ней смысла, а это решительно неверно.
Напротив. Уже вскоре после призыва я понял, что дисциплина в армии необходима, что без нее армия существовать не может, а что без армии России не быть, я твердо знаю еще с тех времен, когда, восьми лет от роду, прочел «Севастопольского мальчика» — свою первую книжку про оборону Севастополя.
Затем я обнаружил, к собственному удивлению, что дисциплина, в сущности, не такая уж обременительная штука. Еще Джек Лондон воспел излюбленный спорт австралийцев — катание на досках на могучих волнах морского прибоя, которые сами несут тебя к берегу несколько километров, надо только правильно выбрать волну. Так и с дисциплиной: достаточно встать на нужную волну, и дело сразу пойдет на лад. Как ни странно, быть аккуратным и подтянутым так же просто — или так же сложно, — как быть вечным неряхой.
Встать на волну… Едва ли не самым мучительным актом в первые месяцы солдатской службы был для нас подъем. И не только потому, что происходил он непривычно рано. Нам отводили на подъем неправдоподобно мало времени, а жили мы в колоссальном помещении старых казачьих казарм и спали на двухэтажных кроватях. Подгоняемые младшими командирами, дневальными, дежурными, мы очень мешали друг дружке, создавалась бесконечно нервная обстановка, особенно неприятная после того, как тебе только что снилось нечто домашнее, уютное, ласковое. Суета, окрики, ругань, шуточки, — а ведь надо было с быстротой молнии натянуть брюки, гимнастерку, намотать не очень-то привычные для горожан портянки и, главное, обмотки, змеей ускользавшие из рук. Один из курсантов, человек небольшого роста и повышенной исполнительности, спавший на верхней кровати, наловчился попадать в штаны на лету, прыгая с верхотуры на пол…
Так вот, оказалось, что всю эту мучительную суету можно преодолеть до смешного просто. Достаточно было проснуться минут на пять раньше побудки, и ты успевал спокойненько одеться, очухаться и даже сходить перед зарядкой в туалет, а потом первым стать в строй, что ценилось высоко и могло очень и очень пригодиться при какой-нибудь неурядице, приключившейся с тобой в этот день позже. Правда, вставать до побудки запрещалось, но в огромной казарме, сплошь заставленной двухъярусными спальными сооружениями, было легко ускользнуть от бдительного ока дежурных. А если даже это и не удавалось и тебя окриком загоняли обратно в постель, было несравненно легче перенести подъем, встретив его не спящим.
Как просыпаться точно? Сперва с помощью дневалящих сегодня приятелей — в свою очередь, будучи дневальным, ты отплатишь им тем же, — потом привыкаешь и просыпаешься сам почти без промаха.
Встать на волну… Не прилаживаться, не подделываться под погоду, не отыскивать тепленькое местечко, «непыльную» работенку, — оседлать стихию, прочно закрепиться, определить свое место в общем строю. При известной изворотливости не так уж и сложно пристроиться писарем, кладовщиком, каптенармусом или еще кем-нибудь в этом роде — в армейской ли, в гражданской ли жизни, во время войны, в мирное ли время. Стоит ли игра свеч — вот вопрос! Ради весьма иллюзорного временного благополучия избегать общих для всех будней, пусть суровых, будней, формирующих твой характер, — рискуя привыкнуть всю жизнь оставаться «на подхвате»?
Сомнительная перспектива.
Некоторое время после призыва я ужасно завидовал «аппаратчикам», изучавшим телеграфное дело в теплых классах в те часы, когда нас, «линейщиков», выгоняли на мороз, далеко за город. Потом я стал находить своеобразную прелесть в возвращении в казарму после изнурительного дня — словно домой, и ведь придираются к тебе, как к «работничку», гораздо меньше. А когда пошли наконец весенние погоды, мы сразу оказались в неизмеримо более благоприятных условиях, чем наши товарищи, напряженно долбившие морзянку и матчасть в духоте, на глазах у начальства всех рангов. Именно тогда я понял, что чем скорее, собравшись с духом, преодолеешь главную трудность, тем скорее отделаешься от трудностей вообще: все остальные покажутся тебе мелкими временными затруднениями.
В понятие «встать на волну» неизбежно включались и взаимоотношения с товарищами по оружию. В мирное время это были такие же, как я, красноармейцы, «курсанты» местного значения; после начала войны — подчиненные мне рядовые.
…О начальствующем составе я не говорю — там действовала обычная и для военной, и для «гражданской» среды субординация, не исключавшая, разумеется, и дружеских связей. Сделавшись командиром взвода и попав, таким образом, «в начальнички», я приобрел многих друзей, среди них и таких, каких у меня потом, после войны, не было: так просты и ненавязчивы были наши отношения, так по-братски переживали мы обстоятельства, по сравнению с которыми драматические события мирной жизни представляются пустячком.
Одним из самых близких моих друзей неожиданно стал человек много старше меня, начальник нашего снабжения, типичный тамбовский балагур — до войны Анатолий Петрович был директором универмага то ли в Тамбове, то ли в Козлове, то ли в Кирсанове. Его речь, как и речь няни когда-то, была для меня откровением: до встречи с ним я не подозревал, что самые заурядные, будничные наши высказывания и сообщения можно так расцвечивать, причем не от случая к случаю, а каждый день.
Жаль, большинство его излюбленных речений, присказок, прибауток были ёрническими — приводить их здесь едва ли уместно. Но в армейский обиход они вписывались как нельзя лучше, в том числе и потому, что согревали собеседника, в самой мрачной ситуации от них сразу же становилось веселее.
— Удивительное дело… — скажешь, бывало, а Анатолий Петрович немедленно подхватит:
— Удивительно, Мария Дмитревна: чай пила, а пузо холодное…
— Так они и жили… — закончит кто-нибудь немудреный рассказ, а он мигом поставит финальную точку:
— Так они и жили, старики: спали врозь, а дети были…
— Благодарю вас, — любил он промолвить торжественно и смачно, вставая из-за стола в самом благопристойном обществе, а потом, выдержав паузу, быстренько добавлял: — …и мать вашу — также…
Вот это из самых «скоромных»…
Но если с начальством все было в порядке, то наладить дружеские отношения с соседями по казарме или землянке и тем более заслужить их уважение и доверие было для меня делом не таким уж и простым. Без ощущения взаимного равенства могло ничего и не выйти — это я знал уже по опыту своих встреч с разными классами в школе, с теми же уличными ребятами, с однокурсниками в университете. Но там мы все были примерно одного возраста, одной подготовки, из одного города, с одной улицы, а здесь? Как добиваться «равновесия сторон», впервые в жизни входя в контакт с людьми бесконечно разными по социальному положению, возрасту, общеобразовательной подготовке, — наконец, просто привычкам?
Природное чутье и все то же нянино воспитание помогали мне нащупывать правильный путь. Делая первый шаг, я приучился восхищаться — не вслух, разумеется, — тем, что отлично умели и делали запросто мои новые знакомцы, их рабочей сноровкой при установке тех же столбов, их выносливостью — когда на линии приходилось проводить и целые сутки, их бесстрашием, даже тем, как владели многие из них топором. Частность? Конечно, только от этой частности зависело сплошь да рядом, будет ли у нас крыша над головой в местности, где не оставалось ни одного целого сарая, не то что избы, зимой, в мороз.
Только при таком отношении к ним имел я некоторое право надеяться, что они, в свою очередь, оценят то немногое, что успел сосредоточить в себе, несмотря на молодость, я — хотя мой вклад в наше содружество совершенно очевидно не мог быть так конкретен, так безусловен, как их.
Что мог я предложить им такого, чего не было в них самих, чем мог я взять? Образованием? В очень скромной степени, и потом, мне неоднократно встречались в армии образованные люди, не умевшие найти контакта с солдатами, подвергавшиеся насмешкам, ибо, считая себя чуть ли не избранными и не желая смирить гордыню, для которой не было, в сущности, никаких оснований, они не хотели постигать то немногое, в общем-то, но категорически необходимое, что требовалось з д е с ь. Воспитание? Тоже нет, во всяком случае, не в прямом, «внешнем» понимании этого слова. Скорее всего, я мог предложить им некую сумму обыкновенных человеческих качеств, окрашенных моей индивидуальностью, моим жизнеощущением. Доброту и внимание, готовность прийти на выручку. Бескорыстие. Постоянное стремление н е п о т е р я т ь л и ц о — не заискивать, не пытаться свалить на других опасное задание или просто тяжелую, неблагодарную работу, не докладывать по команде о каждой мелкой неурядице. Умение подавить страх — речь идет не о напускной храбрости, та легко разгадывалась и, как всякое фанфаронство, ценилась невысоко.
Вот что-то в этом роде, сплавленное со способностью четко ориентироваться в любой сложной обстановке — тут, на этом последнем этапе, как последний штрих, как завершение, могло пригодиться и образование. Да, да, конечно: не простая сумма качеств, а именно сплав.
Не согревай меня с детства добрая душенька моего верного друга, как знать, не иначе ли сложилась бы моя судьба — и военная, да и вся целиком. Речь не идет о том, что няня как-то специально «готовила» меня к общению, вероятно, она не сумела бы этого сделать, если бы ей и поручили такое, но не будь я ее воспитанником — это я знаю твердо, — я в любой момент мог бы забыться, поддаться дурной отцовской наследственности, сорваться — и потерять контакт с незлобивыми, немудрящими и так терпеливо сносящими навалившиеся на них и на их семьи трудности, и горе, и беду прекрасными людьми; моя горячая голова завела бы меня тогда в дебри, из которых неизвестно как и выбираться…
Несмотря на городской «лоск», я удержался. Я и в армии совершил немало оплошностей, больших и малых, — жаль, не считал, сколько было получено самых разнообразных взысканий, — но я ни разу не унизился до того, чтобы зачеркнуть в душе равенство между мною и теми, кто спал, трудился, воевал рядом.
Они учли это.
Они всё учитывали.
И когда я стал командиром, у меня в этом смысле был уже опыт, вполне достаточный для того, чтобы в моем отношении к солдатам — теперь моим подчиненным — ничего не изменилось. Каждый, кто умело и с полной отдачей выполнял порученное ему дело, был, как и прежде, равным мне боевым товарищем и мог рассчитывать на полное и безусловное мое уважение.
У наиболее опытных солдат я многому учился и никогда не скрывал этого — чего же стыдиться учебы у старшего брата? Тем более что я был просто вынужден учиться: попавшие ко мне в отделение ветераны финской знали, что́ и как надо делать при восстановлении разрушенной линии связи — им уже случалось делать это, — а я не знал: нас обучали только с т р о и т ь новые линии, уповая, судя по всему, на то, что нам придется все время наступать…
Все у нас продолжало быть общим, еда и питье в том числе; слава богу, я и взводом командовал в звании старшего сержанта, и мне не полагался так называемый командирский дополнительный паек, а то, чего доброго, и я бы не удержался, пожалуй, и стал бы съедать банку консервов, шматок масла и столько-то граммов печенья в одиночку, на глазах у людей, с которыми мы жили в одной землянке.
Мне положено, им — нет.
И гармонь у нас была общая — старенькая, неизвестно как к нам приблудившаяся, а единственным гармонистом во взводе был, как ни странно, я.
Мне с детства нравились цыганские напевы, только не заунывные, а плясовые. Огненный ритм, сперва приглушенный, полускрытый, потом, постепенно, все более обжигающий, — в этом «восхождении», что ли, их секрет? — неизменно приводил меня в состояние, близкое к экстазу, заставлял забывать обо всем на свете, делал мое тело потенциально гибким и легким.
Но на гитаре я играть так и не научился — рояль, рояль… И вообще в большом городе вся эта «цыганщина» была мне еще как-то не по возрасту, не по плечу, существовала где-то вдали — они на эстраде, я в зале. Армейские же будни, особенно после начала войны, мощно выдвинув песенную стихию «в народ», приблизили ее ко мне вплотную.
С детства ничего не певший, ни один, ни в компании — случая не было, — я полюбил хоровые песни, а к моей любимой «цыганской» гитаре приплюсовалась гармонь.
Слушать гармониста мне не надоедало, я охотно подключал себя к исполняемой мелодии, особенно, опять же, плясовой, частушечной, — псковская «семеновна» легко покорила меня. Мысль о том, что я и сам смогу овладеть гармонью, сперва не приходила в голову. Попробовал я как-то растянуть мехи гармошки с «русским» строем и ужаснулся путанице звуков, которую она мне с готовностью выложила: растягиваешь — один звук от клавиши, сводишь — другой. Но потом кто-то из ребят притащил «хромку», а у нее клавиша и «туда» и «обратно» дает один и тот же звук.
Я сразу разобрался, что к чему, и обнаружил еще, что строй «хромки» не так уж далек от привычного мне рояля — соотносимо, во всяком случае, — и стал подбирать что-то совсем простенькое, а потом и мелодии посложнее. Лиха беда начало… Постепенно я втянулся, и мне уже трудно стало не поиграть немного, когда все просили.
И — снова: так ли все было бы, если бы не гармонь? Гармонист всегда свой человек, и никакое он не начальство…
Мне чертовски повезло: среди друзей, в одной и той же части провел я всю войну. Связистские премудрости ставили меня в тупик лишь первое время, потом я стал запросто разбираться во всех тонкостях, и командовать взводом мне было легко. А так как на фронте я ни к чему больше свои силы приложить не мог, то и никакого внутреннего развития моего существа, никакого движения в нем почти не происходило. Я напоминал себе младенца в люльке или человека, мозги которого заморожены на столько-то лет, и теперь я считаю армейские годы периодом, который не следует причислять к цифре моего возраста, и втихомолку сбрасываю себе, таким образом, шесть лет.
С каждым годом это становится все удобнее…
Все вышесказанное не означает, что я не был требовательным командиром; как я уже говорил, еще за первый, довоенный год я понял, что дисциплина в армии — та же смазка, без нее машина четко работать не может, а машина, за которую я отвечал, должна была, лопни-тресни, работать как часы. Только на фронте я и в этом вопросе поднялся на новую ступеньку — научился отличать дисциплинированных, но в то же время инициативных солдат от безликих исполнителей, оловянных солдатиков, истуканчиков, прикрывавших «дисциплинированностью» беспомощность, неумение или неохоту сделать самостоятельно хоть один шаг.
Война, как известно, многое по-новому проявляет в людях, и когда я слышу теперь, от людей невоевавших, вошедшие в моду выражения типа «мы — на переднем крае» или «я бы его (ее) в разведку не взял», я только грустно и скептически улыбаюсь. Ну можно ли так категорически обозначать «передний край» у себя под носом и так безапелляционно судить о том, кто годен, кто нет… Во фронтовой обстановке, там, где действительно приходится ходить в разведку, люди меняются, часто меняются кардинально, и далеко не всякий, кто выглядит в мирное время, на словах «завзятым разведчиком», окажется достойным такого доверия, и выдержит такую непомерную нагрузку в военную годину, и не струсит. А тот, о ком он только что так презрительно отозвался, может как раз стать опорой любого командира, а то и прекрасно командовать сам.
Отличать подлинное от мнимого настойчиво, бескомпромиссно учил меня наш политрук.
Внешности он был не броской. Небольшого роста, светловолосый, голубоглазый, сухонький, он одевался строго по форме и всегда очень скромно — за исключением сапог. Я не видел на нем других сапог, кроме хромовых, как литые сидевших на его небольшой, аккуратной ноге. Когда положение на фронте стабилизировалось и хозяйство нашей роты надолго разместилось в небольшой валдайской деревушке, он разыскал среди солдат бывшего деревенского сапожника, раздобыл для него комплект инструмента — штатного сапожника нам не полагалось, но Петр Иванович умел ладить с интендантами — и проследил за тем, чтобы Алексеича разместили в теплом и просторном помещении. Вскоре выяснилось: сделано это было не только потому, что политрук любил хорошие сапоги и понимал, как важно, чтобы у солдат, отхаживавших вдоль линии десятки километров, были сухие ноги. Возле нашего сапожника, днем чинившего бесконечные ботинки, а вечерами тачавшего сапоги для счастливцев, сумевших раздобыть крой, как-то сам по себе образовался ротный клуб.
Меньше десяти-двенадцати человек там не собиралось, обычно значительно больше. Частенько ни о чем серьезном речи не шло — «охотничьи» рассказы, анекдоты, байки, красочные описания былых побед над слабозащищенными женскими сердцами и, разумеется, фронтовая летопись сменяли друг друга. Субординации — никакой: важно было не звание рассказчика, а количество наград или нашивок за ранения на его гимнастерке, умелая речь, едкая шутка, знание жизни.
Долгие вечера, наполненные, казалось бы, пустой болтовней, давали нам дружеское тепло и подобие уюта, давали нам передышку; как это много на войне, объяснять не надо.
Наш маленький клуб навещал и Петр Иванович. Он ничего не навязывал собравшимся, не нарушал доверительного тона беседы, умел хорошо слушать — много ли начальников могут похвалиться этим? — подхватить ядреную шутку, раскатисто рассмеяться вместе со всеми и сам охотно, и красноречиво выкладывал, в очередь с другими ораторами, различные были и небылицы, которых знал целую кучу и помнил их чуть ли не с детства.
Политрук не корчил из себя великого теоретика и начинать серьезный разговор любил с недоумения. Достанет из планшетки сложенную в шестнадцать раз газету, тщательно развернет, расправит, хлопнет по листу ладонью, посетует на то, что события в мире происходят уже вовсе невразумительные, и станет читать облюбованную заранее заметку — медленно, врастяжку, не всегда правильно выговаривая мудреные, иностранного происхождения слова. Кончив читать, обведет всех хитроватым взглядом и обратится к кому-нибудь одному с просьбой растолковать прочитанное или хотя бы высказать свою точку зрения. Тот примется отнекиваться, попытается отшутиться, да не тут-то было: Петр Иванович не отстанет от бедняги, пока не вытянет из него хоть несколько слов, — в крайнем случае, тут он и свой командирский авторитет приложит, деликатно, но все же… Особенно робко высказывались обычно солдаты постарше, призванные из запаса, некоторые едва умели читать и писать; послушав их, кто-нибудь из завзятых остряков, обожающих поразглагольствовать, ввернет шуточку, затем в беседу включается кто-нибудь помоложе, побойчее, с ним заспорит другой, третий, кто-то что-то спросит, после чего завязывается общая дискуссия — до глубокой ночи.
Политруку только этого и надо.
Он никогда или почти никогда не проводил обязательных политинформаций, передоверив это нехитрое дело замполитрука, гордившемуся своей «подкованностью», или командирам взводов. Сам же стремился помочь людям высказаться, облегчить душу, проверить свои раздумья в откровенной дружеской беседе — во время наших посиделок политрук никогда не прерывал говорившего и вообще старался ничем не выделяться среди шумевших в накуренной клетушке солдат. Правда, когда он входил, все вставали, но, в сущности, и это отличием не было; люди вставали не столько по обязанности, чтобы приветствовать старшего по званию, сколько из симпатии к Петру Ивановичу и уважения к нему. Надо было быть бревном, чтобы не почувствовать этого, да и сам политрук держался так, что каждый понимал: он не протестует против внешних знаков внимания, ибо все мы на военной службе, где так положено.
У меня сложилось впечатление, что Петр Иванович лишь в силу этой условности и носит военную форму, что на самом деле он никакой не командир, не армейский начальник, а просто призван представлять Советскую власть — ее мудрость, ее справедливость, ее демократизм — в условиях военного времени. Представлять и в нашей части, и в той местности, где мы дислоцировались. В деревнях он охотно помогал мирным жителям, если таковые имелись, советом и делом, а заметив на нашей вечерней беседе крестьян — они не менее солдат нуждались и в сапожнике, и в дружеском участии, — обращался по преимуществу к ним. Он считал, что коммунист должен иметь мужество отвечать за все происходящее, и никогда не уклонялся от ответов на заковыристые вопросы, которые так любят задавать в сельской местности с самым невинным видом; в первые месяцы войны таких вопросов было предостаточно.
Случалось, наши беседы заканчивала гармошка.
Полюбила лейтенанта, а попался рядовой! Распустил свои обмотки, я запуталась ногой…Пели песни, а то и танцевали, если на огонек забредали наши телефонистки, телеграфистки с узла связи, кто-нибудь из госпиталя, с полевой почты, с поста воздушного наблюдения, местные девчата. Пока гармонист (когда наш взвод обслуживал в очередной раз «штабной» участок и мне приходилось выступать в этой роли) жарил польки и тустепы, каждый думал сам за себя и устраивался, как мог. Когда же начинала зарождаться общая пляска — цыганочка, барыня, русский, — без Петра Ивановича дело шло обычно туго, а он, как на грех, плясать не умел.
Будучи твердо уверен, однако, что политрук должен уметь решительно все, и зная по опыту: его дело только начать, — он никогда не отказывался. Выходил на круг, старательно приглаживал двумя руками начинавшие редеть, но все еще упрямо топорщившиеся волосы, затем так же, двумя руками, расправлял складки на гимнастерке, оставив одну руку на поясе и вроде как подбоченясь, смущенно улыбался — извините, дескать, как могу, — почему-то откашливался и принимался бочком, бочком подпрыгивать на месте в такт музыке, смешно дрыгая ногами. Не торопясь, продвигался к центру круга, и, когда непосвященные думали, что вот теперь-то он и разойдется, Петр Иванович круто сворачивал к заранее намеченной жертве — осечек не бывало, он всегда доподлинно знал, кто умеет плясать — подмигивал разгадавшему его хитрость солдату, подпрыгивал перед ним несколько раз, что означало приглашение на танец, затем освобождал ему место, а сам смешивался с толпой и долго отфыркивался где-нибудь в углу.
Его дело было сделано, общая пляска началась.
Понимал ли он, что пляска обладает удивительным свойством сплачивать людей — хоть прямо в бой, — или действовал инстинктивно? Первый раз я увидел его пляшущим в Бронницах, под Новгородом, в невыносимо тяжелый день, в перерыв между двумя массированными налетами немецкой авиации на наш участок. Шел дождь, голова Петра Ивановича была перевязана после только что полученной контузии, на лице — смазанная йодом большая царапина, само лицо напряжено до крайности, а он, окруженный бойцами, сосредоточенно и долго плясал, неожиданно тяжело топоча по мокрой траве маленькими ножками в измазанных глиной, но не потерявших своего изящества хромовых сапогах.
Этот день запомнился мне и по другой причине. Когда утром, во время первого налета, мы бросились восстанавливать только что нанесенные линии разрушения, к участку моего отделения подъехал Петр Иванович и, желая выяснить обстановку, приказал мне вызвать ближайший узел связи по нашему аварийному телефону, подключенному прямо к линии. Разговаривая, он стоял, выпрямившись во весь рост, хотя немцы продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов скопление орудий, машин, повозок на дороге и нас заодно. Ему было бы спокойнее присесть на землю, а то оттащить аппарат в придорожную канаву и укрыться там самому — длина провода позволяла это.
Что это — форс? (Словечко «форсить» тоже было в моде в довоенные годы.) Залихватское молодечество, которое я, начитавшись книг о подлинности человеческих взаимоотношений, успел возненавидеть, а наглядевшись на «службистов» в мирное время, возненавидел вдвойне?
Как бы там ни было, но, посмотрев много раз «Чапаева», я твердо знал, что командир не должен лезть на рожон и что ему можно и даже должно об этом напомнить. Подбежав к Петру Ивановичу, я предложил перенести телефон. Политрук едва заметно улыбнулся, покачал головой и, продолжая кричать в трубку, показал глазами наверх. Сперва я подумал, что он имеет в виду вражеские самолеты, и с обычной для юности назидательностью собирался ответить, что потому-то я и предлагаю… Потом поднял голову и понял, что Петр Иванович указывал на одного из бойцов, — стоя на столбе, он закреплял на изоляторе металлический провод.
Боец был метра на три ближе к самолетам, утюжившим дорогу на бреющем полете, он никуда не мог укрыться от пуль, а упади рядом бомба, его непременно сбросило бы взрывной волной или прошило осколками — от фугаски они раскаленным веером идут вверх. Повиснув в воздухе на монтерских когтях и поясе, он там р а б о т а л.
Все это я превосходно знал и раньше, и не мог не знать, ибо сам неоднократно точно так же, под обстрелом, торчал на столбе. Но я не умел еще соотнести самочувствие человека там, наверху, с тем, что делает в это время его командир, считал, что, если все мы — на столбах, а командир — в кювете, это нормально: зачем же и ему рисковать собой, когда он может спокойно этого не делать?
Начиная с того дня или того часа я особенно тщательно старался не отделять свою судьбу от судьбы солдат моего отделения, потом взвода. Это получалось у меня не всегда, а если получалось, то, как правило, далеко не так органично, как у политрука. Но я заметил, что каждый раз, как мне нечто подобное удавалось, возрастало доверие ко мне солдат, — значит, и я мог более спокойно на них положиться. Взвод обслуживал целую трассу, люди жили разбросанными вдоль линии группками, — без взаимного доверия мы не смогли бы ничего.
Но политрук умел не только доверять людям. Он обучал нас и великому искусству заботиться о других, своих товарищах-подчиненных, поощрять их, помогать им в большом и малом, и всегда — всерьез, как если бы речь шла о близком человеке. Тем и запомнились многим воевавшим военные годы, что тогда вдруг оказались ненужными многие необычайно опасные для подлинного гуманизма грани, в том числе грань между своим, родным — и чужим, быть может, самая «естественная», а потому самая опасная из всех.
Сколько перевидал я командиров, да и политработников тоже, привычно прикрывавших «уставной» заботливостью глубочайшее равнодушие к судьбе своих подчиненных. Петр Иванович, не переносивший ни малейшей фальсификации — здесь тоже сказалась его рабочая закалка, — настойчиво стремился дойти до сердца каждого солдата. И был прав, разумеется: ничто так не побуждает к самоотдаче, как устойчивость внутреннего мира.
Если комроты не различал одиночек в отлично выровнявшемся строю отделения или взвода и не стремился к этому, если он воспринимал подразделение лишь как единицу, способную или неспособную выполнить данное задание, — политрук ни на секунду не забывал, что и второе, и третье, и первое отделение этого взвода состоит из людей, у каждого из которых — свое имя и своя судьба.
На летучках в штабе краска стыда не раз заливала лицо очередного взводного — мое в том числе, — понятия не имевшего о том, что у одного из его солдат скончалась на родине мать, или убили где-то на другом фронте брата, или сына, или… Политрук, находивший время сообщить об этом и призвать в с е х командиров быть к этому человеку особо внимательными, постепенно приучил нас считать беду каждого — общей бедой.
Нет, не молодечество воспитывал он в нас; деловито и последовательно он демонстрировал нам величие простого чуда взаимопонимания двух людей, часто — едва знакомых.
Он стремился лично побеседовать с каждым солдатом, прибывшим на пополнение, побеседовать неторопливо, обстоятельно, и сделать все, что в его силах, чтобы новичок побыстрее почувствовал себя в нашей роте дома, ну и овладел спецификой нашей боевой работы.
Он принимал и устраивал первых девушек-телефонисток, налаживал их быт, помогал, как мог, войти в армейское житье, был их исповедником, когда в этом оказывалась необходимость, не забывая подсказывать кое-что и командирам, в подчинении у которых неожиданно оказались существа, вносившие в военные будни полузабытый аромат мирного времени. Отлично помню, какая паника охватила меня, когда первые две девушки прибыли в мой взвод; в свои двадцать с чем-то лет я ощутил себя отцом, взрослые дочери которого окружены толпой достаточно энергичных поклонников…
Политрук всегда был с теми, кто оказался на наиболее ответственном, наиболее опасном участке.
…На фронте полнейшее затишье, ничто не предвещает перемен, а политрук, ни с того ни с сего, звонит с отдаленного контрольного поста твоего взвода, где он, оказывается, находится уже чуть ли не сутки, запретив сержанту докладывать тебе о своем приезде.
— Давай-ка посоветуемся, взводный, — говорит Петр Иванович тихим, с легкой хрипотцой голосом. — Как думаешь, не стоит ли нам с тобой…
Слушаешь, а самому боязно, что он найдет там — уже нашел, конечно! — уйму недоделок, упущений… И начинаешь лихорадочно соображать, какие меры следует принять, чтобы укрепить это направление, — не зря же политрук там появился! — и как организовать работу так, чтобы побыстрее вырваться туда самому… И чувство уверенности за становящийся главным участок, радостное чувство уверенности охватывает тебя: словно подставив плечо под тяжкую ношу, Петр Иванович добровольно разделяет с тобой ответственность, видя там, на месте, многое, чего тебе за пятьдесят километров разглядеть невозможно.
А ответственность у нас, в свя́зи высокого подчинения, была немалая, и разделить ее со старшим товарищем, особенно в период активных боевых действий, было ох как приятно. Связь с генеральным штабом обеспечивали, правда, специальные линии, так называемые «ВЧ» и специальные подразделения — у них даже канты на петлицах были другого цвета, чем у нас, — но и командующий фронтом обладал властью вполне достаточной, чтобы сурово покарать офицера, по вине которого оказалась нарушенной стройная система связи сверху донизу…
На моей памяти политрук ни разу не поколебался взять на себя ответственность — и за выполнение боевой задачи, и если судьба солдата или офицера его роты требовала экстренных решений. Он шел подчас даже на то, чтобы, в случае исключительном, использовать наше положение отдельной роты и отпустить человека на несколько дней домой — разумеется, если обстановка на нашем участке фронта позволяла это.
Он дал краткосрочный отпуск и мне, в ноябре сорок второго года, чтобы съездить к тяжело заболевшей матери в осажденный Ленинград; отпуск был оформлен как командировка, иначе никто не пустил бы меня на последний буксир, старательно тыкавшийся то носом, то бортами в метавшиеся по Ладоге льдины.
Причем Петр Иванович не только сразу же, не колеблясь, согласился отпустить меня, когда представилась оказия — в то время он исполнял обязанности командира роты, — не только вызвал тут же кладовщика и попросил его учесть, к у д а я еду, но первым принес мне свой доппаек, в том числе табак на десять дней вперед, а курильщик он был страстный.
Главное, он сделал это вовсе не потому, что мы были с ним особенно близки — отношения между нами были самые обыкновенные, он сделал бы это для к а ж д о г о командира, к а ж д о г о солдата.
Не следует только думать, что политрук был добреньким; с подхалимами и любителями легкой жизни он бывал суров. Командир роты, накричав на нерадивого, мог тут же забыть его проступок — достаточно было прикинуться усердным. Никогда не кричавший на подчиненных политрук не скоро прощал простую небрежность, не говоря уж о малейшем нарушении воинского долга, — в этом он совершенно неожиданно для меня солидаризировался с моей матерью, хотя трудно себе представить людей более разных. Проверок, как правило, он не устраивал — верил на слово, — но уж если кто обманывал его доверие…
Однажды вечером, приняв от меня по телефону очередной рапорт о состоянии дел за сутки на участке взвода, он, вздохнув, сказал:
— Завтра к тебе прибудет Владыкин.
Я удивился. Владыкин был поваром ротного штаба. Он носил лычки сержанта и готовил для рядовых, находившихся при штабе, и, отдельно, для начальства. Готовил, надо сказать, не так уж и плохо.
— На кой он мне, товарищ капитан?
— Ты жаловался, что людей не хватает?
— Так точно.
— Вот и получай пополнение.
— Да зачем мне повар?
— Почему обязательно повар? Он — связист. Ты его на линию пошли. Да туда, где посложнее, поопаснее… А то он тут заелся у нас, в подхалима превратился окончательно.
Такое за Владыкиным водилось. Все знали: чтобы угодить начальству, он из кожи вон вылезет, причем исключительно по собственной инициативе.
— Как же вы там? Кто готовить станет?
— Обойдемся как-нибудь, — вздохнул политрук, поесть он как раз был не прочь. — Понимаешь, иначе нельзя. Солдаты им недовольны, и не зря… Только ты, гляди, не вздумай его при себе держать. Прямо на линию — шагом марш. Чтобы он понял, как у нас люди работают — и как о них заботиться надо.
— Есть…
— Я ведь к тебе почему посылаю? — помолчав, спросил Петр Иванович; он любил строить беседу на вопросах и ответах. — Потому, что ты ему спуску не дашь. Верно?
— Верно…
На следующий день Владыкин тут как тут. Его изнеженная, почти женская фигура, полная, с широкими бедрами и круглым брюшком, сгибалась под тяжестью чемоданчика, туго набитого вещмешка, шинели, винтовки, глаза излучали преданность и радость от встречи со мной: я был не только его новым командиром, но и земляком к тому же. Не было сомнения, что Владыкин твердо рассчитывал и здесь стать поваром, кашеваром или, на худой конец, чем-то вроде ординарца при взводном.
Собиравшиеся на линию солдаты хмуро на него поглядывали.
Конечно, я, как и все мы, относился к Повару не как к простому смертному. Чего греха таить: в моих обращениях к тому же Владыкину проскальзывали, бывало, и заискивающие нотки. Я вечно ходил голодным, а в военное время в этом смысле ты целиком зависишь от того, какую порцию выудит для тебя из котла сегодня все та же поварская рука. К тому же я понимал, что «ссылка» Владыкина — дело временное и что в самом недалеком будущем мы с ним вполне можем еще раз поменяться ролями и зависимой стороной вновь окажусь я.
Но я прекрасно обходился без ординарцев, да и повар у нас имелся, очень толковый и обстоятельный ефрейтор из запасных — ребята звали его Папашей, — отлично совмещавший ведение нехитрого нашего хозяйства с дежурством на крошечном «узле связи», где в особо напряженные дни он оставался один.
Наконец, я получил прямое приказание политрука; я и вообще-то, приняв приказание, выполнял его (если были основания не выполнять, пытался отбояриться заранее), а уж слово Петра Ивановича всегда было для меня законом.
Поручив сержанту дать Владыкину задание, я и сам проследил, чтобы его как следует взяли в работу и никаких поблажек не делали. Может, сказалась извечная нелюбовь строевиков к «штабным», может, и то, что Владыкин, как и каждый подхалим, бывал несправедлив к рядовым и обделял их, бывало, но мои ребята отыгрались на бедняге так старательно, хоть и в пределах нормы, что недели через три человека стало не узнать. Подтянулся, отощал, помолодел, глаза засверкали хорошей злостью; он понял, что шутки плохи, и старался изо всех сил. Офицерские сапоги, в которых Владыкин прибыл к нам, развалились, не выдержав болот и бездорожья, я приказал Папаше выдать ему из нашего взводного резерва ботинки с обмотками — в них легче ходить по пересеченной местности на дальние расстояния.
— Это не по паркету шаркать, — проворчал Папаша в ответ, но ботинки выдал.
С хождением Владыкина на линию связано одно решительно анекдотическое обстоятельство, в очередной раз заставившее меня подивиться нарочитости жизненных ситуаций. Выяснив, что ему предстоит сделаться линейщиком, Владыкин заявил мне, что у него плоскостопие и что далеко от «дома» он забираться никак не может.
Конечно, я мигом вспомнил собственное плоскостопие, свои жалобные рапорты и фыркнул.
Никак не ожидавший такого жестокосердия, Владыкин с недоумением на меня уставился, а я, сдерживаясь, но продолжая в душе смеяться, разъяснил ему, что ничего поделать не могу: людей мало, участок огромный, вот он сам увидит, да и прислан он сюда именно как линейный обходчик.
Первые дни, вернувшись на пост, Владыкин с мученическим видом держал ноги в тазу с водой. Потом перестал.
Словом, когда еще дней десять спустя политрук запросил меня, как там Владыкин, я, не кривя душой, дал самый лучший отзыв.
— Вот-вот, — сказал Петр Иванович донельзя довольным голосом, — спасибо тебе, Васенька, если ты из него человека сделал. Присылай обратно, а то нас тут кормят черт знает чем…
Владыкин радостно убыл, жалоб на него больше не поступало, а когда я оказывался в штабе, он особенно охотно кормил меня — не как очередного начальничка, как товарища по боевой работе.
Один-единственный раз за всю войну политрук потребовал действительно строгого, «уставного» наказания — «на всю железку» или «на всю катушку», говорили связисты. В сложной боевой обстановке, в дни первого неумелого еще наступления, один из шоферов, любимчик командира роты, отказался везти солдат на разрушенный артиллерией участок. Правда, у шофера на самом колене выскочил огромный фурункул, и каждый раз, нажимая на педаль, он вскрикивал от резкой боли, но ни второй машины, ни другого водителя в наличии не было. Ребята потащились по бревенчатому «паркету» пешком, сгибаясь под тяжестью нескольких бухт провода, арматуры, инструмента, и связь дали с солидным опозданием.
Водителю был отдан приказ, он отказался приказ выполнить, и все же главное, почему политрук настоял на передаче дела в трибунал, заключалось, я уверен, вот в чем: разрушенный участок находился в зоне интенсивного артиллерийского обстрела, а шофер был уже не единожды уличен в трусости. Петр Иванович не верил ему, считал, что с него может взять пример и еще кто-нибудь из наших новичков, и был неумолим, хотя комроты пытался отвести удар от «своего личного водителя».
Неумолим… Это он-то, так болевший душой за каждого, кого мы теряли.
Еще в сорок первом году случилась у нас одна история, которой суждено было заполнить самую трагическую страницу в летописи нашей небольшой части.
Если под Новгородом противник был остановлен, то севернее он продолжал продвигаться вперед, и наступил день, когда оказалась утерянной связь с нашим соседом справа. Было предложено немедля послать взвод связистов на двух машинах — восстановить проводную связь. Предполагалось, что вся операция пройдет в полосе армейского тыла; собирались чуть ли не по тревоге, поехали налегке, вооружение было обычное: карабины, ручные гранаты, один или два ручных пулемета.
Я так хорошо знаю все это потому, что взвод был выделен наш. Он был полностью укомплектован, командовал им опытный офицер, награжденный за финскую кампанию орденом, помощником командира был тот самый сержант Власов, который так демократично и так толково воспитывал нас в полковой школе и с которым Петр Иванович, никогда не имевший своих любимчиков и не жаловавший чужих, был в особо дружеских отношениях.
Политрук лично проверил и напутствовал наш взвод перед отправкой, и мне не то чтобы завидно, а как-то грустно стало, когда он пожал Власову на прощание руку, а мне не пожал, — не забудьте, я был тогда еще командиром отделения.
Проехав немного по шоссе Москва — Ленинград, мы свернули на живописно вьющийся вдоль Мсты проселок; узкий, пыльный, он и сейчас обозначен на карте такой тонюсенькой полоской, что ехать по нему нет никакой охоты.
К середине дня мы наткнулись на брошенную гражданскими связистами деревенскую почту и обнаружили, что на участке до нашего узла связь работает нормально. С той стороны трубку почти сразу взял Петр Иванович. О чем он говорил с командиром взвода, я не знаю, но, кончив разговор, лейтенант собрал младших командиров и объявил, что взвод без остановки проследует дальше, а здесь будет оставлен первый промежуточный контрольный пост — сержант и два солдата.
Внимательно и как-то задумчиво окинув нас взглядом, он исподлобья взглянул на меня, представлявшего собой фигуру и колоритную, и жалобную: меня уже третий день трясла лихорадка, подцепленная в волховских болотах, ходил я злой, небритый, кутался в наброшенную на плечи шинель.
— Вот ты и оставайся, Вася, занимай оборону, — после небольшой паузы сказал лейтенант.
Торчать в пустой деревне, ничего не зная о противнике, смертельно не хотелось — я побывал уже в таком положении и понимал, что ничего хорошего оно нам не сулит. Было боязно отрываться от товарищей, не хотелось оставлять, хоть и временно, свое отделение, и вообще, когда тебя выводят из общего строя, это всегда неприятно.
Спорить, однако, не приходилось; лейтенант этого терпеть не мог, и я, между прочим, тоже.
— Есть, — пробурчал я мрачно.
Казалось, командир взвода разделяет мои опасения и тоже считает, что, оставляя нас здесь, подвергает опасности; давая мне, уже наедине, последние указания, он был словоохотлив и мягок, чего за ним не водилось, да и по имени он в обычной обстановке никого не называл. Он даже стал объяснять, почему никак нельзя увеличить численность нашего поста, хотя я его, конечно, об этом не просил.
Все так же мрачно произнес я фамилии двух солдат, которым надлежало остаться, — откуда мог я знать, что тем самым спасаю им жизнь? Мы сняли с машины телефонный аппарат, «когти» с поясом, карабины, вещмешки, попрощались с ребятами, глядевшими на нас с несомненным сочувствием, и побрели в дом. А они уехали.
У входа на почту я оглянулся.
Несколько жизней прожито с того дня, а я до сих пор вижу на фоне заката облако пыли от первой машины и облупленный задний борт второй; над бортом возвышаются какие-то фигуры, лиц я не различаю.
Больше о наших товарищах никто ничего не слыхал. Никто из связистов Северо-Западного, Волховского и даже Ленинградского фронтов не мог ответить на продолжавшиеся не одну неделю наши расспросы. А спрашивали мы всех подряд, никого не пропуская, а знают связисты все на свете…
Первые часы они время от времени подключались к линии, и я немедленно докладывал об этом в штаб, причем всякий раз обнаруживал на другом конце провода политрука, — тут-то я и понял, что поездочка была нешуточная. Но вот связь с ними прекратилась, и тогда Петр Иванович сам стал теребить нас.
Что могли мы ответить?
Один из нас неотлучно сидел у телефона; не полагаясь на аппарат — при плохом состоянии проводов сигнал мог сработать совсем неслышно, — мы то и дело подносили трубку к уху, нажимали клапан и слушали, слушали линию.
Линия молчала.
Наступил вечер, стемнело. Мы притащили дров, затопили печку, закрылись, приперли дверь какой-то рухлядью и сидели с коптилкой у телефона — трое юношей, вооруженных карабинами. Нам было жутко одним, в брошенной деревне, нас угнетала мысль о случившейся с товарищами беде — раз связист не включается в линию, значит, с ним что-то неладно, — мы были потрясены тем, как случайно избежали их участи мы сами.
Избежали? А что, если противник сейчас, по этой самой дороге… Серьезного сопротивления мы, конечно, оказать не могли бы, так же как не могли и оставить свой пост. Единственным островком надежды оставался телефон — там, в штабе, на другом конце провода, у другого такого же аппарата, неотлучно находился наш политрук.
Как рассказывали потом ребята, Петр Иванович не выпускал трубки из рук. Он перезвонил всем своим друзьям, всем непосредственным начальникам в штабах и политотделах, он поднял ночью самого начсвязи фронта, имя которого мы всуе избегали произносить, он дозвонился не только до штаба армии, действовавшей на нашем правом фланге, но чуть ли не до командира полка, находившегося где-то на том направлении, куда был послан наш взвод.
Он просил, он требовал, он умолял сделать что-нибудь для людей, отправленных им на задание. Обстановка была такова, что, искренне того желая, взводу никто помочь не мог.
Так продолжалось еще день и еще ночь. Мы обжились на почте, осмелели, накопали картошки, а политрук все требовал от нас регулярно включаться в линию, подбадривал. Спал ли он вообще в эти черные часы?
На третьи сутки он приехал за нами на полуторке — бледный, осунувшийся, постаревший, злой. Прервал мой рапорт, включился в линию и долго вслушивался в ее безмолвие. Потом положил трубку и сидел молча, одинокий, несчастный. Есть отказался, курил и о чем-то своем думал.
А потом мы уехали из этой деревни, сдав почту со всем оборудованием взводу связи передислоцировавшейся сюда части.
Когда не осталось больше сомнений в том, что наши товарищи или погибли, или попали в плен, и был отдан приказ считать их пропавшими без вести, нам пришлось сообщить об этом их семьям. В каждый конверт — я собственноручно их клеил, мы не хотели посылать треуголки, — в каждый конверт кроме официального извещения легло написанное Петром Ивановичем короткое письмо; не слишком гладкое по оборотам, но необычайно конкретное, не казенное, искреннее.
Он писал эти письма медленно, по ночам.
Несколько ночей подряд.
Я очень надеюсь, что внуки сержанта Власова еще берегут письмо политрука. Хотя — как знать…
И в дальнейшем Петр Иванович по возможности сам писал родным погибшего товарища, величая их по имени-отчеству, если таковые были известны; на многие письма он получал ответы.
Так понимал свой долг наш современник, надевший военную форму, чтобы вести за собой сотню людей, бесконечно разных по возрасту да и по всяким другим приметам, также надевших гимнастерки и взявших в руки оружие, чтобы защитить свою Родину от врага.
Сотня — много это, мало ли?
Так понимал свою задачу политического руководителя — ибо так расшифровывается короткое слово п о л и т р у к — человек, за которым мне в молодости захотелось пойти до конца.
РАЗЛУКА
Маргарита жила в Ленинграде, на Петроградской стороне, а практиковала на другом конце города.
Отдаленные кварталы Лиговки пользовались вплоть до войны недоброй славой. Здесь, в Ямской слободе и вокруг нее, весь прошлый век и начало нынешнего охотно селился разношерстный, грубоватый народ, промышлявший извозом, — от ломовых «гужбанов» до лихачей; обширные конюшни в лабиринте дворов вмещали сотни лошадей — конские головки на фронтонах сохранились кое-где и сейчас; надо полагать, пока Лиговка была каналом, поить все эти табуны было особенно удобно; телеги, сани, коляски, пролетки, фураж громоздились повсюду. В двадцатых годах, по мере вытеснения конной тяги автомашинами, часть извозчиков, закончив специально для них организованные курсы, переквалифицировалась в шоферов, другая — в грузчиков, ну, а кое-кто попросту спился, не выдержав натиска «технической революции» в любимом деле. Их бурно подраставшие детки, даже и распростившись с профессией отцов и дедов, считали чем-то вроде наследственного долга держать марку, оберегая прочно сложившиеся нравы этих мест, — более отчаянной шпаны в городе не было, и сказать о ком-нибудь «он (она) с Лиговки» означало дать человеку совершенно определенную и не слишком лестную характеристику.
Клиентуру Маргариты составляли по преимуществу взрослые дочери извозчиков и их жены, как оставшиеся домохозяйками, так и превратившиеся в те же двадцатые годы в работниц расположенных поблизости пищевых предприятий — поварих, уборщиц, сторожих, дворничих, кладовщиц, — на одной Витебской-Товарной склады тянулись километрами. Эти коренастые, полнотелые женщины, привыкшие к физическому труду, не умели сдерживать разнообразнейшие свои эмоции и отнюдь к этому не стремились, — поле деятельности для гинеколога было, практически, необозримым. Среди дочек попадались, правда, пациентки поизящнее и поопытнее — продавщицы, официантки, парикмахерши, а также девушки, не имевшие, так сказать, определенных занятий, но и это, целиком уже городское, поколение не было избаловано медицинским обслуживанием ни до революции, ни в первое десятилетие после.
Неудивительно, что весь этот окраинный контингент обращался к врачам как мог реже, но уж если необходимость загоняла все же такую бабенку в женскую консультацию, Маргарита могла быть уверена: ее предписания исполнят беспрекословно и тщательно. Чем крикливее была гражданочка на дворе, дома, на улице, в очереди, где она чувствовала себя как рыба в воде, тем тише и скромнее держалась она в поликлинике. Здесь был таинственный, высокоорганизованный, стерильный мир, вызывавший робость и почтение, и даже такая случайная, в сущности, деталь, как легкий южный акцент их докторши, воспринималась этими простыми душами едва ли не как свидетельство прочных знаний Маргариты, ее мудрости, заботливого, материнского к ним отношения, неким патентом, гарантирующим выздоровление тем, кто станет докторшу слушаться. Они верили Маргарите как оракулу, и даже ее ни с чем не сообразное, выглядевшее по тем временам диковатым, требование не носить нарушающих кровообращение круглых подвязок бедняжки честно старались выполнить всеми правдами и неправдами, хотя хлопот возникало немало: вечно отстающая легкая промышленность не успевала обеспечивать быстро множившиеся ряды горожанок достаточно удобными, прочными, изящными и гигиеническими тоже приспособлениями для крепления чулок.
У каждой эпохи свой дефицит.
Южный акцент объяснялся просто: Маргарита принадлежала к армянской семье, в конце прошлого века переселившейся из Нахичевани в Крым. Отец ее Георгий служил приказчиком в мануфактурной торговле, потом стал торговать «от себя» — вяло, помаленечку, без риска, без особого размаха, зато в полном соответствии с собственной натурой. Был Георгий рассудителен, не жаден, хоть своего не упускал, не суетлив; никогда ни на кого не повышал он голоса, вечно грустные глаза умоляли, казалось, окружающих жить в мире и согласии, не ссориться по пустякам, не терзать друг друга. Мягкость отца уравновешивалась, как это часто бывает, властностью матери, Елизаветы, — на ее долю приходилось все многоступенчатое домашнее хозяйство, пятеро детей, родня, приживалки, прислуга… Одних куличей в их симферопольском одноэтажном, но вместительном доме пекли на пасху столько, что приходилось приглашать на кухню дворника-татарина Ахмеда и мыть ему торжественно ноги, — Елизавета лично проверяла, чисто ли; ногами Ахмед замешивал тесто в огромной кадке — руками не получалось.
Масштабы…
Врачевала Маргарита действительно толково, литовские пациентки не зря проникались к ней доверием. Фундамент был заложен прочный — в одном из германских университетов, куда отправил дочку отец; естественным наукам, да еще философии, в Германии в то время учили лучше, чем где бы то ни было. А уж практика… Едва закончив курс, Маргарита попала на фронт первой мировой войны, в Галицию. Поработала медсестрой, потом пришлось перебрать чуть ли не все медицинские специальности, так что, вернувшись в Крым, она внезапно оказалась одним из самых заметных в Симферополе молодых врачей.
Медаль «За храбрость» за номером 974 603 она бережно хранила до самой смерти.
В годы гражданской в Крым попутным ветром занесло нескольких представителей когорты латышей, своей энергией, стойкостью, неподкупностью, фанатической верностью идеалам и присяге так своевременно и так основательно поддержавших молодую советскую власть. Роман одного из латышей с Маргаритой, официально, впрочем, зарегистрированный, длился недолго — в семье остались смутные воспоминания о гладко выбритой голове новоявленного зятя, его потрясающей аккуратности, а также о непривычном для южных ушей специфическом произношении русских слов. Потом Карлуша исчез так же внезапно, как и появился, а Маргарита в ноябре двадцать первого года родила сына.
Когда мать и сын стали совершать первые прогулки по бульвару, и сейчас еще вытянутому вдоль улицы, где некогда стоял дом Георгия, сидевшие на лавочках старухи дружно ахали: рядом с чернявой армяночкой, каких в Симферополе пруд пруди, ковылял вылитый ангелочек — златокудрый малютка с ослепительно белой кожей и голубыми глазами.
Контрасты…
Давненько это было. Вслед за умершим еще в войну Георгием, в двадцать четвертом году скончалась Елизавета, остатки семьи немедленно рассыпались кто куда, и Маргарита с сыном уехали в Ленинград. С этим городом связывались когда-то вершинки самых пламенных ее мечтаний, — теперь представлялся случай исполнить мечту, и Маргарита не раскаялась в своем выборе. Даже покинув, в конце жизни, «северную Пальмиру», она, невзирая на все, там пережитое, сохранила горячую симпатию к городу, среди великих страданий и мук сумевшему каким-то чудом не подавить, а очистить, поддержать, укрепить лучшие качества ее души.
Так ей казалось во всяком случае.
Она спокойно подняла в одиночку сына. Женщина самостоятельная, Маргарита выбирала друга сердца долго и осмотрительно, среди людей солидных, не склонных к крайностям, и выбрала человека, не только составлявшего ей приятную компанию и практически помогавшего ее вдовьей судьбе, но и никогда не докучавшего мальчику.
Сын радовал ее. Хорошо учился, и не просто хорошо, а был все школьные годы устойчивым отличником. Стал комсомольцем. Успешно занимался спортом, много читал, играл в шахматы, увлекался фотографией, — его снимок, девять на двенадцать: мать в рабочем кабинете в консультации, в белом халате, на фоне плаката со все тем же призывом не носить круглых подвязок, собственноручно сыном изготовленный, обошел всю родню, — словом, вырос здоровым физически и духовно, выдержанным, скромным, но не сомневающимся в своих возможностях юношей, каких немало встречалось в поколении, кончившем школу в тридцать восьмом, тридцать девятом, сороковом и сорок первом годах.
Надежные были ребятки…
Темпераментом сын пошел, скорее, в отца: он и брался за все, что делал, так же основательно и дотошно, и волосы, как и отец, стал терять уже в старших классах школы, в результате чего часто стригся под машинку. Это не уродовало его внешность, как бывает сплошь да рядом, а лишь еще глубже вскрывало добрые качества его натуры и придавало лицу известное своеобразие — примерно так же многим современным молодым людям придает своеобразие совершенно невозможная в тридцатые годы бородка, нередко скрадывающая безволие их черт. Он пользовался успехом у девушек, но, как многие его сверстники, считал, что в этом деле слишком уж легко поскользнуться, и сдерживал себя всячески; он ухаживал за девушками, сопровождал их на каток, на танцы, в кино, в театр, был непременным участником всех школьных и домашних вечеринок и целовался там от души, но ни одну из своих подруг не сделал несчастной.
Кончив школу, сын поступил на один специальный технический факультет, — этим объяснялось, что он не был призван в армию в сороковом году, когда отменили отсрочки: профессия, которой он успешно овладевал, и так была полувоенной.
К началу войны сын как раз кончил три курса, и его, одного из лучших студентов, направили не в обычную воинскую часть, а в военную академию. В ускоренном порядке завершив учебу, он получил назначение в действующую армию — и сразу же, через какой-то месяц, в тихий, без единого выстрела день, в начале апреля сорок третьего года, нелепо погиб на Брянском фронте…
Самые страшные месяцы блокады Маргарита перенесла лучше, чем многие ленинградцы, и вовсе не потому, что как-то ловчила, чего-то избегала, куда-то пряталась.
Скорее, наоборот.
Что же — судьба такая?
Может, судьба, может, повезло кое в чем. А может быть, фронтовая юность Маргариты и нелегкая, в общем-то, жизнь г л а в ы с е м ь и послужили для нее неплохой закалкой; да и в детстве, и в отрочестве мать воспитывала Маргариту и ее сестер не белоручками, никак не белоручками.
Первые два месяца войны ничего не изменили в ее жизни, и лишь в самом конце августа, когда сын уехал куда-то на Урал, а над городом нависла угроза чего-то неведомого, но зловещего, Маргарита перебралась с Петроградской стороны к младшей сестре Валентине, занимавшей двухкомнатную квартиру на Фонтанке, наискосок от цирка; с Валей жила шестидесятилетняя няня ее сына, находившегося в армии.
Устроив военный совет и обсудив ситуацию, все три женщины твердо решили из города не выезжать. Такова была их собственная исходная позиция в борьбе с врагом, отлично знакомым — они так думали! — по прошлой войне, по оккупации Украины в восемнадцатом году, которую Валя пережила в Киеве. Никаких иллюзий относительно того, что несут с собой лавиной катившиеся к городу полчища, у них не было, но ни эвакуироваться, ни паниковать и бежать куда-то они не собирались.
Немцы и немцы… Мало кто в городе понимал всю серьезность предстоявшего испытания, да и кому в голову могло прийти, что Гитлер намерен стереть Ленинград, как и Москву, с лица Земли? Немцы и немцы — видали мы таких…
Любой мальчишка и любая девчонка их поколения распевали сами или хотя бы слышали песенку:
Немец, перец, колбаса, кислая капуста. Съел мышонка без хвоста, и сказал, что вкусно!..Да и вообще, в России, чуть ли не со времен Ивана Грозного, этих немцев толклось… И, хоть натерпелись от немчуры изрядно, в народе было принято относиться к ним иронически; ценили лишь первоклассных мастеров своего дела — инженеров, техников, врачей, аптекарей, часовщиков. А так…
Как известно, ирония часто помогает выстоять.
Решимость не отступать — тоже.
Кроме того, что она была теперь не одинока, Маргарита, переехав, приобрела немало других преимуществ. Ее новое жилище располагалось намного ближе к работе, главное, через Неву не надо было перебираться. Вода плескалась рядышком, в Фонтанке: два с половиной лестничных марша вниз, полсотни метров до ворот, еще сотня — до спуска в гранитной облицовке; столько же назад. Плохонькая Валина квартирка с низкими потолками, крошечными окошками, спрятавшаяся в глубине второго двора, гораздо больше подходила для жизни в осаде, под обстрелом, чем две просторные комнаты Маргариты с огромными окнами и широким коридором. Помимо прочего, здесь было несравненно теплее — натопить зимой легче. К тому же, у запасливой Вали — совершенно так же, как у их маменьки когда-то, — более полугода подсыхали в сарае дрова: Валя имела редкостное обыкновение покупать их не перед началом нового отопительного сезона, а в конце предыдущего, иными словами, не осенью, а весной, в сорок первом году такая предусмотрительность принесла колоссальный выигрыш. Сестры, уже вместе, прикупили еще дров, сколько успели и смогли, в том числе у решивших эвакуироваться соседей; была приобретена также великолепная самозатачивающаяся пила с тонким, сверхпрочным фигурным лезвием на металлической дуговой ручке — пилить ею можно было и вдвоем, и в одиночку…
Так, еще задолго до наступления морозов, в этом узелке сопротивления — фашистской армии и смерти — была решена топливная проблема; едва ли не полдела было сделано.
Не была обузой и старушка няня; с началом войны она поступила уборщицей в трамвайный павильон и получала там, как и сестры, рабочую карточку — это тоже кое-что решало. Но, главное, она превосходно умела готовить из ничего нечто. Няня стряпала и следила за тем, чтобы жилая часть квартиры содержалась так же опрятно, как и всегда; спали три женщины в одной комнате, посреди которой стояла «буржуйка», в проходной кухоньке-прихожей, в углу, была оборудована ванная, вторую комнату и коридор плотно закрыли.
Они не ждали чуда, но и не отчаивались. Им в голову не приходило, что может наступить момент, когда они потеряют вдруг привычный облик, всегдашнее свое достоинство, — они попросту не задумывались над возможностью «переродиться». И в октябре, и в ноябре, и в декабре сорок первого, и в январе, и в феврале сорок второго они продолжали жить и трудиться, как делали это всегда. У каждой была длинная, хорошо простеганная телогрейка с большими карманами — Валя сшила, она была мастерица на все руки. Был один на всех фонарик с аккумуляторной батарейкой в кожаной сумочке; к ремню была прилажена лампочка с небольшим рефлектором — руки оставались свободными…
Каждая дополняла усилия других. Если няня выстаивала часами в очередях — когда перестали ходить трамваи, ей разрешали и с работы отлучаться, даже поощряли: она занимала очередь на нескольких товарок сразу, — сестры пилили и кололи дрова, топили печурку, носили из Фонтанки воду, столько, чтобы можно было мыться каждый день, и пол протереть, и изредка устроить что-то вроде бани. В их крошечном коллективе не оказалось ни избранных, ни избалованных, ни нерешительных и бестолковых; предположить, что кто-то из них мог, скажем, потерять продовольственные карточки — обычное начало многих бед, — было как-то странно, не сходилось, не совпадало; никого не надо было ни понукать, ни упрекать, ни проверять, ни упрашивать.
Все эти обстоятельства или все эти факторы — чего тут было больше: везенья, воспитания, характера, привычки к определенному уровню, укладу жизни? — оказались в условиях блокады необычайно важными, ж и з н е н н о важными, а их соединение в одной ячейке дало сплав, прочность которого, как выяснилось, могло преодолеть только прямое попадание.
И все же первостепенную роль в их спасении сыграло, разумеется, то, что они не голодали. Ели мало, непривычно мало, недостаточно; все трое исхудали, стали меньше ростом, осунулись — а были в мирное время склонны к полноте. Но в буквальном смысле слова они не голодали, не пухли от голода, от попыток заглушить голод водой, хотя никто из них не принадлежал к числу тех, кому даже в дни блокады полагалось дополнительное, усиленное или льготное питание.
Положено… Не положено…
Их небольшое хозяйство умело вела няня, поголодавшая уже в годы гражданской войны в Крыму, привыкшая экономить самым скрупулезным образом; и в мирное время не было случая, чтобы она оставила гореть лампочку в пустой комнате или в коридоре, чтобы выбросила пергамент от масла или маргарина и не выскребла его тщательно ножом, чтобы потратила новую спичку, зажигая вторую керосинку, — ведь можно «прикурить» от огня уже использованной…
Приученная судьбой к тому, чтобы никогда не оставаться без некоторого, пусть минимального, запаса продовольствия — неизвестно, окажется ли завтра что-нибудь в магазине, — няня успела закупить кое-какие продукты, едва только было объявлено о начале военных действий, то есть в те дни, когда многие жили еще иллюзиями о молниеносной победе. Валентина посмеивалась, но и ворчала: няня упорно тратила все, до копейки, деньги, попадавшие ей в руки, покупая то, что еще продавалось в магазинах свободно, — остатки крупы, лежалые консервы из крабов, концентраты киселей и супов с давно закончившимся сроком хранения, сухую горчицу… Когда исчезло и это, она стала заходить каждый день на рынок и, торгуясь без конца, покупала по диким ценам то шматочек сала, то малую горсточку сухих грибов, то шиповника… В общем и целом вышло не так уж и много — как всегда, финансы подвели, — но и это скромное подспорье няня растягивала, как могла, не давая поблажек ни себе, ни другим. Сушила сухари, подбирая каждую корочку и дома, и на работе.
Ценность ее ухищрений сказалась в полной мере лишь когда пришли черные дни, и были они такими черными, эти бесконечные дни, что «подруги» едва ли сумели бы все же т а к продержаться, не будь у одной из них, у Маргариты, поистине бесценной профессии. Ибо женщины продолжают жить любовью, и дышать любовью, и искать любви в самых неподходящих обстоятельствах… Им все нипочем. Но любовь любовью, а вот, скажем, рожать в блокадных условиях или мучиться женскими болезнями — перспектива испытать на себе эту оборотную сторону медали приводила в трепет самых отчаянных.
Прекрасно понимая, что их здоровье, да и сама жизнь зависят от того, насколько крепкой будет рука их докторши, пациентки берегли Маргариту. В те дни беречь — означало подкормить. И вот тут сказала свое веское слово специфика «лиговской» клиентуры: причастность к складам, продмагам, булочным, столовым позволяла Маргаритиным пациенткам не только самим чувствовать себя более крепкими физически — и более ж е н щ и н а м и, — чем многие из тех, кого они обслуживали, но и поддерживать кого-то рядом с собой. Когда человек «при деле», ему для этого даже воровать нет необходимости — какая-нибудь мелочь всегда останется… Всегда — с этим ничего не поделаешь.
Приношения нельзя было назвать обильными, но в ту первую зиму и ложка сахарного песку, и два-три сухаря были драгоценностью.
Маргарита сперва отказывалась наотрез. Потом атмосфера стала быстро сгущаться, стремительно менялась психология людей, и в какой-то момент оказалось, что ее отказы вызывают н е д о у м е н и е — и самих дарительниц, и медсестер, и санитарок, надеявшихся, что и им перепадет кое-что… Маргарита заколебалась, тем более что видела вокруг немало иных примеров.
Работы было отчаянно много — она уставала все больше и больше. Часть медперсонала забрали в госпитали, районные медицинские учреждения, вернее, их остатки, были сведены в одно здание детской поликлиники, и Маргарите приходилось вновь, как в ту войну, замещать коллег по другим специальностям, не оставляя при этом своего основного дела: консультации, как таковой, не существовало, но женщины прекрасно знали, где искать свою докторшу.
А ведь она была еще и донором: понимала, что значит для раненых свежая кровь, и, невзирая ни на что, регулярно посещала донорский пункт.
Стало голодно. Она ослабела. Во время операции, вдруг закружилась голова…
— Как быть? — спросила дома.
Валя одобрила отказ от приношений, но, вопреки обыкновению, сделала это как-то неуверенно; няня же, человек исключительно непосредственный, встретила вопрос Маргариты все тем же недоумением, и это сказало Маргарите больше, чем если бы ее прямо обругали, в лицо.
Начиная со следующего дня она стала брать то, что ей приносили, так хладнокровно, словно всю жизнь этим занималась. Уделив часть своим помощницам, она доставляла остальное домой, — бывали, правда, случаи, когда Маргарита отдавала свою долю тяжелым больным, чаще всего детям, и тогда не приносила домой ничего. Стол у трех женщин всегда был общим, каждая выкладывала, что достала, и если пай Маргариты увеличился теперь, так на то она и была с т а р ш е й.
Оказалось, что и это жизненно важно — общий стол. Чуть ли не самое важное: в первую очередь умирали те, кто пытался питаться по принципу «каждый свое», чтобы уж ни единой крошки…
В этом доме всегда все ели вместе.
Можно предположить, что женщины и не представляли себе иной возможности, — и это «не представляли» тоже активно участвовало в их спасении.
Они были так воспитаны, такова была норма их поведения.
Может быть, соблюдая всегда определенную нравственную норму, Маргарита и заслужила авторитет хорошего врача и порядочного человека; с авторитетом пришла поддержка, с поддержкой — жизнь.
Принимая в блокаду кое-какие продукты, она нарушила вроде бы эту норму, но в том-то и дело, что принять поддержку в условиях ада — скорее норма, чем ее нарушение. Не забудьте, приносили далеко не все, а Маргарита сама, конечно же, ничего не требовала — как вымогают, случается, сытые люди в невоенное время, — она одинаково заботливо относилась к каждой женщине, обратившейся за помощью, был ли у нее в руках кулечек, не было ли.
Может показаться странным, но отказываться Маргарите казалось неудобным еще по одной причине: она по-своему любила пациенток. Человек по натуре замкнутый, Маргарита, после исчезновения Карлуши, всегда ощущала себя одинокой, да так, на какой-то довольно унылой сольной ноте и прожила всю жизнь. А тут еще сын уехал — и женщины, которым она охотно и умело помогала, сделались единственными существами, пробуждавшими в суровой душе немолодого уже врача некое волнение или потепление, скажем так. Пациентки чувствовали это тепло и отвечали на него теплом же. В те месяцы и годы тепло часто материализовалось в куске хлеба, и если этот кусок приносили от чистого сердца заинтересованные в ее здоровье, в ее знаниях люди…
Помощь голодающим со стороны тех, кто в состоянии сделать это, всегда была на Руси именно нормой.
Если вдуматься, легко обнаружить, что круг нашей жизни замыкается все же, как правило.
Сравнительно благополучно пережив первую и вторую блокадные зимы, Маргарита весной сорок третьего года, в очередной раз, отправилась к себе на Петроградскую — проведать свои комнаты, проветрить их, прибрать немного. Она предполагала пожить здесь летом: очень уж любила свой район, весь в зелени, да и побыть некоторое время одной было не так уж плохо.
Встретившаяся во дворе дворничиха попросила обождать минутку, сбегала к себе и принесла бумажку — извещение, где было сказано, что сын Маргариты погиб смертью храбрых.
Маргарита не принадлежала к числу матерей, молящихся на детей своих. Мальчик рос, она его любила, заботилась о нем, как могла, — не баловала, нет, а поощряла и заботилась. Но сама жила не только его успехами, и отношения между матерью и сыном оставались ровными: дружескими, доверительными, иногда слегка ироничными, но вовсе не назойливыми и не сентиментальными.
Началась война. У каждого были свои обязанности перед отчизной: у Маргариты — свои, у сына — свои. Его уход в армию мать восприняла не как трагедию, а как должное. И письма сына, заботливые, бисерным почерком написанные, разборчиво, буковка к буковке — они приходили на адрес поликлиники, где все знали, какой у Маргариты внимательный мальчик, — письма не надрывали ей душу, а радовали ее; для этого сын и писал их, не так ли?
Все шло, как следовало.
Мысль о том, что сын может уйти н а в с е г д а, конечно же тревожила Маргариту, иначе и быть не могло, но мысль эта не жгла ее сердце так непрерывно, как это бывает у матерей, захлебывающихся от горя, едва их отторгают от детей.
И вот — извещение…
Кивком головы поблагодарив дворничиху, словно та любезно сохранила для нее самое обыкновенное письмо — такая сдержанность поразила стоявшую перед ней женщину, прекрасно знавшую, ч т о она вручает, и приготовившую уже слова утешения, и, надо признать, неприятно поразила: что же это за мать такая… — Маргарита отправилась к себе, на третий этаж. Взбираясь по лестнице, она не сознавала еще безмерности и окончательности обрушившегося на нее горя, лишь предчувствовала что-то гибельное, что-то обозначавшее н а ч а л о к о н ц а, — так люди со слабым сердцем предчувствуют, в душный день, витающую в воздухе смерть.
Горевать на людях она не умела.
Отперла дверь в квартиру, захлопнула. Затем отперла комнату, сделала несколько шагов и, не снимая пальто, грузно опустилась на диван.
Так и сидела. Комната неправильной формы, судя по всему, служила некогда столовой; в единственное окно, на три четверти заложенное тюфяками и подушками, сперва пробивалось солнце, затем оно ушло, постепенно. Стало сумеречно и тихо — соседи были эвакуированы.
Маргарита перевела взгляд на белевшую в полумраке дверь в комнату сына, подумала, что правильнее пойти посидеть там, где ничто не тронуто со дня отъезда мальчика, но оказалось, что встать с места она не может.
Мало-помалу она впала в оцепенение, в забытье.
Холод заставил очнуться.
Закоченев, она двинулась неловко, упала с дивана на пол, зашибла ногу, с натугой заставила себя подняться и заковыляла прочь. Вновь заперла дверь комнаты, входную дверь, спустилась по лестнице, пересекла двор, выбралась за его пределы и медленно побрела по Кировскому проспекту — назад к Неве.
Холод проник глубоко внутрь, сердце стало хрупким, как ледышка, — ей ничего не стоило представить свое сердце готовым расколоться в любой момент, но она знала также, что помочь сердцу нащупать достаточный для жизни ритм может только движение. И шла, шла… Где-то у крепости ощутила зажатую в руке связку ключей…
Покачав головой, Маргарита спрятала ключи в сумочку и взошла на мост.
Почти километровый путь по нему она не отрывала глаз от воды и открывавшейся за ней панорамы — прекрасной, как всегда, божественно прекрасной. Шрамы и язвы, нанесенные этим местам войной, Маргарита не замечала; она не увидела бы их, будь у нее во сто крат лучшее зрение или полевой бинокль.
По мосту, пошатываясь, плелась слепая женщина; взор ее словно вмерз в привычную взору, любимую когда-то панораму: замерзли и прекратили свое течение мысли — боль сделала вид, что уходит, чтобы потом вернуться с новой силой.
За мостом оставалось всего ничего — две трамвайные остановки.
Маргарита благополучно добрела домой, то есть к Вале — опять третий этаж, она отдыхала на каждой площадке, — сняла пальто, берет, повесила в прихожей, прошла к своей кровати, села, сбросила туфли, прилегла…
Ее расспрашивали — она не могла различить, о чем именно, а перебороть оцепенение была не в силах.
Тогда, вместо ответа, она разжала судорожно сжимавшие сумочку руки, достала извещение, протянула, поколебавшись, и, когда бумажку у нее взяли, отвернулась к стене.
Валя вскрикнула испуганно, назвала сына по имени… Вскоре она вновь оказалась рядом и накрыла Маргариту пледом — это было приятно, ноги сразу стали согреваться, а вместе с теплом из бесконечной дали пришло ощущение чего-то привычного.
Наконец…
В комнате стемнело. Валя положила в ногах ее кровати свою подушку, села сама — Маргарите пришлось подвинуться, — пошуршала чем-то, закутываясь, замерла.
Так провели сестры первую ночь.
Потом ночи стали для Маргариты своего рода убежищем. У нее всегда был хороший сон, теперь он особенно ее выручил: после полного рабочего дня и таблетки снотворного она засыпала мгновенно. Мысли во сне не замерзали, конечно, но их придавливало, словно скалой, а ей как раз и нужно было, чтобы мысли, все вместе, были по возможности оттеснены куда-то в угол, стиснуты, зажаты и не могли терзать ее поодиночке.
Работала Маргарита по-прежнему много. В поликлинике сперва ничего не сказала: надеялась все же, что извещение — ошибка? Чаще соглашалась дежурить, особенно в праздничные дни.
И еще стала больше ходить по городу, с работы возвращалась все новыми и новыми маршрутами — хоть улочку, хоть переулок присоединяла. Зачем — не могла бы объяснить, она не задумывалась теперь над своим поведением; Валя считает это чудачеством, — пусть чудачество… Отчетливой мысли: вдруг из потока встречных вынырнет все-таки сын — у Маргариты не было, для этого она была слишком трезвым человеком и профессионально привыкла ориентироваться на п р а к т и к у, но что знаем мы о неотчетливых отсеках своего мышления?
Валя сперва приглядывала за сестрой — звонила на работу, приходила встречать к концу дня. Потом перестала.
Однажды, возвращаясь домой, Маргарита заблудилась немного, пришлось сделать крюк. Впрочем, можно ли заблудиться в давно знакомом городе, выстроенном, к тому же, по плану? Вместо того чтобы от Московского вокзала свернуть, как обычно, по Невскому, она взяла и прошла Лиговку до конца — вечер был пепельный, светлый, белые ночи в разгаре. Улица привела ее к рынку, закрытому в этот час. Маргарита сообразила, что ей давно пора забирать влево, попробовала сделать это, да улица оказалась перегорожена, пришлось обходить по следующему переулку, потом еще по какому-то, совершенно уже незнакомому… В том, что она движется в нужном направлении, к Фонтанке, Маргарита не сомневалась, но на каком уровне — ближе к Невскому или к Неве — понятия не имела. Встревожилась было, да тут вышла на обширную площадь, в центре которой, в ограде из пушечных стволов, высилась массивная, но и стройная притом церковь.
Конечно же, ей была знакома эта площадь — еще князь Мышкин прибыл сюда «прямо из Швейцарии». Был знаком и бывший Преображенского полка и «всей гвардии» собор. Сориентировавшись, Маргарита двинулась было дальше по тернистому, одинокому своему пути, да тут заныла зашибленная поленом нога, и женщина присела на выступ гранитного основания ограды. Она прикрыла глаза, нагревшийся за день металл, к которому она прислонилась, приятно согревал уставшую спину; прошло немало времени, прежде чем она сообразила, что за спиной у нее не что-нибудь, а пушки, безжалостно убивавшие в свое время сотни и тысячи чьих-то сыновей.
Разные люди по-разному реагируют на открытия такого рода; реакция Маргариты многим показалась бы странной, а наиболее склонных к чувствительности женщин, да и мужчин тоже, привела бы, пожалуй, в трепет. «В сущности, вся история человечества не что иное, как цепь непрерывных страданий, — подумала она. — Так что же такое мое горе? Едва заметное и… и неизбежное, вероятно, звено этой цепи…»
Многих удивило бы и то, что мысль эта принесла Маргарите некоторое облегчение; люди ее склада способны сжаться в комок, взять свое «я» за скобки и перенести бесконечно много, если они твердо знают, что не являются жертвой несправедливости, что тяжесть честно разделена между всеми без исключения — их личная беда в этом случае становится проявлением закономерности, частичкой общей беды; она не делается, разумеется, меньше, но обретает смысл.
Маргарита и раньше размышляла иногда об этом, теперь к ней пришла уверенность.
Вздохнув, она встала и зашагала дальше.
Вале она ничего рассказывать не стала — это были ее собственные счеты с миром… Назавтра она, согласно графику, осталась дежурить, а следовательно, ночевать в поликлинике. Третий вечер целиком посвятила поездке к дальней родственнице, которую навещала регулярно. Но на четвертый или на пятый день, направляясь домой, она повторила давешний путь и снова оказалась возле пригревших ее так нежданно пушечных жерл.
На этот раз она вошла в ограду, удобно устроилась на старенькой деревянной скамейке и сидела тихо, не шевелясь. Окруженная со всех сторон старинными орудиями уничтожения, она продолжала думать все ту же думу, вновь стремилась утопить свое страдание в бездонной чаше, наполненной кровью и слезами людскими, и это очищающее погружение, это безусловное равенство с миллионами иных страдальцев вновь принесло ей желанное облегчение.
Она приходила сюда снова и снова, и наступил наконец день, когда тиски, неумолимо сжимавшие ее сердце и ее сознание с того самого момента, как ей вручили похоронку, когда тиски раздвинулись немного и ручеек успокоения хлынул к ней.
Что у погибшего на фронте может быть могила, Маргарите долго не приходило в голову.
Где-то мальчик был, конечно, похоронен, но о том, чтобы он мог быть погребен в обозначенной его именем могиле, она никогда не думала и никаких разысканий не вела.
Прошло два года со времени получения извещения. Маргарита была безукоризненным и самым безотказным сотрудником поликлиники. Она переехала назад, на Петроградскую, но по-прежнему принимала близко к сердцу дела сестры; на фронте воевал Валин сын, теперь он у них один на двоих остался… Но для чего она жила, Маргарита не знала.
Человек интеллигентный, она не выделяла свою потерю из общей цепи страданий и потерь своих сограждан, не считала свое горе чем-то исключительным. Просто ее жизнь стала пустой. Не бессмысленной, ибо она каждый день была окружена страдальцами, нуждавшимися в ней, а именно пустой.
Пустота эта стала для Маргариты особенно ощутимой с тех пор, как она почувствовала себя «дома» в полюбившемся ей уголке окруженного плененными пушками сквера; здесь, с каждым разом все быстрее, обретала она подобие покоя, здесь ей удавалось сосредоточиться и хотя бы робко, приблизительно поразмышлять о том, что ей по-прежнему приходилось называть своей жизнью и своей судьбой.
Как-то летом сорок пятого, когда стихли орудия, извергавшие огонь т е п е р ь, — четыре года без передышки! — во время очередного посещения ею «убежища» неизвестно откуда вынырнул вопрос: а что, собственно, мешает ей обратиться к жителям деревни, близ которой, как значилось в извещении, погиб ее мальчик?
Она подивилась тому, что эта простая мысль не возникла раньше, — не понимала еще, что, пока не воцарился такой хрупкий, казалось, и такой непривычный мир, пока не был произведен самый первоначальный расчет с войной, идея эта и не могла у нее возникнуть, — и написала наобум. Не знает ли, дескать, кто-нибудь совершенно случайно…
К ее изумлению, ответ пришел, что называется, с обратной почтой. Конечно знаем, все у нас знают, могила охраняется наряду с другими захоронениями погибших воинов, за ней ухаживают школьники. Оттенок недоумения присутствовал в письме — где же вы, дескать, раньше были, уважаемая мамаша?
Маргарита даже испугалась: ее сын, только совершенно ей незнакомый, выглянул с мятой тетрадочной странички, исписанной карандашом, крупным, неуверенным почерком женщины, прекрасно помнившей высокого молодого командира, квартировавшего в ее доме. То, что хозяйка не забыла мальчика, Маргариту не удивило, — любезный, приветливый, вежливый, он не мог не запомниться; но хозяйка видела его много позже, чем мать в последний раз, на целых два года позже, она знала взрослого мужчину, — Маргарита его себе таким не представляла, и проверить, соответствует ли действительности контур, возникавший за строчками письма, уже не могла…
Испуг или, скорее, горечь были связаны еще вот с чем: письмо рассеивало последние надежды Маргариты на то, что извещение могло быть ошибочным, что мальчика, допустим, ранили и он, допустим, попал в плен… Сколько таких случаев: пишут — погиб, а человек пропал без вести, потом нашелся… Кое-кто неожиданно вернулся… Письмо окончательно утверждало: смерть.
Раз есть могила — значит, смерть.
В конце письма стояло: приезжайте!
Сына нет и быть не может — как же это п р и е х а т ь к нему?
Более трезвая Валя заявила:
— Езжай, конечно, что за вопрос! Хочешь, вместе съездим?
Маргарита ничего не ответила, но мысль о поездке т у д а стала понемногу обретать реальное наполнение.
В сентябре, получив отпуск, она отправилась. Одна. Прихватила денег, чтобы заплатить там, в чужих краях, кому-то, кто приведет могилу сына в порядок.
Валя провожала ее на вокзал и пришла встретить неделю спустя.
— Деньги назад привезла, — сказала Маргарита, поцеловав сестру. — Могилка в порядке. А эта женщина с меня за постой ничего не взяла, еще молоком поила…
Военных могил оказалось несколько, все в одном месте, за околицей, на бугре, обнесены аккуратной деревянной оградой.
Сын лежал с краю.
Маргарита прочно держала могилу в памяти; укладываясь спать, каждый вечер приближалась на минутку — преклонить колени.
Зимой она послала Анне Ивановне поздравление с Новым годом и большое письмо, написавшееся как-то само собой. Письмо было неожиданно откровенным, так пишут человеку близкому. Маргарите показалась странной несвойственная ей ранее потребность излить душу. Впрочем, в ее повадке вообще многое менялось — в таком-то возрасте…
В сорок шестом, попросив отпуск пораньше, в июне, она вновь отправилась «попить молочка», повезла разные городские подарки и на этот раз прожила в деревне две недели.
Гуляла по окрестностям, вела бесконечные разговоры с женщинами, проконсультировала кое-кого между делом, завела новые знакомства, ну и по хозяйству помогала немного; тяжелую работу Анна Ивановна делать ей не давала, да Маргарита особенно и не напрашивалась: как раз в июне ей исполнилось пятьдесят семь.
А двадцать девятого августа был день рождения Вали.
Впервые, с сорокового года, собралось много гостей. Маргарита сказала сестре, что останется ночевать, и, когда все разошлись, задержала за столом Валю и ее сына-студента; няня уже спала.
Долго не знала, как начать.
— Тебя что-то тревожит, Ритуся? — участливо спросила сестра.
Маргарита кивнула.
— Я думаю все об одном и том же, — сказала, вздохнув. — Почему он — там, а я — здесь?
— Кто? — спросила Валя. — Где — там?
Зато ее сын сразу понял тетку и тихо назвал покойного брата по имени.
— Ты… хотела бы перевезти прах?
Маргарита отрицательно покачала головой.
— Тогда — что же?
— Я могла бы поехать…
— Ты только что оттуда!
— Совсем…
— В деревню?!
Маргарита кивнула.
— Одна?
Маргарита пожала плечами:
— Меня там уже знают немного…
Помолчала; потом:
— Я могла бы вести прием… в амбулатории при сельсовете… три версты всего…
Валю огорошили эти «версты»: сестра говорила языком тамошних жителей, значит, примеривалась всерьез.
— Ты не заработаешь на жизнь — огород и тот тебе не поднять…
— Продам здесь все.
— Что сейчас деньги? Вода… Надолго ли хватит?
Маргарита бросила на сестру укоризненный взгляд.
— А ты припомни, Валюша, кто подкармливал меня всю блокаду…
Она едва не сказала «нас».
Валя ничего не ответила.
— А кто? — заинтересовался племянник.
— Женщины… — задумчиво сказала Маргарита. — Женщины… Они меня и там не оставят. Да и много ли старухе нужно? Горшок молока да краюху хлеба. Зато мы будем вместе — к чему эта разлука?
— Разлука?.. — переспросила Валя; услышав про горшок и краюху, она поняла, что дело плохо. — А обо мне ты не думаешь?
— Ты не одна… — Маргарита положила сидевшему рядом племяннику руку на плечо; скольким женщинам было бы трудно встречаться с живым и здоровым ровесником погибшего сына — Маргарита была не из тех, кто думает эгоистически о «несправедливости судьбы». — В отпуск приезжать станешь…
Она колебалась еще некоторое время. Осень, зиму, весну проработала в Ленинграде.
Но следующим летом Валин сын отвез тетку с немногими пожитками в деревню.
Принято считать, что пожилые люди с трудом приспосабливаются к новой обстановке.
Если это и верно, то далеко не для всех; случается, именно тот, кого ничто уже не привязывает к привычному, обжитому, кто, говоря кощунственно, уже покончил основные счеты с жизнью, переносит непривычное легче, чем люди среднего возраста, бахвалящиеся своими привычками и упивающиеся ими, — легче даже, чем молодежь.
Исконная горожанка, Маргарита чувствовала себя в деревне не хуже и не лучше, чем последние годы дома. Неустроенность деревенского быта, особенно смущавшая Валю, была для Маргарита пустяком, не стоящим внимания. Живут же люди, и она проживет. Кое-что, правда, она усовершенствовала: попросила повесить у нее в комнате отдельный рукомойник, чтобы можно было, не мешая никому, мыться по утрам до пояса — она так привыкла, мать приучила в детстве, — да еще привезла с собой из города две великолепные десятилинейные керосиновые лампы с запасом стекол — прощальный подарок Лиговки; почитать вволю, принять вечером неотложную больную… Остальные неудобства попросту не замечала.
Изба была чистая, с хорошим полом, теплая. Тут провел последнюю свою ночь сын. Едва познакомившись с Маргаритой, Анна Ивановна усадила ее на эту вот самую лавку, а сама, поглаживая рукой покрывало на кровати, стала говорить о том, что мальчик спал здесь целую неделю — днем-то был, конечно, в части, а к вечеру приходил, они ужинали вместе чем бог послал, чаи гоняли, он любитель был…
Маргарита удивилась, но виду не подала: вновь возникал образ малознакомого мужчины, не имевшего с ее мальчиком, казалось, ничего общего.
Любитель чаи гонять?..
На квартире в то время еще один офицер стоял, интендант какой-то, постарше, из запасных, так тот угрюмый был, может больной или еще что, кто его знает, все норовил пораньше спать завалиться, а сын — Анна Ивановна неожиданно назвала его ласкательным именем, — сын был милый, и веселый, и компанейский; раз самогону бутылочку раздобыл, так и расходиться в тот вечер не хотелось, она песни ему пела — ну как с родным, как с родным…
Самогон?!
Маргарита слушала эту не старую еще женщину и не слышала ее; жаждала подробностей — какую, какую ночь песни пели, самую последнюю? — и боялась их: а что, если эта особа возьмет и скажет, что была близка с мальчиком, или хотя бы намекнет? Как держать себя с ней тогда? Как реагировать? От этого типа, гонявшего чаи и распивавшего самогон, можно ожидать чего угодно…
И только когда Анна Ивановна, едва заметно усмехнувшись, произнесла, с сожалением как бы: «Он ведь у вас такой сдержанный был, такой сдержанный…» — Маргарита поняла, что ничего между ними не было, и перестала поджимать губы, и стала слушать предельно внимательно, а потом, когда хозяйка отправилась собирать на стол, долго сидела одна.
Не исключено, что из-за этого отчасти она сюда и переехала — тут была е г о комната…
Работать приходилось больше, чем в городе, — рабочий день ее не был теперь нормирован, но работа не пугала Маргариту, а веселила; сверх всего, она посещала иногда посиделки и, пресекая хихиканье, строго беседовала с девушками о гигиене брака, ибо всегда считала, что профилактика не менее важна, чем лечение. Ее здешние пациентки — а к ней приезжали и за пятнадцать, и за двадцать верст, и из райцентра: весть о хорошем разносится в сельской местности не менее быстро и далеко, чем дурные известия, — ее пациентки мало чем отличались от питерских. Такие же плотные женщины, столь же неопытные в женских болезнях, они стремились так же старательно, часто слепо исполнять наставления доктора, и только известное нам уже требование изменить форму подвязок ставило их в полный тупик. И то сказать, если уж у горожанок были сложности с этим делом, то на чем держались чулки крестьянок — один бог ведал; скорее всего, если чулки имелись, их или закручивали наверху жгутиком, или подвязывали веревочкой.
Три версты до амбулатории Маргарита отмеривала пешком. Это давала ей возможность по пути, два раза в день, утром и вечером, улыбнуться могиле сына; на обратной дороге, если было сухо, она задерживалась возле ограды, отдыхала на бугорке, на траве. Только зимой, когда и могилы, и ограду сплошь заносило снегом, она пользовалась лошадью, безропотно ей предоставлявшейся вместе с санями и мальчишкой-кучером: такого искусного врача в здешних местах вообще никогда не видывали, а Маргарита принимала, разумеется, не только как гинеколог — ближайший терапевт находился в районном, хирург — в областном центре. Она не отказывала ни одному больному; не могла справиться сама — направляла в больницу, да так сурово и настойчиво, что и самые косные, и самые занятые не осмеливались ей перечить.
Ее собирались даже депутатом выдвинуть — человек толковый, профессионально на уровне и в то же время очень свой. Отговорилась: возраст не тот, силенок и так еле-еле хватает.
О городской жизни она не только не жалела, но и не вспоминала почти никогда — прошлого будто не существовало. Да и что она там оставила? Равнодушный к ее судьбе муравейник, где лишь пять-шесть человек из нескольких миллионов разделяли ее горе… Здесь же все знали и ее, и ее долю, здесь все с ней здоровались, и не из вежливости просто или по привычке, а искренне желая ей добра, уважая ее знания, ее труд, здесь с ней охотно делились необходимым — общеизвестно было, что жалованье докторша получает никакое, а платы ни с кого не берет.
Летом, в воскресные дни, она по нескольку часов сиживала на могиле, читала, шила что-нибудь, размышляла. Перебирала годы, события, запомнившиеся дни, упрекала себя за то, что не всегда уделяла мальчику достаточно времени, бывала с ним сурова, не баловала, как другие… Хорошо, сын умер не у нее на руках: увидев воочию, как гаснет в нем жизнь, она не могла бы ощущать его таким живым, как сейчас. Он ушел из жизни без нее, сам, и находится с той поры здесь вот, под землей. Сколько их разделяет — два метра? Множество родителей годами не видят своих взрослых детей, поссорившихся с ними или просто уехавших искать счастья, — разве одна-две открытки в год сокращают расстояния, меняют что-нибудь, спасают от одиночества? Она, по крайней мере, и н е м о ж е т увидеть сына, зато она находится так близко к нему, как это только возможно. Бедняжкам, чьи сыновья лежат по всей Европе, хуже, чем ей, гораздо хуже… А некоторые и вовсе не знают — где, что, как…
Будь у нее еще дети, тогда и дело другое, тогда оставался бы еще невыполненным долг перед ними — довести до какого-то рубежа, приглядеть, подправить, не дать впасть в уныние, выслушать исповедь смятенного сердца, подставить старую руку, дабы смягчить возможный удар… Одинокая, она могла, под конец жизни, позволить себе роскошь быть с тем, с кем заблагорассудится, — сама судьба подсказала ей такое решение.
Впрочем, и долг — все тот же вечный долг… Разве не в том он теперь, чтобы внести посильную лепту в общий котел деревни, приютившей напоследок ее мальчика? Многократно униженной и опустошенной, трижды, четырежды обескровленной, нищей деревни, которая стоит несмотря ни на что и делает теперь нечеловеческие усилия, чтобы подняться в очередной раз. И как врач она здесь больше на месте, чем в городе.
Когда приезжала Валя, они сидели у могилы вдвоем.
— Ты… счастлива здесь? — спросила как-то сестра.
Маргарита взглянула отрешенно: она — счастлива?! Наивное, давно забытое ею словосочетание…
Помолчав, сказала:
— Я — в порядке, Валюша. Мне наконец-то покойно. Знаешь, приблизительно такое же ощущение бывало в юности, когда-я на каникулы приезжала домой, в Крым. Ты не тревожься.
Полагавшийся ей отпуск Маргарита полностью не использовала — отдыхать лучше всего было здесь, да и заменять ее было некому. Ездила на недельку в Ленинград — навестить Валю, повидать знакомых, поболтать с сослуживцами в «своей» поликлинике, раздобыть лекарств, походить по магазинам (заказы подкидывала чуть ли не вся деревня). На обратной дороге обязательно заглядывала на денек-другой в Москву, к молодой женщине по имени Ирина: мальчик заочно их познакомил.
Ирина была эвакуирована в тот же город на Урале, где временно дислоцировалась академия, — там и встретилась с сыном. Вернувшись, она, в надежде узнать хоть что-нибудь, написала Маргарите на ленинградский адрес, а все письма, приходившие туда, немедленно забирала Валя — ей звонили старые соседи Маргариты по квартире… На этой Ирине, если Маргарита правильно поняла из одного из последних его писем, сын собирался жениться по окончании войны.
Теперь Ирина была аспиранткой Московского университета. Жила она с отцом, известным в свое время ученым-геологом, и старой теткой; мужа у нее не было и пока не намечалось как будто, и Маргарита считала приличным поддерживать с ней отношения — навещать ее время от времени, приглашать к себе в деревню. Правда, Ирина приехала лишь однажды, свидание с могилой возлюбленного оказалось ей не под силу — закалка не та, нервы, нервы, определила Маргарита, — да и отлучаться из дома ей было не просто: вернувшийся из эвакуации парализованным, Петр Фомич требовал, чтобы дочь постоянно была рядом, хотя за ним охотно ходила тетка.
Маргарита не настаивала, назойливость вообще не была ей свойственна; ей было достаточно знать, что Ирина наполнила радостью последние месяцы жизни сына, согрела его, одинокого, оторванного от дома, в сумятице войны — не здесь ли, кстати, кроется причина «сдержанности» мальчика, на которую полушутя-полусерьезно сетовала Анна Ивановна?..
Но регулярно навещая Ирину, Маргарита не только стремилась выказать ей свою признательность, свою приязнь.
У нее была и другая, скрытая цель.
Маргарита знала, что жить ей осталось недолго.
В этом примерно возрасте — шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три — умирали все женщины их семьи. Бабушка, мать Елизаветы: Маргарита лишь смутно помнила старческое лицо, зато знала наизусть даты ее жизни, высеченные на могильном памятнике. Сама Елизавета. Две старшие сестры — Мария и Елена. Да и Георгий умер шестидесяти двух лет… Так что относительно отпущенного ей природой срока у Маргариты сомнений не было.
И страха перед смертью не было тоже. Она закончила здесь все свои дела — врачевание в деревне шло явно сверх программы и могло быть поэтому прервано в любой момент. Подкреплять искусственно нити, связывавшие ее организм с этим миром, она не собиралась. Чего тянуть? Чем скорее они с сыном воссоединятся, тем лучше.
Воссоединятся?..
Тут и сидела единственная заноза, тревожившая еще Маргариту. И как тревожившая! Тоска охватывала все существо ее при мысли о неизбежности новой, теперь уже вечной, разлуки с сыном, тоска загнанного животного, которому, на этот раз, не избегнуть западни, — так ночью мы перестаем быть рационально мыслящими жителями двадцатого столетия, и по сюжету сна нас гонят тогда ощущения наших сверхдальних предков.
Разлука была неизбежной, ибо похоронить ее рядом с мальчиком односельчане никак не могли, это она знала твердо. Кто решился бы на такое святотатство? Нет, об этом и подумать было нельзя, все бы так захотели… Из присущей ей скромности Маргарита никогда и не позволила бы себе предъявить претензии подобного рода.
Размышляя на эти невеселые темы, она нет-нет да и возвращалась мысленно к блокадным похоронам — вспоминала, как те, кто оставался еще в живых, отрывали от себя последний кусок, жертвовали семейной реликвией, чем угодно, лишь бы положить дорогого им покойника в отдельную могилу… Если слабые, голодные люди умудрялись находить выход, неужели она не найдет его?!
А вот что, например, если… Что, если бы кто-то, позаботившись о кремировании ее тела, закопал потом урну с прахом в изголовье сыновней могилы?.. А?.. Ведь это совсем другое дело, не правда ли? Урна — маленькая, вероятно закопать ее можно и не испрашивая особого разрешения, потихоньку… Есть вещи, которые лучше делать не спрашивая, — и для тех лучше, кто в них непосредственно заинтересован, и для тех, кто призван разрешать или не разрешать: иной раз человек и склонен разрешить, да обстоятельства не позволяют или занимаемое положение, а терять положение кому же охота?
Да… Итак, что же, если…
В отчаянном плане, сложившемся в ее голове постепенно, главным образом в тихие часы, проведенные на могиле сына, отразилось все своеобразие прожитой этой женщиной эпохи — как-никак три войны на протяжении менее чем тридцати лет (для ленинградцев финская кампания тоже была войной), и к а к и е войны, да еще гражданская, да разруха, да тот голод, да этот… Сказалась и абсолютно не женская суровость характера Маргариты; она и выросла в семье, где чувствительность вовсе не была в почете, и жизнь так ничем и не побаловала ее. Далеко не всякая ее сверстница согласилась бы на кремацию — тогда этот всеочищающий акт не вошел еще у нас в обиход: предрассудки держатся цепко. А уж вынудить кого-то закопать потихоньку урну в чужую могилу…
Кого — вынудить?
Кого вдохновит ее безумный проект?
Прежде всего Маргарита подумала о Вале и ее сыне. Урну мальчик, конечно, закопает — сумеет, справится, в этом она не сомневалась. Но крематория в Ленинграде не было, а везти тело в другой город, оттуда ли, отсюда ли, из деревни, было совершенно невозможно — время не то.
Крематорий, насколько ей было известно, имелся только в Москве, и кремировали там, надо полагать, исключительно тех, кто в Москве же и умирал, — ну, за какими-то редкими исключениями, особыми.
Получалось, что единственной, кто мог помочь Маргарите, была Ирина — других знакомых в Москве у нее не оставалось.
Она понимала, конечно, что навязать малознакомому человеку, да еще обремененному прикованным к постели инвалидом, такие тяжкие хлопоты было, мягко говоря, неделикатно; знала, что никто из ее друзей не только сам так не поступил бы, но не одобрил бы и ее поступка; она сама, в другой ситуации, скорее всего, не сделала бы подобного шага, даже если бы ее принуждали силой.
Теперь же у нее не было выбора: река жизни все стремительнее уносила ее, она знала, что близок страшный порог, и не ухватиться за единственную соломинку, оказавшуюся в поле ее зрения, никак не могла. Хватку Маргарита обрела мужскую, солдатскую — еще в конце той, первой войны, перечеркнувшей для ее поколения буколические представления о человеке, — а уж теперь, после всей крови, что три десятка лет систематически обагряла ее руки…
Повинуясь настойчивому зову, она собранно и целеустремленно стремилась осуществить то, что считала своим природным правом. Как выглядели ее действия со стороны, было ей, в сущности, безразлично.
Именно на этот случай и берегла Маргарита скромный остаток денег от продажи своей ленинградской мебели, посуды, утвари. Деньги были предусмотрительно положены намертво на московскую сберкнижку — в их семье все умели жить так, словно данных денег вообще не существовало; решали обходиться без такой-то суммы, и обходились; у Валентины, например, никогда не лежало на счете менее ста рублей на черный день — ее как бы не было, этой сотни, она не принималась в расчет, и все; пусть невелика была сумма на «старые» деньги, а все же она б ы л а.
Но деньги деньгами. Особенно важно было не упустить момент, когда она приблизится вплотную к таинственному рубежу, но не совсем еще ослабнет и сохранит достаточно сил, чтобы добраться до Ирины. С другой стороны, приехать слишком рано и сидеть у бедняжки на шее — тоже ни к чему; отягощать кого-либо собственной персоной Маргарита не собиралась. Чего доброго, еще взбодришься потом — только людей насмешишь.
Она могла бы положиться на судьбу, на свой немалый врачебный опыт, на уверенность в том, что уж ее-то натура не подведет в критический момент и продержится столько, сколько потребуется, чтобы с честью выйти из нелегкого положения, в которое она сама себя решила поставить. Но более всего Маргарита надеялась на обретенное в блокаду ч у в с т в о с м е р т и. Кажущееся на первый взгляд решительно иррациональным, чувство это вручается природой каждому из нас при рождении, но в обычной сверхцивилизованной толчее чувство смерти быстро глохнет, затертое килограммами разного рода медикаментов, несоответствующей организму человека тяжелой, теплой одеждой, советами всезнающих кумушек, в том числе телевизионных, медосмотрами, прививками, случайными больницами, клиниками, медпунктами, санаториями, где д а н н о г о индивидуума никто не знает… А в блокаду огромное число гибнувших вокруг от причин с т и х и й н ы х — завтра эти причины могли оказаться роковыми и для тебя тоже — обостряло чувство, ощущение смерти: до нее, казалось, можно было дотронуться.
Во всяком случае, многие пациенты Маргариты, блокадники, заранее знали о том, что скоро умрут, от них и она научилась распознавать и предсказывать близкую смерть, совсем как знахарки когда-то. С ее огромным практическим стажем ей ничего не стоило проецировать знание такого рода на себя.
Маргарита не хотела, чтобы ее внезапный приезд и коварная просьба поставили Ирину перед фактом — она предпочла бы получить согласие девушки заранее. Несколько раз пыталась она завести некий предварительный разговор на эту тему, но оказалось, что выступить в двадцатом веке в роли провозвестницы собственной смерти не так-то просто.
Ирина, в свою очередь, ощущала странные недомолвки, непривычную недоговоренность в речах Маргариты, но, как человек воспитанный, сама Маргариту ни о чем не расспрашивала.
Надо будет — скажет.
Уезжая в тот раз в Москву, Маргарита твердо решила во что бы то ни стало объясниться с Ириной; это и была, собственно, цель ее поездки, предпринятой специально, а не во время отпуска, как это обычно бывало.
Ехала она налегке, захватив с собой лишь старинный докторский саквояж хорошей кожи, подаренный к выпуску отцом, — с этим саквояжем она никогда не расставалась. Немного белья, документы, сберкнижка — она собиралась сделать небольшой дополнительный вклад: вопрос о том, хватит ли ее сбережений, тоже волновал ее, она никак не хотела бы остаться должна, — семейные фотографии, старинная медаль и новые, блокадные ее награды, а также серьги Елизаветы, предназначавшиеся Ирине, и золотые часы Георгия.
Прибыв в столицу и выйдя на привокзальную площадь, Маргарита внезапно почувствовала себя так плохо, что вынуждена была присесть на первую попавшуюся тумбу, а потом вернуться в зал ожидания и посидеть часок на скамейке, проглотив извлеченное из того же саквояжа лекарство.
За этот час она все окончательно обдумала, взвесила, приняла решение. Подозвав носильщика, она пообещала ему хорошие чаевые, и тот не только разыскал свободную легковую машину, но и проводил старушку и даже подсадил на заднее сиденье.
Маргарита поехала в сберкассу, сняла с книжки все деньги, затем отправилась на Центральный телеграф и отправила Валентине приказ приехать завтра, вместе с сыном, в Москву, и лишь потом назвала шоферу Иринин адрес.
К великой радости своей, она застала Ирину дома. Попила со всеми чаю, побаловала тетку куском деревенского сала, пошутила с Петром Фомичем, как всегда обрадовавшимся ее приезду, поинтересовалась течением его болезни и, как всегда, дала несколько дельных советов; попросилась переночевать. Потом, улучив минутку, вызвала Ирину в соседнюю комнату.
Там Маргарита рухнула в кресло — силы окончательно покидали ее. Немного отдышавшись, она раскрыла саквояж и вручила Ирине серьги, которые с самого совершеннолетия носила сама и сняла только после смерти сына. Ирина ахнула, стала отказываться, повторяла без конца, что не заслужила такого щедрого, такого «фамильного» подарка.
— Ничего, еще заслужишь, — кивнула Маргарита.
Она достала деньги, и тихо, чтобы не услышали в соседней комнате, изложила свою просьбу.
Несколько мгновений Ирина пробыла в шоке, стала плакать, лепетала что-то бессвязное, умоляла Маргариту не отчаиваться, — это ее-то смерть была для нее избавлением! — пыталась доказать, что костлявая не может наложить лапу так внезапно, потом, продолжая плакать, кивнула несколько раз и сникла.
Что ей оставалось?
Назавтра Маргарита успела проститься с сестрой, благословила ее сына, вручила единственному оставшемуся в живых внуку единственное сохранившееся фото и часы деда, а также свои медали — Георгиевскую, «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд» — и к вечеру скончалась.
— Вы полагаете, надо… обязательно надо все сделать так, как она просила? — словно раздумывая, обратилась Ирина к Вале.
До этого она битых полчаса уговаривала ленинградку принять от нее назад фамильные серьги, но ничего не добилась.
— Почему вы спрашиваете?
— Извините, Валентина Георгиевна, но это же безумие — на почве горя вполне объяснимое, но безумие… То есть кремировать можно, разумеется, если пробьемся, я сделаю все от меня зависящее… Но везти эту урну в деревню…
— Не просто, не просто, — кивнула собеседница. — Видите ли, Ирина, вам может показаться, что это слишком отдает Востоком или еще бог знает чем, но у нас принято исполнять последнюю волю усопшего. Вот и с серьгами — тоже… Я осталась теперь старшей в семье, — Валентина выпрямилась, — и отвечаю не только перед Ритусей, но и перед памятью о них, обо всех… Понимаете?
Впервые за два дня она вынула из сумочки носовой платок и поднесла к глазам.
— Во что бы то ни стало… — шепнула.
— Собственно, что вас так смущает? — спросил Ирину Валин сын. Ему всегда нравились девушки двоюродного брата, Ирина не была исключением, но, как раньше, так и теперь, он был далеко от мысли о возможности сближения: могучее табу сдерживало его; то обстоятельство, что брат умер, ничего не меняло.
— Просто… просто это неслыханно… разрывать могилу… Кощунство какое-то… Да и опасно, если хотите знать: вдруг заметят — что тогда?
— Это не должно вас тревожить, — так же твердо, как мать, сказал сын. — Я сам все сделаю, вам ехать туда не придется.
— Я пообещала, конечно, чтобы успокоить ее, как детей успокаивают… Но теперь-то ей все равно, она ничего не узнает…
— Ну, это еще вопрос, — пожала плечами Валя.
— То есть — как?!
Молчание.
— А разве вам не хотелось бы захоронить урну в Ленинграде? — не унималась Ирина.
— Что и говорить, — вздохнула Валя. — Возле Лены, нашей старшенькой, как раз два места оставлены — для нее и для меня… Только преступить ее волю я никак не могу, у нас это не принято, — повторила она, словно извиняясь.
— Да, право, не волнуйтесь, Ирина, — снова вмешался сын. — Все я сделаю, я уже обдумал — как. Только вот насчет кремации — вероятно, подпись ваша потребуется, паспорт или съездить куда раз-другой…
— Вы взваливаете на себя такую моральную ответственность… и так рискуете, — покачала Ирина головой. — Во имя чего? Чтобы соблюсти какие-то там традиции?
— Е м у так тоже будет лучше, — ответил очень серьезно молодой человек. — Знаете, я попытался поставить себя на его место, подумал: а хотел бы я, если бы пришлось умереть так же вот, в чужой стороне, вдали от дома, хотел бы я, чтобы мать — со мной?.. И понял: очень хотел бы. Да что там «хотел» — это не то слово. Я мечтал бы об этом как о награде за мою прерванную жизнь.
Ирина взглянула на него как на фанатика, позиция которого все равно недоступна пониманию.
— Что же, вам виднее… Все, что в моих силах, решительно все… Только, ей-богу, смысла не вижу…
— Смысла?.. — почти одновременно воскликнули мать и сын. — Смысла?!
Урну с прахом Маргариты закапывал в изголовье могилы Валин сын. Поздно вечером, ночью, в сущности. О его приезде никто не знал, даже Анна Ивановна.
Привыкнув на фронте ставить мины в непосредственной близости от чутко слушавшего ночь неприятеля, он лег на землю, аккуратно надрезал дерн, снял его, бесшумно выкопал ямку поглубже, поставил туда урну, засыпал, тщательно утрамбовал, всю лишнюю землю, до крошки, собрал в специально привезенную с собой наволочку, ловко, травинку к травинке — он светил себе слабым фонариком, — заровнял рукояткой, саперной лопатки швы (лопатку, верно прослужившую ему четыре года, он не сдал при демобилизации, а, как единственный трофей, привез с фронта домой), потом еще прижался на мгновение всем телом к земле, как бы прощаясь с теткой и братом, и исчез в темноте.
В деревне никто ничего не заметил.
БОЧАЖОК
…И когда я, захлестываемый решительно несвойственной мне нежностью, и умилением, и благодарностью, и еще целым потоком менее отчетливых чувств, когда я потянулся к ней, чтобы тихонечко сказать, как счастлив я, впервые за свою убогую жизнь счастлив безусловно, безбрежно, она зажала мне ладонью рот и не позволила нарушить тишину.
Я подчинился, разумеется, как иначе мог я поступить в такую минуту, и мы лежали в темноте молча, и думали каждый о своем, только тела наши соприкасались.
Она понимала, что без слов не обойтись — не ей они были нужны, мне, моему примитивному мужскому естеству, — и минут через десять заговорила сама:
— Знаешь… Мой муж был прекрасный человек, и он имел все основания доверять мне… То, что бездумно называют изменой, всегда казалось мне отвратительно нечистоплотным… Да я и не сомневалась в том, что люблю мужа… Но теперь его нет на свете, и я могу признаться, что только сию минуту поняла наконец, что значит быть счастливой в любви… Как это бывает…
Я затаился.
— Раньше я никак не могла взять в толк, во имя чего же, собственно, женщины совершают непорядочные поступки…
Непорядочные?!
— …подносят с улыбкой яд или подкупают убийц… Неужели во имя такой малости, недоумевала я… Ты открыл мне целый мир, Малыш!..
Она упорно называла меня Малышом, хотя мы были однолетки.
— Боже, а если бы я не встретила тебя?
Каждому лестно слышать такие слова, не отозваться на них попросту невозможно. Я снова рванулся, хотел прошептать, что и я… что и мне… но она остановила меня легким прикосновением руки.
— Сколько лет я рожала детей… пригоршнями хлебала горечь, не ведая сладости… Наша семейная жизнь складывалась на редкость благополучно, и все же какое-то сомнение упорно не давало мне покоя. Постоянная инертность, скованность, что-то мешало мне раскрываться так же полно, с таким же азартом, как, скажем, в детских играх, или потом — в спорте, или в студенческие годы, когда мы спорили ночи напролет… Тупичок, тупичок…
И у нее — тоже?!
— С мамой о вещах интимных я говорить не могла, она была бы шокирована, да и едва ли сумела бы разрешить мои сомнения. Пыталась осторожно расспросить соседок в роддоме — они не понимали меня: рожаешь, так чего же еще? Им был важен итог… В парикмахерской услышала вдруг обрывок дамского разговора о фригидных женщинах, решила, что и я такая же бесчувственная, что судьба обделила меня… Потом понемногу уверилась в том, что все так… снивелировано и быть должно, а «умирают от любви» притворщицы и психопатки, да и то чаще всего в романах… А на самом деле…
— На самом деле?! — прорвался я.
— Все, оказывается, в том, чтобы найти одного-единственного человека… своего… близкого… ближайшего — во всем… Искать, искать — и встретить во что бы то ни стало… Внешнее — рутина, в глубине все иначе, все другое… очень сложно, невероятно… понять — невозможно… волшебство какое-то… головоломка.
— Неправда, не сложно, а именно просто, до ужаса просто — в этом вся прелесть… Ты, я, Вселенная — беспредельная, всемогущая… Все прошлое и все будущее враз… Я ведь что хотел сказать: я тоже… понимаешь, родная, я тоже только нынче понял, что моя жизнь…
Сколько себя помню, я терпеть не мог жить на даче, снятой у кого-нибудь, а собственной мы не обзавелись. Отвращение к противоестественной смеси природы с кухней, занесенной куда-то близехонько, к самой кровати, отравляло все лето. Сама по себе бесконечная доставка продуктов и их непрерывное уничтожение — словно суть отдыха в том, чтобы часто и истово есть, — казались мне кощунственными, я не мот понять, что за радость находят другие в таком… травоядном существовании, словно телята на отпое. Величие природы и убогость человечьего «городского» быта никак не совмещались в моем сознании, не укладывались на одну полочку. А меня вывозили на дачу каждый год.
Один-единственный раз за все детство я получил чистое, ничем не омраченное наслаждение от лета. Желая, очевидно, встряхнуться, родители взяли одновременно путевки в какой-то южный пансионат, а меня отправили с тетей Галей, дворничихой, убиравшей раз в месяц нашу квартиру, к ее родственникам в деревню.
Мама долго не могла решиться, все боялась обидеть меня.
— Сами на юг, а мальчика — лишь бы куда-нибудь?! — кричала она отцу.
Поездку в деревню она считала диким, отчаянным предприятием, никак не могла представить себе, как доберемся мы, вдвоем, в такую даль — подумать только, две пересадки! А как я там, у незнакомых людей, обойдусь без нее? Что стану есть?
Утирая слезы, мама снова и снова брала с меня заведомо невыполнимые обещания писать каждый день. Тете Гале было велено в случае чего немедленно дать телеграмму… Словом, отцу лишь с большим трудом удалось настоять на своем; он проявил в этом случае какую-то непривычную твердость.
Несмотря на опасения, доехали мы благополучно. А там, на месте… там началась сказка.
Женщина решительная, твердо убежденная в простейшей истине: то, что хорошо для одних, другому тоже повредить не может, пусть этот другой не привык, пусть он слаб — все равно, тетя Галя с первого дня не делала мне никаких поблажек. Очевидно, ей было принципиально важно, чтобы я на них не рассчитывал, чтобы понимал: все здесь пойдет так, как заведено. Она провела беседу с хозяйским сыном Петькой — ему было лет двенадцать, мне около девяти, — сдала ему меня с рук на руки и как бы отключилась, отошла в сторонку; никакие мои жалобы в расчет не принимались.
— Сам, миленький, сам справляйся, мне недосуг…
Ориентируясь на Петьку и целую ватагу его однокашников, я и стал помаленечку разбираться в окружавшем меня потрясающе подлинном мире, ничего общего со знакомым мне миром городским не имевшем. Поле, бескрайний пласт земли — и строй тракторов на нем, сразу много машин на виду, и все они одновременно, словно танки на параде, выполняют какие-то таинственные развороты. Речка, и камыши, и плоскодонка, и рыбная ловля на удочку. Лес вроде бы неподвижный, а все — живое. Сады, огороды — вкуснотища! Прогулки пешком, далеко бесконечно, пространства смыкались за нашими фигурками — как отыскать путь назад? Сперва это пугало, потом завораживало.
Я дико уставал, пытался бегать, как обычно, в сандалиях, изорвал их, сбил ноги, и вдруг как-то утром преспокойно забросил эти ненужные куски чужой кожи под кровать и, как вся наша ватага, пошел босиком. Непривычно щекотно, колко, больно, зато как приятно погружать босые ноги в пыль. Дня через два ступни огрубели, раздались, стало уютно, остойчиво, словно так и полагалось — и здесь, и всегда, — а в ботинках я ходил временно, по недоразумению. Тетя Галя приметила, конечно, мое «опрощение», но опять же ничего по этому поводу не сказала.
Мы с ребятами и работали понемногу, уж это само собой, в деревне же в с е работали, и летом — в с е в р е м я. Ворошили сено, пололи что-то на огородах — то у нас, то у кого-нибудь еще, как воробьи, усыпали грядки и с заданием справлялись вмиг; мне помогали, но только первое время.
Нас кормили за нашу работу.
Ел я со всеми, что случалось, что пришлось, что было в наличии; о готовке здесь специально вроде бы никто не думал, но в грандиозной фабрике-кухне, какой исстари безотказно служила русская печь, всегда обнаруживалось что-нибудь — на завтрак, на обед, на ужин. Правда, ели мы не слишком сытно, зато именно тогда, в деревне, я впервые познал будоражащее, подталкивающее на какие-то свершения чувство голода и все великолепие случайно перепавшей горбушки теплого хлеба с солью. Бывало, кто-нибудь из ребят притаскивал из дому несколько ватрушек из ржаной муки, куда вместо привычного для горожан творога запекали картошку. Мы запивали их теплым, солоноватым еще парным молоком — никогда более не случалось мне так остро ощутить его первозданную прелесть, вероятно, для этого все же надо быть ребенком, — а то и просто водой из колодца, и считали себя счастливыми, и могли в этот день совершить особенно дальний поход, не возвращаясь домой к обеду. Кстати, нас никто не принуждал являться к трапезе; здесь ребята — за стол, нету — вечером поедят.
Когда я попривык, мы съездили в ночное раз, другой. Я ощутил всю прелесть близости с таким благородным животным, как лошадь, мы были с ней одно; позднее, встретив в книге упоминание о кентаврах, я сразу понял, что это такое.
А тетя Галя в стороночке, в стороночке, все занимается чем-то своим, а проще говоря, работает наравне с хозяйкой; только на полевые работы она не ходила, так зато брала на себя дополнительную нагрузку по дому. Еще присматривала за моей одежонкой — стирала рубашки, аккуратно зашивала и латала порванные на очередном дереве штаны, — но, в отличие от мамы, никогда и никак не подчеркивала своей заботы обо мне, а делала все мимоходом, как любое другое неизбежное домашнее дело. Впрочем, мой «гардероб» был так скромен, что особенных хлопот тете Гале не доставлял; единственный парадный костюмчик тихо лежал в чемодане: мне было стыдно надевать его, да и зачем?
Когда я, неловко наткнувшись на вилы, раскровенил ногу, тетя Галя не подняла тревоги, как я боялся и как надеялся немного; в глубине души кому же не приятно, чтобы его пожалели, дома меня всегда жалели: бедненький Игнашенька — пальчик занозил! Мы обошлись обычными деревенскими средствами — немного паутины, мягкая тряпочка — и все зажило, к моему удивлению.
Ах, сказка, сказочка… У тети Гали и у моих родителей кончались отпуска. Надо было возвращаться в город.
Конечно, я соскучился по своему углу и по маме с папой — за месяц я написал им один раз — конечно, я понимал, как это приятно и удобно вновь обрести привычный комфорт без неожиданностей, без насмешек, без постоянных каверз со стороны каких-то неведомых сил — я так и не отучился бояться грозы, — но путь назад я проделал с тоской в душе, словно предчувствовал, что никогда более не случится мне пожить привольно, без определенных, от сих до сих, обязанностей, и заранее скучал по природе и этим удивительным людям, считавшим меня, мальчишку, равным себе.
Я не хочу этим сказать, что жизнь моя сложилась хоть сколько-нибудь неблагополучно. Она шла как ей и надлежало идти, и безостановочно вела меня за собой по достаточно стандартному пути. От меня требовалось только одно: делать все, как надо, а если хуже, чем следовало бы, то самую малость.
Со школой мы расстались друзьями, я поступил в тот же институт, что кончил не так уж давно мой отец, теперь многие так делают, проторенная же дорожка, — похоже, в семьях понемногу стала возрождаться профессиональная кастовость. В институте учился сносно; вновь не без помощи папеньки прилично распределился в одно научно-исследовательское заведение; с работой справлялся вроде, продвигался шажок за шажком — вперед и немного выше, вперед и еще чуточку выше.
Если быть точным: существовало некое снисходительное, ироническое отношение ко мне товарищей по работе, и я никак не мог понять, чем, собственно, оно вызвано. Впрямую, в лицо мне, конечно, ничего такого не говорили, но в большом, набитом сотрудниками здании неизбежно бывают ситуации, когда… Однажды все думали, что я вышел из комнаты, а я рылся в одном из шкафов, загораживавших дверь, и отчетливо услышал, как кто-то назвал меня чистоплюем.
Впрочем, почему же «кто-то»? Я знал, кто это был, знал, что эта невразумительная кличка давно прилепилась ко мне, но тогда мне было безразлично. Совершенно безразлично. Все равно. До лампочки. До фонаря. Равнодушие безраздельно владело мною, а я… я, пожалуй, упивался им: надо же хоть чем-то упиваться.
Я и женился как-то равнодушно, но своевременно и с полного одобрения родителей — тут уж первое слово принадлежало маме. Жена, моя ровесница и отчасти коллега, младший научный сотрудник, деловая женщина в очках, в первое же лето нашей совместной жизни пожелала… снять дачу для нас двоих и ее матери-пенсионерки.
— Маме необходим свежий воздух, мы привыкли жить летом на даче.
Так мне было заявлено, и заявлено категорически. Моя милая жена вообще обожала высказываться категорически обо всем на свете. Если она при этом еще курила, изящно сжимая сигарету жилистыми пальцами с фиолетовыми ногтями, высказывания получались особенно весомыми, иногда — угрожающими; она буквально млела от каждой возможности произвести впечатление.
Сам я никогда не курил.
Не смею судить, была ли эта роковая дача подлинной причиной нашего разрыва — мы едва прожили вместе год, — но в том, что разрыв наметился именно «на свежем воздухе», что как раз в душном закутке — мы отдавали за него чуть ли не половину зарплаты — взяла начало та трещина, замазать которую нам не удалось, я глубоко уверен. Мы и в городе существовали не слишком роскошно, мать жены в своей комнате, мы в проходной, не бог весть что, но терпимо, все же свой угол вроде бы, когда обе двери закрыты; здесь же нам пришлось почти четыре месяца быть запертыми втроем в неустроенной клетушке, и это было для меня адом.
Ни дочь, ни мать особой аккуратностью не отличались.
Главное, я не понимал, во имя чего вынужден я все это терпеть.
Выйти было некуда, каждый дециметр земли использовался нашими гостеприимными хозяевами на добрые сто двадцать процентов, кругом шли целые улицы из таких же точно участков, домов, времянок — туда на лето, сдав свое жилище, перебирались дачевладельцы. Лес был за тридевять земель, на единственный в округе пруд и смотреть было противно, не то что лезть в эту воду…
В самом доме «отдыхало» еще три семейства; одно из них располагало, кроме комнаты, и верандой, остальные называли их за глаза помещиками. Работать друг у друга на голове куда ни шло, надеешься отойти вечером, но отдыхать?!
И, как всегда, нужно было добывать продукты. Возить из города — от электрички двадцать минут пехом — или стоять в очереди в переполненном в летнее время местном магазине; эту вторую операцию с видом жертвы ежедневно и, думается мне, охотно проделывала теща. Если же я под любым предлогом, вплоть до мнимого нездоровья матери, пытался остаться на ночь в городе, чтобы отдохнуть от дачных прелестей, мне каждый раз устраивали скандал.
— Эгоист! — восклицала одна.
— Наследственный! — вторила другая. — Я еще его папочку знала немного: та же порода.
Разумеется, та же, странно было бы, если бы проклюнулась другая.
Честно говоря, я удивлялся тогда, удивляюсь до сих пор: неужели для молодой, в меру темпераментной женщины было важнее любой ценой исполнить дачный ритуал, чем, скажем, воспользоваться пустой квартирой и побыть в городе вечерок со мной, только со мной вдвоем? Кому ни расскажи, любому это покажется чудовищной натяжкой. Ведь на нашей «даче» мы ночью не смели лишний раз рукой двинуть, не то чтобы обнять друг друга: мамаша спала чутко, тут же, в полуметре от нас.
— Оставить одну женщину с больным сердцем?! Только ты способен додуматься до т а к о г о! — вот все, что я слышал в ответ на самые искренние предложения.
Нет, как угодно, я и дача — понятия несовместимые.
Болезнь была виновата в том, что в тот раз я изменил себе.
Я провалялся в больнице, потом дома, на мамином диване, чуть ли не полгода. Мама выходила меня, и все же я истончился и стал прозрачным, как лист кальки, голова моталась на ходу, словно у пьяного клоуна, мысли веселой чередой пробегали мимо, уворачивались, не давая дотронуться до себя. Даже когда основная болезнь сдалась и отступила, я никак не мог окрепнуть настолько, чтобы вновь включиться в нормальную жизнь. В нашем высоконаучном заведении на меня махнули рукой, хорошо еще, что вовсе не позабыли о моем существовании, все равно я был ни на что не годен: бюллетень, отпуск, отпуск, бюллетень… Лечащий врач, в ужасе оттого, что я как бы здоров, но в то же время слаб до безобразия, послушно писал все, что диктовала ему мама.
Хуже всего было то, что душа моя стала за время болезни какой-то совсем пустой; казалось, ее долго и настойчиво били вальком, а потом дочиста выполоскали в проруби. Я чувствовал себя все познавшим и всем пресытившимся дряхлым старцем.
Как-то утром — меня терзала очередная депрессия — возник печальный, серьезный дядя Миша, мамин младший брат; вы догадались уже, что папа к тому времени скончался, а я, оформив развод, вновь занял свое и теперь уже и отцовское место в квартире моего детства.
Дядя Миша брезгливо взглянул на меня — в юности у него был третий разряд по боксу — и сказал:
— Воздух.
— Что, Мишенька? — переспросила мать.
— На воздух. Немедленно. Иначе загнется.
Я хотел отрицательно покачать головой, но был явно не в состоянии совершить даже это. Впрочем, мое мнение давно уже в расчет не принималось, а мнение дяди Миши, напротив, всегда было для матери законом; как удалось младшему брату приобрести такое влияние, такую власть, я никогда разгадать не мог.
— На дачу? — задала мама роковой вопрос.
— Называй, как знаешь. Вообще-то это деревня, но там и дачники живут.
— Ты сам договоришься?
— Ладно.
— А если Игнашеньке не понравится?
— Это еще почему?
— Он дачной жизни не любит.
— Пока болен, мы и спрашивать не станем; очухается — пусть катится на все четыре стороны.
На том и порешили.
Дня через три или недели через три — время не делилось для меня тогда на придуманные людьми коротышки отрезки, оно было едино, — словом, сколько-то спустя дядя Миша прикатил на своем «Москвиче», швырнул мое бренное тело на заднее сиденье, маму усадил на переднее, чемоданы сунул в багажник, и мы отправились.
Пока мчались по асфальту, я еще кое-как держался за ниточку, точнее, за вожжи: мне все казалось, что я правлю лошадьми. Но вот нас закачало по проселку, и я сразу же отключился; из рессорной коляски я переместился на высоко нагруженный сеном воз, лошади могли плестись и без меня…
Когда я открыл глаза, оказалось, что я полулежу на завалинке, а надо мной склонилась пожилая женщина, участливо меня рассматривающая.
— Тетя Галя? — немедленно спросил я, соединив воедино деревенский колорит, телогрейку и добрые, спокойные глаза.
Женщина расслышала.
— Да, — удивленно сказала она. — Тетя Галя. Откуда он меня знает?
С трудом сдвинув голову вправо и скосив глаза, я увидел краешек стоявшего рядом со мной дяди Миши.
— Это он придумал, — ответил дядюшка. — Он у нас со странностями, но тихий.
— У него в детстве была тетя Галя, — донесся голос матери. — Гуляла с ним, он был совсем еще крошкой, вечерами иногда сидела, когда нас дома не было, в деревню они ездили…
— В деревню? — переспросила женщина. — В детстве? Вы меня так и зовите, ладно? — это уже мне.
Я улыбнулся.
— Чего это он?! — испугалась тетя Галя.
— Он так улыбается, — разъяснила мама.
Я кивнул.
— Бедняжечка… Ничего, мы его быстро на ноги поставим.
— Еще неизвестно, понравится ли ему тут.
— Понравится, — произнес я довольно, кажется, внятно.
Они никак не реагировали; подозреваю, они не заметили, что я что-то хотел сказать.
Дядя Миша тут же уехал, а мы с мамой зажили у тети Гали. В наше распоряжение была отдана просторная комната на первом этаже. Хотя находились мы в самой обыкновенной деревне, но дом оказался не избой, а постройкой, действительно близкой к даче — две комнаты и веранда с кухней внизу, и мезонин.
Со школы, с того дня, как я прочел рассказ Чехова «Дом с мезонином», мне бесконечно нравится французское слово «мезонин»; мне представляется, что оно из тех немногих слов, которые способны облагораживающе воздействовать на человека даже будучи взяты отдельно, без контекста. Тихая мечта — пожить в мезонине, пожить спокойно, привольно, распоряжаясь самим собой, — угнездилась с той поры во мне. И вот теперь…
— Слабенький ты, голубчик, — покачала головой тетя Галя. — Нам тебя и вдвоем не втащить. Кроме того, у меня в мезонине постоянные люди много лет живут, отказать я им никак не могу, тем более, у них — горе.
— Какое горе? — немедленно спросила мама. Она любила утешать кого-нибудь и советовать, как вести себя в трудных случаях.
— Отец у них попал в автомобильную катастрофу. Слава богу, в тот день он в машине один ехал, она-то с детьми дома осталась… Я сколько раз обмирала, видела, как плохо он с машиной управляется… Ему даже тут, перед домом, развернуться — и то мученье, а уж на большой-то дороге… Я и ей, бывало, зудела, чтобы детей лучше поездом возили, а она такая тихая, такая робкая, разве возразит… Ручкой махнет, и все дело… А деток-то — трое. Да вот переедут они недельки через две — познакомитесь.
Они переедут в мезонин. Какая-то тихая женщина будет жить в мезонине, над моей головой, станет гулять по саду… Тихая женщина, какое это, вероятно, счастье, когда рядом тихая женщина… И дети, трое детей… Может, балованные, может, сядут на голову? Вряд ли, у таких женщин вырастают обычно хорошие дети, материнская ласка — лучший воспитатель… А почему, собственно, женщина? Дама. Дама станет жить в мезонине и гулять в белом платье, со светлым зонтиком — от солнца…
Просыпаясь утром под ворохом одеял, я прислушивался: не раздаются ли легкие шаги над головой? Но дни шли, а все было тихо. Спросить у тети Гали я не решался — избегал всего, что могло вызвать недоумение.
Дней через десять я окреп настолько, что мог уже чуть ли не самостоятельно выбираться в сад. В буквальном смысле слова садом участок возле дома назвать было нельзя. Там росли, правда, и несколько фруктовых деревьев, и десяток кустов смородины и малины, и грядки имелись с овощами и земляникой, но весь центр небольшой территории представлял собой ничем не засаженную лужайку. Траву тетя Галя скашивала козе, и три скульптурные группы березок, росших непринужденно, как какой понравится, составляли чистый, ничем не заслоненный и не опошленный ансамбль. Я окрестил наш участок «лесосадом», и то, что тетя Галя не стала алчно выколачивать из своей землицы ее дары, а оставила рядом с домом кусочек лесной опушки — хотя и сам лес виднелся не в таком уж отдалении, — еще больше расположило к ней мое сердце.
Под одним из березовых содружеств, тем, что поближе к дому, мне ставили раскладушку, и я укладывался на нее, как только солнце достаточно прогревало воздух.
У каждого возраста есть свое блаженство и есть свои открытия в области блаженства. В тридцать три года я открыл для себя одно из величайших наслаждений — спать на воздухе. Не с открытой форточкой или окном, а вне дома, под деревьями, на траве.
Мне и раньше пришлось однажды проспать две ночи на карадагском плоскогорье в Крыму, тоже на раскладушке, без палатки, под открытым небом. Ничего особенного я не ждал, лег, как обычно, постелил простыни, надел пижаму, шейный платок — мои спутники-туристы, залезшие, не раздеваясь, в спальные мешки, смеялись до упаду, — укрылся на всякий случай потеплее и заснул. Примерно через час непрерывный тихий гул разбудил меня. Я приподнялся на локте. Внизу, под кручей, далеко уходила в черную воду Черного моря дорожка, небо было полно звезд… Все было спокойно, а гул не прекращался. Только окончательно проснувшись, понял я, что гудит ровный и долгий поток воздуха, уходящий с плоскогорья в море, поток сухого, теплого воздуха, прокладывающий себе путь в непроглядную, неизведанную темноту. Так и спал я всю ночь, просыпаясь, слушая ветер — он стих только к рассвету.
Вторая ночь прошла так же, и тоже оставила в моем сознании свой след, но всего очарования спать на воздухе тот ночлег мне не открыл, — возможно, я был слишком для этого молод или слишком здоров… О тех крымских ночах я вспомнил только один раз, в самой неожиданной и неподходящей ситуации: наблюдая по телевизору за первенством мира по футболу, происходившим в Аргентине. Не знаю, запомнился ли вам первый матч с участием хозяев, который мы транслировали? Меня поразила аналогия: аргентинские футболисты шли сквозь порядки противника так же ровно и спокойно, с таким же безостановочным, постоянным напряжением и с такой же неизбежностью, я бы сказал, как уходивший с карадагского плоскогорья воздух. Если бы они накатывались волнами, как это обычно бывает в футболе, остановить их можно было бы как любую другую команду — встречной волной. А они просто бежали раскованно, непринужденно, элегантно, уверенно, как ветер, с одного конца поля на другой, и о том, чтобы остановить их, не могло быть и речи.
А вот на лужайке у тети Гали сон на воздухе стал для меня откровением. Я лежал, бессильный, под хрупкими, но и могучими в своей жизнестойкости березками, с каждым вдохом в меня, вытесняя хворь, вливался упоительный солнечный мир, и я сразу же переставал быть «больным человеком», а делался неотъемлемой частицей этого мира. Скажем, умереть в муках, в ужасе перед тем, что с о м н о й покончено, — я уже не мог: если бы, погружаясь в сон, я растворился в содружестве деревьев, травы, цветов, в неиссякаемом потоке энергии, то вот это-то и было бы высшим блаженством.
Один-единственный вдох давал такое ощущение, а я мог нежиться сколько угодно, моей прямой обязанностью было дрыхнуть, пока не поправлюсь.
В один из солнечных дней я лежал на привычном месте. Спалось мне как-то особенно крепко и ладно. Но вот, сквозь дрему, я почувствовал, что куртка, которой я прикрывал лицо от мошкары, свалилась на землю. Рвать шелковинку сна, чтобы поднять куртку, не хотелось, не было сил, как вдруг, словно приглашая меня не двигаться, куртка вновь очутилась на мне, расправилась, окутала голову со всех сторон… Чьи-то маленькие руки поволтузили по лицу… Я прислушался: детские голоса.
— Мама сказала, он, бедненький, больной.
— И еще какой-то…
— Неухоженный.
— Не-ухо-женный… А что это такое?
— Почем я знаю… не уходит долго…
— Откуда?
— От верблюда! Из гостей не уходит, из дома, из сада… Ты же видишь, сколько он уже проспал, а уходить не собирается.
— Да-а, уж неухоженный, так неухоженный…
Слабость мешала мне расхохотаться, да и не хотелось обнаруживать себя. Соорудил едва заметную щелку, выглянул.
Две девчоночки, лет шести и лет четырех, возились вокруг. Веселые, лукавые мордочки…
— Девочки! — послышалось от дома. Незнакомый женский голос.
Это она, наконец?
Действительность не имела с моими грезами ничего общего.
Опущенный в землю взгляд; изредка — натянутая улыбка; три излюбленных слова — да, нет, извините, — она словно не знала других; чуть что — дети…
Но все это еще куда ни шло, главная беда заключалась в том, что женщина была некрасива. Отекшее лицо, словно из ваты, невыразительные бледно-зеленые глаза, брови цвета выцветшей соломы, волосы если и темнее, то самую малость, прически никакой. Тонкие, всегда крепко сжатые губы. Косметикой она не пользовалась.
Белое платье, правда, имелось, она носила его постоянно, и оно было идеально чистым, но на ее безалаберной фигуре платье висело, как стянутый случайным обрывком веревки балахон. Высокий рост почему-то не только не делал женщину стройной, но бесповоротно лишал взыскательный мужской взгляд надежды на то, что под этим непонятного покроя белым саваном может укрываться хоть отдаленное подобие античной статуи — вот уже две тысячи лет все мы подсознательно бредим ее пропорциями. Да-да, полно лицемерить, самые стойкие из нас готовы забросить наиважнейшие дела и сломя голову кинуться вслед первой улыбнувшейся им «статуе» или хотя бы «статуэтке», даже если ее пропорции — беззастенчивая ложь, если они искусно достигнуты аршинными каблуками; мы видим их, конечно, но склонны считать каблуки как бы частью тела — их линию мы автоматически приплюсовываем к линии всей ноги… Или нам все-таки важнее, как женщина в ы г л я д и т, чем то, какова она на самом деле?
Как выяснилось впоследствии, внешность моей Незнакомки производила наиболее благоприятное впечатление, когда она разговаривала с вами сидя, а еще лучше — полулежа на диване, но тогда я этого знать не мог. Как-то так получилось, что она почти никогда не сидела в моем присутствии, да и дивана у тети Гали в доме не водилось; когда же она стояла или шла, а я смотрел на нее со своего ложа, она более всего напоминала закутанную в кусок плотного тумана небольшую телевизионную башню — для домашнего употребления. Торчавшие из-под платья ступни какого-то невероятного размера, упрятанные в допотопные лодочки на английском каблуке, довершали дело.
Разочарован я был, что называется, до глубины души.
Может быть, именно от злости на самого себя я и стал поправляться особенно быстро.
И еще дети помогли. Ах, какие это были дети! Если я и влюбился в кого-нибудь с первого взгляда, то уж никак не в мамашу, а в ее ребятишек.
Надо сказать, мне и раньше доставляло удовольствие беседовать с маленькими детьми. Со взрослыми — как? Встретишь человека и принимаешься ходить вокруг да около, не зная, как пробить брешь в коконе из лицемерия, хвастовства, полуправды, болезненного самолюбия — все это, и многое другое, в изобилии разложено вокруг, стоит лишь руку протянуть, и мы радостно накручиваем на себя как можно больше, боясь прослыть примитивами. Ткнешься в такую мумию раз, другой, а потом махнешь рукой да и отойдешь в сторонку.
А с ребенком все просто — до школы, во всяком случае. Или вы симпатичны друг другу, или не симпатичны. В последнем варианте и связываться нечего, никого это не обидит, все равно вы существуете на разных уровнях. Если же намечается взаимная симпатия, то развить ее — одно удовольствие, ибо «да» в устах ребенка означает «да», «нет» — «нет». Чего ж еще?
Зинаидины дети — она так и представилась мне: протянула бледную, тонкую руку и произнесла: «Зинаида» — сразу же вызвали во мне симпатию самую горячую. Девочки были хохотушки, не ныли, не капризничали, а уж как заботились они о бедном больном и неухоженном! Трехлетний увалень Ваня, совершенно самостоятельный мужчина, ни мне, ни кому другому не мешал; средняя, Агнесса, охотно с ним возилась, ей были еще интересны его игры.
Зато Тамара, старшая, несомненно предпочитала мое общество. Создание по природе своей исключительно деликатное, она прекрасно усвоила пожелание матери не приставать ко мне, не навязываться; тем полнее и ярче раскрывалась девочка, когда я подзывал ее к себе.
Так как сидеть на самой раскладушке рядом со мной Тамаре было не очень удобно — тесно, и жесткая трубка-край врезалась в ножки, — я, уходя утром в сад, захватывал специально для нее маленькую табуретку, нашлась такая у тети Гали на кухне. И вот стоило Томочке заметить, что я проснулся, она издали искала глазами мой взгляд, чтобы прочесть в нем желанное «пора». Сигнал я подавал с радостью, ибо кому же не приятно сознавать, что есть живое существо, жаждущее твоего общества. Малышка мигом прилетала и взбиралась на табуретку, а куклу или любой другой предмет, который был у нее в руках, клала возле на траву. Если же мы еще не виделись в этот день — бывало, что, когда я уходил на лужайку, они еще спали или, допустим, пили молоко у себя в мезонине, — то она, прежде чем усесться, подходила к изголовью и целовала меня.
Конечно, обряд возник не сразу, понадобилось некоторое время, пока она привыкла ко мне и, надеюсь, по-своему полюбила меня, но поцелуй этой девочки приводил меня в прекрасное настроение, я делался бодрее. Да что говорить: я бриться стал тщательнее! Зато если Тамара почему-либо не выходила играть, если шел дождь и мы сидели каждый в своей комнате… Наблюдая меня в такие дни, мама расстроенно качала головой:
— Ах, Игнашенька, чужой ребенок… Пора бы и о своих подумать, давно пора…
Чуть ли не бездна разверзалась перед мамой при слове «чужой», я не ощущал ее; трудно подыскать более показательный пример того, как мало мы понимали друг друга. Не знаю, сумею ли я испытать больше нежности к собственной дочери — у меня пока нет ее, — буду ли больше жаждать общения с ней, в чем это выразится. Но тут…
Мы толковали с Томочкой обо всем на свете, и я конечно же придумывал для нее сказки. В моем тогдашнем состоянии это было непросто, но необходимость логично строить сюжет очень своевременно призвала к порядку расхлыстанное болезнью мое воображение. Сперва я попытался было сочинять что в голову взбредет, и порождал в изобилии ничем не связанные между собой эпизоды. Только номер не прошел. Натолкнувшись несколько раз на недоумевающий, сочувствующий больному и несколько покровительственный даже взгляд девочки, я устыдился и стал более тщательно собираться с мыслями; случалось, придумывал сказку накануне вечером.
Так текла наша жизнь. С каждым днем я становился все крепче. Дети окружали меня. Их мать уже не так старательно уклонялась от бесед со мной, да и мое первое впечатление стало понемногу меняться; еще бы, я различал теперь в ней черты ее детей, Тамарины черты…
Но до сближения было далеко. Зинаида занималась исключительно хозяйством: готовила, стирала, ходила с детьми гулять — с зонтиком от солнца, только не белым, а цветастым. Уложив малышей, читала. Выходя поздно вечером во двор, я всегда видел в мезонине свет.
Моя мама, почуявшая женским сердцем, что ее сын готов влюбиться во вдову с тремя детьми, успокоилась, видя, что никакого «романа» нет и в помине. Она искренне сочувствовала Зинаиде, несколько раз они с тетей Галей обсуждали в моем присутствии незавидное положение, в котором оказалась молодая женщина после гибели мужа. Горе, придавившее ее плечи, завалило, казалось, все выходы в нормальную жизнь. Зинаида даже с работы уволилась тогда же, осенью, а теперь вот при первой возможности уехала с детьми сюда… На что жила? Были скромные сбережения, получила страховку за разбитую машину, родители помогали — и ее, и мужа… Но до бесконечности так продолжаться не может, она уже думает о том, чтобы с осени вновь идти работать, как же иначе, не тунеядка же она, хотя совершенно непонятно, откуда бедняжке взять силы и, главное, что будет с ребятишками?..
Нежданно-негаданно приехал дядя Миша.
— Трудиться, — сказал он, едва только взглянул на меня.
— Что ты, Мишенька! — всплеснула руками мать. Похоже, она первый раз в жизни готова была не согласиться с братом.
— Немедленно на работу, — поставил дядя Миша диагноз. — Чтобы оглобли его подперли, а то опять куда-нибудь не туда свернет.
Как ни странно, упоминание о работе не вызвало у меня неприятных ассоциаций.
— Хорошо, — сказал я. — Только жить я останусь здесь.
— Как это? — поразилась мама.
— До зимы хотя бы.
— Отсюда станешь ездить? Каждый день? — она не верила своим ушам, уж мама-то меня хорошо знала.
— А что? — поддержал меня дядя Миша. — Полчаса хода до станции, час на электричке. Молодец.
Это он впервые меня так ласково назвал.
— Полтора часа на дорогу?! — ахнула мать. — А с вокзала в городе? А обратно?
— И обратно, — спокойно, совсем как дядя Миша, сказал я. — Не я один. Многие через весь город ездят. А в электричке тепло, читать можно.
— Но я никак не могу оставаться здесь долго… — выложила мама последний аргумент; почему она не могла, один бог ведает.
— Тебе и не надо, — миролюбиво ответил я. — Тетя Галя меня накормит. Верно, тетя Галя?
— Верно, Игнашенька, верно. Накормлю, не сомневайтесь. Мне только в радость — все не одна.
— Точка, — сказал дядя Миша.
И увез маму.
А я стал ездить на работу.
Вставал по будильнику в шесть тридцать. Умывался до пояса колодезной водой — еще одна радость, открытая мною в здешних местах. Разогревал вчерашнюю картошку или кашу, выпивал пол-литровую банку молока и, приветствуя новый день, шагал лесом три километра до станции. В девять пятнадцать я сидел уже за своим рабочим столом; в восемь вечера был опять дома, и всегда с гостинцами — их я раздобывал во время обеденного перерыва. С разного рода собраний, учитывая мой «восстановительный период», меня отпускали без звука.
Субботы и воскресенья, естественно, были целиком моими. Точнее, нашими. С утра мы с девочками уходили обычно в лес. Там, километрах в трех от деревни, сверкало идеально круглое крохотное озерцо; подведя меня к нему впервые, тетя Галя назвала озерцо местным словом:
— Бочажок…
Нам было уютно у черной воды. С одной стороны к бочажку вплотную подступал лес, с другой начинался заболоченный луг. У бочажка мы всегда делали привал; я дремал, привалясь к неведомо как попавшей сюда карельской березе, а девочки аукались с лешим. Потом мы не торопясь брели домой.
У бочажка ко мне, сквозь дрему, прокралось однажды видение: словно выпрыгнув из иллюстрации в книге «Крестьянские дети», Тамара и Агнесса предстали вдруг предо мной в лапотках, платочках, каких-то сермяжных армячках — надо сказать, наряд этот прекрасно гармонировал с выданными им тетей Галей берестяными кузовками. Видение было таким реальным, что я долго тряс головой, прежде чем отогнал его.
Вечера стали темные, ранние, мы коротали их втроем: тетя Галя, Зинаида и я. Уложив детей, она теперь всегда спускалась к нам. Что изменилось, недоумевал я, неужели ей мешало присутствие матери? Впрочем, причина была не так уж важна… Каждый из нас занимался своим делом. Я часто привозил с собой работу — мне удавалось освободиться в городе пораньше с тем, чтобы в темпе закончить спешное задание дома; иногда я отбивал для этой цели полностью «библиотечный день». Зинаида возилась с детскими вещами или читала; меня поражала ее способность не выпускать книжки из рук: сам я читать не люблю, предпочитаю свои наблюдения чужим, да и дома у нас никто не читал так помногу. Тетя Галя готовила соленья на зиму, или гладила белье, или шила. Потом мы все вместе пили чай, слушали транзистор, мою любимую игрушку, беседовали. Телевизора у тети Гали не было.
Помню поразившее меня однажды ощущение, что вот это и есть моя настоящая семья. Ни с одной из сидевших рядом женщин меня не связывали никакие «узы» — не потому ли мне было так удивительно хорошо и покойно с ними? Я проникся ответственностью: как-никак я был в нашем доме единственным мужчиной. Приспособился орудовать топором, пилой, лопатой, молотком — мало ли что могло случиться, женщины и дети не всегда и не со всем могут справиться. Хотел бы я посмотреть на того, кто теперь посмел бы обозвать меня чистоплюем — после моего выздоровления дурацкая кличка сама собой отошла куда-то в прошлое.
Не было ли это результатом того, что с каждым днем таял и становился меньше цилиндр из льда, последние годы сковывавший все самые искренние и горячие мои порывы? Когда и как нарос лед, я не знаю, но ледяная болванка поработила меня, настойчиво и бесцеремонно захватила в полон сердце — только кумушки думают, что сердце можно вылечить при помощи одних лекарств…
Почему цилиндр, почему из льда? Точно не возьмусь ответить, но, если бы я сумел забраться туда рукой, пальцы без промаха нащупали бы цилиндрической формы ледяшку, наподобие тех, что вываливаются весной из водосточных труб. Кроме того, один раз я видел во сне человека в разрезе — такой плакат висел в кабинете биологии в школе, — человека без кожи, но с моим лицом, и вместо сердца у него был нарисован аккуратный беленький цилиндр.
Так вот, теперь, ложась спать и обдумывая в тишине промелькнувший день, я все лучше слышал свое сердце.
Я не связывал это с Зинаидой. Я привык смотреть на нее, как на мать детей, которые были отчасти и моими, я многое знал теперь о ней, и многое мне нравилось, она стала необходимой для меня в той же мере, что и тетя Галя, — не судите меня строго, мама была мне необходимой только как сиделка во время болезни или как хозяйка дома, где я жил. Но этим наше сближение ограничилось.
Правда, когда белое платье пришлось сменить на более теплые вещи темных тонов, это пошло на пользу ее внешности — особенно порадовали меня свитер в обтяжку и брюки, — но я-то по-прежнему оставался для нее лишь милым и забавным соседом. Ну, может быть, кем-то вроде троюродного брата или, скорее, племянника; тогда-то, подтрунивая надо мной, — любимое занятие! — она и окрестила меня Малышом.
Нет, если уж кто и был непосредственно причастен к высвобождению моего сердца из ледяных тисков, так это дети. До своего отхода ко сну они и в будни играли часок со мной. Томочка знала точно, когда я должен появиться вечером, выходила встречать меня за ворота, высматривала издали и бежала мне навстречу, раскинув руки. Потом нам одновременно накрывали на стол — мне, усталому «кормильцу», и им, поросятам…
Так пролетел сентябрь. А в октябре, месяце свершений, однажды поздно вечером произошло событие, окончательно изменившее мою жизнь.
В тот день я засиделся допоздна. Надо было во что бы то ни стало сдать завтра с утра срочную работу. В город мне ехать было не нужно, времени вроде бы сколько угодно, только… На рассвете мы с тетей Галей и Тамарой отправились по грибы, долго и весело бродили по лесу, после обеда я крепко спал, а потом набежали малыши, я стал строить им из чурок кораблик — нельзя же было, чтобы Тамара прослыла любимицей…
Словом, за работу я взялся только после ужина, но сидел не вставая, даже чай забрал к себе в комнату. Устроившись возле жарко натопленной печки, я трудился с остервенением, можно сказать, вдохновенно — последнее время мне все чаще удавалось т а к работать. Шариковая ручка летала по бумаге, исписанные листы, словно след от гребного винта на волнах, лежали на столе, на лавке, на двух табуретках, на чистом дощатом полу, повсюду.
Дети зашли сказать мне спокойной ночи — как это прекрасно, когда есть кому пожелать вам, чтобы и эта ночь прошла спокойно… Потом их увели спать. Некоторое время наверху еще слышался легкий гомон, какие-то микровзрывы веселья, мне отнюдь не мешавшие, скорее напротив, настраивавшие меня исключительно оптимистически, но постепенно в мезонине все стихло. Тетя Галя, после нашего утреннего похода, тоже решила лечь пораньше, и к десяти во всем доме воцарилась устойчивая тишина.
Прошло часа полтора или два. Я сделал маленький перерыв, выпил залпом стакан холодного чая — конец был уже ясен, оставалось написать его — и только вновь углубился в работу, как на лестнице послышались странные звуки, кто-то прерывисто, неуверенно, но и очень мягко топотал по ступенькам, не как человек, скорее как гном. Все ближе, ближе, дверь распахнулась и на фоне черного квадрата возникла фигурка Ванюши, младшенького. В теплой фланелевой пижамке, розовой в голубую полоску — он донашивал ее после девочек, — босой, с искаженным неведомым страданием личиком, Ваня вглядывался, не видя, в яркий свет настольной лампы и мой силуэт, согнувшийся над бумагами, а потом вскрикнул тонким, срывающимся голосом:
— Папа! Папочка-а!
Я хотел было вскочить, но, услышав его зов, прирос к стулу. Ребятишки до сих пор тяжело переживали внезапное исчезновение из их жизни отца, горячо любившего и баловавшего всех троих. Словно избегая встречи с чем-то страшным, они старались не говорить об отце, а взрослые конечно же не упоминали о случившейся трагедии в их присутствии, но малейший намек, легчайшая тень воспоминания способны были вызвать обильные слезы. Со временем это случалось все реже, рана как будто затягивалась, но вот неожиданно, ночью, передо мной возник Ванюша, и слезы текли по его лицу, и он тянул ко мне ручонки, всхлипывая:
— Папочка… папочка…
Я не смел шелохнуться, не зная, как должен я поступить. Душа моя рвалась к мальчику — броситься рядом на колени, обнять его и шептать в маленькое ухо: да, я твой папа, успокойся, милый, ложись спать, я не оставлю тебя, я буду тебе хорошим, настоящим отцом… Но — что будет завтра? Что станется с ним, со мною, со всем нашим маленьким миром, когда мать услышит от него о моей кощунственной лжи?
Тут раздался сдавленный вскрик, и рядом с малышом появилась Зина, бесшумными прыжками преодолев те несколько ступенек, что вели в мезонин. Тоже босая, в длинной ситцевой ночной рубашке с квадратным вырезом на груди — почему мне запомнилась форма выреза? — с распущенными волосами… Подхватила мальчика на руки, прижала к себе и замерла, словно статуя скорби. Тонкая ткань сорочки не могла скрыть ее тела — гибкого, сильного, готового защитить сына.
От кого защитить? От меня?
Я очнулся, поднялся, шагнул к ним, не ведая еще, что скажу, как поступлю, но в этот момент прозвенел знакомый дробный топот и в комнату влетела проснувшаяся, очевидно, от включенного матерью света и от Ваниных рыданий Тамара. Не раздумывая, не задержавшись ни на секунду возле матери, она с зажмуренными глазами кинулась ко мне. Ей это было привычнее, чем братишке, она обнимала меня каждый день.
Я поднял девочку, и она тоже разрыдалась у меня на груди. Просто спросонья? Или потому, что уже плакал Ваня? А что, если Томочка инстинктивно боялась потерять меня?
Так мы с Зиной стояли друг против друга, каждый с плачущим ребенком на руках, и не могли вымолвить ни слова. Но именно в эти несколько мгновений я отчетливо ощутил, как свободно и мощно заговорило мое сердце, растопив последнюю корочку льда. Высокий простор стал внезапно доступен моим мыслям, я прозрел, и первое, что открылось мне, было то, как прекрасна эта женщина.
Я был уверен в ту минуту, что д л я м е н я она останется прекрасной много, много лет…
Скрипнула дверь, появилась заспанная тетя Галя, погладила Тамару по голове, сказала:
— Брось дурындиться, Томка, ты же у нас старшая.
И своенравная Тамара послушно стала затихать, а вслед за ней замолк и малыш.
Тогда Зина повернулась и, мерно ступая своими длинными ногами, понесла сына наверх. Я последовал за ней в их комнату, куда ни разу до того не заходил. Последовал потому, что, ничего не сказав ни Тамаре, ни мне, Зина молча дала мне на это право. Поднимаясь передо мной по лестнице навстречу лившемуся из мезонина свету, она, в сущности, обнажала себя, но она не стыдилась моего взгляда, и это сказало мне куда больше, чем самые взволнованные речи.
Внезапное чувство нежности к безоглядно доверившейся мне женщине было таким сильным, что у меня перехватило дыхание, и я был вынужден остановиться, и крепче прижать к себе ее дочь, и даже прислониться на секунду к перилам. А она продолжала спокойно подниматься со ступеньки на ступеньку — земная, гордая, родная.
Повинуясь ее безмолвному кивку, я уложил Тамару рядом с крепко спавшей Агнессой и вынужден был присесть на край постели — девочка не отпускала мою руку. А Зина положила Ванюшу к себе на большую кровать, и он мгновенно уснул. Как умудрился он ускользнуть, проснувшись? Как удалось ему не разбудить мать? Как не упал он на лестнице?..
— Их отец часто работал в той комнате, — сказала женщина тихо, словно извиняясь за детей, нарушивших мой покой. — Там, под дверью, большая щель, идет широкая полоса света…
Я ничего не ответил.
Когда заснула моя девочка, я так же молча, не попрощавшись с Зиной — в душе я не сомневался теперь, что еще сегодня, сейчас будет сказано то, о чем мы оба все время молчали, — спустился вниз и вышел на крыльцо. Темнота ненастной ночи сразу же надвинулась на меня с трех сторон, словно и не было только что теплого мира — там, наверху. Потрясенный, я долго стоял неподвижно, без мыслей, и только одна светлая истина раз за разом прорезала тьму. Если я вновь останусь один, без нее, если я ее потеряю, мое существование станет окончательно бессмысленным… И еще: какое счастье быть отцом таким детям… И снова: нельзя, нельзя дать ей уйти…
Сколько времени прошло — понятия не имею; минуты опять сцепились в одну бесконечную ленту, только на этот раз не они повелевали мной, а я ими.
Как хлопнула позади дверь, я услышал с опозданием. Неожиданно две руки обвили мою шею и сзади ко мне, закоченевшему в тонкой рубашке, тепло прижалось что-то мягкое… бугорки… бугорки… Только тогда зафиксировал я и звяканье дверной щеколды и сразу вслед за тем шепот:
— Спасибо… Спасибо тебе, дружок…
В эту секунду я начал жить свою настоящую жизнь.
Повернувшись, я крепко обнял Зину и стал целовать без разбора, куда придется — лицо, руки, шею, наброшенную на плечи телогрейку…
Она шептала что-то, шептала до тех пор, пока мои губы не нашли ее рот и не замкнули его — тогда она ответила долгим поцелуем.
Меня еще никто так не целовал.
И мы вошли в дом, и поднялись наверх, взглянуть, все ли там в порядке, и я увел ее в свою комнату, и она не сопротивлялась, хотя наши дети могли, конечно, опять проснуться.
О чем мы говорили с ней в ту ночь, вы уже знаете.
Когда я вечером на следующий день вернулся из города, тетя Галя, хитренько улыбаясь, поздравила меня.
Деликатно, чтобы не услышали ребятишки.
ОБРЯД
Я последний раз с вами прощаюся, Навсегда от вас удаляюся[1].Они поженились.
Они поженились вчера.
Как водится, Дом свадеб навестили, цветочки возложили куда следует, потом, говорят, пир горой был, семьдесят шесть гостей да приглашенных; на третий день брат невесты их куда-то в деревню увез — на лоно природы.
А я осталась одна.
Своими руками отдала любимого другой, состарилась лет на десять — и осталась одна-одинешенька.
Оправлюсь ли от удара безжалостной судьбы, нет ли — не знаю…
По загуменью тропиночка бежит, ах, ну! По тропиночке дружок бежит, ах, ну! Он бежит, бежит, бежит, ах, ну!..Мы дружили весь седьмой класс и весь восьмой. Вместе в техникум заявления подали. Городок у нас крохотный, больше и поступать-то некуда, но мне уехать никак нельзя — мама все болеет.
А раз осталась дома я — остался и Вася. Ну, так что с того? Дружбу свою мы не прятали. Любовь — тоже. Пожениться решили сразу, как техникум кончим да на собственный заработок жить начнем. Это я так предложила, Вася согласился.
Именно сейчас, в эти самые денечки, могла бы состояться наша свадьба…
А пока мы были неразлучны с утра до вечера и ни разу друг дружке не наскучили. О том, чтобы Вася пошел без меня на каток или я без него в клуб, просто речи быть не могло.
Душа в душу.
Мы и думали обо всем одинаково — когда книжки читали, или кинофильмы обсуждали, или выглядывали через телевизор в необъятный мир. Я скажу — Вася согласится. Он что-нибудь не то ляпнет — я его поправлю. Уступали, конечно, в частностях, в главном всегда заодно.
Душа в душу, душа в душу.
Многие нам завидовали, только мама сомневалась почему-то в наших категорических планах на будущее. «Обождите, цыплятки, загодя решать, еще переменитесь оба десять раз…» Не то чтобы она лично против Васи настроена была, нет-нет, ничего такого. Посмеивалась иногда легонечко: «Тоже мне жених, молоко на усах не обсохло…»
Я маме не перечила; с детства усвоила, что спорить со взрослыми бессмысленно, только время терять.
И жили мы спокойно. А наша дружба с Васей крепла не по дням, а по часам.
Не было ветру, не было ветру — Вдруг навеяло. Не было гостей, не было гостей — Вдруг наехали.Прошлым летом стали в нашем городе кино снимать.
Я внимания бы особого не обратила — снимают и снимают, — но только как-то под вечер раздается звонок и к нам заявляется не кто иной, как Пашка Иноземцев, бывший сосед. Лет пять назад он в Москву, к дяде, на жительство перебрался.
Влетает это Пашка, расфуфыренный по-столичному, с коробкой конфет в руках, осыпает меня комплиментами, даже в щеку чмокает под горячую руку и, после первых охов и ахов, заявляет, что, поскольку он работает теперь в кино и группа приехала сюда на ответственные съемки, а в гостинице отдельного номера ему не предоставляют, он просит разрешения пожить у нас месяцок. Со своей стороны он, Пашка, имеет полную возможность дать мне подзаработать, если, конечно, у меня время и охота имеются.
Времени у меня всегда достаточно — человек я организованный, четкий, учусь ровно, без завалов и хвостов, — а от денег кто ж откажется?
— Как это — подзаработать? — спрашиваю.
— Очень просто, — отвечает Пашка. — Нам натура нужна, а платим мы — будь здоров.
— Что за натура?
— Ох, темнота, — трясет Пашка своей лысеющей башкой. — Ну, попросту ежели — снимать тебя будут.
— Так я же не артистка, — говорю. — Не играла никогда, даже в самодеятельности, опыта никакого нету.
— А играть тебя никто не просит. Делай, что режиссер велит, — вся задача. Оденут тебя, поставят как надо либо посадят — и снимут. Это и называется натура. У нас ведь студия не художественная, а научно-популярная.
— В толпе, что ли, стоять?
— Зачем в толпе, зачем в толпе! — Пашка вроде злится. — В толпе статисты стоят, а тебя крупным планом возьмут — крупешник называется. Только будешь ты наподобие манекена, играть не придется ни капельки.
Из трубочки трубочка вилася, Вот вилася, вот вилася, ай, вилася. Вылетала из трубочки голубка, Ай, голубка, ай, голубка, ай, голубка…Ничегошеньки я не поняла, стала Пашку тормошить, и он мне мало-помалу все выложил, — вот только кем он сам в этой группе числился, обнаружить не удалось.
Приехали они снимать фильм о старорусском свадебном обряде, поэтому и городок наш выбрали — он еще много старинного в своем обличье сохранил.
— Это я посоветовал, им бы самим ни за что в голову не пришло! — бахвалился Пашка.
Вот кто моей судьбой-то оказался! Без него ни одной киностудии сюда не доехать, уж это точно.
Свадьба будет показана в чистом виде — без всяких там пьяных драк, религиозных и прочих антинаучных наслоений. Специальная хоровая группа исполнит полный набор свадебных песен — величальные, корильные, хороводные, причитанья разные.
А вот исполнителей на роли новобрачных, родителей жениха и невесты, тысяцкого, дружек, подружек, гостей-поезжан решили среди местного населения подбирать. Так режиссура задумала: архитектура здешняя и люди коренные, — профессионалов им и даром не надо.
— Как раз ты, — говорит Пашка и бесстыдно меня оглядывает, — как раз ты, с твоими внешними данными, вполне можешь невесту изобразить. В самом соку! Дело только в том, чтобы жениха подобрать поточнее.
А сам хихикает и галстук поправляет.
— Обожди с женихом, — говорю. — Жених найдется. А вот как с моей модной прической быть? Неужто она для древней свадьбы подойдет?
— Опять не твоя забота. И как только ты можешь так упорно сомневаться в силе искусства?! Грим сделают любой, еще и косу привесят — комар носу не подточит.
— Тогда другое дело, — говорю. — Тогда я согласна. Любопытненько будет на себя в кино поглядеть. И на жениха у меня твердая кандидатура имеется, завтра познакомлю.
— Это как же понимать — твердая? — изумляется Пашка. — Только на роль жених или, может, всерьез?
— Тебе-то что?
— Сориентироваться никогда не мешает.
— И на роль, и всерьез!
Вам уже ясно, о ком речь? Заработаем, думаю, с Васенькой деньжат, на юг вместе съездим, к теплому морю.
— Заметано, — как-то кисло говорит Пашка.
В тот же вечер он поселяется в моей комнатенке, а я временно к маме перебираюсь.
Назавтра он знакомится с Васей и, конечно, остается им доволен, а Вася, конечно, дает согласие — вместе со мной он хоть куда, хотя вообще-то паренек застенчивый.
И тогда Пашка ведет нас к режиссеру.
Раздайся, народ, Девья красота идет! Не сама она идет — Ее ноженьки идут. Не сама она несет — Ее рученьки несут…Мы заходим в гостиницу, — одно название! — поднимаемся на второй этаж, подходим к дверям, стучим.
Открывает нам заспанный чернявый человечек небольшого росточка; увидев его, Пашка сразу сникает, теряет свою значительность, тихо говорит что-то хозяину номера и отходит в сторонку.
А режиссер буквально кидается к Васе, поворачивает его по-всякому, даже по руке от волнения гладит — так необычайно ему Вася нравится.
Распортретная картиночка, Ай, люли-люли-люли! Наливное сладко яблочко, Ай, люли-люли-люли! Удалой добрый молодец, Ай, люли-люли-люли!Что и говорить, Вася был у меня — загляденье. Стройный, но и представительный — это в восемнадцать-то лет! Лицо обаятельное, глаза голубые-голубые, русые волоса вьются немного, носик ровненький, на верхней губе усы пробиваются, ушки топориком, улыбнется — рублем подарит.
Парень, как водится, краснеет, а режиссер то отбежит от него, взглянет издали, то вновь подойдет, то присесть попросит, то встать, — видно, человек весьма опытный, умеет натуру изучать со всех сторон.
Потом он поворачивается ко мне — и разом в тоску впадает. Оглядывает меня медленно, задумчиво так. Мнется. Губами что-то беззвучно изображает, а мне даже повернуться и то не предложит.
Я стою ни жива ни мертва; сомнение в душу еще в тот момент запало, когда режиссер сперва не ко мне, а к Васе двинулся, — кто же без внимания девушку оставит, если она ему приглянулась?
Поглядел он на меня минутку-другую, да и говорит вежливо так, потихонечку:
— Боюсь, милая девушка, вы нам не подойдете. Как вас ни гримируй, вы, рядом вот с ним, всегда чуточку старше казаться будете… Д-да… А вариант «неравный брак» может внести в нашу строго научную картину нежелательный оттенок, противоречащий духу народного песенного творчества, да и вообще у нас никак не предусмотренный… никоим образом…
Тут он закуривает сигаретку — до чего же неловко ему все это мне в лицо выкладывать!
— То есть можно, пожалуй, взять вас на невесту и подбирать другого партнера, но уж больно мне этот молодой человек по душе! Чисто местный типаж — просто находка! Я именно таким себе жениха и представлял… Так что вы уже не обижайтесь, но…
Может, не совсем так он говорил, может, слова другие были, но смысл уж точно тот самый.
Тут Пашка ему что-то нашептал, и режиссер еще прибавил, что с радостью возьмет меня на роль подружки. И заработок ничуть не меньше, и все такое.
Что — заработок! Сам того не ведая, режиссер мое больное место задел: Вася-то действительно отроком еще выглядел, а я — взрослой женщиной.
Хотела я отказаться: что ж, в искусстве мне вторые роли предлагают и не быть мне с Васей рядышком?!
Потом согласилась все же, иначе обстановка не позволяла: откажись я, Вася немедленно отказался бы тоже, вовсе бы некрасиво получилось, да и Пашку бы я подвела, режиссер и так уж шипел на него за то, что он плохо Васе пару подобрал.
Ой, чашечки, виты, виты, виты, Ой, полны медом, налиты, налиты, Ой, кто наливал, наливал, Ой, кому подавал, подавал?В результате нашей встречи Пашка отправился вместе с Васей подбирать невесту. К вечеру они ее отыскали. Не где-нибудь, а в нашем техникуме, на первом курсе. Такой бутончик розоватенький, такую Светочку-конфеточку, невинность в третьей степени, ангелочка такого без крылышек.
Ужас как мне ее внешность не показалась, а Вася со мной, как всегда, согласился, только руками развел — я, дескать, не причастен!
И началися съемки.
Ай, не пора ли тебя, дочка, Замуж выдавати? Ой, розан мой, розан, Виноград зеленый!Ах, лучше б я оглохла, чем эти бесконечные величанья новобрачным слушать! Лучше б ослепла, чем на веселые хороводы глазеть, что вокруг жениха да невесты водили! Лучше не гналась бы за славой да за деньгами, чем каждый день, каждый час их рядышком созерцать, в этих волшебных, прекрасных уборах…
Ножик острый — в самое сердце.
Только если до конца быть честной, должна признать: стоило мне разок их в гриме да костюмах увидеть, и я сразу поняла, как точно чернявенький все рассчитал, да и Пашку вроде зауважала. Хоть и пройдоха, и трепло, а ведь это он фактически такую подходящую натуру подобрал.
Как на речке, на плоту, Девка платье мыла! Лента ала, лента ала, Лента голубая!Работали мы день-деньской не за страх, а за совесть. И, надо сказать, были окружены пристальным вниманием всего городка. Как только слух прошел, что старинный обряд снимают, все бабы, стар и млад, ровно с цепи сорвались. Повытаскивали из сундуков всякое тряпье, что им от прабабок досталось, вырядились кто как мог и давай съемочную площадку осаждать — надеялись, что и они в кадр попадут.
Ладно бы еще молча таращились, так нет: шуточки да прибауточки так и сыпятся, и хихикают они, и притоптывают в такт музыке, и взвизгивают, и даже подпевают дурными голосами. Режиссер сперва все тишины требовал, потом, гляжу, ничего — приноровился к бабьему окружению.
Особенно Маня Трофимова резвилась, наша соседка, соломенная вдова.
— Глядите, бабы, Ваську женят! — завизжала она в первый же раз, что к площадке подошла. — Телочек, телочек, а невесту лапает — только пар идет!
— А она-то к нему так и льнет, так и льнет, — немедленно отозвался кто-то. — Вот уж истинно — жених да невеста!
Не станешь же каждому объяснять, что по сценарию полагается и как жестко режиссер все взаправду требует… И хоть я все это прекрасно понимала, защемило сердце, да и не отпускало уже весь день.
А вокруг — старинный обряд воскресал во всей пестроте своих первозданных красок. Песни-то, песни какие лились — и передать невозможно. Мы нынче к гладеньким песенкам привыкли, словечки у них такие никчемушные, что лучше и не вслушиваться. А тут вроде не шибко складно, нету той закругленности, зато что ни слово — видение, что ни строка — картина, в куплете едином — жизнь человеческая заключена.
На горы на высокой, ой, да рано-рано! На красы на великой, на прекрасной, ой, да рано-рано! Вырастала верба золотая, ой, да рано-рано!И боль в них, и радость, и взлет, и падение! И каждый, кто поет их и кто слушает, ту боль и ту радость своими почитают, и слезы нежданные из глаз льются — или ноги сами в пляс идут…
Кто только эти песни придумал?.. А еще говорят, люди раньше темные были… Как же может красота с темнотой совмещаться?
С терема на терем княгиня шла, Играйте гораже! С высока на высока, Ивановна. Играйте гораже! «Не могу пройти — башмачки глюздят, Играйте гораже! Башмачки глюздят, пяты ломятся, Играйте гораже! Пяты ломятся, гвозди сыплются, Играйте гораже! Гвозди сыплются, сени дыблются. Играйте гораже! Сени дыблются, мосты колыблются, Играйте гораже!..»Песня за песней, хоровод за хороводом, и раз, и другой, и третий — дубли, дубли эти проклятые снимали… Как закрутится все, как завертится, бабы как завизжат вокруг, музыканты по струнам как ударят — с яростью, со стоном, не то чтобы сладенько… Все на свете позабыть можно, и вот уже чудится тебе, что ты сто лет назад живешь и нынче, между прочим, на чужой свадьбе гуляешь…
На чужой, ой, на чужой… Все к столу двинулись — Вася с другой идет в обнимочку… Плясать пошли — Вася обратно за ней тянется… А я как подниму на них глаза — ревность во мне кипит жгучая!
А режиссер все улыбаться велит, улыбаться…
Нет, не светлые — черные дни шли тогда на меня вереницею. Больше месяца продолжалась эта пытка.
Потом, как-то вдруг, все закончилось, киношники заторопились и сгинули в одночасье. И Пашка, сделав мамаше прощальный подарок — вазу из реквизита, — а мне оставив свой московский телефон, тоже отбыл утречком.
Заработали мы с Васей порядочно — таких денег у нас отродясь на руках не бывало. И съездили мы с ним, правда, не на юг, зато такой город, как Ленинград, повидали, порадовались, восхитились, прикупили кое-чего и домой вернулись — продолжать учебу.
Вроде все по-старому пошло. Месяц, другой. А на третий проступила едва заметная трещинка.
Сердце ты мое, сердечко, Об чем, сердеченько, тужишь? Об чем, ретиво, скучаешь? Али мне весть навеваешь, Али какое несчастье, Горькое гореванье?Молчаливость в Васе появилась, грустинка. Сперва чуть-чуть, потом больше… Исхудал он, почернел с лица, учиться стал похуже.
Я особого значения не придала, но уж постаралась трещинку лаской да вниманием загладить. Только вскоре — глянь! — еще трещинка там же, рядышком возникла. Я и эту ликвидировала, но уже с некоторой тревогой. Третья трещинка пробежала — поглубже. У нас даже несовпадение мнений нежданно-негаданно обнаружилось.
Тут я встревожилась всерьез, но виду еще не подаю, а только позорчей вокруг наблюдаю. И что вы думаете? На второй же день наблюла я их, голубчиков, вместе, на прогулке вдоль реки. Васеньку моего разлюбезного и Светочку-конфеточку. И сразу вспомнила, что не раз их в техникуме вместе замечала, но там народу много, я значения не придала. А тут — одни на реке.
Вызываю Васю на разговор — ежится, прячется. Да от меня разве ускользнешь?
— Василек, — говорю я ему, — мы должны, мы обязаны друг другу правду говорить, чистую правду, иначе нам никак нельзя. Близится наша свадьба! Как же нам в жизнь идти, если трещинки появляются? Чем их потом замазывать станем?!
Тут он сразу и сдался.
Не здесь ли наше сужено? Не здесь ли наше ряжено? Здесь! Здесь!— Не знаю, с чего и начать, — говорит.
— А хоть с того, как ты ко мне относишься.
— К тебе? К тебе — по-прежнему. Не хуже, чем всегда. И уважаю, и дружбу ценю — все, как было, так и есть. Слышишь?!
— А как же, — говорю. — Слышу.
— Только… видишь какое дело… раньше ты у меня одна была. А теперь рядом с тобой другая встала. Не разорваться же мне! Да ты и сама не захочешь, верно?
— А как же, — говорю. — Верно.
— Ну, вот. Загвоздка — в чем? В том, что с тобой мы, кроме дружбы, ничем пока не связаны. А вот с ней я связан — навек…
— О какой же такой связи речь идет? — спрашиваю. — Неужто наш ангелочек так далече залетел, что разрешил тебе все, чего я до свадьбы не разрешаю?
— Ты Свету не черни понапрасну! Я имел в виду совсем другое… Вот изображали мы с ней жениха да невесту… То есть я понимаю, конечно: никакой настоящей свадьбы не было… Умом — понимаю. А сердце знай нашептывает: обряд-то был свершен как полагается… Свадебный обряд… И песни все спеты… Было это?
— А как же, — говорю. — Было…
Сама обалдевши стою, голова кругом идет.
— Вот видишь! Нас с ней что-то извечное соединило… Могучая сила, которую народ испокон веков уважал… А мне — переступить?! Да я, может, ночи не сплю, сам с собой борюсь. Сил никаких нету. Все стараюсь о ней как о чужой думать — не могу… Убей — не могу!.. Вроде она мне доверилась, в защите моей нуждается…
— Это она?! Она нуждается?! А я?!
— Ты?! Ты и сама сильная, хоть кого защитить сумеешь… А Света — слабая, мягкая, нежная, совсем как ребенок… Нет, она, она моя суженая, выходит… моя венчанная… Связала нас ниточка, каната толще…
Тут Вася закрыл лицо руками, согнулся в три погибели и замолчал.
Я последнюю попытку сделала к его сознанию пробиться.
— Опомнись, — говорю, — Васенька, дружочек, какая ниточка? Это же Пашка Иноземцев вас окрутил — за денежки… суточные вам выдал… Какая же ниточка?!
А он снова:
— Это неважно, обряд-то был свершен…
Я сидела ошарашенная, ни вздохнуть, ни охнуть. Ну и мысли в его головушке — чистый бред! На самом-то деле — что? Он себя рядом со слабенькой Светочкой мужчиной, мужиком почувствовал… а со мной все в мальчиках ходил…
Но я-то Васю знала, как никто, и понимала в эту минуту, что раз Вася себе такое в башку втемяшил, никакими словами этого оттуда не выбьешь.
А не словами — так чем? Чем прикажете чужую дурь выколачивать, когда мне самой-то девятнадцатый год всего подходил?
То есть я могла, понятное дело, взять его за руку и свести в Дом свадеб. Тут же, сейчас, немедля. Многие на моем месте именно так и поступили бы. И на этом, скорее всего, прекратились бы Васенькины терзания.
Ну, а если бы не перешибло?
А гордость моя девичья на что?
Долго сидели мы в тот вечер. И пообещал он мне не видеться с ней больше.
Обещания, обещания…
Вася честно старался все выполнить — не смог.
Что ж это за колдовство такое? Что за наваждение?! Почему ни я, ни другие наши ребята, кто гостей на свадьбе изображал, ничего особенно глубокого не ощутили и живут себе, как жили раньше?
Или я Васю плохо изучила?
Или слишком рано уверилась, что он — мой?
Зря, конечно, я ему шагу шагнуть самому не давала; он бы тверже знал тогда, что я — его единственная.
Я, не кто другой.
Мама пыталась меня утешить, говорила, что Вася, дескать, попросту в эту Светочку втюрился, пообнимавши-то во время дублей… Так ведь маманя Васятку никогда всерьез не принимала.
Он бы мне прямо сказал, коли так… Что-то тут не то, а что именно — не пойму, хоть ты тресни!
Винился он, бедняжечка, раз, другой, третий, и плакали мы, обнявшись. И такой он был разнесчастный да убитый, словно я его на клятвопреступление толкаю.
И отпустила я его добровольно на все четыре стороны.
Взяла — и отпустила.
И зла на него не брала ни капельки.
И сейчас не держу.
Недолго веночку на веточке висеть, На веточке висеть! Недолго нашей Танечке в девушках сидеть, В девушках сидеть!МАЛОВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
Знаете ли вы… что истинныя происшествия, описанныя со всею исключительностью их случайности, — почти всегда носят на себе характер фантастический, почти невероятный?
ДостоевскийЧего только не коллекционируют люди…
Старинный приятель автора московский журналист К—в много лет собирает замысловатые истории.
Человек одинокий, легкий на подъем, он охотно отправляется в самые дальние и длительные командировки и, помимо острых материалов для своей газеты, привозит отовсюду аккуратно пронумерованные, с датами и адресами, краткие записи-конспекты разного рода маловероятных происшествий. Где он их выкапывает, как у него времени хватает — понять невозможно; впрочем, недаром же возникла поговорка «на ловца и зверь бежит».
О своем увлечении К—в говорит в достаточной степени туманно.
— Видишь ли… Еще студентом я натолкнулся как-то на такую характеристику одного из, любимых героев Ремарка, нашего тогдашнего кумира: «По его теории, самое невероятное почти всегда оказывается наиболее логичным». Я призадумался: не станет же маститый, много передумавший писатель просто так, эффекта ради, сыпать парадоксами — тем более в книге характеристика довольно подробно обосновывалась. Задал вопрос на семинаре — меня высмеяли… И лишь много лет спустя, основываясь уже на собственной практике, я понял, кажется, что имел в виду Ремарк, и подумал: а ведь это в известной степени мой долг — не выпускать из поля зрения задевшие, заинтересовавшие меня случаи из жизни, какими бы странными, из ряда вон выходящими они ни казались… Не беда, что они не всегда объяснимы с точки зрения привычной логики, что они разрушают видимость гармонии — я так и называю их «диссонансами»… Эти нестандартные проявления нашего бытия подчас не меньше говорят уму и сердцу, чем стройные колонки так называемых средних показателей, которыми пестрят отчеты уважаемых социологов.
— Понимаешь? Такого рода «доказательства от противного» помогают взглянуть на текущие события в необычном ракурсе — а это не только полезно, но и необходимо даже, если хочешь всерьез разобраться в происходящем и ухватить хотя бы за краешек вечно ускользающую истину.
— Почему ты не публикуешь свои были-небылицы? — спросил как-то автор, с интересом выслушав очередное пополнение коллекции К—ва.
— Пробовал подробно написать — ни черта не получается, — буркнул тот. — Все время на что-то вроде фельетона сбиваюсь, а это не моя стихия.
Помолчал, похлопал по записной книжке, добавил:
— А ты — пользуйся… Я не жадный… Все равно все свои находочки я первый до косточки обсасываю и в дело пускаю: то ли «зримо», то ли нет, «диссонансы» в каждом моем материале присутствуют… А потом мне уже все равно, что с ним станется.
Автор усердно трудился тогда над гигантским замыслом. Он кивнул, беззаботно рассмеялся и не придал щедрому предложению особенного значения.
Потом как-то раз…
Словом, вот рассказы К—ва, записанные автором.
РЕШАЮЩИЙ ШАГ
В этот северный город я приехал на недельку, с заданием написать очерк о работе местного транспортного узла. В редакции мне порекомендовали обратить особое внимание на деятельность пароходства. «Там Гарустов начальником, инициативный, настойчивый мужик, — сказал мне на прощанье завотделом. — Ты приглядись к нему, к его штабу…»
Прибыв на место, я обнаружил даже больше интересного материала, чем предполагалось; мое внимание привлекло, в частности, весьма оригинальное решение проблемы взаимодействия морского порта с железной дорогой и автотранспортными предприятиями на основе непрерывного плана-графика. Стоило вникнуть в детали, и я запросил у руководства «добро» на то, чтобы остаться здесь подольше.
В первые несколько дней я дважды беседовал с Николаем Степановичем Гарустовым, и Гарустов произвел на меня сильное впечатление. Бывший военный моряк — его боевой и трудовой путь был отмечен двумя рядами самых почетных орденских ленточек, — он принадлежал к числу самородков, которыми богата наша земля. Меня с молодости тянет писать как раз о таких людях; мне кажется, главная задача окружающих — не мешать им развернуться во всю богатырскую силушку, а святой долг прессы — всячески этому способствовать.
Когда разрешение задержаться было получено, Гарустов предложил мне комнату в общежитии пароходства, расположенном тут же, в порту. Учитывая, что в общежитии я окажусь прямехонько среди людей, о которых мне предстояло писать, а также и то, что такой вариант обойдется намного дешевле гостиницы, я немедленно согласился.
Так случилось, что я прожил около месяца в длинном, неуклюжем здании; пароходство использовало его в качестве пристанища для приезжающих, а также для семей моряков и других своих служащих, не получивших пока по тем или иным причинам нормального жилья.
Дом был построен, вероятно, в конце двадцатых годов, в полном соответствии с модной тогда коридорной системой: по обеим сторонам бесконечной кишки располагались комнатки-квартирки, на концах ее — места общего пользования. У жилищ такого рода немало недостатков, по сравнению с современными домами они выглядят жалостно, но есть у них и одно достоинство — как все коммунальное, они не дают людям вариться в собственном соку, активно препятствуют их самоизоляции, если можно так выразиться.
Женщины нашего второго этажа жили на редкость дружно, а на обширной кухне образовали даже нечто вроде домашнего клуба — чисто, светло, кухонная утварь сверкала, как на выставке; нередко и мужчины собирались там вечерком вокруг стола, покрытого вытертой бархатной скатертью, — покурить и «потравить».
Целыми днями я пропадал в порту, на железнодорожной станции, в автоколоннах, встречался с десятками людей, участвовал в совещаниях и активах, дома сидел за пишущей машинкой, так что на кухню заходил редко. И хотя кое-какой материал я почерпнул и там, но ни с кем из своих временных соседей особенно не сблизился, за исключением семьи Михайловых; дверь их комнаты приходилась как раз напротив моей.
Знакомство состоялось вечером, сразу же после моего переселения. Лежа на кровати, я в очередной раз наслаждался рассказами Андрея Платонова — томик его прозы я преданно вожу с собой в качестве противоядия, боюсь окончательно погрязнуть в газетных штампах. В дверь постучали, и, едва дождавшись моего «Войдите!», через порог шагнула молодая женщина не очень высокого роста, в ярком цветастом платье; будь ее бедра менее массивными, ее можно было бы без всяких скидок назвать стройной.
Стояла поздняя весна, скорее начало лета, лампочка не горела, но было еще достаточно светло, как повсюду на севере, и я прекрасно разглядел лихое выражение ее румяного лица, вздернутые стрелки подведенных бровей и требовательное сияние фиалковых, как у Клеопатры, глаз.
— Здравствуйте, — сказала женщина, пока я поднимался со своего колченогого ложа. — Я — Валя Михайлова.
Она протянула мне руку, я растерянно пожал ее.
— Мы с вами соседи, — продолжала вошедшая, ничуть не смущаясь. — У нас гости нынче, день рождения мужа, и мы вас приглашаем. Чего сычом-то сидеть?
Я стал отнекиваться, ссылался на срочную работу, хотя она прекрасно видела, что я просто валялся на кровати, но очень скоро понял, что сопротивление в данном случае не только бесполезно, но и бессмысленно; и трех минут не прошло, как я был взят на абордаж и сдался на милость победителя.
— Мы скоро за стол садимся… — Валя Михайлова в последний раз сверкнула очами и вышла.
Я привел себя в порядок, вытащил из чемодана заветную бутылочку — ее я тоже всегда беру с собой, но не как противоядие уже, а так, на всякий случай — и пересек коридор.
Удивительная все-таки штука, русское гостеприимство! Ты попадаешь в дом случайно, словно с неба свалился, ни с кем из присутствующих ты не знаком, но хозяева ни словом, ни взглядом не дадут тебе ощутить этого. Тебя не станут угощать особо, как пришельца, это было бы нарочитостью, органически не свойственной людям, простым в обращении; для них нарочитость — признак дурного тона, способного не взрастить радость беседы, а разрушить ее. Говорить с тобой будут так, словно вы еще в детстве играли вместе в песочек. Без дополнительных объяснений и «вводных», тебе сообщат о последних событиях в семье и на работе, о том, как учатся дети, об их каверзах и достижениях, а также о разных смешных или печальных случаях, приключившихся с Игорем Игоревичем и Ольгой Олеговной. Кто это? Родственники? Знакомые? Ты и слыхом о них не слыхал, но тут же успеваешь полюбить их заочно…
В какой другой стране можно почувствовать себя так непринужденно среди людей, о существовании которых ты час назад не имел ни малейшего представления?
Я не раскаялся в том, что принял приглашение Михайловых, и сам как будто не ударил в грязь лицом и произвел на собравшуюся у них в тот вечер компанию моряков и их подруг благоприятное впечатление.
Во всяком случае, я стал для соседей своим. Виталий Георгиевич Михайлов, старший механик на спасателе «Гордый», в те редкие дни, когда оставался дома, старался уделить мне как можно больше внимания. Он свез меня на свой корабль, морской буксир с могучей грудью быка, познакомил с товарищами, а однажды устроил для всех нас веселую морскую прогулку. Младшие Михайловы, Сашенька и Мишенька, вернувшись из детского сада, возымели обыкновение забегать ко мне, надеясь полакомиться чем-нибудь — и я старался их не разочаровывать. Что же касается Валентины Трофимовны, которую весь наш коридор так и звал Валей, то она, покончив с хозяйственными хлопотами и уложив мальчиков, была не прочь во время очередной отлучки мужа скоротать у меня вечерок за вязаньем и чашкой крепкого чая.
Кстати, чай она заваривала отменно, а по этому признаку можно безошибочно определить — какова хозяйка.
Подозреваю, что вначале Вале было попросту лестно поболтать со столичным журналистом — только поэтому, вероятно, она и пригласила меня к себе в тот первый вечер; постепенно она вошла во вкус и стала относиться ко мне как к доброму знакомому и своему подопечному отчасти. Несмотря на то, что я был значительно старше Вали, в ее обращении ко мне проскальзывали иронические, снисходительные нотки — ведь я, случалось, не сразу понимал вещи, казавшиеся ей очевидными.
Но я не обижался, о нет! Честно говоря, я не очень-то люблю, когда меня отрывают от работы, — немаловажная причина того, что я до сих пор хожу в холостяках. Но ради Вали я охотно отставлял в сторону машинку — так хорошо, так просто и весело мне с ней было.
Я больше помалкивал, беседу вела моя неутомимая гостья. Охотно рассказывала о себе, о родителях, о детстве, молодости, своих увлечениях, своей семье, о радостях, ну и о мелких горестях тоже, выкладывала самые свежие новости из жизни пароходства — в отличие от многих других женщин, не сплетни, а именно новости. Осведомлена она была потрясающе.
Отвечая на мои расспросы о ее родном городе, Валя сообщила мне множество деталей, заметных и понятных только местному жителю. Оживавшие в ее рассказе штрихи, черточки, события давали мне поистине бесценную возможность прощупать пульс, выслушать сердце, исследовать нервную систему незнакомого организма. Каждый, кто пишет, прекрасно знает, что без этого нельзя добраться до корней интересующей тебя проблемы — над какой бы темой ты ни работал, — а значит, невозможно и объективно, ничего не упустив, обо всем написать.
Чем лучше я узнавал Валю во время наших бесед, тем больше подпадал под обаяние ее неукротимого задора, уверенности в своих силах, ее благожелательности, сердечности, оптимизма. Еще немного, и я того и гляди влюбился бы в это воплощение современной женщины…
Ничего необыкновенного в Валиной судьбе, впрочем, не было. Кончила шесть классов. Учиться дальше не захотела, пошла помогать матери, всю жизнь проработавшей в портовой столовой. Первое время приходилось здорово выкладываться, особенно донимало мытье посуды. Но Валя явно была не из тех, кого может остановить такое смешное препятствие. Она приспособилась, стала заменять заболевшую мать, и на сухопутных точках потрудилась, и на судах поплавала, пока не угнездилась буфетчицей в клубе моряков.
Горячее местечко.
— Работа вроде простая, — говорит Валя, а вязальные спицы, словно припаянные к ее маленьким, сильным рукам, безостановочно делают свое дело, — но, знаете, требует тебя целиком. Иначе ничего путного не получится. Во всей торговле так, а в нашем секторе общественного питания — подавно. Был у меня один директор, опытный дядя, со стажем, так тот всегда говорил: «Перво-наперво, Валюша, чистоплотность».
— Это в каком же смысле?
— В том-то и дело, что во всех смыслах, в каких только хотите. И чистота нужна идеальная — тогда сразу уровень другой: и посетителей чистота подтягивает, воспитывает, да и тебя самого. Ну… и к рукам чтобы прилипало поменьше. Это тоже.
— Говорят, это невозможно…
— Еще как возможно, — строго вскидывает Валя глаза, категорически не принимая моего ехидства.
— Почему же тогда… — не унимаюсь я.
— Мы — на виду, — отбивает она мой мяч с лета, — у нас в руках продукты питания, а они у народа на особой примете. Вот и болтают, сами не знают что…
Насколько я понимал Валю, она была уже потому счастливым человеком, что ей нравилась ее работа. Нравилось быть постоянно в центре внимания — она ведь ощущала себя не просто принадлежностью буфетной стойки, она чувствовала себя хозяйкой, принимающей гостей, женщиной, на которой частенько скрещивались полные магнетизма мужские взгляды. Нравилось, что каждое ее усилие, каждое проявление доброй воли, пусть самое невинное, крошечное, давало немедленную отдачу — она доставляла другим простейшую, но мощно поддерживавшую жизненный тонус радость.
— Знаете, что значит вкусно накормить мужчину? — задает Валя риторический вопрос и тут же спешит на него ответить: — Это значит обрадовать его на целый божий день, хотя сами мужики редко в этом признаются. Всякие там язвенники, конечно, не в счет, но, между прочим, у меня и они обязательно что-нибудь да скушают. Не верите? А секрет простой: когда все аппетитно да чистенько, так и не хочется ему особенно, и доктора запрещают, а он не удержится, отведает чего-нибудь.
— И выпьет?
— А как же, — расплывается Валя в довольной улыбке. — А как же! Каждый прекрасно понимает, что и мне план выполнять надо, не только ему. Они у меня сознательные. Но и я — тоже: больше нормы у меня ни один не получит! Глаз-то наметан, будь здоров.
— Пойдут в другое место.
— Дураки пойдут, умные останутся. У меня на стоечке ведь не только чистота, у меня и ассортимент побогаче — и свои связи налажены, и мамашины еще сохранились. Второе поколение, чай, не как-нибудь. Нет, серьезно, мне редко на базе отказывают.
«Еще бы!» — подумал я, представив себе, как некоего условного бюрократа, пытающегося поставить Валюше заслон, мгновенно обезоруживает ее категорический взгляд, и этот закоснелый чинуша, в нарушение всех инструкций… Мне даже стало жаль воображаемого начальника базы — из чисто мужской солидарности жаль…
— А что делать? На общую разнарядку соглашаться? Или как прикажете? Согласиться, конечно, проще всего, только в чем же тогда мой личный вклад заключаться будет? Приходится иногда и на конфликты местного значения идти, не без того… Кое-кто меня выскочкой считает… Ну и пусть. На всех не угодишь. Зато на рабочем месте у меня порядочек! Верно?
Конечно, верно.
Однажды я спросил Валю, как состоялось ее знакомство с мужем — была ли это любовь с первого взгляда, случайная встреча, симпатия, или как?
— С первого взгляда? — подняла Валя брови. — С первого взгляда можно просто так с парнем время провести. А женитьба — дело серьезное, тут надо не ошибиться.
— Не промахнуться?
— Можно и так. Сами понимаете, уж я-то всегда бывала окружена пристальным вниманием плавсостава — выбирай любого. Многие и расписаться готовы были. Только я не торопилась с этим делом: все надеялась сама вырваться на более самостоятельную работу. Я и с рестораном запросто управилась бы. Не верите?
— Отчего же, верю. — Я нисколько в этом не сомневался.
— Только ничего подходящего мне так и не дали… Как глянут в графу «образование», так только плечиками пожимают — дескать, как же это так, и вообще странные у вас, Валентина Трофимовна, претензии… А разве в образовании дело? Разве так надо руководящие кадры подбирать?
— Ну, это еще вопрос.
— Да ладно вам — вопрос! Вон вы — ученый, верно? А толку — чуть? — За неимением другого объекта для сравнения, Валя окинула строгим взором убогую обстановку моего временного жилья, не имевшую ничего общего с солидной мебелью, коврами, дорогими безделушками, сверкавшими в комнате Михайловых. — Не сердитесь, это я так… Я что хотела сказать: о замужестве я думать начала, когда поняла окончательно, что в одиночку мне не пробиться. Стала потихоньку жениха присматривать. Из моряков, конечное дело, иначе батя проклял бы меня страшным проклятием: он ведь у меня потомственный почетный матрос.
— Среди высоких и красивых присматривали?
— В том-то и дело, что нет. С красивыми на танцы ходить хорошо. А вот своим домом обзаводиться… Тут мне Виталя и подвернулся.
Каков был Виталя, я знал. Внешности неброской, но приятной, не слишком горячий, но и не тюлень, молодой, всего года на два старше Вали, а степенный; он с отличием кончил мореходку и в пароходство прибыл с весьма недурным назначением.
Знал я и то, что в семейных делах Виталий Георгиевич охотно признавал Валину программу действий. В кино — так в кино, с друзьями собраться — пожалуйста, на лоно природы — с нашим удовольствием. Домашним бюджетом Михайловых командовала тоже Валя, это само собой.
В их счастливой семейной жизни было только одно уязвимое место: Виталий Георгиевич совершенно не умел «давить» на начальство даже в мелочах, а уж о том, чтобы добиться чего-нибудь для семьи, и речи быть не могло. Говоря об этой слабости любимого мужа, Валя розовела от возмущения; не понимала, что, если бы Михайлов вел себя иначе на службе, он, скорее всего, был бы другим и с женой.
— Вы только подумайте, — Валя даже вязанье оставила, — все переговоры приходится вести мне! Будь я еще сама моряком — другое дело. А в качестве супруги попробуй добейся чего-нибудь! Супруги у нас горластые, как на подбор. И потом: одно дело просить и даже требовать для буфета и вообще для дела, для общества, для людей, и совсем другое — выпрашивать для самого себя…
«Вот так буфетчица, — восхитился я. — Не обманула, выходит, меня интуиция… И что у людей за привычка всех под одну гребенку стричь…»
— Возьмите хотя бы квартирный вопрос, — продолжала тем временем Валя, и по тому, как дрогнул ее голос, я понял, что мы подошли к самому больному. — Видели, как мы живем? Четверо в одной комнате. Разве так должен жить командир, пусть даже торгового флота? Ведь он учиться рвется, книжки вон собирает, а сесть позаниматься ему негде. Ай, да что говорить!..
Ей бы развить эту тему в разговоре со мной — журналист, он и помочь может при случае, отыскать справедливость, — а Валя неожиданно быстро умолкла.
Между тем мне и самому казалось странным, что Михайловы который уже год торчат во «времянке».
— Почему же Виталий Георгиевич не поставит вопрос ребром? — осторожно спросил я.
— Почему, почему… — пожала Валя плечами. — Ему скажешь, а он: «Больше народа — веселей»… Хи-хи да ха-ха… Заикался он где-то там о квартире, ему ответили, что о нас помнят, думают, имеют нас в виду — что в таких случаях лопухам отвечают! Он и ждет терпеливо — у моря погоды…
— Странно все-таки, неужели очередь еще не дошла… Вы так давно здесь живете… Вон об этих, о Скворцовых — вы сами же рассказывали, что они выбрались из общежития уже бог знает когда… Михайлов, судя по всему, на отличном счету…
Эти обычные и отчасти пустые фразы я произнес просто для того, чтобы выразить как-то свое сочувствие, но на Валю мои слова произвели совершенно неожиданное впечатление. Едва ли не впервые за время нашего знакомства я заметил выражение растерянности на ее энергичном лице; Валя замялась, словно хотела избежать прямого ответа.
— Угадал? — сказал я шутливо, когда молчание очень уж затянулось. — Есть особая причина?
— Есть… — непривычно тихо ответила Валя. — Было тут одно дельце… года полтора назад… Я руку приложила.
— Вы?!
— К кому только я на прием не ходила, каких путей не искала! Обещают, обещают, а квартиры все нет. Вот я и… А, долго рассказывать…
— Как хотите, Валюша, но, по-моему, если уж говорить, так все.
Валя наклонилась ко мне:
— Наваждение…
— Какое еще наваждение?!
Валя не ответила. Села поудобнее, спицы в ее руках вновь заплясали свой танец, она глянула на меня ласково, доверчиво, но вместе с тем и робко, даже виновато, словно заранее просила прощения, — и принялась не торопясь излагать свою историю.
Когда моряки находятся в дальнем плавании, к ним проявляют повышенное внимание, о них заботятся. Существуют, например, особые радиопередачи: семьи моряков получают возможность поведать мужьям, отцам, сыновьям и братьям о последних событиях своей жизни.
Как-то раз, когда служебные обязанности Виталия Георгиевича задержали его вне порта особенно долго, дошел черед и до него, и к Вале в тихий час ее беспокойной работы явился корреспондент местного радио.
В левой руке он держал портативный магнитофон, правой сделал приветственный жест и проследовал прямо к стойке.
— Привет хозяйке!
Выпив стакан напитка неопределенного цвета, крепости и букета и закусив конфетой «Старт», журналист предложил Вале наговорить кое-что на пленку и пообещал нынче же вечером, еще тепленькими, передать ее слова на «Гордый».
У каждого из нас бывают тяжелые дни. Вроде ничего особенного и не произошло, а ты чувствуешь себя неуютно в своей привычной жизни, как в чужой. У всех все ладится, у тебя — нет. Все живут насыщенно, делают полезное дело, у них все в полном порядке и на работе и дома, а ты — бесталанный, лишний, неудачник, ты не добился ничего, и уже не добьешься, конечно, и никому ты не нужен.
В такие дни особенно страшно одиночество, особенно недостает любящего, чуткого, ласкового спутника, способного не одернуть тебя, не накричать, не раздражить еще пуще дурацкими советами, а поддержать тихонько, незаметно подставив плечо. Поддержать…
Как раз такой денек выдался у Вали. Она проснулась рано, долго ворочалась без сна на диване, в отсутствие мужа казавшемся бессмысленно широким, ей было зябко и одиноко. Тут бы прижаться к удивительно теплому всегда Витальке, а его нет уже невесть сколько ночей, и еще неизвестно, сколько не будет… Правда, за шкафом тихо сопят Сашка с Мишкой, но домашний уют, давно уже ставший привычным, вызвал в душе только умиление, а этого Вале сейчас было мало. Что ждет ее, когда она окончательно проснется и встанет? Что? Все та же опостылевшая буфетная стойка, а дома все та же тесная комнатка, где даже погрузиться в хозяйственные заботы и то практически невозможно — развернуться, разгуляться негде…
Валя лежала на спине, вытянувшись, закрыв глаза, и думала. Чего же сумела она достичь? И что дальше? Что нового может произойти завтра? Послезавтра? Конечно, с семьей ей повезло, не у всякой есть такой муж, как Виталя, вон сколько женщин за свою жизнь так и не узнают, что такое любовь, для них брак — просто сожительство. А они с Виталькой так и тянутся друг к другу… и никакой он не пьяница, и не изменит ей никогда… А сыновья… Но сама-то она, сама?! Неужели у нее все в прошлом? В какой-то книжице поймала выражение «дама с прошлым» — смеялась, дура, не представляла, как это может быть… А теперь и ее молодые годы пролетели… Неужели она больше ничего не добьется? И угораздило же бабой родиться… Все просто и ясно, и «некуда больше спешить»…
Такие мысли не впервые лезли ей в голову, но раньше удавалось более успешно им сопротивляться. А сегодня…
Промучившись полчаса, Валя забылась. Будильник не принес облегчения, скорее наоборот. На ребят нашумела ни за что. На работу явилась злющая, добряк завклубом шарахнулся от нее в сторону. На базу поехала — наскандалила…
Тут под горячую руку и явился корреспондент со своим предложением. Валечка уже разинула было рот, чтобы мягко послать его как можно подальше — она терпеть не могла запланированных сантиментов и в подобных передачах никогда не участвовала. А уж на этот раз…
Но, взглянув на магнитофон, она прикусила губу: озорная мысль пришла ей в голову. Люди с характером тем и отличаются от простых смертных, что им дано мгновенно распознавать под покровом случая притаившийся в глубине шанс. На что шанс? На что угодно, хотя бы на то, чтобы сорвать на ком-нибудь дурное настроение — и то годится…
Распознав же этот шанс, люди с характером не колеблются, используют его немедля; тут, как в футболе, — передержал мяч, и все пропало.
«А ведь это смотря на кого работать! — мелькнуло в Валиной светлой головке, взбудораженной переживаниями злополучного утра. — А что, если… ха-ха!.. Делать очередную сладенькую передачку о том, как хорошо я тут тружусь, а детки дружно ходят в садик, и учат стишки, и как нетерпеливо мы ждем нашего героического папочку, я, конечно, не стану. С какой стати?! Но вот… ха-ха!.. если поработать, наконец, на себя, раз уж случай такой подвернулся?..»
Пришедшую ей в голову мысль Валя впоследствии и называла наваждением.
— Господи, Боренька, — ответила она радиожурналисту, — ты даже не представляешь себе, до чего вовремя ты пришел.
— Это почему же не представляю, — скорчил потешную рожу Боренька, знавший в порту всех и вся. — У прессы всегда нюх…
— У меня случай особенный…
— Что за случай?
— Квартиру нам дали наконец, вот что! Вчера смотреть ходила…
— Ну да? — изумился корреспондент. — Об этом я и верно не слыхал. Но в таком случае с тебя причитается, однако!
— Что за вопрос! — Валечка мигом налила гостю еще стаканчик, незаметно плеснув туда чего-то из укрытого под прилавком бутылька.
— Ого! — крякнул Боренька, переводя дух. — Вот это градус! Слушай, Валентина, а Михайлов-то твой знает?
— Откуда?! В том-то и дело, что нет.
— Так это же сенсация! — возопил журналист, почуяв добычу, — Давай-давай, расскажи ему обо всем сама — повзволнованнее только. А я — мигом, будь спокойна.
И он стал раскрывать магнитофон.
— Здесь нам помешают, — остановила его Валя. — Пошли лучше к Петру Петровичу в кабинет, он все одно в отъезде. Там спокойненько все и запишем.
— А буфет? — спросил осторожный Боренька.
— Это уж моя забота.
Валя вызвала свою давнюю помощницу судомойку тетю Кланю, попросила ее приглядеть за хозяйством и, взяв ключ от кабинета завклубом, повела журналиста на второй этаж.
Там, заперев дверь, Валя легко, изящно говорила минут десять. Она не просто делилась с мужем их общей радостью, она играла, переходя с микрофоном в руках из одного уголка их воображаемой квартиры в другой. Она красочно описала каждую комнату, каждый квадратный метр, подробно рассказала, куда она предполагает поставить детские кроватки, куда сервант, пианино, торшер. Она сообщила точные размеры кухни, ванной, прихожей, описала прекрасные бытовые приборы, которыми они оборудованы, и закончила словами о том, как вольготно будет Виталию Георгиевичу за новым письменным столом — хоть в академию поступай.
Достоверность возникла полнейшая.
Восхищенный безукоризненным во всех отношениях интервью, Боренька обещал послать его в эфир целиком. Он не сомневался, что такой шикарный материал, буквально пронизанный заботой о человеке, будет отмечен, и предвкушал уже…
На прощанье он благодарил Валю, превозносил ее умение точно и выразительно передавать мысли. А Валя с трудом сползла по лестнице и дотащилась до привычного места за стойкой. Голова у нее кружилась, лицо пошло красными пятнами, сердце колотилось так, что пришлось самой отхлебнуть глоточек из заветного бутылька.
Не зная, куда девать себя вечером, страшась нового приступа тоски, она забрала мальчиков и отправилась с ними через весь город к своим старикам. Купила торт, бутылку вина для отца и была необычно внимательна к родителям, чем немало удивила мать.
Вернувшись домой и уложив сыновей спать, Валя отправилась еще на кухню, собрала там развеселую компанию, угощала домашней настойкой, была душой общества, дурачилась, хохотала, рассказывала всякие истории — лишь бы задержать всех подольше, лишь бы не оставаться одной.
Когда же волна веселья улеглась и все разошлись наконец, испуганно восклицая, что уже второй час ночи, а завтра рано вставать, Валя, войдя в свою келью, испытала страстную потребность как-то по-особому сосредоточиться и тем внутренне подготовить себя к тому, что могло случиться завтра. Но такое не было ей дано, одна она попросту не умела забираться к себе в душу — был бы Виталя, другое дело, — и она позавидовала матери, с детства приученной каждый вечер бормотать на сон грядущий что-то вроде молитвы, хотя верующей мать давно не была.
Спала Валя опять плохо, но на следующий день, превозмогая себя, встала пораньше и особенно тщательно занялась своей внешностью. Затем отвела ребят в садик и, как ни в чем не бывало, занялась обычными для трудового дня хлопотами. Она вся подобралась, сделалась до омерзения трезвой, холодной, злой на весь свет и была готова к чему угодно.
В полдень ее позвали к телефону, но это был еще не тот звонок, которого она ждала. В ответ на ее нарочито робкое «алло?» из трубки вылетел и вцепился ей в ухо разъяренный дискант радиожурналиста Бореньки.
— Ну, спасибо! Удружила! — повизгивая, орал он, так явно брызгая там где-то слюной, что Валентина инстинктивно отодвинулась от трубки. — Тебе что — понадобилось, чтобы меня с работы выгнали?!
— В чем дело, Боренька? — невинно спросила она. — Что такое стряслось?
— Не придуривайся! Постыдилась бы! Вот привлекут за ложные данные — тогда узнаешь, в чем дело! И как у тебя, проклятой, совести-то хватило…
Тут Боренька бросил трубку, так и не услышав разнообразных соображений о совести, которые как раз собиралась высказать его собеседница.
Валя вернулась за стойку огорченная: растрачивать впустую боевой задор ей никак не хотелось. Слава богу, этим звонком дело не ограничилось. Полчаса спустя в буфет заглянул растерянный завклубом.
— Валентина, тебя к начальнику пароходства требуют. Срочно! Что ты опять такое выкинула, горюшко ты мое?
Валя вспыхнула радостью.
— Вы не беспокойтесь, Петр Петрович, — успокаивала она добродушного морского волка в отставке. — И не расстраивайтесь понапрасну: это вовсе даже не служебное дело, а личное.
— Личное? — недоверчиво протянул тот. — Опомнись, вертушка, что у тебя может быть с Гарустовым личного?!
— Вызывает — значит, может! — кокетливо усмехнулась Валя, снимая халат и приводя в порядок прическу. — Боюсь, не задержаться бы. Вы уж тут распорядитесь, в случае чего, Петр Петрович, миленький…
Она спрятала зеркальце, оглядела себя, поправила еще чулки и двинулась к двери.
— Ну-ну, — покачал головой расстроенный старик. — Вернешься — отрапортуешь.
Войдя в приемную начальника пароходства, Валя первым делом поймала предостерегающий, но и сочувствующий в то же время взгляд сидевшей за бюро секретарши. Бездну информации можно получить из одного только женского взгляда, гораздо более многозначного, чем мужской; у Вали радостно екнуло сердце, словно симпатия этой милой пожилой женщины заранее гарантировала ей победу.
Вопреки обыкновению, ее не попросили подождать — секретарша сразу же кивнула на дверь кабинета.
Валя машинально еще раз поправила прическу и вошла. Колени ее дрожали мелкой, противной дрожью, но этого, к счастью, никто не мог заметить — мини-юбок Валентина Трофимовна не носила, справедливо считая, что матери двоих детей это как-то ни к чему; ей был известен десяток других способов воздействовать своей внешностью на мужчин.
Высокий, грузный Гарустов крупными шагами, но на удивление легко двигался вдоль дальней от входа стены, заполняя могучим телом обширное пространство позади массивного письменного стола. Его лицо отчасти портил пересекавший всю левую щеку глубокий шрам.
Еще несколько мужчин сидели у другого стола, длинного, тонконогого, современного производства. Валя узнала Бореньку, заметила стоявший на столе раскрытый магнитофон. Рядом с корреспондентом мелькнуло бледное, усталое лицо секретаря парткома. Больше Валя никого различить не успела.
Притворив за собой дверь, она сделала несколько шагов и остановилась. Гарустов продолжал шагать и, казалось, не обратил на ее появление ни малейшего внимания. Люди за длинным столом с недоумением и молчаливым упреком уставились на нее.
— Добрый день, — сказала тогда Валя.
Гарустов остановился.
— Товарищ Михайлова? — хрипло спросил он.
Валя кивнула.
— Как же это понимать, товарищ Михайлова? — так же хрипло произнес начальник пароходства.
— Что именно? — спросила Валя.
И тут же отметила, что это была не самая подходящая тактика: и слова ее, и вызывающая интонация никак не подходили к царившей в кабинете атмосфере. Но дело было сделано.
— Ах, вам неизвестно?.. Здесь вам что — балаган?!
У каждого, кому часто приходится распекать других, есть любимая присказка. Словечко «балаган» Гарустов облюбовал много лет назад, еще в бытность свою боцманом, а может, не сам облюбовал, может, в наследство от другого боцмана получил, кто его знает.
— Конечно, я работаю в вашей системе, товарищ Гарустов, — твердо сказала Валентина и подняла на гиганта свои знаменитые фиалковые глаза, — но я еще и жена командира и кричать на себя никому не позволю. Я пришла сюда потому, что вы меня вызвали, а зачем вызвали — пока не знаю.
Коленки продолжали дрожать все так же противно; теперь к ним присоединился еще подбородок. Для устойчивости Валя выдвинула вперед правую ногу.
— Значит, не знаете? — снова переспросил Гарустов, сбавив, однако, тон. — Тогда пожалуйте сюда.
И он поманил Валентину к себе.
Бесстрашно отмерив всю длину кабинета, она обогнула письменный стол, и тут Гарустов неожиданно любезным жестом предложил ей занять одиноко стоявшее там столь же массивное, как и стол, кресло. Валя пыталась было отказаться, но ситуация, в которой она находилась, не позволяла долго отнекиваться. Гарустов был настойчив, да и тесновато там было с ним вдвоем — за гладью стола оказалось совсем не так много места, как это выглядело от двери.
— Читайте, — произнес Гарустов, едва Валя села, и ткнул рукой куда-то вниз.
На закрывавшем середину стола толстом, хорошо промытом стекле были аккуратно разложены одна под другой три радиограммы. Валя вопросительно взглянула наверх, туда, где, по ее представлениям, должна была находиться голова начальника пароходства, — и едва не вывернула при этом шею.
— Читайте, читайте, — повторил Гарустов откуда-то с другой стороны; теперь это звучало как приказание.
И Валя стала читать.
«т/х гордый чм гарустову глубоко тронут вниманием руководства михайлов»
«т/х гордый чм гарустову повторно глубоко тронут вниманием руководства заботой моей семье михайлов»
«т/х гордый чм гарустову благодарю руководство лично вас николай степанович предоставление моей семье новой квартиры михайлов»
Вторая и третья депеши явно были ответом на требование адресата — расшифровать, за что его благодарят.
— Прочитали? — осведомился Гарустов, ибо Валя хранила молчание.
Вновь задрав голову, Валя нашла, наконец, его глаза и так же молча кивнула.
— Тогда не будете ли вы любезны сообщить нам всем, — Гарустов обвел рукой присутствующих, — о какой именно новой квартире идет речь.
«Вот оно», — подумала Валя. Сидевшие за длинным столом люди вновь как по команде уставились на нее. На тощей шее корреспондента бился кадык.
— Николай Степанович, — Валя сперва так волновалась, что начисто позабыла имя-отчество начальника пароходства; прочитав радиограмму мужа, вспомнила и немедленно взяла на вооружение. — Николай Степанович, нам неоднократно обещали… в том числе лично вы…
— Кто что кому сколько раз обещал, меня в данный момент не интересует, товарищ Михайлова, — пророкотало наверху. — Это я уж как-нибудь уточню впоследствии. Сейчас я хочу знать, за какую квартиру благодарит меня по радио старший механик «Гордого». Адрес, если можно.
— Адреса нет… — пролепетала Валя. — И… и реальной квартиры тоже пока нет… Это… это моя мечта… Вы читали «Алые паруса»?
— Ах, мечта! — голос наверху избавился каким-то образом от хрипоты. — Воображение, так сказать. Фантазия. Ясненько… Только, простите, при чем тут «Алые паруса»? «А вот здесь, дорогой, ты будешь в академию готовиться», — передразнил Гарустов интонацию Валентины, запечатленную на только что прослушанной пленке, и довольно ловко передразнил. — Все предельно практично.
— Но… мы…
— А вам известно, до какой степени эта ваша, с позволения сказать, мечта засорила эфир? Известно, что дружки вашего мужа более чем с двадцати судов сочли своим долгом срочно и неоднократно выразить ему свою радость, а также надежду быть приглашенными на новоселье?! Я нисколечко не удивлюсь, если на самом «Гордом» это новоселье уже отпраздновали. Балаган!
Гарустов отодвинулся от кресла, вышел из-за стола и оказался с Валей лицом к лицу.
— Вы подумали, например, о том, в какое положение вы поставили меня? — патетически спросил он. — Что должен я делать, получив все эти благодарственные послания?
— Нет… не подумала…
Валя сползла с сиденья, словно провинившаяся школьница. На самом деле именно об этом она и подумала вчера, увидев магнитофон. Ее расчет на том и строился, что начальнику пароходства некуда будет после всей этой кутерьмы деваться.
— Не подумала я, Николай Степанович… Уж вы извините… — Валя прибегнула к усвоенным еще от матери просительным интонациям. — Но войдите и в мое положение… Мне эта проклятая квартира по ночам сниться стала… Ребятишки ведь у нас… И обещали нам — не раз и не два…
— Обещали, обещали! — голос Гарустова загремел в полную силу. — Ну и что?! Разве всегда мы вольны свое собственное обещание выполнить? Бывают обстоятельства посильнее нас — что поделаешь…
Здесь невозможно удержаться, чтобы не заметить: в этом пункте уважаемый товарищ Гарустов был категорически не прав. Обещания надо выполнять обязательно, а ежели есть сомнения — лучше не обещать. Всякий серьезный и самостоятельный человек, какой бы пост он ни занимал, всякий стоящий мужчина — а Гарустов был им! — не должен бояться отличить реальное, выполнимое от видимости, фикции, и никогда не обещать впустую.
Всякая стоящая женщина, по возможности, тоже.
Но Валя возражать не стала.
— Не удержалась… такой случай… помечтала вслух… — шептала она, косясь на висевшую на стене огромную карту, всю утыканную флажками с названиями судов, — где-то там «Гордый»?
Она всхлипнула и потянула из кармана соблазнительно надушенный платочек.
От женских слез у Гарустова без промаха начиналась морская болезнь.
— Мы не станем больше мешать вам исполнять ваши прямые обязанности, — строго сказал он, открывая Вале путь к отступлению. — Но имейте в виду, вас могут привлечь к ответственности за умышленно ложную информацию, переданную в эфир… («Черта с два, — подумала Валя, — привлекут в крайнем случае Бореньку, а он вывернется…») И зарубите себе на носу: если вы рассчитывали выбить из меня таким образом жилье, то крупно просчитались! На вашем месте я в ближайшее время никаких снов о новой квартире постарался бы не глядеть! Зарубите себе на носу, на корме или на любом другом месте! Не таков Гарустов человек, чтобы его на пушку брать!
Он кричал все громче, но Валю уже не тревожил этот крик. Она была у двери и знала, что выиграла бой — кричат всегда от слабости.
— До свидания, — тихо, с достоинством сказала она и вышла.
Зато очутившись в приемной, она без сил, почти без сознания опустилась на первый попавшийся стул. Секретарша, вскрикнув, кинулась на помощь.
Что происходило в кабинете Гарустова после Валиного ухода, никто толком не знал. Впоследствии стало известно, что сам Гарустов еще недели две яростно сопротивлялся нажиму целого ряда вполне ответственных лиц, настаивавших на том, чтобы дать Михайловым квартиру — раз уж так получилось, раз по радио было сказано, раз в глазах экипажей многих судов это выглядело как вещь согласованная. Тем более, сам Михайлов был образцовым командиром и квартиру, несомненно, заслужил.
Гарустов соглашался со всеми доводами, но затем, вспомнив холодный блеск Валечкиных глаз, каждый раз нервно вздрагивал и отказывал наотрез, заявляя, что квартиры у него ни единой нету. Бились с ним, бились, так ни к чему не пришли и приняли, наконец, решение выделить Михайловым квартиру из резерва города, обязав начальника пароходства возместить впоследствии этот урон.
Так случилось, что еще до возвращения «Гордого» Валентина Трофимовна получила ордер на новую квартиру в центре. Казалось, она все рассчитала верно и могла торжествовать победу.
И все же, как выяснилось, одного обстоятельства она не учла…
Ничего не скажешь, хороша моя хваленая интуиция! Вот тебе и светлое исключение из грустного правила… А все мое дурацкое стремление романтизировать кого угодно! Глаза, видите ли, у Валюши требовательные, и вся она такая целеустремленная… Недурно устремилась, нечего сказать! Нет уж, буфетчица, она буфетчица и есть!
— Вы осуждаете меня? — прозвучал тихий вопрос.
— Осуждаю, — твердо ответил я.
— Не надо было рассказывать… Считаете, я это, как тунеядка какая, задумала, что в этом поступке я вся и есть? Вспомните, я же вам сразу сказала: наваждение это было, затмение на меня накатило, неужели не ясно… Да не появись тогда Боренька со своим магом, мне ничего такого и в голову не пришло бы! А тут я вдруг увидела сразу всю операцию, от начала до конца, и поняла, как интересно будет ее провести, и сколько в ней риска, конечно, тоже поняла, но ведь это, может, самое интересное в жизни — рисковать! Или вы никогда не рискуете? Ну да, вы же в газете работаете… И в молодости охоты не было?
В молодости?
Тут меня и осенило. Молодость, говорит она? Как же я сразу не понял! Мальчишество, вот что это такое! Конечно же мальчишество — соответствующего слова для женщин в русском языке не существует почему-то, женщин раскрепостили до предела, а слова не придумали. Зловредное, с душком, с фальшивинкой, но, в сущности, мальчишество. Кровь играет… Лихой кавалерийский налет — авось, авось, авось — цокают копыта, — на кого налет, на своих? Разведка боем — вызываю огонь на себя — не всякий посмеет. Прогулочка по жердочке над пропастью — сорвешься, костей не соберешь. И все это не ради бравады — ради своего гнезда, ради справедливого, с точки зрения семьи, дела. Валька же отчаянная, оторви да брось, в чем же ей эту отчаянность проявить? Вырвать что-то сверх нормы на базе — разве это поступок для сильной натуры, переживание для неуемного молодого существа? Разве это масштаб? Не всякой женщине дано счастье раненых с поля боя под огнем вытаскивать и чувствовать себя при этом матерью всех скорбящих…
Но Валентине я о своих мыслях ничего не сказал.
— А корысть? — строго спросил я. — Корысть ты, конечно, исключаешь? Корысти не было?
— Была, наверное… — пробормотала она. — Хотя вообще-то я — не жадная…
— Не жадная?! — я старался заглушить в себе все голоса, оправдывавшие хоть отчасти ее поступок. — А в комнате у вас что делается?! Да вам потому и тесно, что от барахла не продохнуть!
Мелкая месть.
— В нашей комнате нет ничего лишнего, — отрезала Валя. Глаза ее погасли, голос звучал глухо. — А что вещи хорошие, так мне еще мама говорила, что плохие вещи только богачи покупают — добротные дольше служат…
— Но тебе же все мало!
— Значит, вы все-таки думаете, что я такая же, как все…
— Ну, знаешь, если бы все такие номера откалывали!
— Не надо так, вы же прекрасно меня поняли… Я имею в виду жадность к барахлу, которая людей дурманит…
— Не знаю, какие страсти в твоей душе клокочут, не могу судить. Но ты на шантаж пошла — а это само за себя говорит.
— Шантаж… Вот и Виталя…
Когда Виталий Георгиевич Михайлов возвращался из плавания, ему полагалась торжественная встреча; отсутствовал он два дня или два месяца, значения не имело.
Ритуал был таков. Шагнув из коридора в комнату, Михайлов оставался стоять у порога, а члены его небольшой семьи, имевшиеся в данный момент в наличии, с визгом кидались ему на шею и висели там, болтая ногами, до тех пор, пока счастливый отец и муж неверными шагами — выручала привычка брести по взлетающей из-под ног каждую минуту в новом направлении палубе — не переносил свои сокровища на диван, куда они и рушились все вместе. Правда, в последнее время, если на шее старшего механика оказывались разом трое — мальчишки-то подросли, нагуляли вес, — случалось, «пирамида» не выдерживала, и тогда тут же, у двери, на полу возникала особая скульптурная группа, широко известная под названием куча мала.
Все это придумала Валентина. Сперва она одна встречала так мужа, затем, поочередно, подключила сыновей. И Виталий Георгиевич, в детстве не испытавший дома ничего подобного, а потом долго скитавшийся по общежитиям и кубрикам, был навсегда благодарен жене. Конечно, радостная встреча того, кто возвращается домой из путешествия, с работы, из школы или института, не передает полностью всей гаммы отношений в семье, но встреча нередко служит камертоном, задающим тон на сегодняшний вечер, а иногда на много вечеров вперед. Как ни странно, один такой эпизод способен даже предохранить семью от большой или малой катастрофы — тем уже хотя бы, что отодвигает неприятный разговор, а то, что н е с л у ч и л о с ь, может не произойти уже никогда…
Кто знает, чем руководствовалась Валя, встречая мужа так подчеркнуто тепло. Хотела доказать ему, что глава семьи — он, а потом тем увереннее верховодить самой? Стремилась сразу же отвести малейшее подозрение в том, что в отсутствие Виталия она вела себя как-нибудь не так, сразу же провозгласить: никаких оснований для ревности у тебя, дружочек, нет и быть не может? Или инстинктивно стремилась к тому, чтобы и муж, и мальчики, и она сама лишний раз пережили торжество сплочения всех в единый организм? Не будем гадать, женская душа все равно потемки. Важно, что эти встречи стали традицией, доставлявшей радость всем участникам без исключения.
На этот раз все было обставлено особенно торжественно. Валентина точно выяснила, когда приходит «Гордый», вычислила примерное время появления мужа, отрядила Сашку караулить отца на улице — тот примчался с горящими глазами, крича «Идет! Идет!» — и, когда Михайлов распахнул дверь, его встретил почетный караул в полном составе, из радиолы неслись звуки их с Валей любимицы-песни «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет», посередине комнаты сверкал накрытый к парадному завтраку стол, а к стоявшей в центре хрустальной вазе с цветами — где умудрилась хозяйка их раздобыть, одному богу торговли известно — был прислонен скромный листок бумаги неопределенного цвета.
Разного рода бумажки, так много значащие в нашей жизни, Виталий Георгиевич воспринимал хладнокровно. Его родители, люди скромные и добродетельные, жившие, правда, несколько однообразно, слишком уж упорядоченно, что ли, почти без вспышек сиюминутных семейных радостей, сумели воспитать в сыне спокойное отношение к назначениям, преимуществам, благам, наградам, возможному достатку. Михайлов-старший, провинциальный врач и большой поклонник Пушкина, прекрасно понимая, что пичкать сына многими заповедями бессмысленно, не стеснялся многократно повторять старинную сентенцию.
— Береги честь смолоду, Виталик, — говорил он неизменно. — Это единственное, о чем я тебя прошу. Вот увидишь, остальное приложится.
Мальчик, естественно, пропускал надоевший призыв мимо ушей, не слишком отчетливо понимая, чего хочет от него отец и, главное, чего толковать о том, что и так ясно. Но по мере того как он взрослел, круг ситуаций и проблем — от крошечных до великих, — с которыми сопрягалось допотопное вроде бы понятие «честь», все расширялся, к его изумлению. Став офицером, Виталий Георгиевич понял, что круг этот — безграничен.
Вот и с ордером на квартиру… Михайлов давно чувствовал себя виноватым перед семьей, и недовольство Вали, хоть он и отшучивался, на самом деле больно задевало его; как ни крути, упреки были справедливыми. Но и добиваться назойливо квартиры он не считал себя вправе. Тем более, что его семья, как бы стесненно она ни жила, не бедствовала, а кое-кто из друзей и подчиненных не имел даже и такой жилплощади. Его заявление приняли, обещали удовлетворить по возможности — а какие, собственно, основания могли быть у него не доверять людям, взвалившим на себя такое муторное дело, как распределение жилья, или пытаться поправить их? Ровным счетом никаких.
Полученная в его отсутствие квартира была, таким образом, выходом из весьма затруднительного положения, не дававшего Виталию Георгиевичу покоя, и одновременно как бы оправдывала его высокопринципиальную позицию: не стал заискивать, сберег свою честь — результат налицо. «Приложилось», — сказал бы отец.
Вот почему, исполнив до мельчайших деталей ритуал встречи и успешно перебросив живой вес своего семейства с порога на диван, Михайлов, с некоторой нежностью даже, взял в руки заветный ордер, на котором значилось его имя.
— Ну что, кончились наши скитания и наш с тобой вечный спор, — сказал он Вале. — Так кто же был прав?
Валя ничего не ответила. Пряча улыбку, она убежала на кухню — принести сковородку с любимым блюдом своего повелителя, макаронами, посыпанными толстым слоем запекшегося сыра.
Но вот завтрак окончен, сыновья отправлены в садик вместе с запиской, объяснявшей причину их опоздания. Валя кончила убирать со стола, прильнула к сидевшему на диване мужу, ласково к нему прижалась.
— Ты рада, Валюша? — спросил Михайлов, обнимая жену.
— Я рада прежде всего тому, что ты наконец вернулся, — шепнула она.
Их поцелуй затянулся… Еще немного, и могла пострадать дисциплина: Михайлов должен был через полчаса явиться в пароходство, опаздывать он терпеть не мог.
— Расскажи лучше, как жила?
Никакой особенной исповеди Виталий Георгиевич не ждал. С первых месяцев совместной жизни он поставил за правило никогда, ни при каких обстоятельствах не ревновать жену — это, кстати, тоже входило в его кодекс чести. Склонность Вали пококетничать направо и налево он считал естественной для молодой и общительной женщины; если бы его супруга, напротив, стремилась казаться скромницей, было бы куда хуже… Впрочем, у него и выхода другого не оставалось: разобраться в Валином окружении для моряка, то и дело уходящего в плавание, было все равно невозможно. Не желая терзаться понапрасну, считая, что это унизительно — ревновать хозяйку своего дома и мать своих детей, — будучи уверен в Валиной искренности, Михайлов полностью доверял жене.
Он просто так задал вопрос — чтобы унять любовный жар, все еще, как и прежде, охватывавший их обоих после самой короткой разлуки, чтобы рассеяться немного, послушав милую Валькину болтовню…
Но она-то на этот раз не могла себе позволить поболтать просто так. Валя прекрасно знала, что, как только Михайлов окажется в пароходстве, его немедленно проинформируют о всех подробностях получения ими новой квартиры; надо было подготовить почву.
Продолжая обнимать мужа, она неторопливо, со вкусом все ему выложила.
— …И тут он мне заявляет: «Вы подумали о том, в какое положение ставите лично меня?» А я, вроде бы волнуясь, отвечаю: «Ах, нет, не подумала…» И платочек достаю… Хотя сама, конечно, все рассчитала с самого начала и точно знала, что ему деваться будет некуда…
— Кому — ему? — прервал вдруг ее рассказ тоже хриплый — Валя сразу вспомнила Гарустова — голос мужа. — Кому это — ему?
— Да Гарустову же… Ты опять меня не слушаешь?
— Значит, Николаю Степановичу… А ты знаешь, кто такой Гарустов?
— Большой начальник.
— Николай Степанович прежде всего моряк каких мало… Во время войны… Ты заметила шрам на его щеке?
— При чем тут шрам? Пусть себе заслуженный, мне все равно. Квартиру он нам сколько времени обещал?
— Почему же именно он… Не он лично…
Виталий Георгиевич отодвинулся — обнимавшая его рука Валентины упала, осталась белеть на темном фоне ковра. Без улыбки уставился он на жену, словно не узнавал ее или видел впервые.
— Послушай, Валя, — сказал он, помолчав. — Значит, этот ордер ты… можно сказать, выцыганила?
— Называй, как знаешь, — кокетливо ответила Валя. — Важен, как говорится, результат. А результат — вот он!
Свободной теперь рукой она легонько ударила мужа по плечу, как бы приглашая его вместе с ней вновь полюбоваться их сокровищем.
— Вот он… Вот он… — повторил Михайлов. — Неновая точка зрения, очень неновая… Важен результат, говоришь… Ты мне лучше доложи, подруга, как ты смогла?..
— Ой, не говори, такого страха натерпелась!
— …Как ты могла так осрамиться… на весь флот нас ославить?..
— Почему — осрамиться? — искренне удивилась Валя. — Что ты плетешь, Виталя?! Нам же все завидуют, ну как есть все!
Самым странным для Вали было то, что такие слова произнес не кто-нибудь посторонний, а самый близкий ей человек, которого она нежно любила и привыкла легко и умело, как ей казалось, вести за собой. Все эти дни она ни секунды не сомневалась в том, что Михайлов будет восхищен ее ловкостью и находчивостью и что новая квартира еще более упрочит ее положение главной, организующей силы в их семье — ведь не ради себя шла она на этот безумный риск, поддалась этому наваждению. Она ждала одобрения, похвалы, была уверена, что уж теперь-то муж и впрямь станет носить ее на руках.
— Завидуют, говоришь? — Михайлов встал с дивана и прошелся по комнате. — Допустим… Что из этого? И мне радоваться прикажешь потому, что все завидуют?
— Кому же радоваться, как не нам с тобой?
— Нам с тобой… Валюша, есть вещи для меня невозможные…
— Например?
— Тебе прекрасно известно, что канючить я не способен, и не потому, что характера не хватает, а просто я не хочу так жить. Не желаю. Мы много раз с тобой об этом говорили, я думал, ты считаешься хоть немного с моим мнением…
— Почему же — канючить?! Канючат милостыню, а я потребовала то, что нам полагается!
— Потребовала — ладно. Твое право. Но ведь ты не просто в очередной раз потребовала что-то. Ты взяла Гарустова за горло. Ты шантажировала его!
— Думай, что говоришь, Виталя!
— Думай не думай, а к шантажу я не приучен. И детей своих приучать не намерен. А уж чтобы моя жена… Господи, ну почему ты со мной не посоветовалась? Почему?!
Валя молчала. Не могла же она т е п е р ь начать объяснять, как мгновенно ее осенило, какой блестящий план составился в голове в одну только минутку. Если человек сам не понимает — как можно ему втолковать, что решать надо было там же, на месте, и действовать немедля?!
— Сама, все сама! Я не возражаю, когда ты верховодишь дома. Мне радостно потакать тебе и делать все так, как тебе нравится. Но в таком серьезном деле ты не имела права сбрасывать со счетов мое мнение!
— Если бы ты был здесь…
— А раз меня не было, — значит, и всю эту кашу заваривать было нельзя. Как знаешь, конечно, только это — чужая квартира, и жить я в ней не смогу. Ты пошла на вымогательство, скажем так, если слово «шантаж» оскорбляет тебя… А я… Мне чужое жилье не нужно. И детям тоже.
Михайлов шагнул к столу, взял ордер, поглядел на него печально, словно прощаясь с мечтой, аккуратно вновь прислонил бумажку к вазе.
— Документ ты верни, пожалуйста.
— Я?!
— Да. Ты получила, ты и верни.
Михайлов подошел к вешалке, стал надевать ботинки, шинель, фуражку.
Оскорбленная до глубины души, Валя рванулась за ним.
— Ах, вот ты как! — кричала она, с наслаждением окунаясь в непривычную для ее нервов разрядку, ибо это была первая серьезная ссора с мужем. — Вот как! Белоручку разыгрываешь! Что ты для семьи сделал, недотепа?! Привык на готовеньком! Возвращать ордер?! И не подумаю! А вот ты сам можешь не возвращаться! Получишь развод!
Михайлов замер и глядел на Валю, как раненый олень.
— Получишь, получишь! Заруби себе это на носу или на любом другом месте, как любит говорить твой драгоценный, твой заслуженный начальничек! Ясно?!
Выкрикнув все это, Валя на мгновение увидела рядом грузного, усталого Гарустова. Ей стало стыдно, но она не поддалась этому недостойному чувству. Отступить и признать тем самым, что вся ее блестящая операция была сплошной ошибкой, она в тот момент не могла. Собрав всю волю, она не отрываясь глядела на сгорбившегося, почерневшего, ставшего вмиг чужим человека — своего послушного и веселого мужа.
— Ясно, — качнул Михайлов головой.
И ушел.
— А дальше? — спросил я. — Что было дальше, Валя? Вы вернули ордер?
— Вернула… Виталя в своей каюте на корабле торчал… Мальчишки ревмя ревели… Я только работой и спасалась, а уж по ночам… На третий день вернула я ордер, а на следующее утро он является и с порога: «Примешь?»… Я подошла, в шинель ему заревела… Мы еще крепче друг друга полюбили… Выстраданное — всегда крепче, говорят старые люди…
Вскоре после этой памятной беседы в пароходстве состоялось совещание, для меня — последнее, пора было уезжать. Вел совещание Гарустов. Когда все стали расходиться, я подошел к нему, сказал, что хочу попрощаться.
И вот я снова в кабинете, так красочно описанном Валей. Изложив кратко свои впечатления и выводы, уточнив напоследок кое-что, я попросил у Гарустова разрешения задать ему один частный вопрос.
— Я тут познакомился с Михайловым, старшим механиком с «Гордого». Подружились вроде даже — очень славный человек. Хотелось бы узнать, Николай Степанович, как ему жилье — не светит?
Гарустова передернуло.
— Вас Валентина подослала? — нахмурился он.
— Нет, — ответил я. — Хотя, вообще-то, я — в курсе.
— Повезло Михайлову, ничего не скажешь… — Гарустов почему-то провел ладонью по своему шраму. — Что квартира — бабы такой мне лично за всю жизнь не встретилось… Много их было, да все так, киселек, и то из порошка… А эта! Она вот тут, на моем месте сидела. Я дрожу весь от ярости, сказать ей не знаю что — то есть знаю, конечно, но не смею, — а сам любуюсь. Честное слово. Ей бы торпедным катером командовать, а она за стойкой торчит… Балаган!
Я кивнул, разделяя его точку зрения на неограниченные возможности Вали Михайловой.
— Я зарок дал, что никакого отношения к этому делу иметь не буду… Ну, а потом муж ее больнее всех наказал. Тоже — характер! Скоро, скоро получат квартиру, дом кончают. Внесли их в списки, можете ее обрадовать.
Он грустно улыбнулся — впервые за время нашего знакомства.
Я попрощался и вышел.
ЛАБИРИНТ
Судьба подарила мне ее неожиданно.
Выполняя задание редакции, я заехал далеко на Восток, а на обратной дороге схватил воспаление легких и застрял в сибирском городке, где надлежало делать пересадку.
Недели две меня продержали в больнице, потом я взмолился, и доктора разрешили долеживать в номере местной гостиницы, предупредив, что, если я все-таки попробую улететь до полного выздоровления или стану выбегать на улицу, возможны серьезные осложнения и вообще они ни за что не ручаются. Врач навещал меня через день.
Осложнения были мне ни к чему, торопиться особенно некуда, и я решил строго соблюдать режим. Тепло одетый, в свитере, я лежал на диване или присаживался ненадолго к столу и, не теряя времени, готовил обещанный материал. За порог комнаты я не делал ни шагу, еду мне приносила лично буфетчица — я подарил ей книжку своих очерков, — словом, все шло тихо и мирно.
Слегка мешал шум за наглухо закрытой дверью в соседний номер, — если раскрыть ее и вернуться, таким образом, к замыслу архитектора, получился бы двухкомнатный «люкс». Несколько дней рядом обитал какой-то жизнерадостный мужчина; по утрам он отсутствовал, зато, вернувшись, врубал радиотрансляцию на полную мощность, да еще сам подпевал немного. Я не жаловался, конечно, — какой смысл?
Потом он уехал. Целый вечер и всю ночь было тихо. А утром из-за двери донесся плач.
Рыдала женщина.
«Почудилось», — подумал я. Прислушался — нет, не ошибся. Рыдания не прекращались. Едва стихнут, потом снова во всю силу.
Я человек деликатный, терпеть не могу лезть в чужую душу и не люблю, чтобы лезли в мою. Но деликатность невмешательства в чужое горе, тем более в горе одинокого человека, тем более в горе женщины, часто бывает ложной и сильно смахивает тогда на жестокое равнодушие.
Кроме того, я попросту лишился возможности делать что-либо. Горестные стенания за стеной не давали ни писать, ни править рукопись, ни читать, ни думать.
Может быть, она не подозревает о чьем-то присутствии? Я громко подвигал стул, уронил книгу… Плач вроде стих, но совсем ненадолго. Значит, дело серьезное, если ей все равно…
Поколебавшись еще немного, я вышел в коридор, постучал в соседнюю дверь и, не дожидаясь ответа, стремительно вошел. В кинофильмах так поступают агенты, намеревающиеся захватить кого-нибудь врасплох.
Вплотную к разделявшей наши комнаты стене стояла кровать. На ней лежала молодая женщина.
Очень красивая. Поднявшееся мне навстречу лицо было в слезах, но ни слезы, ни припухлость век не могли стереть его прелести; и — ни одного потека, полное отсутствие косметики, а это великий признак.
На женщине был дорожный костюм, чем-то напоминавший форму стюардесс, на полу стоял чемодан, на столике валялась сумочка и ключ от номера, на коврике, возле кровати, лежали на боку две черные лодочки.
Увидев меня, она села на кровати — юбка короткая, по моде тех лет, стройные ноги.
— Извините за вторжение, — сказал я торопливо, пока не выставили. — Я ваш сосед, вот из-за этой двери. Разрешите, я помогу вам?..
— Чем же вы можете мне помочь? — все еще задыхаясь от рыданий, пролепетала она, комкая в руках мокрый насквозь платочек.
— Мало ли… Хотя бы — предложив вам сухой носовой платок… (Хвала аллаху, я только утром достал из чемодана чистый.)
— Спасибо, — не раздумывая, она взяла платок и вытерла лицо.
— Считается, кроме того, что я обязан всем давать советы, — сказал я, делая отчаянную попытку развить успех и хоть как-то закрепиться на весьма ненадежном плацдарме. — Если позволите, я охотно посоветую что-нибудь и вам…
— Что же у вас за профессия такая? — Отдаленное подобие улыбки появилось все-таки на ее лице.
— Литератор, — ответил я. — Застрял тут по болезни. Сижу и мараю бумагу.
— А я вам помешала… Извините… — И вдруг: — Послушайте, вы знаете К.?
Она назвала одно из известнейших в нашей литературе имен.
— Нет. Не имею чести.
— Ну да, конечно… Это только так кажется, что все писатели знают друг друга… — задумчиво промолвила она.
— Я читал его книги, видел раза два, но лично не знаком. И живем мы в разных городах, и ранг у меня, признаться, не тот.
— У вас тоже табель о рангах… — сказала она и вдруг снова совершила неожиданный поворот, спросив: — А вы уже завтракали?
Рыдания к этому времени утихли совсем.
«Ого!» — подумал я, а вслух произнес:
— Нет, конечно, и голоден как черт. Мне скоро принесут что-нибудь в номер — не примкнете ли?
— С удовольствием, — она согласилась так же просто, как давеча взяла платок, и это окончательно расположило меня в ее пользу. — На люди мне не хочется, а с вами мы все равно уже познакомились. Меня зовут Таня.
Я представился, пообещал позвать ее и вышел.
Изумленная буфетчица, только что убравшая у меня после завтрака посуду, поздравила меня с таким аппетитом, заметила, что дело явно идет на поправку, вздохнула и вскоре принесла еще один завтрак.
Когда она удалилась, я постучал Тане в разъединявшую нас дверь. За это время она успела умыться, надеть брюки и свитер.
Выпив горячего чая и рюмку коньяку, который я, наряду с ромом, почитаю лучшим в мире лекарством от всех болезней, она так до вечера и не ушла от меня. То сидела в уголке дивана, уютно поджав под себя длинные ноги, то дремала тихонько, а я, прикрыв ее пледом, спокойно писал за столом.
Прекрасно было, после этого проклятого одиночества, работать, ощущая рядом доверившееся тебе существо.
Исповедь Тани, как это часто бывает, полилась неожиданно.
1
…Историю мою можно назвать или бесконечно банальной, или неразрешимо сложной — как посмотреть.
У меня сейчас такое ощущение, будто я, в самый обычный день, каким-то образом попала вдруг в лабиринт — неожиданно оказалась в одиночестве, отрезанная от улицы, от толпы, от реальной жизни… Я туда, я сюда, но ни выхода, ни пути назад найти не могу, а служителей, или как их назвать, ну, которым полагается принимать посетителей, а потом выводить их из лабиринта, вот этих служителей почему-то нет — то ли им, всем сразу, дурно сделалось, то ли обедать ушли, то ли собрание проводят, как это у нас теперь принято, в разгар рабочего дня.
Вот вы говорите, к вам за советом обращаются, — может, вы как раз такой служитель и есть? Выведите меня, бога ради, назад в нормальную жизнь, больше мне ничего не нужно.
Я — киноактриса. Собственно, еще студентка ВГИКа, но меня пригласили сниматься, и не как-нибудь, а на главную роль в большом фильме — сколько серий получится, сам режиссер еще, кажется, не знает. Съемки идут в …ске, я только что оттуда прилетела…
Теперь понятно, откуда она тут появилась: …ск километрах в двухстах к западу… И как я сразу не догадался, что она актриса? Кто еще способен так владеть собой, так быстро перестраиваться…
2
…Надо еще иметь в виду, что на следующий день после того, как в …ск прилетела наша съемочная группа, там появился автор сценария К. — я не случайно вас о нем спросила. Было это месяца три с половиной назад.
Ничего не скажу, любопытно было взглянуть на известного писателя, его книгами мы еще в школе зачитывались. Любопытно, но и только. Что могло быть общего у такой девчонки, как я, с этим человеком? Мне нравились его повести, особенно его умение понять женское сердце — хотя какая я женщина… Но я жила в те дни в каком-то исступлении и на все, что не было непосредственно связано со съемками, реагировала приглушенно. Главная роль как-никак…
Нас познакомили. Выше среднего роста, крепкий, худощавый, с почти совсем седой коротко остриженной шевелюрой, с веселыми карими глазами, он держался неожиданно просто, был скромно одет, курил трубку. Все мне понравилось.
Он меня, казалось, не заметил. Пожал руку, вежливо сказал, что о лучшем типаже для героини и мечтать не мог, улыбнулся, спросил, кто мой руководитель в институте, пробормотал «как же, как же…» и словно позабыл обо мне.
Меня это не то что задело, а так, зацепило чуть-чуть.
Несколько дней спустя наш неутомимый Петенька — мы нашего режиссера, Петю Зырянова, так зовем, не слыхали про такого? — устроил встречу К. с актерами. Сказал, что хочет заставить нас пошевелить мозгами, просил каждого подумать еще раз о рисунке своей роли и высказать сомнения, если они имеются, а также мысли о сценарии в целом.
Я привыкла и в школе, и в институте принимать такие вещи всерьез, подготовилась, как смогла, и слегка врезала К. — честно говоря, я не прочь была ему легонечко отомстить за проявленное ко мне невнимание… Понимаете, я отлично знаю роман, а в сценарии мало что осталось от героини, эмоциональная сторона ее жизни оказалось почему-то выхолощенной, и сделать похожей на живую женщину ту блеклую тень, которая робко выглядывала со страничек моей роли, было невероятно трудно.
Съемочная группа реагировала на мое выступление бурно, но К. лишь спокойно поблагодарил всех в конце, и меня в том числе. Зато позднее, после ужина, он подошел ко мне и пригласил погулять.
Стоял теплый летний вечер…
Таня продолжала говорить, а я не слушал ее. Я мгновенно поставил себя на место К. — о, как я был к этому подготовлен! Не было ничего легче, чем представить себе, что произошло в тот вечер между ними.
Прогуливаясь у реки с этим едва вступающим в жизнь существом, — обаяние красивой женщины соединялось с великолепной угловатостью породистого щенка, — любуясь смущением Тани, все еще взволнованной упреками, которые она осмелилась ему адресовать, К. пытался доказать недоказуемое. Он говорил о том, что многоступенчатая редакторская лавина подвергла его сценарий обработке в нескольких, противоречивших друг другу, направлениях, что ему это в конце концов осточертело и он, махнув рукой, взял и поставил свою подпись…
— Вы всегда так делаете? — лукаво спросила Таня.
— Всегда не всегда, но случается… — ушел он от ответа.
Слушая Таню и отвечая ей, К. все явственнее ощущал, как падают привычные путы, как радостно ему откровенно и горячо спорить, как, впервые за долгие годы, его вновь тянет придумывать новые шутки, колкости, остроты, как счастлив он — это он-то! — возможностью порисоваться немного перед этой девушкой, которую и актрисой еще не назовешь, как настойчиво хочется ему стать вровень с ней во всем, решительно во всем, и ощутить давным-давно забытые раскованность, и безудержность, и всемогущество молодости.
За первым разговором — другой, третий… Постоянное внимание со стороны такого блестящего собеседника и обаятельного человека не могло не польстить Тане и заставило девушку взглянуть на К. другими глазами. И тогда выяснилось вдруг, что он интересен ей, так интересен, как никто другой до него, что Тане нравится его внешность, его манера держаться, что ей приятны его жесты, смех, отсутствие в его поведении малейшей назойливости…
Так исчезло ощущение непреодолимой дистанции между ними; даже солидная разница в возрасте стала как-то неуловимо сходить на нет.
3
…Однажды я поймала себя на очень странной мысли: ведь К. — словно герой кинофильма. Сама судьба послала мне живое воплощение тех прекрасных мужских качеств, которыми я восхищалась когда-то, следя за скользящими по экрану тенями. Значит, они могут все же совместиться в одном, реальном, невыдуманном человеке, а я-то уж отчаялась такого встретить.
Может, мне просто не случалось прежде бывать в обществе таких умных людей, но я уверена, что дело было не только в этом. Я сама себя не узнавала: привыкнув без конца колебаться, прежде чем определить свое отношение к кому-либо, я на этот раз не сомневалась в том, что нас объединяет нечто гораздо более существенное, чем поверхностный, случайный интерес, — что-то кровное, родное чудилось мне.
Я не могу вразумительно объяснить, что именно это было, да и стоит ли пытаться? Все равно ни один, пусть самый глубокий, самоанализ не может заменить уверенности.
В чувстве во всяком случае. У меня были увлечения и раньше, в студенческие годы они, вероятно, неизбежны, но ни одно из них не принесло мне осознанного чувства, я ни разу не испытала ни радости единения с подлинным избранником моего сердца, ни даже простого забвения.
Вероятно, просто не везло. Зато теперь пришла уверенность…
И опять: я знаю, как это было. Таня первая сделала едва заметный шажок вперед — и в чистом, жарком пламени, которому она помогла вспыхнуть, мгновенно сгорели все ширмочки, отгораживавшие ее существо от внешнего мира. И вот тогда Таня познала наконец полной мерой счастье разделенного чувства и поняла, что же такое эта таинственная любовь, за которую были готовы умереть и умирали поэты.
…Я ни о чем не жалела. А потом пришло время его отъезда.
— Хочешь, я брошу все и останусь?
— Ты сам понимаешь, что это невозможно…
Я хотела сказать: «Это с е й ч а с невозможно», но не посмела, а ведь он мог принять мой ответ и как боязнь связать свою молодость какими-то обязательствами…
Он заглянул мне в глаза:
— Я вернусь в октябре, тогда все и решим, ладно?
Подвел итог и улетел, так и не узнав о том, что у меня будет ребенок. Я сама окончательно уверилась в этом уже после его отъезда, а тогда была в таком смятении, что ничего ему не сказала. Дуреха!
Если б мне хоть на минутку пришло в голову, как далеко оттеснит его от меня жизнь, едва только самолет поднимется в воздух…
И если бы я понимала, какую ответственность взваливаю на себя: мне приходится в одиночку решать вопрос, который по всем законам и природы, и общества нам следовало бы решать сообща.
Он прислал за это время три письма. Такие письма — словно три рассказа, и на машинке напечатаны, но и ласковые очень, а я писать особенно не люблю, — представляете, е м у писать! — да и не договаривались мы об этом… И — работа, безумная работа, ни секундочки передышки… Казалось, до октября не так уж далеко…
А теперь не знаю, наступит ли он вообще, этот октябрь. Теперь я совсем не могу ждать. А как решать — без него?!
В одиночку я сделала все, что было в моих силах.
4
…Сунулась к директору картины, Евсееву. Попросила, не объясняя причин, переговорить с Зыряновым: нельзя ли отснять меня побыстрее и отпустить. Говорить с Петей самой мне было неудобно по многим обстоятельствам.
Пришла к Евсееву за ответом. Впрочем, это я вам лучше сыграю.
Е в с е е в (благодушно улыбаясь). Прежде всего, Танюша, меня радует, меня необычайно радует возможность заявить категорически: мы в вас не ошиблись! Не далее как вчера у меня был разговор с Зыряновым, и ваша работа оказалась одним из немногих пунктов, по которым не обнаружилось решительно никаких разногласий. Все, что вы за это время сделали, заслуживает самой высокой оценки.
Я. Мне так приятно это слышать, Леонид Александрович. Проба сил — смогу или не смогу… быть или не быть… Да вы сами понимаете.
Е в с е е в. Еще бы! Понимаю, голубчик, очень понимаю. Надо признать, вы исключительно точно ставите вопрос: смогу или не смогу? Отвечаю: сможете! А я ведь в кино человек не случайный… Более того, скажу вам по секрету: мы с Зыряновым еще в Москве намечали кое-что на будущее, и теперь вы, Танюша, заняли в наших планах определенное место. Вот так!
Я. Спасибо, Леонид Александрович, огромное спасибо… Как говорится, постараюсь оправдать…
Прав директор, тысячу раз прав! Мы слишком часто забываем, как нуждается молодежь в поощрении. Жестокая правда необходима, конечно, но и опасна, необычайно опасна: одна только требовательность — ни капли ласки, ни звука одобрения — способна тяжело ранить самолюбивое, мятущееся существо, надломить неустоявшийся характер. Опытные администраторы, словно старые терапевты-практики, твердо знают, что лекарства — полдела, что не менее важна вера больного в своего врача и, следовательно, в действенность прописанного им средства. И чем менее приятный разговор такому администратору предстоит, тем более внимательным к собеседнику стремится он быть.
…Е в с е е в. Вчера же мы с Зыряновым окончательно уточнили перспективу. И так, и сяк прикидывали, и получилось, что для завершения съемок нам потребуется еще минимум полгода, а скорее месяцев семь, даже чуть больше. Я передал Зырянову вашу просьбу, мы обсудили ее, но, по целому ряду очень серьезных причин, удовлетворить ее нет, к сожалению, никакой возможности. Абсолютно никакой…
Я молчу.
Е в с е е в. Между тем, если ваша просьба связана… с… с той причиной, о которой я догадываюсь, — вы сами понимаете: еще месяц, полтора, ну два, и о съемках не будет речи…
Я. Неужели никак нельзя… пораньше?..
Е в с е е в (трагически, но и сочувственно разводит руками). В том-то и дело… У вас — главная роль… И знаете, Таня (доверительно), счастливый шанс представляется далеко не так часто, как это иногда кажется в двадцать лет.
Я. Счастливый шанс… Кто его знает, Леонид Александрович, какой шанс счастливый, какой нет… Многое, что сулит успех.
Е в с е е в. Возьмем данную конкретную ситуацию. В нашей картине сомневаться не приходится: с любой точки зрения — не подкопаешься… А успех картины — это и ваш успех, Танюша. Гарантированный. Такой успех, в свою очередь…
Я. Иными словами, вы полагаете, что мне следует… что я должна… прямо сейчас, обязательно сейчас довести картину до конца?
Е в с е е в. А как же, голубчик?! И, заметьте, это важно не только для вашего будущего. С этим связаны и планы большой группы ваших товарищей, творческие планы и… и материальные интересы — тоже…
Я. Почему же — материальные?
Е в с е е в. А по той простой причине, что, ежели мы сейчас свернем производство — закроем картину, законсервируем ее или начнем снимать с другой исполнительницей, — они все категорически останутся на голой зарплате.
Я. На голой?..
Е в с е е в. На голой.
Я. Значит… разница так велика, что… голая зарплата их устроить не может?
Е в с е е в. Вот именно…
Так вот какая задача была поставлена перед ней жизнью! А Тане всего-то двадцать два… Как просто — и как страшно сложно!
5
…Ну, я сказала дорогому директору пару теплых слов, не сдержалась, уж больно просто он все решил для себя — и мне советовал, и мне, и с каким покровительственным видом! Вытребовала несколько дней на размышление и ушла, как говорится, хлопнув дверью.
Вот за дверью директорского кабинета я и почувствовала себя в лабиринте, в тупике.
Посоветоваться не с кем, событий в жизни до ужаса мало, опыта — никакого.
Я вечно ощущаю себя одинокой, почему — не знаю. Есть друзья, есть любящие родители, но… я почти никогда не бываю с ними до конца откровенной.
Я даже в детстве предпочитала играть одна и уже тогда терпеть не могла делиться со старшими своими радостями и огорчениями — им надо было так мучительно долго все объяснять… Я приоткрывала любопытным взорам лишь одну частицу своего бытия — видимую его основу; сама же тихонько училась ткать никому не видимые узоры…
Моя незнакомка смущенно говорит это мне — мне, которому в самое сердце вонзились слова Сент-Экзюпери: «…порою… молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис».
…С чего все началось? Не знаю… Трудно предположить, что уже в детстве возникло другое понимание жизни, чем у родителей… Откуда ему взяться — другому? Но ведь факт: ни отец, ни мать сами не шли глубже, они даже не делали попыток догадаться, о чем на самом деле думает их дочь. Почему? Что мешало им? Неумение? Равнодушие? Боязнь обнаружить вдруг нечто неведомое, что неизвестно как расценить?
А ну, как с этим «чем-то» придется бороться?
…Яркое солнечное утро, на душе радостно и просторно, меня одели в новое платье, и бант новый, и туфли. Я вхожу с родителями в аллею нашего городского сада, где по воскресеньям гуляли все, — у нас в городке так и говорили: в воскресенье не могу, в воскресенье я жену прогуливаю.
Сперва я скачу рядом с родителями, потом отбегаю в сторонку за откатившимся мячиком и вдруг обнаруживаю под ногами целое стадо божьих коровок. Малютки сидят на траве, на песке, на кустах — повсюду, а по ним, безжалостно давя хрупкие тельца и не замечая этого, шествуют празднично разодетые люди.
Родители спокойно уходят вперед, а я мечусь среди взрослых и детей, пытаюсь отвести в сторону их поток, умоляю свернуть на другую дорожку. Кое-кто, вслушавшись, соглашается выполнить мою просьбу, но, пока я уговариваю одних, подходят все новые ряды, компании, группы, пары — не разорваться же мне… Я рыдаю, падаю на траву, чтобы своим телом прикрыть хоть часть беззащитных созданий.
Прибегает встревоженная мать, тащит меня в сторону, чистит платье, утирает слезы:
— Ай, ай, ай, Танечка, как же это ты так, на людях надо сдерживаться… засмеют…
— Мамочка… коровки… — всхлипывая, бормочу я, а мама, крепко взяв меня за руку и виновато улыбаясь окружающим, уводит меня прочь.
Она выговаривает, поучает, требует заверений в том, что я больше не буду, но не задает ни одного вопроса. Ее словно бы не интересует, почему дочка принимает так близко к сердцу гибель каких-то козявок, до которых нормальным людям и дела нет…
Понимаете? Все как будто правильно, а ведь какая страшненькая по сути заповедь: засмеют! Неужели и я стану когда-нибудь учить своего ребенка носить маску благопристойности, вместо того чтобы кинуться спасать от гибели живое существо?
Своего ребенка?!.
Лицо Тани искажает гримаса, полная горечи, она вдруг резко отворачивается к окну; я боюсь, не разрыдается ли она снова, но она жестом просит не прерывать ее и, помолчав, продолжает.
6
…Опять не знаю, как объяснить, но с животными мне всегда было покойно и просто… Вот уж кого я не избегала — напротив! Как ласково мычала в деревне, летом, пасущаяся на привязи телочка и как любила она облизывать мои руки; как дружно стрекотали аисты на трубе соседнего дома, словно ночные сторожа запускали свои трещотки; как забавно прыгали лягушата у пруда… А в школе? Не было лучше места, чем уголок живой природы. Тихо, покойно… Никто не мешал мне возиться с ежами, черепахами, морскими свинками…
И в той же школе мне за десять лет так и не захотелось никому излить душу. Хотя это, в общем, нормально, вероятно… Один только раз… В шестом, кажется, классе появился у нас молодой, веселый физик. Резковат был немного и на уроках требовал дай боже — но разве в этом дело? И когда только педагоги усвоят, что дети любят строгость тех, кого уважают? Зато физик никогда не придирался по мелочам.
Он начал свой первый урок с того, что сказал нам: «Дети, я хочу, чтобы вы не просто зазубривали отдельные законы, формулы и страницы учебника, но уже сейчас, хоть вы еще невелики, стремились разобраться во взаимосвязях явлений природы». И мы все этого захотели и полюбили его уроки…
Таня провела рукой по лицу и отбросила назад волосы, по-видимому копируя запомнившийся ей жест этого человека, и я на миг увидел ее девочкой в школьной форме и подумал, что она, вероятно, действительно стоящая актриса.
…Весна идет, кончается учебный год, я — дежурная, убираю кабинет физики после занятий. Учитель роется в шкафу и вдруг поворачивается:
— Послушай, Залыгина, я все хотел спросить: у тебя не бывает ощущения, будто ты жила уже когда-то?
Отлично помню эту сцену, вижу ее зрительно, слышу его слова, но напрочь позабыла, что отвечала ему я.
— Понимаешь, какое дело, я внимательно наблюдал за тобой, и мне показалось, что ты реагируешь на происходящее вокруг, не исключая и моих слов на уроках, так, словно все это тебе давно и хорошо известно или хотя бы знакомо, словно ты это однажды уже пережила и испытала. Верно, нет ли, не знаю…
Почти десять лет прошло, а я еще сегодня чувствую всю прелесть глубочайшего взаимопонимания, хотя слова учителя мне толком ничего не объяснили. Пригляделся, прислушался ко мне человек — и угадал что-то такое, чего я сама ни сформулировать, ни угадать еще не могла.
— Ну, ну, не ломай голову — а как он улыбался, наш физик! — Да… много в природе дивных сил, сказал когда-то Софокл, очень великий древний грек… Но ты вот что, Залыгина, не воображай, что ты феномен, исключение… Это свойственно многим людям, но не у всех так остро выражено. Нос не задирай, главное, не относись к жизни так… так снисходительно, что ли. Нужно хоть внешне выказывать почтение, а то неприятностей не оберешься… Старайся быть как все. Кое для кого это опасно, для тебя — полезно. Как все, понимаешь?
Я умчалась домой радостная, окрыленная, потом все собиралась расспросить учителя поподробнее о чем-то важном, до чего мы могли добраться только вместе, но не знала, о чем. Потом физика перевели в другую школу, и он, скорее всего, позабыл обо мне.
Не правда ли, какой странный совет — быть как все? Дать такой совет ребенку? Педагогично ли это… Или он тогда уже понимал, во что превратится гадкий утенок? Скорее всего… Значит, это был — учитель.
…А я его не забыла. Стала приглядываться к детям, ближе сошлась с некоторыми, хоть это было нелегко. Подумайте, мне даже влюбиться в школе ни разу не удалось, мальчишки казались мне такими цыплятами…
Впрочем, принять всерьез мудрый совет быть как все я тогда не могла. Загордилась — как же: было такое, о чем мы с учителем говорили только вдвоем… Заважничала, соплячка, возомнила, что могу помочь другим глубже взглянуть на жизнь… Помогла, да еще как! Лильке Романовой в особенности.
Самая близкая подружка была — не наперсница, подружка. В девятом классе уехала в командировку Лилькина мать, месяца на два или около того, сама Лилька торчала у нас целыми днями, я заразила ее своим интересом к литературе, театру, кино, да так основательно, что она запустила занятия. Двоек, правда, у Лильки не было, но едва Маргарита Семеновна заглянула в дневник, разразился скандал:
— Ма-ам, ты пойми, я же хочу поглубже изучить то, что мне по душе, чему я собираюсь посвятить жизнь!
— Литературе? Это что-то новенькое… А другие предметы? А надежда на медаль? Нос вытащишь — хвост увязнет?! А если тебя не допустят до литературы, тогда как? Нет, ты эти штучки брось, дорогая моя!
— Но все девочки… драмкружок…
— Это Танька Залыгина, твоя разлюбезная, — вот и все девочки! И в кружок ты записалась из-за нее, когда времени и так в обрез! И по театрам вы вместе шастаете… Если Танька чокнутая и учится кое-как, я не позволю, чтобы моя дочь…
Чокнутая… Маргарита Сергеевна говорила бы, конечно, иначе, если бы знала, что упомянутая Танька сидит в соседней комнате…
Но разве в словах дело?..
7
…Кино — особь статья. Кино для меня сперва было великой иллюзией. Оно захватило меня, как паводок, я бегала на каждый новый фильм — все ждала, что уж эта-то картина наверняка истолкует мои сновидения и я познаю людей со счастливой судьбой, созвучной и моим грезам. Такие грандиозные ожидания почти никогда не оправдываются, но почему-то именно здесь, в кино, надежда не покидала меня.
В Дом кино меня водил мой одноклассник Володька Сапунов, увалень с вечно потными ладонями; я терпела его, разрешила даже несколько раз поцеловать себя, и все потому, что Володькин папаша регулярно получал билеты на просмотры, а сам кино не любил. Конечно, тот же фильм можно было посмотреть несколько дней спустя в обычном кинотеатре, но здесь фильмы шли нулевым экраном, я первая в школе смотрела их и знала что-то, чего пока не знали другие, и в вопросах кино была непререкаемым авторитетом. Кроме того, здесь царила особая атмосфера, настраивавшая, как мне казалось, на более точное восприятие искусства, здесь представляли создателей картин — режиссеров, операторов, актеров.
Как много ждем мы в таком возрасте от простых лицедеев, играющих заданную роль! Конечно, я и тогда понимала, что есть актеры талантливые, есть и не очень. Но тогда меня это не волновало. Сидишь в зале — и веришь безгранично. А как не поверить? На экране — богатыри, благородные, умные, настоящие мужчины, вокруг таких только бы плющом обвиться и уверенность обрести…
Потом невольно переносишь симпатии на этих же героев, только без грима… Господи, каким же утенком я была… сколько фотографий киноактеров, кадров из фильмов, открыток, календарей с любимыми профилями хранила в старом, бабушкином еще сундучке… Они казались мне красивыми и даже умными, и в душе возникало предвкушение чего-то радостного… Вот-вот течение подхватит тебя, увлечет за собой — и тогда-то начнется настоящее!
Знаете, когда оно началось, это настоящее? Когда я повстречалась с К. — вот когда.
Родители не дали бы мне сдавать экзамены во ВГИК, не будь они убеждены в том, что мою «киноманию» ничем не остановишь.
— Да ты взгляни на себя в зеркало, — пожимал плечами отец. — Разве ты выдержишь такую конкуренцию?
Почему он пренебрежительно отзывался о моей внешности, до сих пор не понимаю.
— А связи? — не уставала спрашивать мать. — Ты собираешься проникнуть в святая святых, не имея протекции! Наивно, доченька, ах, как наивно!
Так, по-своему, хотели они смягчить горечь неизбежного поражения.
Я понимала, конечно, безмерную трудность задачи. Замахнувшись высоко, я ставила на карту очень многое. Главное, я могла разом растерять все, что сама о себе за семнадцать лет узнала. А уж что стали бы говорить вокруг люди, так высоко не заносящиеся, довольствующиеся реальным, кровным, изученным, достижимым…
Мне повезло: я много читала — и верила книгам. Это из книг я поняла, что сражаться с открытым забралом интереснее, а шансов победить ничуть не меньше. Рискованно, конечно, что и говорить, зато поле боя видишь целиком, а не только ту полоску, что открывает взору узенькая щель в шлеме. Это тоже чего-нибудь да стоит.
Книжная мудрость — выше житейской. И риск имеет свою прелесть. А какое удовлетворение испытываешь от сознательной, а не случайной или подстроенной кем-то победы! У меня же пальцы дрожали от гордости, когда я заполняла бланк телеграммы: «зачислена актерский факультет целую Таня».
Слова «актерский» и «факультет» спокойно можно было не писать — все та же гордость за саму себя.
Лилька рассказывала потом, как ошеломлены были родители. Похоже, они впервые задумались в тот вечер над тем, как мало меня знали.
Сниматься меня еще на первом курсе приглашали. Но Старик сказал: и думать не моги, надо копить силы для дебюта, а не транжирить их направо и налево, надо учиться… И я честно его слушалась, хотя были заманчивые предложения… До четвертого курса — ни-ни!
Оно бы и до конца так дошло, не подбери Зырянов к Старику ключик — уж он-то отлично знал все причуды, сам у Старика когда-то учился… Такой хитрющий: слова мне не сказал, сперва к Старику сунулся — так, мол, и так, не на кого положиться, только ваша школа… Старик растаял и уже сам — сам! — предложил мне сниматься в зыряновском фильме.
Доснималась…
8
…То есть, вообще-то, отношения со всеми у меня были хорошие, но с кем я могла советоваться в таком интимном деле? Да и что посоветовать можно при самом добром отношении, ну что?! Все надо было решать самой.
А тут еще схлестнулись мы все-таки с Зыряновым. Директор выложил ему все догадки, не удержался, и Зырянов сразу ко мне изменился, разговаривать стал как-то пренебрежительно, а на второй или на третий день прямо спросил, когда же я решу наконец его судьбу.
— Леонид Александрович дал мне пять дней…
— Ему хорошо неделями швыряться, а я должен точно знать, что меня ждет! Снимать мне, например, вас завтра или не переводить понапрасну пленку, а?! Мне не то что каждый день — каждый час дорог!
И еще он сказал, что, приглашая меня на роль, попался как мальчишка и что я — непрофессиональный человек.
Я повернулась и ушла. Я-то знала, что примешивалось к деловым соображениям, почему он так злился.
И Зырянов отстранил меня фактически от съемок. То есть официально ничего сказано не было, но съемки шли, всех занимали, меня — нет.
Я почувствовала себя каким-то изгоем, стала в номере запираться. Тут, слава богу, вернулась из поездки домой тетя Лиза, мой гример, мы с ней близко сошлись во время съемок. Зашла она ко мне, расспросила, что да как, потом сама стала рассказывать о болезни внука, о том, как обрадовались ей дома — спасибо, Евсеев отпустил, — как сложно было добираться обратно. Так, постепенно, в моем неуютном номере впервые за много времени возникла атмосфера сердечности, по которой я так истосковалась.
Выложила я тете Лизе все, что могла, — жду совета. А она вдруг о своей молодости стала распространяться, как она сперва актрисой была, потом вышла замуж — пришлось выбирать между семьей и сценой, она и пошла в гримеры: все-таки в театре…
— Ты — другое дело, — говорит. — Ты пока одна, и у тебя талант — все так считают. И еще… ты от Зырянова, Танюша, не отмахивайся, я вижу, что он как мужик тебе малосимпатичный, но такие режиссеры в наше время на улице не валяются, поверь моему опыту. Насмотрелась я на разных доморощенных гениев, только ногами топать и умеют… При всем при том ребенок от хорошего человека тоже дело ох какое серьезное…
Тут она подняла глаза от вязанья и огорошила меня вопросом:
— Может, и я его немного знаю? Трубочку он, часом, не курит? Молчишь? Вот видишь: сама совета просишь, а как до сути — не тронь, мое! Да я не обижаюсь, так и надо, молчи, молчи себе на здоровье. Значит, дорог он тебе… Я только хочу сказать, что с этими советами… Думай лучше свою думу, а я пойду, старые косточки с дороги понежу.
Она ушла, а я еще долго сидела, забившись в уголок дивана, вот как у вас сейчас, только там я одна была, совсем одна и сосредоточиться уже ни на чем не могла. Непривычная слабость сковывала мысли, слезы так и рвались наружу от великой жалости к самой себе.
Потом произошло второе объяснение с директором, и я поняла, что откладывать некуда.
Прямо от Евсеева двинулась на переговорный, поболтала с девочками и добилась небывалого: за сравнительно короткий срок дежурные дважды соединили меня с дальними абонентами.
«Господи, — подумал я, — и она еще жалуется на то, что приходится в одиночку решать все проблемы, а ведь к ее услугам и телефон, и телеграф, и самолеты! Как же решали их твои сверстницы сто лет назад? Как решали их жены декабристов — в этих же примерно местах? Вот кто был отрезан расстоянием от всего родного…»
9
…Сперва — с маленьким городком, куда перевели отца.
О сути моей жизни родители знали мало, им было достаточно того, что можно по-прежнему не сомневаться в ее внешнем рисунке. Я посылала открытки, поздравления к праздникам, звонила из Москвы — им хватало. Последние годы они сконцентрировали свои интересы на окружавшем их мирке и жили почти исключительно друг для друга, хотя охотно баловали меня, когда я приезжала домой, а в Москву аккуратно посылали мне переводы.
Конечно, они надеялись немного на мою возможную славу, надеялись, что на мою долю, ну, и на их долю отчасти, выпадет тогда все, что обычно сопутствует известности. Что это будет такое, они толком не знали, но часто говорили — и при мне, и без меня — о моем будущем и упивались моим весьма вероятным, как им казалось, счастьем во сто крат более полно, чем я сама.
Сообщить им по телефону правду я не могла, значит, не могла и посоветоваться всерьез, да так ли уж нужен был мне их совет? Я надеялась, услышав привычные с детства голоса и интонации, почувствовать себя на минуту хотя бы так же уверенно, как в старших классах школы, когда я в любом, самом сложном житейском случае могла рассчитывать на твердую поддержку семьи.
Вот поговорим, думала я, и возродится, хоть на миг, старая атмосфера нашего дома, где все всегда было в полном порядке, а из этой атмосферы само по себе, как в детстве, возникнет решение… Недаром я всю жизнь больше верила внутреннему чувству, импульсу, чем холодной логике.
Да и к кому мне еще ткнуться со своей бедой, как не к родителям?
К телефону подошел отец. Он удивился, но и обрадовался, услышав мой голос, бодро сообщил, что у них «порядочек», спросил, не стряслось ли чего у меня, удовлетворился заявлением, что все идет как нельзя лучше и мою работу недавно похвалил директор картины, ответил «целую, детка» на привычное «целую, папочка» и передал трубку нетерпеливой матери.
Вот тут, в разговоре гораздо более интимном, который легко возникает между хорошо друг друга знающими женщинами, тут, когда интонация говорит иногда больше, чем открытый текст, я попыталась узнать мнение матери о своем предполагаемом… замужестве.
— Кто он? — быстро и тревожно спросила мать.
— Об этом после, в письме, времени мало, — я не успела заготовить словесного портрета жениха, сама мысль поговорить о замужестве только что пришла мне в голову. — Понимаешь, мама, я боюсь, что ребенок может помешать моей работе — и этой, теперешней, и вообще моей работе в кино. Как ты думаешь?
— Ребенок? — изумилась мать. — Но почему же сразу ребенок?! Или…
— Вовсе не «или»! Но может же так случиться, что вскоре после замужества…
— Он — кто? Актер? Известный?! — на радость телефонисткам, кричала через всю европейскую Россию и еще добрый кусок Азии охваченная вполне простительным любопытством мама.
— Мама, да ты пойми, не в этом сейчас дело! Слушай меня внимательно! — пыталась я пробиться ей навстречу. — Вот, например, если будет ребенок, сможешь ты приехать помочь мне с ним?
— Приехать к тебе? На свадьбу? — не расслышала мама.
— Не на свадьбу, а за ребенком смотреть!
— Ну что за страсть говорить о ребенке, которого нет еще и в помине! Так и сглазить недолго! — возмутилась мать. — Что-то тут не так… Гляди, Танька, — тебе жить! Конечно, я приеду, когда время придет, — не на зятя поглядеть, так хоть внука понянчить. Только не знаю, можно ли надолго оставить отца, он сильно сдал за последнее время. Может, лучше ты нам его подкинешь, а? Так, пожалуй, будет удобнее, правда? Папка наш скоро на пенсию выйдет…
Знакомый голос, искаженный многократным усилением, произнес эти слова как-то особенно гладко и обыденно — мать заподозрила что-то, но не различила в моем волнении вопля о помощи… Возникший на мгновение контакт был не духовным, а сугубо бытовым; у родственных отношений, как и всегда, оказался свой потолок.
Ну, я быстренько повторила, что ничего пока не решено, что многое будет зависеть от сроков окончания картины, что, как только все прояснится окончательно, я немедленно позвоню или дам телеграмму… Потом крикнула:
— Целую! — и повесила трубку.
Вышла на улицу, отдышалась немного, затем вернулась на переговорный и попросила девушек вызвать Москву. Ощущение полнейшего тупика вынуждало меня все же позвонить ему… Сквозь тоску и одиночество робко светил еще огонек надежды.
— Хочешь, я брошу все и останусь? — спросил он перед отлетом…
Таня забыла, видимо, что раз уже сказала мне это, но я не посмел ей напомнить — с таким нетерпением ждал я рассказа о том, что же ответил ей ее возлюбленный, какое решение принял он в ситуации, в которой столько порядочных вроде бы людей терпит фиаско. И еще, я слишком хорошо представлял себе в эту минуту, как Таня, ставший мне уже дорогим человечек, входит в кабину, как судорожно сжимает трубку и произносит свое «алло!», как перехватывает у нее дыхание, как неровно и тяжко бьется сердце…
…Вы понимаете, услышать сейчас его голос — ведь это было равносильно чуду! А как ему все это сказать? На этот раз я никакого обходного маневра даже и не придумывала — все равно не смогла бы им воспользоваться… А как к нему обращаться — на «вы»? На «ты»?
— Вас слушают, — холодно и казенно донеслось из бездны. Голос был женский… Дочь? Жена? Секретарша? Кажется, писателям разрешают брать секретарей… На дочь непохоже, скорее всего эта женщина немолода…
Как видите, ситуация сразу осложнилась, но ни повесить трубку, ни позвонить в другой раз мне было нельзя.
— Николая Петровича, пожалуйста, — сымпровизировала я такую же холодную реплику, автоматически подражая гнусавому голосу и манере тянуть слова помрежа Инны Борисовны, с которой мне приходилось общаться целыми днями.
— Кто просит? — последовал почти неизбежный вопрос. Слышимость была превосходная.
— Из съемочной группы, по поручению режиссера Зырянова, — меня понесло.
— А-а… — как-то пренебрежительно протянул голос. — Николай Петрович сейчас в Японии. Что-нибудь записать для него?
— Зырянов просил уточнить, приедет ли Николай Петрович в октябре, как обещал. Возникли сложности со сценарием.
Как и в разговоре с матерью, я пыталась нащупать хоть крошечную лазейку в окружавшей меня стене одиночества, какую-нибудь относительно твердую точку.
— В октябре-е? — удивился голос. — Обещал? Я передам, конечно, но… Николай Петрович, насколько мне известно, в октябре собирался в Ялту, на семинар… Алло! Алло!
Недослушав, я положила трубку. Дальнейшее перестало меня интересовать. Поговорить с ним спокойно в ближайшие дни и часы я не могла…
После этого разговора тоже остался неприятный осадок; о том, что к телефону может подойти жена, я почему-то совсем не подумала.
«Что же все-таки лучше? — снова подумал я. — Не иметь возможности никак связаться с близкими и быть вынужденным входить в жизнь самостоятельно или так вот, как Таня, поговорить с теми, на кого рассчитываешь, и по-прежнему беспомощно отойти от равнодушного аппарата, положив кусочек пластмассы на металлический рычаг?»
10
…Побрела я по улице куда глаза глядят; в голове — обрывки мыслей.
Одной растить ребенка? А почему, собственно, нет? Примеров сколько угодно.
Евсеев прав: моя будущность в кино может рухнуть… Год, даже больше года пройдет, — все, что умеешь, растерять недолго… Тело никогда уже не станет таким послушным инструментом… Фигура может испортиться… И все будут знать, что я подвела студию, — кто захочет работать со мной?
Институт и то в срок кончить не удастся… Что скажет Старик? Не отвернется ли? Ведь это он меня рекомендовал, он как бы поручился за меня…
А малыш — сразу уверенность. Смысл существования. Пойти сейчас на аборт — будут ли потом дети? И ведь это его ребенок, не чей-нибудь… Впервые в жизни встретить по-настоящему близкого человека, и… Говорят, от любимого и дети бывают особенные… Сын такого отца…
Знаете, я его часто вижу, — толстенький мальчуган, в вязаном костюмчике, весело приплясывает возле меня…
Хотя почему обязательно сын? А если девочка — подруга на всю жизнь… Удалось бы только подружиться с ней с самого-самого начала — я сумею, пожалуй. А он? Что скажет, как поступит, когда узнает? Если он отвернется, лучше аборт, а ему — ни звука… И — резать все отношения. Ножом!
У меня останется тогда моя мечта. А что же — зачеркнуть, забыть, когда она так близка к осуществлению? Есть еще старое, но точное слово — похерить. Вон тетя Лиза о семье хлопочет, что твоя наседка, а сама терзается потихоньку… Еще как терзается — от меня ей не спрятаться. Стать актрисой, большой актрисой, радовать миллионы людей, бывать на фестивалях, запросто общаться с теми, кто делает погоду в кино… А с малышом придется довольствоваться вторыми, третьими, десятыми ролишками… смешное слово — ролишки, что-то литовское в нем есть. А может, и мне — в гримеры?!.
Улица привела меня к единственному в …ске кафе, и я вдруг почувствовала голод. Хороший признак, подумала, значит, дела еще не так плохи.
Я зашла в кафе и обнаружила там Крестинского, актера из нашей группы, всегда тщательно одетого, спокойного, воспитанного пожилого человека. Общались мы с ним мало, он и жил-то на частной квартире, но с самого начала я была инстинктивно к нему расположена — мне вообще нравятся воспитанные люди.
Я обрадовалась этой случайной встрече. Любая женщина просто не может не почувствовать себя увереннее, находясь в обществе мужчины, который встает при ее приближении, отодвигает ей стул, делает за нее заказ официанту.
Скажу больше: мне стало вдруг так хорошо в его обществе, как не бывало ни разу после отъезда К. И мне вовсе не показалось зазорным обратиться к этому малознакомому человеку запросто, как к товарищу, да и он, насколько я понимаю, не был удивлен моим доверием.
И состоялся у нас с Крестинским, в общих чертах, вот какой разговор.
О н. У вас какой-то озабоченный и даже расстроенный вид, Татьяна Антоновна. (Крестинский всех называл по имени-отчеству, даже таких девчонок, как я.)
Я. Дело в том, что мне приходится в эти дни выбирать… между искусством и жизнью…
О н. И жизнью? Как это понимать?
Я. К сожалению, буквально. У меня должен быть ребенок, а съемки продлятся более полугода.
О н. Ах, вот оно что… Я кое-что слышал, но не знал толком… (Помолчав.) Вам говорит что-нибудь имя Владимира Гиляровского?
Я. Смутно… Впрочем, постойте! Доска в Столешниковом!
О н. Ну, хоть так… Я недавно перечитывал его книгу «Люди театра» и нашел там текст контракта, который заключал антрепренер Воронин примерно сто лет назад. Так вот, в этом контракте — дядя Гиляй называет его, правда, «самым зверским», какой он когда-либо видел, — есть пункт: наниматель имел право прогнать актрису, едва признаки беременности становились заметными.
Я (ошеломленно). Сто лет…
О н. Вот именно. А что думает по этому поводу ваш муж?
Я. Я не замужем.
О н. Ну, это лучше, пожалуй… Не надо считаться с чьими-то желаниями, капризами, столь эгоистичными подчас…
Я. А решать одной, вы думаете, легко?
О н. Разумеется, нет. И совета тут не дашь… А вы еще так молоды…
Я. Нормальные люди радуются молодости, а для меня она то и дело оборачивается недостатком… Я на распутье, Святослав Павлович, помогите мне.
О н (помолчав). Если вам угодно, Татьяна Антоновна, я выскажу некоторые соображения, но при одном условии: вы не будете считать их советом. Договорились?
Я. Конечно.
О н. Хорошо. Начнем со старой истины: искусство требует человека целиком, без остатка, и исключений тут не бывает. Чуть потянулся за милыми взору благодатями, едва прильнул к некоему стороннему родничку — и это немедленно скажется на твоем месте в искусстве, на перспективе твоего развития, на высоте, которой ты окажешься способным достичь. Разрешите мне закурить?
Я. Пожалуйста.
О н. Как видите, мысли не новые, разве что высота — удачное сравнение. Альпинист тоже сумеет покорить высоту только имея при себе жесткий минимум груза. Кроме того, восхождение невозможно в одиночку: альпинисты идут обычно цепью, и успех каждого зависит от стойкости всех, кто эту цепочку составляет. Так же как и искусство, покорение вершин — дело добровольное, но уж коли ты пошел на штурм, ты взял на себя обязательство, нарушить которое ты не имеешь права, если только ты не упал.
Я. Значит, вы считаете, что у меня нет права родить сейчас ребенка?
О н. Нет, Татьяна Антоновна, этого я вовсе не считаю и, не забудьте, советов не даю. Я просто делюсь с вами опытом. Заметьте: я говорил о достижении труднодоступных вершин — можно ли назвать таковой нашу картину? Да и ваш случай — особый… Вы несете в себе жизнь, и хоть по закону имеете юридическое право эту жизнь прервать, делать это следует, только твердо на что-то решившись. Понимаете? Вы говорите себе: я решила и никогда потом о своем решении не пожалею!
Я. Да, но каким оно должно быть, это решение?
О н. Не знаю. Лично я юридическому праву предпочитаю право моральное. А единого рецепта здесь не существует. Десятки разных обстоятельств… Необычайно много зависит от индивидуальности человека, в искусстве — зависит вдвойне.
Я. А талант?
О н. Еще бы! Талант — решающий фактор. И вот здесь мое сравнение не выдерживает критики, каюсь! Альпинистом может стать почти каждый здоровый человек, вершину же искусства обязан штурмовать только тот, кто не может иначе, кому приказывает его талант, его совесть, его вера в свои силы. Если такого приказания не поступает… В конце концов, почему обязательно вершина? Десятки, сотни весело взбираются до первого промежуточного лагеря, и уж они-то не отказывают себе ни в чем и могут взять столько груза, сколько пожелают.
Я. Но могу ли я судить о мере своего дарования?
О н. Никто не вправе делать этого. Как узнать, на каком именно году жизни тебе посчастливится проявить себя в полном блеске? Я не об этом говорил, Татьяна Антоновна, не об оценках по пятибалльной системе, а о том всепожирающем огне, в котором день и ночь горит человек, решительно не ощущающий себя вне искусства, — корчится, ежится, горит! Часто он гол как сокол, но воспринимает это как должное. Для него нет выбора: искусство или смерть! Глядите-ка, до чего мы договорились, вот она, точная формула, вот правильная альтернатива — искусство или смерть! А вы — «искусство или жизнь» сочинили… И потом, у вас ведь не случайный ребенок, а плод любви к человеку, этого несомненно заслуживающему.
Я (шепотом). Откуда вы знаете?
О н. Откуда?.. (Очень серьезно.) У такой женщины, как вы, другого ребенка быть просто не может.
Вскоре Крестинский ушел, а я, побродив еще немного, вернулась в гостиницу.
Спокойствие отчаяния охватило душу. Отступать было некуда, советоваться не с кем. Разговор с Крестинским помог мне взглянуть на свою судьбу чуточку со стороны. На вершину? Разумеется! Ведь ни о чем другом я не мечтала… Вера в свои силы? Безграничная…
Наутро я сообщила директору о своем решении лечь на операцию и уже часа через два сидела за его крепкой спиной в нашей «рафике», танцевавшем на ухабах …ской мостовой…
Таня надолго замолчала, я не настаивал. Настало время обеда, потом и оно миновало. Таня задремала на диване, я рассеянно, обдумывая услышанное, царапал что-то на бумаге, стараясь сидеть тихо, чтобы не разбудить ее.
— Осталось совсем немного, — услышал я вдруг. — Можно вас оторвать?
Я только пожал плечами, бросил карандаш, повернул к ней свой стул и услышал балладу.
11
Баллада о земской больнице
Выстроенная еще земством, больница оказалась маленькой, но основательной, домовитой — только в далекой провинции такое чудо и встретишь.
Несмотря на все представления, сделанные Евсеевым сначала дежурному, а затем и главному врачу, столичной артистке наотрез отказались создать хоть какие-нибудь особые, исключительные условия. Евсеев долго не желал признать своего поражения, потрясал удостоверениями, жонглировал солидными именами, намекал на поездку в горздравотдел, еще куда-то, а главврач лишь рассеянно улыбался в ответ, просматривая кипу бумаг и время от времени что-то на них помечая.
— Все, что требуется, будет сделано и так, — сказал он в самом начале этого бессмысленного разговора и больше не произнес уже ни слова.
«Ишь, Юлий Цезарь какой…» — брюзжал Евсеев, отступая к дверям, но в коридоре вынужден был признать, что такая твердая позиция внушила ему, кажется, уважение. К администраторам, на которых мандат киностудии действовал как волшебная лампа Аладдина на джинна, Леонид Александрович относился полупрезрительно.
Ласково попрощавшись с Таней, Евсеев уехал, а больную Залыгину, оформив документы, свели в душевую, попросили переодеться в смешной, невероятно наивный и вовсе не казенный халат, весь в цветочках, а затем, в сопровождении сестры, направили в четырехместную палату, где в ее распоряжение была предоставлена стоявшая справа от входа железная кровать, застланная ослепительно чистым бельем и темно-серым, видавшим виды, но тоже чистым одеялом.
Очень чувствительная к такого рода вещам, Таня, увидев белоснежные, а не просто условно выстиранные простыни и такую же салфетку на тумбочке, приятно дополнявшие чистоту в приемной и душевой, сразу прониклась доверием к этой старосветской больничке, где все как бы подтверждало правильность принятого ею решения.
«Да здесь ничуть не страшно и… и совсем славно…» — подумала она и вдруг отчетливо увидела на тумбочке букет полевых цветов, которого там на самом дела не было.
Показав вновь прибывшей ее постель, медсестра удалилась, а Таня стала знакомиться с молодыми женщинами, удобно расположившимися у полуоткрытого окна и с любопытством разглядывавшими новенькую.
— Софья, — сказала одна из них, задумчивая, бледная. Как выяснилось, у Сони не было детей, ей предстояла сложная операция, а в больницу она, как и Таня, попала впервые.
— Любовь, — бойко представилась другая, протягивая Тане руку. Она с ходу обрушила на Таню ворох полезных сведений, сообщила, что по случаю срочной командировки гинеколога их промурыжат тут дольше обычного, и красочно описала не только процесс подготовки к операции, которую им предстояло перенести, но и то, что Таня будет ощущать во время операции и как должен протекать нормальный процесс выздоровления.
— В общем, это пустяк, не тушуйся! Ну подзалетела, делов-то, другой раз умнее будешь, — закончила она свои речи.
Беззаботность Любы, подлинная или мнимая, и даже ее последние слова, которым Татьяна в обычном своем состоянии не придала бы значения или даже пропустила бы их мимо ушей, теперь, когда они провозглашали ее появление здесь делом обычным, житейским, тоже подействовали на Таню благоприятно.
«Да-а, в больнице — не в троллейбусе, — подумала она. — Там проехал со случайным попутчиком три остановки, вылез, и… А тут какая-то особая солидарность…»
Слева от двери, напротив Таниной кровати, спала пожилая женщина. «Рак…» — шепнула всезнающая Люба. Узнав, что старушку никто не навещает, Таня решила взять ее под свою опеку, в тот же день принялась за дело и быстро приноровилась к роли сиделки. Она читала Марии Тарасовне вслух, помогала принимать лекарства, умываться, отдала ей всю вкусную снедь, привезенную вечером тетей Лизой.
Есть Мария Тарасовна почти ничего не могла, но охотно пила прохладный сок, втягивала губами протертые с сахаром яблоки и каждый раз благодарила Таню со слезами на глазах и потихоньку ее крестила.
Самой Тане уход за больной помогал забыться. Впрочем, вся обстановка больничного мирка держала ее в постоянном напряжении и отвлекала от мыслей о себе, о своей судьбе. Здесь было как-то не до рассуждений, здесь вот-вот все должно было решиться практически — где-то за поворотом коридора уже поджидала та неведомая сила, которой предстояло перекроить ее жизнь.
Только когда все засыпали, сомнения вновь выползали из тайников души. Тишина, прерываемая лишь шагами дежурного, обостряла чувство вины перед мальчиком, которого теперь не будет, перед его отцом. Две бесконечно долгие ночи. Его глаза, а иногда и глаза его ребенка глядели на нее из темноты с немым укором.
На третий день к вечеру случилось непредвиденное.
Чем-то особенно растроганная Мария Тарасовна, собравшись с духом, обратилась к своей добровольной сиделке с кратким увещеванием.
Не отказаться ли Танюше от своего намерения? Уж кому-кому, а ей, голубушке, такой заботливой, такой ласковой и душевной, обязательно следовало бы стать матерью. Она идет против природы, это большой грех, искупить который нельзя ничем, никакими успехами в суетной людской жизни. Кто знает, что ждет Таню, не приведи господь, случится одиночество, как вот с ней самой например, — не пришлось бы тогда тоже помирать одной, уповая на чужую милость…
Старушка залилась слезами. Секунду в палате было тихо, затем раздался пронзительный, истерический крик всегда тихой Сони:
— Зачем вы последние силы зря тратите, Мария Тарасовна! Грех? Разве они способны понять, что это такое?! У них же все до крошечки рассчитано: когда муж — когда любовник, когда служба — когда дружба! А ребеночек — в крайнем случае, если время останется! Они никогда не ворочались ночь без сна, тоскуя о маленьком тельце рядом… Эгоистки бесчувственные! Дряни! Дряни!
Обессиленная, она упала на подушки, а рядом, подмигивая Тане, поднялась Любка.
— Это мы-то дряни, деточка? — начала она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. — Не видала ты, значит, настоящей дряни! Что ты о нас знаешь…
Закусив губу, Таня выбежала из палаты, сделала несколько шагов по коридору, толкнула небольшую дверь на пружине и очутилась в тенистом старом саду — здание больницы полукольцом охватывало его, и больным не только не возбранялось, но и предписывалось там гулять.
Слова Марии Тарасовны она приняла к сердцу гораздо ближе, чем сделала бы это в обычных условиях. Крик Сони стегнул ее, словно хлыст. А все потому, что час назад осмотревший ее гинеколог сказал кратко:
— Завтра утром.
Темнело, больные разошлись по палатам, какие-то птицы проносились в полумраке, торопясь достичь своих гнезд, а она долго бродила по аллеям и тропинкам одна. Перебирая в памяти события последнего времени, Таня, в который уже раз, задержалась мыслью на упоительных днях, наполненных присутствием человека, с которым она не была одинокой, вспоминала его слова, улыбку, жесты, ей казалось, что еще один поворот дорожки — и она вновь увидит его светящееся нежностью лицо и кинется к нему навстречу.
Но чем светлее были воспоминания, тем страшнее было возвращаться к действительности и думать о том, что завтра она, своими руками, порвет ту ниточку, которая только и могла сделать минуты, часы и дни ее короткого счастья не одним лишь прошлым… Она с ужасом осознала вдруг, что, потеряв ребенка, уже никогда — никогда?! — не сможет относиться с такой же нежностью, как раньше, к его отцу.
Она словно шла по тонкой жердочке над пропастью — что же, что гнало ее вперед?
«Завтра утром, завтра утром, — било в виски. — Завтра утром будет поздно. Не станет ребеночка, и, быть может, никогда больше не будет детей… Что же потом? Радость творчества? Уравновесит ли она то самое одиночество, которое еще терпимо на людях, пока ты полон сил, и которое так страшно в старости… Господи, но ведь все решено, не начинать же сначала. И здесь, в больнице, уже столько возились с ней… И директору она обещала… Как сказал Крестинский: приняла решение — не жалей!..»
Она всматривалась в такие дружелюбные обычно кроны деревьев, словно надеялась увидеть там свое будущее или хотя бы нечто, обращенное непосредственно к ней, но тьма понемногу смыкалась вокруг и разглядеть что-нибудь становилось труднее с каждой минутой. Да и прохладно стало, а простужаться Тане было теперь нельзя.
Она медленно направилась ко входу в больницу, тускло освещенному старинным фонариком с маленькой лампочкой внутри. Вечерняя прохлада, руки деревьев, тянувшиеся к ней со всех сторон, вечное, такое уверенное мерцание звезд, заполняющих бескрайнюю вселенную, немного успокоили ее и, как ей казалось, окончательно убедили в чем-то.
В чем?
В палате, снова было тихо. У окна щебетала Люба, как ни в чем не бывало излагавшая Соне свою точку зрения на мужчин. Мария Тарасовна впала в забытье, дышала тяжело, с присвистом. Таня подошла к ее постели, поправила подушку, пригладила растрепавшиеся пряди седых волос и тут, впервые за эти дни, явственно увидела на челе старой женщины печать смерти.
Словно бездна разверзлась перед Таней. Сказанные давеча старушкой простые «бабьи» слова обрели неожиданно новый, чуть ли не вещий, пророческий смысл.
Вздрогнув, Таня отступила к своей кровати и, как была, в тапочках и цветастом халате, прилегла на одеяло.
Она лежала и лежала, ни о чем конкретно не думая, но именно в эти несколько бездумных минут ее существо, только что соприкоснувшись с таинственным рубежом жизни и смерти, сделало выбор. Или ей только показалось, что в ее отрешившейся от внешнего мира душе выкристаллизовалось наконец решение, о котором она никогда впоследствии не пожалеет?
«Мечта… мечта никуда не денется, если она настоящая… Зато со мной всегда будет наш ребенок. Может быть, он еще поможет мне, удержит — как заземление — от погони за побрякушками, за дутой славой, с ним я вернее сберегу внутренние ценности, которые не восстанавливаются, если их раз утратить, он меня целомудреннее сделает…»
У Тани не осталось вдруг сомнений: вот он, выход из лабиринта! Теперь… теперь только бы не упустить из виду ведущую к выходу едва заметную тропинку.
Полежав еще немного, Таня встала, вынула из тумбочки свои вещи — две книжки, несессер, сунула их в полиэтиленовый мешочек и подошла к продолжавшим мирно беседовать соседкам.
— Прощайте, девочки, — только и сказала она.
— Ты куда это на ночь глядя? — недоуменно спросила Люба.
— Никак… Никак вправду раздумала? Радость ты моя светлая! — всплеснула руками Соня.
Грустно улыбнувшись и кивнув им обеим, что могло означать и положительный ответ, и попросту нежелание пускаться в разговоры, Таня быстро пошла к двери. Уже открыв ее, она повернулась, сделала два шага к постели так и не приходившей в себя Марии Тарасовны, нагнулась и тихо поцеловала старушку в лоб.
— Если дочка — Мария, — сказала она.
И вышла.
12
Потом… Что было потом?
Был удивленный, пытавшийся вначале уговорить настойчивую пациентку подождать до утра дежурный врач. Казалось, он сдался на угрозу уехать прямо так, в халатике, на самом же деле, взвесив все обстоятельства и задав Тане несколько быстрых и точных вопросов, он самостоятельно принял решение, что тоже было в обычаях этой больницы. Скорее всего, именно отказ Тани от аборта и способствовал тому, что молодой доктор разрешил ей выписаться немедленно — к утру еще передумает.
Был заспанный администратор …ской гостиницы, только по настоятельному требованию — кричать пришлось, кричать! — разыскавший ключи от запертой на два замка камеры хранения и выдавший Тане ее чемодан; на следующий день ему пришлось объясняться по этому поводу с Евсеевым, но этого Таня уже не узнала.
Было ночное такси, на удивление бесшумно, как мотылек, летевшее по пустому шоссе к аэропорту.
Был дежурный, утверждавший, что до завтра никаких рейсов нет и быть не может.
И был удивленный взгляд нескольких крепких мужчин, тихо беседовавших о чем-то своем в прокуренной комнатушке аэропорта, и поднятые высоко брови одного из них, самого крепкого, когда Таня дрожащим голосом провозгласила, что должна немедленно улететь отсюда — куда угодно, но только сию минуту, дело идет о жизни…
О жизни?!
И в общем молчании возник чистый, мальчишеский голос самого юного из крепких мужчин, сообщивший, что через двадцать три минуты должен быть спецрейс.
— Только… не на запад, — прибавил он, как бы извиняясь за странно составленное расписание спецрейсов, — не к Москве, на Восток…
И тогда Таня, цепляясь за эту долгожданную соломинку, — вот же она, судьба! — немедленно стала выгребать из сумочки на стол все свои документы, и записную книжку, и еще пачку каких-то бумажек и пробормотала, кажется, что она киноактриса и что ей надо… обязательно… непременно… что ей необходимо успеть…
Куда успеть — она не знала.
Но заканчивать фразу не пришлось. Дружеские руки вложили документы назад, в сумочку, аккуратно подхватили чемодан и вывели Таню на свежий степной воздух.
Потом был трап и совсем незначительные слова.
Потом она судорожно поцеловала по очереди своих провожатых и успела отметить, как дернулись ресницы у самого юного из крепких мужчин.
Потом рев мотора — и позади уже ничего.
Сейчас глубокая ночь.
Гостиница давно уснула, угомонилась и Таня за стеной, а я не сплю.
Я взвешиваю судьбу этой женщины на невидимых весах своего опыта. Аккуратно, пинцетом беру из коробки деликатные гирьки-пластинки и неустанно добавляю то на одну, то на другую чашку весов.
Она подарила мне неизмеримо больше, чем случайную встречу в пути. От отчаяния, я понимаю, просто от отчаяния открыла она настежь сердце. Первому встречному — на моем месте мог быть кто угодно другой.
Но разве так важна причина?
ТРИБУНАЛ
В прошлую среду я заседал в трибунале. Выбрался чуть живой, отхожу вот понемногу, раны зализываю.
Несколько месяцев назад пришлось мне взяться за серию очерков на темы морали — «по письмам читателей». Я вернулся из очередной поездки и только отписался, как вызывает меня заместитель главного редактора. Иду радостный, в чаянии новой командировки.
— Командировочка не уйдет, — заявляет зам, — а пока займитесь-ка вот этим, — И протягивает мне несколько писем с его собственноручными пометами на приколотых к каждому конверту аккуратных листиках.
Я и так и сяк, на моральные темы, дескать, писать не приходилось, таланта нету, в семейной жизни я ни черта не смыслю, и вообще…
Но отвертеться не удалось. Услышав в ответ: «А мне — приходилось?» — я понял, что дело глухо, и, не дожидаясь неизбежно сурового «надо!», взял письма и залпом сочинил всю серию.
Наконец-то мне удалось прославиться в собственном доме. Не знаю, что думали обо мне соседи и домовое начальство раньше — скорее всего, ничего не думали и моих экономических обзоров не читали, — но, как только э т и очерки были опубликованы, со мной в подъезде стали любезно раскланиваться незнакомые люди, а наш техник-смотритель, очень, очень милая женщина, лично зашла осведомиться, псе ли у меня в порядке и не надо ли случайно перестелить паркет (!!); мимоходом она упомянула о том, что ей осточертел пьяница муж: «Иногда такое хочется сделать и с ним и с собой — ни в сказке сказать ни пером описать…»
Что же касается моих ближайших соседей по лестничной площадке…
Квартиру номер тридцать семь, рядом с моей, занимает семейство Козловых. Я изредка забегал к ним по хозяйственным нуждам, неразрешимым для закоренелого холостяка. Раза два-три в год, когда у меня собирались друзья, занимал у хозяйки дома Марии Осиповны посуду, столовые приборы, даже стулья. Ее мать, добродушнейшая Елена Игнатьевна, охотно одалживала мне лавровый лист, перец, уксус для сооружения ею же рекомендованного «фирменного» салата, а я в ответ катал на «Москвиче» пятнадцатилетнего внука Кешку и старался толково ответить на его бесчисленные вопросы.
Но все это были случайные контакты. Всерьез я подружился лишь со «старшим ребенком» Козловых, неуклюжей молодой женщиной с простым, добрым лицом. Сразу после школы Дашенька стала работать в административном аппарате небольшого завода и заочно училась на филологическом факультете университета — страсть к чтению завела ее туда. Однажды, когда она была еще на третьем курсе и мы в очередной раз столкнулись во дворе, я спросил мимоходом, как идут занятия. Даша пожаловалась на то, что ей трудно доставать нужные книги, и я, поколебавшись лишь самую малость, предложил ей пользоваться моей обширной библиотекой. Она оценила все великодушие этого предложения и, заходя за свежей порцией книг, иногда оставалась поболтать за чашкой кофе.
Откровенно поболтать.
Этой весной Даша отлично защитила диплом.
Когда появились мои знаменитые очерки, и Мария Осиповна, и Даша, и даже сам глава семейства Аркадий Владимирович сказали мне при встрече несколько лестных слов — какой автор их не ценит? Что касается Елены Игнатьевны, то она, похвалив стиль и сделав несколько ехидных замечаний, стала пропагандировать мои опусы среди своих приятельниц и сверстниц. Недавно, подходя к дому, я натолкнулся на такую картину: на двух садовых скамейках, повернутых сиденьями друг к другу, расположилась стайка старушек, а Елена Игнатьевна, держа в руках потертый на сгибах газетный лист, читала им вслух мою статью. Заслышав шаги, она сурово глянула поверх очков, но, слава богу, своим слушательницам меня представлять не стала. Я съежился и постарался побыстрее проскользнуть в подъезд.
Что вы хотите, слава есть слава.
Да… Словом, хоть официально знакомы «домами» мы с Козловыми по-прежнему не были, но какая-то близость, несомненно, стала намечаться. И когда в среду на прошлой неделе я открыл на звонок дверь и обнаружил на площадке Марию Осиповну, я ничуть не удивился и пригласил ее зайти.
— Спасибо… — Мария Осиповна говорила прерывисто, словно только что бегом взбежала на наш четвертый этаж, — спасибо, я так рада, что застала вас дома… Очень прошу: загляните к нам.
— Но у меня срочная работа, — я сделал жест в сторону видневшейся в отдалении пишущей машинки.
— У нас… у нас несчастье, — прошептала Мария Осиповна, опустив почему-то глаза. — Даша…
— Что с ней? — встревожился я.
— В двух словах не расскажешь. Такая беда… Такое горе… Пойдемте, умоляю вас… Мы долго не задержим… Ваш опыт, ваш авторитет в этих вопросах…
— Да что вы, Мария Осиповна, какой там авторитет!.. Впрочем, в данном случае это не имеет значения. Если с Дашей беда, я, конечно, немедленно иду.
Козлова кивнула и исчезла, тихо прикрыв за собой дверь, а я сменил на пиджак затрапезную куртку, в которой мне как-то особенно хорошо думается, взял сигареты, зажигалку и отправился вслед за ней.
Меня ввели в самую большую комнату небольшой современной квартиры; малогабаритная мебель, «стенка», диван, телевизор, дверь на балкон. Вся семья была в сборе, не хватало только Кешки. Отвешивая общий поклон, я осведомился, где мой юный друг; Аркадий Владимирович сухо ответил, что отправил сына в кино. Формулировка «отправил в кино» могла бы сразу насторожить меня, но я не обратил на нее внимания.
Каждый из членов семьи занимал, очевидно, свое привычное, излюбленное место, лишь Дашенька уныло сидела на стуле, стоявшем посреди комнаты… Вместо того чтобы приветливо мне улыбнуться, она испуганно покосилась в мою сторону, а ее милое лицо с тонкой кожей легко возбуждающегося человека покрылось красными пятнами. Меня удивила такая реакция, но спросить о причинах я, разумеется, не мог. Сел на предложенное мне место — низенькое кресло в углу, — собрался было попросить разрешения закурить, однако, заметив, что никто не курит и в комнате нет пепельниц, раздумал.
Стал ждать, что будет дальше.
Но ничего не происходило. Стояла тягостная тишина, и я понемногу стал ощущать какую-то н е ж и л у ю атмосферу вокруг. Перебирая картотеку своих ощущений, я пытался определить, в чем тут фокус, и вдруг мне показалось, что здесь вот-вот начнется… суд.
Я никогда не бывал в суде, случая не представилось, но судебное разбирательство знакомо теперь всем от мала до велика по романам, спектаклям, фильмам, телепередачам, и вскоре я был уже почти уверен в справедливости моей догадки. Ну конечно же: все мы — в зале суда, а я — присяжный или народный заседатель, называйте как угодно.
А кто обвиняемый? Кто?.. Я вновь обвел глазами присутствующих, вспомнил слова Марии Осиповны — несчастье… Даша… — и отчетливо увидел Дашеньку н а с к а м ь е п о д с у д и м ы х. Сомнений больше не было.
Мысль моя заработала энергичнее. Мгновенно взвесив все известные мне обстоятельства, я понял, кажется, о чем именно пойдет сегодня речь. Очевидно, родителям тем или иным путем удалось выяснить некоторые интимные подробности жизни дочери — я о них давным-давно уже знал…
Так вот почему ее смутило, испугало, может быть, мое появление! Человек, которому она открыла душу, приглашен теперь… судить ее. Как ей неловко, бедняжке, как должна она терзаться, не будучи уверена, хватит ли у меня деликатности… А мне-то каково! И все — проклятые очерки… Нет, писать об экономике куда проще…
Я взглянул на сникшую фигурку Даши — она опустила лицо и смотрела в пол, я даже знака ей никакого подать не мог — и вспомнил, какой раскованной и гордой была она, когда рассказывала мне свою историю.
Мне прекрасно известно, чего стоит в глазах мужчин моя внешность — я же из тех, кого почти никогда не приглашают танцевать. Только договоримся сразу: ни утешений, ни комплиментов, сами вызвали на откровенность, так не пытайтесь поправлять меня, тем более в вещах, в которых я разбираюсь в сто раз лучше вас. Хорошо?
Может быть, именно внешность способствовала тому, что я серьезно отношусь к жизни. Мне всегда казалось, что внешность женщины — одно из самых подлинных обстоятельств, определяющих ее поведение, ее поступки; внешность, а вовсе не та или иная вера, которую она якобы исповедует. Восторженные заверения красиво звучат, но что за ними?..
Нет, не учитывать внешность просто смешно! То, что по нескольку раз в день случается с эффектной дамой, может никогда не произойти в жизни такой дурнушки, как я, и наоборот.
Хорошо, хорошо, буду говорить только за себя. М о е отношение к жизни определялось м о е й внешностью. И еще, пожалуй, именем — только не смейтесь… Вам не кажется, что имя обязывает к чему-то того, кто им наречен? К чему-то хорошему или чему-то дурному, чему-то сильному или чему-то беспомощному, к нерешительности или к яростной активности? Я уверена: имя корректирует наше поведение, оно пестует человека, вновь и вновь подталкивает к свойственным только этому имени границам. Федор не может не вести себя иначе, чем Роберт, Элеонора — чем Мария, а это далеко не самые полярные примеры.
Когда-то давно мать сказала мне, что в имени «Даша» ее привлекло сочетание мягкости и серьезности; с тех пор я подсознательно культивировала в себе эти качества, собирая по крупицам оттенки в поведении других людей, делая своими те их поступки, которые, как мне казалось, были и моими тоже — по рождению, по имени, по замыслу судьбы. Конечно, мне это далеко не всегда удавалось, но стремление такое жило во мне.
Мне кажется, моя внешность в сочетании с моим именем и способствовали тому, что к жизни я относилась доброжелательно, без истерии, без особых претензий. Тем более неожиданным, даже страшноватым, пожалуй, оказалось для меня несоответствие между тем, чему нас учили в отрочестве, и тем, с чем я столкнулась с первых же самостоятельных шагов.
В школе нам охотно и велеречиво преподносили теорию — какой должна быть жизнь, каково идеальное сообщество людей, каков совершенный человек. В университет, как вы знаете, я не попала, пошла работать. И вот тут выяснилось, что мои представления так безнадежно розовы, что я без конца попадаю впросак, вызывая то добродушный, то язвительный смех.
Я вовсе не хочу сказать, что мои товарищи по работе были плохими людьми, они были самые что ни на есть обыкновенные. Это я неведомо для чего взгромоздилась на ходули — невооруженным глазом их было не различить: прозрачные, словно из плексигласа. Конечно, постепенно я стала понимать, что к чему, но, увы, было поздно, моя репутация успела установиться. Люди не склонны прощать неловкие высказывания и поступки, им неважно, чем вызван ложный пафос — наивностью, восторженностью или лицемерием. Кто станет разбираться?! О тебе создают определенное представление, и изменить его потом бывает очень и очень трудно, почти невозможно.
И наревелась же я!
Не исключено, что мне пришлось бы уйти с этой работы. В другом месте, думала я, учитывая накопленный опыт, я смогу поставить себя иначе. Написала даже заявление об уходе и ждала только подходящего случая чтобы подать: робела, признаться, боялась, что меня неправильно поймут, что различат в моем поступке то, чем он на самом деле был, — бегство. Я же никогда еще не подавала заявлений об уходе и не знала, что на них, как правило, не обращают особого внимания, если уходить собирается такой рядовой, легко заменимый сотрудник, как я.
И вот, в то самое время, как мое заявление лежало в ящике стола, дожидаясь своего часа, за меня совершенно неожиданно вступился один человек.
Он работал в заводоуправлении давно, с самой войны, пройденной им сержантом. Добросовестный и немногословный, он был из тех, кто неохотно меняет место работы, даже если в поле зрения появляется лучше оплачиваемая должность. Меня он первоначально никак не выделял, наше общение ограничивалось чисто служебными контактами. Правда, в отличие от других, он с первого дня называл меня по имени-отчеству, но это скорее сковывало, отдаляло от него, чем вызывало дружеские чувства.
Только в самую критическую минуту Виктор Захарович Севастьянов подал мне руку помощи. Он не делал никаких заявлений, никого ни к чему не призывал, а просто стал публично уделять мне больше внимания, чем раньше. Гораздо больше. И оказалось, что его подчеркнуто вежливое «Дарья Аркадьевна» несет в себе некий дополнительный смысл, некий таинственный заряд — больно уж резким диссонансом звучало оно и в нашей комнате, куда он стал заходить чаще, чем делал это до сих пор, и в коридоре, и в буфете, всюду. Словно плотина, сдерживающая поток, вежливое обращение противостояло снисходительному тону остальных — сами знаете, как могут третировать взбалмошную девчонку с бесчисленными завихрениями в голове; причем делается это без заранее обдуманного намерения обидеть — и это-то и бывает обиднее всего.
Надо вам сказать, что у Виктора Захаровича звучный, мягкий баритон, и, когда он говорит, к нему поневоле прислушиваешься; только после знакомства с этим человеком я поняла, как много точных данных о нас самих содержится в нашем голосе.
Прошла неделя, другая, заявление по-прежнему лежало в столе, но я все реже вспоминала о нем. Внимание, которым одарил меня Виктор Захарович, стало оказывать действие не только на наших с ним товарищей по работе, но и на меня тоже. Снялось раздражение, пропало желание нарочито дерзить, отвечать колкостью на колкость, стал проявляться интерес к той скромной и незаметной работе, какой я тогда была занята, начала вырисовываться даже некая перспектива.
Словом, я на многое взглянула другими глазами, и это благотворно на меня подействовало.
Но тут Севастьянов тяжело заболел, попал надолго в больницу. Я вновь осталась одна, и это было главной проверкой. Оказалось, его поддержка не пропала даром. Все привыкли уже к заданной им тональности и продолжали вести себя по отношению ко мне так же, как при нем; я словно закрепилась на какой-то определенной позиции, устраивавшей и меня и всех остальных.
Все бы ничего, но мне отчаянно его не хватало. Впервые в жизни я затосковала по другому человеку — и только потому, что человек этот был внимателен и добр ко мне.
Я не знала, как справиться о его здоровье, как сделать для него что-нибудь, — теперь он был в беде, и я считала своим долгом в свою очередь помочь ему. И тут случайно, а быть может и не совсем случайно, соцбытсектор нашего месткома, добродушная, ленивая дама, сидевшая в одной комнате со мной, посетовала на то, что вот приближается день Советской Армии и надо бы навестить в больнице одного ветерана, а ей самой никак не выкроить для этого времени.
Я не узнала своего голоса, таким он стал робким, так дрожал, когда я предложила снести Виктору Захаровичу цветы и наш скромный подарок. Меня не смутила улыбочка собеседницы, радовавшейся тому, что ее расчет оправдался и я попалась на удочку. Если бы речь шла о ком угодно другом, я, скорее всего, вспыхнула бы после такой улыбочки, взбрыкнула, закусила удила. А тут я сдержалась, сама этому дивясь, так мне его не хватало.
— Так вот, изволите ли видеть, все дело в том, — начал наконец свою речь прокурор, то бишь Аркадий Владимирович, — что наша драгоценная дочь объявила нам о событии, которое, которое… — голос доморощенного обвинителя дрогнул, но он взял себя в руки и продолжал: — Объявила о событии, для всей нашей семьи категорически неприемлемом.
— Не совсем для всей, — тихо донеслось со стула, на котором ютилась обвиняемая. — Кешенька доверяет мне, он любит меня, и он…
— А я повторяю еще раз: для всех категорически неприемлемом! — прервал ее отец. — Искать союзника в несовершеннолетнем брате, сбивать его с пути истинного — стыдно! Стыдно и недостойно порядочной девушки.
Аркадий Владимирович достал носовой платок, взрывообразно высморкался. Вновь наступило тягостное молчание.
— Дашенька замуж собралась! — подала голос Елена Игнатьевна, тихо вязавшая в уголке дивана. Спицы умолкли в ее руках, клубок шерсти, скребшийся о стенки маленькой корзинки, испуганно замер.
Мои предположения подтверждались, хотя о самом факте замужества я, как и они все, слышал впервые.
— Собралась за человека, которого мы в глаза не видели, хотя слышали о нем премного, — все так же прерывисто, словно запыхавшись, но твердо произнесла Мария Осиповна. — Знаем только, что он старше не только Даши, но и меня, кажется.
— Да, он старше тебя, мама, никакой тайны здесь нет.
— Лучше — не нашла? — презрительно бросила мать.
— Лучше не нашла, — спокойно ответила дочь. — Насколько я понимаю, это — мое дело…
— А нас это касаться не должно, не так ли? Нас не должно волновать твое будущее, ты это хочешь сказать?! — Аркадий Владимирович укоризненно покачал головой. — Не ожидал, доченька. Я всегда старался быть тебе другом, а не суровым наставником…
— Я благодарна вам с мамой, я уважаю, люблю вас, и всегда буду любить, что бы ни случилось, но ты пойми: я уже взрослая и речь идет о моей судьбе. Только о моей, а не о судьбе всех нас, всей семьи. Почему же ты не хочешь позволить мне самой разобраться в таком глубоко интимном вопросе, как мое замужество?
— Стыд-то, стыд-то какой! — тихо, почти шепотом воскликнула ее бабушка. Спицы звякнули, словно изнывали от бездействия и тоже рвались в бой.
— В чем же стыд, бабуля? — мягко улыбнулась внучка. — Стыд, это когда лгут, стыд люди прячут, а мы как раз прятаться и не хотим, зачем нам это, когда мы можем смело глядеть в глаза любому и каждому. Разве можно стыдиться истинного чувства?
Впервые за это время Даша подняла голову и уголком глаза взглянула на меня.
Я молчал, прекрасно понимая, как тяжело всем собравшимся в этой комнате, как им тоскливо и каким бестактным, мягко говоря, будет любое мое заявление. Создалось странное положение: родители пригласили меня специально для того, чтобы я помог им образумить дочь или хотя бы подсказал им, какое принять решение, дочь, в свою очередь, рассчитывает на мою поддержку, а я ничего сказать не могу.
Курить захотелось смертельно.
Если я и молчал, это вовсе не означает, что я ничего по поводу услышанного не думал. Стыдиться всего истинного грешно, это преступление перед самим собой, не колеблясь ответил бы я на немой вопрос Даши, — истинное так редко встречается в короткой человеческой жизни. Стыдиться надо сделок. Их прежде всего. Особенно же сделок в любви, неизбежно убивающих душу…
— Безразличного отношения к твоему решению ты от нас не дождешься, — видя, что я не отвечаю на Дашин призыв, вновь оживился Аркадий Владимирович. — Да, ты взрослая, ты сама зарабатываешь, хотя на что может хватить твоего заработка, понять невозможно… Ты можешь шваркнуть о стол дипломом, как козырным тузом… Все это ничего не изменит. Пока мы живы, мы не можем снять с себя ответственность за твою судьбу: таков обычный человеческий долг по отношению к своему детенышу. Не только благословить тебя на столь губительный шаг, но и дать молчаливое согласие на то, чтобы ты его сделала, мы никак не можем. Пусть это выглядит смешно, старомодно, но, если ты не пожелаешь принять во внимание наши слова, — мнение твоей семьи! — ты должна быть готова к тому, что мы приложим все силы, воспользуемся любыми средствами, чтобы остановить тебя… Слышишь? Любыми…
Вот как — любыми?! А что же достоинство вашей дочери, любезный сосед? С достоинством как быть?
Желание курить стало еще более острым. После недавнего гриппа с каким-то мудреным названием со мной происходят странные вещи. Когда я долго без курева, да еще нервничаю при этом, у меня сплошь да рядом все спутывается в голове и четкую, прямую реакцию на происходящее вытесняют ни с того ни с сего мысли-видения, мысли-образы, мысли-фигуры, отслаивающиеся от массивного косяка моих дум и сомнений в результате каких-то весьма разнородных ассоциаций — то отдаленных, то ближайших…
Вот и сейчас: пытаюсь заставить себя внимательно слушать нашего «прокурора», а мысли упорно отклоняются к «Письмам об Испании» Василия Боткина, с восторгом прочитанным как раз недавно во время болезни. И плывет на меня видение…
девятнадцатый век;
Мадрид, где я никогда не был, площадь, вымощенная булыжником;
с одной стороны — толпа народа, сжимающего в руках палки, камни, разную дребедень;
с другой — подразделение солдат и впереди полковник в белых перчатках, со шпагой в руке, курящий сигару;
площадь пересекает простолюдин в грубом плаще;
не обращая внимания на то, что творится вокруг, он свертывает на ходу папиросу;
вот простолюдин поравнялся с полковником, вот он остановился и, с достоинством кивнув головой, попросил у полковника прикурить;
полковник охотно подал простолюдину свою сигару, тот прикурил, слегка поклонился и все так же спокойно пошел дальше
— Не будь ты нам родной, — кажется, мне удалось опять «включить» Аркадия Владимировича, — другое дело. Я принципиально никогда не высказываюсь по поводу того, как следует вести себя чужим людям; сколько у нас в институте персональных дел проходило, я ни разу не выступил, а при голосовании всегда воздерживался. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить стремящегося к бездне своего ребенка. Ты на краю гибели, Даша, опомнись, еще шаг — и будет поздно… Ты вот заявляешь, что речь идет только о твоей судьбе. А нам каково смотреть всю жизнь потом, как ты станешь мучиться? Да это же пытка на медленном огне, как ты не понимаешь?!
Полноте, соседушка, возможно ли это: уважать всех и каждого — и не уважать собственную дочь, ее волю? Простите меня, но, если вы без уважения относитесь к своему ребенку, вы, скорее всего, не уважаете никого, иначе, по сути, во всей глубине своей вопрос стоять не может…
Аркадий Владимирович помолчал, отдышался, взглянул исподлобья на дочь, словно желая проверить, какой эффект произвели его слова. Потом задумчиво продолжил:
— Я полагал, ты выйдешь замуж за своего сверстника, пусть он будет старше тебя на несколько лет, если тебе так больше по душе. Я предпринимал даже кое-какие шаги, чтобы ты могла… присмотреть себе мужа по вкусу… Мечтал, признаться, поиграть с внучатами…
— Может, и поиграешь, — смущенно улыбнулась Дашенька. — А если нет… Тебе не кажется, папа, что это эгоистично — требовать, чтобы я исходила прежде всего из твоего стремления поиграть с внучатами? Все-таки это м о я жизнь… Да нет, ты не можешь серьезно так ставить вопрос… Что касается сверстников, в том числе тех, кого ты мне так любезно «подбирал», они никогда особенно не интересовали меня. А я — их, кажется. Во всяком случае, тех, кто сам чего-то стоил… Мне джинсы не идут…
— Господи, что ты несешь?! Какие джинсы?! — возмутилась мать. — У тебя было несколько женихов из очень приличных семей, славных, непьющих, перспективных — чем все это кончилось?
— Ничем, — грустно подтвердила Даша. — Их духовный мир…
— Был миром нормальных людей! — отрезала Мария Осиповна. — А вам известно, — обратилась она ко мне, — что Дарья умудрилась еще семью разрушить?! Этот человек оставил из-за нее жену.
— Неправда… — прошептала Даша.
Гляжу в упор на Марию Осиповну, пытаюсь состроить сочувственную гримасу. Курить хочется до омерзения. Подняв руку с сигаретой, чтобы хозяева поняли, в чем дело, и отчасти заслонившись этой рукой, я поднимаюсь, выхожу в коридор и… внезапно оказываюсь на кухне н е э т о й, другой квартиры…
семья за ужином;
люди-треугольники: голубой, вершиной вниз — муж, розоватый, вершиной кверху — жена, зеленый, желтый — ребятишки;
на подоконнике — большой, жуткий сиамский кот;
черный квадрат на полочке — радиотрансляция;
вдруг входная дверь — настежь, в дверях Даша с чем-то вроде тарана в руках;
всеобщая паника, перекошенные ужасом «лица», дикий прыжок кота куда-то высоко, на шкафчик с посудой;
из радиоквадрата тихо, словно по секрету: «Разрушение семьи, часть первая…»
Щелкаю зажигалкой, поскорее затягиваюсь. «Кухня» расплывается в облаке табачного дыма. Дверь в большую комнату по-прежнему открыта. Мне слышно все, что там происходит; им видно, что я слушаю.
Заседание продолжается.
Когда я в день Советской Армии пришла в больницу, мне сказали, что у Севастьянова есть уже посетитель, а двоим сразу находиться возле больного не полагается. Я присела на деревянный, выкрашенный белой краской диванчик и стала думать о том, какой будет наша встреча, что я ему скажу, обрадуется ли он…
Минут через десять в вестибюль тяжелой походкой вошла полная женщина в белом халате с пустой хозяйственной сумкой в руках. У стойки она стащила с себя халат, отдала гардеробщице и стала надевать выданное ей взамен халата пальто.
— Кто тут к Севастьянову? — громко спросила гардеробщица и, когда я поднялась, протянула халат мне.
Я поняла, что женщина — его жена. Она бесцеремонно уставилась на меня, а я, вежливо поздоровавшись, пробормотала, что пришла по поручению местного комитета навестить Виктора Захаровича и поздравить его как фронтовика.
Интерес в глазах женщины погас, она кивнула и стала рыться в сумке, кажется искала мелочь на трамвай. Я натянула халат, хранивший еще могучие формы ее тела — на мне он сжался, перекрутился, — и медленно пошла наверх. Кажется, именно тогда, в тот момент, когда я взяла в руки халат, только что снятый ею, чувство соперничества впервые вошло в мое сердце.
Я поняла это гораздо позднее, вспомнив о нашей встрече в чистом, холодном вестибюле больницы, а тогда меня просто кольнуло что-то, и все. Мне с первого взгляда не понравилась его жена, не сама по себе не понравилась, как тип женщины, но она слишком уж явно не подходила Виктору Захаровичу, не соответствовала его облику, который сложился к тому времени в моем представлении.
«А что, если я ошибаюсь? — думала я, поднимаясь по крутой, устланной красной дорожкой лестнице. — Что, если он на самом деле такой, как его супруга, а вовсе не такой, каким я его придумала?»
Он был такой самый. Именно этого человека я надеялась встретить каждое утро, приходя на работу и не зная, поправился он или нет, именно по нему я тосковала. Я не сразу обнаружила его; быстро вошла в комнату, заставленную кроватями, стульями, тумбочками, стала озираться, лица сплывались в одно, и вдруг я услышала где-то позади и внизу изумленное: «Дарья Аркадьевна?!» Словно что-то родное приняло меня в объятия; я обернулась: он лежал на первой от двери кровати.
Вас удивило слово «родное»? Я и сама удивилась, употребив его сейчас. В ту минуту я так не сформулировала бы свои ощущения, да и не до формулировок мне было.
Он очень удивился.. Что я могу прийти с официальным поздравлением, он, видимо, не сообразил, а я сказала об этом в самом конце — странно как-то было начинать: «От имени месткома и от себя лично…» Я просто отдала ему цветы и подарок, присела на стул и спросила:
— Ну, как вы тут?
Ни слова в ответ. Лежит себе на спине, ровненько так, словно по стойке «смирно», только горизонтально, куда-то в окошко смотрит.
Долго молчал, потом взял мою руку — цветы и сверток остались лежать на одеяле — и поцеловал тихонько.
Я вздрогнула. Мне еще никто никогда не целовал руки, да и сама обстановка больничной палаты противоречила такой смеси интимности с чопорной учтивостью.
Виктор Захарович подумал, что я недовольна, что неожиданная фамильярность с его стороны раздражает меня.
— Вам неприятно, Дарья Аркадьевна? — И сразу же, не дожидаясь ответа: — Как вы сюда попали? Откуда узнали, где я?
Теперь молчала я, ошеломленная сложной гаммой ощущений, мне самой толком непонятных. В эту минуту долгожданной и все же неожиданной нашей встречи мне не хотелось пускаться в разъяснения, перечислять какие-то сугубо практические, бытовые мелочи и обстоятельства.
— Впрочем, какая разница? — продолжал он. — Важен итог: вы — здесь… Как все-таки прекрасна своим многообразием жизнь… Разве интересно было бы жить, будь нам все время только хорошо, только счастливо, без контрастов? Еще минуту назад я лежал в тупом унынии: проторчать здесь несколько недель перспективочка не из приятных, сами понимаете. Такое одиночество, такая тоска, и вдруг — вы!
Тупое уныние? Одиночество? Как же так, ведь только что из палаты вышла жена?! Знал ли он, что мы встретились, вернее, не могли не встретиться в вестибюле?
— Боюсь, я чертовски неловко поцеловал вам руку. Что на меня нашло — не знаю, я делаю это впервые в жизни, только в книжках читал. Но было это искренне, поверьте.
— Да, практики у вас, как видно, маловато, — выдавила я из себя глупейшую фразу, и неожиданно услышала в ответ:
— Но вы же станете приходить ко мне, правда? Вот я и попрактикуюсь…
Мы дружно рассмеялись и дальше болтали уже непринужденно, словно школьные товарищи, встретившиеся после каникул. Я выложила ему все заводские новости и вообще, кажется, не закрывала рта. Давно я так искренне, так хорошо ни с кем не болтала; с мамой я не очень близка, с папой и подавно, задушевные подруги разлетелись после школы кто куда, вот с бабушкой разве иногда. А Виктор Захарович, как выяснилось, понимал меня с полуслова, на лету подхватывал начатую мною мысль, даже фразу, переиначивал, отыскивал оттенки, придававшие словам новое, смешное звучание. На работе ничего подобного за ним не замечалось… Мы то и дело хохотали — потихоньку, чтобы не мешать остальным.
Домой я ехала радостная, окрыленная, устремленная куда-то, хоть и неясно было еще — куда.
Я прилежно навещала Севастьянова каждый четверг и каждое воскресенье. Судя по всему, жена по четвергам не приезжала. Однажды мы с ней вновь встретились внизу, только на этот раз поменялись ролями, и я, с каким-то странным удовлетворением, передала ей халат. Мне она только кивнула, а Виктору Захаровичу заметила, что никак не предполагала такой прыти со стороны месткома. В следующий раз, когда я пришла к нему, он передал мне слова жены без улыбки.
Потом он выздоровел, вышел на работу, и наши встречи и беседы, вопреки моим смутным ожиданиям, вошли в старое, «добольничное» русло. Словно и не было беззаботных, радостных свиданий.
Впрочем, мне только казалось, что все идет по-прежнему; как выяснилось впоследствии, под гладкой поверхностью тлел огонь.
— Не выкручивайся, — проникновенно сказала мать, — ты внесла горе в чужой дом: не будь тебя, он никогда не решился бы на развод, это и ребенку ясно. Теперь ты собираешься заменить ему утраченную семью, но я не понимаю, как вы станете бывать с ним на людях? Любой примет вас за отца и дочь, а узнав или догадавшись, что это не так, захихикает вам вслед, пойдут пересуды, поползут сплетни…
— Все это давно происходит, мамочка, так что ничего нового в этом смысле меня не ждет. Переношу я эти разговорчики легко, мне даже нравится, пожалуй, дразнить наших откормленных, увешанных золотишком красоток. Сплетни опасны или кажутся опасными только тем, кто сам не прочь позлословить, а мы с Севастьяновым этому пороку не подвержены…
— Ну, так вот что я тебе скажу, милочка, — Мария Осиповна встала со стула, словно и впрямь выступала на суде. — Мне прекрасно известно, что ты возразишь, я не раз от тебя это слышала: «Ты сама всю жизнь жаловалась, что твоя мать вмешивалась в твою семейную жизнь». Да, да, да, мамочка, вмешивалась, — она протянула правую руку ладонью вперед, успокаивая встрепенувшуюся было Елену Игнатьевну, — и еще как вмешивалась, между прочим, житья никакого не было, особенно вначале, вспомни, ты же Аркашу при детях иначе как «козлом» не называла — «А что, сегодня козел опять поздно явится?» Ты предсказывала, что наш брак ничем хорошим не кончится, и вела себя соответственно…
Аркадий Владимирович грустно кивал. Елена Игнатьевна, вцепившись в спицы, сидела неподвижно, словно изваяние. «А чем хорошим кончился ваш брак?» — говорило выражение ее лица.
— И ничего тут не попишешь, — продолжала ее дочь. — Я сделала все для того, чтобы мы жили вместе, знала, как тебе этого хочется, что ты иначе попросту не сможешь. Но Даше я жаловалась на то, что происходило у нас в доме, надо же было душу отвести, да она и сама видела предостаточно. Так что я готова к твоим возражениям, милочка, — вновь обратила она внимание на Дашу. — Теперь ты сама вмешиваешься в мою жизнь, скажешь ты мне, потом станешь вмешиваться в Кешкину… Так вот что я тебе отвечу, не дожидаясь упреков: тебе прекрасно известно, что я в твою жизнь никогда особенно не лезла, а даже прикрывала тебя от отца, давно это было, еще в младших классах, но было же! Верно? Молчишь, значит, помнишь. Я старалась не вмешиваться до тех пор, пока все у тебя шло более или менее нормально, хотя, честно сказать, у меня не раз чесались руки… Но когда я вижу… когда я своими глазами вижу, как моя дочь… калечит… коверкает свою судьбу… — Голос Марии Осиповны дрогнул. — Разве я могу стоять в сторонке? Я все обдумала, скажешь ты мне, все решила, я сама за себя отвечаю, я ставлю вас перед фактом, заявляю вам то-то и то-то, а вы уж как знаете… Что ж, пусть так, в духе эпохи, хотя я никогда не думала, что дочь моя вырастет такой бессердечной. Но раз иначе нельзя, позволь уж и ты мне как матери высказать тебе все, что я об этом думаю, все, что я считаю необходимым сообщить дочери, разреши и мне выполнить мой материнский долг так, как я его понимаю, чтобы совесть моя была спокойна…
— Конечно… — вздохнула Даша, — какой разговор. Ты уже говорила мне, и не раз, я, кажется, всегда все беспрекословно выслушивала и, поверь, много думала над твоими словами…
— Вот в этом-то я как раз не уверена, — прервала ее мать. — Если бы ты задумалась над моими словами всерьез, ты никогда не заявила бы, что покидаешь семью ради этого человека. Допустим, ты полюбила. Я давно догадывалась об этом; сколько раз пыталась выяснить, что и как, но ты упорно уходила от ответа на мои вопросы. Законные вопросы! Пока дочь живет с матерью, мать обязана знать, что с ней происходит — все! все! — иначе как уберечь? Ты вот сердилась, когда я заглядывала в твой портфель, в твою сумочку, прочитывала полученное тобой письмо — а что здесь особенного? И мама так поступала, пока я не вышла замуж, она тоже хотела быть уверенной, что со мной все в ажуре… Это был ее долг — и мой долг по отношению к тебе…
— А я считаю, что это значит топтать достоинство человека, сколько бы лет ему ни было — хоть восемь! Виктор Захарович, тот все это время, напротив, старался поддержать, укрепить во мне чувство собственного достоинства…
— Я не желаю вступать с тобой в полемику! Продолжаю свою мысль. Ну, полюбила и полюбила, ничего тут плохого нет. Я и сейчас не стала бы вмешиваться, если бы все продолжалось по-прежнему, любовь есть любовь, сердцу не прикажешь, в твоем возрасте любовь естественна и необходима…
— Ох, мать… — уронил Аркадий Владимирович.
— Да, да, Аркаша, необходима, иначе девушка и вовсе может увять, я не вижу ничего дурного, если любовь упорядочена, если это не случайные, неряшливые связи. Но ты неожиданно собралась сделать шаг, который неизбежно внесет в твою жизнь совершенно новые отношения…
— Да какие же новые, — тихо возразила Даша. — У нас ничего не изменится, мы только все оформим. Ты пойми, мама, не могу я больше жить этой двойной жизнью, все время кого-то обманывая по мелочам, скрывая что-то… Мы оба так больше не можем…
— Теперь, когда мы официально все знаем, тебе не пришлось бы больше никого обманывать, — снова прервала ее мать. — Пожалуйста, продолжай все, как было, если другого мужчины для тебя сейчас не существует, но зачем сжигать мосты? Это что, Севастьянов настаивает на браке?
— Нет, я решила. Он все время твердит, что эти вопросы должна решать я, по своему усмотрению…
— Что ж, по видимости позиция благородная…
Я уже давно докурил, торчать в коридоре просто так — неудобно, и я потихоньку пробираюсь на старое место. Мои мысли-видения отступили, в них только на секунду мелькнул Севастьянов в обличье Дон-Кихота — возник и сразу же исчез. Я достиг своего креслица, уселся.
— Но тогда я тем более не понимаю тебя, Даша. — Мария Осиповна проводила меня строгим взором. — С человеком такого возраста в любую минуту может случиться все что угодно — кем ты окажешься при нем? Сиделкой? А если ты встретишь и полюбишь кого-то из своего поколения, полюбишь, наконец, по-настоящему, что ты тогда станешь делать? Изменять мужу? Разводиться?
— Я не знаю… Не смею заглядывать далеко вперед. В любом случае я остаюсь свободным человеком, он много раз повторял мне это… Но ты прости меня, мамочка, тебе не кажется, что себя я знаю все-таки глубже, подлиннее, что ли, чем кто-либо, чем даже ты, — люди ведь неодинаковы и в любви, и в ненависти, верно? Я кое-что повидала в жизни и не сомневаюсь, что, пока он будет со мной, мне никто другой не понадобится…
Мария Осиповна хотела прервать Дашу, но та остановила ее жестом, как две капли воды похожим на жест матери, заставивший замолчать Елену Игнатьевну.
— Позволь мне в этом главном вопросе разобраться самой, позволь положиться на собственный опыт, на интуицию, наконец. Ты чувствуешь это иначе? Что поделаешь, сколько случаев, когда не то что мать и дочь, родные сестры, выросшие и воспитывавшиеся вместе, ощущают такие вот глубоко личные вещи прямо противоположно… Ну, посуди сама, во имя чего мучиться мне и продолжать мучить прекрасного человека, которого я глубоко и преданно люблю уже несколько лет? Я же вижу, как он страдает от двусмысленности нашего положения…
— Да, да, — Мария Осиповна нахмурила брови и стала вдруг похожа на сову, мне померещилось даже, что она говорит во сне. — Да, сейчас, сегодня, сию минуту ты знаешь это, конечно, лучше всех, я говорю серьезно и без всякого раздражения, как видишь. Но житейский опыт, вбирающий в себя, не одну, не две, а сотни судеб, приводит такие вот глубоко личные ощущения и переживания к общему знаменателю — не сразу, через год, через пять лет. И когда я предостерегаю тебя от рокового шага, я думаю не о сегодняшнем дне твоей жизни, он не должен нас уже особенно волновать, его не исправить, какой есть, такой есть. Я думаю о всей твоей жизни, Дашенька, о всей твоей судьбе, о том, скажем, к каким итогам ты придешь в моем возрасте — ты не станешь, надеюсь, спорить с тем, что уж этот-то период, условно говоря — вторые двадцать лет, я знаю лучше тебя, потому хотя бы, что я прожила их, а ты еще нет. Кто встретит тебя дома в сорок пять? Заботливый муж, милые твоему сердцу, хоть и несносные, как ты теперь, дети или пустые стены? Или собака, которую ты к тому времени заведешь, чтобы не выть от одиночества на луну? Тебе известно, например, в каком жутком одиночестве умирал твой дед? После того как он оставил маму, он так и не сумел создать новой семьи… Известно? А я бывала в его ледяном доме, я наблюдала ужасный финал его жизни, я своими руками хоронила его.
Ах, как точно бьет Мария Осиповна в самые уязвимые места, как умело взывает к здоровому эгоизму, имеющемуся, конечно, и у Дашеньки, как у каждого нормального человека… Нет чтобы спросить: а что станется с Севастьяновым? Не жестоко ли оставлять его потом у разбитого корыта, не лучше ли теперь же взглянуть правде в глаза — может быть, сейчас он еще сможет встретить женщину, которая н и к о г д а не покинет его?..
Впрочем, чего, собственно, я хлопочу? Почему мне так хочется, чтобы Даше задали этот вопрос? Из мужской солидарности? Или потому, что я тоже живу один и по возрасту не так уж далек от Севастьянова? А не потому ли, что мне нравится Дашенька и любопытно знать, что она на такой вопрос ответит? И еще любопытно: догадывается она, что нравится мне?..
— Значит, твой опыт подсказывает тебе, — медленно произнесла Даша, как бы ставя тире после каждого слова, я-то знал уже, у кого она заимствовала такую манеру говорить, но для родителей это явно была новинка, они даже переглянулись, — что надо любой ценой избегать одиночества? Так я тебя поняла? Любой ценой? Даже фальшь нипочем? Стерпится — слюбится, лишь бы «как у людей»? Так, мама? Думала я и об этом… На практике не испытала, это верно, хотя раз было что-то похожее… Но могу сказать тебе с полной уверенностью, что лично для меня такой вариант невозможен. Чтобы быть точной: физиологически невозможен. Противно попросту… Одиночество, наверное, лучше, хоть одинокой я еще не была… Впрочем…
— Когда же это?
— Примерно… с восьмого класса и до того, как встретилась с Виктором Захаровичем и он открылся мне в своем чувстве — только ты не сердись, мама, мы говорим откровенно, ты сама настаивала.
— Что ж, за откровенность — спасибо.
— А если теперь я тебя кое о чем спрошу, мама? — В голосе Даши прозвучали новые для меня нотки, четко свидетельствовавшие, что она — дочь своих родителей. — Скажи, ты пережила когда-нибудь сильное чувство?
Молчание.
— Насколько я разбираюсь в обстановке, едва ли… — покачала головой Даша.
— Дарья!
— Я только защищаюсь, мама, вашими же методами.
— Они — не наши! Они — всеобщие! Я утром сообщила о том, что у нас случилось, Лидии Павловне — знаешь, что она сказала?!
— Не знаю и знать не хочу! Передо мной мой путь. Понимаешь? Не твой, не папин, не бабушкин и уж, конечно, не Лидии Павловны, а мой! Я встретила хорошего человека, мы с ним во всем понимаем друг друга — разве это мало?! Да, вначале разница в возрасте сказывалась очень остро, но теперь мы давно забыли о ней. Я у нас дома старшая, я! Витя — как мальчишка…
— Витя! — фыркнул отец.
Зазвонил телефон. Сидевший ближе всех к аппарату Аркадий Владимирович снял трубку.
— Тебя, Дарья, — холодно бросил он.
— Слушаю, — пропела Даша. Светлая улыбка блеснула на ее лице, потом оно вновь, как в начале судилища, покрылось красными пятнами.
— Все в порядке, — сказала она, как могла спокойнее. — Нет, не нужно, все в полном порядке.
И тут лицо ее вновь изменилось: сила уверенной в себе и отвечающей за другого, более слабого, более неприспособленного, женщины проявилась на нем.
«Боже мой, — подумал я, — достаточно взглянуть на мгновенно преобразившиеся Дашенькины черты, чтобы понять всю бессмысленность попыток принудить ее отказаться от своего решения… не слепые же они как будто… нормальные, зрячие люди…»
— Хорошо, — кивнула Даша. — Я скоро. Пока…
Она повесила трубку. Опять стало тихо. Мария Осиповна, казалось, не расположена была больше говорить; пока дочь вела нехитрые переговоры со своим будущим мужем, она опустилась на стул и, горестно подперев голову рукой, стала глядеть в окно.
Огонь тлел так бесконечно долго, что едва не угас совсем. Год, нет, больше года он поддерживал со мной ровные отношения, прекрасно соответствовавшие «производственной» обстановке, в которой мы теперь вновь встречались. Выглядело это так естественно, что и во мне все понемногу стало успокаиваться. Лишь раз в неделю, не чаще, Севастьянов ходил со мной во время обеденного перерыва в крошечное кафе, где смуглая барменша, несомненно южанка, бросала на него слишком уж приветливые, даже сладкие взгляды, за что я ее возненавидела. Но она варила потрясающий кофе, и зайти к ней было, в сущности, тем единственным, что я могла совершить в его обществе.
Нет, еще шестого ноября, на вечере в нашем заводском клубе, он дважды пригласил меня танцевать: один раз вальс, другой — танго.
Хорошо еще, что занятия стали отнимать все больше времени. Стиснув зубы, я кинулась на учебу.
Теперь, когда я знаю Виктора Захаровича гораздо лучше, я понимаю, какая упорная борьба должна была происходить в нем — всю жизнь он был человеком долга. Тогда же я не понимала ровным счетом ничего, кроме того, что мне остается тихо заползти обратно в свою раковину и учиться, учиться…
Не знаю, чем бы все это кончилось, возникни тогда в моей жизни другой мужчина, — на этот вопрос я и сейчас не могу ответить с полной уверенностью. Оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная жажда взаимности могли, вероятно, далеко меня завести. Но не возник никто, к счастью…
Была, правда, одна встреча, но такая случайная и… и никчемная, что о ней и упоминать не стоит. Мой ровесник оказался таким же смятенным существом, как и я сама. Так понятно — смятенным? Есть еще модное слово — инфантильный… Что-то слишком еще неустоявшееся в каждом слове, суждении, намерении, чуть ли не в жесте, а у Севастьянова, напротив, уверенность. Не самодовольство, не бахвальство, не дутая многозначительность, а именно мужская основательность и уверенность, которых так не хватает слабой женщине, если только она не лицемерит хотя бы перед самой собой.
Так прошли зима, весна, лето, и лишь осенью произошло сразу два события.
Я случайно услышала о том, что к секретарю парткома приходила супруга Виктора Захаровича — жаловаться на то, что коммунист Севастьянов подал на развод. Ну, из парткома ее быстро завернули, не те времена, чтобы таким глубоко порядочным людям из-за наветов жизнь отравлять, есть проблемы поважнее. Так что последствие этот визит имел только одно: я ужасно обрадовалась, хотя радоваться было, по сути, нечего — ко мне развод Севастьянова не имел вроде бы прямого отношения.
И еще я возмутилась отчаянно, недаром мне эта женщина еще тогда, в больнице, не показалась: что за доносы такие, что за насилие?! Вместо того чтобы над собственным обликом лишний раз призадуматься — бежать кляузничать?! Значит, правильно он поступил, решив порвать с ней, другого вывода я сделать не могла.
Я ждала, что Виктор Захарович сам расскажет мне о принятом решении и упомянет, быть может, о том, какие причины побудили его уйти из семьи. Но он молчал, а я сама, разумеется, спросить ни о чем не решалась.
Но тут подоспело второе событие: нас послали в колхоз на уборку картошки и я попала в группу Севастьянова. Чего улыбаетесь? Случайно ли попала? Нет, конечно, врать не стану, мы же договорились — откровенно…
Осень стояла солнечная, сухая, нам повезло. После работы все ходили гулять в совсем близко подобравшийся к нашему жилью лес, собирали грибы, а я корпела над учебниками. На четвертый или на пятый вечер я почувствовала, что у меня ум за разум заходит. Премудрости, выскакивавшие с каждой страницы, внезапно стали не дополнять, а взаимно уничтожать друг друга, и я поняла, что мне следует проветриться.
Накинула ватник, юркнула в лес и побрела по тропинке. Пусто, тихо, пахнет прелыми листьями — хорошо…
Через полкилометра примерно столкнулась с Виктором Захаровичем. Скрестив руки за спиной — знаете, у него такие длинные руки, что он может манипулировать ими, как хочет, словно это клубок дрессированных змей, — скрестив руки за спиной, он шел в другом направлении, без дороги, продираясь сквозь кусты и перешагивая через елочки.
Заметив меня, он свернул и пошел рядом. Ничего не спросил, ничего не сказал, идет себе и идет…
Молчала и я. Поскрипывая, бились о кустики черники голенища наших резиновых сапог. Скосив глаза, я заметила, что лицо Севастьянова бледнее обычного и даже исказилось как-то — или это лесные светотени бросали такой отсвет? Может быть, и я выгляжу бледно-зеленой — испугалась…
В этот момент мой спутник, не останавливаясь, расцепил руки, неловко взмахнул ими, выбрасывая как бы с натугой вперед, взял двумя руками мою левую — я шла справа от него — и, склонившись, поцеловал.
Второй раз. Первый, помните, был полтора года назад… Я не могла идти, остановилась. Кровь хлынула в лицо — стало жарко, это помню и сейчас.
— Вы, наверное, считаете меня трусом, Дарья Аркадьевна, — молвил он. Голова была опущена, я не видела его глаз.
— Почему же трусом? — я не кокетничала, я просто не понимала, что он имеет в виду.
— Потому, что я давно… вы не можете не знать… А между тем…
Он — давно? Что — давно? Он… он давно любит меня? Это я должна знать? Этого не могу не знать? Или…
— Между тем вам известно, что я женат… что я был женат… но главное — я вам в отцы гожусь…
Он помолчал, ждал, вероятно, не скажу ли я чего-нибудь такого, что утешило бы его, но что же я могла сказать?
Потом поднял голову, словно желая взглянуть мне в лицо, и тут я увидела, что глаза его крепко закрыты, зажмурены даже.
Я тихо вскрикнула от неожиданности.
— И если с первым препятствием теперь покончено — все равно сплошная ложь была, — то второе устранить невозможно, нет пока у человечества такой силы… Так что…
Он круто повернулся и быстро пошел прочь прямо через лес, напролом. Сойдя с тропинки, он вынужден был открыть глаза, но я их открытыми в тот день так и не увидела, и это очень меня огорчило.
Я не остановила его. Надо было прийти в себя хоть немножко. Судите сами: полтора года глухого молчания, и вдруг такое…
— Милая Дашенька, дорогая моя девочка, — донеслось с дивана, где сидела Елена Игнатьевна. — Надеюсь, меня-то ты не заподозришь в том, что я черствая эгоистка и бог весть кто еще. С первых твоих улыбок ты стала для меня самым дорогим существом на свете, я любила и люблю тебя больше, чем Кешу, и уж конечно гораздо больше, чем твою мать и твою тетку, — может быть, потому, что вижу в тебе самое себя?.. Я старалась быть ласковой с тобой, только ласка, и она одна, способна пробудить в человеке доброту, а я хотела, чтобы ты выросла доброй девушкой и научилась глядеть на жизнь с улыбкой, так же как это в молодости делала я. С улыбкой, а не с гримасой презрения, с улыбкой, а не сквозь слезы. Я надеялась внести в твое детство радость, раз уж никто в семье не был на это способен; только ради тебя я вмешивалась иногда в и х дела, сами по себе они меня не интересовали… — Неожиданно, строго поджав губы, старушка метнула отнюдь не добродушный взгляд сперва на дочь, потом на зятя. — Я надеялась заслужить твое доверие, с тем чтобы потом своими советами исподволь помочь тебе нащупать правильный путь, помочь избежать ошибок, которые наделала в свое время я сама, а вслед за мной и мои дочери. Им-то я как следует не помогла: и опыта не было, и сил, и времени, я же растила их фактически одна и в очень сложные годы… Но тебе, моей старшей внучке, моей ласточке, тебе я хотела передать всю житейскую премудрость, какую накопила, — в этом видела я смысл своей жизни в последние двадцать лет…
— Тебе это прекрасно удалось, бабуля, — отозвалась Даша. — Я очень многим обязана вам всем и прежде всего тебе…
Аркадий Владимирович пренебрежительно фыркнул.
— Я тоже думала, внученька, что мне это удалось, все эти годы так думала, вплоть до вчерашнего дня. Когда ты так неожиданно заявила нам о своем решении выйти замуж… мне, старухе, было горько узнать, что ты, оказывается, давно уже лишила меня былого доверия и не сочла нужным посоветоваться со мной, как это не раз бывало прежде…
— Я хотела, бабушка, сколько раз, но все робела, никак не могла себя заставить…
— Заставить?! Что ты, Дашенька, заставлять никак нельзя, об этом и речи быть не может! Меня именно то и огорчило, что ты не испытала потребности поговорить со мной, что твое сердечко не приказало тебе… Сплоховала я, видать, не сумела стать тебе подругой, не изловчилась затереть эту проклятую трещину между «предками» и «потомками»…
— Вы не сумели, а о н сумел, — подал все же реплику Аркадий Владимирович. Не удержался.
— А ведь как знать, — одним пожатием плеч Елена Игнатьевна наотрез отказалась от помощи зятя, — как знать, пошепчись мы с тобой заранее, может и не пришлось бы так скоропалительно позорище устраивать, — она обвела рукой комнату. — Беспокоить постороннего человека… Ты была уверена, что я не посочувствую твоей любви? А ведь любящее сердце — не камень. Глядишь, я бы и их подготовила помаленьку… И тебе бы, может, кое-что растолковать сумела. Вот скажи мне, ты о нем-то подумала?
— О нем? Да я только о нем и думаю…
— Так ведь это ты о том, что с е й ч а с, думаешь, а не о том, что с ним станется, когда ты от него уйдешь…
Я вжался в кресло: эта тихая старушка, эта комическая пропагандистка моих «гениальных» статей, которую я конечно же всерьез не принимал, задала м о й вопрос…
— Я уже сказала маме: уходить от него не собираюсь, мне никто другой не нужен… Ни один из ваших благополучных женишков, — это было обращено уже к отцу, — не будет так внимателен к моим желаниям, моим слабостям и… капризам, если хотите…
— Ты, небось, относишь все это на счет его удивительного характера, — немедленно отреагировал Аркадий Владимирович, — а дело-то все в том, что он просто боится тебя потерять, второй такой дуры он уже не найдет!
— А какая мне разница, п о ч е м у он так поступает? — в той же интонации возразила ему дочь. — Я уверена, что никто не даст мне столько радости и покоя, и мне этого вполне достаточно. Если хотите знать, есть и еще одна причина, по которой мне невыносимо продолжать двойную жизнь: перепад между вечно накаленной атмосферой здесь, у нас, и тем, как дружно решаем все проблемы мы с Виктором Захаровичем. Не подымай так высоко брови, мама. Я не механизм, я живой человек, и терпеть изо дня в день препирательства между бабушкой и тобой, между отцом и Кешкой мне нелегко… Может быть, если бы существовал один этот дом, я давно втянулась бы и сама приняла бы участие… Но после нашей радостной, нашей уютной жизни там возвращаться сюда мне тяжелее тяжкого…
Никто не посмел возразить.
— Поэтому я и говорю, что оттуда я никогда…
— Ишь ты, ишь ты, — вновь оживилась Елена Игнатьевна. — Никогда! А ты не зарекайся, дружочек! Никогда не пойду… никогда не скажу… никогда не сделаю!.. Помни всегда о том, как ученики Христа, клявшиеся ему в вечной верности, отреклись от него в ту же ночь… Не зарекайся…
Елена Игнатьевна положительно потрясала меня. Евангелие?.. Я любовался старушкой, радостно было ее слушать, ничто не застилало сознания… Как вдруг:
— Но все это мимоходом, Дашенька, главная речь — впереди. Ты на что решилась? На что, я тебя спрашиваю?! Сразу всей семье себя противопоставляешь? Чужой становишься?!
— Почему же — чужой?.. — горестно воскликнула Даша.
— Именно чужой, иначе не скажешь. Примчалась вчера неведомо откуда, поздно вечером, словно случайная гостья на огонек, и так, между прочим, сообщила, что выходишь замуж, что скоро заберешь вещички и переедешь, а мне станешь помогать по хозяйству изредка, как будто в этом дело, как будто мы без тебя тут, бедненькие, не справимся, в грязи захлебнемся…
— Ха-ха… — донеслось со стороны Аркадия Владимировича.
— И еще ты безжалостно добавила, что так всем будет удобнее, что наша квартира и без того становится тесной, что Кеша уже совсем большой и ему необходима отдельная комната…
— Безжалостно, бабуля? Но ведь это так и есть…
— Безжалостно, внученька, ох безжалостно… Хотела ты этого или нет, а в этих словах и в мой адрес упрек различить не так уж и трудно — зажилась, старуха, места молодым не хватает! Пока мы с тобой в одной комнате спали, это было не так заметно, а теперь я не знаю…
Голос Елены Игнатьевны дрогнул.
— Что ты такое говоришь, мама, — возмутилась Мария Осиповна. — Чепуха какая-то. Мы все тебя горячо любим, и тебе это прекрасно известно… При чем тут то, что вы с Дашей спали в одной комнате?!
— И еще, Дашенька, это было безжалостно потому, — Елена Игнатьевна обратила на слова дочери не больше внимания, чем на реплики зятя, — что в эту горестную для всех нас минуту, когда в один миг рушились наши представления о будущем семьи, ты рассуждала так… деловито, так… категорически. Только человек, ставший чужим, мог говорить таким образом. Вспомни только, каким тоном рассказала ты нам свою историю: словно она с кем-то другим приключилась… Спокойненько так, без боли… Хоть бы слезинку проронила…
— Да при чем тут боль и слезы? — искренне недоумевала Даша. — Кажется, не случилось ничего плохого. Я выхожу замуж, как все другие…
— А вот и нет! А вот и не как все! В церковь же вы не пойдете венчаться, верно? А во дворец вас не возьмут, значит, праздника ни у тебя, ни у нас не будет. Разве к такому замужеству я тебя готовила? Да это же стыд и позор! И платья белого ты себе шить не станешь, верно? Незачем вроде, раз вы уже так давно вместе — а мне-то невдомек, старой дуре, и ты хороша — ни звука бабке, ни полслова… Виктор Захарович такой хороший работник… общественник… заботливый… не знаю что… Позаботился! Эх… Лишил он тебя праздника, который женщина до самой могилы помнит. Тебе тут мать изображала, как меня твой дед бросил. Так ты что думаешь, я его потасканным пьянчужкой помню, с редкими волосенками и пустой улыбочкой на дрожащих губах? Как бы не так! Он в моей памяти таким остался, каким в день свадьбы был — молодым красавцем, в черной паре от приличного портного, весельчаком, балагуром — час мог заставить всю компанию кататься по полу от смеха, — танцором из самых первых… А ты — «выхожу замуж»… Что сама-то вспоминать станешь? Речи, что над его могилой скажут?!.
Н-да… Зря, похоже, я радовался… Елена Игнатьевна не лучше остальных оказалась, только что в другую дудку дудит…
И снова поползло на меня видение: на полузакрытой белесой двери в коридор явственно проступает гигантская фотография…
старинное фото, вернее, кажущееся теперь старинным;
коричневый фон;
впереди — белый атласный пуфик, дальше пальмы, задник — уходящая вверх мраморная лестница;
на пуфике восседает дородный молодой человек в черном костюме, накрахмаленном воротничке, белом галстуке и с белой астрой в петлице;
на левом колене он держит юную, но полновесную уже особу в подвенечном наряде, с букетом, в руке;
еще один букет небрежно брошен к ее ногам, оба напряженно глядят в одну точку
На следующий день я дежурила по пищеблоку. И вот, когда после ужина я заканчивала уборку, в ту часть избы, что служила нам столовой, вошел Виктор Захарович. Его лицо показалось мне уже не просто побледневшим, как накануне, а смертельно бледным, белым — такие маски «живых покойников» я видела в каком-то брехтовском спектакле. Я испугалась немного, но и обрадовалась, жутко обрадовалась.
— Я пришел против своей воли, Дарья Аркадьевна, но другого выхода у меня нет… Чтобы окончательно не выглядеть трусом в ваших глазах, я обязан высказаться до конца, а там — будь что будет…
Он говорил очень медленно, словно тут же обдумывал каждое слово и еще принуждал себя произнести обдуманное вслух.
— Обязан сказать вам внятно, что глубоко и сильно люблю вас — надеюсь, более чем годовая проверка выглядит достаточно убедительной и для вас… И еще скажу, что для меня было бы великим счастьем, если бы вы были рядом со мной — на любых основаниях, на каких вы только пожелаете… Что тогда появился бы смысл и свет в моем бессмысленном существовании, радость в моем безрадостном одиночестве…
Он подошел ко мне вплотную, вынул у меня кастрюлю из рук — я машинально продолжала вытирать ее, — осторожно поставил кастрюлю на стол и обнял меня за плечи… Такой, какой я была в тот момент: с полотенцем в руке, в засаленном переднике, вспотевшую, со сбившейся набок косынкой на растрепанных волосах.
— Я должен был отчетливо изложить вам все это; вы могли и не понимать, что с моей стороны это не блажь, что вы значите для меня необыкновенно много. Всю ночь и весь день сегодня я упрекал себя за то, что не сказал вам вчера все как есть, и понял, что откладывать дальше нельзя… Промедление смерти подобно…
Он улыбнулся наконец, хоть и грустно, но все же улыбнулся.
— Не стану торопить вас с ответом, — он легонько прижал меня к себе, мне пришлось поднять голову, чтобы не уткнуться лицом ему в грудь, и он глубоко заглянул мне в глаза, — только, если можно, пусть этот ответ будет окончательным. Понимаете? Так или так…
И опять стояла тишина, только гулко билось у самого моего уха его сердце; если правда, что размеры сердца человека соответствуют размерам его кулака, сердце у Севастьянова должно быть большое. Все, о чем я думала целый год и всю бессонную ночь накануне, — все отхлынуло вдруг, ушло, как морская волна, и я, встав на цыпочки, вытянувшись, как только могла, зажмурив глаза — на этот раз их зажмурила я! — поцеловала его. Мой неумелый поцелуй пришелся ему в подбородок, но мимолетное ощущение неловкости сразу же захлебнулось в клокочущей радости: он склонился мне навстречу.
Я кое-как кончила уборку; Севастьянов умело помогал мне, не произнеся больше ни слова. Потом мы оделись потеплее, он захватил старенькую плащ-палатку, и мы ушли далеко в лес. На фронте ему не раз приходилось ночевать в осеннем и даже зимнем лесу; нам совсем не было холодно, и вернулись мы только к утру. Туман стоял, все еще спали.
Смертельно уставшая, я вышла все-таки на работу, хоть он и предлагал мне остаться дома и выспаться; кажется, Севастьянов впервые в жизни готов был поступиться своими принципами, но я конечно же не хотела, чтобы он делал это ради меня. Все утро жизнь медленно плыла куда-то мимо, но я ни разу не потупила ввалившихся глаз.
Так началось наше счастье. Мы старательно оберегали его, прятали от окружающих — на работе так никто ничего и не узнал. Не узнали и дома, и сейчас не знают. Чувствуют, конечно, что в моей жизни что-то происходит, но понять ничего не могут, а прямо не спрашивают. Чудаки! Спросили бы, я бы врать не стала, а самой начинать такой разговор…
Оттенок таинственности заставлял нас только сильнее тянуться друг к другу, проклинать каждый день и каждый вечер, когда мы не могли быть вместе: мои семейные обязанности и моя учеба отнимали у меня гораздо больше времени, чем мне того хотелось… А нам было так хорошо вдвоем, и никого больше не нужно.
Впрочем, это время было для нас не простым не только потому, что иногда приходилось насильственно отрываться друг от друга. Мы не сразу притерлись друг к другу, хотя я шла навстречу любви с улыбкой, так воспитала меня бабушка. Характеры, опыт — все было разное. Мне иногда начинало казаться, что я слишком ему подчиняюсь, теряю с таким трудом завоеванную дома независимость, что этот мудрый человек, пусть необыкновенно мне близкий, занял место родителей, а я, словно маленькая девочка… Ну и выкидывала коленце, ставившее его в тупик, заставлявшее нервничать, да еще как, приводившее в отчаяние. А то он принимался ни с того ни с сего ревновать меня — не к мужчинам, к подругам, не могла же я совсем от них отвернуться, тем более, что им я тоже не решалась пока сказать, — и тогда он пускался в чудачества, в безумства, вызывавшие, естественно, ответную реакцию…
Был период, когда его стали одолевать сомнения. Вернувшись однажды из командировки, он заявил, что все обдумал, что нам следует расстаться, и чем скорее, тем лучше, что он не имеет права калечить мою судьбу, что мне нужна нормальная семья, что я слишком еще молода и сама не понимаю, что делаю, а он должен быть умнее — ведь если с ним что случится, я останусь одна-одинешенька в целом мире… Упорно, с каким-то безнадежным отчаянием отклонял он все мои возражения, даже слезы не могли убедить его, и только в один поздний вечер, почти ночью, когда я, задержавшись в библиотеке, обнаружила его, окоченевшего и несчастного, в аллейке, прилегающей к нашему дому, знаете, там, за сиреневыми кустами, он сдался.
Мне странно было видеть его страдающим из-за меня. Странно — и радостно. Эти трудные недели и это примирение еще больше сблизили нас, если это только было возможно. Тогда-то мы и решили пожениться.
Вы, конечно, спросите меня, к чему мы так долго прятали наше чувство. Отвечу, как могу. Вначале я сама не была ни в чем до конца уверена и не хотела торопиться с выводами. Мысли и ощущения, лежащие на поверхности, цепко держали меня: что подумают, что станут говорить, не попытаются ли раздуть какую-нибудь дурацкую историю, способную повредить и ему и мне… Кроме того, как раз в это время один подобный случай обсуждался в нашей семье, и весьма недвусмысленные высказывания родителей не только укрепили меня в моих сомнениях, но и дали отчетливо понять, что на их сочувствие мне рассчитывать никак не следует.
И вот в этом, пожалуй, главная причина моего молчания. Я же их всех люблю, они — часть меня самой, и я никак не хотела бы причинить им боль. Получается, что я своей рукой должна взорвать покой дорогих мне людей, — к этому я до сих пор не готова. Хотя… эта двойная жизнь так тяготит меня, что, скорее всего, получив диплом как свидетельство своей «взрослости», я решусь сказать им наконец правду.
Другого выхода у меня нет.
— Вот, полюбуйся, — понимая, что заседание идет к неизбежному концу, Аркадий Владимирович говорил теперь торопливо, словно стремясь уложиться в регламент. — Полюбуйся, дорогая Маша, — вот они, плоды твоего воспитания! Ты постоянно пилила меня за строгость, обзывала придирой, брюзгой, занудой. Ах, натура девочки должна развиваться спонтанно, ах, не надо ее ни к чему принуждать, ах, Макаренко безнадежно устарел, а вот доктор Спок… Ты словно забыла о таинственной русской душе, не укладывающейся ни в какие рамки. Вот она — самая таинственная из всех! Сидит перед тобой на стулике, поджав ножки, — наша дочь, наше с тобой создание. Что ты понимаешь в ее психологии, позволь тебя спросить? Что для тебя ее душа — потемки? А?! Отвечай же, чего молчишь? То-то, нечего вам сказать, уважаемая Мария Осиповна. В своем «невмешательстве» ты зашла так далеко, что совершенно упустила дочь из вида, перестала влиять на нее, оказалась слепой. Три года ты не могла обнаружить, что у твоей дочери роман — да что роман, ведь последнее время мы, оказывается, мешали ее счастливой семейной жизни. Ме-ша-ли, сами того не подозревая. Прекрасный результат, ничего не скажешь!
— А ты? — Мария Осиповна, подавленно, из своего угла. — Ты разве не был слеп, Аркаша?
— Был! Да, и я был слеп, но почему?! Разве ты не запретила мне контролировать духовную жизнь ребенка? Естественно, я… я упустил нить… утратил контакт. А потом было поздно. Как только девчонки начинают взрослеть и укорачивать школьную форму…
— Дашенька никогда этим не занималась, — сухо заметила Елена Игнатьевна.
— Был грех, бабуля, — весело кивнула ей Даша. — Мы с Лизой Черновой у нее дома над этим трудились, а ты не замечала…
— Слава богу, хоть остатки совести у нее есть — надеюсь, и я немного причастен к этому! — Аркадий Владимирович торжествующе изобразил пальцами спираль. — А вам бы лучше помолчать, — он укоризненно качнул головой в сторону тещи. — Вы ее больше всех и баловали, сами только что признали. Вы и Кешку разбаловать готовы, но тут я вам не уступлю, как хотите, парня я вам на растерзание не отдам… — Он перевел дух и вновь повернулся к Даше: — Но ты не радуйся, мой свет. Можешь, конечно, упрекать меня в нежелании услышать крик твоей души, в чем угодно еще, но знай: я, с детства привыкший с почтением относиться к самому простому человеку, если он этого достоин, я никогда не смирюсь с тем, что тебе заблагорассудилось искалечить свою судьбу, связавшись со стариком. Да-да, со стариком — мы тоже умеем называть вещи своими именами, не воображай, что это прерогатива вашего поколения. Мне отвратительна сама мысль о том, что этот человек обнимает мою дочь и при этом обворовывает ее, оставляет без будущего… Перед богом и людьми я заявляю: мы не имеем права равнодушно смотреть, как ты гибнешь. Скажи: ты способна была бы спокойно стоять на берегу и глядеть, как я или мать захлебываемся в быстрине? Способна? Отвечай! Способна?
— Наверное, нет, — нерешительно ответила Даша. — Но я почти не умею плавать, папочка, чем бы я смогла помочь?
— Это неважно! — крикнул отец. — Это совершенно неважно, умеет человек плавать или нет. Я тоже не умею плавать, я мог бы погибнуть, бросившись спасать тебя, но я не раздумывая кинулся бы в воду, заметив, что ты тонешь…
Очередное мое видение…
водоем в разрезе;
на дно тихо, блаженно опускается Дашенька в легком крепдешиновом платье;
внезапно, обгоняя дочь, вниз стремительно падает Аркадий Владимирович, в костюме, при галстуке, с муаровой лентой через плечо;
на ленте крупно — СПАСАТЕЛЬ;
заметив тонущего отца, Дашенька успевает схватить его за ленту и принимается упорно тянуть на поверхность, на лице у нее — отчаянная скука
— Что я тону… — задумчиво повторила Даша. — А скажи, пожалуйста, папа, ты случайно не обратил внимания на то, что я стала лучше за последние годы?
— Что значит — лучше? Похорошела?
— Говорят, и это есть, но тут уж не мне судить… Мне кажется, я стала ровнее держаться и на работе, и с вами, дома, ушли в прошлое мои бесконечные капризы, вечная неудовлетворенность чем-то, чего я часто сама объяснить не могла, я стала добрее…
— Допустим. Но что здесь особенного? Ты просто выравниваешься с возрастом. Да, я обратил внимание, что ты стала внимательнее к бабушке, к брату, даже позавидовал им, признаться, но все это я отнес за счет того, что ты взрослеешь, вот и все.
— Может быть, дело и в этом, только боюсь, что если бы я взрослела, как прежде, в одиночестве… Виктор Захарович всегда так внимателен и так… великодушен, что ли, ко мне. В наших отношениях нет и доли пристальной назидательности, стремления уколоть друг друга, все строится на полном доверии… А чем еще можно ответить на щедрую заботу о тебе, как не доброжелательностью, терпимостью…
— Выходит, ему удалось выправить то, что напортила семья, так, что ли?! — зло вскричала Мария Осиповна.
— Зачем так резко, мама? Неужели не понимаешь: я разрывалась между нашим домом здесь и нашим — там. Я же люблю вас, и меня тревожит то, как вы живете, особенно Кеша, его будущее… Семья не «напортила», конечно, а… как бы тебе сказать… В семье ко мне частенько придирались по мелочам, я обязана была делать то-то и то-то, моего мнения никто не спрашивал… А он обо всем со мной советуется, старается приноровиться к моим возможностям. Может быть, это и громко сказано, но он живет — для меня… и я тоже, конечно, живу — для него…
— Это правда, Дашенька? — спросила вдруг Елена Игнатьевна.
— Да, бабуля, чистая правда, я много над этим думала. И, ты знаешь, этим он немножко напоминает мне тебя….
— Вот и договорились! — снова зашелся Аркадий Владимирович. — Дорогая бабушка умилилась, еще немного, и она прижмет дорогую внученьку к груди своей. Трогательно, что и говорить, только я в этой мелодраме не участвую. Мой долг отца, Дарья, требует, чтобы я со всей откровенностью сказал тебе то, что кроме меня тебе никто не скажет: ты своими руками надеваешь петлю на шею. Прикажешь оставаться равнодушным только потому, что эта шея принадлежит лично тебе? Не выйдет! Не жди! Напротив, я сделаю все, что окажется в моих силах, чтобы вырвать тебя из лап этого проходимца, которому плевать на твою судьбу, не говоря уже о спокойствии целой семьи. При всех торжественно заявляю: тебе придется выбрать — он или мы. В доброе старое время, когда люди еще во что-то верили, я проклял бы тебя, надеясь, что хоть это тебя образумит. Сейчас проклятия не имеют смысла. Но я отлучу тебя от нашего дома — и никому не позволю помешать этому! Слышите? Ни-ко-му! — Аркадий Владимирович метнул взгляд на тещу. — Она, видите ли, станет изредка бывать у нас и даже помогать бабушке по хозяйству — благодетельница! Если тебя не трогают наши уговоры, если ты сама не желаешь образумиться, я собственноручно заставлю этого типа отказаться от тебя, даже если мне придется ради этого…
Он задохнулся. Достал носовой платок, вытер перекошенное лицо, повернулся ко мне.
— Вот сидит посторонний человек. Он хорошо к тебе относится. Настолько хорошо, что я, грешным делом, заподозрил, не он ли твой «предмет», когда ты вчера заявила, что уходишь… Я ошибся, и приношу нашему общему другу свои извинения. Но я надеюсь, что теперь, когда позиции прояснились до предела, когда стало ясно, что, невзирая на нашу любовь, наше отчаяние, наш гнев, ты продолжаешь упорствовать, я надеюсь, друг не оставит нас в беде. Он облечен доверием, и немалым, я бы сказал, государственным доверием, он выступает в прессе и всегда подписывает свои материалы, его статьи читают миллионы людей — и верят им. Так пусть он рассудит нас, пусть скажет во всеуслышание, должен ли я кротко молчать… Нет, не так: имею ли я право молчать, видя все это! Пусть скажет, в чем наш родительский долг. Я искренне хочу, чтобы ты услышала здесь голос человека, которому у тебя нет основания не доверять…
— Да… — обессиленно промолвила Мария Осиповна. — Мы, кажется, сказали уже все, что могли. Отец был резок, но его можно понять, он взволнован до глубины души. По сути же, я целиком с ним согласна. Тебе придется сделать выбор, Даша. Мне в дом такой зять не нужен, я не желаю его здесь видеть, понимаешь — не желаю! Надеюсь, на это-то я имею право…
— Не желаешь видеть?! — похоже, эти слова матери задели Дашу больнее всего. — Впрочем, так, верно, лучше. А он-то, дурачок, терзался тем, что никого из вас не знает — только по моим рассказам, — что не может оказать вам внимания…
— Обойдемся! — прервала ее мать. — Достаточно того, что он это внимание так беспредельно щедро оказывает тебе, вполне достаточно… Но пусть, действительно, скажет свое слово человек нейтральный, известный справедливостью и проницательностью своих суждений… Пусть скажет…
— Пожалуйста, голубчик, — шепнула с дивана Елена Игнатьевна. — Пожалуйста, скажите им, только помягче как-нибудь… Они же совсем ребенка затиранят… разве можно так… Стыд-то, стыд-то какой…
Все, кроме Даши, в упор глядели на меня, ожидая ответа, да что ответа — р е ш е н и я. Оказывается, я был приглашен вовсе не в качестве присяжного, в этом трибунале мне отводилась куда более значительная и зловещая роль: мне предстояло вынести приговор. Как же, ведь я опубликовал несколько очерков на темы морали… И дернул черт согласиться…
Они нетерпеливо ждали, что же возвестит оракул, а я упорно молчал. Мысли мои были далеко. Заключительная речь Аркадия Владимировича, помноженная на возникшее вновь желание покурить, в очередной раз заставила меня отключиться. Я забыл, где нахожусь, забыл о Дашеньке, о своей безусловной готовности защищать ее право на с в о ю судьбу… В моей памяти вспыхнули строчки единственного письма из переданной мне замом пачки, на которое я не сумел и не посмел ответить в своих знаменитых статьях. Строчки эти преследовали меня все последнее время, а сейчас…
Это было письмо матери, оставшейся навек одинокой из-за того, что ее единственный сын покончил с собой восемнадцати лет от роду.
Скорее всего, пытаясь спастись от одиночества, она и написала в газету, иначе трудно понять, на что рассчитывала несчастная, так подробно, с такой скрупулезной тщательностью исповедуясь в своей трагической ошибке.
Конечно же, она горячо любила сына и именно поэтому старалась уберечь его от дурных влияний. Ежедневно провожала мальчика в школу и, по возможности, встречала после уроков. Начала с детства проверять содержимое его карманов и его портфеля, не могла остановиться и продолжала заниматься этим недостойным делом и тогда, когда сын учился уже в старших классах — какое унижение для них обоих! Уводила его со школьных вечеров тотчас по окончании торжественной части или сама сидела в зале рядом с ним во время концертов самодеятельности. Разрешала ему приглашать домой товарищей только по ее выбору и самому посещать тех, кого она одобряла, в чьих положительных качествах и чьих семьях не сомневалась. Строго регламентировала время, которое сын имел право провести на катке или на велосипедной прогулке. Увидев его однажды во дворе разговаривающим с незнакомой ей девочкой, сделала все возможное, чтобы пресечь новое знакомство — навела справки и выяснила, что девочка эта из неподходящей семьи.
Мальчик был талантливый, тонкий, он прекрасно сдал экзамены в институт, рвался к жизни, а мать продолжала окружать его частоколом своих забот. Все так же шпионила — проверяла карманы, перелистывала тетради, вытряхивала по ночам портфель. Первая прочитывала адресованные сыну письма — кто пишет, зачем? Когда парня послали убирать картошку, отправилась вместе с ним. Требовала, чтобы, выезжая после занятий из института, сын звонил ей из висевшего в вестибюле телефона-автомата — научилась различать характерный для этого аппарата фон, — и хронометрировала время, потраченное на дорогу домой. Однокурсника, которого мальчик осмелился привести однажды с собой, не испросив предварительно разрешения, она выдворила только потому, что лицо юноши обросло бородой, а на ногах были плохо вычищенные ботинки…
И вот наступил вечер, когда, вернувшись домой, она обнаружила бездыханное тело так тщательно оберегаемого ею от всего на свете своего ребенка, существование которого, с ее точки зрения, было верхом благополучия — ведь у него было решительно все, о чем только может мечтать молодой человек… На столе лежал лист бумаги с небрежно начертанными на нем восемнадцатью палочками — по числу прожитых мальчиком лет. Какая-то замысловатая стрелка указывала «дальнейшее направление», под стрелкой стояло одно лишь слово: «Зачем?»
Пока курс, на котором совсем недавно еще числился ее мальчик, продолжал учебу, мать приходила на каждый экзамен, чтобы хоть несколько минут побыть с его товарищами, с помнившими его людьми, чтобы подышать воздухом, которым дышал сын. Всем, кто жил в общежитии, решительно всем его бывшим сокурсникам, даже тому бородачу, она предлагала переехать на время учебы к ним домой, занять е г о комнату, сулила свои заботы, домашние обеды… Все отказались один за другим.
Когда курс ее сына получил дипломы — она конечно же присутствовала при вручении, она поздравляла и плакала, — эта женщина, оставшись окончательно одна, прислала нам свою исповедь. В ее письме не был сформулирован какой-нибудь прямой вопрос, она не требовала от нас совета, как это сплошь да рядом случается, но все пространство между строчками издавало один непрерывный стон:
— Что мне делать, люди… Что же мне дела-ать?!.
Жаль, в нашем обществе не применяются публичные наказания: я предложил бы восстановить позорные столбы на больших площадях и выставлять у них таких вот доморощенных тиранов — с подробным описанием содеянного.
Это было бы единственно полезное, что эта женщина могла еще сделать; скорее всего, наказание облегчило бы и ее душу.
Я так страшно страдал, вспомнив это письмо, так глубоко погрузился в бездну, имя которой — отношения между людьми, что оцепенел; мелькавшие в моем воображении мысли-видения сливались в какой-то безумный вихрь. Когда Козловы один за другим обратились прямо ко мне, я, собрав все силы, попытался сбросить оцепенение — и не мог. В тупом ужасе фиксировал я, как окружавшие меня люди превращались в истуканов, как их лица трансформировались в маски нелюбимых персонажей Островского — заплывали жиром, теряли одухотворенность, овалы глаз заменялись щелочками, — как на женщинах оказались вдруг допотопные салопы, как по обеим сторонам стула, на котором развалился Аркадий Владимирович, повисли полы сюртука, а на животе его, обтянутом теперь цветастым жилетом, важно заколыхалась дутая золотая цепь…
Я судорожно огляделся. Нет, все было верно, вещи тоже требовательно звали в другую эпоху. Мебель стала причудливее, но и массивнее; вьющиеся растения возле балконной двери на глазах вырождались в коренастый фикус; стоявший на высокой тумбочке телевизор, прикрытый вышитой салфеткой, превратился в налой с образами — святые угодники подмигивали мне и грозили пальчиками; торшер в углу померк и стал испускать мягкий свет керосиновой лампы, а в небольшой хрустальной люстре замерцали стеариновые свечи… Даже собственные мои ноги, торчавшие, как обычно, едва не до середины комнаты, оказались неожиданно обутыми в смазные сапоги какой-то допотопной конструкции. Привычно проведя рукой по голове, чтобы успокоиться, я обнаружил там обильно смоченные чем-то вяжущим и липким длинные чужие волосы, разделенные по центру ущельем прямого пробора…
И посреди всего этого паноптикума, более всего напоминавшего уголок музея восковых фигур мадам Тюссо, который я с содроганием осматривал в Лондоне, сидела на стуле хрупкая молодая женщина, дитя двадцатого века, словно явившаяся нам, чумазым, из будущего, такая, какой ее сформировало целое столетие — всем остальным предстояло еще его прожить.
Не имея сил подняться и чувствуя в то же время, что без курева мне каюк, я сунул в рот сигарету, которую давно уже, сам того не замечая, мял в пальцах, щелкнул зажигалкой, затянулся наконец…
Но и это не помогло… Вместе со второй затяжкой я топнул ногой, и мой сапог бутылкой с грохотом обрушился на паркет…
Вот когда все всполошились! Лица-маски зашевелились, щелочки глаз стали понемногу расширяться. Наваждение вроде бы отступало… Я затянулся в третий раз.
— Что случилось? — донесся откуда-то голос Марии Осиповны. — Вам нехорошо? Курите, курите…
— Паноптикум… Не хочу присяжным… Позвольте мне выйти вон… — автоматически, не подключая сознания, бормотал я бессвязно. Быть может, эта расхожая болтовня и помогла мне подняться, с натугой, на ноги…
Хозяева, Дашенька в том числе, глядели на меня с изумлением.
— Мне очень плохо, — уже осознанно сказал я, ощутив наконец на ногах не сапоги, а уютные домашние тапочки. — Пойду прилягу, пожалуй…
Все ошеломленно молчали.
Неверными шагами я выбрался в небольшую прихожую и стал шарить рукой по двери — вся середина ее была увешана разной величины и формы затворами. Ни один не поддавался, в прихожей скопилась полутьма, я задыхался — чьи-то проворные лапки душили меня, пытались остановить сердце…
— Откройте! Скорее! — из последних сил воскликнул я.
Мелькнула чья-то обнаженная до локтя рука, Дашина как будто, дверь распахнулась, и освещавшие площадку лучи заходящего солнца окончательно вернули мне ощущение реального мира.
Переступив порог, я торопливо, с каким-то сладострастием захлопнул за собой проклятую дверь.
Вошел к себе, прилег на кушетку, яростно продолжал дымить.
Полного успокоения мне солнце не принесло; в мое окно оно било изо всех сил, но дрожащие, скачущие буквы и неровные строчки письма несчастной матери горели, словно на экране, на стенах, на потолке — повсюду.
Я был далек от непосредственных параллелей. Я знал, что Дашеньке не восемнадцать, а двадцать четыре или даже двадцать пять, я своими ушами слышал, как спокойно парировала она все упреки и угрозы, я не сомневался в том, что она пойдет своим путем. Опечалится непримиримостью дорогих ей людей, но пойдет: она-то ведь давно уже покончила со всеми сомнениями…
Я прекрасно понимал все это, и все же… Имел ли я право оставить ее одну?
Буквы на стене постепенно стали меркнуть, я рассуждал все хладнокровнее. Вот ведь что интересно: с теми, кто осуществляет опеку, трагедии уже не произойдет, их жизни худо-бедно состоялись… А вот с теми, кого опекают… Допустим, счастье Даши окажется недолгим. Что это меняет? Разве не может случиться, что счастье это окажется единственным во всей ее долгой жизни, что эти месяцы согреют потом годы одиночества или, еще хуже, десятилетия привычки… У нее-то как раз будет, что вспомнить — не наряд на свадьбе, т а к о й ж е, к а к у в с е х, а свое, теплое, родное, невыдуманное, реальное счастье. Счастье это выстрадано ею, она в нем уверена… Отказаться от того, что уже есть, во имя призрачной надежды, что у нее получится «как у людей»?..
Но не тираны же Козловы, не изуверы какие-нибудь. Милые, вполне современные люди, желающие добра дочери и внучке, они так уверены в своей правоте, что… наверняка отбросят, не задумываясь, все мои сомнения и все прозрения, мелькавшие в моем мозгу, пока длилось заседание трибунала, если бы я даже решился им все это высказать.
Жаль мне их, так бесконечно жаль…
А ловко я все-таки вырвался из западни, ничего не скажешь!
Но Даша, Даша осталась…
С мыслью о Дашеньке я задремал. Удар грома разбудил меня. Солнца не было и в помине, черная туча висела над городом, ливень хлестал как из ведра, а на балконе сохла моя скромная мужская стирка…
Вскочив с кушетки, я кинулся снимать белье. Случайно бросил взгляд вниз и увидел, как из нашего подъезда вышла Даша. Без зонта, словно слепая, она двинулась прямо под потоки воды. Ее ноги в легких туфлях вяло шлепали по мгновенно покрывшемуся лужами асфальту.
«Бедная девочка», — подумал я и уже собирался спрятаться назад, в сухую комнату, но в этот момент из росших на газоне кустов сирени вырвался мужчина высокого роста и кинулся к Дашеньке. Судя по тому, что мужчина был насквозь мокрый, можно было предположить, что он стоял там уже давно.
Торопясь навстречу Даше, мужчина зацепился ногой за ограждавшую газон толстую проволоку, споткнулся, упал…
— Витенька! — донесся до меня Дашин голос.
Она подбежала к поднимавшемуся с земли человеку, ее руки заботливо отряхнули его, мокрого, потом она прижалась лицом к его мокрой груди.
Зависть пронзила мне сердце.
Мужчина судорожно обнял ее, расстегнул торопливо плащ, не снимая, накрыл им Дашеньку с головой, и так вот, прижавшись друг к другу, они медленно двинулись по направлению к улице и стали исчезать за стеной дождя.
Я стоял не двигаясь — боялся спугнуть в себе что-то. Зависть прошла, мне было стыдно и радостно очень.
В это время на соседнем балконе раздался сдавленный вскрик.
Я осторожно повернул голову и увидел Елену Игнатьевну. Вцепившись в жиденькие перила, она не отрываясь глядела туда, куда только что смотрел я. По растрепавшимся седым волосам ее и сморщенному лицу на старенькую кацавеечку стекала вода.
ВАРЬЕТЕ
Федор Иванович Рябов попал в варьете случайно.
Рябов вел регулярную жизнь; ни один из ее привычных циклов ничего похожего на посещение варьете не предусматривал.
Заглянуть в ресторан в другом городе, в дни командировки или летнего отдыха, было нормально; пообедать изредка в какой-нибудь местной харчевне со школьным приятелем или нагрянувшим из столицы начальством тоже было в порядке вещей.
Но тащиться в некое сомнительное заведение специально, вечером, после работы, с компанией знакомых, родственников или, тем более, с кем-то из домашних?.. Старинное русское: раз ресторан — значит, кабак — продолжает довлеть над нами.
Тем более дома супруга стряпала хоть куда, и занималась этим охотно: искала в кухонных премудростях отдыха от назойливых буквочек, цифр, слов и формул, долгие годы мертво мелькавших перед ее корректорским взором. Особенно удавались Ксении Петровне салаты, их было в ее арсенале до двадцати сортов; умело экспериментируя, она продолжала изобретать все новые. Трудно сказать, что побуждало ее к этому, во всяком случае не стремление угодить мужу.
Сам же Рябов был, можно сказать, гурманом по профессии. Как раз к тому времени, что его назначили директором небольшой кондитерской фабрики, он пришел к пониманию простейшей истины: наедаться до отвала означает всего-навсего лишать себя первозданной радости голодания. Он сформулировал даже для домашнего употребления скромную жизненную философию, основанную на принципе: вкусно есть и не жиреть — в буквальном и, если угодно, в переносном смысле.
Стоит ли удивляться тому, что варьете Федор Иванович посетил впервые, когда ему стукнуло верных сорок четыре?
Людочка, доченька, с толку сбила.
— Папуля, — вкрадчиво сказала она, вручая отцу новехонький диплом об окончании института. — Как думаешь, не обмыть ли нам эти корочки?
— Давай! — обрадовался Рябов. — Устроим сабантуй. Родню соберем и подружек твоих. Отметим.
Его огорчало, что друзья у Люды были исключительно женского пола. И выпить толком не с кем, и девочка все одна… Дымит вон, бедняжка, изо всех сил, а отчего? От нарушения исконных законов природы, от «физиологического перекоса», говаривал один старый доктор…
— Нет! — отрезала Люда. — Надоели! Не желаю ни родни, ни этих дурех — тем более многие уже разъехались. Мой день или не мой?!
Характер у дочки был решительный.
— Как же обмывать станем?
— Поведи меня в ресторан.
— В ресторан? Пообедать? — изумился Федор Иванович.
— Нет. Вечером. В варьете.
— Куда-куда?
— Господи! В больших ресторанах есть теперь варьете с программой. Артисты выступают.
— У нас в городе?
— Ну! Ты каждый раз словно с луны сваливаешься, папочка!
«Ишь, как с отцом заговорила, — подумал Рябов. — Что диплом-то с человеком делает…»
К науке, книгам, высокому образованию Федор Иванович тоже выработал свое, особенное отношение; сам он ограничился было техникумом, но потом, будучи выдвинут на руководящую работу, закончил вечернее отделение института. Книг Рябов, честно говоря, не читал — ни времени особого не было, ни охоты. По поводу книжного бума — недоумевал. В то же время он прекрасно понимал, что человек, дружащий с книгами, получает немалое преимущество перед тем, кто, как он сам, бредет по жизни в одиночку, и к дочери-студентке испытывал невнятное уважение, отдаленно напоминавшее давно умчавшееся в прошлое восхищение бедняков своими «выбившимися в люди» детьми.
В последнее время он говорил с дочкой особенно бережно и мягко, словно в чем-то оправдывался.
— Нет, почему же, я слышал… Рекламные щиты видел. Только думал — это для иностранцев.
— В первую очередь, конечно, для иностранцев, — со знанием дела разъяснила Люда. — Но вообще-то пускают всех.
— И ты хочешь, чтобы мы в т р о е м туда пошли? — спросил Федор Иванович, призывая неразумное дитя опомниться.
— Нет, не втроем. Вдвоем. Без мамы. Взрослая я или нет, в конце-то концов?!
Явное нежелание Люды пригласить и мать вызвало У Федора Ивановича грустную мысль о грядущей несовместимости взрослой дочери, захватывающей самостоятельность, с давно уже и навсегда повзрослевшей женой. Мысль эта поразила Рябова наповал. Он понял вдруг, что единственная дочь покинет их дом при первом удобном случае, и тогда… Тогда он останется с Ксенией Петровной один на один. Причем останется, в сущности, даже не с той, кого он много лет прилежно любил, а с малоприятной дамой, в которую Ксюша теперь превратилась…
«Как в фамильном склепе!» — в тоске подумал он и ощутил себя глубоким старцем. Дочь, и только она одна была соломинкой; за нее Федор Иванович мог еще надеяться ухватиться. «Родит же когда-нибудь, внуков нянчить стану…»
— Я-то с удовольствием, — произнес он, — а вот как мама…
— Маму я беру на себя, — заявила Люда. — Собственно говоря, я ей уже все объяснила.
— И что же?
— Ничего. Мама будет рада, если мы с тобой развлечемся немного.
— Так и сказала?
Люда не удостоила отца ответом.
— Брось трепаться! — хохотнул Федор Иванович.
Реакция была та же.
— Ну, не злись, не злись… И когда бы ты хотела пойти в это самое варьете?
— Послезавтра.
— Так сразу?! — Федор Иванович раскрыл записную книжку. — М-м… Послезавтра совещание. Возможно, я задержусь…
— Отмени. Или освободись пораньше. Там в девять начинается, я узнавала.
— Что начинается-то?
— Варьете! — Люда начала терять терпение. — Артисты в девять начинают выступать.
— А-а, ну конечно… Я решил, что в девять ноль-ноль все берут старт водку пить, — попробовал пошутить Федор Иванович, но, заметив, что шутка успеха не имела, поспешил добавить: — К девяти мы всяко поспеем.
— Столик надо заказать заранее, можно по телефону, — сказала предусмотрительная Люда.
«Деловая девка, хоть этим — в меня», — одобрил Федор Иванович.
Вечером он стал обзванивать рестораны, в глубине души все еще надеясь, что из этой странной затеи ничего не выйдет. В «Интуристе», действительно, недослушав, сухо проронили: «Мест нет». На поплавке как раз послезавтра «проводили мероприятие». Но в ресторане при гостинице «Двина» кто-то неожиданно любезно — на этот раз Федор Иванович догадался представиться — согласился оставить столик на имя Рябова, только просил не опаздывать.
— Будьте покойны, — заверил Рябов; неожиданный успех не обрадовал, а лишь слегка ошеломил его.
Скромный человек, он терпеть не мог козырять служебным положением; на сей раз пришлось нарушить привычную линию поведения — это было досадно. Рябов вспомнил, как совсем недавно, во время очередного совещания, он, выслушав выступление директора смежного производства, любившего погарцевать, не удержался и явственно произнес: «Слон…» Потом смутился, на недоуменные расспросы соседей отвечал туманно, что, дескать, слона в цирке знают тысячи остающихся безвестными людей и соревноваться со слоном в популярности бессмысленно.
Похоже, на этот раз в роли слона выступил он сам.
А что поделаешь?
Вечером, перед сном, он решил все же самолично выяснить, как относится к идее дочери Ксения Петровна.
К его удивлению, почва и впрямь оказалась подготовленной.
— Сходи, сходи с девочкой, — добродушно промурлыкала супруга, втирая в толщу лица добрую пригоршню крема «Женьшеневый». — Этот день запомнится ей до глубокой старости. Отец и взрослая дочь — в этом есть что-то… традиционное.
Ксения Петровна обожала выражаться красиво, но неточно.
— Что ты имеешь в виду? — на всякий случай переспросил Рябов.
— Ну… в духе классических романов… и вообще — традиций… — умиленно произнесла супруга. — Наташа Ростова и старый граф…
«Куда хватила!» — подумал Федор Иванович, но вслух, как всегда, ничего не сказал и отгородился от мира толстым журналом, над которым благополучно засыпал уже второй месяц.
Вопрос был исчерпан.
Все следующее утро Рябов исподволь приучал себя к мысли о посещении варьете; ему всегда нужно было время, чтобы свыкнуться с очередным новшеством, тогда оно переставало отпугивать.
Да и почему бы, собственно, не кутнуть? Скупостью Федор Иванович не страдал, деньги у него как раз имелись — прогрессивку получил, вот она, тепленькая, — прогрессивка уходила обычно на расходы под рубрикой «сам знаю на что», — и он решил развернуться.
Пусть запомнится девочке, пусть.
В обеденный перерыв Федор Иванович стал прикидывать, как правильнее ему завтра одеться. Над костюмом размышлять особенно не приходилось, приличная пара у Рябова всю жизнь была только одна, но костюм — полдела. Надо было подобрать соответствующие этому непонятному случаю рубашку, галстук… Следует ли выглядеть солидно в таком легкомысленном месте?
Варьете…
Попутно вскочила в голову нелепая мыслишка: вдруг засекут… «Так не с кем-нибудь, с дочкой, — успокоил себя Федор Иванович. — Хе-хе!» — он даже руки потер, представив себе, в какую лужу сядет неведомый злопыхатель.
На третий день он окончательно созрел и готовился к вечеру с известным подъемом.
Совещание провернул в два счета. Примчался домой. Есть не стал, чтобы сберечь аппетит. Заказал на восемь тридцать такси — в служебной машине Рябов ездил исключительно по служебным делам. Весело напевая, принял душ. Побрился — второй раз! Тщательно причесался.
Ксения Петровна наблюдала за мужем с раздражением, плохо скрываемым под личиной иронии. Вполне современная женщина, усталая, даже измотанная, пожалуй, она давно уже не любила Рябова и лишь по инерции исполняла роль семейного деспота — кто-то же должен! На самом деле именно тихое существование в недрах семьи стало для нее блаженством. По утрам, когда муж и дочь спали и в квартире царила уютная тишина, она любила постирать мелочи, рубашки Федора Ивановича, заветные тюлевые занавески. Продолжая наслаждаться тишиной, она пила кофе и готовила всем завтрак, потом не торопясь шла до автобуса, а потом… Потом вздымался штормовой вал очередного рабочего дня, обрушивавший на нее новые тонны нервных тревог; даже в обед не было перерыва: пробежаться по магазинам, купить что-нибудь, на вечер, на завтра — покупки можно было хранить в холодильнике, приобретенном, по просьбе женщин, заботливым месткомом.
Она и в обычные дни имела основания завидовать беззаботному существованию дочери, а сегодня суетня, затеянная словно нарочно, особенно раздражала ее. Как им все просто, все легко… Ксения Петровна сожалела уже о легкомысленно данном согласии отпустить дочь и мужа вдвоем. Искоса поглядывавший на супругу Федор Иванович не сомневался, что, если бы речь шла только о нем одном, она нашла бы, к чему придраться, и… Но главным заинтересованным лицом была Люда.
Причесываясь, Рябов улыбался — в душе.
Такси подали минута в минуту, а это всегда хорошее предзнаменование. Федор Иванович открыл дверцу, пропустил дочку вперед, лихо подсел к ней на заднее сиденье и неожиданно почувствовал себя моложе. Вяло плюхаясь каждое утро рядом с водителем служебной машины, он ничего подобного не испытывал.
Ощущение было приятное.
В вестибюле гостиницы «Двина» гостей встречал директор ресторана. То есть не то чтобы специально встречал, нет-нет, сказать так было бы преувеличением, но директор стоял на пути, по которому непременно надо было пройти посетителям, неторопливо беседовал с какой-то владетельной особой женского пола, а сам зорко поглядывал по сторонам.
Не имея понятия, в каком углу холла находится дверь в ресторан, Федор Иванович спросил об этом у директора, и тот любезно указал направление, осведомившись при этом о фамилии. То есть он не спросил прямо, такого, конечно, быть не могло, а исподволь, намеком, поинтересовался — как, дескать, у вас вообще… с билетами? Тогда Федор Иванович сказал, что он — Рябов и что ему… «Какжекакже!» — провозгласил директор и улыбнулся так широко, словно облагодетельствованный им клиент был то ли его любимым детищем, то ли фантомом, собственноручно созданным директором из ничего. «Какжекакже, билетики вам оставлены. У входа стоит столик, а за столиком администратор…» По этим словам Федор Иванович, собственно, и определил, что перед ним сам директор, а определив, немало порадовался тому обстоятельству, что в наших ресторанах стали появляться и такие вот обходительные, рачительные хозяева.
Надо заметить, что Федор Иванович с того самого момента, как у него приняли заказ на столик, побаивался, как бы с него не потребовали… взаимности. Мы тебе, к примеру столик, а ты нам — ящичек орешков в шоколаде, уж будь так любезен… Но директор ресторана ни на что подобное не намекнул, и это обрадовало Рябова еще больше.
У самого входа в ресторан стоял стол — директор не обманул, — и едва Федор Иванович заявил, что он Рябов и ему… «Какжекакже! — воскликнул сидевший за столиком бледный молодой человек и как будто даже привстал немного. — Вам оставлен лучший столик, прямо против сцены», — и он протянул гостю билеты с номером 37, а когда Федор Иванович спросил, сколько он обязан, молодой человек назвал какую-то смехотворную сумму, и Рябов вновь был приятно удивлен.
А в дверях уже осклабился толстый швейцар, даже фуражку с галуном вроде бы приподнял с лоснящегося лба, и, когда Федор Иванович доверительно сообщил ему, что они идут в варьете, и показал билеты, швейцар любезно профыркал «какжекакже!» и сделал непередаваемый жест в сторону гардероба. Там, тоже пришептывая «какжекакже!», почтенный хромой гардеробщик мигом принял их с Людой легкие пальто; номерок Федор Иванович заботливо упрятал в карман.
Приведя в порядок прически, отец и дочь стали подниматься по крутой лестнице, уставленной вьющимися растениями и устланной красивой ковровой дорожкой. Они миновали середину лестничного марша, и до них стал доноситься приятный рокот большого собрания сдержанных, хорошо воспитанных людей. Они добрались до верха, и гигантский зал ресторана открылся перед ними во всем своем великолепии.
Оглядеться времени не было. Им навстречу устремилась миловидная дама в форменном костюме — ее можно было бы принять и за стюардессу, если бы не кружевное жабо и отнюдь не летные габариты. Дама пожелала взглянуть на их билеты, и Федор Иванович тотчас догадался, что перед ними не кто иной, как метрдотель.
«Какжекакже!» — низким контральто исполнила дама; гордо, но вместе с тем и приветливо покачивая бедрами, она пошла вперед, взглядом пригласив гостей следовать за собой.
Столик, к которому она подвела Рябовых, и впрямь находился как раз напротив сцены и был таким нарочито лучшим в зале столиком, что Федор Иванович и Люда, не сговариваясь, почувствовали себя неуютно. А тут еще кавказские люди, в изобилии восседавшие по соседству в обществе крашеных блондинок в платьях с золотыми поясами, стали кидать в сторону Рябовых целые гроздья завистливых и липких взглядов, хотя, ей-богу, их столы были расположены если и хуже столика номер тридцать семь, то разве самую малость.
— Папа, я не хочу здесь сидеть, — сказала Люда.
— Д-да, тут как на лобном месте, — задумчиво произнес Федор Иванович. — А где бы ты хотела? — спросил он, озираясь по сторонам.
— Вон там, сбоку, у стены, за колонной, есть свободный столик. Может, поменяем?
— А что, это мысль, — Федор Иванович вновь оценил рассудительность дочери. — Посиди минутку, сейчас узнаю.
Он подошел к метрдотелю, извинился за то, что вторично ее беспокоит, и передал желание дочери.
— Вон тот? — не поверила дама своим ушам. — В углу? Но этот столик не обслуживается, он у нас резервный.
— Может быть, в порядке исключения… — намекнул Федор Иванович, избалованный оказанным ему приемом.
— Вы же оттуда ничего не увидите.
Срок действия «какжекакже» явно истекал.
— А есть на что поглядеть? — мило пошутил Рябов.
— Еще бы! — Метрдотель улыбнулась так кокетливо, словно сама собиралась выступать в программе. — Ну, что же, садитесь в уголок, раз вам так хочется. Я скажу, чтобы вас обслужили.
Рябов поблагодарил, и они с Людмилочкой заняли уютный столик за колонной, и сидели там, как в ложе, и видели всех, а на них не глазел никто, и они дружно закурили, и молодой долговязый официант, жертва акселерации, долго принимал у них заказ, и каждый раз, как Федор Иванович спрашивал его мнение о каком-нибудь блюде с особо замысловатым названием, трагическим шепотом сообщал, что он не в курсе, ибо работает всего лишь первый день, и Рябов с Людой весело смеялись, и завершили все-таки свой праздничный заказ, и официант удалился, а в зале немедленно пригасили свет, словно программа не начиналась исключительно потому, что они не успели выбрать меню для своего ужина.
В полутьме стало еще уютнее.
Оркестр заиграл бравурную увертюру, и Федор Иванович обратил внимание на то, как хитроумно вмонтированы в оформление сценической площадки медальоны с популярными видами их родного города; теперь медальоны высветили все, до единого, и они сразу стали заметнее. Потом вышел ведущий, и в его скромном тексте тоже оказались остроумные намеки в адрес неповторимых уголков городского пейзажа. Появилась сильно декольтированная певица, и в спетой ею милой песенке было немало взволнованных слов о беломраморных колоннах, узорных решетках и белых ночах.
Федор Иванович почувствовал себя привычнее, можно сказать, оказался окончательно в своей тарелке, и тогда он отметил, что люди вокруг вели себя как-то особенно степенно; те же кавказцы и их белокурые подруги тихонько ужинали, и разговаривали вполголоса, и деликатно отпивали из бокалов, рюмок и фужеров разных оттенков и разной величины — в соответствии с этикетом, очевидно, — и все это, вместе взятое, привело Рябова в еще более благодушное расположение.
Потом и они с Людой стали пить шампанское, если и не замороженное, то охлажденное, и уж ни в коем случае не теплое, и стали есть икру из металлических вазочек, и заедать икру несколькими сортами салатов, поданных в миниатюрных салатничках с миниатюрным же медным всадничком на каждом из них, и еще маслинами, а также другими вкусными вкусностями. И все это время исполнители в ярких костюмах сменяли на эстраде друг дружку, и музыка гремела не переставая, и все было как в театре и в то же время вроде бы и по-домашнему: зрители не сидели сложа руки, а были заняты самым привычным домашним делом — едой.
«Как при телевизоре» — пришло в голову Федору Ивановичу. Люде он своего наблюдения сообщать не стал, предположив, что та его не поймет, а если поймет — не одобрит.
С начала представления прошло немало времени, прежде чем Федор Иванович понял, что гвоздем программы были вовсе не солисты, а восемь молодых женщин; то и дело выбегая на публику, они исполняли разные замысловатые танцы, лихо сочетая привычные эстрадные и опереточные па с изящными спортивными телодвижениями. За вечер у восьмерки было девять или даже десять выходов, и каждый раз на исполнительницах были другие костюмы: то закрытые — то весьма откровенные, то романтические — то эксцентрические, то они изображали гусар — то резвых лошадок…
Никак не ожидавший, что «герлс» будут так прилично сложены, а их танцы с таким вкусом поставлены, что все вместе и каждая в отдельности они так ему понравятся и подействуют на него так… чарующе и бодряще, что им удастся без видимых усилий создать в огромном зале особую атмосферу интимности, Федор Иванович не без удовольствия наблюдал за движениями гибких тел, едва прикрытых лоскутами недорогой материи, и аплодировал вместе со всеми, и даже провожал особо пристальным взглядом одну из девушек — уходя со сцены, они гуськом пробегали метрах в четырех-пяти от столика, за которым сидели Рябовы.
Во время первого выхода лица восьмерки слились в одно; во время второго эта танцовщица ему смутно кого-то напомнила. Он не собирался вдумываться и выяснять, кого именно, — ему так легко дышалось, так смертельно не хотелось вновь вникать во что-то обыденное, бытовое, конкретное. Но имя, отчество и фамилия женщины были тут же услужливо вынесены на поверхность каким-то его десятым чувством. И тогда Рябов вздрогнул, стиснул салфетку и стал вглядываться в уходившую за кулисы артистку варьете, с каждым разом все более пристально: решал — она это или не она?
Условия задачи были столь невероятны, столь чудовищно бессмысленны, что и решать-то ее не имело вроде бы никакого смысла.
И все-таки…
При видимой простоватости, Федор Иванович был вовсе не простой человек. Он легко мог допустить, к примеру, что не знает чего-то такого, что человеку его положения знать безусловно следовало, — прошляпил, не изучил вовремя приказ, инструкцию, циркуляр; в этих случаях он без звука признавал свою недоработку, оплошность. Но никогда в жизни не позволил бы себе Рябов унизиться до того, чтобы усомниться в правильности своих ощущений. Инстинкт подвести его не мог, это он знал твердо еще со школы. В шестом классе он пересел на парту к девочке, которой всей душой симпатизировал, пересел в тот самый день, когда ей, под давлением классной руководительницы, было за «безнравственность» объявлено что-то вроде бойкота. У Феди не было никаких особенных причин для такого вызывающего поступка — просто он был уверен в том, что девочка стала жертвой недоразумения или наговора; он не размышлял на эту тему — он это почему-то твердо знал.
А потом? Сколько малодоступных перевалов покорилось Рябову вовсе не в силу его исключительных способностей, а потому лишь, что он был твердо уверен в безошибочности своего восприятия… Скольким подчиненным помог он уже как директор, ибо стойко верил тем, в ком не сомневался, и с принципиальным недоверием изучал порочившие людей бумажки.
Вот и эту очередную задачу из раздела «человек» он решал с привычным упорством, хотя, надо признать, задачка обрушилась на Федора Ивановича в самый неподходящий момент; решал «между делом» — Людмила ничего не должна была заметить. Вспотел, правда, немного.
И было отчего. Удостоверившись визуально в том, что эта девушка, эта танцовщица в так называемом варьете несомненно была главным бухгалтером вверенной ему фабрики Вероникой Анатольевной З., Федор Иванович был вынужден мгновенно перестраиваться, едва только «кордебалет» скрывался из виду, ибо и ребенку было ясно, что это создание с распущенными волосами никоим образом не могло быть Вероникой Анатольевной.
Наваждение да и только. «В черном лесу черная речка течет, по черной реке черный пень плывет, на черном пне черный черт сидит, черными глазами на черный свет глядит, черные слова говорит…» — лезла в голову запомнившаяся с детства ворожба.
«Сестра-близнец? Двойник?» — морщил лоб Федор Иванович. Нет, нутром чуял — она!
И все же это никак не могла быть З. — скромная, подтянутая, педантичная даже сотрудница. Чуть ли не на каждой оперативке, где речь заходила о трудовой дисциплине, Веронику Анатольевну ставили в пример, и вполне заслуженно.
Не красавица, конечно, далеко не красавица, лицо слишком уж строгое, «святое», глаза небольшие, нос курносый, но что это, собственно, решает? Зато какие волосы! Зато сложена, как богиня, — сейчас Федор Иванович имел возможность досконально в этом убедиться, и, никуда не денешься, фигура женщины потрясла его, хотя вообще-то они виделись почти ежедневно; на днях З. лично, заменяя ушедшего в отпуск кассира, принесла ему в кабинет прогрессивку.
Правда, Рябов и раньше не уставал восхищаться тем, с каким вкусом она одевается, — никаких финтифлюшек, ничего лишнего и в то же время… Но это совсем другое дело. По сути, он впервые разглядел в Веронике Анатольевне не сотрудницу — женщину.
А что означает для мужчины неожиданно увидеть в товарище по работе или по учебе женщину? Это означает — заинтересоваться ею.
Понимают ли женщины, исступленно утверждающие себя профессионально, что с каждой ступенькой служебной лестницы они теряют частицу своего обаяния? Отдают ли себе отчет те, кто замужем, что, благополучно утвердившись на ответственной должности, они сами подчас невольно подталкивают своих мужей к существам более субтильным, по старинке делающим ставку на то, что теперь принято называть «личной жизнью»?
Яснее ясного: если женщина ведет большое собрание или делает на нем основной доклад, она удовлетворяет этим свое честолюбие — в зале сидят другие женщины, неспособные подняться на такую высоту. Только — не слишком ли дорогой ценой? И — то ли это дело, каким женщина должна гордиться? Руководить почетно, спору нет, но ведь этим могут заниматься и мужчины. А что делается у вечно председательствующей в семье? Кто воспитывает ее детей? Как часто, размышляя высокопарно о судьбе следующего поколения, мы предаем забвению ту простую истину, что в жизни нашей существуют позиции, где матери — незаменимы.
Нет-нет, мы не против вдумчивого отношения женщин к своему труду; есть даже профессии, подвластные только женщинам. Но мы за то, чтобы работа не засушивала их сердца, не высасывала из них все соки и не подавляла в них возможность и желание воздействовать на окружающих своими чарами с максимальной силой, дарованной им природой. Этот момент кажется нам необычайно важным, мы уверены, что от него зависит и прочность семьи, и жизнь всего общества в целом, и даже, в известной степени, его завтрашний день; во всяком случае, лицам, причастным к социальному планированию, никак не следовало бы этот момент игнорировать.
Кто знает, быть может, и Федору Ивановичу Рябову не пришлось бы в тот вечер так терзаться, если бы он давно уже сумел разглядеть получше своего главного бухгалтера. А то, видите ли, открыл в ней наконец женщину, и…
В ней? Да полно, она ли это?
Проще всего было бы встретиться с ней взглядом, но, как назло, столик глубоко прятался за колонной, мгновения, когда Вероника Анатольевна могла заметить Рябова, были слишком краткими, а шли со сцены танцовщицы, все, как одна, потупя взоры, — так полагалось, вероятно.
Да, вот если бы она увидела его и узнала! — все немедленно прояснилось бы, а так… Не надо было столик менять!
Напряжение нарастало. «Ночка-то темная, лошадь-то черная, еду, еду, да пощупаю, тут ли она…» — опять поползла в голову чертовщина.
Тут Федор Иванович поймал себя на таком размышлении: совместить танцовщицу с Вероникой Анатольевной он не может вовсе не потому, что в обычной жизни она бухгалтер — он так ошалел уже от неразберихи, что готов был примириться с этим нелогичнейшим из нелогичных фактов, — а главным образом все-таки из-за безукоризненной репутации этой женщины, из-за того, как сумела она себя поставить. Характеристики — одна другой краше, слывет исключительно принципиальной, ее даже побаиваются, запросто выступает на самых ответственных совещаниях — и всегда толково; безотказно ездит на овощную базу, в подшефный колхоз, посещает занятия по гражданской обороне, от которых все отлынивают, — словом, не только деловые, но и моральные качества З. не подвергаются в коллективе ни малейшему сомнению. Правда, Вероника Анатольевна, несмотря на верных двадцать пять, а то и двадцать шесть лет, в браке, насколько ему известно, не состоит, но…
Федор Иванович подумал вдруг почему-то о собственном браке, поежился было, но сразу же разразился хохотом: представил на месте проходившей мимо З. Ксению Петровну, выступающую в таком вот костюмчике в варьете.
— Ты чего? — рассеянно спросила Люда, не спускавшая глаз с эстрады.
— Да так… забавно… — машинально ответил он.
«Как же быть?» — мучился бедняга. Программа шла к концу. Рябов вертелся на стуле; во время очередного прохода «герлс» он привстал было в надежде поймать все-таки взгляд заинтриговавшей его танцовщицы, но толку из этого не вышло никакого, только Люда вновь удивилась.
— Померещилось… знакомое лицо… — пробормотал он. Сел на место и вставать уже не решался.
Так что единственным реальным результатом затянувшегося расследования было восхищение пропорциональным, полным энергии и свежести и таким удивительно — почему удивительно?! — стройным телом молодой женщины. Рябов не думал об этом специально, голова была занята; восхищение накапливалось помимо него и постепенно занимало рубежи, прочности которых Федор Иванович пока еще не сознавал; с концом программы восхищение не улетучилось.
Исполнив на прощанье что-то пронзительно лирическое, девушки ушли за кулисы в последний раз; вспыхнул яркий свет, оркестр вновь загремел вовсю — начались танцы для всех желающих.
Федора Ивановича удивило, что с изменением освещения круто изменилась вся обстановка в зале. Словно отбросив обет благопристойности, резко, обильно, гортанно заговорили кавказцы, визгливо захихикали их партнерши в золотых поясах, менее сдержанными стали жесты и гостей, и официантов, более нервным — звон бокалов. После же того, как музыканты исполнили что-то особенно ритмическое — этот танец был чуть ли не всеобщим, — в строгом механизме зала и вовсе что-то разладилось. Рябов поискал глазами директора, администратора или хотя бы метрдотеля, но никого из них не увидел.
«Неужто все они — как будто?» — огорчился Федор Иванович. Он давно уже придумал для себя, что, наряду с обычными гражданами, существуют люди, у которых все «как будто» — как будто интеллигентно, как будто весело, дружно, умно, как будто они преданы своему делу, как будто добры, как будто неравнодушны… Рябов терпеть не мог подобных субъектов, всячески избегал их, а на фабрике делал все возможное, чтобы избавиться от таких подчиненных; это не всегда ему удавалось, и потому он не любил лицемеров еще больше.
Молодой человек в потертых джинсах, сидевший за одним из самых развеселых столиков, подошел пригласить Люду на танец. Федор Иванович обрадовался было — и девочка пококетничает, и он сможет побыть наедине со своими запутавшимися вконец мыслями, — но, к его удивлению, Людмила лишь скользнула по кавалеру равнодушным и отчасти высокомерным взглядом и проронила несколько словечек, невнятно обозначавших, что она не танцует.
— Чего это ты? — спросил Рябов, когда молодой человек, подергиваясь в такт музыке, удалился.
— Мне и так неплохо, — ответила Люда. — Эти развязные мальчики только раздражают меня…
Чокнувшись с отцом, она сделала добрый глоток шампанского; к этому времени они приканчивали вторую бутылку.
Федору Ивановичу вспомнилась жизнерадостная пляска в городе Витебске — он недавно был там в командировке. Пока он ужинал, в ресторане местной гостиницы начались танцы. Небольшой оркестр заиграл что-то, как две капли воды похожее на то, что исполняли здесь сейчас, и Рябов с интересом ждал, кто же пригласит танцевать его соседок по столику, местных жительниц, — мужчин в зале было маловато, а его соседки хоть и приоделись, но особой привлекательности этим, увы, не достигли. Заслышав музыку, женщины встрепенулись, все вместе поднялись, проследовали на середину зала и присоединились к лихо отплясывавшим там уже, каждая в одиночку, каждая что-то свое, другим женщинам. В одиночку?! Федор Иванович был буквально потрясен таким простым решением неразрешимой, казалось бы, проблемы. А витебские дамы не только плясали, но и пели при этом, пели и люди, оставшиеся сидеть за столиками, и эта всеобщая пляска и дружное песнопение открывали любому желающему возможность включиться в непринужденное веселье, царившее в зале, любому, в том числе и ему, чужестранцу… А тут…
На первый план вновь выбился роковой вопрос, уже несколько лет тревоживший Рябова: как сумеет Люда полюбить кого-нибудь или хотя бы завести знакомство, если станет держаться так замкнуто? Глядя на степенно жующую дочь, Федор Иванович думал о том, что теперь ей нужен не сверстник уже, а мужчина постарше, лет этак тридцати с небольшим. И желательно с серьезными намерениями. Да, но где может Люда с таким человеком познакомиться? В театре? В кино? На улице? Возможно, для другой девушки это и годится, а Людмила на такой вариант точно не пойдет… Как помочь дочке? Не в этом ли теперь его отцовский долг?
С горя Федор Иванович стал вяло перебирать в уме сотрудников своей фабрики, слывших холостыми.
Что и говорить, для одного вечера вопросов, на которые он не мог ответить, было многовато. Федор Иванович решил совсем о них не думать. Они допили с Людой бутылочку, он спросил шутя, не взять ли третью, услышал в ответ «как ты…», подивился готовности дочери пить еще, но голова у него и так трещала, и он не стал больше ничего заказывать, расплатился, и они покинули зал, не без труда прокладывая себе путь среди разбушевавшейся стихии.
Внизу тоже все было не так, как в начале вечера. Рябовы долго прождали отлучившегося неизвестно куда гардеробщика, а когда хотели выйти, оказалось, что дверь заперта; потерявший всю свою вальяжность и даже слегка растерзанный швейцар воевал снаружи с группой разномастно одетых людей, во что бы то ни стало стремившихся проникнуть внутрь. После нескольких попыток Рябовым удалось привлечь к себе его внимание, швейцар нехотя приоткрыл узенькую щель, и отец с дочкой, преодолевая сопротивление ломившейся в ресторан толпы и тоже отчасти помятые, очутились наконец в вестибюле гостиницы.
— Спасибо тебе, папа, — проникновенно сказала Люда, когда они, отдышавшись, вышли на улицу, и прижала к себе руку, которой Федор Иванович поддерживал дочь под локоток.
— Тебе спасибо, малышка.
Он подивился нетребовательности дочери — оказывается, она довольна тем малым, что было… Ему казалось, что Люде пришлось скучать весь вечер, ведь они почти не разговаривали; заводить знакомства она не пожелала; программа, положа руку на сердце, была средняя, исключая девушек, но девушки едва ли могли произвести на Люду впечатление того же рода, что на него самого, да и взирала дочка на них без всякого воодушевления… Потом он подумал, не без гордости, что, вероятно, уже одно его общество в необычной, чуточку праздничной обстановке для нее что-то значит. И хорошо, что он не навязывался с «умными» разговорами и «проницательными» суждениями о виденном, — получился привольный для них обоих, дружеский и очень нестандартный вечер.
«Будет ли еще такой вечер в нашей с ней жизни? — спросил себя Федор Иванович. — Кто знает…»
Приехав на следующий день на фабрику, Рябов, первым делом, пригласил Веронику Анатольевну к себе. Нажимая клавишу селектора — в отличие от интимного чувства, вызываемого телефонной трубкой, селектор словно бы провоцирует на диктаторство, — Федор Иванович увидел вдруг Веронику Анатольевну в ее в ч е р а ш н е м обличье и постарался, как мог, смягчить голос. То ли она не обратила на это внимания, то ли селектор не пожелал передать нужного оттенка, но З. обычно, буднично, по-деловому ответила, что сейчас придет.
Рябов был уверен, что стоит им побеседовать наедине, и все сразу разъяснится. Он не обдумывал заранее, как построить беседу: тайна должна была раскрыться сама собой.
Только когда его верная помощница, в темно-синем костюме с полудлинной юбкой и любимых туфлях Федора Ивановича лодочках, своей мягкой походкой вошла в кабинет и Рябов, пригласив ее присесть, задал несколько вопросов по полугодовому отчету, а она с ходу на них ответила, он понял, что выяснить г л а в н о е будет совсем не просто.
Ну как спросить у исполненной достоинства женщины, всеми уважаемого и ценимого товарища по работе, не танцевала ли она вчера вечером в варьете? Каким идиотом будет он выглядеть в ее глазах после такого, с позволения сказать, вопроса?! Это же наверняка была не она — теперь-то Федор Иванович, конкретные ощущения которого были отделены от настоящей минуты целой долгой ночью, нисколько в этом не сомневался. Но если даже допустить невероятное — все равно: как спросить о невероятном у такой женщины?
Один давний случай пришел ему на ум. Он собирался ехать куда-то и обещал подвезти Веронику Анатольевну по ее финансовым делам. Сидя на обычном месте, рядом с шофером, Рябов терпеливо ждал, пока она ходила за документами, а когда З. подошла наконец к машине, он, развернувшись всем корпусом, любезно распахнул перед ней правую заднюю дверцу. Женщина села, и Федор Иванович, желая одним махом плотно, как полагается, захлопнуть дверцу и продемонстрировать при этом свою мужскую сноровку, энергично потянул рукоятку на себя. Он не заметил, что Вероника Анатольевна не успела убрать со стойки, находившейся у него за спиной, пальцы правой руки…
Любая другая криком закричала бы, попади ее пальцы в ловушку из штампованного металла, заголосила бы на весь двор, а З. сказала тихонько:
— Откройте, пожалуйста, у меня там пальцы остались.
И когда он, сконфуженный, торопливо вновь откинул дверцу, а затем, бормоча извинения, ее захлопывал, Вероника Анатольевна хладнокровно обматывала посиневшие пальцы носовым платком.
Самое удивительное, что он до сих пор не забыл, какой тонкий аромат распространился в машине после того, как она достала платок… Закалочка у этой представительницы слабого пола — будьте-нате, а он-то наивно предполагал, что она кинется с исповедью ему на шею.
— Ну, а как вообще жизнь? — услышал он свой голос, задающий банальный вопрос; нельзя же молчать бесконечно.
— Спасибо, недурно, — удивленно ответила Вероника Анатольевна. — А вы? — лукаво улыбнулась она, — Как вы живете?
Федор Иванович оторопел — не ждал почему-то, что их позиции в этом диалоге могут оказаться равными. Но ему была послана — впервые! — ее улыбка, и сковавшая, и согревшая его одновременно.
И его осенило.
— Да вот, башка трещит от шампанского, — словно в поисках сочувствия, доверительно признался Рябов. — Дочка вчера в ресторан вытащила…
Он говорил неспешно, а сам нацеливался в лицо собеседницы испытующим и проницательным, как он предполагал, взглядом.
Продолжая улыбаться, женщина укоризненно покачала головой; «ай-ай-ай!» — хотела, казалось, но несмела сказать она директору.
В этом покачивании была, пожалуй, доля кокетства — или Федору Ивановичу померещилось?
— …Институт, видите ли, кончила, так обыкновенный ресторан ее не устраивает: подавай ей варьете! — Рябов тщательно выделил последнее слово.
Лицо Вероники Анатольевны и тут не выразило ничего необычного, и тогда он нанес последний удар:
— Можете себе представить, мест нигде не было, пришлось тащиться к черту на рога — в ресторан при гостинице… Господи, как же ее… — Федор Иванович сделал паузу и лишь потом, словно вспомнив наконец название, внятно произнес его.
Ему показалось, что какой-то мускул на лице Вероники Анатольевны сработал бесконтрольно. Но тут же прозвучали слова, произнесенные самым спокойным на свете тоном:
— А вы, оказывается, модный мужчина… Я вот ни разу в варьете не была.
Рябов продолжал настойчиво пронизывать ее взглядом.
— Никто не приглашает… — добавила З. помолчав, а потом еще спросила: — Интересная программа?
Слово «программа», употребленное как-то очень уж привычно, почти профессионально привычно, заставило разочаровавшегося было Федора Ивановича вновь насторожиться, и он решил сделать еще одну, последнюю попытку.
— Программа средняя, — с видом знатока промямлил он, — но девочки… Девочки — м-м-м! На уровне!
На этот раз лицо Вероники Анатольевны совершенно точно оставалось непроницаемо спокойным. «Ай-ай-ай!» — снова покачала она головой. Это можно было расценить как угодно, например как удивление по поводу того, что ее начальник, славившийся своей скромностью и выдержкой, заговорил вдруг о неподобающих его возрасту и положению материях, да еще в таком легкомысленном тоне…
Когда за ней закрылась дверь, Федор Иванович почувствовал, что отпустил З. не без сожаления, и не только потому, кажется, что так и не разгадал загадки.
Вздохнув, он занялся текучкой.
День был забит, как всегда, и только вечером, сидя перед мирно лопотавшим что-то телевизором, Рябов вспомнил утреннюю беседу и глубоко задумался. Хорошо бы все-таки выяснить…
Но — как?
Эта женщина интересовала его все больше.
Бывают в жизни встречи случайные, но в то же время как бы давным-давно подготовленные, заранее запрограммированные, что ли. Назубок выучив правила игры, и мужчина, и женщина наперед знают, чего ждать дальше. Он предвидит, как поступит его партнерша в той или иной ситуации, как отзовется о последнем кинофильме, называя по именам, без фамилий, известных актеров, ей, конечно же, незнакомых, с каким выражением лица подаст на стол собственноручно приготовленный ужин. О н а, в свою очередь, не сомневается в том, что, сидя у телевизора, он примется разглагольствовать о спорте, что каждую выпитую рюмку станет сопровождать стереотипными словечками, что, раз за разом, будет засыпать в ту самую минуту, когда ей особенно захочется услышать ласковое слово…
Тут все было не так. Слишком много неизведанного сошлось для Федора Ивановича в этой внезапно ставшей загадочной женщине, слишком много обещало ее милое лицо, ее уверенная манера вести беседу, даже улыбка — властная и мягкая одновременно. И слишком много близкого, отлично ему понятного, родного угадывал он за маской, которую она привычно носила. Ее выступления в варьете были прекрасным предлогом, чтобы сорвать эту маску, — он должен был сделать это во что бы то ни стало.
Ради нее?
Ради себя?
Мысль о том, что Вероника Анатольевна чуть ли не на двадцать лет его моложе, пришла Рябову в голову лишь много времени спустя. Принимать во внимание побочные обстоятельства вообще не было ему свойственно. Рябов двигался навстречу жизни с открытой душой; его мироощущение было совершенно свободно не только от страха перед долгим путем, но и от неуверенности в своих силах, а такие люди идут обычно прямо к сути вопроса, ситуации, не обращая внимания на частности.
В необычных обстоятельствах перед ним, как в раскрывшейся чаше цветка, возникла не менее необычная женщина, и стремление разгадать загаданную ею загадку не давало ему покоя.
Поломав голову дня три, Рябов кое-что придумал.
Он созвал совещание по итогам двух кварталов и обязал руководящих работников фабрики подготовиться к выступлению. Все знали, что предстоит отчет в министерстве; необходимость широкого обмена мнениями была очевидна.
Федор Иванович намеренно начал совещание позднее, чем предполагалось, и затянул его, да так основательно, что, когда в семь тридцать был объявлен перерыв, высказаться успели далеко не все, кому выступить следовало, в том числе — Вероника Анатольевна. Директор попросту не давал ей слова; выглядело это несколько странно: главбух обычно говорила одна из первых.
Не получив слова и после перерыва, З. попросила отпустить ее.
— Не могу, — холодно сказал Рябов. — Мы ждем вашего выступления.
Вероника Анатольевна твердо заявила, что остаться не может ни секунды, что такое позднее совещание — беспрецедентный случай, она не была предупреждена заранее, вот и…
— Верно, — согласился Рябов. — Затянули мы что-то. Но отпустить вас я никак не могу. Мы надеемся, что вы ответите на ряд серьезных вопросов, затронутых и в докладе, и в прениях. Были и прямые критические замечания в адрес бухгалтерии.
— Предупредили бы меня или выслушали раньше, — пожала плечами З. — Критические замечания я все записала, отвечу в рабочем порядке.
Взяла сумочку и быстрым шагом вышла.
Вот когда Федор Иванович окончательно уверовал в то, что тогда, в варьете, он не ошибся.
И на следующий день, увидев, что Вероника Анатольевна, вновь входит в его кабинет, Рябов встал из-за стола, прикрыл плотнее дверь, подошел к З. почти вплотную, постоял секунду, дрожа от охотничьего азарта и неведомо откуда нахлынувшей ярости, а затем зловеще произнес:
— Попалась, голубушка!
Потом заглянул в лицо сбитой с толку женщины, смягчился и сказал тихо:
— Варьете…
Вероника Анатольевна шагнула назад, коротко рассмеялась:
— Вот оно что…
Ее спокойствие показалось ему кощунственным.
— Вы — признаете?
— Разумеется, признаю… если это для вас так уж важно.
— Смертельно важно.
— Но — почему?
Он не знал этого.
— Значит, весь вчерашний спектакль вы затеяли специально, чтобы подловить меня? Но что особенного в том, что я там выступаю?
— Как же… вы — и… — Федор Иванович, в свою очередь, сделал шаг назад и неловко развел руками.
— Юридически я ничего не нарушила, там все совместительницы, я — на договоре.
— Да не о том я вовсе! — Рябов даже ногой притопнул, возмущенный тем, что она не желает понять его. — Что за… д в у л и ч и е такое?!
— Двуличие?..
— Как… как вы вообще попали в этот мир? Вы — такая… такая передовая женщина! Зачем вам это нужно?
— Да вам-то что за дело?
Федор Иванович даже задохнулся: отчуждение, прозвучавшее в ее вопросе, было хуже всего. Очевидно, он коснулся чего-то наболевшего, но чего именно, он не знал.
— Мне… — прошептал он, — мне…
Вид у грозного директора был такой растерянный, что Веронике Анатольевне стало жаль его, а жалость — великий проводник. Кроме того, она окончательно убедилась, что дело вовсе не в служебных придирках, и сменила тон.
— Вы серьезно хотите знать?
— Я же сказал: смертельно серьезно.
Он повторил эти слова, все еще не зная — почему.
— Можно я сяду? — Вероника Анатольевна произнесла это с той же интонацией, как тогда, в машине, попросила освободить зажатые дверцей пальцы.
— Конечно, конечно… Извините, я не предложил, — поспешил ответить Рябов. — Курите, пожалуйста, — машинально добавил он, хотя знал, что З. не курит.
Она села в кресло для посетителей, а он остался стоять.
— Делать мне нечего по вечерам, — задумчиво начала женщина. — Я ведь одна живу…
В дверь просунулась чья-то взлохмаченная шевелюра, но директор так яростно взмахнул рукой, что человек мгновенно исчез; глухо стукнула вторая дверь тамбура, и было похоже, что это упала со стуком отрубленная невидимым мечом голова.
— Простите, Вероника Анатольевна, — быстро сказал Рябов, ужасаясь собственной наглости. — Но уж если откровенно… Почему вы одна?
Он не мог удержаться и воспользовался неожиданной паузой. События развивались так стремительно, что теперь уже э т о т вопрос стал для него главным. Человеку свойственно ощущать себя моложе, чем он есть на самом деле, отсюда несоответствие некоторых наших поступков тому, что ждут от нас окружающие.
— Вам и это важно? — подняла она брови.
— Это, может быть, важнее всего!
Федор Иванович сам изумился тому, что сказал. Не заяви Вероника Анатольевна прямо и четко, что живет одна, ему бы в голову не пришло ни задать бестактный вопрос, ни ответить таким образом на ее недоумение.
Изумившись, он, словно в зеркале, увидел себя со стороны — немолодой увалень с сильно поредевшими волосами и абсолютно седыми бровями. Пугало…
— Вы только не сердитесь, бога ради, — Рябов стал пробираться на свое законное место, наивно предполагая, что оттуда будет выглядеть хоть немного импозантнее. — И если не хотите — не отвечайте. Но поймите: когда такая… такая очаровательная женщина остается одинокой…
— А вы считаете меня очаровательной? — щедро улыбнулась она.
Он кивнул. Вскочил. Вновь вышел из-за стола. Сделал несколько шагов по комнате. Остановился. Кивнул еще раз.
— Вы никак не проявили этого. Ни разу.
Рябов развел руками, каясь в своей ошибке.
— А сухарем вы меня не считаете?
— Сухарем?!
— Или роботом?
— Но почему вдруг…
— Из-за моей профессии… Из-за того, что я принимаю близко к сердцу свою… нашу с вами работу?
— Я так ценю вас…
— Как директор? Я знаю.
— Не только как директор!
— А есть люди, — Вероника Анатольевна горько усмехнулась, — есть люди… просто знакомые… так вот, они считают, что моя работа и, главное, то, как я к ней отношусь, — корежит, коверкает душу…
— Коверкает?!
— Представьте себе. То есть я допускаю, что отчасти так оно и есть. Вы же понятия не имеете, какая я дома… У меня чудовищный характер.
— Чушь, — уверенно сказал Федор Иванович. — Быть того не может.
Он повернулся к окну и вновь совершенно неожиданно для себя произнес:
— Вы — лучше всех, кого я знаю.
— Ах, Федор Иванович, — впервые в этом разговоре она назвала его по имени-отчеству, необычная интимность прозвучала в ее голосе, Рябову померещилось даже, что обращение звучало как «Феденька» — так его давно уже никто не называл; вздрогнув, он обернулся и потянулся к ней. — Ах, Федор Иванович, дома у, всех почему-то все не так. И я — не исключение.
— Вы — лучше всех, — тихо, осознанно, упорно повторил он.
— А вот представьте себе: после трех лет прочной, казалось, глубокой привязанности мне в одно весеннее утро предпочли другую…
Вероника Анатольевна загородила лицо ладонью.
— Вам — другую?! — словно горестное эхо, повторил он.
— Три года он называл меня женой. А потом оказалось, что на эту роль больше подходит другая актриса — помягче, попроще, без претензий. Я не хочу сказать о ней ничего дурного. Такой человек. Зато всю себя, без остатка, посвящает семье.
— А вы так не можете?
— Не знаю… Теперь уже, наверное, нет.
— И… и как же вы перенесли разрыв?
— Жила, как умела. Никаких нарушений по службе — верно?
— Верно, верно!
— Дело не пострадало как будто…
— Ни капельки. Да и при чем тут дело, вы-то — как?!
— Помаленечку…
Вероника Анатольевна отвела руку от лица, выпрямилась.
— Федор Иванович, — глухо сказала она. — Вы знаете, что такое одиночество?
Рябов подумал, что уж кто-кто, а он знает это прекрасно, но кивнул как-то не слишком решительно, словно ему не полагалось этого знать.
— А на стенку влезть вас никогда не тянуло? — З. говорила тихо, почти шепотом; грустная усмешка, словно маска клоуна или мима, застыла на ее лице. — А завыть с тоски на луну у вас желания не было? А сигануть с балкона вам не приходило в голову? У меня квартирка на двенадцатом этаже, а балкон большо-ой, угол здания опоясывает, разбежаться есть где… Хотя вам — что, вы — человек семейный. — Свистящий шепот плеточкой, плеточкой обвивался вокруг шеи, сдавливал горло, стало трудно дышать. — С женой поругаетесь — все полегчает, а мне и поссориться не с кем на моей верхотуре… не с кем… не с кем…
Повторяла она эти слова, или у него в ушах звенело? Федор Иванович, загипнотизированный и взглядом женщины, и ее речью, сглотнул слюну. Он приготовился к тому, что Вероника Анатольевна теперь зарыдает, а он станет утешать ее, — позабыл, напрочь позабыл, с кем имеет дело.
Она продолжала обычным своим голосом:
— Примерно год назад, как раз когда было особенно тяжко, встретила школьную подругу, мы с ней в свое время на художественной гимнастике все призы забирали. Потом она в институт не поступила, на эстраду подалась. От нее я и узнала насчет варьете, — сама шла, и меня потянула. Может, обратили внимание: крайняя слева, если из зала смотреть.
Федор Иванович лишь мотнул отрицательно головой, хотя теперь он вполне мог бы ответить на все ее вопросы: одиночество вдвоем ничуть не легче, он прекрасно ее понимает, и объяснять ему больше ничего не надо, и ни одну девушку тогда, в варьете, он вообще не заметил — только ее одну…
Почти не слушая того, что говорила З., он тихонько любовался ею. Он твердо знал теперь, с кем имеет дело: перед ним сидела редкостная, умная и красивая женщина, тщательно — и успешно! — прятавшая от сослуживцев свое обаяние. Столько лет он, как и все, был слеп и глух и лишь теперь сумел разглядеть ее по-настоящему.
Сумел… Счастливая случайность. А как с остальными? Что знает он о других своих сотрудниках, хотя бы о ближайших?
— …Конечно, там попроще, чем в балете, но азы пришлось проработать основательно, — продолжала З. — Взяла педагога. Результат вы видели. Вам правда понравилось?
— Правда. Очень.
— «Девочки — на уровне», — лукаво передразнила она. — Так у меня появилось еще одно дело. Свободного времени — ни минуты, не надо голову ломать над тем, куда его убить… Платят. Я на машину записалась…
— Неужели вас не смущает эта обстановка?
— Какая?
— Но… там такая публика!
— Уж конечно, не в Филармонии… Но о публике я забываю… Впрочем, неправда, не забываю: мне доставляет удовольствие появляться перед людьми в другом качестве, не бухгалтером только… Я вроде дирижирую эмоциями сотен людей — понимаете? А кто они такие, эти люди, — какая разница…
— Хоть час, да мой?
— Что-то в этом роде.
— А этот страшный разрыв между утром и вечером?
— Двуличие?
Оба рассмеялись.
— «Двуличие» я переношу спокойно. Мне кажется, одно мое дело дополняет другое. Не жизнь — сплошная гармония. Знаете, это хоть и странное, но приятное ощущение: отточенные движения, когда на тебя пялят глаза… Надеюсь, двигаюсь я легко?
— Я в восхищении, — со всей возможной искренностью произнес Федор Иванович.
Помолчали.
— И все же, — вздохнул он, — все же… Что скажут на фабрике, если узнают?
— Кто-то осудит, кто-то нет… Вы — как? Не осуждаете?
— Нет, я не осуждаю, — сказал Рябов нерешительно. — Но, я думаю, лучше все-таки не говорить.
— Конечно, — весело отозвалась Вероника Анатольевна. — Зачем дразнить гусей… Едва ли кто-нибудь с фабрики опознает меня во время выступления.
— Я же опознал.
— Не все так наблюдательны.
— Верно, — кивнул Рябов. — Но и я, честно говоря, не узнал вас… Во всяком случае, не разумом… Я ощутил вас — почувствовал, что это вы…
— Почувствовал? — тихо и серьезно сказала она и встала.
— Значит, это останется между нами? — Еще не желая отпускать ее и не зная, что сказать, он задал вопрос, который следовало бы задать ей самой.
— Да, да… — согласившись на эту тайну, объединившую их, она подала ему почему-то руку, хотя рабочий день только начинался.
Потом прибавила:
— Спасибо.
«За что?!»
Ему захотелось поцеловать протянутую руку, но он никогда раньше не делал этого.
— А можно мне когда-нибудь прийти опять? — он не выпускал ее руки из своей.
— Через месяц — новая программа.
З. улыбнулась, высвободила руку и походкой пантеры двинулась к двери. На пороге обернулась:
— Да и кто из наших попадет туда? — сказала задумчиво. — Вы ведь тоже зашли случайно?
— Абсолютно случайно, — подтвердил он.
Говорят, Федора Ивановича Рябова часто видят теперь в варьете при гостинице «Двина». Говорят, администратор, по первому звонку, оставляет для него один и тот же уютный столик за колонной, на который другие посетители не зарятся.
Завсегдатай?
Говорят также, что за этот столик после окончания программы присаживается иногда одна из танцовщиц варьете.
Но чего только у нас не говорят.
Не всему же верить.
ПЕНАЛЬТИ
1
Колька лежал на спине.
Глядел в небеса, старался ни о чем не думать, но это плохо у него получалось; когда тебе одиннадцать лет, несправедливость друзей часто вырастает до размеров космических, тем более если речь идет о самом-самом близком друге.
Зато Колькино тело наслаждалось полнотой бытия.
Белесая голубизна, косо летящая ввысь, нежаркие лучи солнца, ветерок едва-едва, трава под ладонями да еще в точности похожий на рокот морского прибоя гул окружавшей Кольку на почтительном расстоянии толпы.
Блаженство.
Мысли, мысли бы еще отключить.
Нельзя сказать с уверенностью, что Колька умел уже ценить мгновения, когда мозги можно безбоязненно проветривать, прополаскивать в воде, прожаривать на солнышке или примораживать в зимнем лесу, но какую-то самую первоначальную разведку в этом направлении он, похоже, произвел.
Протяжный свисток на мгновение заткнул Кольке уши и вырвал его из трясины забвения.
Перевернувшись на живот, Колька замер в позе сфинкса: он опирался теперь на передние лапы, согнутые в локтях, лицо было поднято и глядело строго вперед.
За торчавшими в непосредственной близости от его носа веревочными белыми клетками зеленело футбольное поле.
Колька лежал за воротами; по ту сторону маячила спина вратаря, далее торопливо разбегались по своим местам защитники, полузащитники, нападающие…
Где-то там, поближе к центру, бежал его отец.
2
Фролов стал брать сына на стадион, едва тот научился ковылять кое-как и опрятно справлять малую нужду.
Робкие сомнения супруги парировал однообразно, но категорически:
— Мужское дело…
Он был не просто нападающим, а самым популярным форвардом в области, и футболисты местных команд, а также тысячи болельщиков звали Фролова Валерой.
Мальчишку он всегда устраивал за воротами противника, чтобы сын с близкого расстояния, воочию, так сказать, мог видеть забитые папочкой голы и вообще удостовериться, как лихо сражается тот в штрафной площадке противника.
Валера бросал на газон куртку, всаживал в нее малыша, как птенца в гнездо, приказывал держаться за сетку.
Ребенок Колька был на редкость послушный: отлучившись, в случае необходимости, на два-три шага в сторонку, он неизменно возвращался на свой пост и вновь вцеплялся в указанный отцом квадрат.
Но вот однажды точнехонько в этот же квадрат угодил посланный кем-то мяч.
Колькина ручка побагровела, вспухла.
Но если бы она одна!
Чтобы выдержать удар и не прорваться, сетке пришлось в очередной раз втянуть щеки, и мяч с лету вмазал Кольку по мордасам — отпрянуть он не успел.
Он взревел так оглушительно, что судья приостановил было игру, но быстро разобрался в чем дело, добродушно усмехнулся и вновь указал на центр поля.
Отец был далеко; Кольку утешали чужие дяди — лохматый фотокорреспондент, в кармане у которого завалялась ириска, и… вратарь соперников.
С того самого дня парнишка никак не мог усвоить, почему к весьма условному противнику — всего на одну игру! — он обязан испытывать что-то вроде ненависти. Не мог он, как взрослый, взять и вычеркнуть из сердца проявленную к нему доброту.
То есть наши есть наши, чего тут размусоливать, но и эти парни — такие же мускулистые, ловкие, бесстрашные, так же весело бросающиеся под удар — восхищали мальчика ничуть не меньше, чем соратники отца.
И потом, не забудьте, Колька всегда базировался в самом заветном месте «чужой» территории и знал многих «противников» по именам; как ни крути, «вражеские» ворота были немного и е г о воротами…
После того случая отец усаживал Кольку не вплотную к сетке, а на метр-полтора позади, у самой кромки поля, и наказывал лежать на пузе.
Он и лежал.
Как сфинкс.
3
Постепенно все привыкли.
Фролов свыкся с мыслью, что футбол становится для Кольки делом таким же родным, как для него самого, — сын в с е г д а сопровождал его на игру, если матч был не на выезде, и не мог не любоваться и не гордиться им; это льстило отцовскому самолюбию.
Футболисты привыкли видеть позади ворот, которые они штурмуют, лукавую мальчишечью физиономию; поговаривали, будто Колькино присутствие подтягивает команду: промазавший прочитывал во взгляде мальчугана укор или насмешку, — кто знает, были они там, нет ли? — зато Колькина улыбка, подтверждавшая успешные действия, воспринималась как награда. И когда один защитник, человек новый, не знакомый с традициями, вздумал однажды привести с собой дочку и пристроить ее рядом с Колькой, команда, еще до начала игры, дружно потребовала убрать с поля девчонку.
Стадионное начальство привычно обеспечивало Кольке беспрепятственный вход на стадион, если он почему-либо появлялся там отдельно от отца; непосредственно после жеребьевки подросшего паренька пропускали и на поле — теперь он прекрасно добирался до места самостоятельно.
Команды противников — ребята встречались с каждой четыре раза в сезон, два на «их» поле, два на «нашем» — привыкли прикидывать на глазок, на сколько вытянулся Колька за полгода: это служило для игроков своеобразным мерилом быстротечной жизни. «И летит же времечко!» — вздыхали ражие футболисты, на миг становясь похожими на собственных бабушек.
Для матери Кольки, медицинской сестры Марии Самсоновны, стало в порядке вещей не удерживать сына в день матча дома — все равно никакая причина на свете не могла бы оправдать в глазах мужчин подобного произвола; эта привычка мамаши обеспечивала Кольке солидную долю самостоятельности.
Колька охотно пользовался слабостью матери, но никакой внутренней связи между вылазками в «большой футбол» и остальной своей жизнью, в общем-то, не замечал.
4
Судья свистнул снова, на этот раз — резко; началась вторая половина матча.
Игра складывалась трудно: противники были примерно равны по силе.
В первом тайме обменялись голами, а потом… хоть «наши» и были «дома», никакого преимущества они не добились.
Во время перерыва явно имела место накачка: едва прозвучал свисток, ребята кинулись на штурм.
Отец возникал то тут, то там, иногда — совсем близко, и Колька отчетливо видел в эти моменты его мощную фигуру и даже его лицо. В перепачканной форме, со слипшимися от пота волосами, Валера настойчиво пробивался к е г о воротам.
Только ничего у Фролова не получалось: слаженно действовала защита — тоже результат накачки, только в другой раздевалке, — и сводила на нет усилия форвардов.
Колька давно не видел отца таким злющим.
Запомнился, правда, один случай в конце прошлого сезона. Команда гурьбой брела тогда по парку, переживая горечь очередного поражения, и вдруг Петька Синицын, опорный защитник, осмелился обвинить в неудаче Фролова и намекнул при этом нахально, что на «звезду» играли лет десять назад, а сейчас без коллективного футбола…
Валере вот-вот должно было стукнуть тридцать.
Отец наговорил в тот раз Петьке много чего — накричал, наорал, ругался «молокососом» и по-всякому. И Колька был целиком на его стороне, хотя хладнокровие и выдержка Синицына на поле вызывали его симпатию, а какой пас давал Петька нападающим — наискосок, от штрафной до штрафной…
Теперь у отца было такое же лицо, как в тот день: красное, пятнами, и злое.
Инстинктивно подражая матери, Колька сторонился всякого проявления злобы. С ним отец всегда держался ровно, мягко — Колька привык к мысли, что он такой и есть.
Стало не по себе; Колька вспомнил: вчера отец говорил, что без двух очков им уходить с поля нельзя.
Недоброе предчувствие закралось в душу.
И вот тут…
5
Фролов в очередной раз ворвался в штрафную площадку.
Кольке был виден каждый мускул его лица.
Продвинувшись метра на два, на три, на четыре, Валера, окруженный защитниками, упал.
Колька стиснул зубы — боялся, как бы отцу в свалке не нанесли травму.
Но загремел свисток, и Колька вздохнул с облегчением, увидев, что отец благополучно поднимается на ноги.
Как вдруг судья показал на одиннадцатиметровую отметку.
(Замешкавшись, отстав немного от атакующей волны, судья не мог точно определить причину падения игрока с шестеркой на футболке: Фролов был закрыт от него двумя или даже тремя рядами игроков обеих команд; оставалось положиться на свой опыт, а опыт как раз и подсказывал судье, что в такой ситуации форварда сбили, скорее всего, недозволенным приемом; он поколебался секунду, и…)
Пенальти давал хозяевам поля почти верную возможность забить гол минут за восемь до конца матча. Это походило на победу, и радость «наших», а также болевшего за них стадиона была безмерна.
Столпившись вокруг судьи, «чужие» пытались втолковать ему, как все произошло, но судья не слушал: факты уже не интересовали его; провозгласив свое решение, судья не может тут же от него отречься — иначе какой же он судья?
Фролов улыбался лучезарнее всех.
Впрочем, нет, не улыбался: он — осклабился.
Отойдя назад, к границе штрафной площадки, Фролов стоял там, сосредоточиваясь перед ударом, и торжествующая ухмылка блуждала на его полных губах, то появляясь, то исчезая.
Взгляд его привычно отыскал за воротами лицо сына, и он подмигнул Кольке — дескать, наша взяла, и желанные два очка…
Валера не сомневался, что в ответ немедленно полетит белозубая Колькина улыбка.
Он настроился уже принять эту улыбку — как награду.
Но ни подмигивания, ни улыбки не последовало. С лица сына на него, не мигая, глядели Машенькины глазищи, губы Кольки были плотно сжаты.
Фролову почудилось, что сын безмолвно умоляет его о чем-то.
Другой различил бы на лице мальчика не мольбу, скорее, а надежду на то, что отец поймет его невысказанную просьбу и тревогу и сделает так, что умолять не придется… Его всемогущий, его добрый папочка.
Но Фролов не склонен был к тонкостям, тем более в такой ответственный момент.
Они должны были во что бы то ни стало выиграть нынче, и все зависело теперь только от него.
Свисток.
Фролов разбежался, ударил.
Го-о-ол!!
6
После матча Колька обычно приходил к раздевалке.
На этот раз его там не оказалось.
Валере вспомнился застывший взгляд сына; призадумался было, да посыпались поздравления…
Иногда Колька ждал его у главного выхода — на границе парка и стадиона.
Но мальчика не было и там.
Вернувшись домой, Валера выяснил, что сын не показывался.
Маша недоумевающе уставилась на мужа: совместное возвращение тоже стало традицией.
Тут Валера встревожился не на шутку.
Человек он был, можно сказать, самый обыкновенный.
Жизнь принимал такой, как она есть, и ни разу еще не задумался над тем, какой его жизнь м о г л а б ы б ы т ь.
Судьба спортивного лидера, любимца публики его вполне устраивала; все приходило к нему своевременно — достаток, награды, спортивные звания, никаких специальных усилий от него пока не требовалось. Собственная внешность — рослый, плечистый, густые волосы, улыбка киногероя — тоже устраивала Валеру как нельзя больше; правда, волосы стали редеть.
И семья устраивала — жена, сын…
С недавнего времени он заподозрил, что сын — не такой, как он сам, но, в чем именно, пока не знал.
Подозрения возникли в тот день, когда Валерий Федорович, впервые за четыре года, отправился на родительское собрание.
Там ему через полчаса сделалось смертельно скучно, и, когда наставница его сына, словно магнитофонная лента, принялась в третий раз повторять сидевшим перед нею взрослым, уставшим после рабочего дня людям одно и то же, — два раза он выдержал! — Валера непроизвольно поднял вверх указательный палец правой руки и описал им окружность довольно солидного диаметра.
Сев за парту, он немедленно сам превратился в школьника.
Наставница не поняла этого и обиделась.
На заданный ею повышенно строгим тоном вопрос, что товарищ Фролов имеет в виду, Валера, очаровательно улыбаясь, беззаботно спросил, не пора ли закругляться.
Тогда его выгнали из класса.
Не буквально, конечно. Выдержав полную укоризны, почти трагическую паузу, учительница заявила, что если товарищ Фролов так торопится, то может идти; претензий к его сыну Николаю у нее нет.
Валера встал, элегантно раскланялся и вышел.
Спускаясь по лестнице, он неожиданно сообразил, что слава популярнейшего в области человека, так часто выручавшая его в других обстоятельствах, в этом рядовом классе рядовой школы не сработала и отпустили его с миром вовсе не ради звонкого имени или каких-то особых заслуг; окажись у такой занудливой дамочки малейшее основание придраться к Кольке, она выместила бы на папаше всю горечь, все извечное раздражение одинокой женщины, отчаявшейся уже изменить свою судьбу.
Почему он решил, что она — одинока?..
Факт: он отделался дешево исключительно потому, что у него подрос, оказывается, заслуживающий уважения сын.
Эта мысль обрадовала Валеру — и поразила его, но уже наутро он позабыл о ней, как привык забывать разные другие значительные мысли, время от времени забредавшие ему в голову: слишком уж они были угловаты, таскать с собой такие кирпичи спортсмену решительно не с руки, сковывают они, мешают дело делать…
Вернувшись в тот день из школы, Колька, смеясь, сообщил: часть родителей была шокирована вчерашним поведением отца, другие же, напротив, завидовали тому, что Фролову удалось вырваться так рано.
Валера на миг встревожился: не осуждает ли его сын? Но Колька отнесся к происшествию с тем же юмором, с каким, кажется, относился к учительнице: он попросил отца больше на родительские собрания не ходить. Маша присоединилась к просьбе сына.
Фролов-старший кивнул и успокоился окончательно.
Но сегодня… Сегодня Валера прекрасно понимал, что исчез парень после матча не случайно.
Он хорошо запомнил посланный ему Колькой взгляд-предостережение — или все-таки это была мольба?
От чего сын хотел предостеречь его? О чем умолял?
Кое о чем Валера догадывался, но ему страшно не хотелось, чтобы это оказалось правдой.
7
Сын его остался после матча в парке, бродил по самым глухим дорожкам; башка раскалывалась на мелкие кусочки.
Несправедливость Катеньки Седовой, любимого дружка и соседки по парте, так мучавшая его последние два дня, внезапно съежилась, показалась Кольке вовсе не такой уж и страшной, отползла на задний план.
Таскать за пазухой т а к о е горе — вот это была ноша так ноша…
Колька без конца проверял себя.
Видел он или не видел?
Видел.
Что он видел?
Он видел совершенно отчетливо, как его отец наступил на мяч — нога скользнула, и отец упал.
Ни один защитник противника к нему не прикоснулся.
Мог отец не знать, почему упал?
Может человек не знать, почему падает?
Колька шагнул на траву, несколько раз упал сам, по-разному переплетая ноги — то так, то этак, — цепляя ступнями за корни деревьев, за кусты, за пенечки…
Каждый раз он четко знал, отчего падал.
Валера, отличный спортсмен, не мог этого не знать.
Никак не мог!
Кольке смертельно хотелось выгородить отца, — не выходило.
Почему же отец не сказал правду?
Почему согласился с несправедливым решением судьи?
(О том, почему сам судья принял необоснованное решение, Колька в тот момент не думал; судья был закрыт от него все теми же игроками, и Колька его не видел. Совершая распространенную ошибку, он отделял решение от живого человека, его принявшего и не посмевшего потом от него отказаться…)
Из-за гола?
Будь на месте Валерия Фролова кто-нибудь из Колькиных одноклассников, Колька только усмехнулся бы презрительно. Но когда в роли жалкого лгунишки, присваивающего то, чего он не мог добиться в честном состязании, выступает его отец — воплощение надежности и мужской силы?!.
Перед Колькой вновь встало злое, измученное лицо рвавшегося к воротам отца. Кому нужна эта вечная и г р а? И почему надо обязательно выиграть? Какая такая надобность? Какой смысл? Почему нельзя играть просто так?
Кольке было, разумеется, прекрасно известно, что существует календарь и нарушать его никак нельзя: десятки команд из разных городов, полные трибуны болельщиков, — проигрыш любимчиков для них петля на шею… И все же сегодня он впервые засомневался: а стоит ли всю жизнь только и делать что играть в футбол, стремясь занять местечко повыше? Подумаешь — диаграмма, таблица, график! Неужели возникшая из графика, из бумажки, из н и ч е г о необходимость получить два очка может служить оправданием бесчестному поступку? Чего же тогда стоят все заповеди?
Он не знал, к какому решению прийти. Негодование зрело в душе; Колька его боялся.
Негодовать — на родного отца?
А пошептаться было не с кем — ребятам такого не расскажешь. Одной Катеньке мог он доверить любую тайну, она всегда умела посоветовать. Но с Катенькой его угораздило поссориться…
От молчания Кольке становилось только хуже.
Нет, как ни верти, оправдать такой поступок невозможно. Вдобавок ко всему, отец обманывал не кого-то там, а своих же товарищей-футболистов, хоть они, на этот раз, и назывались противниками. И они знали, что отец их обманывает, а поделать ничего не могли…
Кольке очень не хотелось идти домой.
8
Когда стемнело, пришлось все же.
Только отворил входную дверь — мать.
— Можно я сразу лягу? — спросил Колька.
— Ты не заболел?
— Нет.
— Где путался, горюшко мое? Отец уже два часа ищет тебя повсюду.
Колька вздохнул с облегчением: встреча откладывалась.
— Я лягу, мам, хорошо?
— А поесть? — только и спросила мудрая женщина.
— Неохота… Мама, — спросил Колька уже с порога своей комнатенки, — папа обманывал тебя когда-нибудь?
— То есть как — обманывал? — переспросила мать. — В каком смысле?
— Ну, как обманывают… Говорит он тебе неправду?
— Вообще?
— Ну — вообще… А как же? — Колька начинал терять терпение.
— Нет, — сказала мать. — Неправду отец мне не говорит.
— Никогда?
— Никогда… Отчего ты спрашиваешь?
— Надо, — отрезал Колька. — А судья, например?
— Что судья?
— Судья может обмануть?
— Н-не знаю… Не должен бы…
— Не должен?.. Но — может?
Колька таращился на мать, та — на него.
— Спокойной ночи, — сказал он потом.
Подскочил к матери, чмокнул ее в щеку, исчез.
Мария Самсоновна долго еще не двигалась с места: глядела на закрытую дверь, а видела недоумевающие глаза сына.
9
Маша вечно чувствовала себя перед сыном неловко.
Такое же необъяснимое ощущение скрытой, неотчетливой вины было у нее всю жизнь перед собственным отцом.
У сестренки, между прочим, ничего подобного не наблюдалось; Галка с детства была лишена каких бы то ни было комплексов.
Правда, когда Маша вышла замуж и они с Валерой стали жить отдельно, чувство вины исчезло и возникало вновь лишь очень ненадолго — при посещениях родительского дома.
Маша изумлялась: теперь она уже совершенно точно не могла быть ни в чем виновата, да и отец подобрел к старости…
Но вот родился Колька, быстренько подрос, стал строго глядеть на мать совершенно дедовским взглядом, и Маша опять почувствовала себя виноватой неизвестно в чем; на этот раз в своей собственной уютной квартирке.
Словно не она была старше Кольки, а наоборот.
Странно сказать, но и теперь, в тридцать лет, этой хрупкой женщине было спокойнее знать, что в семье есть кто-то мудрее и ответственнее ее.
Валера, ее ровесник, никогда не был для Маши главой семьи; бесконечные разъезды, перелеты, тренировочные сборы ставили его особняком. Он был ей верным мужем. До копейки отдавал все, что зарабатывал, — получалось немало. Она была с ним, в общем-то, счастлива. И все же, по чисто женскому счету, Маша ощущала Валеру скорее сыном, чем мужем, причем даже не старшим сыном — опорой семьи, а не то средним, не то младшим — отрезанным ломтем.
Возникал Валера — и сразу оказывался в центре внимания.
Потом он вновь исчезал, и она оставалась вдвоем с Колькой — и по сыну, как по компасу, выверяла и свое поведение, и курс, которым плыла их небольшая семья.
10
Когда Валера вернулся в тот вечер домой, сын уже крепко спал.
Будить его Маша не разрешила.
На другой день, ранехонько, команда улетала на матч — никакого разговора отца с сыном состояться, естественно, не могло.
Возвратился Валера три дня спустя, ночным самолетом.
Зато следующие за возвращением денечки были у него полностью свободными.
И очень кстати: можно было не только отдохнуть, но и отпраздновать свой день рождения.
Это был главный для семьи день в году.
Маша родилась в августе — кого в гости позовешь, когда город все равно что пустой? Тортик какой-нибудь скромный, бутылочка шампанского, фруктовый салат — все дело.
День рождения Валерия Федоровича отмечали знаменито.
Приглашалась футбольная элита: начальство — с супругами, остальные поодиночке: места не хватило бы.
И то: под длиннющую, еще бабушкину скатерть запихивали все столы и столики, имевшиеся в наличии, Колькин в том числе.
Родственников звали назавтра, на «черствые именины».
Кроме спортсменов, постоянно приглашенными считались две Машины сослуживицы, Шура и Саша, — их нарочно обозначали так, чтобы не путать.
Допуская девушек к торжественному застолью, Валера оказывал любезность жене — праздник делался отчасти и ее праздником тоже; кроме того, присутствие незамужних, непритязательных и миловидных хохотушек сильно поднимало тонус мужского большинства компании.
Гости приносили подарки; Валерий Федорович подарки любил — это было общеизвестно.
В тостах льстили хозяину безбожно. Валера понимал, что он — далеко не Пеле, но в дни рождения верил почему-то восхищенным оценкам своей персоны.
Танцевали, сдвинув столы и закатав до половины палас.
Курили преимущественно дамы.
11
И на этот раз все было как обычно, если не считать того, что отсутствовал Колька: он заранее предупредил мать.
На всякий случай, он вообще ушел из дому раньше, чем проснулся отец, отсыпавшийся после долгого рейса.
Маша шум поднимать не стала: может, так правильнее: взрослые гуляют — зачем ему? Встревожилась, конечно, в глубине души.
Валерий Федорович надулся было, но невидимая стена, вставшая между ним и сыном в день матча, приглушила обиду.
Тем более отца Колька поздравил. На кухонном столе была обнаружена красочная открытка с надписью синим фломастером:
поздравляю днем рождения николай
Повертев открытку, Валера горделиво фыркнул: чем-то она пришлась ему по душе — может быть, телеграфным стилем или «взрослой» подписью?
Гости на отсутствие Кольки внимания не обратили, только Шура и Саша выразили пламенное желание расцеловать бутуза, но, узнав, что Кольки нет дома, сразу же утешились.
Еще о Кольке спросил запоздавший Петя Синицын, но у Пети имелась на это своя, особенная причина.
Он рассчитывал встретить здесь сегодня младшую сестру хозяйки; несколько раз видел он девушку, вместе с Машей, на стадионе, но знаком не был, а тут вроде представлялся случай провести с ней целый вечер.
Из-за этого только принял Петя приглашение; Фролова он терпеть не мог, считал Валеру обузой для команды, и ссора в парке, о которой вспомнил Колька, отнюдь не была случайностью.
Хозяин дома, тоже не склонный к компромиссам, пригласил Синицына исключительно потому, что не пригласить не мог: Петя был классным футболистом, а элита за столом у Фролова должна была быть вся, в полном составе.
Петя надеялся посидеть с Галей рядышком, потанцевать, побеседовать и, в зависимости от того, как пойдут дела, договориться, может быть, о встрече на нейтральной территории.
Увидев же, что Гали нет, и желая выяснить, где она, Петя никак не хотел в то же время, чтобы вопрос его выглядел нарочито, и начал поэтому издалека.
— Что-то не все семейство в сборе, Мария Самсоновна, — сказал он, вручая хозяйке три бледно-розовые гвоздики. — Где же наш друг Колька?
— К приятелю пошел, заниматься — у них контрольная завтра.
— Та-ак… А Галина Самсоновна?
Маша бросила на футболиста быстрый взгляд.
— Галка — в командировке.
Она умчалась ставить гвоздики в воду. Синицын ей нравился; кстати, он единственный принес сегодня цветы, и проявленный молодым человеком интерес к сестре обрадовал Машу: Галку пора было выдавать замуж.
Петя развел руками, кивнул грустно; больше ему тут делать было нечего.
12
Вернулся Колька ближе к одиннадцати — тошно стало слоняться по улицам.
Он рассчитывал незаметно проскользнуть к себе и забраться в постель, но в коридоре натолкнулся на начальника команды Генриха Свияжского.
— Кого я вижу! — дурашливо заверещал Генрих и, недолго думая, подбросил мальчугана так нерасчетливо, что хохолок Колькиных волос оказался выпачканным известкой. — Наш талисман явился! Ты где пропадал, ненаглядный мой?!
Не выпуская Кольку из рук, он внес мальчика в столовую и поставил прямехонько на отодвинутый к дверям стол.
Танцы были в разгаре, но появление Кольки заметили; раздались приветственные возгласы.
— Принимай гостя, Валера! — не меняя регистра, продолжал трубить Генрих. — Штрафную ему, штрафную! Я чокнуться желаю с твоим наследником!
Валера, как всегда, пил вровень со всеми и, как всегда, не пьянел. Он мигом сообразил, чего налить сыну: плеснул в стопку «сухарика» и долил доверху пепси-колой.
— Держи! — Свияжский торжественно вручил стопку Кольке. — Теперь попрошу мою рюмку. Так! Ну, Колюха, давай выпьем за уникального футболиста, гордость команды, а попросту говоря — за нашего дорогого и горячо любимого Фролова Валеру! За папку твоего! Ура!
Размашисто тюкнув рюмкой по Колькиной стопке, он сразу же и выпил.
Колька как стоял, так и остался стоять.
— Ты чего? — изумился Генрих. — Пей, не бойся, это же пепси! Отец наливал…
— Я не хочу, — тихо сказал Колька.
— Ну чего пристали к ребенку! — вступилась натанцевавшаяся Шура. — Бедненькому давно спать пора.
Благодарно кивнув ей, Колька нацелился было спрыгнуть со стола и удрать, но отвязаться от Генриха было не просто и от трезвого, а тут…
— Вот глотнет — и отпущу! А так — и не думай! Обижусь! На всю жизнь обижусь! — вопил он.
13
В это время кончилась кассета в магнитофоне. Танцы прервались.
Гости сгрудились возле стола, на котором стоял Колька, и вскоре он оказался в полукольце плечистых парней, добродушно тянувших к нему рюмки.
Отца среди них не было: отец стоял у балконной двери.
Мать тащила на кухню очередной ворох грязной посуды.
Колька затравленно огляделся; взгляд его зацепился за любимое мамино плетеное креслице, изнывавшее под тяжестью полновесной и на редкость вульгарной супруги старшего тренера.
И мальчик вмиг позабыл, что и как п о л а г а е т с я.
Слепая ярость, подстегнутая учиняемым над ним насилием, охватила Кольку плотно, как мокрая простыня на ветру, и выхлестнула все его тошнотворные сомнения наружу.
— Не стану я пить! — воскликнул он, взмахивая рукой, и содержимое его стопки оказалось на розовой рубашке Свияжского; крупные цветы, художественно разбросанные по могучей груди начальника команды, стали покрываться темными, словно бы маслянистыми пятнами.
Все оцепенели.
Генрих отшатнулся; свободной рукой он торопливо сбрасывал с рубахи капли.
— Ты… чего это?.. — только и мог он выдавить.
Колька увидел через его голову, как умоляюще всплеснула руками вновь вошедшая в комнату мать, хотел притормозить, прекрасно понимая, что делает больно прежде всего ей, но притормозить был не в силах.
— А ничего!.. — крикнул он; слезы потекли по щекам.
Качнувшись, поднялся на ноги задвинутый к стене вместе со столом мрачный Петя Синицын.
В тишине звякнуло стекло.
Никто не мог ничего понять. Переспрашивая друг друга, недоумевая, гости задвигались, отошли немного от стола, расступились таким образом, что Колька внезапно оказался стоящим прямехонько против отца, сделавшего уже шаг по направлению к нему.
Они не впервые стояли друг против друга, но никогда раньше сын не был на голову выше.
14
На всякий случай Колька развернулся и стал к отцу боком, как Дантес на картине «Дуэль Пушкина», висевшей у них в классе; вместо пистолета он прикрылся пустой теперь стопкой.
Он не думал заранее о том, что говорил; слова вылетали сами и сами же выстраивались кое-как, словно заштатная команда, впервые выступавшая на таком первоклассном стадионе, какой был у них.
— Ты все испортил… все разрушил… Не хочу я пить за твое здоровье!
Отец замер посреди комнаты; гости дружно ахнули.
— Мой папка всегда был честным человеком… а ты… а ты — обманщик! — из последних сил выжал из себя Колька.
Сел на столе и горько заплакал.
— Коленька… — пробилась к нему мать.
Ахать и удивляться гости были уже не в состоянии. Все протрезвели, даже Генрих.
— Что ты такое плетешь, дурачок? — произнес он неожиданно тихо.
Колька вытянул в его сторону шею, как змея, и прошипел:
— Сам дурачок, тебя иначе никто и не называет, А я — правду говорю, и он это знает.
— Ступай спать, — сухо сказал отец. — Завтра выясним.
Но Колька не сомневался: другого случая выяснить разом все, что его мучило, может и не представиться. «Знаем мы это завтра», — мелькнуло.
И его неслыханная ярость обрела второе дыхание.
— Он всех вас обманул! — крикнул с перекосившимся лицом. — Как маленьких купил!
Если бы кто-нибудь сказал Кольке, что в этот момент он более всего походил на собственного отца, забивающего несправедливо назначенный пенальти, Колька не поверил бы.
А может, испугался бы достоверности кривого зеркала и отдал все силенки, чтобы научиться сдерживаться и не поддаваться столь отвратительной для него самого н е ч е л о в е ч е с к о й злобе?
Гости молчали.
И Колька молчал — ждал, что будет.
Но ничего не дождался.
Тогда он добавил, разъясняя:
— Его не сбивали в штрафной… Он сам упал…
Вымолвив эти страшные слова, Колька сжался, ожидая бурной реакции; он боялся, что после такого потрясающего разоблачения отец будет уничтожен, и всем сердцем сострадал ему.
Он даже глаза прикрыл — от ужаса.
Но кругом по-прежнему было тихо.
15
Потом Генрих сострил!
— Значит, хорошо упал, а?! — И захохотал протяжно и нечисто.
Загалдели и другие.
— Всего делов-то?
— Ну, Валера, сыночка вырастил, — прокурор!
— А счет какой, если бы не пенальти?
— Поря-а-адочек!
— Два очка — псу под хвост?!
И еще всякое в этом роде.
Выпивали; на Кольку перестали обращать внимание.
«Что это?.. Значит, знали?.. Значит, ничего особенного для них тут нет?..»
Колька был теперь один в целом мире — мать, как известно, мужчины в расчет не принимают.
У него разрывалось сердце.
В этот момент рядом с ним выросла длинная, но прочная фигура Синицына, доблестно проделавшего путь под столами и даже не запачкавшего светло-серых брюк, — наглядное свидетельство того, что если парень и поддал, как собирался, то пьян ни в коем случае не был.
Петя отряхнул ладони, снял Кольку со стола, поставил на пол, наклонился к маленькому уху, спросил шепотом:
— Насчет отца — ты уверен?
Колька кивнул.
— Ты все точно заметил?
— Точно…
— А судья?
— Если я судью не видел, как мог судья видеть папу?
— Верно… — Петя был сражен неумолимой логикой простого ответа. — И Валера тебе не возразил… Значит, правда.
Выпрямившись, он бесцеремонно отодвинул кого-то, стал спиной к стене, обеспечивая тыл, Кольку поставил перед собой, положил мальчику руки на плечи, давая понять, что тот находится под его защитой, сказал громко:
— И вы тоже были в курсе, Пал Палыч?
Все снова затихли, а сидевший в углу, «под образами», на месте, даже и во время танцев остававшемся почетным, старший тренер покосился на Петю и вяло прошелестел:
— Игра есть игра.
А Генрих, услышав эти слова, немедленно присовокупил:
— И с судьей, между прочим, не спорят! А? Ха-ха-ха!
Хохотали многие, если не все.
Маша не смеялась; встала совсем вплотную к Пете и сыну — на всякий случай.
— А ты, Колька, гляди! — выкрикнул Генрих, упоенный сочувственной реакцией большинства. — Доносчиком заделаешься — на стадион не пущу!
— Я и сам не приду, — сказал Колька.
— Что-то очень уж ты разошелся, — раздался голос Фролова. — Сказано: спать ступай. Завтра поговорим.
— Так всю жизнь ловчить и собираетесь? — с достоинством произнес Петя. — Постыдились бы парнишки.
Опять стихло.
— А тебе — чего? Больше всех надо?! — надвинулся на Петю полузащитник Еремин. — Сопляк!
— Не выкручивайтесь! — рубанул Петя. — Имейте мужество сказать мальчику правду. Для порядочных людей правда — повод задуматься… А, да все равно вам не понять… До свидания, Мария Самсоновна…
Маша кивнула.
Придвинув Кольку к матери и как бы поручая дальнейшую защиту мальчика ей, Петя шагнул в проем двери.
16
— Минуточку, Петро! — раздалось от окна.
В говорившем легко было распознать спортсмена — теперь уже бывшего — по тому, как он держался, во что был одет; он принадлежал, кроме того, к людям, имя и отчество которых мы угадываем почему-то заранее, еще до того, как нас представили друг другу.
Это был второй тренер.
— Да, Борис Николаевич?
— Ты понимаешь, что если сейчас уйдешь…
— Так оно лучше будет.
— Что ж ты — всем, огулом неуважение выказываешь?
Петя промолчал.
— Не приходит в голову, что в команде могут найтись единомышленники?
— Они есть в команде, Борис Николаевич, — кивнул Петя. — Только их сюда не приглашают.
— Об отсутствующих что ж говорить!
— А из присутствующих — кто? Дерзко прозвучало это «кто?» в устах молодого человека.
— Допустим, я, — спокойно ответил второй тренер. — Или я не в счет?
— Я этого не говорил, — нахмурился Петя.
— Полагаю, еще кое-кто найдется, — тренер бросил искоса взгляд на застывшего, как Будда, Пал Палыча. — Только не место здесь вроде и не время…
(Что он — всерьез? Или ему важно, чтобы Синицын не вынес сора из избы? Или он хочет любой ценой удержать парня от опрометчивого шага — расставаться с таким игроком, да еще в начале сезона, команде тоже не резон. Во всяком случае, взгляд Бориса Николаевича в сторону шефа не был вызывающим, скорее, искавшим одобрения, и шеф, похоже, молчаливо это одобрение выказал.)
Борис Николаевич подошел к Кольке и подал ему руку.
— Спасибо тебе, Николай Фролов, — сказал мягко. — Ты помог нам. Только никогда не считай, что если все молчат, то думают они одно и то же. Это так кажется, понимаешь? На самом деле: сколько голов — столько умов. Ясно?
— Ясно, — ответил Колька.
— Ну и хорошо. А теперь — спать.
Он легонько подтолкнул мальчика к двери и, улыбнувшись Маше, попросил тем самым увести сына.
17
Первый раз Колька проснулся от острого чувства жалости.
Было темно, но темноты Колька давно уже не боялся.
Он лежал и думал: кого же ему так страстно жаль?
Отца?
Нет, по отношению к отцу он был прав; он задохнулся бы от горя и тоски, если бы не высказал все, что думал.
Тогда кого же? Мать?
Мать он немного жалел всегда; минувший вечер ничего не убавил и не прибавил.
Может быть… себя ему жаль?
Колька усмехнулся, не понимая, что здесь он ближе всего подобрался к истине.
Шаг за шагом перебирал он происшедшие вчера вечером после его возвращения домой события и внезапно вновь ощутил себя стоящим в одиночку едва ли не против всех. И вот тогда Колька понял, что он был несправедлив к к о м а н д е, что, ополчившись на отца, он походя обидел славных, в сущности, ребят, долгие годы добродушно с ним возившихся.
И он подумал, что целая команда быть неправой — не может. Для команды случай с отцом — пустяк, комариный укус, один из десятков мелких штрихов, из которых складывается рисунок их вечной и г р ы — а значит, и норма их жизни.
По какому же праву он на них накинулся?
«Надо как-то дать понять ребятам, что я их по-прежнему люблю», — решил Колька, засыпая.
18
Когда утром Колька проснулся во второй раз, солнце заливало комнату; у окна сидел отец и читал «Всадника без головы».
Колька долго не шевелился.
Потом вдали зазвонил телефон, и он окончательно понял, что не спит.
Поднимаясь, чтобы подойти к телефону, отец заметил, что Колька открыл глаза, и кивнул ему.
«Что-то будет?» — подумал сын.
Валера вернулся. Спокойно сел.
— Мать звонила.
— Случилось что?
— Спрашивала, как ты.
— Ты сказал?
— Сказал — в порядке.
Колька кивнул.
Помолчали.
— Со мной вот неважно, — неожиданно произнес Валера.
Колька затаился.
— Тридцать уже, а что я умею? По мячу стучать?
Колька — ни гугу.
— Из футбола уходить скоро… А куда? Может, в школу тренеров двинуть? Предлагают…
Это звучало наполовину как вопрос.
— А что… — осторожно сказал Колька. — Ты сумеешь.
Вновь зазвонил телефон. Отец вышел, и до Кольки донеслось:
— Приветствую, Пал Палыч…
Мальчик напрягся. Ему казалось, что вот сейчас, сию минуту, он окончательно удостоверится в том, что отец понял его вчера и додумал ночью все как надо, — заданным только что ему, Кольке, вопросом он как будто признался в этом.
— Конечно, Пал Палыч, само собой… — услышал Колька.
И отцовский почтительный смех.
Вернувшись, Валера сказал:
— Ты не сердись на меня, — он робко дотронулся до головы сына кончиками пальцев, погладил где-то за ухом, как котенка. — Спорт — дело непоправимое. Игра — только одна долька. А весь апельсин…
— Я не сержусь. — Колька был тронут: надежды его развеялись как дым, но и то, что отец искал пути к примирению, само по себе было здорово. — Я понимаю…
— Ни черта ты понимать еще не можешь, — мрачно заявил отец. — Житуха — она сложнее, чем кажется.
— Ясное дело.
— Ясное? — недоверчиво глянул отец.
— Как шоколад, — выдал Колька вычитанную где-то присказку, очень им с Катенькой нравившуюся. — Только, понимаешь, папа, получается, будто ты заодно с этими… к р у т ы м и р е б я т к а м и.
— С кем? — переспросил Валера.
— Ну… с Генрихом… и вообще…
— А-а… Поздно компанию менять, сынок. Будь мне двадцать, как Петьке…
— Петя — хороший парень, — совершенно неожиданно для себя сказал Колька.
— Ничего, ничего, режимистый мальчик, — благосклонно кивнул отец.
Колька удивился, но и обрадовался немного.
Еще помолчали.
— Вот поступлю в школу тренеров — тогда все!
— Чего — все? — теперь не понял сын.
— Покончу с этой… мафией… — заявил Валера гордо; в настоящий момент он действительно в это верил.
— Да?! — Колька удивился еще больше.
— А уж здесь их точно больше не будет, не бойся.
— Я их не боюсь, — уверенно сказал Колька. — Пусть они меня боятся.
— Правильно… — восхитился отец.
Не двигаясь, они с улыбкой смотрели друг на друга.
Солнечный луч, тоже улыбаясь, лежал между ними.
Каждый из мужчин по-своему готовился начать этот новый день.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ
Памяти Натальи Долининой
— Зачем? — спрашиваю ее. — Зачем вы это делаете?
Часа полтора назад воскресным утром я вышел из гостиницы — взглянуть на городок, куда журналистская судьба забросила а, меня на этот раз.
Ночь мы с Бобровым провели в крохотном душном номере. Спал я скверно. Вынужденная остановка ломала планы, грозила сожрать бог знает сколько времени, рассчитанного, как обычно, по часам. Да и обратный билет на самолет уже заказан… Смешно сказать, посещение заповедника целиком зависело теперь от того, удастся ли наладить машину без нового диска сцепления; запасного у Боброва не было, а возможность раздобыть москвичовский диск в райцентре, да еще летом, да еще в выходной день, практически равнялась нулю.
Что-то его милость неуправляемый случай стал слишком уж часто проявлять себя хозяином положения…
Наутро Бобров отправился колдовать под своим подопечным, а я от нечего делать пошел бродить по улицам. Сперва круто повернул вглубь, раз, другой, оказался в лабиринте стареньких одноэтажных строений и, как это не раз уже бывало, обнаружил двойника того домика с мезонином, в котором прошло мое детство. Крыльцо, окраска, даже нехитрый узор резьбы на наличниках — все совпадало до мелочей. Постоял, покачался на носках бездумно и вдруг отчетливо различил в трех глядящих на улицу окнах лица родных — их давно уже нет на свете…
Дернул себя за ухо, чтобы избавиться от наваждения, поплелся обратно к центру. Солнышко выглянуло, и ситуация стала казаться не такой несносной, нелепой, мерзкой, какой была на самом деле. Должно же и нам повезти в конце концов, у дороги свои, особенные законы и удача так тесно переплетается с неудачей, что и не отличишь подчас.
Совершенно невероятная история — ни один автомобилист не верит, когда я пытаюсь рассказать ее, — случилась в прошлом году тоже на большой дороге. Камень выбил у нас ветровое стекло и, если бы не душевная щедрость первого встречного — буквально первого, — рухнула бы вся поездка, и так тщательно спланированный отпуск, и купание в теплом море…
Хорошо, память пока не подводит. Вижу отчетливо: летние сумерки, свет переноски, рассеивающийся в не совсем еще темном небе, «первый встречный» и его друзья, поругиваясь, с прибаутками устанавливают на нашей машине свое запасное стекло.
Еще немного полегчало.
— Так зачем же вы это делаете? Чего хотите добиться? Ну что вы все молчите?!
Сидящая на скамейке рядом со мной пожилая женщина прячется, как улитка в раковину, в летнее пальто из серого габардина, давно вышедшее из моды, и, сжав губы, упорно смотрит в землю.
Вот навязалась на мою голову… Только ее не хватало…
Ж е н щ и н а. …Вы глядите на меня, а сами думаете: вот навязалась на мою голову!
С о т р у д н и ц а (улыбается). Нет, почему же… Это наша работа. Вы — приезжая?
Ж е н щ и н а. И не говорите! Летели, летели… Думала, конца-краю не будет…
С о т р у д н и ц а. А почему вы писали именно в нашу газету?
Ж е н щ и н а. Я писала о человеке, всю жизнь прожившем в этом городе. Я и сама здесь родилась… а теперь уже столько лет в районной больнице…
С о т р у д н и ц а. Вы — врач?
Ж е н щ и н а. Медсестра.
С о т р у д н и ц а. Не помните ли случайно номер на ответе? Иначе нам трудно будет…
Ж е н щ и н а. Я привезла ответ и копию письма с собой. Вот.
С о т р у д н и ц а. Та-ак… Ответ подписан мной… Та-ак… ага…
Ж е н щ и н а. Там… там только хорошее… и я не понимаю…
С о т р у д н и ц а. Минуточку… вспомнила, кажется. Вы сообщаете о событиях более чем тридцатилетней давности…
Ж е н щ и н а. Разве это меняет что-нибудь?
С о т р у д н и ц а. …И человек этот давно умер.
Ж е н щ и н а. Да, но…
С о т р у д н и ц а. Газета призвана отображать сегодняшний день. Мы охотно печатаем письма о добрых поступках ленинградцев, совершенных вчера, позавчера, неделю, месяц назад. Но мы не можем уходить так далеко в прошлое. Или…
Ж е н щ и н а. Или — что?
С о т р у д н и ц а. Или это должно быть строго документированное воспоминание о каком-нибудь значительном событии в истории города, даже всей страны, — такой материал мы могли бы приурочить к соответствующей годовщине. Или, допустим, страница из жизни выдающегося, популярного, хорошо известного читателям деятеля. А тот, о ком вы пишете…
Ж е н щ и н а. Он, конечно, был рядовой человек. Но, уверяю вас, очень заслуженный. Вся его жизнь…
С о т р у д н и ц а. Ну посудите сами: сколько заслуженных людей в пятимиллионном городе! Тем более за тридцать лет сколько наберется. А газет — раз-два и обчелся. Верно?
Ж е н щ и н а. Верно… Хотя сотрудников у вас… Я шла, шла по коридорам, пока отдел писем разыскала…
С о т р у д н и ц а (строго). Что вы этим хотите сказать?
Ж е н щ и н а. Ничего такого… Просто я не думала…
С о т р у д н и ц а. У каждого сотрудника — свой отдел, свой круг вопросов…
Ж е н щ и н а. Ну конечно.
С о т р у д н и ц а (помолчав). Кроме того, этот (ищет в письме)… этот ваш Иван Семенович не совершил, честно говоря, ничего особенного. Он помог вам в трудную минуту, и это прекрасно. Допустим, он также бескорыстно помог не вам одной… Но, в общем итоге, это явление обычное, а не исключительное!
Ж е н щ и н а (растерянно). В общем итоге… Вы так думаете?
С о т р у д н и ц а. Уверена. Хороших людей у нас больше, чем дурных, черствых, гораздо больше. Они в массе… не так заметны, что ли. Вы сами помогали кому-нибудь?
Ж е н щ и н а. Помогала…
С о т р у д н и ц а. Вот видите. А ведь вы не ждете, что об этом сообщат во всеуслышание, правда? Тем более через много лет. Кстати, а почему вы раньше не написали, тогда же?
Ж е н щ и н а. Я… я очень молодая была… И он был еще жив… А потом… А теперь все его родные и близкие умерли…
С о т р у д н и ц а. Прискорбно, разумеется, что все скончались, но ничего не поделаешь, судьба…
Ж е н щ и н а. Видите ли… Если я не скажу о нем ни слова, то уже никто не скажет. Никто… Никогда… Будь Иван Семенович хоть сколько-нибудь знаменит, тогда другое дело, тогда оставалась бы надежда, что кто-то другой… А так…
С о т р у д н и ц а. И это достойно сожаления, что и говорить, но поймите и вы нас.
Ж е н щ и н а. Может быть, попытать счастья в других отделах?
С о т р у д н и ц а. Ну что вы!
Ж е н щ и н а. А если обратиться… к главному редактору?
С о т р у д н и ц а (мягко). Главный редактор вопросами такого масштаба не занимается. У него своих забот хватает. Он снова направит вас сюда. А с завотделом я советовалась, прежде чем отвечать на ваше письмо.
Ж е н щ и н а. И что же он сказал?
С о т р у д н и ц а (мягко). Как раз то, что вы прочли в ответе. Что я пытаюсь разъяснить вам сейчас. Газета не может писать о частном поступке, совершенном так давно человеком, которого много лет нет в живых.
Ж е н щ и н а. О частном… Решительно не может?
С о т р у д н и ц а. Решительно. Да что толковать: умри я завтра, газета не напечатает даже извещения о моей смерти, а я тут уже три года работаю! У нас все так строго регламентировано…
Ж е н щ и н а. Регламентировано…
С о т р у д н и ц а. Хотя, поверьте, сердцем я прекрасно вас понимаю. Это вечная история: только потеряв кого-нибудь из близких, мы спохватываемся и начинаем по-настоящему остро ощущать, каким незаменимым…
Ж е н щ и н а. Иван Семенович не был мне близким!
С о т р у д н и ц а. Да, да, конечно, я просто обобщаю. Но я искренне вам сочувствую.
Ж е н щ и н а. А вы… вы лично — не поможете мне?
С о т р у д н и ц а. Я?!
Ж е н щ и н а. Ну… вы на таком посту… связаны с печатью… Не посоветуете ли хоть что-нибудь?
С о т р у д н и ц а. Что тут посоветуешь? Специальных изданий такого рода не существует… Когда-то давно выходили ежегодники «Весь Петербург», «Вся Москва»… Нам говорили на лекции, что Суворин выпустил даже сборник «Вся Россия»… Только и это не то, что вам нужно… Что же есть реально? Пионеры-следопыты…
Ж е н щ и н а. Пионеры?..
С о т р у д н и ц а. …Но они разыскивают героев войны… Слушайте, а не обратиться ли вам в журнал какой-нибудь? Журналы охотно печатают мемуары. Вы можете написать более подробно и связно об этом человеке?
Ж е н щ и н а. Не могу. Пыталась. Не могу.
С о т р у д н и ц а. Тогда… попробуйте заинтересовать кого-нибудь из писателей. А? Вы читаете книги ленинградских писателей?
Ж е н щ и н а. Читаю… иногда…
С о т р у д н и ц а. Вот и обратитесь к тому, кому вы внутренне доверяете, чьи книги вам близки.
Ж е н щ и н а. А как я разыщу писателя?
С о т р у д н и ц а. Очень просто, через отделение Союза писателей. Минуточку… Пожалуйста: я написала вам телефон.
Ж е н щ и н а. Спасибо. (Неловкая пауза.) Так… я могу идти?
С о т р у д н и ц а. Конечно! Всего доброго!
Ж е н щ и н а. И вам…
Центр городка я обошел минут за сорок. Ничего примечательного не обнаружил. Заурядная сусальная церковь, построенная лет сто назад, занята под склад. Разномастные здания, преимущественно двухэтажные, давно не крашенные, с обвалившейся кое-где штукатуркой… Несколько сравнительно новых пятиэтажных домов погоды не делали и выглядели, в общем, так же уныло. Ни одного кафе, зато парикмахерских — хоть отбавляй: мужская, дамская, мужская…
Я шел куда глаза глядят и подумывал уже, не спросить ли, где рынок. В веселой базарной суетне люди — на пятачке, заняты делом: продают, покупают, торгуются, — все наглядно, можно какое-то представление о городе составить. Но в это время заметил в стороне некое подобие сквера или, скорее, небольшой парк, прилегающий к длинному зданию в стиле русский ампир, тоже двухэтажному, тоже облупленному, но тем не менее стойко сохраняющему колорит начала прошлого века.
Когда-то парк был замкнут, был закрыт от улицы решеткой, теперь от нее остался лишь низкий каменный парапет, местами выщербленный. Я мог легко перешагнуть его, но спешить было некуда, и я нарочно дошел до проема, оставшегося от ворот, чтобы войти в центре, так, как было задумано создателями этого уголка. Что тут было раньше? На усадьбу не похоже… Какой-нибудь казенный дом, пожалуй, гнездо городничего или воинского начальника. Колонны, обычно столь приветливые, когда они покрыты свежей известью, глядят угрюмо; вблизи наверняка обнаружится, что они испещрены именами, сердечками, изречениями, отдельными недлинными словами…
Вошел. Трава, трава, редкие полевые цветы, кустарник и деревья вперемешку, давно не расчищавшиеся дорожки, неровности, бугры — жалкие остатки былой планировки. В дождливый день тут, вероятно, мрачновато, но в это солнечное утро парк показался мне оазисом в пыльной пустыне городских закоулков, и я решил посидеть немного на скамейке под кустом отцветшей сирени и просмотреть только что купленную газету. Вытаскивая газету из кармана пиджака, я увидел толпившихся у самой стены дома людей и, сам не знаю отчего, направился туда.
К наглухо заколоченному парадному входу вели с двух сторон, вдоль фасада, мощенные булыжником наезды — по ним когда-то поднимались экипажи, чтобы затем, высадив седоков, вновь спуститься на уровень улицы. На крытой прямоугольной площадке, как раз и предназначенной для остановки экипажей, на самом ее краю, обращенном в парк, виднелась фигура женщины. Жестикулируя, она взволнованно говорила что-то; десяток взрослых и несколько ребятишек — слушали.
Приближаясь к этой живописной группе, я в который уже раз подумал о том, что наиболее верное впечатление о настроении человека можно составить, взглянув на него сзади, особенно если он не предполагает, что кто-то пристально разглядывает. Конечно, лицо тоже о многом говорит, очень о многом, но лицо можно искусно приспособить, придать ему нужное выражение — одобрения, разочарования, гнева. Спину приспособить никак нельзя, и если не подана команда «смирно!»…
Спины местных жителей так отчетливо выражали равнодушие, рассеянность, безразличие, что живо напомнили мне другое утро и другую подобную сценку, далеко, бесконечно далеко отсюда, в лондонском Гайд-парке, где я тоже наблюдал ораторов-кустарей — только располагались они на куда менее массивных возвышениях, — и лениво внимавших им, от нечего делать, ироничных гуляк, оторвавшихся на четверть часа от воскресного праздношатания.
Подошел. Остановился. Стал слушать.
— …Споткнуться может каждый, — лихорадочно говорила женщина, — и не раз, не два, и по самым разным причинам, часто от нас не зависящим: приходится спотыкаться, и все. Но далеко не каждый сумеет, споткнувшись несколько раз подряд, продолжать идти дальше по избранному в молодости пути. Иван Семенович был исключительно мягкий человек, но он был закален своей предыдущей жизнью — все, все тогда были закалены, не то что сейчас, и в смысле здоровья, между прочим, тоже, не кидались как оглашенные из-за каждого пустяка лекарства глотать… Иван Семенович не желал играть с судьбой в прятки, считал это унизительным. В самое трудное для него время меня, к сожалению, не оказалось рядом, я вышла замуж и уехала сюда, в ваш город… Но Иван Семенович написал мне тогда письмо. Послушайте, сейчас я прочту его вам…
Расцепив крепко сжатые на груди руки, женщина стала рыться в висевшей на левом локте сумочке.
А тетка-то, кажется, с приветом…
— Да просто тетка была с приветом, Майя Александровна, а грубить я никому не грубила, привычки не имею, и вообще напрасно вы всему верите, что вам докладывают. Конечно, вы — директор школы, но и я — пионервожатая, а не первоклашка, мне без уважения тоже никак нельзя, сами понимаете. Да и не было, не было ничего особенного. Ну, вчера, после уроков, Савельев из девятого «Б» приводит ко мне эту самую тетку… Ну, извините: пожилую женщину. Она здоровается, я отвечаю вежливо, а сама прикидываю: мамаша кого-нибудь из ребят или, скорее, бабушка. А она вдруг спрашивает про наше следопытское движение. Я же не обязана каждому докладывать, но я сдержалась и популярно разъяснила, как полагается, поставленные перед нами задачи. Чем черт не шутит, думаю: может у старухи ценные материалы найдутся. А она: «Значит, вас только герои войны интересуют?» — «Конечно, говорю, да и то не все, а те, кто в наших местах воевал». А она: «А если не воевал, если сутками не выходил из госпиталя, но никаким особенным героем не был?» — «Тогда, говорю, это не по нашей части». А она: «Сколько он за блокаду раненых на ноги поставил, тут, в этом самом здании, и вообще был человек исключительных душевных качеств, так неужели пионерам не интересно будет узнать о нем?» Ну, таких вопросиков я уже наслушалась. Аккуратно спрашиваю, не совершил ли товарищ чего-нибудь выдающегося в медицинской науке, может, звания имел высокие, награды. «Нет, говорит, ничего такого, насколько я знаю, он не имел, просто был очень хороший, сердечный человек, честно жизнь прожил, другим помогал…» — «Так ведь таких граждан в нашей советской стране подавляющее большинство, замечаю я, мы не можем на всех материалы собирать, не можем по каждому специальный сбор устраивать». Она вроде соглашается, а все уступить не хочет. «Ну как же так, говорит, вы подумайте, девушка, ведь вот сейчас я еще о нем помню, а может так случиться, что меня не станет, и тогда уже никто о нем не вспомнит, разве это дело?» — «Ничего не попишешь, отвечаю, нельзя же о всех людях помнить, никакой памяти не хватит, даже ЭВМ не выдюжит, да и зачем, кому это надо, знаменитых людей и то всех не упомнишь, зубришь, зубришь, вся молодость на экзамены уходит…» Она таращится на меня, как на чудо какое, но опять вроде соглашается. «Да, говорит, в общем и целом это, пожалуй, так, но если взять конкретно?» — «Как это — конкретно?» — «А вот так: вам, например, разве безразлично будет, если о вашем отце все позабудут, совсем забудут, напрочь, — о том, что он работал, существовал?» — «О моем отце, отвечаю, между прочим, едва ли позабудут, он многим прекрасно известен, руководителям в том числе, он с доски Почета не сходит на своем заводе, он новатор, депутат райсовета, о нем сколько раз в многотиражке писали, да и в газете фотография была: они, всей бригадой, соцобязательства принимают…» А она глядит на меня так издевательски-печально, как на дурочку, и заявляет: «Вы думаете, раз эти статьи напечатаны были, то все их читали? Все фотографию заметили? А если и заметили, то запомнили? А если запомнили, то надолго? Конечно, сейчас ваш отец в расцвете сил и его знают лично много людей, но ведь потом они умрут». Так и прокаркала: умрут! Уникально! Я возмутилась, сами понимаете, но все еще сдерживаюсь, из уважения к ее возрасту, как вы меня учили. «А семья наша на что? — спрашиваю. — Мама, я, братья? С нами — как?» — «И вы тоже умрете», — говорит она не моргнув глазом. Впечатляет, правда? «Конечно, умрем когда-нибудь, но у нас будут дети, его внуки», — я держусь уже из последних сил. «Может, будут, может, нет, — качает она головой. — И потом, внуки редко когда о нем вспомнят, а правнуки уже точно не вспомнят никогда, — что вы сами знаете о вашем прадеде? Ничего, скорее всего…» Тут я не выдержала и сказала ей внятно, чтобы она о других по себе не судила, что если она такая неблагодарная и позабыла дорогих ей и близких когда-то людей, то это вовсе не значит, что все такие же бессердечные. Она, конечно, в слезы, а в комнате к тому времени ребят набилось… «Какая же я, говорит, бессердечная, ведь я как раз бережно храню память о замечательном человеке, а вы не хотите, чтобы я эту память детям передала». Это я — не хочу?! Интриганку нашла! Ну, скажите, скажите, могла я стерпеть, чтобы мой престиж был при пионерах поставлен под угрозу?! Да наши дорогие мальчики и девочки мне на голову сядут, если я при них такие выпады стану молча выслушивать. И я ей все сказала. Строго, без крика, как вы меня учили, но чтобы абсолютно ясно было, что к чему. «Будьте любезны, — говорю в конце, — обратиться в соответствующие инстанции. Получим указание принять ваш материал — примем. Но имейте в виду: для этого надо, чтобы тот, о ком вы, не знаю почему, так усиленно хлопочете, был выдающимся гражданином нашей великой родины…» Разве не так?
Только успел я подивиться темпераменту этой неизвестно откуда взявшейся проповедницы и яростному напору, с каким она обрушивала на своих слушателей прописные истины, как стоявшая рядом супружеская пара, воспользовавшись передышкой, развернулась и направилась к улице; немолодые, плотные люди. Один из вертевшихся под ногами мальчишек внезапно съездил по шее другого, тот сдал сдачи, и оба, весело завывая, покатились в кусты. От их воплей проснулся младенец в коляске — его мать слушала женщину внимательнее остальных, — огорчился, заплакал, и его повезли прочь, покачивая. Три девчушки-петеушницы, не сговариваясь, дружно фыркнули; та, что постарше, с красной ленточкой в волосах, повертела пальцем у виска. Долговязый юноша в очках сперва недовольно покосился на соседок, но потом, мгновенно заразившись их настроением и желая им подыграть, прогнусавил:
— А чужие письма читать нехорошо, меня еще мама учила…
После чего девушки уже не могли сдержаться и громко, впокатышек, захохотали, исчезая в аллейке, а юноша, подтянув брюки, устремился за ними.
Словом, к тому моменту, что женщина достала смятый листок бумаги, нацепила очки и была готова читать, перед нею остались двое: древняя старуха с каменным выражением морщинистого лица, скорее всего, глухая, и я.
Письмо в руках женщины задрожало, она вновь сняла очки, нет, не сняла — сорвала, обнажив глаза, выражавшие безмерную растерянность, и как-то очень уж внезапно, без малейшей подготовки, глухо зарыдала. Похоже, не впервые, похоже, она внутренне была готова к такому исходу или, во всяком случае, предвидела его.
Увидев ее плачущей, старуха с неожиданной прытью, широким мужским шагом двинулась прочь. Повернулся было и я, чтобы не глазеть всуе на несчастного и больного, судя по всему, человека, но рыдания у меня за спиной были такими неистовыми, что я не удержался и обратился к горестно возвышавшейся надо мной одинокой фигуре с ничего не значащими словами утешения.
И вот мы сидим на скамейке, вокруг ни души, она успокаивается понемногу, но упорно не хочет отвечать на мои участливые расспросы.
Очень, очень странная особа…
— Валюша, ты дома?
— Дома, дома, скоро обедать будем.
— Ничего, если я к тебе на кухню забреду? Под ногами обещаю не путаться.
— Сядь в угол. Случилось что-нибудь?
— И нет, и да…
— Только, бога ради, не говори загадками!
— У меня состоялся очень… не простой разговор с одной поразительной особой…
— Ну?
— Вчера, тебя не было, раздался звонок. Беру трубку. Женский голос. Вы такой-то? Да. Писатель? Да. Здравствуйте, я ваша читательница, отношусь к вашим книгам с большим уважением… Словом, все, что в подобных случаях говорится. Я терпеливо слушаю, а она заявляет в конце своего монолога: мне надо поговорить с вами, очень надо… И умолкает. И я молчу, соображаю, как бы половчее отвертеться. Потом говорю, что не выхожу сейчас, неважно себя чувствую, а дома у нас ремонт и пригласить к себе…
— Этого еще не хватало!
— Спрашиваю, на всякий случай, откуда у нее номер нашего телефона. Отвечает, что дали в Союзе писателей.
— Любимое занятие! Им лишь бы отделаться.
— Ну почему же, в известном смысле они даже обязаны… Женщина начинает сыпать словами. Встретиться совершенно необходимо, она специально приехала издалека, дело не личное, сугубо важное, много времени она не отнимет…
— И ты размяк.
— Размяк не размяк, просто ее волнение передалось мне. И тут я вспомнил, что сегодня мне все равно надо побывать в Союзе, и подумал, что если это можно совместить… Словом, предложил ей прийти туда. Она сразу согласилась, сказала, что бросит все и станет ждать меня сколько понадобится, пока не освобожусь…
— Ну?
— Мы только что встречались. Моя ровесница примерно, ничем особенно не примечательна, утомленное, нервное лицо, невыразительное, некрасивое, но именно нервное… да, руки еще — крайне деятельные… Волновалась. Сперва даже не могла говорить связно. Потом сообщила, что молодость прожила в нашем городе, уехала по семейным обстоятельствам, что давно хотела выбраться, но все никак не получалось — билет на самолет дорого стоит, а у нее скромная зарплата. Теперь приехала в отпуск, чтобы решить наконец важное дело, исключительно важное… Я успокоил ее как мог, задал несколько самых общих вопросов, она оттаяла…
— И какое же у нее дело?
— А вот послушай, какое странное дело, какое странное… Ни с того ни с сего она спросила меня, как я думаю, окончательно ли умирает человек? Вот он скончался, допустим, так все ли кончается с погребением? Я решил было, что речь пойдет о бессмертии души, спросил осторожно, верующая ли она. Выяснилось, что в бога она не верит. «Тогда все было бы очень просто», — заявила она мне и вздрогнула, и лицо передернулось… Очень просто — как тебе нравится! Вопрос же свой она задала потому, что глубоко убеждена в одной истине: окончательная смерть наступает не тогда, когда человек умирает физически, а когда этот мир покидает последний из тех, кто знал его когда-то… Своеобразная эстафета…
— Повтори еще раз, я не совсем поняла.
— Есть много людей, с которыми мы не видимся годами — нет особой необходимости или желания, иногда нет возможности встретиться. Но мы помним о них… так же, в сущности, как помним о тех, кто не так давно ушел из жизни навсегда. Память, в этом смысле, материальна, для нее нет разницы — умер человек или уехал за тридевять земель; она сохраняет приблизительно его облик, его манеры, поступки…
— Что-то в этом есть… Подержи, пожалуйста, дуршлаг.
— Изволь… Выложила она мне все это и смотрит выжидающе, как, дескать, я отнесусь. И я ей буквально твоими же словами ответил, что в ее идее что-то есть, доброе начало, уважительное, и что если ей интересно узнать мое мнение по этому вопросу, то, хотя оговорок может быть сколько угодно, я скорее за такую точку зрения, чем против…
— Спасибо. Давай я теперь сама возьму. Ну и отлично, что ты ее поддержал. Действительно любопытный разговор и странный, но почему он тебя так взволновал?
— Разговор еще впереди, в том-то и штука. Это была только преамбула, она разбег набирала… Чтобы не забыть: я сразу же спросил, откуда взялась эта теория, вычитала она где-нибудь, или как? Она ответила невнятно, что, когда была маленькой, нечто подобное говорила ей бабушка, но что именно — она не помнит. Девочка привыкла к тому, что старушка вечно бормочет что-то себе под нос, и не придавала ее словам особого значения, да и не понимала толком почти ничего. Но вот совсем недавно, то есть чуть ли не полвека спустя, она бессонной ночью, словно по наитию, вспомнила этот крошечный эпизод своего детства. И обнаружила, к собственному изумлению, что незаметный на первый взгляд посыл, переданный ей тогда из прошлого, существовал теперь в ее голове в виде четкой, не вызывавшей у нее сомнений идеи.
— Послушай, а она не того?..
— Судя по всему, она совершенно нормальна. Если ты имеешь в виду, что ее осенило неожиданно и именно ночью, то это явление распространенное. Оно и мне знакомо.
— Словом, ты почувствовал в ней родственную душу?
— Не то чтобы родственную, но ее объяснения вовсе не показались мне невероятными. Заметив это, она сразу же перешла к сути дела. Оказалось, что в жизни этой женщины был один очень светлый человек, сделавший ей немало добра…
— Она любила его?
— Ну почему сразу — любила… Она девчонка была пятнадцатилетняя. Впрочем, некая сентиментальная влюбленность могла иметь место… Так вот, человек этот давно умер. Потом умерла его жена. Было это лет тридцать назад. Моя читательница свыклась понемногу с таким положением вещей, и только недавно, после того, как ее осенило и она прониклась своей идеей, ей пришло в голову, что она же, в сущности, последняя, кто еще помнит о нем. Понимаешь, самое последнее живое существо. С мужем она давно развелась, детей нет, оставить светлое воспоминание в наследство — некому. Она встревожилась — как же так, все о нем забудут?! Примчалась сюда, разыскала поликлинику, где он последние годы работал. Ни малейших следов — новые люди, новые отношения. Пыталась найти хоть самых дальних родственников — неудачно…
— Чего же она хочет от тебя?
— Видишь ли, Валюша, ей не дает покоя мысль, что, когда она умрет, это будет означать окончательную смерть дорогого ей человека. И она… она с трогательным доверием предложила сообщить… передать мне…
— Она надеется, что ты напишешь о нем?
— Не знаю… Может быть, в глубине души она на это рассчитывает, но меня она ни о чем подобном не просила. Похоже, ей было бы достаточно, если бы я просто о нем знал…
— Это был человек выдающийся, несправедливо забытый по каким-нибудь особым мотивам… политическим?
— В том-то и дело, что нет. Я задал ей тот же вопрос. Он ничем не выделялся. Хороший врач, очень добрый, очевидно, или добрый только по отношению к ней — я не стал углубляться.
— У нее много материалов?
— Почти никаких. Два письма. Самые отрывочные и наверняка неточные сведения о его жизни. О семье — только, что сын погиб на фронте.
— Даже для биографии какого-нибудь героя…
— Крохи.
— Ты объяснил ей, что у тебя свои обязательства и планы? Что ты не можешь запоминать такого рода сведения о всех хороших людях?
— Пытался, хоть и не так впрямую… И вот тут мы с ней не поняли друг друга. Она даже обвинила меня в том, что я не исполняю писательского долга…
— И эта туда же!
— Представь себе, она считает, что я обязан был выслушать ее исповедь и каждую подобную исповедь — тоже. Обязан! Что это одна из сторон писательской работы… Для нее писатель — что-то вроде летописца.
— Бедняжка!
— То есть?
— Наивная бедняжка: верит в то, что еще существуют т а к и е писатели. Да в тебя любая исповедь уйдет, как в песок, если только не окажется «созвучной эпохе»… Ты же отказался? Наотрез?
— Отказался…
— И правильно сделал. От такой настырной потом не отвяжешься. Еще жаловаться станет, чего доброго.
— К стыду своему, я посоветовал ей обратиться в газету. А она уже была там, они-то и направили ее ко мне… Короче говоря, круг замкнулся.
— Вот что, значит, тебя озадачило… Слушай, неужели ей удалось убедить тебя?
— Я не знаю… Ясно, что государство не имеет возможности собирать сведения о ничем не примечательных прекрасных людях — ни один архив не выдержит… Как же тогда?
— А это — надо?
— Почему бы и нет? Вероятно, следует хотя бы не оставлять без внимания благородного стремления таких вестников добра, как она…
— Не терзайся, Витенька. Хорошо, если о тебе самом не забудут тридцать лет спустя после твоей смерти, а сколько ты написал и еще напишешь… Обо мне, например, так и говорить нечего. А я — хороший человек?
— Ты, Валюша? Ты мое золотко…
— И буду золотком, пока мы живы. А когда умрем… Мне лично все равно, станут обо мне помнить или нет.
— Конечно, дорогая, мне, в общем, тоже, хотя… Но в том, что это не долг мой — выслушивать каждого, кто несет мне светлую весточку о людях, я теперь не уверен… И зря ты иронизируешь. Знаешь, что она сказала, прежде чем уйти? «Я так надеялась на вас, поверила вашим книгам, а вы такой же черствый, такой же равнодушный, как и все…»
— Так верни ее.
— Увы! Я спустился буквально по пятам — ее и след простыл. И ни адреса, ни телефона, ни даже фамилии, только имя и отчество: Евгения Степановна.
— А на нет и суда нет. Пусть поищет кого-нибудь подобрее. Мой быстренько руки, будем обедать.
Не дождавшись ответа, я разворачиваю газету и делаю вид, что обнаружил исключительно интересную статью, а сам рассеянно проглядываю заголовки.
— Третье воскресенье сюда прихожу, — раздается негромко, — и все одно и то же…
— Зачем вы это делаете? — упорно задаю я свой вопрос, на этот раз не отрываясь от газеты.
И тут — плотину прорвало. То ли женщина просто отошла немного и вновь обрела утраченное равновесие, то ли ей легче было говорить, когда нас разделял газетный лист, но она поведала мне о своих хождениях по мукам с таким пылом и так непосредственно, словно мы сидели когда-то за одной партой.
Слушаю снисходительно, недоверчиво, краем уха — мне ли, с моим отточенным умением анализировать природу вещей, принимать всерьез чьи-то очередные бредни… Потом откладываю газету. Целеустремленность моей собеседницы сама по себе внушает уважение. Пробивать стенку задача неблагодарная, а она, похоже, пытается преодолеть не просто непонимание, а непонимание, в сущности, оправданное. Чтобы пойти ей навстречу, такая доброжелательность нужна, такая готовность преодолеть инерцию… А во имя чего, спрашивается? Лишние хлопоты за те же деньги? Она-то разлетелась, энтузиастов надеялась встретить. А где они, энтузиасты?
— Значит, вы считаете, что все эти люди не правы? — спрашиваю, чтобы хоть как-то реагировать на недоумение, обиду, горечь, с какими изложила она ленинградские эпизоды.
— А вы? — не медля ни секунды, отвечает она вопросом.
— Я… Мне кажется, каждый из них судил о том, что вас волнует, в меру своего жизненного опыта и… служебного положения, если хотите.
— Именно с л у ж е б н о г о, — внезапно соглашается она.
— Значит, вас огорчила мера их личной заинтересованности? Легко допустить, что мера эта была невелика, но стоит ли обижаться? Броня такого рода обычна для тех, кому приходится иметь дело с десятками посетителей…
— Никто из них не пожелал хотя бы выслушать меня до конца. Даже писатель, а уж он-то временем не связан, не на службе, да и человек вроде проницательный… Правда, зафиксирован прочно в одной плоскости…
— Зафиксирован? — усмехаюсь я.
Она кивает.
— Я же не имела возможности рассказать им толком об Иване Семеновиче — в точности как этим вот… — следует кивок в сторону наездов, возле которых совсем недавно толпились ее равнодушные «слушатели». — Вы сами видели… А мне… мне ничего особенного и не нужно, пусть бы один кто-нибудь заинтересовался судьбой жившего совсем недавно прекрасного человека и нет-нет да вспомнил бы о нем и, может быть, рассказал когда-нибудь детям и внукам…
Наконец-то она подняла на меня глаза, и я сумел толком разглядеть ее лицо. Да-а… Такие, как она, остаются мальчиками и девочками до конца дней своих, независимо от того, девятнадцать им, сорок четыре или семьдесят шесть. Эти наивные чудаки искренне уверены в том, что и остальные тоже всю жизнь исповедуют прекрасные истины, манящие нас в детстве.
«Пожилая девочка» сидела рядом со мной.
— Ведь и вам неинтересно, — синие глаза глядят в упор, надежда, любопытство, ирония светятся в них. — И вам, в сущности, дела нет…
Вот тут она ошиблась. Правда, сперва так оно и было, не отрицаю, зато потом я слушал ее со все возрастающим интересом. И вовсе не потому, что во мне проснулся газетчик, напавший на «горяченький» материал, — не тот это был случай.
Одно странное обстоятельство побуждало меня быть вдвойне, втройне внимательным. Ее idée fixe, как говаривали в старину, не только вызвала во мне отклик, отыскала сочувствие — хоть я и понимал прекрасно, что это утопия, — но и задела что-то сугубо мое, глубоко, основательно запрятанное. Какая-то струна готова была зазвучать. Какая именно, я еще не знал, но насторожился. От моего снобизма и следа не осталось. Я ждал: вот-вот, за следующим поворотом, следующим словом, возникнет нечто такое, что я призна́ю доподлинно своим, и тогда все станет на место и снимется неведомо откуда взявшееся напряжение.
— Нет, нет, это вы напрасно. Мне теперь уже важно выяснить, что конкретно этот человек для вас сделал. — Стараюсь выражаться как можно деликатнее, только бы она снова не замкнулась. — Поверьте, это не праздное любопытство. Тут родных забывают мгновенно, а вы печетесь о давно ушедшем…
Мне совершенно не важен поступок этого ее Ивана Семеновича, не в этом же суть, а прежде всего в ней самой, в ее редкостной убежденности и в той цели, к которой она стремится. Просто я надеюсь, что, продолжив рассказ, она хоть чем-нибудь рассеет охватившую меня смутную тревогу.
— Господи, я вовсе не скрываю, напротив! Да будь Иван Семенович мне родственник, не о чем было бы и хлопотать!
— Разумеется…
— Значит, до войны мы жили в Ленинграде. Мама и папа погибли в блокаду. Папа в декабре сорок первого, он у нас диабетик был, не выдержал… А маму через два месяца завалило в нашем доме… бомба… прямое попадание… Моя мама медсестрой работала в госпитале, в нашей бывшей школе, и меня туда же устроила санитаркой, нянечкой — помогать, дело делать, ну и чтобы с голоду не померла, конечно… Мне хоть и двенадцати еще не было, как война началась, но росла я крепкая. Косынку повязала, халат белый надела — подшили мы только немного, — как большая. Мама все смеялась: в нашу, в крестьянскую породу пошла… Они всей семьей из Псковской губернии в город переселились… Я в тот день как раз дежурила, а маму домой отпустили отоспаться, трое суток была на ногах… Отпустили… и погибла… А я одна осталась, мне комнатку через дом от нас выделили, светлую, с вещами… В той же квартире еще тетя Паша поселилась, одна женщина из нашего дома, тоже разбомбленная. Тетя Паша маму хорошо знала и меня пригрела, как родную… Она уборщицей работала в трамвайном павильоне на площади Восстания… Так и продержались до конца войны… Да вы слушаете меня?
— Слушаю, слушаю…
— Потом мирное время началось, госпиталь расформировали. Стала я думать, как дальше жить. Хотела учиться на медсестру, как мама, да в школу я эти годы не ходила, отстала, хотя на практике, по медицине, знала уже много чего… А тут еще вернулись из эвакуации хозяева квартиры, где нам комнаты дали. Не знаю, кто были эти люди, но только из домоуправления предложили немедленно освободить жилплощадь. Тетя Паша спорить не стала, к сестре переехала, на Крестовский остров. Хотела и меня взять, да у них там и так тесно стало, буквально не повернуться… А из нашей родни — никогошеньки: кто уехал, кто помер… Понимаю, что надо выезжать, а куда деваться? Сунулась правду искать, так оказалось, что я — никто: несовершеннолетняя, и прав никаких, и паспорта нету, и даже справку я не догадалась взять, что всю войну санитаркой проработала. И вот тут, как-то под вечер, столкнулась я на улице с доктором из нашего госпиталя. К стыду своему, не могу даже точно сказать, какая у него была специализация, скорее всего терапевт, его все уважали за умение ставить диагноз, чуть что — Иван Семеныч, Иван Семеныч! Печеньем меня угощал — на, говорит, Женя, погрызи, тебе нужнее. И маму знал, конечно. Вот и все наше знакомство.
Встретились мы, значит, он поинтересовался, как дела, а я реву в три ручья, слова не вымолвить. Иван Семенович и спрашивает:
— Что стряслось?
— Все… все стряслось!.. — и реву дальше.
— Так уж и все?
— В-все… все сразу…
— Ну, а главное — что?
— Комнату… освободить… велели…
— Почему вдруг?
— Хозяева… заявились… — Объясняю ему и вроде успокаиваюсь. — Вчера был крайний срок…
— Ну, пошли, — говорит Иван Семенович.
— Куда?
— К тебе…
— Зачем?.. Я боюсь…
— Пойдем, пойдем. Освободим комнату. Вещичек много ли?
— Нет… Да куда же я денусь?
— Там видно будет… Пошли.
Верите, нет ли, всю жизнь мою осветило это его «пошли». Не стал прикидывать, раздумывать, подсчитывать «за» и «против». Надо — значит, надо. И я так потом старалась жить.
Идем, общих знакомых по госпиталю вспоминаем. И такое странное ощущение — словно мы по-прежнему вместе работаем, словно не кончилось страшное и святое военное время и не осталась я одна, никому не нужная… Про слезы думать забыла.
Приходим. Меня уже поджидают трое. Хозяин. Его шофер. И один из жилконторы. Только я вошла — накинулись. Но вот следом появился Иван Семенович, и они затихли мгновенно, как в сказке. Сам вид его внушал уважение — так он всегда держался. Когда я слышу слова «интеллигентный человек», я вспоминаю Ивана Семеновича.
Он велел мне собираться, а сам спокойно, внушительно стал говорить что-то этим людям, и ни малейшего шума больше не возникло.
Потом повел меня к себе. Кроме двух небольших комнат, в их квартире имелся еще такой тупичок, из куска коридора, с окошком; квартира была деленая. В тупичке стояла кровать, смешной старенький письменный стол на пузатеньких ножках и книжный шкаф в нише. Между столом и кроватью оставалась узкая полоска пола.
Иван Семенович поставил мою сумку на эту полоску.
— Комнатка сына, — сказал тихо.
— А где он сам?
— Был… на фронте… теперь его нет…
Я прижалась лицом к его шинели. Он погладил меня по волосам.
— Живи пока тут, — и вышел.
Я прожила у них около года. Сейчас вот ездила, зашла во двор, хотела на свое бывшее окошко поглядеть, а там — небо: при капитальном ремонте часть дома, где находился тупичок, ликвидировали.
Иван Семенович и Наталья Васильевна отогрели меня. Подкормили, как могли, — у меня к этому времени уже и карточек не было…
Доктор за все мои дела взялся. Справку мы получили в каком-то управлении, медаль мне выдали «За доблестный труд». И учиться на медсестру он меня устроил: пообещал, что общие предметы мы подгоним и за семь классов я сдам. Помог, сдала — но уже после. И комнату мне выделили. Только это еще не все…
Часто и помногу беседуя с людьми, я давно приноровился отбирать из их пространных, как правило, речей лишь самое существенное. Мне вовсе не сложно регистрировать общий смысл этой трагической и трогательной истории, но вслушиваться так же внимательно в ее перипетии, так же тщательно пропускать через сознание каждое словечко я давно уже не могу.
Не могу с того момента, как прозвучало ничем не выделенное, простецкое, обыденное «тетя Паша».
Так вот что подстерегало меня за бесхитростным повествованием о Памяти и Забвении! Вот что мелькало то тут, то там, подкрадываясь все ближе! Воспоминание о неплаченном долге разом выбилось на поверхность и отшвырнуло на задний план и Боброва с его колымагой, и знаменитый заповедник, где меня, вероятно, перестали уже ждать, и этот населенный пункт, даже название которого не было мне вчера известно… В хаосе из автомобильных деталей, парикмахерских, проповедей в парке, добрых намерений, черствых людей, во всей этой околесице, бесчинствовавшей вокруг, пинавшей, молотившей мое притупленное бессонной ночью сознание, возникло наконец прочное звено, — ухватившись за него, мне, быть может, удастся вытянуть самого себя из безнадежно запутавшихся бредовых обстоятельств.
Да, но к а к о е это звено!
Грусть и стыд охватили меня. Сердце заныло, зато дышать стало легче, на удивление легче.
Все сошлось… все совпало…
Как и у каждого, у меня за долгую жизнь накопилось порядочно неоплаченных долгов. Но этот долг — святой, главный…
Еще одна женщина, тихая, совсем уже старенькая, незримо подсела к нам на скамью, рядом с этой одержимой. Они в д в о е м взывали к тому, что оставалось во мне с детства, и застали меня врасплох, прижали к стенке… Я растерялся, я обозлился на самого себя. Чего стоит карьера журналиста, хваленый профессионализм газетчика, очеркиста, если я, дожив до седых волос, не удосужился совершить то простое и естественное, что почитал когда-то непреложным? Самодовольный, напыщенный индюк… А как собирался ты обойтись с этой очарованной душой? Залепил бы красиво пластырем ее рану — что-нибудь вроде «как прекрасно, что вы сами все это помните, берегите, пусть останется вашим заветным»?.. Не то вообще отфутболил бы кому-нибудь другому? Пижон несчастный…
Всех слов, какими я заклеймил себя за одну минуту, я воспроизвести здесь не берусь.
Я вновь взглянул на изможденное, со следами слез, лицо, на кудерьки, которые бездумно трепал ветер, и неожиданно подумал, что если с ленинградским писателем она, пересилив отчаянную робость, беседовала, все еще надеясь, что отыщется возможность решить дело нормальным, общепринятым путем (не знаю, правда, можно ли так выразиться в д а н н о м случае), то теперь, после бессмысленных выступлений в парке, после такого несомненного фиаско, я был для нее уже точно последней соломинкой. Вот почему она до конца мне открылась.
Последняя соломинка — первый встречный…
И первым встречным был на этот раз не кто-то там, не добряк шофер, пожертвовавший нам стекло, а я сам…
Я — сам.
Осознав все это, я прервал ее рассказ на полуслове и обратился к ней, точнее, к н и м о б е и м, как мог увереннее и хладнокровнее, желая, чтобы они сразу и безусловно поверили мне; так говорят с обиженными детьми и тяжело больными взрослыми.
Предварительно я спросил:
— Простите, как ваше отчество?
— Степановна…
Я сказал:
— Я выслушал вас внимательно, Евгения Степановна, выслушайте и вы меня. Я журналист, живу и работаю в Москве. Могу я рассчитывать на ваше доверие?
Она кивнула.
— Так вот… Допустим, все ваши собеседники оказались черствыми людьми. Это ничего не меняет: они были правы, как ни грустно… Только не перебивайте меня, пожалуйста, мы никогда не кончим, а мне предстоит еще далекий путь… Не существует возможности хранить память о каждом человеке…
— О каждом д о с т о й н о м человеке!
— А кому мы поручим отделять чистых от нечистых? Как обеспечим беспристрастие?.. Но и о действительно достойных помнить невозможно — сколько их наберется: тьма… Проще, наверное, всех воскресить, как предлагал один чудак…
— Воскресить?! Как прекрасно…
— Не уверен. Противоестественная идея. Так же, как и ваша, между прочим. Природа склонна заменять все умершее новым, а не цепляться за то, что отжило свой век…
— Как вы суровы!
— Такое у меня ремесло. Но поймите правильно: я вовсе не хочу сказать, что не, сочувствую вашему стремлению. Если в каждом данном случае его удастся осуществить, то — почему бы и нет?
— Почему бы и нет… — повторила она.
— Я прочту еще, если позволите, письма Ивана Семеновича. Это ведь то, чего вы желали?
Она вновь кивнула.
— Не исключено, что я упомяну его имя в каком-нибудь материале.
— Могут и… напечатать?.. — она слушала меня затаив дыхание и задала свой вопрос так же, не дыша.
— Не знаю, не знаю… Ничего обещать не могу. Возможно, все останется в рукописи, если даже и напишется. Но я даю вам слово в любом случае помнить об Иване Семеновиче, а когда пробьет мой час, я постараюсь успеть передать эту память другому, помоложе, — написанное всегда легче передать. Вот мы и отодвинем, насколько удастся, его окончательную смерть. Годится?
Она прикрыла глаза. Неуверенно коснулась рукой моего плеча, словно желая убедиться, живой ли я. Губы ее шептали что-то.
— Как вы сказали? — переспросил я, бережно накрыв ладонью, у себя на плече, ее пальцы, как будто это была рука той, другой женщины, м о е й тети Паши.
— Наконец! — произнесла она отчетливо и открыла глаза. — Наконец!
Мы движемся дальше. Боброву удалось наладить сцепление, и все же он старается пореже им пользоваться.
Я рассеянно гляжу по сторонам.
Одну из моих собеседниц я успокоил, кажется. Нехитрая штука: выслушал, посочувствовал, все стало на место…
С другой серьезнее. Я даже обернулся непроизвольно, когда мы отъезжали: нет ли ее на заднем сиденье?
Другая… Тоже одинокая, хоть жила она вроде бы в нашей семье. Дальняя родственница, троюродная тетка отца, тетя Паша стушевалась сразу же, едва в том самом небогатом провинциальном домике, что привиделся мне утром, появилась молодая женщина, властная и непреклонная, — моя мать. С первого дня заявив о себе, она подмяла слабовольного, избегавшего сцен отца, а тете Паше отвела роль домработницы.
Та не протестовала…
Избалованная, капризная, мать не любила хозяйства и совсем не занималась мной, своим единственным чадом; я никак не мог отделаться от ощущения, что постоянно ей чем-то мешаю. Она стыдилась скромности нашего существования, считала неудачником отца, терпеливо преподававшего биологию в средней школе, не выносила его друзей и коллег. Бедняги не смели появляться у нас чаще, чем раз в год, когда отмечался папин день рождения и тетя Паша, «как бывало», пекла огромные, во весь стол, пироги, а ее любезное «Мое почтеньице!» встречало каждого гостя.
Этого праздника мама не посмела у нас отнять.
Свой заработок машинистки она тратила исключительно на туалеты, страшно безвкусные с моей мальчишеской точки зрения, бесцеремонно уходила из дому одна, посещала подруг, умевших жить «насыщенно и интересно», бывала на каких-то вечеринках — отец избегал их, да, похоже, и средств не имел, чтобы «соответствовать». Происходили объяснения, некоторые на моих глазах, — принято же считать, что дети ничего не смыслят… Отец, неизменно миролюбиво, стремился приохотить мать к тому, что любил сам — стихам, музыке, садоводству, — а она каждый раз в ответ угрожала разводом. Каждый раз. Я никак не мог понять, почему бы отцу не согласиться на пресловутый «развод», — мне ничего не говорило это жесткое, тупое слово, спросить я стеснялся, чтобы не выдать родительской тайны посторонним, — не остаться со мной и тетей Пашей, не зажить спокойно и уютно.
Мало-помалу объяснения прекратились, и они так как-то и существовали дальше, каждый сам по себе, раздирая мне сердце; отчего, отчего мать не ушла тогда от нас?
Тетя Паша не вмешивалась в их отношения, да и на что могла осмелиться домработница? Лишь однажды, в тихий предвечерний час, я увидел мельком, как она утешала на кухне плачущего отца; я выбежал на улицу и до ночи не мог заставить себя вернуться домой — так был я унижен этими слезами, так мне было обидно… Дрожа от гнева, я прикидывал, как бы посуровее отомстить за него… Но наша молчальница, ходившая всегда в одной и той же черной юбке и чисто выстиранной бумазейной кофте в полоску, сделала все от нее зависевшее, чтобы холод и пустота, царившие в нашем жилище, и эта убогая несовместимость двух людей, продолжавших цепляться друг за друга, не искалечили меня. Именно тете Паше обязан я тем, что не потерял в детстве вкуса к жизни, что не проскользнул, озлобленный, в какой-нибудь случайный закоулок — лишь бы избавиться от этого кошмара.
И я ни разу не слышал от нее ничего, похожего на окрик, ни разу. Ласка, только ласка. И простые вразумительные ответы на бесчисленные вопросы, непрерывно, словно цифры на счетчике в такси, выскакивавшие перед моим мысленным взором. Став постарше, я много раз с улыбкой превосходства и с легкостью, естественной для накапливающего знания юноши, преодолевал уровень ответов тети Паши и только в зрелом возрасте сумел оценить по достоинству их великолепное соответствие мироощущению малыша, их уместность, их точность, их незаменимость. Улыбкой встречала она меня каждый день после школы, и мне было кому поплакаться и перед кем похвастать своими успехами. Как тетя Паша умела слушать!
Потом я укатил учиться в столицу, тоже благодаря ей, в конечном итоге, а она умерла в январе, когда я сдавал свою первую сессию. Дурацкий трепет перед листком бумаги, перед б и л е т о м, помешал мне поехать на ее похороны — каждый раз краснею, как вспоминаю об этом. Что вы хотите, я был лишь добросовестным первокурсником, унаследовавшим отцовскую неуверенность, и не посмел отлучиться: мне казалось, что в этой лотерее разыгрывается чуть ли не судьба моя…
Конечно же, едва сдав последний экзамен, я рванулся домой, прямо с вокзала отправился на кладбище, и ревел, как маленький, над занесенным снегом холмиком, и утешал, как старший, плакавшего рядом отца — рывком повзрослел за две недели, — но я никогда не мог простить себе, что тетю Пашу опускал в землю кто-то другой, не я.
Тогда же я дал себе слово написать о ней — чтобы о доброй фее нашего дома узнали люди. Как, в какой форме, я не знал, конечно, но особенно над этим и не задумывался — само придет.
Само?
Все откладывал. Сперва ждал, пока кончу учиться, как будто диплом должен был прибавить мне таланта. Потом лавиной пошли спешные задания, срочные командировки… Несколько моих статей были замечены, и это с непостижимой быстротой превратило вчерашнего робкого увальня в видного очеркиста — почтенные седовласые люди стали ждать от меня авторитетных суждений о самых жгучих проблемах экономики.
Как это льстило моему самолюбию, и как охотно брался я за все новые и новые темы! Приходилось буквально без передышки писать о стройках, показателях, механизмах, руководителях, процентах плана, передовиках, реагировать на цифры, факты, столкновения мнений…
Среди неотложных дел и ответственнейших материалов никак не находилось места для повести о простом и верном сердце.
Само? Само не приходило…
Первые годы мне часто снился сон, будто тетя Паша бедствует, в то время как я процветаю. Потом этот сон стал все реже посещать меня.
Времени нет, чтобы жить, а уж на воспоминания и подавно.
Да и воспоминаний этих накопилось… Оживлять их все — невозможно. Жаль, но невозможно.
Вот выйду на пенсию, тогда, быть может…
Евгении Степановне я не солгал. Где-нибудь в дальнем уголке памяти я сохраню ее рассказ; не забуду о докторе, даже если захотел бы.
Но написать о нем? Что? Как? Когда? Не знаю… Скорее всего, и тут руки не дойдут — я ведь тоже «зафиксирован в одной плоскости».
И — какой из меня мемуарист?
Я — практик.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ
ALTER EGO
1
Что и говорить, мой alter ego — мой двойник, мое второе «я» — вполне мог бы обнаружиться и раньше, не дожидаясь, пока мне стукнет тридцать девять, тем более что выявил я его благодаря Делу, в котором нет решительно ничего исключительного. В общих чертах Дело это отлично знакомо каждому с детства; меня оно тоже мимоходом задевало, затрагивало, даже манило к себе еще задолго до того, как…
Мимоходом… В том-то, пожалуй, вся и штука, что раньше у меня не было оснований выделять именно это Дело из потока схожих жизненных обстоятельств, из огромной массы других деловых связей, не менее значительных; главное, не было оснований считать его хоть сколько-нибудь своим, кровным.
Зато как только такие обстоятельства возникли, как только первый случайный контакт побудил меня шагнуть дальше и познакомиться более основательно с Делом, вроде бы и привычным, а по сути совершенно для меня новым, как только Дело зацепило меня за душу и повлекло куда-то, где я отродясь не бывал, — однообразное, унылое существование, которое я с недавних пор влачил, наполнилось таким обилием переживаний, радостей, тревог, падений и взлетов, с каким я уже отчаялся было столкнуться в действительности, меня окружавшей.
Корректные будни стали походить на добротный приключенческий роман.
Было так чудесно — заново увидеть, ощутить, разглядеть мир, изученный, опробованный, знакомый, казалось, до мелочей. Уподобившись змее, я радостно сбросил старую шкуру и из угрюмого увальня с повадками лентяя превратился в личность напористую и деловитую; мысли, движения, поступки мои вновь обрели энергию и оптимизм молодости; я окончательно расстался с «дружеским застольем», а ведь сколько раз пытался, бывало…
Впрочем, поначалу такое властное, я сказал бы даже — такое наглое вторжение в привычный круг ошеломило и покоробило меня, показалось неким кощунственным посягательством на тщательно выверенные мною же самим устои. Консерватор по натуре, я заколебался: ну куда, куда я лезу, не мальчишка же, в самом-то деле! Но пересилил себя, перетерпел, стиснув зубы, а когда кризис миновал, горячо благодарил судьбу.
Еще бы! Это чисто внешнее, чисто деловое столкновение неожиданно превратилось во встречу с чем-то, что как нельзя более полно соответствовало самому существу моему, самой сердцевиночке; оно всколыхнуло и привело в движение некие глубинные пласты моей натуры, моего зализанного цивилизацией существа; легко отшвырнув помехи, на поверхность вырвались тайные силы, — а я-то, я, их хозяин, почти сорок лет ничего не подозревал и мог бы — подумать только! — мог бы ни о чем таком не догадаться до конца жизни.
Я впервые познал самого себя в полной мере.
Я обрел себя, наконец.
Сумей я сделать это раньше, можно было, вероятно, куда больше успеть. Но и в том, что я обнаружил своего alter ego именно в тот момент, когда ядро моей жизни, плавно мчавшееся по идеально вычерченной траектории, как-то неожиданно оказалось на излете, тоже был свой смысл, своя прелесть, если угодно. Судьба как бы выжидала, не обнаружу ли я сам ошибки в расчете, не сумею ли выправить положение, и только не дождавшись от такого олуха, от такого заурядного субъекта ничего хорошего, смилостивилась и, перебросив мостик через болото, в которое я вполне мог бы плюхнуться, помогла мне обрести второе дыхание, за руку вывела на орбиту.
Не ищите, пожалуйста, самоуничижения в словах «заурядный субъект»: просто я привык реалистически оценивать свои возможности, а не вглядываться судорожно в отражение моих мнимых заслуг в зеркале чужого красноречия, — в нашем поколении таких трезвых людей, слава богу, не так уж и мало, нас, выживших, наставила на путь истинный война.
Ведь это же факт, что у меня заурядная внешность, — факт, проверенный много, много раз. Когда-то, юношей, я долго не терял надежды перехватить взгляд хоть одной из десятков красивых женщин, демонстрировавших себя на улицах нашего города, — мне до сих пор кажется, что в этом их прямое назначение, что заниматься всерьез чем-нибудь другим красивая женщина не должна, что все остальное для нее — маскировка, кокетство, недоразумение, ханжество, что она самой природой предназначена исключительно для того, чтобы охмурять мужчин и способствовать, таким образом, продолжению рода человеческого.
Хоть одной… Мне было все равно, брюнетка или блондинка; ее взгляд, как ничто другое, помог бы мне поверить в себя…
Став старше, я уже твердо знал, что глаза встречной красотки будут направлены поверх моей головы на кого-то, кто выше, приметнее, обаятельнее или, скажем, тщательнее одет; знал, и меня уже не тянуло проверять, так ли это.
Что за радость на меня глазеть? Рост сугубо средний, плечи узковаты, глаза небольшие, невыразительные, тускло-зеленые, волос давно уже так мало, что цвет их ничего не решает… Мое лицо кажется симпатичным только мне одному — в целом мире я не знаю человека, которого моя физиономия с ходу расположила бы к себе; с ее помощью мне не открыть без ключа чужую душу, для этого мне надо заговорить…
Вот в детстве я был красавчиком, уверяла тетя Киса, любимая мамина сестра.
Впрочем, внешность — полбеды, хотя она немало значит для каждого из нас, хотя случается, что внешность — и только она одна — решает нашу судьбу. Но я и во всем остальном был абсолютно ничем не примечательным, ординарным, так сказать, представителем той части интеллигенции, которую я со студенческой скамьи привык определять как трудящуюся или трудовую.
Не то чтобы я завидовал «творцам», о нет! У них достаточно своих сложностей, и немалых, — нацарапав тетрадку стихотворений, я одно время числился в объединении «молодых» и представляю себе, что почем в творческом мире. Но очень уж разнятся ритмы жизни и возможности врача, инженера, учителя, даже научного работника самого профилирующего направления — и какого-нибудь художника, музыканта, архитектора, литератора, пусть малоизвестного.
Единого понятия «интеллигенция» я бы избегал.
Труд одних определен четкими категориями — рабочий день, план, процент (процент успеваемости, например, или процент летальных исходов); труд других не регламентируется ничем: вдохновение — субстанция неуловимая, рабочий день — от зари до зари… Там нет служебной лестницы; создал самобытную вещь, опубликовал, тебя заметили — и пошло-поехало. А у нас? Я — врач; быть может, по словечку «летальный», что означает «смертельный», вы уже догадались об этом. Врач вроде бы неплохой, но будь я даже семи пядей во лбу, получить в тридцать пять лет самостоятельное поле деятельности для меня фактически невозможно — слишком много старших, уважаемых коллег терпеливо дожидаются того же. И мне остается — ждать.
Тем более что в данном случае ни о каком профилирующем направлении и речи нет; я обыкновенный врач-педиатр, детский доктор, рядовой Айболит, — этим многое сказано. Профилактика и еще раз профилактика, дополнительных ассигнований никаких — не раковая проблема, поте́рпите.
Впрочем, профессией своей я доволен, даже очень доволен; да и как могло быть иначе — сам выбирал. В детстве я был тяжело травмирован одинокой и бездетной тетей Кисой, долгие годы проживавшей с нами вместе. Сколько я себя помню, тетя Киса всегда страдала, вечно мучилась от острых болей то в одной, то в другой части своего поистине необъятного и какого-то несуразно рыхлого организма, и мама одну за другой проводила бессонные ночи у постели больной, которая спала «чутким сном».
Не выдержав адского режима, уходил из дому отец, — почему он делал это, я понял много позднее, тогда я слепо осуждал его, как и все в нашей семье, — но у нас ничего не менялось: тетушка продолжала просаживать половину своего скромного заработка стенографистки на самые дорогие, модные, редкие лекарства, и в комнате ее так пронзительно пахло аптекой, что запах этот постепенно стал для меня родным.
Страдания тети Кисы и весь наш образ жизни я принимал как должное, как неизбежное, и так, быть может, продолжалось бы всегда, если бы в один прекрасный день я не услышал, как тетушка костит шарлатаном и еще по-всякому — стыдно повторить — молодого, симпатичного врача, который, кроме редкой мнительности, не обнаружил в ее организме ничего худого. Услышав тетины ругательства, я сразу же поверил доктору — подозрения, давно уже копошившиеся в моей детской душе, мгновенно собрались воедино. Широко раскрытыми глазами глядел я на идола нашего дома, оказавшегося фальшивым, с ужасом внимал отвратительным его речам.
То был первый дутый кумир в моей жизни.
История с врачом не раз повторялась впоследствии: я становился старше, меня переставали стесняться, у меня искали сочувствия, и мне вновь и вновь делалось неловко, тошно и стыдно, и бывало до слез жаль этих скромных, добросовестных и очень усталых людей, вынужденных почему-то терпеть капризы любого позвавшего их больного и без конца выстукивать его грязноватое тело, — чистоплотностью тетя Киса не отличалась, я был уверен, что и все больные тоже.
Из-за привычки к запаху аптеки, к роли сиделки, к лекарствам, но главным образом из-за этой вот жалости, и этого стыда, и еще, пожалуй, из-за полуосознанного желания отомстить тете Кисе и всем недобросовестным больным и восстановить доброе имя нашей семьи в глазах безропотных докторов я и решил стать врачом. «Уж я-то совершенно точно не дам над собой издеваться!» — уверен каждый из нас в отрочестве.
Я сделал лишь одну, малозаметную для постороннего взгляда, скидку: решил, что стану лечить не взрослых, а детей. С малышами проще, они не жеманятся, не занимаются самовнушением, не бегают к знахаркам и гадалкам, не глотают без разбора все самые модные в этом сезоне порошки, пилюли и снадобья, не пытаются скрыть свой возраст или все свои «стыдные» болезни; в том, что касается нездоровья, дети, как правило, не лгут, а если какой-нибудь поросенок и приврет малость — опытному врачу ничего не стоит уличить его во лжи, не то что обезумевших от себялюбия взрослых.
По меткому замечанию тети Кисы, я — баловень судьбы. Не знаю, так ли это, но пока мне действительно зверски везет. Я добился своего, стал врачом. Правда, вмешалась было война, я ушел на фронт с третьего курса мединститута, но в военные годы и три курса кое-что значили, и мои скромные познания пригодились. Забыв на время детей, я всю войну, по локоть в крови, работал чем-то средним между операционной сестрой и хирургом; два раза был контужен, но ранен не был, а опыт приобрел такой, что впоследствии для меня не существовало в медицинской практике ничего странного, страшного или недоступного.
Я мог бы стать недурным хирургом, — скорее всего, так и следовало поступить, но унаследованное от родителей интеллигентское стремление двигаться всю жизнь по тому направлению, на которое тебя нацелили с детства, заставило меня после возвращения с фронта вновь обратиться к педиатрии. То есть я оперирую, конечно, и сейчас, но это не то…
Кончил благополучно, получил диплом с отличием, принес клятву Гиппократа, стал лечить детей и циркулировать в различных сферах, так или иначе связанных с лечебной работой. Вскоре стал пользоваться авторитетом у себя в поликлинике, в детских садах и яслях нашего района, а также в школе, где учились мои девочки, и еще в одной детской больнице, куда меня частенько приглашала консультировать трудные случаи моя бывшая однокурсница Галина Семеновна, дама, игравшая в моей жизни несколько роковую роль.
К тридцати пяти годам я достиг, в сущности, всего, к чему стремился.
И вот тут я закоснел. Стал увальнем, стал маленьким современным Обломовым, моим любимым занятием, как заметил с досадой один старый приятель, стало сосать лапу, я не мыслил свободного дня без телевизора.
Скорее всего, это не совсем точное слово — закоснел, но выразиться точнее не берусь; слишком уж много всего было намешано.
Раньше я наивно полагал, что развитие и становление моей личности идет по спирали, и хоть витки этой спирали вблизи очень походили один на другой, с каждым из них я вроде бы чуть-чуть продвигался вперед — новые знания, новая практика, новый взгляд на науку. То есть само по себе это движение было не очень ощутимо, но, оглядываясь перед очередным отпуском назад, я имел полную возможность обозреть некую синусоиду, завершенную мною за истекший год, и зрелище это, не скрою, неизменно доставляло мне радость и удовлетворение.
Теперь вдруг обнаружилось, что если отдельный виток и вел, допустим, куда-то, то мои ежегодные синусоиды, взятые в целом, не только не приносили ничего нового человечеству, но и в моем собственном индивидуальном развитии значили до обидного мало. Главное, они стали повторяться: последний виток синусоиды 1958 вполне мог быть подключен, скажем, к первому витку синусоиды 1957 или даже 1956 — никто ничего не заметил бы.
Перспектива была утрачена напрочь.
Движение по замкнутому кругу обозначило одну группу проблем, вскрывающих суть моей закоснелости; вторую группу порождала семья.
Внешне и тут все было в ажуре. Вечерние чаепития в домашнем кругу; культпоходы в театры и Филармонию с женой, такой же заурядной, как и я, дамой; родительские собрания, пионерские лагери, куда мы отвозили девочек, поездки за грибами, отпуск где-нибудь в Прибалтике или на юге, во время которого я, как и все, позволял себе маленькие вольности. Очень, очень обыденно, однако никакой злой воли, никакого мещанского букета, никаких переругиваний с тещей по поводу размеров моей зарплаты — нет, нет, ничего такого. И потом: с открытым врагом я справился бы в два счета, в решительности характера мне отказать никак нельзя.
То, с чем я столкнулся, было посложнее: вся моя семья, от мала до велика, перестала в меня верить. Почуяли, что я замедлил ход, решили, что я достиг своего предела, своего потолка, как принято говорить, — и немедленно вступила в силу старая истина о том, что нет пророка… Внешне это, разумеется, никак не проявлялось, но я изо дня в день все явственнее ощущал, что они меня жалеют.
Не знаю, жалела ли вас когда-нибудь собственная дочь; для меня это было очень страшно.
И все же истинный трагизм положения, парализовавший до известной степени мои поступки — и тем самым придавший моей закоснелости внешнюю завершенность, — истинный трагизм заключался не в их неверии в мои силы, не в их равнодушии к сути моих трудностей и не в их жалости, — как к убогому! — а в том, что на самом-то деле я никакого потолка не достигал.
Остановка моя была, скорее всего, кажущейся, мнимой; это была не остановка даже, а просто небольшая передышка, необходимая для атаки на следующий рубеж — научную степень или что другое… Быть может, никто и внимания не обратил бы, что я притормозил, но, чтобы продолжать движение вперед, необходимо было дождаться своей очереди — желающих хоть отбавляй! — и это делало передышку более ощутимой и более длительной, чем следовало.
Но я не мог доказывать им это — всем вместе или каждой в отдельности. Ни жена, ни теща, ни девочки меня не поняли бы, тем более что в открытую меня никто не уличал, не обвинял, не предавал остракизму и чай за столом мне подавали первому. А самому начинать такие речи…
Короче, и мне самому, и коллегам, и домашним как-то сразу стало казаться, что я топчусь на месте и что повинен в этом я один. И так бы нам всем, вероятно, и казалось до следующего моего успеха, если бы…
Если бы в возрасте тридцати девяти лет я не приобрел автомобиль.
— Только-то и всего? Подумаешь! Стоило голову морочить! — воскликнет нетерпеливый читатель, и будет прав: в самом факте покупки автомобиля ничего особенного нет.
Все дело в том, насколько предан гражданин Н., впервые севший за руль, тем нескольким десяткам лошадиных сил, которые ни с того ни с сего оказались в его распоряжении. О, разумеется, его обучат на курсах искусству вести этот табун по забитым другими табунами улицам современного города, он сдаст экзамен, за ним будут наблюдать, скоро он сам станет автоинспектором-любителем, — все это так. Но сможет ли кто-нибудь научить его чувству ответственности за человеческую жизнь — за жизни всех тех, кто садится в его машину, и за жизни людей, волею случая оказавшихся на его пути?
Никто.
Только он сам.
И если теперь, после романов-фельетонов, и повестей-фельетонов, и кинофельетонов на тему «берегись автомобиля», а также просто фельетонов, обличающих направо и налево всех, кто связан со строительством дорог, выпуском запчастей или обслуживанием автомобилей, — если я решаюсь предложить читателю хрупкую исповедь души и свои сокровенные мысли о том, что может значить автомобиль для человека, я делаю это исключительно потому, что эта «тачка», эта гудящая и постоянно ломающаяся «консервная банка» сыграла в моей судьбе роль поистине выдающуюся.
Она не только ответила взаимностью на мое почтительное и неизменное внимание и стала моим другом, — она раскрыла передо мной головокружительные перспективы, о которых я не подозревал, дала мне возможность неизмеримо полнее, чем раньше, познать самого себя, а также других людей, меня окружающих.
Четко, определенно, недвусмысленно указала она на Другого, таившегося во мне все тридцать девять лет.
А ведь я — человек заурядный. Значит, такую же или подобную роль автомобиль может сыграть и в жизни других?
Может.
Вполне.
Если люди примут его всерьез.
2
Шофер…
Существует ли в наши дни профессия, так же объемно, так же доподлинно представляющая будни двадцатого века и рекомендующая их потомкам?
Неутомимый и любознательный скиталец, вечно больной «дорожной лихорадкой»; полуавтомат, привычным жестом подключающий свою нервную систему к рычагам и тягам автомашины, сливаясь с ней воедино; фаталист, ежедневно ставящий жизнь на карту и воспринимающий это как нечто неизбежное, должное, естественное; вечный труженик, не знающий покоя ни днем, ни ночью, позарез необходимый и совхозу, и маленькой семье, и огромному заводу, и дипломату, и геологу, и генералу…
Вот что такое современный шофер.
Кроме того, это еще и человек, намертво влюбленный в свое дело. Пусть не каждый садится за руль с радостью, все равно: шоферы — огромная армия людей, получающих наслаждение от своего труда, и не учитывать социального значения этого обстоятельства никак нельзя.
Наконец, многие водители каждый день доставляют радость сотням других людей. Подумайте только: шофер туристского автобуса весь день ведет от одного объекта к другому целый вагон сияющих сограждан или гостей своей страны…
Удивительно ли, что добросовестный и толковый водитель, независимо от возраста и стажа — где еще вы такое найдете? — повсюду пользуется вниманием и даже почетом. От него многое, часто очень много зависит.
Примерно так же отличали его предшественников: тот, кто заведовал или управлял транспортом, всегда, во все времена был фигурой заметной. Кучера, ямщики, возницы, кондукторы почтовых карет и дилижансов так и мелькают на страницах литературных опусов прошлых столетий, песен, романсов, а также дошедших до нас различных старинных документов — хроник, мемуаров, судебных отчетов, деловых и даже любовных писем. Видное место отводит кучеру и современный исторический роман или кинофильм; возьмите, к примеру, известный боевик из жизни композитора Чайковского: по меньшей мере десяток кучеров усердно и многозначительно погоняют там лошадок самой разной масти и стати, не считая дюжины извозчиков, картинно гуляющих в трактире.
Любопытно: герой романа, занимающийся извозом, как правило, добрый и великодушный человек. «Все русские кучера, — заметил Достоевский, — бывают чрезвычайно солидного и даже молчаливого характера, как будто верно, что постоянное общение с лошадьми придает человеку какую-то особую солидность и даже важность».
Молчаливыми шоферов не назовешь, а вот солидности вполне достаточно. Но вообще-то — куда кучеру до шофера! Скорость у его экипажа мизерная, грузоподъемность весьма ограниченная, специальных знаний — почти никаких; накормил свою лошадиную силу, свел ее вовремя к ветеринару да к кузнецу, вот и вся хитрость. Никаких правил уличного движения — уворачивайся от встречных, если твоя упряжка похуже, а не то пусть они от тебя уворачиваются. Никаких медкомиссий, никаких зеленеющих трубочек, — не падаешь с облучка, и лады.
У кучера было одно-единственное преимущество перед шофером — зато какое! Кучер мог при случае вытянуть кнутом рассеянного пешехода, лезущего к нему под колеса, и спасти тем самым его от увечья, а себя самого от неприятностей.
И житье же было!
Существует и психологическое отличие: кучер, как правило, не сближался с седоком, не был его интимным собеседником ни в дальней поездке, ни изо дня в день. Мешали социальные перегородки: барин — слуга, держатель подорожной — ямщик, состоятельный горожанин — извозчик. Мешала и конструкция экипажей: вести задушевную беседу с седоком, топорщась на облучке, было почти так же трудно, как трудно теперь промолчать всю дорогу, сидя с шофером на одном сиденье, в одной кабине. В этом смысле наша деревенская телега, где и возница, и любой его спутник барахтались на одной охапке сена, была самым демократическим исключением, — так ведь русская деревня извечно была рассадником стихийного демократизма, если обобщить ее влияние на зарвавшихся горожан.
Затем наступили времена, когда кучера заслонила колоритная фигура паровозного или судового машиниста, а то и кочегара — кстати, французское слово «кочегар» (буквально: «тот, кто топит») идентично французскому же «шофер». Вспомним популярную матросскую песню «Раскинулось море широко». Вспомним, что единственного героя своей пьесы «Мещане», написанной на рубеже столетий, молодого рабочего, уверенно стоящего на ногах, Горький поместил не куда-нибудь, а на площадку локомотива.
Роль железных дорог, связавших поистине бескрайние российские просторы, и роль машиниста стали быстро расти: процесс этот продолжался у нас даже тогда, когда в других странах поезда стали уступать былой приоритет автомобилю. Книгу Ильфа и Петрова о поездке через американский континент мы читали в середине тридцатых годов взахлеб не только благодаря тому, что это была обстоятельная информация о великой стране из другого полушария, не только наслаждаясь меткими наблюдениями, мастерскими зарисовками, стилистическими находками талантливых писателей, но и потому еще, что, путешествуя необычным для нас тогда способом, они по-новому открывали мир.
Одно дело прибыть в город Н. с вокзала, по общему для всех расписанию, по избитому, традиционному пути, и совершенно другое — въехать в него когда и откуда придется, как в один из многих населенных пунктов, лежащих на пути вашего автомобиля. Вы видите город изнутри, глазами местных жителей, а не сквозь темные очки туристов; город раскрывает перед вами все свое нутро, раскрывает честно, без утайки, как своему. В то же время ни вы ему, ни он вам ничем не обязаны — встретились и расстались; вы поехали дальше, а он остался на старом месте жить своей жизнью. А если вы торопитесь и проезжаете за один день несколько крупных городов подряд, они оказываются нанизанными для вас — только для вас! — на асфальтовый хребет дороги и оставляют запечатленным в вашем сознании огромный, тысячекилометровый ломоть той сферической оболочки чего-то, что мы называем земным шаром.
…И вообще, это же сказочно удобно: бросил чемодан в багажник, сел в машину, хлопнул дверцей и покатил — и никаких очередей за билетами, носильщиков, жареных кур, орущих во всю глотку младенцев, болтливых дамочек, надрывно кашляющих старичков, никаких такси от вокзала и до вокзала…
Так вот, «чудо» вытеснения таких неизбежных, казалось, железнодорожных путей автострадой происходило в те самые годы, когда наши поезда только-только перестали опаздывать, а железнодорожники, пополнившие свои ряды широко популярными с самых первых дней работниками метрополитена, становились героями труда, а также героями песен, кинофильмов, книг, спектаклей. Люди получили то положение в обществе, которого давно заслуживали; это обстоятельство, несомненно, помогло нашей железнодорожной державе сравнительно удачно справиться с невероятными трудностями военных лет.
Всем хороша профессия машиниста — большие расстояния, большая скорость, большая ответственность, большой почет и немалая зарплата, — но машинист еще гораздо основательнее, чем кучер, отделен, изолирован даже от пассажиров; свою дорожную думу он думает наедине с ближайшими помощниками. Словно гений добра, мчится он сквозь непогоду и ночь, подхлестываемый графиком, мчится, разгоняя огромный состав. Он перевозит сразу много, очень много людей и грузов, зато, если он не успеет притормозить и случится беда, погибнет не один паровоз, не один вагон, не два-три человека, как при аварии автомашины…
Но вот война кончилась, прошло пять, прошло десять лет, и в густонаселенных областях нашей страны все больше и больше внимания стали уделять юркому, не зависящему ни от рельсов, ни от жесткого расписания автомобилю, способному добираться до самого отдаленного уголка и выполнять самую конкретную, самую индивидуальную заявку.
К этому времени у нас была уже некоторая традиция в эксплуатации автомашин и в создании первых марок отечественных автомобилей; особенно хорошо зарекомендовала себя во многих испытаниях наша трехтонка ЗИС. Но и традиции, и опыт были еще достаточно скромными, если иметь в виду, что речь пошла наконец о главном транспорте столетия.
— Позвольте, а самолеты?! — слышу я возмущенный голос.
Да, разумеется, о самолетах забывать никак нельзя. И есть еще такой массовый, необходимый и удобный городской транспорт, как метро. Все это так. Только если метро находится глубоко под землей и для пассажира всегда будет «там, где-то», то и самолет летит высоко в воздухе — он тоже там, где-то; по нынешним временам его и не видно даже. Он делает величайшее дело: экономит время — самую драгоценную субстанцию. Он способен перебросить одним прыжком сотни людей и десятки тонн грузов — если будет летная погода, заметьте, только если будет летная погода. Он комфортабелен, на его борту очаровательные стюардессы — усталый путник хоть несколько часов может предаваться иллюзии: его персоне оказывает внимание заботливая, прекрасно информированная и, главное, необычайно эффектная женщина…
Но самолет, повторяю, там где-то. А люди живут на грешной земле, и тут же, полностью разделяя их судьбу — рядом с ними, между ними, сбивая их подчас с ног, — снует автомобиль.
Человек и автомобиль покрываются одной пылью, они вместе переносят жару и непогоду, они ночуют рядышком на траве, одни, перед разверзшейся Вселенной, они вместе мучаются, пробираясь куда-нибудь по плохой дороге, и вместе наслаждаются, быстрее поезда мчась по хорошей…
И если локомотив был только средством транспортировки людей или грузов из пункта А в пункт Б, то автомобиль — товарищ по работе и товарищ по отдыху, почти живое существо, твой друг или твой враг — в зависимости от того, как ты к нему относишься, как ухаживаешь за ним, сумел ли ты слиться с ним воедино.
Это дом, где можно переночевать. Это солидная физическая нагрузка, жизненно необходимая работникам умственного труда. Это объект материнской нежности и одновременно объект охраны. Это гордость и слава семьи, нередко — единственное связующее всех ее членов звено. Это возможность посостязаться в ловкости и отчаянности, — возможность, которой так несправедливо лишен современный горожанин, да и сельский житель: попробуйте обогнать машину, более мощную, чем ваша, увидите, чем это кончится.
Несложное управление автомобилем доступно человеку любого телосложения, пола и возраста, не исключая подростков.
Автомобиль — компаньон и наперсник тысяч людей; многие охотно проводят в его обществе все свободное время. Автомобиль способен заменить мужчине семью — в случае необходимости и любимую женщину — в случае крайней необходимости, а уж компанию собутыльников и подавно.
Автомобиль — могучее средство воспитания. Человек, сидящий за рулем, должен в одиночку решать все проблемы, которые возникают на пути, посоветоваться ему не с кем: начальники шофера остались далеко позади, в своих кабинетах, жена — дома, шофер даже не всегда может позвонить им по телефону.
Он все решает сам.
3
Наши пути пересеклись совершенно случайно.
Погожим весенним утром я проходил мимо одного из старинных торговых центров нашего города. Заглянув машинально в раскрытые настежь огромные ворота — некогда купцы провозили через них товары в склады, расположенные внутри каменного квартала, — я увидел во дворе толпу.
Торопиться в воскресенье было некуда, и я свернул во двор. Оказалось, ничего особенного, просто идет запись в очередь на автомобили.
Очередь и очередь… Теперь, значит, уже за машинами стоят… Я воспринял это явление спокойно, как очередной парадокс нашей жизни, как свидетельство очередного подъема благосостояния, очередного экономического сдвига. Скажи мне кто-нибудь, что завтра начинается запись на вертолеты, я и то не удивлюсь, пожалуй.
Выяснив, в чем дело, я повернулся и направился назад, на залитую солнцем улицу.
— Куда же вы?! — крикнул вслед человек, к которому я обращался за информацией.
— Мне машина ни к чему… — ответил я, полуобернувшись, и задержался на секундочку.
Эта секундочка все и решила.
— Сейчас, допустим, ни к чему, а что будет через два года — неизвестно, — сказал мой мудрый собеседник.
— Почему через два? — удивился я.
— Раньше не получите, и думать нечего… — Он говорил так уверенно, словно всю жизнь получал машины по этой самой очереди. — А то, что вы запишетесь, ни к чему не обязывает…
Прекрасная формулировка.
Я представил себя за рулем автомашины — такого вот поблескивающего лаком «Москвича», как тот, что был выставлен на площадке перед автомагазином. Во мне шевельнулся самый примитивный интерес.
«Верно, — подумал я, — ни к чему не обязывает… Почему же не записаться на всякий случай?»
Подошел. Записался. Ушел.
Вроде бы ничего не случилось.
Но потом надо было ходить отмечаться. Я исправно являлся в назначенный час — и втягивался понемногу в круг проблем, связанных с автомобилем; от знатоков в очереди можно услышать так много интересного и поучительного…
Дома я не говорил об этом ни слова, боялся, на смех поднимут. Денег, каких стоил «Москвич», в нашей семье не было и в помине.
В то же время, как-то непроизвольно, я стал эти деньги копить, удивляя жену неожиданной скупостью.
Прошел год, другой, начался третий. И вот настал день, когда из магазина пришла открытка, приглашавшая меня… Пришла она, как водится, когда меня не было дома, ее прочли и обсудили неоднократно, и вечером мне пришлось держать ответ на семейном совете.
К моей радости, так дерзко проявленная инициатива была на сей раз одобрена единогласно. Более того, сама возможность появления в семье машины была встречена с воодушевлением и восторгом. Дело было за деньгами.
И тут я удивил их еще раз. По какому-то совершенно невероятному стечению обстоятельств у меня к тому времени скопилось примерно две трети необходимой суммы.
Теща широким жестом предложила недостающее. Потрясенная величием своего порыва, она даже прослезилась.
Я почтительно поблагодарил, взял деньги. Потом вернул, конечно.
Но так как всерьез на покупку машины я до самого последнего времени не рассчитывал, то и о том, чтобы заранее получить права, не подумал. Зато в тот самый момент, как мой приятель Игорь Самохвалов, шофер первого класса, осторожно вывел «Москвича» из-за загородки, где тот тоскливо дожидался своей очереди, сердце приказало мне овладеть этим чудом техники как можно скорее.
Прежде чем сдавать экзамен в ГАИ, нужно было основательно поездить по городу и выучить правила движения. Кончать курсы было тогда не обязательно.
Машину мы временно поставили в хибару одного знакомого инвалида — его мотоколяска была в капитальном ремонте. Хибарой я называю в данном случае малюсенький гараж, сколоченный из досок и разных подсобных материалов и прилепленный во втором дворе старого дома к какому-то грязноватому брандмауэру.
Как только у Игоря оказывался свободный вечер, мы брали машину и я учился ее водить. Выезд из хибары был так сложен, что «Москвича» всегда выводил мой добровольный инструктор, а уже на улице за руль садился я.
Дело быстро пошло на лад; как утверждал Игорь, сказалась стервозность моего характера. Не знаю, так ли это на самом деле, но по знакомым улицам и переулкам я уже вскоре стал ездить прилично, и мы решили сдавать экзамен.
Не тут-то было. В ГАИ нам заявили: очередь, ждите до августа. А дело было в последних числах мая.
Опять очередь… На этот раз она злила меня гораздо больше. Но делать нечего, пришлось ждать. Там более, Игорь в июне уезжал в отпуск, а сдавать экзамен без него мне в голову не приходило. Когда он вернется, до августа останется один только июль…
Игорь уехал, и я почувствовал себя осиротевшим и одновременно избавленным от опеки.
Время было летнее, семья жила на даче километрах в пятидесяти от города по самому бойкому курортному направлению. Это означало, в частности, что ездить туда каждый день автобусом было сущим мучением. В электричке народу было меньше, зато от нее приходилось тащиться более двух километров пешком.
Вот такая была обстановка. А в чужой хибаре одиноко стояла моя — моя! — новенькая машина.
Не помню, как возникло у меня это бредовое намерение. Со мной случается иногда, что я слепо подчиняюсь какому-нибудь инстинктивному порыву, — вероятно, это был как раз такой случай.
Стоял необыкновенно душный вечер, а на дачу надо было везти особенно тяжелую и громоздкую поклажу, и даже думать о том, чтобы втискиваться с ней в переполненный автобус, было противно.
Вот я и вывел машину из гаража.
Машина моя? Моя. Ездить я умею? Умею — в этом-то я не сомневался! За чем же дело стало? За пустой формальностью — бумажкой, дающей разрешение? А раз это всего лишь формальность…
Странное все-таки состояние, ах, какое странное: прекрасно знаешь, что все доводы, которые капают тебе на мозги, гроша ломаного не стоят, тебе стыдно принимать такую бессмыслицу всерьез и потом лопотать ее кому-то, оправдываясь, но совладать с собой ты не можешь. Как мальчишка.
В тот вечер я загипнотизировал себя подобными идиотскими рассуждениями, и мне уже ничего не оставалось, как только действовать. С трудом отомкнув невероятной сложности амбарный замок, я растащил пронзительно скрипевшие половинки дверей, погладил «Москвича» по носу и сел за руль. Машина радостно завелась — ей явно надоело торчать в этом гнилом местечке.
Включив первую скорость, я стал осторожно выезжать. Надо сказать, что выбраться из нашей хибары прямо вперед не было никакой возможности — мешал угол арки, ведущей в первый двор. Кроме того, створки дверей были плохо приделаны и до конца не открывались, а слева, совсем близко, тянулся упомянутый уже брандмауэр. Надо было подать вперед, затем, угадав момент, круто вывернуть направо, проехать немного по узкому проходу, аккуратно развернуться на пятачке и лишь после всего этого попадать в подворотню.
Повернуть достаточно резко направо в нужный момент я не сумел и уткнулся носом в чье-то окно — слава богу, хозяев не было дома. Попытался сдать назад — оказалось, что я уперся в левую половину гаражной двери. Снова подал вперед и сразу же задел крылом за правую ее половину. Я был зажат, как в тисках, перепугался, но и обозлился тоже. На всякий случай дал обет оставить машину на месте, если удастся каким-нибудь чудом снова въехать в хибару.
Но кто же теперь выполняет обеты?
Встав наконец в исходную позицию, я еще раз попытался своевременно вывернуть руль, и мне снова это не удалось, но я обозлился еще больше.
Не стану описывать все подробности неравной борьбы. Часа через два я выбрался на улицу. У «Москвича» была вмятина на заднем бампере, поцарапаны оба крыла, помят ободок правой фары. В остальном все было в порядке, гараж заперт, стены и арки двора стояли на прежнем месте.
Вывести машину на улицу было труднее всего, потом дело пошло. Заехав за вещами, я благополучно добрался до дачи. Правда, скорость, с которой я в те времена передвигался, колебалась между тридцатью пятью и сорока километрами в час, и я очень мешал движению, но за медленную езду у нас почему-то не штрафуют, и меня никто не остановил.
На даче меня встретили с удивлением, в глазах детей я стал героем (наконец!).
Вдохновленный этим успехом, я стал ездить по самому оживленному участку шоссе на работу и с работы, не имея на это никаких прав.
Жена уверяла, что каждый раз, не видя машины в положенное время, она лежит в предынфарктном состоянии. Я, как и подобает мужчине, слегка посмеивался над ее слабостью.
За два месяца меня никто ни разу не остановил — очевидно, машина под моим управлением не внушала подозрений.
Вернувшийся из отпуска Самохвалов был в ужасе.
— Ты понимаешь, чем это тебе грозит? — спросил он, заикаясь от возмущения: для профессионального шофера ездить без прав примерно так же невозможно, как ехать на красный свет.
— Ну, чем?
— А тем, что тебе могут задержать на год выдачу прав, а если ты, не дай бог, собьешь кого-нибудь или создашь аварийную обстановку на дороге, тебя будут судить вдвое, втрое строже! И вообще, как ты додумался… Сорок лет человеку… врач… семья… ведь это же хулиганство!
Не стану отрицать, я испугался. До смерти. Но остановиться уже не мог. Аварийная ситуация? Я верил в свои силы, — как оказалось, не зря.
Наступил август, подошла моя очередь, и мы отправились сдавать экзамен. Правила я ответил кое-как — никогда не мог заставить себя зубрить! — зато практическая часть прошла без сучка, без задоринки. Опыта у меня было будь здоров сколько, а когда рядом сидел капитан милиции, от присутствия которого иные впадают в транс и норовят сбить столб, я, двигаясь по улицам на законнейшем основании, не волновался совсем и ничего не боялся.
На следующий день я получил новенькие права, полюбовался ими и сунул в карман.
Это было в среду, а в пятницу меня остановили на шоссе. Инспектор ГАИ, вежливо козырнув, попросил документы.
Я знал, что они у меня есть, но шарившая в кармане рука дрожала — так был я ошарашен этим невероятным совпадением. Инспектор бегло просмотрел права, технический паспорт и разрешил мне двигаться дальше. Я ничего не нарушил, просто сегодня проверяли все «Москвичи» бежевого цвета — где-то кто-то угнал похожую машину.
Вот и не верь после этого в судьбу.
Увы! Пока мы с «Москвичом» вступили в нашу совместную зрелость, далеко не все шло так же гладко.
4
Зрелость…
До того как я сел за руль, характер моих отношений с женщинами был убог, постыден, бессмыслен, случайные встречи не только не скрашивали, не согревали мое существование, но, напротив, делали его еще более гнетущим.
Преувеличения здесь нет, хотя я не мог бы объяснить, почему так получалось. То ли все из-за того же комплекса неполноценности по отношению к прекрасному полу, которым я страдал с юности и который был порожден моим зауряднейшим внешним видом. То ли потому, что я ушел на войну еще мальчиком и, когда там, на фронте, меня обняла первая в моей жизни женщина, я попросту не знал, как должен отвечать на ее объятия. Хорошо, она оказалась опытнее меня…
Мы работали с Клавой в одном госпитале. Наш хозвзвод кое-как приспособил под жилье несколько полуразрушенных хат; одну из них отдали среднему медперсоналу. В образовавшейся после ремонта большой комнате разместились все наши сестры и я. Девушки спали посменно на нарах, а для меня двумя плащ-палатками был отгорожен уголок, куда только-только влезла стандартная железная койка.
В те дни и ночи, когда я валился с ног от усталости, мне бывало безразлично, где спать, лишь бы можно было, переделав все дела, закрыть наконец глаза. Когда же выдавался денек поспокойнее и спать хотелось не так отчаянно, то, пройдя вечером через девичий «дортуар» и слыша потом через нашу эфемерную перегородку каждое слово, каждую нескромную шутку — в том числе и в мой адрес, — слыша каждое движение, я мучительно долго не мог заснуть.
Я — любил. Я любил их всех сразу, высоких и низеньких, худощавых и толстушек, любил их тела, их длинные волосы, восхищался их формами — короткие для того времени форменные юбки и туго перепоясанные гимнастерки старательно подчеркивали каждый изгиб. Увидев их полуодетыми и зная, что здесь, рядом, они в эти минуты раздеваются совсем, я легко рисовал в своем воображении картины их щедрых прелестей; анатомию, слава богу, я знал неплохо.
Шли ночи, мучения мои становились подчас едва переносимыми, но предпринять что-нибудь или просто ответить на заигрывания я стеснялся.
Робел…
Эта пытка продолжалась до тех пор, пока Клава — она была из Рязани, я хорошо помню ее бездонные, совершенно, сплошь черные глаза — не выбрала денек, когда мы с ней отсыпались после ночного дежурства, и не взяла инициативу в свои руки. Во время общего обеда Клава, будучи уверена, что в ближайшие полчаса в наше общежитие никто не зайдет, вошла ко мне за загородку, присела на краешек моего утлого ложа, тихонько разбудила меня, а потом, не говоря ни единого слова, скользнула, в одном белье, под одеяло и прижалась ко мне всем телом.
Я неумело обнял ее, поцеловал… Мысли спросонья совершенно спутались… Твердо знаю, что сухой жар сжигал меня — это ощущение, как и ее глаза, я не забыл до сих пор.
Так я, впервые в жизни, почувствовал себя очень сильным. Упоенный своим могуществом, я стал совершенно иначе держаться, гораздо увереннее чувствовал себя в операционной. Мир как бы подчинился мне, я ощутил себя одним из его хозяев, а не зависящим от кого-то или от чего-то рабом обстоятельств; я стал вровень с самоуверенными людьми — я всегда их недолюбливал, но и завидовал им тоже.
Может быть, я тогда же освободился бы от сковывавшего меня всю молодость комплекса, но этому, как ни странно, помешала именно переполнявшая меня уверенность. Мое скромное счастье оказалось недолгим. Человек очень прямой, я не стал — не мог! — скрывать свои чувства, да и с какой стати скрывать чудо, скрывать то, что так окрылило меня, что, следовательно, могло принести только пользу всему человечеству?! Я был слишком беспечен и ненасытен, чтобы думать о конспирации, о маскировке, хотя Клава умоляла меня об этом; я уводил ее в лес, требовал, чтобы она приходила по ночам в мой угол…
Развязка не заставила себя ждать. Пошел шепоток, вмешался замполит, и кончилось все это тем, что мою подругу перевели в другой госпиталь, несмотря на то что я отчаянно умолял не делать этого, заявлял о своей готовности жениться на ней…
— Не положено, — сказал начальник госпиталя. Он был сухой человек.
Мы переписывались некоторое время, потом Клава исчезла куда-то…
А я опять замкнулся в себе. Война кончилась, я восстановился в институте, пришлось нажимать на занятия, чтобы догнать группу, — только с практикой у меня было лучше всех. Естественно, мои встречи с женщинами были редкими, мимолетными, да и женщины не блистали ни молодостью, ни красотой. Принимая, как и все студенты-фронтовики, активное участие в общественной жизни, получая именную стипендию, я никак не мог себе позволить завести какую-нибудь интрижку тут же, в институте. Только на последнем курсе я женился на девушке, которая, как и Клава когда-то, взяла инициативу в свои руки.
Все категорически изменилось, едва я почувствовал себя уверенно за рулем автомобиля. Я не только перестал конфузиться и робеть, я почему-то стал считать каждую привлекательную женщину, садившуюся рядом со мной в машину, своей потенциальной «жертвой». Дело дошло до того, что я искренне удивлялся, выяснив тем или иным способом, что она попросту собиралась проехать со мной рядом несколько километров — несколько десятков или несколько сотен километров. Я и сажал-то в машину исключительно женщин, которые мне нравились.
Начало этой мистерии положила та самая Галина Семеновна, о «роковом» вмешательстве которой в мою жизнь я уже упоминал. Много лет, еще с института, где мы учились в одной группе, у нас продолжались какие-то малопонятные отношения. Скрытая, ирреальная сила неудержимо тянула нас друг к другу, а мы, словно сговорившись, не давали ей выхода, сдерживали себя, даже поговорить откровенно не пытались. Сколько раз впоследствии, вспоминая эти годы и досадуя на себя, я удивлялся: ну почему мне было не жениться тогда на Гале, почему надо было ждать, чтобы меня женила на себе другая?
Быть может, наше взаимное влечение казалось нам слишком очевидным, а потому запретным или недостаточно глубоким и серьезным… Или, поскольку мы были соучениками, нам не хватало дистанции, чтобы выделить друг друга из общего потока, — обыденное стать исключительным вроде бы не может… Или Галя, пришедшая в институт прямо после школы, не решалась шепнуть что-нибудь ласковое человеку, который был на шесть лет старше ее…
Сам я, как известно, робел, да и занят был чертовски.
Потом я женился, вышла замуж она, мы иронизировали вдвоем по этому поводу, и я всегда негодовал при этом, мне было грустно, и досадно, и жаль чего-то безвозвратно утраченного.
Чего?
В ночь после выпускного вечера наша группа устроила дополнительно еще вечеринку на квартире одной из девушек. В разгар застолья я вышел на кухню помыть руки — ванные комнаты были тогда далеко не везде. Я уже повесил на место полотенце и собирался назад в комнату, когда на кухню вошла Галя и тоже потянулась к водопроводному крану — напиться. «Желанная моя, ведь мы, может, в последний раз видимся», — ни с того ни с сего подумал я, глядя на родную стройную фигурку в шелковом платье, склонившуюся над раковиной. «Да что же это… Да неужели…» Мгновение, вспышка — и меня швырнуло к ней. Сжав левой рукой длинные, рыжеватые волосы, я заставил ее выпрямиться, отогнул голову и впился губами в полураскрытые губы.
Галя только трепетала, не делая ни малейшей попытки высвободиться и старательно отвечая на мой поцелуй. Стопка грязных тарелок, объедки, окурки, помойное ведро, стоявшее почему-то открытым, — ничто не смущало нас. Ни ее мужа, ни моей жены на этой вечеринке не было, и бог знает, чем бы все кончилось, если бы нас не спугнула хозяйка дома.
— Вы что тут делаете вдвоем? — кокетливо погрозила она пальчиком. — А ну, Саня, помоги-ка мне откупорить еще бутылочку!
Галя, вспыхнув, убежала, а я вернулся в комнату вместе с хозяйкой, с бутылкой вина в руке.
Когда собрались по домам, Галю отправился провожать близкий друг ее мужа, которому это заранее было поручено. Она с тревожным вызовом глянула мне в глаза и ушла.
Лето, первые месяцы работы… Жизнь развела нас в стороны. Изредка мы встречались, правда, на научных конференциях, на совещаниях педиатров, и каждый раз, хотя бы издали, тоскливо глядели друг на друга, словно бы вновь и вновь сожалея о чем-то. Наши взгляды, скрещиваясь, доставляли нам минутную радость, но, главным образом, подтверждали это сожаление. А годы бежали.
Потом Галя позвонила мне и предложила консультировать в небольшой ведомственной детской больнице, которой она стала заведовать. Я согласился, но и это ничего в наших отношениях не изменило.
И вот настал день, когда я приехал на консультацию на «Москвиче». Мы с Галей вместе вышли из больницы, и я предложил отвезти ее домой.
Галя взглянула на меня с удивлением, но не стала задавать банального вопроса, откуда у меня машина, а кивнула и села рядом со мной на сиденье. Всю дорогу она молчала, напряженно думая о чем-то. Когда же мы доехали и я остановился возле ее дома, она, открывая дверцу, тихо сказала:
— Какой ты счастливый… за город ездить можешь…
Она уже ставила ногу на тротуар, когда я услышал свой собственный голос, приглашающий ее поехать со мной за город в ближайшее воскресенье. Что заставило меня произнести эти слова, я не знаю; в беспамятстве я не был, это точно, ибо совершенно отчетливо сознавал, что жена и теща именно в воскресенье отправляются в гости к какой-то очередной родственнице.
Галя повернула ко мне лицо, ее усталые после трудового дня глаза помолодели. Согласилась она сразу, словно мое предложение было чем-то обычным, само собой разумеющимся, словно я приглашал ее за город уже много раз, и она ждала, что я это сделаю и сегодня…
В воскресенье мы встретились в центре. Галя была тщательно одета, чего за ней в последнее время не наблюдалось. Могу дать голову на отсечение: расцветка ее платья была той же, что и в выпускной вечер.
Заехали мы далеко. По дороге шел обычный, пустоватый разговор о природе, о погоде, о местности, которую мы проезжали, о грибах, которых в этом году обещали множество, но под тонкой словесной оболочкой билось что-то осязаемое, прощупывались какие-то желвачки, какие-то катышки мускулов, накапливались импульсы, не имевшие ничего общего с произносимыми вслух словами.
Хозяйки, которая могла бы нас спугнуть, в лесу не оказалось… Дом был в полном нашем распоряжении.
— Господи, мне уже тридцать четыре… — только и произнесла она.
Потом Галя призналась, что, увидев машину, поняла, что ждать больше нельзя ни минуты.
Да… Обрети мы друг друга раньше, мы, скорее всего, не расстались бы, и многое в моей жизни пошло бы по другому руслу. Вероятно, мы были бы удачной парой, и рядом со мной шла бы по жизни не просто «законная жена», а горячо любимая женщина, нежность которой я все снова и снова стремился бы удержать. Вот так промчишься в молодости мимо, а потом…
Теперь нас обоих связывали семейные путы, рвать которые было поздновато. Не судите нас строго — мы не решились растоптать все, чем обросли за эти годы. Зря, вероятно.
Наши встречи были вначале частыми и бурными, потом — размеренными, как метроном… Мне было жаль и Галю, и себя… Нас связывало что-то очень настоящее… Я терзался, не находя выхода, не видя возможности придать нашим отношениям подлинность и прочность.
Потом мы расстались — уже навсегда…
А для меня открылась не существовавшая ранее перспектива, сулившая обновление, дававшая надежду на все новое и новое очищение души — именно этого ждал я от каждого следующего знакомства. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто с помощью «Москвича» я стал профессиональным покорителем женских сердец, — не забывайте, я по-прежнему нес служебные и домашние обязанности, и еще стал работать над диссертацией, да и машина непрестанно требовала времени, чем «старше» она становилась — тем больше. Но с женщинами я стал откровеннее, смелее.
Отчасти дело, конечно, и в том, что, сидя за рулем, мы утрачиваем недостатки нашей внешности. Когда женщина идет по улице, а ты сидишь в машине, рост твой ей неизвестен, а лицо твое, сквозь ветровое стекло, она всегда видит в рамке из никеля и лака. Когда же машина движется, а женщина голосует, ее возможности разглядеть твою физиономию снижаются до минимума.
Да и так ли уж ей это важно?
Внешность мужчин значительна только для очень юных, очень тщеславных или очень глупеньких девиц. Для женщины, хоть сколько-нибудь разбирающейся уже в жизни, значение будет иметь твой ум — для одной, твой бумажник — для другой, твои гены семьянина — для третьей, то, как ты ведешь машину, — для четвертой.
Я не хочу сказать, что все дело в скорости, но я точно знаю, что только оказавшись за рулем и держа его в меру крепко, я получил самую скромную возможность свести счеты с красотками, так долго пренебрегавшими мной.
5
Емкая формула «автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», введенная в обиход теми же Ильфом и Петровым полвека назад, обретает сейчас у нас свой подлинный смысл. С каждым месяцем все быстрее жители нашей страны всерьез начинают делиться на тех, кто едет в автомобиле, и тех, кто идет пешком.
Между этими лагерями должно сохраняться полное взаимопонимание.
Впрочем, шофер не склонен терять исконное уважение к пешеходу, хотя горя с ним, бывает, хлебнешь немало; завидев впереди встречную автомашину, ты почти всегда, пусть приблизительно, можешь представить себе, чего от нее ждать, а вот чего следует ждать от появившегося на дороге человека — трезв он или пьян, внимателен или беспечен? — ты знать никак не можешь. Тут такая интуиция нужна… Но злятся на пешеходов только новички да истеричные любители; опытный шофер привыкает к ним, как к неизбежному злу.
Опытный водитель — психолог.
И он обычно добрый человек: он снисходительно прощает пешеходу самые безумные выходки, как взрослый прощает ребенку.
Кроме того, в его семье обязательно найдется несколько пешеходов — думая о них, шофер думает и о всех пешеходах мира.
Есть и еще одно, простейшее обстоятельство: поставив машину, каждый водитель немедля сам превращается в пешехода.
Так что со связью «шофер — пешеход» вроде бы все в порядке.
Но вот обратная связь налажена у нас еще неважно.
Многим пешеходам, как это ни грустно, попросту плевать на личность шофера. Они считают водителя придатком машины; многие продолжают относиться к шоферу, как к существу второй категории, призванному их обслуживать. Живуча госпожа Простакова: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело».
Далеко не все понимают:
— что завтра шофером может стать их младший брат, а послезавтра обязательно станут их же собственные сыновья и дочери,
— что пешеход кровно заинтересован в уровне подготовки шофера, каждого шофера, — что толку в безукоризненном вождении машины девятью водителями, если десятый возьмет да и задавит тебя?
— что пешеход, во имя собственной безопасности, должен быть озабочен и тем, чтобы шофер, работая в максимально благоприятных условиях, сберегал к концу дня, к концу месяца, к концу сезона свои нервные клетки,
— что, упорно отказываясь от возможности самому стать шофером, он отстает от эпохи и значительно укорачивает свою жизнь.
Почему?
Потому, что герою нашего времени все менее показана инертность и, напротив, все более полезна скорость. Не повышение темпа беготни по учреждениям и магазинам, конечно, а скорость как категория существования материи.
Человечество давно культивирует скорость.
Состязания бегунов — скачки — гонки.
Колесницы разного рода — поезда — автомобили.
Велосипеды — мотоциклы — скутера́.
Аэропланы — ракеты.
Но никогда еще борьба за скорость не была увенчана такими успехами, как в двадцатом веке.
Никогда еще скорость так естественно и так прочно не входила в наш быт.
Каждый из нас инстинктивно, часто не замечая этого, стремится приобщиться к успехам скорости, — он вынужден это делать, как член общества, как его частица.
Каждый.
В чем, например, суть интереса к современным турнирам на льду и к рыцарям, закованным в латы не менее основательно, чем средневековые бойцы? Ведь интерес этот поистине глобален: школьники бросают уроки, твердо зная, что завтра их непременно спросят; влюбленные отменяют очередное свидание, даже если у них есть сегодня ключ от комнаты приятеля; шахматисты прерывают турниры, улицы пустеют, тысячи домашних хозяек, позабыв про котлеты, впиваются глазами в экран, когда идет большой хоккейный матч.
— А Фил вчера был явно не в духе…
Дожидаясь очереди в химчистке, я услышал эти слова от миловидной женщины средних лет; в те дни передавали серию матчей с канадцами, и речь шла об одном из них, нападающем Филе Эспозито…
В чем дело? Что привлекает миллионы? Зрелище? Но их — легион. Жажда победы нашей команды, некое локальное или национальное самолюбие? Не только: побед и поражений в спорте не счесть — почему же именно хоккей? Жесткость схваток? Не только: они куда менее жестки, чем бокс или борьба.
Зрителей привлекает, прежде всего, скорость хоккея, та неукротимая стремительность, с которой развертывается сражение. Каждый, кто смотрит матч, сам подключается к его темпу: да, да, он, старик, мчится со своим любимцем в атаку и хоть три периода — шестьдесят игровых минут — идет по веку с максимальной скоростью, доступной сегодня не вооруженному техническими новинками и суперновинками пешеходу.
Жить вровень со скоростью века не может не быть здорово для любого организма: только так можно сбалансировать сложные отношения данного человеческого существа с природой, неотъемлемой частью которой он остается, где бы он ни жил, какой бы профессией ни владел; только так можно избавить человечество от разного рода комплексов и помочь зачумленному цивилизацией жителю огромного современного города сохранить тонус жизни нормального землянина.
Так вот: профессия шофера — единственная из массовых профессий — дает такую возможность повседневно. И не иллюзорно, а вполне реально. Не надо ничего преодолевать — ни возрастные ограничения, ни ложный стыд, ни даже лень. Сел за руль, вставил ключ в зажигание, нажал на стартер, включил скорость — и поехал.
Сразу поехал. Двадцать. Сорок. Шестьдесят. Сто — если ты на дороге. Ты больше не инертен, ты вовлечен в общий скоростной поток, ты движешься. Тебе легче дышится, сердцу твоему, побитому годами и огорчениями, гораздо просторнее, оно не задевает за стенки сердечной сумки, мелкие заботы, минуту назад заслонявшие солнце, уходят назад с быстротой, соответствующей — или хотя бы прямо пропорциональной — показаниям спидометра, и ты оказываешься вдруг связан со своей эпохой, со своим веком гораздо прочнее, чем сотни твоих современников, оставшихся стоять на месте.
Ритм века уже не бьет тебя по затылку — ты идешь на одной с ним волне.
Каждый пешеход — потенциальный водитель. Не забывайте, пожалуйста, об этом, товарищи пешеходы.
Мне заметят: существуют профессии, дающие еще более острое ощущение скорости, — гонщики, летчики, космонавты. Но мы говорим о земных, а не сверхзвуковых скоростях, мы говорим не об исключительной, а о массовой профессии.
И еще — о возможности приобщить к скорости сотни тысяч л ю б и т е л е й, людей другого призвания, в том числе не очень крепких физически мужчин, а также женщин: они так спокойно и домовито водят легковые машины, что любо-дорого смотреть. Недавно я любовался шофером такси: в изящном фартучке, она метелочкой сметала пыль со своей «Волги», протирала ветошью стекла…
— Больше скорость — больше аварий, — могут мне возразить.
Это звучит неопровержимо, как аксиома, на самом же деле это положение весьма спорно.
Большим скоростям должны сопутствовать хорошие ходовые качества машин, и лучшая организация движения, и — главное — приличные дороги.
Мой опыт говорит мне, что количество аварий непосредственно зависит от качества дорог — включая не только их ширину и добротность их покрытия, но и обход населенных пунктов, и отсутствие перекрестков.
А также от уровня подготовки и дисциплинированности водителей.
И еще — от дорожной службы и службы движения.
Бывают, конечно, и разного рода случайности.
Им несть числа.
6
Аварий в своей жизни я видел немало, но не всегда вникал в случившееся. Когда едешь на большое расстояние, времени терять особенно не приходится, и потом, если ты остановишься, тебя, как пить дать, обгонит колонна грузовиков, которую ты с таким трудом обошел — движение-то однорядное. Так что, если нет сомнения в том, что помощь врача не нужна, мимо разбитых машин проскакиваешь, только сбавив скорость.
Первая авария, случившаяся на моих глазах, произошла в Забайкалье, в сорок пятом году, вскоре после окончания войны с Японией. Я попал туда в составе действующей армии, переброшенной с Запада, и это стоило мне еще года ношения военной формы — демобилизоваться там оказалось не так-то просто.
Жил я на частной квартире и, как все мои товарищи, быстро приноровился к особенностям жизни в тех местах, хотя размах ее часто поражал нас, «европейцев».
Допустим, какой-нибудь гражданочке необходимо навестить приятельницу, живущую за двести-триста километров. Зимой. В тридцатиградусный мороз. При полном отсутствии регулярного пассажирского транспорта. Возможно, теперь там повсюду пустили автобусы, не знаю — тогда автобусов не было.
Так вот, упомянутая гражданочка одевается как можно теплее, договаривается с водителем попутной машины, залезает в кузов грузовика, не закрытый никаким брезентом, да так и едет. Если шофер с понятием, он останавливается почаще, чтобы пассажиры могли обогреться; попадется лопух — гонит вовсю…
Но самое интересное, в смысле размаха, заключалось не в способе передвижения, а в том, что свидание с подругой у проделавшей такую дорогу женщины вполне может продолжаться один вечер. Попили чайку, поболтали, а завтра — назад.
Примерно такого рода поездку предстояло совершить и мне. В нужном направлении шли в тот вечер три «студебеккера». Они везли трофейную муку военнопленным японцам, расквартированным далеко от железной дороги. Туда вело приличное, по тем временам, асфальтированное шоссе, несколько раз переваливавшее через не слишком высокие горные цепи.
Сперва я попытался договориться с шофером машины, стоявшей в колонне второй, — других водителей не было на месте; молодой парень заломил цену, для меня невозможную. Потом подошел водитель первого грузовика, пожилой человек, который о деньгах не стал говорить вообще: глянул на погоны младшего лейтенанта медицинской службы, едва видневшиеся из-под воротника полушубка, и кивнул головой в сторону кузова.
Вскоре мы тронулись. Нагружены «студебеккеры» были одинаково: небольшие, тонкие мешочки с японской мукой — килограмма по три, по четыре — лежали рядами вровень с бортами машин. На мешках и устраивались пассажиры — кто как мог. Поверх телогрейки, полушубка и крепко завязанной шапки-ушанки я накинул еще плащ-палатку и сел в первом грузовике спиной вперед, к ветру, привалясь к кабине; ко мне немедленно приткнулся какой-то старик, ехавший навестить дочь.
Мчались мы с ветерком: километров через девяносто, в первом большом поселке, часть пассажиров сошла, а остальные забежали погреться — ветер был ледяной. И тут одна из попутчиц поднесла по стопочке шоферам. Все мы толклись в одной комнате, и я заметил, что мой водитель только пригубил, а если и отхлебнул, то совсем немного, — я похвалил его в душе. Так же поступил и шофер третьей машины; лишь молодой парень, с которым мы не сторговались, лихо выцедил свою долю.
Двинулись дальше. Стемнело. На безоблачном небе взошла луна, и плотно припорошенная укатанным снегом дорога стала видна отчетливо.
Вскоре начался очередной подъем, потом — спуск, длинный, метров в четыреста, и совершенно прямой; в самом низу дорога круто сворачивала, а вскоре за поворотом выходила на деревянный мостик через речку или ручей, засыпанный глубоким снегом.
Бензин в то время ценился чуть ли не дороже спирта, его экономили как могли, и такие бывалые ребята, как наши шоферы, конечно же спускались с перевала, выключив моторы. На спуске они легонько притормаживали; снежная дорога — всегда скользкая дорога.
Во всяком случае, наш водитель притормаживал, — сидя в кузове, мы прекрасно ощущали это.
Владей я хоть немного кистью, я легко мог бы и сейчас нарисовать эту картину: черное небо, залитая лунным светом безмолвная снежная пустыня — места там безлюдные, — длиннейший спуск с горы, и беззвучно (как это нарисовать?) летящие вниз наши три машины, тоже темные, без огней; свет луны был ярок, его хватало.
Вот первая машина, та, что была подо мной, закончила спуск, плавно взяла поворот и, все еще с выключенным мотором, стала приближаться к мостику. В это время второй «студебеккер», разогнавшийся шибче и поэтому «резвее» взявший поворот, стал нас нагонять.
Боясь, очевидно, резко тормозить, чтобы не занесло, шофер второй машины решил обойти нас. Ширина дороги вполне позволяла это, но он не смог соотнести свой маневр и, главное, свою скорость с тем, что у мостика дорога немного сужалась.
Наш же водитель, никак не предполагая, что его товарищ, более ста километров не нарушавший строя, захочет вдруг его обогнать, и мирно беседовавший с соседкой, у самого мостика, не взглянув в зеркало заднего вида, взял чуточку влево; на дороге был ухаб.
Этой чуточки оказалось достаточно.
Дальнейшее разыгралось в двух-трех метрах от меня, на фоне все того же застывшего безмолвия. Увидев вдруг перед собой задний борт нашей машины, водитель второго грузовика вынужден был тоже взять влево — затормозить он уже точно не мог.
И тут тишина была нарушена. С треском смяв мощным бампером деревянные перильца моста, «студебеккер» повис на секунду левыми колесами в воздухе, затем очень резко, весь разом, перевернулся и, колесами кверху, ухнул вниз.
Я забыл сказать, что на остановке сошла единственная пассажирка, находившаяся в кузове этой второй машины; только рядом с шофером сидела женщина, угощавшая водителей водкой.
Я застучал по кабине. Наша машина, пробежав еще метров тридцать, остановилась, подошла так же беззвучно третья, и мы все, проваливаясь в снегу, кинулись под откос.
Грузовик лежал, как на перине, ровно и спокойно. Ни звука, ни движения.
Кто-то стал разгребать снег руками, кто-то кинулся назад, за лопатами. Как смогли быстро, мы откопали их.
Пушистый, глубокий снег и плотный груз в высоком, сравнительно, кузове сохранили шоферу и его спутнице жизнь: кабина «студебеккера» смялась в лепешку, но только до уровня кузова. Обе жертвы лежали внутри вниз головами, скорчившись, как младенцы в утробе матери. Они были без сознания.
Самое трудное заключалось в том, чтобы открыть заклинившиеся двери и вытащить их из кабины. Дальше все пошло на удивление быстро. Пока я приводил пострадавших в чувство, две остальные машины специальными тросами и лебедками, укрепленными спереди на раме «студебеккера», сперва перевернули своего собрата, затем вытащили на дорогу.
Кузов разлетелся в щепы, от груза осталось всего ничего — мешочки полопались, и мука перемешалась со снегом, — дверцы кабины не закрывались, их привязали проволокой, но мотор завелся, и дальше грузовик пошел своим ходом.
Его вел все тот же, совершенно протрезвевший шофер. И он, и пассажирка отделались ссадинами.
Много лет спустя, на другом необычайно длинном и прямом спуске произошла авария машины, которую вел я сам. Случилось это за много тысяч верст от Забайкалья, в горах Словакии, но, как и в тот раз, авария произошла вовсе не от высокой скорости.
Командировка в Чехословакию для ознакомления с работой детских больниц может служить убедительным примером того, как стало мне везти после встречи с «Москвичом». Часто ли рядовой врач может рассчитывать на что-либо подобное?
Поехали мы вдвоем с одним московским педиатром, который оказался таким же страстным автомобилистом, как и я. Узнав, что нам запланирована поездка по стране, мы решили не пользоваться ни поездами, ни самолетами, а взять напрокат автомобиль.
Любезные хозяева, принимавшие нас, охотно пошли навстречу. На прокатном пункте в Праге мы сдали десятиминутный экзамен по вождению, а затем нам любезно предложили только что полученный ими «Москвич-408»; в то время это была новейшая модель. Мы с радостью согласились взять машину, знакомую нам по конструкции.
Благополучно поездив по Чехии, — «Москвич» вел себя достойно, если не считать того, что у него никак не включалась задняя скорость и, чтобы развернуть машину, мы откатывали ее на руках, — мы прибыли в Словакию. Пожили положенное время в Братиславе, посетили там станцию обслуживания, где нам сообщили, что задняя скорость включаться никак не может, ибо в машине стоит коробка от предыдущей модели, а затем направились в горы.
С нами поехал словацкий писатель, редактировавший несколько детских журналов. Он знал русский язык, любил и умел рассказывать — словом, лучшего спутника трудно было себе представить. По крайней мере половина словаков были его личными друзьями.
В конце первого дня пути мы добрались до дома одного из таких друзей, бывшего партизана, ныне директора мебельной фабрики. Нас угостили обедом и совершенно восхитительным напитком, который по-словацки называется «боровичка» и, судя по этому, изготовляется из… сосны. Напиток чист, как слеза, и невероятно крепок.
Справедливости ради: я «боровички» в тот раз не пил, а только пригубил — за здоровье хозяйки. Так что Петр Платонович (так звали моего спутника), писатель, которого все называли Людо, — как его полное имя, я не знаю, — и директор фабрики осушили почти литровую бутылку втроем.
А пить мне нельзя было потому, что мы собирались до темноты проехать еще километров двадцать пять в горы и там остановиться на ночлег. Людо хотел познакомить нас с разными интересными людьми, в том числе с местным патером, героем Сопротивления, самоотверженно спасшим в годы оккупации население деревни от поголовного истребления гитлеровцами за сотрудничество с партизанами.
Итак, пообедав и отдохнув, мы поехали дальше. В горы. Директор мебельной фабрики, разумеется, поехал с нами.
После того как мы поднялись немного над уровнем моря, директор и Людо обратили внимание на очень симпатичного пожилого человека, выходившего из дверей трактира как раз в ту минуту, когда наша машина ехала мимо.
— Стой! — закричал Людо. — Стой! Это же золотой старик, участник восстания, председатель первого Национального комитета в этой местности!
— Верно, — оживился директор. — Возьмем его с собой…
Я остановился, хотя, как выяснится из дальнейшего, делать этого мне было нельзя ни в коем случае. Но разве знаем мы, что готовит нам судьба?
Место в машине было, времени у нашего нового знакомца, ныне пенсионера, оказалось хоть отбавляй, мы обменялись рукопожатиями, втиснули его третьим на заднее сиденье и поехали дальше.
Километра через четыре после этого придорожного трактира начался новый подъем. Не слишком крутой и, на удивление, прямой, как стрела. Подъем как подъем. Справа обрыв, огороженный тонкими железными перилами, но что мне до обрыва? У меня новая, послушная машина — заднюю скорость я включать не собирался, — я и еду себе спокойно, километров так семьдесят-восемьдесят в час.
В машине оживленно, даже весело. Воспоминания, шутки, смех. Русские слова прекрасно сочетаются со словацкими; смесь эта, как хорошо замороженное шампанское, придает беседе особый, чуть взрывчатый колорит.
Тут в поле моего зрения попадает движущийся навстречу по левой стороне дороги трактор с прицепом.
Эка невидаль. Трактор и трактор. Он спускается, я поднимаюсь. Он мне не помеха, я ему — тоже.
Это теперь, заметив впереди колесный трактор, я становлюсь собранным и внимательным и тщательнее обычного сжимаю руль.
Рефлекс…
А тогда, в тот день, я даже скорость не сбросил — зачем?
Сближаемся.
И вот, когда расстояние между нами уменьшается метров до пятидесяти или, может, до сорока пяти, от этого самого трактора отваливается левое заднее колесо, огромное, синего цвета, а сам трактор рушится на дорогу и, вместе с прицепом, мгновенно превращается в нечто неодушевленное.
Отскочившее колесо замирает на середине той части дороги, по которой через считанные секунды должен проехать я, а затем, вздрогнув, идет под горку, мне навстречу, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. При этом оно изящно вибрирует.
Колесико это навечно передо мной — как живое.
Что было делать?
Напоминаю: скорость около семидесяти, справа — обрыв с железным ограждением, слева — изваяние в виде трактора с прицепом, прямо по курсу — колесо.
Что делать?!
Не стану врать: поразмышлять особенно глубоко на эту тему я не успел. Что-то я подумал, конечно, но вот что — хоть убей, не помню…
Сработала автоматика: я стал нажимать на тормоз — не слишком сильно, чтобы не занесло в обрыв, но все же.
К сожалению, по мере того как падала наша скорость, возрастала скорость колеса. Оно достигло нас и с маху ударило наш бедный капот невероятно тугой, широкой, массивной резиновой шиной, что само по себе было неприятно.
Но колесо этим не ограничилось: от удара оно развернулось в каком-то неистовом прыжке и приложилось к капоту вторично — на этот раз огромным железным диском.
Мы стояли.
Экипаж «Москвича» не пострадал, только писателю, сидевшему рядом со мной, каким-то образом оцарапало ногу.
Из радиатора густой струей текла вода.
Словаки хором твердили, что, если бы не крепкая конструкция советской машины… Слабое утешение.
Да… Не выйди «золотой старик» в ту минуту из дверей трактира и не остановись мы, чтобы забрать его с собой, мы конечно же миновали бы трактор еще до того, как…
Приехала аккуратная чехословацкая милиция. Я отдал капитану ключи, и мы все вместе закатили беднягу «Москвича» во двор стоявшей под горкой школы. В совершенном отчаянии прибежал перепуганный хозяин трактора, оказавшийся единоличником; беглого взгляда на его внешний вид было достаточно, чтобы понять, что частный сектор доживает свой век.
Хозяин сразу же признал, что защелка (задвижка?) на колесе давно была неисправна, а он все никак не мог собраться сменить ее.
Но самое печальное ждало старика впереди. Ему предстояло уплатить штраф за то, что управлявший трактором молодой парень, его сын, только что вернувшийся из армии, не имел соответствующих водительских прав — капитан иронически потряхивал разрешением на вождение мотоцикла. Ему предстояло полностью оплатить не только ремонт машины, но и внести наличными всю сумму, которую составила бы плата за ее прокат — за все то время, что машина будет в ремонте.
Нам было очень жаль его, но помочь ему мы ничем не могли.
Еще больше нам было жаль самих себя, нашей испорченной поездки.
Милицейский капитан любезно довез нас до места назначения; патер был рад нас видеть. Мы проговорили до глубокой ночи и переночевали в комнате для приезжих местного Дома культуры.
На следующий день был составлен и подписан официальный акт, нам прислали другую машину, не прокатную, с шофером, и мы уехали.
У этой истории есть продолжение.
Несколько дней спустя мы попали в большой город Брно и дали там интервью сотруднику местного радио, который заявил, что у них принято начинать беседу ответом на вопрос: что больше всего потрясло вас за минувшую неделю?
Мы с Петром Платоновичем переглянулись и засмеялись.
Журналист обиделся.
Пришлось ввести его в курс дела.
— Наконец-то мне попались люди с чувством юмора! — радостно воскликнул он, потирая руки. — Именно это мы и запишем в первую очередь!
И я наговорил в микрофон притчу о тракторе и колесе, и не солгал ни капельки, ибо это действительно было самым потрясающим, во всех отношениях, происшествием за истекшую неделю.
Интервью пошло в эфир.
Закончив поездку по стране, мы вновь прибыли в Прагу и в тот же день посетили Министерство здравоохранения. Стоило мне открыть дверь в кабинет начальника одного из отделов, как тот, всплеснув руками, вскочил из-за стола.
— Так вы живы и здоровы?! — радостно вскричал он. — Слышали бы вы, какие ужасы рассказывали о вас по радио! Я был убежден, что вы в больнице!
До сих пор не знаю, слушал ли почтенный начальник отдела эту передачу лично или ему кто-то что-то пересказал, — спросить было неудобно, такой искренней и неподдельной была его радость.
7
Машина коренным образом изменила мое отношение не только к женщинам, но и ко всему человечеству.
Ощутив машину как некий плацдарм, неожиданно отвоеванный мной у фортуны, и вложив в укрепление этого плацдарма немало душевных да и физических сил, я заметил, что стал иначе реагировать на многие внешние возбудители, в том числе на поступки людей, с которыми я вместе проделывал ежегодные синусоиды моей врачебной карьеры.
Раньше мне казалось, что мое отношение к ним давным-давно определилось и останется таким уже навсегда. Теперь выяснилось, что это вовсе не так.
Я стал хладнокровнее принимать к сведению указания начальства: допустим, приказ о предоставлении очередной вакансии не мне, хоть я имел на нее право, а кому-то другому, — ладно, у меня-то ведь есть машина… Раньше в подобной ситуации я стал бы негодовать, жаловаться, истрепал бы немало нервов и себе и другим; теперь я готов был даже согласиться с тем, что получивший повышение врач имел на это больше морального права, чем я, — пожалуйста, я не спешу, у меня же есть моя машина… Я даже стал терпимее к коллегам, не упускавшим случая ударить себя кулаком в грудь и произносившим по крайней мере раз в месяц витиеватую и демагогическую речь, — пусть себе болтают на здоровье, у меня-то есть моя машина…
Но главная перемена заключалась не в этой иронии и не в хладнокровии, моему темпераменту никак не свойственном, а в том, что, благодаря «Москвичу» — элементарному для ракетного века механическому приспособлению, примитивному роботу на колесах, я познакомился и сошелся с большой группой совершенно новых для меня людей, представляющих мир, известный мне ранее лишь понаслышке. Знакомство это воскресило в моей повседневной житейской практике полузабытые уже простоту и ненавязчивость человеческих отношений, так скрашивавшие наши военные годы.
У меня возникла, сразу и органично, дружба с рабочими людьми — слесарями, малярами по автомашинам, механиками, электриками, шоферами, — со всеми, без кого я не мог бы содержать «Москвича» в порядке. С мастерами, представляющими эти профессии, рано или поздно сталкивается каждый автолюбитель, но большинство так и остается на позиции заказчика: ты сделал, я заплатил, и будь здоров.
Что касается меня, я просто не могу так относиться к людям, вкладывающим в работу душу. Да еще в какую работу! Ведь они ремонтируют моего товарища, моего верного конька-горбунка, и делают это так тщательно, будто он одновременно и их товарищ тоже. Возможность дружеских связей «через машину» была для меня внезапным и очень радостным открытием.
Вероятно, здесь сыграло роль и то обстоятельство, что я вообще легко схожусь с людьми, особенно с теми, кого у меня есть основания уважать. А ремесленников-кудесников разного рода, чьи руки спокойно и с достоинством, на глазах у всех, создают истинные чудеса, мне, бесталанному, недоступные, я привык уважать с детства — мама настойчиво воспитывала во мне уважительное отношение к чужому труду. Позже, когда я стал обращаться к ремесленникам самостоятельно, мое особенное уважение к ним выражалось в том, что я никогда не давал им советов: изложив мастеру свою просьбу, свой проект, свою наметку, свой заказ, я потом уже в его действия не вмешивался.
Или он сделает как надо, или я в следующий раз обращусь к другому мастеру.
Я заметил, что такая позиция, такое доверие всегда вызывают дружелюбную реакцию и хоть маленькое ответное уважение — к человеку, понимающему толк в жизни.
Теперь судьба столкнула меня с людьми, умеющими сделать не просто какую-то частность — книжную полку, пару брюк или сапог, — без которой, в конце концов, можно пока обойтись, а знающих до тонкости весь сложный комплекс технических законов и обстоятельств, дающих жизнь, скорость и безопасность машине.
Удивительно ли, что я подружился с ними?
У каждого из нас бывают срывы, бывают дни до того тяжелые, что, кажется, все рушится. Однажды в такое положение попал и я. Беда стряслась: умер мальчик, которого я лечил. Я не был виноват в смерти ребенка, но это надо было доказать, причем доказать вдвойне, втройне убедительнее, чем обычно, — мальчик был сыном иностранного подданного, а расшаркивание перед всем иностранным у нас, увы, далеко не изжито. Был трудный разговор с коллегами, которые знали, что я не виноват, и все же… Были выступления на собрании, где все присутствовавшие тоже знали, что я не виноват… Посыпались комиссии — одна, другая, третья… Подключилось министерство…
Меня временно, до окончательной реабилитации, отстранили, на всякий случай, от работы. Дома сидеть было невозможно: жена разговаривала со мной настороженно, теща хоть и молчала, но поглядывала косо… Я стал уходить днем из дома. То в библиотеку — воспользоваться передышкой и полистать специальную периодику, изучение которой я забросил. То в гараж, где работает Костя — механик, с которым я сошелся особенно быстро и близко.
Весна. Залитый асфальтом узкий двор, половину ширины которого сжирают прилепившиеся к забору пристройки — три небольших гаража, склад, кладовки. Я здороваюсь за руку со всеми присутствующими, беру деревянный ящик из-под консервов и устраиваюсь у стенки на солнышке. Тихо, только изредка голоса людей да птичье чириканье.
Широкие двери гаража распахнуты настежь. Виден верстак с тисками, уставленный измерительными приборами, коробками, ящичками со всевозможными мелочами; полки — на них железные банки с краской, бутылки, кисти, какие-то детали; по стенам развешаны на крюках старые камеры, прокладки, насквозь промасленные комбинезоны. На внутренней стороне огромных дверей налеплены вперемешку технические таблицы и плакаты, воззвания ГАИ, яркими красками отпечатанные дорожные знаки, фотографии женских головок, и не только головок… Если прищурить глаза, все это, вместе взятое, напомнит произведение поп-искусства.
Во дворе перед гаражом ремонтируют небольшой служебный автобус. Задние колеса с него сняты, зад приподнят — похоже, малыш-слоненок вот-вот сделает стойку. Костя, подстелив какую-то рухлядь, лежит под автобусом на спине; его ноги в рабочих ботинках торчат как раз возле ящика, на котором я сижу, штанины комбинезона задрались — никто не сказал бы, что эти ноги могут принадлежать элегантному завгару, в нерабочее время всегда одетому по последней зарубежной моде.
Молоденький парнишка, ученик, которого все называют «сынок», снует от гаража к автобусу, подает необходимый инструмент, запчасти, ветошь, шайбы, гайки… Сосредоточенно работая и беззлобно поругивая своего юного помощника, опять подавшего болты не того размера — «восьмерку, восьмерку, я же сказал!» — Костя успевает вести спокойную, уютную домашнюю беседу со мной.
Когда я пришел, он выглянул на минутку из-под автобуса, чтобы поздороваться, подставив мне для этой цели свое предплечье — кисти рук у него были совершенно черные, — заметил, что со мной неладно, понял, что, раз я сижу тут так спокойно в будний день, без всякой видимой причины (о машине он справился в первую очередь), значит, стряслось что-то серьезное. Но по неписаным законам, завещанным нам стариной, он впрямую ничего не спрашивает. Ждет, что я сам скажу, а пока с природным юмором рассказывает о неудачной охоте, на которую он ездил в субботу.
Я тоже не тороплюсь изливать душу и рад самой возможности не спешить с этим. Я греюсь на солнышке и лишь лениво, раз в пять минут, изрекаю какую-нибудь мало значащую фразу, комментируя Костин рассказ. Я сижу и всем существом своим с блаженством ощущаю, что вновь вхожу, как свой, в емкий мир этой нормальной, сугубо реальной жизни, где один неторопливо, но прочно затягивает гайки на автобусном брюхе, другой, только что вернувшись из рейса, моет в углу двора машину — поливает ее тоненькой струйкой воды из шланга и трет шваброй, третий, не желая заслужить еще один презрительный окрик, изо всех сил старается подать с первого раза то, что от него ждут, а четвертый нацеливается сходить в местную столовую, которой наш гараж нет-нет да и подбросит машину, и притащить оттуда по котлетке — «на перекус»…
Наш гараж… И мне тоже дадут котлетку, а потом, часика через два, я пойду вместе со всеми в эту столовую обедать, и так же, как и вся ватага, занимающая наш стол, стану шутить с подавальщицами, и выпью не менее трех стаканов компота, и стану громко хохотать над какой-нибудь незамысловатой историей… Мне почему-то будет необыкновенно важно ничем от остальных не отличаться.
Я оттаиваю. Я отхожу понемногу от рационально устроенной, но обрамленной четкими границами среды, в которой мне суждено жить постоянно, — находиться там сегодня было для меня невозможно, поэтому я и пришел сюда… Мало-помалу я начинаю видеть себя и свой привычный мирок со стороны, и тогда относительность масштабов нашей жизни становится вдруг ощутимой, и все начинает понемногу становиться на место.
То, что совсем недавно, утром еще, час назад, казалось мне чуть ли не «главной орбитой», из гаража, из этого прочно заземленного мира, различается как крохотная черточка, ничтожный мазок, царапина на небосклоне, а случившаяся со мной космических масштабов катастрофа выглядит отсюда тем, чем она на самом деле и является, — рядовым, частным, неизбежным, по теории вероятности, столкновением крохотных, едва различимых частиц.
И когда Костя вылезает наконец на свет божий и садится рядышком на ящик и я делаю попытку растолковать ему, в какой страшной ситуации я нахожусь, — внезапно оказывается, что у меня не хватает слов и красок, чтобы убедить его в безысходности моего положения: я не могу этого сделать потому, что сам уже вовсе не убежден в этом… Конечно, смерть мальчика потрясает Костю, но он нисколько не сомневается в том, что я действительно ничего не мог сделать, — так же уверена во мне всегда была мама. А комиссий по проверке у него самого бывает миллион, и он давно махнул на них рукой. Рано или поздно все докажется, все постепенно утрясется.
Я слушаю Костю — и верю ему, хоть он моложе меня, хоть у него нет ни военного опыта, ни высшего образования и газеты он, честно говоря, читает от случая к случаю, не говоря уж о «высокой» литературе. Верю не только потому, что мне хочется верить, но и потому еще, что своими глазами вижу, как исправленный Костиными руками автобус весело побежал по земле.
И меня внезапно охватывает — и окрыляет — чувство уверенности в том, что, случись со мной завтра что-нибудь еще более страшное, непоправимое вроде бы, я снова могу рассчитывать на Костино внимание и поддержку. Я не знаю, конечно, что именно он ответит мне в следующий раз, но не сомневаюсь в том, что его реакция снова поможет мне вздохнуть полной грудью, будь это конфликт любой сложности.
Костя необычайно деликатен — черта, распространенная среди людей физического труда, особенно среди мастеров золотые руки. Его слова лишены малейшего оттенка назидательности, — если б я мог так разговаривать с дочерью! — он ни за что на свете не станет поучать меня или навязывать мне свою точку зрения, даже если я стану оспаривать то, что он сказал. Он просто выражает свое мнение, часто не прямо в ответ на мои слова, а куда-то в сторону, в воздух, высказывает предположительно, словно и сам во всем этом не очень уверен. Хочу я услышать его слова — пожалуйста, не хочу — не надо, он не обидится. Высказавшись, он не ждет моего ответа, моей реакции, а переводит разговор на любимую тему — о делах автомобильных.
Я слушаю его далеко не литературные фразы, пересыпанные «солеными» выражениями, и, в который уже раз, благословляю моего дорогого «Москвича», тихо стоящего за воротами.
Это он привел меня сюда и помог мне войти в это братство справедливых людей, где меня уже все знают и зовут прямо по имени — кому из моих ученых коллег может выпасть такое счастье, в наши-то немалые годы! Это он помог мне обрести новых друзей, для которых все трын-трава, лишь бы машина была в порядке.
В том числе и моя машина, от состояния которой ежедневно зависит моя жизнь и жизнь моих детей, когда они, радостно визжа, меня сопровождают.
И то, что здесь, в гараже, к машинам относятся внимательно и серьезно, как к живому существу, требующему систематического лечения, приводит меня иногда к странным параллелям. В чем, собственно, различие между нами? Я — врач, а они? Разве не выслушивают они так же внимательно сердце больного — мотор? Разве не ставят они, как и я, диагноз, от точности которого зависят работоспособность и жизнь пациента? Разве не собирают консилиумы, если один «доктор» сомневается? И разве не производят их пальцы операции, не менее сложные, чем те, что случается делать мне?
Причем я оперирую на податливой ткани человеческого тела, а они — на жестком, яростно сопротивляющемся насилию железе.
Если разница только в том, что во время операции мои руки стерильно чисты, а их — в мазуте, так ведь это и не разница вовсе.
На первый взгляд, бредовые мысли, не так ли? И все же в них что-то есть…
Может быть, дело в том, что мы оба держимся за баранку — мой друг механик и я?
В там, что мы оба — шоферы?
8
Шоферская профессия, как ни одно другое массовое занятие, избавляет людей от унылого однообразия, в той или иной степени неизбежного в каждом другом ремесле. Даже летчик гражданской авиации, летающий на самых современных самолетах, не может похвалиться особенным разнообразием своей деятельности. Машину готовят без него, он садится в кабину пилота, поднимается выше облаков и летит, согласно расписанию, по определенной трассе между пунктами М. и Н., и так много-много дней подряд. Потом ему назначают другое направление, и он принимается летать между пунктами Г. и Д. — и снова много дней подряд, и снова над облаками. Бывают, конечно, сюрпризы, но не так уж часто. Все приборы, приборы перед глазами; автопилот часто заменяет его.
А шофер катит по матушке-Земле. Приборов у него кот наплакал. Он окружен людьми. И каждый новый день, и каждый километр дороги сулят ему неожиданности — встречи, переживания, знакомства, живое общение с тем, что происходит сегодня, именно сегодня, а вчера не происходило. Даже если взять самый грустный случай — водителя, спящего полдня в теплой персональной машине своего начальника, — шофер и тут отыграется в те часы, когда машина в движении, когда она повезет начальника на объекты, на совещание, в другой город, на дачу, когда водитель сам повезет кого-нибудь покататься…
Словом, шофер может каждое утро ждать чего-то нового, и его ожидание, как правило, не бывает обмануто. Как это важно для молодежи, для романтических натур!
Теперь представьте себе на минутку, что вы — слабый человек. Слабый физически — небольшого росточка, хрупкого здоровья, поправить которое вам просто так, за здорово живешь, не удается, хотя вы сделались моржом и выжимаете каждое утро пудовые гири. Или вы слабы духом — у вас комплекс, вроде того, что преследовал меня, ощущение собственной неполноценности, вы понемногу делаетесь замкнутым, неврастеником, начинаете заливать за галстук…
Но вот вы сели за руль — и стали властелином. Вашим слабым рукам повинуется многотонная махина или мгновенно набирающая скорость легковушка. Проходит совсем немного времени, и от вашей немощи не остается и следа — вы же всемогущи!
Странно, что социологи исключают из круга своих исследований такой важный фактор, как ощущение реальной власти человека над машиной, и не просто некоей отвлеченной «власти», а совершенно конкретной: нажал — поехал, повернул — прибавил скорость, пнул ногой педаль — остановился.
Что же касается немощей духовных, то, если они не покидают сидящего за рулем властелина, для них припасено еще одно лекарство — солидарность.
Солидарность в военные годы — в блокированном Ленинграде, например, — вливала силы в людей, в мирное время чувствовавших себя больными и слабыми.
Солидарность объединяет и делает сильнее людей многих профессий, прежде всего — людей физического труда и спортсменов.
Солидарности шоферов нет границ.
Причем заметьте: речь идет о солидарности не только тех, кто находится в сравнительно близких отношениях, как мы с Костей например, не только о солидарности шоферов данного автопарка или автоколонны, а шоферов всего мира.
Звучит-то как — всего мира!
Допустим, вы «голосуете» на дороге, вы устали, у вас болит нога, вам просто лень тащиться пешком, — мало кто остановится, чтобы подобрать вас, если вы не красивая женщина, конечно. Вы возмущаетесь, негодуете, пишете жалобные письма в «Литературную газету», хотя на месте водителя вы сами, скорее всего, поступили бы точно так же.
Но вот вы сели за руль только что полученной машины — и жизнь на дороге преображается на ваших глазах. Ездите вы еще неважно, двигатель не знаете совсем, и с вами все время случается что-то такое, с чем вы сами справиться не можете. Вы поднимаете руку — и возникает обратный эффект: теперь уже мало кто не остановится, чтобы если и не помочь, то хотя бы узнать, в чем дело.
Ваш внешний вид не изменился, но вы стали водителем, вам необходима помощь — и вам помогут.
Нет, попросту нет такой точки наших бесконечных дорог, да и дорог других стран, где бы вам в любое время суток, в самый лютый мороз или палящий зной не протянул товарищескую руку помощи проезжающий мимо шофер. Именно — товарищескую. Если вы поддадитесь искушению или веянию времени и полезете в карман за трешкой, на вас, скорее всего, взглянут так, что вам станет стыдно, вы вспомните вдруг о том, что люди — братья, что им завещано помогать друг другу, что многое в нашем обществе уже полвека назад делалось бесплатно…
Имеются, конечно, исключения, и среди шоферов можно встретить существо, определяемое коротким, презрительным и очень выразительным словечком «жлоб»; совсем недавно мне повстречался один такой субъект: своего бывшего завгара, сделавшего ему немало добра, милого и спокойного человека, этот «водитель» посадил в свою собственную машину не рядом с собой, а сзади, приговаривая при этом: «Вы мне теперь не начальник»…
Что ж, старая истина: исключения подтверждают правило.
Впрочем, и в этом случае не все будет, как обычно: с вас ничего не спросят заранее, какой бы грязной ни была работа, и, если вы потом предложите немного, даже совсем мало, вас резко в этом не упрекнут.
Вы же все-таки шофер.
Что движет помогающим вам человеком? Доброта? Уверенность в своих руках, которые все умеют? В силе своей машины, которая наверстает потраченное на вас время? Стремление продемонстрировать лишний раз свое понимание машины и умение укротить ее? А быть может, ощущение того, что завтра такая же беда может приключиться с самим благодетелем?
Все это, вместе взятое? Скорее всего, так оно и есть.
Когда автомашин было еще поменьше, чем сейчас, и фигура сидящего за рулем частника не была еще такой… такой стандартной, что ли, у ленинградцев был обычай, которому дружно завидовали жители других городов. Повстречав где-нибудь вдали от невских берегов машину с ленинградским номером, ленинградец приветствовал ее легким, но отчетливым гудком, а его земляк, сидевший в едущем навстречу автомобиле, обычно отвечал тем же. Кто придумал такие приветствия, я не знаю, но это был несомненно достойный человек, и его начинание понравилось: новички включались в игру быстро и охотно.
С тех пор кое-что изменилось. Теперь уже далеко не всякая машина ответит на гудочек; кое-кто лишь взглянет на тебя раздраженно — что, мол, за несерьезность такая; другие подумают, что ты хочешь обратить их внимание на неисправность их автомобиля, и остановятся, чего доброго…
А почему не пожелать человеку здоровья и доброго пути? Без всяких взаимных обязательств, просто так. Здоровались же с незнакомыми в деревне.
Не следует только всех шоферов представлять себе ангелами. Встретив того, кто вчера помог вам на дороге, вы можете не узнать его в другой обстановке. Но с товарищем по профессии — солидарность, безграничная солидарность. Разве не стоит уже ради этого одного стремиться сесть за руль? И разве не прекрасно приобщение юноши, только еще вступающего на самостоятельный путь, к такому великолепному клану сильных, добрых, великодушных, единых в чем-то главном людей?
А если к этому добавить еще и то, что машина дает иммунитет против пьянства…
— Позвольте, но ведь как раз шоферы… Как раз среди шоферов аварии… жертвы…
Я глубоко убежден: все это досужие вымыслы, частные случаи, раздуваемые до гигантских размеров и заслоняющие подлинное положение вещей. Автомобиль не усугубляет проблему алкоголизма, а помогает бороться с ней: просто он движется быстрее, а потому все, что с ним случается, больше на виду, чем случаи с пешеходами.
Всякое бывает, конечно, но ни один шофер, уважающий своих близких, любящий технику, не станет пить, садясь за руль. Он лучше быстренько закончит рейс, а потом выпьет с друзьями.
Среди водителей таких — большинство.
Бывают, бывают и здесь исключения, случаются аварии, гибнут люди — все это так. Но и аварии эти следует относить прежде всего за счет слабости, шаткости, недостаточной четкости постановки всего автомобильного дела. В частности, за счет тех, кто легкомысленно доверяет руль могучей автомашины первому встречному. Руководитель любого автохозяйства должен знать, чего стоит каждый его шофер, — для этого достаточно, чтобы новый человек проработал в автоколонне месяц. Руководитель районного ГАИ должен выяснить, чего стоит каждый любитель, стоящий у него на учете, — для этого достаточно полгода.
Каждый. Если руководители не могут этого добиться — значит, их надо менять. И надо своевременно снимать с машин тех, кто оказался негодным пьяницей, не достойным доверия субъектом. И безжалостно навсегда лишать их прав.
Другого пути нет. Самые строгие меры не только к нарушителям заповеди, но и к раззявам, им попустительствующим, — только так сумеем мы предупредить не один (исключение), а десять, сто аналогичных случаев (правило), спасти сто человеческих жизней.
Только так.
Должна быть, конечно, и сознательность, и она есть. Но надеяться только на нее одну мы не имеем права — слишком высока ставка.
Но, допустим, случится чудо, и мы сумеем создать обстановку нетерпимости и будем воистину безжалостно гнать из-за руля каждого, кто попадется пьяным, — и профессионала, и любителя, независимо от того, какой пост он занимает или в скольких фильмах он снялся. А дружки? Они ведь останутся…
Сколько раз меня уговаривали не портить компанию и выпить со всеми, хотя прекрасно знали, что я с машиной. Один отоляринголог даже предлагал мне раз японские пилюли: пожуешь, и словно бы ничего не было.
Легкомысленно — но и страшно. Милицию, допустим, обмануть не штука, но ведь из мозга твоего алкоголь ни от каких пилюль не испарится…
Впрочем, профессиональный шофер редко польстится на что-нибудь подобное. Он не станет загонять заразу вглубь, а лучше поедет выпивши, если уж так приперло, поедет на авось — если хорошо чувствует руль.
Такими штуками тешат себя частники.
9
Существует анекдот. Новоиспеченный владелец автомашины «Запорожец» ужасно огорчался тем, что его автомобиль — самый маленький, слабый и невзрачный из всех. Стремясь хоть как-то удовлетворить уязвленное самолюбие и ничего лучше не придумав, он попросил знакомого механика приладить ему дополнительные фары и расставить их как можно шире, чтобы хоть в темноте создавалось впечатление, что идет большая, сильная машина, чтобы хоть вечером к его экипажу относились с уважением.
Механик выполнил заказ. Герой наш отправился за город, чтобы испробовать новую технику, а судьбе было угодно послать именно по этому шоссе, именно в этот вечер навстречу «Запорожцу» огромный грузовик с прицепом, выполнявший международный рейс. Водитель грузовика издали заметил широко расставленные фары какой-то неведомой машины и стал будить отдыхавшего сменщика.
— Что там такое едет, как ты думаешь? Боюсь, не разминемся — дорога узковата… кюветы глубокие…
Сменщик привстал, глянул вперед, протирая глаза, не задумываясь ответил:
— Какая же это машина, дурик… Это два мотоциклиста… Жарь посередине…
Смешная и жалобная история эта не только напоминает о ежеминутной возможности недоразумения, особенно в темноте. И сюжетом своим, и еще больше своей интонацией она затрагивает огромную, едва ли не безграничную сумму проблем, лишь очень условно определяемую формулой — автомобиль как частный сектор.
Злое словечко «частник», ушедшее, казалось, в прошлое вместе с частной торговлей и предпринимательством, неожиданно легко возродилось с появлением собственных автомобилей и неожиданно прочно прижилось. Оно отражает снисходительное, ироническое и раздраженное отношение профессиональных водителей к той части любителей, которые владеют автомобилем, как бы не имея на то морального права. Они не знают машину, как должно, плохо ведут ее, мешая движению, — это особенно сказывается на узких участках дорог и улиц, узких в буквальном или переносном смысле; у нас таких участков, к сожалению, не так уж и мало.
Любопытно, что, когда профессиональный шофер пересаживается из служебной машины в свою собственную, он сразу в глазах своих коллег, едущих по улице и не знающих его лично, становится любителем, частником — номер-то у него определенной серии. Он же, владея машиной профессионально, считаться любителем не склонен, он оскорбляется, негодует, хочет доказать обгоняющим его таксистам, что и он не лыком шит, — возникают и смешные ситуации, и всяческие, иногда опасные, недоразумения.
Но у частника есть еще одно отличительное свойство, нашедшее свое отражение в рассказанной выше истории. Многие владельцы, рассматривая автомобиль как свою собственность, свою вотчину, так сказать, переносят на него все, к чему они привыкли, что соответствует их устоявшемуся с годами вкусу. Они не считаются с тем, что одно дело — интерьер квартиры, которым любуешься ты сам и те, кто твое жилище посещает (не нравится — не ходи), и совсем другое — внутренний и внешний вид автомобиля. Машина — частица улицы, дороги, квартала, причем частица, обязательная для каждого, кто по этой улице идет или едет: стоящим у тротуара автомобилем, хочешь не хочешь, вынуждены любоваться все. Дополнительная никелировка, часто переставленная со старых машин и грубо нарушающая замысел дизайнера, всякие заслонки, занавесочки, финтифлюшечки, несколько добавочных фар — словно машина то и дело вынуждена пробиваться сквозь густой туман, — все это слишком явно отражает отсутствие у владельца вкуса и такта, выражает его самодовольство, нежелание считаться с мнением окружающих.
Мое! Что хочу, то и делаю!
И ведь одной внешностью дело почти никогда не ограничивается: за ней, как правило, вплотную идет психология. Обладатель «уютного гнездышка» соответственно ведет себя во время движения. О н едет, не кто-нибудь, зачем думать о других машинах, шоферах, пешеходах? Такой не подвинется, не притормозит, не уступит дорогу даже в очень опасном месте: он немедленно прибавит газу, если вы станете его обгонять, а ведь обязан пропустить, он каждую минуту может стать причиной аварийной ситуации, может совершить непоправимое, тем более что и рулем он обычно владеет не слишком уверенно, но не желает принимать всего этого во внимание в своем тупом блаженстве и самоуверенности.
Я никогда не «голосую» в машину с любительским номером, и вам не советую — жизнь дороже.
Легковая машина, заднее стекло которой затянуто материей, или тюлем, или фольгой, или мерзко дрожащими проволочками совсем уже непонятного назначения, опасно закрывает обзор дороги шоферам машин, идущих сзади; милиция почему-то не принимает этого во внимание.
Попробуйте расписать чем-нибудь этаким балкон — пенсионеры вашего жэка быстренько призовут вас к порядку. А с машиной пока можно делать все что угодно.
Частники, что вы хотите…
— Позвольте! — слышу я восклицание. — Но ведь и вы, уважаемый рассказчик, ведь и вы в некотором роде частник, не так ли?!
Так, разумеется. Машина — моя собственность, хотя, поверьте, я предпочел бы иметь возможность брать ее напрокат; так вот, зайти и взять, без всякой очереди, без препирательств о запчастях, с гарантией того, что она в порядке. И серия моего номера вопит о том, что я — частник, выдает меня любому и каждому.
Ничего не попишешь, этот маленький крест я обречен нести до конца дней своих, точнее до того мгновения, как я сяду за руль в последний раз. И любой прохожий, даже и тот, кто на моем месте, напротив, гордился бы этой сверкающей лаком собственностью, может ткнуть в меня пальцем.
Так же, как вы это сделали только что, дорогой читатель.
Но раз уж в жизни мне некуда деться, позвольте хоть в книге поставить себя «вне закона» и сделать вид, что уж я-то никак не частник. А что? Я непременно сделался бы профессиональным шофером, если бы не диплом врача.
Кстати, и зарабатывал бы я в этом случае куда приличнее.
И вот еще какое есть у меня оправдание: быстро осознав все, на что способен частник, я с самого начала своей автомобильной карьеры терпеть не мог ситуаций, в которых я выглядел бы любителем в глазах профессионалов, и делал все возможное, чтобы избежать иронического к себе отношения. Овладев как следует машиной, я стал ездить с максимально допустимой на данном участке скоростью. Двести пятьдесят тысяч километров, которые отщелкал за эти годы мой спидометр, дают мне некоторую уверенность в своих силах. И частников, мешающих мне двигаться по забитой машинами трассе, я, подражая шоферам, тоже ругаю сквозь зубы.
И напрасно. Ибо для того, чтобы ездить как профессионал, каждый должен накатать свои двести тысяч, совершая при этом положенное число ошибок. Иначе попросту не бывает.
И все же я уверен, что тянусь к профессионалам не зря.
И не зря уважаю труд шофера, и самих шоферов — тоже.
10
И еще машина дала мне ощущение планеты Земля.
Сколько места занимает пешеход? Несколько десятков квадратных сантиметров? В масштабах Земли это точка, различимая только в очень сильный телескоп.
А если я провел колесами машины след длиной в сто километров? Это уже солидный кусок поверхности нашего шарика, различимый и невооруженным глазом — например, с вертолета.
А тысячу километров можно различить даже со спутника.
Тысячу километров я проезжаю запросто. И делал я это много раз…
«Хорошо бы, — думается мне иногда в дальней дороге, — чтобы существовал экран, на котором кто-то мне близкий, дочки или та же моя вечная Галя, мог бы наблюдать, как перемещается по Земле крохотный жучок, моя машина. Я еду, а жучок ползет и ползет потихоньку…»
Главное, ты не просто механически пересекаешь пространство. Твое существо непрестанно впитывает в себя различную информацию, приметы ландшафта, времени, своеобразие архитектуры и уклада жизни тех городов и районов, которые ты пересекаешь.
Езда по городу ничто в сравнении с тем, какое наслаждение получаешь, когда изредка представляется возможность или тем более необходимость совершить очень дальнюю поездку. Уже самые сборы, включая подготовку машины, доставляют великую радость ожидания. Что же сказать о дне, когда, освобожденный от мелких забот, плотной броней закрывающих обычно твое существо, ты осторожно выводишь из города крепко нагруженную и доверху заправленную машину и, постепенно прибавляя скорость, вживаясь, так сказать, в новый ритм движения, вырываешься на простор.
Вот уже стрелка спидометра рвется к сотне, и тебе все труднее сдерживать ее, заставить уйти назад к шестидесяти, проезжая каждый из бесчисленных населенных пунктов на твоем пути.
Дорожные встречи… Подвезешь путника, другого, третьего, поболтаешь с ним, коснешься на минуту чужой жизни и, как знать, может быть, в чем-то скорректируешь свою. А то, чего доброго, завяжется знакомство и ты станешь ездить к новому другу и за двести, и за триста километров или он станет приезжать в твой город.
Жизнь.
Остановишься на ночь в палаточном городке — и опять безграничные возможности общения с самыми разными людьми, свободными, как и ты, от повседневных тягот, охотно открывающими в неторопливой беседе свои думы. В последние годы социальный состав едущих по большой дороге очень изменился: все больше рабочих и земледельческих семей трусят вдаль на новеньких машинах и мотоциклах.
Особым ароматом обладают автомобильные поездки за границу. Всегда интересно проезжать какую-нибудь местность впервые, но знакомиться с неизвестной тебе ранее целой страной, предполагая, что ты едва ли вновь когда-либо сюда вернешься, — интересно вдвойне. Чувства первооткрывателя смешиваются в твоей душе с ощущениями опытного путешественника, получающего еще более полное и устойчивое впечатление о земном шаре.
Уже сама дорога до границы хороша ожиданием близкой встречи с неизвестным. Обычно приходится торопиться — выехать заранее, как известно, никогда не получается. Допустим, границу нужно пересечь в Закарпатье, а у тебя неполных три дня. Вот и мчишься по восемьсот — девятьсот километров в сутки, понятия не имея, получишь ли ты вечером где-нибудь место для ночлега.
Зато стоит тебе добраться до кемпинга и это место получить, устроиться, проверить машину, принять душ, как ты вновь бодр и свеж и готов посидеть часок в местном кафе за чашкой кофе или рюмкой вина. Теплый летний вечер, молодежь бренчит на гитаре, кто-то негромко поет, кто-то развлекает общество рассказами бывалого автомобилиста, мало чем отличающимися от знаменитых в свое время охотничьих. Удивительно легко чувствуешь себя среди этой массы незнакомых людей, встретившихся случайно, всего на одну ночь, но уже заранее настроенных доброжелательно: их связывает общая любовь, она же подталкивает их легонько друг к другу.
Любовь эта — автомобиль.
А утром снова в путь. Наиболее неистовые уезжают еще до рассвета… Можно забыть людей, с которыми ты повстречался в кемпинге, забыть то, о чем вы говорили, но сам кемпинг ты запомнишь так же хорошо, как и города, через которые ты проезжаешь, даже лучше: человеку надо хоть одну ночь поспать на новом месте — он будет помнить о нем даже подсознательно.
Наследие далеких предков помогает нам запоминать эти стойбища современных кочевников.
Не зря, кажется, тетя Киса называла меня баловнем судьбы: мне и здесь повезло. Наш предместкома, сам заядлый автомобилист, неутомимо, каждый год, сколачивал автотуристские группы для поездок по социалистическим странам — за несколько лет мы объездили всю Восточную Европу.
За границей мы жили обычно не в кемпингах, а в городах, где нам полагалось нормальное туристское обслуживание. И все же чувствовали мы себя совсем иначе, чем обычные туристы, — гораздо более независимо и гораздо более «дома». Никто не запрещал нам в свободные от музеев часы сесть в машину и объехать какие-то окраины, окрестности города или расположенные где-нибудь за сорок километров руины. Воскресным утром мы уехали из Варшавы на концерт в домик Шопена… И мы все время находились среди людей, в самой гуще жизни.
На курортах Болгарии и Румынии мы не были привязаны к обязательному пляжу, а могли посетить старинные городки и рыбачьи поселки, а пересекая Болгарию, попали на деревенскую свадьбу. Шумное, веселое шествие остановило караван наших машин — люди приглашали нас погулять с ними. Правда, из четырех машин остаться решил один только наш экипаж — остальные торопились к обеду, — зато мы лицом в грязь не ударили, ели, пили и веселились наравне со всеми, а невесте подарили бутылку «Столичной»: никакого другого чисто русского подарка у нас к тому времени уже не оставалось.
Невеста как будто осталась довольна.
В Югославии нашим гидом был лаборант-химик, решивший подработать в летнее время. Он возил экскурсии и раньше, но ездил всегда в автобусе, рядом с шофером, прекрасно знавшим маршрут. Теперь же он был вынужден указывать нам дорогу сам. В результате, пересекая горную цепь на пути из Белграда в Сараево, мы, по случаю ремонта основной дороги, свернули, под руководством гида, с оживленной магистрали и заехали в горы по тропинке, по которой, как утверждали местные жители, возили только болванов. Мы не сразу уловили, что «болванами» называют тут огромные, особо толстые куски древесных стволов, но ехать нам было так скверно, а прием, оказанный в горных деревушках, был таким сердечным, что мы вполне готовы были принять «болванов» на свой счет — и не обидеться ни капельки.
А как обогащают восприятие всякого рода приключения, невозможные при путешествии в автобусе, не говоря уже о поезде или самолете. Даже в том случае, если они угрожают вам некими малоприятными последствиями. В старинном польском городе Кьельце нам навстречу, от только что открывшегося железнодорожного переезда, понесла запряженная в телегу могучая гнедая красавица с белой отметиной на лбу. Возницу сбросило еще у путей, он бежал далеко сзади, прижимая тряпку к окровавленному лицу. Одна оглобля сломалась, и перевернувшаяся набок телега моталась за мчащейся галопом гнедой, причем амплитуда колебаний телеги, обусловленная длиной второй оглобли, как раз соответствовала ширине улицы. Мы же стояли на этой самой улице, дожидаясь возможности проехать. Моя машина стояла первой.
Деваться было некуда, оставалось спокойно ждать, любуясь несшимся навстречу великолепным животным. Никогда не забуду, как местный житель, возвращавшийся откуда-то с пустой тачкой, вдруг возник перед машиной, поставил тачку возле левого переднего колеса и вновь ушел на тротуар. Кажется, он курил трубку. Спасти нас от телеги тачка, конечно, была не в силах, но значительно смягчить удар она могла бы вполне.
К счастью, этого не потребовалось: метрах в восьми от нас не выдержала вторая оглобля, телега оборвалась, вмиг рассыпалась на составные части, и лошадка пробежала мимо нас уже одна.
Вслед за ней пробежал и возница…
11
Смысл изречения «каждый пешеход — потенциальный водитель» заключается, однако, не только в том, что каждый, кто садится за руль, немедленно приобщается к полезному для него и для общества делу.
И не только в том удовольствии, которое он начинает получать, хорошо овладев машиной.
Хотелось бы, чтобы пешеходы относились к шоферу с уважением, чтобы они берегли его.
А бережем мы наших шоферов пока плохо.
Известно, что каждый человек наследует от предков преимущественное выражение какого-нибудь качества: у одного обострено обоняние, у другого — слух, у третьего — интерес к делам ближнего, у четвертого — еще что-нибудь. Хорошему шоферу необходимы крепкие нервы и быстрая реакция: он должен мгновенно определять свое отношение к сотням предметов, людей, знаков, мелькающих мимо с быстротой, прямо пропорциональной скорости его машины.
Чем точнее реакция, тем больше у него шансов доехать благополучно до цели и никого не задавить при этом, товарищи пешеходы.
Но доехав, он снова пускается в путь.
И так — каждый день.
Мы пока еще плохо помогаем шоферу сохранить — и развить — эти драгоценные для его профессии качества.
Словно игнорируя то огромное напряжение, которым сопровождается труд шофера в большом городе, мы безжалостно навьючиваем его еще одной-двумя дополнительными нагрузками. То он вынужден следить за сохранностью груза, что-то подсчитывать, добывать чьи-то подписи, манипулировать с квитанциями, а то и «выбивать» дефицит. Ему приходится подчас долго, нудно, нервно объясняться с диспетчером. В автобусе без кондуктора он объявляет остановки, следит за кассами, утихомиривает пассажиров, норовящих вести себя как стадо обезьян, продает билеты, которые давным-давно пора отменить, — и все это в нервной обстановке современной улицы, провести по которой громоздкую машину само по себе искусство, требующее человека целиком.
Из рейса шофер возвратится в грязноватый гараж, где, скорее всего, нет элементарных удобств: горячей воды для рук, душа, чашки крепкого кофе.
Почему?
Уходя в дальние поездки, шофер делает километров семьсот — восемьсот в день, он везет срочный груз, он спешит. Что нужно ему, когда он останавливает машину? Хорошо помыться, поесть, спокойно поспать. В большинстве пунктов его остановки он такой возможности пока не имеет или имеет частично. Но ему нужно быть еще уверенным в своей машине на завтрашний немалый путь, и вот он, уставший, отрывает от сна еще час-полтора и лезет с инструментом под машину…
А ведь он должен был бы иметь возможность вручить ключи от машины опытному механику, который сделал бы все, что нужно, ночью, пока водитель отдыхает; тот же механик нес бы ответственность за полную исправность выпущенной им на линию машины.
Тогда не будет шоферов, идущих на многотонном современном грузовике с прицепом на обгон любой ценой, чтобы сэкономить время. И не будет шоферов, засыпающих за рулем и разбивающихся, или их будет хотя бы значительно меньше. Однажды, на Украине, под Киевом, ранним утром, шедшая навстречу трехтонка вдруг переехала на левую сторону дороги и пошла мне прямо в лоб. Хорошо, что мои отчаянные гудки разбудили водителя… А было очень страшно: в машине, которая вот-вот могла быть расплющена, я сидел не один, а со всей своей семьей… Люди седеют в такие мгновенья.
А чего стоят шоферским нервам дороги?..
Так накапливаются обстоятельства, заставляющие водителя тратить значительно больше нервных клеток, чем следовало бы. А потом…
Потом наступает день, когда шофер проходит очередную медицинскую комиссию, — чем он старше, тем чаще должен это делать, — и сидящая в кабинете номер три (окулист) на белом стуле, нога на ногу, девушка в белом халате говорит ему, вздернув тщательно нарисованные брови:
— Да вы же не назвали правильно ни одной буквы!
И она небрежно швыряет в сторонку листочек с его фамилией. Листочек мягко ложится на стол, а стоявший перед девушкой немолодой человек — он в трусах, как и все, кого здесь проверяют, — медленно выходит из комнаты. Руки его дрожат, торопиться ему уже некуда.
Он споткнулся.
Мне скажут: такое рано или поздно случается со всеми.
Положим, не совсем так. Есть много профессий, не требующих регулярного медицинского освидетельствования, и есть еще люди, не только не увлеченные своим делом, но и мечтающие о том, чтобы поскорее дослужиться до пенсии и…
Их не так мало, этих людей.
Вместе с тем есть, конечно, люди, вынужденные, как и шофер, оставить с возрастом любимое дело. Разница заключается в том, что они, оставив свои занятия, продолжают жить примерно на той же скорости, что и раньше; шофер же, которого вдруг признали негодным, тормозит на полном ходу.
Не занесет ли его на скользкой дороге?
12
В заключение не могу не заметить, что автомобиль коренным образом изменил мое положение в семье.
И очень своевременно. Семейная жизнь стала было тяготить меня. Хоть из кризиса я вроде и выбрался, чувство несвободы, каждый день напоминавшее о себе назойливо и безжалостно, приносило ощущение полнейшего тупика. Не знаю, как это случилось, но я постепенно преисполнился уверенности в том, что дело вовсе не в моей личной неудаче и моей семье, а в семье вообще, — значит, выхода из тупика быть не может.
Дошло до того, что я стал как-то болезненно реагировать на присутствие, скажем, у нас в гостях семейных пар. Мне чудилось, что пара, муж и жена, занимает единым массивом больше места за столом, чем двое одиночек, что семейный утес, не пропускающий через себя ни крошки веселья, непринужденности, раскованности, неизбежно снижает общий тонус собравшихся.
Я стал хитрить. Обсуждая с женой и дочерьми список гостей, которых собирались пригласить по случаю моего дня рождения, я старался всеми правдами и неправдами позвать как можно больше холостых мужчин и одиноких женщин. Мне легче дышалось среди этих не связанных мелочными обязательствами людей; в обществе одиночек я, хоть на один вечер, тоже чувствовал себя свободным человеком.
Теперь все наладилось само собой. Почему?
Да потому, вероятно, что члены моей семьи вновь в меня поверили и я занял наконец то положение главы семьи, которое мне надлежало занимать уже давно, — ведь без главы семья существовать не может. У меня появилось поле деятельности, дававшее почти неограниченный простор моим возможностям и в то же время задевавшее интересы всех домашних. Ни о какой жалости теперь и речи быть не могло.
Тяжелая на подъем теща оказалась в полной зависимости от нашей с «Москвичом» готовности отвезти ее в театр, на рынок за картошкой и овощами, на дачу, за грибами… Каждую поездку ей приходилось волей-неволей согласовывать с моим расписанием. Обычно это происходило за вечерним чаем.
— А не могли бы вы, Саша, завтра с утра свезти меня на рынок? — как бы между делом спрашивает она, и я впервые за много лет слышу в ее голосе не только дружелюбные, но даже заискивающие нотки.
— Завтра… с утра… — морщу я лоб. — Завтра у нас… двадцать седьмое… Нет, Надежда Степановна, ничего не выйдет, пожалуй…
Некоторое время мы мирно прихлебываем чай.
— Жаль, — будто бы невзначай роняет потом теща. — На рынке, говорят, появились ваши любимые баклажаны. Я думала…
Я люблю баклажаны больше всего на свете, и, хоть всем сидящим за столом отлично известно, что не в баклажанах тут дело, мне несказанно приятно, что поездка на рынок облекается в некое стремление угодить мне. Такие «жертвоприношения» восстанавливают, как мне кажется, мое попранное достоинство, мой авторитет, стирают вопиющую несправедливость и неравенство, царившие в наших отношениях раньше.
Поломавшись немного, я даю согласие; прошу только не задерживаться.
Теща покорно кивает — на глазах у всех, у дочек! — и это окончательно примиряет меня с действительностью.
Жена заявила, что она сама получит права, но вынуждена была отказаться от этой безумной затеи после первой же поездки по городу с инструктором. Что-то у них там произошло, кажется, им удалось не опасно покалечить бежавшего через улицу в неположенном месте приезжего: тот упрямо смотрел в противоположную сторону, словно всю жизнь прожил в Англии, где движение, как известно, левостороннее, а моей супруге и инструктору померещилось, видите ли, что перед тем, как отвернуться, прохожий их заметил и даже кивнул — дескать, я вас прекрасно вижу и учитываю, что вы едете. Ни жертва, ни, тем более, экипаж «Москвича» шума поднимать не стали, но от дальнейших попыток жена отказалась наотрез. У нее еще неделю тряслись руки.
Отчаявшись завладеть рулем, супруга сделала попытку «выписывать мне по вечерам путевку» на завтрашний день, словно заправский диспетчер в автохозяйстве. Как правило, я не возражал, — зачем укорачивать долголетие? — предпочитая пассивное сопротивление: наутро оказывалось, что машина не заводится или у нее сломалось что-то, и рассчитавшая до минуты свое (и мое!) время жена вынуждена была срочно вызывать такси. Не знаю, заподозрила она что-нибудь или нет, но после нескольких таких «поломок», проверить подлинность которых она не могла, а также после нескольких солидных опозданий в места, куда ей опаздывать вовсе не хотелось, супруга скрепя сердце тоже вынуждена была перейти на путь переговоров.
Жертвоприношений я от нее милостиво требовать не стал.
Понемножечку жизнь вошла в это новое русло и закрепилась в нем так прочно, что стало казаться, будто никакого другого никогда и не было. И все же полностью я ощущал себя главой семьи только во время дальних поездок, когда зависимость моих дам от меня становилась во сто крат большей.
Ведь это я готовлю машину, я веду ее, я укладываю бесчисленные узлы и сумки, я решаю, кому на этот раз где сидеть… Естественно, меня оберегают, передо мной слегка заискивают… То есть супруга и тут, конечно, пытается командовать, но получает дружный отпор; теща, быть может впервые, обнаруживает, какой лентяйкой и лоботряской, готовой бездумно стряхнуть с себя все заботы о муже, детях, матери, вырастила она свою дочь.
— Он не должен думать ни о каких мелочах, он же ведет машину! — слышу я во время остановки шипенье в кустах. И вот уже теща сама вызывается вымыть и вытереть «Москвича» — и делает это, честное слово! Под ее строгим взглядом жена готовит поесть, и на удивление ловко справляется сама, не требуя, чтобы я что-то разыскал, что-то открыл, что-то нарезал…
Быстренько все проверив в моторе, долив масла, я отдыхаю на привале, и никто не смеет меня тревожить. Словно султан, окруженный наложницами, возлежу я на подушках, а вокруг кипит работа. Даже дочки, под чутким руководством все той же тещи, прибирают что-то внутри машины. Благодать!
И все это сделал для меня мой скромный, неприхотливый дружок на колесах. Из мальчика на побегушках — в сорок-то годиков! — я превратился в то незаменимое, то главное лицо, от которого все зависит. Еще чуть-чуть, еще самую малость, и в семье родится мой культ. И, знаете, я мечтаю об этом, — слишком долго я был унижен! — хотя это дешевая мечта, хотя, скорее всего, мой культ ничего хорошего в наши отношения не внесет.
«Какая мелочность, какой подленький расчет, какое злопыхательство по отношению к самым близким людям!» — воскликнет иной читатель и будет не прав.
Не мелочность, а единственно возможный путь к восстановлению попранной справедливости.
Не злопыхательство, а надежда на возрождение нашей семьи, совсем уже было не функционировавшей как нормальный, здоровый организм.
Вот так.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Впрочем, это не единственное возражение, которое может быть мне сделано; возражений я предвижу множество. Среди них — два наиболее существенных.
Меня непременно упрекнут в том, что я слишком уж смешиваю шофера-профессионала и любителя. Но — где граница, кто возьмется провести ее? Если человек, обладающий любительскими правами, ездит непрерывно лет двадцать, ездит и зимой, и осенью и на спидометре его машины каждый год прибавляется пятнадцать — двадцать тысяч километров, — а это не предел, далеко не предел! — то не больше ли он профессионал, чем только что севший за руль государственной машины юноша? Что и говорить, есть «дурные» любители, их немало, по ведь есть и не менее «дурные» профессионалы.
Не о них речь.
И потом: каждый любитель, будь он самым завзятым интеллектуалом, взяв в руки тряпку, гаечный ключ, или домкрат, или шприц для смазки, или просто проехав те же семьсот километров в сутки, теряет очень многие свои «интеллигентские» качества и полностью — я подчеркиваю: полностью — приобщается к физической нагрузке, ложащейся на плечи профессионального шофера. Он делает в жизни еще что-то? Пишет книги, или лечит детей, или варит сталь? На здоровье. Но здесь, на дороге, он занят шоферским делом и трудится вровень с шофером.
Автомобиль дает каждому такую возможность.
Будут, вероятно, высказаны сомнения и в том, действительно ли именно шофер представляет наиболее доподлинно двадцатый век.
Почему не космонавт?
Да, космонавт представляет двадцатый век, точнее — вторую его половину. Космонавт открывает двери, которые до него никто не открывал. Он рискует жизнью так, как никто до него не рисковал… Но какой же, собственно, мужчина откажется один раз поставить все на карту, чтобы потом — навечно — стать героем?
Шофер свое мужество обильно смачивает потом и грязью. И — каждый день, каждый день, каждый день…
Мне кажется, космонавты будут представлять все-таки двадцать первый век, когда их профессия в свою очередь станет повседневной, когда на их плечи ляжет та основная тяжесть земных грузов, которая пока прочно лежит на плечах шоферов.
Я кончаю свою исповедь, хоть и не могу кончить на этом рассказ о своей жизни: она продолжается, и что принесет мне завтра мой alter ego — я не знаю.
Пушкин требовал от литератора беспристрастности. Боюсь, мне не удалось выполнить это требование великого поэта — я слишком люблю своего верного товарища с «москвичовской» эмблемой на носу.
Впрочем, какой же я литератор? Я — врач.
За несомненные перекосы, которые вы обнаружите в этой иронической по отношению к самому себе повести, за ее стилистический разнобой, за неровности и ухабы ее «покрытия» я приношу читателям свои извинения.
ОДИН ВЗГЛЯД
Согласно древнему закону, он был первые двадцать лет жизни учеником, вторые двадцать лет — воином… и третьи двадцать лет — хозяином дома… А теперь он все это стряхнул с себя прочь, как мы сбрасываем ненужный нам больше плащ.
Р. Киплинг, «Пуран Бхагата»
Он достиг той точки в жизни, которая именуется расплатой.
А. Стриндберг, «Готические комнаты»
Маршрут был продуман заранее. Он всегда поступал таким образом, собираясь ехать по непривычному адресу, особенно если двигаться приходилось через центр: по опыту знал, что на забитых транспортом улочках лучше не раздумывать, не колебаться, не пытаться осуществить светлую идею, сию минуту пришедшую в голову, а тупо, но четко и, по возможности, на предельной дозволенной скорости — чтобы наперерез не сунулся какой-нибудь начинающий — двигаться в заданном направлении.
Программировать свои поступки вообще отнюдь не бессмысленно. Восьмидесятые годы нашего века так насыщены техникой, количество всевозможных направлений, предоставляемых ежеминутно на выбор слабому человеческому разумению, так велико, что правильнее заблаговременно настроиться на что-нибудь определенное. Пусть избранная тобой сегодня дорожка окажется не самой выигрышной, не беда, еще спокойнее будет: туда, где повыгодней, непременно кинется основная масса, — лишь бы дорожка эта не вела в тупик.
Левый поворот, так, так, грузовичок мы «сделаем» запросто, так, прелестно, теперь уйдем в первый ряд, так, отлично, правый поворот, порядочек, выровнялись, выровнялись — и сразу вновь левый… Ну вот и приехали как будто, можно притормозить, только… только куда же приткнуть машину?
Количества транспорта, который толчется обычно у Дворца бракосочетаний, он как-то не учел, а ведь ему нельзя вылезать из машины и в то же время надо отчетливо видеть входную дверь, иначе это маленькое мероприятие потеряет всякий смысл. Он понимал, конечно, что смысла в его странной затее не так уж и много, но был не вправе, не мог позволить себе упустить этот скромный шанс, считал своим долгом сделать все, решительно все возможное, чтобы потом не в чем было упрекнуть себя. И если он теперь уползет в сторону, если не увидит, как они, рука об руку, жмурясь от яркого солнца, выйдут из сверкающей парадной двери, тогда его шанс уж точно будет упущен и приезд сюда — полная бестолковщина.
Так… тут не влезть… здесь подавно… и умудряются же машины ставить, места пропадает уйма… Задержаться на проезжей части он не мог ни на секунду, слишком узкая полоса асфальта оставалась от бульвара, проложенного по центру улицы. Бывало, сам он с удовольствием брел тенистой аллеей, дочку забирал домой, их детский сад здесь в ы г у л и в а л и, ходил раза два в месяц с женой в кино — на славу прижилось в здании бывшей гимназической кирки, словно всегда тут было. Теперь бульвар казался ему ненужной роскошью — и так не повернуться…
Продолжая ползти вдоль тротуара, он обнаружил наконец свободное местечко; не бог весть что, не всякий рискнет втиснуться, но его «жигуленку» места должно хватить, — в крайнем случае, нос будет слегка выдаваться, ничего страшного. Правда, он окажется дальше входной двери, ну и пусть — в зеркало заднего вида парадная станет вырисовываться, как в телевизоре; еще и удобнее, в общем и целом: он всех видит, его — никто.
Проедем вперед, так, притормозим, начнем легонько сдавать назад, так, теперь вывернем колеса, так, так, так, нет, стоп, правое заднее уперлось в поребрик, надо снова подать вперед и вывернуть колеса чу-уть раньше. Мог бы и без промаха заезжать, пора, столько лет за рулем… Ладно, только пропустим сперва этот белый «мерседес», так, чисто, выехали, стоп, снова заднюю скорость, отлично, давай, давай теперь — круто — р-раз — и тихонько, помаленечку, ну вот и порядок, стали.
Он выключил мотор, устроился поудобнее на сиденье, проверил, видна ли входная дверь в зеркале, повернул его немного, чтобы обзор стал лучше, включил приемник; сколько ждать придется — неизвестно.
Отец и дочь…
Все эти бесконечные месяцы, что я так противоестественно, так варварски отделен от нее и, уже в одиночку, продолжаю мчаться куда-то — по инерции, исключительно по инерции, постанываю на особо мучительных участках, корежусь от становящихся все более непосильными перегрузок, но мчусь, мчусь, ибо жизнь есть движение, — все эти месяцы слабеющую память мою рассекают время от времени черточки, знаки, символы, мгновенно уводящие меня к нашему с ней прошлому.
Раньше, когда планета и спутник прочно держались вместе, составляя единую систему, когда мы были неразлучны, вспоминать о нашем прошлом не было необходимости, хотя моя жизнь не летела еще так стремительно под гору и у меня оставалось куда больше времени на то, чтобы оглядеться.
Какие такие воспоминания о том, что всегда с тобой?
Теперь — не то.
Красное пальто, например. У нее было три красных пальто. Одно, когда она была совсем еще маленькая и ее так удобно было вести за островерхий капюшон, незаметно — ведь не за руку! — контролируя каждый ее шажок, чтобы не упала, не расшиблась; в этом пальтишке она больше всего напоминала гнома… Потом было еще одно, из ярко-красного сукна, весеннее; она вечно бегала в нем нараспашку, а я уговаривал ее надевать к этому пальто перчатки, глубокомысленно объясняя восьмилетней девочке, что в верхней одежде обязателен полный ансамбль, что иначе разрушается стиль… И было «взрослое» пальто из темно-малиновой синтетики, одеяние человека, живущего среди хаоса и готового к тому, что на голову ему может каждую минуту свалиться из космоса все, что угодно; тоже с капюшоном, но бесформенным, невыразительным. Я собираюсь в комок, завидев высокую девушку в таком пальто, — один раз, из многих десятков, это оказалась действительно она.
Но я вздрагиваю точно так же, заметив малыша в красненьком пальтишке, бредущего вперевалочку по скверу, или голенастую девчушку в красном пальтеце, из которого она давно выросла; мне кажется, на мгновение, что это тоже может быть она или хотя бы существо, незримо, но прочно с ней связанное.
Какое существо?! Сестер у нее нет, детей пока тоже — хоть это-то мне точно известно… Какое же существо? Она сама? Или мысль о ней, чудом находящая реальное воплощение? Постоянная, ноющая, провоцирующая меня на странные видения и неожиданные поступки мысль о ней?
Или, допустим, я вижу на пляже людей, играющих в мяч. Это не диво, мяч — излюбленное занятие тех, чей организм постоянно жаждет деятельности, кто не склонен часами неподвижно, словно морская корова, валяться под солнцем; сочетание моря с работой — вот, с моей точки зрения, идеальный отдых.
Но море и мяч для меня — сочетание особое: оно каждый раз, без промаха, напоминает мне, как мы с дочкой, когда она едва умела вообще что-нибудь поймать, бросали друг другу мяч — детский, синий с серебристой полоской мяч, не волейбольный еще, тот появился значительно позднее.
Безукоризненная координация движений немаловажна, мне кажется, для того, чтобы уверенно чувствовать себя не только в пространстве, но и в обществе, — я хотел помочь ей побыстрее этой уверенности достичь. Стремился научить ее руки цепкости, ловкости, пробудить в ней мгновенную реакцию, заразить ее спортивным азартом. Безразличие невозможно, безразличия не существует, человеку оно не свойственно! Скорей, скорей, пока другие не доказали ей обратного! Я учил ее принимать мяч или любой другой предмет, которым судьбе будет угодно швырнуть в нее, из самого неожиданного и неудобного положения — с выпадом далеко в сторону, или с падением вперед, или в высоком прыжке; важно было, чтобы она поверила в свои силы и не сомневалась в том, что может, может поймать мяч.
Мне пытались объяснить, что такой метод — делай, как я! — подходит скорее для воспитания мальчика, но я не видел разницы. И сейчас не вижу.
Спортивные цели? Не знаю… Мне самому доставляет истинное наслаждение процесс движения тела в пронизанном солнцем воздухе — мяч прекрасный повод для этого, — а перебрасываясь с ней, я наслаждался вдвойне, ибо играл в мяч как бы с самим собой; я не сомневался, что и ей наша игра доставляет такую же радость, как и мне.
Вначале, когда она еще только родилась, я был уверен, что иначе попросту быть не может, что у меня и у этого новоявленного обитателя Земли все ощущения д о л ж н ы совпадать; прошло порядочно времени, прежде чем я сумел избавиться от этого распространенного заблуждения, прежде чем понял, что подобное совпадение, каким бы желанным оно ни было, не может провозглашаться нормой, ибо кровные узы здесь ни причем.
Я имел в виду, конечно, и научить девочку чему-то, что умел сам; подружившись с мячиком, она охотно играла потом в баскетбол, не чуралась других видов спорта. У меня же море и мяч до сих пор вызывают ощущение бездумного счастья. Я и она, мой маленький голопузый товарищ, в трусиках и панамке, вся обсыпанная сероватым, тонкого помола песком, с визгом падающая и поднимающаяся, бегущая за мячом, пытающаяся как можно удачнее кинуть его мне, она и я… А рядом плещутся волны в заливе, и кожу щекочет нежаркое утреннее северное солнце, и где-то звенит смех, и слышатся обычные для любого человеческого стойбища вскрики.
Или пивной ларек. Обычный пивной ларек, каких в нашем городе немало. Я не склонен глубокомысленно размышлять над проблемой ларька и над другими проблемами этого ряда; не имея лишнего времени, я практически лишен возможности воспринимать пивной ларек как своего рода клуб и вести в его ближайших окрестностях душеспасительные беседы.
Но когда я замечаю вдруг, что к пивному ларьку нет очереди, и меня тянет выцедить залпом кружку холодного пива, я, подходя к стойке и склоняясь к низенькому окошку за ней, вижу в зимнее время на снегу, справа от ларька, если стоять к нему лицом, — слева обычно толкутся завсегдатаи, — обязательно вижу санки и сидящую на них маленькую девочку в шубке и вязаном капоре.
Откуда взялись эти санки, не помню, ни раньше, ни после я ничего подобного не встречал; кажется, их завезли к нам из ГДР или из другой европейской страны. У санок было непривычно высокое сиденье, что делало их не очень-то удобными для катания с горы, зато сиденье это основательно приближало человека в санках к тому, другому, что шел рядом. Это было практично. Кроме того, длинная, прочная, слегка изогнутая ручка, при помощи которой санки можно было толкать или везти за собой, вставлялась с той стороны, где торчали ребячьи ноги, и сидящий на мягкой подушке твой компаньон, твой товарищ по прогулке и твой собеседник был повернут к тебе лицом.
Это было так хорошо, что лучше не придумать. Меня потрясают родители, которые, забыв, что они в городе, уныло волокут за собой на веревочке низенькие санки с мальцом, а то и двумя: дети, словно куль с поклажей, оказываются лежащими на уровне ног бредущей по тротуару толпы… А тут сидит себе существо, мило улыбается, и ты видишь его все время, и отчетливо слышишь все глупости, какие оно лопочет, а оно без всяких помех внимает умным вещам, сообщаемым ему тобою.
Вечерами, после того как я возвращался с работы, мы уходили с ней гулять и часа полтора бродили по площадям, переулкам, садикам, улицам — эту огромную территорию занимал некогда лейб-гвардии Преображенский полк, опорная сила Петра. Если взглянуть на старинный план Санкт-Петербурга — я вычертил его однажды для себя, — нельзя не заметить, что первоначальное ядро города, ограниченное берегом Финского залива, рекой Невой и рекой Фонтанкой, прикрывали по трем основным направлением три гвардейских полка. Восточное направление, через лавру — на северо-восток в Карелию и далее, на юго-восток в Москву — преображенцы; южное — Псков, Смоленск, Киев — семеновцы; западное — Эстония, Рига, Варшава — измайловцы. И если по поводу западного направления еще можно было сказать «прикрывали от неприятеля», то дороги на юг и на юго-восток гвардейцы прикрывали исключительно от своих; своеобразная была ситуация, что и говорить.
А так как «полк» в те времена означало не только личный состав и вооружение, но весь комплекс организаций и проблем, связанных с существованием военных людей, этот полк составляющих, — вплоть до семейной жизни тех, кому семьи были положены, — то естественно, что три гвардейских кита занимали сразу же за Фонтанкой, за чертой тогдашнего города, целые кварталы, где вольготно стояли здания казарм, расквартировывались мастерские и службы, расселялись семьи, располагались штабы, склады, офицерские квартиры и собрания, а также плацы для обучения солдат, разного рода празднеств и экзекуций. Печальна слава семеновского плаца…
И это были только три — главных — полка; сколько было других… Войска занимали в старину никак не менее пятидесяти процентов территории новоявленной столицы, она была, в сущности, военно-чиновничьим поселением; мастеровые, свои и заморские, не в счет, моряки — тем паче, а купечество и прочие обыватели, в том числе люди науки и искусства, сочинившие облик этого города, стали прочно селиться там позднее.
Я увлекся, кажется. Что поделаешь, город-сон, частицей которого я себя сызмальства ощущаю, навевает раздумья бесконечно. Мне трудно понять тех, кто добровольно меняет местожительство, кто покидает беззаботно эти берега в погоне за иными, часто еще более призрачными благами, мне жаль их, как жаль любое слабое или в чем-то, пусть малом, ущербное создание.
Мы с дочкой осваивали эти места потому, что жили здесь, «в Преображенском полку». Салазки легко скользили по улицам и переулкам, сохранившим старые названия — Парадная, Госпитальная, Артиллерийский, Саперный, Манежный, Фуражный; среди зданий, и через двести с лишним лет сумевших каким-то чудом сберечь свою ирреальность, свою призрачность — вроде есть они, вроде нет; по огромной площади, в центре которой высится бывшая полковая церковь преображенцев со знаменитой оградой из турецких пушек. Мы играли в снежки в сквере, прилегающем к зданию, подозрительно смахивающему на гауптвахту…
И там же, неподалеку, на перекрестке мирно стоял пивной ларек; мы подъезжали к нему на минуту, я выпивал кружку пива, она съедала конфетку — я носил их в кармане пальто про запас, совсем как укротитель, — и мы, в приподнятом настроении, следовали дальше.
Вернувшись домой — она с румянцем во всю щеку, я успокоившийся после дневной нервотрепки, — мы наперебой рассказывали о том, где были, кого встретили, во что играли, только о ларьке мы, безо всякого уговора, не распространялись. Но вот однажды я был занят вечером, меня подменила матушка жены, и ребенок, проезжая на саночках по знакомым местам, с легкой укоризной в голосе спросил почтенную даму:
— А к будочке?
— Что?
— А к будочке мы разве не поедем?
Вечером, кроме ужина, я получил солидную порцию не слишком тщательно замаскированных упреков, разговор все время вращался вокруг пьяниц, которые, как это всем известно, только и знают толочься возле пивных ларьков; каким-то краем волна недовольства задела и дочку. Но на следующий же день, когда мы вновь отправились на прогулку и я, завидев издали знакомое строение, устремил на нее вопрошающий взгляд, малышка совершила плечиками некий жест, истолкованный мною как поощрение — «чего же тут спрашивать?». Не могу поклясться, но мне почудилось, что она слегка подмигнула мне при этом.
Существует ли товарищество более подлинное?
С того дня, как она, глазами, полными слез, глядя на отца, покидавшего второпях, словно беглец, их общий дом, поцеловала его на лестнице, с того самого дня она, в сущности, не разговаривала с ним.
Он писал письма — она не отвечала. Он обижался, негодовал, молчал некоторое время, затем, не удержавшись, напрочь забыв о самолюбии, вновь писал письмо — патетическое или резкое, требовательное или жалобное, — результат был тот же. Он пробовал приглашать ее в театр на самые редкие и труднодоступные спектакли, она каждый раз отвечала по телефону, что занята в этот вечер.
Он поздравлял ее с днем рождения то ласковыми, то ироническими строчками; она поздравляла его тоже, все более и более лаконично — письмо, открытка, телеграмма. Торжественно вроде бы, но и зловеще: стереотипные телеграфные поздравления могли прийти, и приходили, от кого угодно. И она отступала куда-то, замыкаясь в шеренге многих других людей, не безразличных ему, хорошо его знавших, помнивших о его существовании, согревавших его издали своим вниманием, но людей не близких ему, и это-то было, пожалуй, особенно грустно.
Согревавших вниманием? Полно, так ли, не очередная ли это иллюзия? На склоне лет он взял за правило, познакомившись с человеком, по тем или иным причинам ему симпатичным, поздравлять его в декабре с Новым годом, а потом ждать ответа. Иногда такой ответ не приходил вовсе; другие поздравления оставались однократными, не повторялись — значит, не было нужды продолжать даже такое скромное общение, значит, только соприкоснулись двое и разошлись. Большинство же поздравлений находило отклик, и так они повторялись из года в год, даже если в этом году встретиться вновь не пришлось — что с того, что люди живут далеко друг от друга, что жизнь разбросала их и не дает возможности встречаться? Улыбка пересекает любые расстояния, преграды, границы, укрепляет взаимную симпатию, переплавляет ее в дружбу… И возникает еще один незримый круг общения, опоясывающий привычный круг близких друзей, и становится легче дышать, и внезапно появляются веские основания в с е г д а н а д е я т ь с я.
…Идут, идут открыточки. Вроде бы пустяк, дань вежливости, дежурное «поздравляю», а вглядишься в яркие краски кусочка картона, и видишь профиль человека, подумавшего о тебе и выбравшего для тебя именно эту открытку из десятков других, и оживают в памяти ваши встречи, совместные радости и свершения — огромные или крохотные. И прошлое могучей струей врывается в твое сегодня. Это же память о тебе, это твоя дополнительная, лишь с трудом осязаемая жизнь — в сердцах других людей.
…Идут, идут открыточки. Их так много, что почте не справиться с потоком, не переварить его, она выдает тебе по одному, по два поздравления в вечер, и ты, порадовавшись, ставишь открытки вокруг крохотной настольной елочки — большой елки у тебя нет, к чему она, ее же на радость детям ставят, а в твоем доме уже давно не звучат детские голоса… Случаются и неожиданности — господи, и он еще помнит меня! Радостно садишься отвечать, все бросаешь, лишь бы поскорее отправить вдаль несколько слов.
…Идут, идут открыточки, только от дочери твоей открытки все нет и нет. Ждешь — может, задержалась? Завтра придет… Но поток иссякает понемногу, вот он иссяк совсем, а от нее — ничего…
Снова ничего.
Пустоты он и страшился больше всего.
Не одиночества. Одиноким в буквальном смысле слова он не был. Друзья, число которых даже возросло за последние годы — он стал теперь свободнее в их выборе, — коллеги, связанные с ним по его новой работе, молодые люди, откровенно искавшие у него поддержки и сочувствия, случайные встречи на пути его бесконечных странствий за рулем, женщины, конечно… Нет, не одиночество страшило его, а отсутствие рядом одного-единственного человека, способного естественно и сильно продолжить его самого — не дело его, конечно, нет, настолько-то трезвым он был всегда, а именно его самого, — одного исключительно доброго к нему человека, общение с которым могло дать ему забвение, одного верного человека, с кем можно было бы поделиться большой радостью, кто принял бы близко к сердцу его малое горе, у кого достало бы терпения, охоты, снисходительности, попросту времени — отозваться на его призыв.
Только… Что же это значит, когда возле тебя нет такого человека? Разве это не есть одиночество?
Он не имел права жаловаться. Было бы смешно утверждать, что такая позиция дочери оказалась для него неожиданной, и все же он не мог удержаться от поисков сочувствия не только у близких, но у самых разных людей, подчас едва знакомых; удивительнее всего было то, что он почти всегда такое сочувствие находил. Дочка одного его старинного приятеля, живущая за много тысяч километров от него, молодая девушка семнадцати лет — он мельком видел ее два или три раза, — не только категорически осудила е е позицию, заявив твердо, что дети не имеют права вмешиваться в отношения между родителями, но и предложила себя взамен: не сможет ли ее внимание, ее письма, а также то, что она постоянно думает о нем, хоть отчасти заменить отвергнувшую его дочь? Девочка растрогала его — слабое утешение, а все-таки…
Однажды блеснул луч надежды: она зашла в его новое жилище. Зашла по делу: ей срочно понадобилось свидетельство о рождении — он по ошибке увез его со своими бумагами. Странно было отправлять такой серьезный документ по почте, ведь жили они всего в полукилометре друг от друга, кроме того, свидетельство могло затеряться, да и когда бы дошло — неизвестно…
Словом, она заглянула к нему. Он обрадовался, не знал, куда ее посадить. Давно уже так не трепетало его сердце, ни одной самой желанной женщине не стремился он так угодить. У него руки дрожали — это всего лишь первый шаг, думал он, теперь все изменится, их отношения потекут по старому руслу, она станет регулярно, хоть раз в месяц, раз в два месяца бывать у него, и тогда… Они распили бутылку сухого вина, как бывало, она уютно сидела в уголке, курила, болтала, рассказывала о работе, о подругах — он был дружен с ними со всеми когда-то. Потом он отправился ее провожать, ему показалось, что все налаживается…
Посещение не повторилось. То был деловой визит, не более.
Была, правда, еще встреча, но совершенно случайная и такая убогая, что и описать ее не знаешь как. Стояла зима, он ехал в гараж на автобусе, от конечной до конечной; сел удобно у окна. Едва огромный «Икарус» подошел к остановке, ближайшей к их бывшему дому, он увидел ее среди ожидающих и обрадовался — решил, что и она ждет автобуса того же маршрута. Так оно и оказалось.
Он старался не терять ее из вида, надеялся, что и она, в свою очередь, заметит его сквозь стекло и узнает. Но момент, когда это свершилось… Он запомнил этот момент на всю жизнь: дочь его, медленно продвигавшаяся к дверям огромной машины, вдруг заколебалась и приостановилась на секунду, словно решая, садиться ей или подождать следующей оказии; она даже на часы взглянула.
У него перехватило дыхание. Улыбка, появившаяся на лице, едва его девочка мелькнула в толпе, застыла гримасой. Несколько мгновений спустя, различив, очевидно, его пристальный взгляд, не оставлявший сомнений в том, что он не только видит ее, но и уловил уже суть ее колебаний, она кивнула ему и, сделав над собой усилие, поднялась в автобус. Или очередь ее подтолкнула?
Несколько мгновений спустя… Каких мгновений!
Место рядом с ним было не занято, и ей пришлось сесть на это место, чего ей явно не хотелось — и ему в ту минуту не хотелось тоже. Он машинально спрашивал о чем-то, только бы не молчать, а сам думал: до чего же я докатился, если родная дочь вынуждена з а с т а в л я т ь себя войти туда, где я нахожусь, и сесть рядом, и то делает она это исключительно потому, что не сделать — значит впрямую обидеть меня, оскорбить публично, — как знать, если бы не сдержанный, при всей решительности, ее характер, не бросила ли бы она мне эту перчатку…
Дожил, называется. Каким-то будет итог?
Еще что-то похожее на встречу произошло в Филармонии. Случай свел их совсем уж мимолетно, он не видел даже ее лица, но обаяние этого зала, где каждый смертный имеет возможность, заплатив за билет, успокоить свою задерганную повседневностью душу, заставило его ощутить свое падение с особой силой.
Перед началом концерта он стоял в пустом боковом фойе, разглядывая альбом старинных фотографий — была какая-то очередная юбилейная выставка. Рядом с ним, справа, стояла та, кого дочь считала разлучницей… Кто-то подошел слева сзади и заглянул в альбом через его плечо, а потом вдруг быстро пошел прочь.
Он не стал оборачиваться, он бы внимания не обратил, мало ли кто мог поинтересоваться альбомом, у него мелькнула только мысль, что надо побыстрее досматривать, а жаль, фотографии любопытные… И в этот момент рядом прозвучали слова:
— Это была твоя дочь.
Он поднял от альбома глаза и увидел растерянную улыбку на красивых губах.
У него хватило выдержки не обернуться и теперь — все равно шаги уже затихли. «Значит, она не узнала меня и только потому подошла… не узнала… не узнала… Она теперь уже не узнает меня… Потом она увидела лицо женщины, и тогда только узнала, и пустилась в бегство… в бегство от меня…»
Весь концерт, и в антракте, он, сгорбившись, просидел на месте, не желая окончательно портить ей вечер.
На этот раз музыка не принесла ему обычного облегчения; с ее звуками на него нахлынула очередная волна раскаяния, стыда, негодования на самого себя.
Сколько таких волн перекатилось за эти годы через его упорно не желавшую седеть голову — океан!
А он, слабый человек, захлебываясь, все плыл и плыл куда-то.
Когда я уходил из дома, когда своими руками разрушал нашу семью, состоявшую всего-то из трех человек, я конечно же думал о том, как воспримет этот шаг моя любимая дочь.
Я солгал бы, став утверждать, что был готов принять любое ее мнение и подчиниться ему, но я долго размышлял над тем, не нарушу ли я, уйдя из дома, моих обязательств перед ней.
Только как о сложившемся человеке мог я о ней думать — отсюда эти рассуждения. Образ «обездоленного ребенка», оставшегося без отца, никак не вязался с уверенно стоявшей на ногах двадцатилетней студенткой, зарабатывавшей во время практики приличные деньги — это добавляло ей независимости.
Самостоятельность ее суждений восхищала меня, корректировать их безапелляционность было уже не в моей власти — я и не претендовал на это, равно как и на роль главы семьи, — таким образом, в последние годы нашей совместной жизни мне оставалось лишь поддерживать налаженный ритм сосуществования в нашем доме. Мы встречались за столом, реже — у телевизора, принимали гостей; иногда мы вместе с ней ездили на дачу, ходили в театр, в цирк — мне удалось, кажется, научить ее любить это «искусство без обмана», — в кино, навещали родных.
Таким образом, мой уход не лишал ее, казалось, чего-то невосполнимого, и я предполагал, что шаг этот будет воспринят ею разумно, с пониманием — мы с ней всегда стояли за свободу человеческих отношений, — и что мы сможем сохранить нашу дружбу и так же ненавязчиво и ровно любить друг друга, живя врозь. Прости мне мою ограниченность, схематизм моего мышления, дорогая девочка; я был слеп, я не знал тебя, оказывается, и не понимал поэтому, что разлука надорвет тебе душу.
Поставить свое решение в полную зависимость от ее позиции я не мог уже потому хотя бы, что уход из дома был для меня не капризом, не минутным порывом, а шагом вынужденным, неотвратимым. Иначе в тот момент я поступить попросту не мог.
Волею многих обстоятельств — я сознательно не касаюсь их здесь, не хочу, не могу уходить в сторону, должен же я сосредоточиться, наконец, на том, что для меня самое главное, — волею целого ряда непреодолимых для меня обстоятельств я, как раз к своему «первому юбилею», был доставлен перед необходимостью совершить крутой поворот в жизни, в том числе сменить профессию, лишь по видимости, для непосвященных, остававшуюся прежней.
Хорошо еще, что в своем жизненном слое я был из самых младших. Как-то так получалось, что мне постоянно не хватало несколько лет до тех моих сверстников — знакомых, сослуживцев, друзей, — которые становились солидными, «состоявшимися» людьми, достигали почета, благополучия, командных постов. Рядом с ними я все время чувствовал себя ничего не смыслящим в практической жизни безалаберным юнцом, и это не могло не накладывать отпечатка на мои поступки, мои научные статьи, мой взгляд на вещи. Когда же пришлось круто менять не только уклад жизни, но и сам характер моей деятельности, отсутствие степенности в моих повадках и самом мироощущении неожиданно пришлось как нельзя более кстати: я перенес значительно менее болезненно то, к чему мои солидные однокашники отнеслись бы как к катастрофе.
Более того, именно те несколько лет, которых мне всю жизнь так недоставало, помогли мне в этих новых обстоятельствах тоже сравнительно безболезненно «провалиться» в следующее поколение, в следующий жизненный слой, где я оказался старшим, наконец. Теперь уже на меня ориентировались, ко мне прислушивались, от меня ждали откровений; пытаясь сформулировать что-либо, хоть отдаленно их напоминающее, я волей-неволей напрягал все силы, а это всегда полезно, тем более при решении новых задач.
И все же овладение непривычным и несравненно более ответственным, чем раньше, и более сложным профилем в работе потребовало жертв, и немалых. Представьте себе… ну, хотя бы ремесленника-копировщика, вынужденного (вопрос стоял ребром: или так, или никак!) превратиться в самостоятельного художника и устроить в обозримое время публичную выставку своих работ — может быть, вы лучше поймете мое тогдашнее положение и то состояние, в каком я находился.
Мне предстояло, в сущности, сделаться другим человеком, а это всегда стоит крови. Корчевание прочно сложившихся, спекшихся, сцементированных годами привычек, связей, отношений, суеверий и предрассудков под силу далеко не всякому и в более молодом возрасте, а мне пришлось заняться всем этим под старость. Легко понять, что как бы я ни храбрился, но, перерезая, одни за другими, путы, которыми мы так незаметно, так уютно спеленуты, — в чем отличие от младенцев, ну в чем?! — я переживал серьезнейший кризис.
Только не делайте, пожалуйста, из этого простого факта поспешных выводов относительно особой глубины и утонченности моей натуры. Если и существуют еще утонченные люди, я не принадлежу к их числу — уж я-то знаю себя лучше, чем кто-либо. Вопрос о том, по правде ли он живет, задает себе рано или поздно каждый. Все дело в том, захочет ли человек дать на него честный ответ даже самому себе, а также способен ли тот, кто ответил честно, изменить что-нибудь в своей жизни. Чтобы не только каяться, а взять да и повернуть на сто восемьдесят градусов, не утратив при этом равновесия, одной утонченности недостаточно — силенки нужны.
Но если так, может быть, в пятьдесят лет уже поздно отказываться от лжи? — могут меня спросить.
Нет, отвечу я, нет, нет, отказаться от этого отвратительного порока, противоестественного, неизбежно приводящего в тупик, — никогда не поздно. И никогда не поздно начать жизнь снова, так же как в любом возрасте есть возможность замарать ее.
Ощущая явления рядовые, примелькавшиеся более выпуклыми и контрастными, чем обычно, — словно в горячке, в бреду, — я с отвращением вынужден был констатировать, что, уподобляясь нашкодившему гимназисту, я лгу по мелочам на каждом шагу. Мне стало тошно. Я подумал: как жить, не уважая себя? Как осмелиться обращаться с какими-то словами к другим, к своим ученикам например, тем самым, что ждали от меня откровений, если сам я насквозь изолгался? Как могу я рассчитывать на доверие и уважение дочери, если и перед ней я вынужден изворачиваться? Достаточно простой случайности, — допустим, она увидит в моей машине постороннюю женщину, раз, другой, — что потом?
Но даже если не произойдет открытого столкновения, если я н е п о п а д у с ь, — как низко нужно пасть, чтобы постоянно жить рядом с возможностью оказаться в таком омерзительном положении перед единственным в мире созданием, которым ты всерьез дорожишь, чтобы так унижать ее, и себя тоже.
Мне было тяжело лгать и жене. Я не имею сил и не смею попытаться воссоздать здесь ее портрет, да так ли уж он и нужен? Разве недостаточно будет сказать, что я беспредельно уважал ее с первого и до последнего дня нашего знакомства, — последнего, ибо она категорически и навсегда отвернулась от меня, вернув мне фотографии и письма, — вычеркнула меня из своей жизни. Я сам, не кто-нибудь, спровоцировал на это женщину, которой за годы нашего супружества привык верить больше, чем самому себе; ее мудрость, ее кротость, ее рассудительность не раз помогали мне одуматься, еще и еще раз взвесить все обстоятельства прежде, чем совершить очередной опрометчивый поступок или принять решение, о котором мне пришлось бы сожалеть. Только от самого последнего безрассудства она меня уберечь не смогла — гордость помешала ей сделать это.
Мы прожили вместе немалое время, и прожили неплохо. Нас ставили в пример, нам завидовали, и дочь наша, кажется, гордилась этим. Ни единая живая душа, кроме нас двоих, не знала, что для жены наше супружество было компромиссом, что она вышла за меня замуж в известной степени от отчаяния (был другой человек, который…) и никогда не любила меня так беззаветно, как я любил ее в первые годы нашей близости; я сам не сразу понял это, а когда догадался… Главное, мы вырастили дочку, и вырастили вроде бы как следует.
Если бы каждый житель земли посадил одно дерево… Если бы каждая супружеская пара вырастила хотя бы одного порядочного человека…
Такого порядочного, чтобы уже ничто на свете не смогло сделать его иным.
Меньше всего хотел я причинять боль верному другу, каким стала для меня жена; измену дружбе я с детства привык считать едва ли не самым подлым поступком, а тут… Сама мысль о том, чтобы обмануть жену, должна была быть для меня кощунственной, она такой и была, уверяю вас, но ничего поделать с собой я не мог. Увы, не мог, словно это был не я, привыкший четко ориентировать себя в любой жизненной ситуации, а некто безвольный, не способный самостоятельно мыслить и независимо поступать, — каюсь, я в молодости презирал людей слабых.
В первый раз, когда это случилось и смерч, захвативший меня врасплох, швырнул мое тело оземь, я воспринял свою ложь как трагедию. Я терзался, я говорил себе: нет, больше это ни за что не повторится, я выдержу, не дикарь же, цивилизованный человек, я не поддамся такому дешевому искушению, такой сиюминутной благодати, такой призрачной подачке судьбы, — подумаешь, чьи-то нежные объятия! — зажмурю глаза, заткну уши, чтобы не слышать требовательного зова очередной весны…
Не выдержал, тем более, что искушения, как на грех, стали возникать буквально со всех сторон. Второй обман дался мне проще, метаний было меньше. Третий — еще проще.
Трагедия превращалась в фарс, к нему-то я и привык постепенно.
До каких пор это могло продолжаться?
Крутой поворот в моей судьбе — мне все казалось, что я вот-вот завершу его, на самом же деле это случилось лишь после того, как я покинул семью, — крутой поворот как раз и принудил меня подвести необходимые итоги. Впервые после лет, проведенных на фронте, я вновь ощутил себя ответственным за что-то необычайно значительное, ни в коем случае не допускавшее фальши. Судьба в последний раз предоставляла мне эту окрыляющую возможность, и ставшая было привычной повадка страуса, прячущего голову под крыло, чтобы не видеть, чтобы не думать, сделалась недостойной в моих глазах.
Как ни клади, отвечать надо было прежде всего за самого себя, за свои поступки, мысли, намерения — таков был лежавший на поверхности вывод. Оперируя категориями всеобщими, я не имел права пройти мимо того, что происходило в моем ближайшем окружении, в чем был замешан я лично; в конечном итоге и личное и общее — звенья одной цепи, если не лицемерить, конечно.
Осознав эту простую истину, я словно очнулся. Годы и годы плыла наша семья по течению полноводной реки, плыла вроде бы вполне благополучно, как и другие семьи рядом. Но вот нас неожиданно прибило к торчавшему из воды обломку скалы; пришлось задержаться, а каждая задержка — повод для раздумий. И вот там-то, на этом обломке, я, совершенно неожиданно для себя, обнаружил рядом не только жену, но и еще одну прекрасно во всем разбирающуюся женщину — мою дочь.
Я различил женщину в той, кого привык считать ребенком, и почувствовал внезапно, что обманывать их обеих — свыше моих сил. Лгать еще и дочери? Это было бы уже не просто кощунством: лгать дочери означало бы, помимо всего прочего, еще бездумно и подло обманывать самого себя, и не от случая к случаю, а каждый день и каждый час, навечно, означало бы покуситься на то святое, что делает человека человеком, означало бы опуститься уже совершенно.
В чем именно я не хотел ей лгать?
В ч е м б ы т о н и б ы л о!
Достаточно того, что я оказался прочно стоящим на ступеньке бесконечного эскалатора лжи, а там не все ли равно — в большом я лгал или в малом, обращаясь к набитой студентами аудитории в институте или крохотной — дома?
Дома… Мне было отлично известно, что сотни людей сосуществуют в условиях перманентного, не шумного обмана, что многие жены и многие мужья мирятся с неверностью своего партнера, что существует целая философия, оправдывающая такую «терпимость».
— А компромисс? — слышу я восклицание одного весьма авторитетного и славного, в общем, человека, порицать, которого у меня нет решительно никаких оснований. — Все в этом мире зиждется на компромиссе! А о жене своей, остающейся одинокой в преклонном возрасте, ты подумал? Нужна ей твоя правда!
Все это он произнес с пафосом, искренне негодуя, пять минут спустя после того, как мы вышли из кафе, где обедали… с его вполне официальной любовницей. Он т а к оберегал покой своей супруги — изящно изменял ей, ничего не афишируя, но ничего особенно и не скрывая, зато во всех торжественных случаях появлялся с ней под руку.
«Так-то оно так, — подумалось мне, — только не слишком ли ты свыкся с этим своим компромиссом, дружище, границы ведь так легко стираются в нашем сознании — раз, и нет ее… Думаешь, в одном ты можешь поступиться истинной порядочностью, а в другом оказаться на высоте? Не выйдет, браток! Все связано. И в центре, на пересечении связей данной жизни, стоит один и тот же человек — ты сам. И любая твоя измена…»
Ему я этого не сказал, но часто думал о нашем разговоре, и, как выяснилось, не зря. Через некоторое время этот мой доброжелатель отмечал юбилей — он принадлежал как раз к тем видным представителям нашего поколения, от которых я немного отстаю по возрасту, и не отмечать юбилея не мог. Придя на торжество, я обнаружил в огромном зале необычайно разных по своей жизненной позиции людей; каждый из них, заметьте, мог очутиться здесь только по личному приглашению юбиляра. В зале были люди редкой чистоты и обаяния, с которыми я тоже мечтал бы подружиться, — мне завидно стало, что он с ними дружен, а я просто знаком. Но были здесь и такие господа, кому я при других обстоятельствах не подал бы руки.
Так как я пришел один, меня усадили за прекрасно накрытый стол рядом с дамой, прославившейся тем, что, в меру своих возможностей, она, мило улыбаясь, тихонько, без излишних эмоций приглушала все то новое в нашей отрасли науки, что хоть как-то могло подорвать ее авторитет. Дама весело щебетала — женщина есть женщина, — а я наливал ей вино и думал: «Черт возьми, а может, так и надо? Может, именно всеядность способна обеспечить уравновешенный, объективный взгляд на мир — без надрыва, без крайностей, без истерики, без битья кулаком в грудь? Ведь я тоже должен казаться ей моральным уродом, ведь люди, они действительно разные, в с е разные, без исключения…»
Так неожиданно и мне компромисс показался если не заманчивым, то вполне возможным, но случилось это за банкетным столом, многое смещающим, и значительно позже, а в тот день, когда речь между нами шла о моей судьбе и моем поступке, я никак не мог согласиться с моим мудрым другом, но не стал спорить с ним.
Не стал потому, что в одном он был несомненно прав: я оставил жену одинокой. И хоть рядом с ней до конца ее жизни будет самый светлый для нас обоих человек — наша дочь, поступок мой иначе как некрасивым, отвратительным, недостойным мужчины назвать нельзя.
Но как же мне следовало поступить?
Вернуться? Известно множество случаев, когда мужья, пожив на стороне, возвращаются затем в старую семью. Бывает, возвращаются и жены. Возвращаются… потеряв навсегда уважение своих детей, если не за факт ухода, то уж за факт возвращения непременно. Возвращаются… к человеку, который никогда не сможет забыть перенесенного им унижения. Простить, пожалуй, сможет, забыть — нет.
Впрочем, о с ч а с т ь е такого воссоединения писалось и пишется как о чем-то нормальном; не забыты времена, когда людей обязывали вернуться в семью. Что ж, быть может, для кого-то это и норма, каждый волен придерживаться таких взглядов и такого уровня отношений, на какие он способен, к каким привык, каких заслуживает, какие его устраивают, упрекать я никого не собираюсь.
Только и для меня, и для жены возврат к прошлому стал органически невозможен с того момента, как я твердо заявил, что ухожу, и все те, кто укорял меня в нежелании пойти на компромисс, совершенно напрасно не учитывали ее позиции в этом вопросе.
И вот именно в те дни, когда наше общее уже решение разойтись стало известно близким, я ощутил подспудно — по первой реакции дочери, — что, оскорбленная моим «легкомыслием», она считает, что я бросаю ее. Не только жену бросал я, как оказалось, но и еще одну женщину — свою дочь.
Почему же было не выяснить позиции дочери заранее, спросите вы меня, до того, как «сжигать мосты»? Существовали же дружба, близость, доверие, так почему, собственно, принимая такое жизненно важное решение, нельзя было уточнить предварительно, что скажет на это она?
Что ж, если угодно, я могу на своем примере еще раз подтвердить общеизвестную истину: человек слаб. И я — не исключение. Между той ночью, когда зародилась мысль об уходе, и тем днем, когда все было решено окончательно, лежала трудно обозримая полоса сомнений и колебаний. И пока я брел, спотыкаясь, через эту полосу, я конечно же не мог задать дочке совершенно ни с чем не сообразный вопрос: а как бы ты отнеслась к тому, что я… Заронить в ее душу преждевременное смятение, насторожить по отношению к себе, когда ничего еще не решено? Пойти на такой безумный риск, не зная еще толком, оправдан ли он хоть сколько-нибудь?
Вы смогли бы? Я — нет.
Что же касается того, что мы были близки… Были, конечно, особенно в годы ее детства, отрочества, но до определенного предела. Последние же, студенческие, годы наложили на ее характер оттенки, мне вовсе неведомые. Одно ее постоянное курение в холостяцком женском кружке чего стоило, то самое курение, во время которого обычное щебетание, столь необходимое женщинам и столь простительное, уступает место отнюдь не безобидному высокопарному разглагольствованию на самые различные, часто рискованные, еще чаще пустые темы; главное — с к а з а т ь, ч т о б ы с к а з а т ь, любой ценой, невзирая на то, есть у произнесенной формулы реальные корни или нет, не окажется ли услышанная где-то вымученная или развязная сентенция смешной в твоих устах, лишь бы не отстать от других, не показаться слишком обыденной и простенькой, не оказаться «не в курсе» того, что сегодня «престижно», — подлинная или мнимая эрудиция одних собеседниц взвинчивает других; не секрет, что речам, которые вещаются в процессе таких вот химерических говорений, молодые женщины, особенно одинокие молодые женщины, подчас начинают верить больше, чем окружающей их подлинной жизни.
И все же не отрицаю: да, я знал ее и мог предположить, что она осудит мой поступок. Но я ни в коем случае не мог представить себе, что осуждение это может быть столь суровым.
Клянусь, если бы что-нибудь подобное пришло мне в голову, если бы мысль о возможности полного разрыва и полного отчуждения только блеснула в моем мозгу, если бы я сумел раньше распознать эту боль б р о ш е н н о й ж е н щ и н ы, раньше, раньше, когда еще возможно было отступление, клянусь, я тысячу раз подумал бы над нашим с ней будущим, и мое окончательное решение, быть может, оказалось бы совсем иным.
Каким — понятия не имею. Но как знать, не удалось ли бы мне железной рукой смирить потенциальный эгоизм, заключенный в каждом из нас и настойчиво требовавший, чтобы я продолжал осуществлять себя как личность возможно полнее — разве не это требование стало главной причиной, побудившей меня уйти из дома? Делая в пятьдесят лет последнюю отчаянную ставку, размеры которой привели бы в трепет целые шеренги моих сверстников, я должен был собрать в кулак оставшиеся силы, отбрасывая все, что грозило распылить их, что так или иначе тянуло меня назад к привычному кругу.
Допускаю, что не всем понятно, как могла семья, неплохая семья, помешать мне свершить что-то серьезное. Скажу яснее. Для титанического усилия, на которое я решился, на которое отважился, мне нужны были все мои силы, духовные и физические, — все, без исключения, и все мое время, до последней капельки. Семья отсасывала часть этих сил и этого времени, иначе и быть не могло, тем более, что после смерти тестя на мои плечи легли многие хозяйственные дела — я потом скажу об этом. Если бы я еще твердо знал, что необходим семье, если бы меня постоянно держала за сердце мысль о том, что жена и малыши зачахнут, изведутся без меня — вот для чего, вероятно, хорошо иметь несколько человек детей разных возрастов, — тогда, быть может, это ощущение даже стимулировало бы мой порыв и менять ничего не пришлось бы. А так, в рамках сосуществования, все это выглядело лишь обузой, никому особенно не нужной обузой — балластом, мешающим воздушному шару вновь набрать высоту, необходимую для того, чтобы продолжать полет.
Я всегда недоумевал, читая о том, что воздухоплаватели бывали вынуждены выбрасывать из корзины воздушного шара не только действительно значительные тяжести, не только мелкие вещи, — ну сколько может весить бинокль? — но и раздеваться иногда, швырять за борт сюртуки, сапоги… Теперь я их понял. О, я знал, конечно, что, уходя из дома, сбрасываю балласт драгоценнейший для меня же самого, что в одиночку, без них, я долго не протяну, скорее всего, но шар не должен был опуститься — в тот момент я вынужден был заплатить за это любую цену, иначе вся жизнь моя шла насмарку. Другого выхода у меня просто не было.
Нет — был! Во имя ее преданности, ее любви я мог согласиться на прозябание, на то, чтобы стать добродушным и бездеятельным отцом семейства, потом — дедушкой-пенсионером, тихонько доживающим свой век. Материальные предпосылки для такого существования имелись великолепные, а тихая пристань куда заманчивее бесконечных выходов в одиночку в штормовое море. Потеря для науки оказалась бы не бог весть какая — я достаточно самокритичен, чтобы признать это.
А ее уважение? Его ты не потерял бы?
Не знаю… Впрочем, что гадать: отступать, повторяю, мне все равно было некуда. Слишком поздно понял я, что все отговорки, оправдывавшие меня хоть отчасти, — девочка уже выросла, у нее собственный круг друзей и интересов, я как наставник ей, в сущности, уже не нужен… — оказались дутыми, высосанными из пальца, ничего общего не имевшими со сложнейшим микромиром, в котором обитала моя дочь.
Для нее я был не только отцом, но и мужчиной, очень близким ей мужчиной, бросившим ее ради другой женщины.
Такая женщина имелась, не стану отрицать, но ее могло и не быть в тот момент или на ее месте могла оказаться другая; для меня дело было не столько в этой конкретной женщине, ничего от меня не требовавшей, сколько в том, чтобы крикнуть — нет! — и положить конец притворству и лжи.
А для дочери все зло сосредоточилось прежде всего в «разлучнице», сопернице ее матери и ее сопернице тоже. Двадцатый век ничего не изменил, она ненавидела эту конкретную носительницу зла так же яростно, как это делала бы ее прабабка. И я думаю теперь, что вот эта ненависть и уязвленное самолюбие брошенной женщины оказались главным препятствием, помешавшим дочке понять меня, понять и принять таким, каким я стал за полвека существования в обществе себе подобных.
Негодование затуманило ее взор.
Быть может, если бы она не была единственным ребенком, если бы с детства привыкла делить меня с кем-то еще, она не восприняла бы случившееся так глубоко лично — словно нож в спину, всаженный тем, от кого она меньше всего могла этого ожидать, на кого привыкла полагаться в большом и малом и кто так внезапно и так коварно предал ее.
Да-да, предательство — вот точное слово. Конечно же она не могла перешагнуть через предательство, особенно неприемлемое для всякого юного существа, хоть сколько-нибудь не равнодушного, а в равнодушии ее упрекнуть никак нельзя.
Конструкция, выглядевшая на диво прочной, сломалась. Почему? Ответ прост: отец предал, как он посмел, какой тряпкой оказался! А я-то любила и уважала его, свято верила в его честность, в принципиальность его суждений, в достоинство его поступков, в его рыцарство по отношению к слабым и попавшим в беду, в его решимость держаться как должно в самых сложных ситуациях. Он был солдатом, я имела все основания гордиться им, а он взял и предал нас с мамой.
Почему же именно предал? Разве мое стремление отказаться от лжи не соответствует тем самым прекрасным качествам, которые ты только что перечислила, не стоит с ними в одном ряду?
Нет, это совершенно разные вещи, тебя никто не заставлял лгать и притворяться, ты сам, добровольно стал на этот путь.
Ну, хорошо. Допустим, тряпка. Допустим, предал. Но была же какая-то причина? Если неожиданно предает человек, двадцать лет защищавший и поддерживавший тебя, то не логично ли предположить, что существуют причины, если не извиняющие его, то хотя бы объясняющие, почему он не мог поступить иначе, и, раз уж человек этот, ты сама признаешь, был когда-то не так плох, веские причины. Верно, нет? Как же можно даже не попытаться понять того, другого? Как можно в одночасье возненавидеть и отвергнуть его? Тряпка — как просто…
Нет причин, оправдывающих предательство, все это сплошные отговорки, недостойные нас обоих, мне невозможно разбираться в хитросплетениях, таких многозначительных и сложных на вид, — да и к чему? Факт налицо: ты бросил нас, маму и меня. Бросил?
Да.
Весь разговор.
Имеют ли право дети судить родителей?
Схоластика, ущербность, какое-то иезуитское позерство, стремление любой ценой удержать вожжи в своих руках — вот что видится мне за этим коварным и до последней буковки надуманным вопросом.
Из чего, собственно, исходят те, кто ставит под сомнение природное право всякого живого существа иметь суждение о себе подобных? Без этого сама жизнь на земле давно бы прекратилась.
…Любой звереныш, едва появившись на свет, получает неотъемлемое право реагировать на окружающую среду, проявлять свое отношение к ней, подчас весьма решительно — от этого зависит его существование. И если инстинкт самосохранения подсказывает ему, что следует отвергнуть или просто покинуть родителей, как бы хороши они ни были, он делает это не колеблясь — и никто не осуждает его.
У людей все, разумеется, гораздо сложнее, хотя поговорка «дитё родить — ума не надо» придумана не зря. Человеческие детеныши почитают родителей, охотнее почитают, чем ненавидят. Это заложено в генах, да и семья — очень удобный для малышей институт. Она кормит их, пока они не встанут на ноги, она дает им неповторимую возможность, не имея еще никаких личных заслуг, ощущать себя фигурой значительной, нужной для других, важной для других; без семьи юноше легко затеряться в необозримом людском море, а ведь ему предстоит основать собственную семью — кто передаст ему опыт, кто научит, как это сделать?
Все так. Но это не мешает нашим детям следовать природе вещей и судить нас тем более пристрастно, чем больше они нас любят и чем больше они на нас похожи, судить не от случая к случаю, а постоянно, ежедневно, ежечасно.
Суд детей строгий и справедливый, как правило; родителям стоит время от времени прислушиваться к нему. Терзаться же вопросом «имеют ли право» или писать на эту тему трактаты попросту бессмысленно, ибо, независимо от того, что мы на этот вопрос ответим — мы, давно уже переставшие быть детьми, — они этим правом пользуются, иначе им никак нельзя.
Моя дочь судила меня не только заочно, но и прямо в лицо — лет с пяти приблизительно, — и я гордился этим высшим проявлением доверия, равноправия, дружелюбия. Стремясь к тому, чтобы такие отношения стали нормой, я всячески провоцировал ее на откровенность и тщательнейшим образом подавлял в себе малейшее поползновение «преследовать за критику». С годами это становилось все проще, ибо ее мнение по самым различным вопросам приобретало для меня все больший вес. А вот отвечать на ее упреки и рассеивать недоумения становилось все сложнее; только это была сложность, преодолевать которую — радостно. Я стал принципиальнее вести себя в самых сложных обстоятельствах — чтобы выглядеть безупречно в ее глазах.
И я полагаю, что привычка судить меня строже, чем кого-либо, сыграла немаловажную роль в том, что она от меня отвернулась.
Не поняла, что уход из дома был таким же принципиальным моим поступком, как те, другие, что радовали ее.
Вот и они.
Она впереди на полшага — папочкина натура. Да и внешне — копия. Такая же дылда, и патлы белесые во все стороны, и веснушки — их отсюда не видно, конечно, но ему-то прекрасно известно, что они на месте.
Ее муж немного позади. Приятный парень, рослый, выше ее, слава богу.
Он так боялся, что она выскочит за малыша какого-нибудь, за шибздика, как говорили когда-то в школе, где он учился. Его дочь и супруг ее выглядели бы тогда вместе отнюдь не гармонично, даже смешно, пожалуй. И потом, это могло сказаться на детях. Главное, люди маленького роста безгранично самолюбивы; комплекс неполноценности гложет бедненьких, они идут на все, лишь бы компенсировать хоть как-то недостаток роста, и с наслаждением тиранят окружающих, особенно долговязых, — и подчиненным достается, и домашним.
Лицо неглупое. Без очков. Внуку не будет грозить наследственная близорукость; при виде карапуза в очках у него портилось настроение — с такого возраста видеть мир искаженным… И у него самого, и у жены зрение превосходное, у дочки глаза тоже как будто в порядке, значит, внук…
Внук?
Как не хватает ему маленького человека рядом! Жадно накидываясь на каждого мало-мальски симпатичного ребенка дошкольного возраста, наслаждаясь беседой с ним, и играми с ним, и попросту д у р а к а в а л я н и е м — к огорчению родителей, рассчитывавших на его интерес к себе, — он думал иногда: нет, все-таки не совсем я еще опустился, если могу так дружно играть с детьми!
Да, очень неглупое лицо. Спокойное. Он уважал спокойных людей, они вызывали в нем симпатию и доверие, — быть может, потому, что самому ему спокойствия недоставало. Один доктор недавно посоветовал регулярно пить валериановые капли — для общего успокоения нервной системы. Он представил себе пузырек, рюмку и свою руку, трижды в день отсчитывающую двадцать капель… Б-р-р… Не стал, конечно, затевать эту волынку, обойдется как-нибудь… Вот машина его успокаивает.
Лицо просто славное. Похоже, предоставил распоряжаться всем невесте — теперь уже супруге — и шаферу с огромным бантом в петлице, суетящемуся вокруг, а сам наблюдает за происходящим малость иронически. Молодец! Вот опять: шафер толкнулся зачем-то к нему, а он переадресовал его с улыбочкой к жене; похоже, шафер его близкий друг. В том, что мужчина умеет поставить себя так, что ему не приходится влезать в мелочи, уже проявляется характер.
Стоит себе, солнышку улыбается. А чего же? Конечно! Такая прелестная жена, и жизнь ясная как на ладони. Сын ответственных родителей, доложили ему, один из тех мальчиков, что с самого рождения не знают ни в чем отказа. Конечно, у каждого поколения свои преимущества, кое-кого жизнь закаляла, мордовала так, что пыль столбом… Не зря, вероятно. А эти без особой закалки обходятся, все и так к их услугам. Может, это и неплохо — больше духовных сил остается.
Или напротив — меньше?
Как бы там ни было, парень ему приглянулся. Интересно, способен ли он хорошо, по-мужски выпить и не опьянеть с разбегу, не превратиться в бахвалящегося пустозвона, не потерять человеческий облик, а стать лишь разговорчивей, открытей, глубже? По этому тоже отчетливо определяешь — каков мужик. Ну, выпить им удастся не скоро…
— Ты чего тут стал, другого места не было?
Пока он любовался зятем, к левой дверце его машины подлетел шафер с бантом.
— Чего смотришь, давай отъезжай!
Он терпеть не мог, когда с ним разговаривали таким тоном, особенно когда его пытались поносить в присутствии машины — она же слушаться должна, а тут авторитет подрывают… Трудно даже вообразить, что ответил бы он при других обстоятельствах, — скорее всего, послал бы этого сопляка подальше: за рулем все мы только водители, ни больше, ни меньше.
Но на этот раз…
Он выключил приемник, опустил боковое стекло и заставил себя любезно улыбнуться. Не хватало еще устроить скандал на свадьбе дочери, куда его к тому же никто не приглашал. Подчеркнуто вежливо спросил шафера, что, собственно, его не устраивает.
— Да вы же в самую середину нашей свадебной процессии затесались! — возмущался юноша, перейдя все же на «вы».
Свадебная процессия… Почему процессия? А почему бы и нет?.. Если существует похоронная процессия, отчего не быть свадебной?
— Затесался?.. — переспросил он, оглядываясь.
— Вы так близко подсунулись к моей «Волге», что при всем желании не выехать, а мы сейчас трогаться будем… Когда ваша-то свадьба? Или вы очередь занимать приехали? А может, невеста не явилась? — не удержался юноша от иронии.
Какой восхитительный возраст! Ведь он кажется себе в эту минуту неотразимым и в высшей степени остроумным, бедняжечка.
Бросив еще один взгляд назад и отметив мимоходом, что молодые стали спускаться с крыльца, он убедился в том, что действительно прищемил нос темно-синей «Волге» без водителя. Значит, правильно ему сказали, что зять — из обеспеченной семьи.
Он не обрадовался, но и не опечалился, получив это подтверждение: его дочь была подготовлена даже к такому серьезному испытанию, как большой достаток.
— Сейчас отъеду, — улыбнулся он шаферу. — Моя невеста уже точно сбежала с другим, так что…
Мысленно с ней попрощавшись, он завел двигатель и, поскольку колеса его машины оставались круто вывернутыми, одним плавным движением выехал из плотной колонны, заставив шафера отскочить от неожиданности в сторону, — это доставило ему скромное удовлетворение.
— Маленький реванш, — пробормотал он.
Выровнял машину, потихоньку поплелся вперед. Можно было ехать домой. То, из-за чего он здесь оказался, свершилось. Он запечатлел ее в своей памяти радостную, сияющую, наполненную некоей новой уверенностью, а на большее он и не рассчитывал — то есть в душе рассчитывал, конечно, на какую-нибудь случайность, но старательно играл в прятки с самим собой.
Подойти и поздравить молодых он не смел.
Проехав метров сорок, он увидел совершенно чистый кусок мостовой в первом ряду и как-то автоматически вновь прижался к тротуару. Не следовало останавливаться, ни к чему, но что-то властно держало его, он проверил даже, отпустил ли ручной тормоз. Ну, побуду еще немножко, еще минутку, еще один взгляд…
В зеркало теперь ничего видно не было. Он перегнулся через правое сиденье, приоткрыл дверцу и стал никак не маскируясь, глядеть назад.
Свадьба садилась в машины. Людей было много, они заняли, вероятно, пять или даже шесть машин. Дверцы хлопали и хлопали, тусклые щелчки напоминали долгий, но почему-то неровный разбег спортсмена в кедах, готовящегося к прыжку, — кеды великоваты…
Возгласы, смех, все это без него — что ж, сам виноват… Вот промелькнули несколько человек постарше, среди них как будто жена… А кто же это рядом с ней, высокий, широкие плечи? А-а, муж ее младшей сестры. Дружок ты мой милый, теперь ты и за дядю и за отца остался…
Заводят двигатели, трогаются, сейчас мимо поедут. Не желая, чтобы его заметили — подглядывающий всегда смешон, — он совсем отвернулся к тротуару и пригнулся вниз, словно исправляя что-то под торпедо.
Прошелестели, набирая скорость — п-ш-ш-ш, п-ш-ш-ш, п-ш-ш-ш… Он скосил глаза, не выдержал все же, зацепил взглядом хвост «процессии». Ладно, пусть себе мчатся, пора и нам восвояси.
Эта мысль еще не ушла из головы, а одна рука уже захлопнула дверцу, другая потянулась к зажиганию, машина рванулась с места, догнала их колонну и… пристроилась в хвост. Не слишком близко, чтобы не дай бог не подумали чего, метрах так в пятидесяти — шестидесяти. Какой-то «козлик» деловито обогнал его и вклинился между ними — теперь его окончательно не видно.
Он не боялся поступков, выглядевших непоследовательными, и часто совершал их; военная юность сделала его фаталистом, он был не прочь поддаться интуиции и решиться на что-то внешне даже и нелепое в надежде на неожиданно счастливый исход. Настойчиво, как профессиональный водитель, шел он на обгон сильной, громоздкой грузовой машины с прицепом на узком шоссе или неуклюжего троллейбуса на перекрещенной плохо утопленными в мостовую трамвайными путями улице; из мозга непрерывно идет команда: «Не делай этого, опасно, опасно!», а нога, словно чужая, жмет и жмет педаль, вопреки благоразумию: не тащиться же до бесконечности сзади, глотая пыль или принимая на ветровое стекло все новые порции грязи. Он никогда не отвергал знаменитого русского «авось», и правильно делал — жил-то он в России.
Интересно, куда они теперь?
И тут же, словно отвечая на его вопрос, головная машина свернула направо, к набережной. «Ага, цветы возлагать поехали, ритуал есть ритуал… Тем лучше, места там для стоянки — полкилометра, никто не помешает мне всласть на нее наглядеться, мы с «жигуленком» под колесами у них болтаться не станем». Решение не уезжать пока домой сформировалось окончательно.
Какая она сегодня красивая…
Выехав на набережную, машины свернули налево и помчались вдоль реки. Нырнули под мостовой съезд, пролетели два квартала старинных низеньких особнячков, перескочили очаровательный горбатый мостик, миновали тенистый сад с прославленной оградой и обилием статуй за ней, еще один мостик, такой же горбатый, и вынеслись к светофору, любезно сверкнувшему зеленым глазом: на этом перекрестке не автомат, регулировщик издали заметил кортеж и сразу же пропустил, а заодно и его машину, благо «козел» давно отвалил — не мог же постовой знать, что тот, последний, примазался, хе-хе…
Левый поворот, потом еще один, в самом низу покатой, с большого моста, площади, за вычурным памятником, на редкость не соответствующим человеку, в память о котором он поставлен, — за пышными золочеными латами бога войны Марса и не менее пышными титулами, красующимися на постаменте, не разглядеть скромного русского дворянина-солдата.
Наконец, сбавляя ход, поехали вдоль огромного Поля.
Одно время оно носило название площадь Памяти Жертв Революции — там, в центре, похоронены революционеры, погибшие в годы гражданской войны. Потом ему вернули старое название — Марсово поле… Но если до революции, когда на Поле проводились военные смотры и парады, это название было оправдано — и памятник стоял тогда у вершины едва обозримого плаца, Марс лично принимал парады, — то теперь место пыльного пустыря давно уже занял гигантский, четко спланированный сквер с прекрасными газонами, цветами, сиреневыми рощами и слово «марсово» звучит как-то всуе.
Посередине Поля некрополь. Точные пропорции скромных надгробий — гранитных баррикад. На торцах высечены строчки, исполненные пафоса тех далеких рваных лет, — белые стихи, словно расплавленные здесь же, на улице, в тигле и вылитые на гранит, сохраняют для потомков поэзию только что ставшего независимым революционного слова.
Защищенный надгробиями со всех сторон, горит вечный огонь; молодые люди возлагают к огню цветы в день своего бракосочетания…
Так, вдоль Поля, вдоль Поля, направо, на длинную сторону, и далее, к середине… Обычно на свадьбах впереди идет машина с женихом и невестой, а здесь первым двигался все тот же неугомонный шафер — считал, очевидно, что в его обязанности входит не столько сопровождать молодых, сколько расчищать им дорогу. Если бы он ехал не в автомобиле, а, скажем, в легких санках или сверкающей лаком коляске, он мог бы вопить на всю улицу:
— Пади! Пади!
Или кричал бы его кучер? Все равно, это было бы грандиозно, а теперь шафер, в крайнем случае, дает слабый сигнал и его машина неодушевленно хрюкает — только и всего.
Вслед за шаферской «Волгой» стала притормаживать основная свадебная машина «Чайка»; вот громоздкий черный сундук на колесах остановился совсем. Помпезный вид, аляповатость отделки, «богатство» сверкающих деталей, логично дополненных «обручальными» кольцами на крыше, — придумал же кто-то! — какой разительный контраст лаконичным, даже аскетичным, пожалуй, устремленным в будущее, спокойным серым надгробиям, воплощению воинствующе простого кубистического искусства революционной поры.
«Словно символы разных эпох», — с грустью подумал он.
За «Чайкой» одна за другой останавливались остальные машины, и он, не желая выглядеть примазавшимся к чужому счастью, вышел во второй ряд, прибавил скорость, обогнал всю колонну, слегка отворачивая влево лицо, и остановился только метрах в семидесяти впереди.
Я обретал ее, но и утрачивал одновременно все те двадцать лет, что мы были вместе.
Воспитанный по-спартански, я часто бывал нарочито строг с ней; кому-то надо было уравновешивать влияние многочисленных родственников и знакомых постарше, наперебой стремившихся баловать девочку — так было принято в их среде. Я никак не мог допустить, чтобы моя дочь превратилась в развязное, капризное, настырное, вечно ноющее и при этом решительно бесформенное и неуправляемое н е ч т о…
Эта нарочитая строгость, эта жесткость, если угодно, ослаблявшаяся по мере того, как она усваивала какие-то основы, на которых я настаивал, — или мне казалось, что она начинает их усваивать, — по всей вероятности, воспринималась дочкой как неоправданная и отдаляла ее от меня; какому ребенку может стать особенно близким человек, требующий чего-то такого, чего другие не требуют, вводящий в его жизнь ограничения, услышав о которых другие пожимают плечами. Я прекрасно понимал, на какой риск иду, предоставляя другим баловать ее, но мне не оставалось ничего другого, как рисковать — во имя ее будущего.
Строгость не была самоцелью. Прежде всего я стремился сделать безопасным ее существование в те часы, дни и недели, когда я не с нею; именно я был обязан подготовить ее к тому, чтобы она могла хоть с какой-то минимальной уверенностью идти навстречу разным случайностям с самых крошечных своих лет — мы были вынуждены иногда оставлять ее одну, да и, в принципе, не хотели ущемлять ее самостоятельности, развивать которую тоже надо было с первых шагов. В детском ли саду, в школе, в пионерском лагере, на летних полевых работах в старших классах, на спортивных сборах, просто во время выездов за город — всюду случайностей было не перечесть, и я хотел, чтобы она устояла перед ними в с е м и, ибо случайности тем и характерны, что не совладать с одной часто бывает достаточно, чтобы…
Интересно, вспоминает ли эту эпоху она сама, и если вспоминает, то как? Скорее всего, ей мыслится что-то малоприятное, но неизбежное — надо было через это пройти… А может, еще рано, может, она вспомнит детство позднее, когда меня не будет уже не только в ее жизни, но и совсем и когда ей самой придется тревожиться о своем малыше?
Не исключено, ох не исключено, что она держит на меня сердце за то, что я редко баловал ее, что отпускал, бывало, подзатыльники — как я казнил себя, не сдержавшись, она знать не может, да это и не важно, факт есть факт, образцовым воспитателем я не был, — за скромные, как правило, наряды, за то, что у нее не бывало шальных карманных денег. За что еще?
Жаль, если она сердится на меня. Очень жаль. Неужели такие безделицы могут перевесить то, что я называю нашей дружбой?
Я никогда не вмешивался в ее школьные дела, в приготовление уроков, никогда не унизил ее подозрением в том, что она сказала неправду, никогда ничего ей не запрещал, — ничего! — книги, спектакли, кинофильмы, пластинки, пленки, телепередачи, якобы не детские. Я радовался, если она проявляла вдруг интерес к стоящему джазовому музыканту, я поощрял ее внезапное увлечение любым писателем — уверен, что не бывает писателей, которых можно и которых нельзя читать детям; писатели бывают плохие и хорошие, другого разделения нет. Что с того, что девочка читает Достоевского или Мопассана? Из трагического мира одного или блистательных, хоть и фривольных подчас новелл другого она воспримет то, к чему в данный момент подготовлена; через несколько лет перечитает — воспримет другое. Возраст здесь ни при чем.
Я не позволял себе отмахнуться от волновавших ее вопросов, даже самых-самых наивных; хотел, чтобы она с малолетства чувствовала себя равноправным членом семьи, имеющим возможность поставить перед домашними любую «свою» проблему и быть уверенной, что никто не скажет — ерунда! — никто не оттолкнет небрежным — ты еще маленькая! Сотни бывших детей, выросших в совершенно другой обстановке, среди взрослых, имевших обыкновение кичиться тем, что они взрослые, ибо других преимуществ перед детьми у них не было, знают, что́ я имею в виду.
Когда мы куда-нибудь отправлялись, я вел ее, как даму, и почтительно пропускал вперед — не могла же м о я д о ч ь плестись, как щенок, где-то сзади! Правда, я требовал при этом, чтобы девочка держала себя соответственно, но разве это могло быть для нее обидно? Скорее, напротив, не так ли?
А уж чтобы я оскорбил дочь сакраментальным: «пока ты живешь в моем доме, изволь…» или: «пока ты живешь на мой счет, я не допущу…» — такого в нашей практике просто быть не могло, мне такое в голову не пришло бы, равно как рыться в ящике ее письменного стола… Я всегда уважал ее личность.
Неужели она перечеркнула все это?
«Ленинград, 19 декабря 198…
Получил твою телеграмму — спасибо, дружок, за внимание.
Вчера у меня, как всегда в этот день, была масса народу и произошла странная вещь. Ты помнишь, конечно, мой день рождения, когда у нас собралось рекордное число гостей, когда сидели тесно, кто на чем, и когда расположившийся возле самой печки гость, сидевший на маленькой табуреточке, взятой из твоей комнаты, произнося тост сидя, ибо встать он не мог, места не было, упал под стол: табуреточка оказалась расклеившейся и в этот самый момент распалась на составные части. Помнишь? Так вот вчера произошло то же самое, только табуретка не распалась — у этой железные, намертво приделанные к сиденью ножки, — а опрокинулась. Но когда гость, с рюмкой в руках, падал под стол, я вдруг увидел т о т вечер, и тебя, беззаботно хохочущую, в том самом крепдешиновом платье, которое тебе так шло, и завитую твою головку — ты же сидела совсем близко от того, кто падал в т о т вечер, — увидел так явственно, что громко позвал тебя по имени. Все на миг затихли, переглянулись, потом как ни в чем не бывало продолжали весело смеяться.
Если бы ты знала, как я мечтаю о том, чтобы ты взяла и зашла ко мне. Живу я по-прежнему один, если кто у меня и окажется, так только друзья — разве могут они послужить нам помехой?
Мне плохо без тебя, я чувствую себя калекой, словно у меня отняли часть тела, не ампутировали, а именно отняли на время, хранят где-то неподалеку, в морозильнике, но не отдают никак…
В остальном все в норме. О тебе не знаю почти ничего… То есть кое-что доносится, по мелочам — хорошо бы услышать из первоисточника.
Будь умницей, моя родная.
Обнимаю тебя.
Отец».Письмо из тех, что остались неотправленными. В данном случае помешала вторая часть: не писать совсем о том, как мерзко ему без нее, он не мог, это было бы неправдой, а написанное могло показаться ей сентиментальным.
Смягчить собственную жесткость я стремился не одним только уважением к ней, как ко взрослой, и не только тем, что систематически давал ей понять, что такую же требовательность я проявляю к самому себе — моя строгость к ней и была, в сущности, строгостью к себе, но объяснить ей это впрямую я тогда не мог: и она была слишком мала, и я сам не понимал этого достаточно отчетливо.
Еще я старался компенсировать, а то и перекрыть свой воспитательский максимализм какой-нибудь специально нашей с ней выдумкой, прогулкой, беседой, игрой «на равных» — игрой, прежде всего игрой; это было сделать тем проще, что, когда мы оставались вдвоем, внешние обстоятельства, которым я придавал обычно немалое значение, имея в виду соблюдение всяческих норм, отходили на задний план.
По утрам в будние дни я провожал ее в детский сад. Мы тихо вставали, стараясь никого не будить, тихо делали в ванной зарядку, тихо одевались — она стала одеваться сама с того дня, как оказалась в состоянии натянуть чулочки и разровнять их, чтобы пятки пришлись на пятки и еще чтобы складочки наверху разошлись, застегнуть лифчик, платьице. И постель свою она стелила сама, как только ей стало под силу поднимать в воздух одеяло, простыни, подушку, и комнату убирала каждый вечер, перед сном. За всем этим я следил неукоснительно, мне хотелось, чтобы элементарные навыки аккуратности вошли в кровь, стали привычкой; я подозревал, конечно, что стоит мне отвернуться, и начинаются отступления от заведенных порядков, но тут уж я ничего поделать не мог; надеюсь, что-нибудь да осталось…
Итак, мы вставали, одевались и выходили из дома. Осенью и зимой на улицах нашего города рано утром еще темно, сыро, неуютно. Желая скрасить моему крошечному спутнику нелегкий путь в ночи, — только что была теплая кроватка! — я смешил и развлекал ее, как мог. Мы перебрасывались на ходу словами и словечками, потешными словосочетаниями, да что потешными — уморительными. И ведь мы сами находили, обнаруживали, откапывали, сочиняли их тут же, экспромтом; наука не бог весть какая сложная: подправишь слово, сместишь ударение, заменишь букву или слог — и все звучит иначе. Или так: я медленно начинал одну особую, придуманную нами короткую фразу — я не стану обнародовать ее, пусть останется только нашей, — я начинал ее, растягивая слоги, а потом мы оба должны были «кто скорей» произнести вторую половину. Ты позабыла эту нашу игру? Ты думаешь, это разные люди — тот отец, что теперь, и тот, что был тогда?..
В один из первых «детскосадовских» годов, в самом начале зимы, на нашем пути мы увидели несколько капитально отремонтированных зданий все того же Преображенского полка. Одно из них, небольшое, двухэтажное, с приземистым крылечкам, покрасили в необычайно приятный, глубокий, густой шоколадный цвет, нравившийся нам обоим и вызывавший у нас приятные «вкусные» ассоциации, не очень осознанные, с трудом формулируемые, но именно эти ассоциации навели меня на счастливую мысль. В магазинах продавали тогда шоколадные медали, круглые, в фольге, на которой был вытиснен один из видов города, чаще всего Адмиралтейство или Медный всадник. Возвращаясь домой, я купил несколько таких медалек, а утром на следующий день взял одну из них с собой. Дойдя до «шоколадного» дома, я предложил дочке отломить для нее кусочек вкусной шоколадной стены — мы все это время играли в то, что дом не может быть сделан ни из чего другого, только из чистого шоколада, впрочем, было еще какое-то дополнительное условие: кусочек стены должен был служить наградой за победу в игре словами, кажется, — я сейчас толком уже не помню.
С совершенно понятным недоумением ребенок согласился, и я, постукивая по стене, незаметно вытащил из кармана медальку, содрал фольгу, разломал шоколад на кусочки и подал ей на ладони. Было темно, дочка была еще так мала, что провести ее не составляло труда. Ошеломленная тем, что явно невыполнимое обещание оказалось все же выполненным, она недоверчиво попробовала один «обломок», потом с удовольствием съела все.
Допытываться до сути превращения штукатурки в шоколад она не стала, само это действо — отламывание кусочка стены — вошло у нас в привычку, и мы не с таким уже тяжелым сердцем пускались в путь по утрам, твердо зная, что на мрачном нашем пути нам обязательно встретится сказочный домик. Она скоро догадалась, конечно, что это была лишь игра в сказку, но охотно эту игру поддерживала.
Впрочем, почему «лишь»? Разве игра — не самое высокое, что способно объединять людей, не требуя у них ничего взамен?
Интересно, помнит ли она, как дружно преодолевали мы этот рубеж, а потом и несколько других рубежей, посложнее?
Помнит ли, например, с каким увлечением я учил ее ходить на лыжах, как постепенно увеличивалась высота горок, с которых мы съезжали, хоть она сперва и трусила отчаянно, — и научил ведь; она стала передвигаться по пересеченной местности гораздо устойчивее, чем я, и, что самое интересное, гораздо бесстрашнее: я только ради нее — опять: делай, как я! — прикидывался, что не боюсь съезжать с гор, ради того, чтобы она не боялась тоже.
Заметив, что мы становимся на лыжи, за нами часто увязывался огромный черный ньюфаундленд, совершенно ничему не обученный и добродушный. Ухватив его за ошейник, мы неслись, подгоняя друг друга, по поджаренной весенним солнцем снежной корочке на Финском заливе чуть ли не со скоростью буера, и я ощущал себя властелином природы — без всякого усилия преодолевал я целые секторы земной поверхности, — а дочку конечно же наследницей трона.
Вместе с тем ей следовало уже сейчас научиться уступать лыжню встречному; то есть не всю лыжню, половину, так, чтобы по ней проходила левая лыжа одного и левая лыжа другого. Летом я так же тщательно приучал ее не бояться воды и делал это с еще бо́льшей уверенностью, уж воды-то я и сам не боялся ни чуточки. И она стала отлично плавать, и это пригодилось ей в пионерских лагерях, там достижения в спорте — бесспорный авторитет. И снова она обогнала меня, научившись плавать так здорово, что я оставался далеко позади, и я не злился на нее, а радовался — ведь это же я обгонял самого себя, не кто-нибудь! Втихомолку радовался, не вслух, ни в коем случае не вслух.
Я хотел, чтобы она научилась преодолевать любой страх и стала как можно раньше самостоятельным и свободным от предрассудков человеком. Разве не должен был я как-то передать дочке свой военный опыт — опыт встречи чуть ли не со всеми ужасами, к тому времени изобретенными? Обязан, не так ли? Старинное «тяжело в ученье — легко в бою» — а ей бывало и тяжко, но все это были трудности на полчаса, — никогда не потеряет своего смысла, какими бы изнеженными ни делались люди.
Во всяком случае, не потеряет смысла для тех, кто в тяжелую для народа годину не уклоняется от боя.
Лет одиннадцати она впервые сопровождала меня в дальней автомобильной поездке. Каким великолепным штурманом она оказалась, как спокойно и рассудительно, с каким достоинством ориентировалась в десятках непривычных обстоятельств, создающих вместе ритм жизни большой, перегруженной транспортом автомагистрали, как весело следила за тем, чтобы я не задремал за рулем, как хозяйственно хлопотала в кемпингах, где мы ночевали… В том, что она хладнокровно и точно вела себя в ситуациях, в которых десятки взрослых женщин потеряли бы голову, я видел результат своего воспитания и гордился этим. Так ли оно было на самом деле — почем знать? Может, попросту сказались качества, унаследованные ею от далеких предков…
По мере того как она росла, мы стали преодолевать и кое-что посложнее, чем боязнь высоты, или воды, или пространства. Однообразную унылость тех предметов, по которым ей в школе попадались дурные педагоги, например. Учитель литературы оказался в их числе, как это ни грустно; воспринимая свой предмет как некую комбинацию авторитетных мнений и категорических штампов, он предлагал детям употреблять в устных ответах и сочинениях исключительно заготовленные им самим формулировки, списанные, как правило, из самых примитивных учебников. Раз за разом помогал я ей справляться с робостью, с какой скромные дети относятся обычно к возникновению у них собственной точки зрения, идеи, теории, справляться с боязнью высказать свое мнение вслух — как же, оно может показаться смешным…
— Ну и что? Пусть кому-то покажется.
Она начала играть на рояле, училась дома понемножку, потом мы заглянули как-то в музыкальную школу, где нам деликатно дали понять; что у нас неладно со слухом, и я не стал настаивать на продолжении занятий. Цель была достигнута: она освоила азы музыкальной грамоты, музыка не могла уже превратиться для нее в «терра инкогнита», она получила хоть какое-то противоядие, хоть самую примитивную прививку против эпидемии пустых эстрадных «шлягеров», принижающих и развращающих человека.
Я постоянно брал ее с собой в театр. И вечерами — как только ее стали пускать на вечерние спектакли, — и днем, на генеральные репетиции, куда меня иногда приглашали. Я считал, что знакомство с только что, на глазах рождающимся спектаклем и мои комментарии — важнее для девочки, чем лишний день в школе; неписаное правило: посещение театров не должно сказываться на занятиях — было провозглашено с самого начала, и больше мы к этому не возвращались, повода не было. Недрогнувшей рукой писал я записки, сообщая классному руководителю, что такого-то числа она пропустила школу по болезни…
В изящной драматической сказке Федора Сологуба «Ночные пляски» действуют двенадцать дочерей короля. Отец похваляется:
«Вот эта — самая красивая.
А эта — самая румяная.
А эта — самая белая.
А эта — самая добрая.
А эта — самая нежная.
А эта — самая ласковая.
А эта — самая милая.
А эта — самая послушная.
А эта — самая веселая.
А эта — самая грамотная.
А эта — самая мудрая.
А эта — самая хитрая».
За свою жизнь наш герой перебрал чуть ли не все эти идеалы. Начал еще мальчишкой, в школе, с Самой Красивой. Потом была Самая Нежная, считавшая его неисправимым мечтателем. Потом были и Милая и Веселая — а как же! Самых Грамотных было несколько — поветрие века, — были и всякие другие, вплоть до Самой Мудрой, ставшей его женой и матерью его дочки, но только к пятидесяти годам он понял наконец, что всю жизнь бессознательно ждал Самую Добрую — и вот тогда он ушел из дома.
Он не оставался один, в его жизнь продолжали входить женщины, одни — деликатно постучав, потупя взор, другие — толчком распахнув дверь, поддергивая на ходу брюки, но ни одна из этих женщин не осталась в его жизни насовсем.
Почему?
Потому ли, что доброта казалась им чем-то слишком уж наивным и несовременным, слишком несоответствующим тому пониманию любви, в каком их воспитали; искусство наших дней из кожи вон лезет, отгораживаясь глухой стеной от реально происходящих в каждом человеке, частице природы, процессов, навязывая читателям и зрителям вместо этого некие умозрительно выработанные стандарты, в том числе идеал любви, сконструированный то ли отшельником, то ли лицемером, то ли попросту заклятым врагом рода человеческого.
Или потому, может быть, что в каждой вновь входившей он подсознательно искал некое подобие любимой дочери — как когда-то в молодости надеялся, что любая женщина будет с ним так же ласкова, как была мать? С трепетом вглядывался он в лицо, гладил покорные вроде бы волосы, вслушивался в биение сердца…
Тщетно. Ни одна из незнакомок не была готова к тому, чтобы заменить ему дочь-подругу; он задыхался от тоски по ней.
Раньше другие силы придавали ему необходимое ускорение: верность долгу, жажда успеха, самолюбие, необходимость заработать денег. Теперь все это ушло, с ним оставалась только тоска.
Как ни странно, тоска оказалась столь могучим стимулом, что за несколько лет разлуки с дочерью ему удалось свершить чуть ли не больше, чем за всю предшествовавшую жизнь.
Когда она подросла, расцвела, превратилась в девушку, я полюбил делать ей подарки, теперь уже не слона или куклу, не игру какую-нибудь бессмысленно-замысловатую, а ж е н с к и е подарки. Если в годы ее детства я настаивал на подчеркнутой скромности ее нарядов, теперь я своими руками разрушал этот круг. Балуя ее — балуя самого себя, — я не боялся, что у нее закружится голова; основа, мне казалось, была заложена.
Я часто ездил в научные командировки за границу и каждый раз привозил что-нибудь сногсшибательное для нее. Я делал подарки и жене, и себя не забывал, разумеется, и родственников, и близких друзей, но то, что я привозил нашей девочке, бывало труднее всего разыскать. Наимоднейшие сапоги — наша промышленность осваивала что-либо подобное год-полтора спустя, — свитерочек какой-нибудь «попсовый», французские духи, крохотный складной зонтик — такого не могло быть еще ни у одной подруги…
Мне доставляло безмерную радость наблюдать, как загораются глаза дочки, когда мы вместе принимались разбирать в утро моего приезда чемодан — для нас обоих дело было не столько в ценности или практичности подарка, хотя и это не сбрасывалось со счетов, сколько в самом факте вручения мною ей чего-то, доставлявшего ей удовольствие. Совсем так же постанывали мы от восторга, отламывая кусочек «шоколадной» стены в далеком детстве.
В это же примерно время она стала занимать все более прочное место в обществе, собиравшемся у нас дома. Я видел, как интересна ей острота наших споров, как пробуждают они ее, словно спящую красавицу, как тянется она к каждому свежему человеку в ожидании свежих мыслей или хотя бы слов, как умеет при этом оценить ум одного, веселье и общительность другого, непримиримость третьего… Долгими субботними вечерами на даче, когда часть гостей оставалась ночевать и застолье и беседы наши затягивались далеко за полночь, я всегда оставлял дочке свободу выбора: интересно — сиди с нами, скучно — беги спать. Чаще всего она оставалась до конца; со временем я стал просить ее об этом, и друзья присоединялись, все до единого, — таким приятным, таким интересным и необходимым было для нас ее общество.
Уже тогда она стала человеком, отсутствие которого не остается незамеченным.
Вроде бы все, как надо, а я ни в чем не уверен.
Я не могу сказать, что мне не в чем упрекнуть себя.
У каждого из нас бывают кошмары, даже у тех бодрячков, что похваляются железным здоровьем и непоколебимой верой в то, что они все в жизни делали верно.
Немалое место в моих кошмарах занимают недоумения: а что, если мой нажим на хрупкое, юное существо был слишком настойчивым? Что, если я невольно препятствовал свободному и непринужденному развитию ее склонностей, способностей, талантов? В чем-то способствовал, но в чем-то и препятствовал в то же время. Выводя девочку на широкую дорогу, не увел ли я ее с той единственной тропинки, которая только и могла привести к вершине — творческой, служебной, семейной, какой угодно еще е е вершине?..
Ответа на эти недоумения, очевидно, не существует, ибо проверить, «что было бы, если бы», в данном случае невозможно. И все же сомнения грызут меня потихоньку: если все это хоть отчасти так и, главное, если она ощущает сейчас, что в ее детстве были нарушены какие-то драгоценные соотношения, свойственные т о л ь к о е й о д н о й, — тогда это непростительно, конечно.
Стертая фраза: я воспитывал ее, как умел, примерно так воспитывали меня самого — оправданием служить не может.
Как часто человек, не желающий больше существовать под тончайшей пленкой лжи, оказывается беззащитен и без суда и следствия провозглашается преступником. Ложь — словно особого рода костюм, купленный по знакомству, словно облегающее трико из прочной, шелковистой ткани; натянув его, легко выскользнуть из самой двусмысленной ситуации: за тебя же не зацепиться, ты ужом вьешься, — обвинения, справедливые и нет, так и отскакивают… Ну а если кто и заметит, что ты прилгнул, он, скорее всего, простит тебе этот грешок, он и сам держится тем же, сам изворачивается и привык считать это нормой; все, кто лгут, независимо от занимаемого положения, неизбежно становятся сообщниками — одним миром мазаны. Люди честные — разобщены, те, кто преступает черту, — солидарны.
Но стоит тебе сказать — баста! — стоит смыть решительным движением пленку, стащить с себя и выбросить душное трико, в котором тело совсем не дышит, стоит с гордостью подумать: «Теперь-то я наконец…» — как немедля обнаружится, что единственное, чего ты реально достиг, став праведником, это то, что теперь ты как-то особенно уязвим, что тебе легко могут приписать любое злодеяние местного масштаба, любое надругательство над святыней, любую ошибку, любое отражение чужой ошибки, что, не дав тебе не то что оправдаться, а просто рта раскрыть, на твой счет заносят недоразумения, в которых ты повинен ничуть не больше, чем противная сторона. Оправдаться удается в одном случае из десяти, не чаще, да и то нечто этакое всегда останется — обрывочки, обрывочки липкой паутины, — даже в памяти друзей останется, о всех прочих и говорить нечего: за-фик-си-ро-ва-но!
Слова правды слишком часто звучат менее правдоподобно, чем слова лжи…
Ему повезло: мало кто из друзей осудил его за уход из дома, хотя кое-кого он все же недосчитался. Другие, напротив, стали оказывать ему больше внимания. Были и такие, что втайне завидовали ему, свершившему то, на что они сами никак не решались; эти приглядывались, теребили его, расспрашивали, их все интересовало в его одинокой жизни, он стал для них чем-то вроде подопытного кролика. Друзья, одинаково близкие и с ним, и с его женой, несмотря ни на что, лелеяли надежду, что он вернется в семью и тогда их дом вновь обретет былую силу, и славу, и уют.
Чудаки… Они не понимали, что исполненные достоинства и взаимного доверия отношения, существовавшие в этой семье раньше и придававшие ей прочность, требовали особой точки отсчета, исключавшей компромиссы. Они не могли знать, кроме того, что эта точка отсчета была заведена еще отцом его жены, человеком во многих отношениях незаурядным. Широта взглядов и деликатность тестя создавали в его доме такую удивительную атмосферу доброжелательности и сплоченности, что воспитание дочерей осуществлялось как бы само собой; ни в каком особом «давлении», ни в придирчивой строгости не было нужды.
Когда он впервые появился в доме тестя, младшая сестра его будущей жены училась еще в школе. Умница, спортсменка, мастерица на все руки, она отличалась обостренным правдолюбием, что доставляло ей немало неприятностей во «внешнем мире», а также крайней застенчивостью. Она без памяти любила старшую сестру, а к нему долго исподволь присматривалась; она не сразу и не просто сходилась с людьми.
Шли годы. «Младшая» кончила школу, естественный факультет университета, вышла замуж, оказалась прекрасной матерью семейства и хозяйкой, но и о науке не забывала; как и у отца, у нее на все хватало времени. После смерти родителей сестры сплотились еще более; жили они теперь раздельно, но несколько месяцев в году обязательно проводили вместе — на оставленной отцом даче.
Когда в семье «старшей» произошел взрыв, виновнику катастрофы, помимо прочего, грозило молчаливое обвинение в измене памяти тестя — кроме всего, еще и это испытание. Уходя из дома, он как бы поднимал руку на их общую святыню. Между тем…
Между тем лишь немногие из друзей, последователей, почитателей и учеников этого замечательного человека — при его жизни их было, напротив, очень много — так же долго оставались верны его памяти, как я.
Будучи неизлечимо болен и не сомневаясь в том, что конец близок, он, за несколько часов до смерти, пожелал говорить со мной с глазу на глаз. О чем мы тогда говорили, я не рассказывал никому, даже жене, не стану излагать это и сейчас — пусть уйдет со мной, останется неприкосновенным таинством, как те заветные словечки, которые мы с дочкой шептали когда-то друг другу. Замечу только, что, когда я вышел от него, по лицу моему ручьем текли слезы — я не смел утирать их, сидя рядом с его кроватью. В полубессознательном состоянии сделал я несколько шагов по широкому коридору клиники — кафельный пол был там, шашечками, я видел только пол, — и очнулся лишь, когда дежурный, врач, ни на шаг не отходивший от дверей палаты, где умирал его учитель, догнал меня и вложил мне в руку марлевую салфетку.
Десять лет после его смерти, десять достаточно долгих лет я шел по тропинке, по которой приноровился уже двигаться за ним следом, шел мерной, твердой поступью, никак не сомневаясь в правильности именно этого направления, охотно подставляя не очень уже молодые свои плечи под нелегкую, изобиловавшую острыми углами ношу: сложности, которые тесть благодаря его положению решал играючи, требовали от меня подчас немалых усилий.
Имею ли я право считать, что я, таким образом, хоть отчасти выполнил то, что обещал ему?
Все эти десять лет я, если было нужно, хладнокровно отбрасывал в сторону самолюбие, затаптывал его, как тлеющий окурок, хотя и рисковал при этом тем, что разменяю нечто такое, что разменивать ни в коем случае не следует, и тем еще, что уважение ко мне кое-кого из знакомых, а также моей подрастающей дочери станет на несколько градусов меньше. Знакомые меня, правда, никогда особенно не волновали, что же касается дочки, то мне тогда казалось, что у нас с ней уйма времени впереди и мы успеем восполнить урон.
Как должное, спокойно воспринял я то, что на дверях квартиры тестя, в которой мы продолжали жить и после его смерти, все эти десять лет висела медная пластинка с выгравированным на ней именем моей супруги — она сохранила девичью фамилию, словно знала! Пластинка эта была собственноручно привинчена на место прежней, с именем тестя, матерью жены, властной женщиной, глубоко убежденной в том, что я — фармазон и узурпатор, замышляющий покушение на ее гнездо… Моего имени на дверях не значилось.
Я жил в этой квартире — и не жил там. Я был неким бесплотным духом, старательно пытавшимся поддерживать заведенные и м порядки в огромном, слегка запущенном жилье, уставленном и увешанном музейными редкостями. Я был хранителем этого музея. Я был подпоручиком Киже, ч и с л и в ш и м с я в списках гвардейского полка; десять лет я нес караул на посту, мне доверенном, и нес вроде бы достойно.
Я занимал место покойного тестя за обеденным столом, но как бы и не занимал его в то же время: и его супруга, пока она была жива, и многие друзья е г о дома, и жена моя, да, вероятно, и дочь видели не меня, а подлинного хозяина этого места — тут же, в застекленной горке, за моей спиной, стояла чашка с его портретом и его любимая пепельница, пользоваться которыми никому не разрешалось… Не подумайте только, что я был в претензии, вовсе нет, это было в порядке вещей, я сам воспринимал свою роль именно так, а не иначе, и был совершенно ею доволен.
Я и сейчас ни о чем не жалею: надо, так надо.
Были, впрочем, люди, в присутствии которых я на время переставал быть лишь силуэтом, значившимся на чужом месте, обретал плоть и кровь; т а к видели меня, помимо немногочисленных лично моих друзей, в этот дом допускавшихся, младшая сестра жены и ее муж, а также одна старинная приятельница и поклонница тестя, много повидавшая на своем веку женщина, бывшая смолянка — она лучше меня ощущала сложность ситуации (хорошее воспитание обостряет проницательность) и была исключительно внимательна ко мне.
Трудно определить, сказалось ли мое двусмысленное положение в «нашем» доме на моей работе, на всем моем облике, на полноценности моей духовной жизни, — полагаю, не могло не сказаться. Но на завершающем этапе того крутого поворота, с которого все и началось, оно сыграло немалую роль.
Я не просто ушел из дома — я ушел из дома, который никогда моим не был, какую бы видимость семейного очага мы с женой ни пытались создать.
А все же никуда не денешься: уходя из дома, он поднимал руку на их общую святыню — уже тем хотя бы, что посмел оставить пост, с которого его никто не сменял. Это он-то, у кого продолжались встречи во сне с покойным тестем, и каждое такое «свидание», каким бы мимолетным и странным оно ни было, вновь звало к открытому отношению к жизни, давало заряд бодрости.
Стоит ли удивляться, что для него было особенно важно понять, как поведут себя по отношению к нему младшая сестра жены и ее муж, давно уже ставшие для него родными, а также их дети — все они росли у него на глазах, и он привык, с их младенчества, считать их и своими детьми.
Сохранив и даже развив за эти годы правдолюбие, определявшее собой многие ее недвусмысленно резкие поступки и высказывания в отрочестве, «младшая» не стала бы церемониться, если бы, оскорбившись за любимую сестру, и за память об отце, которую она хранила особенно искренне и беззаветно, сочла нужным порвать с ним; ни муж ее, ни дети не посмели бы в этом случае восстать против ее воли. И если бы все эти дорогие его сердцу люди отвернулись, если бы и этот огонек погас, смыкая окружавшую его тьму, это означало бы одновременно — для него означало бы, — что его осудил и тесть; это удвоило, утроило бы силу ответного удара.
Когда же «младшие», все пятеро, по-прежнему радушно открыли на его робкий звонок дверь своего жилища, он испытал благотворное потрясение, часто знаменующее собой выход из кризиса. Его словно поддержали под руку в тот момент, когда, оглушенный и отчаявшийся, не ведая, что творит, словно в страшном сне, он пускался в путь по шаткой доске, проложенной над бездной.
Его поддержали, и перед ним вновь раскрылась вся неоднозначность, вся бесконечная сложность бытия, долгие годы скрытая добровольно нацепленными в довоенной юности шорами, упорно мешавшими заглянуть в глубину и различить достоверную, подлинную сущность вещей и явлений, скрытую за внешней окраской.
Его поддержали и помогли ему вновь поверить в себя в этот лихорадочный, этот безумный период его жизни.
Строгость и стойкость и одновременно терпимость и милосердие, заложенные в сознание дочерей тем отцом, перед которым и он преклонялся, по-разному преломились в тяжком испытании. Он не смел упрекнуть жену в том, что она навсегда закрыла перед ним дверь их бывшего дома, что ему не было разрешено теперь традиционно отметить вместе со всеми, кто помнил тестя, его день рождения, — и даже зайти поздравить дочь! — и он восхищался благородством ее сестры, так естественно и так щедро давшей ему возможность заглянуть в тайники простой и чистой души.
Надо прожить целую жизнь, чтобы понять, как редко встречаются на нашем пути такие тайники — и как бездумно подчас пренебрегаем мы ими.
Приезжая к «младшим» на их семейные праздники — каждый раз с таким расчетом, чтобы не повстречать там жену и дочь и не потревожить их покой ненужным осложнением, — он входил в заваленную детскими вещами квартиру с таким чувством, с каким истинно верующие входят, вероятно, к своему исповеднику, надеясь и на этот раз получить отпущение грехов.
Чего, собственно, я сюда примчался? Увидеть ее еще раз? Или… или, быть может, для того, чтобы воскресить в памяти, как столько-то лет назад я шел, я летел по дорожкам этого самого Поля счастливейшим из смертных?
Да… Сегодня мне такой допинг не повредит, пожалуй.
Стояла белая ночь, ее класс праздновал окончание школы и гурьбой возвращался от реки. Я двигался впереди маленькой ватаги, и под руки меня держали с одной стороны восхитительно красивая и умная девушка, моя дочь, а с другой — самый яркий, самый веселый парень в классе, и я был счастлив великим счастьем.
Дочка взяла важный рубеж, и взяла неплохо, я вроде бы тоже завершил что-то очень важное, какой-то этап своей жизни, целиком прошедший под знаком ее близости, ее присутствия рядом, на душе у меня было светло и радостно, словно это не они, а я сдал наконец все экзамены. Для ее товарищей и подруг я оказался чем-то вроде точки опоры, пусть на одну только ночь, но ведь остальные родители давным-давно или отстали поодиночке и ушли спать, или плелись где-то далеко в хвосте. А я не мешал ребятам — я знал это точно, — и шел я во главе отнюдь не по праву взрослого, которому кем-то поручено идти впереди, а по их собственному одобрению и выбору.
«Прикрепленная» на эту ночь к классу учительница тоже двигалась где-то сзади; директор школы поручила ей отвечать за все происходящее, но контролировать поступки трех десятков сумасбродов, вышедших уже фактически из ее подчинения, она едва ли могла. К счастью, этого и не требовалось, ибо я, полностью безответственный в тот вечер, спокойно и уверенно вел ребят за собой сквозь джунгли «выпускной» ночи. Они чувствовали себя со мной свободно, не стеснялись и пели какие-то хрупкие, исполненные жажды свершений свои песни, и моя дочь, мое будущее, была рядом, и тоже ощущала себя на равных со мной.
Она всегда себя так со мной чувствовала — могла так чувствовать. Я не имел привычки подчеркивать свое превосходство или ссылаться на пресловутый родительский авторитет. Напротив, как только я угадал в ней созревшую уже способность мыслить самостоятельно, я сделал все, чтобы стушеваться, я стал подыгрывать ей в духе одного из самых любимых моих литературных героев — бравого солдата Швейка, я почти никогда не выкладывался перед ней полностью, сознательно оставляя резервную зону; она может очень пригодиться как для отступления, так и для наступления.
Я повторяюсь, кажется, что поделаешь, мысли перескакивают, смешивают в кучу все происходившее тем летом. После выпускного вечера праздновали еще ее день рождения, и чуть ли не весь класс явился к нам на дачу — или это было за год до того, когда они кончили девятый? Ах, какой это был день, какой волшебный день, всем было тогда весело, — смею думать, даже больше, чем весело, всем было одинаково хорошо, отлично, все замечательно чувствовали себя на этом празднике, неожиданно затянувшемся до глубокой ночи, и я был его душой. Пусть это смешно, я горжусь этим.
Честно говоря, мы рассчитывали на один только обед. Приедут дети, погуляют, покупаются, поиграют в пинг-понг, потом пообедают и уедут. Так все и шло, сели обедать, а к обеду были заготовлены разные напитки — море безалкогольных, и сухое вино, и немного шампанского, и, как всегда, приличный запас хорошо настоянной по рецепту тестя водки. И когда мы все, хозяева и гости, взрослые и эти птенцы, вперемешку, человек двадцать пять, не меньше — своих малышей «младшая» устроила за отдельным столиком, — когда все мы сели за огромный, до последнего миллиметра раздвинутый стол, выяснилось, что мои дорогие мальчики и девочки вовсе не прочь выпить по рюмке водки, а безалкогольные напитки воспринимают лишь как средство утоления жажды.
И я налил им нашей вкусной, чистой, без сивухи водки — да не осудят меня строгие моралисты; мы с тестем нисколько не сомневались в том, что напиток этот не может повредить русскому человеку, если он приучен потреблять его в меру, если он в о с п и т а н — то есть заранее, в семье, подготовлен к тем искушениям, которые готовит ему его завтрашняя взрослая, самостоятельная жизнь.
Не тревожьтесь, мои действия не были бесконтрольными, много водки я им не дал — рюмки по две девочкам, рюмки по три ребятам, да и рюмки у нас на даче были крохотные, из очень толстого стекла, я привез их когда-то из Чехословакии. Но этой скромной порции оказалось достаточно, чтобы подчеркнуть их равноправие и поднять настроение, чтобы в каждом из них вдруг проклюнулась индивидуальность, и те, кого мы еще утром скопом называли «детьми», превратились, как по мановению волшебной палочки, в маленьких мужчин и маленьких женщин, и сидевшую рядом со мной Люську, которую со второго класса у нас в доме все звали Люськой, мне показалось необходимым называть Людмилой Павловной. И покраснела же она!
Словом, после обеда собравшаяся в тот день компания сплотилась настолько, что никто не уехал, все остались, чтобы еще побыть вместе, и снова гуляли, и купались, и играли в волейбол, и как-то спонтанно возникло ощущение, что необходим такой же веселый и дружный ужин, и спешно был организован поход в магазин за продовольствием, и был ужин, и опять никому не хотелось уходить, и лишь глубокой ночью мы с дочкой провожали всех на станцию к последней электричке, и светила луна, и бренчала гитара, и шутки и смех, как росой, забрызгивали придорожные кусты, и соловьи откликались как-то особенно охотно и лихо, и один парнишка — единственный, за кем я не уследил, — танцевал всю дорогу лезгинку, стараясь держаться все время спиной к станции и лицом к нам…
Счастье, звонкое счастье… Попробуйте добиться такого равенства со своими детьми и их сверстниками — и вы обретете уверенность в том, что семья ваша будет существовать вечно, и вы вместе с ней.
Нет, все-таки я по праву гордился собой и тогда, в ту ночь, когда мы, почти в том же составе, летели по дорожкам вот этого самого Поля, и я тоже был безмерно счастлив.
Ах, если бы, часто думал я потом, если бы в тот раз случилось что-нибудь такое, что положило бы неизбежный конец всему, — ну, скажем, кто-то из «детей» свалился в воду, пока мы следили за разводившимися в светлое небо мостами и напевали что-то невнятное; если бы кто-то упал в воду, и я кинулся бы спасать его — а кинулся бы непременно, ведь в душе я отвечал за каждого из них, — и утонул бы в быстрине нашей могучей реки, как это было бы прекрасно, умереть вот так, героем, счастливым человеком, выпуская в жизнь вместо себя дочь и собственноручно передавая ей эстафету, как это было бы своевременно: красивая, в точную минуту свершившаяся смерть помогла бы избежать всего, что обрушилось на нас с ней через три года после этого вечера. Как прекрасно было бы остаться в памяти девочки таким вот всеми обожаемым и смеющимся, а не рыдающим в сторонке изгоем, одна мысль о котором вызывает теперь ее отвращение…
Мне тогда было сорок семь. Не так уж и мало, очень многие умирают гораздо раньше.
Так не за этими ли воспоминаниями я сюда мчался? Не к этому ли великому дню моей жизни тянулся я мысленно, включаясь в вереницу пестро украшенных автомашин, всем своим карнавальным видом настойчиво требующих, чтобы их впустили в некий не здешний, не нынешний — завтрашний? — мир.
Уцепился, как за соломинку…
Они возвращаются наконец. Снова хлопают дверцы, снова смех и восклицания сливаются в один тревожащий сердце напиток, щедро выплескиваемый в воздух.
Рев двигателей.
Поехали.
Прошла шаферская синяя «Волга»; он уже не отворачивался, он глядел во все глаза, боясь пропустить милое лицо… Поглощенный заботами шафер не обратил на него внимания, застывшим взглядом он глядел далеко вперед, на перекресток. Вот мягко тронулась «Чайка», машина комфортабельная, ничего не скажешь, хотя имя стремительной птицы ей мог дать только человек, хронически страдающий отсутствием юмора. Величественного вида водитель в картузе покосился на «Жигули» у обочины и бледное лицо, прижавшееся к боковому стеклу, — так, от нечего делать покосился. Сейчас проплывет задняя половина колымаги, заднее отделение, «комната», где, при желании, могут расположиться и шесть человек. Она в этой комнате одна, с мужем — в этом он тоже узнал дочь, и рикошетом, узнал себя, не терпевшего фамильярности — амикошонства, говорили когда-то.
Он был уверен, что в жизни человека должны быть торжественные минуты, переживать которые следует с трепетом, со святостью в душе, и уж, во всяком случае, не отвергать их сознательно, не смешивать с буднями. Сплошная лента залихватского цинизма такой же неверный и сомнительный путь, как и безграничная сентиментальность: что за радость брести всю жизнь вдоль дороги, по обеим сторонам которой, на полях, обильно разложены удобрения?
Да, вот и она. Сидит выпрямившись, а муж слегка развалился на широком сиденье. Оба молчат. Она сидит справа; вслед за водителем «Чайки» она машинально поворачивает голову, бросает взгляд на машину у обочины, видит и узнает его.
Дочь увидела его, не отвела глаз, не выразила удивления, не возмутилась тем, что он прокрался сюда без ее ведома. Правда, она и не кинулась останавливать машину, только еще набиравшую скорость… не указала на него мужу… не кивнула ему.
Она не сделала ничего.
Она взглянула на него, как взглянула бы на картину или фотографию — допустим, знакомую картину, знакомую фотографию, — и проплыла мимо.
Но она не выразила негодования по поводу его присутствия здесь, вот что было важно.
Как это мало — и как это много.
Она бросила на него один-единственный взгляд. Она узнала его, в этом не было сомнения. И ему показалось, что, узнав, она не разгневалась.
Более того, ее взгляд стал задумчивым.
Он не обещал ничего конкретного, этот взгляд, о нет… Он просто на миг стал ужасно похожим на взгляд его матери — те же глаза, та же ирония с грустинкой… Но именно эта ирония показалась ему самым добрым предзнаменованием, на какое он мог сегодня рассчитывать, именно задумчивость вселила в его сердце надежду. Когда он был маленьким, мать смотрела так, прощая ему очередную проказу.
Дочь не отвергла его безусловно и категорически — за последние годы это стало правилом, — ее взгляд отдаленно выразил готовность разобраться, наконец, в сути дела, поразмыслить.
Как раз то, о чем он так мечтал.
Чему он обязан такой переменой, он не знал. Скорее всего, тому, что она переживает необычайно ответственную минуту — для нее ответственную. Ей предстояла встреча с тем единственным в жизни природы таинством, с которым впрямую она еще не сталкивалась, о котором имела представление лишь по книгам, по рассказам «все познавших» — а книги пишут об этом поверхностно, а «все познавшие» часто врут.
«Она — очень серьезная девочка, — думал он. — Собственный опыт всегда означал для нее бесконечно много. Если она и эту ступеньку воспримет серьезно, а не просто как безделицу, может быть, тогда она поймет, наконец, и меня? Ведь она же хотела понять меня все это время, н е м о г л а н е х о т е т ь, как же иначе, она же все-таки моя дочь, она — это я в какой-то степени! Конечно, она хотела меня понять, хотела найти повод для оправдания моего предательства или хотя бы для прощения, для помилования, как можно сомневаться в этом… Неужели нынче что-то сдвинется с мертвой точки?»
Надежда забрезжила в его сморщенной, как пергамент, душе.
И в тот же самый миг другая мысль заставила его вздрогнуть. А что, если ее взгляд означает попросту, что острота и напряженность их отношений для нее уже сгладились, перешли в… безразличие? Теперь она не б р о ш е н а, теперь рядом с ней другой мужчина, она его любит… Своя семья — свои заботы… Да и время, время сыграло, конечно, свою роль, и теперь она гораздо спокойнее, но и равнодушнее реагирует на его существование, и это вполне естественно.
Каков же вывод? Выйдя замуж, она никогда уже не сможет вновь стать ему такой близкой, как прежде, — напротив, она окончательно отступит назад и прочно станет в шеренгу симпатизирующих ему и з д а л и людей…
Так. Только так. Это неизбежно.
Хорошо бы равнодушие и приглушенность ее реакции относились только к нему, не проникли глубже в ее жизнь; недаром, кажется, его насторожил этот помпезный свадебный обряд — такая, какой он ее помнил, какой он ее растил, его дочь никогда не дала бы согласия на весь этот маскарад, она скромно зарегистрировала бы свой брак в районном загсе и так же скромно собрала бы дома лишь самых, самых близких…
Его бы и туда не пригласили.
Или для нее это просто дань моде — может, семья жениха настаивала? Некая поверхностная процедура, не затрагивающая ее особенно глубоко? Проще отбыть номер, чем спорить… Хорошо, если так… Вид у девочки, во всяком случае, отрешенный.
Значит, она никогда уже к нему не вернется… разве что… разве что с мужем не заладится, и тогда он вновь понадобится ей… Эту мысль он отогнал так же мгновенно, как она возникла.
Вздохнул, отвернулся, стал глядеть на Поле.
Дождавшись, когда свадебный кортеж скрылся из виду, он тронулся с места, сразу же развернулся и не торопясь поехал в обратном направлении.
За время стоянки он заодно продумал свой новый маршрут.
НЯНЯ
Я нахожу, что все крупнейшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек.
Монтень, «Опыты»
Детей я люблю все больше — с годами, и думаю, что мы — взрослые — должны бояться влиять на них. В детях — самое священное.
Александр Блок
I
Мою няню звали Ефросинья Францевна Валентионок, в девичестве — Франтишка Вокалова. Она не была русской, как, впрочем, многие няни, приезжавшие в большие города из Белоруссии, Украины, Финляндии, Мордовии и бог весть еще откуда. Но она родилась и выросла в русской деревне.
Няня принадлежала к семье переселенцев, покинувших онемеченную Чехию ради славянской, богатой пашнями, гостеприимной России; в шестидесятых годах прошлого века множество чешских семей осело на Волыни, в Крыму, на Северном Кавказе. Уж такой, казалось бы, небольшой народ эти чехи, а не сиделось им на собственной прекрасной земле. Огромные фургоны чешских возчиков привыкли колесить по Европе, не оплетенной еще стальными змеями железных дорог; чешские каменщики отстраивали после пожаров немецкие города; чешские странствующие ремесленники доходили чуть ли не до Урала, а торговцы пробирались и в Сибирь; ни один крупный бродячий цирк девятнадцатого века не обходился без чехов — трубачей, униформистов, шталмейстеров.
Чешские трубы мягко звучали и в лучших оркестрах мира; выдающиеся чешские музыканты помогали мужанию нашей музыкальной культуры, — имя Эдуарда Направника, ставшего русским композитором, осталось сверкать, после его смерти, на голубом бархате Мариинского театра в городе Санкт-Петербурге, имя скрипача Франтишека Ступки значится на дверях аудитории номер девять Одесской консерватории. Чешские учителя гимнастики вовлекали в движение «Сокола» тысячи молодых людей во всем мире; изящные и легкие спортивные туфли мы поныне называем «чешками»…
Непоседливый, талантливый, энергичный народ. Я смутно помню мать своей няни, сухонькую, сгорбленную старушку с бронзовыми от крымского солнца морщинами на лице, строгую и хлопотливую, слово которой было законом для всего многочисленного семейства. Она родилась еще в Чехии, приехала в Россию молодой женщиной и всю жизнь пересыпала русскую речь диалектальными чешскими словечками; их было куда меньше в речи следующего поколения — няни, ее сестер и братьев; третье и четвертое колено, нянины племянники и внуки — своих детей у нее не было, — этих словечек не знают совсем.
Когда няня пришла в нашу семью, ей было за тридцать, а мне немногим более двух месяцев, так что описать процесс «срастания» я не могу. Судя по рассказам очевидцев, процесс этот проходил мучительно, ибо и бабушка, и мама обладали характерами достаточно самостоятельными, а бабушка привыкла к тому же, чтобы в симферопольском домике, где прошло еще мамино детство, ей никто не перечил.
У няни же на все была своя точка зрения. Кажется, несколько раз она порывалась уйти, но черноглазый малыш сразу прилип к ласковой, никогда не кричавшей и охотно подкармливавшей его козьим молоком женщине, а ей было жаль и казалось недобросовестным оставить совсем еще несмышленого мальчика на двух бестолковых интеллигенток. Словом, когда два года спустя наше семейство, уже без бабушки, собралось в столичный тогда Харьков, няня поехала с нами, покинув и Крым — «пески туманные», любила она говорить, — и всю свою многочисленную чешскую родню.
Из харьковской нашей жизни я уже смутно помню кое-что, главным же образом — катанье на служебном автомобиле отца. Машина полагалась отцу на двоих с его начальником, у начальника была дочка Лелька, постарше меня, а у Лельки нянюшка, значительно моложе моей. Вот в этой-то второй няне и был заинтересован шофер роскошной открытой машины, охотно катавший нас четверых, иначе не соглашалась дама сердца — девушки в ту эпоху были с понятием. Моя няня усаживалась со мной и Лелькой сзади, Лелькина няня — рядом с водителем, и вся компания мчалась куда-то, без умолку болтая и хохоча по каждому пустяку.
С этого весело звеневшего лета начинается мой интерес к автомобилю и, одновременно, спокойное отношение к этому символу благополучия. Есть — хорошо, нет — обойдемся, хоть я страстно люблю вести машину. Наблюдая впоследствии человека при автомобиле, собственном или служебном, — не машина для человека, а человек для машины, — я всегда жалел беднягу, мне становилось тоскливо, я вспоминал няню, входившую в харьковский лимузин с простотой и естественностью дамы из общества, привыкшей к таким пустякам.
Тогда же во мне зародилась надежда на то, что с каждым чужим человеком — шофер и его друзья, изредка примыкавшие к нам, были людьми, несомненно, чужими — не так уж трудно подружиться; достаточно улыбнуться его шутке и, по возможности, пошутить самому.
Там, в Харькове, шутила няня, а я лишь весело и далеко не всегда осмысленно смеялся, но нянин пример, многократно подтвержденный ею впоследствии, заронил зернышко надежды. Оно прорастало в моей душе, постепенно переходя в убеждение, и, хоть надежда эта оправдывалась далеко не всегда, как и всякая надежда, все же доверие к незнакомому человеку само по себе оказало мне в жизни неоценимую помощь. Ведь не каждому, далеко не каждому дано запросто сойтись с незнакомцем, а это — одна из самых подлинных радостей на свете.
Сойтись, найти общий язык — не подделаться под собеседника. Разница огромная, ее не спрячешь, не замажешь, как трещину на печке, рано или поздно фальшь обнаружится, и тогда беда — исчезнет не только дружба, но и уважение. Особенно опасно подделываться под ребенка: презирая бессмысленное сюсюканье, смышленый ребенок сразу — и навсегда! — перестает уважать фальшивящего взрослого. Если же ребенок, в виде исключения, глуп, подделываться под него и вовсе ни к чему: его надо тянуть за собой, а не становиться рядышком на четвереньки.
Моя няня разговаривала с уважением, на равных со всеми детьми — и дети обожали ее.
После Харькова наше семейство попало в большую столицу, в Москву.
В скромном с виду, но вместительном особняке на Большой Полянке родителям сдал огромную, разделенную на две комнату кто-то из популярных тогда писателей. Моя память хранит шумные сборища у хозяина, толкотню голосов за полуоткрытой дверью, минутные затишья, пока кто-нибудь один выкрикивал стихи, а затем вновь шум и гам, еще более сильные, чем прежде. Самих гостей я видел обычно утром следующего дня: приезжавшие к хозяину из других городов коллеги не раз ночевали у нас в прихожей, на сундуке, со смоченным сердобольной няней полотенцем на голове.
«Он пишет книги?..» — думал я, стоя рядом со скрюченным, стонущим во сне человеческим телом и старательно зажимая пасть шпица Тобика, норовившего не то завизжать, не то завыть, не то залаять.
Сама няня прочно оккупировала расположенную в полуподвале гигантскую кухню, — я сразу вспомнил ее, прочитав «Трех толстяков», книжку, впервые объяснившую мне суть революционного порыва. И кухню, и небольшую комнату рядом няня делила с племянницей хозяина, очень молодой женщиной по имени Тамара, гордившейся своими вьющимися волосами и мушкой на одной из матово напудренных щек. В эту Тамару я был втайне влюблен, о чем не знала даже няня; часто, сама того не ведая, она терзала мое влюбленное сердце рассказами о каком-нибудь симпатичном кавалере, возникшем в их с Тамарой поле зрения…
Моя няня была в молодости замужем, супруг ее рано умер, она часто вспоминала о нем, равно как и о своей юности в имении потомков декабриста Давыдова, где нянин чешский отец был, кажется, дворецким, а она сама какое-то время экономкой и где все было н а с т о я щ е е. Впрочем, эта причастность к «высшему свету» отнюдь не мешала няне быть душой общества в самых различных компаниях веселых людей, а также на кухнях многочисленных коммунальных квартир, которые мы с ней сменили впоследствии.
Наблюдая за ее поведением на этих кухнях, я получал первые практические уроки демократизма, точнее — бытового демократизма: выдержки, доброжелательности, уважения к чужим обычаям, потребностям, привычкам, взглядам. Именно там приобретал я первые навыки общения с той частицей внешнего мира, которую судьба вплотную придвинула ко мне.
Я часто спрашиваю себя: почему няня так естественно, так органично оказывалась в центре внимания самых разных людей? Скорее всего, в силу ее безграничного уважения к этим людям, совершенно не зависевшего от их сословной принадлежности, материальной обеспеченности или наличия у них «блата», как тогда говорили, И еще оттого, что нянино сердце было до краев наполнено добротой. Доброта и любовь ко мне, ее воспитаннику и, если хотите, сыну, не были для няни чем-то исключительным — с такой же, совершенно такой же добротой относилась она ко всем. А если меня няня любила все же чуточку больше, то вовсе не потому, что я был ей более родным, чем остальные.
Я был ее ближайшим, ее закадычным другом — вот в чем было дело.
Сейчас, когда былое с трудом пробивает себе путь сквозь думы о грядущем, сознание настойчиво, снова и снова, выделяет одно обстоятельство: няня была единственным человеком, знавшим обо мне все. Но и я знал о ней все — в меру своих лет, конечно. Мы оба дорожили этим взаимным доверием, гордились им, находили в нем отраду. Я не сомневался: няня без особой надобности не расскажет о моей проказе родителям. Но и она была уверена, что я стану нетерпеливо поджидать ее, куда бы она ни ушла.
Свесившись из огромного окна в бельэтаже на улицу, я старался как можно раньше разглядеть в толпе родную кругленькую фигурку, возвращавшуюся с рынка, и определить, по возможности точно, какое лакомство припасено для меня сегодня в заманчиво вздувшейся кошелке.
Когда в годы войны я слышал слова «столица нашей родины город Москва», в памяти неизменно возникала залитая солнцем, сравнительно тихая еще улица Замоскворечья и моя милая няня, молодо и задорно мне улыбающаяся. И я с детства понимаю, как это бесконечно важно, чтобы тебя с нетерпением ждали дома, несешь ли ты свежий калач в авоське или тяжкое горе за пазухой, и что, может быть, такая вот каждодневная радостная встреча и есть то подлинное и незыблемое, что составляет основу человеческого существования.
Несколько лет назад бросился под электричку семнадцатилетний сын одного моего зарубежного друга. Причин для гибели этого умного и гордого юноши не было никаких, поводов — множество, но я уверен: все могло быть иначе, если бы наряду с хорошим воспитанием и образованием, которые дала ему его высокоинтеллигентная семья, мальчика попросту кто-нибудь нетерпеливо ждал дома.
Что касается меня, я в детстве никогда не ждал у окна отца или мать. Честно говоря, я предпочитал, чтобы они ушли куда-нибудь на весь вечер, а мы остались втроем: няня, Тобик и я. Няня вертела в таких случаях огромный гоголь-моголь, и мы, все трое, делали что хотели — точнее, что хотел я.
Это вовсе не означает, что у меня были плохие родители, что я не уважал их, что они не были мне нужны или еще что-нибудь в этом роде. Они были порядочные, толковые люди. И они были мне необходимы для постижения каких-то духовных начал, уже потому хотя бы, что, общаясь с ними, я исподволь расширял круг своих интересов, учился не только отыскивать свою точку зрения, но и правильно выражать ее. Учился и многим, очень многим другим немаловажным вещам — держать как следует вилку и нож, например.
Ведь это мама напевала «По тихим волнам океана…», убаюкивая меня и делая русскую поэтическую речь такой безусловно моей, словно она вечно присутствовала в моем сознании, и была его частицей, и я всегда умел понимать ее; я до сих пор слышу мамину интонацию.
И все же с ними одними, без няни, я в те детские годы, скорее всего, превратился бы в неврастеника, задерганного по-женски истеричным отцом и по-мужски строгой матерью. И никакая школа или институт не помогли бы. Не может, ну просто не может расти нормальным ребенок, которому некуда время от времени уткнуть нос и выплакаться.
Растут же без няни нормальные дети?
Растут, разумеется, но тогда у них есть готовая посочувствовать и все простить бабушка, или мать, или друг-отец, или брат с сестрой, с которыми можно поделиться, — если не родные, то хотя бы двоюродные, но есть.
Моя жизнь сложилась так, что в детстве я был бы одинок, не будь со мной моей няни.
Часто меня вдохновляла только она одна.
В наши с ней дружные «вольные» вечера я, пяти лет от роду, с ее помощью выучился читать — главным образом потому, что самой няне читать было трудно.
Еще совсем недавно, еще вчера она в очередной раз «с выражением» читала мне детскую книжку, которую мы оба давно знали наизусть:
Ах, как вкусно пить на даче сладкий и горячий чай, но на этот раз иначе как-то вышло невзначай. Из-за маленькой лягушки все бегут по сторонам, как от выстрела из пушки…Здесь няня делала паузу, лукаво взглядывала на меня — и последнюю строчку мы произносили вместе:
Господа, не стыдно ль вам?!Вчера… А сегодня я читал няне вслух «Вечерку». Еще не было в помине массовых радиоприемников, не то что телевизоров, и я, — я! — преисполненный гордости, сообщал няне разные новости.
Как бы она их иначе узнала?
Так я поднялся на совершенно новую ступень — самостоятельно, отчасти ведомый нянею, отчасти чтобы помогать ей. Помню усмешку отца, когда я вызвался прочесть вслух какую-то заметку, и его пристальный, удивленный взгляд, когда я ее прочел. Я выдвинулся неожиданно куда-то ближе к родителям, только они были каждый сам по себе, а со мной была няня.
Няня свела меня однажды в расположенную поблизости церковь. Зачем она это сделала, не знаю, во всяком случае не из желания привить мне религиозность, ибо в церкви мы были всего один раз. Может, в те времена няня сама была более верующей, чем в конце своей жизни, когда, в довершение ко всему, она пережила еще и ленинградскую блокаду…
Зашли мы в церковь неожиданно, без предварительного обсуждения этого вопроса дома — отец не позволил бы. Сухонький старичок в очках, помахивая широкими складками облачения, о чем-то спросил меня, няня незаметно подтолкнула локтем, я растерянно пролепетал несколько слов в ответ, в рот мне сунули ложечку сладкого сиропа и нечто вкусно хрустевшее — и мы с няней вновь выкатились из прохладного полумрака на залитую солнцем улицу.
Очевидно, это было причастие. В церковь я больше не ходил, стал пионером, комсомольцем, но единственное это посещение было для меня отнюдь не бесполезным: на долгие годы отрочества, да и юности пожалуй, оно сняло с религии ореол таинственности. В отличие от многих сверстников, я не испытывал при упоминании о церкви привкуса запретного плода — я же собственными глазами видел, как просто и деловито отнеслась к этой самой церкви моя няня.
Раз я у няни потерялся. Мы шли с ней откуда-то через рынок, носивший название Болото; на месте, где москвичам предъявили насаженную на кол голову Пугачева, разбит сейчас огромный сквер, безликий, унылый и гораздо больше похожий на разгороженное скамейками-тяжеловесами болото, чем оживленный, хоть и грязноватый базар.
Няня повстречала знакомую и остановилась поболтать, а я тихонько пошел по рядам, привлекаемый пестротой невиданного зрелища, тараща глаза на толпу, не скованную никакими условностями, — я до сих пор люблю бродить по базарам и наблюдать людей «на свободе», как говорят в цирке.
Пошел это я, пошел — и ушел. Радио тогда о пропавших малютках не объявляло, я нагулялся всласть и лишь в сумерках попал домой. Я не только не ощущал никакой вины и не тревожился, напротив, я считал себя героем: сам прошелся по рынку, без няни, ничего худого со мной не случилось, сам добрел до дома, хоть и не так далеко, а все же… Но родители рассматривали происшедшее иначе. Главное, оказалось, что я подвел няню — ведь это она меня потеряла (что я — вещь?).
Постепенно все утряслось, конечно, но момент был драматический: я привык к тому, что попадает мне и няня меня утешает, а тут… Разумеется, и после этого случая я делал глупости, — и какие! — но няню я больше никогда не подводил, можете мне поверить.
…Тихая улица Замоскворечья, и моя няня, молодо и задорно мне улыбающаяся…
Еще одна картина возникает в моей памяти при воспоминании о московских детских годах. Она окончательно сложилась в сознании, вероятно, позже, когда, быстро пройдя азы, я стал читать уже не «самые первые» свои книжки, но картина эта не менее прочна и бесспорна, чем залитая солнцем Большая Полянка.
Название-то какое! Полянка…
Любимым детским чтением долгие годы оставалось для меня «Детство Темы» Гарина-Михайловского. Прочитав книжку в первый раз, я сразу понял, что это — обо мне. Мне были удивительно близки переживания ее маленького героя, и, если Тема боялся необузданного отцовского гнева из-за сломанного цветка, я точно так же трепетал, поцарапав новые туфельки на ремешке, в которых я пытался влезть на дерево.
Но главное сходство заключалось, пожалуй, в том, что Тема Карташев играл в таком же дворе и таком же саду, в каких совсем недавно проводил целые дни и я, — так мне тогда казалось, во всяком случае.
В детстве мы легко расставляем знаки равенства.
Помните две стены, через которые Тема постоянно лазил? Одна из них отделяла двор от сада, другая — сад от кладбища. Так вот, наш замоскворецкий особняк тоже стоял во дворе, переходившем в небольшой сад, который кончался высокой каменной стеной — или это тогда она казалась мне высокой?
На стену я не забирался и, куда она вела, не знаю; по логике вещей, за ней располагалась усадебка, вроде нашей, выходившая фасадом на соседнюю улицу. Но играть возле этой стены я очень любил. Угрюмая, поросшая мхом, она давала мне ощущение покойной уверенности и уюта, из-за нее никогда не сваливались на меня ребячьи беды; они врывались в сад с другой стороны, со двора, чаще — с улицы.
Возле самой стены у меня был тайничок, хранивший орудия игр, которые я не смел тащить в дом; здесь был мой тихий остров среди сумбура большого города. Несколько лет спустя в глухой лесной деревушке я обнаружил почти тот же микроклимат, что царил когда-то в моем уголке у стены.
Для меня — тот же.
Я часто играл там один или с ребятами из соседнего двора, охотно прибегавшими в наш сад, но это были обычные игры, и настроение этих дней не шло, как правило, ни в какое сравнение со счастьем тех поистине светлых часов, когда в мой уголок приходила няня, вырвавшись ненадолго из круга бесконечных домашних хлопот.
Оторвав однажды взгляд от груды сухих листьев, которые я сгребал, расчищая площадку, я увидел на камнях стены дрожащее пятнышко. Словно перехватив мой взгляд, пятнышко прыгнуло куда-то вверх, потом слегка в сторону, потом вернулось и присело на горсточку мха совсем рядом со мной. В холодный, хоть и ясный осенний день моя стена и весь мой уголок засветились.
Открыв рот, затаив дыхание наблюдал я невиданное доселе чудо, а зайчик, заигрывая со мной, то подскакивал совсем близко, то вновь отступал. Я глядел и глядел на него, потом вдруг понял, что он — живой, и сказал ему что-то.
В ответ Зайчик тихо рассмеялся — няниным смехом.
Я обернулся и увидел няню. Сидя на колоде, она держала в руке карманное зеркальце и смеялась.
С тех пор каждый раз, как она приходила в сад, я требовал, чтобы на стене резвился зайчик, — мы с няней любили до бесконечности повторять игру, лишь чуточку ее варьируя, лишь капельку импровизируя каждый раз, и нам никогда не бывало скучно: мы оба одинаково хорошо понимали, как смешно то, над чем мы смеемся.
Ясное дело, Зайчик появлялся исключительно при солнечной погоде, и я никак не мог смириться с тем, что сегодня он ускакал в гости или просто на лужок к Москве-реке пощипать травки.
Зато когда бывало солнечно и няне удавалось сразу же включить в нашу общую игру и в нашу с ней беседу веселого гостя — не было конца моему восторгу. Зайчик придавал окончательную завершенность уголку, где я был полным хозяином; здесь со мной были и няня, и Тобик, и этот новый веселый и живой товарищ, и никто из них не претендовал на первенство — главным оставался я.
Прошло полвека. Давным-давно снесена или разобрана на кирпич старая стена, построенная бог весть кем, когда и с какой целью, — мое временное прибежище. На месте особняка высится огромный дом. Я хожу по земле тяжело, опираясь на палку. Но не состарился — не может состариться — задорный Зайчик, плясавший некогда на старой стене между няней и мной и приносивший радость так легко и просто. И пока будет биться мое сердце…
Все, чем дарила меня няня, давалось ей легко и просто.
Самим своим присутствием она освещала мир вокруг меня.
Вам ничего не говорит фамилия или название Л е м е р с ь е?
Правильно, сейчас это слово давно позабыто, я сам с трудом вспомнил. Так называлась парфюмерная фирма одного нэпмана. Была ли это одновременно его фамилия, я долгое время не знал и, лишь порывшись в старых справочниках, обнаружил, что перед первой мировой войной в Москве, на Вятской улице, жил парфюмер Адольф Августович Лемерсье (и еще по крайней мере двое Лемерсье жили тогда в Москве — один торговал шляпами, другой, Карл Августович, похоже, брат парфюмера, был владельцем известной художественной галереи и магазина при ней).
Тогда встал вопрос: кто руководил явно семейным, традиционным делом в двадцатые годы? Сам Адольф Августович, или, скажем, его сын, или другой родственник? Дело в том, что главу фирмы я видел, а как звучало его имя и отчество, не помню. Вроде бы «Адольфович», точнее сказать не берусь.
Как появился этот человек у нас в доме, я не знаю тоже. Знаю, что мать и подруга ее еще с девических лет, тетя Аня, делали у нас дома для фирмы Лемерсье пуховки: разного размера, похожие на волчки кругляшки, с одной стороны — из тончайшей, расчесанной самым тщательным образом шерсти, с другой — затянутые разноцветной материей и с костяной ручечкой посередине; такими пуховками дамы пудрились.
Зарабатывала мама как будто прилично: руки у нее были золотые, а сам Лемерсье — назовем его так — был к ней, кажется, слегка неравнодушен. Это был крупный мужчина с бритой наголо головой и мясистым лицом, оборотистый и ловкий судя по всему. Он постоянно ездил за границу, откуда привез мне однажды лакированный заводной автомобиль на резиновых шинах и с тормозом.
Лемерсье никогда не приходил к нам, не захватив с собой плитку шоколада «Золотой ярлык», которая торжественно вручалась мне; разломав ее на мелкие дольки, я укладывал обломки великолепия на блюдечко и обносил шоколадом всех собравшихся взрослых. Занятие это я терпеть не мог, оно не делало меня более гостеприимным и радушным.
Напротив. Весь этот фарс наполнял мое сердце негодованием, ожесточал меня против кучки расфуфыренных бездельников, толпившихся в нашей столовой. Почему бездельников? Исключительно потому, что они, хихикая и гладя меня по головке, с ужимками и приторными глупостями съедали по меньшей мере половину моего шоколада; только те, кого я любил и с кем охотно разделил бы гостинец — тетя Аня, ее муж дядя Сережа (мои «неродные родные»), няня, — шоколад никогда не брали.
Да как же не бездельники?! Ведь каждый взрослый — я был в этом убежден — мог свободно пойти и купить себе целую плитку, а я не мог. В том, что далеко не каждый легко может это сделать и не каждый станет покупать шоколад, даже если может, я убедился позже.
Так вот, когда этот самый Лемерсье возник в нашем доме, я смотрел на него как на необходимое зло: шоколад шоколадом — не забудьте, половину съедали другие, — но мне в этом человеке инстинктивно что-то не нравилось. Развязность, самодовольство преуспевающего дельца, едва прикрытая нагловатая самоуверенность, думаю я теперь. Метафизик, как и все дети, я молчаливо принимал его существование, ибо считал неизбежной принадлежностью нашего дома, раз он допускается и даже поощряется отцом и матерью.
И вдруг я обнаружил, что те самые сомнения, которые подспудно бродили в моей душе, совершенно открыто, хоть и в несколько упрощенной — я смутно понимал и это — форме высказывает няня, занимая особую, свою личную позицию. Причем высказывает не только на кухне, в беседе со мной или с Тамарой, но, что меня особенно всколыхнуло, в столовой — родителям в лицо.
Речей ее я, разумеется, не помню, суть же сводилась к тому, что незачем пускать в дом этого прощелыгу, этого проходимца, — разбогатев неизвестно как, он неизвестно как и кончит. Если бы без работы, которую он давал матери, мы не могли прожить — дело другое, тогда еще куда ни шло, тогда еще можно хоть как-то понять. А так…
Ага, значит, существует какая-то другая возможность, другое решение, этому типу совсем не обязательно бывать у нас… Я немедля выдвинулся на боевые позиции, встал рядом с няней. Не только из всегдашней нашей солидарности, главным образом от неожиданного для меня совпадения наших взглядов и той перспективы, которую это совпадение открыло передо мной.
Тогда у нас с няней, правда, ничегошеньки не вышло: родители были полны задора, я, как легко понять, был еще слишком мал, и Лемерсье преспокойно продолжал бывать у нас. Но впоследствии, когда мама разошлась с отцом и нас стал очень уж часто навещать один человек, удивительно на Лемерсье похожий, мы с няней сумели сделать его постоянное пребывание в нашем доме невозможным, хотя жили мы скромно, даже более чем скромно, а дружба с этим человеком сулила полное материальное благополучие.
То есть, если бы мама не колебалась, она, вероятно, не послушалась бы нас, но она как раз колебалась.
Из выступления няни против Лемерсье я сделал, помнится, еще такое заключение: мысли, которые зреют у тебя в голове и которые идут, казалось бы, вразрез с чем-то привычным, могут оказаться невысказанными и у других. Значит, для того чтобы выяснить, что к чему, полезно время от времени высказывать свои мысли вслух. Не обязательно делать это именно мне, но если все молчат…
И потом, даже если эти мысли не совсем оформились, если они однобоки, неуклюжи, парадоксальны, не надо их стыдиться — ведь они могут оказаться и у сидящих рядом. Надо высказаться и поглядеть, что будет. Может, они действительно несуразны — и тогда их отвергнут. Может, они вызваны недоразумением — и тогда оно разъяснится. А может быть, их поддержат — и тогда они послужат людям.
Желаете узнать, всегда ли я высказывал непроверенные мысли вслух? Нет, не всегда, далеко не всегда. Самые простые, казалось бы, истины преломляются в человеческой практике сложно, многообразно, неожиданно.
В Москве же передо мной встала во весь свой немалый рост проблема вины и прощения.
Столкновение с этой проблемой, а также первые попытки ее разрешить имели своей предысторией тот достойный сожаления, но несомненный факт, что в возрасте лет этак четырех я начал бессовестно врать. «Он был в таком возрасте, когда вообще правды не говорят. Болезнь возраста…» — записал Илья Ильф в записной книжке.
Врал я всем, кроме няни, врал самозабвенно и так, как это делают только дети: наслаждаясь самим процессом, решительно не считаясь с достоверностью единожды избранной версии, отрицая вещи очевидные, уныло настаивая на своем и понимая в то же время, как это глупо — словно в пропасть летишь во сне, и знаешь, что летишь, а остановиться не можешь.
Справедливо считая вранье делом мерзким и недостойным, мама не желала вникать в возможные нюансы между ложью и фантазией или попыткой хоть так утвердить себя и старалась такое мое поведение сломать — я говорил уже, что характер у нее был мужской. Сломать! Это ведь, знаете, словно кусок стекла по мерке отламывать: проведешь алмазом прямую, нажмешь — чик, и готово. Глянешь, а на самом конце лишний уголок отломился. Попробуешь еще раз — чик, опять уголка нет, только с другой стороны. А больше резать нельзя, по мерке не хватает. Выбрасывать?
Мама меня не била, а применяла как воспитательный прием изгнание: уходи из дома, мне такой сын не нужен.
Мудрой эту формулировку назвать трудно, дом должен быть обязательно н а ш, совместный, и никакого сомнения в незыблемой общности очага у малыша возникать не должно. Но все говорилось всерьез, да я и сам хорошо знал, что мама шутить не любит. Скорее всего, она при этом на няню и рассчитывала, но изгонялся я сурово: пальто, шапку, что хочешь из игрушек и — марш!
Ку-да?
Я уходил. Маленький, зареванный, сжимая в руке обклеенный сероватой парусиной чемоданчик с игрушками, тащился вниз по широкой лестнице нашего особняка. Собственно, из дома я уже ушел, выйдя из родительских комнат, возврата туда нет. По дороге я должен зайти еще на кухню, к няне, проститься. Конкретность детского мышления мешала мне вообразить хоть на минутку, что няня может взять и уйти вместе со мной. Она принадлежала этим стенам, этой кухне.
Проститься… Хорошо, если няня одна — а если там много народу?
Однако после того, как я открывал дверь, мне делалось безразлично, есть кто на кухне или нет. Бодрясь изо всех сил, стараясь не бежать, я пробирался мимо огромной плиты к няне и тут не выдерживал: уткнувшись ей в бок или в колени, я страшно ревел.
Пока няня ласково гладила меня по голове — чаще всего она была уже в курсе дела, — происходила странная, с трудом поддающаяся логическому анализу трансформация. Изгнанный из дому и лихорадочно строивший какие-то сумбурные планы самостоятельной жизни человек вновь превращался в ребенка. Мысль о неизбежном столкновении с настоящим, таинственным взрослым миром вызывала трепет, приводила в ужас, — ведь изгоняли меня неведомо куда! — но теперь эта мысль постепенно, шаг за шагом, отступала на задний план, освобождая место моему домашнему, привычному детскому миру. Все вокруг начинало звучать как сон или, скорее, как сказка — а уж сказка обязательно кончится хорошо.
Необходимой для такого поворота в моем сознании точкой были нянины колени.
Я постепенно затихал, а няня, выразив свое сочувствие, а иногда и солидарность, подтвердив, что белое вполне могло быть и черным или хотя бы показаться мне таковым, ставила передо мной дилемму: просить у мамы прощения или действительно куда-то уходить.
Уходить?! Вновь окунуться в тот неизведанный и страшноватый поэтому взрослый мир? Одному? Без няни?
Прощение? Просить прощения? Быть прощенным? Получить отпущение грехов?! Формулировки были другие, смысл такой.
На кухне возле няни стояли двое. Был я, прекрасно понимавший, что просить прощения нужно, справедливо, есть за что, ибо маме я соврал: это я первым ударил соседского мальчугана, а не он меня, это я разлил — не пролил, а нарочно разлил — по полу папино любимое лекарство удивительного густо-розового цвета и сделал из лужицы красивые разводы на паркете, это я…
И был тоже я, не знавший, как заставить себя признаться в том, что я соврал, как унизиться до отказа от собственной версии, как переломить свое упорство, как выдернуть тугую чеку и дать распрямиться пружинке — и стать искренним, хорошим, любящим мальчиком, достойным любящей мамы.
Терпеливо, без принуждения и назидания, на равных подсказывала мне няня, как это сделать, помогала додумать, дочувствовать. Я слушал ее, я спорил с ней сквозь слезы, но постепенно все до предела упрощалось: пойти и сказать. Не оставалось ничего, что грозило бы, давило, угнетало, мучило. Попросить прощения? Так ведь не у кого-нибудь — у родной мамы. Это почти то же, что просить его у самой няни, а разве у няни ты стыдишься просить прощения? Нет, конечно, это совсем просто.
Совсем просто!
И я шел и произносил три слова, которые надлежало произнести:
— Мама, прости меня…
И мама прощала, гордясь своим педагогическим методом. А я — не прощал ей такого страшного испытания.
Я не держал камень за пазухой, но наши с мамой отношения становились раз за разом все более рациональными, строились на логике — так надо, так полагается, ты должен, ты обязан, — а не на чувстве.
На чувстве строились мои отношения с няней, и она становилась для меня главной женщиной в семье.
Мама оставалась главой семьи. Малышом я просто не задумывался над тем, какая она, — она была н е и з б е ж н о й, и все. Зато впоследствии, когда подрос, я научился глубоко уважать ее, не уставал восхищаться ее точным практическим умом, ее трудолюбием, ее принципиальностью в самых, казалось бы, мелких вопросах — она не брала денег взаймы, например, никогда, ни при каких обстоятельствах. Я преклонялся перед тем, какой великолепной мастерицей на все руки была она. Я всегда буду благодарен маме за посвященную мне жизнь.
Только сердца я ей раскрыть не мог.
Годам к шести закончилось формирование каких-то начал: неожиданно оказалось, что я готов принимать от жизни больше, чем она мне предлагала.
Тут няня помочь не могла; стали помогать книги.
В это же примерно время я впервые преступил «домашний круг», а затем стал делать это чаще и все охотнее; чем старше мы становимся, тем более властно вынуждают нас обстоятельства входить в контакт с внешним миром.
Наступила пора самостоятельных поступков. А выходя в свободный полет, необходимо преодолеть земное притяжение.
Иначе — свалишься и разобьешься.
Теперь это известно каждому.
Может показаться странным, даже очень странным, но именно в преодолении уз детства няня оказала мне самую энергичную помощь; я сказал бы даже, эта помощь стала ее главным вкладом в мое воспитание на данном этапе.
Казалось, именно она, более чем кто другой, должна была дорожить нашим с ней уютным мирком, как дорожат им — из эгоизма, исключительно из эгоизма! — недалекие бабушки, тетушки, маменьки. А няня сама помогала мне взрывать сложившиеся отношения.
Словно ей было легко поступиться нашим прошлым, этими упоительными долгими шестью годами.
Словно в ее жизни было еще что-то — равноценное.
Она поступала так, разумеется, не потому, что не ведала, что творила.
Я знаю, она сознательно отрекалась от самой себя, ведь она любила меня — ради меня; она не раз отрекалась от себя и впоследствии.
Я думаю, инстинктом человека из трудовой семьи она улавливала, что теперь я перехожу под воздействие неподвластных ей сил и ее задача — облегчить мне этот переход.
Я полагаю, она понимала: искусственно тормозить развитие смертельно опасно; быть может, она чувствовала даже и то, что тянуть меня назад означает, скорее всего, потерять мою привязанность.
Помощь няни была тем более своевременной, что я остался без отца, — именно отцу, как известно, надлежит особенно прилежно вести за руку человека, только-только начинающего различать внешне хорошие и дурные поступки окружающих, их силу и их слабость, и восхищаться примером, достойным, с его детской, расплывчатой еще точки зрения, подражания.
Мой отец ни тогда, в Москве, ни впоследствии, когда я вырос и пытался по-иному приглядеться к нему, надеясь обрести в нем старшего друга, не был способен почему-то представить себя, взрослого и ответственного человека, ровней своему сыну. Присесть к сыну на коврик с игрушками и вместе строить домик из кубиков? Какое унижение! Сын воюет? Все воюют! Сын начал что-то писать? Чепуха какая-нибудь! Отцовская усмешка казалась мне недоброй, а ведь на самом деле это несомненно было не так.
Родители разошлись. Пока мы с мамой загорали летом в нашем родном Крыму, над отцом пронесся мимолетный роман. Он счел своим долгом покаяться, как только мы вернулись, — он очень любил мать и надеялся на прощение. Но категоричная мама, забрав с собой меня, няню и часть имущества, немедленно уехала в Ленинград, куда звала ее старшая сестра тетя Рита.
Помню: стоя у рояля, родители делят серебряные чайные ложечки, аккуратно раскладывая их кучками по черной полированной поверхности. Я случайно прохожу мимо и останавливаюсь, завороженный этой картиной. И тут, вместо того чтобы прогнать меня, как обычно, меня неожиданно спрашивают: какую ложечку я хочу лично для себя — она будет не в счет! — прямую белую или витую желтую? Я озадачен тем, что их интересует мое мнение, я даже пугаюсь немного, но вопросов не задаю, выбираю витую (еще бы!) и следую дальше по каким-то своим неотложным делам.
Подумаешь, ложечка!
А что значит — она будет не в счет?
Что знал я о собственности? Разговоров на эту тему в моем присутствии интеллигентно не вели; в куске хлеба я не нуждался; о том, чтобы, рядом с няней, я стал завистливым и жадным, — просто речи быть не могло.
Жизнь неумолимо и бесстрастно поставила передо мной эту великую проблему уже в Ленинграде.
Прожив несколько первых месяцев на элегантной, щедро декорированной зеленью улице Красных Зорь, мы перебрались на проспект 25-го Октября — так именовали тогда более старомодный и шумный Невский. По обеим магистралям бегали еще трамваи, обе были вымощены торцами — шестигранными просмоленными чурками; торцовая мостовая мягко принимала удары лошадиных копыт, вроде бы не сопротивляясь их буйному раздолью и даже поощряя его, по ней особенно изящно катились экипажи, но автомашинам на резиновых лапах решительно все равно из чего сделана дорога — была бы ровной, — и торцы, которые упрямо вспучивались после каждого ливня, заменили практичным асфальтом.
Со времени этой реконструкции пролетело полвека, но странное дело: стоит мне подумать о Городе, извлеченном, выманенном из толщи болот могучим человеческим интеллектом, и перед моим мысленным взором неизбежно возникает мощенная торцами бесконечная Набережная.
Вдоль прижавшихся к земле — к воде, конечно же к воде! — дворцов, окутанных мягкими вуалями северных, неярких тонов, неслышно рысят всадники в шитых золотом мундирах; «тяжело-звонкое скаканье» безвозвратно ушло в прошлое, и спит вечно беспокойным сном в Петропавловском соборе воспетый Пушкиным герой — титан и недруг, — один из немногих смертных, мечте которого суждено было осуществиться.
Неслышно рысят всадники… Вымуштрованные кони идут, конечно, сами, а седоки не в силах оторвать взор от бастионов крепости, от шпиля за рекой, напротив. Какие редкостные пропорции, какое совершенство! Что из того, что в данный момент это тюрьма, олицетворяющая немощь российского деспотизма, — всадников не удивишь, таких примеров история знает сколько угодно.
Неслышно рысят всадники… Что им до узников, томящихся в равелинах, — потомки, потомки вспомнят; поразительный, неповторимый силуэт, очарование которого удваивается, утраивается гладью реки — ширина ее здесь словно бы высчитана до метра, — вызывает в душах умиротворение…
Излучая гармонию, высокое искусство приводит в равновесие мятежные эмоции смертных.
Мы перебрались тогда на Невский, на угол аккуратной, ровненькой, но какой-то невразумительной, худосочной, что ли, улицы, и заняли две комнаты в коммунальном жилье, вытянутом вдоль фасада в виде огромного «Г»; у основания буквы располагался парадный вход в квартиру, а на самом конце перекладины ютились кухня и черный ход.
Мы перебрались тогда на Невский, и я осваивал двор.
Это был обычный городской колодец. Незвонкая, слегка угрюмая тишина его изредка нарушалась подводами, привозившими разные разности в угловое «заведение» — позднее, уже на моей памяти, здесь откроется первый в городе кафетерий — по тогдашним масштабам, нечто сногсшибательное, отчетливо американизированное, основанное на неслыханном у нас дотоле самообслуживании.
Я осваивал двор — то есть мрачно по двору слонялся. Других детей поблизости не наблюдалось, да и не знал я пока никого. Играть мячиком в одиночестве было смертельно скучно — стекла, стекла кругом… Я жаждал любого развлечения.
Но вот послышалось «Поберегись!», раздался грохот колес, и в арке ворот показалась очередная подвода, запряженная крепенькой, очень симпатичной пегой лошадью; на подводе громоздились огромные фанерные кубы.
Возчик лихо подвернул к заднему входу в «заведение», пропел неизменное «тпру-у-у!» — и скрылся за дверью.
Мы с конягой остались одни.
Лишь недавно вернувшись из поездки в деревню, я считал всех лошадей друзьями; не медля ни секунды, я отправился знакомиться.
Беседой с лошадкой и закончился бы, вероятно, этот эпизод, если бы, пробираясь между телегой и стеной дома, я не заметил вдруг, что из трещины, образовавшейся возле рейчатой грани одного из фанерных ящиков, торчит что-то яркое.
Популярную в те годы карамель в бумажной обертке я распознал мгновенно.
И — замер на месте. Мысли мои тоже потеряли, казалось, способность двигаться — привычно журчавший ручеек неимоверно быстро застывал, образуя студенистую, клейкую массу.
Совершенно не контролируя свои действия — тем более не управляя ими, — я шагнул вплотную к подводе и сунул в щель палец. Лошадь была забыта.
Жили мы трудно, я не был избалован ни капельки, и конфета сама по себе представляла для меня бесспорную ценность.
Но дело было не только в желании полакомиться — это я точно помню.
Просто вещь, попавшая в поле моего зрения, оказавшаяся досягаемой и не охраняемая никем, была и моей вещью.
Ничьей, а потому и моей тоже.
Настойчиво работая пальцем, я без труда развернул карамельку в нужном направлении — вдоль щели; я ощущал уже ее вкус, прекрасно мне знакомый.
Но в ту самую минуту, когда оставалось сделать последнее усилие, дверь «заведения» с треском распахнулась и на пороге возникло Возмездие.
Мой палец классически застрял в щели, возчик, мгновенно оценив обстановку, горным козлом сиганул с высокого крыльца, еще плывя по воздуху, истошно заорал: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..» — а едва коснувшись ногами земли, кинулся ко мне.
Я рванул палец, высвободил его, основательно ободрав, и пулей понесся через двор к нашей черной лестнице. Оцепенение спало; обгоняя меня, мысли скачками неслись вперед.
Слово «мужик» было мне отлично известно и решительно меня не волновало, тем более что как раз м у ж и к и наступал мне на пятки, впечатывая сапоги в булыжник через два, а то и через три моих шага; тут все было в норме.
Выражения «сукин сын» я не понимал буквально, но общий его смысл находился в пределах моей мальчишечьей практики; я не мог бы поклясться, что его время от времени не употребляла няня — с самой добродушной интонацией, разумеется.
Но вот слова «камаринский» я решительно не знал — а оно-то, скорее всего, и выражало оценку моего поведения возчиком, а также и то, чего мне следует от него ждать.
Что может означать это странное слово?
Почему он его выкрикнул?
И почему, не щадя сил, он так яростно гонится за мной? Я же только хотел, только собирался взять конфету, да и не его конфету к тому же, а ничью…
Я понимал, что между поведением возчика и тех дяденек, которые, желая спугнуть ребятишек, звонко топочут ногами, а иногда еще и хохочут тебе вслед, есть существенная разница.
Но — какая?
И — чем она опасна для меня?
(Как угодно, а возчик и сам был хорош: человек честный не станет так бешено, так злобно преследовать ничего, в сущности, не натворившего ребенка.)
Пока мы на полной скорости пересекали пустынный, к счастью, двор, у меня в голове взорвалась вдруг еще мысль о том, что, если я побегу наверх, он станет гнаться за мной до самых дверей нашей квартиры и, во-первых, узнает, где я живу и что я — это я, во-вторых — встретится с няней, и вот тогда…
Тут я заледенел на бегу. Не знаю почему, но мне категорически не хотелось, чтобы они встретились.
Но куда деваться? От ворот я был отрезан, на улицу выбежать не мог. Как в мышеловке!
Совсем отчаявшись, я неожиданно вспомнил про темный, сырой подвал, разгороженный на клетушки, — жильцы хранили там дрова для печек. Не далее как вчера мы весь вечер укладывали в уголок, доставшийся нам по наследству, колотые поленья; прикручивая время от времени фитиль керосиновой лампы, аккуратная мама не забывала каждый раз напоминать о возможности пожара.
Подвал! И как я раньше…
Я сразу понял, что спасен. Влетев на черную лестницу, я побежал не наверх, а вниз и притаился в ближайшем закоулке.
Возчик в темноту не полез, но долго подкарауливал меня где-то там, на площадке.
Не оставалось ни малейшего сомнения в том, что это очень нехороший, мстительный человек, и если бы, пока он топтался в подъезде, а я, присев на корточки, мучительно прислушивался к малейшему шороху, кто-нибудь спер все его конфеты и угнал подводу, я счел бы это справедливым.
Наконец противник отступил, я на цыпочках прокрался по лестнице и благополучно достиг нашей кухни; няня открыла мне дверь.
Я пододвинулся к окну, осторожно выглянул — возчик таскал ящики в «заведение».
Дождавшись, пока он сгрузил все и уехал, я спросил у няни: что такое «камаринский мужик»?
Она очень удивилась.
Пришлось процитировать все, что крикнул возчик.
Задрал ножки да по улице бежит… —немедленно пропела няня.
Она любила петь, репертуар ее по преимуществу предназначался не для детских ушей, о чем ей постоянно напоминала мать, но поскольку даже самые рискованные строчки «городского фольклора» няня произносила прямодушно и легко, безо всякого жеманства, то я тоже ни тогда, ни впоследствии не придавал особого значения тому, что иные встречали хихиканьем, и не пытался отыскать в часто повторяемых няней куплетах некий скрытый, малопристойный оттенок.
Песня и песня.
Мы на ло-одочке катались золотистой-золотой…Или:
Ни папаши, ни мамаши, дома нету никого…Или:
Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь…Или:
Обидно, досадно до слез, до рыданья…Мало-помалу нянины песенки стали для меня своего рода противоядием от лицемерия и ханжества; они превосходно подготовили меня к пониманию еще одной простейшей истины: все на свете можно толковать двояко — чисто и пошло.
Сирень цветет, не плачь — придет. Ах, Коля, груди больно, любила — довольно…И песни, и поговорки-присказки, которыми няня охотно пересыпала речь, какое-нибудь «чай пить — не дрова рубить», или «ешь, пока рот свеж», или «завидущие твои глаза» — это когда я просил сразу три котлеты вместо обычных двух, или «на охоту иттить — собак кормить» (насколько привольнее было произносить «иттить», — ах, детство наше, детство! — чем жесткое «итти» или, еще того хуже, чиновничье «идти») — все эти яркие отступления от штампов будничной речи как бы подключали меня, мальчугана, к таким областям жизни, к которым ничто другое в то время подключить меня не могло — ни книжки моих детских лет, ни сверстники, ни школа, куда я вот-вот должен был пойти.
Впрочем, в няниных устах и штамп оживал, начинал звучать увесисто. Взятая ею на вооружение популярная фразочка «факт, а не реклама», прекрасно отражавшая сверхзаостренную деловитость нашей тогдашней жизни, произносилась няней с таким вкусом, что на долгое время стала и моей любимой присказкой.
Надо ли говорить, что, чем старше я становился, тем старательнее отыскивал заложенный в няниных речениях смысл и верил им — ведь все это произносила няня! Пусть мудрость была не бог весть как глубока, но даже почти бессмысленная, на первый взгляд, фраза «туда-сюда, не знаю что», которую няня особенно любила, заставляла меня всерьез размышлять над тем, из каких же элементов складывается эта таинственная «взрослая» жизнь, в которую я так рвался.
«Не знаю что…» Видно, и взрослому не обязательно все так уж досконально известно, как маме или тете Рите… Тетя Рита была к этому времени уже опытным врачом; ее влияние на маму, а значит, и на всю нашу жизнь было очень велико.
Или вот еще: «красота — кто понимает». Кто понимает? А кто — нет? Мне всегда страстно хотелось быть в числе посвященных, тех, кто понимает, кто умеет различать красоту там, где многие ее не замечают.
Или: «все равно, да не ро́вно». Как это так? Не все одинаковое одинаково? Ведь казалось бы…
«Старость — не радость», — все чаще в последние годы тревожит меня нянин грустный голос…
Что же касается песен, то, воспринимая сконцентрированный в нескольких строчках опыт многих поколений, я как бы связывался через толщу лет — пусть связь эта была непрочной, самой случайной, тончайшей, готовой в любой момент порваться, — я связывался с явлениями, до которых мне полагалось еще «дозревать» бесконечно долго, чтобы потом треснуться о что-нибудь этакое твердокаменное без всякой подготовки. Крайняя необязательность этих неожиданных, возникавших через песню связей способствовала тому, что они не только не надламывали неокрепший организм, а, напротив, подкрепляли его рост, закаляли его, исподволь готовили к неизбежным и далеко не всегда простым и приятным встречам.
Исподволь — как это важно.
…Пропев вторую строчку популярной некогда песенки, няня продолжала с недоумением на меня глядеть.
Пришлось выложить все.
К моему сообщению няня отнеслась куда более серьезно, чем я ожидал. Она сразу поняла, что не в конфете дело — и для возчика, и для меня.
— А если бы он тебя догнал?
Такой нелепой возможности я себе, конечно же, представить не мог, — меня догнать?! — но предположил все-таки, что ничего хорошего не вышло бы.
— Уж чего хорошего, — мрачно согласилась няня. — Уши бы оторвал, это по меньшей мере.
Я высказался в том смысле, что она не дала бы так надо мной надругаться.
— А что я? Он в своем праве… — покачала няня головой.
— Почему?! — Я расценил позицию няни чуть ли не как предательство. — Это же не его конфеты!
— Пока не сдаст груз, он за все отвечает, — очень по-взрослому сказала няня; меня поразили не столько самые ее слова, смысл которых я понял крайне приблизительно, сколько та осуждающая — меня! — интонация, с какой она их произнесла.
Мы всегда были с няней заодно против чего угодно, а тут она как бы отступилась от меня.
Не обращая внимания на мой насупленный вид, няня погладила меня по голове и вздохнула:
— Да… Если б он тебя догнал…
Я затих. Я, как всегда, ей поверил. Дело неожиданно оборачивалось чем-то скверным, вязким, неприятным.
А как было не верить? Няня никогда не тратила своих сил и чужого внимания, преподнося как откровение избитые, азбучные истины, то есть не делала как раз того, чего дети терпеть не могут. Я не знал еще, конечно, как часто люди ограниченные склонны утверждать себя, вещая банальности, и не мог поэтому в полной мере оценить нянину сдержанность. Но в том, что няня зря не скажет, я был уверен твердо.
И я запомнил надолго ее последние слова, которые даже поучением назвать нельзя:
«Если б он догнал…»
Как можно ставить себя в такое положение, когда все зависит от случая — догонит, не догонит?
Как это унизительно.
Где-то створочка приоткрылась, кое-что стало проясняться.
Маме мы ничего не сказали.
— Она и так слишком много нервов тратит бог знает на что, — бурчала няня, почитая своим долгом оберегать по возможности мать от новых треволнений.
Справились — и ладно.
Столкновение с возчиком произошло в конце августа, а первого сентября я отправился в школу.
Наконец!
Я очень ждал этого дня. Сентиментальными мы с няней не были, мама — тоже, и у нас дома никто не окружал Первое сентября ореолом сусальной прелести, хотя пирожок няня все-таки спекла. Но мне казалось, что школа раскроет передо мной такие горизонты, в сравнении с которыми и мой скромный опыт, и книжная премудрость — капля в море; я наивно надеялся узнать в школе если не всю правду, то нечто абсолютно достоверное, неопровержимое и необычайно для меня важное, чего обыкновенные мама и няня сообщить мне уж конечно не могли.
Я был уверен, что войду в школьную жизнь так же естественно и непринужденно, как входил пока повсюду… куда меня вели за руку мама и няня. На самом же деле школьная «ступенька» далась мне нелегко. Да что ступенька — там оказалась целая лестница, притом довольно крутая.
Но няня и здесь пришла на помощь, и вновь самым неожиданным и не подходящим для себя образом: она вдохновила меня на то, чтобы давать сдачи.
Нет, нет, к драке она меня не подстрекала; все было гораздо проще, но и куда как тоньше.
Здесь кстати будет заметить, что в самом начале тридцатых годов посещение школы требовало порядочно смекалки, изворотливости, даже мужества. Надо было что-то решать самому — повседневно, ежечасно, всерьез. Школа и все с нею связанное очень точно отражает обычно тонус жизни общества; ничего похожего на тепличную, парничковую среду, которую культивируют нынче недалекие родители и дурные педагоги, стремящиеся руководить каждым шажком ребенка, в школе тех суровых лет не существовало.
Единственное, чего можно достичь таким воспитанием, — отучить ребенка думать.
Я вовсе не склонен во что бы то ни стало воспевать прошлое, мне ни капельки не жаль многих атрибутов той далекой поры, но инициатива и самостоятельность, к которым тридцатые годы властно призывали нас с малолетства, были прекрасным веянием эпохи, одним из серьезнейших завоеваний революции.
Не забудьте, что ждало тогдашних мальчиков и девочек в сорок первом году.
Чтобы добраться до школы, мне надо было сперва отмерить солидный кусок нашей худосочной улицы, затем свернуть в небольшой переулок, из Графского переименованный в Пролетарский, — на углу как раз возникал дом нового быта «слеза социализма», с такой теплой иронией описанный Ольгой Берггольц, — и выйти на набережную реки Фонтанки.
Некогда влиятельный рубеж, отделявший поднятыми на ночь мостами Город от не-города, позднее — старый город от нового, Фонтанка превратилась с десятилетиями в обыкновенный грязноватый канал; вдоль него мне оставалось пройти еще метров триста.
В отличие от Дворцовой, эта набережная жила пестрой, разнообразной жизнью, не «петербургской» — «питерской». У подножия гранитных лестничек, уходящих в воду, покачивались большие, добротно сработанные, обильно просмоленные лодки с крытыми носами — ремесленники, главным образом гончары, привозили свою нехитрую продукцию и тут же, никуда не перегружая, предлагали ее горожанам.
Торговля шла бойко.
Возле спусков повеличественнее, подлиннее швартовались баржи с песком, кирпичом, гравием. По доске, проложенной с борта на берег, грузчики ловко катили доверху груженные тачки. Сколько я ни глазел на их веселую, лихую работу, ни одно колесо ни разу не съехало с узкой доски, ни один грузчик не оступился.
Вдоль парапета лежали дрова. Их доставляли тоже на баржах, укладывали штабелями, а затем, на подводах, развозили заказчикам. Среди дровяных клеток детворе было привольно играть в прятки или в игры поазартнее — в «выбивку», например, — а наверху, на дровах, частенько грелись на солнышке гопники, невероятно грязные люди в рубище, ночевавшие обычно тут же, в люках, на теплых трубах.
Гоп со смыком — это буду я…Трудно представить себе, чем зарабатывали на жизнь эти предшественники современных хиппи, хотя одна статья их дохода была нам, ребятам, отлично известна: гопники п и к а́ л и л и плывшие по Фонтанке метровые поленья и продавали их за бесценок тут же, в соседних дворах.
Пика́лить на тогдашнем жаргоне означало точным броском вонзить в плывущее по воде полено пика́лку, привязанную к длинной, тонкой бечевке, а потом, аккуратно выбирая конец и ни в коем случае не дергая, вытянуть полено на сушу, на высоту набережной. Сама пика́лка состояла из патрона от охотничьего ружья, в который, посредством расплавленного олова или свинца, намертво засаживался большой, остро отточенный гвоздь. Почему это сооружение было названо именно так, я не знаю.
Гопники попадали в поленья без промаха; наиболее дальние и точные броски, а также извлечение из воды особенно толстого или длинного полена сопровождал восторженный гул толпившихся вокруг зевак.
— Есть! — кричал и я вместе со всеми.
Пикалили и ребята из нашей школы; у меня своей пикалки никогда не было, несколько раз мне давали покидать чужую — особых результатов я не достиг.
Может быть, потому, что физически я был слабее своих сверстников?
Случилось так — я объясню это позже, — что восьми с половиной лет я стал ходить сразу в третий класс. К этому времени я давно уже систематически читал, так что учиться мне было не сложно, но я оказался чужаком в хорошо «спевшемся» классе, да еще был там самым маленьким; в таком возрасте разница в два года весьма, ощутима.
А ведь меня ни разу не провожали в школу ни мама, ни няня.
Робкая попытка осуществить такой вариант была, кажется, сделана, но я с негодованием отверг мамино предложение, няня поддержала меня, — поддержала! — мама не настаивала, и я в одиночку совершал каждый день маленький подвиг: ведь это страшно — в восемь лет пройти безоружным солидный кусок джунглей.
Дорога в школу и днем, когда светло, таила массу непредвиденных случайностей, а уж путь назад… Занимались мы во вторую смену, из школы выходили в сумерки, а у самого подъезда, в крохотном сквере, отделявшем здание от плохо освещенной набережной, нас поджидала стеночка из шпаны.
Этой стеночки побаивались даже учителя, делавшие вид, что ничего о ней не знают; миновать ее было практически невозможно. Тем, кто не мог рассчитывать на покровительство, оставалось прикрыться портфелем и постараться миновать стоявших двумя шеренгами мучителей как можно быстрее и с наименьшими для себя потерями.
Здесь сводились счеты за обиды подлинные и мнимые, расправлялись с отличниками и ябедами, здесь походя лупили маменькиных сынков — их называли «гогочками», здесь неумело заигрывали с девочками постарше, словом, тут шла своя жизнь и господствовали свои критерии, иные, чем в школе.
Смерчи этой жизни доносились до классов, то и дело заставляя дребезжать наполовину застекленные двери. Физическая сила, дружба со шпаной, умение постоять за себя в любой ситуации значили для нас никак не меньше, чем ответы на уроках.
Стоит ли удивляться тому, что я немедленно сделал все возможное, чтобы не походить на «гогочку» хотя бы на улице? С тех самых пор я никогда не завязывал шапку-ушанку под подбородком, кепку я ношу сдвинутой набок, от одного вида лоснящегося светло-серого каракуля меня мутит, а если воротник моего пальто не поднят и верхняя пуговица не расстегнута, я чувствую себя неуютно. О том, что руки я держу исключительно в карманах, и говорить не приходится.
И все же, несмотря на камуфляж, я оставался существом куда более домашним, чем многие мои однокашники. Уже одно то, что у меня не было привычки систематически и отчаянно драться, что я не умел, не мог позволить себе забыться в драке настолько, чтобы отключить сдерживающие центры, стать зверенышем и ударить противника по лицу или, тем более, двинуть кулаком куда придется, — ставило меня в невыгодное положение. Приходилось или терпеть унижения, или…?
В один из первых же школьных дней, явившись домой с расквашенной физиономией, я ткнулся за сочувствием к няне. Не то чтобы я конкретно на кого-то пожаловался — это у нас с няней было не принято, да и не в одном забияке было дело. Я просто растерянно поныл, мрачно сетуя на то, что меня все время что-нибудь сбивает с толку, неожиданности сыплются со всех сторон — какая-то туча, и никакого просвета.
Впрочем, оттенок жалобы присутствовал тоже.
Я сомневался во всем, в чем угодно, но в одном я был твердо уверен: няня немедленно вызовется мне помочь. Как она поступит, я не знал: надеялся, что она сама придумает что-нибудь. Да и одно только ее сочувствие, одна ее готовность расправиться с моими недругами были бы для меня бальзамом, неоднократно излечивавшим меня раньше.
На этот раз я ошибся. Тщательно обрабатывая мои синяки, няня мягко, но недвусмысленно дала мне понять, что ни на какую помощь из дома в данном случае рассчитывать не следует. Мама весь день на работе, приходит усталая, вечерами еще учится. Сама няня вертится по очередям, на кухне, с уборкой, да и вообще: чего ради она потащится в школу, что там увидит, в чем разберется, кто станет ее слушать?!
Я долго не мог уснуть в ту ночь. Вроде все так и было, как сказала няня, а вроде она бросила меня на произвол судьбы… В душе цепко держался горький осадок и в то же время было как-то тревожно, по-хорошему тревожно, даже радостно, пожалуй: передо мной вдруг словно бы распахнулась калитка, открывать которую мне одному было раньше строжайше запрещено. Лишив меня своего покровительства, няня сняла табу, разрешила мне остаться с жизнью один на один, благословила — не без грусти, вероятно — на то, чтобы я в дальнейшем рассчитывал только на себя или на своих друзей, когда такие объявятся. И ведь не на один раз благословила, не на один день… Навсегда? Что это значило, я даже представить себе не мог.
Долго колебались чаши весов. Няня давно спала и, как обычно, тихонечко, ровненько похрапывала во сне, когда я окончательно решил, что обвинять в предательстве некого, что так оно и должно быть. Не могла же няня давать сдачи всем, кому охота задеть меня…
Желающих было — хоть отбавляй. Заманчиво: самый маленький, щуплый, тихоня, среди шпаны дружков — никого, с виду на «гогочку» смахивает, особенно в школе, в блузе на резинке — мама почему-то считала такие блузы самым подходящим для мальчика костюмом.
Словом, первое время я все уступал и уступал. Не знал, как иначе. Терпел всякие гадости. Сносил превосходство разных подпевал, которыми, в свою очередь, помыкали боссы — тем-то меня и видно не было.
Потом сразу произошли два события: я заручился покровителем и, перестав приглядываться и прилаживаться, дал наконец первый раз сдачи.
Как ни странно, это оказалось прямым результатом того, что я на редкость хорошо знал модный в те годы немецкий язык.
Моя умница мама, едва только мы перебрались в Ленинград, отдала меня в немецкую группу. Шестеро-семеро ребят дошкольного возраста проводили целые дни с воспитательницей-немкой — гуляли, играли, занимались самыми различными предметами и даже обедали вместе у одного из учеников, на квартире которого шли занятия. Все вместе взятое стоило не так уж и дорого; хоть мы и жили на скромный заработок мамы, только приобретавшей тогда профессию, но этот расход мама считала первоочередным.
Немку нашу звали Евгения Павловна. Сокращенно — Евгеша. Я многим ей обязан.
Она помогла нам просто и органически, безо всякой зубрежки, понять — нет, не понять, ощутить, — как безбрежна человеческая культура, как широко можно — и следует! — смотреть на вещи, как гуманны основы нашей цивилизации. Мало кому такое ощущение доступно в шесть-семь лет, а жаль, оно может очень пригодиться впоследствии. Мы же читали в подлиннике таких авторов, как Гете, Шиллер, Гейне, и нам квалифицированно комментировали их произведения.
Помню, какое неизгладимое впечатление произвели на меня личность и поступки любимого шиллеровского героя Вильгельма Телля, особенно величавое достоинство, с которым Телль, отвергнув простую возможность солгать, отвечает на вопрос тирана Геслера о том, что сделал бы он со второй стрелой, если бы первой поразил не яблоко на голове сына, а самого мальчика. Для чего он держал вторую стрелу наготове?
Т е л л ь Стрелою этой я пронзил бы… вас, Когда б случайно я попал в ребенка, И знайте: тут бы я не промахнулся.Я и сейчас не могу без волнения читать эти гордые строчки.
Евгения Павловна на немецком языке — по-русски мы с ней вообще не говорили — готовила нас к поступлению в школу по всем предметам; это благодаря ее урокам я поступил сразу в третий класс — на одном чтении далеко не уедешь.
Я не встречал никого, кто к концу школы, да и института пожалуй, успел бы выучить иностранный язык так хорошо, как я знал немецкий, п о с т у п а я в школу, — ребенку неизмеримо проще. Своим одноклассникам я должен был казаться существом отчасти сверхъестественным; такая расстановка сил сохранилась до самого выпуска, на уроках немецкого я имел законное право тихо заниматься любым другим предметом — лишь в особых случаях меня «призывали в строй». Плохо было только то, что легкость овладения школьной программой немецкого языка я как-то автоматически переносил и на другие предметы, а этого делать не следовало.
То есть сперва о моих познаниях в немецком никто из ребят не знал. Но вот, во время контрольной или чего-то в этом роде, я безо всякого усилия и специального умысла, так, между прочим, помог сидевшему через проход Леше Иванову, медлительному крепышу из рабочей семьи, сильному и справедливому парнишке. Леша был на год или полтора старше всех в классе — меня, таким образом, года на три, — учеба давалась ему с трудом, но он жил в самом что ни на есть бандитском доме, буквально набитом шпаной, и пользовался поэтому широким авторитетом в классе, в школе и за ее пределами.
Леша меня зауважал — как я потом понял, за ту легкость, с которой я ему подсказал, — и это сразу укрепило мое положение в классе и мою веру в свои силы.
И тут, откуда ни возьмись, повод к драке.
Пересаживая нас в очередной раз, классная руководительница сделала моим соседом по парте Женьку Есипова, типичного представителя племени, с самого детства прекрасно умеющего использовать обстоятельства. Скорее всего, я не совсем точно употреблю здесь старое слово, но не могу удержаться — так хочется мне назвать подобных субчиков в ы ж и г а м и.
Готовность этого племени ходить на задних лапках перед сильными мира сего очень помогала шпане держать в страхе всю школу. Женька заискивал и перед учителями, но, чтобы стать их любимчиком, от него не требовалось дать мимоходом затрещину безответному — там ценились другие качества и методы, и Женька ни одним из них не брезговал. Для того же, чтобы заручиться покровительством кого-нибудь из «всесильных», такие выжиги, как Женька, были готовы оказать тому любую услугу, лишь бы она была замечена и оценена по заслугам. А уж поиздеваться над слабеньким и заодно поразвлечь класс — это племя заискивает не только перед боссами, но и перед массой, так, на всякий случай, — ему было раз плюнуть.
Откуда что берется!
Соседство со мной давало этому крупному, белотелому, рыхлому человечку с кривой усмешкой на толстых, безвольных губах, с чуть наклоненной на сторону головой, с пригашенными тусклыми глазками широчайшую возможность развернуться вовсю.
В третьем классе я был еще аккуратным. Учебники. Краски. Линейки. Карандаши. Вставочки — так называли в Ленинграде ручки, в которые в с т а в л я л и с ь стальные перья для письма. Все вышеперечисленное могло быть позаимствовано у меня в любой момент. Да еще и без отдачи.
Я плохо играл в перышки, меня ничего не стоило обыграть, перевернув весь мой скромный запас специально заточенным пером № 86 или полукруглыми рондо, опрокинуть которые я никак не мог, хотя тренировался дома и дома все прекрасно получалось.
Поначалу я старался изо всех сил, учил уроки; Женька списывал у меня и ждал моей подсказки с таким видом, словно делал мне одолжение.
А я терпел. В душе накапливалась злоба, но я терпел потому, что не видел никакого другого выхода, не знал, как мне сбросить его тиранию. Я был явно намного слабее и побить Женьку не мог.
Но однажды мое терпение лопнуло. То ли я отказал ему в каком-то совсем уж нахальном требовании, то ли не подсказал вовремя — не имеет значения.
Я взбунтовался.
Потом — испугался до смерти. Хотел загладить свою вину, но Женька сказал, что он меня проучит.
Остаток урока я просидел в тупом ужасе. А едва только прозвенел звонок и учитель вышел из класса, Женька с грохотом отодвинул в проход нашу парту и еще две соседние. Образовавшийся прямоугольник предназначался для драки, схватки, стычки.
Мальчишки немедленно сгрудились вокруг, да и некоторые девочки, хихикая, устроились на партах поодаль.
Сперва я только защищался, а Женька наступал, выкрикивая разные обидные слова. Он не бил меня больно, приберегая это к финалу; он мучил меня, он играл мной как кошка мышкой, он обидно смазывал меня по щекам нечистыми, потными, жирными ладошками.
Может, отвращение и сыграло решающую роль?
Нет, скорее всего, Женька сам, делая очередной выпад, фигуряя перед зрителями, оступился и наткнулся щекой на мой обороняющийся кулак (я до сих пор уверен, что щека у него была дряблая, как у бульдога). Мгновение, не более, но я успел заметить, как что-то похожее на удивление, на сомнение мелькнуло в его глазах — он на секундочку заколебался.
Этого оказалось достаточно. Все обиды, унижения, все муки, связанные с унылой бесперспективностью моего внеучебного существования в школе, неожиданно воскресли и заявили о себе. Я мигом припомнил разговор с няней, ее завет действовать самому. Я встретил взгляд серых, спокойных глаз Леши Иванова, стоявшего совсем близко и с интересом наблюдавшего за нами, — мне почудилось, что Леша подбадривает меня. Где-то дальше мелькнула тревожно вытянутая шея и две косички…
От всего этого, вместе взятого, но главное все же, кажется, от брезгливости я ощутил такой прилив силы, что схватил лежавшую на чьей-то парте линейку и двинул Женьку по лицу узким, измазанным чернилами деревянным ребром.
Удар линейкой был бы, пожалуй, осужден ребятами, если бы мы дрались на равных. Но поскольку мышь осмелилась поднять руку на кошку, класс сочувственно загудел и придвинулся поближе, чтобы не упустить подробностей.
Такое случалось не каждый день; я чувствовал себя героем Майн-Рида.
К моему изумлению, Женька сразу же дрогнул. Я был еще слишком мал и не знал, что обстоятельства используют, как правило, трусы. Вновь замахнувшись линейкой, непроизвольно, автоматически, я точно убедился, что в глазах у Женьки — страх. Он отступил немного, закрылся рукой, и тогда я ударил вторично, стараясь почему-то дотянуться линейкой до его макушки — он был почти на голову выше меня.
Я попал ему в висок. Он закрыл лицо обеими руками, а я, отбросив бесполезную, как мне показалось, линейку, стал изо всех сил молотить его крепко сжатыми кулаками.
Женька согнулся, я схватил его за шею и свалил на пол.
Это было настолько неожиданно, что я снова испугался. Вот обозлится, думаю, вскочит, и… Но он остался лежать. Тогда меня понесло. Остановиться я уже не мог. Напрочь позабыв свое излюбленное «лежачего не бьют», испытывая неслыханное наслаждение, я бил и бил это рыхлое тело, так долго и так изощренно мучившее меня, а теперь покорно сносившее мои удары.
Я обнаглел настолько, что, сам того не желая, предложил ему встать, а когда он этого не сделал, продолжал бить его — теперь уже куда придется.
Так научился я не сдерживать свою ярость, так вкусил запретный плод.
Ребята затихли, но никто и не подумал прийти Женьке на помощь. Его не любили. Только когда Женька стал громко реветь, прибежавшая из коридора его сестра-близнец Валентина оттащила меня от брата.
Я дышал тяжко, как после трудной и неприятной работы. Но душа — пела. «Четыре сбоку — ваших нет», — лезла мне в голову еще одна любимая нянина присказка, заимствованная ею неведомо когда из словарика завзятых картежников.
— А ты — ничего, — сказал Леша Иванов и обвел глазами толпившихся вокруг; никто не возразил.
Год спустя я различил бы в его словах обидное снисхождение, тогда мне было не до оттенков. Я победил и считал, что вполне заслужил похвалу.
Парты поставили на место, вскоре начался обычный урок, словно ничего особенного не случилось, за ним другой.
И вообще, жизнь потекла по обычному руслу.
Только меня после этого случая походя не задевали.
Если трогали, то без унижения; если дрались, то на равных. А кто же станет связываться с самым маленьким, если на равных?
Удивительнее всего было то, что и «стеночки» на улице я мог теперь не дрейфить — тоже словечко из тех времен. Меня не тронули в тот день, хотя я очень боялся, что кто-то неведомый станет мстить за Женьку, — пропускали и в последующие.
Может, Лешка посодействовал?
Кто его знает.
Я уверен только: если бы няня не дала мне понять, что мосты сожжены и отступать некуда, если бы она, по примеру многих родичей, кинулась вытирать слюни своему чаду, да еще, не дай бог, отправилась в школу выяснять отношения, я едва ли решился бы на эту драку, а быть может, и на многие последующие — и в буквальном, и в переносном смысле.
А не научившись давать сдачи, я мог не научиться и уважать себя.
Чего стоит человек, не уважающий даже самого себя, — понятно и без комментариев.
Няня помогала мне осмысливать окружающее и иначе.
Год спустя, во время нашего с ней путешествия к ее родным в Крым, она преподнесла мне первый в моей жизни наглядный урок мужества.
Крым… Я столкнулся в ту поездку не с приморскими городками этого своеобразного края — Евпатория, Ялта были мне уже немного знакомы, — не с его южным берегом, нет. Нянины родственники на курортах не жили, они в Крыму р а б о т а л и, и я, побывав у них, был неприятно поражен жесткостью так непохожей на северную природы, придавлен к земле палящим зноем, неведомым мне ранее, удивлен оттенком чего-то явно иноземного, особенно по сравнению с той же русской деревней. Не забудьте, это был еще тот старый Крым, с генуэзскими, греческими, турецкими, но главным образом татарскими названиями — Бахчисарай, Карасубазар, Магарач… — с татарскими обычаями и одеждой, и базарами, и блюдами, с садами, виноградниками, табачными плантациями…
Много лет спустя, когда я, волей случая, стал из года в год входить в контакт с огромным коллективом винодельческого совхоза на западном берегу Крыма, под Севастополем, и сблизился кое с кем из его руководителей и рядовых виноградарей, виноделов, механизаторов, я вновь ощутил беспокойное дыхание трудового Крыма, и вот тогда, только тогда, уже взрослым, я впервые почувствовал себя в Крыму по-настоящему дома — как и подобает человеку, попавшему на родину, — впервые осмыслил свое отношение к этим сказочно прекрасным скалам, обильно политым и потом, горем, и кровью людской. И я твердо знаю теперь, что мое отношение к Крыму не имеет ничего общего ни с иждивенчеством «отдыханцев», ни с торгашеством, рвачеством и жлобством тех, кто призван обеспечивать развеселое курортное житье. Мои симпатии четко на стороне тех, кто в Крыму трудится или защищает его от врагов, а вовсе не на стороне «снимающих сливки»…
Во время нашей с няней поездки я как раз и повидал нянину мать — бабусю, и няниных братьев, и сестер, и кучу разной мелюзги вроде меня; один из братьев, дядя Мариан, отвез нас в Мамут-Султан, имение, принадлежавшее некогда купцу Елисееву, — там работал муж любимой няниной сестры Марии Францевны, — а потом и к другим родственникам.
Тогда-то я с изумлением обнаружил, что м о я няня кровно связана с большой семьей, сплошь состоящей из приветливых, веселых, работавших, казалось, шутя и очень доброжелательно настроенных по отношению ко мне людей. Я знал, конечно, об их существовании и раньше, но знал лишь по няниным рассказам о п р о ш л о м, а они, оказывается, были н а с т о я щ и м. Да еще каким живым… Да как их было много… Я был гостем этих людей, ел и спал в их домах. И хоть на самом деле их гостеприимство было связано вовсе не с тем, что я, сам по себе, его заслуживал, будучи каким-то на редкость уж славным мальчиком, а с тем прежде всего, что меня опекала няня, — но ведь и я чего-то стоил, раз она любила меня.
Так, неожиданно, пребывание среди няниных родных определило для меня реальный вес, реальную силу наших с няней отношений. И зародившаяся было в моем сердце боязнь того, что няня может взять да и уехать к ним обратно, смешивалась с чувством гордости: она из-за меня, только лишь из-за меня не делает этого. Из-за меня…
Погостив несколько дней в Мамут-Султане, мы отправились в деревню Барабановку к Виктории Францевне, няниной старшей сестре. С нами ехала Екатерина Францевна, «младшенькая», и муж ее, учительствовавший в поселке Зуя, человек грузный, немолодой, степенный, немногословный.
Пройдет всего двенадцать лет, и имя их старшего сына Миши Земенкова будет значиться на обелиске — среди имен других расстрелянных фашистами в Зуе партизан.
Двигались мы на той же паре лошадей дяди Марианчика, другого транспорта не было; автобусы того времени — неуклюжие, маломощные — едва ли прошли бы там, где мы ехали. Старожилы помнят, что представляли собой крымские дороги второго и третьего разряда: узкие, крутые, многократно пересеченные в разных направлениях глубокими ложбинками от стекающей во время ливней с гор воды, усеянные коварными для колес камнями, припорошенные белесой пыльцой, разрезанные на отрезки и отрезочки речками и речушками, переезжать которые приходилось вброд…
Перед особенно крутым и долгим спуском к одной из таких речек — она шумела где-то далеко внизу, видно ее не было, — наша повозка остановилась. Тетя Катя и ее муж вышли и предложили нам последовать их примеру.
— Зачем? — спросила няня.
— Тут все выходят, — ответила тетя Катя.
Я приподнялся было, хотя вылезать на прибитую зноем пыльную дорогу особого желания не было, но неожиданно был мягко усажен на место лежавшей у меня на плече няниной рукой.
— Мы съедем, пожалуй, — сказала няня.
— Да что ты, Фрося, зачем? — удивилась тетя Катя. Даже ее молчаливый супруг и тот пробурчал что-то сквозь усы.
Ах, как просто было бы жить на свете, если бы мы умели досконально объяснить смысл каждого своего поступка! Сколько раз потом мы вспоминали этот случай, и няня никогда не могла толком ответить на вопрос, почему отказалась она выйти из повозки.
— Чего полверсты по такой жаре пешком тащиться, — улыбнулась няня сестре. — Съедем ведь? — обратилась она к дяде Мариану, который и не собирался слезать с облучка.
— Куда же мы денемся… — спокойно отозвался тот; веселый, незлобивый Марианчик — так называли его все, хотя лет сорок пять ему должно было быть, по меньшей мере, — особенно мне нравился: так же как и моя няня, он с уважением относился к детям.
Должен признаться, что, несмотря на столь оптимистическое заявление человека, которому я безусловно доверял, съезжать с вертикальной кручи было страшновато. Прижавшись к няне, я время от времени закрывал глаза. Теперь мне очень хотелось присоединиться к тете Кате и ее мужу, спокойно шагавшим впереди повозки; они могли бы уйти далеко вперед, — обогнать спускавшихся как-то боком лошадей, то и дело приседавших на задние ноги, не составляло труда.
Но запросить пардону и выказать, таким образом, трусость я не смел: нутром чувствовал, как это нехорошо — оказаться боязливее женщины.
Когда мы были на самой горбинке и повозка, зацепившись за очередной камень, накренилась особенно сильно, я случайно заглянул няне в лицо, и мне показалось, что и она не прочь изменить свое странное, свое нелогичное, свое отчаянное решение, остановить повозку и выйти, но что-то удерживает ее. Впрочем, может, остановиться на спуске было уже нельзя…
Много раз шел я потом на риск — и когда это было действительно необходимо, и когда вполне можно было «выйти из повозки». Чутье подталкивало меня в таких случаях, инстинкт, которому я приучился доверять. Я погрешил бы против истины, заявив, что каждый раз вспоминал при этом нашу с няней поездку в Крым. Но, мне кажется, именно тогда, на безвестной крымской круче, — как вы, несомненно, догадались, мы благополучно съехали вниз, иначе… — мною был сделан первый шажок к тому, чтобы впоследствии не слишком дрожать за себя.
Да, няня не только освещала мир вокруг меня. Словно целебные травы в лесу, она указывала мне незыблемые части этого мира — и я твердо знал, что уж на них-то могу положиться.
Точка опоры, точка отсчета есть, вероятно, у каждого; у одних они более подлинные, лучше, полнее соответствуют эпохе, у других — менее подлинные. Наша с няней точка отсчета обладала прочностью гранита и годилась для всех эпох и народов благодаря сочетанию абсолютно земного начала с высокой одухотворенностью и чистотой помыслов. Можете иронически усмехнуться, но это обстоятельство пригодилось мне впоследствии при занятиях историей — и как пригодилось!
Но я не знал тогда об этом…
Я все рассказываю о том, какой доброй, сердечной, веселой, задорной была моя няня — и ни слова о том, какая трудная жизнь выпала на ее долю.
Очень уж скромен был наш семейный бюджет, все надежды были на финансовый гений няни — на ее плечи легло нехитрое наше хозяйство.
Легло, да так и пролежало без перерыва, без передышки сорок лет.
Трудности семьи были прямым отзвуком трудностей страны.
Только умелые нянины руки могли состряпать вкусный обед из тех немногих продуктов, что мы получали но карточкам. Я твердо запомнил снетки, чечевицу, а из няниных «фирменных» блюд — нечто под названием «кади-мади-иван-петрович»: в большую кастрюлю клалась картошка, немного мяса или рыбы, если их в этот день удавалось получить, а также все, что оказывалось под руками; все это обильно сдабривалось томатным соусом и долго тушилось на керосинке. Частыми гостями на нашем столе был винегрет — его мы называли модным словечком «силос» — и котлеты. В отличие от многих других, кого в детстве пичкали котлетками — очевидно, невкусными, — я до сих пор люблю это незамысловатое блюдо; таких восхитительных котлет, как нянины, с такой идеально хрустевшей корочкой я, правда, больше никогда не ел.
Только няня могла оставаться неунывающей после бесконечного стояния в очередях — помочь ей в этом, занять очередь или тем более «достать» самому что-нибудь сверх обычной программы, было для меня делом чести. Я так привык помогать няне по хозяйству, особенно в том, что мне было легче сделать, чем ей, — натаскать на четвертый этаж несколько мешков дров, на неделю, сходить с большим бидоном за керосином, — что стремление добровольно облегчить ее труд и заслужить ее улыбку спроецировалось на всю мою дальнейшую жизнь. Легко и просто, отнюдь не считая это зазорным и не делая из пустяка проблемы, я брал на себя часть хозяйственных забот в семье и, смею думать, неплохо со своими обязанностями справлялся. Читать витиеватые дискуссии на эту волнующую тему мне всегда было дико.
Только няня, наш добрый ангел, могла быть бесконечно щедрой и до копейки вкладывать в общий котел ту минимальную зарплату домработницы, которую она, «по договору», получала от мамы, а впоследствии и свою скромную пенсию.
Несмотря на это няне всю жизнь приходилось экономить. В магазинах она постоянно покупала не лучшие продукты, даже если они были в наличии, а те, что подешевле. Всю жизнь — легко ли это? Меня потрясала ее выдержка, когда я слышал, как она, в очередной раз, спокойно и благожелательно советовала соседке по очереди, как сделать особенно удачную покупку — у нее самой не хватало на это денег. В наших беседах дома, достаточно откровенных, няня ни разу не возмутилась подобным неравенством, не посетовала, не попрекнула, хоть и за глаза, тех, кто уже тогда мог себе позволить швырять деньги без счета. Сам я не раз завидовал людям с толстой мошной. Мне знакома была, разумеется, формула «не в деньгах счастье», я понимал, что это не просто дидактика, что в такой постановке вопроса есть глубокий жизненный смысл. Но, увы, разница между истиной провозглашаемой и познанием, вынашиваемым собственным горбом, всегда огромна. Если бы еще в с е вынуждены были экономить — другое дело.
В годы войны, когда мама и няня оставались вдвоем и когда тратить деньги было, собственно, не на что, «финансовая система» нашей семьи наладилась было, но после того, как я вернулся из армии и продолжил учебу, нам снова редко когда удавалось дотянуть благополучно до первого числа. И мы с няней завели в ящике буфета, под салфетками, очень наивную, жиденькую черную кассу; нужно ли говорить, кто чаще прибегал к ее помощи — приученная жизнью к самой строгой экономии моя няня или двадцатипятилетний студент, успевший привыкнуть к обеспеченному армейскому существованию.
Думаете, она хоть раз упрекнула меня?
Было еще одно событие, необычайно горестное для всех, неотделимое в моей памяти, только в моей, от того поистине разностороннего влияния, которое продолжала оказывать на меня няня.
Смерть Кирова.
Первая смерть — после смерти Ленина, — которая потрясла молодой организм нашей страны.
Морозным декабрьским днем я вместе со всем классом и всей школой отстоял длинную очередь в Таврический дворец, чтобы пройти мимо гроба человека, о простоте, доброте и мудрости которого в нашем городе говорят уже полвека.
Мне было двенадцать с половиной.
Мы прошли мимо гроба точно так же, как сотни людей проходят мимо других гробов в дни похорон выдающихся деятелей.
Не помню, видел ли я лицо Кирова, не помню, кто стоял в тот момент у гроба, — мне всегда было стыдно пялиться на людей, удрученных горем.
Но для меня эти несколько минут, пока мы шли через зал, означали мое личное участие в Революции.
Это ощущение помню отлично.
Я словно давал клятву верности.
Занятия в тот день отменили, и я прямо из Таврического пришел домой. Мама была еще на работе.
Няня не спросила, почему я так рано, — о том, что мы пойдем прощаться с Кировым, дома знали накануне.
Она вообще ничего не сказала, только глянула на меня и предложила поесть.
Я не отказался, — мы простояли у дворца гораздо дольше, чем предполагалось, я замерз и был голоден.
Пока я ел, няня сидела напротив. Вещь почти небывалая: теперь у нее редко хватало времени так вот спокойно побыть со мной днем.
— Много народу было? Близко прошли, видел его?
Она спрашивает, а я киваю головой, продолжая жевать бутерброд с котлетой и прихлебывать из стакана чай с размешанным в нем вишневым вареньем — свой любимый напиток.
— Хорошие люди всегда рано гибнут… Таких мало, как он был…
Я все ем да ем.
— Кого-то теперь на его место?.. И какая паскуда его…
Что-то сдавливает мне горло, есть и пить невозможно, я встаю, огибаю наш квадратный обеденный стол и, как в раннем детстве, слепо ищу, куда бы уткнуться носом.
— Не реви, большой уже… Слезами горю не поможешь…
И снова:
— Почему хорошие люди… так… без времени уходят?
Она помогала мне переносить эту первую в моей жизни смерть.
Когда, семь лет спустя, вокруг меня стали падать мои фронтовые товарищи, я был уже отчасти подготовлен к тому, что смерть надо стараться переносить спокойно и мужественно, без причитаний, продолжая по возможности движение вперед; мне было проще, чем многим другим, ежедневно встречаться со смертью, в ушах моих продолжали звучать нянины слова:
«Хорошие люди всегда рано гибнут…»
У меня хоть это утешение оказалось в запасе.
«Хорошие люди…»
Такие обычные, затертые даже слова — когда их произносят всуе; такие точные — когда дело касается людей, которых ты знал и любил.
Вскоре улице Красных Зорь, с которой началось мое знакомство с Ленинградом, вернули ранг проспекта.
На этот раз он был назван Кировским.
А еще через несколько лет я совершил тот рывок, к которому мы с няней готовились долгие школьные годы, — поступил в университет.
В школе я учился очень неровно. Мое стремление ни в коем случае не оказаться «гогочкой» увело меня так далеко в сторону от столбовой дороги, что, когда нашему директору предложили передать столько-то учеников в другую школу — а передают, как правило, не самых желанных, — в их число попал и я.
Моя вторая школа тоже оказалась на Фонтанке, в здании популярного некогда Екатерининского института благородных девиц, удобном, просторном, с огромным садом, где мы занимались физкультурой, и очаровательным двухсветным актовым залом. И здесь, в старших классах, я отметками не блистал, но кончил школу с «золотым» аттестатом. Не из самолюбия, не от избытка знаний и не потому, что «иначе не мог». Просто незадолго перед тем вышел закон о приеме в вузы без экзаменов тех, кто…
Впрочем, и эта причина, скорее всего, не была главной — сдать вступительные казалось мне делом менее страшным, чем, превратившись в отличника, поставить на карту репутацию «своего в доску». Знаю: такая позиция кажется сейчас дикой натяжкой — благословенно будь время, когда она таковой не была.
Главным было все же стремление оправдать надежды, возлагавшиеся на меня мамой и няней. Так кончали школы дети наших знакомых; так кончил сын тети Риты Володя, мой любимый двоюродный брат, которого мне всегда ставили в пример.
И когда наш класс вышел на финишную прямую, я совершил над собой невероятное усилие, получил заветный аттестат и был щедро вознагражден за это тихой гордостью домашних.
Проучившись год в университете, я осенью тысяча девятьсот сорокового был призван в армию.
Так мы надолго расстались с няней, но помощь ее я и в армии — даже там! — продолжал ощущать на каждом шагу.
Вскоре выяснилось, например, что няня исподволь подготовила меня к простоте и внешней грубоватости армейских отношений; в отличие от более субтильных товарищей по казарме, я преодолевал сопротивление необычной среды сравнительно легко.
А разве не няня научила меня тому, что за самую, казалось бы, трудную работу, которой не видно конца, надо браться смело и весело? Не так уж все трудно и невыполнимо, как это кажется с первого взгляда.
— Начать да кончить! — приговаривала, бывало, няня, приступая к уборке огромной коммунальной квартиры на Невском, один коридор которой тянулся метров на двадцать пять.
«Начать да кончить…» — утешал себя и я, усаживаясь с тремя другими солдатами вокруг ванны, полной картофеля; чистить картошку для всего полка мы, проштрафившиеся в этот день, должны были после отбоя, за счет своего сна, а ванна, стоявшая почему-то посреди кухни, была такая, что в ней мог лежать, вытянувшись, петровский гренадер…
Я рассказывал, как весело смеялась няня во время катанья в харьковском лимузине и как во мне зародилась надежда на то, что и с чужими людьми можно подружиться, что это не так уж и трудно. Так вот, в годы войны незнакомцы встречались десятками, даже сотнями, и быстро сойтись с ними нередко означало завоевать друга, готового не только рискнуть для тебя жизнью, но и поверить тебе настолько, чтобы в критический момент мгновенно выполнить твое приказание.
И в этой обстановке, когда дело ежедневно шло о жизни и смерти, во мне воскресла через много лет нянина уверенность в том, что доброта всегда найдет отклик у человека. А ведь она никогда не внушала мне эту уверенность специально: она передала мне свое мироощущение мимоходом, своей повадкой, своим примером, с небрежной щедростью бесконечно богатого человека, не задумываясь, скорее всего, над тем, как будет воспринято ее поведение.
Когда началась блокада Ленинграда, почти шестидесятилетняя моя няня поступила уборщицей в трамвайный павильон на площади Восстания, чтобы получать рабочую карточку. Шла первая блокадная зима, голодная, как и у всех, возложившая на нянины старенькие плечи еще и заботу о создании в нечеловеческих условиях человеческого коллектива трех женщин — к ним, под нянино крылышко, перебралась тетя Рита.
И они пилили дрова для буржуйки, — пила отдыхает теперь у меня на стенке, согреваемой паровым отоплением. И носили воду из реки, — слава богу, мы в тридцать шестом переехали с Невского на набережную Фонтанки: носили столько, чтобы не только пить, но и умываться каждый день. Мама вообще, в каких бы условиях мы ни жили, мылась каждое утро до пояса холодной водой, даже если умываться приходилось в раковине на коммунальной кухне.
Они пережили блокаду более стойко, чем очень многие другие. Они сожгли под конец почти все стулья, но сохранили мои любимые книжки. Не отрицаю, кое в чем судьба оказалась милостливой к ним: бомба, полностью разрушившая дом номер три на улице Белинского, могла, разумеется, попасть и в наш, угловой, номер один. (Няня вообще была на редкость везучей; под конец жизни она умудрилась выиграть в лотерею холодильник.)
Но дело было не только в милостях судьбы.
Когда осенью сорок второго я приехал на недельку с фронта, я нашел их страшно исхудавшими: вместо полных, сравнительно молодых еще женщин, которых я оставил, уходя в армию, на шею мне кинулись две сухонькие старушки. Но мама уже поправлялась, а в доме было чисто, как всегда чисто, и шла знакомая мне до мелочей нормальная жизнь нашей семьи, — только, желая покормить меня с дороги, мне разогрели на стоявшей посреди столовой маленькой железной печке, выложенной изнутри кирпичом, что-то такое, чего я есть не мог. Оказалось, похлебка из бычьих кишок…
Я въехал в город поздно ночью, шофер полуторки, за буханку хлеба примчавший нас с берега Ладоги, высадил меня на углу улицы Белинского и Литейного проспекта, и я, увешанный чемоданами, свертками, тючками, в которых лежали продукты, мыло и табак, собранные на дорогу товарищами, шагал по той же улице, которую я оставил когда-то, шагал мимо окон — я знал их «поименно», — за которыми жили в мирное время мои школьные друзья, и мысленно приветствовал каждого из них.
Багажа оказалось так много, что втащить все сразу на третий этаж я был не в силах, пришлось перетаскивать партиями — от площадки до площадки. Добравшись наконец до нашей двери, я, не отдышавшись даже, дернул что было мочи медную рукоятку пропущенного сквозь стену колокольчика, сохранившегося с незапамятных времен и оказавшегося очень удобным при отсутствии электричества.
Я был так еще глуп, — вояка! — я настолько не был способен подумать о том, что́ может прийти в голову разбуженным посреди ночи резким звонком людям, что, когда из-за двери послышался обычный в подобных случаях вопрос «кто там?», я брякнул в ответ:
— Из военкомата.
Это я хотел сделать им сюрприз.
Хорошо еще, у мамы хватило ее всегдашней решительности. Она не колеблясь откинула массивный крюк и толчком распахнула дверь.
— Васька… — охнула она и упала мне на грудь.
Появилась няня, в халате, со слезами на глазах. Мы проговорили часа полтора, потом легли спать. И я снова очутился в своей постели, и няня подошла поцеловать меня на сон грядущий, а когда пунктуальные немцы начали ночной артобстрел и я что-то сказал маме, желая ее успокоить, то услышал:
— Спи, спи, сегодня не наш район…
Тут я, сержант-фронтовик, окончательно понял, что мы победим, и спокойно уснул.
А на следующий день я повстречал на углу улицы Ракова и Малой Садовой — забыл, как она тогда называлась, — свою бывшую одноклассницу Ирку Ш., веселую, оживленную, даже элегантную как-то не по возрасту, в котиковом манто, делавшем ее облик совершенно для меня непривычным. Три года пронеслись как-никак…
Ирка весело щебетала что-то, а я, в измазанном углем ладожского буксира полушубке и яловых сапогах, неловко переминался с ноги на ногу возле этого символа мирной жизни.
Я был так несказанно обрадован, встретив одноклассницу, я так надеялся узнать от нее хоть что-нибудь о судьбе других наших ребят, что сперва не обратил внимания на то, как резко выделяется Ирка на окружавшем нас блокадном фоне. Да и человек я был приезжий, помнивший город совсем другим.
— Ты сама что делаешь-то? — улучив момент, спросил все-таки я.
— Да… в булочной работаю… — небрежно уронила моя собеседница, продолжая излагать какую-то веселую историю; о наших с ней бывших одноклассниках она ничего не знала.
Так вот спокойно, ничуть не смутившись, ответила мне молодая, полная сил, прекрасно одетая женщина, за два года до войны окончившая среднюю школу. То, что мы с ней стояли в центре осажденного, истерзанного, едва начинавшего оживать и хоть как-то оправляться от страшных ран города, ее явно не тревожило.
Для нее это была норма.
В булочной… в булочной…
А для меня? В тридцатые годы молодых женщин со средним образованием было еще не так много и продавщицами они не работали…
Ошалев от неожиданности, я замер с открытым ртом, я, пришелец из другого мира, другой эпохи — с фронта, где нас прочно объединяло боевое товарищество.
Только что перед этим, бродя по городу и встречая на улицах здешних солдат, изможденных, ослабленных голодом, я размышлял о том, что мы там, на нашем о б ы ч н о м фронте, понятия не имеем, в сущности, каким напряжением каждой клеточки, какой живой, трепещущей в каждом окопе яростью приходится им держать оборону… «Какое чудо удалось им свершить, — с уважением думал я, — остановив превосходившего их, казалось, во всем врага, опьяненного успехами первых недель и близостью прекрасного Города…»
Сытая Ирка… в манто… в булочной…
А я-то собирался пригласить ее в расположенную поблизости Филармонию, где в ледяном мраморном зале шли уже концерты.
Потоптавшись на месте еще самую малость — чтобы не так уж сразу, — я пробормотал:
— Ну, всего…
И пошел себе, не оглядываясь.
Вечером няня, усталая после рабочего дня, прибрела потихоньку домой, разогрела еду, мы сели обедать, и я рассказал об этой встрече.
— Я всегда говорила, что Ирка не пропадет. Помнишь? — улыбнулась няня, прекрасно знавшая моих одноклассников и разбиравшаяся в оттенках их характеров, мне, по молодости, недоступных. — Ну и пусть работает себе на здоровье.
В голосе изможденной женщины не прозвучало ни малейшего осуждения.
— Вечно вы всех покрываете, — недовольно буркнула мама.
— А чего тут покрывать? — искренне удивилась няня. — Просто мы — так, а они — так…
А ведь она очень серьезно относилась ко всему, что касалось блокады. Когда много лет спустя в Ленинграде стали собирать деньги на памятник защитникам города, моя старенькая уже и слабая няня, почти не выходившая из дому, спросила меня как-то утром:
— Ты будешь вносить на памятник?
— Да, — ответил я. — После получки.
— И за меня внеси, — сказала она. — Сколько сможешь.
Я внес за нас обоих и еще за маму.
Всю сумму — на нянино имя.
Когда же меня демобилизовали наконец, мы с мамой приобрели на мое выходное офицерское пособие пишущую машинку — ту самую, на которой я перепечатываю сейчас эту рукопись, — чтобы прирабатывать по вечерам; я должен был кончить начатую до войны учебу в университете, это ни у кого из нас сомнений не вызывало.
Жизнь шла вроде мирная, но по инерции еще и блокадная. Няня продолжала работать в своем павильоне, и мы с ней сажали на самом краю Новой Деревни картошку, как сажали они с мамой все годы войны.
От нашего огорода было больше километра до трамвайного кольца, и, когда мы с няней отправлялись собирать урожай, я прихватывал с собой старенький велосипед, выделявшийся среди своих собратьев огромной красной рамой. На эту раму мы и грузили картошку — обычно мешка два, — и я вел велосипед до трамвая, а няня шла рядом. Затем я грузил мешки на переднюю площадку прицепного вагона, подсаживал туда же мою старушку, а сам мчался на велосипеде через весь Кировский проспект к остановке, ближайшей к нашему дому: я должен был доехать туда раньше трамвая, принять из вагона мешки и, снова на раме, довезти их до дома.
Няня очень гордилась этим, придуманным нами, почти бесплатным способом доставки картофеля, а также тем, что я всегда успевал обогнать трамвай. Это было не так уж и трудно, но няня привыкла радоваться каждому моему успеху — большому и малому.
Словом, время было опять сложное, и сложное настолько, что после посещения одного из лагерей военнопленных, строивших дороги и восстанавливавших жилые кварталы, у меня, помнится, сложилось впечатление, что пленные питаются едва ли не лучше всех в городе. Об этом свидетельствовал сытный ужин из общего котла, которым угостил меня замполит лагеря, мой старинный приятель; мы вместе ходили когда-то в дошкольную немецкую группу — вот в каких обстоятельствах пригодилось ему блестящее знание немецкого языка…
Несколько лет я учился, немного и работал, влюблялся, естественно, и няня находила массу недостатков у девушек, которые появлялись у нас в доме. Мама, измученная страшной послеблокадной гипертонией, ушла на пенсию, но стал зарабатывать я, жить нам стало полегче, и, когда пошли первые большие самолеты на внутренних линиях, я смог снова вместе с няней съездить в Крым. Только теперь я вез ее, а не она меня.
Видели бы вы, как спокойно, с каким достоинством, словно одна из вечных туристок-старух, американок или шведок, вошла няня в «ТУ» — я сразу вспомнил харьковское авто, — как уютно уселась у окошка, с каким аппетитом съела поданный нам завтрак… Можно было подумать, что она совершала подобные рейсы неоднократно.
И радовался же я, наблюдая ее седую голову на фоне заполнявшего иллюминатор ярко-синего неба и отчетливо понимая в эту минуту, на какую высоту поднялась вся наша страна, если мы с няней, весьма рядовые ее жители, можем не тащиться несколько суток в вагоне третьего класса, а п у т е ш е с т в о в а т ь наконец.
Няне было почти восемьдесят.
Старость — не радость.
Старость играет с человеком множество злых шуток, но есть одна — зловещая.
В старости тайные мысли, пороки, ухищрения — все выползает наружу. Ты привык уже маскировать какие-то не очень ловкие движения души, которые тебе не хотелось бы предавать гласности. Ты делаешь это автоматически, для тебя это привычно и просто. Но вот ты состарился и твое не столь подвижное уже лицо, исполосованное морщинами, начинает жить своей, отдельной от тебя жизнью, становится все менее подвластной тебе маской того, былого, полного сил, деятельного человека. Наконец наступает день, когда лицо предает своего хозяина и радостно выбалтывает каждому всю твою подноготную.
Лицо моей няни к старости становилось добрее. Даже в те редкие минуты, когда она в сердцах выговаривала какой-нибудь неумехе, ей никак не удавалось напустить на себя грозный или просто сердитый вид.
Умерла мама.
Судьбе было угодно, чтобы как раз к этому времени я, получив свой первый гонорар, а потом еще и еще один, купил «Москвича». Теперь я мог вывозить няню за город, на дачу, покататься, посетить кладбище, где похоронили маму, — все в той же Новой Деревне.
На кладбище машину приходилось оставлять у ворот, а самим идти пешком; до маминой могилы было примерно полкилометра. Сперва няня бодро отшагивала это расстояние, потом стала присаживаться по пути, все чаще, чаще, наконец этот путь стал ей вовсе не под силу. Что было делать? Пришлось прорываться на машине от ворот до церкви, откуда нам было уже рукой подать. Прорывался я любой ценой, ругался, угрожал, платил штраф, а потом наловчился беззастенчиво надувать кладбищенского привратника, шепча ему, — ему одному! — что я везу… архиерееву бабушку.
Как иначе мог я доставить няню туда, где была похоронена мать, с которой они бок о бок прожили целую жизнь, туда, где няня и для себя присмотрела местечко?
Няня едва сдерживала смех, изображая «влиятельную старуху», за могилой ухаживала сама, старательно и неторопливо, а меня попросила только заказать ограду повместительнее; каждую осень я должен был красить ее черным лаком.
И теперь, приближаясь к заветной для меня ограде, я в самой глубине души чуточку надеюсь услышать среди шелеста кустов и деревьев ласковую нянину воркотню:
«Здесь ты плохо покрасил, опять поржавело…»
Я часто думаю — конечно, я не уверен в этом, но мне так кажется, — что между няней и мной издавна, с первых же месяцев нашего совместного существования, установилось не только полное взаимопонимание, но и некое более глубокое, более органическое единство; наши организмы оказались связаны таинственной, невидимой, но становившейся все более прочной нитью, разорвать которую не могла никакая внешняя сила.
Когда я в детстве болел, само присутствие няни где-нибудь поблизости доставляло мне облегчение — физическое, разумеется, — в детстве мы не тревожимся еще за исход нашей болезни. Стоило няне войти в комнату, и я сразу чувствовал себя увереннее, болезнь не могла уже властвовать надо мной так безраздельно, как минуту назад, резко возрастала сопротивляемость моего ослабевшего организма — так сформулировал бы я свою мысль теперь, — он как бы получал в эти минуты поддержку от здорового, крепкого организма няни, заряжался энергией, которой она делилась со мной.
А уж если няня садилась рядом и клала мне на лоб руку, мне становилось и вовсе хорошо.
Такое положение дел не было, по всей вероятности, чем-то исключительным; скорее всего, няня, как и каждый человек, «излучала» энергию постоянно, просто в дни болезни ее поддержка бывала мне особенно необходима и ощущалась более отчетливо.
К няниной старости связь наших организмов не ослабла, но приняла как бы обратный характер: теперь уже мой, более сильный, организм поддерживал ее, более слабый.
Стоило мне надолго и далеко уехать — не мог же я сидеть как привязанный дома, — и все нянино существо немедленно реагировало на разлуку со мной, и реагировало так отчетливо, так явно, что няня нередко заболевала, не какой-нибудь конкретной болезнью, а попросту от старческой слабости.
Раз как-то, уже после смерти мамы, мы отправились с женой на теплоходе по Волге, поездка была рассчитана дней на двадцать. Мы благополучно доплыли до Астрахани, откуда наш теплоход должен был повернуть обратно и вновь везти нас на север. Но в Астрахани, во время обеда, мне принесли телеграмму, извещавшую о том, что няня ослабла и находится в клинике.
Собрать чемоданчик с самым необходимым и доехать на такси до местного аэродрома не составило труда; на аэродроме мне повезло и с расписанием, и с билетами. И в тот же день, поздно вечером, я сидел, облаченный в белый халат, возле няниной кровати, а она, держа меня за руку и удовлетворенно улыбаясь, тихонечко дремала.
Я действительно застал ее крайне слабой; она не вспомнила даже о том, что я уезжал куда-то, и мое присутствие не удивило, а только обрадовало ее.
На ночь меня прогнали домой, рано утром я пришел снова. К вечеру этого дня нянино состояние улучшилось так разительно, что в клинике созвали, кажется, небольшой консилиум и отметили особо успешные действия лечившего ее врача. На третий день мы закрепили успех, а на четвертый я смог, не боясь за няню, улететь в Куйбышев, вновь ступить там на борт теплохода, на котором продолжала плыть жена — расписание не подвело и на этот раз, — и благополучно завершить путешествие.
Мы с няней делали все, чтобы отодвинуть неизбежное, но все же пришли, примчались дни, когда ослабели вечно трудившиеся нянины руки, ослабели настолько, что ей стало трудно принести из кухни сковородку с моим любимым лакомством. Потом ослабела она вся, и уже вообще не могла накормить меня, и тихонько убивалась этим. Потом я грел ей еду, или соседка по квартире (жена жила со своими родителями, отдельно), или наезжавшая время от времени нянина сестра — та самая тетя Катя, которая не пожелала когда-то съехать с нами за компанию с крымской кручи..
Потом няня умерла. Опять заболела во время моего отпуска, попала в больницу и умерла у меня на руках.
На этот раз — умерла…
Она успела еще заняться воспитанием следующего поколения нашей семьи — моей дочки, поколения совсем уже современного. На дочку у няни всерьез не хватало сил, разве что летом, на даче, где обе они расцветали, — есть фотокарточка, где старая и малая сняты вдвоем, она всегда висит у меня над столом, как бы замыкая многие линии жизни, начатые в далеком детстве.
В последние годы няня подолгу сиживала у окна, из которого, правда наискосок, был виден волшебный простор петровской Невы, возле самой крепости. Работать стало трудно, и няня читала потихоньку. У покойного кресла висел отрывной календарь. Оторвав очередной листок и внимательно изучив все написанное на обороте, няня обычно использовала такие листки как закладки.
Сейчас, много лет спустя, я получаю от нее привет, найдя меж страниц взятой с полки книги листок календаря.
Мне одному понятный привет.
И у меня сжимается сердце.
Так же бывало в первые годы после ее смерти, когда мне снилось, что няня уехала от меня почему-то обратно в Крым и там бедствует; я просыпался в тоске, в холодном поту, весь дрожа от негодования на самого себя.
Если же отвлечься от хронологии нашей с няней совместной жизни, от последовательного углубления нашей дружбы и нашей взаимной любви, я должен сказать, что самым главным, что передала мне няня, помимо призыва к доброте, было жизнелюбие — умение находить смысл в простых радостях, насладиться солнечным днем, омывающим воздух дождем, искренним собеседником, даже хорошим завтраком, пожалуй.
В кинофильме «Грек Зорба», снятом по роману мудрого Казандзакиса, рассказывается о том, как жизнелюбец — неудачник и фантазер — помогает постичь смысл жизни молодому англичанину, попавшему на родину своей матери, в Грецию. И когда обаятельный актер Энтони Куинн танцует на экране под насыщенную густым и тяжелым солнечным светом музыку Теодоракиса — забываешь о сюжете, о только что убитой полудикими фанатиками женщине, о месте и времени действия. Просто один человек учит другого танцевать и отдаваться танцу ради танца, но и чтобы научить его сердце внимательно вслушиваться в жизнь. Может быть, только, в «вечной стране» Греции, колыбели нашей цивилизации, и могла зазвучать с такой силой эта вечная тема: человек и природа, их единство, составляющее основу жизни, их таинственное братство, такое стойкое, такое непобедимое, такое бессмертное…
Так вот, няня учила меня танцевать.
Когда она умерла, мне было сорок три года. Я успел немало пережить, шесть лучших молодых лет провел в армии и четыре из них — на фронте самой кровавой в истории войны, но только после смерти няни я почувствовал себя окончательно взрослым.
Теперь уже самостоятельно, в одиночку шел я каждый день на сближение с суровым нашим миром.
До этого за моей спиной ежечасно стоял верный друг — няня. А когда у тебя за спиной верный друг, можно ничего, совсем ничего не бояться — это знает каждый мальчишка.
II
Вернемся на минутку к словам Монтеня о том, что наше воспитание зависит, главным образом, от наших кормилиц и нянюшек.
С кормилицами вроде все просто. Пышущие здоровьем женщины из народа, наряду со своим ребенком вскармливающие еще и чужого младенца, безвозвратно ушли в прошлое. Заметим только, что роль кормилиц отнюдь не ограничивалась спасением стольких-то малышей от гибели: десятки представителей имущих классов сохраняли до конца дней своих уважение ко «вторым матерям», часто — и к своим молочным братьям и сестрам, и это не могло не вносить в их мироощущение демократического начала. И Диккенс, и другие авторы минувших столетий, в словах которых у нас нет оснований сомневаться, свидетельствуют об этом достаточно обстоятельно.
Правда, ежели копнуть поглубже, окажется, что и на кормилиц имелись разные точки зрения. «Женщина, кормящая за деньги, за яркий наряд и за спокойную, сытую жизнь, кормящая не своего, а чужого ребенка, такая женщина для меня явление аморальное. Я не могу любоваться на кормилицу. Мать, кормящая свое дитя, — это красота, кормилица — уродство, несмотря на все ее яркие цветы и кокошник…» Нам сейчас трудно понять пафос негодования известного балетмейстера Михаила Фокина — что же, ребеночку с голоду помирать! — но нельзя не учитывать и т а к у ю позицию.
Впрочем, бог с ними, с кормилицами, не о них речь.
А вот как быть с нянями? Объявить и няню пережитком? Рекомендовать работающим, как правило, современным матерям воспитывать детей исключительно с помощью модных научных теорий или даже технических методов и средств?
Известный американский фантаст Рэй Брэдбери воспел в рассказе с многозначительным названием «О теле электрическом я пою» бабушку-робота, заменившую рано умершую мать троим детям. Солидная фирма тщательно изучила темпераменты малышей и прислала осиротевшей семье не бездушного робота, а воплощение всех качеств современной домоправительницы и воспитательницы. Эта научно-фантастическая — пока? — хранительница очага обладала и обаянием, и обширными познаниями, позволявшими ей объяснять детям азы чуть ли не любой науки; ее руки были руками умельца; внешне она походила немного на каждого из резко непохожих друг на друга детей. Став ненужной своим повзрослевшим питомцам, уезжавшим учиться в колледжи, «бабушка» пообещала им вернуться назад, если, дожив до старости, они вновь призовут ее.
Няня, которая может вернуться! Да еще в старости, когда мы способны полной мерой оценить ее присутствие рядом. Чего больше…
Итак, воплощенная мечта. И только одного искусственная бонна Брэдбери все же не могла: передать детям «нейлонового» века ощущение тех неразрывных связей, которыми каждый Человек связан с Природой. Не могла по простой причине — она сама не была с природой связана. Порождение высокоразвитой цивилизации, «бабушка» была симпатичным и знающим домашним наставником, гувернанткой, готовившей попутно потрясающе вкусные завтраки.
Няней это создание не было. Сверхзадача няни или того, кто ее заменяет, — выпестовать в ребенке общечеловеческие начала, свойственные его естеству, — была «бабушке» не под силу.
В отличие от гувернантки, няня н е р а с с к а з ы в а е т малышу о месте человека в природе, а незримо, бессловесно, не фиксируя специально его внимания, п е р е д а е т ему умение ощущать себя частицей этой природы. Рядовой, не имеющей оснований особенно задирать нос, но и немаловажной в то же время частицей, — от нее многое зависит, и держаться ей необходимо соответственно.
Для детей, от которых общество чего-то ждет впоследствии, ощущение это необычайно важно.
Никакие поучения, никакие детские энциклопедии, никакие занимательные истории — даже никакие сказки, хотя сказки ближе всего, — не заменят вступающему в жизнь человеку того, что живая няня может передать ему своей повадкой — ведь именно она проводит с ребенком день за днем, час за часом самые драгоценные для его становления месяцы и годы. А то, что передано без слов или без с п е ц и а л ь н ы х слов, будущий взрослый воспринимает как само собой разумеющееся, свое, неотъемлемое, воспринимает раз навсегда.
Другое дело: выйдя в люди, он не всегда передает эстафету дальше. Что ж, значит, не судьба… Но он м о ж е т, он в силах это сделать — ведь он является носителем истины, которую не так-то просто сформулировать, о которой многие его сверстники даже не догадываются, хотя нарушение связей с природой так или иначе, рано или поздно обязательно скажется — хотя бы в том, насколько полнокровно посчастливится человеку прожить свою долгую короткую жизнь.
Непосредственно связывая ребенка с природой и вооружая его таким образом точными и стойкими жизненными критериями, няни много сделали для русского общества.
Кто, например, воспитал России Козьму Минина? Его дед, балахнинский соледобытчик Анкудин, или его отец, Мина Анкудинов, совладелец соляной «трубы» (шахты)? Маловероятно, чтобы кормильцы больших семей успевали еще и воспитывать ребятишек; широту взгляда и бескорыстие привили Козьме, скорее всего, женщины его семьи, возможно, и нянюшки в том числе.
А кто воспитывал Пожарского, о котором историк сто лет назад убедительно и точно написал:
«Он ставит себя не боярином-воеводою, а простым земским человеком, ищущим того только, чтобы видеть государство в неподвижной правде и соединении, чтобы кровопролитье в крестьянстве перестало, чтоб настали покой и тишина… Другой цели он не имеет. Как вождь собственно посадского, мужицкого движения на защиту родины, он совсем сливает свою личность с этим движением, совсем пропадает в нем, не высовывается ничем оскорбительным для этого движения, а напротив, вполне точно и верно и очень осторожно, несет его истинные, всенародные желанья к одной цели, чтоб возстановить государственный покой и тишину».
Чье воспитание подготовило к н я з я Пожарского к тому, чтобы «слить свою личность с мужицким движением и совсем пропасть в нем»? Да еще в конце шестнадцатого века! Что это, влияние только лишь его родителей? Не верится что-то.
Трудно конкретизировать влияние крепостных нянь, невозможно точно определить, что сделали они для России. Ясно только, что отношения Арины Родионовны и ее гениального воспитанника — и исключение и неисключение. Очевидно, няни, или, скажем, дядьки-солдаты в десятках военных семей в той или иной степени сдерживали развращающее влияние на детей общества, где крепостничество, раболепие, подлость были нормой и где люди из кожи вон лезли, чтобы жить на заграничный манер — читать, писать и думать по-французски… Связь с деревней, извечной преградой для фальши, исконным рассадником демократизма, давала няням для этого силы.
Не случайно же отношение Пушкина к его няне не было понятно современникам. По свидетельству Достоевского, осталось непонятным одно из наиболее прекрасных воплощений образа «няни» в художественном творчестве поэта — Савельич в «Капитанской дочке», дядька, в критическую минуту спасающий жизнь герою.
«Не я ли слышал сам, — писал Достоевский, — в юности моей, от людей передовых и «компетентных», что образ пушкинского Савельича, раба помещиков Гриневых, упавшаго в ноги Пугачеву и просившаго его пощадить барченка, а «для примера и страха ради повесить уж лучше его, старика», — что этот образ не только есть образ раба, но и апофеоз русского рабства!».
Сам Достоевский оставил нам необычайно любопытное свидетельство о своей няне. Девятилетним мальчиком сидел он с родителями за чаем, как вдруг неожиданно явившийся из деревни староста объявил, что вотчина сгорела.
«С перваго страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вдруг подходит к ней наша няня Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взростила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера яснаго, веселаго, и всегда нам рассказывала такие славныя сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, — «на старость пригодится»; и вот она вдруг шепчет маме:
— Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо…
Денег у ней не взяли, обошлись и без того. Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ея деньги понадобились. Ведь, я думаю, таких нельзя сопричислить к кулакам и мошенникам, а если нельзя, то как определить ея поступок: явилась ли она с ним лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни», — или проявила что-нибудь поэнергичнее пассивности?»
Для Достоевского это воспоминание лишь один из доводов в полемике, которую он вел в «Дневнике писателя». Для нас это бесценное свидетельство проницательности великого писателя и его глубочайшего демократизма: почтительно отзываясь о своей няне, он доказывает на ее примере своеобразие высокой морали русского народа.
Ну, а кто способен подсчитать, какова доля другой няни, Натальи Макарьевны, в воспитании такого несгибаемого борца, каким стала уже в молодости своей Вера Николаевна Фигнер? Кто знает, не нянино ли жизнелюбие помогло ей перенести страшные двадцать лет шлиссельбургского каземата — многие ее товарищи по заключению, мужчины, не выдерживали, кончали с собой…
Вот как пишет Вера Николаевна о своем детстве:
«Среди убийственной атмосферы казармы и бездушия единственной светлой точкой, одной отрадой и утешением была няня. Только в комнате няни, куда отец никогда не заходил, только с ней одной чувствовали мы себя самими собой: людьми, детьми и даже господами, и притом любимыми и балованными детьми и господами. Это было убежище, где униженный и оскорбленный мог спокойно отдохнуть душой… Это был целый мир теплоты и нежности, веселости, любви и преданности. И как подумаешь, что эта привязанность и нежная отзывчивость изливались в течение многих и многих лет, и не на одно, а на целых три поколения, невольно остановишься с благоговением».
И еще две сестры Веры Николаевны отдали молодость борьбе за свободу… И брат стал выдающимся певцом и театральным деятелем… Тоже воспитанники Натальи Макарьевны, отпущенной на волю их дедом крепостной женщины, оставшейся жить в семье.
Членами семьи становились еще более часто, основательно и прочно няни конца прошлого века, не крепостные уже, свободные женщины; они не только воспитывали детей, но подчас сплачивали самые семьи, успешно преодолевавшие заветы патриархальности.
Как и к кормилицам, отношение к няням было неоднородным: были представители «эпохи изыска», или вовсе не замечавшие того, чем обязаны своим няням они сами и их современники, или относившиеся к «нянькам» пренебрежительно.
Известен «Портрет С. П. Дягилева с няней» художника Льва Бакста (1906): на переднем плане, крупно, «гоголем», изображен один из столпов русского модернизма Сергей Дягилев, впоследствии — продюсер русского искусства на Западе, а вдали, у дверей, притулилась на стуле скромная старушечья фигурка… О том, что художник правильно расставил акценты, свидетельствуют воспоминания Александра Бенуа.
«Напротив, в парадных комнатах (квартиры Дягилева, где делался журнал «Мир искусства». — В. С.), все выглядело чинно и изящно. Того требовал Сережа, и за этим следила старушка-няня, непременная, но совершенно безмолвная председательница ежедневных (с четырех до семи) чаепитий… Нянюшка — типичная деревенская старушка, бывшая крепостная, с трудом ковыляла на своих опухших ногах, лицо ее было измято морщинами, в глазах было что-то тревожно вопрошающее. Сережу она обожала и позволяла ему делать с собой все, что ему вздумается. Он и дразнил ее, и тискал, а иногда на нее и покрикивал довольно грозно, но все же «любя». Мы все уважали нянюшку и считали ее «своим человеком». Хоть она ровно ничего не понимала в наших беседах, однако ее взор часто выражал тревогу, особенно когда голоса спорящих подымались… Ей все подавали руку, я же позволял себе и обнимать эту чудесную женщину — выходца из совершенно иной эпохи».
Известный поэт и критик Иннокентий Анненский, говоря о героине «Странной истории» Тургенева, заметил в статье «Белый экстаз»:
«…Но ведь сама-то Софи, как мы знаем, была особенная. У нее не было ни простого сердца, ни рано взятого в кабалу робкого и темного ума ее няни».
В рассказе Тургенева никакой конкретной няни не выведено, о ней даже не упоминается. Значит, критик обобщил собственное представление о некоей в о з м о ж н о й няне, воспитывавшей Софи в детстве.
«Простое сердце»? Да, конечно.
«Робкий ум»? Куда ни шло.
«Темный»? Нет, позвольте!
Взгляните на фотографию няни композитора Танеева — Пелагеи Васильевны Чижовой, прожившей со своим воспитанником полвека — Сергею Ивановичу было пятьдесят четыре года, когда Пелагея Васильевна скончалась, оставив его на попечение своей племянницы. То ли седые, то ли очень светлые волосы аккуратно разделены на прямой пробор; морщинистое, правильных черт лицо — не пустовато-добренькое, сосредоточенное; крепко сжатые губы; внимательные глаза пристально вглядываются в объектив. Блуза из мягкой пестрой ткани с низеньким воротничком-стойкой тщательно застегнута на все пуговицы.
«Темный ум»? Ничего похожего. Покой и деятельная воля.
«Милый Модест Ильич, — писал Танеев брату своего учителя и друга Чайковского. — Ранее получения Вашего письма я уже собирался писать Вам и сообщить о моем горе. 6-го декабря умерла Пелагея Васильевна, и 9-го мы ее похоронили… Я не могу свыкнуться с тем, что не увижу ее больше, и все время чувствую себя точно пришибленным, как бы физически ощущаю полученный мною удар…»
А четыре месяца спустя, 15 марта 1911 года, Софья Андреевна Толстая записала в своем «ежедневнике»:
«…взяла книги от С. Ив. Танеева. Он плачет о своей няне слезами, а я плачу о муже, и мы хорошо по душе поговорили».
Плачет… слезами… — фактической стороне записей С. А. Толстой можно верить безоговорочно. И какое сравнение: ее муж — и скромная няня ее друга.
Вот отрывок из письма Танеева художнику Маковскому — ему был заказан портрет Пелагеи Васильевны.
«Цвет волос моей нянюшки был светло-русый, вроде цвета льна. В последние годы он еще побледнел от седины. Хотя седины у нее не было. Цвет глаз — светло-голубой, казалось, они светятся. Их называли лучистыми. Была она благожелательна к людям и вполне бескорыстна. Не копила на старость, но все раздавала родственникам, а нередко и занимала, чтобы дать тем, кто к ней обращался. Была кротка по натуре. Не помню, чтобы на кого-нибудь сердилась. Отличалась отсутствием малейшей фальши. Всю жизнь оставалась неграмотной, однако хорошо разбиралась в житейских делах и могла дать полезный совет».
«Темный ум»…
Кто возьмется исчислить, сколько е е было вложено в жизнеощущение ее С е р е ж е н ь к и, с годами превратившегося в одинокого, очень ранимого человека с нелегкой судьбой, с душой, полной сомнений и трепета, так свойственных истинному таланту. Сколько е е в глубоко принципиальной позиции Сергея Ивановича во многих сложных вопросах, в его сочинениях, наконец.
И дело здесь не в том или ином произведении, непосредственно связанном с памятью о Пелагее Васильевне, а в том несомненном вкладе, который Пелагея Васильевна Чижова внесла во все творчество композитора, а если учесть серьезное влияние Танеева на лучших русских музыкантов XX века, то и во все развитие современной русской музыки.
Определить размеры этого вклада невозможно, равно как и вклада «няни Сони», читавшей малышу Саше Блоку «долго-долго, внимательно, изо дня в день»: «гроб качается хрустальный… спит царевна мертвым сном…». А потом Блок надпишет на своей первой книге: «Милой моей няне Соне в знак любви»… А потом он будет заботиться о своей старенькой, ослепшей няне — С. И. Колпаковой — до конца ее и, в сущности, до конца своей жизни…
«…Ее кроткость и ясность прекрасно действовали на Сашу, — записала тетка Блока М. А. Бекетова. — Отсутствие крикливости, грубости, болтливости очень ее украшало и было особенно кстати для такого впечатлительного и нервного ребенка. Кроме того, она была умна и интеллигентна и всегда умела занять Сашу и говорить с ним именно так, как ему нужно. Уйдя от него, даже и после замужества, няня Соня интересовалась всем, что его касалось. Она читала и понимала многие его стихи, гордилась им и высоко его почитала, хоть и звала по старой памяти «Сашура» с обращением на ты. Саша тоже любил ее. В детстве, еще гимназистом, он очень веселился и радовался, когда она приходила в гости, иногда с ночевкой. Они вместе сочиняли потешные стихи и много хохотали…»
«Темный ум»…
«Трем людям я особенно благодарна за свое детство:
Отцу, руководившему нашей жизнью и поставившему нас в те условия, в которых мы выросли.
Матери, в этих условиях украсившей нам жизнь всеми теми способами, которые были ей доступны, и —
Ханне, нашей английской воспитательнице, прожившей в нашей семье шесть лет и давшей нам столько любви, заботы и твердых нравственных основ… Ханна уехала из нашего дома, когда мне пошел девятый год. И с ее отъездом кончилось мое детство и кончилось то безоблачное счастье, которым я жила до тех пор».
Знаете, кто этот отец, к которому приравнена, и даже более чем приравнена, воспитательница — по сути, по функциям своим няня — Ханна? Лев Толстой…
Кстати, о воспитательницах и нянях-англичанках. Известны слова молодого Р. Л. Стивенсона, в искренности которых не приходится сомневаться:
«Если я действительно художник и мне суждено оставить след в литературе, то этим я обязан моей нянюшке».
Известна и фотография его няни Алисы Каннигхэм — Камми, как нежно называл ее Стивенсон, — лицо интеллигентной женщины глядит с нее.
«И вот я в Москве… — вспоминает в своих «Записках» Ю. М. Юрьев. — Устроивши всех нас в учебное заведение, родители наши вернулись в деревню, оставив нас на попечение няньки Прасковьи Ивановны… Прасковья Ивановна посвящала нам всю свою жизнь. Заботы ее распространялись и на наши уроки. Она была не только в курсе наших занятий, но вечером всегда проверяла заданные нам уроки, заменяя репетитора, а в праздничные дни старалась доставить нам удовольствие и в награду за успехи доставала нам билеты в Малый театр на галерку. Она сама была страстной театралкой, увлекалась больше драмой и поклонялась Ермоловой и Ленскому. И вот мы вчетвером (она, обе сестры и я) шли в театр. Ее интерес к театру несомненно способствовал моему влечению к сцене и явился как бы первым камнем фундамента, на котором впоследствии созрело мое решение посвятить свою жизнь сценическому искусству. Мое крещение в «театральную веру» относится к 1880 году, когда Прасковья Ивановна повела нас в Малый театр смотреть «Светит, да не греет» и «Льва Гурыча Синичкина».
«Темный ум»…
Статья Анненского была включена во «Вторую книгу отражений», увидевшую свет года за полтора до смерти няни Танеева Пелагеи Васильевны.
Ефросинья Францевна тоже была уже в это время взрослой женщиной — пройдет десяток лет с небольшим, и она впервые возьмет на руки своего Васеньку. А уж в том, что ум Ефросиньи Францевны нельзя назвать «темным», читатель должен был убедиться.
В послереволюционные годы вхождение няни в городскую семью продолжало оставаться явлением распространенным; союз неродных людей зачастую оказывался еще более прочным, чем раньше, — теперь и «наниматели», и няни обладали равными возможностями, равными гражданскими правами. Прочность такого союза с «чужим» человеком сама по себе прекрасный воспитательный момент.
Няни воспринимали жизнь семьи в совершенно ином ракурсе, чем видели ее — со своего рабочего места — отец или мать. Мягко принимая на себя горячечное стремление ребенка к чему-то неизъяснимому, не осаживая его нервным окриком, не карая бездумно за то, что он где-то там не удержался и, охваченный азартом, перехлестнул установленные границы, она направляла поток эмоций своего воспитанника — никак не соответствующий его возрасту, как правило, у рано все постигающих городских детей — в самое, по ее мнению, спокойное русло. Иными словами, няня, не имея научной подготовки, инстинктивно снимала агрессивность ребенка, превращающуюся в последнее время в явление социально значимое.
Что и говорить, попадались и не очень удачные няни, пусть даже и «няньки», пусть с «темным умом» (без обобщений!), но они не задерживались, членами семьи не становились..
А с расселением горожан по квартирам-клетушкам, с распадом больших семей няни стали исчезать.
Мы наблюдаем за этим процессом, завершающимся у нас на глазах, с завидным хладнокровием.
Нас словно не волнует, что, отнимая у детей дорогого и доброго друга — няню — и зачеркивая тем самым самые светлые, быть может, их воспоминания, мы ничего не даем им взамен.
Возродить институт нянь трудно, скорее всего — невозможно.
Что же — призывать к утопии?
Нет.
Надо искать: кем? чем? как? — заменить няню Игорю или Маше, Ване или Васе.
Ибо с каждым следующим ребенком, которого мы оставляем без пристального, доброго внимания, направленного н а н е г о о д н о г о, с каждым малышом, остающимся чуждым необходимой людям, как воздух, связи с природой, мы не только тормозим развитие человечества, но и лишаем его еще одного шанса на бессмертие.
Какой из этих шансов окажется решающим, мы не знаем.
Примечания
1
Отрывки из русских обрядовых песен взяты из разных сборников, главным образом — из книги «Лирика русской свадьбы» (Л., 1973).
(обратно)
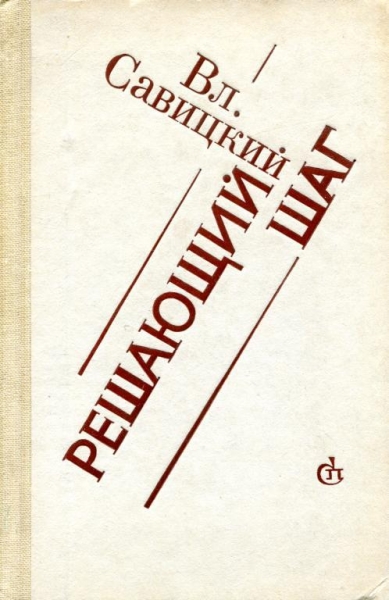

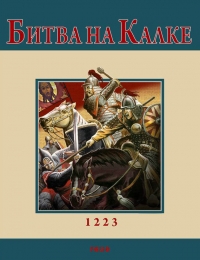



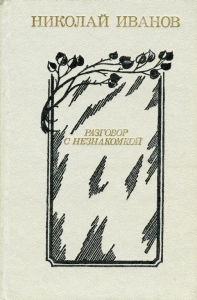




Комментарии к книге «Решающий шаг», Владимир Дмитриевич Савицкий
Всего 0 комментариев