Виктор Терехов НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА Рассказы
НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА
Уже несколько дней подряд льет дождь, почти не переставая. Снег только недавно сошел, и от непрогретой земли несет стужей. Невольно берет горькая зависть: где-то давным-давно устоялись золотые дни — май на исходе! — где-то солнце, голубое небо… А мы здесь, на этом аэродроме, далеком от благодатных мест, сидим в сумеречной кладовой. Лица вокруг серые и угрюмые. Желчи у каждого на десятерых. Ядреные слова так и вертятся на языке, но никто не произносит ни звука. Изнывая от безделья, люди каждый день, с утра до вечера, нетерпеливо ждут одного — солнца, чтобы можно было расчехлить самолеты, вскрыть люки и начать полеты.
Капитан Федоров, начальник ТЭЧ эскадрильи, изводится больше всех. Он тут же, рядом с нами, в кладовой, за фанерной перегородкой. Сидит сейчас один, как мы считаем, нервно слушает убаюкивающий шум непогоды и мучительно решает, чем бы нас занять, пока длится ненастье. Капитан хлопотливый, беспокойный человек, забот у него всегда хватает. Наконец он подает голос:
— Формуляры у всех заполнены?
— У всех, — нестройным хором отвечаем мы.
Федоров тяжко вздыхает.
— Эх, пропадут посевы на полях…
Мы не видим, но знаем: сейчас капитан стоит у окна и взгляд его устремлен на пологий склон низенькой сопки. Там черный, как деготь, массив пашни.
— Пора быть всходам, пора… — снова долетает до нас.
Техник Маслаченко, обычно веселый и остроумный человек, резко бросил:
— Слышите, капитана всходы волнуют. Агроном! А что с нами будет, об этом молчит.
Капитан, видимо, не слышал этих слов. А может, и слышал, да промолчал. Мы тоже на реплику Маслаченко не отозвались. Никто вообще-то критически не относится к нему. Он умный парень, но взбалмошный какой-то. Капитан Федоров высоко ценит его ум и изобретательность, хотя нередко упрекает за легкомысленное отношение к жизни — слишком уж просто все достается Маслаченко. Инженер полка однажды в присутствии всех обещал ему: «Сдаст Сатаев в академию, ты у меня первый претендент на выдвижение». Такая похвала нам, рядовым техникам, не снилась да вряд ли когда-нибудь и приснится…
Тяжелый, сырой воздух хлынул в кладовую — кто-то открыл дверь. Наверное, дежурный по стоянке рядовой Кальцын. Мерзнет, бедолага, то и дело заходит погреться. Кто-то сонно протянул: «Есть там дровишки, Кальцын? Затопил бы, дружок, печку».
Вместо приятного тембра Кальцына в каптерке раздался могучий бас комэска:
— Евгений Иванович здесь?
Это было так неожиданно, что все встрепенулись. Из-за перегородки выскочил Федоров:
— Товарищи офицеры!..
— Сидите, сидите. Льет?
— Льет, чтоб ему провалиться!
От штаба до аэродрома комэск шел пешком. В такую грязь два километра пешком! Вероятно, произошло что-то весьма важное. Любопытство охватило всех. Майор и капитан прошли в кабинет. Вначале они говорили вполголоса, но затем голоса становились все громче и громче.
— Знаю, что надо форсировать, знаю, что планы трещат, — соглашался Федоров, — но у «пятерки» большой расход масла. Не могу я ее на маршрут выпустить.
— А раньше о чем думали? — голос комэска натянут, еще немного, и он ему даст волю. — Рембаза-то под боком!
— Не я владыка над всем… — в голосе капитана чувствовалась беспомощность. — Заявки эти, пока туда-сюда, а тут дождь еще шпарит…
— Сейчас нельзя отогнать?
— Какое там! Аэродром, сами знаете, грунтовый, размыло небось.
— Можете хоть на собственном горбу по частям на рембазу перетаскивать, но «пятерка» должна летать, как погода установится. Эскадрилью поднимать надо, все до единого самолета! Скоро учения, Евгений Иванович!
Разговор назревал крупный. Бесшумно, один за другим мы вышли на улицу. Жалко было Федорова: непосильная возлагалась на него задача. И о командире думали. Комэск вообще-то простой человек: и посмеется с нами, и накричит, когда есть за что. Всегда — будь во гневе ли, в веселье ли — все равно, если уж он приказ отдавал, то лишнего не позволит. Что сейчас стряслось с ним? Может, был все-таки выход из создавшегося положения, и он даже знал его, но ему хотелось, чтоб мы сами додумались? Майор любит иногда подкинуть нам головоломную штучку для того, чтоб у нас, как говорит он, не ржавели шарики. Перебрали разные варианты, так ничего и не смогли придумать. В самом деле, не по частям же перетаскивать самолет за десятки километров!
А Маслаченко, казалось, был отрешен от окружающего. Мимо нас прошел маслозаправщик. Все шарахнулись в разные стороны: из-под колес далеко разлетались брызги. Только Маслаченко не сошел со своего места. И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, кинулся вслед за машиной.
Маслозаправщик шел с небольшой скоростью, осторожно объезжая рытвины, заполненные водой. А Маслаченко бежал прямо по лужам, то и дело спотыкаясь. Ему было тяжело. Он сбросил куртку, фуражку. Помогло мало, и лейтенант начал отставать. Теперь уже, не выдерживая бездорожья, задыхаясь, побежал точно по колее. А когда поскользнулся, упал, мы подумали: не встанет, не хватит у него сил. Но Маслаченко, поднявшись с величайшим трудом, снова, уж совсем медленно, почти шагом, пошел за машиной, которая все отдалялась и отдалялась.
Только в конце стоянки маслозаправщик остановился. Маслаченко, отдышавшись, сел в кабину. Машина скрылась за самолетами.
Из каптерки вышел злой комэск, за ним, опустив голову, — ссутулившийся капитан Федоров.
— Пойми, Евгений Иванович, не могу я изменить своего решения, — сказал командир. Вдруг голос его неожиданно высоко взвился: — Кто это там по летному полю на машине ездит! Колдобин на взлетной наделает! Сейчас же остановите его и ко мне.
— Машина вроде и так сюда идет, — поднял голову Федоров.
В кабине заправщика сидел Маслаченко. Он улыбался чему-то и помахивал нам бумажкой. Промокший до нитки, под холодным ветром он выглядел так, будто только что выскочил из парной. Спрыгнув на землю, обратился к командиру:
— Товарищ майор, разрешите… Лететь можно сейчас! Вот я тут набросал. Видите, какая нагрузка у бензозаправщика на один квадратный сантиметр? У самолета даже чуточку меньше! Объехал всю ВПП — машина нигде не вязнет, а о самолете и говорить не стоит…
Комэск оживился.
— Так, так… Молодец, Маслаченко…
Погода час от часу становилась хуже. Тучи тяжелели, опускались ниже. Дождь не переставал. Но несмотря на это, работалось удивительно легко. Самолет подготовили к вылету в рекордно короткий срок, как по тревоге.
…Приехали на аэродром командир полка и инженер. Пришли «болельщики» из других эскадрилий.
Комэск рулил медленно. Все, кто был на стоянке, шли рядом с «пятеркой», не спуская глаз с шасси: а вдруг колеса по ось влезут в размягченный дождем грунт.
Намертво схваченная тормозами, «пятерка» билась как в лихорадке. Это комэск перед взлетом поочередно выводил то один, то другой двигатель на максимальные обороты. Оглушительный гул — закладывало уши — расколол небо. Сейчас отпустит командир тормоз, и… Федоров снял фуражку.
— Пошла?!
— Пошла!!!
Самолет отделился от земли. Но с аэродрома никто не ушел, все оставались на взлетной полосе, словно предстояла еще работа, и люди поэтому не расходились, были наготове. От КП командирский «газик» направлялся к нам.
— Молодцы вы у меня! — еще издали возбужденно шумел командир полка. Подъехав, лукаво щурясь, незлобно упрекнул Федорова: — Евгений Иванович, что они мокнут у тебя без дела? Веди их, пусть греются, обсыхают. Чего доброго, еще простынут здесь!
— А я их не держу, — ответил капитан. — У них настроение боевое, что им эта погода. — Федоров был недоволен нами и явно осуждал нас. Но за что? «Пятерка» ушла в рембазу. С такого аэродрома и в такую погоду! А он в тот момент только улыбнулся. Сейчас же его лицо снова стало сумрачным, чем-то озабоченным.
— Ну, вот и разрядилась обстановочка, — весело подмигнул нам Маслаченко и обратился к Федорову — Товарищ капитан, а вы будто и не рады?
— Нет, почему же, я доволен. Мы неплохо поработали сегодня. А вы, Маслаченко, молодец. Вот если бы еще одну задачу решили, вам вообще бы цены не было, — капитан кивнул на черный массив пашни, перевел взгляд на видневшуюся невдалеке темную от дождя деревню.
— Какую задачу? — заинтересованно спросил Маслаченко.
— Дождь и холод, холод и дождь… — казалось, машинально повторял Федоров. Его голос был взволнованным и невеселым. — Пора быть всходам, а их до сих пор нет. Как он, хлеб, вырастет?
Нас тоже беспокоила судьба полей, но мы догадывались, что капитану с его беспокойным характером несравненно тяжелей от этой мысли, чем нам. Сейчас особенно была бы дорога наша поддержка, но мы не успели сказать ни одного сочувствующего слова, как всегда, опередил Маслаченко:
— Ах, вы снова о посевах!.. — отозвался он и удивленно пожал плечами. Потом, видимо, решив, что Федоров не поймет его жеста, прищурившись, отчеканил — Там, в деревне, есть кому о хлебе думать!
Все почувствовали неловкость: только что был рядом добрый человек, и вдруг его не стало, исчез. А капитан Федоров ни слова не проронил. Какое-то время тяжело смотрел на лейтенанта, а затем зашагал к каптерке. Он шел, не разбирая луж, как совсем недавно Маслаченко; мы же преднамеренно обходили их, чтоб быть подальше от капитана, пока он не в духе.
Кладовая, казалось, стала приземистей, мрачней. Но печка дышала жаром. Не замечая нашей подавленности, рядовой Кальцын бесхитростно спросил:
— Ну, как вам «Ташкент» нравится?
Но никто не отозвался. Все, даже Маслаченко, молчали. И тут вдруг зазвонил телефон.
— Капитан Федоров слушает… Здравствуй, Иван Александрович… Что-о? Зачислили Сатаева в академию? Хорошо.
Мы поняли, что звонит помощник начальника штаба Есипов.
— Мы Маслаченко?.. Положительную аттестацию?.. Не могу! — одним духом выпалил Федоров.
Этот ответ, видимо, обезоружил Есипова. Он что-то говорил, но Федоров оставался непреклонным.
— Я не шучу, к сожалению. Не могу дать такой аттестации. Почему? Души в нем нет. Ду-ши! Командир приказал? Но он не может всего знать, я с ним поговорю… Да, да, вот сейчас прямо и иду.
Федоров распалился не на шутку. Он почти выбежал из каптерки. Мы подумали — в штаб.
Установилась невыносимо гнетущая тишина, изредка нарушаемая глухими шлепками крупных капель, стекавших с одежды. Кто знает, сколько бы мы сидели молча и недвижимо, если бы Кальцыну не понадобилось пройтись по стоянке. В открытую дверь ворвался яркий свет.
— Солнце! — с порога вне себя от радости заорал Кальцын.
Все, кроме Маслаченко, вышли на улицу. Ветер по-прежнему неласково тянул стужей, но облачность шла с разрывами. Она, должно быть, скоро кончится. Не сегодня-завтра щедро разольется по земле летняя благодать, в радостном ритме закипит жизнь: день и ночь будет гудеть аэродром, в буйный рост пойдут хлеба и травы!
Федоров одиноко стоял под плоскостью крайнего самолета. В штаб он не ходил, значит, теперь уж и не пойдет. Как только он понял, что мы его заметили, веселым вихрем налетел на нас:
— А этот где? — он не назвал фамилии, стараясь взглядом отыскать Маслаченко. И быстро, не дожидаясь ответа, кивнул на каптерку: — Там? Один? — Федоров было направился туда, но остановился и решительно произнес: — Не буду мешать, пусть немного подумает, у него еще есть время…
ПЕТЮНЧИК
Кочевая судьба военного забросила меня в Среднюю Азию. Память сохранила немного познаний об этом крае: жара, унылая пустыня, скорпионы… И еще помню картинку из учебника географии — в песчаных барханах караван верблюдов. Вот, пожалуй, и все. Но новое назначение меня обрадовало. Меня всегда неудержимо влекли к себе места, в которых я не был, и те люди, которые там живут.
И вот я приехал на новое место. Приехал в разгар лета. Вышел из вагона и не поверил, что на улице может стоять такой зной. Ощущение было такое, будто нахожусь рядом с гигантской топкой, которая дышит на меня огнем.
— А здесь и в самом деле тепло, — пошутил я.
— Сумасшедший, — устало проговорила Лариска, моя жена. Она убеждена, что в это теплое местечко я напросился сам.
В тот же день я сдал документы в штаб. Начстрой, по всей видимости человек оперативный, тут же определил меня в эскадрилью.
— Идите, устраивайтесь, — сказал он, прощаясь. — Инженером там капитан Краскин Петр Алексеевич.
«Неужели Петюнчик?» — подумал я и спросил начстроя: — Где он раньше служил? Не дальневосточник?
— Знакомый?
— Да приятели, можно сказать…
— Тогда служба гладко пойдет, — засмеялся начстрой.
Из далекого прошлого память хранит только значительное. С Петюнчиком мы расстались десять лет назад, служили в бомбардировочном полку… Был я тогда техником звена. В подчинении у меня находились три техника-офицера, в том числе и Краскин. Как мне тогда казалось, я неплохо знал своих людей.
К Суконцеву, технически грамотному и добросовестному человеку, я почти никогда не имел серьезных претензий. Замечания он выслушивал спокойно и быстро устранял те недостатки, которые обнаруживались при контрольных осмотрах. Работал Суконцев увлеченно, красиво и был, пожалуй, самым опрятным техником в полку.
Второй техник — Шабанов имел золотые руки, любую работу мог выполнить легко и споро, но только после того, как досыта наговорится.
С этими двумя офицерами отношения у меня были хорошие, но дальше служебных вопросов они не распространялись.
С Краскиным — иное дело. Он вообще был совсем другим.
Очень маленького роста, с тонким голоском, пухлыми румяными щечками, он больше походил на мальчишку. Посмотришь на него и уже не назовешь — ни Петром, ни Петей, а вот именно Петюнчиком. Меня он сперва избегал, стеснялся. При встречах больше молчал. Зато в компании Шабанова и Суконцева его голосок звенел неумолчно.
Если у Суконцева и Шабанова работа спорилась, то о Краскине этого не скажешь. Работал он медленно, тяжело, но, что называется, лез вон из кожи, чтобы заслужить похвалу. Петюнчик с отчаянным упорством старался не отстать от товарищей. Возле его самолета пройти было небезопасно: откуда-то сверху, с мотора, на землю летели молотки, выколотки, ключи. Это Петюнчик в бешенстве швырял их на землю. А работал он больше других, потому что пока не умел работать.
— Ничего, Петюнчик, — как можно спокойнее говорил я ему. — Не получается — тебя никто не гонит. Сходи покури, успокойся. И покажи, что у тебя не клеится, может, сообща лучше сделаем.
Лицо Петюнчика зеленело:
— Получится, сам сделаю.
«Характер, — думал я, в душе радуясь за своего подчиненного. — Со временем техник из него получится отменный».
Но как ни старался Петюнчик, на его самолете я все-таки и бывал чаще, чем на других, и осторожно, щадя самолюбие, советовал ему, как проще и быстрее выполнить работу, устранить неисправность. В такие минуты Краскин стискивал зубы и свирепо смотрел немигающими глазами в одну точку: он, видимо, презирал себя за неспособность постичь все сразу. Мне было непонятно, как в человеке умещалось такое огромное самолюбие. Но Петюнчик таким был лишь в первый год службы в полку.
Потом, когда он несколько освоился и я стал бывать у его самолета не чаще, чем у других, Петюнчик очень верно истолковал это как высокую оценку, данную ему старшим товарищем. Характер его изменился, сам он как-то посветлел. Если раньше не скрывал неприязни ко мне, то теперь, наоборот, частенько приглашал меня к себе, особенно когда самостоятельно решал какой-нибудь технический вопрос. Начинал он примерно так: «Я думаю, эту штуку вот таким образом сделать. Ну, как мысля? Пойдет?» «Мыслю» свою он излагал с небрежностью гения. Меня брала досада…
Петюнчик стал как-то сторониться своих прежних товарищей. Зато без меня он не мог прожить и часа. Мы стали почти друзьями. На свадьбе Петюнчика я был желанным гостем, по крайней мере, мне тогда так казалось. Живо вспомнились его смущение и нескрываемое удовольствие, когда он принимал из рук Лариски наш скромный подарок — будильник, вмонтированный в Спасскую башню. Будильник, конечно, в магазине купили, а макет из плекса я изготовил сам.
— Любаша! — позвал он невесту. — Смотри! Вот это да-а! Это на всю жизнь сохраним. Память от начальства…
Мне было неловко. Подарок явно не заслуживал столь высокой похвалы, да и не такое уж я начальство… Но в искренности Петюнчика сомневаться не приходилось.
После свадьбы Петюнчик перешел со мной на «ты». Не знаю, зачем ему это было нужно, но среди своих товарищей нашу дружбу он широко афишировал. Чистый и тонкий, как серебряный колокольчик, голос Петюнчика теперь неустанно звенел в моих ушах. Прошлую его жизнь я уже знал до мельчайших подробностей, знал его соображения по любому вопросу, будь то политика, спорт или живопись. Что там говорить, голова у Петюнчика работала. Больше всего в нем я, пожалуй, ценил приятного собеседника. В одном из откровенных разговоров я сказал ему о своем заветном:
— Петюнчик, у меня мечта есть. Не знаю, как она во мне зародилась, но… Впрочем, я уже написал рапорт. О чем, пока не скажу, потом… А у тебя есть мечта?
— Нет. Мечтать ныне старомодно. У меня есть цель. Я на все смотрю реально. Генералом мне не стать, технарь есть технарь, что уж тут говорить… Но поскольку я офицер, буду стремиться к тому, чтобы по службе у меня был прогресс.
Слова эти неприятно поразили меня. Я никогда никакого «прогресса» себе целью не ставил, а просто исполнял на совесть все, что от меня требовалось.
В полку Петюнчика вскоре стали ставить в пример, о нем заговорили на собраниях, ему посвящали бюллетени. У него появился благодушный смешок, довольство, какая-то внутренняя облегченность. Петюнчик теперь снисходительно подтрунивал над товарищами-технарями. Особенно он донимал Шабанова:
— Что, Шабанов (по имени-отчеству он звал только меня, рядовых техников — по фамилии), агрегат твой мочится, что ли? Смотри на стоянке масла сколько — скоро здесь откроют второе Баку! — И зальется благодушным смешком.
А мне ничего не оставалось делать, как сказать уж без всякого смеха: «Понял, Шабанов? Стояночку приведи в божеский вид». Как-то само-собой получалось, что моей правой рукой стал Краскин.
Незадолго до моего отъезда я сказал-таки ему о своем сокровенном:
— Помнишь, про свою мечту тебе говорил? Уезжаю я, а ты, наверное, мое место займешь, ты сейчас на виду. Да я и перед командиром за тебя слово замолвлю.
— А ты куда?
— Перевожусь на борт.
— Бортмехаником? Так это же топтание на месте!
— Ну и что? Мне нравится, работа интересная. Полетаю, белый свет посмотрю…
Я уехал в другой полк, а Петюнчик стал техником звена.
С Краскиным я не переписывался и все эти годы не имел о нем никаких сведений. Но вспоминал часто, как и других прежних сослуживцев.
Я часто себя спрашивал: где Шабанов, Суконцев, где Петюнчик? Как сложилась его судьба? Да, меня по-прежнему больше всех занимал Петюнчик и тревожили его вспыльчивость, самолюбие, его непонятный мне подход к людям.
И вот: «Инженером там Краскин Петр Алексеевич…» По имени и отчеству представил мне Петюнчика начстрой. Значит, его здесь уважают. Значит, напрасно я о нем беспокоился.
Я был весь в ожидании встречи. А произошла она неожиданно, на пути к гостинице. Передо мной вдруг появился низкорослый, широкий в плечах, полный, с маленькими глазками капитан. Петюнчик! Мы крепко обнялись.
— А ты все старлей? — кивнул он на мои погоны.
— Я же бортмеханик. Да и нравится мне это звание. Старший, понимаешь, старший лейтенант! Лейтенантов много, сотни, тысячи, а ты старше их всех. Притом молодит это звание, мне все кажется, что я только-только начал служить!..
Но Петюнчик не понял шутки, криво усмехнулся:
— Брось заливать, Иван. Неудачник, как никто, ловко утешает и себя, и других.
И уже серьезно, озабоченно спросил:
— Ты где остановился?
— В гостинице, думаю…
— Тогда устраивайся, а потом забирай семейство и — ко мне в гости!
Вечером мы сидели в уютной квартире Краскиных. Пили вино из маленьких рюмочек, закусывали.
— Знаешь, я в гарнизоне живу. Весь на виду. Много нельзя, — зачем-то оправдывался Петюнчик.
А я был доволен. Лариска тоже. Жена Петюнчика Люба ушла на кухню за очередным блюдом. Краскин, откинувшись на спинку стула, прищурил глазки и заговорил своим прежним голоском, чистым и тонким, как колокольчик:
— Не верится, что когда-то ты был моим начальником, а я сырой-сырой, зеленый технарь учился у тебя, перенимал опыт. А вот сейчас я — твой начальник. Интересно…
— Чего на свете не бывает, — отшутился я.
Люба принесла пирожки.
— Пробуйте, это манты — национальное узбекское блюдо.
— Расскажи, Алексеич, как живешь? Как служба идет? — спросила Лариса.
— Как и везде, — вяло отозвался Петюнчик. Лицо его вдруг сделалось озабоченным, набежали морщинки. — Вот ты, — повернулся он ко мне, — да и остальные техники так думают: вот, мол, инженер… ходит, указаньица дает. А я поработал и понял: тяжелое это дело руководителем быть. Недавно Любаша заболела. Командир говорит: «Что ж, Краскин, не ходи пока на работу». Комэск наш мужик умный, а вот скажет же! Да не выйди я хоть один день, там черт знает что натворят. Вам что, а меня давит ответственность!
Петюнчик достал папиросу из моей коробки, неумело задымил. Стыли горячие манты, но я так и не притронулся к ним. У меня пропал аппетит. Бедолага! Он один, святой и праведный, тянет лямку за всех. С трудом, правда, но я все-таки смолчал. А мне очень хотелось встать, надеть фуражку и взять под козырек: «Разрешите быть свободным, товарищ капитан?»
Я не сделал этого, а если бы я поступил именно так, Петюнчик, наверное, ничего бы не понял и воспринял это как должное.
Он взял со стола массивную, из чистого хрусталя, пепельницу, и морщины озабоченности мигом преобразились в веселые лучики.
— Вот это подарок! На всю жизнь… От Николая Павловича, инженера полка. Сейчас я с одним подполковником дружу. А комэск наш, Вася Смирнов, тот вообще… Я с ним запросто, на «ты»…
Петюнчик по-своему понимал жизнь, по-своему о ней рассказывал.
Ушли мы от него рано. Я расстроился. «Вот тебе и поговорили», — думал я с горечью. А тут еще Лариска по дороге в гостиницу хватилась: «Ой, сумочку забыла. Сбегай, пожалуйста». Пришлось возвращаться. Петюнчик сидел за письменным столом и что-то выписывал в тетрадь из книги, которая лежала перед ним. Он был так увлечен и занят, что не заметил меня. И только, когда Люба окликнула меня, он поднял голову:
— Кочетов? — И снова погрузился в бумаги. — Понимаешь, сижу над заданием, я же в академии… Слава богу, на четвертом. Да, а ты, собственно, чего вернулся?
На следующий день Петюнчик при встрече протянул мне руку, не останавливаясь, и на ходу буркнул:
— Готовься, Кочетов, к зачетам. Сдавать будешь мне.
Зачеты так зачеты. Прежде чем доверить самолет, должен же инженер выяснить, что знает новичок.
Зачеты я сдал. Принял самолет, и жизнь вошла в привычную колею. Через три дня Петюнчик, смотрю, подходит к моему самолету. А я на самой верхотуре. Сижу, помогаю радисту антенну установить. Снизу слышу раздраженный голос:
— Кочетов, готовьте самолет к осмотру.
Осматривал Петюнчик легко, играючи, с непостижимым проворством. Однако не бегло, а с той дотошной внимательностью, от которой не ускользнет никакая мелочь. Я восхищенно следил за его руками. Короткие и толстые пальцы, неуклюжие от природы, сейчас ловко сновали меж ребристыми цилиндрами, агрегатами и разноцветными трубками, ощупывали каждый винтик, каждый болтик. Много и трудно тренированные, они проникали в места, недоступные глазу и всегда безошибочно определяли состояние тяг или дюритов. Золотые руки! Я задумчиво улыбался. И не просто так, не без причины. Я улыбался в равной степени прошлому и настоящему. Правда, мне было смешно. Давно ли эти же руки, грубые и непослушные, злобно швыряли инструмент в разные стороны!
— Вы, Кочетов, не улыбайтесь. Рано еще… — строго сказал Петюнчик. — Кстати, вы почему мне не докладываете? В следующий раз «дыню» получите. Поняли?
Я был сражен наповал.
— Товарищ капитан, я же наверху был и…
Петюнчик гневно перебил меня:
— А если бы генерал подходил? Вы б его, небось, из-под земли увидели и доложили. А разницы никакой нет. Старший есть старший. Давай рабочую тетрадь.
Я метнулся в самолет. Спускаясь по стремянке, на ходу развернул тетрадь, отыскивая место для записей об осмотрах.
Но Петюнчика уже не было у машины. Вместо него тут стоял молодой техник соседнего самолета.
— Вон капитан, с инженером полка беседует, — кивнул он в сторону. — А он вас милостиво разносил… Строго, но не грубо. Новость! На партсобрании, что ли, продраили? Нет, право-слово, удивительно! Вы ведь его еще не знаете… Сейчас вот уйдет подполковник и понесется по стоянке: «Лодыри! Шаромыжники! Разговорчики! „Дыню“ воткну — во какую!» И втыкает он «дыни», взыскания то есть, налево и направо. Все ему чудится, что он один за дело болеет, а остальные свинью стараются ему подложить. Ну и дает нам понять, по поводу и без повода, что он самый умный…
— Кто без недостатков… — Я пытался как-то оправдать Петюнчика. — Он требовательный, любит технику…
— Технику любит? — перебил меня новый знакомый. Откуда вам знать это? Как бы не так! Матчасть для него — это просто ломовая лошадь, которая пока благополучно везет его вперед…
Заметив возвращавшегося Петюнчика, техник исчез так же быстро, как и появился.
Я отдал Петюнчику рапорт.
— Вот так, — чуть усмехнувшись, похвалил он меня. — Видел инженера полка? Молодой, верно? Вот что значит вовремя академию закончить! Ну, ничего… Эй, рядовой, — окликнул Петюнчик механика, проходившего мимо. — Что топаешь, как вареный? Бегом!
Потом снова заговорил со мной:
— Самолет мне ваш понравился. Смотрите, Кочетов, не запускайте. А то у меня «дыню» живо схлопочете. И ша! Никаких дебатов. Знайте свое место. Смотрите у меня, Кочетов! — И он погрозил хорошо и давно знакомым мне толстым, коротким указательным пальцем.
На какой-то миг мне показалось, что по мне прошелся бульдозер. Но только на какой-то миг. Я опомнился, взял инструмент, ветошь и привычно вернулся в мир милых мне приборов и приборчиков, агрегатов и агрегатиков, труб и трубочек, из которых в общем-то и состоит мой чудесный самолет, изумительное создание рук человеческих. А Петюнчик ушел. И сейчас, и потом, когда он уходил, я никогда не смотрел ему вслед, но я знал, чувствовал, что он удаляется, и на душе у меня становилось от этого легко и спокойно.
КОМБАТ
В деревне из моих родственников сейчас никто не живет, но я часто навещаю родную Березовку: здесь я родился, вырос, учился в школе, отсюда пошел в армию. Предотпускная пора, как хмель, кружит голову. Билетов еще и в помине нет, а уж я мысленно весь там, с односельчанами. Письма Евсеича волнуют, будоражат память. Перед самым отъездом я их перечитываю снова, а последнее помню почти наизусть. Евсеич писал решительно обо всем: «Иван Матвеевич, лесничий наш, ехал на днях на лошади пьяненький и уснул. Подвозит его лошадь к дому, а уж он готов, долго жить приказал. Когда вскрыли, в дыхательных путях кусочек огурца нашли… Петр Бондарец развелся-таки с Валентиной. Троих детей, сукин сын, бросил… На Центральной усадьбе совхоза поставили памятник героям, погибшим в Великую Отечественную войну. Есть там фамилия и твоего отца… Мишка еще не женился…»
За добрую сотню километров до Людино, небольшого разъезда, от которого люблю добираться до Березовки на лошади, я выхожу в тамбур, стою у открытой двери… Свежезеленые колки и между ними сплошные поля; мелкие степные озера; побеленные домики, крытые дерном или соломой, под огромным сибирским небом и воздух, чистый и свежий, как ключевая вода, — все это чудным образом вмещается в мою душу, и уж я не могу насмотреться, не могу надышаться…
Волнение нарастает, когда подъезжаю к Людино… Бывало, за десять километров мы, любопытная детвора, прибегали сюда посмотреть на проходящие мимо поезда.
Я хотел, чтоб на Людино меня встретил Мишка Дубинин. Необъяснимым обаянием привлекал он к себе, и мы с Евсеичем откровенно симпатизировали ему. Это был шустрый, с быстро бегающими глазками, высокий, худой паренек. Словоохотливый не по возрасту, он мог интересно занять собеседника. То, о чем писал мне Евсеич в течение года, Мишка излагал за какой-нибудь час, но куда подробнее. Прошлой осенью Дубинина должны были призвать в армию, но, к удивлению односельчан, он, ни разу не болевший, не прошел врачебную комиссию. «Врожденный порок сердца, а он не знал, не ведал, да и сейчас докторам не верит», — писал тогда Евсеич. В последнем письме меня насторожили строчки о Дубинине: «На поверку выходит, бедовый он парень. Учетчиком работает. С Ленкой моей дружит. А он мне, Михаил, не стал нравиться». Вот тебе на! Но письмо это я получил месяца три назад. С тех пор Евсеич почему-то молчал. Может, заболел?
…Вот и Людино. Бегут к вагонам женщины с ведрами, мисками, прикрытыми белыми полотенцами. Это торговки помидорами, огурцами, яйцами. Я тщетно ищу знакомых. Неужели комбат не получил телеграммы? Нет и Мишки. Он так ловко прыгал на быстром ходу в вагон, через головы пассажиров тянул руки за моими вещами…
Я вышел на привокзальную площадь — в тупике ее была коновязь — узнать, есть ли подводы. Но никого не было. Где-то далеко пылила машина.
— Здравия желаем! — приветствовал меня незнакомый шофер по-военному, хотя я и был в гражданском. Он, наверно, был наслышан о моем приезде. — Хочешь, садись в кабину, или обождешь, там Мишка за тобой едет. Я его за Людинским колком обогнал.
— Спасибо! Обожду, — отказался я, обрадовавшись. Меня растрогало, что Евсеич помнил мои привычки… Незабываемо парной запах лошади, ее добродушное пофыркивание; я уж слышал, как, убаюкивая, скрипит плетеный коробок ходка, и только неумолчный голос Мишки не даст мне уснуть.
А Мишка чуть не загнал лошадь. Вздрагивая, она стряхивала мыльную пену так, что брызги достигали возницы. Я бы не узнал Мишку, встретив его в другом месте. Это был крупный мужчина, высокий и полный. — Ну ты, брат, верзила! — сказал я весело.
Мишка, дохнув на меня винным перегаром, засмеялся:
— По-крестьянски живем… В армии под ремнем не позволяет он вширь раздаться, а у нас, выходит, как бы никакого ограничителя нет. Ну, двинули? — спросил он, когда я сел в коробок.
— Поехали, только не гони лошадь, — попросил я, — рассказывай, как тут у вас… Что это мне Евсеич давно писем не пишет? Здоров он?
— Здоров, — неохотно отозвался Мишка, взмахнув кнутом.
— Я же просил тебя: не гони. Пусть передохнет, нам не к спеху.
— Ох, уж эта мне интеллигенция! — сказал Мишка. Видно было, что он не в духе. Разговор не клеился.
— Есть новости? Выкладывай! — располагающим к беседе тоном сказал я и положил на плечи руку, как бы обнял его.
— Как без новостей… женился я, — неприятно поморщился Мишка.
— Вот как! И что же, неудачно?
— Оно так бы все ничего: жена как жена, теща жизнь понимает, но тесть… — Дубинин со свистом протянул кнутом по спине лошади, — тесть плохой. Сам жить не умеет, а других учит. Через то и выпил, и опоздал… Он доведет!
— Жена из нашенских или из приезжих? — продолжал я выпытывать.
— Своих хватает, — небрежно обронил Мишка, — Ленка комбата, то-есть, Евсеича, дочь. Вот кто!
— Ленка твоя жена? И это ты про Евсеича-то, что он плохой тесть? Выходит, Евсеич плохой человек? Да? Отвечай же! — наступал я на Мишку. Я отстранился от него, убрал с плеч руку.
— Поживешь — увидишь, — невозмутимо ответил Мишка и замолк. Больше уж за всю дорогу я не смог вытянуть из него ни единого слова.
Более того, километра за два до Березовки, когда Мишка, обезумев, хлестал усталую лошадь, срывая зло на ней, я не вытерпел, выпрыгнул из коробка, пошел пешком. Мишка не стал обгонять, ехал сзади.
Евсеич не выходил у меня из головы. Как Мишка мог очернить его? За что? Сколько себя помню — столько знаю Евсеича. До войны шофером работал. Мимо, бывало, не проедет, если где ватажку ребятишек заприметит. Любимчиков не было: в кабину сажал по очереди, за которой следил строго. Мы тогда еще не могли ценить, как наглядно и щедро давал нам комбат уроки справедливости. Воевал Евсеич тяжело. Его и ранило, и танк утюжил в окопе, и землей засыпало, и тонул он, и замерзал, все беды, какие есть, обрушивались на него, но он выжил. Выжить-выжил, перенес все, а работать, как прежде, не мог. Руки были изувечены, не мог цигарки свернуть. Мы были подростками, когда вернулся Евсеич с фронта. Популярность его возросла еще больше. Появится, бывало, в военном, стар и млад не сводили глаз с его груди — золотом горели ордена, медали. Ни у кого в Березовке не было столько наград! Еще до поступления в училище я не однажды спрашивал Евсеича:
— Вот орден Красной Звезды за что дали? Люди болтают разное…
— Вот дали… — без воодушевления начинал Евсеич. — Под Сталинградом. Бой шел — жарко было, а от орудийной прислуги я один остался. Смотрю, танк прямо на меня, и деться мне некуда. Прямой наводкой в него! Подбил, стало быть, вот и все…
Оказывается, это совсем несложно — подбить танк! Но я не унимался:
— А орден Красного Знамени?
— Знамя-то? — переспрашивал Евсеич, словно бы припоминая, затем простодушно рассказывал: — Когда награждали, я и не знал, за что. А это уж мы к Днепру подходили… Нас было немного, а напоролись на одну высотку — так всего несколько человек и осталось. Видно, судьба жить мне… Приказано было высоту взять. Куда же денешься — приказ. Я отделенным был, передохнули малость, думаю, тут только по-русски, напролом… Поднимаю ребят: «За мной!» Колыхнулось «ура!» и пошли… Вышло, что я батальон возглавил, так потом в газете писали… С тех пор и пристало ко мне: комбат да комбат.
Из-за колка показалась Березовка. Сердце мое забилось: встреча с детством! Я никогда не пойму людей, которые, однажды выпорхнув из родных мест, больше туда не возвращаются. Подъехал Мишка:
— Хватит ерундить, подсаживайся. Комбат узнает, будет пилить…
Чтоб развеять неловкость, я спросил его:
— Ты так учетчиком и работаешь?
— Я? Нет. Я теперь в кладовщиках! — похвалился Дубинин.
А вот и дом Евсеича, обычный, неприметный. Во время отпусков я кое-что подправляю в доме. Но Евсеич не тужит:
— Идти к управляющему, ей-право, совестно. Людей от работы оторвешь. Да и хватит на мой век!
— Тпру! — трубно загудел Мишка, натягивая вожжи. Евсеич торопливо распахивал ворота.
— Приехал, ах ты! Человечина ты! Вот здорово! — радостно восклицал он, обнимая меня. Евсеич бестолково суетился, то и дело спрашивал: «Где старая? Где старая?»
«Старая», крепкая, лет сорока пяти женщина, Марина, несла в подоле фартука, видимо, только что сорванные огурцы.
— Гостенек заявился! — радушно просияла она.
Мишку за стол приглашали, но он отказался, чего не бывало раньше. В небольшом дворике развернул ходок, да так круто, что передок резко заскрежетал, послышался треск, будто что надломилось в нем. Дубинин искусно щелкнул кнутом, затем с холодным спокойствием жестоко стеганул лошадь. Повозка чудом не зацепила за ворота, понеслась, как ветер, по улице. Марина, глядя вслед, восхитилась:
— Зять-то у нас, любо-дорого. Орел!
Чуть не до утра просидели мы с Евсеичем. Я слушал, не перебивая:
— …Расторопный он, смекалистый, с любым человеком поговорить может. За это ты уважал Мишку. Поэтому я и не писал тебе, чтоб не расстраивать… А кладовщиком-то он лишь два месяца. И теперь каждый день: то мешок кукурузы тащит, то муки, то бидон молока свиньям привезет. Я ему с первого дня: «Не пакости, Михаил! Не твое добро — не бери!» Куда там! И вот надумал он строиться. Привозит машину шифера. Вчера это, в обед. Я как раз у них был. И Михаилу ультиматум: отвези туда, говорю, где брал. Скандалили до поздней ночи. И что страшно: Марина и Ленка на его стороне. Марина одно напевает: Мишка-де неглупый, пробивной, с таким мужем жить да радоваться. Ах, Мишка, Мишка! Как у меня душа болит, что в армию его не взяли, а тут он сам по себе-то газетку в руки не возьмет…
Евсеич говорил неторопливо, не мигая смотрел куда-то мимо меня. Он сидел на крылечке, а я то устраивался рядом с ним, то на корточках, напротив, и тогда даже в темноте видел тоску в глазах его. И еще мне показалось, что они влажно блестели. Но не стояли же в них слезы, нет, голос комбата был тверд, как всегда, и к жалости не взывал.
Целый день ходил я по двору, выискивая себе дела. В сарае дверь не закрывалась, висела на одной петле; двор замусорен, не убран; в огороде свиньи без вылазу, изгородь нуждалась в ремонте… Куда уж там Евсеичу с его здоровьем управиться! А он ходил вслед за мной, смущенно отговаривал: «Брось ты это дело к дьяволу, потерпит. Так и не отдохнешь».
С непривычки я устал и заснул рано. Поднялся на рассвете от тяжелого, глухого удара о землю… Раз… два… три… — считал я невольно. Чуть погодя послышалось, как что-то знакомо заскрежетало, потом раздался характерный треск. Мишка! Зачем он пожаловал? Я вышел на двор. У сеней по-хозяйски были приставлены три больших мешка. «Пшеница, — определил я на ощупь и подумал о Мишке: — Хитер! Налаживает с комбатом дипломатические отношения…» Евсеич, наверно, спал. Я долго ворочался потом с боку на бок, не мог уснуть: как воспримет это Евсеич? И все-таки заснул. Когда проснулся, стояла тишина, сквозь окна, занавешенные с вечера старыми одеялами, слабо пробивался дневной свет. Вошла Марина. Она была расстроена, хотя старалась не подать виду.
— Где ж Евсеич? — спросил я.
— Сказывают, ушел на Центральное, — Марина натянуто улыбнулась.
…Раньше, когда я ходил на Центральное в десятый класс, между колками небольшие елани пустовали, можно было ходить напрямую, сейчас все перепахали, я только диву давался: «Где нынче скот пасут?» Я шел по обочине дороги и, не останавливаясь, на ходу рвал неяркие от пыли цветы. Набрал целую охапку. Любил ли отец цветы, я не знал. И если любил, то какие? Пожалуй, эти. Они росли сами по себе, никто за ними не ухаживал, они выросли такими, какими могли вырасти только на нашей земле…
Я стоял у памятника, может быть, час, может, два. Довоенную давность бережно хранила память. Думал ли тогда отец, что недолгую жизнь отмерила ему судьба?
Меня кто-то окликнул. Оказывается, Евсеич. Выглядел он плохо. А может быть, я только сейчас рассмотрел его? Некогда белое, не крестьянское лицо отдавало теперь желтизной, щеки обвисли, молодые глаза гневно сверкали. Он не стал распространяться, по какому делу приходил в дирекцию, коротко бросил мне:
— Сказали, разберутся, сказали, примут меры.
В Березовку пришли засветло. Евсеич на ноги был крепкий, я еле успевал за его спорым, солдатским шагом. Шел и думал: «Руки бы тебе, комбат!» А они у него, когда понервничает, отказывали совсем. В таком неловком положении он оказался сейчас. Перед Березовкой стеснительно попросил меня: «Ты мне цигарку того… пальцы, будь они неладны, не слушаются».
…В этот приезд Ленку я видел впервые. Она, заплаканная, сидела за столом с матерью. При виде ее мне стало вдруг легче.
— Здравствуй, коза! — шутливым тоном мне хотелось разрядить обстановку, которая, я почувствовал сразу, сгустилась до предела. Я думал, что Ленка, завидев меня, как это бывало раньше, сейчас же преобразится, сверкнет улыбкой.
— Здравствуйте! — с холодной вежливостью отозвалась она.
Видать, в неурочный час приехал. Гнетущая тишина стояла в доме. Я был уверен: не будь меня, Марина бы сейчас метала громы и молнии. Она то и дело откашливалась, шмыгала носом, скрестив руки, недвижимо сидела на лавке, крепилась, видать, из последних сил.
— Радуйся, отец, — наконец заговорила она сквозь слезы. — Дочь к нам вернулась. Выпроводил зятек… Из Центрального звонили, можешь успокоиться: от нас хлеб увезли, а от Михаила шифер. Все теперь на своих местах. Михаил тебе ба-альшой привет передавал!
Мы сели за стол. Я проголодался, целый день не ел. Евсеич тоже, но он не притрагивался к еде. Ленка прошла в горницу и оттуда вскоре послышалось приглушенное рыдание.
На следующий день я работал, не зная устали, и успел сделать почти все, что планировал на неделю. А вечером объявил Евсеичу: завтра еду.
Мишка так и не пришел, хотя я и передавал через людей, чтоб он обязательно повидал меня. Но в душе я радовался: «Стыдно на глаза показываться. Совесть-то, оказывается, еще есть! Значит, непропащий человек!»
На Людино меня вез Евсеич. Я наставлял его всю дорогу: «…нельзя тебе расстраиваться, ведь совсем без рук останешься. Повоевал ты в своей жизни достаточно». Евсеич всю дорогу молчал, разговорился только на перроне, сокрушался о том, что отпуск у меня не удался.
Мне было тяжело прощаться с Евсеичем, щемило сердце.
— Ты только о нас не думай плохо. Все образуется, перемелется, — невесело улыбнулся Евсеич в последнюю минуту. Живые глаза его задорно блестели; нет, показалось мне тогда ночью, не могут в таких глазах стоять слезы, да и голос комбата звучал бодро.
ИСПОРЧЕННЫЙ ДЕНЬ
Темнота безлунной ночи как бы приблизила небо: яркие звезды не казались бесконечно далекими, неисчислимым множеством они неутомимо мигали, каждая ласково манила к себе. А внизу, под летящими самолетами, — ни огонька, ни просвета: эскадрилья шла над черным безмолвием высоких гор…
Это, пожалуй, внушающее зрелище, когда в непроглядную темень таинственно и грозно с могучим гулом несется бог весть куда девять пар красно-зеленых огней, восемнадцать летящих звездочек! Да, это вот и все, что можно увидеть с земли. Но каждый, приметивший полет этот, будь он в ночном поле или поздней дороге, наверняка приостановится и залюбуется, невольно расправит плечи.
Старший лейтенант Курасов был счастлив: он летит в боевом строю эскадрильи ночью. Их подняли по тревоге, и летят они по сложной трассе, даже горы вон прихватили, с посадкой на запасном аэродроме.
Риск и смелость — налицо, но командующий знал, на что способны летчики майора Дегтяря.
Курасов был на седьмом небе, выше ласковых звезд… Впрочем, так он себя почувствовал не сейчас, а чуть раньше, когда шли над равниной. Маршрут Курасов знал хорошо. Под ними голые, скалистые горы. Даже нога альпиниста вряд ли ступала по этим недоступным, безжизненным кручам. Если трезво прикинуть, чем может кончиться приземление на парашюте, случись нужда такая, на удачу бы никто нс стал рассчитывать. Летчики об этом знали. Комэск Дегтярь поучал и успокаивал молодежь неизменной фразой: «Я никогда ни о чем лишнем не думаю и вам не советую».
Командир не рисовался, он был смелым человеком. Курасов тоже себе цену знал. Правда, до сильного и мужественного комэска пока еще далековато, но кое-что он от него перенял, безусловно. В самом деле, хоть и жутковато сейчас Курасову, но он не хуже других держит место в строю, сосредоточенный, следит за показаниями приборов, одним словом, пилотирует по всем правилам. И, удивительно, несмотря на то, что он всецело поглощен полетом, тем не менее не отрешен от земли, невидимыми нитями связан с ней, чувствует ее.
…Его техник Ветлугин где-то, летчику кажется за тридевять земель, на родном аэродроме в одном из эскадрильских домиков, уединившись, осваивает разные там синусы-тангенсы, решает головоломные задачи. Готовится человек в академию. Человек… Ветлугин, Ветлугин… Как его? Вася? Петя? Степа? Забыл! Хочется потянуться к планшету, в нем есть данные о подчиненных. Коля? Ваня? Курасов перебираем, как ему кажется, все имена.
Он не верит ни в бога, ни в черта, и это, наверное, от перенапряжения ему кажется, что если уж он забыл, как техника зовут, то и кара за неблагодарность должна быть неминуемой. Нет… полет во что бы то ни стало завершится успешно, иначе он, Курасов, навсегда уронит свое летное достоинство в глазах командира полка и комэска. А командиры переживают сейчас: как там Курасов? — они сочли нужным поставить генерала в известность, что, по их мнению, для такого ответственного полета старший лейтенант Курасов еще зеленовато выглядит.
Откуда-то пришла и к нему слепая уверенность: попытка уговорить генерала — это своего рода дурное предзнаменование. Командир полка, предусмотрительнейший человек, ежели доведется оправдываться, может потом резонно заявить: «Я командующего предупреждал…» Именно в этот момент в глазах летчика полоснула короткая огненная вспышка. Это мигнула, должно быть, сигнальная лампочка. Которая! В какой системе неисправность? Еще немножко и лампочка загорится устойчиво, должна загореться, тогда… Курасов стиснул зубы, ожидая…
А горы еще не прошли, они внизу, такие бесконечные! Эскадрилья все также легко и неумолимо идет к своей цели. Ее порыв каждой клеточкой своего тела ощущает Курасов. Самолет послушно повинуется. Приборы бесстрастно свидетельствуют, что все системы и агрегаты работают нормально. Странно… Он ждет неотвратимо страшного, еще тверже держит штурвал, собранный, ко всему готовый. В чем же неисправность?.. Двигатели поставлены новые. Ветлугин их все доводит. Он и вчера приехал поздно с аэродрома, уже гасли огни в гарнизоне. Жена его ходила по квартирам, спрашивала, где ее благоверный.
Курасов досадно вспоминает, что вчера он, может быть, даже незаслуженно обидел ее, когда она потревожила его: «Вы не знаете, где мой?» Курасов сердито буркнул: «Откуда я знаю?» и бесцеремонно захлопнул дверь. Да, Ветлугин у него беззаветный трудяга, надо — он и ночевать на аэродроме будет. Но как же звать его? Миша? Андрей? Олег? Память, как назло, работает четко. Оказывается, Курасов помнит по именам каждого, кто с ним учился еще чуть ли не в начальной школе. Отменная у него память! Ветлугин… Игорь? Нет! Что за чертовщина?
Самолет неожиданно сильно тряхнуло. Мозг пронизало, как молнией: вот оно! Курасов безотчетно водит шершавым языком по сухим губам. Перед глазами — с немым укором горькая усмешка жены Ветлугина. И вдруг ему становится легко. Часто и сильно бьется сердце. Да это на развороте самолет попал в струю, болтнуло… Горячий стыд заливает лицо. Руки ощутили прохладу влажных перчаток…
Мигала ли лампочка? Он не уверен. И Курасов успокаивается. На него благотворно действует знакомая мелодия однотонно звенящих двигателей. Двигатели и в самом деле поют. Ветлугин перед вылетом, такой уж он беспокойный, говорил: «Еще немного, командир, и наш лайнер можно будет иностранцам показывать. Времени было в обрез, сроки при монтаже рекордные всегда. Ничего, потихонечку до такой кондиции доведем — вся инженерия ахнет!» Правда, золотой человек этот Ветлугин! Как же его!.. Яша? Карп? Антон? Да, у него русское, очень русское имя, но вышедшее из моды.
На земле, подобно звездам, мерцали огоньки. Они уже шли над равниной! Через несколько минут покажется запасной аэродром. Теперь Курасов уверен: полет закончится благополучно…
От самолета к самолету по незнакомой бетонке бегал майор Дегтярь. В темноте никто не видел его юркой, совсем не командирской фигуры. А голос слышался то здесь, то там: «Матчасть внимательно осматривайте — полет ответственный! Всем дозаправиться!»
Курасов в первую очередь достал планшет, ему не терпелось. «Ветлугин… Сидор Платонович! — читает он и удивляется, — Сидор… Нет, его как-то по-другому зовут». К Курасову подъехал топливозаправщик. Летчик хорошо знает, где заправочные горловины топливной системы, он к тому же как-никак техник третьего класса! Курасов кается за вчерашнее. Что допоздна делал на аэродроме Ветлугин? На что он должен обратить внимание при осмотре? Какая мигнула в полете лампочка? И мигнула ли? Может, то был всполох или галлюцинация?
Курасов бегло осмотрел самолет и ничего подозрительного не нашел. «Все нормально», — сказал бы уверенно Ветлугин.
— Черт знает, что делать! Хоть бы какого-нибудь механичка! — ворчит Курасов. — Но как-нибудь он долетит. Ему бы только сегодня долететь…
Курасов никогда не чувствовал себя таким счастливым и гордым! Подробности полета вспоминать не хотелось. Конечно же, зря за него переживали и командир полка и комэск. Еще генерала предостерегали! Он знал: его похвалят. Правда, не очень громко. Его командиры, как это принято в авиации, на такое событие отзовутся скромно: «А Курасов, — скажут, — слетал нормально». И все.
Длинная какая ночь! Ветлугину повезло — столько у него свободного времени, можно заниматься. Толковый он, в академию поступит запросто. Технарь в науку ударился! — снисходительно усмехается Кура-сов. Акакий? Мефодий? Сидор! Сидор Платонович…
Не верилось, что совсем недавно он испытывал страх. Наверное, никакая лампочка не мигала. И вспоминал ли Курасов генерала и имя этого самого Ветлугина…
Голубой рассвет стоял над аэродромом. Усталые, серые от бессонницы лица. Ветлугин вяло улыбается:
— Какие есть замечания, командир?
— Есть замечания, — неторопливо отстегивая ремни парашюта, говорит летчик, — лампочка мигает… — Курасов осекся: «Какая?» Но было уже поздно. И он наугад, но уверенно ткнул пальцем в приборную доску. — Надо посмотреть, где-нибудь не контачит.
— Спецы-ы! — сильный голос оглашает и будоражит притихшую стоянку. Ветлугин зовет механиков.
— В чем дело, Сеня? — кто-то спрашивает Ветлугина. Курасов слышит, сразу вспоминает: «Точно, Сеня… А по документам — Сидор…»
Автобус набит до отказа.
— Все сели? — громко спрашивает комэск, — Ветлугин со спецами остался? А мой инженер где? Панков! Федя!
— Здесь я, товарищ майор, можно ехать…
— Иди сюда, я тебе место держу. Трогай, шофер! — Дегтярь усадил техника рядом. Тихо в автобусе. Мягкая, убаюкивающая качка. Тянет на сон, кое-кто прикрыл глаза. Неугомонный комэск спрашивает летчиков — Устали, орлы? Да, полетик ничего… Низкий поклон генералу. А горы ночью — прелесть!
Будто над неизвестной планетой летишь. Матчасть как работала! Идешь над любой пропастью и уверен… Сегодня, наверно, каждый своего техника добрым словом поминал. А? Ты как там, Курасов?
Курасов съежился: комэска не проведешь, он знает, кто чем дышит; лучше промолчать, пусть думает, что сплю… Чудаковатый этот Дегтярь, такому асу в пору не меньше как с космонавтами обниматься, а он по-настоящему дружит со своим техником, с Панковым…
Разговор между тем оживился, расшевелил комэск.
— Когда полыхнула зарница, — вспоминал кто-то весело, — я как-то аж… Потому что под напряженьицем был, если говорить начистоту.
— А ты думал как, — просто сказал Дегтярь, — чтоб к горам привыкнуть, надо над ними походить.
Курасов вскочил, как ужаленный:
— Стой! Стой! Остановись! — закричал он шоферу.
Машина притормозила, но комэск спокойно приказал:
— Погоняй, погоняй дальше! — и как ни в чем не бывало, также спокойно подковырнул Курасова — Я знал, что ты не спишь… Этот же автобус сделает еще рейс и привезет твоего Ветлугина.
…Курасов хотел слезть и идти обратно пешком, идти на аэродром к Ветлугину. Он бы сказал покаянно: «Чехли, Сеня, самолет, все на нем исправно! Это я, желторотый птенец, виновен, не окрепли еще у меня крылья…»
Взошло раннее солнце. Городок еще спал. Кура-сову снится — в дверь постучали. «Кто там?» В ответ дрожащий от волнения знакомый голос: «Вы не знаете, где мой?» Курасов хочет открыть, но руки не слушаются. «Что вы о нем… никуда он не денется!»
Курасов проснулся. «Как же я так?! А Ветлугин будет искать дефект, которого, по всей вероятности, и не было…» Хмурая складка ложится между бровями. Глаза воспалены и словно набиты песком. Тяжело гудит голова. Теперь не уснуть. Курасов быстро одевается и идет на улицу. Надо извиниться перед женой Ветлугина за вчерашнее. На дворе тишина, городок еще не проснулся. Ветлугин жил недалеко, Курасов знал дом. Но какой подъезд? На каком этаже? Впрочем, если он извинится, ей-то легче не станет. Самое важное — он должен сказать Ветлугину правду. Курасов берет велосипед и едет на аэродром. «Весь полк узнает. Дурак я. Может быть, уйти от позора — повернуть сейчас, и обратно?» — мрачно размышлял Курасов, невольно замедляя движение. Чувствовал он себя отвратительно. И это в такой торжественный день! Разбор полетам сегодня сделает генерал. Он отметит полет группы Дегтяря, похвалит молодых летчиков, назовет его, Курасова, фамилию…
«За что?» — скрипит зубами Курасов и что есть силы жмет на педали. Ему становится, наконец, легче, и он весь оставшийся до аэродрома путь уважительно шепчет одно и тоже: «Ах ты, Сеня, Сеня, Сидор Платонович, елки-палки… Ах ты, Сеня, Сеня..»
ПИСЬМО
Команда «разойдись» еще висела в морозном воздухе, а строй уже рассыпался. Машутин с трудом пробирался сквозь праздничную толпу однополчан. Как в калейдоскопе, перед ним мелькали сияющие лица. Из веселой разноголосицы то и дело слышалось:
— Следующее построение в будущем году…
— Все полеты отменены…
Дела Машутина под новый год складывались удачно: он не в командировке, и в праздничный наряд его не назначили. Для Аллы это такая радость, лучше любого подарка… Сегодня она обязательно скажет: «Виталька! Это чудесно, что ты дома. Значит, весь год будем вместе».
И вдруг до него донесся торопливо-требовательный голос:
— Капитана Машутина к командиру!
Через несколько минут комэск бесстрастно ставил задачу. В дальнем гарнизоне по неизвестным причинам вышла из строя электростанция. Машутин сразу все понял.
— Тогда ни пуха, ни пера, — пожелал майор, и смущенно улыбнувшись, добавил: — Понимаю, капитан, все понимаю… Настроение вам испортил. Да ведь по-другому нельзя. Гарнизон без света. Мы вас ждем. По-моему, успеете вернуться.
Когда экипаж подошел к вертолету, электродвигатель уже стоял неподалеку.
— Главное, ребята, как можно быстрее этот чертов движок в вертолет затащить, — настраивал подчиненных Машутин, — махина, не меньше тонны, и хриплым от усталости голосом подбадривал солдат:
— Давай, братцы, поднажмем!
Наконец двигатель, скользнув по вагам, занял свое место в вертолете.
В гарнизоне их ждали. Едва вертолет появился над посадочной площадкой, в воздух полетели шапки.
— Как космонавтов встречают! — отметил польщенный Евсеенко.
Солдаты окружили агрегат.
— Мы его мигом, — весело заверили они. И действительно, через какие-нибудь четверть часа движок уже стоял на месте.
— Теперь домой, скорее домой, — не скомандовал, а как-то умоляюще заторопил Машутин.
Бросалин мигом очутился на месте, а Евсеенко будто и не слышал. Он был явно чем-то встревожен. Еще не веря в случившееся, борттехник чуть слышно попросил командира:
— Товарищ капитан! Поработайте створками двигателя.
Наконец он доложил упавшим голосом:
— Правую створку заело. Вот вам и ни пуха, ни пера…
Все понимали, что дефект этот в состоянии устранить только специалист другого профиля: техник или механик по электрооборудованию. Летчики сразу ушли в здешний полк просить электриков.
Машутин и Бросалин искали начальника ТЭЧ. Но подвернулся старшина подразделения.
— Хорошего механика вам? — переспросил он и тут же воскликнул: — Кутузов! Хотя нет, — и схватился почему-то за голову. — Кого же вам дать? Кого же вам дать? — повторял старшина. — А впрочем, без ведома майора я ничего сделать не смогу, — сознался он простодушно.
Начальник ТЭЧ ходил по казарме между рядами кроватей, придирчиво их осматривая. Внешне он казался неприступным, но, узнав, в чем дело, тут же распорядился:
— Что ж, старшина, пошлем Кутузова. Хотя нет…
Машутин и Бросалин переглянулись. Что у них происходит? Едва упомянут фамилию Кутузова и тут же на попятную.
— Кого же послать? — продолжал майор, потом скомандовал: — Постройте группу электриков.
Летчики с любопытством и затаенной надеждой рассматривали шеренгу авиаторов. В строю стояло шесть механиков. По внешнему виду солдат можно было определить, что в подразделении предстоит предпраздничная уборка. И лишь один, левофланговый, выделялся новеньким, тщательно отутюженным обмундированием, блеском начищенных сапог и пуговиц.
— На вертолете отказала створка охлаждения двигателя. Такая вот неисправность, а товарищам сегодня надо быть дома. Сами понимаете… праздник. — Майор пробежал глазами по шеренге и остановился на стоящем рядом с левофланговым солдате.
— Рядовой Колготин, на аэродром! — решительно приказал он.
Левофланговый стал что-то торопливо нашептывать товарищу. Конечно, консультировал! Машутин был в этом уверен. Дорога каждая секунда, а им дают зеленого механика, которому предварительно растолковать надо, что и как он должен делать!
— Товарищ майор! — взмолился Машутин, — дайте нам Кутузова! Вы прекрасно понимаете, что он быстро может…
Начальник ТЭЧ насупил брови, словно бы ему не понравилась настойчивость капитана. Летчики не знали, почему майор не захотел дать опытного механика. Кутузов предстал перед офицером совершенно неожиданно:
— Товарищ майор! Разрешите мне на аэродром?
Старшина удивленно глянул на солдата, а майор обеспокоенно спросил:
— Не опоздаете?
— Успею! — заверил механик и направился к выходу, торопливо набросив куртку.
— А отпускной взяли?
— Нет еще! Да я успею…
«Диагноз» Кутузов установил быстро: правый моторчик не работал из-за обрыва проводника. Но где? В каком месте? Нужен тестер. Тестер! Он в кладовой, но ключи у начальника группы, нужно идти к нему…
Кутузов вернулся раньше, чем его ждали. Летчики теперь с восхищением следили за каждым движением механика. Как он работал! Отвертка, ключик, пассатижи так и мелькали в его руках, словно все операции давно и до мелочей были продуманы.
— Можете лететь! — вздохнул он, наконец, облегченно, вытер испарину на лбу и, уклонившись от благодарностей, побежал к диспетчерской.
Вертолет уже должен был оторваться от земли, когда по радио попросили задержаться. Скрипнув зубами, Машутин словно от нестерпимой боли, прикрыл глаза. Будто бы в насмешку, в голове пронеслось: «Виталька, это чудесно! Значит, мы весь год будем вместе!» Время заявки на вылет подходило к концу. Бросалин не спускал глаз с секундной стрелки…
Размахивая рукой, в которой было зажато что-то наподобие конверта, от диспетчерской бежал Кутузов. Он что-то крикнул. Из-за шума Машутин слов не расслышал, но понял вдруг: механик не мог бросить работу, он довел ее до конца, а в штаб за отпускными документами сбегать не успел, времени хватило только вот на это письмо, которое он просит сегодня же опустить в почтовый ящик.
…На свой аэродром сели в сумерках.
Машутин заторопился домой, но тут вспомнил про письмо. Пробежав глазами адрес, он как-то удивленно и горестно охнул:
— Ребята, да это же наш город, здесь живут его родители… Значит, не опоздай Кутузов получить документы, он смог бы полететь с нами…
С тех пор прошло немало времени. В который раз встречает Машутин Новый год и в кругу друзей, и на дежурстве, но едва пробьет двенадцать, он обязательно вспоминает тот суматошный день, письмо и мысленно произносит: «Где ты сейчас, солдат Кутузов? С Новым годом тебя, доброй души человек!»





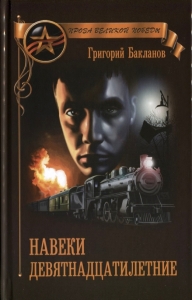

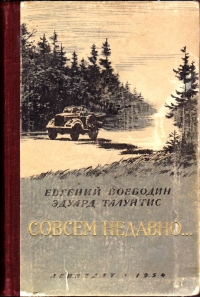





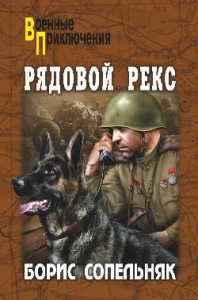
Комментарии к книге «Нелетная погода», Виктор Гаврилович Терехов
Всего 0 комментариев