Иван Черных Правый пеленг
© Черных И.В., 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
* * *
В 2004 году я в числе летчиков-ветеранов был приглашен на юбилей полка – 60 лет назад ему за активное участие в освобождении Севастополя было присвоено звание Севастопольский. Полк и ныне один из ведущих в Вооруженных силах, оснащен самыми современными стратегическими бомбардировщиками дальнего действия – Ту-160, вооруженными ракетно-ядерным оружием, самонаводящимися пушками, автономно открывающими огонь по истребителям или ракетам, способными поражать цели с дальнего расстояния, не заходя в противовоздушную зону противника.
Мы с восторгом рассматривали воздушные чудо-броненосцы и радовались за преемников, которым довелось летать на них. Сожалели лишь о том, что мало приехало на юбилей ветеранов: многих уже нет в живых, других разбросала судьба не только по стране, но и по республикам, ставшим по чьей-то воле зарубежьем.
В полк я прибыл в 1950 году, после окончания Балашовского военного авиационного училища летчиков Дальней авиации; считал себя счастливчиком: прославленный полк, уже в сорок втором ему было присвоено звание «Краснознаменный, гвардейский». С первых дней войны экипажи наносили бомбовые удары по стратегическим объектам фашистов – Бухаресту, Будапешту, Берлину, Кёнигсбергу и другим городам, военно-морским базам. 19 летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза, двум дважды. У асов было чему поучиться.
В перерывах между полетами или в ожидании улучшения погоды мы собирались в аэродромном домике, и частенько фронтовики предавались воспоминаниям о войне. Для нас, молодых летчиков, полковники Семен Павлович Золотарев, Иван Максимович Хрущев, Яков Иванович Штанев, майор Сергей Степанович Маркин были не только героями, асами, с кого мы брали пример, но и любимыми командирами, кому мы подражали; их воспоминания мы слушали с особым вниманием. Рассказы волновали нас, западали в память.
В то время я только пробовал свои литературные силы, и мне очень хотелось, чтобы о подвигах однополчан узнали многие советские люди. Так появились первые очерки, рассказы.
Позже, после окончания Литературного института имени А.М. Горького, я приступил к работе над романом. Большую помощь в сборе материала оказали мне бывший командир дивизии генерал Ф.И. Меньшиков, командир полка А.М. Омельченко, его заместитель по политической части Ф.П. Казаринов и другие ветераны.
Образы лучших людей полка, их судьбы и ратные дела и легли в основу этого произведения.
АвторЧасть первая
1
27/VI 1941 г. Боевой вылет с бомбометанием по Бухаресту.
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Пятые сутки коротали летчики под крыльями бомбардировщиков, томимые жарой, не спадавшей даже после захода солнца, и ожиданием первого боевого вылета, первой встречи с опасностью. Каждый понимал, что кто-то с задания не вернется и что этим «кто-то» может оказаться его экипаж или лично он.
Темнота надвигалась медленно, как-то нехотя, а зарево пожара над Севастополем разгоралось все сильнее и поднималось все выше. Его отблески долетали сюда, на Сакский аэродром, и зловещими кровавыми бликами вспыхивали на крыльях и фюзеляжах самолетов.
Майор Меньшиков закончил обход рассредоточенных и укрытых маскировочными сетками бомбардировщиков – время от времени командир покидал оборудованный в землянке КП, чтобы переброситься несколькими фразами с членами экипажей, разрядить нервное напряжение, – и вернулся к потрескивающей грозовыми разрядами рации, к загадочно молчавшим телефонам.
Пятый день идет война, пятый день полк находится в боевой готовности: летчики и штурманы, воздушные стрелки и радисты, инженеры, механики, техники, мотористы ни днем ни ночью не покидают аэродром, ждут команды на вылет. И если в первый день настроение у летного состава было боевое, даже, можно сказать, приподнятое, то теперь Меньшиков видел, как потускнели лица многих: притух задорный, азартный огонек в глазах, поубавилось в разговорах острот, шуток. Причина понятна: немецкие летчики хозяйничают в небе, на глазах всего личного состава сбили два истребителя из соседнего полка, а бомбардировщики поджигают, как фанерные макеты, с первой атаки… Совсем не такая война, какой она представлялась, совсем не такой противник… Безнаказанность фашистов, их успехи на фронте угнетающе действовали на людей, вселяли в них неуверенность. Меньшиков пытался приподнять дух подчиненных рассказами об успешных боях летчиков других частей, о том, как били фашистов в небе Испании, но чувствовал: помогает это мало. Откровенно говоря, Меньшиков и сам испытывал тревогу, неуверенность. Нет, погибнуть он не боялся – о смерти он не думал. Тревожило другое: справится ли он с обязанностями командира полка? Всего три дня назад он командовал эскадрильей, даже заместителем командира полка не был, и вдруг: «Принять полк!» Предшественника забрали на место погибшего командира дивизии, заместитель же где-то застрял на курсах подготовки ночных летчиков.
Говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Меньшиков завидовал своим товарищам, которые легко поднимались по служебной лестнице. Его же судьба не баловала: прежде чем стать летчиком, он отслужил срочную, три года проработал мотористом и лишь к тридцати годам окончил летную школу. Самолет он чувствовал и понимал, как живое существо, потому пилотажное дело давалось ему легко, а вот командирское… Товарищи чуть ли не каждый год получали повышение по службе, его же командиром звена назначили в тридцать пять лет, командиром эскадрильи – в сорок. И почти сразу – командиром полка.
Трудные, томительные часы ожидания. Почему КП дивизии не дает команду на вылет?..
Зарево над Севастополем то ослабевало, то усиливалось: видимо, бомбардировщики шли волна за волной. Да, преимущество гитлеровской авиации подавляющее. Неслучайно немецкие военные теоретики в своих трудах доказывали решающую роль самолетов в будущих войнах. И сделали свое дело: Германия столько настроила бомбардировщиков, истребителей, разведчиков, что всюду в небе только они. А наши… Будто все уничтожены. Но нет же, не все! Полк Меньшикова не потерял пока ни одного самолета. Правда, и не совершил еще ни одного боевого вылета, другие же полки именно на земле понесли большие потери. Меньшиков за день до начала войны дал команду перелететь на запасной аэродром…
18 июня к Меньшикову приехали жена с дочуркой: до этого они жили в Подмосковье, где ранее служил Федор Иванович. Он не торопился брать их в Саки в предчувствии скорой войны – об этом только и говорили, – да и фашистская армия вела себя нагло, вероломно, пол-Европы уже захватила; но Зина сама приняла решение.
По случаю их приезда Федор Иванович устроил праздничный ужин, на который пригласил соседа с женой, уполномоченного особого отдела капитана Петровского, тоже до недавнего времени жившего одиноко – жена заканчивала институт в Киеве, – и им довелось скоротать вместе не один вечер. Нельзя сказать, чтобы они были большими друзьями, но друг другу доверяли. В полк Петровский прибыл весной, чуть позже Меншикова; ранее, по его рассказам, служил в штабе округа, но за какую-то промашку был переведен сюда, на юг, и назначен оперативным уполномоченным особого отдела в полк. Он хорошо знал английский и немецкий, частенько слушал заграничные передачи. Меньшикову нравились его комментарии, его смелые, со знанием дела суждения о политике государственных деятелей. В тот вечер после небольшого застолья они, оставив жен обсуждать моды сезона, удалились в квартиру Петровского. Капитан включил радиоприемник. Диктор на английском языке говорил о чем-то возбужденно, запальчиво, часто повторяя: «Гитлер», «рашен».
– Все о войне, – закуривая папиросу, кивнул на приемник Петровский. – Говорят, что Гитлер сосредоточил и развернул вдоль нашей границы более сотни дивизий и что вот-вот произойдет вторжение.
– Ну, насчет вторжения они, пожалуй, преувеличивают, – высказал свое мнение Меньшиков, – хотя фашистская авиация наглеет с каждым днем, нарушает границу все чаще. А нам дан приказ не поддаваться на провокацию. Как это понимать?
– Как? – Петровский задумчиво выпустил дым. – Такими вещами не шутят. И англичане… очень уж злорадствуют. Хотелось бы им столкнуть нас лбами, с апреля вещают, что не завтра, так послезавтра Германия нападет на Советы… Сложная, очень сложная обстановка…
Англичанам, несомненно, верить было нельзя, но то, что немецкие самолеты часто вторгались на нашу территорию, летали над аэродромами, расположением войск, над военными объектами, очень и очень настораживало, и Меньшиков, пользуясь тем, что вскоре должны были начаться летно-тактические учения, 21 июня дал команду полку перебазироваться на запасной аэродром. Вот потому-то полк пока и не понес потерь.
Пока… Каким окажется боевой вылет? Без истребителей сопровождения придется нелегко. Меньшиков взглянул на часы. Без десяти одиннадцать. Пора бы взлетать: до Бухареста, по которому должна нанести бомбовый удар его группа, лету около трех часов да обратно столько же, а светать начинает в начале четвертого. Значит, фашистские истребители, севшие на острове Змеином, могут и постараются перехватить бомбардировщиков. Каждая минута промедления не на пользу полку. Майор снял трубку прямого телефона с КП дивизии. Ему ответили сразу:
– Оперативный дежурный слушает.
– Двадцать первый беспокоит. Как там обстановка? Почему нет команды?
– Ждите, – сухо ответил оперативный дежурный. – Команда будет.
– Пятые сутки ждем. Под крыльями, на голой земле…
– По мягким постелям соскучились? – перебил его недовольный голос командира дивизии. – Привыкайте, Федор Иванович, под крыльями спать и в кабинах самолетов. Даю вам еще два часа. И ни шагу от машин. Ясно?
Меньшиков положил трубку и, дав команду дежурному по аэродрому оповестить экипажи о двухчасовом отдыхе, вышел на улицу. Небо над Севастополем по-прежнему полыхало багрянцем, где-то гудели самолеты – нудно, с завыванием: не наши, – то там, то здесь ввысь взвивались ракеты, трассирующие пули. Голова была тяжелая, хотелось спать: с раннего утра 22 июня он на ногах и, можно сказать, не отдыхал, а в полете надо быть собранным, сообразительным, принимать решения в доли секунды. Надо обязательно поспать хотя бы эти два часа.
Майор постоял еще с минуту и направился к своему бомбардировщику.
До экипажа уже дошла команда об отдыхе: штурман, начальник связи и воздушный стрелок лежали под крылом на брезенте, положив под голову парашюты. Из темноты навстречу Меньшикову вынырнул механик – он был за дневального – и отрапортовал:
– Товарищ командир, экипаж находится на отдыхе.
– Вижу, вижу, – остановил его жестом руки Меньшиков. – Все в порядке?
– Так точно.
– Хорошо. Дежурьте. В случае чего я буду в кабине.
– Есть!
– Товарищ командир, идите к нам, – позвал штурман.
– Спасибо, в кресле удобнее.
Усталость взяла свое: он задремал. Сквозь сон услышал обрывки фраз:
– А может, отложим? Вряд ли она дожидается. – «Гордецкий», – узнал голос Меньшиков.
– Дожидается, – уверенно возразил второй голос. – Собственно, ты как хочешь, а я все равно схожу.
«Кто же это? Похоже, Туманов… Точно, он, дружок Гордецкого. И чего им не спится?» Голоса и шаги удалились, приятная тишина обволокла Меньшикова, и все растворилось в ней, исчезло.
Ему казалось, задремал на минутку, а открыл глаза – светает. Он ужаснулся: проспал вылет!
– Товарищ командир, взлет в четыре ноль-ноль, – приподнялся на крыло дежурный по аэродрому. – Все остальное без изменения.
«Так вот кто меня разбудил». – Меньшиков взглянул на самолетные часы – без семи минут три. Вот это вздремнул!
– Объявите: в три часа построение на последние указания.
Меньшиков обошел строй и остался доволен: отдых снял с подчиненных напряженность – лица посвежели, повеселели, в глазах засветилась прежняя уверенность. Лишь лейтенант Туманов стоял хмурый, глядя себе под ноги. Но он и в лучшие времена не отличался веселым нравом. Кто-то из полковых остряков нарек его Хмурым, так эта кличка и прикипела к нему намертво. Меньшиков же испытывал к лейтенанту чувство жалости и сочувствия: Туманов рос и воспитывался без родителей, видно, это и наложило отпечаток на его характер; зато он был дисциплинированным и исполнительным летчиком, разбирался в технике не хуже инженеров и пилотировал наравне с опытными летчиками. Потому майор и включил его в состав боевой группы, куда вошли лучшие экипажи полка.
Командир полка вышел на середину строя, где уже стояли начальник штаба, заместитель по политической части, старший инженер, метеоролог, и, к своему удивлению, обнаружил рядом с ними уполномоченного особого отдела капитана Петровского. Раньше он никогда не появлялся на построениях, тем более на последних указаниях перед полетами. Капитан напряженно и внимательно всматривался в лица летчиков, штурманов, воздушных стрелков и радистов, и нельзя было не заметить, что он чем-то озабочен, недоволен. Наблюдали за ним и стоявшие в строю.
Меньшиков поспешил начать последние указания.
2
27 июня 1941 г….Наш Черноморский флот совместно с авиацией нанес удар по базе немецких кораблей в Констанце…
(От Советского информбюро)Бомбардировщики тяжело завывали моторами, неся в своем чреве по тысяче килограммов бомб, а Меньшиков и командиры эскадрилий подвесили по тысяче двести. Собрались северо-западнее аэродрома, над озером, построились звеньями в правый пеленг, и Меньшиков повел своих ведомых к цели. Группа состояла из семнадцати самолетов. Девять из них во главе с командиром полка должны были нанести удар по военным объектам Бухареста и две четверки – по нефтезаводам Констанцы и Сулины.
Высота заметно росла, в кабине становилось прохладнее. Меньшиков отстегнул лямки парашюта и надел меховую куртку, захваченную на всякий случай. А когда стрелка высотомера перевалила за пять тысяч, почувствовалась и нехватка кислорода – голова дремотно затуманилась, в теле появилась слабость.
– Надеть кислородные маски, – приказал членам экипажа Меньшиков по самолетному переговорному устройству. Догадались ли сделать то же ведомые? Связи с ними не было – бомбардировщики шли в режиме радиомолчания, чтобы не дать немцам обнаружить себя. Похоже, догадались: самолеты летели как на параде, строго выдерживая место в строю.
Стрелка высотомера достигла шести тысяч, Меньшиков перевел бомбардировщик в горизонтальный полет и окинул землю взглядом. Под крыльями было уже море, пустынное, без конца и края. Ни одного кораблика, ни лодки. Будто все вымерло. Хотя появление корабля могло вызвать и появление истребителей: немцы выставляли посты ВНОС[1] и в море. Встречаться с истребителями Меньшиков опасался. Может, потому, что видел, как они поджигали наши бомбардировщики, может, потому, что до огня зениток было еще далеко.
Первое звено Меньшикова состояло из наиболее опытных летчиков, прошедших крещение огнем в Финляндии; за них командир беспокоился менее всего. Второе вел капитан Цветов, тоже боевой, обстрелянный пилот. А вот ведомые его, лейтенанты Туманов и Гордецкий, не только пороху – плохой погоды не нюхали. На земле вроде бы лихие парни, а какими окажутся в небе, в бою? Третьим шло звено капитана Колесникова с ведомыми старшими лейтенантами Ситным и Холоповым. На недавних летно-тактических учениях все три экипажа снайперски отстрелялись и отбомбились на полигоне. Колесников, как и Меньшиков, службу в авиации начал с авиамеханика, к летному делу относился как к сложной и ответственной работе, требовал от подчиненных пунктуального выполнения своих обязанностей, совершенных знаний и мастерского владения техникой. Две замыкавшие подгруппы (они шли четверками) вел заместитель командира полка по политчасти майор Казаринов, смекалистый, тонко разбирающийся в людях человек. В полку он со дня основания, принимал участие в его формировании и хорошо знал каждого летчика и штурмана; себе в группу он отобрал лучших.
Пошел второй час полета, и, потому что все было спокойно, бомбардировщики по-прежнему строго выдерживали строй, настроение у Меньшикова приподнималось, он обретал все большую уверенность.
* * *
Небо все больше затягивалось перистыми облаками, но они были высоко, и, судя по их ровному, спокойному тону, надеяться на то, что над целью облака станут плотнее и опустятся ниже, не приходилось.
Кислородная маска сильно врезалась в подбородок и давила на переносицу. «Надо после полета ослабить резинки», – подумал Меньшиков и чуть сдвинул маску на другое место. Стало полегче. А спустя немного почувствовал, что мерзнет левая нога. Тоже незадача. Давно следовало заменить унты – мех внутри вытерся, да все жалел, экономил; правда, сверху уж больно хороши – огненно-рыжие, лохматые, пушистые, с белыми разводами. Сам дважды подшивал дратвой, летчики узнали б – засмеяли… Теперь вот приходится расплачиваться за жадность, фасонистость.
– Командир, траверс Змеиного, – доложил штурман.
Траверс Змеиного – начало вражеских владений, и в любую секунду следует ожидать истребителей. Меньшиков напомнил:
– Усилить осмотрительность.
– В секторе три чисто, – первым отозвался начальник связи эскадрильи лейтенант Пикалов, летевший в экипаже за стрелка-радиста.
– В первом секторе чисто, – доложил и штурман.
Второй сектор – передняя верхняя полусфера – командира экипажа. Каждый обязан вести постоянное наблюдение за своим сектором и информировать обо всем замеченном. Такое распределение внимания позволяло своевременно обнаруживать противника и принимать необходимые меры безопасности.
– А как там ведомые? – поинтересовался Меньшиков.
– Топают следом. Как на параде равнение держат. – В голосе Пикалова довольство, словно в этом его заслуга. – Особенно наша группа. Крыло в крыло. Гитлер увидит – сердце в пятки уйдет. – Пикалов обрадовался случаю поговорить – два часа молчал, а в условиях напряженной неизвестности время тянется мучительно долго и безмолвие действует угнетающе. Но экипажи подходили уже к береговой черте, где радиолокационные станции проглядывали и прощупывали каждый клочок неба. Надо быть особенно внимательным, потому Меньшиков перебил лейтенанта:
– Потом поговорим, а пока – воздух и еще раз воздух!
В самолете снова воцарилась тишина, если не считать гула моторов, которые тянули однообразную мелодию, навевая тоску по жене, дочурке. Как они там? Два дня назад Меньшиков дал команду начальнику штаба начать отправку семей из гарнизона. Но дело оказалось далеко не простое. Начальник штаба, побывав на станции, докладывал:
– …Не то что к пассажирским – к товарнякам не подступиться. Все отдыхающие ринулись с побережья. Едут на крышах, на тормозных площадках, на буферах, на подножках.
– И наших надо как-то отправлять. Дальше будет еще хуже.
Сумел ли он найти какой-либо выход?..
Внизу показалась гряда вытянутых с северо-востока на юго-запад белых пушистых облаков – словно полоса созревшего хлопка. Посев муссона: морской влажный ветер, ударяясь о горы, поднимается ввысь, охлаждается, и водяные пары конденсируются в капельки. Так образуются облака.
– Группа Казаринова отвалила влево, – доложил Пикалов.
– Хорошо.
Гряда облаков уплыла под крылья, и впереди открылась земля. Такая же земля, как и наша: изрезанная речушками, испещренная селениями, озерками, квадратиками полей, садов, виноградников. Все тихо и спокойно – ни самолетов, ни огня зенитных батарей. Видно, геббельсовская пропаганда и впрямь убедила румын, что не осталось ни одного советского самолета, раз ПВО так беспечна. Что ж, тем хуже для нее. Через несколько минут она узнает, насколько «правдив» ее глашатай.
Меньшиков дважды качнул крыльями – «Всем внимание!» – и «зажал» стрелки приборов педалями и штурвалом. Бомбардировщик словно замер на месте.
– Отлично, командир, – доложил штурман. – Десять влево… Так держать. Можно потихоньку снижаться.
Где-то здесь, на подступах к столице Румынии, должны были располагаться зенитные средства ПВО и истребительная авиация прикрытия, но пока никаких признаков ни батарей, ни самолетов. Либо хорошо замаскированы, либо рассчитывают, что советская авиация сюда никогда не прилетит. Скорее всего, первое, и потому тишина эта, затаенность настораживала. В кабине, несмотря на минусовую температуру, становилось жарко: шея и спина Меньшикова взмокли, капельки пота покатились по лицу из-под шлемофона. Нервы! А штурман все командовал, как над полигоном:
– Еще пять вправо. Отлично. Так держать!
Впереди внизу из пепельно-серой мари выплывали очертания громадного черного города. Бухарест! Столица втянутой в агрессивную войну Румынии.
– Стоп, командир, больше не снижайся. Так держать!
Меньшиков отстегнул кислородную маску, закрутил вентиль. С жадностью вынырнувшего с большой глубины пловца вдохнул полной грудью чистый воздух.
Марь над городом заметно редела, высвобождая островерхие домики, многоэтажные здания, узенькие улочки, площади. По ним уже сновали трамваи, автобусы. Но пешеходов пока еще было мало. Столица только просыпалась.
Меньшиков мельком окинул взглядом уплывающие под крылья бомбардировщика кварталы, сличая их по памяти с фотосхемами, которые изучал перед вылетом, но ничего похожего не нашел и перенес взгляд на приборы – его дело выдерживать постоянную скорость, высоту, курс, от этого зависит точность бомбометания; а штурман найдет что надо.
* * *
Каждое звено имело свою цель. Тройка Меньшикова должна была сбросить бомбы на авиазавод, тройка Цветова – на электростанцию, тройка Колесникова – на королевский дворец.
– Так держать! На боевом!
Меньшикову очень хотелось взглянуть вниз, посмотреть, как выглядит авиазавод, но оторвать взгляд от приборов было нельзя ни на секунду, пока штурман не сбросит бомбы.
Наконец бомбардировщик вздрогнул и облегченно рванулся ввысь, Меньшиков попридержал его.
– Сбросил две ФАБ-250, – доложил штурман.
Теперь Меньшиков имел возможность посмотреть вниз, и он сделал это, но ничего не увидел: место взрыва было закрыто фюзеляжем и крыльями, надо бы накренить машину, но ведомые, возможно, еще не отбомбились и примут сигнал к развороту.
– Кажется, в самое «яблочко». – Голос штурмана был радостный, значит, сбросили удачно.
И тут же на этой фразе была поставлена точка. Нет, многоточие: впереди засверкали разрывы, и на горизонте повисли темно-бурые рваные кляксы. Огненные всполохи учащались, теперь они вспыхивали справа и слева, выше и ниже; вскоре все небо было увешано грязными «букетами». Бомбардировщик трясло, как телегу на ухабах, по обшивке хлестали осколки.
– Разворот.
Меньшиков бросил самолет вниз и, круто положив его на крыло, стал строить новый заход: в бомболюках висело еще шесть соток, надо и их послать в «яблочко».
В развороте он увидел результаты бомбежки экипажей: по всей территории громадного завода вздымались огненные фонтаны. Черный дым клубился над крышами и, растекаясь, полз к центру города. Пожары бушевали в нескольких местах: видно, бомбы угодили в топливные склады, в цеха покраски или в другие цеха с горючими материалами.
На выходе из разворота Меньшиков сквозь разрывы заметил звенья Цветова и Колесникова: несмотря на шквальный огонь, бомбардировщики шли строем – плотным правым пеленгом.
– Командир, высота две триста, хватит снижаться, – подсказал штурман.
Меньшиков толкнул сектора газов от себя. Моторы взревели, и бомбардировщик круто полез вверх.
– Стоп, командир. Так держать!
Штурман направлял бомбардировщик в самую гущу разрывов – уткнулся в прицел и ничего не видит, а перед глазами Меньшикова полыхали огненные вспышки, град осколков стегал по дюралевой обшивке с таким остервенением, что машина то и дело конвульсивно вздрагивала, и удивительно было, как это она еще держится, каким чудом осколки минуют жизненно важные места – моторы, бензо– и маслопроводы, бензобаки. Хотя в бензобаки осколки, наверное, попадали, но трехслойная, с самовулканизирующейся прослойкой резина не дает течь бензину. Попади туда зажигательная пуля – дело будет хуже…
Сладковато-горький запах сгоревшего пороха проникал в кабину, драл нос и горло, и руки инстинктивно крутили штурвал, бросая бомбардировщик то влево, то вправо, в обход разрывов.
– Командир, подержи, открываю бомболюки, – попросил штурман. – Вот так… Так держать, на боевом!
Да, ему легче: не видит, что творится впереди. Огненные всполохи то приближались к самому носу самолета, то удалялись: зенитчики ставили заградительный заслон, как опытные рыбаки ставят сети на пути движения рыбы. И все-таки бомбардировщикам пока удавалось миновать его, пробиваться к цели.
– Сброс! – будто выдохнул штурман, помолчал немного и заключил: – Теперь уходи, командир. Лучше вправо.
Меньшиков и сам уже принял такое решение: влево они уже делали разворот, и зенитки пристрелялись по тому курсу. Пусть попробуют поймать их на новом!
Освободившись от бомб, бомбардировщик словно обрел новые силы: моторы звенели, стремительно набирая скорость. Триста пятьдесят, четыреста, четыреста пятьдесят… Ветер свистел, выл и метался по кабине, поднимая пыль, стегая по лицу и глазам. И лишь когда грязно-бурые шапки разрывов остались позади, Меньшиков обнаружил, что колпак кабины пробит в двух местах. В эти пробоины и врывался неистовый ветер.
– Давай, штурман, курс к морю. Самый короткий.
– Сто, командир. Ровно сто – и на высоту. Теперь, того и гляди, истребители объявятся.
– Как там остальные?
– Топают, товарищ майор, – сразу же отозвался Пикалов. – Наше звено все на месте, Цветова – тоже. Выползает из зоны огня и третье звено… Дали сегодня мы Антонеску прикурить!
– Командир, справа вижу истребители, – тревожно перебил Пикалова штурман. – Набирают высоту и идут нам наперерез.
– Заходят, чтобы атаковать со стороны солнца. – Меньшиков уменьшил скорость, чтобы подтянулись ведомые.
Истребители проскочили вперед. Длиннотелые, тонкобрюхие. Ме-109-Е, – определил по силуэту майор. Он слышал об этих машинах, показавших свои высокие летно-технические и боевые качества на заключительном этапе войны в Испании. Скорость – 570 километров в час, вооружение – двадцатимиллиметровая пушка и крупнокалиберный пулемет. ШКАСам[2] трудно будет противостоять им.
Бомбардировщики подтягивались почему-то медленно, особенно последнее звено. Похоже было, что самолет Колесникова подбит, а ведомые не хотели его оставлять. Меньшиков еще убавил обороты. Маневренность машины заметно упала, что в воздушном бою было пагубно. Но и бросить своего товарища в такой обстановке нельзя.
Да, самолет Колесникова подбит: едва заметная полоска дыма выбивалась из-под капота правого мотора. Винт вращался вяло, безжизненно – от напора встречного потока.
По времени «мессершмитты» уже набрали высоту, сделали разворот и идут в атаку. Солнце било прямо в глаза, что создавало фашистским летчикам идеальные условия для прицеливания. А тут еще скорость. Атаку сорвать можно только маневром. Меньшиков увеличил обороты моторам и положил бомбардировщик на крыло, туго закручивая левую спираль. Ведомые повторили его маневр. Машина Колесникова такой крен заложить не могла и стала отставать. Его ведомые зарыскали по курсу, понимая, что на малой скорости и пологом вираже сразу же станут добычей «мессершмиттов». Значит, не поняли замысла командира. А должны понимать по намеку. Пришлось выравнивать машину и дважды качнуть крылом влево – левый круг. Не успел он ввести бомбардировщик в вираж, как справа совсем рядом сверкнула огненная трасса, а спустя секунду, из ослепительных лучей солнца выскочил тонкий и стремительный Me-109-Е. Он был почти под девяносто градусов к бомбардировщику, пулемет штурмана достать его не мог. Пикалов же почему-то молчал.
– Стрелок!.. – Меньшиков не успел спросить, в чем дело, как почувствовал мелкую дрожь корпуса машины и увидел длинную трассу в сторону истребителя: Пикалов открыл огонь, но промахнулся.
За первым «мессершмиттом» вынырнул второй, третий. Они не стреляли – не сумели прицелиться в развороте – и пошли на второй заход.
Вторая тройка выпустила несколько очередей по бомбардировщикам Цветова и тоже промазала. Звено Колесникова пока не атаковали: то ли решили вначале разделаться с лидером, то ли понимали, что подбитая машина далеко от них не уйдет.
Истребители уходили вверх, вправо красивым боевым разворотом. Меньшиков толкнул сектора газа до упора и бросил бомбардировщик следом за ними. Штурман запоздало пустил вслед очередь, трасса растаяла вдали, не достигнув цели.
– «Мессеры» сзади! – крикнул Пикалов. – Восемь штук!
В тот же миг застучал пулемет, отдаваясь мелкой дрожью на штурвале. Майор продолжал закручивать боевой разворот вправо, теперь уже с намерением подойти к самолету Колесникова и прикрыть его своими пулеметами. Вот он наконец-то показался на встречнопересекающихся курсах, еще немного – и можно будет перекладывать рули влево. И в этот самый миг пара истребителей, отделившись от восьмерки, ударила по израненному бомбардировщику.
Меньшиков видел, как трассы вонзались в левый мотор. Из него вырвались языки пламени, повалил черный дым. Бомбардировщик сильно накренился и, словно в предсмертном прощании, качнув крылом, сорвался вниз.
– Истребители слева!
Бросок влево. Справа, как молния, сверкнула трасса. Запоздай Меньшиков на долю секунды – она пронзила бы бомбардировщик.
А небо перечеркнул уже второй черный след. И не было ни времени, ни возможности взглянуть, чей упал самолет – наш или фашистский.
Бомбардировщик то и дело содрогался от стрельбы Пикалова и от вражеских снарядов, которые все чаще стегали по крыльям, фюзеляжу. Пока экипажу везло: снаряды миновали жизненно важные центры, но долго так продолжаться не могло.
Звено капитана Цветова отражало атаки более удачно: Меньшиков увидел, как пара «мессершмиттов», пикировавшая на нее, попала в перекрестье трех трасс; ведущий тут же вспыхнул и, не выходя из пикирования, пронесся мимо, к волнам Черного моря. Первый сбитый враг! Меньшиков готов был кричать от радости: значит, можно сбивать вражеские истребители, и горят они не хуже бомбардировщиков.
Второй Me-109 не рискнул продолжать один атаку и поспешил пристроиться к другой группе.
На какое-то мгновение наступила передышка, и майор, воспользовавшись ею, повел своих ведомых дальше в море, к родной стороне.
– «Мессеры» снизу справа! – крикнул Пикалов.
Очень уж короткая передышка… Нет, фашистов не остановила гибель одного пилота, они стали атаковать еще яростнее, снизу и сверху обрушились на флагмана: трассы распарывали воздух со всех сторон, куда бы ни метнулся бомбардировщик. И одна из них, длинная и тяжелая, гулко хлестнула по правому мотору. Бомбардировщик дернулся, стал крениться вправо. Запах горелого масла наполнял кабину; черная, пока еще жидкая струйка дыма затрепыхалась под капотом.
Рука Меньшикова машинально перекрыла топливный кран правого мотора, чтобы он не вспыхнул. Лопасти винта замедлили вращение и остановились совсем. Давление на левую ногу уменьшилось, Меньшиков осторожно и плавно вывел самолет из крена. Вывел и на какое-то время оцепенел: слева крыло в крыло летел «мессершмитт». Сквозь фонарь кабины хорошо просматривалось упитанное белобрысое лицо. Немец встретился с недоуменным взглядом советского летчика, победоносно улыбнулся, потом скорчил грустную мину и полоснул себя ладонью по горлу – все, мол, крышка тебе. Ему было лет сорок, фюзеляж истребителя испещрен крестиками – счет сбитых самолетов. Ас! Держится в мертвой зоне, ни штурману его не достать из пулемета, ни стрелку-радисту. Не могли прийти на помощь и ведомые – бомбардировщик закрывал истребитель своим корпусом.
Фашист все учел, все рассчитал и настолько увлекся психологическим воздействием, что не заметил, как снизу ему под брюхо поднырнул бомбардировщик. Сверкнула трасса и пропорола его от хвоста до мотора. Меньшиков увидел это лишь тогда, когда истребитель свалился на крыло и, перевернувшись, заштопорил вниз. На хвосте бомбардировщика, сбившего истребитель, мелькнула цифра «12». «Туманов!» Появлением его Меньшиков был удивлен не менее, чем пристроившимся истребителем. Как Туманов так быстро здесь оказался?.. Хотя не Туманов прилетел быстро, а бомбардировщик Меньшикова на одном моторе тянул медленно…
– Командир, снизу сзади два… – Пикалов не уточнил, что именно, и так было ясно – «мессершмитты».
Ниже летел Туманов. По логике вещей, атакуют его. Как ему помочь?
Но Туманов уже сам принял меры: его бомбардировщик, скользнув на крыло, стремительно понесся вниз, заставляя преследователей круто ломать линию. Там несколько выше летела еще пара бомбардировщиков. «Цветов и Гордецкий», – догадался Меньшиков. Туманов направился к ним. Самолет его из крутого снижения перешел в энергичный, прямо-таки истребительский боевой разворот. С бомбардировщиков Цветова и Гордецкого ударили пулеметы, стараясь отсечь истребителей.
Снова рядом прочертили трассы – и снова, кажется, пронесло. Пронесло… Только следом летели уже не два ведомых, а один. Может, второй пристроился к звену Цветова или к отставшей паре Колесникова?.. Нет, Цветов летел вдвоем с Гордецким. Пары Колесникова не видно нигде…
Майор переключился на внешнюю связь, нажал на кнопку микрофона:
– Ноль пятый, вызываю на связь… Ноль пятый…
Но эфир безмолвствовал. Никто не ожидал, что так получится. Все были на внутренней связи.
И снова пулеметная дробь, огонь, удушье пороховой гари.
Когда Меньшиков вывел бомбардировщик из снижения, взору его открылась еще одна печальная картина: от пары бомбардировщиков Цветова, зажатой со всех сторон «мессершмиттами», отвалил ведомый и, оставляя траурный шлейф, понесся к водам Черного моря. Вдогонку за ним устремились два истребителя, поливая его огненными струями.
«Туманов!» – обожгла Меньшикова мысль. Он неотрывно смотрел за падающим самолетом в надежде, что члены экипажа покинут его. Бомбардировщик уже не отстреливался – либо стрелок-радист убит, либо кончились патроны. Но когда истребители стали выходить из атаки, блистер[3] вдруг ожил, плеснул очередью, да так метко, что первый истребитель густо задымил, круто полез было ввысь и тут же свалился на крыло.
Подбитый бомбардировщик был уже метрах в трехстах от воды, когда от него отделилась одна фигурка, затем другая. Похоже было, что прыгали они из нижних люков. Значит, стрелок-радист и штурман. Вспыхнули два белых купола. Только два…
Белые брызги взметнулись вверх, и бомбардировщик исчез в пучине, оставив лишь черный след в небе.
Парашютисты спускались медленно, и истребители продолжали кружить над ними, стреляя короткими очередями. У Меньшикова сердце разрывалось от жалости, особенно к Туманову. Юный голубоглазый лейтенант, всегда задумчивый и печальный, стоял в его воображении. С первого дня знакомства он вызвал у майора симпатию – стройный, тактичный, умный, а на лице его, добром и открытом, лежал какой-то странный отпечаток душевной тоски, одиночества…
Пикалов бил по «мессершмиттам» короткими очередями – видимо, кончались снаряды, – а истребителей становилось все больше, и они заслонили все остальное. Трассы пуль сверкали слева и справа, снизу и сверху; Меньшиков сам удивлялся, как ему еще удается маневрировать и уклоняться от атак.
Пулемет Пикалова смолк. Кончились патроны. Вот теперь «мессершмиттам» никто и ничто не помешает разделаться с подбитым бомбардировщиком. Зина может и не узнать, как все случилось. Трудно ей будет одной растить и воспитывать дочурку…
Снизу вперед выскочила пара истребителей. Штурман тоже не стрелял – у него снаряды кончились раньше, – и в этот миг непонятно откуда в сторону истребителей метнулась красная комета. Одна, вторая… Истребители круто отвалили в сторону, и – о чудо! – атаки прекратились. Меньшиков недоумевал: что это за новое оружие и кто вел огонь?
– А ведь драпанули, командир! – весело крикнул Пикалов. – Не иначе, ракеты наши приняли за крупнокалиберные снаряды.
Так вот в чем дело! Меньшиков грустно усмехнулся над собой, а душа у него ушла в пятки.
3
…Активно в эти дни действовала советская авиация, помогая наземным войскам.
(Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945)На посадку бомбардировщики заходили с ходу. Меньшиков шарил взглядом по аэродрому, отыскивая приземлившиеся самолеты, не укрытые еще маскировочными сетями. Один бомбардировщик стоял в конце взлетно-посадочной полосы, около него сгрудились люди, подъехали санитарная и пожарная машины. Второй подруливал к командно-диспетчерскому пункту. Цветов. Там его стоянка. Третий самолет члены экипажа укрывали маскировочными сетями. Остальные, возможно, еще не сели.
Взгляд Меньшикова случайно упал на дорогу, ведущую в гарнизон, и задержался на ней: к аэродрому приближалась толпа женщин – жены летчиков спешили узнать о своих мужьях. Не одна из них умоется сегодня слезами… Может, и Зинушка среди них? Не должна бы, она понятливая – жене командира, даже если что случится, не резон выставлять напоказ свое горе, которое угнетающе действует на других… Хотя не так-то просто подчинить чувства разуму. Разве хватит у нее терпения томиться в неизвестности?
Он посадил самолет, зарулил на место, где его уже поджидали инженер полка, техник, механик и еще около десятка командиров и начальников служб. Отстегнул парашют, вылез на крыло и остановился с широко открытыми глазами. Он слышал, как осколки и снаряды гремели по обшивке, знал, что самолет сильно избит, но даже предположить не мог, что до такой степени: крылья и фюзеляж зияли рваными отверстиями, маленькими – от пуль и громадными – собака проскочит – от зенитных снарядов; половина элерона оторвана, руль поворота болтается на оголенных в стабилизаторе кронштейнах. Как самолет держался в воздухе и как удалось привести его и посадить?!
Инженер полка и техник ходили вокруг искореженной машины и покачивали головами. Меньшиков спрыгнул на землю, спросил у шагнувшего ему навстречу начальника штаба:
– Сколько экипажей вернулось?
– Пока семь. Казаринов – на одном моторе дотянул, бомбардировщик Цветова тоже сильно избит. Ну а вы прямо-таки в рубашке родились…
– Там к аэродрому женщины приближаются, – не дослушал Меньшиков. – Надо задержать их и если не вернуть, то, во всяком случае, не пустить на аэродром. Объяснить, что может быть налет… – Меньшиков запнулся, врать он не умел и не хотел, но другого выхода не было. – Пойдите к ним сами.
– Есть, есть, Федор Иванович. – Начштаба помялся и все же решился спросить: – Скольких?..
Он не договорил, но Меньшиков и так понял, о чем речь.
– Я видел двух. Один Колесникова, второй, кажется, Туманова. Летчик не выпрыгнул, а штурмана и стрелка-радиста истребители добивали уже под парашютами.
– Н-да… – глубоко вздохнул начштаба. – У нас тут тоже не все благополучно. Потом доложу. – Он собрался уходить. – Да, вашу жену и дочку отправили. Посадили в поезд на Москву.
– Спасибо. – Меньшиков перевел взгляд в конец аэродрома, куда приближался на посадку еще один бомбардировщик. Приземлился он мастерски, точно у «Т», словно возвратился не из боевого полета, где нервы, мышцы, каждая клеточка мозга были накалены до предела, а из обычного учебного полета. Пробежал до середины взлетно-посадочной полосы, замедляя скорость, и Меньшиков увидел на хвосте цифру «12».
– Туманов, – удивленно и обрадованно произнес начальник штаба. – Значит…
– Значит, кто-то другой, – дополнил его командир полка. – Я сам видел, как самолет упал в море. – И все-таки на душе стало полегче. – Готовьте донесение, я пойду на СКП, – отдал он распоряжение штурману и начальнику связи эскадрильи, только что выбравшимся из своих кабин.
Минут через пять подошла еще пара бомбардировщиков, потом через разные промежутки времени появились одиночки. И почти все летчики запрашивали посадку с ходу. Дежурный штурман и хронометражист отмечали в журналах время посадки самолетов.
И вот на аэродроме воцарилась тишина. На СКП никто первый не начинал разговора. Из семнадцати экипажей, улетевших на задание, вернулись только одиннадцать. Надежда была еще на экипаж Запорожца, который успел передать единственное слово: «Барахлит». Видимо, мотор. Бомбардировщик мог приводниться и экипаж спастись на резиновых лодках или сесть где-то на вынужденную.
Меньшиков поглядывал на телефон – может, кто-то откуда-то отзовется, – но аппараты безжизненно молчали.
Просидели в безмолвии еще минут двадцать. Омельченко не выдержал, положил микрофон, распрямился. Меньшиков тоже поднялся и побрел к выходу.
Его обдало горячим сухим воздухом, а в уши ударил негромкий то ли стон, то ли вой, надрывный, разноголосый, заставивший сердце содрогнуться. Голосили женщины, жены не вернувшихся летчиков, штурманов, стрелков-радистов, и у него самого навернулись на глаза слезы. Но он понимал: слезами горю не поможешь и расслабляться ему, командиру полка, не к лицу. Он вытер глаза платком и пошел женщинам навстречу.
Чтобы привлечь к себе внимание, Меньшиков поднял руку и громко крикнул:
– Дорогие женщины! Прошу послушать меня! – Рыдания приутихли, в глазах женщин появилась осмысленность. – Только что мы вернулись из длинного и трудного полета. – Новые вскрики и всхлипы. – Вернулись пока не все. Пока! – повторил Меньшиков и сделал паузу. – Пока – потому, что в нашей профессии бывает всякое, и никто из вас не имеет права терять надежду. И я прошу вас всех, к кому вернулись мужья и к кому еще должны вернуться, отправиться сейчас домой. Понимаю ваше состояние. Поверьте, и мне не легче. Но слезы – плохой помощник. А нам предстоят новые полеты, новые бои с ненавистным врагом, которому мы должны отомстить за боевых товарищей. Так дайте нам отдохнуть, набраться сил.
И его послушались. Толпа стала редеть. Жены, чьи мужья вернулись, забирали своих ставших за эти дни во сто крат любимее и роднее супругов и уводили их домой. А вдовы все стояли, с надеждой поглядывая на аэродром, откуда подходили задержавшиеся у своих израненных машин командиры экипажей. Среди этих женщин – жены капитанов Колесникова, Запорожца. Меньшиков не раз видел этих молодых красивых женщин. Теперь их трудно было узнать: за несколько минут горе измяло, обескровило цветущие лица. Невдалеке от них стояла худенькая загорелая девушка с длинными косами в ситцевом, в горошек платьице, сшитом со вкусом и бережливо – выше колен, с большим вырезом на груди, с короткими рукавчиками. Раньше Меньшиков в гарнизоне ее не видел. Очень уж она переживает: глаза затуманены слезами, смотрят вдаль, на самолетную стоянку, где больше всего скопилось людей, и никого, кажется, не замечает. Девушка не обратила внимания на остановившегося напротив и рассматривавшего ее майора. Руки у нее загрубелые, работящие – видно, из местного виноградарского совхоза…
Внезапно лицо девушки озарилось радостью, и она улыбнулась. Меньшиков посмотрел туда, куда был направлен ее взгляд. С самолетной стоянки шли двое: Туманов и Гордецкий. Так вот за кого она переживала! А собственно, за кого? Сослуживцы частенько подтрунивали над Гордецким (хмурый вид Туманова не располагал к шуткам), спрашивали, как это он умудряется вместе с другом любить одну? Меньшиков такие подначки пропускал мимо ушей – шутка есть шутка, – но теперь видел: дело вполне серьезное. Девушка влюблена: она вся подалась вперед, готовая броситься летчикам навстречу. Сдерживало ее то ли присутствие людей, то ли еще что-то.
За ней наблюдали многие из тех, кто еще стоял здесь, а она по-прежнему никого не замечала, никого не слышала – все ее внимание, мысли и чувства были там, у Туманова и Гордецкого, а может, у кого-то одного из них. Когда они подошли совсем близко, девушка рванулась к ним и… обвила шею Туманова, трижды поцеловала его, не сдерживая слез. Туманов смутился, неуклюже попытался отстраниться. Девушка, словно опомнившись, повернулась к Гордецкому. Но нетрудно было заметить, что поцелуи ее были не такими искренними и горячими. «Теперь ясно, кого она любит», – подумал Меньшиков. Что ж, вполне резонно: хоть и хорош Гордецкий, а Туманов лучше – и симпатичнее, и сдержаннее, и добрее.
4
…На Луцком и Львовском направлениях день 27 июня прошел в упорных и напряженных боях…
(От Советского информбюро)В столовой царила мрачная, гнетущая обстановка: некоторые столы пустовали, и официантки с опечаленными лицами сновали между ними, боясь встречаться взглядами с вернувшимися из полета летчиками, евшими молча, без всякого аппетита.
Перед Меньшиковым стояли тарелки с мясом и свежими овощами, стакан со сметаной, а он лишь отхлебывал маленькими глотками чай – в горло ничего не лезло, хотя со вчерашнего обеда у него во рту крошки не было. Внутри все закаменело, захолонуло – и чаем не отогреть – от сознания таких потерь: шесть экипажей из семнадцати. Треть! Лучших экипажей. В первом боевом вылете…
Рядом с ним опустился начальник штаба.
– Вы ешьте, товарищ командир, а я буду докладывать, – сказал он и развернул папку. – Есть вопросы срочные. Нашему полку приказано нанести удар по танковой колонне в районе Томашув, Сокаль. Двадцатью четырьмя экипажами. Вылет – в четырнадцать ноль-ноль. Бомбометание – в восемнадцать. Посадка последних экипажей в сумерках. А завтра снова на Бухарест, Констанцу, Сулину.
Подошла официантка.
– Может, съедите что-нибудь, товарищ майор? – спросила она у начальника штаба.
– Нет. А вот чайку выпью с удовольствием.
– Кто летит? – Меньшиков отрезал кусочек мяса и положил в рот. Все же надо подкрепиться. Кто знает, когда теперь удастся попасть в столовую?
– Вторая эскадрилья. Подвесили тридцать тонн бомб. Маршрут очень уж дальний. Всюду, говорят, рыщут фашистские истребители. Положение на фронте серьезное: немцы вышли к Минску, Львову, Вильно. Бомбили Киев, Одессу, Смоленск. – Официантка принесла чай. Начальник штаба отхлебнул несколько глотков, глубоко вздохнул и с грустью продолжил: – В нашем районе фрицы, похоже, диверсантов выбросили: во многих местах телефонная связь нарушена.
– Усилили охрану?
– Само собой. Часовых и днем не снимаем.
В штабе Меньшикова поджидал оперуполномоченный капитан Петровский с лицом суровым, официально-предупредительным. Холодно протянул майору руку и, не поинтересовавшись боевым вылетом, пошел следом в кабинет.
– Что-нибудь удалось выяснить? – спросил Меньшиков.
– Ты о диверсантах? – Петровский выдвинул из-под стола стул, сел. – Пока ничего, – помолчал. – Дела очень плохи, Федор Иванович. Диверсанты – цветочки, а ягодки… – Капитан щелкнул костяшками пальцев по столу. – Вам известно, что ночью перед боевым вылетом кто-то отлучался с аэродрома?
– Отлучался? Куда?
– А вот это надо еще выяснить. Ты никого не отпускал?
– Разумеется. – Меньшиков соображал, кто же осмелился нарушить его строгий запрет. Вспомнился разговор Туманова с Гордецким. Почему они не спали и куда шли? Не они ли? – Я слышал голоса летчиков Гордецкого и Туманова. По-моему, только они не спали, – высказал предположение Меньшиков. – А направлялись они к землянке.
– Если бы… – вздохнул Петровский. – Они отлучались в городок.
– Зачем? – Меньшиков спохватился, увидев саркастически-насмешливый взгляд Петровского, и пояснил свое недоумение: – Дисциплинированные, хорошие летчики.
– «Дисциплинированные, хорошие»… – повторил с грустью в голосе Петровский. – Очень уж ты доверчив, Федор Иванович. А знаешь, с кем они встречались?
– Слыхал от летчиков. И видел ее сегодня.
– Кто она?
Меньшиков пожал плечами.
– Похоже, из сельских. Руки крупные, работящие.
– Вот видишь, как обманчива внешность. Она из интеллигентной семьи, дочь бывшего директора Краснодарского универмага Пименова. Слыхал о судебном процессе по делу о спекуляции?
– Нет. Я ведь недавно здесь, на юге… А при чем тут Туманов и Гордецкий?
– Я тоже интересуюсь, при чем. При чем их уход, при чем знакомство с этой девицей, дочерью осужденного. И еще есть одно «при чем». – Он выбил костяшками пальцев дробь на столе. – Не для распространения. В первый день войны, когда полк получил боевую задачу, она тут же была передана по радио. Со всеми подробностями: с маршрутом полета, количеством экипажей, эшелонами, временем удара по цели. Вот почему откладывался ваш боевой вылет. Этим утром, как только начала взлетать твоя группа, снова был засечен радиопередатчик Тем же шифром сообщались коррективы налета.
– Не подозреваешь же ты Туманова и Гордецкого в шпионаже?
– А почему бы и нет? Ты уверен в них?
– Я ручаюсь за них.
– Не надо ручаться, Федор Иванович. – Петровский поднялся. – Что ты знаешь о своих подчиненных? Хотя бы о Туманове. Что он не имеет родителей, окончил 10 классов с отличием. А кто его воспитывал, у кого он, будучи беспризорником, набрался таких благородных манер, дисциплинированности, исполнительности? – Петровский колючим, ледяным взглядом пронзил Меньшикова. – Вот то-то. В общем, я уже доложил свои соображения по инстанции и получил «добро».
– В таком случае я тоже вынужден доложить свои соображения моему командованию, – ответил Меньшиков и полез в стол за бумагами, давая понять, что разговор окончен.
5
В напряженных воздушных боях рождались все новые и новые герои…
(Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945)Вечером на аэродром прилетел на учебно-тренировочном самолете командир корпуса генерал Тулинов. После разговора с оперуполномоченным Меньшиков позвонил ему и доложил о результатах боевого вылета. Рассказывая о воздушных боях, назвал фамилии командиров отличившихся экипажей, среди них Туманова и Гордецкого, а уж потом сообщил об их проступке, стараясь смягчить вину подчиненных героическими действиями в полете.
– Послушаешь вас, так все у вас асы, а потеряли треть экипажей, – недовольно пророкотал генерал. – Ладно, прилечу – сам разберусь.
И вот прилетел. Меньшиков встретил его на аэродроме и на своей изрядно поношенной эмке повез в штаб полка. Генерал сидел молча, насупив свои широкие брови, отчего на лбу прорезались две глубокие морщины. Такое настроение командира корпуса не предвещало ничего хорошего, и Меньшиков не решался начать первым разговор, хотя очень хотелось узнать, какие потери в других полках и каково положение на фронтах.
Машина остановилась. Генерал вышел из кабины, но в штаб идти не торопился. Достал папиросу и сел на лавочку в курилке. Меньшиков остановился рядом, ожидая, когда командир начнет разговор.
Тулинов чиркнул спичкой, прикурил и, глубоко затянувшись, словно вздохнул о чем-то. Спросил, не поднимая головы:
– Почему такие большие потери?
Меньшиков ждал именно этого вопроса, но ответил не сразу. Почему? Он задал этот же вопрос себе, когда узнал, что из его группы не вернулось шесть экипажей. И когда уговаривал женщин разойтись по домам, уверяя, что их мужья еще вернутся, знал: нет, не вернутся, и ломал голову, почему огонь наших скорострельных пулеметов, считавшихся первоклассным оружием, столь малоэффективен. А когда Тулинов выразил недовольство по телефону – «потеряли треть экипажей», – голова и вовсе пошла кругом. Почему? Этот вопрос угнетал его, не давал покоя. Очень хотелось спать, и он не поехал с аэродрома, а зашел в землянку, сооруженную возле КДП, ткнулся на нарах в пахучую, скошенную накануне траву, еще волглую, источавшую все запахи земли, неба и солнца. Задремал он сразу, именно задремал, а не заснул, потому что вопрос о причинах больших потерь продолжал мучить его. Поначалу он искал ответ в своих действиях: где и какую он допустил ошибку? – но, когда вернулась вторая эскадрилья без семи экипажей, он понял: дело не в нем.
– Немцы оказались сильнее, чем мы предполагали, – ответил он генералу.
– Сильнее? – Генерал поднял голову, и его широкие брови круто изогнулись, выражая недоумение. – Или лучше подготовлены?
– Мы подготовлены не хуже, – возразил Меньшиков. – Но скорость «мессершмиттов» пятьсот семьдесят километров, почти вдвое выше наших «илов», и у них двадцатимиллиметровые пушки…
– А скорострельность разве не играет роли?
– Играет. Но немцы открывают огонь с шестисот-пятисот метров. Для ШКАСа такая дальность неэффективна. И нужен второй стрелок: задняя нижняя сфера у нас практически не защищена.
Генерал о чем-то подумал, взглянул на часы:
– Во сколько у вас построение?
– В двадцать ноль-ноль, после ужина.
– Хорошо, вот тогда и поговорим со всеми, послушаем мнение других. А где ваши особо отличившиеся, которыми особый отдел заинтересовался?
– Туманов и Гордецкий?
– Да, они самые.
– Отдыхали. Сейчас должны в столовую прийти.
– Вызовите их сюда.
Пока посыльный бегал за летчиками, Меньшиков докладывал Тулинову о результатах бомбометания, о том, что видел на пути к цели и на обратном маршруте. Они перешли в кабинет комполка, и Тулинов, расстелив на столе карту, отмечал на ней место встречи с истребителями, расположение зенитной артиллерии, кораблей в море. Генерал несколько отошел и, когда Туманов и Гордецкий доложили, что явились по его приказанию, даже протянул им руку и предложил сесть.
– Вдвоем уходили в самоволку? – задал он вопрос без проволочки и без той суровости в голосе, которая слышалась, когда он разговаривал по телефону.
Меньшиков заметил, как замкнулся Туманов, плотно сжал губы, видно, не желая отвечать на вопрос ни при каких обстоятельствах. Гордецкий же, наоборот, оживился, озорно блеснул темно-карими глазами и тут же выпалил:
– Так точно, товарищ генерал, вдвоем.
– Куда? – Откровенность лейтенанта не смягчила Тулинова, голос его зазвучал жестче, суровее. – Только честно, как на духу.
– Само собой, – не смутился Гордецкий. – К девушке. Она просила нас прийти еще днем, но мы не смогли. Пошли ночью, когда узнали, что вылет откладывается.
– А приказ командира?
– Так мы ж на несколько минут. И девушка просила… по очень важному вопросу посоветоваться…
– Сразу с обоими?
– Мы ее друзья. Вопрос действительно оказался важным: девушка решила уйти на фронт. Правда, об этом она сказала нам сегодня – ночью мы ее не нашли.
– Сколько вы отсутствовали?
– Минут тридцать. Нас в городок полуторка подбросила, что ужин привозила.
– А вы хорошо знаете свою девушку?
Туманов еще ниже опустил голову, Гордецкий и на этот вопрос ответил с прежней уверенностью:
– Так точно, товарищ генерал, хорошо. Она сирота, работает в колхозе. Вот на фронт добровольно решила уйти. Разве это не характеризует ее?
Генерал глянул в глаза Меньшикова, словно спрашивая у него ответа, согласно кивнул:
– Характеризует. А где ее родители?
– Мать умерла не так давно, а с отцом какое-то несчастье случилось. Мы о нем никогда разговор не заводим.
– Значит, на фронт решила… – в задумчивости повторил генерал, и лицо Гордецкого засияло.
– Товарищ генерал! – горячо заговорил лейтенант. – Возьмите ее к нам в полк, хоть воздушным стрелком, хоть мотористом, хоть еще кем-нибудь. Она толковая девушка, десять классов окончила, быстро войдет в курс дела. Ведь нам так нужны сейчас люди…
– Вы ее любите? – Генерал повеселел, лукаво прищурил глаза.
– Очень любим! И ручаемся за нее!
– Ну, коли ручаетесь… Оба любите?
– Так точно, оба.
– А не боитесь поссориться?
– Не боимся, товарищ генерал. Да и не о личном счастье время думать. Так что распорядитесь, товарищ генерал, чтобы ее зачислили в наш полк.
– Постараюсь помочь вам в этом вопросе. А что касается вашей самовольной отлучки… – Генерал повернулся к Меньшикову. – Накажите их, Федор Иванович, своей властью. Повторится нечто подобное – под трибунал. Ясно?
– Так точно! – подскочили лейтенанты со своих стульев.
* * *
На аэродром Меньшиков приехал с четко сложившимся планом разбора боевого вылета и конкретными рекомендациями на предстоящие полеты. В землянке, где он намеревался собрать летный состав, было сыро и сумрачно, на Меньшикова дохнуло каким-то могильным запахом – землей со свежими стругаными досками (землянку вырыли два дня назад), и он поспешил наверх, отгоняя вернувшиеся было мысли о погибших. Нет, разбор следует проводить под открытым небом.
Вдали показалась эмка. Генерал Тулинов остался после ужина в штабе, чтобы созвониться с командующим Южным фронтом, уточнить задачи. Что нового он привезет? Меньшиков направился к КДП, куда должна подъехать машина с генералом.
Тулинов вылезал из машины долго и нехотя, лицо его снова было хмурым и озабоченным; значит, вести неважные. Глянул на склонявшееся к горизонту солнце, потом на землянку и спросил:
– Может, на свежем воздухе поговорим? В землянке, пожалуй, тесновато.
– Да, здесь будет получше.
– Только выставьте часовых. И на ночь выделяйте оцепление аэродрома. В общем, бдительность и еще раз бдительность.
Минут через десять на грузовых машинах подъехал летный состав. К этому времени на месте, где буйно цвели маки, был установлен стол, около него три стула, а метрах в двухстах с разных сторон маячили часовые – боевое охранение.
Меньшиков построил летный состав, отдал генералу рапорт и после того, как строй громогласно ответил на приветствие комкора, дал команду левому и правому крылу изломать линию, образовать букву «П».
– А теперь всем сесть.
В строю послышались шутки, смех. Генерал подошел к столу, снял свою фуражку с большим квадратным козырьком – «посадочной площадкой», пригладил рукой реденькие светлые волосы. Шутки и смех прекратились. Генерал окинул всех взглядом и заговорил негромко, но властно, внушительно:
– Товарищи! Только что я разговаривал по телефону с командующим фронтом. Он поздравляет вас всех с боевым крещением, с первым трудным, но успешным боевым вылетом. По предварительным данным – дешифрованным снимкам и сообщениям иностранных агентств, в Бухаресте разрушен авиационный завод, а полутонная бомба угодила в королевский дворец. Кто из вас брал полутонную бомбу? – генерал повел взглядом по присутствующим. Встал капитан Цветов.
– Мой экипаж, товарищ генерал.
Ответил скромно, без импозантности, как и подобает командиру, и не «я», как ответил бы на его месте другой, а «мой экипаж». В донесении Цветов словом не обмолвился о своих заслугах, записал лаконично: «…Задание поразить королевский дворец пятисоткилограммовой бомбой экипаж выполнил». И теперь он стоял спокойный, даже, казалось, равнодушный, отчего его худощавое лицо с выгоревшими бровями и вовсе выглядело заурядным, похожим скорее на лицо деревенского простецкого мужичка, а не аса, командира эскадрильи.
Генерал удовлетворенно кивнул: «Садитесь» – и повернулся к командиру полка:
– Товарищ Меньшиков, представьте экипаж к награде. Командира – к ордену Красного Знамени, остальных к ордену Красной Звезды.
– Есть!
– Большой урон нанесен врагу и в портах Сулина и Констанца. Горят его нефтезаводы, склады, пакгаузы. Вторая эскадрилья бомбила в районе Сокаль, Томашув танковую колонну фашистов. Успешно действовали и другие полки нашего корпуса. Но, несмотря на это, враг продолжает наступать. Я не буду останавливаться на положении на фронте, вы сами летали и видели: положение очень тяжелое. Фашисты пока имеют большое преимущество в живой силе и технике. Чтобы лишить их этого преимущества, надо сильнее их бить, уничтожать самолеты, танки, пехоту. Выявлять места их сосредоточения и бомбить. Не давать им покоя ни днем ни ночью. Сегодня вы нанесли ощутимый удар по врагу и в воздушном бою показали пример мастерства и мужества, сбили семь фашистских стервятников, несмотря на то что летали без сопровождения истребителей. Для бомбардировщиков это неплохо. И все-таки наша радость омрачена потерями: с боевого задания не вернулись тринадцать экипажей. Мы точно пока не знаем, сколько сбито, сколько село на вынужденную, не дотянув до своего аэродрома, – такие есть, – но все равно, товарищи, потери очень большие. И я собрал вас, чтобы откровенно поговорить, в чем причина наших неудач, что нужно сделать, чтобы не нести потерь, эффективнее бить заклятого врага. Поэтому прошу прямо и открыто высказать свое мнение, не стесняться критиковать всех и вся, невзирая на ранги, если они в чем-то повинны. – Генерал снова обвел взглядом присутствовавших. – Ну, кто самый смелый?
Меньшиков следил за генералом и видел, как клонились головы летчиков и штурманов, как опускали они глаза долу. «Да что же это они, – недоумевал майор, – в бою не дрейфили, а тут сробели?.. Нет, не сробели», – понял он, встретившись со взглядом своего штурмана и прочитав в нем сочувствие. Призыв генерала «критиковать всех и вся, невзирая на ранги», подчиненные восприняли как обвинение в потерях своих командиров. Потому они и прячут глаза. В груди у Меньшикова приятно защемило: значит, любят его подчиненные, коль даже намек на его ошибку вызвал у них протест.
– Так что же вы? – спросил генерал. – Или враг настолько силен, что нет никаких способов бороться с ним?
– Разрешите? – поднялся старший лейтенант Ситный, командир звена из первой эскадрильи, невысокий, плотный, с курносым задиристым носом. Ни один спор не обходился без него. Вот и теперь первым выступил, чтобы возразить генералу, подискутировать с ним.
– Мы не думаем, товарищ генерал, что враг настолько силен, что нет никаких способов с ним бороться, – сказал он и откашлялся, готовясь сказать главное. – Но не надо искать причину наших больших потерь в командирах. Командиры наши тут ни при чем, учили они нас хорошо, и, если бы вы видели, как мы держали строй, как отражали атаки «мессеров», вы убедились бы в нашей высокой выучке. Почему же в таком случае большие потери? Причин много. Первая – «мессершмитты» превосходят нас в скорости и вооружении, в маневренности. Когда первые их атаки сзади с близких дистанций не принесли им успеха, они изменили тактику, стали заходить снизу, где у нас нет стрелков, и открывать огонь не с двухсот метров, как делали раньше, а с пятисот, шестисот, из пушек. Для нашего ШКАСа такая дальность, можно сказать, недосягаема. Вторая причина – отсутствие истребителей прикрытия. Хорошо еще, что «мессершмитты» атаковали нас после бомбометания. Будь мы с грузом, потери были бы гораздо большие. У меня все, товарищ генерал.
Тулинов, внимательно слушавший летчика и записывавший его высказывания в блокнот, вопреки ожиданиям Меньшикова, не стал ни полемизировать со старшим лейтенантом, ни комментировать его выступление, а разрешил ему сесть и заговорил не властно и категорично, как зачастую делал в силу своего волевого характера и служебного положения, а снисходительно, благосклонно:
– Вы неправильно меня поняли, товарищ старший лейтенант. Я вовсе не собираюсь искать виновных. Как я уже говорил, задание все выполнили успешно, и ваши командиры и все вы заслуживаете высоких наград. Разговор я завел лишь для того, чтобы выяснить наши недоработки, вскрыть слабые места, чтобы эффективнее бить врага. Вы правильно доложили об основных причинах наших потерь, и выводы мы, безусловно, сделаем. Об истребителях прикрытия я доложу главкому. Что же касается задней нижней полусферы бомбардировщика, разрешаю вам брать второго воздушного стрелка из механиков по вооружению. Какие есть еще суждения и предложения?
Руку поднял начальник связи эскадрильи лейтенант Пикалов.
Генерал одобрительно кивнул, и Пикалов встал, одернул гимнастерку.
– Лейтенант Пикалов, – представился он. – По поводу усиления огня наших самолетов у меня, товарищ генерал, есть еще вот такое предложение: уплотнить строй полета и летать на боевые задания не звеньями, а по меньшей мере эскадрильями. Огонь десяти пулеметов или трех – разница большая.
– А маневрировать как? – выкрикнул кто-то из летчиков.
Меньшиков повернулся на голос и увидел поднимавшегося старшего лейтенанта Маркина, маленького, худощавого пилота, мечтавшего перейти в истребители.
– В плотном строю фашистам и целиться не надо, – пояснил старший лейтенант свою мысль, – бей с тысячи метров, все равно в кого-нибудь попадешь.
– Ишь, как просто! Против десяти-то стволов?
– Пикалов дело говорит. Фашисты охотнее на одиночек набрасываются.
– Маркин прав: нельзя плотным строем… – Меньшиков почувствовал, как загорелось лицо. Не полк боевой – колхоз, галдят, как мужики на собрании. Выдержка генерала в конце концов лопнет, и тогда несдобровать командиру полка. Но Тулинов лишь поднял руку.
– Тихо, товарищи, не все сразу. У вас все? – повернулся он к Пикалову, затем к Маркину. – Садитесь. Итак, кто против плотного строя? – Но летчики притихли, и желающих продолжить спор не находилось. – Что же это вы? Или убедились, что Пикалов прав? Но, товарищи, будем мы летать и плотным строем, и разомкнутым, и эскадрильями, и звеньями. Как подскажет обстановка. Есть еще предложения?
К удивлению Меньшикова, руку поднял молчун, лейтенант Туманов. После беседы с генералом он, похоже, переродился – хмурость с лица исчезла, глаза горят задором, решительностью; даже заговорил!
– Я поддерживаю мнение Ситного, Пикалова и Маркина, – сказал Туманов. – Нижние кормовые стрелки очень нужны, уплотнение и укрупнение строя тоже. Но и это проблему не решает. Чтобы избежать крупных потерь, на мой взгляд, надо полностью перейти на ночные полеты. И еще один фактор. Мы – летчики дальнебомбардировочной авиации и, как учили нас, предназначены для действий по глубоким тылам противника. А какая же необходимость заставляет нас летать из Крыма под Львов, за тысячу с лишним километров вдоль линии фронта? Вернее, необходимость-то ясная. А целесообразность? Мы расходуем горючее, моторесурсы, силы, а, как известно, чем меньше сил в бою, тем меньше шансов на победу.
Впервые Туманов говорил так длинно и так убедительно, и впервые Меньшиков вник в суть сказанного и позавидовал ясности ума своего подчиненного, его глубоким тактическим познаниям и смелости суждений. А он, командир полка, до этого не додумался. А если бы и додумался, то вряд ли решился бы высказать эти мысли вслух.
– Разумные предложения, – одобрительно кивнул генерал и разрешил Туманову сесть. Меньшиков увидел за спиной лейтенанта капитана Петровского. Похоже, оперуполномоченный решил тенью следовать за летчиком и, похоже, не очень-то доволен снисходительностью генерала к лейтенанту. Чувство жалости снова шевельнулось в душе майора: Туманов радуется, что его поняли, поддержали, не догадываясь, какая над ним нависла угроза. Малейшая оплошность в чем-то – и ни командир полка, ни командир корпуса во второй раз отстоять его не смогут.
Разговор об увеличении эффективности действия бомбардировщиков и уменьшении их потерь в боях закончился, когда совсем стемнело. Над Севастополем снова занялось зарево. Тулинов направился к своему самолету. Меньшиков последовал за ним, чтобы проводить генерала.
– Да, – думая о чем-то своем, вздохнул генерал. – Много, очень много теряем. И они правы: надо перестраиваться. – Замедлил шаг, повернул голову к Меньшикову: – Засучивай рукава, Федор Иванович, и все силы на ночную подготовку. А пока… пока придется летать и днем и по дальним маршрутам.
6
…На морских границах первыми встретили и организованно отразили удар вражеской авиации моряки-черноморцы в районе Севастополя…
(Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945)У капитана Петровского имелись веские основания не доверять лейтенанту Туманову: слишком много «тумана» в его биографии. В его личном деле черным по белому было написано: рождения 1919 года, с пяти лет воспитывался в детском доме, родителей и родственников не помнит. Хотя в пять лет память самая острая… В 1927 году его забрали из детского дома бездетные старики Терещенко в станицу Холмскую, где он жил и учился до 1934 года. Летом 1934 года, после окончания семи классов, сбежал от опекунов. С 1935-го по 1938-й учился в 1-й Краснодарской средней школе, окончил ее с отличием. У кого жил и где пропадал целый год – с 1934-го по 1935-й – полный туман. В 1939 году (еще один год – белое пятно) поступил в Тамбовскую школу пилотов и в 1940 году успешно окончил ее. В январе 1941-го прибыл в полк и в июне уже приступил к овладению ночной подготовкой. Не вундеркинд ли? Правда, то, что он летает превосходно, Петровский сам видел: сажает самолет точно у посадочного «Т», и колеса будто прилипают к земле; даже опытные летчики восхищаются его ювелирным мастерством. Школьные инструкторы и полковые командиры характеризуют Туманова только положительно: исключительно скромен, дисциплинирован, исполнителен. Если не брать во внимание уход перед боевым вылетом с аэродрома, так оно и есть. Но откуда взялись эти скромность, дисциплинированность, исполнительность? Из ответа секретаря Холмского стансовета на запрос Петровского о Туманове тот сообщил, что Александр Туманов в школе отличался недисциплинированностью, учился плохо, с трудом и натяжками закончил седьмой класс, занимался жульничеством, карманным воровством, воспитанию опекунов и учителей не поддавался, несколько раз сбегал из дому, а в 1934 году сбежал окончательно, и где находится – неизвестно. Выходит, за год без опекунов и школы под влиянием таких же шалопаев-беспризорников он из хулигана и вора стал пай-мальчиком… Очень, очень сомнительно. Сам Туманов объясняет свое перерождение тоже очень туманно: дескать, жизнь воспитала и директор 1-й Краснодарской средней школы, у которого он якобы проживал первое время после бродяжничества.
В школьные годы Петровскому доводилось встречаться с беспризорниками – их тогда в Одессе было пруд пруди, – и он знал, что это за люди и как трудно поддаются они воспитанию. Один из них, Коля Трык, не раз попадал в милицию, не раз был бит, когда ловили его с поличным, однако не бросал своего карманного занятия. Год назад Петровский случайно встретил Трыка в курьерском поезде Москва – Одесса, капитан ехал в отпуск к родителям. Трык был без правой руки, одет прилично и держался солидно – из худющего чумазого паренька он стал степенным полноватым мужчиной. Он тоже узнал Петровского – не раз дрались команда на команду (школьники и беспризорники). Разговорились, и Трык охотно рассказал о своем житье-бытье: воевал с белофиннами, теперь работает в Одесском пароходстве заготовителем, возвращается из командировки. Он даже пригласил Петровского «пропустить по сто граммов коньячку за встречу», но Петровский отказался. А утром соседи по купе обнаружили, что попутчик исчез с их кошельками и дорогими вещами…
Нет, не верил Петровский в перевоспитание Туманова и во многое другое из его биографии. Надо было все перепроверить, уточнить. А тут война…
Столько новых забот свалилось на шею. Еще эта радиопередача… Перед самой войной и в первые ее дни немцы во многие прифронтовые районы и в места базирования наших войск забросили агентов и диверсантов. Появились они и здесь: третью ночь подряд подают сигналы ракетами своим самолетам, когда те пролетают над аэродромом. А вчера обстреляли наших бомбардировщиков на взлете. Посланная на поимки группа вернулась ни с чем, обнаружила лишь невдалеке от аэродрома следы от трехколесного мотоцикла да стреляные гильзы.
Вполне вероятно, что и радиопередачу вели те же мотоциклисты. Но кто их снабдил такой точной, исчерпывающей информацией?..
В радиограмме время взлета соответствовало последнему указанию Меньшикова – 2 часа ночи. Значит, данные агенту поступили после того, как Меньшиков дал команду отдыхать до часу.
С аэродрома ночью уходили только двое (Петровский опросил всех дежурных и дневальных, и, кроме Туманова и Гордецкого, никто назван не был). Значит, и секретные данные могли передать они, а вернее, он…
Как Петровский ни прикидывал, Гордецкий менее всего попадал под подозрение: из хорошей рабочей семьи, отец – член партии, мать – учительница. И сам лейтенант – душа нараспашку: доверчив, простодушен, не замечает даже того, что его избранница предпочтение отдает другому. А Туманов себе на уме, скрытен, насторожен, лишнего слова из него не вытянешь. Нарушить строгий приказ ради того, чтобы увидеть девушку… Совсем на него не похоже. Даже если и любит ее. Но, судя по их встрече на аэродроме, вряд ли… Она – да, кинулась ему на шею, не стесняясь посторонних, стала целовать, как законная жена. А он… даже растерялся.
Надо, очень надо было бы отстранить их от полетов. Если это Туманов, он не сидел бы сложа руки. А в небе за ним не особенно присмотришь. Не вернется в одно время на аэродром – вот и ломай тогда голову, сбили его или сам нашел себе где-то пристанище. И опять же Петровский окажется виноватым: «Мы тебе говорили… Мы тебя предупреждали…»
Капитан взглянул на часы – без пяти одиннадцать. Пора на аэродром. Закрыл папку, спрятал все в сейф. Придется начинать с мотоциклистов…
7
…По уточненным данным, в боях 27 июня на этом (минском) направлении уничтожено до 300 танков 39-го танкового корпуса противника…
(От Советского информбюро)Проводив Тулинова, Меньшиков вместе с инженером полка и его заместителем по вооружению отправился в землянку, чтобы сформировать новые экипажи – заменить выбывших по ранению, подобрать наиболее подготовленных и смелых специалистов по вооружению в воздушные стрелки.
С подбором воздушных стрелков дело, к счастью, оказалось проще, чем предполагал командир полка: инженер по вооружению принес кипу рапортов от механиков, пожелавших из наземных специалистов стать воздушными бойцами.
Меньшиков пересчитал рапорты и ахнул:
– А кто же будет готовить вооружение, набивать ленты патронами, снаряжать бомбы?
– Пока возьмем самую малость, сколько требуется на боевой вылет, – ответил инженер полка майор Баричев. – Набивать ленты патронами попросим командирских жен, которые еще не уехали.
– Хорошо, – согласился Меньшиков. Подписал десять рапортов и, отпустив инженеров, присоединился к штурману и начальнику разведки, колдовавшим над выбором маршрута полета.
Лишь далеко за полночь ему удалось освободиться от служебных дел, и он тут же, в землянке, на устланных свежескошенной пахучей травой нарах лег отдыхать. Но сон долго не шел, в памяти, хаотично перемежаясь, всплывали дневные перипетии: разговор с генералом Тулиновым, с капитаном Петровским, высказывания летчиков о мерах по уменьшению потерь. Иногда в эту служебную сумятицу вплетались мысли о жене, дочурке: где они, что с ними?
…Он возвращался из отпуска в Подмосковье, где служил, отдохнувший, загорелый, полный сил и радужных надежд: впереди предстояли интересные полеты на новом тяжелом бомбардировщике по дальним маршрутам, бомбометания на полигонах, воздушные стрельбы. Он истосковался по полетам, несмотря на то что весь отпуск погода стояла отменная, море не штормило и он целыми днями пропадал на пляже, купался, читал романы, сражался с товарищами в шахматы. И только в первые дни мысли о полетах не тревожили его, не напоминали о себе. Но не прошло и недели, как ему снова захотелось в небо, и частенько, лежа на пляже, он ругал себя за бесцельную трату времени, своих товарищей, которые и разговаривать не желали о службе, «дабы не портить настроения». А ему хотелось снова в часть, к самолетам. Он понимал, что не прав: давно ли голова его, чугунно-тяжелая от всевозможных наук, валилась с плеч, и он засыпал, едва добравшись до постели? Недельного срока для восстановления сил конечно же недостаточно. И все равно скучал по полетам.
В поезде он тоже проснулся рано. Соседи еще похрапывали, читать было темновато, и он, поворочавшись с боку на бок, вышел из купе. В коридоре стояла лишь одна девушка, смотрела в окно и вытирала кулаком заплаканные глаза. Меньшиков подошел к ней и как можно ласковее спросил:
– Кто в такую рань посмел обидеть юную красавицу? – Он не придал особого значения слезам – девичьи слезы, что утренняя роса, появляются без причины и пропадают без последствий. Но он ошибся: девушка вдруг громко всхлипнула, и крупные слезы покатились еще сильнее.
Нет, это был не девичий каприз, не мимолетная обида, а большое горе. Меньшикову было жаль девушку, хотелось помочь ей, но он не знал, как и чем облегчить ее страдания.
Из служебного купе вышла проводница и стала успокаивать девушку:
– Ну, хватит, хватит, милая. Вот приедем в Москву – дашь родителям телеграмму, они что-нибудь придумают.
– А что случилось? – спросил Меньшиков. Проводница вздохнула:
– Да уж случилось… Приличная дамочка, одета прилично, разве подумаешь… А поди ж ты… Сошла в Рязани с единственным чемоданчиком, родственников, сказала, надумала навестить. А чемоданчик вот ее, оказывается… Разве подумаешь… А там и вещички, и документы в институт поступать. Вот как тут теперь быть?..
Девушка снова громко всхлипнула.
– Только-то и всего?! – весело воскликнул Меньшиков, стараясь подбодрить девушку. – Я думал, жених бросил. А документы – эка важность, новые выпишут.
– Когда? Через пять дней экзамены, – сквозь всхлипывания произнесла девушка.
– Экзамены можно сдавать и без документов.
Девушка отрицательно покачала головой:
– Кто поверит… И у меня ничего не осталось…
Теперь Меньшиков рассмотрел ее. Она не была красавицей, но личико довольно миленькое: кругленькое, румянощекое, как яблочко; губы пухленькие, сочные. Легкое шелковое платьице туго облегало высокую грудь, покатые плечи с полноватыми руками. Меньшикову больше нравились девушки худенькие, стройные – сам он был всегда подтянут, следил за своим весом и даже в отпуске не позволял излишеств ни в еде, ни в сне – главных виновниках полноты, – но в этой попутчице что-то было необычное, по-детски милое, невинное, вызывающее симпатию и доверие.
– Я засвидетельствую вашу личность, – продолжал он все тем же шутливым тоном, и девушка перестала всхлипывать. – Кстати, как вас зовут?
– Зина.
Так состоялось их знакомство…
В узенькое, под накатом оконце пробилась густая синева. Светало. Надо вздремнуть хоть часок. Он закрыл глаза, расслабился, стараясь ни о чем не думать, и сразу его обволокло легкой туманной дымкой. Откуда-то появилась Зина, ведя за руку дочурку. Они шли ему навстречу, радостные, улыбающиеся. Внезапно в небе появились «мессершмитты» и закружили над ними, стреляя из пулеметов. Зина и дочь бросились к нему. Непонятно почему, Зина стала звать его не по имени, а по званию:
– Товарищ майор! Товарищ майор!
Меньшиков открыл глаза. Его тормошил водитель:
– Пора, товарищ майор, на аэродром…
У КП Меньшикова поджидал инженер полка майор Баричев, пропахший бензином и маслом, в замусоленном комбинезоне, неумытый, усталый. Но доложил бодро: шесть бомбардировщиков уже подготовлены к полетам, еще четыре будут готовы к двенадцати часам. С остальными дело обстоит хуже – требуется замена деталей, более серьезный ремонт. Надеется, к вечеру машины четыре отремонтируют. И извиняюще попросил:
– Разрешите, товарищ командир, на шестнадцать человек летного состава оставить расход на завтрак на десять часов. До пяти утра они помогали техникам. – И, заметив на лице майора неудовольствие, пояснил: – Это их личная инициатива, привел ваш воздушный стрелок старшина Королев. Сказал, что успеют отдохнуть. В общем, убедил.
– Только воздушные стрелки помогали? – Меньшиков думал уже о Туманове: если окажется, что ночью он был на аэродроме, Петровского не убедят никакие доводы.
– И стрелки-радисты.
У Меньшикова отлегло от сердца.
– Разрешаю.
8
28/VI 1941 г. Боевой вылет с бомбометанием по танковой колонне в районе Броды…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Бомбардировщики, как и в первом боевом вылете, шли плотным правым пеленгом, звено за звеном. Группа на этот раз была небольшая, всего девять машин, и вел ее заместитель командира полка по политчасти майор Казаринов. Правда, теперь в каждом самолете было по два стрелка. В нижний люк удалось установить крупнокалиберный пулемет 12,7 мм. И погода благоприятствовала: кругом расстилались мощные кучевые облака, высокие белоснежные горы, и бомбардировщики летели между ними, как по ущелью, часто меняя курс, чтобы не влезть в зону невидимости и болтанки. В «окна» просматривались зеленые квадраты полей, узкие речушки и озера, белые украинские хатки под соломенными крышами с неизменными палисадниками, сараюшками, огородами. И эти хатенки, палисаднички, сараюшки казались такими уютными, милыми, умиротворяющими, и не верилось, что где-то совсем недалеко полыхает огонь войны.
Александр Туманов летел во втором звене лейтенанта Дмитрия Захарова замыкающим. Ведущий хорошо выдерживал скорость, курс и высоту, и ведомым не составляло большого труда держать строй: Александр отрегулировал управление триммерами с такой точностью, что бомбардировщик не требовал усилий, и летчик лишь держал руки на штурвале.
Когда Гордецкий рассказал Александру о разговоре Меньшикова с Тулиновым (а ему доверительно шепнул дежурный по аэродрому лейтенант Тенадзе), Александра охватили гнев и отчаяние. Хотел пойти к Петровскому и все выложить о себе: пусть делают с ним что хотят, судят его или милуют, но пусть знают – совесть его перед советской властью чиста.
Гордецкий, заметив на лице друга злую решимость и поняв, что он может в горячке наделать глупостей, успокаивающе ткнул его в бок:
– Не кипятись и не переживай преждевременно. Петровский – не пуп земли, Меньшиков не особенно-то послушался его. Так что полетаем еще…
И вот они летят. Меньшиков – настоящий командир и добрейшей души человек. Другой на его месте вряд ли стал бы конфликтовать с оперуполномоченным, тем более что Александр и Гордецкий действительно были виноваты и заслуживали наказания. Надо во что бы то ни стало оправдать доверие командира. Он, Туманов, имеет право на все – на подвиг, на гибель, на возвращение тяжело раненным, не имеет права лишь попасть в плен… Нет, и погибнуть он не имеет права.
Облака стали редеть, до фронта оставалось не так уж далеко, и опасность встречи с фашистскими истребителями с каждой минутой возрастала. Командир группы качнулся с крыла на крыло – «Сомкнуть строй!». Александр продублировал команду по переговорному устройству:
– Усилить осмотрительность, подходим к линии фронта.
– Смотрим в оба, командир, – бодро отозвался стрелок-радист сержант Рыбин, уже обстрелянный над Румынией и сбивший там «мессершмитт».
Стрелком с ним летел его друг механик по вооружению младший сержант Иван Гайда, тихий и застенчивый украинский паренек, по-крестьянски неторопливый и рассудительный. Когда объявили о записи желающих в стрелки, Гайда с полчаса ходил вокруг самолета, кусая в задумчивости губы. Решиться помог ему Рыбин.
– Не бойся, ты ж со мной будешь, а меня «мессеры» как огня боятся.
И Гайда написал рапорт. Но как он поведет себя в бою? Бодрый голос Рыбина несколько успокоил Александра: рядом с ним Гайде стыдно будет дрейфить.
Небо почти совсем очистилось от облаков, лишь вверху, на большой высоте, тонкой паутиной тянулась с запада на восток перистая зыбь да внизу, тысячи на две, встречалась еще отдельная размытая кучевка. В таких облаках не спрячешься.
Еще минут через пять Александр заметил на опушке леса танки. Они прятались под деревьями, вокруг суетились бойцы, укрывая машины ветвями, маскировочными сетками. Танков было немало, не менее пятидесяти, и Александр порадовался: есть, есть у нас танки, и здесь фашисты не пройдут торжественным маршем.
Но вскоре радость начала гаснуть: внизу тут и там пылали дома, вспыхивали разрывы снарядов. Фронт. Земля исполосована ломаными линиями траншей, видны пушки, разбитые машины, танки…
По курсу полета бомбардировщиков чуть выше повисли белые облачка – ударила зенитная артиллерия. Майор Казаринов начал противозенитный маневр – перевел бомбардировщик в набор высоты с отворотом вправо. Ведомые последовали за ним. Огонь зениток переместился вправо, а группа уже со снижением уходила влево. И все-таки разрывы снарядов приближались, полыхали то слева, то справа, то перед самым носом бомбардировщиков.
«А вот в такой ситуации плотный строй ни к чему», – подумал Александр и машинально крутнул штурвал вправо, пытаясь удержать вздыбившуюся вдруг машину, брошенную взрывной волной к левому ведомому. Снаряд разорвался совсем близко, под правым крылом, и, несомненно, натворил бед. Моторы, правда, никаких признаков неисправности пока не подавали, работали ровно и одноголосо, но Александра это не успокоило. Он глянул на приборную доску и увидел, как дергается, будто в предсмертной агонии, стрелка манометра масла правого мотора. Дернулась несколько раз и затихла на нуле. Видимо, перебита маслосистема. А без масла мотор долго не протянет.
Так оно и случилось: температура головок цилиндров быстро стала расти. Туманов убрал газ, выключил мотор, а питание левого мотора переключил на правую бензосистему, чтобы скорее опустошить бензобаки из правого крыла и облегчить его. Передал по радио ведущему:
– Альбатрос, я – Сорок пятый, поврежден правый мотор, иду на одном.
Казаринов сразу же отозвался:
– Сорок пятый, сбрось бомбы по переднему краю противника и возвращайся.
Туманов и сам подумал было об этом, но бросать «сотки» на окопы, по живой силе, мало толку. А до цели лету считаные минуты.
– Так разрешите по цели отработать? – уточнил свою просьбу Александр.
Казаринов с ответом не торопился, наверное, спрашивал у штурмана, сколько еще лететь до цели, а возможно, раздумывал. Наконец переспросил:
– На одном идешь?
– На одном. Но тянет хорошо.
– Разрешаю. Только не отставай. Сними нагрузку триммером.
– Командир, внизу колонна автомашин, может, жахнем? – предложил штурман.
Туманов посмотрел вниз – грузовики, штук десять, большинство крытые. Пылят от линии фронта.
– Наверное, раненых увозят, – высказал Александр предположение.
– А наших они не жалеют…
Нога уже ныла от напряжения, стала подрагивать. Александр перенес правую – вправо жать не придется – и нажал ею на педаль, давая отдохнуть левой.
Впереди показалось небольшое село с вытянутыми вдоль шоссе домиками. Именно по этому шоссе, как доложила разведка, движется танковая колонна Клейста. Где она сейчас, не свернула ли, не застряла ли где-нибудь?
– Приготовиться к атаке! – передал ведущий.
«Где, кого он увидел?» – недоумевал Александр, всматриваясь в пустынную ленту шоссе. Повел взглядом по селу и почти сразу наткнулся на темно-зеленые, с хоботами орудий коробки, приткнувшиеся к домам, в тенечек, и под кроны деревьев. А чуть подальше, за селом, на опушке леса их стояло не менее сотни. Фашисты, похоже, и предположить не могли, что их атакуют здесь советские бомбардировщики, по сведениям Геббельса, уничтоженные в первый день войны.
Танкисты, даже услышав гул самолетов, не проявили беспокойства, продолжали беспечно заправлять танки топливом, а некоторые заправлялись сами, расположившись в холодке под деревьями. Но слишком низко летели самолеты, чтобы не увидеть на их крыльях красные звезды.
Зенитки открыли огонь. Звено Казаринова успело проскочить заградительную стенку, вторая же тройка оказалась в самом центре разрывов, и бомбардировщик Захарова задымил.
Туманов был ниже ведущего метров на двести и хорошо видел, как командир звена пытался сбить скольжением пламя, но открытые бомболюки сильно тормозили и создавали завихрение, способствующее раздуванию пожара: шлейф дыма увеличивался и густел.
– На боевом!
– Хорошо, командир. Так и держи вдоль опушки. Бросаю все, серией.
– Давай! – тоже крикнул Александр, стараясь заглушить грохот разрывов. Бомбардировщик будто встрепенулся, освободившись от тысячекилограммового груза, и мотор, казалось, запел звонче, голосистее.
– Порядок, командир, – констатировал штурман. – В самую гущу врезали. Долго фрицы нас помнить будут. – Вдруг осекся и совсем другим голосом попросил: – Уходи, Саша. Быстрее!
Все произошло так неожиданно и стремительно, что, казалось, парализовало даже фашистов: стрельба зениток на какой-то миг смолкла, и все вокруг стихло, если не считать гула уходящих от трагического места самолетов да догорающих там танков.
Но это только казалось…
– Сзади сверху «мессершмитты»! – крикнул стрелок-радист.
Так вот почему прекратили огонь зенитки! Теперь дело продолжат истребители.
Александр крутанул баранку влево и изо всей силы нажал на левую педаль – при любых атаках маневрировать резко он мог только влево – вправо машина опрокинется.
«Мессершмитты» пронеслись вперед, к тройке Казаринова. Восемь штук. Звено ведущего встретило их дружным огнем: со всех трех бомбардировщиков сверкнули трассы. Ударили и истребители. Кто кого подбил, Александру досмотреть не удалось.
– Четверка справа, атакует нас! – доложил Рыбин.
Справа – это уже хуже, туда быстро не отвернешь, да надо, иначе «мессершмитты» прошьют без особого труда. Александр лишь ослабил левую педаль – и бомбардировщик повел носом вправо. Тут же с обеих сторон сверкнули трассы. Фашисты промахнулись и метнулись за самолетом Гордецкого, который подтягивался к тройке Казаринова.
– Еще вправо! – скомандовал Рыбин.
«Фашистские летчики заметили, что правый винт не работает, – догадался Александр, – атакуют только справа… Хотя бы перетянуть линию фронта…»
Он все-таки сманеврировал, и фашистские летчики снова промахнулись. Зато Рыбин оказался молодцом: изловчился и распорол брюхо одному «мессершмитту». Истребитель смрадно задымил, перевернулся через крыло и рухнул вниз.
Меткая очередь Рыбина разозлила фашистов: вокруг подбитого бомбардировщика закружили четыре «мессера». Иван Гайда стрелял все короче и реже – берег патроны, – а потом и совсем замолчал. И тут же по обшивке бомбардировщика хлестко ударило.
– Командир, ра… – Голос Рыбина заглушил треск разламывающейся машины. Бомбардировщик клюнул носом. Александр хватил на себя штурвал, но он подался без всякого усилия – самолет был неуправляем. Земля со свистом понеслась навстречу.
– Прыгайте! Всем прыгать! – крикнул Александр по СПУ.
9
2/VII 1941 г. Обучение летчиков взлету и посадке ночью, пилотированию по приборам…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Десятая ночь войны подходила к концу: тухли на небе одна за другой звезды, на востоке обозначилась полоска горизонта, а вскоре стали прорисовываться и контуры далеких зубчатых гор, островерхих кипарисов, тополей.
Десятая ночь… А кажется, что война идет целую вечность. Меньшиков чувствовал себя таким измученным и усталым, что голова валилась на грудь, глаза слипались и стоило большого труда отгонять сон, давать команды обучаемому, помогать ему при отрыве бомбардировщика от земли, на посадке, подсказывать, делать замечания. Десятая ночь. Наконец-то началась ночная работа. Поздновато, но… Лучше поздно, чем никогда. 27 экипажей полк недосчитался за эти дни. И каких экипажей! Капитана Колесникова, старшего лейтенанта Ситного, лейтенантов Тарасова, Захарова, Туманова…
Хорошо, что ночи пошли на прибыль, а этой – вообще, кажется, не будет конца: небо чуть посерело у горизонта, да так и застыло полусумрачным, словно испытывая терпение Меньшикова. И он, пока лейтенант Проценко, его обучаемый, рулил на стоянку, не выдержал: едва лейтенант выключил моторы, откинулся на спинку сиденья и, не расстегнув привязные ремни, уснул неспокойным зыбким сном переутомившегося человека. Достаточно было штурману позвать его: «Товарищ майор!», как Меньшиков поднял голову и обеспокоенно спросил:
– Что? Почему выключили моторы?
– Заправляться зарулили, – пояснил штурман. – И закругляться придется – вас командир корпуса на проводе ждет.
– Иду, иду. – Меньшиков отогнал остатки сна, затекшими, непослушными руками расстегнул замок привязных ремней, карабины парашютов и торопливо спустился на землю. От освежающего ветерка, доносившего запах моря, от оглушающей тишины, какая бывает только ранним утром и которую так любил Меньшиков, закружилась голова. Горизонт, виднеющиеся вдали деревья вдруг качнулись, заволоклись туманной дымкой. Меньшиков, чтобы не упасть, схватился за плечо штурмана, распрямился. Туман исчез, но в глазах продолжало рябить, и горизонт, и деревья качались из стороны в сторону, будто он стоял на палубе корабля в волнующемся море.
«Уж не заболеваю ли я? – с тревогой подумал майор. – Только этого не хватало. Кто же тогда будет вывозить летчиков ночью?»
К бомбардировщику подъехали топливозаправщик и полуторка с баллоном сжатого воздуха. Когда баллон сняли, Меньшиков сел в кабину к шоферу и приказал подбросить его к штабной землянке.
Дежурный встретил его на входе и отдал рапорт: в течение ночи, когда доносился гул фашистских самолетов, кто-то с северной стороны аэродрома трижды подавал сигналы ракетами, указывая место стоянок наших бомбардировщиков. Группа, выделенная для поимки диверсанта, вернулась ни с чем – он где-то прячется надежно.
Меньшиков вспомнил, что и он видел, как в небо поднималась горящая ракета, но не придал этому особого значения – могли стрелять наши бойцы от нечего делать. А оказывается, положение очень серьезное: диверсант и шпион (может, он одно и то же лицо, а может, их несколько) рядом, надо срочно принимать меры, пока не произошло худшее.
– Петровский знает об этом?
– Так точно. Он был здесь и лично руководил поимкой диверсанта.
«Тем хуже для него», – мелькнула у Меньшикова мысль. Может, теперь убедится, как не прав был в отношении Туманова.
Меньшиков вошел в землянку – отгороженную, с телефонами и радиостанцией комнатушку, – взял лежавшую на столе трубку:
– Слушаю. Двадцать первый.
– Здравствуй, Федор Иванович, – сразу отозвался Тулинов. – Как отработал?
– Хорошо отработал, товарищ Сотый. Плановую таблицу выполнил.
– И сколько у вас теперь ночников?
– Восемь.
– Маловато. – Тулинов с кем-то посовещался. – Сегодня вышлем вам пополнение: пять летчиков и четыре штурмана. Стрелков подбирайте у себя. Да, вот какая еще новость: Ситный и Идрисов объявились. Подбили их, сели на вынужденную чуть ли не на передовой. Блукали с отступающими частями. Только полчаса назад подали голос. Завтра-послезавтра вернутся. Но тоже без машин. Латайте свои. А когда у нас что-нибудь появится – подбросим. Теперь можешь Ситного помощником использовать.
Еще раз напомнив о форсировании ночной подготовки и пожелав успехов, Тулинов повесил трубку.
Сообщение генерала о том, что Ситный и Идрисов живы, подняло настроение Меньшикову: может, и еще кто объявится. Снова почему-то на первое место выступил Туманов. Очень уж о нем убивается Пименова. Два дня назад Меньшиков увидел ее и с трудом узнал – так похудела она и осунулась. Гордецкий, рассказывают, каждый день навещает ее, утешает: вернется, мол… Настоящая любовь, настоящая дружба. Меньшикову тоже очень хотелось, чтобы Туманов вернулся.
10
29/VI 1941 г. Боевой вылет с бомбометанием по скоплению войск противника в районе Кременца…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)«Мессершмитт» стрелял издалека, потом несся на него, нацелив острым носом, намереваясь перерубить крылом стропы, и Александр начинал дергать накрученные на руки жгуты, раскачиваясь из стороны в сторону. Фашист не выдерживал, отворачивал в сторону, догадываясь, что русский летчик угодить хочет в винт, заплатить жизнью за жизнь.
Истребитель делал круг, круто разворачивался, и все начиналось сначала. Александром владела лишь злоба – ни о смерти, ни о спасении он не думал. Хотелось одного: угробить этого ублюдка, стремившегося во что бы то ни стало расстрелять, по существу, безоружного человека.
И все же он почувствовал приближение земли, отпустил стропы. Тут же последовал удар. Александра дважды перевернуло через голову – парашют продолжала нести инерция скольжения. Наконец купол зацепился за куст, и летчик вскочил на ноги. Молниеносно отстегнул карабины парашюта, бросился в лес, под укрытие больших деревьев, слыша приближающийся гул вражеского истребителя. И вовремя: «мессершмитт» спикировал на парашют, прошил его пулеметной очередью. Завершив свое дело, взмыл и скрылся за лесом.
Гул самолетов все еще стоял в ушах, а новая опасность уже висела над Александром, подгоняя его, заставляя напряженно искать выход: территория занята врагом, немцы, несомненно, видели, как спускался советский летчик, и послали на его поимку своих солдат. Надо быстрее уходить. Вначале нужно спрятать парашют, чтобы немцы дольше искали место приземления и не сразу узнали, что летчик остался жив.
Он вернулся к парашюту, стащил его с веток, скрутил в комок и запрятал в гущу куста.
Длинные тени от деревьев – солнце уже спустилось к горизонту – указывали направление на восток, и Александр поспешил покинуть гостеприимную опушку, которая приютила его. Вошел в лес и побежал в глубину, не обращая внимания на стегающие по лицу ветки, на рвущие комбинезон сучья.
Лес сменился густым перелеском, и идти стало еще труднее. Александр взял направление в низину, надеясь найти там ручеек. Кустарник наконец поредел и вскоре кончился совсем. Александр спустился в балочку, заросшую осокой, крапивой и ивняком. Поискал ручеек, лужицу. Ничего. Сухая земля. И такая стояла тишина, что было слышно, как стучит сердце. Ни выстрелов, ни птичьего голоска, ни даже комариного писка. Будто все вокруг вымерло.
По другую сторону балочки на бугре снова начинался кустарник. Летчик направился туда. Поднялся на бугор, и его взору неожиданно представилось село. Типично украинское, какое он с час назад наблюдал с высоты полета, – с белыми хатками, крытыми соломой, палисадничками, садами. Есть ли там немцы? Не видно ни души. Неважное предзнаменование.
Внезапно слева раздался топот и лошадиное фырканье. Александр притаился за кустом и увидел невдалеке двух всадников в немецкой форме. Они проехали проселочной дорогой по направлению к деревне. Значит, туда ему путь заказан. А так хотелось пить! И ноги подламывались от усталости. Придется обходить село ночью. Александр спустился к балке – здесь было прохладнее – и, забравшись в кусты, стал ждать, пока стемнеет. Усталость тут же дала о себе знать: глаза стали слипаться. Александр вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и, поставив курок на предохранитель, прилег на бок, прикрыв собою оставшегося единственного друга, на чью помощь он надеялся.
11
6/VII 1941 г….Боевой вылет с бомбометанием по Бухаресту…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Меньшиков долго стоял на аэродроме, глядя в сумеречное вечернее небо, где набирали высоту и подстраивались друг к другу бомбардировщики. Вот эскадрилья собралась – три тройки, вытянутые правым пеленгом, – и взяла курс на запад. На земле уже властвовала темнота, а небо все еще закатно багрянилось, и темные силуэты самолетов медленно и нехотя растворялись в нем, теряя очертания. Вот они исчезли совсем, а Меньшиков все стоял, смотрел вслед и чувствовал, как душа наполняется тоской и болью, словно он провожал боевых друзей в последний невозвратный полет, хотя эскадрилья улетала на первое ночное задание. То ли потому, что недельный перерыв в боевой работе отдалил его от потерь, и он стал потихоньку забывать горящие самолеты в небе Румынии, – а сегодня та картина воздушного боя всплыла вдруг со всеми подробностями, – то ли потому, что задание эскадрилье было особенно сложное и ответственное, он переживал сильнее, чем перед налетом на Бухарест, где участвовал сам.
Неужели и ночные полеты окажутся такими же роковыми, как дневные? Нет, не должно, не может быть. Ведь от полка, по существу, осталась одна эскадрилья.
Ждать, когда экипажи вернутся с задания, думать о них было так мучительно тяжко, что он, побродив немного по аэродрому, сел в эмку и поехал в гарнизон проведать свою квартиру, куда не заглядывал со дня отъезда жены и дочери.
Меньшиков открыл свою квартиру, и на него дохнуло застоялым, затхлым воздухом, словно в квартире век никто не жил. Луч карманного фонарика высветил пустые рамки из-под фотографий – символы пустоты, покинутости, – и у него стиснуло дыхание, будто сердце начало давать перебои; на глаза навернулись слезы. Он опустил луч фонарика на пол. Недалеко от двери стояли Зинины комнатные тапочки, детские ботиночки. Стол уже покрылся пылью. На диване лежало скомканное покрывало – Зина тоже торопилась.
Меньшиков поднял его, сложил конвертом. Опустился на диван. Пружины жалобно скрипнули, будто спросонья, и все снова стихло. Неуютно и мрачно было в его совсем недавно наполненной музыкой и радостным смехом квартире. Он выключил фонарик. Вместе с темнотой на него сразу же навалилась усталость, и скрипнувший диван как бы позвал: приляг хоть на минутку, как бывало…
Как бывало!.. Он приходил с полетов, брал газету и, положив под голову подушку, читал. Потом засыпал на часок, не более, чтобы бодрым и свежим вернуться в штаб и заняться «земными» делами: разбором полетов, составлением плановых таблиц предстоящих полетов, читкой документов. Иногда вечерами к ним приходили товарищи по службе. Пили чай, слушали музыку, говорили о всяких пустяках, шутили, смеялись. И было так весело, так хорошо!
Было, было… А теперь одни переживания. И сколько еще такое продлится? Думали, Гитлер через неделю выдохнется, а он все прет и прет. Сданы Каунас, Вильнюс, Минск, Ровно, Львов… Сколько еще придется пустовать его квартире и вернутся ли сюда Зина с дочуркой?
…Было воскресенье, и в институте, куда приехала поступать Зина, никого, кроме сторожа да коменданта, им разыскать не удалось.
– Вы рано приехали, – недовольно сказал комендант девушке. – Экзамены с 1 августа, общежитие освобождается только 30 июля. Так что три дня вам придется пожить у своих знакомых.
У Зины снова на глаза навернулись слезы. Меньшиков уже знал, что в столице знакомых у нее нет, денег ни копейки, она додумалась на ночь положить их вместе с паспортом в чемодан… Предложить ей поехать в Монино, в его холостяцкую комнатушку?.. Другого выхода он не видел.
– Идемте. Что-нибудь придумаем. – А когда вышли из здания института, сказал твердо, как давно решенное: – Поживете эти дни у меня.
Она испуганно замотала головой.
– А без документов вас ни в одну гостиницу не пустят. – Слезы струйками побежали из ее глаз.
– А это уже ни к чему, – ласково пожурил Меньшиков. – Надо не плакать, а искать выход. Раз вы не хотите ко мне, давайте сделаем так: я куплю вам билет на обратную дорогу, дам денег. До Пензы (родители ее жили там) недалеко, и вы к экзаменам успеете обернуться.
Она еще решительнее замотала головой.
– Почему?
– Мачеха больше меня не отпустит, – сквозь слезы выдавила она.
– У вас мачеха?.. А отец… родной?
Она кивнула.
– Но он… он послушает ее.
– Почему они не отпустят?
Она пожала плечами.
– Мачеха боится, что подумают, будто она меня выжила из дома. Настаивает, чтобы я училась в Пензе.
– А как она к вам относится?
Зина подумала.
– В общем-то, неплохо. Но мы не любим друг друга.
– За что?
– Я ее – за маму. Она липла к папе, когда мама была еще жива.
– А ты откуда это знаешь? – Он и сам не заметил, как вырвалось у него «ты», но поправляться не стал – так проще и доверительнее.
– Папа сам маме рассказывал.
– И после этого он женился на ней?
Зина печально кивнула.
– Он такой бесхарактерный…
– Почему ты думаешь, что и она тебя не любит?
– Я ж видела…
– И потому уехала?
Снова кивок.
– Да, печальное положение… Ну вот что, я оставлю тебе денег – и поступай как знаешь. Мне завтра на службу. – Он полез за деньгами. Она протестующе замахала руками.
– Нет-нет, я не возьму. Все равно без документов…
– Вот видишь, выход остается один – ехать ко мне. А я пока поживу у товарища.
Она все еще колебалась. Потом робко спросила:
– А у вас там… только мужчины?
– Не только. Есть и женщины, жены командиров. Да ты не беспокойся, никто тебя не обидит.
Последняя фраза, кажется, убедила ее, она пошла за ним.
До вечера они гуляли по Москве: ходили в кино, в парк, ужинали в ресторане. Настороженность и недоверчивость Зины развеялись, и порог общежития она переступила без прежнего страха. А на следующее утро, когда он пришел к ней, не заметил на лице и следов переживаний. Зина показалась ему еще более симпатичной.
Он положил на стол деньги.
– У меня к тебе небольшая просьба: сходить в магазин. Я весь день буду на занятиях, вернусь вечером голодный. Так что приготовь ужин по своему вкусу. Посмотрю, какая ты хозяйка, – весело подбодрил он ее. – И себя, разумеется, голодом не мори…
Через три дня Зина уехала сдавать экзамены. Не вернулась она, как обещала, ни в первое воскресенье, ни во второе, ни в третье. И он из-за занятости по службе не мог вырваться в столицу. Раньше, возвращаясь в свою комнатенку, он преспокойно заваливался спать, а теперь, несмотря на усталость, подолгу лежал с открытыми глазами. И он вдруг обнаружил, что скучает по девушке, что без нее ему стало одиноко и тоскливо. Вспоминает их встречу, перебирает в памяти все слова, сказанные ею…
Зина прислала письмо. Благодарила Федора за доброту и чуткость, сообщала, что экзамены выдержала успешно, зачислена студенткой 1-го курса филологического отделения и живет в общежитии; извинялась, что не смогла приехать – очень занята; приглашала к себе. А у него тоже начались полеты.
Однажды, уже поздней осенью, дежурная по общежитию передала ему конверт.
– Вас тут ваша знакомая дожидалась. Но не дождалась.
Он разорвал конверт. В нем были деньги и короткая записка:
«Федя, возвращаю долг. Большое спасибо за все. Надеялась тебя увидеть, но дежурная предупредила, что ты, возможно, не вернешься, будешь ночью летать. До свидания. Зина».
Ему хотелось броситься за ней вслед. Но она была уже в столице, а ему предстояло рано утром лететь на задание…
Мягкий диван, домашняя обстановка, а больше всего усталость и напряжение прошедших дней сделали свое дело – глаза сами собой закрылись.
«Надо позвонить на коммутатор, предупредить, где я», – подумал он. Дотянулся рукой до тумбочки, нащупал телефон, снял трубку.
– Волна слушает, – тотчас ответил незнакомый женский голос: на коммутатор взяли новых телефонисток, и Меньшиков не научился еще узнавать их по голосам.
– Это Двадцать первый. В случае чего звоните мне на квартиру.
– Есть, товарищ Двадцать первый, – по-военному ответила телефонистка.
Меньшиков положил трубку и, откинувшись на спинку дивана, уже сквозь сон вспомнил, чей это голос: Пименовой. После гибели Туманова она приходила к нему, просилась в воздушные стрелки – хотела мстить фашистам, хотя в смерть Александра, сказала она, не верит. «Правильно сделал, что отговорил ее, – подумал он теперь. – Не женское это дело – стрелять…»
Проснулся он так же внезапно, как и уснул. В окна уже вливалась предрассветная мгла, растекаясь по столу и стульям, книжному шкафу, шифоньеру. Всюду – на стульях, на диване в уголке (раньше он ничего этого не замечал), на кровати валялись вещи: Зинин халат, свитер, чулки, Нинины платьица, пальтишко с капюшоном, валеночки – то, что хотели они взять и не смогли. «Надо все собрать и уложить, – мелькнула мысль, – а как только они пришлют письмо, отправить им».
Он энергично поднялся, чувствуя себя отдохнувшим, полным сил, зашел в умывальник – вода, к счастью, еще была, – плеснул несколько пригоршней в лицо и поспешил на улицу, где в эмке крепким молодым сном спал водитель. Его не разбудил ни стук открываемой и затем захлопнувшейся дверцы, ни оклик. Лишь когда Меньшиков потряс его за плечо, шофер проснулся, вытер ладонью струйку слюны на подбородке и торопливо включил мотор.
Бомбардировщики стали возвращаться, когда солнце уже оторвалось от горизонта и повисло над палатками, раскинутыми на краю аэродромного поля. Их гул прозвучал как сигнал сбора: из землянок, капониров, из-под маскировочных сеток, где ремонтировались самолеты, из походных авиаремонтных мастерских выскакивали люди и бежали к взлетно-посадочной полосе, где должны были садиться вернувшиеся боевые машины.
Они летели со стороны моря прямо к четвертому развороту на небольшой высоте: первая тройка, спустя немного – вторая и затем третья. Меньшиков смотрел во все глаза, верил и не верил увиденному – вернулись все девять самолетов. И возвращались они совсем по-другому – по-парадному держали равнение, моторы будто бы пели торжественную песню победы, дружно, ладно, чистоголосо. Громогласное «ура!» подхватило их песню и троекратно пронеслось по летному полю.
Вернулись все. Все до одного!
12
29/VI 1941 г….Боевой вылет с бомбометанием по танкам в районе Ровно, Мизоч. Высота – 2500. День. Продолжительность полета – 4 ч. 46 м…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Пименову то ли снилось, то ли вспоминалось самое мрачное, самое горькое и неимоверно тяжкое прошлое – воскресный июльский день 1938 года, день больших надежд и разочарований.
Он явился домой в начищенных до зеркального блеска хромовых сапогах – солнечные зайчики прыгали с одного носка на другой, когда он шел, – в отутюженных галифе и гимнастерке с белоснежным подворотничком, затянутый похрустывающей портупеей, в лихо сдвинутой набок пилотке: накануне он совершил первый самостоятельный полет, можно сказать, стал летчиком.
Рита, младшая сестренка, увидела его и онемела от восторга. Она ходила вокруг, рассматривая его со всех сторон широко раскрытыми глазами, трогая пальчиками с особой осторожностью складки на брюках, будто боясь обрезаться, петлицы с золотом шитыми буквами «ВАУЛ» – военное авиационное училище летчиков.
– Ой, Шурик, какой ты красивый! – сделала она наконец заключение и громко позвала: – Мама, мама! Иди скорее сюда!
Мать вышла из соседней комнаты, сжала на груди руки, глядя на него гордо, с улыбкой. Вдруг в глазах ее мелькнуло беспокойство, и она, подойдя к сыну, обняла его за плечи. Ее беспокойство сразу же передалось и ему: накануне вечером он звонил домой, отца не было, и мать сказала, что он задерживается – в универмаге началась ревизия. Он поспешно спросил:
– Отец дома?
– Дома, дома, – ответила мать и, поняв свою ошибку, заговорила радостно: – Ждет тебя с самого утра. Он уже знает, что ты вылетел самостоятельно. Вот готовимся в гости. Ты не забыл?
Еще бы! Забыть, что у Иры сегодня день рождения – восемнадцать лет! Разве он мог? Для нее он, пожалуй, и наглаживался, начищался, одеколонился. Ответил как можно равнодушнее, чтобы не выдать своих чувств:
– Нет, разумеется.
С Ирой, дочкой товарища отца, инженера приборостроительного завода, Александр учился в одной школе, на класс старше, но это не мешало им вместе ходить в школу, готовить уроки – жили они по соседству, – читать одни и те же книги. Она ему нравилась всегда, сколько он ее помнил, а что это любовь, он понял лишь в шестом классе. Черноглазая, с толстой смоляной косой, тоненькая и подвижная, как юла, она представлялась ему Бэлой, героиней любимой лермонтовской повести. И фамилия у нее была не русская, горская – Хаджи-Илья, и характером отличалась – своенравная, независимая, гордая. В школе на всех она смотрела свысока, за исключением Александра, несмотря на это, мальчишки ее любили, а девчонки ненавидели. И она платила им тем же: гордо проходила мимо, не удостаивая ни одну взглядом.
У нее была удивительная память. Училась она хорошо, знала наизусть почти все стихи Лермонтова и Пушкина и так выразительно читала «Песню про купца Калашникова», «Русалку», что у многих одноклассников наворачивались на глаза слезы.
Чувство Александра к ней с каждым годом росло. И Ира привязывалась к нему все больше. Когда она училась в девятом классе, ее отец как-то сказал шутя отцу Александра: «Слушай, брат Василий Петрович, коли в твоем Шурке будет путь, так отдам за него Иришку».
Ирина вспыхнула и так сердито взглянула на отца, что он вынужден был попросить прощения: «Ну, ты прости меня, Ирок, прости. Ведь это так у Пушкина написано, а я лишь имена подменил»…
В зале раздался непонятный шум и приглушенный вскрик. Александру показалось, что вскрикнула мать, и он кинулся в дверь. То, что он увидел, ошеломило его и приковало на месте: двое штатских и капитан милиции Гандыбин, которого Александр хорошо знал – он не раз бывал у них в доме, ездил с отцом на рыбалку, – стояли около отца Александра, показывая ему какую-то бумагу.
– Что ж, – пожал отец плечами. – Идемте. Вы убедитесь, что у меня ничего нет. – У двери отец обернулся и сказал ободряюще, но не совсем уверенно: – Не волнуйтесь, это недоразумение, я ни к чему не причастен…
13
28 июня 1941 г. Наша авиация вела успешные воздушные бои и мощными ударами с воздуха содействовала наземным войскам…
(От Советского информбюро)Александр очнулся от еле слышного шелеста: какая-то птичка пролетела у самого уха и уселась над головой. И по лесу разнеслась переливчатая, такая знакомая и родная трель, какую он слышал еще до войны. Она на миг заглушила доносившуюся издалека артиллерийскую канонаду. Птаха так старалась, такие выводила переливчатые рулады, что грудь Александра, казалось, разорвется от безысходной тоски по далекому безмятежному детству. Так же пели птицы тогда в саду у бабушки в станице Холмской, куда приезжал он на время летних каникул! Бабушка, бывало, слушала их пение и приговаривала:
– До чего ж благозвучна божья пташка! И откуда у нее силы берутся выводить такие песни?
Александр приподнялся, хрустнула под ним ветка, и птаха вспорхнула. Он пошел вправо, убыстряя шаг, обогнул село и, держа Полярную звезду слева, двинулся напрямую. Шел то лесом, то мелким кустарником, то совсем пустырем – полем или дальними огородами – и вскоре почувствовал усталость: бездорожье быстро выбило его из сил. Он не остановился и не сбавил шага – днем идти вряд ли удастся. Наконец ему удалось попасть на малоезженый проселочный шлях. Кругом по-прежнему стояла тишина, даже канонада на востоке умолкла, и он рискнул идти по дороге. На всякий случай снял ремень с кобурой, положил их в шлемофон и, сойдя на обочину, закопал под кустом. Комсомольский билет и удостоверение личности завернул в платочек, засунул в нагрудный карман гимнастерки. Расстегнул ворот и подвернул его, чтобы не было видно из-под комбинезона. Теперь он походил на тракториста или шофера – они носили такие же комбинезоны, – но пистолет не выпускал из руки, держал за пазухой. И шагал теперь смелее, увереннее. Надежда на то, что он доберется до своих, придавала ему сил.
Гимнастерка на нем взмокла, все нестерпимее хотелось пить, но он шел и шел, не сбавляя шага, думая лишь об одном: как можно быстрее попасть к своим!
Внезапно ухо уловило приближающийся автомобильный гул. Похоже, впереди было шоссе: гул вначале усилился, затем постепенно затих – удалился. А следом за ним появился новый, более мощный рокот: не иначе, танки.
Александр сбавил шаг и, пройдя еще минут десять, увидел впереди движущиеся огоньки. Точно, шоссе. Он мысленно восстановил ориентировку: из Дубно на Ровно. Надо, пока темно, перейти его и забраться в глубину, подальше от трассы, где меньше вероятность напороться на немцев.
Колонна двигалась довольно быстро – километров шестьдесят в час. Торопятся фашисты, снаряды подбрасывают, горючее своим вырвавшимся вперед частям. Где теперь наши, сколько ему топать придется по вражескому тылу?
Александр приблизился к шоссе и, дождавшись, когда между колоннами появится значительный разрыв, перебежал дорогу и пошел прочь от нее по кочкам и рытвинам, с трудом переставляя утомленные, натруженные ноги.
Почти совсем рассвело, когда он вышел из леса, и взгляду его открылись белые украинские хатки, вытянувшиеся на бугре вдоль пруда, окаймленного развесистыми плакучими ивами. Там, куда он вышел, до воды было не более сотни метров, и его потянуло туда как магнитом. Но прежде он внимательно осмотрел берег, каждую хатку. Убедившись, что никто ему не угрожает, спустился к берегу и с жадностью припал к удивительно вкусной, прохладной воде. Напился вволю. Поднялся, расстегнул комбинезон, умылся. Сразу почувствовал себя бодрее, будто сбросил с плеч тяжелую ношу. В желудке заурчало, напоминая, что почти сутки у него во рту не было маковой росинки. Он пожалел, что отказался от второго завтрака, привезенного перед вылетом на старт, и усмехнулся над собой: на всю жизнь не наешься.
Еще раз осмотрел хатки. Ни единой души. Решил рискнуть – зайти в крайнюю и все разузнать. Обошел ветлу, поднялся на бугор и замер: около третьей хаты с краю, у забора, стояли привязанные, под седлами кони. Невдалеке от них ходил часовой.
Александр попятился с бугра и, пригибаясь, устремился к лесу. Лишь когда деревья надежно укрыли его, он перевел дух и сбавил шаг, давая сердцу передышку, чтобы унять суматошные рывки. Ноги подкашивались, и тело стало каким-то вялым, непослушным. Он, как и накануне, подобрал подходящий куст и забрался в самую гущину. Пожалел, что закопал шлемофон, – нечего было подложить под голову. Выбрал разлапистую ветку, подогнул ее. Жестковато, тонкие прутики впивались в лицо. Но ничего, терпимо. Главное, чтоб никто не наткнулся. И уснул, как и прежде, зыбким птичьим сном – глаза, хоть и закрыты, все видят, уши все слышат.
И снова ему то ли снилось, то ли мерещилось: он идет по Краснодару, по улице Кубанской, никого не видя затуманенными от слез глазами, еле сдерживая рыдания. Идет, не зная куда и зачем, не зная, что делать дальше. Сердце надрывно саднит от горя и отчаяния: их квартира уже занята другими, куда уехала мать с сестрой, никто не знает. Из училища, когда он доложил о том, что отец осужден за растрату, ему предложили уйти. Его мечта рухнула… А Гандыбин назывался другом отца, вместе с ним пили, проводили выходные дни…
Какая-то птичка села на куст и тут же вспорхнула. Он проводил ее взглядом и увидел среди листвы бледно-зеленые, с острыми уголками лепестков комочки. Орехи! Он, забыв обо всем, поднялся и в один миг нарвал пригоршню. Очистил, раскусил один, второй. В еще незрелой скорлупе таилось маленькое, с пшеничное семечко, зернышко да ватоподобная безвкусная прослойка. Утолить аппетит такими маковыми росинками было просто невозможно.
Александр вышел из куста, обшарил вокруг все взглядом – съестного ничего. Да и что могло быть в лесу? Вот если бы попались яблони или груши-дички! Или земляника. Ведь они уже созрели. Они должны быть, надо только на них напасть. Земляника, скорее всего, растет на поляне, на взгорках, а яблони и груши-дички – тоже поближе к опушкам. Он начал искать. Чтобы случайно не выйти к деревне, которая, по его расчетам, находилась на востоке, он сориентировался по солнцу, просвечивающему сквозь верхушки деревьев, и взял курс на юг. Яблони и груши не попадались, лес стал редеть, и он наткнулся на кустик с красными, как кровь, ягодами земляники. Он нагнулся и бережно, чтобы не потерять ни единой капли сока, сорвал их и положил в рот. Ягоды были такие вкусные и ароматные, что у него, как от хмельного, закружилась голова.
Он нашел еще кустик, еще, а потом целую грядку. Рвал их обеими руками, не обращая теперь внимания, что сок раскрасил уже пальцы, несколько раз капнул на комбинезон. Ягоды хотя и не насытили его, но он почувствовал себя свежее, тверже на ногах – какая-никакая, а пища, калории для организма, которых он за сутки потратил немало.
Александр так увлекся, что не заметил, как вышел на поляну. Земляника здесь буквально усыпала небольшой пригорок, и он, ползая на коленях, рвал ягоды, ел и ел…
Вдруг его чуткое, настороженное ухо уловило человеческий голос. Он вскинул голову и невдалеке увидел двух женщин в легких цветных сарафанчиках, тоже собиравших землянику.
– Ни, мамо, то, мабуть, Мыкола нашкодив, – донеслись до него слова, сказанные звонким детским голосом.
«Наши!» – обрадовался он и, вытерев тыльной стороной ладони губы, поднялся.
Занятые сбором ягод и разговором, женщины обратили на него внимание лишь тогда, когда он подошел и поздоровался.
Обе бросили свое занятие и пугливо уставились на него. Одной было лет сорок, вторая – девчушка лет четырнадцати.
– Не бойтесь, я свой, – попытался он успокоить их.
– Тэпэрь уси свои, – ответила женщина и глянула по сторонам в надежде увидеть защитников.
– Я летчик, – пояснил он. – Меня сбили, пробираюсь к своим. В селе немцы есть?
– Е, – уже смелее ответила женщина. – И нимци, и еще хтось. Дуже богато. Учора когось пиймалы, мабуть, тоже летчика. Кажуть, дуже змывались. Так шо в село не ходить.
Ясное дело, не ходить. Кого же немцы поймали? Вполне возможно, однополчанина.
– Не слыхали, как его фамилия?
– Ни. Его тетка Владислава сховала. А хтось выдал. Ее тожь пытали. Тикать вам надо.
Ясное дело, надо. Только как? До линии фронта далеко, с пустым желудком туда не дотопаешь.
– У вас поесть ничего не найдется? – стыдливо спросил Александр. – Я заплачу. – И для убедительности вытащил из кармана гимнастерки деньги.
– Нима ничего, мы ж на хвылынку забежали.
– Может, из дома принесете? Хлеба, картошки. – Он протянул ей деньги. Женщина подумала, взяла.
– Коли смогу.
– Я буду ждать вас здесь.
Она кивнула. Сунула руку в лукошко, и они с девочкой направились к селу. Он постоял, пока они скрылись за деревьями, и пошел следом, решив понаблюдать за ними из леса на случай, если женщина вздумает донести о нем немцам. Правда, на предательницу она не походила: лицо доброе, участливое, и сама предупредила его, чтобы в село не ходил. Но мало ли, как сложатся обстоятельства…
Женщина и девочка вышли из леса и пересекли лощину, тянувшуюся к пруду. Их дом оказался четвертым от края, рядом с тем, где утром стояли кони. Но теперь их не было. Не было и часового.
В селе царила какая-то напряженная, зловещая тишина. Редко кто появлялся на улице и быстро исчезал. Александр притаился за кустом и не выпускал из поля зрения ни одну хату. Женщина не выходила.
Прошел час-другой. Чтобы не думать о еде, он стал восстанавливать ориентировку, размышлять, куда докатился фронт и где теперь наши. Они бомбили танковую колонну, рвущуюся к Бродам, где развернулось крупное сражение. Судя по тому, что артиллерийская канонада сегодня еле слышна, немцам удалось сломить сопротивление наших и продвинуться вперед. Значит, фронт удалился еще километров на двадцать-тридцать, а Александр прошел за ночь не более пятнадцати километров, петляя по бездорожью, обходя стороной села. И перспектив двигаться быстрее у него пока нет, и ждать контрудара наших войск пока не приходится. А каждый день пребывания в тылу врага ухудшает и без того шаткое его положение.
14
29 июня 1941 г. На Луцком направлении продолжаются крупные танковые бои, в ходе которых наша авиация нанесла ряд сокрушительных ударов по танкам противника…
(От Советского информбюро)Александру удалось благополучно выбраться из Краснодара и добраться до станицы Холмской. Способствовало этому, видно, то, что Гандыбина не было в городе и его подчиненные не подняли на ноги всю милицию.
Бабушка встретила Александра слезами и причитаниями, дед цыкнул на нее:
– Ты чего это, курицына мать, мокроту разводишь? К тебе внук пожаловал, жив, здоровехонек, встречай его как положено.
Бабушка перестала всхлипывать, засуетилась, собирая на стол, а дед взял его под руку и увел в другую комнату.
– Ну, докладай, как и с чем пожаловал. – В его глазах, в голосе сквозила тревога. Дед прожил сложную и нелегкую жизнь, повидал всякое – и с японцами воевал, и с белоказаками, не раз бывал на волоске от смерти, – потому опасность чуял особенно остро. О том, что Александру придется уйти из училища, он предупредил сразу, как только осудили отца, но теперь дело было не только в этом, а в чем-то более серьезном и важном, и Александр не стал ничего утаивать, рассказал все как было.
Дед долго молчал, низко склонив свою седую голову. Бабка приоткрыла дверь, позвала к столу. Он снова цыкнул:
– Погодь ты! – И когда старуха закрыла дверь, потер бородку, покачал головой: – Значит, отомстить решил, курицын сын. А за что?
– Как за что? – не понял вопроса Александр. – Он же обыск у нас делал, ничего не нашел, а отца все равно осудили…
– А ты знаешь, кто такой Гандыбин?
– Еще бы. Начальник отделения милиции.
– Начальник отделения милиции… – с грустью повторил дед. – Велика шишка… А кто дефицитные товары спекулянтам сплавлял, знаешь?
– Откуда?
– Вот то-то и оно. Отец твой этим тоже не занимался. А куда смотрел?
– Гандыбин сам не раз просил у него достать то одно, то другое.
– То Гандыбин, – снова вздохнул дед. – Он для себя просил, а не для спекуляции. Со временем ты сам поймешь, что к чему. А вот что теперь делать?
– Дядя Костя советовал фамилию сменить.
– Как?
Дед опустил голову, сидел неподвижно с минуту, потом вдруг решительно распрямил спину.
– Идем обедать. На пустой желудок какие там думки…
Он ушел к своему другу, отставному адвокату.
Терещенко, который лет десять назад, в голодовку, взял из детского дома приемыша, двенадцатилетнего балбеса Шурку (своих детей у Терещенко не было). Два года промучились с ним дед и бабка, стараясь научить его уму-разуму, на путь истинный наставить, но приемыш не поддавался ни ласкам, ни строгости: учился плохо, лазал по чужим огородам, а случалось, и по квартирам. С трудом закончив седьмой класс, он сбежал от стариков совсем. И вот уже более четырех лет о нем не было никаких известий.
– Может, от него какие документы остались? – шепнул дедушка Александру.
Вернулся он печальный и озабоченный, снова уединились в другой комнате.
– Нет, никаких документов не осталось. Да никаких у него и не было. Только свидетельство об окончании седьмого класса. И то он, курицын сын, спер. Значитца, смекал, что к чему. Да и, сказать по правде, не нравилась мне его фамилия – Туманов. С другой стороны, тезка твой. И отчества нету.
– Как нету? – У Александра уже зрели кое-какие планы.
– А так, – боднул дед головой. – Таковский был, курицын сын. Говорил: «Нет у меня отца, значитца, и отчества нет». И фамилию Терещенка не захотел взять. Так-то.
Александр достал свои документы, возвращенные из военного училища, – свидетельство об окончании десятого класса, свидетельство о рождении, комсомольскую характеристику. Всюду фамилия его была написана скорописными буквами. И воскликнул от радости:
– Есть, дедушка! Есть новая фамилия!
– Ну-кось, покажь.
Дед повертел бумажки, но замысла внука не понял. И Александр объяснил:
– Это очень хорошо, что у моего тезки фамилия Туманов. Подставить вот сюда палочку, а вот сюда и сюда закорючки – и Пименов превратится в Туманова…
15
…Наши боевые летчики отважно дерутся с противником, постоянно помня о взаимной помощи и выручке в бою…
(От Советского информбюро)Александр часа три наблюдал за селом, особенно за четвертой хатой, где скрылись женщина с дочерью. Но они не появлялись. И вообще село выглядело как-то странно: единственная улица была пустынна. Редко кто выскакивал во двор и быстро исчезал. И немцев нигде не было видно. Александр ломал голову: что за зловещая тишина сковала село, что там случилось или какие события назревают? А голод еще пуще давал о себе знать. Хотя бы кусочек хлеба! Снова пойти, что ли, на бугор за земляникой? Он уже собрался покинуть свое укрытие, когда послышался треск мотора и на проселочной дороге, соединяющей тракт с селом, показался мотоцикл с тремя немцами в мышиного цвета мундирах, а невдалеке за ним – крытая брезентом грузовая автомашина.
Что-то теперь делается в полку, что о нем думают Рита, Меньшиков, Петровский? Каждый по-своему переживает его исчезновение. И никто даже предположить не может, в какой он сейчас ситуации. Вот ведь как нескладно порой распоряжается судьба жизнью человеческой: он изнывает от жажды, от голода, спешит к близким ему людям, а они считают его уже мертвым…
На душе у него постепенно утихло, и он уснул. И сразу ему явилась летная столовая, еще довоенная, с белыми занавесками на окнах, с накрахмаленными салфетками, с белоснежными скатертями; и на столах – что только душа пожелает: красные помидоры, сочные хрустящие огурцы, ломтики ветчины и чавычи, супы харчо и пити, всяческое жареное и пареное. Он ел то одно, то другое, все было такое вкусное и аппетитное, но какое-то нематериальное – он клал еду в рот, начинал жевать, и она, как восточная сладость, таяла, исчезала. Он ел, а голод не проходил, еще сильнее терзал желудок. От голода он и проснулся.
В лесу властвовал уже сумрак, и небо сквозь листву просвечивало не голубое, как днем, а синее с фиолетовым отливом, прохладное и бодрящее. Александр взглянул на часы – восьмой час. Вот это поспал! И, несмотря на голод, он чувствовал себя окрепшим, полным сил, зовущих к действию. Идти еще рано, надо дождаться темноты. Обойти село справа, пересечь шоссе и по ту сторону дороги пробираться лесом на восток. А пока совсем не стемнело – хоть немного подкрепиться земляникой. Как же выйти на ту поляну? Уходя от села, он круто взял вправо. Значит, надо вначале выбраться к селу, а оттуда на поляну. Он сунул пистолет за пазуху и, держа его в руке, осторожно стал пробираться сквозь кусты.
Село показалось быстрее, чем он предполагал – он отошел совсем недалеко, – и Александр приостановился, решив еще понаблюдать, что там творится теперь.
Ни одной души – ни жителей, ни немцев. Хотя не совсем так. У третьей хаты с краю у угла стоял мотоцикл, а во дворе прохаживался немец с автоматом в руках – часовой.
Александр задержал взгляд на мотоцикле, и в голове мелькнула заманчивая дерзкая мысль: вот бы махнуть на нем к линии фронта! За ночь можно было бы добраться до своих. И эта случайная, мимолетная мысль уже не отпускала его, зрела в реальный, конкретный план. В селе войск не видно. Мотоциклисты – либо патрули, либо какая-то временная власть, оставленная для устрашения и подбора местного начальства. Немцам, видно, не особенно-то здесь досаждают – чувствуют себя хозяевами, – и часовой выставлен скорее для порядка – беспечно расхаживает по двору, семечки щелкает.
Подойти незамеченным к дому, пожалуй, труда особого не составит: по лощине к пруду, а там рукой подать. Встать за углом и – либо рукояткой пистолета по темечку, либо ножом между лопаток…
Прошло с полчаса. Сумерки сгустились настолько, что предметы потеряли очертания; лишь крыши домов черными контурами просматривались на темно-фиолетовом фоне неба. В хате зажегся свет.
Выждав еще немного, Александр осторожно двинулся по лощине к пруду, чтобы зайти часовому с тыла. Поднялся по бугру к хате, перелез прясла палисадника. Ползком подобрался к окну. В хате слышались пьяный гвалт, хохот, пение. Там, судя по голосам, находилось не много народу. Александр пополз в сторону часового. Тот расхаживал по двору, мурлыкая песенку, – тоже, по-видимому, был пьян. Надо дождаться, когда он подойдет к углу.
Внезапно дверь скрипнула: кто-то вышел. Мурлыкание оборвалось. Немцы поговорили. Александр очень пожалел, что с пренебрежением относился в школе к иностранному языку: он ничего не понял. Вышедший помочился и снова ушел в хату. Самое время действовать.
Александр пружинисто встал, по-кошачьи неслышным шагом прокрался к углу и, достав из-за голенища нож, замер. Часовой продолжал мурлыкать, идя в его сторону. Но до угла не дошел, остановился и тоже стал справлять малую нужду. Он стоял лицом к двери и не успел ни обернуться, ни вскрикнуть – лезвие ножа полоснуло ему по горлу. Александр подхватил покачнувшееся тело и понес его к мотоциклу. Опустил бесшумно в коляску, взялся за руль и покатил мотоцикл со двора.
На улице ноги сами участили шаг. Он уже не боялся, что его услышат, и почти бегом направился по пыльной проселочной дороге из села по направлению к шоссе.
Когда он откатил мотоцикл от села метров на четыреста, впереди на шоссе показались движущиеся огоньки – колонна машин или танков шла на восток.
Александр остановился. Надо избавиться от фашиста. Подошел к нему, взялся за пояс. Немец оказался чертовски тяжелым (а в горячке он и не почувствовал этого). Снял у него с шеи автомат, положил в коляску – пригодится. Неплохо бы переодеться в его одежду, но мундир залит кровью. Она всюду липла к рукам, и Александр брезгливо вытирал их о комбинезон. И все-таки мундиром и пилоткой надо воспользоваться: на дороге его могут осветить фарами и нельзя допустить, чтобы кто-то из немцев усомнился, что это свой.
Он снял с фашиста ремень, расстегнул мундир, стянул его с одной руки, с другой; оторвал не промокший кровью кусок исподней рубахи и вытер им мундир. Пилотка была ему великовата, и он сдвинул ее на затылок, чтоб не сползала на глаза. Мундир натянул прямо на комбинезон – хорошо, что немец был упитанный. Поднатужился, выволок его из коляски и бросил рядом с дорогой.
Раньше Александру приходилось ездить на мотоцикле: Пикалов не скупился обучать своих однополчан и одалживал мотоцикл любому, кому надо было сгонять куда-нибудь, потому Александр без особого труда управлял могучим и резвым БМВ; мотоцикл бежал легко и послушно, как застоявшийся конь, игриво прыгая на выбоинах и ухабах. Фару Александр пока не включал, чтобы не привлекать внимания с шоссе. Надо пристроиться к какой-нибудь колонне машин и идти за ней, пока будет возможность.
Ему повезло: по шоссе как раз шли машины, крытые брезентом, и открытые, с ящиками боеприпасов, с продовольствием. Александр выбрал разрыв между ними, включил фару и втиснулся в середину. Машины шли не очень-то шибко – километров пятьдесят, – а ему хотелось дать газ на полную мощность мотора. Но обгонять он пока не решался: вдруг кому-то захочется его остановить? Потому и плелся в колонне, стиснутый с обеих сторон врагами.
Смертельная опасность исчезла, и ему вдруг сделалось весело, он почувствовал такую уверенность в себе, что прибавил газу и тоже начал обгонять машину за машиной.
Местами дорога была разбита бомбежками, и, хотя воронки были засыпаны щебенкой, в колеях зияли выбоины, мотоцикл швыряло, как на трамплинах. Приходилось сбавлять скорость и втискиваться между машинами.
Внезапно ухо Александра в моторном рокоте уловило посторонний непонятный гул, похожий на приглушенный колокольный звон, только более глухой и не затухающий, а однотонный, даже чуть усиливающийся. Вскоре он понял, что это такое: впереди идущие машины высветили фарами фермы моста. Железо гудело и постанывало от тяжести, словно жалуясь кому-то на свою безрадостную и беспросветную судьбу. Что же это за речка? Стырь или ее приток? Машины шли безостановочно. Значит, никакой проверки не ведется. И не видно на обочинах зенитной артиллерии. Неужели так далеко ушли немцы?.. Небо пустынно. Лишь звезды печально смотрят вниз да гневно в бессилии стонет мост… САБ бы сюда да тройку бомбардировщиков с фугасно-осколочными, чтобы от моста и от этой колонны только дым да пыль остались…
Нет, фашисты мост охраняли: двое часовых по обе стороны с автоматами на груди провожали взглядами не сбавляющую скорость колонну. Александр проехал мимо, лишь на минуту почувствовав усилившиеся рывки сердца. Часовые не обратили на него внимания: мало ли, какой курьер мчится по своим делам к фронту? По своей охоте желающие туда попасть вряд ли найдутся.
Мост кончился, и Александр снова прибавил газу. Он так усердно гнал, что колонна вскоре осталась позади. А еще через полчаса впереди показались вспышки разрывов, и он услышал раскаты канонады. До линии фронта было уже рукой подать, но тут-то и начиналось самое трудное. Первое же село, в которое въехал Александр, было запружено танками, машинами, мотоциклами. Его могли остановить на каждом шагу, и он, чтобы избежать объяснения, не сбавил скорость, промчался по селу, будоража всех треском мотора.
Село осталось позади. Впереди все ярче и выше поднимались всполохи, все громче становилась канонада. Шоссе вело прямо на выстрелы, ехать по нему с каждой минутой становилось опаснее, и Александр свернул на первую же попавшуюся проселочную дорогу. Немцы наступают вдоль магистральных дорог; сплошной линии фронта конечно же нет, и надо попасть в такой разрыв.
Еще около часа он петлял по проселкам, тропинкам, бездорожью, пока мотоцикл не заглох – кончилось, видимо, горючее. Метрах в ста от него взметнулась в небо желтая ракета, осветив слева ржаное поле, а справа небольшой перелесок. Александр, преодолевая желание броситься в укрытие, остался на месте: наверняка его увидели, и, если он выкажет трусость, по нему откроют огонь. И точно: не успела ракета погаснуть, ему что-то крикнули на немецком языке: то ли звали, то ли спрашивали, что случилось. Он попытался завести мотоцикл – тщетно и, когда ракета погасла, юркнул в рожь.
Рожь была высокая и почти созревшая. Тугие колосья стегали по лицу, щекоча «усами». Его обдало приятным, напоминавшим что-то далекое: как-то во время летних каникул он у бабушки бегал с пацанами вот по такой ржи. Тогда ему здорово попало. «Ведь это же хлеб!» – возмущалась бабушка. А теперь этот хлеб он топтал ногами – стебли с хрустом лопались под сапогами – без всякой жалости. Вернее, жалость была – и к хлебу, и к нашим людям, которые сеяли этот хлеб и которым он теперь, даже если они его уберут, не достанется.
В небо снова взвилась ракета. Александр лишь пригнулся и ускорил шаг. Он прошел с километр, когда сзади застрочили автоматные очереди и одна за другой взмыли ввысь ракеты. Видимо, немцы обнаружили пустой мотоцикл и заподозрили неладное. Но стреляли они, судя по трассам и по наклону ракет, по кустарнику.
Теперь надо ухо держать востро – можно напороться на немецкие позиции.
Тревога вызвала ответную реакцию, и спереди, куда держал путь Александр, тоже взметнулась ракета. Надо подождать, пока фашисты успокоятся. Он опустился на сухую, не остывшую еще землю, посмотрел на звезды. Большая Медведица уже подняла «коромысло» – перевалило за полночь; часа два темного времени он имеет в запасе, поэтому можно не торопиться.
Он сорвал несколько колосков, размял их на ладони, сдул шелуху и ссыпал зерна в рот. Зерна были еще мягковатые, с молочком, и показались ему неимоверно вкусными; и снова ему вспомнилась бабушка, ее румяные шанежки, горячие, прямо со сковородки, которые они с Ритой очень любили. Александр нарвал еще колосков и с жадностью ел сочные зерна, стараясь утолить голод. Его трапезу прервала участившаяся стрельба справа. Он прислушался. Глухому частому стрекоту пулеметов отвечали более далекие одиночные выстрелы. «А ведь это отвечают наши, – обрадовался Александр. – Значит, наши не так далеко». Он выждал еще немного и пошагал прямо на восток, где было тише и спокойнее. Вспыхивающие вдали ракеты нарисовали ему довольно отчетливую панораму: от ржаного поля начинался спуск к неширокой, метров в сто, полосе леса. За лесом некрутой подъем, и что там, рассмотреть пока не удавалось.
Он передохнул, снял с шеи автомат и, пригибаясь, направился к лесу. Выстрелы по-прежнему раздавались слева и справа, впереди же, куда он шел, стояла полнейшая тишина. И не было ничего подозрительного, что еще больше настораживало его, держало нервы в предельном напряжении.
За полосой леса спуск стал круче, а низина оказалась заросшей то ли осокой, то ли камышом. По всем признакам, впереди должна быть река, если она не высохла. Очередная ракета справа высветила противоположный берег, более крутой и высокий, но более родной, притягивающий его словно магнитом. Оттуда, с самой высоты, небо вспорола огненная трасса. С противоположного берега ответили тем же – видно, перестреливались дозорные, предупреждая о своем бодрствовании.
По-прежнему методично взмывали вверх ракеты, Александр падал в траву и ждал, когда они погаснут.
Свет этой ракеты был, казалось, намного ярче прежних, и Александра тут же увидели: трассирующие пули потянулись к нему, зашлепали о землю над головой. И негде ни спрятаться, ни укрыться. С нашей стороны тоже открыли стрельбу, и тоже по нему. Он прыгнул вправо, влево, стараясь сбить стрелков с прицела, по-кошачьи забирался вверх. Наши, кажется, догадались, в чем дело, и перенесли огонь на немцев, прикрывая его. Он уже видел, откуда стреляют наши, видел бруствер окопа – до него метров пятьдесят, – еще чуть-чуть, еще немного сил.
Он услышал приближающийся свист и догадался, что это снаряд или мина, хотел припасть к земле (поможет ли?), но не успел – пламя ослепило его, швырнуло в сторону. В спину что-то ударило тяжелое, тупое; его закружило, завертело и понесло куда-то в черную пустоту…
16
9/VII 1941 г…. Боевой вылет с бомбометанием по танкам в районе Полонное, Чернобоки. Высота – 2500. Ночь. Продолжительность полета – 4 ч. 30 м…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Капитан Петровский тоже ожидал улучшения обстановки, а она, как назло, все ухудшалась. Наши войска отступают, полк несет большие потери. А тут еще диверсанты… Обстреливают наши самолеты на взлете, подают сигналы ракетами немецким бомбардировщикам, когда те пролетают над нашим аэродромом…
Начальство очень им недовольно, требует более решительных действий…
Вчера ночью Петровский с приданной ему группой в двадцать человек пытался захватить диверсантов. С вечера на границе аэродрома по взлету самолетов устроили засаду. Дождались, когда диверсанты пустили очередь трассирующих пуль по взлетающему бомбардировщику – они оказались совсем близко, – и группа бросилась на выстрелы. Однако захватить никого не удалось. Не только захватить – увидеть: диверсанты словно сквозь землю провалились. Лишь стреляные гильзы да следы от колес мотоцикла удалось обнаружить на том месте, откуда велась стрельба.
Начальство снова очень недовольно Петровским: «Не обеспечил…», «Не учел…», «Не предусмотрел…». Да что начальство – он сам собой не доволен. Упустить каких-то двух-трех человек… Пока группа Петровского искала диверсантов в селе, куда привели следы мотоцикла, они стали подавать сигналы ракетами с другой стороны аэродрома появившимся немецким самолетам.
Но чем больше неудачи преследовали оперуполномоченного, тем сильнее и крепче становилась его уверенность в скорой поимке диверсантов и разоблачении радиста, тем хитрее он готовил им западню. И кое-чего успел уже добиться: ему удалось установить, что двое диверсантов в форме наших пограничников (один в звании капитана, второй – лейтенанта) дважды побывали в селе Айш, в военном городке и даже на базе ГСМ, где заправляли мотоцикл бензином (капитан Нурахметов, начальник ГСМ, объяснил, что они предъявили ему такую грозную бумагу с требованием оказывать всестороннее содействие во всем, заверенную гербовой печатью, что он не рискнул спросить другие документы). Да если б и спросил, ничего не добился бы: уж коли они обеспечены «требованием содействия», другими документами – тем более. Правда, Нурахметов из-за страха и ротозейства мог и присочинить: кроме бензина, он снабдил «пограничников» двумя фляжками спирта, батарейками к карманным фонарикам, о чем умолчал.
Факты весьма существенные, подтверждающие, что диверсанты оторваны от своей базы, вынуждены обращаться к советским военнослужащим, надеясь на свои всесильные документы и на доверчивость советских людей… И не только на это: кто-то же снабжает их ценной информацией…
Почему Нурахметов умолчал о спирте и батарейках? Только ли из-за страха?.. Ведь он знает не только то, сколько самолетов планируется на боевые задания, но и в какое время намечается взлет, по каким маршрутам пойдут группы. Рацию можно возить с собой в мотоцикле. Отъехал куда-нибудь в сторону – и стучи ключом…
По распоряжению начальника гарнизона в авиагородок и на дороги, связывающие аэродром с городом и окраинными селами, выделены дозорные. Им поручено проверять документы у всех, независимо от звания, и подозрительных задерживать. Это на день. А ночью капитан Петровский снова должен заняться поимкой диверсантов. На этот раз операцию он продумал более тщательно, и бойцов ему выделили, несмотря на трудности с людскими резервами, в три раза больше. Инструктаж группе Петровский назначил на 19.00. Оставалось полчаса, а он только возвращался с совещания от начальника особого отдела. Хотел заехать домой, к Оксане (минут десять можно было выкроить), но настроение было такое прескверное (и из-за разноса на совещании, и от усталости, и оттого, что был голоден), что лучше было Оксане не показываться: она очень чувствительна ко всяким его неурядицам и будет переживать больше, чем он. «Вот разделаемся ночью с диверсантами, – думал он (он почему-то был уверен, что теперь им не уйти), – тогда заеду домой и там часа три отдохну».
17
9 июля 1941 г….Наша авиация бомбардировала Констанцу, порт и транспорты в Тулче, Сулине, нефтепромыслы в Плоешти…
(От Советского информбюро)Темнело не по-летнему быстро – с запада наползали мощные кучевые облака. И Петровский, выйдя из столовой, принял решение выслать группы к местам засад минут на пятнадцать раньше. Пока он давал последние напутствия старшим, закончили ужин летные экипажи – вылет у них назначен на 22.00 – и дневные дозорные. Из докладов дозорных начальнику штаба выходило, что никаких происшествий и подозрительных явлений на дорогах не случилось. Петровский ожидал другого и потому счел необходимым самому поговорить с дозорными.
Старшие обстоятельно доложили, сколько и каких машин проследовало по их участку; в основном это были бензовозы, масловозы, грузовики с бойцами, с эвакуированными. Действительно, ничего интересного. Днем, видно, диверсанты отсиживались в укрытых местах. А если и ночью они сегодня не рискнут выйти или умчаться в другое место?
– Да вы не расстраивайтесь, товарищ капитан, – заметив огорчение на лице Петровского, стал утешать его немолодой старшина. – Поймаем этих наводчиков, как пить дать. Вон и пограничники нам на помощь подключились.
– Какие пограничники? – удивился Петровский. На совещании у начальника особого отдела присутствовал и представитель пограничников, но на просьбу принять участие в поимке диверсантов он ответил, что у них не хватает сил охранять побережье.
– Наши, с побережья, – пояснил старшина. – Капитан и лейтенант. На мотоцикле. Они стоят недалеко от нашего поста на шоссейной дороге.
«Они!» – Петровский почувствовал, как сумасшедше забилось сердце и на лбу выступила испарина.
– Они и сейчас там? – Петровский уже знал, что ему делать.
– Нас сменили, а их пока нет.
Недалеко от курилки сидел на своем мотоцикле лейтенант Пикалов, попыхивая папиросой. И ни одной грузовой машины. А чтобы захватить диверсантов, надо взять с собой хотя бы человек пять. И вызвать машину. Но прежде позвонить пограничникам – уточнить, не изменили ли они свое решение. Может, представитель доложил командиру отряда, и тот распорядился выделить двух человек?
Петровский быстро поднялся по ступенькам в кабинет заведующей столовой – телефон имелся только там – и позвонил на коммутатор:
– Нимфу прошу.
– С Нимфой уже часа два как связи нет, – ответила дежурная.
«Работа диверсантов». Это еще больше убеждало Петровского, что на дороге не пограничники.
– Соедините тогда с Тридцать первым.
– Слушаю Тридцать первый, – отозвался командир БАО.
– Семен Петрович, срочно вышлите машину к столовой… Какая есть под рукой. Немедленно.
Дозорные в четыре глаза вопросительно смотрели на Петровского: неужто пограничники – не пограничники?
Лишь Пикалов по-прежнему сидел на мотоцикле, беззаботно болтая о чем-то с начхимом капитаном Деревянко, назначенным командиром группы задержания.
– Товарищ лейтенант, вы что, не летите сегодня? – обратился Петровский к Пикалову.
– Машина в ремонте. – Пикалов сбил пепел с папиросы. – Командир летает, вывозит летчиков ночью. А в чем, собственно, дело?
– Дело в небольшом… – Петровский колебался, стоит ли привлекать члена экипажа командира эскадрильи. Если что случится с Пикаловым, полковое и его, Петровского, начальство будет очень недовольно. А почему недовольно? Не в личных же целях Петровский использовал начальника связи! Дорога каждая минута. Надо не дать уйти мнимым пограничникам. – В вашем мотоцикле. Не могли бы вы подбросить нас со старшиной к развилке на Саки и Айш?
– О чем речь. – Пикалов поднялся с сиденья, затушил окурок и отнес его в урну. – Я в вашем распоряжении.
– А вам, товарищ капитан, – повернулся Петровский к Деревянко, – как только машина подойдет, группу в кузов и тоже к развилке. Оружие держать наготове. – Петровский достал пистолет, щелкнул затвором, загоняя патрон в патронник. – И вам, – дал он команду Пикалову и старшине.
– Вы думаете?.. – удивленно округлил глаза старшина.
– Думаю. Садитесь в коляску. Мы с лейтенантом будем вести с пограничниками разговор, проверять у них документы. Вам же следить за каждым их жестом, движением. Быть готовым опередить их. Стреляете хорошо?
– Да вроде бы… Из тридцати двадцать восемь выбивал.
– Вот и отлично, теперь представляется возможность на деле отличиться.
Пикалов и старшина перезарядили пистолеты. Мотоцикл взревел и рванул с места.
Сигнал остановиться – карманный фонарик мигнул несколько раз – они увидели, не доезжая развилки. Пикалов сбавил скорость.
– Приготовиться, – скомандовал Петровский.
Все трое расстегнули кобуры, сняли курки с предохранителя.
Было еще не так темно, и Петровский хорошо рассмотрел загорелое худощавое лицо капитана, его внимательные глаза, тонкие плотно сжатые губы. Ему было лет сорок, лейтенанту, круглолицему, тоже чернявому, лет тридцать.
Капитан осветил всех троих фонариком, всего по секунде, лишь на Петровском задержал луч чуть дольше и потребовал властно, как и подобает ответственному человеку:
– Документы. Проверка.
Петровский, Пикалов и старшина слезли с мотоцикла и встали, как было обговорено дорогой: Петровский – напротив капитана, Пикалов – напротив лейтенанта, а старшина позади, так, чтобы хорошо видеть обоих подозреваемых.
Петровский первым протянул удостоверение личности капитану. Тот осветил его, полистал, задержал взгляд на фотокарточке. Посмотрел на Петровского, снова на фотографию.
– A-а, соседи, Меньшиковские, – удовлетворенно произнес капитан. – Как поживает Федор Иванович?
Петровский хорошо знал, что разведчик – это человек, обладающий незаурядными качествами: невозмутимым спокойствием и мгновенной реакцией, находчивостью и изобретательностью, умением читать мысли противника и навязывать ему свою волю.
Если перед ним стояли разведчики, то они были талантливы: ситуация складывалась не в их пользу – двое против троих. Для какой цели прибыли эти трое, было яснее ясного…
Вопрос капитана как бы развеивал подозрение: видите, мы знаем даже имя командира полка… Может, и в самом деле они пограничники?.. Что ж, теперь твоя очередь, капитан Петровский, показать свою находчивость, изобретательность…
– Федор Иванович неплохо поживает. – Над ответом мудрствовать особенно не пришлось, а вот вопросик следует подбросить позамысловатее. Посмотрим, как вы знаете свою заставу… – Скучает, правда, по Машеньке. Как она там?
Петровский, пожалуй, не увидел, а скорее почувствовал молниеносный взгляд лейтенанта в сторону своего начальника. Да, о Машеньке он ничего не слышал. Да и откуда ему знать о маленьком красновато-буром косуленке, которого подобрали весной в горах пограничники. У малыша была сломана нога. Его принесли на заставу, вылечили, выкормили. И косуля так привязалась к своим спасителям, что не покидала заставу. Многие пограничники часами пропадали около косули, научили ее благодарить за лакомства поклонами, бить копытцем и трясти головой, выражая неудовольствие, если кто-то дразнил ее или ругал. Косуля стала любимицей всей окрестной детворы…
Да, лейтенант о Машеньке не имел понятия. Его интересовали другие имена, имена командиров…
Капитана же вопрос не смутил. Он даже усмехнулся про себя: вздумал старого воробья мякиной в силки заманивать. Ответил с иронией:
– Ничего Машенька. У нее забот меньше.
Достойный ответ. И все-таки знает он, чье это имя?
– Не напугали ее фашистские самолеты? Не сбежала? – задал Петровский более конкретный вопрос.
Капитан снова пожал плечами. Зато лейтенант приободрился, съехидничал:
– Это ваши женушки кинулись от вас, сломя голову. А наших не напугаешь. – И вдруг осекся.
Капитан вернул Петровскому удостоверение личности, посмотрел на Пикалова. Начальник связи протянул свое.
– Далеко путь держите? – спросил капитан, желая, видно, сменить тему о Машеньке.
– Да вот сюда же, по этому же делу, по которому и вы.
– Отлично, – обрадовался капитан, возвращая Пикалову документ. – Хоть на ужин подмените нас. С утра не ели. – Глянул на старшину: – A-а, это вы. На вторую смену?
– Приходится. Людей не хватает.
– Вот и у нас, – вздохнул капитан. – На ужин подменить некем. – Он взглянул на часы.
Машина что-то задерживалась. Отпускать же капитана и лейтенанта было нельзя…
– Конечно, мы одни тут справимся, – сказал Петровский. – И непонятно, зачем вас сюда, на наш участок, послали? Кстати, разрешите и нам ваши мандаты посмотреть.
– Пожалуйста, – улыбнулся капитан и достал из нагрудного кармана точно такое же, как у Петровского, удостоверение. Подписано оно было прежним начальником заставы, сменившимся год назад. Все в документе было правильно и точно. Другого Петровский и не ожидал. Но возвращать документ он не торопился: «Что-нибудь не так?!» – должен спросить капитан, или: «Да, я прибыл на заставу, еще при Афанасьеве. Теперь же у нас начальник Рогозинский». Но капитан ни вопроса не задавал, ни объясняться не собирался. Стоял расслабленно, ни одной черточкой не выдавая внутреннего напряжения… Нет, не у каждого на лице можно прочитать мысли…
Не вызывало подозрений и удостоверение личности лейтенанта. А вот нервы у него были намного слабее.
– Закурить не найдется? – обратился он к Пикалову. Одна из уловок отвлечь внимание. Но Пикалов молодец, отрицательно покачал головой. А старшина – разиня, полез за папиросами. Поверил, что они пограничники…
Со стороны гарнизона донесся гул автомашины. Отлично. Теперь-то им не уйти…
Лейтенант помял папиросу, сунул в рот. Старшина хотел услужить и спичкой, но лейтенант остановил его.
– Спички у меня есть.
Петровский краем глаза увидел, как он сунул руку в карман галифе. Досмотреть не успел: в руке капитана блеснул пистолет. Петровский ударил его по руке. Грохнули выстрелы.
Капитан дернулся и обмяк, ноги его подкосились…
Подъехал грузовик с группой захвата. Но помощи уже не требовалось: на земле лежали трое – капитан, лейтенант и старшина.
– Опередил, гад, – кивнул на лейтенанта Пикалов. – Я ж за вас больше переживал, за капитаном следил…
Петровский снял с капитана и лейтенанта полевые командирские сумки, достал из карманов удостоверения личности, портсигары, блокноты. В коляске мотоцикла нашлось и то, что окончательно подтверждало подозрение оперуполномоченного, – портативный радиопередатчик…
18
12/VII 1941 г….Боевой вылет с бомбометанием по танкам в районе Фастов, Белая Церковь. Высота 1500. Ночь…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Еще одна летная ночь окончилась благополучно: летавшие на боевые задания экипажи вернулись невредимыми на свой аэродром, два молодых летчика, присланных на пополнение, вылетели самостоятельно. Прекратилась и стрельба из автоматов по нашим взлетающим самолетам, наведение ракетами немецких бомбардировщиков. Пикалов и Петровский ходили героями; только о них в полку и разговоры – как ловили диверсантов, как вступили с ними в единоборство и прикончили их. Рассказывают такое, чего и не было.
Меньшикову даже обидно стало за летчиков: в каждом вылете они подвергают себя большой опасности, и разве их подвиги можно сравнить с обезвреживанием диверсантов, а поди ж ты, какой фурор! Он понимал: то, что совершают летчики, никому не видно отсюда, и воздушные бои, бомбежка, дуэли с зенитной артиллерией стали обыденным явлением, а схватка с диверсантами – первый случай на всем Крымском побережье. Петровский сразу приободрился, повеселел и стал более благосклонен к своему соседу и прежнему приятелю, но у Меньшикова от этого сердце не оттаяло: людей, которые забывают дружбу, перечеркивают все прежнее ради своей цели, он не понимал и не прощал. Правда, у Петровского было смягчающее обстоятельство: ему приказали обезвредить вражеского агента в два дня; но пренебречь мнением своего приятеля, не посчитаться с ним – это было вне логики Меньшикова.
И все же, как бы там ни было, после обезвреживания диверсантов работать стало спокойнее, и летные экипажи, улетая на боевые задания, чувствуют себя увереннее, не думают: а не подложил ли кто-нибудь в самолет замедленную мину?
Меньшиков впервые за все эти дни позавтракал с аппетитом. Донесение в штаб корпуса было отправлено, срочных вводных не поступило, и можно было хоть пару часиков отдохнуть. Для большего спокойствия он все же решил заглянуть в штаб (хуже всего, когда только задремлешь, а тебя разбудят) – и пожалел: начальник строевого отдела старший лейтенант Дехтярь поджидал его с кипой бумаг, которые требовалось подписать. Откладывать на потом было не в правилах Меньшикова: человек тоже ночь трудился, – и он сел за бумаги. Так и пролетел час за чтением директив, за подписанием строевых записок, заказов, запросов, распоряжений; и, когда он вышел из землянки, солнце уже висело высоко над горизонтом и палило по-прежнему беззастенчиво, немилосердно.
По дороге из города мчался мотоциклист, оставляя позади клубы пыли. «Не иначе, Петровский», – подумал Меньшиков: в полку было только два мотоцикла – у Пикалова и Петровского. Пикалов после завтрака отправился на отдых, Петровский же снова где-то мотался.
– Товарищ майор! – позвал его снизу Дехтярь. – Вас к телефону оперативный дежурный из корпуса просит.
«Началось», – вздохнул с сожалением Меньшиков. Теперь, наверное, не уйдешь. Он тяжело и нехотя спустился по ступенькам.
– Слушаю. Двадцать первый.
– Доброе утро, Федор Иванович, – узнал он голос бывшего сослуживца майора Лебедя, ныне инспектора по технике пилотирования корпуса. – Как ты там живешь-можешь?
– Да живем помаленьку и можем не лучше. Сам знаешь, как с техникой. Не слышно, когда пришлете нам что-нибудь?
– Насчет техники не знаю, а вот люди твои потихоньку объявляются. Только что телеграмма из Ростова поступила. Туманов там в госпитале находится, с тяжелым ранением.
– Туманов?! – воскликнул Меньшиков не в силах сдержать радость. – Вот это хорошая новость. А еще кто?
– Больше никого.
У землянки пророкотал мотор мотоцикла и заглох. Точно, Петровский.
Майор вышел из землянки. Петровский поставил мотоцикл недалеко от входа и, увидев командира полка, протянул ему руку.
– Привет труженикам неба. Над бумагами корпим, а отдыхать когда будем?
Его покровительственный тон раздражал Меньшикова – ишь, заботливый какой, – и майор ответил, не скрывая иронии:
– Коль начальство не возражает, почему бы и не отдохнуть? Диверсанты прихлопнуты, экипажи все вернулись – можно спокойно поспать.
Петровский нахмурился. Он заметно похудел за эти дни, резче обозначились скулы, глаза ввалились, и их взгляд стал еще пронзительнее; подбородок заострился и сильнее выступал вперед; в профиль он очень смахивал на Мефистофеля.
– Если не считать тех, кто улетел раньше, – с сарказмом ответил Петровский.
– Кстати, кое-кто, кого ты имеешь в виду, тоже вернулся. Правда, тяжело раненным, но, во всяком случае, не предателем.
Петровский скептически усмехнулся:
– Что тебе еще известно? Ты хоть знаешь, где сбили твоего Туманова?
– Знаю. В районе Соколя.
– Правильно. А где его подобрали?
– Какое это имеет значение?
– Большое. Под Озерянами. Это более ста километров от места падения. Не слишком ли много он прошел за двое суток по оккупированной территории?
– Почему прошел? Наверное, пролетел на подбитом самолете.
– Три экипажа видели, как его самолет упал в районе Соколя.
– Значит, его подобрали наши отступающие части. Не немцы же доставили его в госпиталь!
– Не немцы, наши. Дело в том, что Туманова ранило не в самолете, а при переходе линии фронта. Правда, никакой там линии не было, и все-таки…
– Значит, он тяжело ранен? – Комок подкатил к горлу, и злость на Петровского мгновенно вытеснила жалость к Туманову.
– Тяжело, – подтвердил Петровский. – В ноги и в спину. – Петровский помолчал. – Так как думаешь, можно за двое суток пешкодралом сотню километров преодолеть?
– Если Туманов преодолел, значит, можно. К счастью, – я так считаю, – он жив и все объяснит.
– Разумеется, – утвердительно кивнул Петровский. И это снова взорвало Меньшикова.
– Скажи, Виктор Васильевич, а себе ты веришь?
– Себе верю, – отрубил капитан.
– А других, значит, считаешь хуже себя?
– Считаю, – без тени замешательства подтвердил Петровский. – Не всех. Мы с тобой, Федор Иванович, слишком долго смотрели на мир сквозь розовые очки и многое просмотрели.
– Что же мы просмотрели?
– А ты считаешь себя непогрешимым? – вопросом на вопрос ответил Петровский. – Тогда скажи, почему твой полк за полмесяца войны потерял чуть ли не треть боевого состава?
Меньшикову крыть было нечем. Он и сам не раз задавал себе этот вопрос и приходил к выводу, что не только внезапность нападения нанесла такой урон. О близкой войне говорили много, но говорили как-то залихватски. В частях царило благодушие; учеба велась без должного напряжения, без учета особенностей новой техники. Виноват в том был и Меньшиков. Но он все же возразил Петровскому:
– Трудно было предусмотреть такое стечение обстоятельств. И опыта у нас не хватает.
– Вот и я о том же, – примирительно сказал оперуполномоченный. – Некоторые твои летчики, и ты в том числе, считаете меня тыловой крысой: сидит, мол, в холодке, в земляночке, да выискивает, выдумывает внутренних врагов, а мы в небе кровь проливаем. Так ведь? Так. И не спорь со мной. А задумывался ли кто из вас, чего стоит разоблачение хотя бы одного агента? Три дня назад мы похоронили старшину Гусева. Скажу прямо: мы легко отделались при задержании таких матерых шпионов. И, окажись на месте Пикалова другой, не уверен, что дело кончилось бы только этим. А знаешь, что нашли в записных книжках диверсантов? Фамилии всего командного состава полка и базы. Значит, тот, кто передал эти сведения, находится либо у тебя в полку, либо в базе. Это я тебе рассказываю не для лекции. Значит, надо его искать, и мы, пока его не найдем, спокойно спать не можем. Теперь насчет Туманова и других, кто побывал там, за линией фронта. Жить хочется каждому, но не у каждого, когда на весах судьбы оказываются честь и жизнь, перевешивает первое. Находятся, к сожалению, и такие, кто продает Родину за полтора сребреника. Потому я вынужден проверять и перепроверять. Вот так-то, товарищ командир полка. – Петровский повернулся и пошел в землянку.
И на это возразить ему было нечего. Меньшиков постоял, все еще думая над его, наверное, вынужденным откровением, во многом соглашаясь с ним и сочувствуя ему, шагнул было к машине, как из-за землянки навстречу выбежала Пименова, вспотевшая, возбужденная. Не переведя дыхания, заговорила захлебываясь:
– То-варищ майор, ра-зрешите обра-титься?
«Узнала о Туманове», – мелькнула у Меньшикова догадка.
– Успокойтесь, слушаю вас.
Девушка глотнула воздуха, словно собираясь кинуться в воду, и заговорила, сбивчиво, отрывками:
– Простите меня, я дежурила на коммутаторе и… все слышала. – Из глаз ее покатились слезы. – Туманов жив… – Она поперхнулась концом слова.
– Так что же вы плачете, радоваться надо, – пожурил ее Меньшиков по-отечески.
– Но он… он тяжело ранен, – всхлипнула она, прикрывая лицо руками. – Отпустите меня к нему, товарищ майор. Хоть на недельку. Ведь за ним нужен уход.
– Успокойся, успокойся. – Меньшиков поправил сбившуюся на ее голове пилотку. – Ухаживать там есть кому. А отпустить, к сожалению, я никак не могу – и оснований нет, и дежурить на коммутаторе нужно.
– За меня девушки подежурят, я уже договорилась. Отпустите, товарищ майор, ему очень трудно…
Пять минут назад он и сам думал, что ему тяжело там и неплохо бы послать кого-нибудь из однополчан, поддержать его морально, а теперь заколебался.
– Вы ничем ему не поможете.
– Очень даже помогу! – воскликнула девушка, будто и в самом деле ее появление поставит летчика на ноги.
Может, и поставит – вон какая красавица; а любовь, говорят, лучшее из всех лекарств. И Туманов… Меньшикову очень хотелось, чтобы летчик вернулся в полк.
– Ну что ж, пожалуй, вы меня убедили. Когда сможете поехать?
– Хоть сейчас!
– Идите тогда в строевой отдел, передайте Дехтярю, что я велел выписать вам отпускной билет. На неделю. Только уезжать не торопитесь. Вечером от нас в Ростов должен полететь связной самолет, я предупрежу летчика.
Часть вторая
1
20/VII 1941 г….В ночь на 20 июля наша авиация продолжала боевые действия по уничтожению танковых и моторизованных частей противника…
(От Советского информбюро)В открытое настежь окно вливался такой ароматный, пропитанный запахами яблок, дынь, арбузов, воздух, что Александр, забыв о своих ранах, потянулся к изголовью.
Приподнял голову и выглянул «на волю». Тут же его поясницу пронзила боль, в глазах запорхали желтые бабочки. Он полежал неподвижно, выжидая, когда боль отпустит, и запах из окна вновь стал струиться прямо на него, напоминая о далеком детстве, бабушкиной бахче, вкусных дынях-медовках, арбузах-мурашках, небольших, тонкокожих, сладких как нектар.
Боль понемногу утихла, и он изловчился так положить голову, что увидел открытое окно. Росшая под самым окном акация не давала ничего рассмотреть. Листья на ней даже не шелохнулись, но все равно чувствовалось, как с улицы течет в палату прохладный, освежающий воздух, волнующий, зовущий туда, на простор.
На ветку села какая-то птичка – из-за листвы нельзя было разглядеть, то ли воробей, то ли синичка, – покрутила головкой, высматривая что-то, и улетела. Над подоконником закружил большой лохматый шмель, направился было в палату, но тут же шарахнул обратно – видно, не понравился запах лекарств.
Кто-то из раненых позвал: «Няня, утку». И у Александра на душе стало так тягостно и тоскливо, будто он попал не в госпитальную палату, а в камеру заключения. Ни поговорить по душам, ни поделиться мыслями… Вчера медицинская сестричка, юная курносенькая девчушка, предлагала ему услугу – написать родным письмо. А кому? Рите? Что он ей напишет? Дать Петровскому лишние козыри? И так капитан не спускал с них глаз. Может, совсем не возвращаться в полк? А что это даст? В полку Александра знают, Меньшиков грудью встал на защиту… И пусть Петровский не спускает глаз, убедится, что Александр ни в чем не виноват.
В палату вошел лечащий врач с сестрой – начался утренний обход. И акация будто бы проснулась: зашелестели листья, закачались тоненькие ветки; стая севших на акацию воробьев загомонила, засуетилась, заверещала, нарушая покой раненых. Няня шугнула их, и воробьи улетели, а спустя немного на подоконник опустился голубь-сизарь, крупный, нахохленный. Заглянул в палату, сделал один шаг, другой, настороженно замер.
– Гулю, гулю, – позвал его лежавший ближе всех к окну раненый. – Есть захотел? Посиди немного, вот принесут завтрак – и тебе чего-нибудь перепадет.
– Прожорливая, бесполезная птица, – отозвался второй раненый. – Раз его покормили, так он теперь каждый день повадился. А ну кыш отсюдова!
– Пусть посидит, – вступилась за голубя санитарка. – Глядишь, весточку кому-то принес, можа, тебе самому письмецо али привет.
– А твои как дела, герой? – вывел его из задумчивости голос врача, остановившегося у кровати. – Голубю завидуешь? На то он и птица… И твои дела не так уж плохи, температура спала, почти нормальная, значит, скоро танцевать будем. – Он откинул простыню, распахнул ворот рубашки, приложил к груди фонендоскоп. Послушал. – И сердце работает как часы. Так что радуйся, пилот.
К врачу подошла сестра и что-то шепнула ему на ухо.
– Какая невеста? – недовольно изогнул брови доктор.
– Вот его, – кивнула на Александра девушка.
– У тебя есть невеста? – не то сердито, не то насмешливо уставился на него врач, а Александр никак не мог взять в толк, о чем это они. Ирина? Но как она могла здесь оказаться? Второй год она живет в Москве и о том, что он стал Тумановым, не ведает, не гадает. Рита?! От этой мысли сердце так радостно застучало, что, кажется, даже голубь услышал его и вспорхнул с окна. Нет. Рита призвана на службу, и, даже узнай она, что он ранен, ее не отпустят.
– Что же ты молчишь? – спросил врач. – От радости в зобу дыханье сперло? – И повернулся к сестре: – Ну что ж, коль невеста, я думаю, надо разрешить. Только после обхода.
Александр от нетерпения кусал губы, прислушиваясь к каждому слову, к каждому движению врача, ожидая, когда он закончит обход. А тот будто нарочно подолгу задерживался у раненых, расспрашивал о самочувствии, о том, какие снятся им сны, обслушивал, общупывал, напутствовал, как малых детей.
Наконец он сложил истории болезней, передал сестре и, проходя мимо Александра, насмешливо подмигнул:
– Невеста – это хорошо! Здорово! Не забудь потом на свадьбу пригласить.
Рита появилась в проеме двери, как голубь на окне: глаза широко раскрыты, недоверчивы и настороженны, полы накинутого на плечи белого халата, приподнятые локтями, похожи на приготовившиеся к взмаху крылья. Она взглядом искала брата, и столько в этом взгляде было страдания, мольбы, надежды, что веки Александра набухли слезами, и он не выдержал, протолкнул сквозь сжатое спазмами горло еле слышное:
– Рита!
Она услышала его и, еще не рассмотрев, кинулась на голос.
Голубь хлопнул крыльями и шарахнулся с окна.
– Ну вот, я ж сказывала, вестку кому-либо принесет, – кивнула вслед голубю няня. – А тут даже не вестку, а родного человека.
Рита целовала его в губы, щеки, лоб, подбородок; улыбалась, а слезы бежали по щекам. Александр снял с ее головы пилотку, гладил по коротко подстриженным волосам и успокаивал:
– Ну что ты… что ты… Видишь, я жив, врач обещает скоро выписать, – приврал он. – Так что все хорошо.
Рита, кажется, поверила ему, вытерла глаза. Вопросительно окинула взглядом укрытое одеялом его туловище, спросила:
– Куда тебя?
– В ноги. Не очень, – поспешил он заверить. – Все цело.
– А в полк сообщили, что тяжело ранен. – Она испытующе посмотрела ему в глаза.
– Ну, само собой, – перешел он на веселый тон. – Все-таки в обе ноги и, если честно, и позвоночник зацепило.
– Тебе больно шевелиться?
– Есть малость. Но уже лучше, – снова заспешил он, заметив, как омрачилось ее лицо и посмотрела она на него с пронзительной жалостью. Надо было как-то разогнать промелькнувший в ее глазах хоровод невеселых мыслей, и он спросил: – Как дела в полку? Тебя кто отпустил?
– Меньшиков, разумеется. Тебе привет передавал, сказал, что ждет тебя. Он и на связной самолет меня устроил, и приказал начпроду продуктов тебе выделить. Я сахару тебе привезла, печенья…
– Кормят здесь неплохо, – перебил он ее, стараясь разговором заглушить вернувшуюся боль в пояснице, отдававшую в виски ударами противных тупых молоточков. – Хорошо, что врач пустил тебя. А как Гордецкий?
– Летает почти каждую ночь. Теперь полк больше ночью летает. Самолетов мало осталось. – Она заглянула ему в глаза и, увидев в них муку и не поняв, чем она вызвана, тоже поспешила перевести разговор на другое: – Ирина что-то молчит. Может, тоже ушла в армию, ведь она в Институте иностранных языков училась. Тебе хотел написать Гордецкий, а потом говорит: «Зачем писать, когда ты все на словах передашь?» Жалеет, что без тебя летает… Дмитрия Тарасова и его штурмана Бориса Еремина представили к званию Героя, а стрелков Сергея Ковальского и Бориса Капустина – к ордену Красного Знамени. Посмертно, – прервала она его размышления. – Экипаж Захарова тоже не вернулся…
– Я видел, как сбили его самолет, – сказал Александр. – По-моему, у самой земли кто-то выпрыгнул с парашютом.
– Говорят, все погибли. Петровский по нескольку раз опрашивал экипажи.
– А кто-нибудь видел, как взорвался мой самолет?
– Володя Гордецкий.
– А как я выпрыгнул?
– Нет, никто не видел. Все считали, что экипаж погиб.
2
28/Х 1941 г….Перелет с аэродрома «Лита-2» на аэродром Новочеркасск…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Ранним утром, когда Меньшиков отправил два экипажа на разведку и бомбежку переправ через Днепр, с севера донесся гул артиллерийской канонады. Все, кто был на аэродроме (а там были многие), повернули в ту сторону головы, прислушались. Канонада не прекращалась. Еще накануне летавшие на боевые задания экипажи докладывали, что видели немецкие танки километрах в шестидесяти от Сак. Меньшиков по телефону доложил в штаб дивизии, просил назвать запасной аэродром на случай эвакуации, за что получил серьезную взбучку: «Твои летчики либо от страха ориентировку потеряли, либо немецкие танки с нашими спутали, – гремел голос в трубке. – И прекрати паниковать. Когда поступит приказ эвакуироваться, тогда будешь готовиться к перелету. А пока выполняй то, что от тебя требуют».
Полковник, был явно не в духе, и убеждать его в опасности не имело смысла. Меньшиков отдал приказ все ценное имущество упаковать и распределить по самолетам и автомашинам; держать все в готовности к отправке в тыл.
И вот артиллерийская канонада подтвердила правильность его решения. Пора бы давать команду самолетам взлетать, а автомашинам трогаться в длинный путь к Керчи – другие дороги все перерезаны, – но комдив молчал.
Взрывы усиливались, приближались… Похоже, бой идет где-то километрах в двадцати. А если так, то немецкие танки могут появиться здесь через час; тогда поздно будет «готовиться». И Меньшиков решил еще раз напомнить начальникам о своем существовании, спустился в землянку.
На этот раз полковник выслушал его терпимее.
– Хорошо, ждите, – сказал холодно. – Сейчас я свяжусь с командующим и выясню.
Прошло пять минут, десять, двадцать. В землянку набилось более десятка командиров и начальников служб, все с нетерпением ждали команды на эвакуацию.
– На севере громыхает все сильнее, – войдя на КП, сказал комиссар полка майор Казаринов. – Надо хотя бы семьи оставшиеся отправить.
– Громыхает не первый день, – возразил капитан Петровский. – А сегодня ветер оттуда.
– Пахнет не ветром, а порохом. Как бы потом поздно не было, – возразил Казаринов.
– Приказ был только один: ни шагу назад. Крым удержать во что бы то ни стало, – категорично напомнил Петровский.
– Все так, но семьи надо бы отправить.
– Моя тоже здесь. А если танки действительно прорвались, то отправлять поздно.
Меньшиков слушал спор комиссара с оперуполномоченным и не вмешивался. Оба правы: отправить не пожелавших в первые дни войны уехать жен командиров надо бы, но куда и на чем? Не перерезана одна-единственная шоссейная дорога на Керчь, но и она непрерывно обстреливается и штурмуется авиацией немцев. Да и машины загружены авиационным имуществом. И есть ли гарантия, что вскорости немцы не перережут последнюю дорогу?.. КП дивизии молчит, значит, положение действительно серьезное.
В землянку вошел лейтенант Пикалов.
– Товарищ майор, над аэродромом «рама» кружит, – обратился он к Меньшикову, – а некоторые самолеты уже без масксеток. И машины снуют туда-сюда.
Масксетки сняты с самолетов, которые через полчаса должны лететь на боевые задания; но Меньшиков распорядился бомбы пока не подвешивать. Техники поторопились снять маскировку, теперь сетки натягивать было поздно. И надо ли?
Меньшиков снова крутанул ручку телефона. Ответил оперативный дежурный. На просьбу позвать полковника сказал, что он разговаривает по другому телефону.
– Хорошо, я подожду.
Прошло еще минут пять, пока полковник взял трубку.
– Что у вас там стряслось? – спросил он недовольно.
– Ничего пока не стряслось, но уже «рама» кружит над аэродромом и канонада все слышнее.
– Только без паники, товарищ Меньшиков, – приструнил его полковник. – Сидите и ждите. Вас не забыли, и, когда потребуется, команду получите.
– А с боевым вылетом как?
– Я же сказал: ждите!
– Есть.
Все ясно: фронт действительно прорван, и те танки, которые наблюдали наши разведчики, – немецкие. За ночь они прошли километров тридцать. До аэродрома им остались считаные минуты.
Меньшиков остановил взгляд на командире батальона аэродромного обслуживания.
– Быстро грузите имущество. Все, кто не летит, на погрузку. Сигнал к отправке – две красные ракеты.
Меньшиков направился было в землянку, как его остановил голос руководителя полетов, находившегося на «вышке» – деревянной будке, откуда в мирные дни осуществлялось руководство полетами.
– Товарищ майор, к аэродрому приближаются мотоциклисты, целая колонна. Похоже, немцы.
Меньшиков рванул сам на «вышку». То, что он увидел, поднимаясь по ступенькам, стиснуло его ознобом, и ноги мгновенно одеревенели, стали чужими. Он так и не смог подняться на площадку, застыл на предпоследней ступеньке. Да и незачем было подниматься, все хорошо видно отсюда: по шоссе со стороны Сак мчались мотоциклисты. Один за другим. Да, это были немцы: мотоциклы с колясками, с двумя седоками – один за рулем, второй за пулеметом, в касках, в очках. Где-то, значит, должны двигаться и танки. Точно: на самом горизонте он различил темные коробки, окутанные клубами дыма и пыли.
– Дождались, – простонал Меньшиков и глянул вниз, где с него не спускали глаз начальники служб: не услышали ли? Кажется, нет. Крикнул:
– По самолетам! Запускать моторы и взлетать без команды. Ведущий тот, кто взлетит первым. Курс – на Керчь. Наземному эшелону отходить на восток вдоль побережья. Я взлетаю последним. – Он взялся за перила и почти скатился вниз, где уже никого не было, кроме капитана Петровского. Оперуполномоченный поджидал его.
– Поздно, Федор Иванович, – сказал он категорично и безжалостно. – Наземный эшелон отойти не успеет, если не выделить группу прикрытия.
Капитан был прав, и Меньшиков позвал с «вышки» руководителя полетов.
– Разыщите начальника штаба, передайте мой приказ: группу прикрытия – к шоссе. Держать немцев, пока не взлетит последний самолет и не отойдет последний грузовик. Потом отходить на восток.
– Я останусь с группой, – сказал Петровский, когда руководитель полетов убежал. – За меня поработает Завидов.
– Можешь лететь на моем самолете, – без особой радости предложил Меньшиков.
– Мне надо остаться.
– Тогда другое дело. Жену не успел отправить?
– Нет… Группой командует Деревянко?
– Да, наш начхим. Дело он знает, и человек смелый. Постараюсь, как только взлетим, прикрыть бортовым огнем вашу группу. Это будет сигналом для отхода.
Они зашагали к бомбардировщику Меньшикова, стоявшему недалеко от землянки, у которого уже выстроился экипаж. Их догнал оперативный дежурный.
– Товарищ майор, связь со штабом дивизии прервана. Видно, немцы перерезали провода.
– А радиостанция?
– Немцы забивают ее: такой треск, что ничего не разобрать.
– Ясно. В распоряжение капитана, – кивнул Меньшиков на Петровского.
– Есть!
Оперуполномоченный протянул Меньшикову руку:
– Счастливо, Федор Иванович.
– И тебе, Виктор Васильевич.
Меньшиков уловил в голосе оперуполномоченного грусть и теплоту. Капитан понимал, на что идет: мало кому из тех, кто остается прикрывать отход полка и батальона, удастся остаться в живых. И Меньшиков простил ему его прежнюю холодность, черствость. Уж такое суровое время, не до деликатности.
А треск мотоциклов уже катился на аэродром, и вот с северной стороны донеслись первые выстрелы. Им ответили автоматные очереди. Заглушая их, взревели моторы бомбардировщиков, два самолета тронулись со стоянки и порулили к взлетно-посадочной полосе. К ним выбежал лейтенант Пикалов и знаками показал, чтобы открыли огонь по мотоциклистам.
«Молодец, – подумал о нем Меньшиков, – правильно сообразил».
Мотоциклисты скатывались уже с бугра и, как саранча, рассыпались в разные стороны, охватывая аэродром с запада и востока. Воздушные стрелки со многих самолетов открыли по ним огонь. Треск пулеметов, рев моторов, одиночные выстрелы слились в единую вызывающую озноб какофонию. Недалеко от бомбардировщика Меньшикова вспыхнул бензозаправщик. Пламя с такой быстротой охватило машину, что шофер едва успел отогнать ее. Меньшиков видел, как вывалился он из кабины и стал кататься по земле, гася загоревшийся на нем комбинезон.
Вокруг все ревело, гудело, трещало, стонало, и никаких команд уже дать было нельзя, никому и ни в чем помочь теперь не могли ни командир полка, ни командир дивизии…
Меньшиков в последний раз окинул аэродромное поле взглядом. Первый самолет уже оторвался от земли, второй бежал следом за ним. К взлетной полосе один за другим рулили четыре бомбардировщика. На остальных моторы работали. Кое-где суетливо бегали люди, заканчивая последние приготовления к взлету.
«Хорошо, что немецкой авиации нет, – подумал Меньшиков, – а то бы наделала она бед». Пора было и ему садиться в свой самолет. Он махнул экипажу рукой – «По кабинам!» – и, дав команду технику провернуть винты моторов, ступил на крыло.
Лейтенант Пикалов – он снова летел в экипаже Меньшикова воздушным стрелком-радистом – уже крутил турель влево-вправо и бил со стоянки по появлявшимся то там, то здесь мотоциклистам. А их становилось все больше. Огонь пулеметов, взрывы гранат опрокидывали мотоциклы, сбивали с них седоков, заставляли их искать укрытия, но сдержать такую лавину, казалось, ничто было не в силах.
– Запуск! – крикнул Меньшиков заученное скорее для себя, чем для техника, который конечно же не услышал его, но по взмаху руки понял команду.
Моторы, словно почуяв опасность, запустились с первой же попытки. Техник выдернул колодки из-под колес и, пока Меньшиков надевал парашют, пристегивался привязным ремнем, забрался в люк к стрелкам: Пикалов по СПУ доложил, что все к взлету готовы.
Майор дал газ моторам, развернул бомбардировщик вдоль взлетной полосы. За эти несколько секунд он увидел мотоциклистов среди аэродромных построек. Отряд из БАО (Меньшикову показалось, что среди бойцов находился и капитан Петровский) залег в траншеях и не давал немцам прорваться к складам и самолетам. Пикалов пустил длинную очередь по мотоциклистам, они шарахнулись за постройки. Еще Меньшиков успел обратить внимание на то, что у складов грузовых машин уже нет; значит, успели загрузиться и отъехать.
А танки уже спускались с бугра и так же, как и мотоциклы, «обтекали» аэродром справа и слева. Да, тяжело придется группе прикрытия. «Счастливо, Федор Иванович», – вспомнилось искреннее, душевное пожелание Петровского. Вряд ли им доведется снова свидеться. И ничем ему не помочь… Почему ничем? Вон как Пикалов шуганул мотоциклистов! А если пройтись над немцами бреющим?..
Разрывы снарядов полыхали уже по всему летному полю, и, если попасть в воронку, дело может обернуться худо…
Со стоянки, опережая Меньшикова, порулили последние два самолета, ревя моторами; летчики очень торопились и опробовали моторы на максимальных оборотах во время рулежки, а не на стоянке, как положено. Что ж, вполне понятно: танки и мотоциклисты заставляли спешить.
Очередной разрыв полыхнул совсем рядом.
– Командир, взлетайте! – крикнул по СПУ Пикалов.
Меньшиков толкнул сектора газов вперед. Бомбардировщик взревел затравленным зверем и рванулся со стоянки. Бежал он мучительно долго, и не по выбитой взлетной полосе, а наискосок, по жесткой, уже пожухлой от жары траве, вздрагивая на каждом бугорке, кустике. Меньшиков смотрел на горизонт, но видел и землю, готовый на случай встречи с воронкой подорвать машину.
К счастью, фашистские танкисты стреляли левее, и летное поле здесь было неповрежденным. Когда бомбардировщик наконец оторвался от земли, майор, чуть выждав, положил его в левый крен и оглянулся. Столкнувшихся самолетов он уже не увидел – там пылал громадный костер с черным, как сама нефть, дымом.
– Штурман, стрелки! – позвал по СПУ Меньшиков.
– Слушаем, командир! – отозвался за всех Пикалов.
– Сейчас пройдем по краю аэродрома. Бейте по гадам со всех точек.
– Поняли, командир. Сделаем.
Меньшиков развернул бомбардировщик на север, откуда напали мотоциклисты и ползли танки, и вел его метрах в пятидесяти от земли, слыша, как строчат пулеметы. Стреляли штурман, воздушный стрелок из нижней турели, и даже старший лейтенант Пикалов умудрялся, когда Меньшиков накренял машину градусов на шестьдесят, бить из своей верхней турели.
Майор кружил и кружил, видя, как сваливаются с мотоциклов седоки, как разбегаются и прячутся по траншеям, словно крысы по норам, видел, как увеличивается колонна наших машин на шоссе от Сак к Керчи, как, отстреливаясь, отходит группа прикрытия.
– Командир, пора на восток, – напомнил лейтенант Пикалов. – Снарядов мало осталось, а не исключено, от истребителей отбиваться.
Не исключено. Меньшиков посмотрел в сторону складов, где перед взлетом видел Петровского. Там все еще шла перестрелка, мотоциклы так и не пробились к складам. К ним на помощь спешили два танка. И Меньшиков пожалел, что пришлось снять бомбы. Помочь пулеметами Петровскому он не мог. А было жаль его.
– Штурман, курс на Керчь, – разорвав спазмы, еле выдавил Меньшиков.
– Девяносто, командир. Наберите высоту…
3
25/X1I 1941 г. Боевой вылет с бомбометанием по Мариуполю. Высота – 2000. Время полета – 3 ч. 16 м…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Поезд в Москву прибыл поздно ночью, и Александр, выйдя из вагона на заледенелый перрон, продуваемый холодным декабрьским ветром, заспешил в здание вокзала. В Москве ли Ирина теперь и найдет ли он ее? По существу, из-за нее он и приехал сюда. Узнать что-либо об отце, тем более помочь ему в такое трудное для Родины время вряд ли удастся. Разве только поможет отец Ирины. В сороковом году Абдулле Хасановичу предложили в Москве большой пост, писала Ирина Рите, он дал согласие, и они уехали. С того времени и нет от них ни весточки. Что с ними случилось? А может, и ничего. Просто новое положение отца не позволяло им поддерживать связь с семьей осужденного. Хотя на Абдуллу Хасановича и на Ирину это не похоже.
Последние дни в госпитале, когда врач сказал, что направят его лечиться в Пятигорск на серные ванны, Александр все время думал об Ирине и не увидеть ее уже не мог. Он знал: положение в Москве чрезвычайно сложное, на каждом шагу проверяют и его могут высадить на первой же станции. Рискнул, поехал. И вот добрался. Проверок действительно было много, он объяснял: еду в полк, ванны буду принимать после войны. И ему верили, несмотря на тяжелые ранения, указанные в санкарте.
Вокзал был забит бойцами и командирами, и не то что лечь – а спина требовала именно этого, – сесть было негде. Пришлось обратиться к дежурному помощнику военного коменданта. Тот проверил документы, окинул взглядом очень уж вытянутую фигуру лейтенанта и, поняв, что это от корсета, написал на клочке бумаги направление в гостиницу «Москва».
– Там, правда, не очень спокойно – фашистские самолеты к Кремлю стремятся прорваться, – но вы летчик, к бомбежкам привычный…
Метро еще работало, и через полчаса Туманов с ключом в руках поднялся на третий этаж. Номер был двухместный, но соседская кровать пустовала. Александр разделся, снял корсет. В комнате было прохладно, однако душ работал, и Александр испытал настоящее блаженство, стоя под теплыми струями живительной воды, снявшей боль в пояснице и влившей в тело силу, бодрость. Если бы он знал адрес Ирины, отправился бы к ней немедленно. Удастся ли ему разыскать ее? Удастся, иначе он все справочные и коммунальные службы на ноги поставит. С такой мыслью он и уснул крепким сном измученного дорогой и болями, выздоравливающего человека.
Проснулся он поздно, в десятом часу. Боль в пояснице почти не напоминала о себе, и он, затянув корсет, занялся гимнастикой, разминая и массируя все те места, где ткани и нервы посекли осколки. Это для него стало первостепенной необходимостью, более важной, чем еда. И он верил в себя, в спасительную силу гимнастики, в то, что забросит палочку-помощницу не через два месяца, как советовали врачи, а через две недели.
Закончив занятия, он умылся ледяной водой – это правило он завел еще в детстве, – оделся и вышел в коридор к дежурной, чтобы выяснить, где находится справочное бюро и работают ли магазины, в которых можно приобрести что-нибудь в подарок. Денег у него было много – он получил полугодовое жалованье, – и купить Ирине хороший сувенир (она любила всякие безделушки) ему очень хотелось.
Дежурная назвала ему две ближайших горсправки – на площади Свердлова и на Казанском вокзале, – а за подарком посоветовала ехать на Тишинский рынок или на Зацепу.
Не было еще и десяти. В предутренней морозной дымке плавали пушинки изморози, оседая на ворс шинели, на ресницы. Дома, деревья, провода казались по-новогоднему наряженными, и настроение у Александра приподнялось. Он был уверен, что разыщет Ирину и вместе с ней отпразднует Новый год.
Справочная на площади Свердлова оказалась закрыта, и ему пришлось ехать на Казанский вокзал. Он быстро нашел маленькую будочку с вывеской «Горсправка», в которой сидела худенькая энергичная старушонка, укутанная темно-коричневой шалью, в белом полушубке военного образца. Старушонка внимательно выслушала Александра, все записала – фамилию, имя, отчество и год рождения Ирины, – велела прийти часа через два. Поначалу об отце Ирины он ничего не хотел спрашивать (наверняка на фронте), но потом передумал: а вдруг с Ириной что-либо случилось – попала под бомбежку (от этой мысли по телу пробежал озноб), вернулась в Краснодар, – и он попросил адрес и Хаджи-Ильи Абдуллы Хасановича.
Старушка закрыла оконце – будочка не отапливалась, – и Александр зашагал на трамвайную остановку.
Отец, не раз побывавший в Москве, рассказывал Александру, что это город нескончаемого потока людей по улицам, в метро, толчеи на автобусных и трамвайных остановках, город непрерывного движения, спешки. Теперь же улицы были пустынны, на трамвайной остановке прохаживался один военный. Москва будто опустела, и тишина стояла такая, что, казалось, слышно, как шелестят опускающиеся снежинки.
Где-то вдали звякнул трамвай, и его перезвон отозвался в ушах набатом. Он гулко простучал по стыкам рельсов. Народу в нем было тоже мало – еще двое военных, Александр сел, и трамвай покатил дальше.
На толкучке было пооживленнее: инвалиды, женщины, пацанва. Одни продавали, другие покупали, третьи присматривали, где чем можно поживиться. Товар в основном был мелочь – самодельные зажигалки, спички, самоваренное мыло – когда только люди научились этому? – всякие хурды-бурды, и Александр с полчаса бродил по рынку, пока нашел что надо. Интеллигентная немолодая женщина продавала крепдешиновый отрез на платье, яркий, цветастый, чем-то напоминавший платье Ирины, надетое в день совершеннолетия. Лучшего подарка он и придумать не мог. Заплатил, не торгуясь, и поспешил в справочную.
На Казанский вокзал он приехал за сорок минут до назначенного времени и, чтобы как-то скоротать время, бесцельно побрел по Каланчевской улице, рассматривая дома, очень разные по архитектуре и похожие друг на друга обклеенными крест-накрест бумажными лентами окнами, безмолвными пустынными дворами – ни играющих детишек, ни любящих посудачить женщин. Редко, очень редко встречались старичок или старушка, отгребавшие от дверей снег или тихонько бредущие куда-то.
Он взглянул на часы. Казалось, пол-Москвы исходил, а не прошло еще и получаса. И все же он не выдержал, зашагал к заветной будочке.
Старушка протянула ему в оконце клочок бумажки.
– Хаджи-Илья Ирина Абдулловна в книге адресов города Москвы не значится, а вот Абдулла Хасанович проживает по Потаповскому переулку дом семь, квартира четырнадцать.
На душе у него стало так тоскливо и одиноко, как будто померк весь свет. Он ждал, надеялся, а этот клочок бумажки зачеркнул все его планы, все мечты. Где она, что с ней? Может, не уехала из Краснодара? Нет, оттуда она написала бы Рите. Все дело, видимо, в новом положении Абдуллы Хасановича. Но он здесь, и он-то знает, где его дочь.
Этот вывод несколько успокоил Александра, и он, уточнив у старушки, как добраться до Потаповского переулка, направился в метро.
Дом под номером 7 по Потаповскому переулку он нашел сравнительно быстро – старинный двухэтажный особняк с флигелем и мансардой, с широкой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Как он и предполагал, в четырнадцатой квартире никого дома не оказалось. Александр позвонил соседям, но и там никто не отозвался. Он походил по длинному коридору взад-вперед в надежде, что кто-то в конце концов появится (ведь живет же в этом доме кто-нибудь), но ни одна из квартир не подала признаков жизни.
Александр спустился вниз и вышел во двор. Здесь тоже было пусто. От каждого подъезда к арке вели ровные, протоптанные в снегу дорожки. Слева и справа от двери возвышались клумбы, огороженные штакетником с девственно-белым, нетронутым снегом. Значит, детвору куда-то вывезли, иначе в этом «гнездышке» обязательно кто-то побывал бы. А с ними уехали старики и старухи. Остальные в армии, на работе. И все-таки уходить ему не хотелось. Не верилось, чтобы во всем этом громадном доме не осталось ни одного человека. Он неторопливо двинулся к соседнему подъезду, напрямую, вдавливая рыхлый, с голубоватым оттенком снег.
Неожиданно слева ржавыми петлями громко скрипнула дверь. Александр повернул голову и увидел вышедшего из флигеля маленького, худенького старикашку с деревянной лопатой в руках. Обрадованный Александр чуть ли не бегом заспешил к нему. Поздоровался и спросил, не знает ли он случайно Хаджи-Илью из четырнадцатой квартиры.
Старичок внимательно оглядел летчика с ног до головы, чему-то улыбнулся.
– Случайно не знаю. А как соседа знавал. Вы кто же ему будете?
– Старый знакомый, – уклончиво ответил Александр, теряя последнюю каплю надежды. Дедово «знавал» говорило о том, что Абдуллы Хасановича в Москве нет. – Где же он теперь, не скажете?
Старичок не торопился с ответом, переступил с ноги на ногу, еще раз осмотрел летчика.
– Почему не сказать. Скажу. Теперь знамо где – на фронте. Месяца два как призвали. Когда немец совсем близко подошел…
Все так, как Александр и предполагал.
– А дочь? Ведь у него была дочь.
– Была, – согласно кивнул старичок. – Та тута, в Москве. Дня два назад сюды наведывалась. Можа, что надо было, можа, просто так, хватеру проведать.
– Разве она не здесь живет? – спросил Александр, еле сдерживая радость. Ирина в Москве, это главное!
– Знамо, не здесь. Муж у нее большой начальник, в милиции служит, почище этих хоромы имеет.
Вот почему так больно в груди. А чего же он хотел от нее? Любви?.. Они больше трех лет не видели друг друга, и он весточки не подал о себе. Разве она не понимала, что он не может писать ей?.. Все она понимала. Потому и с Ритой порвала связь. «Муж у нее большой начальник…» Когда же она вышла замуж?..
Старичок наконец-то замолчал, смотрел на Александра как-то виновато, сочувственно – видно, догадался, какую рану нанес лейтенанту. Александр попытался согнать с лица огорчение, спросил первое, что должен был спросить на его месте разыскивающий знакомого, – ее адрес, хотя идти по нему не собирался.
– Недалече она живет, – снова оживился старичок. – На той стороне Чистых прудов. Тут вот дворами пройдете, пересечете Чистопрудный бульвар и справа от «Колизея» через два дома. А точнее можно у моей соседки спросить, она у них часто бывает.
– Спасибо, – поблагодарил Александр и пошел со двора, куда показал старичок. Обогнул один дом, другой, пересек трамвайную линию, вошел в сквер. Туман начал редеть, и снег из матово-голубого стал ослепительно-белым, неприятным, особенно на ровных, как тарелки, прудах, где виднелись теремки-домики для лебедей и уток – война помешала убрать их вовремя.
Александр прошел между прудов и остановился около киноафиши. «Джордж из Динки-джаза», – прочитал он аляповатые буквы, написанные прямо на фанере. В кино идти не хотелось. Он поднял голову и на фронтоне здания с колоннами увидел название кинотеатра – «Колизей». «Справа от “Колизея” через два дома», – вспомнились слова старика. Так вот куда привели его ноги. Нет уж, сюда ему путь заказан.
Рано, рано еще Александру Туманову перерождаться в Александра Пименова…
А ноги не хотели уходить. Вернее, они пошли, но вопреки его воле, именно к тому дому, где жил «большой начальник», и остановились напротив высокого кирпичного здания. Глаза побежали по этажам, окнам, надеясь увидеть ее, ту, ради которой он сюда ехал, ради которой рисковал. Память восстановила обрывки фраз старика, которые он не слышал, но которые каким-то чудом застряли в голове: «Она учится и работает». Где, кем? В ту секунду это не имело для него никакого значения, а теперь он хотел, обязан был узнать: ей можно будет позвонить! И эта осенившая его мысль вмиг разметала тяжесть в груди, заторопила его, погнала снова к дому в Потаповском переулке. Пусть она замужем, пусть не дождалась его, оправдывал он ее, мало ли какие причины вынудили ее так поступить, и разве вправе он судить ее, не выяснив сути? Пусть замужем. Все равно он ее любит и должен увидеть. Она все объяснит. Да и в этом ли дело?.. И об отце, может быть, он что-то узнает…
4
…За 28 декабря под Москвой сбито 4 немецких самолета…
(От Советского информбюро)Квартира у Ирины действительно была роскошная: широкий длинный коридор с зеркалами, шкафами, галошницами; большой зал с лепным, под люстру, потолком, с камином, выложенным цветными изразцами. Из зала дверь вела в следующую комнату. Полы из дубового паркета фигурной кладки. На стенах в золоченых рамках репродукции картин Брюллова, Репина, Шишкина. Посередине зала круглый полированный стол, у стены сервант с дорогой расписной посудой.
Когда они все это успели нажить?
Ирина будто прочитала мысли Александра.
– Это все не наше. И квартира, и мебель, и картины. В общем, все, что ты здесь видишь, – казенное. Посиди, я пойду на кухню и приготовлю что-нибудь.
– Не надо. Во-первых, я не голоден, а во-вторых, еще не рассмотрел тебя как следует и не обо всем расспросил.
Она согласно улыбнулась, села на диван рядом с ним, обвила и поцеловала робко, виновато, словно и не целовала исступленно только что на улице.
– Я все, все тебе расскажу… Если бы ты звал, как я мечтала тебя увидеть. Мне и теперь не верится, что это не сон. И вот ты передо мной. Ты надолго в Москву? – спохватилась она.
Он пожал плечами.
– Откровенно говоря, я не имел права сюда приезжать. У меня направление в Пятигорск, на излечение.
– И правильно сделал, что приехал сюда. Я буду тебя лечить лучше, чем в любом санатории. Куда тебя ранило? – Она ощупала его руки, плечи. – Значит, серьезно, если в Пятигорск на лечение? – В ее глазах и голосе тревога.
– Все серьезности остались позади, – успокоил он ее. – Немного отдохну – и в свою часть.
– Далеко это?
– На юге.
– Почему ты ни разу не написал?
– Поначалу не мог, а потом не знал твоего адреса. Ты даже Рите не сообщила…
Темная тучка пробежала по ее лицу.
– Да, не сообщила. Тоже не могла. – Она посмотрела на него, словно желая убедиться, верит ли он ей, и в ее глазах промелькнули грустные мысли. – Отец мне рассказывал, как вы с Петькой забрались в квартиру Гандыбина. Тебя повсюду искали…
Ее рассказ, напоминание о прошлом, а больше всего, наверное, то, что он пошел без палочки и перенапрягся, отозвались в пояснице острой болью, растекающейся по всему телу. Он стиснул зубы и откинулся на спинку дивана.
Ирина поняла это по-своему.
– Ты вправе меня презирать, – сказала она дрогнувшим голосом. – Я заслужила…
– Нет, – прервал он ее. – Не надо об этом.
– Ты побледнел. Тебе плохо? – Она встала с дивана в растерянности, не зная, что делать.
– Раны шалят. Пройдет…
– Прости, я совсем позабыла. – Она метнулась в соседнюю комнату, принесла подушку. – Приляг. Давай я помогу тебе сапоги снять.
– Не надо…
– Никаких разговоров! – вдруг властно прикрикнула Ирина, и ее черные глаза загорелись строгостью, решительностью. Она нагнулась и начала снимать с него сапоги. Возражать было бесполезно, и Александр подчинился. – А теперь ложись и жди. Я пойду на кухню, приготовлю тебе лекарства…
Пока она хлопотала на кухне, боль в пояснице утихла, и он лежал, размышляя о том, почему она вышла за Гандыбина. Он хорошо помнил вылощенного, скупого на слово капитана. Гандыбин был недурен собой и умел влезать людям в душу – даже отец Александра не раскусил его поначалу, водил с ним дружбу, а Ирина… что она в то время соображала?
Когда Ирина заглянула к нему из кухни и справилась, как он себя чувствует, он спросил:
– Ты об отце моем что-нибудь слышала?
– Конкретно – ничего. Но еще в начале войны Гандыбин говорил папе о какой-то директиве, по которой ряд осужденных были освобождены. Папа просил узнать о твоем отце. Но… то события под Москвой, то всякие другие причины. Он так ничего и не узнал.
Она застелила стол белой скатертью и вышла на кухню, откуда уже доносился запах жареного.
Если Гандыбин говорил о директиве и об отце, похоже, что отца освободили. А если так, то вполне вероятно, что он уже на фронте. Как его разыскать? Самому заниматься этим делом пока нельзя. Сказать Рите? Нет, и без того у нее нервы на пределе.
Ирина вошла в комнату, внесла тарелки с колбасой, рыбой, дымящуюся яичницу. Достала из серванта пузатую бутылку с заграничной этикеткой.
– Вот, будем лечить твои раны, – сказала весело, подзадоривая его.
Он наблюдал за ней, за ловкой работой ее рук, по-хозяйски сноровисто расставлявших тарелки, раскладывавших ножи, вилки, словно она готовилась к приему важных гостей. Она очень хотела сделать ему приятное, а он даже забыл вручить ей подарок – так был ошеломлен встречей. Когда вошли в квартиру, он, раздеваясь, положил сверток на галошницу и забыл.
Он поднялся и побрел в коридор.
– Вот видишь, – усмехнулась Ирина, – один только вид моих лекарств поднял тебя.
– Прости меня, раскис, как кисейная барышня.
– Ну что ты…
Он принес сверток, развернул газету, в которой был отрез, и накинул его на плечи Ирины.
Она ахнула, удивленная и довольная, поблагодарила его поцелуем.
– Где ты достал такую прелесть? Это же мое девичье платье. Ты его помнишь?
– Я привез тебе его специально, чтобы вернуть в те годы.
– Спасибо. Я действительно чувствую себя такой счастливой и свободной, как в тот день, когда ты приехал ко мне из училища. Нет, лучше. Моя любовь к тебе за эти годы стала еще сильнее, и теперь… теперь никто тебя не отнимет у меня. Садись. Я буду ухаживать за тобой, как самая верная, самая преданная рабыня.
– Ну зачем же? Любовь лишь тогда приносит счастье, когда она свободна.
– Да-да, – согласилась она, чмокнула его в щеку и налила рюмки. – Я уже пьяна от счастья. Давай, Шурик, выпьем с тобой за встречу, за любовь, которая помогла нам найти друг друга.
Ее глаза сияли и обдавали его интимной теплотой, волнующей, пробуждающей в нем новое, еще не изведанное чувство.
Они выпили.
– Закусывай, ешь. – Она намазала ему маслом ломоть белого хлеба, насильно втиснула в руку, положила на тарелку колбасу, ветчину, ломтики лимона.
Ему представилось, как Гандыбин сидит на его месте и как Ирина ухаживает за ним; кусок колбасы застрял в горле.
Александр положил вилку. Ирина не заметила резкой перемены его настроения, наполнила рюмки.
– А еще давай выпьем за верность, за то, чтобы теперь мы не потеряли друг друга.
– Ты же знаешь, что это несбыточно.
– Почему?
И все-таки ему было жаль ее обижать, и он ответил не то, что думал:
– Потому что война. – Помолчал. И обида сама вырвалась наружу: – Ты забыла, что дала обет верности другому.
– Обет верности… – Голос ее задрожал, на глаза навернулись слезы. – Когда я услышала, что ты убит, все для меня было кончено. Мне не хотелось жить. Но жаль было отца. Я существовала для него… А тут какие-то осложнения на заводе. И только Гандыбин мог выручить отца. И он выручил. Теперь я догадываюсь почему. Но тогда… Тогда мне было все равно. Отец просил не отказывать ему, и я послушалась… Если бы можно было заглянуть в сердце, ты бы увидел, что, кроме тебя, там никого не было. Гандыбин волновал меня не больше, чем вот этот шкаф. Как-нибудь я расскажу тебе, как я жила эти годы. Да и жила ли?.. Сегодня – самый счастливый день в моей жизни, и я – самая счастливая.
Ее слова растрогали его, и ему стало больно и стыдно за свою несдержанность, жестокость.
– Прости меня, – попросил он. – То, что с нами случилось, от нас не зависело. Да и не в том дело. Мы встретились – это главное. – Он поднял рюмку. – За нас.
То ли от коньяка, то ли от волнения, лицо Ирины пылало, и большие сияющие глаза смотрели на него так преданно и распахнуто, словно она открыла ему всю свою душу.
Еще по дороге в Москву, лежа на полке, он часами обдумывал разговор с ней, слагал целые речи, страстные, убедительные – он даже удивлялся своему красноречию, – теперь же не мог найти теплого слова. Говорила больше Ирина. Рассказывала о налетах на Москву, о том, как училась тушить зажигательные бомбы, и ее голос звенел в ушах веселым колокольчиком, навевая что-то сказочное, погружая в сладостную истому.
Они запьянели быстро не то от коньяка, не то от счастья, – от любви друг к другу. Александр взял ее руку, поднес к губам. Ирина придвинулась к нему, обняла за шею, зашептала горячо, взволнованно:
– Милый мой, родной, желанный. Ты не представляешь, как я люблю тебя. Сколько я передумала о тебе! И вот теперь мы вместе, навсегда. Ведь ты заберешь меня с собой, не правда ли? Я научусь всему – готовить твой самолет к полету, стрелять из пулемета, вести радиосвязь. Ты знаешь, я уже учусь на курсах радисток. Вот и буду летать вместе с тобой. Ты хочешь этого?
Еще бы! Он и в самом деле решил забрать ее с собой в полк – нашлось же Рите дело! А Ирину можно будет и в экипаж зачислить – есть же целые женские полки, эскадрильи. А вести радиосвязь, стрелять из пулемета – дело нехитрое. Ирина хваткая и смелая женщина, она добьется, чтобы ее зачислили в экипаж. И ни в какой санаторий он не поедет – он чувствует себя отменно, – сразу в полк…
Проснулся он от боли в пояснице и не сразу понял, где он находится и кто лежит с ним рядом в широченной мягкой кровати под теплым пуховым одеялом с запахом белой сирени, а когда наконец все осознал, постель вдруг стала нестерпимо горячей и сиреневый запах – удушливым, раздражающим. Чужая постель, чужая жена! Какой он все-таки размазня! Раскис от рюмки коньяка, разомлел от сладких слов, от жаркого тела, принадлежащего другому. Разве это можно забыть? Нет, ни забыть, ни простить, и напрасно он строил иллюзии, былого не вернуть. Завтра же утром он уедет. И не в полк, а в санаторий – с такой поясницей о полетах думать рано.
Позвоночник ныл все сильнее: коньяк оказался слишком непродолжительным успокоительным средством и даже, кажется, обострил боль. Александр лежал, стиснув зубы, ругая и себя, и безмятежно посапывающую рядом Ирину. Спать больше не хотелось. Мягкая постель жгла поясницу. Он повернулся на бок. Боль не унималась. Рядом с кроватью на стуле темнело его обмундирование и манило в путь, будто обещая унять его страдание. Он поднялся. Ирина не проснулась.
Да, надо уезжать…
Часть третья
1
18/1 1942 г. Боевой вылет с бомбометанием по аэродрому Мокрая (Запорожье). Высота – 1500 м. Время полета – 2 ч. 46 м…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Говорят, на войне привыкают ко всему. Может, и правду говорят. Меньшйков тоже привык ко многому: к обстрелам и бомбежкам, к недосыпанию и недоеданию, к внезапным перебазированиям и продолжению боевой работы без многих подручных средств, следующих с наземным эшелоном; он научился спать в кабине самолета и на КП, сидя на табуретке у телефона, мог сутками не есть, перебиваясь сухарем или хлебной корочкой, запивая простой водицей. Не мог привыкнуть он к двум вещам: к потере боевых друзей и к пронзительным степным ветрам, дующим днем и ночью, при ясном небе и в ненастье на этом новом аэродроме под Сальском, куда перебазировался полк в начале ноября. На тридцатиградусном морозе – а эта зима выдалась особенно суровой – ветер казался адским. Моторы запускались плохо, приходилось подолгу их подогревать, печей и маслогреек не хватало, техники и механики выбивались из сил, пока готовили бомбардировщики к боевому вылету.
В это утро ветер был особенно злым. Он рвал уже слежавшиеся буруны снега, нес поземку и больно хлестал колючими иглами по лицу, пронизывал меховой комбинезон, как старую кисею. Меньшиков, прикрыв лицо крагами, торопливо шагал к командному пункту, с сочувствием поглядывая на авиаспециалистов, хлопочущих у раскаленных морозом машин в стеганых куртках на открытом всем ветрам юру. Поступил приказ произвести разведку аэродромов Мокрая, вблизи Запорожья, и Херсона. В полк вылетели представители штаба ДВА и дивизии. Но не задание и не высокие начальники волновали майора. Мысли его в данный момент были далеко от них. В голове занозой сидели брошенные вчера как бы невзначай слова капитана Петровского: «Искусство командовать – не в умении повелевать, посылать на смерть во имя достижения цели; искусство командовать в том, чтобы в решительную минуту не бояться взять на себя ответственность за судьбу вверенных тебе людей».
Три недели провалялся Меньшиков на больничной койке, мучимый кошмарными видениями взрывов и стрельб на Сакском аэродроме, мыслью, что виноват в гибели Гордецкого, Деревянко, Петровского и всех тех, кто остался с ним в группе прикрытия.
Пока он лежал в лазарете, полком командовал его заместитель майор Омельченко: посылал экипажи на боевые задания, руководил работами по оборудованию аэродрома для ночных полетов, по созданию укрытий для техники и личного состава, организовывал снабжение питанием и всеми другими необходимыми видами довольствия. Дело это было нелегкое: на новом месте, когда у местных начальников в этой сложной обстановке имелись свои, не менее трудные, задачи, было не до них. Надо было обладать исключительной выдержкой, настойчивостью, умением неотступно и дипломатично вести длительные переговоры, прикидываться, если надо, незнайкой, а порой и превышать свои полномочия.
Омельченко имел немалый опыт работы заместителем командира полка, и, если бы не его командировка в канун войны в Монинскую академию, где он задержался чуть ли не на два месяца, полк возглавил бы он. Меньшиков, лежа в лазарете, не раз жалел, что такого не случилось: Омельченко оказался тверже характером, энергичнее, целеустремленнее. Он не раскис ни после потерь на Сакском аэродроме, ни за время своего единоличного командования, когда посланные им на боевое задание экипажи не возвращались. Правда, подчиненные почему-то недолюбливали Омельченко, и, когда Меньшиков вернулся в полк, летчики и штурманы встретили его бурным ликованием. «Ну какое отношение чувства имеют к делу? – рассуждал Меньшиков. – Требовательных командиров чаще всего недолюбливают…» С другой стороны, Петровский прав: «Искусство командовать – не в умении повелевать, посылать на смерть во имя достижения цели; искусство командовать в том, чтобы в решительную минуту не бояться взять на себя ответственность за судьбу вверенных тебе людей».
А как поступил бы Омельченко на Сакском аэродроме, будь он командиром? Как-то Меньшиков спросил у него об этом. Заместитель ответил уклончиво:
– К счастью или к сожалению, такой возможности мне не представилось.
Вот и понимай как хочешь…
Меньшиков не успел дойти до КП, как услышал сквозь вой ветра рокот моторов. Поднял голову и увидел заходивший на посадку Ли-2. С чем пожаловали представители штаба дальней бомбардировочной авиации и дивизии?
Ли-2 приземлился и порулил на самолетную стоянку, куда уже мчалась эмка, вызванная Меньшиковым из автопарка.
Из самолета по трапу на землю спустились генерал-майор, невысокий, коренастый, лет пятидесяти, и полковник, начальник политотдела дивизии.
Генерал выслушал рапорт командира полка до конца, подал руку, но как-то холодно, в силу необходимости, и поспешил в машину – ветер, видно, пробирал его насквозь.
– Разрешите с вами? – спросил Меньшиков.
Генерал кивнул на заднее сиденье.
Меньшиков подождал, пока сядет полковник, и примостился рядом с ним.
– Во сколько вылет на разведку? – Генерал посмотрел на часы.
– Через час двадцать, – ответил Меньшиков.
– Тогда давай на КП. – Шофер включил скорость.
Командный пункт располагался в одном из деревянных аэродромных домиков, продуваемых всеми ветрами. В небольшой комнате руководителя полетов, заставленной телефонами и радиоаппаратурой, было тесно и неуютно, зато от раскаленной докрасна «буржуйки» веяло спасительным теплом, и генерал сразу подобрел, сунул руки к печке, крякнул от удовольствия. Погрел руки, глянул на дежурного по полетам и радиста:
– Никого в воздухе нет?
– Пока нет, товарищ генерал, – ответил руководитель полетов.
– Тогда я вас попрошу: оставьте нас минут на пятнадцать.
Руководитель полетов и радист моментально исчезли. Генерал отошел от печки, сел во вращающееся кресло.
– Ну, рассказывайте, майор, как воюем, как выполняем приказ Ставки и лично товарища Сталина?
– Неплохо воюем, товарищ генерал. Два дня назад на железнодорожной станции Чаплино серией бомб разрушена казарма и столовая немцев. По имеющимся у нас данным, там погибла не одна сотня солдат и офицеров. Двенадцатого января наши бомбардировщики в Павловграде накрыли штаб немецкой дивизии – прямое попадание. Так что приказ Ставки и лично товарища Сталина выполняем.
– Так… А сколько экипажей планируете сегодня для удара по Мариуполю?
– Пять, товарищ генерал.
– Почему так мало?
– Не успеваем подготовить. Техсостав и сейчас трудится. Не хватает подогревательных печей, маслогрейка мала. И самолеты, сами знаете, битые-перебитые, требуют особого ухода.
– Какие будут пожелания, просьбы? – Вот теперь тон генерала спал.
– Пожелания, просьбы, разумеется, будут, – отозвался на доверительность Меньшиков. – Главное пожелание – пополнить полк новыми боевыми машинами. И летаем очень уж далеко, товарищ генерал. Фрицев за Миус отогнали, а мы сидим здесь, за полтысячи километров, по три часа моторы греем, чтобы запустить их. Какая уж тут боевая отдача?
Генерал отошел от окна, глянул на полковника, словно в чем-то его осуждал, потом на Меньшикова.
– А это вот дело говорите: больше на борьбу с морозом сил уходит, чем с фашистами. Где вы раньше базировались?
– В Михайловке. Недалеко от Ростова.
– Кто там сейчас?
Меньшиков пожал плечами:
– Наверное, никого.
– Хорошо. – Генерал повернулся к начальнику политотдела. – Вы тут работайте, Виктор Иванович, а мы займемся вопросом перебазирования. Что же касается новых самолетов, – это снова к Меньшикову, – придется пока подождать. Но будут, будут новые самолеты.
2
…За 17 января уничтожено 15 немецких самолетов…
(От Советского информбюро)Ли-2 летел над самой землей, и Меньшиков, глядя в иллюминатор, видел ровные покрытые снегом поля без конца и края, наметенные кое-где сугробы, клубящуюся поземку. Редко попадались небольшие селения с приземистыми, крытыми соломой хатенками, занесенными почти под самые крыши снегом, безлюдные, пустынные. И ни клочка леса – снежная пустыня, да и только.
Но чем дальше тянули моторы самолет и подгонял его ветер, тем чаще попадались селения, тем холмистее и неровнее становилась земля; у домов – это уже были не хатенки, а дома, крытые железом или черепицей, – начали появляться палисадники, сады. И это волновало Меньшикова, казалось более близким, родным.
Они летели на старое место базирования, можно сказать, к себе домой. Правда, Михайловский аэродром не Сакский, это даже не аэродром, а большой, с чуть заметным покатом луг с неширокой речушкой-переплюйкой без названия, в которой воробью по колено. На лугу до войны размещалась районная МТС. Излишком жилплощади работники машинно-тракторной станции не располагали – три домика, клуб да мастерская, но их хватило для сильно поредевшего полка и БАО: в клубе разместился летный состав, один дом занял штаб, другой отвели под столовую, в третьем посменно отдыхали авиаспециалисты. Вырыли еще несколько землянок под складские и другие нужды.
Травяной покров луга и покатость, не задерживающая воду, позволяли летать с этого аэродрома до поздних осенних дождей. В ноябре, правда, полку пришлось покинуть аэродром не из-за ненастья, а из-за фашистов – их войска прорвались к Ростову. Теперь немцы за Миусом, снега в Ростовской области выпадает мало, его можно либо укатать, либо расчистить. Да и весна не за горами – здесь, как и в Крыму, в феврале теплеет.
От одной только мысли о тихой погоде с щедрым солнцем ему захотелось как можно быстрее вырваться из Сальских степей от сухих трескучих морозов, от пронизывающих ветров. Здесь и земля щедрее, и люди позажиточнее, подобрее, и все артерии снабжения войск проходят. А у сытого бойца и настроение лучше, и воюет он азартнее…
Не опередили ли их? Аэродром мог приглянуться фронтовой авиации – истребителям, штурмовикам, легким бомбардировщикам. И согласится ли на перебазирование командующий фронтом?
Впереди показалась длинная, вытянутая вдоль реки станица. «Михайловка», – узнал Меньшиков. В трех километрах от нее – их бывший полевой аэродром.
Ли-2 накренился и стал виражить над станицей. Меньшиков на окраине увидел мальчишек, катающихся с горки на досках: санок здесь не строят из-за малоснежной зимы. Только этот год выдался необычно холодным, метельным.
Вот и аэродромное поле. Все пусто, припорошено чистым белым снегом. Пустить трактор с волокушей, а потом с катком – и через сутки взлетно-посадочная полоса будет готова… И домики стоят целехонькие, манящие теплом, уютом. С каким наслаждением Меньшиков поспал бы сейчас на пахнущем сене, которое тогда было настелено прямо на полу клуба, на сцене, где разместился командный состав.
– А что, – прокричал генерал, кивнув за иллюминатор, – приятное местечко! Станица, правда, близковато, разве удержишь своих орлов?
– Удержим. Не такие они уж разгильдяи, товарищ генерал. Сами знаете, сколько на их счету вражеских самолетов, эшелонов, танков, переправ, – возразил Меньшиков.
Ли-2 сделал круг над бывшим аэродромом и взял курс на юг. Приземлился чуть ли не на окраине Ростова, где, прикрытые невысокими капонирами с натянутыми сетками, стояли истребители.
Генерала встретил худощавый энергичный капитан, командир БАО, отдал рапорт и, выяснив, что генералу требуется машина для поездки к командующему фронтом, отправился ее искать. Вернулся минут через семь на помятой, обшарпанной полуторке с «лысыми» колесами.
– Вот, товарищ генерал, грузовая; другой, к сожалению, нет. Зато шофер – экстра-класс, в два счета домчит до штаба, и Ростов знает как свои пять пальцев.
На лучшее генерал, видно, и не рассчитывал. Заглянул в кабину, поздоровался с шофером. Поблагодарив капитана, спросил у Меньшикова:
– Не замерзнете в кузове? Или, может, здесь, на аэродроме, меня подождете?
– Не замерзну.
Полуторка, гремя своими поизносившимися железками, катила по искалеченным снарядами и бомбами улицам мимо груд кирпичей, мимо каменных коробок с пустыми глазницами окон, и у Меньшикова сердце сжималось от жалости к еще совсем недавно одному из красивейших городов, которые ему довелось видеть, который он любил за зелень каштанов, акаций и лип, за великолепную архитектуру, за ровные широкие улицы. Теперь все было черно, затхло, удручающе. Будто и не росли по обочинам деревья, не сияли мрамором колонн белокаменные здания. Следы войны виднелись всюду, редкие строения не были посечены осколками, пулями.
У одного из таких домов, почти не пострадавшего от бомбежек и обстрелов, со всеми стеклами окон, правда, заклеенных крест-накрест полосками бумаги, полуторка остановилась. У подъезда с автоматом на груди стоял часовой. Генерал вышел из машины и кивнул Меньшикову: следуйте за мной.
Часовой внимательно проверил документы, нажал на кнопку звонка, и почти в ту же секунду появился дежурный офицер с красной повязкой на рукаве. Выяснив цель прибытия генерала, дежурный сказал, что у командующего фронтом совещание. Лишь после настойчивого требования доложить командующему о том, что к нему прибыл представитель штаба дальнебомбардировочной авиации генерал Петрухин, дежурный отправился в приемную. Вернулся довольно быстро и без прежней властной категоричности, взметнув руку к козырьку, произнес:
– Командующий ждет вас.
Ждать генерала Петрухина пришлось долго. И когда он вышел, по его довольному лицу Меньшиков понял: дела неплохи. И не ошибся.
– Все в порядке, – сказал генерал, надевая шинель. – Командующий дал «добро». Надо только аэродром с замом по тылу согласовать. А его сегодня не будет. – Он взглянул на часы. – Ого! Не зря я чертовски проголодался.
3
…За 18 января под Москвой сбито 3 немецких самолета…
(От Советского информбюро)Меньшиков до самого вечера сидел за телефонами: созванивался со штабом армии и дивизии, с тыловыми частями, со своим полком – с начальниками и подчиненными, – выпрашивал, заказывал, приказывал. На случай перебазирования надо было не только подготовить взлетно-посадочную полосу, но и запасти горючее, бомбы, чтобы в тот же день совершить боевые вылеты.
Когда дела были закончены, его снова увидел генерал Петрухин.
– Вы все еще здесь, Федор Иванович?
– Да вот утрясал кое-какие вопросы.
– Утрясли?
– Так точно.
– Вот и хорошо. Что теперь собираетесь делать?
– Да, наверное, отдыхать пойду, – неуверенно ответил Меньшиков, ожидая от генерала новую вводную.
– Отдохнуть не мешало бы. Да и в кои веки в город вырвались и вечер свободный выдался. Может, в театр махнем? Он только что вернулся из эвакуации и сегодня открывает гастроли.
– Я с удовольствием.
Они отправились к театру пешком. Проспект Ленина был разрушен не очень сильно по сравнению с той улицей, по которой они ехали и они наслаждались тихой морозной погодой, ничего похожего не имеющей с сальскими ветрами, легкими пушистыми снежинками, пахнущими морем и навевающими довоенный Сакский аэродром. Их не огорчало даже то, что улицы были пустынны – редко, очень редко встречались прохожие, и большей частью военные.
Около театра прохаживались два лейтенанта-артиллериста да девчушка лет семнадцати – кого-то поджидали.
По бокам центрального входа висели красочные афиши с портретом симпатичной молодой женщины в кружевном пеньюаре с распущенными по плечам волосами.
– «Отелло», – прочитал Петрухин и причмокнул губами. – Недурственна. Очень недурственна.
Меньшиков хотел обратиться к девчушке с вопросом, где билетные кассы, когда к ним из дверей фойе направился немолодой мужчина в штатском.
– Здравствуйте, товарищ генерал и товарищ майор, – приветливо поздоровался он как со старыми знакомыми и представился: – Администратор театра Семен Яковлевич Гольдин. Прошу, – указал он рукою на дверь.
Меньшиков подивился распорядительности генерала: когда это он успел связаться с театром? Или кто-то из его знакомых предупредил администрацию о желании московского генерала побывать на премьере?.. Встречают как освободителей города. А не спутал ли их Семен Яковлевич с кем-то?..
– Мы еще билеты не взяли, – сказал Меньшиков, желая разобраться в ситуации.
– Никаких билетов, – возразил Семен Яковлевич. – Вы наши гости.
Меньшиков так пока ничего и не понял.
Фойе и зал были полупустые, хотя до начала спектакля оставалось десять минут. И это несколько успокоило Меньшикова: похоже, ждали именно их.
Администратор завел генерала и майора в директорский кабинет, помог им снять шинели и проводил их в ложу.
– После спектакля, если я, паче чаяния, задержусь где-нибудь, вы не уходите, дождитесь меня. Ведь у нас сегодня, по существу, открытие сезона.
Когда он ушел, генерал озабоченно почесал подбородок, загадочно и с присущей ему лукавинкой глянул в глаза Меньшикову и чему-то усмехнулся. То ли укорял: а ты – отдыхать, видишь, с какими почестями нас встречают? Генералу почести по праву, а ему-то с какой стати? Тем более, похоже, банкет затевается: «Ведь у нас сегодня, по существу, открытие сезона».
Играли «Отелло», спектакль, далекий от современной жизни, трагедию о большой и несчастной любви, заставляющей забыть войну и, быть может, потому так впечатляющую, навевающую прежние лучшие годы: знакомство с Зинушей, встречи весенними вечерами, когда терпкая зелень дурманила их своим запахом, вливала в душу нежные возвышенные чувства. Меньшиков смотрел на сцену, а вместо Дездемоны видел жену, и слова любви Отелло были как бы его словами…
Лишь в середине января ему удалось вырваться в Москву. Зина писала, что у нее будут каникулы, но она никуда не поедет. И хотя в письмах она ни словом не обмолвилась о своих чувствах к нему, он между строк читал, что ждет она его с нетерпением.
Было воскресенье. Он приехал в столицу в рань-раньскую и до общежития добрался, когда не было еще и девяти. К своему большому удивлению и огорчению, Зину он уже не застал, – …Полчаса уже, как убежала, – сообщила вахтерша, сочувственно причмокнув губами. – Теперь только вечером вернется. Так завсегда они… – А с кем она? – вырвалось у Меньшикова, и лицо его загорелось от стыда: вахтерша конечно же уловила в его голосе нотки ревности – губы ее дрогнули в улыбке.
– Да с подружками своими, Кланькой да Аськой, – попыталась она успокоить военного летчика.
– И куда же они убежали? – более равнодушно спросил Меньшиков.
Глаза вахтерши метнулись в сторону, и Меньшикову показалось, что в них таится хитринка. Знает она, где Зина. Но ответила женщина другое:
– У них дорог много. Сегодня сюда, завтра туда. Молодежь…
Меньшиков почувствовал на себе взгляд и обернулся. Сбоку стояла стройная симпатичная девушка в спортивном костюме, жуя яблоко, с любопытством и бесцеремонностью рассматривая его.
– А вы кто ей будете? – задала вопрос девушка.
Меньшиков смутился. Действительно, кто? Сказать, что брат… От одной мысли ему стало неловко.
– Да так, знакомый.
– Просто знакомым тетя Нюра адресов не дает, – категорично и с иронией заметила девушка, осуждая то ли тетю Нюру, то ли Меньшикова. – Вот если бы вы были Зине другом… – Девушка кокетливо подбоченилась, пристально заглядывая ему в глаза.
– Само собой, – признался он.
– Вот это другое дело! – обрадованно воскликнула девушка. – Не мучьте его, тетя Нюра, скажите, где Зина. Все равно товарищ военный узнает… И зачем томить его напрасно до вечера? Ведь все равно он будет ее ждать. – Она посмотрела на Меньшикова, требуя подтверждения ее слов. Он кивнул.
– Ох и болтушка ты, Люська, – недовольно проворчала вахтерша. – Вечно встрянешь… И какое твое дело?
– Экая вы несознательная, тетя Нюра, – стала укорять ее девушка. – Уважаемый человек, военный летчик, обратился к вам, а вы… Может, они друзья детства, может… Да и мало ли что «может»… Скажите же ему, где искать Зину.
– Знамо где… – Тетя Нюра опустила глаза. – Все там же, на Госпитальном валу.
– И в том же доме?
Вахтерша кивнула.
– Вы знаете, где это? – обратилась девушка к Меньшикову.
– Нет. Но найду. Подскажите только номер дома, квартиру.
– Я вас провожу, – вызвалась девушка. – Мне как раз в ту сторону. Подождите, я переоденусь…
Дорогой Люся рассказала, что Зина и еще три девушки устроились в домоуправлении на подрядную работу и по выходным дням, а иногда и вечерами – теперь вот во время каникул – ремонтируют квартиры: белят, красят, обклеивают обоями.
– …Клаву и Асю я понимаю, – осуждающе говорила Люся, – у них родители бедные, живут в селе. А у Зины отец врач. Но, видите ли, она слишком гордая, чтобы просить у них помощи…
«Так вот откуда у Зины появились деньги, чтобы вернуть ему долг». Меньшиков запоздало ругал себя: не придал этому значения, считал, что деньги прислали родители, и не спросил, наладила ли она с ними отношения. Оказывается, не наладила…
Еще в детстве отец не раз говорил Меньшикову: «Если хочешь узнать человека, посмотри на его руки…» И когда он увидел Зину в комбинезоне и платочке, забрызганных мелом, ее руки, изъеденные известью, сердце его сжалось от жалости.
Зину его появление ошеломило. Она застыла с щеткой в руке как изваяние, не ответив на его «здравствуйте». Смущены были и подруги – вид у них был не для свидания.
Надо было как-то разрядить обстановку, и Меньшиков сказал весело:
– Бог в помощь, прекрасные амазонки! Ну-ка, ну-ка, проверим, что вы тут натворили. – Обвел потолок, стены внимательным взглядом. – А что, очень даже здорово. И кто у вас тут главный?
Ободренные его веселым голосом, девушки заулыбались и единодушно указали взглядом на Зину.
– Она не только главная, – осмелела одна девушка, – она у нас и самая прилежная, самая умелая.
– Вот именно такую я давно ищу невесту, – пошутил Меньшиков, и его шутку тут же подхватили. Девушки побросали кисти, щетки, обступили его и засыпали вопросами:
«А когда свадьба?», «Разрешается ли летчикам венчаться?», «Будет ли свадебное путешествие на самолете?»…
Так, по существу, он сделал Зине предложение. Свадьбу они сыграли через месяц. Правда, это скорее была вечеринка в ресторане с его друзьями и ее подругами, без родителей (старики Меньшикова приехать не могли, а Зинины не пожелали), без посаженых отца и матери, без крестных и вообще без всяких свадебных обрядов и церемоний.
А через полгода Меньшиков получил назначение к новому месту службы. И стала кочевать с ним любящая и любимая Зинуша по дальним и ближним гарнизонам, принеся ему в жертву свою учебу, свою мечту стать учительницей, свою судьбу. Любовь к мужу, а потом и к дочери одержала верх надо всем. И она ни разу не пожаловалась, не пожалела ни о чем, не упрекнула мужа за нелегкую кочевую жизнь. Она всегда понимала его, и ему всегда с ней было легко и просто…
Когда в зале вспыхнул свет и Петрухин поднялся, Меньшиков заметил, как пристально за ними наблюдает невысокий упитанный полковник со второго ряда. «Наверное, знакомый Петрухина», – подумал Меньшиков и сказал об этом Петрухину. Генерал повернул голову.
– Да, немного знакомы. Это тот самый зам по тылу, к которому завтра идти. Полковник Журавский.
На выходе из ложи Петрухина и Меньшикова поджидал Семен Яковлевич.
– Идемте, я познакомлю вас с главным режиссером и директором театра…
Весь антракт они провели за кулисами. Знакомились с руководителями театра, художником, гримером. Семен Яковлевич сумел даже представить им двух местных звезд, актрис Елену Дубосекову и Земфиру Муссинбаеву, исполнительниц ролей Дездемоны и жены Яго.
Обе были премиленькие, прехорошенькие, Елене – лет двадцать пять, Земфире – не более тридцати; и Меньшиков заметил, как Петрухин сразу весь подобрался, подтянулся, будто помолодел лет на десять. Он галантно раскланялся перед актрисами, поцеловал им ручки и продекламировал, подражая Отелло:
– «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним…» Недурственно, очень недурственно. Кое-где, правда, переигрывает мавр, чрезмерно басит. Не находите?
– Да-да, – согласилась Дездемона. – Ему уже говорили не раз, а он увлекается и забывает…
Актрисы сделали книксен и со словами: «Надеемся, еще увидимся» – убежали. Генерал и Меньшиков вернулись в ложу.
– Ну что, Федор Иванович, где наши двадцать пять? – усмехнулся Петрухин. – Хотя вам-то что… Это мне, старику, пятый десяток накручивает. Н-да, – вздохнул он. – А недурственны, чертовски, очень недурственны.
Меньшиков снова обнаружил, что полковник посматривал в их сторону.
Улизнуть Меньшикову перед концом спектакля не удалось. Петрухин просто не отпустил его, даже пожурил:
– Нехорошо, Федор Иванович, не по-джентльменски. Нас представили, познакомили, и не зайти не сказать спасибо – просто неприлично.
Семен Яковлевич повел их в репетиторскую. Там собрались почти все актеры. Задержались в своих уборных Дездемона и Отелло – грим смывали, – но, пока Петрухин и Меньшиков знакомились с остальными, подошли и они. Елена и Земфира на правах старых знакомых взяли шефство над военными, повели их к небогато накрытому столу: на тарелочках лежали бутерброды с колбасой и рядом стояли рюмки, наполненные водкой.
Главный режиссер произнес речь:
– Дорогие товарищи! Сегодня у нас счастливый день: мы снова в нашем родном городе, снова играем на нашей сцене. И это благодаря нашей доблестной Красной армии, представители которой присутствуют у нас. Это одни из тех, кто освобождал наш город, кто гонит врага вспять. Так выпьем же за нашу Красную армию, за скорую победу над врагом!
К генералу и Меньшикову потянулись руки с рюмками, зазвенело стекло. Репетиторская наполнилась веселыми, радостными голосами, смехом.
Петрухин и Меньшиков уходили из театра возвышенные, одухотворенные, забыв на время о войне, о вчерашних и завтрашних трудностях.
Когда вышли на улицу, Меньшиков высказал закравшееся ранее подозрение:
– Товарищ генерал, похоже, они приняли нас за кого-то другого.
– Похоже, – усмехнулся Петрухин и подмигнул: – А что, мы тоже, кажется, неплохо сыграли роль непосредственных освободителей города…
4
За 19 января части нашей авиации уничтожили 39 немецких танков, 2 бронемашины, более 730 автомашин с войсками и грузами…
(От Советского информбюро)Утром Меньшиков явился к заместителю командующего ВВС фронта по тылу, тому самому упитанному полковнику, который пристально поглядывал на них в театре. Журавский поздоровался с Меньшиковым за руку и с усмешечкой спросил:
– Как отдыхали, летчики-молодчики?
– Спасибо, товарищ полковник, хорошо отдыхали, – ответил Меньшиков. – В гостинице натоплено, правда, не жарко, но вполне терпимо.
– Еще бы! – совсем развеселился полковник. – После банкета с молоденькими актрисочками. – Он расхохотался, беззлобно погрозил: – Ну, летчики-налетчики! Нигде не прозевают. Мой генерал задержался, а они тут как тут…
– Присаживайтесь, – хозяйским жестом указал он на стул и прошел за стол. – Из какой дивизии, перехватчики? Что-то я вас не помню.
– Из дальней бомбардировочной, – сказал Меньшиков.
– Из дальней? – удивленно вскинул бровь Журавский. – Вот не знал, что вы освобождали Ростов.
– Как же… – Удивление полковника несколько смутило Меньшикова. – Наши летчики много тут всякой вражеской техники накрошили.
– За что вас персонально и пригласили на открытие гастролей? – съязвил Журавский и уселся по-хозяйски за стол. Перекинул листок календаря, спросил официально, строго: – А с чем ко мне пожаловали?
– Наш двадцать первый полк… – стал объяснять Меньшиков, но Журавский перебил:
– Двадцать первый? Помню, помню. – Посмотрел на Меньшикова. – Тот самый, что на Сакском аэродроме сидел?
– Так точно.
– А вы командир, майор… майор?..
– Меньшиков.
– Да-да, Меньшиков. Тот, что на аэродроме паниковал?..
Теперь Меньшиков узнал голос: «Твои летчики либо от страха ориентировку потеряли, либо немецкие танки с нашими спутали…» Так вот каков этот хозяин аэродромов!..
И голова будто бы умная: с высоким лбом, большими залысинами; и вид наполеоновский – смотрит свысока, полководчески… Неужто он до сих пор не знает, что случилось на Сакском аэродроме?.. И Меньшиков не сдержался:
– Да, товарищ полковник, это я паниковал. За своих подчиненных беспокоился. А чье-то хладнокровие стоило им восьмидесяти жизней.
– А как же ты хотел, майор? – Журавский встал, вышел из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Он и в самом деле чем-то походил на французского полководца – ниже среднего роста, с выступающим животиком, нос небольшой, с горбинкой, двойной подбородок. – На войне и стреляют, и убивают. – Остановился напротив Меньшикова, взглянул на часы. – Так по какому вы делу?
– В настоящее время полк базируется под Сальском, – встал и Меньшиков. – Летать оттуда далеко, бесцельно жжем бензин, масло, расходуем моторесурс.
– На то вы и дальнебомбардировочная, – вставил Журавский. – Зато подальше от фронта.
– Вот мы и хотели бы поближе к фронту. До Сальска полк сидел под Михайловкой на полевом аэродроме…
– Понял вашу идею. – Журавский пристукнул рукой по столу, словно поставил печать. – Не выйдет. На этот аэродром мы посадим ближнебомбардировочную или истребителей. – Полковник повернулся и пошел на свое место, давая понять, что разговор окончен.
«А ведь он никого не собирается туда сажать», – мелькнула догадка у Меньшикова. Ему не раз приходилось встречаться с такими начальниками, которые любую идею подчиненных отвергали лишь только потому, что исходила она не от них, чтобы показать себя мудрее: они начальники, им и по штату положено выдвигать прожекты, а подчиненным – беспрекословно их выполнять. Журавский и там, на Сакском аэродроме, пресек Меньшикова, потому что считал, что лучше разбирается в обстановке, видит дальше и глубже. Чтобы убедиться в своей догадке, Меньшиков рискнул пойти на эксперимент.
– Вообще-то вы правы, товарищ полковник. Там у нас и аэродром стационарный, и жилье капитальное. А тут в палатках придется мерзнуть, того и гляди немецкая авиация шандарахнет. Но начальство не понимает… Пусть вначале ближнебомбардировочная и истребители путь нам расчистят…
Мина сработала. Журавский даже красными пятнами покрылся от такого признания. Круто повернулся и остановился напротив майора, пронзил его презрительным взглядом.
– Ах, вон оно что… С Сакского аэродрома спешили в тыл и теперь надеетесь отсидеться там, пока вам дорожку в небе расчистят ближние бомбардировщики да истребители? Не выйдет! И чтобы служба вам не показалась медом, приказываю завтра же перебазироваться в Михайловку…
5
2/II 1942 г….Боевой вылет с бомбометанием по аэродрому Херсон…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Новый аэродром, а вернее, старый – летчики хотя и мало летали на нем, но успели полюбить его за простор, за сытую жизнь (колхозы снабжали их свежим мясом, овощами, фруктами), за везение (полк не потерял здесь ни одного бомбардировщика) – благоприятно подействовал на личный состав: лица летчиков и техников повеселели, в дни нелетной погоды, когда общежития не пустовали, окна дрожали от хохота, от задорных песен, от баяна, на котором виртуозно играл старшина Королев, воздушный стрелок из экипажа Меньшикова.
Хорошему настроению, правда, способствовали не только перебазирование и теплая погода – южные ветры несли уже оттепель, – но и боевые успехи: полк нанес ряд ударов по Мариупольскому и Харьковскому заводам, где немцы наладили ремонт танков, по Херсонскому и Николаевскому аэродромам, по портам и железнодорожным узлам с вражеской техникой. За боевые достижения Меньшикову и многим его подчиненным присвоили очередные воинские звания, а главное, полк, который был на грани расформирования из-за больших потерь, снова стал расти – прибыло пополнение из училищ, из госпиталей. За две недели вернулись восемь человек – летчики, штурманы, воздушные стрелки и стрелки-радисты, считавшиеся погибшими. А сегодня утром из госпиталя прибыл лейтенант Туманов. Меньшиков так обрадовался, словно дождался родного сына: обнял его и расцеловал. Правда, в санкарте, которую привез с собой лейтенант, было записано, что он нуждается в стационарном лечении, постоянном наблюдении врачей и, разумеется, к летной работе не допускается. Но важно, что он вернулся в полк, к фронтовым товарищам, к самолетам. Рвется в небо, утверждает, что чувствует себя хорошо. И дай-то бог. Для настоящего летчика полеты что воздух – без них он зачахнет. А врачи, они тоже люди и могут ошибаться. Во всяком случае, он, командир полка, сделает все, чтобы вернуть лейтенанта к летной работе. Хорошего помощника Меньшиков обрел и в заместителе по летной подготовке майоре Омельченко, богатырского сложения летчике, бывшем заводском испытателе.
– Туман редеет, товарищ подполковник, – доложил Омельченко. – Через часок можно взлетать.
– Экипаж и самолет готовы?
– Как учили, – ответил Омельченко своей любимой поговоркой. – Ночью на Харьков?
– На Полтаву, – уточнил Меньшиков. – Эскадра «Удет» там обосновалась.
– А как с прибывшими?
– Как и планировали. Вначале я слетаю с ними, дам провозные – и на боевое задание. А вот кого к Туманову в экипаж подберем?
– Так он же не допущен к летной работе! – не понял командира заместитель.
– Кем?
– Врачами, – уточнил Омельченко. – Разве вы не читали его санкарту? Он же в корсете ходит.
– Читал. И про корсет слыхал. Но мы-то с тобой командиры или администраторы бездушные? Туманова надо поддержать верой в его силы, в способности, подбодрить.
– Понял, товарищ подполковник В таком случае можно Серебряного.
– Можно, – согласился Меньшиков. Но кандидатура пришлась ему не по душе. Серебряный прибыл в полк недавно из другой часта. Судя по летной книжке, налетал более двухсот часов, совершил двенадцать боевых вылетов. А полетел с тем же Омельченко – забыл на боевом курсе включить тумблер электросброса бомб, во втором полете и того хуже: чуть не потерял ориентировку. Нервный, суетливый, вспыльчивый. Любит выпить…
Омельченко, видно, догадался, чем озадачен командир, пояснил свой довод:
– У Туманова отличная выдержка, такт, он сумеет урезонить этого ветрогона.
– Будем надеяться. А радиста и стрелка?
– И радист со стрелком есть – Сурдоленко с Агеевым. Хорошие ребята. У Сурдоленко золотые руки, Агеев на счету имеет двух «мессеров».
Кандидатуру Агеева Меньшиков принял безоговорочно. А вот Сурдоленко… У парня действительно золотые руки, безотказный помощник авиаспециалистов – что ему ни поручи, все сделает. Грамотный, толковый парень, с последнего курса мединститута ушел в авиацию. И он, пожалуй, больше принесет пользы на земле, чем в небе. Но Омельченко и тут имел веский довод:
– Сурдоленко затем и бросил медицину, чтобы летать. Он уже зачеты начальнику связи полка по морзянке сдал. Подрезать ему крылья тоже непедагогично.
– Ну что ж, Сурдоленко так Сурдоленко, – кивнул Меньшиков.
6
23/II 1942 г….Боевые вылеты не состоялись из-за тумана…
(Из боевого донесения)23 февраля, в День Красной армии, погода резко начала меняться: с Азовского моря подул теплый ветер и к полудню аэродром затянуло густым туманом. О полетах не могло быть и речи, и Меньшиков разрешил работникам столовой накрыть на ужин столы по-праздничному, а в 18 часов объявил общее построение полка для зачитки приказа Верховного главнокомандующего.
После обеда Александр хотел навестить Риту – она отдыхала перед дежурством, – но его увидел Меньшиков и нарушил все планы.
– Александр Васильевич, – обратился он к лейтенанту не как к подчиненному, а как к давнишнему приятелю, – к нам в полк прибыли девушки. На пополнение. В авиации они, сами понимаете, ничего не смыслят. А надо как можно скорее подготовить из них мотористов, прибористов, вооруженцев. Но вначале надо определить их, кого куда с учетом образования и способностей. Думаю, вы хорошо с этим справитесь. Сейчас девушки в штабе, ступайте и займитесь ими.
Их оказалось десять человек – молоденьких девушек, обмундированных в новенькие, еще топорщившиеся гимнастерки и юбочки, коротко подстриженных, очень похожих друг на друга, озорных, бойких на язык. Они, едва лейтенант представился и открыл цель своего прихода, окружили его и засыпали вопросами: будет ли лейтенант учить их, кто он по профессии – летчик или штурман, женатый или холостой. Поняв, что с каждым его ответом число вопросов растет в арифметической прогрессии, Туманов выбрал из всех самую говорливую и протянул ей лист бумаги:
– Составьте мне список девушек по алфавиту и по этому списку заходите ко мне по одной в кабинет командира полка.
Как Александр ни старался быть с девушками строгим и сугубо официальным, как ни стремился побыстрее закончить «аттестование», он еле управился к началу построения. Семерых девушек отобрал в мотористы, одну – в прибористы и двух решил рекомендовать в БАО – очень уж они были хрупкие, нежные.
Отправив девушек в распоряжение старшины, Александр заторопился на построение.
Уже начинало темнеть. Густой туман ускорил наступление сумерек. Земля будто парила: теплый ветер растоплял последние остатки снега, поднимал лохматые клочья влаги и гнал их к северу.
«Вот и прикатила весна», – подумал Александр, не зная, радоваться ему или огорчаться. Полеты теперь надолго закроют: то туман не позволит, то аэродром раскиснет. С одной стороны, будет время подготовить как следует экипаж, научить воздушных стрелков бить без промаха по целям под различным ракурсом; с другой – весь полк будет бездействовать, а немцы, по всему, именно на юго-западе сосредоточивают силы. И по рассказам однополчан, летавших на разведку, и по сообщениям Совинформбюро.
На полпути к казарме – построение намечалось там – Александра догнал штурман, капитан Иван Серебряный, в распахнутом реглане, в лихо сдвинутой набок фуражке. Рассказывали, что он носил ее и в Сальске, не обращая внимания ни на сильные морозы, ни на ураганные ветры. Ему шел тридцатый год. Но то ли за маленький рост, то ли за ребяческий, дурашливый характер все, старшие и младшие, называли его просто Ваней, подшучивали над ним и подтрунивали, кто как мог. Серебряный же шуток не понимал, «заводился», как говорили остряки, «с полоборота», и это еще более подогревало любителей позубоскалить. Александру же что-то в Серебряном нравилось, и они сошлись быстро.
– Построение на полчаса откладывается, – сообщил Серебряный. – Шефы наши еще не подъехали. Может, в деревню пока смотать?
– Не надо, – не поддержал инициативу штурмана Александр. – Я тебе свои сто граммов отдам.
– Да разве речь обо мне? – обиделся Серебряный. – Я себе и здесь достану.
Александр слышал, что его «штурманец» любит «подзаложить», но не придал значения слухам, а выходило – правда. Потому ответил более категорично:
– Не надо. О других начпрод позаботится.
Серебряный насупился и больше не обмолвился ни словом.
7
23 февраля 1942 г….Войска Северо-Западного и Калининского фронтов заняли города Холм, Торопец, Селижарово, Западная Двина, Оленино, Старая Торопа…
(От Советского информбюро)Полчаса на войне – время немалое, особенно когда тебя в эти минуты никто не тревожит, ничто не беспокоит. Александр весь день был на ногах, и раненая спина начала давать о себе знать, потому первым делом он решил отдохнуть. Только коснулся головой подушки, как сразу заснул. Разбудил его штурман, легонько тряся за плечо и приговаривая:
– Кес ке се, мусье, кес ке се… Храпит бестия командир, а там, того гляди, все вино выпьют. Мусье, а мусье, дьявол тебя побери!
Он был уже навеселе, лицо раскраснелось, глаза поблескивали, и весь он будто светился: бляха портупеи и пуговицы надраены; в хромовые сапоги с напущенными гармошкой голенищами хоть глядись, как в зеркало; на рукавах гимнастерки, на бриджах острые складки, фуражка набекрень, из-под козырька лихо спадает русый чубчик.
Лихой вид штурмана, его возбужденность разогнали сон Александра. Усталости и боли в пояснице не чувствовалось, и он поднялся, стал приводить себя в порядок.
Пока он подшивал свежий подворотничок, Серебряный докладывал последние новости: в полк приехала машина из соседнего села с женщинами и с председателем колхоза во главе, молодой казачкой. Привезли вина, фруктов. Ожидается грандиозный пир.
– А где ты успел хватить? – поинтересовался Александр.
– Где, командир, не спрашивай. А вот если хочешь, налью сто грамм. – Он похлопал по карману оттопыренных бриджей.
– Нет, не хочу, Ваня, и тебе больше не советую.
– Я тоже не хотел, но обидно, черт возьми. Вместе летали, бомбили, вместе на волосок от смерти были. А одним ордена и медали, а нам кукиш показали. Почему? Подумаешь – блуданул. Я ж не умышленно – компас барахлил…
– Не плачься, не посочувствую, – полушутя-полусерьезно сказал Александр. Ему не хотелось обижать штурмана, но то, что он потерял ориентировку в полете, было непростительно. Хорошо еще, что так кончилось, а сколько Александр знал случаев, когда из-за потери ориентировки гибли экипажи! Серебряный легко отделался – его сняли со штурмана звена. Но урок, кажется, не пошел впрок: вместо того, чтобы в свободное время позаниматься, Серебряный бражничает, волочится за каждой юбкой.
Туманов присматривался к своему штурману, и многое в нем казалось непонятным, противоречивым: Серебряный был начитан, эрудирован, имел отличную реакцию, но иногда у него образовывался провал в памяти и он нес околесицу; он был добр и покладист, но малейшая пустячная шутка порой выводила его из себя, и он с кулаками бросался на любого обидчика, будь тот хоть трижды здоровее. Значит, он не трус, а верит в сны: как огня боится покойников. Худшая из всех этих черт – пристрастие штурмана к спиртному. Серебряный частенько где-то добывал вино или водку, а напившись, становился несговорчивым, задиристым. Вот и теперь ответ Александра сильно задел его. Серебряный набычился, стал в позу.
– А я и не плачусь тебе, – сказал обидчиво. – Вижу, ты очень доволен, что тебя обошли. Ладно я – ориентировку потерял, а ты?.. На Бухарест летал, на Гребешув.
– Вот именно, – грустно усмехнулся Александр. – На втором же вылете сбили, как желторотую ворону. – Ему и в самом деле не было обидно, что его обошли орденами. Он объективно оценивал ситуацию – вернулся с задания один, без экипажа, полгода его не было в полку. Но Серебряный стоял на своем:
– Разве ты виноват, что тебя сбили?
– А кто? Фриц? Потому что точнее оказался? И хватит, Ваня, об этом. Мы не за ордена воюем. – Александр надел гимнастерку, застегнул портупею. – Казачки, говоришь, приехали?
– Целая машина! – оживился Серебряный. – Да тебе-то какое до них дело – твоя зазноба рядом. Кстати, я минут десять назад ее в БАО встретил. Интересовалась, где это ты запропастился, просила передать, чтобы ты обязательно разыскал ее сегодня.
«Надо после ужина сходить к Рите», – подумал Александр. Он уже три дня ее не видел, а Риту очень беспокоит его здоровье. А еще она боится, как бы в полк не нагрянул муж Ирины. Если он узнает, что какой-то летчик приезжал к его жене, установить, кто он и откуда, труда особого не составит…
Ирина прислала два письма Рите, когда Александр находился на излечении в санатории, очень осторожно, намеками, спрашивала о нем, просила писать ей до востребования, объяснив, что ушла от мужа и постоянного адреса пока не имеет. Возможно, и так. А скорее всего, домашний адрес она не указала, боясь, что письма могут попасть к мужу. Хотя, если он захочет, «до востребования» не спасут их.
Да, поездка в Москву была непродуманным и опрометчивым шагом: Гандыбин и в его судьбе может сыграть роковую роль. Рита каждый день ждет несчастья…
Александр и Серебряный вышли из казармы и направились к столовой, откуда уже доносились музыка, веселые голоса, смех. Однополчане толпились там, ожидая команды на построение, после которого состоится праздничный ужин с тостами, с танцами.
Почти совсем стемнело. Туман так загустел, что в двух шагах ничего не было видно. В столовой включили свет, не завесив окон. В такую погоду немецких самолетов можно не бояться: если и пролетит над аэродромом, все равно ничего не увидит. Правда, с юга потянул ветерок, слабый, едва приметный, но погода в этих краях, примечал Александр, непостоянна и капризна, как характер у южанок, – на дню десять перемен, особенно в переходное время года.
– К утру туман может разогнать, – высказал предположение Александр.
– Ерунда, – махнул штурман рукой в сторону аэродрома. – Это тебе не лето. Туман адвективный, с Азовского моря. Дня на три минимум закрыло. Так что, командир, можно отдыхать и веселиться.
На их голоса вышли Сурдоленко и Агеев.
– А где же ваши девочки, товарищ командир? – спросил Сурдоленко. – Нам сообщили – вам таких красоток доверили…
– Девочки есть, да не про вашу честь, – ответил за Александра Серебряный. – Ты хотя бы одеколоном освежился – до сих пор аптекой от тебя пахнет.
«Ну, началось, – усмехнулся Александр. – Сурдоленко действует на Серебряного, как красное полотнище на бодливого быка – сразу в бой бросается».
Сурдоленко ответил с усмешечкой:
– Точно, Ваня, пахнет аптекой. Для тебя ж лекарства ношу.
Агеев громко и искренне захохотал. Серебряный покусал губу.
– Коль носишь, дай тогда таблеточку, а то что-то внутри горит…
В это время в световом пятне от окон столовой появился подполковник Меньшиков. Начштаба запоздало скомандовал:
– Становись!
Не прошло и минуты, как полк выстроился ровной, плотной «коробочкой». Меньшиков зачитал приказ Верховного главнокомандующего, поздравлявшего личный состав с 24-й годовщиной Красной армии, и Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении летчиков, штурманов, воздушных стрелков и стрелков-радистов орденами и медалями.
– А теперь прошу на праздничный ужин, – пригласил жестом в столовую подполковник.
Дверь открылась, строй мгновенно рассыпался, и Туманов, словно увлеченный водоворотом, оказался в проеме. Он расставил локти в сторону, чтобы не надавили на поясницу, и его внесло в залитый светом зал со сдвинутыми буквой «П» столами, накрытыми белыми скатертями и заставленными закусками, графинами, стаканами.
Серебряный взял Александра под руку:
– Сядем рядом.
– Экипажем, – уточнил сзади Сурдоленко.
Так и сделали. Серебряный сел справа от командира, Сурдоленко и Агеев – слева, чтобы поменьше пикировались.
На самое видное, центральное, место Меньшиков провел женщин. То ли их необычный наряд – они были в вышитых русскими узорами белоснежных кофточках, на плечах – цветастые платки, – то ли Александр давно не видел женщин, они показались ему премилыми, несмотря на обветренные, загорелые по-летнему лица – весь день на ветру да на морозе.
Меньшиков подождал, пока все уселись и стук стульев и гул голосов затих, попросил наполнить стаканы.
– Товарищи, – сказал он, окидывая всех взглядом. – Сегодня у нас особенный день. Особенный не только потому, что отмечаем двадцать четвертую годовщину нашей славной Красной армии; сегодня мы и чествуем наших героев-однополчан, удостоенных высоких правительственных наград. Особенный и потому, что рядом с нами сидят замечательные женщины-труженицы, наши русские красавицы, заставляющие хотя бы на миг забыть о войне и обратить внимание на то, что на дворе уже весна. Весна, несущая нам тепло, цветы, волнения, чисто человеческие земные радости.
Я поднимаю этот стакан за то, чтобы весна принесла нам и самую желанную, самую большую радость – победу! Чтоб мы вот так собирались не только по праздникам, но и по выходным, чтобы слово «война» ушло в небытие и чтобы вместо выстрелов пушек мы слышали только выстрелы бутылок шампанского. За победу, товарищи!
8
24/II 1942 г….Боевые вылеты не состоялись по метеоусловиям…
(Из боевого донесения)Меньшиков, распростившись с гостями и посадив их в крытую грузовую машину, предназначенную специально для перевозки людей, неторопливо зашагал в штаб. Настроение было превосходное, спать совсем не хотелось, несмотря на то что встал он рано и целый день мотался по аэродрому, проверяя, как идет ремонт и профилактические работы на самолетах. Надо было как можно эффективнее использовать нелетную погоду, более тщательно осмотреть бомбардировщики, устранить большие и малые дефекты. Обсуждал с командиром БАО план проведения торжественного вечера. Все прошло как нельзя лучше – и подчиненные, и гости остались довольны. И погода как по заказу выдалась: туман дал людям отдохнуть, привести технику в надлежащее состояние – в напряженных боевых делах не до всего доходили руки.
А ветер все усиливается, гонит, рвет туман; вон уже и огоньки папирос метров за сто видны, силуэты домов, деревьев просматриваются. К утру может окончательно распогодиться, и поступит команда на разведку или на бомбежку.
У штаба Меньшикова встретил дежурный по полку и доложил, что происшествий не было, личный состав после торжественного вечера отправился на отдых.
– Пришлите ко мне шифровальщика, – попросил Меньшиков и направился к себе в кабинет – маленькую комнатенку с легкими деревянными перегородками.
Здесь было тепло, тихо и умиротворяюще спокойно. Меньшиков снял реглан и, откинувшись на спинку стула, сладко потянулся, чувствуя, как по телу разливается приятная истома. Все-таки он здорово устал: восемь напряженных месяцев войны с недосыпаниями, недоеданиями, с постоянными волнениями и переживаниями. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются, а сколько их сгорело в воздушных боях, на боевом курсе и над целью, когда кругом полыхали разрывы снарядов; да и на земле, когда в доли секунды приходилось принимать ответственнейшие решения, от которых зависели судьба и жизнь близких ему людей. Потому и во сне он не знает покоя, просыпается через каждые полчаса, как бы ни устал, как бы ни намаялся… Один лишь день передышки, а как легко, как благостно на душе! Еще и оттого, что наконец-то от Зины пришло письмо. Она с дочуркой в Ташкенте.
Минут через пять вошел шифровальщик, немолодой подтянутый старшина, и положил перед командиром папку с поступившими за день секретными документами.
Подполковник расписался в журнале и, отпустив старшину, углубился в бумаги. Здесь были приказы и директивы, инструкции и шифрограммы – документы срочные и важные, одни из которых следовало изучить и запомнить, по другим принять срочные меры. Меньшиков так зачитался, что не заметил, как перевалило за полночь. От дела его внезапно оторвал гул самолета. Кого это в такую погоду нелегкая носит? Он взглянул на часы – ого, второй час! Снял трубку и позвонил на КП дежурному по полетам. Хотя погода была нелетная, аэродром находился в полной готовности к приему и выпуску самолетов.
– Так точно, товарищ подполковник, гудит, – подтвердил дежурный по полетам. – Наверное, блуданул, бедолага, пытается пробить облака, а они метров сто, не выше.
– Не немец?
– Похоже, наш, Ли-2.
– А ну дай прожектор вертикально, может, световое пятно увидит.
– Есть. И ракету на всякий случай пульну.
– Давай. Я у себя в кабинете.
Меньшиков положил трубку, но документами заниматься уже не мог: самолет не давал покоя. Выглянул в окно и увидел, как голубовато-дымчатый луч, словно столб, уперся в косматое покрывало, плывущее над аэродромом в семидесяти – ста метрах. Гул самолета будто бы пропал. Подполковник открыл форточку – тишина. Но чуть погодя издалека, словно с того света, донесся еле уловимый, с натужными перерывами стон моторов – самолет набирал высоту. Стон усиливался и перешел в монотонное крепнущее завывание. «А ведь это “хейнкель”, – определил подполковник. – И, похоже, снижается – заметил световое пятно».
Минуты через четыре вдруг из облаков в сторону прожектора полетела желтая ракета. Меньшиков обрадовался – наш. В эту ночь желтая ракета служила опознавательным знаком «Я свой».
Дежурный по полетам дал ответную ракету – «Принимаем». Самолет включил аэронавигационные огни и стал заходить на посадку. Зазвонил телефон, Меньшиков снял трубку:
– Слушаю.
– Товарищ подполковник, самолет заходит на посадку, радиосвязи с ним нет.
– Хорошо. Принимайте. После четвертого разворота включите прожектора.
Меньшиков не отходил от окна. Что-то в заблудившемся самолете ему не нравилось. Вечером метеоролог докладывал обстановку: всюду туман и низкая облачность, все аэродромы Южного фронта закрыты и всем полкам дан отбой полетам. Откуда же прилетел этот? Скорее всего, с севера или востока, туда циклон еще не распространился. И очень ненашенский звук – нудный, с завыванием, как у немецких. Но ракета – «Я свой» – желтая, а не красная и не зеленая…
«Приблудший» сделал четвертый разворот, встал на посадочный курс. Вспыхнувшие лучи прожекторов осветили укатанную взлетно-посадочную полосу. На самолете загорелись посадочные фары. Он снизился и вошел в лучи прожекторов. Двухмоторный, но совсем не Ли-2. Меньшикову показалось, что его силуэт очень уж похож на силуэт «хейнкеля».
Снова зазвонил телефон.
– Товарищ подполковник, фашист! – запальчиво крикнул дежурный. – Со свастикой!
– Без паники, лейтенант, – как можно спокойнее сказал Меньшиков, заодно успокаивая и себя, – сердце так зачастило, что, казалось, содрогает все тело. – Возможно, наш летчик из плена сбежал (о таком случае он слышал недавно), а может… – Что еще «может», он и сам не знал. – В общем, встречайте, но будьте начеку, возьмите автоматы. Я сейчас подъеду.
Он позвонил в автопарк и приказал срочно выслать за ним машину. К счастью, шофер эмки находился в гараже, дежурный сообщил, что сейчас он подъедет.
Меньшиков вышел на улицу. Прожектористы не выключали прожектора, и в их лучах хорошо выделялся длинный фюзеляж приземлившегося самолета, работавшие моторы, два киля. Да, это был «хейнкель». Он стоял почти посередине взлетно-посадочной полосы, молотя винтами. Вот в лучах мелькнули три фигуры. Надо бы выключить прожектора… Один из прибывших с КП полез на крыло, и в ту же секунду моторы взревели, «хейнкель» рванул с места. Вслед ему застрочили автоматы. Но что они могли сделать такой громадине! Самолет набрал скорость, оторвался от земли и исчез в темноте ночи.
Подкатила эмка. Меньшиков вскочил в кабину, крикнул: «На старт!»
Дежурный по полетам, молоденький лейтенант, недавно прибывший на пополнение, виновато доложил:
– Мы только на плоскость, а он, гад, по газам видно, на шапках звездочки увидел. Если бы знали…
«Если бы знали… Если бы да кабы…» – усмехнулся над собой Меньшиков. Надо докладывать в штаб дивизии. За то, что упустили приземлившийся фашистский самолет, по головке не погладят. Расстроенный и обескураженный, Меньшиков поехал обратно в штаб. Почему «хейнкель» произвел посадку на советском аэродроме? Заблудился? А откуда он знал сигнал «Я свой»? Совпадение? Но фашисты были наготове, моторы не выключили. Догадывались, что не у себя дома? Допустим. Но почему они кружили здесь, когда еще прожектора не были включены и никаких других ориентиров, за которые можно было бы зацепиться, не имелось? Что-то за всем этим крылось непонятное, загадочное. Ясно было одно: если фрицы рискнули на посадку, тому имелись серьезные причины. Наиболее вероятная из всех – кончилось топливо. В таком случае немцы далеко не улетят. И Меньшиков решил с докладом в штаб дивизии повременить, приказал дежурному по полетам обзвонить все близлежащие станицы и предупредить отряды самообороны о возможной посадке немецкого самолета, принятии мер к задержанию экипажа и немедленному сообщению об этом в полк.
Он сидел и ждал, листал секретные документы, но голова никакие приказы и указания не воспринимала. Мысль, что это за самолет и что за всем этим кроется, не давала покоя.
Начало светать, а ни из одной станицы из штабов самообороны, где круглосуточно дежурили комсомольцы, от зоркого ока которых ничто не укрывалось, звонков не поступало. Надо было принимать другие меры.
Меньшиков позвонил оперуполномоченному капитану Петровскому и, объяснив в двух словах суть дела, попросил приехать на аэродром.
Пока оперуполномоченный собирался, Меньшиков приказал подготовить к полету По-2, осмотреть, прогреть мотор. Сам же вооружился двумя автоматами (один для Петровского), дисками, гранатами-лимонками и поглядывал на небо, где все так же неслись рваные облака, прикидывая, куда улетел «хейнкель» и в каком месте он мог упасть или приземлиться.
Петровский, увидев на плече Меньшикова два автомата, понял, для какой они цели. Взял один, повесил себе на шею, как делали это немцы, спросил, кивнув на облака:
– Не помешают?
– Высоко не полезем. Твой сектор – правый.
Взлетели они в половине восьмого, а казалось, все еще светает – так низко стелились облака и так они были плотны, что солнце не пробивало их. Шли по курсу, по которому должен был уходить в сторону своих «хейнкель», и если полчаса назад Меньшиков надеялся найти фашистский самолет, упавший или приземлившийся, то теперь эта надежда с каждой минутой полета на запад падала: видимость ухудшалась, а облака прижали их чуть ли не к самой земле. Но Меньшиков летел, делая змейки вправо, влево, внимательно осматривая каждый бугорок, каждый холмик.
У небольшой станицы взял курс чуть севернее, прошел еще десять минут и подумал: «А не повернуть ли обратно?», когда на серой от влаги и тумана стерне увидел что-то похожее на самолет. Полетел туда. Он! Тот самый «хейнкель»!
Меньшиков сделал круг. Фашистские летчики произвели посадку по всем правилам аварийной ситуации – на брюхо. Винты моторов погнуты, за самолетом тянутся черные борозды, кабины пусты. Похоже, летчики остались живы. Но куда они подевались?
Пришлось сделать еще круг, побольше. Никого и ничего не видно… А сесть, пожалуй, можно вот на этом небольшом, с прошлогодним травяным покровом лужке.
Меньшиков повернулся к Петровскому, дал знак рукой, что идет на посадку. Тот понимающе кивнул.
По-2 чиркнул колесами по траве, легонько подпрыгнул пару раз и остановился. До «хейнкеля» идти было километра полтора. Меньшиков выключил мотор, вылез из кабины. За ним спустился Петровский, щелкнул затвором, загоняя патрон в патронник.
– Подожди, – остановил его подполковник. – На всякий случай придется тягу сектора газа отсоединить, чтоб мотор не запустился. – Он открыл капот и с помощью ножа, который всегда носил с собой, отсоединил тягу, а провода магнето поставил крест-накрест. – Теперь не запустят. Только идем подалее друг от друга. Хотя вряд ли они спрятались в самолете – окоченели бы к утру.
Петровский шел справа, автомат наизготовку с пальцем на спусковом крючке, но по его спокойному лицу видно было, что встречи с фашистскими летчиками он не ожидает и автомат держит на всякий случай, для порядка. После последнего разговора о Туманове он стал с Меньшиковым еще официальнее, обращается только по делам. Он и раньше не отличался общительностью, а тут и совсем стал букой. Создавалось такое впечатление, что он знает о доносе и испытывает угрызения совести. Не зря говорят, что время стирает из памяти все – и радости, и обиды. Меньшиков, во всяком случае, прежней уязвленности не испытывал. И письмо вспомнилось просто так, без всякого повода. Наоборот, глядя, как смело и уверенно шагает оперуполномоченный, твердо ставя свои короткие, сорок пятого размера ноги, Меньшиков проникался к нему уважением. Волевой и сильный человек: вывести отряд из глубокого тыла противника, пробиться сквозь танки и пушки, по существу, с карабинами да пистолетами не каждый сумел бы. Ну а письмо – такая уж у него должность. В доказательство того, что за донос он на него не в обиде, Меньшиков достал письмо, протянул Петровскому.
– Что это? – удивленно вскинул бровь капитан.
– Кто-то забыл поставить подпись, – улыбнулся Меньшиков.
Петровский развернул лист, не сбавляя шага прочитал. Помолчал с минуту.
– Давно это у тебя?
– Еще с Сальска, когда прилетал генерал Петрухин.
Петровский низко наклонил голову.
– Невысокого же ты обо мне мнения, – сказал с грустью. – Да ладно… Жаль, долго оно у тебя в кармане провалялось. Не на твоей штабной машинке печаталось?
– Нет. У моей такого перекоса буквы «р» нет.
Петровский снова помолчал.
– Кто-то хорошо осведомлен о наших взаимоотношениях. Решил эту бумажку в клин превратить… Жаль, долго у тебя пролежала. – Он ускорил шаг.
Петровский первым подошел к самолету, ступил на крыло и заглянул в кабину пилота, плексигласовый колпак которой был отодвинут назад.
– Пусто, – констатировал он.
Никого не оказалось и в кабинах штурмана и стрелков. По тому, что бросили их открытыми, привязные ремни и парашюты валялись как попало, нетрудно было представить, что покинуты они в спешке.
Петровского что-то заинтересовало в кабине стрелков, он долго лазал там, чем-то гремел и вот наконец вылез, держа в руках портативный радиопередатчик.
– Вот и выяснилось, почему он кружил, – сказал капитан сам себе и вздохнул.
– Не думаешь ли ты, что из-за этой шарманки? – спросил Меньшиков, действительно не понимая, почему так решил оперуполномоченный.
– Думаю, – твердо и убедительно сказал Петровский. – Иначе зачем было прицеплять эту шарманку к парашюту? Непонятно только, что помешало ее выбросить.
– Погода, что же еще.
– А двое с парашютами выпрыгнули. Им погода не помешала.
– С чего ты взял?
– Посмотри повнимательнее, там две фалы болтаются. В кабине стрелка. – Он помолчал, о чем-то думая. – Сел только экипаж, три человека: летчик, штурман и стрелок-радист.
Меньшиков тоже так решил. Собственно, и решать-то нечего: три парашюта лежат на сиденьях, значит, членов экипажа было трое. Предположение подтверждалось и следами на земле, ведущими от «хейнкеля» на запад. Петровский и Меньшиков пошли по ним. Метрах в трехстах наткнулись на небольшую кучу соломы, совсем недавно разворошенную.
Петровский снял автомат и копнул прикладом.
– Думаешь, клад оставили? – усмехнулся Меньшиков.
Капитан ничего не ответил, сосредоточенно разгребал солому. Показалось что-то темно-серое. Петровский нагнулся, потянул и вытащил мундир мышиного цвета с орлом над нагрудным карманом. Потом из тайника извлек планшет с картой и еще два мундира.
– Похоже, у фрицев было во что переодеться, – высказал предположение Меньшиков.
Петровский заторопился:
– Надо быстрее в станицу. Сообщить всюду, перекрыть все дороги. У таких запасливых «гостей» наверняка и документы наши имеются. Не иначе диверсантов выбрасывали.
– Следы как раз и ведут в станицу.
Они почти бегом пустились по следу.
В станице отряд самообороны был уже на ногах. Его поднял коллега Петровского лейтенант Завидов, оперуполномоченный БАО. Комсомольцы прочесали все дома и нашли заблудших: под видом советских летчиков они преспокойно отдыхали у одной колхозницы. У них действительно оказались советские документы, все трое неплохо владели русским языком. Поначалу самый старший по возрасту (позже выяснилось, что это командир экипажа) даже возмутился «бестактностью шантрапы», но когда их все-таки привели в стансовет и капитан Петровский, показав планшет, спросил, не они ли «потеряли» его в копне соломы, они не стали отпираться.
Несколько позже Петровский выяснил и главное, зачем экипаж прилетал. В районе Сальска выброшены два диверсанта, старик и девушка. Из-за тумана и сильного ветра штурман потерял ориентировку, горючее было на исходе, и летчик пошел на посадку на первый же попавшийся аэродром, не предполагая, разумеется, что он – советский. Сигнал «Я свой» – желтая ракета – якобы в ту ночь была у немцев. Но так ли это, следовало уточнить…
9
…Южный и Юго-Западный фронты получили задачу нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс. Кавказскому фронту и Черноморскому флоту предстояло очистить Крым…
(Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945)Александр очень пожалел, что отложил встречу с Ритой на завтра. Утром, когда он зашел в столовую, его увидел начальник штаба полка и приказал:
– Быстрее завтракайте и поезжайте в станицу. Там в клубе разместились прибывшие вчера девушки, будущие младшие авиаспециалисты. Пока у вас нет допуска к полетам и самолетам, будете учить их. Для начала растолкуйте им, что это за зверь – самолет, научите отличать плоскость от стабилизатора, киль от руля поворота.
– Боюсь, неважный из меня педагог получится, – попытался отказаться Александр, но майор категорично «успокоил»:
– А вы не бойтесь. Все равно посылать больше некого: техники заняты ремонтом, летчики – подготовкой к боевому заданию. В станицу вас полуторка подбросит, она скоро туда отправляется.
– Есть, – не очень-то бодро ответил Туманов.
– Везет же человеку, – острил за завтраком Ваня Серебряный. – Мало ему одной девушки, еще десяток подбрасывают – выбирай любую. Уступи в таком случае Риту, командир…
А ему было не до шуток. Рита разыскивала его неслучайно – что-то, возможно, стало известно. Но сходить к ней в землянку, где жили девушки-телефонистки (Рита отдыхала после дежурства), не было времени; шофер уже поджидал его.
Колхозный клуб располагался в центре станицы – длинное одноэтажное здание, крытое железом, с двумя крылечками – центральный вход и служебный, в небольшую артистическую.
По логике, девушек разместили в артистической, но Александр постучал в центральный вход; если девушки здесь, мало ли чем они занимаются.
Ему никто не ответил. Александр толкнул дверь, и она открылась.
В зале было пусто: скамейки сдвинуты к дальней стене и сложены одна на другую, на сцене – кровати, заправленные солдатскими одеялами; почти как у летчиков, занявших эмтээсовский клуб, с той лишь разницей, что там, на сцене, разместился командный состав, в зале – рядовые экипажи. Откуда-то из глубины сцены появилась одна из вчерашних девушек-солдаток с красной повязкой на рукаве. Увидев лейтенанта, она легко спрыгнула со сцены и, энергично приложив руку к пилотке, четко доложила:
– Товарищ лейтенант, первое особое женское отделение занимается согласно распорядку дня. Дежурный по казарме рядовая Белоусова.
Александра приятно удивила, даже восхитила четкость доклада, хорошо поставленный голос, молодцеватая выправка девушки, словно она прослужила в армии не один год. И ее приподнятое настроение передалось ему.
– Значит, особое женское занимается согласно распорядку дня, – весело повторил он. – И где же оно занимается?
– А здесь, в актерской, – чуть заметным кивком указала девушка за сцену. И жест – вымуштрованного, знающего свое дело бойца.
– Сколько вы служите? – машинально спросил Александр, забыв, что вчера задавал этот вопрос.
– Второй месяц. Мы уже прошли курс молодого бойца, приняли присягу.
– А кто сейчас проводит занятия?
– Тоже лейтенант. Должность его и фамилию, простите, не знаю. – Девушка взглянула на часы. – Сейчас они заканчивают. А вы тоже будете у нас преподавать? – Она смотрела на него игриво-кокетливо, наклонив голову и приподняв подбородок, совсем забыв, что перед ней не кавалер, а командир, и она находится не на танцах, а на дежурстве. И все-таки она нравилась ему. Не внешностью – лицо у нее было самое заурядное, даже грубоватое: широкий нос с большими ноздрями, крупные скулы, большой рот, – умением с достоинством держаться, быстро перестраиваться с военного языка на обычный, а точнее, на лирически-интимный. Ее поблескивающие глаза как бы говорили: «А вы мне чертовски нравитесь, лейтенант, и я бы с превеликим удовольствием провела с вами вечерок».
– Значит, скоро перерыв? – не выдержал он пронзительно-зовущего взгляда.
Она еще раз посмотрела на часы.
– Через две минуты. Идемте туда, я сейчас позвоню.
Они поднялись на сцену. На тумбочке у двери, ведущей в артистическую, стоял колокольчик – точь-в-точь как в школе. Девушка взяла его и позвонила. Реальность исчезла. Александру казалось, что все это – и одетая в солдатскую форму девушка, и кровати с тумбочками, и казарменная обстановка – всего-навсего игра: таким далеким, невоенным был школьный звонок. Но через минуту в артистической загомонили девичьи голоса, дверь отворилась, и на сцену вошел незнакомый лейтенант, которого Александр видел вчера с Петровским, что немало его удивило: при чем здесь оперуполномоченный? Но, вспомнив про новичков, понял при чем: кто же, как не он, должен проверить людей, прежде чем доверить им дорогостоящую технику? Лейтенант протянул руку:
– Завидов.
– Туманов.
– Покурим? – Завидов надел шинель и, застегивая на ходу пуговицы, направился к выходу. Александр последовал за ним. Симпатичное лицо лейтенанта, его простота и дружеский тон располагали, и, когда они вышли на улицу и Завидов, раскрыв портсигар, протянул Александру, тот машинально взял папиросу. Александр пробовал курить лишь однажды, еще в седьмом классе. Табачный дым тогда колом застрял у него в горле и навсегда отбил охоту курить. Но теперь папироса была в руках, и Завидов уже чиркал зажигалкой. Пришлось прикурить. Александр легонько потягивал дым и тут же выпускал его, боясь закашляться, как восемь лет назад, размышляя, случайная ли это встреча с работником НКВД или преднамеренно-запланированная и что Завидову и Петровскому известно о нем.
– Вы с пополнением прибыли? – спросил лейтенант. – Что-то раньше я вас не видел.
– Я недавно вернулся из госпиталя, – ответил Александр, удерживая на языке тот же вопрос (в его положении лучше отвечать и ни о чем не спрашивать).
– А я из БАО, – сказал Завидов. – Прислали, когда полк перебазировался из Сак и остался без оперуполномоченного. А когда вернулся Петровский, его оставили на своем месте, меня в БАО задвинули. Откровенно говоря, у вас лучше: народ дружный, в бою проверенный.
Лейтенант затянулся несколько раз, подумал и продолжил:
– Правда, все течет, все изменяется. Моему коллеге теперь придется попотеть. Кстати, он еще не вернулся?
В столовой Александр слышал разговор, что командир полка улетел с оперуполномоченным на поиски немецкого самолета, где-то ночью севшего на вынужденную, но прилетели они обратно или нет, не знал.
– Вряд ли. В такую погоду найти самолет непросто.
– Уже нашли, – уточнил Завидов. – И самолет, и летчиков. Жаль, что в По-2 только два места, а то бы их доставили в полк. – Лейтенант вдруг заторопился, раздавил носком сапога окурок, протянул руку: – До свидания. Рад был познакомиться с вами. – Повернулся и зашагал в сторону аэродрома.
Александр постоял еще немного и вернулся в клуб. Дежурная все так же лихо козырнула ему, скорее сообщила, как старому знакомому, а не доложила: «Девушки уже на местах» – и проводила его до самой двери артистической, превращенной в класс.
Он вошел, и девушка, чем-то похожая на дежурную, отрапортовала: «Особое женское отделение в количестве десяти человек присутствует на занятиях. Командир отделения рядовая Бакурская».
Александр поздоровался, разрешил сесть и, обводя девушек взглядом, словно споткнулся на одной, черноглазой, черноволосой, удивительно похожей… Галлюцинация? Наваждение?.. Тонкие сросшиеся на переносице брови, длинная – только у нее одной такая шея… Такой она являлась ему, когда от боли в пояснице он терял сознание… Только не в этой солдатской одежде… Спина теперь почти не болит… Она смотрит ему в глаза, и он читает в них удивление, нет, уже радость. Или ему просто показалось? Теперь в глазах Ирины равнодушие, может, чуть заметное любопытство, с каким рассматривают впервые появившегося человека… Ирина это или не Ирина? Вот она опустила глаза, словно просила не раскрывать их знакомства.
Командир отделения Бакурская, перехватив его долгий недоуменный взгляд, поспешно встала и доложила:
– Извините, товарищ лейтенант, я вам не представила нашу новенькую, рядовую Гандыбину Ирину. Она прибыла к нам вечером.
«Так вот зачем нужен был я Рите», – догадался Александр и подосадовал на себя, что не разыскал сестру. Предупредила ли Рита Ирину, что у него другая фамилия и что никто не знает об их кровном родстве? Должна была предупредить. На всякий случай надо назвать себя. И он, поблагодарив Бакурскую, представился:
– Лейтенант Туманов. Мне поручено ознакомить вас с самолетом. Рассказать о его конструкции, о типах самолетов, которые имеются у нас и у немцев, научить вас распознавать их по звуку и конфигурации. Потом вас зачислят в экипажи, и техники с механиками будут делать из вас мотористов.
– А сколько часов отведено на знакомство? – спросила соседка Ирины, и в ее вопросе Александр уловил двоякий смысл.
– Пока два. На сегодня. – Девушки разочарованно загудели. – В ближайшее время, возможно, уже завтра, до вас доведут более обстоятельную программу с конкретными предметами, – успокоил их лейтенант. – Так что надоест еще сидеть в классе.
– Не надоест.
– Если с вами.
– Можно и вечером, – посыпались со всех сторон остроты. Да, девчата подобрались – палец в рот не клади. Только Ирина не произнесла ни слова. Она не сводила с него глаз, будто излучавших тепло, нежность, ласку, незримо передававших ему прикосновение ее рук, то теребивших его волосы, то гладивших лицо, шею, грудь. И он, знавший все типы самолетов как свои пять пальцев и умевший рассказывать живо, интересно, вдруг запнулся, потерял самую изначальную нить своей лекции, которую обдумал, пока ехал в станицу. Он молча стоял под десятком пар глаз, любопытных, иронических, скользил взглядом по лицам девушек, а видел только ее лицо, только ее глаза – полные любви и счастья глаза. Она нашла его, приехала к нему, бросив всех и все! Вот что самое важное!
– А дополнительные уроки вы будете давать?
– А как насчет астрономии? Ведь авиация и астрономия, говорят, неразделимы, и нам хотелось бы, чтобы вы рассказали о звездах…
Девушки смело атаковали его. Пора было начинать урок, а в горле у него пересохло, словно руки Ирины все еще обвивали шею, а жаркие губы не давали открыть рта.
Ирина тряхнула головой, опустив свои колдовские глаза, и наваждение исчезло, он обрел дар речи, заговорил чуть хрипловато, с каждым словом чувствуя, как крепнет голос, логичнее выстраиваются мысли, фразы. Любопытство, ирония в глазах девушек сменились интересом, внимательностью. Теперь и на Ирину он смотрел как на милого, прилежного ученика, которого следовало обучить нужному и серьезному делу. Он так увлекся, говорил с таким вдохновением, что не заметил, как пролетели 45 минут и дежурная позвонила на перерыв.
Девушки не торопились покинуть «класс», а некоторые и совсем не собирались уходить, вертелись около своего «учителя», подыскивая повод, чтобы заговорить, и он вынужден был попросить их оставить его с новенькой на беседу. Когда они вышли, Александр, не боясь, что их могут застать, подошел к Ирине, обнял ее за плечи и притянул к себе. Она обожгла его губами, горячим дыханием.
– Прости. Прости, что я так уехал, – говорил он между поцелуями. – Теперь ты понимаешь…
– Я поняла еще тогда, когда кинулась к тебе в гостиницу и мне сказали, что в двенадцатом номере проживал не Пименов, а Туманов… Зря ты сдрейфил, я бы еще тогда уехала с тобой.
– Вот потому и сдрейфил. Ты бросила институт?
– Сейчас это не самое важное.
– Думаешь, мотористом важнее?
Она посмотрела на него как человек, скрывающий какую-то тайну.
– А разве нет? Готовить самолеты к боевому вылету разве маловажно?
– Нет, но…
– Образование не позволяет, – усмехнулась Ирина. – Пусть тебя это не волнует. И слишком у нас мало времени, чтобы ломать над этим голову… Как твоя поясница?
А он-то думал, она ничего не заметила.
– В порядке. Скоро буду летать. А как твой Гандыбин, не кинется разыскивать тебя?
– Думаю, нет. Я ушла от него раньше, жила у отца… – За дверью послышались девичьи голоса.
– Давай встретимся вечером, – шепнула она.
– Где?
– На пути к аэродрому. У кладбища.
– Хорошо. Как только стемнеет.
В дверь постучали.
– Войдите, – разрешил Туманов, жалея, что так быстро окончился перерыв.
10
24 февраля 1942 г….В последний час. Наши войска окружили 16-ю немецкую армию…
(От Советского информбюро)В тот же день экипаж «хейнкеля» было приказано отправить в штаб дивизии. За ним прилетел Ли-2. Проводив «приблудших», Петровский неторопливо зашагал к штабу, еще раз обдумывая происшедшее, восстанавливая и домысливая картины, свидетелем которых довелось быть и которые, как говорят, остались за кадром.
Итак, последнюю радиопередачу вражеский агент вел в ночь на 27 июня. «Лечь на дно», как говорят подводники, его заставило многое: появление у аэродрома спецмашин с пеленгаторами, гибель связников. То, что радиопередачи мог вести кто-то не из мотоциклистов, застреленных Пикаловым, Петровский допускал и ранее. Даже если и они, кто-то же снабжал их разведданными. Кто?..
Вражеские мотоциклисты не раз вступали в контакт с начальником ГСМ БАО старшим лейтенантом Нурахметовым: заправлялись у него бензином, бывали даже на пустовавшей квартире – жена Нурахметова эвакуировалась с первым эшелоном. Но это была всего-навсего лишь ниточка, а других серьезных улик против него не имелось. Правда, перед самой эвакуацией на ГСМ у Нурахметова появился вдруг мотоцикл с коляской с заправленным бензином баком и запасной канистрой. Были белые пятна и в его биографии. Наблюдая за ним, Петровский все больше проникался подозрением: старший лейтенант, играя под простачка среди летчиков, был смекалист и умен среди начальства, шустро выполнял распоряжения и старался быть всегда на виду. Он ведал спиртом, предназначенным для антиобледенительной системы, и не скупился, отпускал его летчикам и на «личные» нужды. Знал он все, что творилось в полку. Потому его информация представляла для противника большую ценность.
Когда полк начал эвакуацию, Петровский принял решение остаться в отряде прикрытия, чтобы окончательно проверить свое предположение. Правда, имелась и вторая причина: переправить группу коммунистов и комсомольцев в Симферополь для дальнейшей подпольной работы в тылу немцев. В эту группу входила и его жена. Но более ответственной и трудной задачей он считал разоблачение вражеского агента. И не ошибся. В первом же ночном бою, когда отряд заслона пытался пробиться из окружения, Нурахметов исчез. Мог он, разумеется, и погибнуть, но никто этого не видел. И Петровский был почти уверен, что подозревал Нурахметова не напрасно. До сегодняшнего дня. Экипаж «хейнкеля» подтвердил отметку на карте станицы Михайловка: да, здесь экипаж должен был по сигналу с земли – желтая и зеленая ракеты – выбросить радиостанцию. Туман спутал все карты. Туман и… топливомер. Пока экипаж кружил над аэродромом в надежде, что топлива в баках еще достаточно, вдруг замигала сигнальная лампочка аварийного остатка топлива: то ли механик недолил бензина, то ли при обстреле самолета над линией фронта осколок пробил бензобак. Штурман же, накануне перебравший шнапса, потерял ориентировку и, увидев сигнал «Я свой», дал команду идти на посадку. На всякий случай просил моторы не выключать. Когда же наш дежурный со звездой на шапке полез на крыло, экипаж «восстановил» ориентировку. Но улететь далеко уже не мог – кончилось горючее.
Выброшенные старик с девушкой, контейнер с радиоаппаратурой, предназначенный, видимо, для них же, убеждали Петровского в том, что главный агент – в полку. Но у него имеются затруднения с передачей сведений, и ему на помощь посланы новые связники. Почему их выбросили в районе Сальска, а радиопередатчик – в Михайловке? Чтобы не подвергать никого лишней опасности? Похоже, в Сальске агент подготовил связникам явку, а здесь надеялся установить контакт с экипажем и заполучить радиопередатчик. Если это так, то, выходит, связь у него с «хозяевами» имелась. Плохо сработали наши спецслужбы? А если агент – член экипажа и радиопередачи вел, когда самолет находился за линией фронта? Возможно. Но такие запоздалые сведения не устраивают немецкие штабы, им нужно заранее знать, по какому маршруту вылетают бомбардировщики, чтобы подготовить истребителей для перехвата, вот для этой цели и посланы связники… Рано или поздно они должны выйти на радиста…
А может, в полку объявился новый агент? Вон сколько людей приходит из-за линии фронта. Капитан Калашников около двух месяцев пробыл на оккупированной территории. Где он болтался? Мог не только, как он рассказывает, прятаться по хатам солдаток и вдовушек, но и в гестапо, в немецкой контрразведке побывать. Туманов тоже без экипажа заявился, за две ночи около двух сотен километров по тылам немцев отмахал. Попробуй узнай, где тут правда, где ложь. А ведь узнать можно. Немцы в чужую страну, к чужим людям забрасывают агентов, а мы к своим не рискуем… Чего проще пустить по следу того же Калашникова, Туманова нашего человека и проверить, насколько верны их показания. Надо поставить этот вопрос перед начальником Особого отдела. Игра стоит свеч…
11
В ходе зимнего наступления Красная армия разгромила до 50 дивизий врага.
(Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945)Серебряный помог Александру раздобыть вина, консервов, колбасы, и вечером лейтенант отправился в станицу, где еще днем снял крохотную комнатенку в пятистенном доме у одинокой старушки, муж которой умер перед самой войной. Старушка, узнав, что лейтенант случайно встретился с женой, тоже добровольно записавшейся в армию (пришлось Ирину назвать женой), искренне порадовалась счастью Александра и к его приходу поставила на стол миску с квашеной капустой, моченые яблоки и даже пару яичек. Потом стала помогать ему накрывать стол. Они готовились к ужину, как к величайшему торжественному событию. Для Александра и в самом деле событие было величайшее: все эти годы, месяцы, дни, особенно после встречи в Москве, он хранил воспоминание об Ирине, такое сильное и волнующее, будто он ощущал ее постоянное присутствие. Иногда ему чудился ее голос, и ее прекрасное лицо, густые черные волосы, омывающие пленительную шею, вставали у него перед глазами. Он жил самыми светлыми мгновениями в его жизни, восхитительными своей таинственностью, которые провел с любимой женщиной. Он не только не думал – мечтать не смел, что ему доведется снова испытать такое.
И вот она здесь, рядом с ним. Он даже забыл о той угрозе, которую таил ее приезд. Вернее, не забыл: мысль о том, что Гандыбин в любой момент может нагрянуть в полк, не раз возникала у него, но он лишь насмехался над своим коварным соперником – пусть испытает муки ревности, он заслуживает больших страданий за то горе, которое причинил Александру, Рите, отцу и матери.
На аэродроме стояла тишина. Полеты отложены по метеоусловиям и из-за непригодности аэродрома – земля раскисла, не взлететь. Меньшиков все силы бросил на ремонт самолетов, только его, Туманова, послал учить девчат – щадит из-за ран. Видно, полковой врач нарисовал довольно мрачную картину. Накануне он очень долго осматривал и ощупывал поясницу Александра, советовал не снимать пока корсет, оберегать спину от нагрузок, резких движений, охлаждения. Он и сам чувствует: плохи дела. Сколько прошло времени, а поясница, как у старика, реагирует на малейшие изменения погоды. Но все равно летать он будет. Может ходить, есть, думать – значит, и летать может; пусть попробуют ему доказать обратное. Правда, Меньшиков и не возражает, обещает, как только поступят самолеты, дать ему провозные и посылать на боевые задания. Добрый, чуткий человек. Все знает, обо всем догадывается, будто в душу заглядывает. Старается уберечь каждого подчиненного, а полк тает, как весенний снег…
Что-то задерживается Ирина. Вокруг уже не видно ни зги. Может, ее не отпускают? Им скидки на их молодость, «гражданское происхождение» не делают, сам оперуполномоченный приходил, чтобы предупредить о строгом соблюдении дисциплины, сохранении военной тайны. Кто они, кого из них готовят? Прямо-таки засекреченное отделение. А может, и впрямь засекреченное? «Младшие авиаспециалисты» – для видимости… Никуда не отпускают, ни с кем не разрешают встречаться. А такие отчаюги… И Ирина, конечно, сумеет удрать. Еще в Москве он заметил, что она сильно изменилась, стала волевой, решительной. Не побоялась привести домой, оставить ночевать, когда в любой момент мог заявиться муж. И сюда вырвалась, разыскала его… Неужто Гандыбин отступится от нее? Скорее всего, он отпустил ее как приманку. Что ж, пусть приезжает, повидаемся. Он потрогал на боку пистолет…
Вдали сквозь шум ветра послышались шаги. Он рванулся им навстречу. Ирина! Они снова обнялись, как в классе, только крепче, смелее, откровеннее – теперь им никто не мешал, никто не мог их увидеть.
Ирина, еле сдерживая прерывистое дыхание, целовала его и шептала:
– Милый… родной мой, любимый.
Когда она успокоилась, он обнял ее и повел к станице.
– А я уже начал было сомневаться, – признался он.
– Эх ты, – насмешливо пожурила она. – А я, как видишь, не сомневалась – приехала, разыскала.
– Как тебе удалось попасть служить именно к нам?
– Удалось, – все тем же весело-насмешливым тоном ответила она. – Нелегко, правда, но… Как в песне поется: «Кто хочет, тот добьется»… И учти еще одно обстоятельство: я закончила курсы минерно-подрывного дела.
– И тебя отпустили к нам? – еще больше удивился он.
– А почему бы нет? Я – южанка, полурусская-полугречанка, могу вполне сойти за крымскую татарку. В Крыму, говорят, очень много немецких войск.
– Значит?..
– Значит, – подтвердила она. – Тем более я рада, что разыскала тебя.
– А что означает твоя учеба у нас?
– Наверное, то, что нас будут выбрасывать с самолета, да и там придется с вами, летчиками, дело иметь. Надеюсь, ты не откажешься навестить меня?
Он плотнее прижал ее к себе.
– А как у тебя с мужем?
– Я тебе уже говорила – ушла от него.
– Но он может хватиться.
– Вряд ли. Он слишком честолюбив и эгоистичен, чтобы разыскивать неверную жену.
– Он узнал?
– Да. Когда он вернулся, ему кто-то доложил, что у меня был летчик.
– Два месяца, чтобы разобраться в своих чувствах, срок маленький.
– Пусть осмысливает еще месяца два. За это время многое изменится… А куда ты меня ведешь? – вдруг спохватилась она, когда мрак ночи прорезал узкий, как лезвие ножа, луч света, выбившийся из плохо завешенного окна.
– Я снял комнату, – смущенно пояснил он. – Там уже приготовлен ужин с вином и домашней закуской.
– Серьезно? – обрадовалась она с детской непосредственностью.
– Вполне. Не могу же я тебя, южанку, где гостеприимству придается особое значение, угощать только поцелуями.
– Что же ты не предупредил меня раньше? Я отпросилась бы до утра.
– Может, еще не поздно сделать это?
– Попробую.
Они завернули к клубу. Ирина ушла и вернулась довольно быстро. Весело сообщила:
– Все в порядке. Начальства нет, на мою кровать девочки уложат спать шинель.
12
25/II 1942 г….Полеты не состоялись по метеоусловиям и из-за плохого, не пригодного для взлета и посадки аэродрома…
(Из боевого донесения)После завтрака Александр повел свой экипаж в тир на отработку стрельбы по движущейся мишени из пулемета ШКАС. Занятия с девушками планировались на 15 часов, и он надеялся еще выкроить время на отдых – ночью уснуть не удалось.
Тир располагался менее чем в километре от аэродромных построек на берегу старого русла реки: низина с крутым обрывом, вдоль которого с помощью тросов и лебедки передвигался фанерный макет истребителя.
Некоторые командиры и воздушные стрелки скептически относились к стрельбам по мишени: в воздушном бою-де все выглядит по-иному – и прицеливание и стрельба, – и научиться сбивать противника можно только в реальной обстановке. Александр же считал, что, если воздушный стрелок научится на земле правильно брать упреждение, прицеливаться и вести огонь короткими очередями, до автоматизма отработает все действия, он не промахнется и не растеряется в воздухе. Те два боевых вылета, которые Александр совершил и которые теперь не раз вспоминал и анализировал, подтверждали верность его точки зрения: победителем из воздушной дуэли выходил тот, кто стрелял точнее, экономнее, хладнокровнее. В первые дни войны наши экипажи были обучены пилотированию, самолетовождению и бомбометанию, а вот стрельбе по воздушным целям внимания уделялось мало, и потому бомбардировщики несли большие потери от истребителей. И теперь Александр решил, прежде чем подняться в небо, научить экипаж защищаться на земле – от истребителей, зенитных снарядов, прожекторов. В тире они с Сурдоленко и Агеевым смастерили движущиеся макеты и тренировались каждый день, когда выдавалось свободное время.
В это утро Александр начал занятия с проверки знаний подчиненными тактико-технических данных немецких самолетов, и все трое, включая Сурдоленко, ни разу не побывавшего в воздушных баталиях, четко и безошибочно называли размеры «мессершмиттов», «юнкерсов», «хейнкелей», «фоккевульфов», их скорости, вооружение. Александр остался доволен: его подчиненные серьезно относятся к наземным тренировкам. Серебряному он, собственно, вопросов не задавал, просил лишь иногда дополнить ответы воздушных стрелков, зная честолюбивый и занозистый характер штурмана.
– А теперь приступим к стрельбе. Кто желает первым показать свое мастерство? – спросил Александр.
– Не будем нарушать субординацию, командир. Первое слово предоставим товарищу капитану, – предложил Сурдоленко, и на этот раз Туманов не уловил в его голосе подвоха; лицо его тоже было серьезно, доброжелательно. Серебряный, польщенный оказанной ему честью, расправил грудь, шагнул к турели. Сказал с вызовом:
– Стреляю по заказу – любое количество патронов в очереди.
– Пять по три, – опередил всех Сурдоленко.
– Принято, – кивнул Серебряный и, сняв шевретовые перчатки, бросил их на свой лежавший у турели планшет. – Пять по три, итого пятнадцать, даю все в «яблочко».
Александр глянул в глаза Сурдоленко – не иначе, стрелок-радист снова что-то замышлял: вот теперь на самом их дне затаились чертики. Агеев тоже весь внимание, на лице играет усмешка. Стрелять такими короткими очередями в три патрона – задача сама по себе трудновыполнимая, да еще – в «яблочко». Может, стрелки просто подсмеиваются над бахвальством капитана, а может…
– Крути, – скомандовал Серебряный. – Только без рывков.
Сурдоленко взялся за лебедку. Затрещали шестерни, фанерный макет «мессершмитта» стронулся с места и пополз по экрану обрыва. Скороговоркой простучали две очереди, из-за макета что-то взметнулось – похоже, ворона – и упало недалеко на землю.
Серебряный на секунду опешил, потом зло глянул на Сурдоленко, который уже неистово хохотал, держась руками за живот, властно прикрикнул:
– Крути!
Сержант, видя, что шутка не выбила капитана из седла, усердно крутанул лебедку. Прозвучали еще три короткие очереди.
– А теперь иди считай, – приказным тоном сказал сержанту.
На земле действительно лежало пятнадцать гильз. Сурдоленко развел руками:
– Точно, по заказу. Но мне показалось…
– А ты перекрестись, – оборвал сержанта капитан. – Идем.
Все четверо зашагали к мишени: впереди Серебряный и Сурдоленко, за ними Туманов с Агеевым.
Еще издали Александр увидел валявшуюся внизу у мишени ворону и подивился изобретательности Сурдоленко: надо же придумать такое, и так ловко, – упала, будто бы подстреленная.
Сурдоленко поднял ворону и снова захохотал:
– Ой да капитан! Целил в «мессершмитта», а попал в ворону!
От души смеялся и Агеев.
Серебряный рванул из рук сержанта ворону и запустил ее в овраг. Пригрозил:
– Ну, ты у меня доиграешься. Ты не Костя Корольков, и тебя я не пожалею. Ладно, шутник, – внезапно перестал Ваня злиться и шагнул к мишени. – Вот мой результат. Посмотрим теперь, каков ты в деле.
Серебряный на этот раз хвастался не зря – все пятнадцать пуль были в цели.
– Вот это стрельба! – восхищенно смотрел на пробоины Агеев. – Пять по три, и все – в «яблочко».
Но продолжить спор соперникам не удалось: на бугре показался посыльный из штаба и еще издали крикнул:
– Всем срочно к штабу, на построение!
Жизнь не бывает счастливой, бывают счастливыми лишь мгновения. Как сон, вспоминалась Александру встреча с Ириной в Москве, как наваждение – появление ее в Михайловке.
У штаба уже стоял строй – весь летный состав, и вдоль него неторопливо расхаживал подполковник Меньшиков, поджидая задержавшихся. И когда экипаж Туманова занял свое место, подполковник вышел на середину и заговорил торжественно:
– Товарищи! Получен приказ: через два дня полку убыть на переучивание на новые самолеты ДБ-ЗФ, или, как их еще называют, Ил-4. Вам эти самолеты уже известны, соседи на них летают. Преимущества: моторы сильнее на 335 лошадиных сил, скорость больше на 125 километров, соответственно увеличиваются радиус полета, высотность. Вижу на ваших лицах радость и разделяю ее вместе с вами. А посему приказываю: за оставшиеся два дня привести в соответствие всю документацию – техническую и летную. Чтоб никаких «хвостов». Что берем с собой? Все, что необходимо для полетов: летное обмундирование, парашюты, карты; само собой разумеется, – продовольственные и вещевые аттестаты, личное оружие, противогазы.
– Куда едем? – раздался вопрос, когда подполковник сделал паузу.
– Куда? – Подполковник хитро прищурился. – Военные люди подобных вопросов не задают. Но вам, так и быть, скажу по секрету: в красивый и большой город. Заранее предупреждаю: лучшие костюмы не брать, гулять некогда будет. Переучивание рассчитано на минимально короткий срок. Возможно, оттуда же будем летать на боевые задания. Какие имеются еще вопросы?
Вопросов не было. Меньшиков скомандовал: «Разойдись!» – и, отыскав взглядом Туманова, подозвал к себе.
– А что с вами прикажете делать, Александр Васильевич? Медицинское заключение до сих пор не пришло, а без него я не имею права допустить вас к летной работе.
– Разрешите, товарищ подполковник, здесь пройти комиссию?
Меньшиков в раздумье почесал затылок:
– Под монастырь хотите меня вместе с доктором подвести?
– Не хочу, товарищ подполковник. Но не ехать же в санаторий за переосвидетельствованием?
– Разумеется. Но и наши вряд ли возьмут грех на душу, – очень уж выправка у вас за счет корсета безупречная.
– Корсет я сниму. Ношу просто для подстраховки.
– Ладно! – решительно заключил Меньшиков. – Семь бед – один ответ…
Полковой врач майор медицинской службы Мордухович долго и тщательно осматривал шрамы на теле Александра, особенно на пояснице, давил пальцами, создавая нестерпимую боль, но Александр молчал, а когда майор спрашивал: «Больно?» – отвечал: «Нет».
Потом Мордухович заставил его закрыть глаза, вытянуть вперед руки и растопырить пальцы, нагнуться и достать пол, попрыгать, поприседать.
У Александра в глазах плыли круги, мелькали бабочки, но он терпеливо выполнял все, что требовал доктор. Внезапно Мордухович прекратил свою экзекуцию и посмотрел ему в глаза:
– Голова не кружится? – Александр покачал отрицательно.
– И ничего не болит?
Александр с улыбкой пожал плечами – что за вопрос!
– А вот зрачки ваши говорят другое, – сердито заключил Мордухович. – Скажите, зачем вам это? В героя решили поиграть? Перед своей девушкой… Видел я ее – милая, симпатичная. Но поверьте мне, старому ловеласу, самые распрекрасные не заслуживают того, чтобы приносить себя им в жертву.
– Девушка здесь ни при чем. – Александр не сдержался от резкости. – Полеты для меня – все. В небе забываются все болячки и быстрее залечиваются раны.
– А если придется прыгать? Ваша поясница хрустнет как соломинка.
– Не хрустнет. Я буду летать в корсете.
Майор сочувственно вздохнул: ну-ну…
13
7/IV 1942 г. Тренировочные полеты по кругу. Отработка взлета и посадки днем на самолете Ил-4…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)После сакских землянок и южного зноя, сальских бараков и пронизывающих ветров, после непрерывных боевых вылетов, бесконечных тревог, переживаний и недосыпаний жизнь в Воронеже, сравнительно тихом красивом городе, куда полк прибыл на переучивание, показалась раем. Летчиков расквартировали по частным квартирам около заводского аэродрома, где стояло несколько новеньких Ил-4. И хотя жили по строгому распорядку – завтрак с 7 до 8, занятия с 8 до 14, обед с 14 до 15, работа на матчасти с 15 до 19, ужин в 19, – появилась возможность выбраться вечером в кино, на танцы, а иногда и в ресторан.
На фронте было затишье, и это расхолаживало людей, делало их беспечнее. Даже он, Михаил Пикалов, а точнее, Пауль Хохбауэр, немецкий разведчик, временами забывал об опасности, подстерегающей его на каждом шагу, предавался разгулу и наслаждениям. Дела его, по его разумению, были не так плохи и не так хороши. Не плохи потому, что он вне всяких подозрений у контрразведки, не хороши потому, что до сих пор на него не вышли Гросфатер – дед и Блондине – блондинка, выброшенные в ночь на 23 февраля в районе Сальска. Уже отсюда, из Воронежа, Пикалову удалось во время осмотра одного из новых самолетов отстучать радиограмму, что встреча со связниками не состоялась. Ему ответили: «Ждать. Связники сами вас найдут».
Вот он и ждет. Теперь более спокойно, а поначалу нервы были на пределе – вдруг Гросфатер и Блондине арестованы? Органам безопасности нетрудно будет и до него добраться. А погибать ему совсем не хотелось – он еще и не жил как следует: то учеба в школе, муштра отца азам разведывательного дела, потом… Потом с восемнадцати лет жизнь под чужой фамилией, под страхом разоблачения. После окончания русской средней школы под Энгельсом, где Пауль проживал с родителями в колонии немцев Поволжья, он с другом, одноклассником Михаилом Пикаловым, решил поступать в военное училище. Вместе на квартире Пауля под диктовку его отца писали заявления, вместе отправляли документы. Разумеется, в разных конвертах, которые запечатывал тоже отец, и в конверт Пикалова положил фотокарточки сына. Почти в один день юноши получили вызовы и, радостные, счастливые, простившись с родителями, вместе сели в поезд на Харьков. Вдвоем они доехали до Ртищева, где предстояла пересадка. А далее Пауль с документами Пикалова поехал один. С Хохбауэром, как потом сообщил Михаил родителям, произошел несчастный случай: он пытался сесть на ходу поезда и попал под колеса.
Михаил Пикалов поступил в авиационное училище связи и через полтора года в звании младшего лейтенанта прибыл в полк ДВА в Саки на должность начальника связи эскадрильи.
«Хозяева» поначалу не особенно утруждали молодого агента: изредка в городе его встречал «земляк» или «приятель» по училищу, давал несложное задание составить списки личного состава либо раздобыть их фотографии. Потом задания стали усложняться: требовались секретные документы – уставы боевых действий, наставления, инструкции, директивы. А когда началась война, к Пикалову зачастил связник чуть ли не каждый день и требовал не только информации, но и срочных, до вылета, радиопередач, чтобы предупредить истребительные полки о маршруте и целях бомбардировщиков.
Пикалов понимал: передача с аэродрома – штука опасная, советская контрразведка не дремлет и рано или поздно запеленгует место передачи. Начнется слежка. Надежда была лишь на то, что советские контрразведчики не успеют найти агента: немецкая армия сокрушит Советы и к осени, как обещал Гитлер, война будет закончена. Но надежда не оправдалась: наступила уже весна, а немецкие войска не только не захватили Москву, но и на многих фронтах откатились назад. Советская контрразведка, как он и предполагал, повисла у него на хвосте. Чтобы пустить ее по ложному следу, пришлось пожертвовать коллегами из «Валли-4». Жаль было терять таких опытных связников, но другого выхода он, как ни старался, не нашел: предупредить «капитана» и «лейтенанта», что на них готовится облава, он не сумел. Хорошо еще, что в ту ночь его не запланировали в полеты и он получил возможность задержаться после ужина у столовой, узнать ситуацию и замысел Петровского. Попади связники в руки контрразведки живыми, вряд ли бы они умолчали о нем… В тот вечер он боялся, пожалуй, больше, чем в любом боевом вылете: оказался между двух огней, между своими и чужими. Можно, конечно, было прихлопнуть Петровского, но «лейтенант» сам подписал себе приговор. Нашел время острить: «Это ваши женушки кинулись от вас, сломя голову…» Осел. Попался на первую приманку. Хотя Пикалов и заткнул ему горло строгим взглядом, было уже поздно. А тут еще машина с группой…
Пикалов переживал: не вызвало ли подозрение у Петровского то, что «лейтенант» выстрелил не в начальника связи, а в старшину, и зачем было Пикалову стрелять в «капитана», когда Петровский, по существу, обезоружил его?
Кажется, не вызвало.
Пикалову пришлось на длительное время выйти из игры. Указания он принимал, но сам на связь не выходил. От него требовали, ему категорично приказывали, он отмалчивался. Не из-за страха, хотя безрассудно совать голову в петлю тоже не хотелось, а из-за злой ожесточенности на своих «хозяев»-недоумков, не понимающих, кого и во имя чего они заставляют рисковать. Разведчика, который располагает самой нужной, самой ценной информацией, внедренного в самый жизнедеятельный организм – Красную армию. Он – разведчик, и его задача – добывать сведения, а не стучать ключом. В критических ситуациях – да, он готов, но повседневно, до вылета, – увольте. Видимо, в конце концов до них дошло, и они выбросили Гросфатера и Блондине, но где связники запропастились? То ли погибли, то ли затаились, как и он, до поры до времени.
Петровский дни и ночи не смыкал глаз, рыскал по округе, пронзал своим холодным взглядом каждого. И Пикалов боялся этого взгляда.
Контрразведчики, продежурив еще несколько дней и убедившись, что передачи больше не ведутся, убрали пеленгаторы. Петровский перестал шнырять по стоянке перед полетами, даже при эвакуации полка остался в группе прикрытия и теперь не поехал в Воронеж с летным составом на переучивание.
Здесь, в Воронеже, к нему привязался капитан Серебряный. Клянется по пьянке в верности дружбы, но Пикалов знает цену таким заверениям: пока он ссужает деньгами, Серебряный и верен. У пьяниц рука длинная, а память короткая, голова горячая, а душа – лед, и положиться на них нельзя. Особенно на Серебряного – честолюбив, обидчив, задирист. Сколько уже раз Пикалов уводил его от драк и скандалов! Будь на его месте другой, можно давно было подцепить на крючок, несмотря на то что он не летчик. Вот только если его использовать для обработки Туманова… Был сбит, вернулся без экипажа… Петровский не очень-то жалует его, а Меньшиков обожает… Во всяком случае, попробовать можно…
Вчера вечером Серебряный высказал желание купить мотоцикл, просил денег взаймы. Затея стоящая, в Саках «колеса» очень помогали Пикалову, жаль, не было возможности забрать мотоцикл…
Легкий на помине Серебряный первый повстречался ему у столовой, дружески протянул руку:
– Привет, Миша. Голова не трещит?
– Есть малость. С зачетной сессией тебя.
– Ох, эти зачеты, – покрутил головой капитан. – Как я сдавать буду – не башка, а колокол. Ты хоть приди помочь по радиооборудованию.
– Приду, – пообещал Пикалов. – Кстати, я включен в состав приемной комиссии, за начальника связи полка. Так что берегись: могу казнить, могу миловать.
Они вместе позавтракали и отправились в заводской клуб, где был объявлен сбор летного состава.
У клуба уже стояла группа летчиков. Пикалов рассмотрел среди них подполковника Меньшикова, его заместителя по политической части майора Казаринова и – у Пикалова молоточками застучала кровь в висках – капитана Петровского. Что заставило оперуполномоченного приехать сюда? Шифрованная радиопередача, которую Пикалов отстучал на прошлой неделе? Не слишком ли долго собирался Петровский? Нет, не должно быть: если бы передачу засекли, контрразведчики начали бы раскручивать дело по свежему следу. И глаза Петровского на этот раз намного спокойнее, чем были в Саках, когда он искал агента. Даже чему-то улыбается, беседуя с Казариновым. Конечно же дело не в радиопередаче! Сегодня зачеты, и все экипажи приступают к полетам. Вот когда надо держать ушки на макушке…
До построения оставалось десять минут. Пикалов потолкался среди летчиков, послушал, о чем говорят. Тема в основном была одна – о зачетах. Оказывается, многим надоело сидеть на земле, зубрить «Конструкцию самолета», «Конструкцию двигателя М88Б», инструкции и наставления, и Пикалов недоумевал, что движет ими: патриотизм, как говорят политработники, или обыкновенный фанатизм недалеких, ограниченных людей? Что бы там ни было, он, Пикалов, не рвался навстречу опасности, где можно в любую минуту отдать жизнь, какие бы высокие цели ни ставил перед собой. Выиграет тот, кто победит, а победит тот, кто выживет. И уж он-то постарается оказаться умнее других. Нет, трусом он себя не считает и то, что требует от него фатерланд, делает, находясь под постоянной угрозой с обеих сторон: русские могут разоблачить, а соотечественники – сбить, несмотря на то что каждый раз ему сообщают сигнал «Я свой». Истребители действительно после сигнала прекращают атаку, но зенитчикам, когда летишь в группе, сигнал не подашь.
Петровский увидел Пикалова и протянул ему руку. Старший лейтенант пожал твердую и тяжелую, как свинчатка, кисть.
– С приездом, товарищ капитан. Подлетнуть решили вместе с нами на новом бомбере? – пошутил Пикалов. – Держись теперь, фриц…
– Становись! – прервал его голос начальника штаба. – Смирно!
Меньшиков неторопливо прошелся вдоль строя, поглядывая на летчиков радостными улыбчивыми глазами, заговорил бодро, со смешинкой в голосе:
– Вижу, отдохнули, сил набрались. А некоторые даже жирком обрастать стали. Пора, пора крылышки расправить. И погодка нам навстречу идет, – кивнул он на яркое весеннее солнце. – Итак, завтра назначаю полеты. Но, – он многозначительно поднял вверх палец, – для тех, кто сдаст зачеты. Сейчас все идем в сборочный самолетный цех, и члены комиссии приступят к проверке ваших знаний. Первыми сдают летчики, потом штурманы, а после уже стрелки-радисты и стрелки. Ясно? Вопросов нет? Тогда – шагом марш!..
Все было как в училище: длинный застланный красной скатертью стол, на стенах схемы и плакаты, в углу разрезанный, на металлической подставке мотор с красными ребрами. Члены приемной комиссии чинно уселись за столом, разложили на краю узенькие белые билеты с отпечатанными на машинке вопросами – по конструкции самолета, мотора и по электроспецоборудованию.
Пикалов примостился с краю, рядом с инженером по электроспецоборудованию.
Он почти не слушал, как отвечали летчики – они его не интересовали, – но, когда к столу вышел лейтенант Туманов, Пикалов весь превратился в слух: вот на этого летчика можно сделать ставку. Туманов и раньше нравился ему своей сдержанностью, немногословием, скромностью. Летал он превосходно, теорию знал как таблицу умножения, однако никогда не выставлял напоказ свои способности. А в первом боевом вылете и вовсе оказался молодцом: сам хладнокровно отражал атаки и вовремя приходил на помощь товарищам. Вот и теперь он держался перед членами комиссии свободно, просто, отвечал лаконично и ясно. По всему было видно, что это умный и способный человек. Иметь такого сообщника было пределом мечтаний.
Под этим впечатлением и вышел Пикалов на перерыв, когда летчики закончили сдачу зачетов. Но чем умнее человек, понимал Пикалов, тем труднее поймать его в свои сети, можно самому попасться. Надо действовать очень тонко и осторожно. И у него снова мелькнула мысль использовать для этой цели Серебряного.
Знания конструкции самолета и мотора у штурманов были ниже, и отвечали они далеко не так твердо, как летчики, а когда к столу вышел капитан Серебряный и уткнулся в схему работы магнето долгим блуждающим взглядом, по лицам членов комиссии побежали улыбки. Наконец Серебряного осенило, и, взяв указку, он бойко заговорил:
– Магнето служит для выработки электрического тока, который поступает по проводам к свечам, образует искру и воспламеняет топливную смесь в цилиндрах мотора. Магнето состоит из якоря, магнитов, двух катушек с обмотками, подшипников, проводов. – Серебряный замолчал и снова забегал глазами по плакату: надо было переходить к работе магнето, как стоял вопрос в билете, показать путь тока, а штурман этого явно не знал. Но вот он увидел нарисованную на плакате стрелку и оживился: – Магнитные силовые линии, образованные при вращении якоря, пересекают первичную обмотку и возбуждают в ней ток самоиндукции. Ток, двигаясь по первичной обмотке, образует вокруг нее также магнитное поле, силовые линии которого начинают пересекать вторичную обмотку. Образованный ток во вторичной обмотке пойдет по этому направлению, – капитан повел указкой. Но вот стрелка окончила свое движение, и указка остановилась. Немного подумав, капитан продолжил: – Если ток пойдет сюда… – он оторвал взгляд от схемы и посмотрел в сторону сидящих сослуживцев. Те покачали головой отрицательно, и Серебряный твердо заключил: – То это будет неправильно.
В классе и за председательским столом засмеялись. Когда смех стих, инженер полка попросил продолжить.
– Если же ток пойдет сюда, – указка двинулась в другом направлении, и снова – взгляд на товарищей, – это тоже будет неправильно.
Новый взрыв хохота заглушил доносившийся из цеха шум станков. Смеялись все, и Пикалов, видя, что Серебряный обиженно смотрит на него, ничего не мог с собой поделать, закатывался до слез.
Капитан немного выждал и сказал с раздражением:
– Чего ж тут смешного? Ведь это я для ясности. Ток пойдет вот сюда.
И хотя на этот раз он показал правильно, смех грохнул с прежней силой…
– Придете сдавать через пять дней, – строго заключил инженер полка.
Серебряный дождался конца зачетов и обрушил свой гнев на Пикалова:
– А ты чего зубы скалил? Тоже мне, друг…
– Не вали с больной головы на здоровую, – огрызнулся Пикалов. – Поменьше надо было вечерами шляться. А может, ты специально?.. – осенила его мысль.
Серебряный даже остановился, сжал кулаки и скрипнул зубами:
– Что ты сказал? А ну повтори!
Он и впрямь готов был полезть в драку. Но в планы Пикалова это не входило. Достаточно и того, что удалось довести его до кипения. Отец поучал: «Умей влиять на настроение людей и умей извлекать из этого настроения выгоду». Когда честолюбие Серебряного страдает, в гневе он действительно готов на безрассудство. Надо гнев этот направить на других…
– Ты горло на меня не дери! – оборвал его Пикалов. – Я повторил то, что слышал.
– От кого?! – схватил его за руку Серебряный.
– От бабки Маланьи… То ты ориентировку теряешь, то на зачетах шуточки дурацкие шутишь. Не смешно.
– А чего же ты ржал?
– Почему ж не посмеяться, если друг так хочет? – Мысль о том, что Серебряный дурачка строил, чтобы посмешить товарищей, только теперь пришла ему в голову. – Ты думаешь, я не догадался? И члены комиссии, по-моему, поняли…
– Ни черта вы не поняли! – горестно воскликнул Серебряный. – Пять суток… дудки! Завтра же я буду летать! – Капитан повернулся и стал отыскивать взглядом кого-то из командиров, все еще стоявших около цеха.
– Хочешь сегодня пересдавать? – догадался Пикалов. – Не выйдет. Инженер полка слов на ветер не бросает.
– Ты плохо знаешь Серебряного! – упрямо и хвастливо заявил капитан и зашагал обратно. Пикалов не стал его удерживать. А вечером выяснил – решение инженера полка осталось в силе; между капитаном Серебряным и лейтенантом Тумановым произошла размолвка, и Пикалов не знал еще, к лучшему это или к худшему. Во всяком случае, неожиданностью для него это не было. Неожиданным оказалось другое. После ужина командир полка построил весь летный состав и сказал с огорчением:
– Товарищи! У нас произошел безобразный случай. Какой-то разгильдяй во время сдачи зачетов додумался вырвать из секретной инструкции по эксплуатации самолета схему бензо– и маслопитания. Ясно, что этот бездельник не занимался как следует, а решил воспользоваться шпаргалкой. Схема, повторяю, секретная, и потому во избежание скандала прошу, кто это сделал, сегодня же сдать схему в секретную часть. В противном случае я вынужден буду обратиться в соответствующие органы. Время военное, и вы отлично понимаете, чем все это может закончиться. И для меня, и для того, кто это сделал. Убежден, что сделано это по недомыслию, а не по злому умыслу. Потому еще раз прошу: сдайте схему….
Пикалов невольно посмотрел на Серебряного. Капитан стоял за Тумановым, низко опустив голову.
Когда Меньшиков распустил строй и все поспешили по своим делам – одни на квартиры, другие на свидания, – Пикалов догнал медленно бредущего Серебряного и взял его по-дружески под руку.
– Чем опечален потомок великого князя? Неужто повергло его в уныние то, что ему дарованы еще пять свободных дней без страха и риска?
– Катись ты со своими шуточками! – огрызнулся капитан.
– Не нравится? – усмехнулся Пикалов. – А я вчера терпел твои шуточки, не злился.
Лицо Серебряного искривилось, как от зубной боли, и Пикалов решил сменить тему, чтобы не доводить его до белого каления. Ему нужна была откровенность Серебряного, а не злость, и он сказал сочувственно:
– Плюнь на все. Пять дней – не срок. Идем лучше по сто грамм.
– Не могу, – впервые за все время их дружбы отказался капитан. – Мне надо в одно место…
Пикалов был почти уверен куда. Предложил:
– Возьми меня с собой, пригожусь.
– Обойдусь как-нибудь без помощников, – неожиданно снова разозлился Серебряный.
– Вольному воля. – Пикалов не понял, что взвинтило штурмана, и решил действовать нахрапом: – Установить, кто вырвал схему из секретной инструкции, особого труда не потребуется: все, кто брал ее в секретной библиотеке, записаны.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего, – пожал плечами Пикалов. – Просто размышляю вслух. Появляться тому дураку в секретной библиотеке вряд ли стоит.
– За честное признание меньше наказание, – возразил Серебряный.
– Так думал Иванушка-дурачок, направляясь к царю с повинною, – вставил Пикалов. – Лучше сделать так: запечатать схему в конверт, опустить в заводской почтовый ящик и позвонить секретчику. Ни ему, ни Меньшикову не выгодно раскручивать это дело, тем более ясно, что сделано это по недомыслию. А уж если виновный сам заявится, рано или поздно ему это аукнется.
– Спасибо, – Серебряный пожал крепко руку Пикалова. – Ты настоящий друг, Миша…
14
3/V 1942 г….Перелет из г. Воронежа на аэродром Михайловка…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Нет, не зря говорят, что самое дорогое, самое прекрасное у человека – жизнь. Потому что с нею связаны все наши радости, наше счастье, все наши надежды. Александр чувствовал себя так, словно весь мир лежал у его ног, словно он маг и волшебник и любое желание, стоит ему только захотеть, будет исполнено. Он – снова летчик, и пусть побаливает немного спина – Александр снова в небе, ведет новый дальний бомбардировщик Ил-4 с могучим мотором М88Б в 1100 лошадиных сил против 750 ДБ-3, на котором они летали ранее. Все радовало его – и майское ослепительное солнце, и чистое синее небо, и изумрудная зелень полей и деревьев, и безукоризненный, прямо-таки величественный строй бомбардировщиков, летевших поэскадрильно плотным правым пеленгом. Полк в полном боевом составе по новому штатному расписанию – 31 экипаж вместо 70 – возвращался на свой аэродром. 31 бомбардировщик – все остроносые, ощетинившиеся пулеметами, поблескивающие свежей краской, внушительные, грозные. Некоторым экипажам уже довелось совершить на них с Воронежского аэродрома по нескольку боевых вылетов. Летчики и штурманы остались довольны самолетом.
Александр на боевые задания еще не летал, но из рассказов товарищей сделал вывод: в настоящих воздушных схватках с истребителями Ил-4 еще не побывали и судить об их непогрешимости рано. А о том, что надвигаются грозные события, свидетельствовали военные сводки, донесения воздушных разведчиков. Немцы сосредоточивают на южном крыле фронта огромное количество войск, техники; все бывшие наши аэродромы запружены истребителями и бомбардировщиками.
Приближалось жаркое время, жестокие бои. Но Александра они сейчас не волновали – он летел туда, где его ждала любимая, и он уже мысленно произносил ей ласковые слова, обнимал, гладил нежную кожу лица, целовал прохладные милые губы.
Она писала ему не очень длинные, но полные любви, душевной теплоты письма, просила беречь себя, не рисковать безрассудно. Милая, дорогая Иришка! Если б она знала, как он истосковался по ней. Не было, наверное, часа, минуты, чтобы он не вспоминал, не думал о ней. Вот ведь как странно устроена жизнь: Ирина – чужой человек, чужая жена, а стала ему ближе, роднее сестры. Риту он, разумеется, любил, жалел, но она как-то отошла на второй план.
Командир полка предупредил, что как только экипажи произведут посадку на своем аэродроме, сразу приступят к подготовке к ночному боевому вылету: боевое задание уже получено. Но до ночи останется время, и Александр был уверен, что выкроит если не час, то хотя бы несколько минут, чтобы повидаться с Ириной. Может, она и сама, прослышав о возвращении полка, придет на аэродром встречать его.
Мечты, мечты! Он и предположить не мог, какое огорчение ожидает его… Встречать на аэродром их действительно пришли не только наземные авиаспециалисты, командиры и бойцы базы обслуживания, но и повара, и официантки, врачи и медсестры, жители из соседних станиц. Едва первая десятка прошла над аэродромом, как туда повалили люди. Они остановились на краю летного поля, недалеко от стартового командного пункта, и приветствовали приземлявшиеся экипажи помахиванием пилоток, букетами цветов.
Александр летел во второй десятке, когда встречающие уже сосредоточились на краю летного поля. И хотя бомбардировщик пронесся над ними в сотне метров, различить в толпе Ирину и Риту он не мог.
Самолеты встречали механики и разводили их по вырытым за это время капонирам.
Как только приземлился последний самолет, поступила команда строиться. Меньшиков объявил дальнейший распорядок дня: до 12 часов – подготовка самолетов к боевому вылету, в 12.30 – обед, после – отдых. В 18.00 – ужин. Построение на аэродроме – в 19.00. Разведчиком погоды летит экипаж капитана Зароконяна, осветителем цели – экипаж капитана Арканова. Цель и маршрут полета будут объявлены дополнительно.
Александр взглянул на часы – без десяти десять. Превосходно! Времени, как говорится, навалом, он успеет навестить Ирину.
У бомбардировщика его поджидал дежурный по аэродрому, тихонько шепнул:
– Там тебя ждут.
Дав команду осмотреть самолет, дозаправить бензином и маслом, Александр заспешил на край аэродрома, где все еще толпились люди – к самолетам бойцы из оцепления посторонних не пускали.
Он издали увидел, как навстречу ему пошла девушка в гимнастерке, юбочке и пилотке. Но это была не Ирина, что огорчило его.
Рита бросилась ему на шею и сквозь слезы спросила:
– Как твоя спина? И вообще как ты себя чувствуешь? Я все время так переживала… – Заметила, что он не слушает ее, шарит по толпе взглядом, сказала ревниво: – Не ищи. Ее вчера вызвали в Ростов. Она забегала ко мне, передала тебе привет и уехала.
У него надсадно заныло сердце, и безысходная тоска сдавила грудь.
– Не говорила, кто и зачем ее вызвал?
Рита покачала головой.
А он-то спешил! Опоздал всего на день… Зачем ее вызвали? Разыскал Гандыбин или по служебным делам?
– Ты не расстраивайся, – стала успокаивать Рита. – Она обещала вернуться, Сказала, что любит тебя и разыщет, где бы ты ни был.
– А другие девушки?
– Все на месте. Только ее вызвали и еще одну, какую-то Таю.
Тяжесть отлегла от сердца – похоже, не муж…
15
10/V1942 г. Боевой вылет в район Симферополя с бомбометанием по аэродрому Саки…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Громадное красное солнце, похожее на раскаленный шар, лежало на вершине могучего плоского облака, поднимающегося из-за горизонта, и было видно, как это облако накаляется и прогибается под тяжестью шара. Все вокруг принимало красноватый оттенок – и крыши виднеющейся вдали станицы, и деревца на краю аэродрома, и даже закамуфлированные бомбардировщики.
Александр смотрел на закат, на багровые облака, и на душе отчего-то становилось неспокойно, тоскливо. Серебряный подошел к нему, сказал, как всегда, с усмешечкой:
– Солнце красно вечером – нам бояться нечего. Если красно поутру, вот тогда не по нутру.
– Похоже, врет твоя поговорка, – возразил Александр. – Есть чего бояться: видишь, какая наковальня поднимается? Быть грозе.
– Гроза не фронтальная, обойдем.
Словно в подтверждение слов штурмана, заработали моторы на одном самолете, на другом, и вскоре весь аэродром огласился могучим рокотом. Спустя немного бомбардировщики один за другим порулили на старт.
Александр провожал экипажи с какой-то печалью в сердце – может, оттого, что не летел с ними, может, после длительного перерыва обострилось чувство опасности, и, когда последний бомбардировщик скрылся в огненном мареве, пошел в капонир, к своему самолету, чтобы заняться каким-нибудь делом и отогнать невеселые мысли. Серебряный засеменил следом.
– А нам, значит, комполка какой-нибудь сюрпризец приготовил? – высказал он предположение.
Александр не ответил. Он и сам догадывался, почему их экипажу приказали задержаться со взлетом: Меньшиков его жалеет и опекает, а Петровский не очень-то доверяет. Вот потому и сидят они на земле, когда другие идут в плотном строю к цели…
Он забрался в кабину, посидел, подвигал педали, ручку управления, глядя, как из стороны в сторону отклоняется руль поворота, элероны, поставил стрелку высотомера на нуль. Несмотря на то что солнце почти совсем утонуло в облаке, дюраль еще не остыл и в кабине было душно, пахло ацетоном, краской. Александр спустился на землю, где его поджидал Серебряный.
– Ты, пожалуй, прав, командир, – кивнул капитан на облако, – быть грозе. Чувствуешь, как запахи обострились? И духота не спадает.
Они вышли из капонира и увидели отъехавшую от КП эмку. Командирская машина направилась прямо к ним.
– Становись! – скомандовал Александр экипажу.
Эмка затормозила метрах в пятидесяти. Меньшиков выскочил на ходу и, выслушав рапорт, спросил у Серебряного:
– Сколько бомб взяли?
– Как и велено: десять ФАВ-100 и две ФАБ-250, – ответил капитан.
– «Двестипятидесятки» снимите, – приказал подполковник и потянул ремешок свисающего почти до земли планшета Серебряного. Штурман уловил намерение командира, подхватил планшет и раскрыл его так, чтобы был виден весь маршрут полета на карте. – Полетите по другому маршруту. Вот сюда, – указал Меньшиков точку на карте. – Да, почти на свой бывший аэродром. Плато Орта-Сырт. Выход на цель ровно в час тридцать. Обозначение цели: пять костров с востока на запад и два по бокам – наше посадочное «Т». Плюс ко всему – две красные ракеты. Только после этого дадите команду прыгать. – Меньшиков обернулся, и Александр увидел у эмки девушку в голубеньком, в горошек платьице, достающую из кабины рюкзак и ватник Когда девушка подняла голову, Александр онемел от удивления: Ирина! Меньшиков глянул в широко открытые глаза летчика, утвердительно кивнул: – Да, ваша бывшая ученица, теперь пассажирка. Доставить ее к месту в целости и сохранности. Выбросите ее и повернете на наш бывший аэродром. Надо бы побольше зажигательных взять, да ладно, теперь менять поздно. Самолетные стоянки так же, как у нас, расположены, заходите с юго-востока на северо-запад. Отбомбитесь – и домой. – Меньшиков пожал каждому члену экипажа руку и направился к девушке. Что-то сказал ей веселое, кивнул Туманову: принимай! Сел в эмку и уехал. Александр все еще с недоумением смотрел на Ирину, не зная что предпринять, как себя вести. Настолько все было неожиданным – ее появление, платьице в горошек, рюкзак, ватник…
Ирина как-то озорно глянула на него, на строй и наклонилась над рюкзаком.
– Сурдоленко, помоги, – пришел наконец в себя Александр и шагнул вслед за сержантом, который находился уже около девушки и поднимал ее рюкзак. – В свою кабину. И девушке подготовьте место. – Повернулся к Серебряному: – Снимайте лишние бомбы. – Взял Ирину за локоть и повел от самолета. Когда члены экипажа скрылись за капониром, притянул ее к себе, поцеловал: – Здравствуй!
Она прильнула к нему, обхватила за плечи.
– А все-таки мы с тобой счастливые, – сказала радостно, возбужденно. – Я хотела только увидеть тебя перед дальней и долгой командировкой, а оказалось, ты даже выбрасывать меня будешь…
Он не находил слов, лишь теребил ее густые черные волосы, заплетенные в косы и закрученные в тугой узел на затылке.
Их разговор прервал упавший с высоты гул самолета – нудный, с прерывистым завыванием. Запоздало заукала сирена, и все, кто был у самолета – штурман, стрелки, авиаспециалисты, – рванулись к бомбоубежищу. Александр тоже хотел бежать, схватил Ирину за руку и смутился: она насмешливо поглядывала то на убегавших, то на него.
– Что это? – спросила с наивной невинностью.
– Видишь ли… – неуверенно попытался Александр оправдать товарищей, – никто не боится так бомбежек, как авиаторы; может, потому, что сами бомбят. Кстати, нам тоже не мешало бы воспользоваться бомбоубежищем. Чем черт не шутит…
– Так это же «фокке-вульф», разведчик, – упрекнула Ирина. – Разве ты по гулу не узнал?
Александр поразился ее слуху: в небе и в самом деле завывала «рама», но отличить ее от других самолетов даже он, летчик, сразу не смог… Разведчик конечно же бомбить не станет. Прилетел, видимо, чтобы сфотографировать аэродром. Вовремя угодил – почти все самолеты находились в небе.
Зенитки открыли огонь. «Фокке-вульф» покружил немного и удалился восвояси.
Из бомбоубежища показались Серебряный со стрелками и авиаспециалистами.
– Что, командир, решил проверить выдержку нашего нового члена экипажа? – сострил Серебряный.
– Нет, Ваня, это она проверила нашу. И, скажу тебе по секрету, некоторые очень некрасиво выглядели, особенно симпатичный капитан.
– Так я не от Ганса, за папиросами в каптерку бегал. – Серебряный для убедительности достал портсигар.
– Ты же не куришь, – разоблачил его Александр.
– Чего ради дружбы не сделаешь, – остановился около них Серебряный и протянул девушке портсигар. – Закурите на счастье.
Ирина и Александр взяли папиросы. Серебряный щелкнул зажигалкой, дал им прикурить.
– Чтобы дома не журились. – Затянулся и закашлялся. – Не зря говорят: капля никотина лошадь убивает. – Раздавил носком сапога окурок, влюбленными глазами посмотрел на Ирину. – Оставайтесь в нашем экипаже насовсем. Такого штурмана из вас сделаю!
– Боюсь, Ваня, ты в первом же полете с ней потеряешь ориентировку. Да и кабина у тебя тесная.
– А ты не бойся, командир, с Ваней Серебряным она никогда ничего не потеряет.
– Уговорили. – Ирина выпустила изо рта дым, как заправская курильщица. – Так и быть, после войны займусь штурманским делом. А сейчас разрешите, товарищ капитан, кое-какую консультацию получить у командира. Конфиденциально.
– Пардон, пардон. – Ваня лихо козырнул и заспешил за стрелками.
16
…К лету 1942 г. сильно осложнилось положение советских войск в Крыму – в районе Севастополя и особенно на Керченском полуострове…
(Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945)Чернильная темнота окутывала самолет. Частые вспышки молний били по глазам, ослепляя и оглушая. Не видно ни стрелок приборов, ни лампочек подсветки, не слышно гула моторов, лишь чувствуется, как бомбардировщик то проваливается вниз, то взмывает ввысь. Трещат и стонут нервюры, звенят от напряжения стрингера; кажется, самолет вот-вот развалится. С консолей крыльев срываются голубые огненные язычки электрических разрядов, а там, где крутятся винты, светятся неоновые круги. Непонятно, каким чудом держится самолет в этом адовом небе, бушующем грозовыми смерчами, и как ему, молодому летчику, удается вести его в кромешной тьме, когда из поля зрения то и дело исчезают авиагоризонт, указатель скорости, вариометр.
А молнии сверкают все чаще, все оглушительнее гремят раскаты грома.
– Штурман, стрелки, как вы там? – поинтересовался Александр по СПУ сквозь неимоверный треск электрических разрядов.
– Нам-то что, – отозвался Серебряный, – сидим, бога вспоминаем. А тебе как – ни одной стрелки не видно? Может, вернемся? Облака плотнеют, и если врежемся в саму грозу…
– Ты же говорил, бояться нечего, обойдем.
– И на старуху бывает проруха…
Вернуться… Заманчивая идея. Весь день они провели бы вместе… Столько ждал он этой встречи! И доведется ли увидеться еще! По слухам, фашисты свирепствуют в Крыму, большие силы бросили против партизан. А леса и горы там не ахти какие… Трудно придется Иринке. Жалость к ней, одиночество, которое он испытывал, пока не нашел ее, снова хлынули в душу, и он едва сдержался, чтобы не позвать ее по СПУ, не высказать своих чувств.
Перед самым носом бомбардировщика сверкнула молния, ударила сверху вниз, чуть наискосок, и в кабине остро запахло озоном.
– Товарищ командир, экипажи, что пошли на бомбежку, запрашивают запасную цель, – доложил Сурдоленко. – Не могут пробиться: гроза.
– А Меньшиков наказывал нам доставить ее в целости и сохранности, – напомнил Серебряный. – Мы не имеем права рисковать.
Александр, чтобы не выдать разрывающую душу тоску, хотел ответить шуткой, а получилось зло:
– Заботливый, погляжу. Рассчитываешь провести занятия, как ориентироваться по звездам?
Серебряный то ли не уловил злости, то ли не обратил на это внимания, хохотнул:
– А что, я такой.
Бомбардировщик швыряло, как утлое суденышко в штормовом море. Александр еле удерживал штурвал, то и дело выхватывал машину из падения, из кренов. Да, разумнее было вернуться. Он нажал кнопку СПУ.
– Сурдоленко, свяжи-ка меня с пассажиркой.
Он представил, как стрелок-радист снимает со своей головы шлемофон, надевает на Ирину, как пристегивает, касаясь руками ее шеи, ларингофоны, и в груди шевельнулась ревность. Ему захотелось самому погладить ее нежную шею, щеки.
– Товарищ командир, слушаю вас, – отозвалась Ирина официально, будто чужая, и все равно он уловил в ее голосе милые, родные оттенки, которые наполнили его сердце нежностью, любовью.
– Как себя чувствуете? – Он вынужден был говорить с ней на «вы», чтобы в случае каких-либо осложнений не бросить на нее и тени своей тяжелой судьбы – ведь, кроме Серебряного, никто в полку не знает, что они больше чем знакомые…
– Терпимо. Ваши ребята леденцами угостили – помогает.
– Вернуться придется. Видите, какая гроза?
– Очень даже красивая. Мне ни разу не приходилось видеть такое.
– Из этой красоты можно сразу в преисподнюю попасть.
– Догадываюсь. И все же возвращаться никак нельзя: меня ждут именно сегодня. Представляете себе, что значит переносить встречу в тылу врага?
Он представлял. И хотел сделать все от него зависящее и не зависящее, чтобы она осталась жива.
– Не лезть же в пекло! – вмешался Серебряный.
– Все, Ваня, дебаты окончены, – категорично пресек он разговор. – Летим к цели. Кстати, впереди вон «окно» уже просматривается.
Никакого «окна» он, разумеется, не видел; стрелки еще могут поверить ему, а штурмана, несмотря на всю его наивность, не проведешь. Да и в носу он сидит, все видит. Но Ваня промолчал. А минуту спустя сам поддержал командира:
– До цели осталось всего двадцать минут лету. Теперь, само собой, дотопаем.
Болтанка стала утихать, а вскоре вверху показалась одна звезда, другая, и вот уже по курсу действительно обозначилось «окно», в которое и вошел бомбардировщик, все еще вздрагивая изредка, словно от воспоминания о пережитом или от озноба.
– Доверни на десять влево, – попросил Серебряный. Он успел сориентироваться по звездам и уточнить курс. – Так держать. И можно потихоньку снижаться, а то заморозим нашего пассажира.
Александр сбавил обороты моторам, и гул заметно ослабел. Внизу то слева, то справа вспыхивали трассирующие пули, и, хотя до самолета они не долетали, у Александра снова душа наполнилась тревогой: что и кто ожидает Ирину внизу?..
– Командир, костры по курсу, – доложил штурман. – Переводи на горизонтальный.
Александр машинально взглянул на высотомер: да, хватит снижаться. Тысяча двести, высота, определенная для прыжка.
– Спасибо, товарищ лейтенант, за благополучную доставку, – прозвучал в наушниках голос Ирины. – Прилетайте в гости. Буду ждать. Не забудьте мои позывные.
– Не забуду… – Предательские спазмы сдавили ему горло.
– Горит красная ракета. Вторая. И костер выложен согласно условиям, – сообщил Серебряный.
– Вижу. Рассчитай поточнее.
– Как в аптеке, командир. Приготовились!.. Пошел!
Бомбардировщик даже чуть вздрогнул. Или это показалось Александру, а вздрогнул он сам? Он накренил машину, посмотрел вниз, но, кроме непроглядной черноты, ничего не увидел.
– Разворот вправо. Курс двести девяносто.
– Подожди, Ваня, надо убедиться…
– Ну-ну. Сделай кружок.
Лишь когда в небо взметнулись красная, а за ней зеленая ракеты, Александр вздохнул с облегчением и стал разворачиваться на заданный курс. Костры еще минут пять светились внизу, но вот исчезли – то ли их погасили, то ли затмило расстояние.
– Подержи, командир, я ветерок уточню, – попросил Серебряный.
Не успел он закончить промер, как впереди вспыхнули три луча прожектора и, расходясь и скрещиваясь, стали шарить по небу. Бомбардировщик шел им навстречу.
– Так держать, командир. Открываю бомболюки!
Самолет чуть клюнул носом: открытые створки бомболюков создали внизу дополнительное сопротивление.
На земле замелькали вспышки: зенитки открыли огонь. Но их было немного – сюда наши самолеты залетали редко.
Штурман сбросил САБ, и аэродром осветился неярким, но вполне достаточным светом, чтобы рассмотреть на стоянках «юнкерсы», «хейнкели», «мессершмитты».
– Крути, командир, восьмерку.
Это означало, что нужно отвернуть вправо, затем влево и встать на обратный курс, чтобы штурман все хорошо рассмотрел и выбрал объект бомбометания.
Бомбардировщик послушно лег на правое крыло, на левое, и снова голос штурмана прозвенел в наушниках: – Так держать! На боевом!
Снаряды рвались совсем близко и ослепляли почти как молнии. Серебряный словно не замечал их, рассуждал вслух:
– Так… Отлично идем. Хорошо, – И вдруг заорал благим матом: – Стой! Стой, говорю, хрен моржовый!
– Как это «стой»? – опешил Александр.
– Да КП пропустил, кнопку забыл нажать! – чертыхнулся штурман.
– Лучше бы ты забыл штаны расстегнуть, когда на унитаз садился.
– Прости, зевнул, – оправдывался Ваня. – Надо еще раз зайти.
– Понятно, надо, – смягчился Александр. Руганью делу не поможешь, и лишняя взбучка лишь взвинтит штурмана. Да и понять его можно – такой перерыв в полетах…
– Как же я так? – сокрушался Серебряный. – Вел, вел…
– И увел, – весело вставил Александр, чтобы окончательно успокоить штурмана. – Придется наказать тебя, лишить фронтовых.
– Согласен, командир. Фронтовые сегодня не заработал. Из-за моего зевка снова в пекло лезть надо.
– Ну, это еще не пекло. Не зевни второй раз.
– Навек запомню. Так держать! Сброс!
Бомбардировщик облегченно взмыл, а внизу один за другим полыхнули разрывы. Загорелись стоявший невдалеке от КП самолет и бензозаправщик, освещая небольшой, с шахматными квадратиками на стенах домик.
– Промазал! – чертыхнулся Ваня. – И бомбы все сыпанул.
– Хорошо, хоть в самолеты попал, – подбодрил штурмана Александр. – Оставим КП на другой раз.
– Курс шестьдесят. Набирай высоту.
– Высоко не полезем, попытаемся обмануть грозу низом. Рассчитай курс, пока облака не закрыли звезды.
Звезды действительно вскоре стали меркнуть, а через несколько минут исчезли совсем, но Серебряный уже сделал свое дело, и бомбардировщик прямым курсом шел к своему аэродрому. Снова начиналась болтанка, усиливающаяся с каждой минутой.
Сверкнула молния, какая-то замедленная, зигзагообразная. Высветила узкую полоску между космами облаков и бескрайней степью.
– Да, командир, «потолочек» у нас над головой. За высотой глаз да глаз нужен, – предостерег Серебряный.
– Зато никакой «мессер» не увяжется.
Минут двадцать они летели в кромешной тьме, ничего, кроме приборов, не видя. Молнии вспыхивали все реже и наконец остались позади. Облака оборвались, обнажив на востоке едва заметную серую полоску, – наступал рассвет.
Бомбардировщик неощутимо плыл в спокойном предутреннем воздухе, и Александр, откинувшись на спинку сиденья, думал об Ирине, о своей изменчивой судьбе: столько пережито радостей и горя, столько испытано невзгод, лишений! Судьба будто смеется над ним. Поманит к счастью, а едва он прикоснется к нему – все рушит.
– Аэродром по курсу! – торжественно возвестил Серебряный.
– Будем садиться с ходу.
Александр направил нос самолета в начало взлетно-посадочной полосы, выпустил шасси и закрылки.
– Возьмите немного правее, – предупредили его с КП. – Ночью аэродром бомбили, не попадите в воронку.
Значит, «фокке-вульф» кружил недаром. Только кого застали фрицы?
Лучше бы руководитель полетов не подсказывал под руку.
Александр увидел воронку, когда бомбардировщик уже бежал по траве. Она была не очень-то большая, но перепрыгнуть ее скорости не хватило бы. Александр резко толкнул правую педаль и нажал на тормоз. Самолет метнулся вправо, заскрипела резина. И все-таки скорость была еще великовата: бомбардировщик пополз юзом, стойки шасси не выдержали, хрустнули. Винты рубанули по земле, поднимая клубы пыли.
17
28/V 1942 г….Боевой вылет с бомбометанием по аэродрому Полтава…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Весь май гремели грозы, особенно в конце месяца. Рано утром в чистом голубом небе на западе, у самого горизонта, появлялись белесоватые барашки, незримо округляющиеся, плотнеющие и поднимающиеся в зенит. К обеду барашки вырастали в мощные кучевые облака с крутыми шаровидными боками и темными лилово-сизыми основаниями. Едва завершалось внешнее оформление, как облака начинали стремительно набухать, раздуваться и темнеть. К вечеру разражались грозы, бушующие почти всю ночь. Но, несмотря на непогоду, бомбардировщики уходили на задания.
Отношение к Петровскому в особом отделе заметно потеплело, и работать ему стало спокойнее, легче, в полку вот уже полгода нет никаких ЧП. Все будто бы тихо, благополучно. Но именно – будто бы. До сих пор не обнаружены выброшенные с «хейнкеля» агенты, затаился прочно и вражеский радист – месяцами не выходит на связь со своими «хозяевами». Передал из Воронежа, что встреча со связниками не состоялась, и – ни звука. Возможно, имеет какие-то другие каналы связи. Как бы там ни было, разведчик опытный, знает себе цену и на риск не идет. Кто он и где? В полку, в батальоне обслуживания или еще где-то? Предпринятые Петровским меры результатов пока не дали. Большую надежду он возлагал на выброшенных с самолета, но они словно сквозь землю провалились. И все равно надо ждать. Рано или поздно они должны объявиться. Подаст в конце концов голос и радист, тем более что события на фронте развиваются непредвиденно, потребуют новой своевременной информации о войсках: успешно начавшаяся в районе Харькова операция закончилась поражением наших войск, фашисты перешли в наступление в районе Воронежа, Донбасса, в Крыму. Боевая нагрузка на полк Меньшикова возросла в несколько раз. Бомбардировщики из-за коротких ночей и активных действий немцев вынуждены летать на бомбежку переправ, скоплений войск и днем. Разведчик в таких обстоятельствах не может молчать. Надо ждать. Надо слушать и смотреть в оба…
Кое-что удалось Петровскому выяснить и об анонимном письме на Меньшикова: печаталось оно на машинке продовольственного отдела БАО. К сожалению, пользовались этой машинкой все кому не лень. И все же некоторых, представлявших особый интерес, Петровский выявил. Одним из них был старший лейтенант Пикалов…
Часть четвертая
1
5/VII 1942 г….Боевой вылет с бомбометанием по переправе через Дон в районе Воронежа.
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Солнце опустилось к самому горизонту, а жара не спадала. Горячий воздух неподвижно висел над аэродромом, перехватывал дыхание. Даже птицы куда-то попрятались, смолкли цикады, кузнечики; а люди стояли у капониров, напряженно всматриваясь в горизонт на западе, откуда должна была появиться семерка бомбардировщиков. Прошло уже полчаса, как ей следовало вернуться, и, хотя по расчету горючее в баках еще имелось, Александр видел, как нарастает на лицах однополчан тревога. Да и сам он понимал: задержка не случайная. Оттуда, с Дона, где фашисты навели переправу, которую полк получил задачу уничтожить, не вернулся уже не один самолет. И Александр недоумевал: всего три дня назад наши Ил-4 успешно отражали атаки истребителей, семерка капитана Арканова, встретившись с семью Me-109, в течение пяти минут расправилась с ними, не потеряв ни одного своего; только экипаж капитана Зароконяна сбил двух «мессершмиттов». А вот теперь… Вчера не вернулся экипаж капитана Кучинского, сегодня утром – лейтенанта Алешина. И два бомбардировщика чудом дотянули до своего аэродрома – с пробитыми бензобаками, крыльями, рулями управления. Теперь задерживалась вся семерка – опытнейшие экипажи третьей эскадрильи, воевавшие с первых дней войны.
– Летят! – раздался чей-то радостный возглас.
Александр обвел небосвод взглядом, но ничего не увидел, хотя гул самолетов откуда-то действительно доносился.
Тройка бомбардировщиков появилась не с запада, а с севера; выскочила из-за колхозных садов и сразу пошла на посадку. Спустя минут пять приземлились еще два бомбардировщика. От капониров, разбросанных по аэродрому, со всех сторон к прилетевшим кинулись летчики, штурманы, стрелки-радисты, техники… Обступили друзей плотным кольцом и молча смотрели на них, не задавая вопроса, мучившего каждого. Лишь когда сквозь толпу стал пробиваться подполковник Меньшиков, ему навстречу шагнул капитан Арканов.
– Товарищ подполковник, боевая задача по уничтожению переправы выполнена, – доложил он глухо и безрадостно; поперхнулся, сглотнул тугой комок и продолжил: – Экипаж лейтенанта Вдовенко погиб. Погиб геройски: над целью самолет был подбит и загорелся. Летчик направил его в переправу.
– И никто не выпрыгнул? – спросил кто-то сзади.
– Мы не видели, – ответил за весь экипаж Арканов.
– Я как раз был на внешней связи и слышал, как Вдовенко передал: «Идем на таран переправы!» – дополнил рассказ капитан Зароконян.
– А Колесников? – спросил Меньшиков у Арканова о втором не вернувшемся экипаже.
– Сёл на вынужденную. Подбили. Не дотянул километров пятьдесят…
Вечером за ужином выпили фронтовые сто граммов в память о геройски погибших. Меньшиков распорядился:
– Всем на отдых. Подъем в три ноль-ноль… Туманов, вы тоже летите. На моем самолете.
Утро принесло нерадостное известие: фашистам удалось в районе Воронежа захватить небольшой плацдарм на левом берегу Дона. Крупные их силы сосредоточены между Доном и Северским Донцом. Полк получил боевую задачу нанести бомбовый удар по железнодорожному узлу Белгород, где разведка обнаружила большое скопление эшелонов с боевой техникой и живой силой.
Экипаж Туманова сидел в самолете, одетый во все меховое, – полет предстоял на большой высоте, – и Серебряный честил почем зря снабженцев, на складе у которых ничего не нашлось для него по росту: комбинезон болтался на нем как на вешалке; унты, несмотря на то что он намотал на ноги поверх портянок по полотенцу, елозили по голеням и никак не хотели держаться. Пока шли с построения к самолету, Ваня трижды садился переобуваться. Александр посоветовал ему пристегнуть унты к поясу – для этого имелись специальные лямки, – штурман послушался, и идти ему действительно стало легче, но теперь, сидя в кабине, он снова чертыхался: мешали лямки.
– Теперь ты можешь их отстегнуть, – подсказал Александр.
– А если прыгать придется? Унты слетят в два счета…
– Сорок пятый, на связь! – прервал их пикировку голос командира полка.
– Сорок пятый слушает, – отозвался Александр.
– Готовы к выполнению задания?
– Так точно.
– Вам изменение. Пойдете под Воронеж на разведку переправы. Сфотографируете ее и, если она восстановлена, сбросите бомбы.
– Один?
– Почему один? С экипажем, – пошутил Меньшиков.
– Понял.
Хотя понять было трудно: на такую цель – одному экипажу. Но другого выхода, видно, нет…
Александр спустился на землю, чтобы дать команду технику установить фотоаппарат; вылез из кабины и Серебряный. Расстегнул комбинезон, вытер вспотевшее лицо, шею.
– Значит, на высоту не полезем?
– Как слышал. Пойдем тысячи на две, фотографировать. Сам определи, с какой высоты.
– Отлично. – Серебряный сбросил комбинезон, отдал механику. – Отнеси в каптерку. – С сожалением посмотрел на свои лохматые собачьи унты. – Жаль, сапоги не обул, теперь придется таскать вот эти волкодавы.
Александр тоже снял свой комбинезон и попросил механика:
– Принеси кожаную куртку.
– Предусмотрительный, – усмехнулся Серебряный. – В каптерке держишь. А мне урок не впрок: в Запорожье все шмотки оставил на квартире, в том числе и летное обмундирование. Теперь вот получил на три номера больше. – Он вздохнул и стал привязывать лямки к поясу брюк. – Сон я сегодня хреновый видел: будто молния в наш самолет ударила. Выбрались мы из кабины, кто за что уцепился. Только Сурдоленко оттолкнулся и за край луны схватился. Кричит: «Деньги матери перешлите, пусть не плачет, мне хорошо здесь».
– Действительно, хреновый сон, – оборвал его Александр. – И штурман ты никудышный – веришь во всякую ерунду, другим рассказываешь.
– Может, и никудышный. Только вот попомнишь – собьют нас. Луна – это к покойнику.
Александр смотрел на Ваню и не верил своим глазам – вечный балагур и бесшабашный человек вдруг сник и говорил печальным, предсмертным голосом. Неужели он в самом деле верит во всякую чепуху?
На подготовку ушло около получаса. Группа, которой предстояло бомбить Белгород, уже взлетела, и с КП торопили Туманова:
– Чего тянете? Взлетайте.
– По местам! – скомандовал Александр.
Сурдоленко вдруг замешкался и, подойдя к технику, протянул ему пачку денег:
– Отошли матери. Адрес там, – указал он взглядом на пачку.
Александра взорвало:
– Что, и ты испугался сновидений?
– Каких сновидений? – не понял сержант.
Вообще-то когда Серебряный рассказывал сон, сержанта поблизости не было; похоже, он и вправду не слышал предсказания штурмана, и Александр сбавил тон:
– Сам пошлешь после полета.
Сурдоленко пожал плечами:
– Так вернее.
На душе у Александра стало муторно и гадко, впору хоть отказывайся от полета. Он обозвал в душе себя трусом и поторопил Сурдоленко:
– Давай в кабину. Взлетаем.
Бомбардировщик бежал долго, нудно и жалостно воя, словно не хотел отрываться от земли. А из головы не выходил сон Серебряного, просьба Сурдоленко. Говорят, люди предчувствуют надвигающуюся беду… Чепуха! Просто у Серебряного не выдержали нервы, опасность взвинтила его, родила фантасмагорию, вот он и стал мистиком. Только вчера он шутил со Вдовенко, провожая его в полет, – и вдруг того нет. Вот Ваня и скис. Надо как-то подбодрить его.
– А погодка – миллион на миллион. Фрицы и не ждут нас. Давай, Ваня, поточнее ветерок рассчитай, чтоб с первого захода, пока фрицы не очухаются, все сделать.
– Грозился заяц поймать лису, – невесело отозвался штурман. – Ты лучше с моторами поколдуй, чтоб, как у «юнкерса», выли.
– Это сделаем, – пообещал Александр. В прошлый раз он тоже летал на командирской машине и неожиданно для себя открыл одну вещь: когда убрал обороты одного мотора, гул обоих стал неровный, с волнами завывания, как у «юнкерса». Но это было уже на обратном пути, над нашей территорией.
Теперь предоставлялась возможность проверить этот «эксперимент» в деле.
Внизу чуть правее показался Воронеж, затянутый смрадным дымом, стелющимся вдоль левого берега одноименной реки; то там, то здесь вспыхивали разрывы. Город обстреливала вражеская артиллерия, а может, бомбила авиация.
– Командир, десять влево, – попросил Серебряный. – Пойдем западнее.
Когда бомбардировщик, сделав петлю, взял курс вдоль Дона, в небе появились разрывы: фашистские зенитки, расположенные на правом берегу, открыли огонь. Александр набрал еще триста метров, и белые облачка стали вспыхивать то ниже, то выше: зенитчики пристреливались.
Александр посмотрел вниз. Правый берег Дона кишел людьми и техникой, по дорогам с запада на восток двигались колонны машин, танков, орудий. Все это скапливалось у берега и готовилось к броску через реку, где на левобережье почти ничего и никого не было видно: наши войска то ли хорошо замаскировались, то ли остались за Доном.
Бомбардировщик выходил на траверз Воронежа. Огонь и дым там бушевали повсюду.
– Командир, десять вправо… Так держать!
Александр молча вел бомбардировщик как по нитке. Разрывы теперь вспыхивали все чаще и плотнее, все ближе и ближе. Кабина наполнилась сладковато-горьким специфическим запахом сгоревшего тротила, в горле першило, из глаз лились слезы, мешая наблюдать за приборами и за тем, что творилось внизу.
Воронеж… Еще два месяца назад – тихий милый город со множеством деревянных домишек, родных и уютных, умиротворенных и гостеприимных, с добрыми, хлопотливыми людьми. Ровные улочки, тополя, акации, сирень в палисадниках. Теперь все дымилось, горело…
– Слушай, командир, а не перемудрил ты с этим звуковым эффектом? – спросил Серебряный. – Мне кажется, что и наши лупят по нас.
– Пусть лупят так же мимо, – оптимистично пожелал Александр. – Жаль, что мы не можем ответить фрицам. Посмотри, сколько техники скопилось. Черным-черно. Хоть одну б «соточку».
– Переправа важнее. Надо искупать их в нашем родном Дону, чтоб потомкам заказывали…
Грустные нотки в голосе Серебряного больше не слышались, но хватит ли у него выдержки в самую ответственную минуту, на боевом курсе? От его самообладания будет зависеть выполнение задания и жизнь всего экипажа…
Воронеж уплывал под крыло. Разрывы зениток поутихли. Но ненадолго. Впереди чуть заметной лентой обозначилась переправа.
– Снижайся до тысячи двести, – скомандовал штурман.
Александр отдал от себя ручку, и бомбардировщик клюнул носом. Переправа стала быстро расти, контрастнее выделяясь на водной глади. Да, за ночь ее восстановили, и теперь по ней, как муравьи перед дождем, мчались танки, машины с орудиями и прицепами, бензовозы.
– Может, сразу шарахнем? – предложил Серебряный. – Уж очень эффектно прут. И зенитки пока дремлют – похоже, вправду за своего приняли.
– Не станем переубеждать их, – ответил Александр. – Пройдем без бомбометания. Сфотографируем, пока они не разглядели нас.
Действительно, то ли из-за того, что немцы приняли Ил-4 за «юнкерс», то ли плохо видели его на солнце – огонь они не открывали. Штурман без особого труда отснял правобережную часть переправы. Требовалось зайти еще раз, вдоль левого берега, но, когда бомбардировщик, развернувшись на сто восемьдесят градусов, лег на обратный курс, его встретил шквал огня. Стреляли зенитные орудия, пулеметы, автоматы – стреляло все, что могло стрелять; перед бомбардировщиком сплошной стеной повисли разрывы, сквозь которые, казалось, не пробиться. И обходить нельзя! Ни подняться, ни снизиться: снимки должны быть одномасштабные, монтироваться… Не лезть же в этот кромешный ад…
– Может, сделаем еще кружок да зайдем со стороны солнца? – предложил Александр.
– Нет уж, командир, обходить не будем, – упрямо возразил штурман, – слишком большой крюк. И зенитки не «мессершмитты», палят в белый свет как в копеечку.
Бомбардировщик вошел в зону заградительного огня, и его стало бросать, словно в грозовом облаке: слышно было, как скрипит металл, как барабанят осколки по обшивке, разрывая и корежа дюраль. Александр чувствовал каждый удар, и сердце замирало в ожидании самого страшного, уже однажды пережитого. Но он отгонял прошлое, туже сжимал штурвал, следил за показаниями приборов.
– Десять влево… Еще пять… Так держать! Включаю фотоаппарат, – доложил Серебряный.
Вспышки разрывов бушевали все яростнее. От смрадной тротиловой гари перехватывало дыхание, и не было времени, возможности надеть кислородную маску. Александр откашлялся, зажал замшевой перчаткой рот.
Лента переправы поползла под крыло. Бомбардировщик продолжало бросать и трясти взрывными волнами, сечь осколками, грозя разломить его в одно время на куски и развеять по небу. Каким-то чудом он еще держался. И не только держался – упрямо пробивался сквозь огненный смерч.
– Есть, командир! Съемку закончил! – торжественно воскликнул Серебряный. – Теперь можешь маневрировать по высоте. Набирай боевым – и шандарахнем!
Александр почти до отказа послал рычаги газа вперед. Бомбардировщик завыл от натуги и круто полез вверх по спирали, разворачиваясь к цели, над которой от разрывов образовалось целое облако.
Зенитчики поджидали самолет, но не рассчитывали, что тяжелая машина так быстро наберет около семисот метров, и разрывы повисли намного ниже. С высоты хорошо было видно всю систему огня зенитчиков: огненная воронка ползла за самолетом и медленно сужалась. Стоит попасть в ее центр – посыплются обломки. Им дважды удалось проскочить его…
– На боевом! Так держать! – Бомбардировщик чуть вздрогнул: открылись бомболюки.
Зенитчики подкорректировали расчеты, и воронка поднялась выше, опоясала самолет.
– Командир, вниз, на двести!
– Понял.
Бомбардировщик будто нырнул под разрывы. Александра приподняло с сиденья, привязные ремни впились в плечи, в пояснице кольнуло. Но было не до поясницы. Летчик резко потянул на себя штурвал, и новая тяжесть свалилась на плечи, грудь, притиснула к спинке сиденья.
Бомбардировщик облегченно рванулся ввысь. Александр инстинктивно глянул на землю, но, кроме облаков дыма, ничего не увидел.
– Есть, командир! Конец переправе, – радостно крикнул Серебряный. – Вправо девяносто и полный вперед! Домой!
Бомбардировщик понесся к земле, разворачиваясь к левому берегу.
– На правом моторе дымок, – доложил Сурдоленко.
– Знаю, – как можно спокойнее отозвался Александр и пояснил: – Наверное, маслопровод задело. – Он убавил обороты. Мотор заработал ровнее, но гарь усиливалась. Внезапно зенитки прекратили стрельбу.
– Смотрите за воздухом! – крикнул Александр. И едва он отпустил кнопку СПУ, как Сурдоленко доложил:
– Слева сзади два «мессера», дальность – тысяча.
Александр выждал немного и, резко изломив глиссаду, повел бомбардировщик ввысь. Почти одновременно застучали нижний и блистерный пулеметы.
Справа из-под крыла выскочили два длиннотелых тонкобрюхих «мессершмитта». Александр перевел бомбардировщик на снижение, и в это время мотор окончательно сдал – захлопал, затрясся, как в лихорадке.
– Правый горит! – Теперь уже в голосе Сурдоленко слышалась тревога.
– Вижу. Включаю противопожарную систему. – Александр говорил скорее для успокоения экипажа: когда горят бензин и масло, проку от противопожарной системы мало…
«Мессершмитты» снова выскочили справа – выходили из атаки тем же правым разворотом. Вдруг первый из них завис в верхней точке и, перевернувшись на спину, рухнул вниз.
– Есть один! – радостно воскликнул Серебряный. – Твой, Сурдоленко?
Но стрелку-радисту было не до радости, он еле проговорил сквозь раздирающий кашель:
– Вниз, со скольжением. Дышать нечем.
– Приготовиться к прыжку! – приказал Александр. – Я поднаберу высоту. – Он посмотрел вниз. Река. Поуже, чем Дон. Воронеж. Луг. Кое-где виднеются копны сена.
– А может, сядем? – предложил Серебряный.
– Мы попытаемся, а стрелкам – прыгать! – Голос Александра прервал сильный удар в носовую часть, словно бомбардировщик наскочил на препятствие. Снова кольнуло в пояснице. Но он тут же забыл о боли: правый мотор охватило пламя. Оно было такое сильное и яркое, что попытка сбить его пикированием ничего не дала. Кабина мгновенно наполнилась обжигающим лицо, руки и горло дымом. Кожа куртки затрещала. Александр нажал на кнопку СПУ и крикнул:
– Прыгайте! – Но голоса своего не услышал: СПУ не работало, видно, перебило проводку.
Огонь врывался отовсюду, обжигал руки, лицо, шею. Александр вспомнил, что в планшете у него лежат шевретовые перчатки. Нащупал его, вытащил перчатки, но надеть их уже не смог – руки были в волдырях и малейшее прикосновение вызывало страшную боль. Надо прыгать, открыть колпак. Он приподнял руки, прикрывая ими лицо от плеснувшего пламени. В голове закружилось, завертелось… Когда он очнулся, то первое, что увидел, – огонь вокруг себя. «Прыгать, прыгать!» – лихорадочно торопила мысль. Он отодвинул колпак, глотнул свежего воздуха, однако сил вылезти не хватало. «Надо уменьшить скорость», – догадался он. Опустился в кресло, крутанул ручку триммера, не веря в успех. И – о чудо! – бомбардировщик послушался. Еще, еще немного… Самолет поднял нос выше горизонта. Высота росла: 600, 700. Пора.
Языки пламени с силой врывались то снизу, то с боков, жевали кожу куртки, плескали в лицо, Александр схватил планшет и, уцепившись за края кабины, вылез наружу. Свежий прохладный воздух подхватил его легко и бережно, как долгожданного, отвел от самолета, превратившегося в комету.
Летчик не спешил дергать кольцо раскрытия парашюта, сознавая, что где-то рядом кружит истребитель, поджидающий его, чтобы наброситься и добить; видел, как бомбардировщик все еще лез вверх, пока пламя не добралось до бензобаков и он не взорвался, расплескав во все стороны огненные брызги. В какой-то миг в поле зрения мелькнули и три белых купола парашютов (значит, спаслись все), и это его обрадовало. Он стал отсчитывать: «Один, два, три», как отсчитывал при тренировочных прыжках. Судьба, сыгравшая с ним когда-то злую шутку, теперь отплачивала ему сторицей: не будь он начальником ПДС, разве сумел бы совершить такой затяжной прыжок? Пора! Он дернул кольцо, и купол парашюта наполнился воздухом метрах в ста пятидесяти от земли. Но и этой высоты хватило, чтобы увидеть, как фашистский летчик расстреливает в небе его друзей. Один, самый верхний, судя по беспомощно свисающим рукам и ногам, был уже убит, у второго фашист намеревался отсечь стропы плоскостью (видно, кончились патроны), но парашютист, сильный, кряжистый, – не иначе, Агеев, – энергично маневрировал, раскачивался из стороны в сторону, и «мессершмитт» проскакивал мимо.
Третьего Александр узнал сразу. Маленький, худенький – штурман. Но почему он без брюк и босиком? Несмотря на всю трагичность положения, Ваня выглядел смешно и комично, Александр вспомнил, как утром он честил интендантов, и догадался, в чем дело. Виноваты во всем унты: привязанные к поясу брюк, они стянули их при динамическом ударе. Не зря Ваня верил в судьбу: она будто специально подстраивала ему смешные ситуации и даже здесь, когда он висел на волоске от смерти, сыграла с ним такую злую шутку.
О своей больной спине Александр подумал лишь тогда, когда до земли оставалось метров пятьдесят и он увидел невдалеке, почти под ним, небольшой стожок. Надо было во что бы то ни стало попасть на него, чтобы самортизировать удар, и он заработал стропами. Тренировочные парашютные прыжки, совершенные им ранее в должности начальника ПДС, помогли и теперь: он опустился на стожок. И хотя сено было еще не слежалое и удара он почти не почувствовал, острая боль пронзила все его тело. Он полежал с минуту не шевелясь, затем отстегнул лямки парашюта.
Серебряный опустился метрах в трехстах и тоже не поднимался. Александр подождал еще минуты три и начал выбираться из стожка. Едва спустился на землю, как его окрикнул властный звонкий голос:
– Хенде хох!
И хлопнул выстрел. Пуля дзинькнула у самого уха летчика; он упал, схватился за пистолет, вернее, за место, где он висел, – кобуру вместе с пистолетом оторвало в момент раскрытия парашюта. Да, положеньице… И откуда здесь взялись немцы?..
Из-за стожка послышался ответ:
– Вставай, фашистская сволочь. Руки вверх! Хенде хох!
– Я свой, русский, – обрадовался Александр.
– Знаем вас, своих. – Из-за стожка снова пальнули. – Руки, руки поднимай. Хенде хох!
– Заткнись со своим «хенде хох», – прикрикнул Александр. – И прекрати палить – у нас ведь тоже имеется оружие.
Ругань и стрельба прекратились. Из-за стожка пугливо выглянула мальчишеская голова в кепке, но выходить паренек боялся.
– Иди лучше помоги подняться, – позвал Александр. – Не бойся.
– Еще чего, – сердито возразил паренек и вышел из-за стожка, держа наган на изготовку. К нему из-за второго стожка спешил на помощь дедок с сивой бородкой, вооруженный карабином.
– Это наши, Митря, – издали сообщил дедок. – Летчики.
Александр с помощью паренька поднялся и, превозмогая боль, вместе с ним и дедком направился к штурману.
Ваня лежал на спине в луже крови. Прострелены были плечо, рука, обе ноги. Александр, забыв о своей боли, склонился над штурманом.
– Давай-ка, отец, помогай, – попросил он старика, отстегивая лямки парашюта. – Отрежь кусок этой ткани, чтобы перевязать.
Старик и паренек начали рвать парашют. Серебряный слабо попросил:
– Пить…
На потрескавшихся губах выступила кровь, и Александр подивился, какую надо иметь выдержку, чтобы не застонать, не ойкнуть.
– Сейчас. Сейчас поищем воду, – успокоил он штурмана. Посмотрел вокруг – ни речки, ни озерца поблизости. – Село далеко? – спросил он у дедка.
– Далеконько, – ответил тот. – Надо бы подводу. Можа, Митрю послать пока?
К счастью, посылать не потребовалось: по лугу к ним мчалась машина. Из кузова ее выскочили красноармеец с винтовкой и девушка, тоже в форме, с санитарной сумкой на боку. Бегло окинув летчиков взглядом, она расстегнула сумку, достала из нее пакеты, бинт, пузырек с какой-то жидкостью, налила в мензурку и поднесла к губам штурмана. Серебряный выпил и заскрипел зубами.
У Александра то ли от собственной боли, которая снова дала о себе знать, то ли от страшного вида штурмана и его мук закружилась голова, и он, чтобы не потерять сознание, опустился на землю.
Девушка забинтовала Серебряному лицо и руки, повернулась к Александру.
– А что у вас?
– Ничего особенного. Подпалило малость. – Он протянул ей вспухшие, в волдырях руки.
Она осмотрела их, лицо, сочувственно вздохнула:
– У меня нет ничего анестезирующего, кроме спирта. – И налила мензурку.
У Александра болело все – и обожженные руки, и лицо, и поясница. Хотелось хоть чем-то заглушить эту боль, и он протянул руку к мензурке.
– Давайте спирт. – Он выпил. А когда девушка обработала ожоги и забинтовала лицо, руки, боль уменьшилась.
– Документы есть? – спросил у Александра красноармеец.
– Мы с боевого задания. Есть только талоны в столовую.
– Откуда вы?
– Из-под Ростова. Полк Меньшикова. Где-то здесь наши воздушные стрелки, поищите их. И фотоаппарат надо снять с самолета. Может, уцелел. Там важные сведения.
– Найдем. Обязательно найдем…
Сержант Агеев подошел, прихрамывая, сам – он тоже был ранен в ногу. Сержанта Сурдоленко старик и паренек нашли мертвым; фашистский летчик не пожалел снарядов, буквально издырявил его. Старик и паренек стали тут же рыть могилу.
Серебряный лежал неподвижно, плотно сжав потрескавшиеся губы и закрыв глаза. Казалось, он заснул. Но вдруг Ваня приоткрыл глаза и позвал:
– Сурдоленко! Сержант Сурдоленко! – Вопросительно посмотрел на Александра. – Где стрелок-радист?
– Нету больше Сурдоленко, – не стал врать Александр.
– Как? Не… Не может быть. – Серебряный заскрипел зубами. Боль мешала ему говорить. Собравшись с силами, он все же выдавил: – А ведь я… пошутил насчет сна. Хотел разыграть… – Он помолчал. – Меня в полк, командир. Только в полк, в медсанбат… в госпиталь не надо.
Рана у Агеева оказалась легкой – пуля задела мякоть голени. Когда девушка закончила перевязку, сержант отправился к видневшимся в полукилометре обломкам самолета.
Серебряный начал бредить – то звал кого-то, то командовал: «Так держать!», то что-то хотел объяснить. Девушка склонилась над ним, давала нюхать нашатырный спирт, но это не помогало.
– Его надо в госпиталь, – категорично заявила она. – Только в госпиталь.
– Готово, товарищ летчик, – подошел к Александру старичок.
Александр с трудом поднялся, попросил:
– Давайте, папаша, командуйте как надо. Вы лучше знаете наши обычаи. А у меня – спина, плохой я вам помощник.
Серебряный не приходил в себя. Его уложили на сено в кузов машины, и Александр попросил подъехать к остаткам самолета, где находился Агеев. Воздушный стрелок стоял у обломков с фотоаппаратом в руках – каким-то чудом он уцелел.
– Аэродрома поблизости нет? – спросил Александр у красноармейца.
– Нет, товарищ лейтенант.
– Тогда на ближайшую станцию…
2
6/VII 1942 г. Боевой вылет, с бомбометанием по Харьковскому тракторному заводу…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Тяжелое ранение Серебряного разрушило все планы Пикалова: штурман, как глупый карась, заглотнул крючок под самые жабры, и теперь можно было делать с ним, как с глупым карасем, все что угодно; но едва ловец протянул руку к своей добыче, как налетела волна, вырвала из рук леску и унесла добычу. Когда теперь вернется Серебряный в полк, и вернется ли? А подручный Пикалову был очень нужен.
От выброшенных в ночь на 23 февраля связников ни слуху ни духу. «Валли-4» – разведывательный центр абвера, с которым непосредственно поддерживал связь Пикалов, – на вторичный запрос о связниках ответил, как и прежде: «Ждите». Значит, с ними все благополучно, они выполняют другую задачу, а когда потребуется, найдут Пикалова. Вместе с тем центр требовал более полной и глубокой информации, более активных действий агента «Кукук-21», сообщений о маршрутах полетов советских бомбардировщиков и объектах их бомбардировки не перед самой целью, а заранее, перед их взлетом. Никаких оправданий, что советская контрразведка ищет радиста, что пеленгаторы круглосуточно дежурят вокруг аэродрома, центр во внимание брать не хотел. «Немецкая армия перешла к решительному победоносному наступлению, и каждый истинный немец должен отдать все силы, а если потребуется, – и жизнь во имя процветания нации, – отстучали ему шифрованную радиограмму. – Ищите другие способы, изобретайте, вербуйте…»
Командовать, поучать, разумеется, легче, чем выполнять приказы. Тем более, когда рядом с тобой враги, каждый твой шаг виден и слышен. И если бы он, Хохбауэр, не проявлял осторожности, слепо руководствовался указаниями центра, давно бы оказался в лапах контрразведки. Конечно, лучше было бы предупреждать о налетах советских бомбардировщиков заранее, когда они только собирались взлетать. Но как? В последнее время действительно пеленгаторы круглосуточно дежурят вокруг аэродрома, передачу сразу же засекут. А высчитать, кто вел передачу, останется делом техники. Нет, ставить себя под удар он не собирается. И хотя соотечественники вновь начали успешное наступление, до победы еще ой как далеко. А Пикалов-Хохбауэр должен выжить и дожить до нее. Интересно, сколько уже на его счету в Берлинском банке? Его ежемесячный оклад – 1000 марок, платным агентом он числится уже пятый год, плюс до сотни марок каждая развединформация (в зависимости от ее ценности). По приблизительным подсчетам, он уже обеспечил себе далеко не безбедную жизнь. Когда только война эта кончится? Наденет он шикарный штатский костюм, будет разъезжать по красивым городам, купаться в море, загорать, развлекаться с красивыми женщинами, пить, спать, сколько душе будет угодно…
Стоило ему только подумать о такой жизни, как тело его наполнялось сладостной истомой, его охватывало такое жгучее нетерпение, что он еле сдерживал себя, чтобы не развернуть турель пулемета и не чесануть по стоявшим рядом бомбардировщикам. Да, он хотел победы соотечественников. Скорейшей победы. И делал все для этого, зависящее от него и не зависящее. В назначенное время он залезал в любой бомбардировщик своей эскадрильи для проверки радиостанции, настраивал ее на нужную волну и принимал предназначенную ему шифрограмму. Сведения же, которые требовали и которые попадали к нему в силу его служебного положения и представляли ценность для центра, он передавал во время полета уже за линией фронта, куда пеленгаторы достать не могли, а если и доставали, то определить, кто вел передачу – свои или чужие, – не могли.
Не сидел он сложа руки и на земле. Так, пользуясь тем, что ему было поручено отбирать и готовить стрелков-радистов и воздушных стрелков, он включал в экипажи тех, кто был более «расторопен», на самом же деле – наиболее нервных, раздражительных, психически неуравновешенных. И учил их стрелять «с налету» – первыми очередями, навскидку, без тщательного хладнокровного прицеливания. Сам он умел поражать цели навскидку и восхищал в тире своим мастерством новичков, они старались ему подражать, но слишком мало отводилось им времени на тренировки. В воздушном бою же спешка и горячность приводили к неточности, к быстрому расходованию боеприпасов, к поражению…
«Ищите другие способы передач разведданных, вербуйте обиженных советской властью, чем-то проштрафившихся, сейте недоверие друг к другу, подозрительность, разжигайте вражду…»
Неплохо бы заставить их воевать друг с другом. Но как? Общая опасность, единый враг, наоборот, делают их еще дружнее. Даже Меньшиков с Петровским, эти антиподы, недолюбливающие друг друга, находят общий язык. И письмо, на которое так рассчитывал Пикалов, не сработало… Нет, шантаж, интриги – тоже не его, разведчика, амплуа… А сообщник нужен. Очень нужен… «Ищите обиженных, проштрафившихся…»
Обиженных, проштрафившихся… Будто этот обиженный, проштрафившийся сразу мстить начнет… Туманов чем-то не по нутру Петровскому. Не очень-то радушно встретил его утром, несмотря на то что лейтенант вернулся обгорелым и с раненым воздушным стрелком. И в праздничном приказе его обошли: всем летчикам и штурманам ордена, медали вручили, а ему даже благодарности не объявили… Странный он и скрытный человек. Говорят, что воспитывался в детском доме. Так ли это? И где его родители, родственники?.. Жаль, очень жаль, что ранен Серебряный. Придется без него подбирать ключи к Туманову. Но прежде – выяснить, кто он и что собой представляет…
3
12/VII 1942 г. Перелет с аэродрома Михайловка на аэродром Целина.
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Александр слышал грохот, чьи-то возгласы, торопливую возню. Кто-то надоедливо и неотступно тряс его за плечо. Он чувствовал, понимал, что творится что-то неладное, а глаза открываться не хотели, сознание то и дело проваливалось.
– Да проснитесь же, товарищ лейтенант! – узнал он наконец голос сержанта Агеева. – Погибнуть летчику на земле – свинство!
«Это точно», – согласился он и с трудом разомкнул веки. Кто-то мелькнул перед глазами и скрылся за дверью. Перекрещенные бумажными лентами стекла окон их громадного общежития вдруг вздрогнули и со звоном посыпались на пол. Земля зашаталась под ногами, в уши ударил раздирающий вой пикировщиков.
Александр схватил с тумбочки брюки, гимнастерку, фуражку, планшет, оделся, натянул сапоги на босую ногу – портянки накручивать некогда – и побежал следом за сержантом. В сотне метров от общежития – траншея, ведущая к бомбоубежищу. Александр свалился в нее. Перевел дух, посмотрел вверх. В небе кружила четверка Ю-87. Фашистские летчики высматривали цели, и пикировщики один за другим устремлялись вниз. Вокруг них белесыми шапками вспыхивали разрывы снарядов.
Отбомбившись, «юнкерсы» взяли курс на запад. Грохот и гул затихли, лишь из-за казармы доносился треск, и черные клубы дыма почти вертикально тянулись ввысь.
– Спохватилась Маланья к обедне, а она отошла, – сказал с усмешкой старший сержант Гайдамакин, механик с соседнего самолета, вылезая из траншеи. – Снова фрицы опоздали.
Александр посмотрел на аэродром и, кроме своего «безногого» бомбардировщика, поднятого на козлы – запасное шасси до сих пор с завода не прислали, – да У-2, приютившегося у заброшенного капонира, ни одного самолета не увидел. И людей – никого.
– А где же все? – спросил Александр.
– Известно где – на задании, – ответил механик – А оттуда – под Сальск, – вздохнул сожалеючи. – Снова перебазирование. И снова на восток. Так что поторопитесь в столовую, а то и позавтракать не успеете. Комполка туда поехал, наверное, скомандует свертываться. – И он торопливо засеменил на аэродром. Маленький, юркий, прозванный сослуживцами Золотником, он достойно оправдывал свое прозвище – появлялся там, где был нужен, и делал то, чего не могли другие. Видно, и теперь на аэродроме у него было дело.
Пока Александр переобувался, чистился, умывался, столовая действительно прекратила свое существование. На улицу были вынесены котлы, кастрюли, тарелки, миски, ложки; трое солдат и официантки все упаковывали в ящики. Подъехала грузовая автомашина, из кабины выскочил заместитель командира полка майор Омельченко, властно приказал:
– Быстро грузитесь – и на станцию. Все поедете тем же эшелоном. – Увидел Александра и подбежавшего Агеева. – А, и вы здесь? Позавтракали? Нет? Я тоже не успел. Поедите в вагоне. Помогайте грузить – и в эшелон.
– А самолет? – в недоумении спросил Александр.
– Какой самолет? Ваш?
– Ну конечно!
– Он же без шасси. А где его сейчас достанешь? Сожжем.
– Да вы что? – забывая о субординации, возмущенно воскликнул Александр. – Это же бомбардировщик! Отличный самолет.
– Был, лейтенант, был.
– Он и теперь… Я приказал отремонтировать его.
– Ну, коли приказал… – усмехнулся Омельченко. – Ремонтируйте, летите. Только учтите, если к моему приезду на аэродром не успеете, пешком придется топать до Целины.
– Понял. – Александр повернулся к Агееву. – Вася, захвати чего-нибудь перекусить – и на самолет…
Александр еще накануне, узнав от разведчиков, что немцы прорвали нашу оборону между Доном и Северским Донцом, приказал технику самолета любыми способами поставить бомбардировщик «на ноги». И теперь, придя на аэродром, застал техника и механика за работой. Им помогал старший сержант Гайдамакин. Авиаспециалисты что-то мороковали над березовой чуркой.
– Уж не хотите ли вы это бревно использовать вместо шасси? – с иронией спросил Александр.
– Хотим, – вполне серьезно ответил техник. – Колеса нашли, а стойками послужат бревна. По всем произведенным мною точнейшим расчетам – выдержат. При условии, разумеется, если летчик взлет и посадку произведет ювелирно.
– Летчик постарается. Но как вы крепить их будете?
– Все, командир, продумано. Золотник такое решение предложил, что Ильюшин позавидовал бы. А сержант не только идеями богат – у него и руки золотые. Так что не беспокойтесь, идите, собирайте свои шмотки – и полетим. А то как бы фрицы снова не пожаловали…
Сборы недолги: шинель, постель – в скатку, меховое летное и прочее обмундирование – в вещмешок. Но едва Александр собрался уходить, как появился дежурный по полку и передал приказание:
– Срочно в штаб, к оперуполномоченному.
– Только этого не хватало! – чертыхнулся лейтенант. – Зачем я ему потребовался?
– И вы, и воздушный стрелок, – развел дежурный руками.
Сержант Агеев уже поджидал своего командира экипажа у штаба. Вопросительно посмотрел на него. Чего, мол, оперуполномоченному надо? Ведь только неделю назад, когда члены экипажа вернулись в полк собственным ходом, а не на самолете, он часа по два расспрашивал каждого в отдельности, заставил писать подробное донесение, где, при каких обстоятельствах их сбили, кого куда ранило и в каком состоянии находился Серебряный, когда отправляли его в госпиталь. А еще раньше, когда они летали на выброску Ирины в тыл к немцам, Петровский потребовал письменный доклад от экипажа, будто заподозрил их в чем-то. И вот теперь…
– Разберемся, – ответил на вопросительный взгляд сержанта Александр и толкнул дверь в штаб.
Капитан Петровский сидел за столом, разбирая какие-то бумаги, кивнул Александру на стул. Сержанта попросил подождать за дверью. Когда Агеев вышел, капитан оторвался от бумаг, глянул в глаза Александру колюче, испытующе. Не спросил, а обвинил:
– В прошлый раз, когда вы выбросили нашего человека в тыл к немцам, вы ничего не утаили в донесении?
Александр пожал плечами, а сердце наполнилось тревогой – что-то с Ириной. Не зря Петровский и в прошлый раз дотошно расспрашивал обо всем. Александр скрыл только одно – о зеленой и красной ракетах Ирины, предназначенных только для него, которые невольно наводили на мысль о их давнем знакомстве. А открыть это – равносильно назвать свою подлинную фамилию.
– Что же вы молчите? – Петровский не сводил глаз.
– Я написал обо всем, – ответил равнодушно Александр.
– Вы помните тот полет?
– Разумеется. Наш предпоследний полет.
– Во сколько вы тогда вернулись с задания?
– В пять сорок две.
– Во сколько вышли на цель?
Тогда он задавал эти же вопросы и в той же последовательности. Александр помнил и свои ответы.
– В час тридцать, как и было задано.
– Опознавательные знаки цели?
– Костры буквой «Т».
– Что еще наблюдали?
– Ничего. Ночь была темная и тихая.
– Во сколько произвели выбрасывание?
– В час тридцать четыре.
– Отошли от цели?
– Сразу. Сделали небольшой кружок. – Александру и в этот раз не хотелось говорить о красной и зеленой ракетах, а Петровский еще сильнее напряг глаза, даже прищурился.
– Стрельбу, взрывы не заметили?
В вопросе чувствуется подвох. Значит, кое-что ему известно. Но что?
– Нет, – ответил Александр. – Все было в порядке. Девушка даже квитанцию нам передала.
– Что еще за квитанция? – подался вперед капитан.
– Красная и зеленая ракеты.
– Почему об этом в прошлый раз не сообщили?
– Ну… это сугубо личное. Мы перед полетом договорились.
– Вы разговаривали с девушкой?
– Немного. Во время полета.
– О чем?
– Собственно, ни о чем. Покурили, пошутили.
– Конкретнее?
– Девушка приглашала прилетать к ней в гости.
– Вы знакомы с ней?
– Мне было поручено проводить с девушками занятия. – Александр выдержал пристальный взгляд оперуполномоченного.
Капитан неудовлетворенно хмыкнул, откинулся на спинку стула. Взял и протянул несколько листов чистой бумаги:
– Идите на улицу, найдите укромное местечко и опишите все подробно.
– Я уже писал, – недовольно поднялся Александр.
– Еще раз, – твердо подчеркнул капитан. – Более подробно. И про личную квитанцию не забудьте. А теперь попросите сержанта.
Агеев, чувствовалось, истомился весь от неизвестности и обеспокоенности. Спросил полушепотом:
– Чего ему?
– Иди, он объяснит, – кивнул Александр на дверь. Вокруг штаба – ни души. Скорее это уже не штаб, а заброшенная хатенка: все документы и мебель вывезены, командиры с начальниками уехали. Вот только капитан Петровский никак не закончит свои дела…
Александр отыскал чурбак, сел на него и, положив листы на планшет, задумался. Что случилось с Ириной? Неужели она попала в лапы фашистов? Петровского, судя по разговору, волнуют эти сигналы. А что, если после них на партизан напали немцы и Петровский заподозрил измену? «Вы разговаривали с девушкой?» Будто наш разговор имеет какое-то отношение к случившемуся…
Его раздумья прервал сигнал остановившейся невдалеке грузовой машины, в кузове которой находились девушки-солдаты и шестеро бойцов с карабинами и ШКАСом на самодельной подставке для отражения налетов вражеских самолетов. Из кузова выпрыгнула Рита и бросилась к Александру. На глазах ее блестели слезы. Поцеловала его троекратно в губы и, обдавая горячим дыханием, шепнула:
– Петровский ночью вернулся из Краснодара. Звонил начальнику, я дежурила на коммутаторе. Сказал, что побывал и в школе и что все оказалось, как он и предполагал. Думаю, это о тебе. – Слезы полились у нее из глаз.
– Успокойся. – Он прижал ладони к ее щекам. – Это еще ни о чем не говорит. Ты же знаешь, я ни в чем не виноват, поэтому ты зря волнуешься. Поезжай.
– Береги себя. – Она еще раз поцеловала его и, вытирая на ходу глаза, побежала к машине.
«Так вот почему Петровский потребовал новое объяснение, – мелькнула у него догадка. – Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Жаль, очень жаль…»
Агеев вышел от Петровского с красным и мокрым от пота лицом, будто в парной побывал, выдохнул из груди воздух и сказал облегченно:
– Капитан велел на самолет идти. Сказал, что сейчас подойдет туда.
Александр ничего не понимал.
– А объяснительную?
Агеев пожал плечами.
– Он про твою знакомую пытал: о чем вы говорили, часто ли встречались. Будто на курорте тут…
Я ему так и сказал. Еще о Серебряном спрашивал, почему мы в госпиталь его отправили. – Сержант внезапно замолчал: с аэродрома донесся рев моторов. – Никак наш?
– Похоже. Идем.
Агеев повеселел.
– Какой-то чокнутый наш опер. Что мы – враги штурману… или той девушке? – Сержант достал из кармана комбинезона кусок хлеба с салом, разделил пополам и протянул лейтенанту. Аппетитно стал жевать. – Никогда не едал такого вкусного хлеба и сала.
А у Александра, несмотря на то что в ужин он почти ничего не ел и не завтракал, кусок не лез в горло. Почему Петровский послал их на самолет, не стал ждать объяснительной? Что он задумал?
Откуда-то сверху донесся гул самолета. Александр и Агеев подняли головы – над аэродромом снова кружил «фокке-вульф». И ни одного выстрела зениток – все снялись со своих мест.
– Наш самолет, наверное, увидел, – высказал предположение сержант.
– Возможно, – согласился Александр.
– Как бы на взлете он нас не шандарахнул!
– Если взлетим, не шандарахнет.
Моторы на их бомбардировщике действительно работали. Впереди стоял техник и махал рукой: быстрее, быстрее!
Летчик и воздушный стрелок прибавили шагу.
Бомбардировщик стоял уже не на козлах, а на толстенных березовых протезах, подрагивающих от рокота моторов. Сбоку расхаживал заместитель командира полка по политической части майор Казаринов в летном обмундировании с планшетом через плечо.
– Где вы застряли? – недовольно спросил майор у Александра, стараясь перекричать шум моторов. – Минут десять уже молотят, – кивнул он на винты. – Быстро в кабину и по газам. Я колодки уберу.
Техник с механиком начали быстро сворачивать инструмент.
Александр поднялся на крыло, заглянул в пилотскую кабину и ахнул: приборная доска зияла пустыми глазницами – ни указателя скорости, ни высотомера, ни вариометра, ни авиагоризонта. Даже лобовое стекло снято. Те, кто улетал рано утром, посчитали, что судьба этого бомбардировщика предрешена, и раскурочили его до основания. Оставили только «пионер» – указатель поворота и скольжения, компас да термопару – прибор температуры головок цилиндров. На последнем взгляд задержался, и у Александра, кажется, зашевелились на голове волосы: стрелки термопар обоих моторов отклонились вправо до упора; значит, температура головок цилиндров выше 300°, а положено не более 140. Значит, моторы вот-вот заклинит. Взлетать нельзя ни в коем случае. Надо немедленно их выключить, дать им остыть, а уж потом готовиться к взлету.
Александр потянулся было к лапке магнето, но в последнюю минуту подумал, что надо поставить в известность Казаринова. Майор по жесту догадался, чего хочет летчик, и категорично замахал рукой – ни в коем случае, – показал в угол капонира, где раньше лежали баллоны со сжатым воздухом; теперь их там не было. Ну, конечно же моторы запустить нечем. Придется взлетать на перегретых. Что из этого выйдет? Да еще с таким шасси. Нет, чужими жизнями рисковать он не имеет права. Александр спрыгнул на землю.
– Что еще? – подошел к нему Казаринов.
– Моторы перегреты, взять на борт никого не могу.
– Хорошо, взлетайте один. Авиаспециалисты и стрелок отправятся наземным эшелоном.
Как из-под земли появился капитан Петровский.
– Идите к самолету, – кивнул ему Казаринов на У-2. – Я сейчас выпущу Туманова – и полетим.
– Я с ним полечу, – указал взглядом на Туманова Петровский, – ведь он без штурмана.
«Боится, сбегу, – мысленно усмехнулся Александр и пожал плечами. – Что ж, лети, за твою жизнь я переживать не буду». Он энергично забрался в кабину, расправил под собой лямки парашюта, хотел было по привычке пристегнуть их, но передумал: все равно парашютом воспользоваться не удастся – высоту он более ста метров набирать не станет.
Петровский уселся на место Серебряного, обернулся к Александру, показал большой палец: все, мол, в порядке.
Александр дал команду убрать из-под колес колодки. Пока техник вытаскивал тяжелые треугольные чурбаки, он пристегнулся ремнями, надел шлемофон и знаком заставил сделать то же оперуполномоченного. Петровский с трудом натянул на свою большелобую квадратную голову маленький шлемофон Вани Серебряного.
Казаринов указал рукой направление взлета («Пошел!»), и Александр толкнул сектора газа вперед. Моторы взревели, и бомбардировщик стронулся с места. Совсем некстати вспомнился вопрос Ирины: «Почему ваши самолеты всегда взлетают под гору?» Вот ведь какая ирония судьбы: Ирина спрашивала для себя, а решать эту задачу практически приходится ему. Ранее он и не обращал внимания на то, что аэродром с покатом – для «здорового» самолета это существенного значения не имело, – а для такого «инвалида» – сущая проблема. Ко всему и ветер не шелохнет. Итак, под гору…
Моторы с оглушительным ревом набирают обороты, и встречный поток воздуха, врываясь в проем, где должно быть лобовое стекло, прижимает летчика к спинке сиденья сильнее и сильнее. Значит, скорость нарастает. Не так быстро, как хотелось бы, но Александр и на это не надеялся. Мешают тумбы-стойки, завихрение у зева кабины пилота. Малейшая неровность аэродрома тугими ударами отдается на пояснице: без амортизационных стоек колеса не в состоянии гасить все толчки и колебания. Бомбардировщик гремит и трясется, как рыдван на ухабах.
Позади остается выбитая, без единой травинки взлетно-посадочная полоса, а самолет все бежит и бежит, не чувствуя опоры под крыльями. Моторы ревут надрывно, со стоном, и кажется, вот-вот не выдержат, испустят дух.
Давно, почти в самом начале разбега, Александр поднял хвост самолета, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, но и это не помогает – бомбардировщик будто не собирается отрываться от земли. Александр старается ему помочь, берет штурвал на себя, создавая больший угол подъема, – никакого эффекта. А впереди уже видна лощина. Там бугры, яр. И теперь, даже если прекратить взлет, не спастись: тормозов у колес нет…
Поток воздуха с остервенением бьет в лицо, треплет комбинезон, словно хочет сорвать его с плеч, со свистом уносится в щели фонаря кабины и по фюзеляжу к хвосту, все сильнее прижимает летчика к сиденью, и это радует Александра, обнадеживает: значит, бомбардировщик набирает скорость и обретает устойчивость. Теперь можно и переводить его в набор высоты. Чуть заметное движение штурвала на себя – и земля уходит вниз.
«Вот тебе и взлет под гору!» – с грустью вспоминает он разговор с Ириной. Если бы она знала, какой это был взлет и что ожидает Александра впереди…
Понимает ли Петровский, в какую ситуацию попал? Ни черта не понимает. Сидит как пень, даже головой не поведет. Словно в отместку за его благодушное безразличие, правый мотор вдруг стрельнул короткой очередью, и из выхлопного патрубка полетели снопы искр. В кабине запахло горелым маслом. Петровский и на это не среагировал, думает, так и надо. А дело принимало серьезный оборот: перегрев мотора дал о себе знать, появилась какая-то неисправность.
Александр убавил обороты правого мотора – искрение уменьшилось – и снова потихоньку начал набирать высоту: для прыжка с парашютом потребуется минимум двести метров.
– Наденьте парашют, – приказал он по переговорному устройству Петровскому, не зная, как обращаться к нему: по званию – подумает еще, что заискивает перед ним, по фамилии – уловит неприязнь. Потому он просто скомандовал, как и подобает командиру корабля.
Петровский зашевелился, натянул одну лямку на плечо, другую. Что-то очень долго возился внизу, видимо, с ножными лямками, и снова затих.
– Пристегнули? – спросил Александр.
Петровский то ли не услышал, то ли не посчитал нужным ответить. В груди Александра закипело, и он повторил вопрос более требовательно, даже грубо.
– Лети, лети. В порядке, – буркнул Петровский. Прошло около получаса, пока бомбардировщик забирался на высоту двести метров – на большее с одним мотором он не был способен, – а впереди показалась невысокая гряда гор, тянущаяся с юго-запада на северо-восток. Чтобы обойти ее, потребуется не менее часа, а дорога каждая минута. Правда, гряда невысокая, но все равно надо набирать высоту.
Правый мотор будто бы утих – может, оклемался? Александр плавно и осторожно двинул сектор газа вперед – самую малость. Мотор тут же бабахнул, словно выстрелила пушка, и из появившегося рваного отверстия в капоте полыхнуло пламя. Александр понял причину искрения: сорвало со шпилек головку верхнего цилиндра. На малом газу головку что-то еще удерживало, теперь же ее сорвало окончательно.
Летчик одним движением убрал газ мотора. Бомбардировщик сильно накренился вправо, грозя перевернуться через крыло, и Александру с трудом удалось удержать его, а затем выровнять. Прилагая неимоверные усилия на штурвал и на педали, летчик изловчился и нажал на кнопку противопожарной системы правого мотора. Однако пламя лишь пригасло, но совсем не исчезло. Значит, через несколько секунд оно будет бушевать еще сильнее, пока не доберется до бензобаков…
– Прыгай! – приказал Александр Петровскому. Но капитан лишь глазом повел в сторону горящего мотора и еще плотнее уселся в кресле.
– Приказываю прыгать! – зло прикрикнул Александр, и тут только ему пришло в голову, что Петровский понятия не имеет, как это делать. Стал ему разъяснять:
– Откройте нижний люк, в который поднимались в кабину, возьмитесь за вытяжное кольцо парашюта и прыгайте головой вниз. Считайте до трех и дергайте кольцо. – Но Петровский сидел, не внимая словам, словно это его не касалось. – В чем дело, черт побери?! – рявкнул Александр.
– Не кричи, лейтенант, – спокойно отозвался наконец Петровский. – Прыгай сам.
– Не учи, кто должен прыгать первым. Здесь командую я. Прыгай!
Петровский секунду помолчал.
– Не могу я прыгать…
– Сможешь. Ты все можешь. Слушай только мою команду…
– Парашют у меня распущен.
– Как распущен? – не понял Александр.
– Так… Случайно. Зацепил вытяжное кольцо, он и распустился… Так что прыгай, лейтенант…
Пламя уже плясало на крыле, рвалось к кабине пилота – СО2 кончился. Надо перекрыть доступ бензина. Вот так. И перекачать топливо из правой группы в левую… Не терять скорость… Вот так… Увеличить крен. Падает высота – ну и пусть… Это даже лучше: возможно, успеем сесть до того, как огонь прошьет противопожарную перегородку и доберется до баков. Место внизу сравнительно ровное. Кажется, пшеница… Факел получится грандиозный…
– Прыгай, лейтенант, тебе на роду долго жить выпало, – вдруг прервал его мысли Петровский.
– Помолчи. Как-нибудь сам решу.
А пламя вдруг пугливо затрепыхало, сорвалось с крыла. Из-под капота высунулись еще несколько язычков, лизнули обшивку и пропали.
«Ура!» – мысленно закричал обрадованный летчик. Теперь жить можно. Правда, левый мотор тоже на пределе возможностей, тянет еле-еле, но это уже не пожар, можно потихоньку снижаться. Есть надежда сесть благополучно. Надо только подыскать подходящую площадку, не пшеничное поле.
Справа, почти по курсу, бежит грунтовая дорога. Не асфальтированная, но так накатанная, что блестит, как асфальт.
Александр довернул бомбардировщик вправо, вдоль дороги, и, прибрав обороты левого, повел самолет на посадку. В поле зрения попали широкие плечи капитана Петровского, чепчиком торчащий на его затылке шлемофон Вани Серебряного.
Дорога побежала навстречу быстрее и быстрее – земля приближалась, – Александр до отказа затянул сектор газа и выключил зажигание. Гул смолк. Лишь шум вращающихся винтов да встречный поток ветра утверждали, что машина жива и готова выполнить последнюю волю человека. Горизонт пошел под нос самолета. Летчик добрал штурвал и почувствовал легкий толчок колес о землю. Бомбардировщик чуть подпрыгнул – дорога все-таки была неровная – и побежал, гася скорость. Лишь в конце пробега, будто по желанию летчика, он свернул с дороги и остановился на обочине.
Александр посидел неподвижно с минуту, глядя на плечи Петровского, тоже не торопящегося покинуть машину, отстегнул привязной ремень, открыл колпак. Спустился на землю. Лишь после этого зашевелился и Петровский.
Потом они стояли рядом, не глядя друг другу в глаза. Петровский курил, Александр ждал, когда капитан произнесет суровый приговор. Но Петровский молчал. Глубоко затягивался не очень-то ароматным дымом, медленно выпускал его изо рта и смотрел под ноги в одну точку. Все-таки угрызения совести его мучили. И Александр решил помочь ему.
– Командуйте, капитан. Я в вашем распоряжении.
– Вы – командир, – возразил Петровский. – Я даже не член экипажа.
– Был, капитан, был. Теперь у вас появился еще один повод не доверять мне – вынужденная посадка.
– Не наговаривайте на себя, лейтенант… – Петровский сделал паузу перед тем, как назвать его по фамилии. Интересно, какую он назовет? Капитан помолчал, глядя пристально ему в глаза, как умел он это делать, и опустил фамилию. – Был у меня повод не доверять вам. Был. И вы сами знаете это. Теперь повода этого нет. И не потому, что вы, рискуя собственной жизнью, спасли меня. Нет. Доверять вам мы стали раньше, намного раньше того, как мне удалось узнать всю вашу историю, судьбу вашего отца, о чем было поставлено в известность командование полка.
Все Александр готов был услышать – и что он изменил фамилию, и что утаил свою связь с Ириной, и что Гандыбин разыскивает его, – все кроме вот этой фразы: «судьбу вашего отца»…
Его будто парализовало, он не мог ни говорить, ни пошевелить рукой. Но вот оцепенение стало отпускать его, и он спросил, не узнавая своего голоса:
– Он жив?
– Да, жив. Освобожден и находится на фронте.
– Где? Вы дадите мне его адрес?
– Да. Только не сейчас, не сегодня.
– Спасибо. – Александр готов был броситься к капитану, к человеку, к которому еще несколько минут назад испытывал неприязнь, каждая черточка, каждый жест которого вызывали раздражение, негодование; теперь все в нем казалось симпатичным, даже нескладная угловатая фигура, несоразмерно крупная голова. Хотелось обнять его, по-дружески стиснуть плечи – Петровский вернул ему не только отца, но и веру в людей.
4
13/VII 1942 г….Боевой вылет с бомбометанием по мосту через р. Дон…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Наземный эшелон тронулся в путь вскоре после того, как взлетел последний бомбардировщик. Если бы Рита видела этот последний самолет и знала, что в нем Александр, она бы умерла со страху. Она знала, что у брата самолета нет, что штурман его в госпитале, и надеялась добираться до нового места базирования вместе с ним. Но Александр ушел на аэродром и оттуда не вернулся: то ли улетел с кем-то, то ли… И все же думать, что с ним случилось самое худшее, она не хотела.
Грузовики, загруженные «под завязку», тяжело и медленно тащились по грунтовой дороге, поднимая клубы пыли. На небе не было ни облачка, и горячий ветер-суховей, дующий с Сальских степей, не освежал, а обжигал лицо, захватывал дыхание. Трехтонки, полуторки, бензовозы и масловозы растянулись чуть ли не на километр. Пыль дымовой завесой расстилалась вдоль обочины, привлекая внимание вражеских самолетов. К счастью, они пока не появлялись, но все, кто находился в кузовах машин, непрерывно посматривали в небо, чтобы вовремя предупредить шофера…
Рита ехала с девушками-телефонистками в кузове трехтонки на ящиках с упакованной телефонной аппаратурой. На помощь им и для охраны от нападения самолетов были подсажены шестеро солдат с пулеметом ШКАС и карабинами.
До переправы, куда держала курс автоколонна, было около сотни километров, но ехали туда довольно долго: по пути к колонне пристраивались все новые и новые машины, и, когда к 3 часам дня батальон наконец добрался до Константиновской, где через Дон курсировал паром, там уже скопилось столько людей и техники, что девушки ахнули:
– Это сколько же суток придется ждать, когда нас переправят?
Рита окинула взглядом паром. На него въезжало только по две машины или по танку. А вдоль берега толпилось их столько, что не перечесть. И каждый норовил пробиться поближе к переправе, без очереди влезть на паром. Кругом стоял шум, гвалт, ругань.
К их машине подошел веснушчатый сержант с облупленным носом. Рита не раз видела его в Михайловке, он даже пытался познакомиться с ней, но кто он и откуда, понятия не имела.
– Приихали, слезайте, – насмешливо и бесцеремонно сказал он. – Тутычки с нидилю загорать прийдется, если немец вплавь не заставит перебираться.
Рита отвернулась: что-то в сержанте ей не нравилось.
– А твий летун мог бы тебя и с собой узять, – не отставал сержант, мешая русские слова с украинскими. – Удвоем политив. Правда, самолет у него дуже ненадежный, но, коли сам оперуполномоченный рискнув политить, усе будет у порядке.
Лучше бы он не сообщал ей эту новость, заставившую вздрогнуть и замереть от страха. Может, он врет? Сержант, заметив, как изменилось ее лицо, покаялся:
– Простить… я не хотив вас обидеть…
Он что-то говорил еще, но Рита уже не слышала.
Нет, он не врал: с Александром полетел Петровский. Боль сдавила ей сердце, она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться.
Сержант стоял обескураженный и еще раз виновато попросил:
– Ради бога простить… Я ж не хотив… И чего вы за ним так убивайтесь… Тоже мини, франт, на якусь черномазую променял. Та они вмисти с ей ногтя вашего не стоят. Вы ж цены соби не знаете.
Он говорил так горячо и так искренне, что Рита опомнилась, взяла себя в руки. Но слезы предательски катились из глаз. Чтобы как-то выйти из этого трудного положения и разубедить сержанта, она даже улыбнулась и сказала как можно беспечнее:
– Ах, вон вы о чем. – Достала платочек, вытерла глаза. – Пылища страшная. Искупаться бы…
– А что, это мысль, – обрадовался сержант. – Пока суд да дело, можно подняться вверх по течению и окупнуться.
– Сейчас, кажись, искупает, – встрял в разговор пулеметчик, внимательно всматриваясь в небо. Откуда-то издалека сквозь гвалт и шум моторов доносилось еле слышное прерывистое завывание самолета.
– Воздух! – крикнул кто-то, и люди, как вспугнутое дикое стадо, бросились врассыпную. Веснушчатый сержант глянул влево, вправо – всюду бежали – и, не сказав ни слова, кинулся за толпой. Ритины подруги тоже выпрыгнули из кузова и исчезли в бегущей толпе, а она стояла на месте, не зная, что делать. Ей почему-то было стыдно и унизительно бежать вот так, сломя голову – ведь не убегали же пулеметчики и их товарищи! Бойцы спокойно смотрели вверх, приготовившись к стрельбе из ШКАСа и карабинов.
– Пименова! Сюда! – услышала она окрик. Голос был мужской, незнакомый, но она обернулась и увидела пробивавшегося к ней сквозь бегущую толпу лейтенанта Завидова. Они встречались раньше раза три, и каждый раз лейтенант заговаривал с ней. Нет, он не был назойлив, даже наоборот, чрезмерно скромен и робок, что никак не вязалось в ее понятии с его профессией. Она помнила Гандыбина, видела, как держит себя Петровский даже с большими начальниками; Завидов же отличался от них не только манерой держаться, но и внешностью, характером. Он был тонок в талии, узкоплеч, как девушка, и лицо у него было тонкое, с нежной кожей и большими серыми глазами, опушенными длинными ресницами. Рита еще при первой встрече с ним (а это случилось вскоре после гибели Гордецкого) поймала себя на мысли, что Завидов нравится ей, но, узнав, кто он, заволновалась – что-то он решил выведать у нее, коли набивается в кавалеры. И Рита пресекала его попытки ухаживать за ней. Завидов отступил. И вот теперь снова…
Лейтенант пробился к ней и властно прикрикнул:
– Прыгайте! Быстро!
Он подставил ей руки, и она, не отдавая себе отчета, прыгнула к нему. Он поддержал ее, схватил за руку и увлек за собой. Они бежали мимо окопов, битком набитых людьми, перескакивали через небольшие бугры и воронки, удаляясь от машины. Внезапно Завидов остановился, посмотрел вверх.
– Это разведчик, «фокке-вульф», – сказал он, кивнув на самолет.
Рита подняла голову и увидела двухмоторный, двухфюзеляжный самолет, прозванный бойцами «рамой». Он летел на небольшой высоте, тысячи на две, неторопливо, нарочито дерзко, словно бросал им вызов: вот, мол, лечу над вами и вы ничего поделать со мной не можете.
С машины и из окопов потянулись ввысь огненные струйки, раздался стрекот пулеметов и автоматов, заахали и захлопали зенитные орудия. Вокруг «рамы» белыми бутонами повисли облака разрывов.
Самолет сделал змейку, развернулся на обратный курс и улетел.
– Вот теперь следует ждать бомбардировщиков, – проговорил Завидов.
Бойцы начали вылезать из окопов и возвращаться к своим машинам, а лейтенант, все стоял с ней и не выпускал ее руку. Рита только теперь заметила, что отбежали они довольно далеко, чуть ли не с километр, – когда только успели! – но теперь ей стыдно не было и страха она не испытывала: то ли не успела осознать опасность, то ли присутствие лейтенанта вытеснило все мысли и страхи.
Завидов повел ее к реке, и она безропотно пошла рядом с ним, не убирая руку.
– Надолго застряли здесь, – вздохнул лейтенант. – Еще бы хоть парочку таких паромов. Да где их возьмешь…
– А вы почему не улетели с полком? – спросила Рита.
– Мое место здесь, – ответил Завидов, и Рите показалось, что лицо его при этом как-то посветлело, он чему-то улыбнулся. – Здесь интереснее. Кто бы вас оберегал, если б не я?
– Стоило из-за меня одной?..
– Стоило! – негромко, но горячо и твердо воскликнул он. Помолчал, глянул ей в глаза и сказал с горечью в голосе: – Вы почему-то избегаете меня. Поверьте, я ничего плохого вам не желаю.
Она, разумеется, не поверила и ответила, не скрывая иронии:
– Я поняла это. Особенно сегодня. И видите – не тороплюсь от вас уходить, готова ответить на все ваши вопросы.
– Не надо, – болезненно поморщился он. – Я понимаю вашу настороженность к людям моей профессии, но давайте отбросим это. Другое дело, если вы не приемлете меня как человека, попросту говоря, я вам неприятен; тогда я уйду и больше преследовать вас не стану, хотя мне будет нелегко…
Его слова звучали так искренне, так убедительно, а серые глаза смотрели так умоляюще, что сердце у нее дрогнуло, и ей стало жаль его – она поверила ему.
– Почему же? – ответила она вдруг осипшим голосом. – Я ничего против вас не имею. Но… но какой разговор может быть между нами, кроме служебного?
– Не надо о службе. – Он поднял ее руку и прижал к своей груди. – Рита, я люблю вас.
– Вы забываете…
– Нет, не забываю… Отец ваш, насколько мне известно, пострадал из-за своей доверчивости. Тем более теперь он освобожден и добровольно ушел на фронт.
– Откуда вы это знаете? Вы… вы не обманываете? – Она не в силах была унять охватившую ее дрожь, спазмы давили горло, мешали говорить.
– Нет, Рита, не обманываю. Все это так, и вскоре я сообщу вам, где находится отец. А возможно, он сам разыщет вас.
Она готова была расцеловать его, припасть к груди. Случайно взгляд ее упал на набитую бумагами его полевую сумку, и страшная мысль пронзила ее будто током: а не хитрая ли это уловка? Он знает ее больное место и решил сыграть на этом. А она… растаяла, разомлела от ласковых слов…
– Давно отца освободили? – Она искала хоть маленькую надежду на правду.
– В феврале.
– И он до сих пор ничего не сообщил?
– Разве он знает, где вы?
– Знают бабушка и дедушка.
– И они ничего не написали?
– Я давно от них не получаю писем.
– Дело, наверное, в том, что мы часто перебазируемся, почта не успевает нас разыскать. Но волноваться нечего, теперь вы найдете друг друга. – Он открыто смотрел ей в глаза. А она не верила. Хотела верить и не могла. Потому ответила холоднее, чем подсказывало чувство:
– Спасибо…
«А что он знает о брате?» – мелькнула у нее мысль, и она сказала:
– Мне было приятно услышать ваше признание, но вы знаете: я люблю другого.
Он покачал головой.
– Нет…
– А Туманов! – почти воскликнула она. – Разве вы о нем не слышали?
– Слышал… Что он любит вашу подругу, Ирину.
Так… Ему действительно известно многое. Что же еще?
– У Ирины есть муж.
– Был. Она предпочла Александра. Хватит о них. Я счастлив уже оттого, что мое признание было вам приятно.
К ним подбежал боец:
– Товарищ лейтенант, там вас начальник эшелона разыскивает.
– Иду. – Завидов пожал ей руку. – Мы потом продолжим наш разговор. – Он повернулся и широко зашагал к переправе.
5
14/VII 1942 г….В течение 14 июля наши войска вели ожесточенные бои против группировки противника, прорвавшейся в районе Воронежа…
(От Советского информбюро)Фашистские бомбардировщики прилетели вечером. Шесть «юнкерсов». Два стали охотиться за паромом, кружа над ним, как коршуны над цыплятником, четыре бомбили скопившуюся у берега технику и не успевших убежать в укрытия людей. Зенитные орудия и пулеметы вели ответный интенсивный огонь, вечернее синее небо стало от снарядов серым, но бомбардировщики не улетали, делали заход за заходом, словно снаряды отскакивали от них как горох от стены, не причиняя им никакого вреда.
Рита сидела в окопе рядом с Завидовым (когда раздалась команда «Воздух!», он снова появился у машины и привел ее сюда) и почти не обращала внимания ни на рвущиеся совсем недалеко бомбы, ни на возникающие то там, то здесь пожары, ни на бомбардировщиков, круживших над ними и обстреливающих людей из пулеметов. Все это как бы отодвинулось на второй план. На первом был лейтенант Завидов со своей внимательностью, деликатной заботливостью, и мысль, искренен ли он, вытеснила все остальное. Его предупредительность, ласковые взгляды больших чистых глаз помимо ее воли распахивали настежь душу, и сердце ее, совсем недавно казавшееся окаменевшим, вдруг ожило, затрепетало. Как ей хотелось, чтобы все, что говорил Завидов, было правдой! Но разум подсказывал: не верь ему, он не может, не имеет права любить тебя. Даже если отец твой освобожден (в чем она тоже сомневалась), лейтенант вряд ли рискнет связать свою судьбу с дочерью судимого. Разве мало девушек, не менее красивых, чем она?.. Петровский полетел с братом неслучайно, а Завидову, по всей вероятности, поручил что-то выяснить у нее…
Бомба ухнула рядом с окопом, в котором они находились. То ли взрывная волна, то ли инстинкт самосохранения швырнул Риту на дно траншеи, и она тут же почувствовала руки Завидова, бережно подхватившие ее, его грудь, прикрывшую сверху, откуда сыпались комья земля, доверчиво прижалась к нему – сердце не повиновалось разуму.
Сколько так просидела, чувствуя гулкое и частое биение его сердца, она понятия не имела – все, кроме него, даже время, утратило значение. Лишь когда в окопе громко захохотали и Завидов отпустил ее, до нее дошел смысл сказанного кем-то: «А лейтенант неплохо устроился, жаль, самолеты рано улетели».
Бомбежка действительно прекратилась. Замолкли пушки и пулеметы. Рита тоже хотела встать, но Завидов задержал ее:
– Не торопитесь, бомбежка на этом не кончится. Сидите здесь. До утра все равно мы никуда не тронемся. Я приду к вам.
Всю ночь просидела она в окопе, поджидая его. Бомбардировщики больше не прилетали, но шум, гвалт, рев танков, автомашин не утихали, и Рита не могла уснуть, лишь забывалась временами поверхностной, беспокойной дремотой, от которой голова тяжелела и нервы не расслаблялись.
Завидов пришел в окоп на рассвете, усталый, пропахший дымом. Девушки-телефонистки (они ночевали рядом с Ритой) потеснились, уступая ему место рядом с ней. Лейтенант принес плащ-палатку, набросил Рите на плечи – к утру похолодало – и молча опустился рядом. Его появление развеяло остатки дремоты, и прежний вопрос, что он хочет узнать у нее, навязчиво завертелся в голове. Она ждала, когда он продолжит начатый разговор, и боялась, что даже по намекам девушки могут разгадать ее семейную тайну, которую она даже во сне хранила от них: отец и брат часто снились ей.
Да, время и место для разговора самые неподходящие, а днем снова начнется катавасия: попытка пробиться к парому, бомбежки, стрельбы, прятанье в окопы, и кто знает, удастся ли еще встретиться с ним. Надо поговорить, обиняками, намеками выяснить, что ему известно о брате и с каким намерением полетел с ним Петровский.
Завидов сидел, откинув голову к стенке окопа, и то ли дремал, то ли, как и она, о чем-то думал.
– Как там наши? – спросила она. – Не сильно пострадали?
Он открыл глаза, непонимающе посмотрел на нее – спал, – и она пожалела, что разбудила его: он весь день и всю ночь не сомкнул глаз, оберегал их от диверсантов и шпионов, которые могли натворить черт-те что, – потом ободряюще улыбнулся.
– Спи. Все хорошо. – И моментально уснул.
«Поговорю позже, когда проснется, – успокоила она себя. – Приглашу к нашей машине, и по пути поговорим».
Небо на востоке заалело, и на берегу несколько поутихло; лишь у самого парома, где не прекращалась борьба за внеочередную переправу, слышалась перебранка, крепкие мужские словечки.
Еще издали Рита увидела сержанта, который накануне увел Завидова. Он тоже шел к окопу, где оперуполномоченный облюбовал для девушек приют. Только шел он не так, как она, с прохладцей, а торопливо, решительно. Нетрудно было догадаться: за лейтенантом.
Завидов поднял голову из окопа – видно, заслышав шаги (спал он с поразительной чуткостью) – и, опершись о бруствер, легко выпрыгнул наружу.
– Товарищ лейтенант, прилетел замкомдив подполковник Лебедь, вас требует, – козырнув, доложил сержант.
Завидов застегнул ворот гимнастерки, расправил под ремнем спереди складки. Посмотрел в окоп. Не найдя там Риты, обернулся. Их взгляды встретились. Она прочитала в его глазах сожаление. Он поднял руку, приветствуя ее, и попросил:
– Захватите потом плащ-палатку. – И быстро зашагал к колонне.
Рита проводила его взглядом, постояла немного и, забрав плащ-палатку, неторопливо побрела к своей машине.
Их колонна стояла на прежнем месте. Недалеко от машины, на которой ехала Рита, высокий рыжий подполковник расспрашивал о чем-то Завидова и начальника колонны капитана Терещенко. Затем Терещенко отдал какое-то распоряжение сержанту, и минуты через три к командирам подошли десять бойцов с автоматами. Терещенко построил их в колонну по два и повел за подполковником в сторону парома.
Минут через пятнадцать Рита поняла, зачем капитан и подполковник увели бойцов: перед колонной БАО дорога была расчищена, и машины одна за другой двинулись к переправе.
У причала возвышалась массивная фигура подполковника Лебедя. Он зычным голосом подавал команды через мегафон, и, к удивлению многих, его команды четко выполнялись: полки, батальоны, роты выстроились в отдельные колонны. На паром грузились лишь орудия. Некоторые из них, опять же по команде Лебедя, занимали позиции на правом и левом берегах для усиления прикрытия от нападения с воздуха. Майор, руководивший переправой вчера и не сумевший навести порядок, стоял невдалеке, безучастный, обиженный. Но вскоре, видно, здравый смысл взял верх, и майор, подойдя к подполковнику, стал подсказывать, где и кто еще нарушает порядок. Лебедь удовлетворенно кивал и тут же зычно командовал в мегафон; если не помогало и это, к нарушителям порядка отправлялся капитан Терещенко в сопровождении двух автоматчиков.
Как только завершилась переправа артиллерии, Лебедь энергично махнул танкисту, стоявшему на подножке бензовоза. Тот юркнул в кабину, и колонна, состоявшая из бензомаслозаправщиков, спустилась к настилу, с которого шла погрузка на паром, А за ними придвинулись и стали на очередь машины БАО. Справа из толпы собравшихся бойцов и командиров раздались было возмущенные голоса, но усиленный мегафоном бас Лебедя оборвал их:
– Данной мне властью предупреждаю: тот, кто попытается взять нахрапом, будет вносить дезорганизацию, переправится в последнюю очередь. Если я не сочту нужным применить более строгие меры.
Гвалт затих.
На паром въехали очередные бензовозы, и он отчалил, поднимая мутные буруны.
Рита стояла в кузове, притиснутая к кабине: в машину набилось столько бойцов, что трудно было дышать. Все стремились побыстрее попасть на левый берег, подальше от опасности, – вот-вот снова пожалуют бомбардировщики.
К счастью, немецкая авиация пока не появлялась: то ли считала дело сделанным, то ли у нее были другие, более важные задачи.
Батальон аэродромного обслуживания закончил переправу в полдень. Когда последний грузовик въехал на паром, Лебедь приказал майору:
– Командуйте. Мне отлучиться надо.
– Да нет уж, – заупрямился было комендант переправы, – коли отстранили…
– Прекратите, майор, – рявкнул Лебедь. – Выполняйте приказ. – Сунул ему в руки мегафон и, спрыгнув с помоста, зашагал от реки.
На левом берегу капитан Терещенко собрал всех водителей машин БАО на инструктаж, объяснил порядок и маршрут следования, и колонна двинулась дальше.
Лейтенант Завидов сел в кузов рядом с Ритой, где остался прежний экипаж – четыре девушки и шестеро солдат. Колонна отъехала на километр, когда их нагнал Ут-2 Лебедя. Замкомдив пролетел на юго-восток А спустя еще немного в небе появились «юнкерсы». Рита насчитала десять бомбовозов. И там, где полчаса назад люди, уверовав в свою счастливую звезду, с надеждой и тревогой ожидали паром, заполыхал огонь. Ввысь взметнулись клубы дыма, земли, пыли.
Самолеты делали круги, заходили с юго-востока, и Терещенко дал команду увеличить скорость: бомбардировщики разворачивались как раз над колонной БАО и не исключалась возможность, что станут бомбить и ее. Но фашистским летчикам, видно, не хотелось целиться в одиночные машины, когда у переправы их было скопление и куда бомбу ни брось – все равно попадет в цель.
На этот раз, несмотря на то что самолетов было больше, зенитчики вели огонь более слаженно и метко. Уже на втором заходе задымил «юнкерс» и со снижением потянул на запад. Потом на развороте, почти над самой колонной, вспыхнул второй: то ли его подбили раньше, то ли осколок зенитного снаряда достал его здесь. Рита наблюдала, как быстро разгорается пламя. Бомбардировщик накренился, и из него выпрыгнули два человека. Один почти сразу раскрыл парашют, второй пролетел метров сто пятьдесят, чтобы не попасть под обломки самолета, но перестарался – едва купол начал наполняться воздухом, летчик столкнулся с землей.
Завидов постучал по кабине и приказал шоферу свернуть к обочине дороги, остановиться.
– Вы и вы – со мной, – указал он на двух бойцов с карабинами, а еще двух послал к погибшему, наказав тщательно его обыскать и забрать все, что при нем.
Второго парашютиста несло вдоль дороги на юго-восток. Рита прикинула: опустится не далее полукилометра от них – и, не давая себе отчета, спрыгнула за Завидовым.
– А вы куда? – обернулся лейтенант.
– С вами, – ответила она.
Завидов лишь долю секунды думал, что ей ответить. Рите даже показалось, что он обрадовался ее решению, но он жестом руки велел ей остановиться.
– Не надо. Летчик вооружен.
Она и сама это знала. Но о том, что фашист, находясь у нас в тылу, окруженный столькими людьми, вздумает отстреливаться, она и мысли не допускала.
Рита бежала за Завидовым и солдатами по пшенице, больно стегавшей по голым коленям и рукам, не спуская глаз со снижающегося парашютиста. Он тоже видел их, тянул стропы, чтобы ускорить скольжение, на что-то надеясь.
А пшеница выросла высокая, чуть ли не в рост человека, с длинным тяжелым колосом, и Рите было жаль топтать ее, хотя понимала, что убрать урожай вряд ли удастся.
Парашютист упал метрах в двухстах. Отстегнул купол – белое полотнище хорошо было видно издали, – и то ли залег, то ли ползком решил уйти от них. Завидов приказал одному бойцу взять правее, второму левее, а Рите дал знак остановиться.
Она послушалась, постояла, пока они удалились метров на сто, и неторопливо и осторожно двинулась следом. Завидов и бойцы, разомкнувшись метров на тридцать, держали направление на парашют. Когда до купола осталось метров сорок, лейтенант крикнул:
– Хенде хох! Сдавайся!
Немец не поднялся и не отозвался.
– Дальше не ходите, – повернулся Завидов к Рите и, подняв пистолет, медленно пошел вперед. Бойцы – один справа, другой слева – не отставали от него.
Рита с затаенным дыханием наблюдала за ними, и сердце ее сжимал страх, не за себя, за них, и больше всего – за лейтенанта. Теперь она поняла: он ей небезразличен…
Завидов и бойцы сошлись у парашюта. Но там, судя по выражению их лиц, летчика уже не было. Они двинулись дальше, расходясь в стороны.
– Выходите, сдавайтесь! – снова крикнул Завидов, и снова немец не отозвался. Он будто сквозь землю провалился.
Завидов и бойцы ушли довольно далеко, и Рита не выдержала, потихоньку стала продвигаться за ними, жалея, что не взяла у оставшихся в машине карабин. Она миновала парашют. Белый шелк, чуть пригнув колосья, невесомо расстилался над землей, маня своей чистотой, умиротворяющим спокойствием. Захотелось упасть на него лицом вниз и лежать неподвижно, вдыхая запахи пшеницы, земли, неба…
От подвесной системы – лямок с металлическими карабинчиками – тянулся свежий след – примятая пшеница. По нему и пошел Завидов. Вскорости след пересек другой-третий. Их оказалось здесь, к сожалению, немало: люди, так бережно сеявшие семена, теперь безжалостно топтали плоды своих рук – было не до пшеницы.
И все-таки один след Рита выделила: пшеница здесь была примята так сильно, словно тащили кого-то волоком, а местами в земле виднелись лунки – человек полз, упираясь носками сапог. Она пошла по этому следу, чуть забирая влево.
Рита увидела его совсем неожиданно, не пройдя и метров пятидесяти: немец полулежал, опираясь на локоть и нацелив на нее пистолет. Она не испугалась, лишь вздрогнула от неожиданности и остановилась. Секунды три они смотрели друг на друга, словно гипнотизируя, заставляя один другого подчиниться своей воле: она – чтобы он опустил пистолет, он – чтобы она молчала. Можно, конечно, повернуться и уйти, а потом позвать Завидова, но этот трусливый фриц и так не посмеет выстрелить. И Рита властно скомандовала, по-завидовски:
– Хенде хох! Сдавайся!
Немец видел, что она без оружия, нагловато ухмыльнулся и предупреждающе поводил пистолетом: дудки, мол, убирайся подобру-поздорову.
Завидов был довольно далеко и вряд ли мог услышать ее голос, но обернулся и обратил внимание, что она чем-то озабочена, крикнул:
– Что там у вас?
– Сюда! – махнула Рита.
В тот же миг немец выстрелил. Она это поняла по вырвавшемуся из дула пистолета огоньку. Что-то тяжелое, сильное ударило ее пониже груди. В глазах засверкали искры, небо опрокинулось, а земля рванулась из-под ног. Еще Рита осознала, что падает. В какую-то черную, бездонную яму…
6
19/VII 1942 г….Боевой вылет с бомбометанием по скоплению вражеских войск и техники на подступах к Ростову…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Рита никак не могла понять, где она и что с ней, хотела проснуться, отогнать этот страшный, кошмарный сон, поднимала голову, но сильная боль не только не позволяла сделать этого, но не давала даже разомкнуть век. Душил какой-то знакомый терпкий и неприятный запах. Вспомнила: так пахло в палате, где лежал раненый Шурик… Как она попала туда? Ведь Шурик давно выписался… И голоса какие-то незнакомые, непонятные. Эта страшная головная боль не дает сосредоточиться… И все-таки она разобрала: «Нет-нет… миновал», «Теперь все зависит от организма…», «Будем надеяться…»
Она собрала все силы и разомкнула веки. От боли в голове зазвенело в ушах, перед глазами все закачалось – окна, кровати, стоявшие неподалеку люди. И она, понимая, что снова может потерять сознание, и не желая этого, вынуждена была смежить веки. А когда боль чуть приутихла, не выдержала, посмотрела туда, откуда доносились голоса.
– Наконец-то, – подошла к ней женщина в белом халате и белой косынке с красным крестом. – Значит, будем жить. Только лежите спокойно, ни о чем не спрашивайте и не напрягайтесь. Вы ранены, вам сделали операцию. Все опасности позади.
Подошла еще одна женщина. Рите даже удалось их разглядеть: немолодые, симпатичные женщины, похожие друг на друга. Та, что подошла позже, положила Рите на лоб ладошку, прохладную, приятную. Подержала немного. Рите очень хотелось, чтобы она заговорила, сообщила, куда ее ранило. Но женщина лишь вздохнула, обернулась и сказала кому-то:
– Приготовьте чай. И полный покой. Никаких разговоров, никаких вопросов.
Женщины ушли. А вскоре молоденькая девушка подсела к ней с чашкой чая и, мило улыбнувшись, заговорила как с малым ребенком:
– Теперь мы молодцом. Сейчас попьем сладенького чайку, и нам станет еще лучше. Ну-ка, приоткрой ротик. Чуть-чуть… Больно? Ну, не надо, я сама.
Девушка аккуратно просунула руку под ее голову, приподняла немного и, зачерпнув чайной ложечкой из стакана светло-коричневой водицы, влила ей в рот. Теплая сладкая жидкость приятно растекалась в груди, проясняла голову. И Рита с жадностью пила каплю за каплей, желая утолить все нарастающую жажду.
Стакан опустел, и девушка ласково сказала:
– Вот и отличненько. Теперь сделаем укольчик – и баиньки.
– Пить, – выговорила Рита, и голова у нее снова закружилась.
– Пока хватит. Вот поспишь – тогда еще принесу.
Руки целы и невредимы, убедилась Рита, только шевелить ими невыносимо больно. А вот ног она не чувствовала. И не только ног – все от груди и ниже было сплошной болячкой.
Сестра сделала укол, и боль несколько приутихла. Рита еще раз попыталась пошевелить ногами, но не почувствовала их.
– Что со мной? – спросила она.
– Как что? Тебя же ранило. В живот. Слава богу, сердце и легкие не задело, так что проживешь сто лет.
Рита уснула. Сколько спала, она не имела представления. Наверное, долго. В палате горела электрическая лампочка, было тихо, лишь в углу кто-то жалобно постанывал.
В палату вошла женщина-врач, та, что прикладывала ей руку ко лбу, за ней – девушка-медсестра со стаканом чая. Врач, как и днем, подержала ладошку на лбу, послушала пульс и, вздохнув, проговорила сама себе:
– Кажется, и в самом деле получше.
Она еще сомневалась! Рите хотелось крикнуть: «Да-да!» Но какое там крикнуть – едва пошевелила языком, в голове зазвенело, как в колоколе, по которому били со всех сторон.
– Ты помолчи, помолчи, – догадалась врач. – Вот вылечим, тогда наговоришься. А пока дела твои не так уж блестящи. И потому лейтенанта твоего – он сегодня приезжал – мы к тебе не пустили. Очень уж он настаивал, прямо-таки рвался, но, сама понимаешь, целоваться вам еще рано. – Врач тепло улыбнулась и заключила: – Любит он тебя. Очень любит.
Потом, пока сестра мерила температуру, поила чаем, у Риты в ушах все еще звучали слова: «Любит он тебя. Очень любит».
Зачем Завидов приезжал? Любит ли? Или все дело в брате? В его поступках – в том, как он укрывал ее в окопе, как не разрешал идти за ним, когда ловили немецкого летчика, – не было никакой фальши, и никаких вопросов, касающихся брата, он не задавал. И глаза его были такие чистые, влюбленные. Нет, он не лгал… Ей очень захотелось увидеть его, услышать его голос…
Врач и сестра ушли, попоив ее чаем и сделав укол, а ей хотелось уже есть и спать. Значит, все хорошо, значит, дело идет на поправку.
В детстве, когда она болела, мать тоже заставляла ее спать, утверждая, что сон – лучшее лекарство. И постепенно ей и в самом деле становилось лучше: она уже не испытывала боли, когда разговаривала, могла поднимать руки, ела без помощи сестры.
Однажды утром врач вошла в палату с улыбкой на лице и сразу направилась к Рите.
– Ну вот, – сказала она весело, – теперь можешь поговорить со своим возлюбленным. В рань раньскую пожаловал, норовил до обхода прорваться, да дежурная не пустила. И правильно сделала: может, ты вовсе и не хочешь его видеть.
– Что вы! – вырвалось у Риты, и она почувствовала, как загорелось лицо от стыда. – Мне надо спросить у него кое-что, – оправдывалась она.
– Спросишь, спросишь. – И врач стала слушать ее, ощупывать, осматривать. Подошла медсестра и что-то шепнула ей на ухо – нашла время секреты водить! Но сказала, видимо, что-то важное: врач внимательно изучала листок с записями утренних и вечерних температур, озабоченно мдакнула. Еще раз послушала у Риты пульс. И заключила совсем другим, без прежней веселости голосом: – В общем, поговорить с лейтенантом разрешаю. Но без всяких эмоций. И никаких движений. Ясно? Рана в живот – дело серьезное…
Завидов вошел смущенный, растерянный – под бомбежкой он был совсем другим, – несмело приблизился, ступая на носки, и сказал полушепотом:
– Здравствуйте, Рита. – Помолчал, комкая в руках фуражку. – Я рад, что вам лучше… Простите меня…
– Не надо, – умоляюще остановила его Рита. – Я сама виновата.
– Нет, я не должен был разрешать вам… Предчувствовал, а запретить не решился, не хотел ущемлять вас. Теперь казнюсь за ту роковую ошибку…
Слова шли из самой глубины души, и во взоре его было столько страдания, что она окончательно убедилась: он не лжет. Вон и лицо осунулось, и темные круги залегли под глазами…
– …Вы мне не верили, я это чувствовал, потому не знал, как вести себя… Кстати, с братом вашим все в порядке, просил привет передать, скоро он сам навестит вас.
Значит, им все известно. Значит, они верят брату. Она дотронулась пальцами до его руки, поблагодарила:
– Спасибо. – И все-таки сомнение пряталось где-то в уголках души. – Почему вы не взяли его с собой?
– Я предлагал ему. Но он не мог: получает новый самолет. Вы не волнуйтесь, на днях приедет.
– А отец? Что слышно о нем?
– Пока ничего. Собственно, поисками заняться было некогда – столько дел… В общем, поправляйтесь, все остальное образуется.
От радости и благодарности к лейтенанту у нее по щекам покатились слезы. Завидов достал платочек и вытер ей глаза. Склонился к самому лицу и прошептал:
– Я люблю тебя, Рита. Ты для меня самый дорогой, самый близкий человек. Ты веришь мне? – Он взял ее руку, нежно погладил и поднес к губам.
– Верю. – Она улыбнулась ему, ответила на поцелуй слабым пожатием.
«Как непостоянна, изменчива, до глупости насмешлива моя судьба!» – думала Рита, когда ушел Завидов. Столько горя и потрясений пережила она, и теперь, когда она беспомощна и недвижима, судьба подарила ей любовь. Выживет ли она? Целую неделю лежит недвижима, и врач требует, чтобы даже не шевелилась. Температура не спадает, и врач обеспокоена. Значит, что-то серьезное. А ей так хотелось теперь жить! Отец освобожден, Шурику ничто не угрожает, ее любит Завидов, и она любит его. Он нравился ей еще там, в Михайловке, но она боялась его, глупая, не верила ему. А теперь… Теперь только бы выздороветь! Она ласками отплатит за свое недоверие, за холодность, за огорчения, которые доставила ему. И спасибо тебе, судьба, что ты наконец-то сжалилась над бедной девушкой: нет ничего страшнее чувствовать себя чужой среди своих, испытывая недоверие, а то и презрение… Любовь… Это торжество прекрасного настоящего над темным прошлым, это наслаждение счастьем после стольких переживаний. Спасибо тебе, судьба, за все. Ведь не будь тех горьких, тяжелых дней и ночей, Рита не испытала бы настоящей радости, не узнала бы ей цену. И неважно, что она ранена, – счастье стоит этих мук, – она выживет, выживет во что бы то ни стало, даже если еще раз придется пройти через все испытания.
Снился ей Завидов, красивый, смелый. Они гуляли по пшеничному полю, и пшеница, только начавшая колоситься, еще зеленая, сочная, стлалась перед ними зеленым ковром, по которому идти было легко, неощутимо. Завидов держал ее за руку и нежным пожатием волновал сердце, заставлял биться трепетно и учащенно. Ей хотелось идти вот так с ним, ощущать пожатие руки, видеть его необыкновенное лицо, мужественное и милое.
Внезапно подул ветер, и пшеница распрямилась, стала густой, труднопроходимой. Колосья сплетались, цеплялись за ноги, обвивали их. Рита выбивалась из сил, стараясь не отстать от Завидова, а он удалялся, то и дело исчезал из поля зрения.
– Подожди, – умоляла она, – я очень устала.
– Ждать нельзя, – возражал он, – мы опоздаем.
Идти становилось все тяжелее, но остаться одной было страшно, и она рванулась за ним. Внезапно перед ними вырос немецкий летчик – здоровенный детина с неприятной рыжей физиономией. В руках у него парабеллум, которым он помахивал, насмешливо поглядывая то на Риту, то на Завидова. Вот он медленно приподнял пистолет и прицелился прямо в грудь лейтенанту.
– Нет! – крикнула Рита и бросилась вперед из последних сил, чтобы заслонить собой любимого. Выстрела она не слышала. Видела, как сверкнуло пламя, и ощутила не боль, а сильное жжение внутри, словно что-то там застряло раскаленное.
Немец куда-то исчез, а вскоре пропал и Завидов. Лейтенант позвал ее откуда-то издали: «Рита! Рита!..»
«Я здесь», – хотела она отозваться, но не могла – спазмы сдавили горло. Тогда она решила подняться, чтобы он ее увидел. Напрягла силы и… встала.
Проснулась она от острой боли в животе и удивилась: она сидела на кровати, свесив ноги. У двери тускло светилась настольная лампа, освещая склоненную голову задремавшей медицинской сестры.
«Что я наделала!» – ужаснулась Рита, чувствуя, как боль разливается по всему телу, как немеют ноги и руки. Попыталась лечь – и не могла: перед глазами зарябило, закачалось, расплылось радужными кругами. Теряя силы, она позвала:
– Сестра!
Та услышала ее и подбежала к ней.
– Да ты что? – прикрикнула она как на непослушного ребенка. – Разве можно? Тебе шевелиться не велено. – И поняла: раненой не до нотаций, – подхватила ее под руки, уложила на кровать. Рита это чувствовала и сознавала, а что продолжала говорить сестра, уже не улавливала. Боль сковала все тело, сдавила грудь. Последнее, о чем она подумала, – о только что виденном сне, о зовущем ее Завидове: «Рита! Рита!..»
«Теперь мне до него не добраться», – поняла Рита.
7
26/Х 1942 г….Боевой вылет с бомбометанием по аэродрому противника в районе г. Армавир…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Мужественен тот, кто в трудных ситуациях не теряет присутствия духа и не страшится умереть за правое дело; доблестен он, если в критическую минуту думает не о смерти, а о жизни…
Смерть Риты, неожиданная, чудовищно нелепая, казалось, вырвала у Александра последнюю опору из-под ног. Когда она была рядом, он, не осознавая, чувствовал ее незримую поддержку, беспокойство и заботу о нем и сам жил для нее, зная, что она души в нем не чает. Правда, в последнее время, с тех пор как нашлась Ирина, он почти забыл о сестре: увидятся, обмолвятся двумя-тремя фразами – и по своим делам. А вот теперь, когда ее не стало, он понял, как нуждалась она в его напутственном ободряющем слове, в братском, чутком отношении, и казнил себя за черствость, невнимательность: нашел свою возлюбленную и забыл о сестре. А ведь за ней тоже ухаживали, она могла и хотела любить и быть любимой. Из рассказа Завидова, принесшего ужасную весть о гибели сестры, Александр пришел к выводу, что лейтенант нравился Рите (в него не грех было влюбиться, а возможно, так оно и было), но она не доверяла ему, остерегалась. Благополучие брата она ставила выше своих личных симпатий, чувств. А он…
Не успела зарубцеваться эта тяжелая рана, как последовала вторая: на имя Риты пришло письмо из станицы Холмской от дедушки с бабушкой, в котором сообщалось, что на отца получена похоронка: геройски погиб пятнадцатого июля под Ростовом. А Рита умерла от раны двадцать второго, на неделю пережила отца…
И остался Александр один. От Ирины – ни весточки. Вряд ли и она уцелела в этом аду войны. По сводкам и разведдонесениям, фашисты в Крыму свирепствуют с особой жестокостью, блокируют партизанские отряды регулярными войсками в горах и сравнительно небольших лесных массивах; с некоторыми отрядами давно уже нет никакой связи – видимо, уничтожены…
Говорят, нет таких сильных горестей, которых рассудок и время не могли бы смягчить. Постепенно оттаивал душой и Александр. Особенно легче стало, когда в полк, перебазировавшийся в начале октября на Каспийское побережье, вернулся Ваня Серебряный. Они встретились как родные братья. Ваня не изменился, все так же любил выпить, побалагурить, поволочиться за женщинами, и его неиссякаемый оптимизм, жизнерадостность как благотворный бальзам действовали на Александра, успокаивали его, заглушали боль душевных ран.
26 октября по завершении послеобеденного отдыха шестнадцать экипажей полка собрались на аэродроме у своих самолетов в ожидании команды на боевой вылет. Еще утром вернувшийся с задания воздушный разведчик доложил, что на Армавирском аэродроме немцы сосредоточили более 100 бомбардировщиков. А час спустя наши истребители сбили «фокке-вульф», летчики которого на допросе сообщили, что гитлеровское командование отдало приказ нанести бомбовый удар по Баку и Грозному в ночь на 26 октября, уничтожить нефтезаводы, к которым оно так стремилось и которые, судя по сложившемуся на фронте положению, теперь уже взять не представляется никакой возможности, лишить советскую технику топлива.
К моменту прибытия летного состава на аэродром в полк из Москвы прилетел представитель авиации дальнего действия генерал-майор Петрухин и поставил задачу нанести по вражескому аэродрому упреждающий удар. На бомбардировщики было подвешено по полторы тонны бомб, воздушные стрелки зарядили пулеметы, летчики проверили заправку баков топливом. Последние указания давал сам комдив Судариков, сухонький, энергичный генерал-майор с тонким пронзительным голосом, который было слышно не только строю, но и всему аэродрому. Генерал объяснял важность задачи, расхаживая вдоль строя, а за ним неотступно следовал заместитель подполковник Лебедь, высокий, краснолицый, рыжебровый офицер.
Судариков закончил свою напутственную речь и ушел на КП дивизии, где находился Петрухин, ожидавший из Москвы приказ на вылет. Прошло около часа, а комдив все не возвращался. Видимо, начальство ломало голову о времени удара. Надо было так подрассчитать, чтобы угодить в самый «час пик», перед взлетом фашистских самолетов.
Шел шестой час вечера, а команды на вылет даже разведчику погоды не поступало. Экипажам надоело ждать, и они потянулись к машине командира полка. Здесь же расхаживал и замкомдив подполковник Лебедь, начальническим взглядом посматривая вокруг, но оставаясь ко всему безучастным. Александр знал замкомдива еще до войны. Служил он в полку, командовал второй эскадрильей, правда, очень мало: вскоре его взяли в корпус инспектором по технике пилотирования. И вот уже в тридцать два года он замкомдив, подполковник. В свой родной полк он приезжал часто, летал с летчиками на проверку их техники пилотирования, на допуск к ночным полетам и в сложных метеоусловиях.
Александр в эту ночь должен был лететь осветителем цели – значит, взлетать первым, не считая разведчика погоды, и потому неясность со взлетом беспокоила его больше всего. Он подождал-подождал и тоже не выдержал – зашагал к командирскому самолету, благо он находился в сотне метров. Ваня Серебряный был уже там и рассказывал какую-то байку – летчики весело хохотали. Не смеялся лишь Меньшиков. Когда Серебряный кончил, подполковник озабоченно посмотрел на свои наручные часы и сказал с досадой в голосе:
– Если до восемнадцати не взлетим, можно будет снимать бомбы.
– Это почему же? – услышал его Лебедь и остановился около командира полка.
– Потому что после двадцати одного часа на Армавирском аэродроме ни одного самолета не останется, – уверенно ответил Меньшиков и пояснил: – Немцы – народ педантичный, во всем любят точность, даже на войне строго соблюдают распорядок дня. Ужин – ровно в девятнадцать ноль-ноль. В двадцать ноль-ноль – последние указания на полеты. Еще полчаса уйдет на подвеску бомб, проверку оружия и техники. Итак, взлет – в двадцать один ноль-ноль. От нас до Армавира три часа лету, вот и прикинь, когда нам взлетать.
«Действительно, – подумал Александр, – простая и убедительная арифметика, а начальство голову ломает…»
– Резонно, – согласился Лебедь. – Чего же ты молчишь? Надо пойти подсказать начальству.
– Пойти, – усмехнулся Меньшиков. – Начальство поучать что тигра щекотать…
Александр уважал Меньшикова, был за многое ему благодарен, считал его рассудительным, мудрым человеком, и такое умозаключение поразило его: решается судьба Бакинской и Грозненской нефти, а подполковника, видите ли, беспокоит, как бы не задеть самолюбие начальников.
– Н-да, – неопределенно протянул Лебедь, то ли осуждая Меньшикова, то ли соглашаясь с ним. И тоже усмехнулся: – Что ж, придется мне пострадать за общее дело. – Он надвинул фуражку на лоб, словно готовился к встрече с ураганом, и зашагал в сторону КП дивизии. И все, кто слышал этот разговор, видел Александр, были на стороне замкомдива. Лебедь вырос в глазах даже тех, кто относился к нему с неприязнью, особенно после того, как через несколько минут вернулся и дал команду экипажам на вылет.
Первым взлетел разведчик погоды, он пошел по отвлекающему маршруту, а спустя десять минут – Александр. Какой это его боевой вылет? Восьмидесятый, сотый? После гибели Риты и отца он не считал вылеты, летал и летал: на бомбежку Харьковского тракторного завода, где немцы наладили ремонт танков, на уничтожение переправ и железнодорожных мостов, скопление эшелонов на железнодорожных станциях, на воздушную разведку, на отвлечение огня ПВО противника, на освещение целей САБами и на многое другое. Он выпрашивал у Меньшикова самые сложные задания, и ни разу ему в душу не закралась тревога об опасности, будто не было ни вражеских истребителей, ни зенитных орудий. И удивительное дело – за полгода напряженной огненной страды ни один снаряд серьезно не повредил его машину, ни один истребитель не вышел на дерзкую неотразимую атаку. А сегодня, когда руководитель полетов скомандовал: «Сорок пятый, вам взлет!», – тревога холодком вдруг обдала сердце.
Александр понимал: лететь первым – не только большая ответственность, но и большая опасность. И первый, самый плотный, заградительный залп твой, и прожектора, и истребители… Правда, на его счету таких «первых» было около десятка, но в этот раз он испытывал какое-то напряжение, непонятное волнение. И штурман притих, слова не вымолвит; на земле ему сам черт не брат, а тут, видно, не до шуток И в самом деле – надо угол сноса рассчитать, ориентировку вести, следить, чтобы не подошел вражеский истребитель.
Небо быстро темнело, и вскоре непроглядная чернота окутала самолет. Южные ночи вообще темные, а эта была какая-то особенная, будто смолой все залили – ни звезд на небе, ни огонька на земле. Александр почти не отрывал взгляда от пилотажных приборов.
Через два часа впереди показалось зарево – линия фронта. Бомбардировщик благополучно пересек ее, углубился на занятую врагом территорию и, круто развернувшись, пошел на цель, чтобы сбить с толку посты воздушного наблюдения и оповещения: пусть думают, что это свои возвращаются с задания.
На небе в облаках появились просветы – светлячками замигали одинокие звезды.
– Командир, подержи, промерчик сделаю, – заговорил наконец Ваня Серебряный. И минуты через три радостно сообщил: – Порядок, командир, ветерок ангельский, 30 км, и как раз по курсу.
Александр на секунду оторвал взгляд от приборов и увидел вдали огни взлетно-посадочной полосы. Армавирский аэродром, где их полк тоже сидел перед тем, как эвакуироваться на Каспийское побережье. Фашисты не ожидали советских бомбардировщиков. Настолько были уверены в безнаказанности, что летали, как в мирное время, с полностью освещенным стартом. Подлетев ближе, Александр различил внизу два огонька, красный и зеленый, – аэронавигационные огни самолета. Он шел по кругу. Сделал четвертый разворот, и от него в сторону старта полетели желтая, потом зеленая ракеты. В ту же секунду на земле вспыхнул прожектор.
Фашисты явно обнаглели, пренебрегая самыми элементарными мерами предосторожности. Стоило проучить их за это.
– Командир, а ведь мы вполне можем сойти за фашистов, – подсказал Ваня Серебряный. – Может, тоже включим аэронавигационные огни да снизимся, чтобы получше все рассмотреть да поточнее прицелиться?
Александр подумал: «Идея заманчивая, но если немцы определят, что это чужой самолет, по аэронавигационным огням прицеливаться им будет легче и точнее». И все же рискнуть стоило. Он, как делал и раньше, прибрал обороты одному мотору, а второму добавил – гул получился прерывистый, с завыванием, – включил бортовые огни.
– Зенитки молчат. Точно, за своих приняли, – включился в разговор стрелок-радист из экипажа командира эскадрильи майора Арканова. Майор утром летал на воздушную разведку, а ночью руководил полетами и «уступил» своего стрелка-радиста на один полет Туманову, экипаж которого после гибели сержанта Сурдоленко и ранения Серебряного так и не был полностью укомплектован. В этот полет к Туманову напрашивался старший лейтенант Пикалов, снова подружившийся с Серебряным, и Александр дал согласие, но в последний момент подполковник Меньшиков почему-то воспротивился и заставил Пикалова заняться подготовкой молодых, еще не введенных в строй стрелков-радистов. – Я и ракет на всякий случай разных прихватил. Вот под рукой желтая и зеленая.
– Уговорили, уговорили, – ответил Александр. – Уже включил огни. Перевожу самолет на снижение. В районе четвертого разворота пустишь желтую и зеленую ракеты.
– Есть, командир. Будет сделано.
Александр вывел самолет на прямую вдоль взлетно-посадочных огней.
Стрелок пустил желтую и зеленую ракеты. Длинный луч прожектора лег вдоль ВПП, приглашая экипаж на посадку. Замысел удался.
– Так держать! – скомандовал штурман.
В отблесках луча прожектора обозначились силуэты самолетов, стартовая командная будка (все было так, как и при базировании наших самолетов), стоявшие около будки легковые автомашины. Меньшиков был прав: советские бомбардировщики прибыли в самый раз, когда фашистское командование напутствовало своих асов перед ответственным заданием.
– Десять влево!
Александр развернул машину как раз туда, где было наибольшее скопление самолетов.
– САБ! – крикнул Серебряный.
– Есть, САБ! – отозвался Агеев. И в ту же секунду аэродром осветило словно громадной люстрой. Стало светло как днем.
Александр не выдержал и взглянул за борт. Невдалеке от стартовой командной будки увидел строй летчиков: гитлеровское командование давало последние указания. «Сейчас мы внесем поправку», – подумал Александр, и в этот момент бомбардировщик облегченно взмыл: штурман сбросил бомбы внешней подвески.
Александр выключил аэронавигационные огни и с набором высоты стал разворачиваться для нового захода. «Теперь очередь фашистов, – подумал он, – зенитки дадут сейчас нам прикурить». Но, к удивлению, ни разрывов снарядов, ни лучей прожекторов не появилось. Горел лишь один, посадочный, прожектор, и к нему приближался самолет с включенными фарами. Наверное, у него кончалось горючее, и ему ничего не оставалось, как садиться, а это вызвало у зенитчиков недоумение: самолеты заходят на посадку – и вдруг над аэродромом повисает САБ, раздается взрыв. Ошибка своих или налет противника? Попробуй разберись, тем более что фашисты перелетели на этот аэродром лишь накануне.
Следовавшая за осветителем основная группа внесла ясность – аэродром заклокотал, как от вулканического извержения. Спохватились было зенитки, но специально выделенная для подавления их огня группа капитана Зароконяна быстро заставила их замолчать.
Александр уводил самолет от цели в темноту с легким сердцем и отличным настроением, и впервые за томительные дни после гибели Риты ему вспомнилась Ирина, ночь, проведенная с ней в станице Михайловке. Где она, жива ли?
8
2/XI 1942 г….Боевой вылет в глубокий тыл противника (Крым, район Алушты, гора Чатырдаг), выброска партизанам грузов, продовольствия…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Раскрашенные первыми осенними похолоданиями листья не шелохнутся. Лес будто еще дремлет, солнце уже высоко поднялось и залило всю яйлу Чатырдага, где расположился партизанский отряд после утомительного ночного перехода. На этой яйле следующей ночью предстоит принять самолет с Большой земли. Ирина изрядно озябла, оттого и проснулась. Где-то невдалеке раздается стрекот сороки. «Неужели немцы?» – тревожно мелькает мысль, окончательно разгоняя сон. Ирина высовывает голову, прислушивается. Рядом похрапывают товарищи. Шагах в двадцати бесшумно расхаживает часовой Геннадий Подорожный. Он спокоен и не обращает внимания на стрекот сороки. Значит, все в порядке, кто-нибудь из своих потревожил лесную сплетницу. Подорожный – опытный партизан, с первых дней оккупации Крыма в лесу и изучил повадки птиц.
Сегодня у Ирины, вернее, у группы, в которую она входит, очередное задание: встретить самолет, прибывающий с Большой земли, с оружием, боеприпасами, продовольствием и отправить с ним в тыл тяжелораненых.
Ирина спускается в самую низину: яйла представляет собой неровную покатую площадку километра полтора длиной и метров шестьсот шириной. «Самолеты взлетают под гору, чтобы быстрее набрать скорость и, значит, быстрее оторваться от земли», – вспомнились слова Александра. Вот и пригодились его уроки. Милый, любимый Шурик… Жив ли он?.. Перед выброской ее сюда, в тыл к немцам, начальник спецкурсов предупредил, чтобы на аэродроме она ни с кем и ни о чем не говорила. Чудак! Если бы он знал, кто для нее Александр. Да под угрозой смерти она не сдержалась бы! И когда приземлилась темной ночью здесь, в Крыму, она тоже нарушила указание, послала любимому прощальное приветствие пароль – красную и зеленую ракеты, чтобы он не беспокоился. И поторопилась: не успел радист радировать в центр о благополучном прибытии разведчицы, как их атаковали немцы. Пришлось принять неравный бой, с трудом им удалось вырваться из устроенной карателями ловушки.
Площадка вполне подходящая, с твердым грунтом, покрытая высокой, уже пожухлой травой – без хозяйского глаза она выдула до колен. Посадке эта трава не помешает, а вот взлететь будет сложнее. Ирина остановилась, еще раз окинула площадку взглядом. Взлетит, под гору. А костры разложить придется вот так…
9
…В течение ночи на 2 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе, в районе Нальчика…
(От Советского информбюро)Она первая уловила гул самолета и сразу определила: наш, Ли-2. Растолкала пркикорнувшего у сложенных в кучу дров командира, намаявшегося за эти сутки больше всех. Он за все в ответе – и за скрытый переход, и за доставку тяжелораненых, и за обеспечение благополучной посадки самолета, и за многое другое. Потому и отдыхал меньше других. Вот только с наступлением темноты, когда уложили хворост в кучи и все приготовили к встрече самолета, он прилег и мгновенно уснул.
Самолет зашел по направлению выложенных костров и почти у самой земли включил фары. Сел точно на траверзе светового «Т». Ли-2 развернулся и ослепил их светом фар. Ирина прикрыла глаза рукой. Самолет сбавил обороты, но летчики моторы не выключали, чтобы в случае ловушки взлететь без промедления. Открылась дверь. Ирина увидела в проеме человека и крикнула изо всех сил пароль. Спустилась лестница, и ей протянули руку. Она одним махом поднялась в салон и с замершим сердцем пошла по узкому проходу между ящиков и тюков к кабине летчиков. Ноги стали тяжелыми, пудовыми, их трудно было отрывать от пола – вот-вот подломятся, как бывает во сне… Навстречу ей вышел стройный подтянутый пилот в меховой летной куртке, в шлемофоне. Лица не видно, но походка… неторопливая, уверенная… Он!
– Шурик! – крикнула она и последним усилием воли рванулась к нему. И… беспомощно опустила приготовившиеся обнять его руки: нет, не он. Бледно-оранжевый блин от костров, пробившийся сквозь иллюминатор, высветил немолодое лицо с широким приплюснутым носом, раздвоенным подбородком. Не он…
– Туда нельзя! – властно скомандовал летчик. – Вы что хотите?
– Вы командир? – Ирина взяла себя в руки и заставила успокоиться.
– Нет, командир там, – кивнул мужчина на дверь пилотской кабины. – Он скоро выйдет.
– Как его фамилия?
– Капитан Прохоров. А, собственно, в чем дело?
– Простите… – Ирина повернулась и спустилась по трапу на землю.
10
22/XII 1942 г. Боевой вылет с бомбометанием по станции Тихорецк…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)В декабре полили дожди, посыпал мокрый снег, и аэродром превратился в месиво – ни взлететь, ни сесть. Такое положение было почти по всему Кавказу. Бездействовали не только тяжелые самолеты, но и истребители и штурмовики. А на фронте назревал критический момент: под Сталинградом продолжались кровопролитные бои, для усиления группировки Манштейна гитлеровское командование начало спешно перебрасывать с Кавказа танковые и пехотные дивизии.
22 декабря советскому командованию стало известно, что на станции Тихорецк скопилось множество танков и другой техники, готовящейся к погрузке в эшелоны. На аэродром снова прибыл представитель авиации дальнего действия генерал-майор Петрухин с приказом нанести бомбовый удар по станции. Подполковник Лебедь, неделю назад назначенный командиром дивизии (в заместители себе он взял Меньшикова), долго расхаживал у карты, что-то прикидывая в уме, рассчитывая, потом остановился около своего заместителя.
– Придется, Федор Иванович, твоих орлят поднимать, – сказал он проникновенно, тоном просьбы, а не приказа.
Меньшикову льстило, что летчиков, которыми теперь уже командует майор Омельченко, все еще называют его орлятами. Он и в самом деле испытывал к ним родительское чувство и переживал за каждого как за родного сына; но просьба Лебедя, несмотря на подкупающую искренность, серьезно озадачила замкомдива.
– Как поднимать? – растерялся он. – Аэродром раскис, даже У-2 не летают.
– А мы должны взлететь! – гордо распрямился во весь свой богатырский рост Лебедь. – Я тут кое-что прикинул: ночью подмораживает, вот мы и попытаемся воспользоваться этим.
Комдив предлагал явную авантюру: ночью подмораживало так слабо, что лужи не везде схватывались тоненькой корочкой льда, и земля станет еще вязче, взлететь будет еще труднее. Меньшиков и ранее замечал за Лебедем стремление произвести на начальство впечатление неожиданным смелым решением, дерзостью, лихостью, и ему везло. Но Меньшиков знал: везение – штука обманчивая. И потому, когда комдив предложил ему должность заместителя, согласился не сразу. Предложение, разумеется, его обрадовало: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а фортуна не очень-то баловала его чинами. Радовало и то, что Лебедь – смелый, волевой и решительный командир, поучиться у него есть чему. Беспокоило одно: вот эта самая рисовка, как говорят, игра на зрителя, способная в одно прекрасное время обернуться бедой. Но Лебедь был молод – ему шел тридцать пятый год (Меньшикову сороковой), – и Федор Иванович, надеясь, что с годами Лебедь станет серьезнее и рассудительнее, дал «добро». Теперь же пожалел об этом: волевое решение комдива может стоить кому-то жизни. И возразил:
– Зря ты, Семен Семенович, на мороз надеешься: здесь не Подмосковье, лужи даже не застывают. Штурмовики вон не рискуют, а они легче…
– Ну, это их дело. – Лебедь нахмурился, дугой выгнул шею. – А мы полетим, даже если Вселенная разверзнется.
– Вселенная-то не разверзнется, а вот шею себе кое-кто сломать может, – стоял на своем Меньшиков.
Лебедь принял предостережение на свой счет.
– Напрасно ты беспокоишься за мою шею. Она стоит не дороже тысячи тех, кто может погибнуть от фашистских танков, если мы их не уничтожим.
Этот довод окончательно склонил генерала на сторону Лебедя, и он поддержал комдива:
– Да-да, Федор Иванович, вы же знаете, какое положение под Сталинградом. Нельзя допустить, чтобы фашисты снова собрали там крепкий кулак. Надо попробовать.
– Сделаем, товарищ генерал, – уверенно заявил Лебедь и тоном, не терпящим возражений, приказал Меньшикову: – Позвони Омельченко, пусть готовит полк.
11
22 декабря 1942 г….Юго-западнее Сталинграда продолжались ожесточенные бои. Советские войска сдерживают натиск крупных сил противника и наносят им огромный урон…
(От Советского информбюро)Вечером действительно начало подмораживать. Тонкий, не видимый глазом ледок похрустывал под сапогами трех шагавших по аэродрому командиров – генерала Петрухина, подполковников Лебедя и Меньшикова. Недалеко от КП полка уже стоял ровный строй экипажей в меховом обмундировании с планшетами на боку. А на левом фланге возвышалась фигура майора Омельченко, очень похожая на Лебедя не столько статью и ростом, сколько энергичными жестами, походкой, действиями. И неудивительно: смелость, решительность Лебедя, умение проявить твердость характера в трудную минуту нравились многим, и комдиву подражал не один только Омельченко.
Майор подал команду «Смирно!» и четко отрапортовал генералу о наличии экипажей и самолетов и о готовности их к выполнению боевой задачи.
Генерал поздоровался с летчиками и, дав команду «Вольно!», вышел к середине строя. Заговорил мягким подкупающим баритоном:
– Товарищи! Все вы слышали об окруженной в Сталинграде группировке Паулюса. Наши доблестные войска громят ее и дробят на части. Гитлеровское командование принимает все меры, чтобы вызволить из окружения группировку. С Кавказа срочно отводятся войска противника, концентрируются в районах Тихорецка, Краснодара и перебрасываются по железной дороге в район Котельникова, где собирается мощный кулак. Мы не должны допустить этого. Надо сорвать замысел врага, разгромить его войска в местах сосредоточения. В частности, вашему полку приказано нанести удар по Тихорецку. Знаю, аэродром раскис, взлететь трудно, даже опасно. Но… надо сделать невозможное. – Он обвел строй взглядом. – Кто из вас первым рискнет взлететь, доказать, что для советских летчиков нет непосильных задач? – Он снова повел по строю взглядом, и Меньшиков увидел, как летчики опускают глаза.
– Разрешаю самолет поломать, разбить, – пришел на помощь генералу Лебедь, – но взлететь. Аварию не засчитаем. – Но и под его ободряющим взглядом головы летчиков клонились долу. Лишь когда он посмотрел на Туманова, тот не отвел взгляда. В глазах лейтенанта Меньшиков прочитал скорее безразличие, чем согласие. А может, бывшему командиру просто показалось?.. С тех пор как погибла Рита, Туманов стал еще молчаливее, замкнутее. Три года Меньшиков, можно сказать, опекал летчика, старался понять, что угнетает его, шел ему навстречу, но раскрыть душу подчиненного так и не смог. Риту Туманов, несомненно, любил, но до Меньшикова дошли слухи, что, пока лейтенант преподавал девушкам из спецгруппы самолетоведение, завел себе еще одну зазнобу, некую Ирину Гандыбину. И это не сплетни: Меньшиков сам видел, как переживал Туманов, когда должен был выбросить ее в тыл противника. Вот и назови себя после этого отцом-командиром…
– Что, лейтенант, попробуем? – повеселел Лебедь и ближе подошел к Туманову.
– Можно и попробовать, – согласился летчик без особого энтузиазма. – Только без экипажа.
– Без экипажа? – насторожился Лебедь, уловив в словах лейтенанта подвох. Но тут же по лицу его понял, что летчик говорит дело. – A-а… Само собой. И бомбы подвесим без взрывателей.
– Разрешите выполнять?
– Действуйте. Подвесьте десять соток, без взрывателей.
Туманов вывел экипаж из строя и широким шагом повел к своему бомбардировщику. Лебедь дал команду распустить строй, «коробочка» сломалась, нарушила очертания, но летчики, сбившись в кучу, не расходились, курили, негромко переговаривались и поглядывали в ту сторону, куда удалился экипаж Туманова.
Меньшиков почувствовал, как замерло у него сердце, когда бомбардировщик тяжело и неохотно тронулся со стоянки. То, что выбор Лебедя пал на Туманова, было неслучайно. В полку есть немало хороших, превосходных летчиков, тот же Омельченко, в недавнем прошлом заводской летчик-испытатель, замполит Казаринов, комэск Шанеев, да и немало других, показавших свое мастерство на деле. И все-таки Туманов выделялся из всех: взлететь на перегретых моторах без пилотажных приборов и без шасси, сесть на грунтовую дорогу и не разбить машину, пилотировать на одном моторе и бороться с пожаром мог только ас. После того памятного полета многие летчики покачивали головой и говорили, что Туманов в рубашке родился, что, мол, ему повезло. Меньшиков и сам верил в везение, бывают такие случаи. Но везение Туманова исходило не из случайности. Меньшиков не раз летал с ним и всякий раз поражался удивительному чутью, интуиции Туманова. Его не надо было учить, не надо было ему подсказывать – он предопределял и схватывал все сам.
И все-таки каким бы способным и везучим человек ни был, каким бы мастерством и талантом он ни отличался, понимал Меньшиков, есть предел человеческих и технических возможностей. И в данном случае стихия – раскисший аэродром – была сильнее человека и машины. Колеса вон увязают по самые стойки, малейшая неточность – и самолет перевернется. А что может быть нелепее гибели у себя дома?!
Меньшиков не отрывал взгляда от бомбардировщика и до боли кусал губы. Зачем Туманов согласился?.. А Лебедь даже не смотрел в его сторону, отчитывал за что-то инженера дивизии полковника Баричева, человека, годившегося ему в отцы, добросовестного трудягу и опытного специалиста.
Бомбардировщик надрывался моторами. Рев стоял такой, что земля дрожала под ногами. Колеса зарывались в вязкое месиво и, выворачивая темно-бурые пласты, оставляли за собой глубокие неровные борозды.
– Загубит машину! – вырвалось, как стон, у Баричева, не слушавшего комдива – сейчас было не до его нотаций.
Меньшиков не мог больше смотреть вот так безучастно на безрассудство, хотел было пойти на КП, чтобы подсказать Туманову рулить не к линии старта, а на небольшой бугорок, что возвышался на краю аэродрома, где было не так вязко, но летчик сам догадался об этом – бомбардировщик изменил направление. До бугорка было метров двести, и самолет никак не мог преодолеть это расстояние: его вело в сторону, колеса ползли юзом, и летчик, давая полный газ моторам, чудом удерживал хвост крылатой машины в горизонтальном положении, не давая ей опрокинуться навзничь.
Наконец бомбардировщик выбрался на бугорок, и моторы приутихли, словно делая передышку перед стартом. Лебедь повернул голову, но взгляд по-прежнему был равнодушным, словно в самолете сидел не человек, которого он послал, быть может, на гибель, а ничего не стоящий робот.
Новый, более мощный рев сотряс воздух. Бомбардировщик двинулся с места и тяжело и медленно стал набирать скорость. Бежал он долго и томительно, и Меньшиков, глянув на лица соседей, не у одного заметил испарину.
Давно надо было поднять хвост машины, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, а Туманов почему-то не делал этого: то ли боялся, что самолет может скапотировать, то ли специально создавал больший угол атаки для увеличения подъемной силы и уменьшения нагрузки на колеса.
До конца аэродромного поля оставалось метров триста, там начиналось более вязкое место. Скорость бомбардировщика достигла критического момента – ее не хватало для отрыва и было вполне достаточно, чтобы при малейшей оплошности летчика самолет перевернулся. А с таким грузом уцелеть Туманову вряд ли удастся.
Инженер дивизии полковник Баричев на полуслове оборвал разговор, и лицо его побледнело. Лебедь же и теперь стоял спокойный и невозмутимый, искоса поглядывая на ошалело ревущий от чрезмерной натуги самолет, словно опасность, нависшая над пилотом, его не касалась и не ему в первую очередь придется держать строгий ответ, если произойдет катастрофа.
Осталось двести метров. Сто. Меньшиков заметил, как Баричев опустил голову. И его голова невольно стала клониться книзу: видеть, как гибнет лучший летчик полка, было невыносимо.
Вдруг вздох облегчения вырвался у кого-то из груди. Меньшиков поднял голову и чуть не вскрикнул от радости: бомбардировщик оторвался от земли и медленно, но уверенно набирал скорость и высоту.
Лебедь и при этом не выразил никаких эмоций, повернулся и твердой походкой зашагал к командному пункту.
Капитан Зароконян, словно в назидание Меньшикову, поцокал языком:
– Вах-вах! Ни один мускул не дрогнул на лице.
– Признак недюжинной силы воли, – отозвался его друг капитан Кулешов. – У китайцев, говорят, выдать свои чувства считается чуть ли не потерей чести.
– Китайцы, они и есть китайцы, – не принял всерьез такое умозаключение Зароконян. – А Лебедь наш не лебедь – орел!..
На командном пункте собрались генерал Петрухин, подполковники Лебедь, Меньшиков и командир полка майор Омельченко. Лебедь, склонившись над списком боевых экипажей, сам отбирал их для выполнения боевого задания. Из тридцати отобрал лишь семнадцать. И как только Туманов, выработав на кругу горючее, произвел посадку – сделал он это не менее мастерски, чем взлетел, – комдив дал команду на вылет.
12
31/XII 1942 г….Боевые вылеты из-за плохих метеоусловий не состоялись…
(Из боевого донесения)В канун Нового года погода окончательно испортилась: средиземноморский циклон принес такой густой туман, что в двух шагах ничего не было видно. В полку наступило относительное затишье. Летный состав делился боевым опытом – бомбометанием, ведением воздушных боев и разведки, технический состав приводил в порядок боевые машины.
Окружение группировки Паулюса в районе Сталинграда, наступление войск Юго-Западного и Воронежского фронтов на Среднем Дону подняли настроение русских: в полку все буквально торжествовали, а он, Хохбауэр-Пикалов, сжимал от злости челюсти и мысленно разражался такими ругательствами в адрес своих «хозяев», которых, услышь они хоть десятую часть того, что он о них думал и чего им желал, хватила бы кондрашка. Они, видите ли, недовольны его работой: не сообщил о готовящемся бомбовом ударе по Армавирскому аэродрому, поздно передал радиограмму о вылете бомбардировщиков на Тихорецк. А как бы, спрашивается, он мог предупредить их своевременно, когда сам не знал, в какое время полку дадут команду на вылет? А когда узнал, все равно ничего поделать не мог – его послали в дивизию для координации связи с постами наблюдения. А его связники, выброшенные чуть ли не год назад, сгинули. И вместе с ними – портативный передатчик. Потому приходится ему пользоваться только самолетной радиостанцией и только в полете, чтобы не засекли его и не поймали на месте преступления. И так он рискует больше, чем надо: при налете на Тихорецк он отстучал ключом, едва поднялись в воздух, почти над своим аэродромом. И не его вина, что двух часов оказалось недостаточно, чтобы сотрудники «Валли-4» предупредили коменданта Тихорецка и успели рассредоточить войска и технику… Да, русские наделали там шороху – три дня рвались на железной дороге вагоны с боеприпасами и бушевали пожары; одна из лучших горнострелковых дивизий приказала долго жить… А они все его обещанками кормили: «Ждите». Вот и дождались… И, похоже, урок им не пошел впрок. Снова радируют: связники-де к нему посланы, пусть не волнуется, они сами его найдут. Найдут ли? Три месяца назад случайно он видел шифровку в штабе, в которой напоминалось о бдительности. Приводился пример, что в одну из отступающих частей под видом эвакуированной жены командира пробралась красивая молодая женщина, оказавшаяся немецкой шпионкой. Вполне возможно, что речь шла о его связной. А Старик либо тоже попал в руки контрразведки, либо сам ждет помощников. Как бы там ни было, надо самому позаботиться о сообщнике. Тем более что такой есть и давно нуждается в крепкой направляющей руке.
Капитан Серебряный после госпиталя стал еще бесшабашнее, пьет чуть ли не каждый день – где он только добывает водку? – на замечания Туманова не обращает внимания, и между командиром и штурманом образовалась заметная трещина, чем можно воспользоваться. К Пикалову Серебряный по-прежнему благоволит, по пьянке клянется ему в преданности и дружбе, желает летать в одном экипаже. А поскольку радиста у Туманова пока нет, а комэск то полетами руководит, то в штабе дивизии дежурит, Пикалов выполняет желание штурмана, планирует себя на боевые вылеты в экипаже Туманова, что еще более привязывает Серебряного к начальнику связи эскадрильи. Они вместе ходят на занятия, в столовую, вместе проводят досуг, когда выдаются свободные от службы минуты.
Сегодня, едва Пикалов закончил занятия с радистами, в класс вошел Серебряный и весело подмигнул ему:
– Есть шансы встретить Новый год по высшему разряду. Желаешь?
– В нашей-то дыре? – усомнился Пикалов, нарочито поддразнивая Ваню, чтобы тот быстрее выложил свои карты.
– Почему в нашей? В семи километрах от нас есть отличное рыбацкое село, Булак называется. Так вот, оттуда пришло приглашение отпраздновать Новый год вместе с ними в их клубе.
– Топать в такую погоду семь километров – уволь, братец. Я пас, – не согласился Пикалов.
– Ну и дурак, – констатировал Серебряный. – Там такие девочки! Полтора года мужчин не видели. Представляешь?
– Не очень. Даже если Омеля кого-то и отпустит туда, то часам к двум ночи прикажет явиться в полк. Мало ли какие могут поступить вводные.
– Не поступят, – стоял на своем Серебряный. – Ветродуи на целую неделю дают плохую погоду. И Омеля разрешил отпустить в Булак по восемь человек из эскадрильи.
– А Хмурый твой идет? – как бы между прочим поинтересовался Пикалов.
– Нет. Все о своей Рите тоскует… Да без него и лучше. Надоел он мне со своими нравоучениями. Так махнем?
Пикалов еще немного поманежил друга, помолчал и с улыбкой развел руками:
– Ну коли там девочки…
Омельченко для поездки в Булак выделил крытую грузовую автомашину, но, как Пикалов и предполагал, приказал всем к двум часам ночи быть в гарнизоне.
– Ну это как обстоятельства сложатся, – усмехнулся Серебряный…
Перед поездкой Ваня успел пропустить рюмку и, сидя в машине, сыпал такие небылицы, от которых товарищи то и дело хватались за животы.
Из клуба уже неслась музыка, и, едва машина остановилась, встречать летчиков вышли две молодые бойкие женщины, назвавшиеся Полиной и Антониной. В зале Пикалов рассмотрел их: обе симпатичные, любящие и умеющие поговорить – они так и сыпали приветствия летчикам, ведя их к сцене, где стояло несколько скамеек; Полина – высокая, крепкой кости, Антонина – среднего роста, но тоже плотная, крутобедрая, с сильными, жесткими от воды и ветров руками. Им было лет по двадцать пять, а судя по кольцам на безымянных пальцах правой руки, обе замужние.
– Беру на прицел Антонину, – шепнул Пикалову Серебряный.
– Не торопись, здесь есть моложе и лучше, – так же шепотом ответил Пикалов.
В середине зала под звуки вальса кружилось несколько девушек, и, хотя освещение было слабенькое – на стенах висели обыкновенные керосиновые лампы, – Пикалов успел рассмотреть красивые мордашки.
Полина и Антонина провели гостей к сцене и с радушной улыбкой гостеприимных хозяек предложили им осмотреться, выбрать себе партнерш и веселиться до одиннадцати часов. В одиннадцать все приглашались в столовую на праздничный ужин.
Полина и Антонина ушли. Танец кончился, и девушки выстроились вдоль стен, с любопытством рассматривая прибывших, перекидывая взгляды с одного на другого. Пикалов обратил внимание, что с него не спускает глаз невысокая красивая шатенка. Серебряный тоже заметил это и толкнул друга в бок.
– Крути виражи, Миша, два пулемета нацелили тебе прямо в сердце.
– Спасибо за предупреждение, – поблагодарил Пикалов. – С такой можно потягаться. – В это время снова заиграла музыка, и старший лейтенант расправил плечи. – Прикрой, Ваня, иду в атаку.
Девушка сделала вид, что не заметила направившегося к ней высокого командира, отвела взгляд в сторону и повернула голову лишь тогда, когда он произнес:
– Разрешите?
На ее лице не отразилось ни малейших эмоций, словно минуту назад она и не наблюдала за ним. «Ну, погоди, – мысленно пригрозил Пикалов, – я отплачу тебе за показное равнодушие». И сразу же нанес удар:
– У вас здесь очень мило. И женщины – сама прелесть, добрые, гостеприимные. Особенно вон та, высокая. Это ваша начальница?
– Да, наш бригадир, командир по-вашему, – чему-то усмехнулась шатенка. – С первых дней войны командует. Успешно командует, бригада ежемесячно почти вдвое план перевыполняет, и имя Полины Шажковой известно в стране получше, чем некоторых летчиков. Кстати, вы летчик?
– Летаем помаленьку, – преднамеренно принизил свою роль Пикалов и громко вздохнул.
Она клюнула на его приманку.
– А почему такой вздох? Потому что «помаленьку» или потому что «летаем»?
– Вы опасная женщина, ловите на слове.
– Ну что вы… Я только посочувствовала. Очень уж рисковая у вас профессия.
– По-моему, рыбу ловить – тоже опасно. Совсем это не женское дело.
– А я не рыбачка. Здесь оказалась по воле случая – немцы загнали.
– Нынче многие «по воле случая». И откуда же вы?
– Издалека. Из-под Киева. Слыхали такой городок – Хмельницкий?
– Слыхал. В школе проходили. И как это вам удалось вырваться оттуда? Там немцы быстро наступали.
– Муж помог. Он у меня тоже летчик. Истребитель. Думала, в Ростове пережду, потом в Сальске… А пришлось вот аж куда.
– И чем же вы здесь занимаетесь?
– Помогаю лечить больных, я медсестра. – Она вдруг спохватилась: – Видите, какая я болтушка, все о себе выложила. А о вас, кроме того, что вы летчик, ничего не узнала.
– А почему вы решили, что я летчик?
Она удивленно вскинула свою черную красивую бровь:
– Разве ваша форма ни о чем не говорит?
– Форма? – усмехнулся теперь Пикалов. – Недавно к нам на аэродром приходит старушка и спрашивает: «Где у вас тут летчик, который кастрюли чинит?»
Женщина рассмеялась.
– Нет, мой муж кастрюли не умел чинить. А вы умеете?
Он покачал головой:
– К сожалению. А сейчас, говорят, очень выгодная профессия.
– Какая же ваша профессия? Штурман, начальник связи эскадрильи?
– Вы даже такие подробности знаете? – Его и в самом деле удивила ее осведомленность: многие жены, как и та старушка, считали, что если муж служит в авиации, значит – летчик.
– Я была любящая жена, – с гордостью и улыбкой подчеркнула женщина, – и меня интересовало все связанное с профессией мужа.
– Вот теперь я поймаю вас на слове: почему «была»? – Ему нравилось играть с ней, и он чувствовал, что с этой женщиной можно легко договориться и неплохо провести ночь. Но обострять отношения с командованием полка ему не хотелось, и он «прощупывал» ее просто так, для интереса, ни на что не рассчитывая.
– «Была» потому, что давно о муже ничего не знаю. Мне сообщили, что муж выбыл по ранению, а куда… Никаких следов найти не могу. – Она глубоко вздохнула. – Нет никого несчастнее жен летчиков. А вы женаты?
– Нет, – покачал он головой. – Я не хочу делать несчастными красивых женщин. Лучше дарить им счастливые мгновения.
Она кокетливо закусила нижнюю губку, будто он озадачил ее своим откровенным признанием.
– А вы не из робкого десятка, – наконец сделала она вывод. – А я-то подумала – пай-мальчик. Мне даже показалось, что вы из тех летчиков, кто боится высоты.
Где он слышал эту фразу? Она… Блондине?
– Что же вы молчите? Разве я ошиблась?
Она ждет отзыв… Пожалуйста.
– Вы ошиблись в другом, – начал он тоже с вводной. – Чем больше высота, тем безопаснее. Точнее, чем дальше от земли, тем спокойнее.
– Вот теперь понятно, – обрадованно улыбнулась она. – Наконец-то разыскала вас. Далеко ж вы забрались.
– Я и сам надежду потерял.
– Мы ожидали вас в Сальске, а вы вон куда махнули.
– Дед тоже здесь?
Она неопределенно пожала плечами:
– Здесь ему неинтересно. Кстати, просил передать: начальство вами недовольно.
Ну, это не его забота. Его охватила такая злость, что от вспыхнувшего несколько минут назад к ней чувства не осталось и следа.
– Вас прислали помогать, а не инспектировать.
– Я представляла вас совсем иным, – кокетливо улыбалась крашеная шатенка, – этаким невозмутимым смельчаком. А вы, оказывается, очень нервны…
Рядом с ними кружились Ваня Серебряный с Полиной. Штурман весело и ободряюще подмигнул ему: с такой-то красоткой разве к лицу вешать нос? «И в самом деле, – упрекнул себя Пикалов, – вскипел, как капризная семиклассница. Нервы расшатались. А распускаться никак нельзя». И через силу улыбнулся:
– Простите… Они там думают, что мы тут водку пьем. Вот поживете – увидите. Кстати, как вы устроились?
– Не очень здорово. В общежитии. Пять пар чужих глаз.
Серебряный снова продефилировал рядом, показывая за спиной своей партнерши большой палец. Пикалов и сам был в восторге: «хозяева» постарались в выборе связной – редкостной красоты и, кажется, неглупа; большущие голубые глаза внимательны, заглядывают в самую душу. Но едва она произнесла пароль, как перестала интересовать Пикалова как женщина: любовь и дело в его понятии были вещами несовместимыми и, будь она сама богиня, он не поддастся чарам.
– Вы понравились моему другу, – сказал он, когда Серебряный несколько удалился.
– Вон тому маленькому капитану? – насмешливо спросила она. – Кто он?
– Штурман.
– Я думаю, вы подберете мне более достойную партию.
– Достойной партией займетесь после войны. А пока нам нужен этот капитан. Он уже почти наш.
– Это другое дело…
Едва танец кончился, Серебряный очутился около них без Полины. Пикалов представил его:
– Мой друг Иван Серебряный, потомок знаменитого князя.
Женщина взяла протянутую ей руку капитана и назвала себя:
– Тамара.
Снова заиграла музыка, и Серебряный, приложив руку к груди, поспешил пригласить ее на танец. Тамара как-то загадочно глянула в глаза Пикалова, то ли сожалея, что не удалось до конца поговорить, то ли упрекая за поручение. Но уже через минуту она весело хохотала, слушая какую-то байку штурмана…
Часть пятая
1
22/II 1943 г….Боевой вылет с бомбометанием по скоплению барж с боевой техникой у косы Чушка…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Александр, опробовав моторы, выключил зажигание, еще раз осмотрел кабину и вылез на крыло. Глянул на часы – шестой час, уже начинает темнеть, а штурман все не появлялся. С того дня, как он познакомился с этой красоткой Тамарой, хоть привязными ремнями пристегивай его к креслу: едва выдается свободная минута, он удирает к ней в село. А туда ни много ни мало – три километра… Бегал и за семь, в Булак. Втюрился, как говорится, по уши. А Туманову она не нравится – очень уж какая-то холодная вся. И не верит он в искренность ее чувств к Ване, не пара она ему. Но любовь, говорят, слепа, и штурмана не переубедишь… Не напился бы он. Хороший парень, умный, смелый, а вот с двумя слабостями совладать никак не может – с пристрастием к женщинам и к спиртному. Александр и по-хорошему уговаривал его, и грозил выгнать из экипажа – не помогает. Теперь вот жениться надумал, нашел время. И она… Ничего еще о судьбе мужа не знает… Приехала за Ваней на Кубань, куда перебазировался полк, сняла комнату в селе, что поближе к аэродрому, собирается в медсанбат сестрой поступить… Если Ваня и сегодня опоздает, придется докладывать командиру эскадрильи, больше укрывать его проделки нельзя.
– Юнаковский! – позвал Александр стрелка-радиста, молоденького сержанта, только что окончившего курсы радистов и назначенного в экипаж Туманова.
Из люка, расположенного у пулеметной турели, высунулась голова в шлемофоне.
– Слушаю, товарищ лейтенант, – откликнулся сержант.
– Готовы к полету?
– Так точно. Радиостанция работает нормально.
– Тогда сбегай на командирскую машину. Разыщи старшего лейтенанта Пикалова и узнай, не видел ли он своего дружка Серебряного.
– Есть. – Голова мгновенно исчезла в люке, и минуты через три Юнаковский, застегивая на ходу меховую куртку, заспешил к стоявшему на левом фланге бомбардировщику командира эскадрильи.
Туманов спрыгнул на землю, обошел самолет вокруг. После вчерашнего ночного боевого вылета на Керчь бомбардировщик имел жалкий вид. Всюду – на крыльях, в фюзеляже, в рулях управления зияли рваные отверстия. Зенитные батареи немцев словно поджидали нашу группу: открыли такой плотный огонь, что ни один самолет не остался без отметин. А два не вернулись…
За день механики и техники восстановили почти все самолеты, и они стояли теперь с подвешенными бомбами, готовые к новому боевому вылету.
Александр ласково и с благодарностью провел ладонью по дюрали: сколько боевых вылетов совершил он на этой машине, сколько провел жестоких схваток с «мессершмиттами». Не раз прилетал, как говорится, на честном слове: но, как бы ни был изранен самолет, он не подводил экипаж…
– Товарищ лейтенант, замполит идет, – предупредил Александра техник самолета.
Туманов вышел из-за крыла и увидел коренастую фигуру майора Казаринова. Расправил под ремнем комбинезон и шагнул ему навстречу. Отрапортовал:
– Товарищ майор, самолет номер семнадцать к полету готов. Экипаж производит предполетный осмотр.
Майор поздоровался с ним за руку.
– Самолет, говоришь, готов. А экипаж? – В прищуренных глазах замполита таилась хитринка. Значит, знает о Серебряном.
– Вот только штурмана поджидаем.
– А знаете, где он?
Александр, разумеется, догадывался, но выдавать подчиненного не хотелось, и он неопределенно пожал плечами.
– Н-да… – о чем-то своем подумал Казаринов. – Не повезло тебе со штурманом.
– Штурман он отменный, – вступился за Серебряного Александр. – И характером будто бы не из слабых, а вот пристрастился… Компания еще такая подобралась…
– Слыхал я, жениться он хочет?
– Собирается…
– Симпатичная невеста… К нам в БАО, в медсанбат просится. Я одобрил его выбор. Может, женитьба образумит твоего штурмана?
Александр глянул в глаза замполита: серьезно он? Прежних лукавинок не было; похоже, майор не шутил. Прибежал Юнаковский и, переведя дыхание, попросил у майора разрешение обратиться к лейтенанту.
– Давай, – кивнул Казаринов.
– Товарищ лейтенант, старшего лейтенанта Пикалова я не нашел, но комэск велел передать вам, что капитана Серебряного командир полка отстранил от полетов.
«Достукался, – мелькнуло в голове у Александра. – Омельченко – не Меньшиков, либеральничать с капитаном не станет, несмотря ни на какие его заслуги».
– А как же с вылетом? – спросил Александр у майора. – Ведь наш экипаж летит осветителем цели.
– Н-да… – задумался Казаринов. – Без осветителя никак нельзя. Бомбы уже подвезли?
– Так точно. Вон лежат. Может, из молодых штурманов кого дадите?
– Из молодых нельзя, – возразил Казаринов. – Коса Чушка – объект сложный, до тридцати зенитных батарей прикрывают. А идти первым. В общем, готовьтесь, я согласую с командиром. – Замполит направился к командному пункту.
* * *
Если верить историкам, Гай Юлий Цезарь умел одновременно писать, читать и вести с кем-то важный разговор. Ему, Пикалову, такого умения, конечно, не достичь, хотя приходится и потруднее; задавать вопросы радисту, слушать его ответы, настраивать радиостанцию на нужную волну – через три минуты «хозяин» выйдет на связь – и наблюдать за аэродромом (притом за капитаном Серебряным) не спуская глаз. Сегодня Князь проходит последнее испытание. Если он справится с ним, «Валли-4» приобретет еще одного ценного сотрудника.
Пока все идет как по писаному: Ваня опоздал на аэродром, командир полка отстранил его от полета…
Радист, несмотря на свою молодость и неопытность – сегодня он впервые летит самостоятельно на боевое задание, – отвечает четко и верно. В наушниках комариным писком прозвучали позывные «Валли-4», Пикалов как бы от нечего делать стал записывать цифры. Вскоре это ему «надоело». Он скомкал бумажку, сунул ее в карман и задал радисту новый вопрос.
А Серебряный с понурой головой стоял перед Тумановым. Тот что-то говорил ему внушительно и недовольно, потом махнул рукой и полез в кабину.
Ваня бесцельно побрел к соседнему самолету. Неужели сдрейфил?.. Его маленькая фигура скрылась за фюзеляжем. Пикалову очень не хотелось покидать этот укромный наблюдательный пункт: то, что будет делать Серебряный, он должен видеть собственными глазами…
Пикалов перевел радиостанцию на другую волну, надел наушники на голову радиста и, дав «добро», спустился на землю. Достал папиросу. У хвоста самолета остановился, Ваня Серебряный уже «заливал» что-то технику и механику из экипажа командира эскадрильи. Те весело хохотали. «Артист-юморист, – усмехнулся Пикалов. – Будто не его отстранили от полета, и будто не он пять минут назад стоял перед Тумановым с покаянием…»
К бомбардировщику подвезли бомбы. Техник полез в кабину, открыл бомболюки. Ваня Серебряный стал помогать вооруженцам подвешивать бомбы.
«Неужели он решил там, а не на своем самолете? – задумался Пикалов. – Пожалел Туманова или ситуация заставила?.. В конце концов какая разница… Во всяком случае, для него, Пикалова, и для «Валли-4»… Вот разве для эскадрильи… Для нее разница есть – потерять командира или рядового летчика… Значит, и для Блондине с Пикаловым разница есть…»
Вооруженцы, один вращая лебедку, второй поддерживая бомбу, стали поднимать ее в бомболюк. Серебряный с замком в руках пошел к очередной «сотке». Вот тут-то Пикалов и увидел то, что не видели другие: Князь остановился около взрывателей и, сунув руку в карман, заменил один. «Тот ли? – мелькнуло было сомнение у Пикалова. Но он тут же успокоил себя: – От Лещинской Ваня никуда не заходил… Неплохо бы проверить. Но как? Свою причастность к этому делу ни в коем случае выявлять нельзя… Все станет ясно, когда экипажи вернутся с боевого задания…»
* * *
Александр думал о Серебряном: что теперь ему будет? Омельченко одним отстранением от полетов не ограничится, он уже предупреждал штурмана: еще одно опоздание, связанное с пьянкой, – и отдаст его под суд военного трибунала. А командир слов на ветер не бросает. И хотя Александр был зол на своего штурмана, почему-то жалел его: что-то с Ваней творилось непонятное. Поступки его были по-мальчишески глупы. У Александра в голове не укладывалось, как можно так безответственно относиться к делу, забывать обо всем на свете при виде красивой женщины, напиваться. Ведь умный человек, превосходный штурман, умеющий с первого захода поражать самые малоразмерные цели. В небе никакие снаряды не свернут его с боевого курса, а на земле сто граммов уводят черт-те куда…
Техник и механик по вооружению закончили подвеску бомб. Александр посмотрел на часы. До вылета оставалось пятнадцать минут, а штурмана все не присылали. Придется самому идти на КП, выяснять. В это время он увидел шагающего в его сторону майора Казаринова. В руке замполит нес планшет.
То, что Казаринов решил лететь в экипаже – осветителем цели, Александра не удивило: замполит в совершенстве знал штурманское дело и не раз уже летал на боевые задания то в роли летчика, то штурмана. Но так было до июля прошлого года, когда майор последним покинул на У-2 аэродром у Михайловки. Едва он набрал высоту, как его атаковала пара «мессершмиттов». Как ни крутил майор на своем тихоходе, какие виражи ни закладывал, истребителям удалось подбить У-2 и ранить летчика в голову. Чудом Казаринов посадил самолет и чудом спасся. Почти три месяца провалялся в госпитале. После того случая летал он мало – часто голова побаливала, и врачи не рекомендовали ему летать.
Была и вторая причина, сильно огорчившая Александра, что полетит замполит. В том же сорок втором после госпиталя Казаринов заехал домой и забрал у матери семилетнего сына – жена погибла при эвакуации, – а два дня назад, когда Казаринов находился на совещании, на аэродром налетели фашистские бомбардировщики. Сирена оповестила слишком поздно. Майор выскочил из землянки и, не обращая внимания на полыхавшие огненные смерчи, бросился искать сына, любившего бродить по стоянке, смотреть, как готовят самолеты к полетам. Он нашел его недалеко от разбитого бомбардировщика. Мальчик лежал, раскинув руки. Пальтишко было пробито и залито кровью. Казаринов подхватил сына и понес с аэродрома в медсанбат…
А вечером замполита снова видели на стоянке. И если бы летчики не знали о случившемся, никто не догадался бы, какое у майора горе. Казаринов, как и прежде, спокойно беседовал с членами экипажей, как и прежде, давал мудрые напутственные советы перед вылетом.
– Что, не такого ожидал штурмана? – подойдя, с улыбкой спросил Казаринов.
– Почему, я рад, – смущенно ответил Александр. – А что врач скажет?
– Его мы потом послушаем, после полета…
2
23 февраля 1943 г….Западнее Краснодара наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, заняли несколько населенных пунктов…
(От Советского информбюро)Фашистские истребители поджидали бомбардировщиков в сотне километров от цели, над Азовским морем. Юнаковский обнаружил их поздно и доложил лишь тогда, когда истребители открыли огонь. И ответил запоздало. К счастью, ночь была темная, а поскольку летчики целились по выхлопным огням из мотора, трассы прошли мимо. Александр сразу же убрал газ моторов – чтобы не было пламени – и бросил бомбардировщик вниз в сторону. Предупредил Юнаковского:
– Оставьте радиостанцию в покое. Следите за воздухом.
– Так они… стучат, запрашивают, – виновато промямлил радист.
– Потом ответите, сержант, – сбавил тон Александр. В первом боевом вылете, когда нервы напряжены, не так-то просто поспевать всюду – и отвечать на запросы земли, и поддерживать связь с экипажем, и следить за воздухом. Нужны железные нервы. А Юнаковский юн, робок… Правда, в стрелки-радисты сам напросился, закончил курсы с отличными оценками… Чтобы подбодрить сержанта, Александр похвалил его: – А здорово ты их. Боятся снова сунуться.
Действительно, атаки больше не повторялись. Но не прошло и трех минут, как впереди закачались длинные лучи прожекторов. Они наклонялись из стороны в сторону, скрещивались в одной точке, опускались к горизонту и, снова расходясь, шарили по небу.
– Впереди береговая черта, – доложил Казаринов. – До цели десять минут.
Его голос звучал спокойно и уверенно. И на душе у Александра полегчало: он винил себя за то, что не отговорил от полета больного человека, у которого к тому же ранен сын. Как себя чувствует майор, о чем думает? Раньше Казаринов считался хладнокровным, бесстрашным штурманом. Но это было до ранения. А нередки случаи, когда летчик или штурман, перенесший аварию, становится совсем другим – теряется в сложной обстановке, всего боится.
Однако чем дальше летел самолет, тем больше Александр убеждался в необоснованности своей тревоги. Казаринов вел себя так, будто они выполняли обычное учебное задание.
– Командир, доверни пять вправо, – попросил майор, делая ударение на первом слове, чтобы Александр чувствовал себя хозяином и командовал им как рядовым штурманом.
– Доворачиваю. Следите за воздухом. – Александр накренил машину. Слева, совсем рядом, проползла серебристая полоса прожектора.
– Порядок. Открываю бомболюки… Сбросил. Разворот вправо.
Александр толкнул сектора газа вперед. Моторы взревели. Самолет, круто забирая вправо, устремился от берега. В бледно-желтом трепещущем свете сразу появились земля и море. Светящая бомба повисла чуть в стороне от косы Чушка. Ветром ее относило как раз к центру косы.
Сотни лучей взметнулись ввысь. Но было поздно: бомбардировщик удалялся в сторону моря.
Александр, пилотируя по приборам, наблюдал за обстановкой. В воздухе вспыхивали разрывы снарядов. Зенитки вели ураганный огонь. Лучи прожекторов метались по небу. А внизу летчик заметил приткнувшиеся к берегу баржи, длинную колонну машин и танков.
Зенитки продолжали ожесточенно стрелять. Некоторые из них били по светящей бомбе, стараясь погасить ее.
«Быстрее бы выходили экипажи на цель, – мысленно торопил Александр однополчан. – Самый удобный момент для удара». Однако на земле взрывов не было видно, по всей вероятности, бомбардировщиков задержали ночные истребители. Александр с тревогой посматривал на светящую бомбу. Около нее все ближе и ближе рвались снаряды.
Но вот, наконец, среди барж взметнулся огненный султан, затем взрывы заполыхали по всему побережью. Фашисты заметались по пирсу, танки поползли в стороны. Бомбы крушили их.
– Пройди немного на север, – попросил штурман. – А теперь крути на сто восемьдесят… Отлично! Так держать!
Самолет летел к еще полыхавшей пламенем цели. Впереди преграждали путь лучи прожекторов. Иногда в них мотыльками мелькали самолеты; сразу же несколько лучей скрещивались там…
– Видишь баржи? – спросил Казаринов.
– Вижу.
– Держи на них.
Ослепительный свет хлестнул по кабине. Александр на миг потерял приборы, сдернул рукой темные очки со лба.
– Так держать! – крикнул Казаринов.
Он боялся, что летчик сразу же попытается выйти из прожектора, – так некоторые делают, чтобы не дать зенитчикам расстрелять себя, но в таком случае бомбы прицельно не сбросишь. Александр хорошо понимал это и держал самолет на боевом курсе.
– Так держать!.. Сброс!
Александр накренил машину и энергично толкнул штурвал от себя. Бомбардировщик скользнул вниз. Стрелка указателя скорости побежала по окружности – скорость быстро нарастала. Еще мгновение – и самолет окунулся в темноту. Снова исчезли приборы. Но ненадолго – глаза освоились с темнотой. Александр сдвинул светозащитные очки на лоб и глянул вниз. Коса была объята пламенем. А от одной баржи во все стороны летели огненные брызги. По-видимому, там рвались снаряды.
Летчик перевел самолет в горизонтальный полет. И тут же снова его ослепило. Александр бросил машину в пикирование, крутанул штурвал влево, вправо.
На этот раз прожектор вцепился в самолет крепко. Ему на помощь пришли еще два.
Снова рядом грохнули разрывы.
– Саша, курс девяносто пять… Я ранен, – услышал Александр слабый голос замполита. – Держись…
Сильный удар не дал ему договорить. Бомбардировщик вздрогнул всем корпусом. Его швырнуло в сторону и выбросило из режущего глаза потока света.
Александр почувствовал недоброе. Едва различив стрелки приборов, потянул штурвал на себя. Но он не тронулся с места.
Заклинило.
Летчик напряг все силы. Острая боль кольнула в пояснице – старая рана напомнила о себе. Пришлось отпустить штурвал и выждать, пока боль утихнет. Потом он уперся локтями в подлокотники и ногами в педали, потянул снова. Штурвал не поддавался, и самолет по-прежнему не подчинялся воле летчика, стремительно несся к земле. Высота угрожающе падала: 700, 600, 500…
– Прыгать!
Александр взглянул вниз. Цель позади. Впереди – наша территория. Попутный ветер отнесет к своим…
– Товарищ майор! – позвал он. Ответа не последовало. «Потерял сознание…»
– Юнаковский, Агеев, прыгайте! – приказал Александр воздушным стрелкам.
– Не могу… ранен, – донесся в наушниках слабый голос Юнаковского.
Свист воздуха все нарастал, усиливалась вибрация. Выдержит ли самолет? В таких передрягах он уже побывал, весь излатан… Стрелка указателя скорости прошла красную черту. До земли оставалось метров триста. Еще немного – и прыгать будет поздно.
«Прыгай, прыгай!» – словно свистел ветер в ухо. Стрелок, похоже, выпрыгнул, а Казаринов и Юнаковский молчали.
Александр убрал газ и поочередно нажал на педали. Нос самолета заходил из стороны в сторону – руль поворота работал. Это ободрило Александра, и он снова потянул штурвал. За его колонкой зловеще светилась стрелка высотомера. 250, 200, 150 – безжалостно пробегала она цифры. Летчику казалось, что он ощущает холодное дыхание земли.
И вдруг Александр услышал слабый, но твердый голос замполита:
– Спокойнее, спокойнее! Держись, Сашок!.. Попробуй триммер.
А ведь и вправду… Майор дело советует. Александр совсем забыл о маховике слева по борту, предназначенном для снятия нагрузки со штурвала. Он схватился за него и стал вращать. Почувствовав упор, рванул штурвал на себя. Невидимая сила придавила его к сиденью. Бомбардировщик задрожал от перегрузки и медленно стал выходить из пикирования. Стрелка высотомера замедлила бег и наконец застыла. Летчик плавно толкнул сектора газа. Моторы запели и потянули самолет вверх…
3
…23 февраля… Частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 200 немецких автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 9 артиллерийских и 6 минометных батарей, рассеяно и частично уничтожено до батальона пехоты противника…
(От Советского информбюро)Спустя полчаса замполит и стрелок-радист лежали в санитарной машине. Александр поехал сопровождать их до медсанбата.
На востоке уже алела заря. Звезды тускнели, растворяясь в голубом мареве.
Машина остановилась у большой обложенной дерном землянки, Александр и девушка-санитарка бережно вынесли носилки, на которых в забытьи лежал Казаринов. Осторожно спустились по ступенькам и вошли в длинный коридор со стенами из свежевыструганных сосновых досок На небольшом расстоянии друг от друга в стенах виднелись фанерные двери, за ними палаты. Густой запах смолы и лекарств наполнял землянку.
Прибывших встретил пожилой мужчина в белом халате.
– Николай Иванович, в какую палату? – спросила девушка.
Врач подошел к раненому, бегло взглянул на забинтованные руки и ноги, пощупал пульс и заторопил:
– В операционную!
Потом внесли Юнаковского. Александра в операционную не пустили, и он побрел к выходу. Выйдя из землянки, он только теперь почувствовал страшную усталость и тут же, у входа, опустился на деревянную скамейку, врытую в землю, специально сделанную для навещающих. Сколько просидел, он не заметил. Но когда к нему вышла та самая девушка, с которой он нес носилки, солнце уже было высоко над горизонтом.
Александр поднялся навстречу девушке, посмотрел на нее, пытаясь по выражению лица узнать, какое известие она несет ему.
Девушка устало улыбнулась:
– Все хорошо. Они будут жить.
А в казарме Александра ждало новое печальное известие: не вернулся экипаж командира эскадрильи капитана Кулакова…
4
26/II 1943 г….Боевые вылеты из-за плохих метеоусловий не состоялись…
(Из боевого донесения)В конце февраля южные ветры принесли с Черного моря малоподвижный циклон с сильными ветрами и холодными дождями. Летчики после утомительных напряженных боевых вылетов в Крым отсыпались, технический состав приводил самолеты в готовность.
В один из вечеров старший лейтенант Пикалов, хорошо отдохнувший и сытно поужинавший, сидел в столовой – в казарму идти не хотелось – и мысленно подводил итоги своей работы. Наконец-то «Валли-4» – разведывательный центр группы армий «Юг» – им доволен: почти все боевые вылеты полка предупреждены, ночные истребители и зенитчики встречают бомбардировщиков на подступах к объектам и наносят им ощутимый урон. Дважды соотечественники бомбили полк Омельченко на аэродроме. Блондине знает свое дело, и Князя так окрутила – хоть сегодня вербуй. Но это дело терпит, торопиться не следует. А Гросфатер так и не появляется, предпочитает командовать на расстоянии, вне видимости. Дрейфит, старый хрыч, дрожит за свою шкуру. Да, положение на фронте не в пользу соотечественников. Если Гитлер и Геббельс по-прежнему надеются только на лето, могут здорово просчитаться – Советы вон сколько клепают самолетов, танков, орудий…
За невеселыми раздумьями и застал начальника связи эскадрильи легкий на помине капитан Серебряный, начищенный, наглаженный и с красной повязкой на рукаве шинели – дежурный по части: наказание за самовольный уход к своей возлюбленной и опоздание на боевой вылет.
– Чаи гоняем? – подсел капитан к Пикалову. – Ничего покрепче не нашел?
– Так ты ж в наряде, а с кем тут еще тоску-печаль разгонишь? – сподхалимничал Пикалов, и Серебряный принял это за чистую монету.
– Не печалься, дружище, – хлопнул он по плечу старшего лейтенанта. – Худа без добра не бывает. Дежурный – это человек, облеченный большой властью и силой. В том числе технической. Загляни ко мне через часок.
– Не интригуй. Время – золото.
– Думаешь, у меня его навалом? Но – надо. – Подумал и пояснил: – Тамара замерзает в своей дырявой квартире. Видишь, какой холодище. Я на днях на станции был, договорился насчет угля. Поможешь мне? Ведь я водить не умею.
– А шофер?
– Зачем посвящать его…
– А дежурить кто будет?
– Помощник. А за помощника шофер сойдет. Обязан же я посты поехать проверить. Часа за два обернемся.
Пикалову возиться с углем совсем не доставляло радости. Но Ваня сам лез в петлю, и пора было затянуть ее так, чтобы он не пикнул и безраздельно находился во власти «Кукук-21» и Блондине. Для порядка Пикалов поломался:
– И охота тебе таким грязным делом заниматься?
– Тамара замерзает, – вздохнул грустно Ваня. – Боюсь, подведешь ты меня под монастырь.
– Не подведу… Только надень комбинезон. Погрузить нам помогут, а разгружать самим придется…
Ночь была непроглядная, по-прежнему лил дождь. Колея дороги, заполненная мутной жижей, металась в свете фар то влево, то вправо. Машину водило из стороны в сторону, то и дело она ползла юзом. Не проехали и полчаса, как Пикалов взмок, словно потоки дождя лили ему за ворот комбинезона.
– Держи ровнее по колее, – посоветовал Серебряный.
– Поучи батьку щи варить, – зло огрызнулся Пикалов. – Голой задницей тебя б с твоей Тамарой по этой дороге, чтоб пыл любовный охладить.
– Зависть берет или ревность? – самодовольно усмехнулся Серебряный. – Все вы на нее зенки пялите. Но только попробуй кто помешать…
– А что ты сделаешь? – Самодовольство Серебряного смешило старшего лейтенанта, и он без жалости подзаводил его. – Начальника штаба или начмеда на дуэль вызовешь? А она точно им приглянулась.
– Гляди лучше за дорогой, – больно саданул его в бок Серебряный.
Собственно, тут никакой дороги уже не было – сплошная лужа, – а впереди в свете фар обозначился палисадничек. Пикалов крутанул баранку, чтобы объехать лужу, и машина тут же застряла. Как старший лейтенант ни газовал вперед-назад, колеса все глубже засасывала трясина.
– Ну вот, кажись, приехали. – Пикалов вытер рукавом комбинезона лоб. – Вылезай, подталкивай.
Серебряный послушно спрыгнул в грязь.
Но чем мог помочь полуторатонной, засосанной вязкой трясиной махине тщедушный шестидесятикилограммовый мужичок? Пикалов смеялся в душе над простофилей, смеялся и до отказа нажимал педаль газа, не жалея ни машину, ни своего «друга», – из-под колес летели фонтаны грязи, обдавая новенькую, может, в первый раз надетую шинель дежурного по полку, пытающегося своим хрупким плечом вытолкнуть машину.
– Еще! Еще! – кричал Ваня, когда Пикалов сбавлял обороты.
Около часа надрывно ревел мотор на краю станицы, пока к летчикам не подошел старичок. Посмотрел под колеса, безнадежно покачал головой:
– Зря машину насильничаете. Тут и трактор не сдюжит.
Пикалов выключил зажигание.
– А трактор есть в станице? – спросил он.
– Откуда? Все в МТС, к весенней посевной ремонтируются.
И только теперь Пикалов обратил внимание, что дождь прекратился, ветер повернул против часовой стрелки и усилился – верный признак улучшения погоды.
– Давно пора, – обрадовался Серебряный, словно уже выбрался из трясины. – Как поживаете, дедусь? Сильно немцы нашкодили?
– Знамо дело, – отозвался охотно старик. – Все, почитай, повыгребли. Не живем, а существуем. Слава богу, у кого коровенка осталась, у кого козочка. Так вот всей станицей и держимся.
– А бутылочку у кого-нибудь достать можно?
Дед подумал.
– А почему нельзя? Знамо дело, можно.
– Мы хорошо заплатим, – засуетился Серебряный и захрустел бумажками в кармане, будто старик имел водку при себе.
Старик довел их до калитки видневшегося за палисадником небольшого дома и повернул обратно.
– Прощевайте. Всего вам доброго.
– Спасибо. До свидания, дедусь, – за обоих ответил Серебряный.
Хозяева уже спали – в доме стояла полнейшая тишина, и света ни в одной щелочке не виднелось, – но Серебряный, не обращая внимания, забарабанил в дверь. Пикалов не стал его отговаривать: больше бед – строже ответ.
Наконец в доме проснулись – в щели занавешенного окна вспыхнул огонек Скрипнула дверь, и из сеней заспанный женский голос спросил:
– Кто там?
– Свои, любезная, свои, – ласково отозвался Серебряный и пояснил: – Летчики мы, с соседнего аэродрома. Застряли тут около вас, из сил выбились. Пустите хоть водички попить.
Женщина молчала, раздумывая, видно, как поступить.
– Кого там нелегкая? – донесся из глубины хрипловатый старческий голос.
– Летчики, бать, попить просят.
И снова молчание.
– Мы заплатим. Нас вот сосед ваш к вам направил.
– Ладно, – согласилась женщина. – Только оденусь…
Хлопнула дверь. Они ждали минут пять. Наконец щелкнула защелка, отодвинулся тяжелый засов, и их впустили. Первое, что бросилось в глаза Пикалову, когда он вошел в дом, а вернее, в обыкновенную деревенскую избу, – черная худая коза с двумя козлятами. Она стояла на соломе, недружелюбно посматривая на пришельцев, нагнув голову и выставив вперед острые, чуть загнутые назад рога. Маленькие, такие же черные козлята испуганно жались к ногам матери. За козой с козлятами в левом углу Пикалов рассмотрел фанерную загородку с дверкой, начинавшуюся не от самого пола и не доходившую до потолка, – не хватило материала. Справа, в небольшом закутке за русской печкой, стояла кровать. На ней сидел старик в нижнем белье, взлохмаченный, нечесаный.
– Здравствуйте, – приступил Серебряный к переговорам. – Ради бога простите нас, нужда заставила потревожить. Застряли вот тут, – указал в сторону, где осталась машина. – Видите, как уделались. Разрешите хоть руки помыть.
Пикалов наблюдал, как женщина аккуратно и экономно поливала Ване на руки. Ей было лет тридцать, не более; сильная и ловкая, несколько полноватая, игривая – в ее движениях, в улыбке, которой она одаривала капитана и старшего лейтенанта, в неумелом кокетстве видно было желание понравиться. Дед искоса поглядывал на свою невестку, чесал пятерней бороду, недовольно покряхтывал.
Между тем Серебряный вымыл руки, умылся и, повеселевший, взбодренный, будто ничего страшного не случилось, начал «обрабатывать» старика:
– У каждого, дедусь, свои беды. Мы вот тоже, как говорится, пошли по шерсть, а вернемся стрижеными. Такое важное дело, а мы застряли. Промокли, продрогли, и, главное, согреться нечем. Так недолго не то что грипп – воспаление легких схватить. А нам летать надо, немцев громить. Может, найдется граммов по сто пятьдесят для сугреву? Мы хорошо заплатим и вас угостим. – Ваня достал из кармана гимнастерки пачку тридцаток.
Дед наметанным глазом стрельнул по пачке и кивнул на невестку:
– Разве что у нее где… Акуль, надо уважить красным командирам, – обратился он к невестке. – И в самом деле промокли, как бы не захворали.
– Да уж уважим, как не уважить, – расплылась в улыбке Акулина. Подала Пикалову полотенце и, взяв спички, вышла в сенцы. Вернулась с трехлитровой бутылью, до половины наполненной мутноватой жидкостью. Серебряный сунул ей в руки пачку денег.
– Что вы, что вы, – возразила женщина, – это же очень много.
– На остальные найдите чего-нибудь закусить, – не принял сдачу Ваня.
У хозяев нашлась и картошка, и квашеная капуста, и соленые огурчики. Через полчаса все четверо сидели за столом, и Серебряный, как заправский тамада, наливал рюмки и произносил тосты. Самогонка была вонючая и горькая (видимо, для крепости в нее добавили табаку), и Пикалов с трудом цедил ее сквозь зубы, а Серебряный пил, словно водичку, не морщась, не торопясь закусывать, как делал Пикалов, чтобы быстрее заглушить сивушный дух. Старик и молодица не отставали от Вани. Лица их раскраснелись, глазки пьяно поблескивали.
Молодица и впрямь была недурна: не красавица, но вполне пригожая, крепкая, в самом соку, кубанская казачка. Она все чаще бросала то на Пикалова, то на Серебряного призывные взгляды, поддразнивая их: ну кто из вас смелее, кто хочет испытать мои горячие объятия? Пикалов, хотя и старался пить «не по всей», чувствовал, что захмелел. Казачка нравилась ему все больше, и он подумал: а почему бы, в самом деле, не поиграть с этой похотливой толстушкой в любовь?
Акулина сидела напротив него, и он, вытянув ногу, легонько нажал на ее комнатную тапочку. Она высвободила пальчики и ответно нажала на его ступню.
Серебряный рассказывал о своих боевых подвигах, беззастенчиво привирал и прихвастывал; дед слушал его с открытым ртом, изредка задавая один и тот же вопрос: «Ну а когда ж война-то кончится?» Ваня отвечал: «Скоро, дедусь» – и продолжал рассказ. Пикалов и Акулина перестали обращать на них внимание, разговаривали о своем – о жизни в колхозе, – а жестами, глазами, прикосновениями друг к другу выражали нетерпение, желание быстрее очутиться вместе. И едва дед зевнул, как Акулина решительно поднялась и скомандовала:
– Спать, батяня. Спать. И товарищам командирам надо отдохнуть. Они умаялись с дороги, и еще дорога предстоит нелегкая.
Дед, пошатываясь, встал, окинул комнату несмышленым взглядом: где же ты всех разместишь?
– Ты на печке поспишь, – объяснила Акулина. – Товарищи командиры – за перегородкой, на моей кровати, а я в закутке, на твоей.
Акулина открыла завизжавшую ржавыми петлями дверцу, взбила подушки и позвала:
– Заходите, ложитесь.
Когда они проходили к загородке, коза снова встала и проводила их нацеленными рогами.
– Ну-ну, – погрозил ей Пикалов.
Серебряный, несмотря на изрядное опьянение, разделся по-военному, в два счета. И захрапел, едва коснувшись головой подушки. Пикалов позавидовал его спокойствию: военный трибунал, можно сказать, занес над ним свой карающий меч, а ему хоть бы хны – дрыхнет, забыв обо всем на свете: о том, что угнал машину, что могут хватиться командиры, и мало ли что может случиться в караулах, в части за время его отсутствия.
Дед тоже храпел на печи – на все лады. Акулина заворочалась, давая, видно, знать, чтобы Пикалов шел к ней. Он неслышно поднялся. Подошел к двери-калитке, легонько надавил на нее. Раздался оглушительный скрежет. Пикалов вздрогнул от неожиданности и замер. Понес его черт в дверь, когда перегородка выше колен начинается. И ведь помнил, что петли скрипят… Слава богу, дед не проснулся. И Ваня рулады на все лады выводит.
Пикалов постоял немного, лег на пол и двинулся вперед по-пластунски. Продвижение его остановил страшный удар в лоб. Из глаз посыпались искры. Поначалу он ничего не мог понять, лежал ошеломленный, скрюченный болью. И лишь когда зашуршала солома и тоненький голосок проблеял: «Бе-э-э», он понял, в чем дело.
«Чтоб ты сдохла!» – мысленно пожелал он козе, отползая обратно. Желание очутиться рядом с горячим телом Акулины отпало. Ему было и больно, и смешно. Внезапно его озарила мысль послать по своему пути Серебряного. Коза и теперь на страже, перебирает копытцами, охраняя своих чад.
Пикалов растолкал друга.
– Чего ты? – зевнул во весь рот Серебряный.
– Тсс. Там Акулина тебя ждет.
– Какая Акулина? – никак не мог понять Ваня.
– Акулина, хозяйка, которой ты предложение хотел сделать, – не упустил случая подколоть Пикалов. – Иди, она ждет тебя. Меня отшила, говорит, капитана подай. Понял? – Ваня наконец сообразил, что к чему, повернулся на другой бок, сказал беззлобно:
– Пошел ты с ней к черту.
– Да ты что? – толканул его в бок Пикалов. – Она к нему со всей душой, а он… Такая женщина… Не позорь наши Военно-воздушные силы.
Сопя и вздыхая, Ваня нехотя поднялся.
– Только не через дверь – скрипит. Под загородку, вот сюда, – напутствовал Пикалов, слыша, как вблизи зашуршала солома и нетерпеливо стукнули копытца.
Ваня опустился на пол и едва пополз, как раздался тупой удар и победно-торжественное: «Бе-э-э!»
Серебряный ткнул кулаком уткнувшегося от хохота в подушку друга и лег, отвернувшись к стенке…
Рано утром, еще до света, их поднял дед и, найдя в сарае два бревна, приготовленных, по его словам, для ремонта сарая, отдал им:
– Пользуйте, вам они теперь нужнее.
Погода, как и предсказывал первый старичок, действительно разведрилась, небо прояснилось, и вчерашнюю хлябь схватило тонкой корочкой.
Пикалов и Серебряный подложили под задние колеса бревна и без особого труда выбрались на дорогу. Отнесли в сарай старику бревна, поблагодарили его и тронулись в обратный путь. Когда рассвело и они глянули друг на друга, на вздувшиеся на лбу шишки, громко захохотали.
5
…В течение 27 февраля наши войска вели наступательные бои на прежних направлениях…
(От Советского информбюро)Как Пикалов и предполагал, подполковник Омельченко хватился Серебряного еще ночью. Помощник ответил, что дежурный поехал проверять посты. Но Омельченко был не из тех простачков, которых можно в два счета обвести вокруг пальца: он передал помощнику приказание, как только дежурный вернется в часть, позвонить командиру полка в штаб. Серебряный вернулся утром. Помощник передал приказание подполковника. Ваня грустно вздохнул, пожал плечами и констатировал:
– Кажется, влип. – Спросил у помощника: – Он еще в штабе?
– Нет, в столовую пошел.
Ваня поправил фуражку, шинель под портупеей и, подмигнув Пикалову – все, мол, будет в порядке, – зашагал в столовую.
Не возвращался он с полчаса и вернулся не один, а с молоденьким лейтенантом, недавно прибывшим на пополнение, без красной повязки на рукаве – повязка была у лейтенанта. Голова Вани была низко опущена, и капитан казался еще ниже ростом.
«А женщины его любят», – совсем некстати подумалось Пикалову.
– Финита ля комедия, как писал Лермонтов, – сказал, грустно усмехнувшись, Ваня. – Омеля решил трибуналом меня переделать. Принимай, лейтенант, всю эту хурду-бурду, – кивнул он на уставы, лежавшие на столе стопкой, журнал приема и сдачи дежурства, ящик с патронами в углу. – И помни: первое дежурство тебе передал потомок великого князя Иван Серебряный.
Пикалов дружески положил ему на плечо руку:
– Ты не расстраивайся, все образуется. Сдай дежурство и иди отдохни… Меня Омеля не спрашивал?
– А ты при чем? О тебе я словом не обмолвился.
– Ну ладно, я пошел. Надо переодеться, мне же занятия с радистами проводить.
– Топай.
На улице Пикалов мысленно похвалил себя за удачу и за смекалку: теперь капитан Серебряный, «потомок великого князя», сидел у него на крючке намертво. Сегодня вечером или завтра Блондине завершит дело. Ваня слишком честолюбив, чтобы сменить свою штурманскую профессию на рядового пехотинца. Он предпочтет выпрыгнуть с парашютом в тылу врага, и Пикалов в этом ему поможет. Но это крайний случай, если действительно вздумают его судить военным трибуналом, хотя Пикалов был почти уверен, что до этого дело не дойдет: штурманов сейчас и без того не хватает и подготовить их не так просто, а Серебряный, несмотря на все его недостатки, отлично ориентируется в воздухе и бомбит снайперски. Если Омельченко с этим не посчитается, то посчитаются другие, более высокие начальники. И Пикалов опять-таки придет на помощь Ване. А Ваня ценить дружбу умеет…
6
17/III 1943 г….Боевой вылет на разведку с фотографированием аэродрома Багерово…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Весна сорок третьего пришла на Северный Кавказ дружная, стремительная. До самого марта держались морозы, потом зарядила непогодь – дожди со снегом. И вдруг все в один день переменилось: небо очистилось от облаков, ветер стих, и землю залили синь неба да яркое, по-летнему знойное солнце. Аэродром быстро подсох и заполыхал слепящими, как само солнце, одуванчиками. Зазвенели в небе жаворонки, загорланили на уцелевших деревьях грачи, латая старые гнезда, нежно и переливчато выводили рулады ласточки, сидя на карнизах у своих мазанок, помогая людям хоть на минуту забыть о войне, о том, что на каждом шагу их подстерегает смерть.
Лейтенант Туманов стоял около своего бомбардировщика и с интересом наблюдал за птицами – единственными, наверное, в природе счастливыми и беззаботными созданиями, которые всюду найдут себе уютный уголок, ни от кого не зависимыми, никому не обязанными… Воробьи ошалели от радости, то пулями носятся друг за другом, то, собравшись в стаю, верещат и бранятся, как девчонки на перемене, стараясь перекричать друг друга. И от этого яркого солнца, от обилия цветов и веселого гомона птиц у него на душе было радостно и грустно.
Он увидел, как от соседнего самолета к нему направился командир полка подполковник Омельченко. На лице тоже радость, улыбка. Предупреждающим жестом остановил летчика, собравшегося отдать ему рапорт.
– Вольно, вольно. – По-товарищески протянул ему руку для приветствия. – Здравствуй. Дотопал, говоришь? – кивнул он на самолет. – Поздравляю. И с успешным выполнением очередного задания, – подполковник хитровато прищурился, делая паузу, – и с очередным званием. Только что сам телеграмму читал – старшего лейтенанта тебе присвоили. Рад и горжусь – достоин. Сколько, говоришь, на «рентген» слетал?
– Второй десяток разменял.
– Н-да, – вздохнул Омельченко, – отдохнуть бы тебе, пока самолет ремонтируется. Но сам понимаешь, какое жаркое время. Фашисты делают все, чтобы удержать Голубую линию и Крым. Эскадру асов «Удет» сюда перебросили. Надо подкараулить ее на аэродроме, как прежде делали.
– А где базируется она?
– Как где? В Багерово. Я сам вчера видел, когда возвращался с задания, как вспыхивали там прожекторы и садились самолеты.
– И я видел. А днем разведчик летал, снимки привез – аэродром пустой.
– Значит, немцы используют Багерово только ночью.
– И я так думаю.
– Но командованию нужны доказательства. Ставка приказала нам во что бы то ни стало сфотографировать аэродром ночью. Трижды мы пытались это сделать, и сам знаешь, чем все кончилось.
Да, Александр знал: два экипажа с задания не вернулись, третий еле дотянул на изрешеченном осколками самолете с разбитым фотоаппаратом.
– Надо какой-то маневр придумать, – высказал он вслух свои соображения.
– Думали. Только немцы нынче не те стали, на мякине их не проведешь. И воюют: при обстреле зениток их истребители нас атакуют. Встречают на дальних подступах, словно кто-то их предупреждает… Ну да ладно, отдыхай, что-нибудь придумаем.
Омельченко ушел, а Туманов стоял, погруженный в невеселые думы. Два лучших экипажа погибли – капитана Кулакова и старшего лейтенанта Ситнова. Не раз Александр летал с ними на задание, не раз прикрывали друг друга огнем пулеметов от истребителей. Молодые красивые летчики. И вот их нет. А кто-то не вернется сегодня, завтра…
– О чем, командир, задумался? – прервал его размышления Ваня Серебряный. – Снова гречанка вспомнилась? – И он запел: – «Когда легковерен и молод я был, младую гречанку я страстно любил…» Кстати, ты не обратил внимания, натуральная она брюнетка была или, как моя, крашеная? Вчера присмотрелся, а она вовсе не шатенка, а скорее блондинка. Говорит, голубые глаза лучше гармонируют с темным цветом. Вот и пойми этих женщин. Хорошо, если у них только внешность обманчива…
Ваня все шутил. Чуть под трибунал со своими шуточками не угодил. Правда, женитьба, кажется, остепенила его: не пьет и к службе относится серьезнее. Свободное время больше с Пикаловым проводит, считает его избавителем от трибунала и предан ему как собака. Александру тоже пришлось повоевать за штурмана, и Омельченко, пожалуй, больше его, командира экипажа, послушался, чем начальника связи эскадрильи. Да разве дело в том? Главное, удалось спасти Серебряного от трибунала…
– Моя гречанка была натуральная, – ответил Александр на вопрос штурмана, – и ни в чем меня не обманывала, в этом я уверен.
Серебряный расстегнул ворот гимнастерки.
– Это хорошо, что уверен, – без прежней насмешливости согласился он. Помолчал и все-таки возразил: – Но… хороша Маша, да не наша. И далеко, ко всему. А моя под боком. Хочет все с тобой поближе познакомиться, в гости приглашает. Может, сходим, пока матчасть наша к полетам непригодна?
– Сходим. После ужина, когда экипажи на задания улетят.
7
…В течение ночи на 17 марта наши войска вели бои на прежних направлениях…
(От Советского информбюро)Вечером резко похолодало. Земля еще не отогрелась, и, едва солнце опустилось за горизонт, стынью повеяло снизу и сверху, от посиневшего сразу неба, ставшего холодным, неприветливым. Александр и Серебряный провожали взглядом улетавших один за другим на юго-запад бомбардировщиков. Последним взлетел старший лейтенант Смольников на фотографирование аэродрома Багерово.
– Ну уж коли Смольников полетел на боевое задание, можно смело идти в станицу и по чарке выпить, – кивнул вслед Ваня.
Смольникова многие в полку недолюбливали, даже самый незлобивый Серебряный, и было за что: в полку летчик около года, а на боевые задания летал не более десяти раз – то вдруг болезнь у него какая-то обнаруживается, то неисправность самолета.
– Не спеши с выводами, а то вдруг передумает, – пошутил Александр. И как в воду смотрел: бомбардировщик вдруг уклонился на взлете к оврагу и прекратил взлет.
– Вот гад! – возмутился Ваня. – Опять на самолет свалит. И теперь не иначе…
– Не иначе нас пошлют, – дополнил штурмана Александр. – Больше некого.
Не прошло и десяти минут, как к ним подбежал дежурный по аэродрому и передал, что их срочно вызывает на КП командир дивизии.
Полковник Лебедь, подполковник Омельченко и начальник штаба полка стояли на улице, о чем-то круто разговаривая со Смольниковым, – лица всех суровы, недовольны. Александр доложил о прибытии.
– На постановке задачи присутствовали? – без обиняков спросил у него Лебедь.
– Присутствовал, – утвердительно кивнул летчик.
– Какую задачу должен выполнять Смольников, знаете?
– Так точно. Сфотографировать аэродром Багерово.
– Теперь эта задача поручается вам. Ясно?
– Так точно.
– Полетите на самолете Смольникова.
– Только учтите – у него тенденция разворачиваться влево, – подсказал Омельченко.
– Не у самолета тенденция, товарищ подполковник, а у летчика, – не удержался Серебряный от реплики.
– Ну, это мы сами разберемся, – пресек разговор Лебедь. – Отправляйтесь на самолет, и через десять минут – взлет.
– Через десять не получится, – возразил Александр.
– Что? – Лебедь согнул свою длинную шею и непонимающе посмотрел на Омельченко. – Что он сказал?
– Через десять минут взлететь не сумею, – твердо повторил Александр. – Надо осмотреть самолет. Это во-первых. Во-вторых, через десять минут взлетать нецелесообразно по тактическим соображениям.
– Ну-ну, продолжайте, старший лейтенант. – Лебедь сбавил тон, и в его глазах появилось любопытство.
– Наши летчики уже трижды летали на это задание. Неуспех, думается, заключается не только в том, что аэродром сильно защищен артиллерией, прожекторами и истребителями, но и в нашем тактическом просчете: разведчик идет в общей группе на Керчь, когда все средства ПВО приведены в боевую готовность. И высота фотографирования – шесть тысяч – по-моему, великовата: могут облака помешать и локаторам легче поймать.
– Ваши конкретные предложения? – поторопил Лебедь.
– Разрешите мне, товарищ полковник, взлететь на сорок минут позже. К этому времени группа завершит работу, ПВО успокоится. Я на приглушенных моторах с семи тысяч снижусь до тысячи восьмисот…
Лебедь стрельнул взглядом в Омельченко, в Серебряного и снова в Александра.
– Хорошо, взлетайте хоть на час позже, но снимки – кровь из носа – привезти. Привезешь – к капитану представлю, не привезешь – в лейтенанты снова произведу.
– А мы, товарищ полковник, не за чины воюем, – с улыбочкой встрял в разговор Серебряный. – Можете считать нас рядовыми, но снимки мы привезем.
Лицо Лебедя побагровело, он круче согнул шею, но сдержался, согнал с лица огонь и перевел разговор в шутку:
– Ну-ну. Не хвались, говорят, идучи на рать…
– И еще вопрос разрешите, товарищ полковник? – не унимался Серебряный.
– Валяйте.
– У нас нет стрелка-радиста. Прикажите взять старшего лейтенанта Пикалова, начальника связи третьей эскадрильи. Мы с ним уже летали, и он сегодня свободен.
– Омельченко, распорядись, – повернулся полковник к командиру полка.
Бомбардировщик долго и нудно набирал высоту, и чем выше он поднимался, тем чернее становилось небо и ярче светили звезды, словно до них оставалось совсем недалеко. Члены экипажа изредка подавали голос, не желая, видно, отвлекать командира от пилотирования.
Наконец стрелка высотомера достигла семитысячной отметки. Александр отдал штурвал от себя – перевел самолет в горизонтальный полет. Машина сильно отяжелела, почти не реагирует на рули, долго «раскачивается», прежде чем опустить нос или накрениться. Кислородная маска больно давит на переносицу и подбородок, чистый кислород сушит горло, зато на такую высоту редко залетает зенитный снаряд, истребителей тоже пока не видно. Внизу – пустота и безмолвие, будто никого и ничего там нет – ни людей, ни сел, ни городов. Притаилось, спит все живое… Нет, не спит! Справа, чуть в стороне, вспыхивает ракета и взвивается ввысь, то ли указывая, где вражеская цель, то ли просто приветствуя наших летчиков. Кто он, этот смельчак? Профессиональный разведчик или оставленный на подпольную работу отчаянный мальчишка-комсомолец? А может, она, Ирина?..
– Командир, а не твоя ли это гречанка сигнал тебе подает? – спросил Ваня Серебряный, словно разгадав мысли Александра.
– Она, Ваня, она, – подыграл Александр. – Вчера по телефону звонила, приглашала в гости. Сказала, ждать будет, а Лебедь, видишь, в другое место послал.
– Ничего, Сашок, в другой раз к ней слетаем. А сейчас подержи режимчик, я еще раз промерчик сделаю.
Ваня Серебряный, баламут и бузотер, превосходный штурман и отменный воздушный разведчик. Неделю назад полк получил задачу разыскать и уничтожить головной склад боеприпасов фашистов, который снабжал всю Голубую линию. Экипажи избороздили Таманский полуостров вдоль и поперек, но никто даже признаков головного склада не обнаружил. И вот полетел экипаж Туманова. Серебряный сам выбрал маршрут. Ночь была темнее, чем эта. Над станицей Старо-Титоровка штурман попросил сделать круг. Внизу – тишина. Ни одного выстрела.
– Странно, очень странно, – высказал по СПУ мысль Ваня. – Спят фрицы или затаились? Спустись пониже, командир. Где-то здесь…
Александр посмотрел вниз и увидел чуть заметные огоньки, движущиеся в одну сторону и внезапно пропадающие.
– А ведь это машины, Ваня, с маскировочными козырьками фар, – высказал предположение Александр.
– Точно. Внизу склад, Саша. Бросим одну, для пробы, или сразу все?
– Если уверен, давай все.
– Даю. Серией.
Бомбардировщик облегченно взмыл ввысь, а на земле заполыхали разрывы одной бомбы, другой, третьей… И вдруг вся вселенная содрогнулась, бомбардировщик швырнуло воздушной волной на сотню метров…
Трое суток потом рвались в Старо-Титоровке боеприпасы – торпеды, авиабомбы, орудийные снаряды…
Нет, не зря Александр отстаивал Ваню от трибунала, толковый штурман. И человек неплохой. Только вот влюбчивый, и с женитьбой ему явно не повезло…
– Командир, цель впереди, тридцать, – доложил Серебряный. – Десять влево.
Александр оторвал на секунду взгляд от приборной доски и увидел впереди всполохи, похожие на зарницу.
– Вижу, Ваня. Кажется, наши неплохо поработали.
– Вот так бы и по Багерово…
– А что, если прилетим, а фрицев там нет?
– И ты сомневаешься?
– Да нет. Но немцы не дураки. Вчера тут кружили наши разведчики, позавчера. Вот возьмут фрицы да одну ночь и не прилетят, дадут нам возможность сфотографировать пустое поле.
– Прилетят, – уверенно сказал Ваня. – Они тоже хотят бить нас более эффективно, а из глубокого тыла летать – много сил и времени нужно. Да и горючку приходится экономить.
Доводы штурмана рассеяли сомнения. В самом деле, аэродром подскока – для немцев не просто эксперимент, а необходимость. С топливом у них становится все хуже и хуже, и летать приходится все дальше и дальше. Вот и вынуждены они хотя бы на ночь перебрасывать авиацию к линии фронта, совершать налеты на наши тыловые объекты, прикрывать порты, войска…
– Пора снижаться, – напомнил штурман. Александр убрал обороты, и бомбардировщик почти неслышно устремился вниз.
– Еще десять влево… Отлично, так держать.
– Аэродрома что-то не видно.
– Скоро увидишь. Мишель, как ты там, не уснул? – позвал Ваня Пикалова. – Смотри в оба, а то истребители быстро перышки опалят.
– Бдю, Ваня, бдю, – в унисон штурману весело отозвался Пикалов. – Помню, что у тебя медовый месяц, и твою красотку Тамару оставлять вдовушкой не собираюсь, хотя она мне и нравится. Но… дружба для меня дороже.
– Ценю и преклоняюсь!
8
17марта 1943 г….Наши летчики в воздушных боях сбили 6 самолетов противника…
(От Советского информбюро)Пикалов выглянул из блистера в кабину. Воздушный стрелок сержант Агеев лежал на полу, у нижнего люка, внимательно наблюдая за воздухом. Истребители кружили где-то рядом – Пикалов слышал переговоры летчиков, команды с наземной станции наведения. В любую секунду они могли атаковать. Но другого, более удачного, момента для передачи не было, и «Кукук-21» застучал ключом. Он передал, что проверка завербованного произошла успешно – бомбардировщик, у которого Князь подменил взрыватель к ФОТАБ, с задания не вернулся; экипажи, летавшие в ту ночь, подтвердили, что видели сильную вспышку в небе, и высказали предположение, что снаряд или осколок попал в ФОТАБ; что советское командование догадалось о ночном аэродроме в Багерово и, видимо, в одну из ближайших ночей следует ожидать налета бомбардировщиков. О сегодняшнем налете на Керчь он умолчал: о задании он узнал поздно и предупредить Блондине у него не было ни времени, ни возможности – командир эскадрильи лично решил присутствовать на занятиях радистов, интересовался рядовыми Андрейчиком и Вуцесом, плохо усваивающими радиодело; передать же самому радиограмму – значило поставить себя под двойной удар: и со стороны контрразведки, и со стороны истребителей. А ему жить еще не надоело. Собственно, он еще не жил. Вот когда кончится война… Кончится ли она победой Гитлера? Если раньше он не сомневался в этом, то теперь прежняя уверенность пропала. Русские дерутся как черти. Откуда у них все берется? Самолетов стало больше, чем в начале войны, каждый день эшелоны с танками, с артиллерией, минометами, автомашинами движутся к фронту. В ставке фюрера, чувствуется, обеспокоены. Радиограммы агентам идут нервозные, категоричные. Руководители «Валли-4» требуют от них оперативности и полноты донесений. Будто здесь все секретные сейфы открыты. Он, Пикалов-Хохбауэр, делает больше того, что положено и что в его силах. И Лещинская. На удивление смелая и умная женщина. Поначалу Пикалов не очень-то доверял ей: красавицы, как правило, легкомысленны и похотливы, на первом месте у них флирт, а не разум. Но Лещинская оказалась не из таких – выдержанная, расчетливая, предусмотрительная. Не спешила появиться в гарнизоне, пока прочно не прижилась в рыбацком поселке, держала Князя на расстоянии, пока не закрепили брачный союз документально. И Ваня проснулся в чужой постели чужим для своей страны человеком. О том, что Пикалов с ними в одной упряжке, Князь даже не подозревает – Лещинская умеет держать язык за зубами. Она и с Пикаловым о себе не очень-то распространяется, и все-таки кое-что ему удалось о ней выведать: белоруска, внучка богатого фабриканта, мстит Советам за своих предков. Готовилась в разведшколе «Сатурна», работает на «Валли-4».
Что-то затянулось с ее зачислением в медсанбат. Петровский винтит вокруг нее, как овчарка у непонятного следа. Но не с его чутьем докопаться до ее прошлого: в «Сатурне» все учли и сделали так, что комар носа не подточит. И Лещинская не из простачков и не из трусливого десятка, не испугалась пригласить на свадебную вечеринку все полковое начальство, в том числе оперуполномоченного капитана Петровского. Веселилась, всех одаривала улыбками, вниманием. А больше всех на нее произвел впечатление командир Серебряного Туманов. Позже Лещинская сказала Пикалову:
– Вот с кем надо было свести меня: летчик, умен и что-то нелегкое у него на душе.
– Полгода назад его возлюбленная погибла.
– Полгода – срок не маленький.
– Он не из тех, кто легко сходится с людьми и быстро забывает друзей.
– Все равно надо попытаться подобрать к нему ключи. Летчик нам очень нужен, на всякий случай.
Он и сам знал, что нужен. Но Туманов – странный человек. Без роду, без племени, начальство не очень-то жалует его чинами, а он из кожи лезет, героизм свой показывает: не бросил на аэродроме разграбленный самолет, рискнул взлететь тогда, когда легкомоторные самолеты не поднимались в небо из-за распутицы, прет в самое пекло, будто ему жизнь надоела… И все-таки Лещинская права, надо подбирать к нему ключи.
9
…18 марта частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено не менее 10 немецких танков, свыше 70 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 15 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 5 складов противника с боеприпасами…
(От Советского информбюро)Стрелка высотомера торопливо бежала по окружности, отсчитывая потерянные метры: 5000, 4000, 3000… Александр снял кислородную маску и услышал, как гулко бьется сердце в напряженном ожидании, в одном стремлении – подойти к цели незамеченным. Летавшие ранее сюда экипажи рассказывали, что аэродром прикрывает радиолокационная станция с мощным прожектором, который включается лишь тогда, когда ловит самолет. Потом к нему присоединяются другие. В перекрестье бьют зенитки, сзади подходят истребители. Но пока все тихо. Высота падает до 1800. Хватит. Александр дает газ моторам.
– Так держать! – властно и с мольбой кричит Ваня. – Так…
И вот она, ослепительная вспышка фотографирующей бомбы!
Глаза еще не успели освоиться с темнотой, как сверкнул голубой луч прожектора. Сверкнул как неотразимый клинок, с первого же выпада пронзающий противника. И все-таки он запоздал. Всего лишь на долю секунды, но этой доли вполне хватило, чтобы ночной фотоаппарат сделал свое дело. А теперь… Теперь, как в том полете на косу Чушка – вниз, влево. Александр накинул на глаза светозащитные очки и толкнул от себя штурвал. В бомбардировщик уже впилось около десятка лучей. Теперь рывок вправо. И вниз! Вот так. Лучи клонятся вместе с самолетом к самой земле, словно застряли в его чреве. Кругом бушуют разрывы снарядов, темноту пронзают трассирующие пули.
Вниз, вниз!
– Саша, что ты делаешь?! – истошно крикнул Серебряный. – Под нами Керчь, крыши домов. Набирай высоту!
Теперь и он во всполохах разрывов увидел горбатые крыши. Выхватил машину из крутого снижения и повел по горизонту. Низко? Да! Но в этом спасение. Лучи прожекторов выпустили самолет, отстали. Зенитные снаряды рвутся выше. И пусть фашисты лупят в белый свет как в копеечку.
– Под нами море! – торжественно доложил штурман. – Курс сорок пять.
– Домой? – с подвохом спросил Александр. Но Ваня этого не заметил, почти пропел:
– Домой, домой!
– Думаешь, к Тамаре своей еще успеешь?
– Нет. Лучше давай по пути к твоей гречанке заскочим, ведь она приглашала, – не остается в долгу штурман. И оба весело рассмеялись.
* * *
Александру снился берег Черного моря, пляж. Купаются люди, загорают. Он плыл к берегу, плыл, напрягая все силы, а волны относили его обратно. Он уже начал выбиваться из сил и в это время увидел Ирину. Она ходила по берегу и звала его не своим, а мужским голосом, и не по имени, а официально, по фамилии:
– Туманов! Туманов!
Он хотел отозваться, но понимал, что не может – захлебнется. Да и сил не было.
Тогда Ирина позвала штурмана:
– Серебряный! Ваня!.. Да проснитесь же вы, черти! – И Александр узнал голос – Омельченко. Тут же вскочил. Точно: над ними склонился командир полка с какими-то листами в руках.
– Проснулись, сони! – Подполковник обхватил руками Ваню, чмокнул в щеку, потом Александра. – Спасибо, други! Не мог утерпеть до утра, разбудил. Отличные снимки привезли. Аэродром действующий. Комдив велел реляцию писать, тебя – к капитану, – ткнул он Александра в грудь, – тебя – к штурману звена. В общем, с завтрашнего, нет, уже с сегодняшнего дня принимайте звено, капитан Туманов.
10
3/V 1943 г. За период с 17 по 27 апреля на Сарабузском аэродроме уничтожено нашей авиацией 70 самолетов и убито множество немецких солдат и офицеров…
(Из разведданных)Крушение надежд, планов и всего, что было и что должно было произойти, свершилось в один миг, в прекрасное майское утро, солнечное и напоенное запахами цветущей сирени, яблонь, акаций, не предвещавшее даже маленького хмурого облачка.
У столовой сидели солдаты и сержанты, о чем-то оживленно споря. Среди них сержант Фокин, воздушный стрелок-радист из экипажа капитана Алферова, вернувшийся утром из краткосрочного отпуска за десять сбитых в воздушных боях истребителей.
Разговор был интересный, и Пикалов, достав папиросы, примостился на краю скамейки. Закурил.
– Ты что-то путаешь, Фока, – возражал Фокину старшина Погорелов, механик с командирской машины. – В ту ночь Кулаков летел контролером. Последним. И летчики видели, как взорвался его самолет над целью. Предполагают, что осколок попал в ФОТАБ, вот она и рванула…
– «Предполагают»! – передразнил Фокин. – А я сам видел старшину Королева, разговаривал с ним. Никто их самолет не сбивал. Они еще до цели получили задание после фотографирования лететь в Панино с посадкой в Воронеже. И сейчас экипаж воюет на Северном флоте…
У Пикалова похолодело в груди. Значит, никакого взрыва не было… Значит, все подстроено… А он-то развесил уши, поверил… Потому-то его и не планируют в полеты более двух недель, засадили в класс с молодыми радистами и заставили титикать на ключе, учить их приему, передаче. Значит, Серебряный… От этой мысли даже озноб пробежал по коже. Неужели этот недомерок все время его так ловко дурачил? А пьянки, а секретная схема, а любовь и связь с Лещинской?.. Кстати, он сейчас должен быть у нее… Так вот почему он при вербовке высказывал недоверие своей возлюбленной, требовал, чтобы его свели с «более солидным представителем разведки», и все время просил Лещинскую устроить ему рандеву с резидентом. Да, крепко же попался Пикалов-Хохбауэр на крючок. Усмехался над незадачливостью Петровского, считал его бездарью, а оказалось… Кого угодно мог он заподозрить в слежке, но Серебряного… А может, все это блеф, ошибка? Хотя какой смысл Фокину выдумывать? И говорил он с такой искренностью… Нет, он не выдумал, экипаж Кулакова жив… А что на это скажет Серебряный, новый сотрудник «Валли-4»?..
Пикалов заметил, как мелко подрагивают у него пальцы. Только не сорваться, не пороть горячку. Если его не арестовали, значит, что-то им нужно. Что – догадаться нетрудно: Петровский хочет выявить все его связи, арестовать сразу всех. Что ж, пусть подождет, «Кукук» торопиться тоже не станет. Надо предупредить Блондине. Хотя нет, она может наделать глупостей. Пусть пока все остается так, как будто ничего не случилось. А вот Серебряного прощупать надо. И в случае чего не церемониться с ним.
Пикалов сделал еще несколько затяжек, бросил окурок в урну и, не заходя в столовую, направился в станицу.
«Хвоста» за ним не было. Правда, это еще ни о чем не говорило: куда он направил стопы, нетрудно было определить, глядя вслед ему из окна столовой или казармы. А в станице – Серебряный и еще кто-нибудь. Что ж, пусть наблюдают, следят. Им овладела неодолимая решительность. Он еще им покажет, кто из них умнее и хитрее.
Неподалеку от села из-за куста репейника выскочила вдруг грязная, с клочьями линялой шерсти собака. Бездомная голодная дворняжка. Она даже не тявкнула, выскочила, видимо, чего-то или кого-то испугавшись, и у Пикалова вздрогнуло сердце. Ее появление было таким неожиданным, а нервы его так напряжены, что рука невольно метнулась к пистолету. Страх тут же сменился злобой, и Пикалов, прикинув, что выстрела никто не услышит, а если услышит, не придаст значения – в тире почти каждый день стреляют, – вырвал из кобуры пистолет. Не целясь, нажал на спусковой крючок. Раздался слабый хлопок – сработал пистон, – но выстрела не последовало.
Пикалов рванул затвор. На землю из патронника вылетел патрон. Пикалов поднял его. Патрон как патрон, с пулей, с пробитым капсюлем. В чем же дело? Потянул пулю и… вытащил ее. Пороха в патроне не было.
Вот в чем дело!
Проверил второй патрон, третий. Все без пороха. Кто же это сделал? Хотя чего ж тут гадать? Тот, кто постоянно находился с ним рядом, следил за каждым его шагом…
На квартире Пикалов не застал ни Серебряного, ни Лещинской. Хозяйка пожала плечами: они уехали еще вчера. Кажется, в Краснодар, к родственнику Тамары…
Похоже, Серебряному удалось настоять на своем, добиться встречи с Гросфатером. Дуреха! И его, Пикалова, не предупредила. Нет, медлить нельзя. Петля затягивается…
Он зашел в казарму. Три экипажа, вернувшиеся на рассвете с боевого задания, отдыхали. Но вытащить у кого-нибудь патроны не удалось: недалеко находился дежурный и наблюдал за ним. Может, предупрежден…
Пора было идти проводить занятия. Командование, чтобы сковать его и обезвредить, закрепило за ним группу радистов, 16 человек. Половина из них, наверное, соглядатаи…
Он зашел в землянку, оборудованную под радиокласс. Старшина группы сержант Колинога, гибкий, подвижный, как пантера, отдал ему рапорт.
– Вольно, садитесь. – Пикалов взглянул на часы, делая озабоченный вид; попросил Колиногу: – Товарищ старшина, займитесь пока с группой. Я в штаб на несколько минут отлучусь.
На аэродроме, на самолетных стоянках – всюду виднеются боевые листки, плакаты с призывами равняться на лучшие экипажи капитанов Арканова, Зароконяна, Туманова. А у КП начальник фотолаборатории фотомонтаж вывесил – результаты успешного бомбометания станции Джанкой.
У Пикалова заныло сердце: всюду крах – и на фронте, и здесь. Видно, недолго осталось ему быть на свободе. Надо срочно что-то предпринимать. Но что? По земле далеко не убежишь, схватят за первым же поворотом. Не зря он раньше хотел в сообщники найти себе летчика… Надо же было клюнуть на бесшабашность и легковесность Серебряного. А Туманова упустил…
Еще не представляя себе, чем может помочь ему Туманов, Пикалов направился к его самолету.
Бомбардировщик уже был расчехлен, и около него, кроме техника, колдовавшего у мотора, Пикалов никого не увидел. Сердце снова тревожно зачастило – и здесь не везет. Он хотел повернуть обратно, когда увидел, как в кабине пилота приподнялась голова. Туманов! Пикалов воспрянул духом, словно был уже спасен.
– Привет! – как можно веселее поздоровался он, зыркнув направо и налево. Пока все было тихо и спокойно, по пятам за ним никто не гнался. – Третью заповедь выполняем – не ленись на земле, не вспотеешь в небе?
– Вот именно, – отозвался Туманов. – Помнишь, на каком мы с косы Чушка прилетели? И вот снова он в строю.
– Все равно сегодня на боевой вылет вас не пошлют. Вылезай, покурим вместе. Посплетничаем.
Туманов посидел еще немного и неторопливо спустился по крылу на землю.
– Почему один? – протянул Пикалов ему портсигар и, не обращая внимания, что летчик не взял папиросу – так и должно было быть, он некурящий, – увлек его за собой, за хвост самолета. – Где стрелки, штурман?
– Стрелки на складе набивают ленты патронами.
У штурмана какие-то родственники объявились, командир на трое суток отпустил.
– Везет людям. Кто воюет, а кто гуляет, медовый месяц справляет.
– Что-то не очень лестно ты о своем друге заговорил, – неодобрительно заметил Туманов.
– Хотел заяц в друзья волка выбрать, – усмехнулся Пикалов.
Туманов удивленно посмотрел на него!
– Кто же из вас заяц, а кто волк?
– Из нас, – поправил Пикалов. Туманов даже шаг приостановил.
– Из нас?
– А ты разве не считаешь Серебряного своим другом?
– Считаю. Но что ты имеешь в виду?
– Сейчас узнаешь. Дай-ка магазин из своего пистолета.
Туманов поколебался лишь секунду. Вытащил из кобуры пистолет и протянул магазин Пикалову.
– Проверь, не остался ли в патроннике патрон и как работает спусковой крючок, – посоветовал Пикалов.
Пока Туманов заглядывал в патронник и нажимал на спуск, Пикалов, как опытный фокусник, отработавший до автоматизма каждое движение, заменил приготовленный заранее магазин пистолета Туманова на свой.
– Все нормально? – спросил он с усмешкой. – Хорошо. А теперь проверь патроны. Вытащи из любого пулю.
Туманов выполнил и это указание. Спросил с возмущением:
– Что это значит?
– То, что видишь: патроны без пороха.
– Кто это сделал и зачем?
– А вот теперь подумай. Кто с тобой ел и спал рядом и почему он это сделал.
Туманов пожал плечами.
– Эта глупая шутка могла плохо кончиться.
– Да. Ваня Серебряный – шутник. Шутя напивается и не является на службу, шутя покидает дежурство. – Пикалов всматривался в лицо Туманова, стараясь понять, какое впечатление производит его сообщение и насколько осведомлен летчик о своем штурмане. – Ты не задумывался, почему ему все и всегда сходило с рук?
– Ну не очень-то сходило. В звании до сих пор не вырос, по службе не продвинулся. А штурман он, сам знаешь, – первый класс.
– Точно, первый класс. И стреляет и бомбит только в «яблочко». А почему его, капитана, назначили в экипаж лейтенанта?
– Какое это имеет значение? Ты же знаешь его грехи. – Александр щелкнул себя по горлу. – Это – во-первых. Во-вторых, я только что прибыл из госпиталя и был свободен.
– В-третьих, вернулся оттуда, из-за линии фронта. Сколько ты там проплутал?
– Неполных три дня.
– И сколько же ты пешкодралом отмерил километров?
– Не пешкодралом, а на мотоцикле…
– Тебе немцы его предложили? – перебил Пикалов, стремясь неожиданными вопросами ошарашить Туманова, заставить его поверить в придуманную легенду.
– Я сам взял. – Туманов нахмурился. Черные брови его сошлись у переносицы, переломились.
«Он и в самом деле Хмурый, – отметил Пикалов. – И, кажется, намеки произвели на него впечатление. Надо окончательно сломить его…»
– И тебе поверили, что ты беспрепятственно катал по немецким тылам, проскочил линию фронта?
– Я не утверждал, что беспрепятственно. При переходе линии фронта меня ранили.
– А где остальные члены экипажа?
– Наверное, погибли.
– Вот видишь, даже ты не знаешь и не уверен. А контрразведчикам позволь и вовсе тебе не поверить. По большому секрету открою тебе одну тайну. – Пикалов на ходу дополнял свою легенду. – Твой бывший воздушный стрелок-радист сержант Рыбин жив. Находится в плену, в лагере под Винницей. – Глаза Туманова широко открылись, и Пикалов прочитал в них недоверие, борющееся со страхом. Он продолжил: – Также по большому секрету сообщу тебе и некоторые его показания. Только не спрашивай пока, откуда мне все это известно, позже узнаешь. Так вот, в своих показаниях Рыбин утверждает, что покинул самолет после того, как увидел, что его покинул командир. Штурман и воздушный стрелок находились еще на своих местах.
– Ложь! – негромко, сквозь зубы процедил Туманов.
– Я тоже так думаю, что ложь, – поспешил согласиться Пикалов. – Стрелок-радист, скорее всего, выпрыгнул самым первым, не дожидаясь твоей команды, как только увидел, что самолет загорелся. Пока от его показаний никому ни жарко ни холодно. Но вдруг ему удастся из лагеря бежать или немцы возьмут да выпустят его – говорят, они практикуют такое, – вот тогда дело может осложниться. Тогда ни Петровский, ни Серебряный такими снисходительными, как были до этого, не останутся.
Пикалов сделал паузу, давая время на осмысливание сказанного. Туманов молчал, глядя себе под ноги. Резким движением всунул в кобуру пистолет, зло глянул в глаза старшему лейтенанту:
– Что ты от меня хочешь?
– Хочу помочь тебе и себе. По воле случая мы оказались, как говорят разведчики, «под колпаком». К тебе приставлен Серебряный, ко мне еще кто-то. По законам военного времени разбираться особенно, в чем мы правы, в чем виноваты, никто не станет. Так что лучше нам вовремя смыться.
– Куда?
– Я скажу курс.
Туманов снова задумался. Потом глянул ему в глаза.
– Ты немецкий шпион?
Пикалов понял, что юлить нет смысла. Туманов должен поверить ему, положиться на него. Но ответил уклончиво:
– Зачем же так непочтительно? Разведчик – профессия романтиков, людей смелых, умных и отчаянных. Хочешь попробовать?
– Спасибо. Я и своей романтикой – летной профессией – сыт по горло. Притом во имя чего и кого рисковать? Гитлер все равно войну проиграет.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что Гитлер параноик, хочет превратить людей в обезьян. Ты хочешь стать обезьяной?
– Все это пропаганда. Но если хочешь знать мое мнение, то люди делятся на три категории: умных, сильных и слабых. Первые должны управлять, вторые следить за порядком, третьи – работать. Мы с тобой принадлежим ко второй категории, солдаты, и наше дело – убивать, чтобы уцелеть самим. Грязное занятие, согласен, но другого выхода у нас пока нет. Мне давно все осточертело, и устал я. Очень устал. И хочу пожить хотя бы годок в свое удовольствие. Месяца два-три нас трогать не будут. А потом, я полагаю, война скоро кончится. Надо во что бы то ни стало дожить до того дня. Потому надо лететь. Немедленно.
Туманов покачал головой:
– Никто нигде нас не ждет. Лучше уж сдаться на милость победителя.
– Ни за что. – Пикалов расстегнул кобуру своего пистолета. – Ты полетишь, если даже не хочешь этого. Иначе…
– Не надо. – Туманов повернулся и посмотрел на самолет. Там по-прежнему, кроме техника, копающегося в моторе, никого не было. – Смерти я не боюсь.
Голос его был спокоен и тверд, и Пикалов понял, что угрозами ничего не добьешься.
– Я тоже, – сказал он примирительно. – Но, откровенно говоря, пожить бы еще хотелось. Прожить нелегким трудом заработанные деньги. И задешево я себя не отдам. И тебе советую не спешить на тот свет. Собственно, кто и что тебя здесь удерживает?
– Мое прошлое.
– Любому прошлому, даже самому распрекрасному, грош цена. Надо думать о будущем.
– Тогда дай мне время подумать.
– Не могу. Этого времени у нас нет.
– Хотя бы до ночи – не полетим же мы сейчас?
– Именно сейчас.
– Нас собьют наши же истребители.
– А может, и нет. Может, мы удачливые, – пошутил Пикалов, хотя ему было совсем не до шуток. Если Туманов заартачится, он не знал, что делать.
– И все-таки я советую потерпеть до ночи.
– Нет. Только сейчас. Я не угрожаю, но у меня другого выхода нет.
На соседней стоянке запустили моторы. Грохот ударил по ушам. Туманов, склонив голову, раздумывал. Или тянул время, на что-то надеясь.
– Видишь, все идет мне навстречу! – прокричал Пикалов ему в ухо, намекая на грохот, сквозь который выстрел пистолета никто не услышит.
– Хорошо, – отозвался Туманов. – Будем считать, что тебе удалось заставить меня силой оружия сесть в самолет.
Пикалов кивнул. Хотя в голосе летчика прозвучала обреченность, старший лейтенант решил быть начеку и предупредил:
– Без всяких уловок. Мне терять нечего. Я сяду в штурманскую кабину.
Туманов усмехнулся:
– Ты же сам утверждал, что мы в одинаковом положении. Значит, и мне терять нечего. Идем.
* * *
Петровский сидел в своем маленьком кабинете, ожидая телефонного звонка из Краснодара, куда уехал Серебряный со своим последним не штурманским заданием. Как он там? Хотя группа прикрытия у него надежная и резидент взят под наблюдение, неожиданности могут возникнуть всякие. За Лещинской тоже нужен глаз да глаз – ушлая, коварная женщина, какие только проверки не устраивала Серебряному: и досье на командиров требовала, и фотокопии на секретные документы, и даже уничтожить самолет… Молодец Ваня, превосходно сыграл роль пьяницы и волокиты, таких матерых шпионов провел… Пикалов, правда, все еще в тени держится, обеспечивает себе на всякий случай тылы… Так ловко в полк пробрался и все следы замел: родители-де в тридцать девятом году от угарного газа умерли, других родственников нет… Да, непросто было распутать этот клубок, добраться до папы Хохбауэра, матерого шпиона, и его сынка. Тот арестован, а этот все еще гуляет на свободе. До сообщения Серебряного об аресте «папы», Лещинской и его сообщников, которыми Гросфатер успел обзавестись в Краснодаре…
Что-то Серебряный задерживается. Операция должна была завершиться еще ночью…
Петровский даже вздрогнул – так пронзительно зазвонил телефон. Он снял трубку:
– Слушаю.
– Колинога докладывает. Пикалов направился на аэродром. А сказал, что отлучится на несколько минут в штаб. Мне показалось, он чем-то взволнован.
– Хорошо. Продолжайте занятия.
Ситуация резко осложнялась. Петровский позвонил Завидову, чтобы тот взял связь с Краснодаром на себя, и помчался на аэродром.
Через несколько минут позвонили с аэродрома: Пикалов у самолета Туманова, доставал пистолет. Похоже, принуждает его к бегству.
* * *
О том, что с Пикаловым надо быть настороже, Александра предупредил Серебряный с месяц назад. Но что начальник связи эскадрильи немецкий шпион, Александру и в голову не приходило. Когда человек ловчит, лжет, ни в грош дружбу не ценит, он тоже опасен, но когда этот человек – враг, живет среди ничего не подозревающих людей, чтобы причинять им вред, все делать для их погибели, – он не просто опасный, и с ним надо быть не настороже, а во всеоружии, арестовать его в любую минуту… Пикалова не арестовывали, видимо, по простой причине – выявляли связи. В чем же Серебряный просчитался, как Пикалову удалось разоблачить его? И где Петровский, где другие, кто должен контролировать каждый его шаг? Они должны быть рядом и догадаться, что здесь затевается.
У бомбардировщика действительно находилось уже двое: на помощь технику пришел механик. Они закрывали капоты моторов. Александр размышлял, как ему поступить. Можно, конечно, попытаться обезоружить Пикалова, хотя сделать это с его больной спиной будет непросто. Тем более что старший лейтенант наготове. Александр не трусил, наоборот, им овладела какая-то апатия, и он не обращал внимания, что Пикалов переложил пистолет из кобуры в карман и почти не вынимает оттуда руку. В голове напряженно билась одна мысль – не дать шпиону уйти, сдать его живым в руки контрразведки.
Они подошли к крылу самолета. Техник увидел Александра и без особой официальности сообщил:
– Все, командир, можете облетывать.
Александр затем и пришел на аэродром. Техник еще вчера вечером сообщил, что заканчивает ремонт. Поскольку Серебряного не было, а стрелок сержант Агеев находился в наряде, Александр намеревался облет совершить один. Члены экипажа ему не требовались: как работают моторы и рули управления, он проверит без них.
– Баки заправлены? – спросил Александр.
– Под завязку. До Берлина хватит, – пошутил техник.
– Давай сжатый воздух. Со мной полетит старший лейтенант Пикалов. За штурмана.
Ни техник, ни механик не обратили на эту фразу никакого внимания. Значит, они ни при чем… Возможно, на соседнем самолете?.. Но и там никто не интересовался, что затевается здесь… Вступать в единоборство с Пикаловым безнадежно – он все время начеку, и, пока техник с механиком поймут, в чем дело, он ухлопает их. Надо придумать что-то другое. Прежде всего, потянуть время.
Александр неторопливо поднялся на крыло, открыл колпак кабины. Постоял, наблюдая, как Пикалов опускает крышку нижнего люка, чтобы подняться в штурманскую кабину. Прежде чем ступить на лесенку, старший лейтенант поторопил Александра:
– Давай, командир, запускай, время – золото.
Александр сел в кресло, пристегнул парашют. Даже если ему придется взлететь, Пикалову никуда не уйти – парашюта у него нет. Но гробить самолет из-за такого подонка было жаль… Один мотор можно запустить…
– Провернуть винты! – скомандовал Александр, надевая шлемофон.
Техник с механиком взялись за лопасти. Один оборот, другой, третий… Пора командовать от винта, но надо потянуть еще… Где же Петровский?
– Не тяни, капитан, – раздался в наушниках голос Пикалова. – На тот свет всегда успеешь. Запускай.
– От винта! – крикнул Александр и включил подачу сжатого воздуха. Лопасти резво побежали друг за дружкой по кругу. Но вспышек, к удивлению и радости Александра, не последовало. Он щелкнул лапкой магнето в одну сторону, в другую – безрезультатно. Пришлось выключать подачу воздуха.
– Капитан, я предупреждал – без уловок, – грозно зарокотал Пикалов. – Твоя грудь у меня на мушке.
Да, церемониться он не станет. Терять ему нечего.
– Включи магнето, – подсказал Пикалов, заподозрив, что летчик умышленно не запускает мотор. Грамотный! Александр так и хотел поступить со вторым мотором. Его кто-то опередил…
– Включил. Дело не в магнето.
– А в чем?
– Не знаю. Попробуем второй.
Но второй тоже запускаться не хотел.
Пикалов открыл астролюк, высунулся оттуда и прожег Александра испепеляющим взглядом. Александр пощелкал лапкой магнето.
– Слышишь? Что-то другое.
И Пикалов понял, в чем дело. Выхватил пистолет и навел на техника.
– А ну быстро исправляй, иначе прошью твою башку…
– Сейчас, сейчас. – Техник испуганно шарахнулся к мотору, стал открывать капот. К нему подошел механик. Но вместо помощи изо всей силы толканул его плечом, и они вместе кубарем покатились под плоскость.
Пикалов запоздало выстрелил.
– Давай на тот самолет, – махнул он Александру на соседний бомбардировщик, где недавно работали моторы.
Он еще на что-то надеялся…
Александр поднялся из кресла и услышал треск мотоцикла: по стоянке к их самолету мчался Петровский.
Пикалов выстрелил в него. Мотоцикл вильнул в сторону и скрылся за капониром.
Едва хлопнула крышка нижнего люка штурмана – Пикалов все же решил пробиваться к соседнему бомбардировщику, – снизу от хвоста прозвучал предупредительный выстрел, и механик крикнул:
– Сдавайся, Пикалов! Брось пистолет!
– А ты иди, возьми у меня! – отозвался Пикалов зло, истерично и выстрелил в направлении голоса. Потом вдруг юркнул в люк, метнулся к пулемету. Воспользовавшись этим, Александр вывалился из кабины и скатился по плоскости на землю. Механик схватил его за руку и втащил в «мертвую зону».
– Дайте пистолет, – попросил у него Александр. – Мой без патронов.
– Я сам. – Механик пополз вперед. Выстрелил.
– Не надо, – посоветовал Александр. – Он никуда не денется.
– А если вытащит пулемет?
– Не так-то это просто…
Сзади подкатил Петровский. Соскочил с седла и, держа пистолет наготове, пополз к носу самолета, где уже находился механик. Александр двинулся за ними. Сквозь плексиглас он увидел Пикалова, в бессильной злобе пытающегося вырвать пулемет из гнезда крепления.
– Хватит, Пикалов, сдавайся! – властно потребовал Петровский.
Пикалов бросил пулемет, высунулся из астролюка. Сказал насмешливо:
– Подойди ближе, капитан.
Петровский сделал несколько шагов. Пикалов вскинул руку с пистолетом. Первым выстрелил Петровский. Пикалов дернулся, рука вяло опустилась. Пистолет глухо ударился о землю.
11
2/XI 1943 г….Боевой вылет, с бомбометанием по порту г. Севастополя…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)2 ноября полк перелетел на Украину. На аэродроме самолеты встречал сам комдив полковник Лебедь в новеньком, поскрипывающем кожей реглане, в новой, по заказу сшитой фуражке, возбужденный, торжественный. Праздничное настроение было у всех: дела на фронте шли успешно, наши войска форсировали Днепр, подходили к Киеву; Южный фронт готовился к освобождению Крыма.
Дивизия за лето совершила ряд блестящих налетов по вражеским объектам – аэродромам и переправам, крупным штабам и сосредоточениям войск и техники; всем трем полкам было присвоено звание гвардейских. Шли разговоры, что Лебедь вот-вот станет генералом.
Едва бомбардировщики приземлились и рассредоточились по капонирам, сооруженным еще немцами, как комдив приказал командиру полка со своими заместителями и командирами эскадрилий собраться у КП – привезенной откуда-то сравнительно большой будке, уже оборудованной телефонами и радио.
Капитан Туманов временно исполнял обязанности командира 3-й эскадрильи вместо не вернувшегося еще от крымских партизан капитана Проценко – и пошел вместе со всеми.
Комдив, выслушав рапорт подполковника Омельченко, окинул всех довольным взглядом и сразу приступил к делу.
– Знаю, что устали. Знаю, что тылы еще не подоспели и нет ни стартеров, ни тягачей, ни прожекторов. Но вам не привыкать включаться в боевую работу без них. Боевая задача: нанести этой ночью бомбовый удар по укреплениям и причалам Севастополя. Там, по сведениям разведки, скопилось много кораблей. Техническому составу готовить самолеты, летному – пообедать, отдохнуть и в 18.00 построиться здесь на последние указания…
Когда командиры были отпущены, Лебедь попросил Туманова задержаться.
– Хотите ко мне в дивизию? – без обиняков спросил полковник. – Инспектором по технике пилотирования.
Лебедь всегда вызывал восхищение у Туманова: смел, решителен, непреклонен; служить под началом такого командира не только почетно, но и поучительно. И все-таки уходить из полка, в котором провоевал с первых дней войны, с людьми которого сдружился, сроднился, было нелегко.
Комдив догадался, что заставило задуматься капитана, и дружелюбно хлопнул его по плечу:
– Понимаю. Но подумай о будущем. В общем, ответ жду завтра утром.
12
…В течение 2 ноября в районе между рекой Днепр и побережьем Каркинитского залива наши войска продолжали преследовать отступающего противника и с боями овладели городом Каховка, городом Скадовск, районными центрами Николаевской области Горностаевка, Каланчик, а также заняли более 70 других населенных пунктов…
(От Советского информбюро)В 18.00 после небольшого отдыха и ужина полк выстроился на последние указания.
Омельченко, узнав о предложении Лебедя Туманову, в полет Александра не запланировал, назначил его руководителем полетов.
– Привыкай к руководящей работе, – шутя сказал он.
Александру и ранее приходилось дежурить на КП, быть помощником руководителя полетов и нередко исполнять функции руководителя. На первый взгляд дело спокойное и нехитрое: сиди себе да подсказывай по радио «подтянуть», «уголок убавить» или «газок подобрать». Но это на первый взгляд. На самом же деле, когда с маршрута одновременно возвращались несколько машин почти с сухими бензобаками, изрешеченными осколками, с истекающими кровью членами экипажа, а фашистские самолеты подстраивались к ним и сыпали на аэродром бомбы, посадить их было нелегко, и дежурный расчет подвергался не меньшей опасности, чем в воздухе над целью, – КП, как и самолет, в эту ответственную минуту не покинешь.
На последние указания Лебедь приехал со своим заместителем подполковником Меньшиковым. Комдив оставался таким же возбужденным, как и при встрече полка, голос его звучал возвышенно и торжественно:
– Командование 4-го Украинского фронта и лично товарищ Толбухин, от которого я только что, поздравляют вас с новыми успехами на фронте. Нам, гвардейцам, доверена важная задача: нанести сокрушающий удар по укреплениям и причалам Севастополя…
Рядом с комдивом стояли подполковник Меньшиков в потертой летной кожанке и полковник Баричев, инженер дивизии, в замасленной технической куртке; и полковник Лебедь в новеньком черном реглане возвышался над ними на целую голову.
Слушали его внимательно, и торжественность, приподнятость речи зажигала людей; лица их светлели, наполнялись решимостью. Александр в душе порадовался за своего будущего непосредственного начальника.
Лебедь закончил и повернулся к Меньшикову:
– Ты скажешь что-нибудь, Федор Иванович?
Меньшиков пожал плечами:
– Собственно, последние указания пора…
– Точно, пора, – кивнул Лебедь.
На середину строя вышел подполковник Омельченко. Он напомнил, что за полком, который поведет он, пойдет соседний полк нашей дивизии. Поэтому строгое выдерживание режима исключительно важно для всех. Он зачитал порядок, время взлета и эшелоны следования экипажей к цели, напомнил меры безопасности и способы отражения атак истребителей, маневры в зоне ПВО противника. Последние указания затянулись, и Лебедь, не выдержав, подошел к командиру полка. Тот понял, в чем дело, и кивнул метеорологу:
– Давай погоду.
Младший лейтенант Клюско, маленький, тщедушный «кудесник погоды», стал обстоятельно и пространно объяснять синоптическую обстановку:
– Погода нашего района будет определяться областью повышенного давления…
Лебедь оборвал его:
– Чем она будет определяться, девицам своим, метеонаблюдателям, расскажешь, а летный состав интересует прогноз погоды.
– Есть, прогноз погоды, – вытянулся Клюско и заторопился: – Погода по маршруту и в районе цели ожидается малооблачная и безоблачная. После полуночи в нашем районе возможно образование тумана.
– Чего-чего? – круто согнул Лебедь шею и подошел к младшему лейтенанту вплотную, отобрал у него синоптическую карту. – Какой туман, откуда?
– Радиационный, – неуверенно пояснил Клюско. – За счет выхолаживания. Воздух очень влажный, а небо, – он посмотрел вверх, – ясное.
– Чепуха! Нигде никакого тумана, – ткнул Лебедь в карту. – Привыкли перестраховываться. – И решительно повернулся к Омельченко: – Давай команду разведчикам погоды на взлет.
То, что ожидается туман, Александр слышал в штабе дивизии полчаса назад, когда заходил туда, чтобы узнать о запасных аэродромах. Оперативный дежурный ответил ему, что как только они сами выяснят, так сразу позвонят на аэродром. Но уже заканчивались последние указания, а звонка не было. И Александр посчитал своим долгом напомнить комдиву:
– Товарищ полковник, нам еще не дали запасных аэродромов.
– Что значит «не дали»? – повернул рассерженное лицо полковник.
– То, что действительно ожидается туман, и неясно, какие аэродромы будут открыты.
Лебедь снова согнул свою длинную, поистине лебединую шею, подумал. Потом, не глядя на Александра, сказал Омельченко:
– Выпускайте разведчиков.
Неожиданно вмешался Меньшиков.
– Торопиться некуда, подождем, – сказал он спокойно, как о решенном деле. И Лебедя это взорвало.
– Что значит «подождем»? Командующий фронтом приказал, а ты…
– Пока запасных аэродромов нет, никто приказать не может, – стоял на своем Меньшиков. – На этот счет тоже есть приказ.
– Ну, Федор Иванович! – усмехнулся вдруг Лебедь. – У тебя никак характер прорезался. Хорошо, хорошо. Даже здорово. Но ты забыл, что теперь я – твой командир. И прошу приказы мои выполнять беспрекословно. – Он повернулся к Омельченко: – Давай команду разведчикам на взлет. – И примирительно пояснил Меньшикову: – Сейчас я сам поеду в штаб и по телефону сообщу запасные аэродромы.
Александр не сомневался в твердости слова комдива: уж если он брался за дело, то доводил его до конца. Но Меньшиков стоял на своем:
– Все равно непорядок и взлетать не имеем права.
«У него и в самом деле “прорезался” характер, – подумал Александр. – Такой послушный и исполнительный – и вдруг заартачился. Какая муха его укусила?» А подполковник еще раз посмотрел на небо, повел носом, понюхал и буквально поразил своим чутьем:
– В самом деле туманом пахнет.
Инженер дивизии Баричев чуть не рассмеялся, нагнулся, прикрыв лицо рукой.
Лебедь стрельнул колючими глазами в своего строптивого зама – издевается он над ним или шутит? – и, убедившись, что тот говорит вполне серьезно, покрутил головой – ну и ну, – сел в эмку и укатил.
В 20.00 экипажи капитанов Зароконяна и Кулешова ушли на разведку погоды. Их маршруты лежали не на Севастополь, одного – севернее, второго – южнее цели, чтобы не насторожить преждевременно фашистов.
Через каждые двадцать минут они радировали о погоде: безоблачно, видимость хорошая.
Александр сидел в кресле руководителя полетов с микрофоном в руках, рядом Меньшиков, ни во что не вмешиваясь, спокойно посматривал по сторонам, словно сторонний наблюдатель. Дежурный штурман на большом листе бумаги, разбитом на клетки, вел контроль пути разведчиков; хронометражист ждал, когда начнет взлетать группа. Инженер дивизии полковник Баричев то выходил на улицу, то возвращался.
Минут через тридцать позвонил Лебедь, спросил:
– Что докладывают разведчики погоды?
– Безоблачно, видимость двадцать на двадцать, – ответил Меньшиков.
– Ну вот, миллион на миллион, а ты – «туман». Тоже мне, кудесник! Давай выпускай группу. Запасные аэродромы сейчас передаст оперативный дежурный.
В 21.00 с минутным интервалом стала взлетать и группа. А за ней с соседнего аэродрома поднялся и братский полк. Сорок восемь экипажей. Дежурный штурман на листе бумаги в соответствующих графах ставил время прохода контрольных и поворотных пунктов.
Как только последний самолет прошел исходный пункт маршрута, связь с экипажами прекратилась: они шли в режиме радиомолчания, чтобы не раскрыть себя. У Александра выдалось свободное время, и Меньшиков попросил его посчитать по журналу руководителя полетов налет полка за прошлый месяц и выписать фамилии командиров экипажей, совершивших большее количество боевых вылетов.
Александр так увлекся работой, что не обращал внимания на происходящее вокруг, а когда оторвал взгляд от журнала и увидел полное тревоги лицо Меньшикова, державшего у уха телефонную трубку, сердце у него екнуло: что-то случилось.
– Найдите его, – приказывал подполковник кому-то сердитым голосом, и Александру снова вспомнились слова Лебедя о том, что у Меньшикова прорезался характер. Александр знал командира более трех лет и никогда таким суровым, сердитым и непреклонным не видел. Что-то с ним происходило непонятное.
– Минут сорок назад он уехал из штаба, – ответил голос в трубке. – Куда, не доложил.
Меньшиков в сердцах бросил трубку, что совсем на него не было похоже. Перехватив удивленный взгляд Туманова, подполковник устыдился своей слабости и извиняющимся тоном пояснил:
– Я же говорил… А он взял да укатил… Вы только посмотрите, – кивнул он на окно.
Александр взглянул на улицу и почувствовал, как кожа на голове стала стягиваться, поднимая дыбом волосы: аэродром будто курился; несмотря на темноту, видно было, как белесый туман поднимается от земли, растекается во все стороны, плотнеет и затопляет все вокруг. У горизонта звезд уже не было видно, а те, что мерцали в зените, мелко подрагивали и тускнели, тускнели…
Кто-то пророчески назвал такой туман радиационным (в то время слово «радиация» имело совсем иной смысл). Подобно ядерной радиации, он истощает нервную систему людей, доводит их до безумия, заставляя делать роковые ошибки: в тумане сталкиваются корабли, самолеты, машины; в тумане теряют пространственную ориентацию даже птицы. А посадить самолет, не имея системы слепой посадки, – бессмысленная затея.
– Как на запасных? – поспешно спросил Александр, надеясь, что, пока он занимался «канцелярией», их сообщили.
– На каких? Если б хоть один дали! – выдохнул Меньшиков. Он нервно прошелся по КП и снова взялся за телефон. Звонил в штаб дивизии оперативному дежурному, еще куда-то, и отовсюду следовал один и тот же ответ: «Ждите».
Туман густел с каждой минутой, и к двум часам ночи, когда разведчики вернулись с задания и запросили посадку, он стал настолько плотным, что срочно привезенный от зенитчиков прожектор не смог пробить его толщу даже вертикально. Луч будто расплющивался о невидимую в вышине твердь, дробился и осыпался вниз, образуя большое световое пятно с размытыми неровными краями. Увидеть это пятно летчики вряд ли могли.
Меньшиков дал команду Зароконяну и Кулешову пройти над КП, и, когда послышался гул самолетов, дежурный штурман и хронометражист вышли на улицу и стали стрелять из ракетниц вверх. Но ни Зароконян, ни Кулешов ракет не увидели.
– Давайте запасной аэродром! – категорически потребовал Зароконян. – Зачем время терять и жечь бензин?
– Ждите, – твердо ответил Меньшиков.
– Чего ждать?! – взорвался Зароконян. – У моря погоды? Этот туман до утра не рассеется.
– Знаю, – холодно ответил Меньшиков. – Но нету пока запасных аэродромов, все ближайшие закрыты. – И, положив микрофон, стал снова звонить на КП корпуса. Оттуда ответили:
– Пока нам ничего не дали.
– Но самолеты уже на кругу, вы тоже, наверное, слышите их! – возмутился Меньшиков.
– Слышим, но ничем помочь не можем.
– Дайте дальние аэродромы.
– И дальних пока нет.
А Зароконян бушевал по радио:
– Что, ни одного не осталось, все закрыты?! Чушь! Спят там тыловые крысы. Разбудите их. Позвоните Лебедю, он расшевелит их…
Летчики верили в Лебедя, надеялись на него. А он словно в воду канул.
Меньшиков стал звонить в штаб фронта, требуя самого Толбухина. Но и его найти оказалось нелегко. Зароконян, пустив в адрес «тыловых крыс» еще пару крепких словечек, заявил, что берет курс на юго-восток и сам будет искать аэродром посадки.
Меньшикову наконец удалось разыскать Толбухина. Генерал внимательно выслушал его объяснение, тут же связался с кем-то по другому телефону и через минуту сказал:
– Направляйте на Харьков.
Дежурный штурман подсказал курс на Харьковский аэродром. Но минут через пятнадцать и из Харькова пришло штормовое предупреждение: туман, видимость – тысяча.
А судьба словно смеялась над ними: туман охватывал все новые и новые районы, на КП отовсюду поступали штормовые предупреждения.
Штабы молчали.
Два экипажа – Зароконяна а Кулешова – уходили от аэродрома в неизвестность, сорок восемь приближались к аэродрому, где их тоже ничего хорошего не ждало. При неизвестности хоть на что-то можно надеяться, здесь же надеяться было не на что. Посадить самолет в такой туман даже асу не под силу. Спасти их могло только чудо или сам бог, а поскольку чудес на свете не бывает, а богом в данной ситуации являлся всего-навсего Меньшиков, нетрудно было представить, чем все это кончится.
Меньшиков сидел за столом руководителя полетов, не отпуская микрофон от губ. Лицо его почернело, подбородок и нос заострились, словно он не спал и не ел неделю. Глаз под насупленными бровями не было видно. Подполковник сосредоточенно думал и молчал. Александру было искренне его жаль, и он невольно подумал, что лучше было бы, если на его месте оказался Лебедь. Тот что-нибудь придумал бы, нашел какой-нибудь выход. Куда он запропастился? Уж не случилось ли с ним несчастье? Местность освобождена недавно, фашисты оставили всякую мразь, наподобие Лещинской, старика… Здорово Ваня раскрыл всю их шайку… Лебедь мог на своей эмке наскочить и на необезвреженную мину…
– Чибис-пять, я – Чайка, вызываю на связь, – запросил Меньшиков.
– Чибис-пять на связи, – отозвался сразу Омельченко.
– Как погода по маршруту?
– До Волновахи было безоблачно, видимость хорошая, а вот теперь внизу видны облака.
– Будьте на связи. – Меньшиков взял телефонную трубку, попросил соединить его с Толбухиным. Заговорил горячо и убедительно: – Товарищ генерал, на подходе к аэродрому основная группа, запасных аэродромов до сих пор не дали… Да, вот так вышло… Надеялись. На маршруте, по которому возвращаются экипажи, погода есть. Может, там их посадим?.. Хотя бы в Мелитополе. Этот аэродром наши летчики знают… Можно дать команду одной из частей подвезти туда прожектор… Больше ничего не надо… Спасибо, товарищ генерал. – И скомандовал в микрофон: – Чибисы, я – Чайка, всем, всем. Разворот на сто восемьдесят. Посадка на точке семнадцать, там, где арбузы до войны едали.
Все экипажи подтвердили получение команды.
У Александра будто гора с плеч свалилась, и он с восхищением посмотрел на Меньшикова. Выходит, бывают чудеса на свете, и замкомдив оказался очень даже смекалистым и мудрым богом: никто не додумался посадить самолеты ближе к линии фронта, все искали их в глубоком тылу, а он сообразил…
Правда, самолеты прилетели на Мелитопольский аэродром быстрее, чем туда привезли прожектор, но Меньшиков и в этой ситуации нашел выход: приказал вначале сесть одному Омельченко с помощью самолетных фар и, не выключая их, использовать самолет как стартовый командный пункт и прожектор, подсказывая летчикам на посадке.
В пятом часу утра пришло сообщение из штаба фронта, что все сорок шесть экипажей сели благополучно. Часов в шесть отозвался и экипаж Кулешова: кружил над Харьковским аэродромом, пока не кончилось горючее, после чего командир экипажа приказал покинуть самолет. Приземлились все удачно.
Молчал лишь Зароконян.
Александр, узнав, что сорок семь экипажей живы, несколько успокоился и пристроился в уголке на табуретке, чтобы хоть немного вздремнуть. Дежурный штурман и хронометражист последовали его примеру. Не спал только Меньшиков. Он то звонил в разные концы, справляясь о Зароконяне, то бродил взад-вперед как привидение.
Утром около девяти на КП появился Лебедь, как всегда, энергичный, сияющий, в превосходном настроении. Меньшиков доложил ему о посадке самолетов в Мелитополе, об экипажах Зароконяна и Кулешова.
– Вот и хорошо. – Лебедь довольно потер руки.
– Экипаж Зароконяна не вернулся, – резко и сердито напомнил Меньшиков.
– Сел где-нибудь, – беспечно махнул рукой комдив. – Летчик он опытный.
– А если погиб?
– Ну, – Лебедь развел руками, – война.
У Александра даже внутри все похолодело от этих сказанных так равнодушно слов. Ему казалось, что он видит перед собой не прежнего смелого, решительного командира, способного на героический подвиг, а бессердечного человека, совершившего только что низкий поступок и делающего вид, что никакого отношения к нему не имеет. Александр теперь был почти уверен, что Лебедь преднамеренно исчез ночью, когда узнал, в какую ситуацию попала дивизия по его милости. А может, Александр ошибается, случилось что-то другое, оправдывающее комдива?..
Ответ ему помог получить подполковник Меньшиков.
– Командующий фронтом тебя спрашивал, – сказал он.
– Зачем это я ему понадобился? – недоверчиво спросил Лебедь.
– Наверное, затем, чтобы объяснить, куда подевались твои обещанные запасные аэродромы.
– Нажаловался?.. – Полковник тут же осекся под сверкнувшим негодованием взглядом Меньшикова. Чтобы как-то сменить взрывоопасную тему, Лебедь подошел к Александру и спросил как ни в чем не бывало: – Ну так как, обдумали решение?
– Обдумал, товарищ полковник, – подобрался, распрямился Александр. – Разрешите мне остаться в полку.
Лебедь стиснул челюсти, по скулам пробежали желваки. Стрельнул взглядом на Меньшикова: «Твоя работа?» Но ничего не сказал, лишь натянуто усмехнулся, отошел от Александра.
Напряженную тишину разорвал телефонный звонок. Меньшиков взял трубку.
– Слушаю, Меньшиков.
– Доброе утро, Федор Иванович, Лебедь еще не объявился?
Голос было хорошо слышно, и Александру он показался знакомым.
– Здесь он, товарищ генерал, – ответил Меньшиков и протянул Лебедю трубку. Полковник суетливо схватил ее, прижал к уху:
– Слушаю, товарищ генерал…
– Куда вы запропастились?
– Так… то в штаб надо, то в один полк, то в другой, – бойко начал Лебедь. – Столько дел…
– Какие дела могут быть важнее полетов? – прервал его суровый голос. – Вы подчиненных в бой послали, а сами… Вы хоть знаете, где ваши экипажи?
– Так точно, товарищ генерал. Сели в Мелитополе.
– А экипаж Зароконяна?
– Ищем, товарищ генерал. Тоже сел где-нибудь.
– К сожалению, не сел. Разбился экипаж Зароконяна. У Маныча. В общем, оставьте свои дела на зама и давайте-ка сюда, ко мне, – заключил генерал не предвещающим ничего хорошего тоном.
Лебедь сразу сник, обессиленно опустил на аппарат телефонную трубку.
13
10/ХI 1943 г…. Боевой вылет с бомбометанием по порту Севастополь…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Все вокруг было фиолетовым – и небо над головой, и слоисто-кучевые облака внизу, похожие на сиреневые сады во время цветения, и сами бомбардировщики, идущие правым пеленгом, звено за звеном, вся третья эскадрилья во главе с Александром, или, как теперь уважительно его называют, капитаном Тумановым. Лишь на западе, куда держали курс самолеты и где несколько минут назад скрылось за горизонтом солнце, багрянилась небольшая полоска, бросая тусклые, едва заметные блики на кромки облаков, на стволы пулеметов штурманской кабины, штыками выставленными вперед, на ребра атаки крыльев. И это легкое, будто очерченное кистью художника обрамление делало самолеты особенно красивыми, какими-то быстроходными фантастическими кораблями. Александр то и дело отрывал взгляд от приборной доски, никак не налюбуясь вечерним закатным небом; и то ли от этой красоты, то ли от событий последних дней на душе у него было так хорошо и радостно, что хотелось раскинуть во всю ширь руки и обнять весь мир, весь земной шар и крикнуть во всю мощь своих легких: «Ура!»
Итак, он командир эскадрильи. И хотя комдивом стал Меньшиков, Александр не жалел о должности инспектора по технике пилотирования дивизии, в полку его ценят и знают, уважают и доверяют, простили даже, казалось бы, непростительные грехи. Более того – вчера подполковник Омельченко послал на него представление к награде Золотой Звездой Героя. Жаль, отец и Рита не дожили до этого счастливого дня. Ирина узнает – обрадуется. А что узнает, он не сомневался: она постоянно держит связь со штабом 4-го Украинского фронта. Несколько дней назад Петровский, отозвав Александра, с непохожей на него откровенностью сказал прочувственно: «Поклон тебе Ирина шлет. Я просил ее разыскать Оксану. Разыскала. Сообщила, что с ней все в порядке. Заодно и тебе привет передала. Ждут они с нетерпением, когда мы их освободим. Трудно им там. Фашисты во что бы то ни стало хотят удержать Крым и свирепствуют немилосердно…»
– Командир, десять влево, – внес поправку в курс штурман.
– Есть, десять влево, – отозвался Александр и накренит бомбардировщик.
Небо и облака внизу потемнели, стали чернильно-черными. Багровая полоска впереди тоже притухла, чуть сместилась вправо. Над головой замерцала первая звезда. Она как-то по-особенному светила Александру. Далекая звезда надежды…
Часть шестая
1
9 ноября 1943 г. Боевой вылет на Севастополь. Бомбометание по скоплению кораблей в порту.
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Осень сорок третьего на всей Украине выдалась затяжная и слякотная: то лили дожди со снегом, то сыпала морось, то землю окутывал густой туман, не пробиваемый солнцем даже в полдень. Летчики отсыпались, писали домой письма, играли в шашки или шахматы, читали книги и газеты. Настроение было приподнятое: освобождены Константиновка, Конотоп, Кременчуг, Житомир, Каховка, Киев, – города, где не раз приходилось базироваться полку. Наши войска продолжали наступать и бить фашистов по всему фронту. Освобождено все левобережье Днепра в нижнем течении, дело осталось за Крымом.
Советское командование понимало, что пока Крым у немцев, нашим войскам на левом фланге будет постоянно существовать серьезная угроза, и готовило операцию по освобождению полуострова. Понятно, что в первую очередь надо уничтожить наиболее мощную боевую технику – самолеты и танки, артиллерию и корабли, снующие вдоль побережья, осуществляющие передислокацию и перехватывающие наши десантные суда. Эту задачу первыми начали осуществлять авиаторы…
Который раз Александр летел в Крым, и каждый раз, приближаясь к полуострову, чувствовал, как охватывает его волнение, начинает учащенно биться сердце, и мысли об Ирине сжимают грудь: жива ли она, где теперь? Немцы против партизан сосредоточили большие силы, спешат покончить с ними.
Осень, распутица, сброшенная с деревьев листва сильно затрудняют не только действия отрядов, но и их дислокацию. Все дороги и горные тропы перекрыты фашистами, связь с подпольщиками прервана. Не хватает питания. Самолеты транспортного авиаполка, базирующегося на соседнем аэродроме, неоднократно вылетали в Крым с продовольствием и медикаментами, но партизаны сообщали, что не всегда грузы попадали к ним: немцы то ли перехватывали радиограммы, то ли кто-то своевременно их информировал.
Неделю назад наше командование решило пойти на хитрость: незадолго до вылета транспортных самолетов предупредило партизан запасным кодом, что операция отменяется. На транспортные самолеты подвесили бомбы. Фашисты приготовились к захвату груза…
На следующий день партизаны сообщили, что замысел удался блестяще: фашисты потеряли сотни убитыми и ранеными. В ответ из Алушты, Севастополя и Симферополя они направили в горы лучшие горнострелковые части для уничтожения партизан…
На Севастополь летело два полка, и вел их подполковник Омельченко.
Впереди заполыхали разрывы – линия фронта. Слева и справа зарницы выстрелов зенитных орудий выхватили из темноты изгибы окопов, земляные насыпи, похожие на сараи сооружения. Весь Крымский перешеек нашпигован боевой техникой. Сколько еще прольется крови, пока удастся освободить его.
Полк разделен был на три группы: осветители, группа подавления зенитной артиллерии и ударная группа, которую вел сам Омельченко. Группу подавления зенитного огня вел Александр. Она шла позади в двухминутном интервале и заходила на цель не западнее, как делали ранее, а восточнее, чтобы сбить с толку посты ВНОС и нанести удар по орудиям, прикрывавшим порт.
Превосходство такого тактического маневра, предложенного Омельченко, не вызывало ни у кого возражения, даже у присутствовавшего на постановке боевой задачи генерала, заместителя командующего воздушной армии, любителя поспорить и щегольнуть своей эрудицией. Но как получится на деле? На войне нередко бывает и так, что самые продуманные варианты оказываются несостоятельными. Александра беспокоила слишком светлая ночь, над морем истребителям будет легче отыскать бомбардировщиков – и на фоне неба и на фоне воды. В Крыму, несмотря на неудачи на центральном фронте, фашистское командование держало лучшие свои эскадры, получившие хороший опыт в воздушных боях за небо Кубани. В районах Джанкоя и Севастополя размещены новые радиолокационные станции, способные обнаруживать самолеты в любое время суток и в любых метеоусловиях.
До Севастополя оставалось около десяти минут лета. В небе по-прежнему было спокойно, если не считать гула моторов да коротких докладов членов экипажа.
– Вправо тридцать, – скомандовал штурман. – Снижаемся до двух с половиной.
И как по команде впереди в небо вонзился голубой луч радиолокационного прожектора. Качнулся влево, вправо и застыл на месте. Поймал кого-то или нет, отсюда не видно. Похоже, поймал, коль к нему потянулись другие, более слабые лучи и вокруг заполыхали разрывы. Не дай бог, Ковалева. В простом полете он потерял пространственное положение, а при ослеплении не каждому асу удается справиться с пилотированием.
Ниже перекрестия загорелась осветительная бомба. Зенитки еще интенсивнее били в перекрестие лучей. Александр лишь на секунду оторвал взгляд от приборной доски, чтобы определить, где наиболее густо сосредоточены орудия, и убедился, что наши разведчики накануне поработали неплохо: плотнее всего прикрывался западный порт: там шла разгрузка и погрузка кораблей.
– Еще двадцать вправо… Так держать!
И когда Александр снова посмотрел на землю, порт бушевал десятками очагов пожаров. Тут и там взметались ввысь разрывы.
Бомбардировщик несильно тряхнуло – штурман сбросил первую серию бомб.
– А теперь, командир, крути на сто восемьдесят…
Бомбардировщики трижды ложились на боевой курс. В последнем заходе Александр толкнул штурвал от себя и нацелил нос самолета на голубой луч, продолжавший шарить по небу. Штурман дал длинную очередь, и луч погас. Заметно поубавилось вспышек на земле и от выстрелов зенитной артиллерии. Правда, с Сапун-горы тянулись три пунктира трассирующих строчек, но до них было далеко, и ударная группа полка туда не должна была входить. Скорее всего, туда залетел чей-то другой самолет, либо артиллеристы палили со страху.
От Севастополя уходили также морем. Порт и город горели. Языки пламени взметались ввысь, небо застилало черным смрадом.
Осветительные бомбы уже погасли, но было светло, как днем. Полыхали корабли, портовые сооружения, склады, дома. Невольно вспомнился 41-й год. Тогда вот так же горел город. И хотя теперь бомбили наши, Александр радости не испытывал. Наоборот, грудь наполнилась тоской и думой об Ирине. Как она, жива ли, здорова, не попала ли в лапы фашистов? Чтобы отогнать эти тревожные мысли, напомнил штурману и стрелкам:
– Теперь все внимание небу, ребята. Истребители не упустят момента, чтобы посчитаться с нами за корабли.
К счастью, прогноз не оправдался. Бомбардировщики обогнули полуостров с юго-восточной стороны, и ни один «мессершмитт» не появился. Возможно, фашисты поджидают их над Азовским морем, когда экипажи притупят бдительность. Возможно, что-то и другое помешало им.
Теперь луна светила сзади, на приборную доску, помогая пилотировать, и Александр чаще отрывал взгляд от пилотажных приборов, внимательно осматривая переднюю полусферу. Небо по-прежнему было темное, усыпанное звездами. А внизу черным-черно, даже лунной дорожки не видно. Изредка вдали мигнет огонек – то ли судно, то ли самолет, то ли кто-то кому-то подает сигнал, – и исчезнет.
Восточнее Керчи развернулись и взяли курс на север. Можно было не смотреть на компас – Полярная звезда висела прямо перед носом самолета.
– Подходим к береговой черте, – разогнал его грустные думы штурман.
Немецкие истребители так и не появились. Проворонили? Или сменили тактику? Как бы там ни было, здесь своя, родная земля и опасность минимальная: тут и зенитки наши прикрывают, и сесть можно, если подобьют, и выпрыгнуть с парашютом, не боясь попасть в плен…
– Прошли траверс Мариуполя, – голос штурмана повеселел, взбодрился. – Не забудь про АНО.
– Включаю. – Александр нажал кнопку аэронавигационных огней. Красные и зеленые огоньки засветились впереди. Пять пар. Значит, потерь нет. А сзади?
– Стрелки, ведомые на месте?
– Так точно! – доложил стрелок-радист. – Все три. Контролет, правда, малость отстал.
– Догонит… – Александр понял – подбит…
Ведущие начали снижение. Вот тут-то и раздался тревожный голос стрелка-радиста:
– Командир, Чайка передала, что посадку запрещают: над аэродромом кружит «фокке-вульф», а за ним следует группа «юнкерсов» и «мессершмиттов».
Вот почему не атаковали истребители: решили перенять нашу тактику, нанести удар по аэродром, когда бомбардировщики и истребители сопровождения произведут посадку.
Недурно, недурно. Урок, как говорят, пошел впрок; перестали бахвалиться своим превосходством, тоже прибегают к военной хитрости.
– Всем, всем. Следовать за мной на точку семнадцать, где недавно садились, – приказал Омельченко.
Снова на Мелитопольский аэродром, ближе к линии фронта. Повторяется Омельченко. Правда, вероятность того, что немцы узнали о прошлой вынужденной посадке в Мелитополе, мала; все равно Александр так бы не поступил. Но командир – Омельченко, и ему виднее. У этого варианта тоже есть свои плюсы: немцы меньше всего ожидают, что советские самолеты осмелятся садиться у самой линии фронта, скорее всего, примут их за новую группу, следующую на боевое задание. Минусом же, считал Александр, было то, что на Мелитопольском аэродроме не было никаких посадочных средств. Даже прожектор в прошлый раз не успели подвезти. А после недельных дождей аэродром, несомненно, раскис и сесть будет не так-то просто.
Омельченко, как и в прошлый раз, сел первым. Не выключая посадочных фар, поставил бомбардировщик по направлению посадочной полосы.
– Чибисы, садиться на минимальной скорости, грунт очень вязкий, – предупредил он.
Александр дождался своей очереди и повел бомбардировщик на посадку. Кое-где на аэродроме виднелись лужи, и самолеты, попадая в них, вздымали фейерверки. Но ни один не скапотировал.
Штурман стал помогать, напоминая о высоте. Видимость, несмотря на ясную ночь, при свете фар была намного хуже, чем при прожекторах. Хорошо, что Омельченко постоянно тренировал экипажи посадкам при фарах.
В лучах света Александр увидел разбитые колесами колеи, в которых блестела вода. Перевернуться в таких колдобинах ничего не стоит. И он отвернул левее, где летное поле было без борозд. Омельченко оценил это, скомандовал остальным:
– Садиться левее. – Запустил моторы и подвернул ближе к посадочной полосе.
Спустя пятнадцать минут все бомбардировщики благополучно произвели посадку. Омельченко, выставив охрану, приказал экипажам отдыхать в самолетах на своих рабочих местах.
2
15 ноября 1943 г. Полеты не состоялись из-за плохих метеоусловий…
(Из летной книжки Ф.И. Меньшикова)Промозглый ветер гнал по небу черные рваные тучи, цепляющиеся за антенну приводной радиостанции, поставленной недавно на бугре недалеко от аэродрома. Временами из туч сыпал мелкий дождь вперемешку со снежной крупой. Было зябко и неуютно, даже самолеты, казалось, жались к земле от непогоды, и люди около них ходили вяло, трудились медлительно и неохотно. Авиаспециалистов на аэродроме было мало, многие бомбардировщики зачехлены: командир полка подполковник Омельченко разрешил отдыхать всем экипажам, за исключением тех, чьи самолеты были неисправны или нуждались в регламентных работах.
Непогода стояла пятые сутки, и пятые сутки полк бездействовал. Назавтра метеорологи обещали похолодание и прекращение осадков; значит, поступит команда на боевой вылет.
Омельченко вернулся в штаб – деревянный домик, приютившийся сбоку аэродрома, рядом со складскими помещениями, – и только собрался проверить летную документацию, как вошел дежурный по полку и протянул ему письмо, сложенный треугольником не очень чистый листок.
Омельченко развернул.
«Дорогой командир! Отец родной! – прочитал он написанное корявым, прыгающим почерком (писавший явно торопился и волновался). – Умоляю, как чеховский Ванька Жуков, забери меня отсюда, из штрафбата, в который я попал не по своей вине, а по злому стечению обстоятельств. Нас подбили над целью, и я тянул на одном моторе, пока не вытекло горючее из пробитых бензобаков. Удалось сесть на брюхо на нейтральной полосе. Немцы открыли по нам огонь. Штурман и стрелок были убиты, а я с радистом благополучно добрался до наших окопов. Самолет не поджег потому, что надеялся – вытащат наши. Но ночью немцы опередили. Вот за то, что я не выполнил приказ, не уничтожил технику, меня и шуганули без суда и следствия в батальон смертников. А ведь я летчик, и сам знаешь, неплохой летчик, пользы принесу больше там, где нужнее. Похлопочи, Александр Михайлович, век буду признателен и верен до гробовой доски. Твой Филатов Б.И.»
У Омельченко даже лоб покрылся испариной от волнения. Надо же такому случиться! Борька Филатов живым и здоровым объявился! А в полку месяц назад выпили за упокой души его и членов экипажа.
– Хорошие вести? – догадался дежурный, ожидавший, когда командир закончит читать.
– Отличные вести. – Омельченко уже обдумывал, что предпринять, чтобы вызволить летчика из штрафбата. – Оперуполномоченного нашего не видел?
– Видел. Минут пять назад находился в БАО, – ответил дежурный.
– Разыщи его и скажи, что командир просил зайти.
– Есть! – Дежурный козырнул и вышел.
«Надо срочно писать отношение командиру штрафбата, – размышлял Омельченко, – и срочно посылать туда оперуполномоченного». – Взглянул на дату отправления письма. 19 октября. Быстро Филатов сориентировался – на третий день, как его сбили. А особисты – еще быстрее, – их рук дело. Подумал о старшем лейтенанте Бергисе, сменившем полгода назад капитана Петровского. С тем командир тоже не особенно ладил, а этот сразу норов показал: в полк прибыл старший лейтенант Говязин, сбитый над оккупированной территорией и скрывавшийся в одной украинской семье до прихода наших войск. Штурман отменный, снайпер бомбовых ударов, не раз выполнявший самые ответственные задания. По существующему положению, коль был сбит над вражеской территорией и находился там несколько дней, командир не имел права допустить его к полетам, пока уполномоченный особого отдела не проверит достоверность показаний вернувшегося. Вот Омельченко и поручил Бергису слетать на По-2 в украинское село, в котором, по словам штурмана, он проживал.
– Я не ваш подчиненный, чтобы вы мною командовали, – отрезал Бергис, нахохлившись, как молодой петушок перед дракой.
– Тогда тебе и делать здесь нечего! – взорвался и Омельченко. – Убирайся из полка!..
Пришлось дивизионному начальству гасить конфликт. Бергис поубавил спеси, но коготки, понял Омельченко, держал всегда наготове, и его дыхание позади всегда чувствовалось на каждом шагу. Может заартачиться и на этот раз. А медлить нельзя, в штрафбате Филатову долго не выдержать, парень он отчаянный, горячий и бесхитростный. Если еще живой. Жаль будет такого летчика.
Дежурный вернулся минут через десять, доложил, что приказание выполнил. За ним в кабинет вошел и Бергис, приложил руку к козырьку фуражки.
– Слушаю вас, товарищ подполковник.
Он был явно недоволен вызовом, насторожен и нахмурен, в глазах холодные льдинки. И Омельченко, чтобы не осложнять отношения, притушить самолюбие старшего лейтенанта, протянул ему руку.
– Здравствуй, Борис Иванович. Присаживайся, – указал взглядом на стул рядом. – Я вот о чем хотел посоветоваться с тобой. – И протянул письмо оперуполномоченному. – Прочитай.
Брови на лице старшего лейтенанта распрямились, блеск льдинок в глазах поугас. Он неторопливо прочитал, сочувственно вздохнул:
– Не повезло вашему подчиненному. Хороший был летчик?
– В том-то и дело. Таких не учат, такие рождаются. А его в пехоту, в штрафбат.
Бергис подумал.
– Вряд ли я чем могу помочь. Пишите бумагу, а я по своей линии буду действовать.
– Само собой, напишем. Но сам знаешь, как нынче почта ходит. Надо лететь туда, вырвать летчика всеми правдами и неправдами.
– Так погода вон какая.
– Метеорологи назавтра обещают улучшение.
Бергис снова подумал.
– У меня других столько дел…
– Понимаю. Но надо выручать летчика. И лучше тебя, полагаю, никто не сделает, – польстил Омельченко.
Бергис глубоко вздохнул, поднялся.
– Доложу своему начальству. Если освободят от других дел, слетаю…
До вечера Бергис на глаза не попадался и не звонил. Видно, вновь предложение командира воспринял как посягательство на свою самостоятельность, на свое особое положение. Как он доложит начальству, не передернет ли? Самому же обращаться в особый отдел Омельченко считал некорректным.
Перед ужином в штаб поступило боевое распоряжение: все боеспособные экипажи готовить по Севастопольскому порту.
Оперуполномоченный так и не объявился. Омельченко стал думать, какие другие пути найти для вызволения Филатова из штрафбата, кого другого послать вместо Бергиса, но пришел к выводу, что если он пошлет запрос по почте или телеграфу, даже если сам полетит, результат может получиться пшиковый – с шифрограммой возня начнется, а его, командира, воспримут как заинтересованное лицо. И все же распорядился начальнику штаба подготовить на Филатова характеристику и все необходимые документы для возврата летчика в полк.
К утру ветер повернул с севера, сразу повеяло холодом; облака стало рвать, обнажая стылое звездное небо; и землю начало сковывать морозом.
Во время завтрака к Омельченке подошел Бергис. Козырнул, как и полагается младшему по чину, доложил коротко, официально:
– Вылет разрешен. Я готов.
– Вот и отлично, – повеселел Омельченко. – Завтракайте, переодевайтесь в летное – и в самолет. Летчик предупрежден.
– Я уже позавтракал, – не разделил радость командира оперуполномоченный, снова сводя к переносице свои красивые черные брови. – Пойду переодеваться…
Землю схватило довольно прочно, она гремела под сапогами, словно жесть; трава будто поседела, и с нее летела серебристая пыльца.
Омельченко сам проводил Бергиса в полет, еще раз перечисляя заслуги Филатова и наказывая без него не возвращаться.
После того как По-2 оторвался от земли и взял курс на северо-запад (Филатов, как выяснил Бергис, находился под Уманью), подполковник направился к бомбардировщику, у которого уже суетился экипаж капитана Ковалева. Техник самолета, худой и длинный лейтенант, подобострастно вытянувшись, доложил, что неисправность, о которой доложил летчик после полета, обнаружить не удалось. По лицу было видно, что авиаспециалист волнуется: если мотор в полете снова даст перебои, ему несдобровать – какой ты хозяин самолета, коль не можешь содержать его в исправности.
Пусть поволнуется, ему, командиру, тоже не сладко: Бергис полетел против своей воли и, значит, еще больше ожесточился против него. А с людьми из особого отдела лучше жить в мире… Но теперь поздно об этом рассуждать, да и не такой он, Омельченко, человек, чтобы пасовать перед кем бы то ни было, идти на сделку с совестью. С Бергиса, как и с других, он требует то, что они должны выполнять по долгу службы.
Полет с капитаном Ковалевым добавил новые неприятности: как Омельченко и предполагал, с двигателями было все нормально, просто летчик терялся в ночном полете, неуверенно пилотировал и потому вернулся с задания, свалив вину на технику.
– Ты что, никогда по приборам не летал? – спросил на земле Омельченко.
– Летал, – виновато и подавленно ответил Ковалев. – Правда, маловато.
– Значит, надо больше сидеть в тренажере. Тренироваться под колпаком.
– Да я и так все свободное время тренируюсь. Разрешите лучше, товарищ подполковник, летать мне днем. На любые задания.
– Днем тебя собьют в первом же полете! Ты что, не знаешь, что против нас фрицы посадили эскадру «Удет»? Там все асы. А что ночью – боишься?
Ковалев опустил голову. Негромко произнес:
– Боюсь. – Достал папиросу, помял. – В предпоследнем полете я над Севастополем, когда меня ослепил прожектор, потерял пространственное положение. Не знаю, каким чудом вывел самолет у самой земли…
Так вот оно, в чем дело!
– А чего же ты молчал, сразу не признался?
– Стыдно было.
– Это пройдет. Не ты первый и не ты последний. Слетаю с тобой еще ночью. Не так страшен черт, как его малюют. Освоишься…
С аэродрома Омельченко направился в штаб: может, что-то известно о Бергисе. Просил о любых осложнениях в штрафбате звонить, в этом случае подполковник готов был обратиться к командующему фронтом.
Но звонка не было, и летчик По-2 пока о возвращении своем не сообщал.
После обеда экипажи пошли отдыхать перед боевым заданием. Омельченко тоже должен лететь, вести свой полк на бомбежку порта. Накануне он спал плохо и чувствовал усталость. Но сон не шел. Повертелся с боку на бок, встал и хотел сесть за стол, написать письмо жене, как вошел дежурный и негромко, чтобы не разбудить отдыхающих, доложил:
– По-2 возвращается.
– О Филатове не сообщили?
Дежурный пожал плечами.
– Диспетчер ничего не сказал.
Омельченко заторопился на аэродром.
По-2 приземлился минут через десять. Летчик выключил мотор, вылез на крыло и стал помогать Бергису, который почему-то не поднимался с места и, как показалось подполковнику, был бледен и беспомощен. Уж не ранен ли? Тихоходный «рус-фанер» мог атаковать любой немецкий самолет, повстречавшийся на воздушных дорогах.
Бергис действительно был бледен, и кожаный реглан спереди заляпан остатками пищи. Эк его укачало, беззлобно подумал Омельченко. Вроде и болтанки особой не должно быть.
Старшина Вавилов, летчик По-2, пояснил:
– «Мессер» погонялся, вот и пришлось сальто-мортале крутить.
Бергис отряхнул перчаткой блевотину, зло посмотрел на подполковника и, не говоря ни слова, пошел с аэродрома.
– А Филатов? – вырвалось у Омельченко сквозь страхом стиснутые спазмы горла: не успели!
– Доставили, – весело подмигнул Вавилов. – Надеюсь, в целости и сохранности и не таким обрызганным, как наш опер. Он перед полетом спросил у меня, правда ли, что в небе есть воздушные ямы. Я показал ему, – Вавилов громко захохотал. – За то, что он меня накануне всякими каверзными вопросами чуть с ума не свел. – Вавилов оборвал смех и полез на крыло, открыл во второй кабине сзади багажник, и оттуда высунулась в солдатской шапке голова Филатова.
– Ну, чудеса в решете, – подивился Омельченко. – Как же он там поместился?
– Жить захочешь – в спичечной коробке поместишься, – усмехнулся Вавилов. – Да и на солдатских харчах, как видите, он не очень раздобрел.
Филатов между тем полностью выбрался из своего убежища и, спрыгнув на землю, бросился с объятиями к подполковнику. Уткнулся лицом в меховую куртку и сквозь слезы стал благодарить:
– Спасибо, товарищ командир. Век перед тобой в долгу.
– Хватит, хватит, – успокоил его Омельченко. – И слезы тут ни к чему. Радоваться надо, что вернулся. Магарыч с тебя, – заключил с усмешкой.
– Само собой, – улыбнулся и Филатов, отстраняя лицо от куртки. – Будет магарыч, из-под земли достану.
3
…12 февраля 1944 г. проведено совещание руководящего состава ВВС военных округов и военных учебных заведений. На совещании Военный совет ВВС потребовал от его участников принять действенные меры по ликвидации предпосылок к летным происшествиям, по укреплению воинской дисциплины…
(Из летной книжки A.M. Омельченко)Все повторялось так, как десять лет назад: самолет лез с креном ввысь, не слушаясь рулей управления, готовый вот-вот сорваться в штопор. Видимо, техник, выполнявший накануне регламентные работы, плохо закрепил ручку управления. На взлете она держалась, а на вираже отсоединилась от перегрузки. В передней, пустой, кабине тоже была ручка. Она мозолила глаза и будто подсмеивалась над летчиком: вот, мол, я совсем рядом, а попробуй, дотянись! Надо же было додуматься сесть во вторую кабину! Привык летать там за инструктора…
Он попробовал вывести самолет из крена ногой, нажал на левую педаль, самолет стал еще круче заваливаться на левое крыло. А правая педаль еще больше увеличила угол набора. Скорость падала, перкаль По-2 начала вибрировать – критический угол атаки, за ним – штопор. И повеяло откуда-то смрадным холодом. «Конец!»
А все шло так здорово. В 19 лет поступил в летную школу, в 21 стал пилотом штурмовой авиации, в 23 назначили командиром звена. И вот эта коварная ручка управления! По-2 дрожит как в предсмертной агонии. Если бы добраться до передней кабины! Руку срывает с козырька сильным потоком ветра.
Надо попробовать выровнять самолет триммерами. Чуть от себя. Ага, нос будто бы стал опускаться. Еще немного. Так. Совсем неплохо. И теперь правой ножкой. Отлично, По-2 пошел на выравнивание. Теперь придержать, чтобы не перешел в правый вираж.
Наконец-то! А как теперь сажать? Триммера не помогут. Ручка в передней кабине маячит перед глазами и будто манит: ну, возьми меня, возьми. Дотянешься, и самолет в твоей власти.
Встречный поток такой сильный, что головы не высунуть. Надо убрать газ, уменьшить скорость. Вот так. Стрелка указателя скорости поползла обратно и остановилась на 80. Теперь можно попробовать.
Омельченко ниже опустил очки, потуже затянул пряжку шлемофона и высунулся из-за козырька. Воздушный поток с остервенением набросился на него, хватал за воротник комбинезона, стремясь выбросить его за борт. Ему удалось с трудом дотянуться до среза передней кабины. Не зря он занимался спортом, не зря мальчишкой лазал по вагонам, прыгая с крыши на крышу.
Срез передней кабины хотя и гладкий, но пальцы намертво вцепились в ребро. Второй рукой он ухватился за козырек своей кабины и пополз вперед. Голова достигла, наконец, выемки. Теперь перехватиться за борт… Ветер будто усилился, руки ныли от напряжения и слабели. Еще чуть-чуть… Еще один рывок, и рука вцепилась в край борта кабины.
Как он перевалился и оказался в кресле, сам не понял. Перевел дыхание, взялся за ручку управления. Она послушно подалась вперед, и самолет опустил нос. Спасен!
Он произвел на аэродроме посадку. Едва спустился из кабины на землю, как ноги утонули в грязи. Удивительно вязкая и неприятная грязь. Она стала засасывать его, как болотная трясина. Он ухватился за крыло самолета, но ноги уходили все глубже и глубже. Хотел крикнуть, позвать механика – горло будто заклинило. Все-таки удалось протолкнуть комок, и он прохрипел что-то. И проснулся. Выругался вслух – надо же присниться такой ерунде. В сновидения не верил, но в этот раз почему-то подумалось: быть неприятностям.
Взглянул на наручные часы. Без пяти десять. Можно спать еще три часа. На соседних койках раздавался богатырский храп. А ему спать уже не хотелось. И на душе было так пакостно, будто и в самом деле вляпался в грязь.
Дежурный по казарме, увидев, что командир поднял голову, заторопился к нему.
– Товарищ подполковник, прилетел генерал Тупиков, просил передать, как только вы проснетесь, явиться к нему.
«Какое срочное дело привело командира корпуса в полк? – пытался понять Омельченко. – Новое боевое задание или награды летчикам? На троих, в том числе и на Омельченко, было послано представление к званию Героя. Неужто?.. Вряд ли, слишком быстро. В Москве с такими делами не спешат».
Омельченко торопливо собрался и отправился в штаб дивизии, благо он располагался рядом со штабом полка.
Генерал Тупиков проводил совещание с дивизионным начальством. Омельченко зашел к дежурному, в надежде получить кое-какую информацию. Но дежурный на его вопросы лишь пожимал плечами.
– А настроение у генерала?
– По-моему, паршивое, – усмехнулся дежурный. – С меня стружку снял за то, что не знал точно, сколько самолетов находится на боевом задании.
Кабинет Меньшикова открылся, и оттуда вышли начальник штаба, начальник политотдела и еще трое офицеров, прибывших в дивизию около месяца назад.
Омельченко пошел им навстречу.
– Привет, Александр Михайлович, – протянул ему руку начальник политотдела. – После беседы с генералом зайди ко мне.
– Зачем я ему?
Полковник невесело чему-то усмехнулся.
– Он объяснит.
Усмешка начальника политотдела ничего хорошего не предвещала.
Тупиков сидел с Меньшиковым, крупный, симпатичный, в новеньком кожаном реглане. Окинул вошедшего хмурым взглядом и, не поздоровавшись, кивнул на стул.
– Присаживайтесь.
Меньшиков виновато опустил глаза.
Омельченко сел.
– Слушаю, товарищ генерал.
– Нет уж, это мы тебя дослушаем. – Тупиков уставился на него проломным взглядом. – Докладывайте, как дела у вас, как настроение, как дисциплина.
– Дела неплохие. – Омельченко был сбит с толку вопросами, ответ на которые генерал отлично знал по донесениям, и переходом с «ты» на «вы» и обратно. – Прошлой ночью нанесли бомбовый удар по Севастопольскому порту. По предварительным данным, уничтожены склады боеприпасов – был виден большой взрыв, – с горючим и техникой; повреждено четыре судна.
– Это мне известно, – насупился Тупиков. – Вы доложите мне лучше о дисциплине в полку.
«Неужто кто-то натворил что-то ночью?» Но вряд ли Тупиков прилетел из-за такой мелочи.
– На дисциплину тоже пока не жалуюсь, – твердо ответил Омельченко. – Люди понимают, что война, и честно выполняют свой долг. Мелкие нарушения, само собой, случаются…
– Мелкие? – Тупиков полез в карман и достал листок бумаги. Пробежал по нему глазами. – Пьянки, драки – мелкие?
– Я не знаю, что вы имеете в виду.
– Не знаете? – Тупиков снова заглянул в листок – С летчиком Филатовым по возвращении его в часть пьянствовал?
«Вот он о какой пьянке».
– Выпивал, – честно признался Омельченко. – Человек, можно сказать, с того света вернулся. Один из лучших летчиков. Но никакой драки не было.
Тупиков снова взглянул на бумагу.
– Заведующего столовой старшину Панюшкина просил достать выпивку?
«И об этом написали».
– Просил. Зороконян в полете погиб. И весь полк на краю гибели был – туман запасные аэродромы закрыл. Чудом удалось посадить сорок семь экипажей.
– Ты мне тут свою удаль не выставляй, знаю я о той посадке. Ты ответь: к лицу командиру полка, подполковнику, вымаливать у старшины водку? Куда ты его толкаешь и как будешь требовать с него порядок, чтобы не воровал?
Лицо Омельченко горело от стыда. И что можно сказать в оправдание.
– Виноват, товарищ генерал. Не подумал тогда.
– А надо думать всегда! – повысил голос Тупиков. – Какой же ты, к хрену, командир, если пьянствуешь с подчиненными, драки учиняешь.
– Никаких драк я не учинял, – возразил Омельченко. – Это поклеп.
– Поклеп? А председателю колхоза кто на Новый год по физиономии съездил?
«И тут все передернули, с ног на голову поставили…»
– Не бил я его. А следовало. Нажрался, как свинья, и хвастаться стал, сколько он для фронта сделал, когда под немцами был, а что фашистам помогал, умолчал, хотя мне хорошо было известно.
– Не твоего ума дело, – оборвал его Тупиков. – Без тебя разберутся, чем он при немцах занимался. А руки распускать…
– Да не бил я его, – сорвался и Омельченко. – Пригрозил только, чтоб заткнулся. И из-за стола выставил.
– Лихой ты командир, – усмехнулся Тупиков. – Как это у Пушкина? «Ты парень, может, и не трус, да глуп…» В общем, будем решать, что с тобой делать…
У Омельченко заныло в груди. Неужели снимут? Его, кто сделал полк одним из лучших в дальней авиации, который почти не несет потери?.. Точно такой донос, как в прошлом году на Меньшикова. Но тогда выяснили, кто вбивал клин между командиром и подчиненными, – Пикалов, фашистский агент. Теперь-то его нет… Неужто, еще один враг завелся?.. Не может быть. Радиопередач больше не зафиксировано, все люди проверенные…
– Вы хотя бы с подчиненными поговорите, какой я командир, – несмело посоветовал подполковник.
– Поговорим. Обязательно поговорим. Хотя… – Тупиков ткнул пальцем в письмо. – Тут вот тоже мнение твоих подчиненных. Идите.
Он вышел из кабинета оглушенный, униженный, раздавленный. Голова шла кругом, будто от пьянки; перед глазами все плыло.
«Кто же сочинил такую пакость? – ломал он голову. – Бергис? Но его не было в столовой, когда Омельченко просил у старшины бутылку, и на Новый год с конфликтом председателя колхоза. Летчики? Ни одного он не мог заподозрить в подлости. А особист… Служба у него такая, все видеть, все знать… Но отстранить от командования… Все летчики за него встанут горой. И замполит Казаринов скажет свое слово. Он – авторитет в дивизии, и за летчика летает, и за штурмана. Всему этому Омельченко его научил… С некоторыми летчиками командир конечно же порою грубоват и несдержан был. С Кузьминым особенно, критиканом и краснобаем, всегда чем-то недовольным. И все-таки Омельченко считал его порядочным человеком. Да какая теперь разница, кто этот подлый донос написал. Главное, чтоб не отстранили.
Омельченко пришел в столовую, но обедать не стал – кусок не лез в горло, – и он, выйдя на улицу, бродил недалеко от штаба, наблюдая за подчиненными. Голову сверлила одна и та же мысль – кто?
У Туликова побывали Казаринов, Кузьмин, Гусаров и все командиры эскадрилий. Выйдя из штаба, замполит, несомненно, увидел командира и, несомненно, догадался, что творится у него на душе, но не подошел к нему с сочувствием. Да и Омельченко в таком случае не стал бы утешать пострадавшего: по-разному можно расценить такой шаг – искренность или злорадство? На командирскую должность вполне вероятно могут назначить Казаринова. Понимает ли он, что приобретет и что потеряет? Он мудрый человек. Правда, соблазн власти погубил и не такие мудрые, волевые натуры…
Ожидание окончательного разговора с Тупиковым оказалось мучительно-изнурительным. Под огнем зениток и истребителей было легче. Такого он еще не испытывал. Даже в полете, когда ручка управления По-2 оказалась отсоединенной, и в первом боевом вылете, когда их девятку атаковали со всех сторон «мессершмитты». Да, умереть не хотелось, он любил жизнь. Но позор, оказывается, еще страшнее смерти…
Погода к вечеру снова испортилась, небо затянули низкие облака, посыпал дождь со снегом, и боевой вылет отменили. А ему лучше бы лезть в самое пекло, чем идти на встречу с Тупиковым. Он еще на что-то надеялся, а сердце ныло, ныло, не предвещая ничего хорошего.
Ужинать он пошел вместе с Казариновым и Гусаровым. Разговора о беседе с Тупиковым никто не заводил. Все трое молчали, будто после похорон прекрасного летчика и человека.
Аппетит к Омельченке так и не пришел. Он поковырял вилкой в тарелке, пожевал безвкусные макароны, запил чаем. На выходе из столовой его поджидал дежурный по штабу.
– Товарищ подполковник, генерал Тупиков передал, чтобы вы в 20.00 были в кабинете комдива, – сообщил он.
– Хорошо, буду.
Еще полчаса ожидания, догадок, мучения. Он то обдумывал оправдательную речь, то, ожесточаясь, развенчивал доносчика, стараясь убедить генерала, что за всем этим кроется месть за требовательность. Но успокоения, уверенности, что его аргументы окажутся весомее, не было.
Ровно в восемь вечера он постучал в дверь командира дивизии и, открывая, увидел за столом с генералом начальника политотдела дивизии и комдива.
– Заходите, – пригласил Тупиков.
Омельченко еле преодолел десяток метров ставшими непослушными ногами. Доложил осипшим голосом.
– Присаживайтесь, – кивком указал генерал на стул напротив.
Голос у него был теплее, чем прежде, и смотрел он добрее. Но это вовсе ничего не значило.
Омельченко сел.
– Ну вот, поговорили, побеседовали с вашими подчиненными, – весело продолжил Тупиков, – и, скажу откровенно, разговор получился не в вашу пользу.
У Омельченко зашумело в ушах, будто ударили чем-то тупым и тяжелым по голове, он перестал слышать, как после контузии, полученной месяц назад, в полете над Севастополем. Тупиков, начальник политотдела что-то говорили, но он видел только раскрывающиеся рты. Так бывало иногда в полете после контузии, когда он сильно волновался, но все проходило быстро. А тут…
Тупиков выжидательно уставился на него, видимо, ждал ответа на вопрос. Омельченко сделал несколько глотков, открыл рот.
– Что же вы молчите? – услышал наконец.
– А что говорить, – заспешил Омельченко, боясь, как бы не догадались о его глухоте начальники. – Простите, но я не верю, что все подчиненные говорили обо мне худо.
– А я не сказал, что все, – возразил Тупиков, – и что, только худо. Нет. Осипов, к примеру, и Туманов говорили только хорошее. Но таких летчиков, дорогой Александр Михайлович, к сожалению, маловато, чтобы ваши заслуги перевесили ваши проступки. Настоящий командир должен уметь учить не только хорошо летать, лихо воевать, он должен уметь учить их и уважать себя. Потерять авторитет значит потерять право командовать ими…
Это был приговор. Суровый, беспощадный. И никакими словами оправдания тут не поможешь. Снова на какое-то время исчез слух. Правда, теперь уже не имело значения, что говорил генерал. «Потерять авторитет значит потерять право командовать ими».
– … отдохнете, подлечитесь, – донесся голос генерала. – Я слышал, у вас со слухом после контузии неважно, вот и поезжайте в Ессентуки. Я распоряжусь, чтобы вам путевку выдали. Подлечитесь, с семьей повидаетесь. А потом посмотрим, что с вами делать…
* * *
Весть о том, что Омельченко отстранен от командования полком, разлетелась по гарнизону, как выстрел. «Омелю сняли!» – только и слышалось среди летчиков, штурманов, авиаспециалистов. И Александра удивляло равнодушие, а то и злорадство людей, которые еще вчера заискивали перед командиром, выражали свою признательность. Были, разумеется, и такие, кто держался с подполковником с достоинством, несмотря на его строгость, а порой и грубость; неуважительность же никогда не замечал. Многие, несомненно, относились к нему с почтением: летал, как бог, в тактике разбирался превосходно, разгадывал любые хитроломки фашистов, сам же придумывал неожиданные, тактические приемы. Он был мудр, несмотря на кажущуюся суровость, прост и заботлив, дорожил подчиненными, не посылая зазря на смерть и в обиду другим начальникам не давал.
И все-таки нашелся один негодяй, который не постеснялся исказить факты, чтобы нанести ощутимее удар. Несомненно, тот, кому Омельченко серьезно насолил. Кто?
Александр перебрал в памяти офицеров, с кем особенно конфликтовал командир полка. Не так давно он наказал старшего лейтенанта Кочана за то, что тот в разведывательном полете допустил самовольство, изменил маршрут, чтобы пролететь над родной деревней; и экипаж еле отбился от «мессершмиттов»; объявил двое суток домашнего ареста. Летчик хотя и не сидел «дома», продолжал выполнять полеты, долго брюзжал среди товарищей, жалуясь на несправедливость. Кочан самолюбивый, с большим самомнением пилот, мог сгоряча и написать; хотя у таких людей, кто не умеет таить обиду внутри, эмоции чаще всего выплескиваются наружу. А тут прошло больше недели…
Мог написать и штурман Кабаков, мрачноватый, себе на уме лейтенант. Он даже с членами экипажа не дружил и в полете на проверку с Омельченко на замечания командира не реагировал, над целью заставил трижды делать заход, пока не сбросил бомбы.
На земле Омельченко тогда вылез из самолета красный, как рак, и с негодующе сверкающими глазами. Положил свою богатырскую руку на плечо штурмана и поволок его вокруг посеченного осколками бомбардировщика. Александр ожидал, что у подполковника не хватит выдержки и он залепит штурману в ухо. Но Омельченко сдержался, сказал с надрывом:
– Я думал, что ты трус, а ты просто кретин. Буду ходатайствовать о переводе тебя в пехоту, там нет такой дорогой техники, и, может, там тебе прочистят мозги.
Неожиданно за Кабакова вступился командир экипажа капитан Биктогиров.
– Разрешите, товарищ подполковник, мне самому прочистить ему мозги? Раньше он, конечно, дрейфил над целью, вот и решил доказать, что не трус. Я сделаю из него штурмана и человека, только оставьте его в экипаже.
Омельченко только в сердцах махнул рукой.
Мог Кабаков завязать узелок на память. Но ради чего? Не такой же он глупый человек, чтобы не понять – о нем же забота командира.
Мог написать донос и Бергис. Но только не командиру корпуса, а по своей линии…
В чем, собственно, обвинили командира? Что выпивал с подчиненными. А как же иначе, как изучать их характер и качества? Пьяного председателя колхоза вытащил из-за стола и проводил пинком под зад. Но тот заслуживал худшего. Отказался на своих самолетах возить уголовников, чтобы собирать сведения о вернувшихся с оккупированной территории сбитых членах экипажей? Но разве не знает Тупиков, что в одном полете зэк, перед тем как выпрыгнуть, бросил в кабину стрелков гранату. Хорошо, что стрелок-радист не растерялся и тут же выбросил гранату в люк. Нет, Тупиков совсем не прав. И директиву командования ВВС о повышении дисциплинарной ответственности надо читать с умом, а не как догму о злостных нарушителях.
Долго Александр не мог заснуть, болея душой за Омельченко, гадая, кого же вместо него назначат командиром. В полку, конечно, есть хорошие летчики и командиры, но таких, как Омельченко, он был уверен, нет.
Уснул далеко за полночь. Проснулся как обычно в шесть и узнал от дежурного: командиром полка назначили майора Шошкина. Александр глубоко вздохнул: слаб характером. А казарма одобрительно загудела. Кто-то даже крикнул: «Ура!»
В столовой за завтраком к Александру подошел дежурный по штабу.
– Товарищ капитан, майор Шошкин просил вас после завтрака зайти к нему.
Ничего не обычного в таком вызове не было – очередное боевое задание, – но Александру приглашение чем-то не понравилось.
Он допил чай и, чтобы не мучить себя догадками, отправился в штаб.
Майор Шошкин встретил его прямо-таки по-приятельски: вышел из-за стола навстречу, улыбающийся, протянул ему руку и крепко пожал.
– Здравствуй, Александр Васильевич. Присаживайся, – подвел к стулу. – Как спалось, какие приятные сны снились? Слышал, какие у нас нежданно-негаданно случились пертурбации?
– Слышал, – без одобрения произнес Александр.
– Так-то… Земля крутится, вертится, несмотря ни на что. – Помолчал. – Велено мне принять командирские дела. И, значит, вместо себя заместителя подобрать. Я вот тут ломал голову и выбрал тебя, – пытливо глянул ему в глаза, надеясь увидеть радость. Но Александр, удивленный таким предложением, опустил голову. Всего три месяца назад его назначили командиром эскадрильи. А сколько летчиков старше его и по возрасту, и по званию, и по опыту. Как они воспримут такое стремительное восхождение? Вон как некоторые круто развернулись к Омельченко…
– Благодарю за доверие, – ответил Александр. – Но извините, товарищ майор, я еще с должностью командира эскадрильи как следует не освоился.
– Не прибедняйся, – насмешливо подмигнул Шошкин. – Вижу, как на земле руководишь и как в небе командуешь. Подчиненные тебя уважают.
– И Омельченко они уважали, – не сдержался Александр. – Скажите, Павел Андреевич, как вы расцениваете такое перевоплощение? Вас оно не пугает?
Шошкин посерьезнел, подумал. И снова улыбнулся.
– Омелю мы все хорошо знаем. Суровый был человек. Его боялись и делали вид, что уважают. А на страхе далеко не уедешь. Вот и вывод: командир, потерявший уважение подчиненных, не имеет права повелевать ими. Это и нам зарубка на носу.
– Но приказ – это насилие. А кому оно нравится?
– В том-то и мудрость: повелевать людьми, не унижая их достоинства, не злоупотребляя властью.
– Чтоб волки были сыты и овцы целы?
– В принципе – да, – рассмеялся Шошкин. – В том-то и трудность, и секрет командования. Но не будем огорчаться за Омелю, он свое покомандовал, и будь уверен, ему найдется достойное место. Теперь мы должны доказать, на что способны.
Откровенное осуждение прежнего командира полка очень не понравилось Александру, и он ответил, не скрывая холодности:
– Нет, товарищ майор, я считаю, что еще не дорос до должности заместителя командира полка, и потому вынужден отказаться от вашего предложения.
Шошкин понял, что решение категоричное. Нервно побарабанил пальцами по столу.
– Что ж, вольному волю, – сказал со вздохом и неодобрением.
* * *
Подшивалов высадил Ирину километра за два до Каменки, до села она добралась часа за два и поплутала изрядно, ноги от усталости еле плелись. Метель по-прежнему не утихала, с неба обрушивались лавины снега, все вокруг выло и свистело, в двух шагах ничего не увидеть и не услышать; и как она пробилась к заветной хатенке, вся мокрая и выбившаяся из сил, с трудом представляла.
Дважды постучала в окно условным знаком. Хозяйка, немолодая одинокая женщина, открыла довольно быстро и, впустив Ирину за порог, заговорила шепотом, скороговоркой:
– Ко мне на постой двух фрицев поставили. Правда, сейчас их нет, Новый год где-то справляют. Черт знает, когда заявятся… Ума не приложу, как с тобой…
И Ирина не знала, что делать. Она так устала, еле держалась на ногах. И идти некуда. Слова сами вырвались:
– Пойду я…
– Куда в такую круговерть? Мокрая вся, измученная. – Махнула рукой. – Черт с ними, может, надолго загуляли. Хоть отогреешься. В случае чего, скажем: «Племянница из Мазанки, на Новый год притопала. Документы-то у тебя в порядке?
– В порядке. Только не из Мазанки, а из Межгорья.
– Какая разница. Была там, потом туда зашла. Ведь у тебя и там родственники есть?
– Есть. В селе с продуктами стало плохо. Иду вот в Симферополь, может, там найду какую работу, – сообщила Ирина свою легенду.
– Может, и найдешь. – Женщина задвинула засов и повела Ирину в комнату. – Сбрасывай все, ты ж промокла до нитки.
Света не зажигали. Женщина помогла Ирине снять платок, телогрейку, стряхнула снег у порога и подвела к кровати. Пошарила рукой, сунула что-то мягкое Ирине.
– Одевай вот это. Как только высушить твои манатки? – Тяжело вздохнула. – Как бы эти ироды не заметили. – На ощупь развесила телогрейку и юбку у печки, от которой шло еще тепло. – Тебе бы чайку согреть.
– Не надо, – отказалась Ирина. – Мне бы поспать хоть с часок.
– Тогда лезь в постель. Я с тобой рядом…
Как было хорошо и уютно в тепле и сухости! Женщина обняла ее и согрела теплом своего тела, напомнив далекое детство, мать, согревавшую вот так же, когда ей не было и семи, умершую совсем рано, красивой, любимой отцом. После нее он так и не женился.
С этой женщиной, согревшей ее теперь, она познакомилась месяц назад, когда с Подшиваловым готовили взрыв на водокачке в Симферополе и ночевали здесь, в ее хате. Тогда немцы сюда лишь наведывались время от времени да устраивали облавы и засады на партизан, а теперь расквартировались. Ирине хотелось поподробнее расспросить, что за часть, давно ли прибыла, но язык не повиновался, голова затуманилась. Она подумала, что поговорит утром, и уснула мертвецким сном. А едва на улице стало сереть, подхватилась, вспомнила, где находится и куда надо идти. Прислушалась. Кроме посапывания хозяйки да шума ветра за окном, ничего не уловила. Значит, постояльцы еще не вернулись, надо побыстрее уносить ноги.
Проснулась и хозяйка, помогла ей собраться.
В Симферополь она добралась без происшествий. На явочной квартире ее засыпали вопросами: правда ли, что наши войска форсировали Керченский пролив, захватили Керчь, что началось наступление с севера на Перекоп, что партизаны готовят нападение на Симферопольский гарнизон.
Ирина поняла: сведения явно провокационные, немцы пытаются еще раз вызвать активизацию подпольщиков, чтобы обезвредить их к началу весенних боевых действий. Такую ловушку они уже устраивали в декабре месяце и кое-чего добились: несколько подпольных групп поддались на провокацию и раскрыли себя.
– Никакого нападения партизан на гарнизон не планируется, – категорично опровергла она слухи. – И под Керчью, насколько мне известно, положение у выброшенных туда десантников трудное. И на севере наши войска еще не дошли до Херсона. Хотя наступление, конечно, готовится. И наша задача – добывать сведения, информировать командование, где и что у фашистов творится, сколько войск, куда их перебрасывают…
4
26 февраля 1944 г. Ночной боевой вылет на бомбежку аэродрома Сарабуз…
(Из летной книжки А.И. Туманова)Немцы, похоже, не собирались оставлять Крым: на аэродромы Сарабуза, Симферополя транспортные самолеты перебрасывали новые части, оружие и боеприпасы, а в средине февраля там приземлились две истребительные эскадры по 80 «мессершмиттов». Четырежды полк Шошкина вылетал на бомбежку этих аэродромов, но система ПВО у немцев была отлажена превосходно, и посты ВНОС каждый раз заблаговременно предупреждали истребителей. В ночном небе разгорались ожесточенные сражения. Из первого боевого вылета не вернулись два экипажа, из второго – один. Лишь в четвертом удалось перехитрить немцев: налет произвели на рассвете, когда посты ВНОС и летчики, утомленные ночными боями с истребителями прикрытия, позволили себе отдых.
Шошкин полк не водил, у него на земле было дел немало, посылал за себя заместителя Обухова; в четвертом полете Обухов с двумя экипажами взял на себя роль разведчика погоды и имитировал полет на Евпаторию, а полк повел Александр. Замысел удался. Тройка Обухова, вылетевшая на два часа раньше, отвлекла внимание истребителей с Сарабузского аэродрома: они вылетели на перехват и барражировали в зоне ожидания, а бомбардировщики прошли южнее и сбросили бомбы по запасной цели. На рассвете группа Александра, обойдя полуостров со стороны Каркинитского залива на малой высоте, выскочила со стороны Сак и сбросила бомбы на стоянку самолетов. Правда, на обратном пути бомбардировщиков встречали и сопровождали зенитки по всему Крыму, два Ил-4 были подбиты и еле дотянули до своего аэродрома.
Задача была выполнена. По предварительным данным, немцы потеряли около двух десятков самолетов.
Группу Александра ждал вкусный завтрак и фронтовые сто граммов. Шошкин пришел в столовую и поздравил летчиков с успешным боевым вылетом.
– Всех представлю к наградам, – торжественно заверил он. – Кстати, сегодня получена радиограмма, майору Обухову присвоено звание Героя Советского Союза.
– А Омельченко, Туманову? – тут же задал вопрос штурман Александра Иван Кубрак, знавший, что и на них готовилось представление.
– Им, видимо, присвоят в другой раз, – неуверенно ответил комполка.
В отношении себя Александр другого и не ждал: знал, что по линии КГБ не пропустят, пока его фамилия числится в списке неблагонадежных. Знал, но от этого обида не отпустила. Сердцу стало тесно в груди, кровь бросилась в голову, будоража недобрые мысли: разве он меньше летал, разве меньше рисковал? Сколько раз бомбил железнодорожные эшелоны, мосты, танковые колонны; его экипаж сбил четыре «мессершмитта». Обухов в полк прибыл позже, пользуясь должностью заместителя командира полка, летал на задания, где поменьше было зениток и истребителей.
Обидно было и за Омельченко – столько для полка сделал! Ни за что обошли.
Стал успокаивать себя: что ни делается, к лучшему, как частенько говорила бабушка. К Герою больше было бы внимания, портрет в газетах напечатали бы; а кто-то и узнал бы: «Так это не Туманов, Пименов». Вот тогда бы и взялись за него по-настоящему. Припомнили бы со всякими домыслами его нахождение на оккупированной территории, арест отца, уход в деревню и предателя Пикалова, который не раз летал в его экипаже. Ему частенько снились кошмарные сны с арестом, и он просыпался в холодном поту. Понимал, что никаким своим героизмом он не докажет современным сатрапам свою невиновность: Гандыбин и ему подобные строят свою карьеру именно вот такими разоблачениями. Бездари и карьеристы – люди с притупленной совестью и чувствительностью, не брезгуют никакими способами и методами. Какие талантливые люди пострадали от их наветов! Егоров, Блюхер, Павлов…
Александр после завтрака в казарму не пошел – все равно не уснет, – сел в комнатенке, где летчики писали боевые донесения и, положив перед собой лист бумаги, задумался. Вправе ли он подписываться под документами фамилией Туманов? Не пора ли открыться, кто он и почему изменил фамилию? Поверят, простят? Вряд ли. Вот что отстранят от полетов и командования эскадрильей, – точно. А без полетов, без неба, без друзей-летчиков ему не жить…
Шошкин искренне похвалил его, когда шли с аэродрома. Бомбовый удар по Сарабузу получился превосходный: два десятка уничтоженных стервятников при такой рассредоточенности – отменная выучка штурманов и пилотов. И контакт с истребителями сопровождения, вовремя прикрывшими бомбардировщиков на обратном пути, позволил всей группе вернуться без потерь. А новый комполка его предложение нанести удар на рассвете поначалу не принял.
– Авантюризмом попахивает. Немцы не дураки, поймут, что мелкие группы – отвлекающий маневр. А в светлое время суток – раздолье для истребителей.
Александру пришлось напомнить майору о педантизме немцев, о строгом соблюдении распорядка дня, о заботе о своем здоровье. И Шошкин, почесав затылок, сказал с усмешкой:
– Уговорил. Но под твою ответственность…
И если бы случилось что-то не так, Александру бы несдобровать. Шошкин пообещал представить всех к награде. Что ж, может, на этот раз пройдет? Хотя… не заболел ли он тщеславием?
* * *
Омельченко просыпался на рассвете, и сердце снова начинало колотиться от обиды и несправедливости. Он пробовал забыться, вливал в себя стакан водки, – не помогало. Не помогали и массажи, водные процедуры и таблетки от глухоты. Временами то ли в голове, то ли в ушах гудели рои непонятных насекомых, он пытался «выдавить» их либо холодной, либо горячей водой, после чего усиленно тер голову, занимался гимнастикой; рой улетучивался лишь на время.
После лечения он намеревался навестить семью, которую удалось отправить к родственникам аж в Узбекистан. Но не выдержал, уговорил начальника санатория выписать его досрочно за неделю и махнул в Москву, прямо в штаб ВВС. В приемной начальника отдела кадров ему нежданно-негаданно посчастливилось встретить командира соседней дивизии генерала Алешина.
– А ты что здесь делаешь? – спросил генерал.
– Да вот пришел должность просить, – невесело ответил Омельченко.
– А что случилось?
Подполковник поведал свою нерадостную историю.
– Ну, это ты попал как раз под директиву Ставки ВГК по укреплению дисциплины в ВВС, – усмехнулся комдив. – Заместителем ко мне пойдешь?
У Омельченко даже в груди стало тесно. Не шутит ли генерал? Он отлично знал Александра Михайловича, не раз в начале войны вместе летали на боевые задания. Из таких передряг выходили, прикрывая друг друга.
– Если возьмете, – несмело произнес подполковник.
– Вот и отлично. Считай вопрос решенным.
5
15 мая 1944 г. Подготовка к перелету из Новочеркасска на аэродром Новозыбкова.
(Из летной книжки А.И. Туманова)Приказ о перебазировании Александр воспринял без радости. Освобождение Крыма от фашистов 12 мая вселило в него надежду на скорую встречу с Ириной. В крайнем случае получить от нее весточку. А теперь… Долго придется выяснять, куда перебросили полк, еще дольше будет идти туда письмо. И ей ничего не сообщишь – где она и жива ли? Но он надеялся. А личный состав полка готовился к перебазированию с приподнятым настроением, словно там ждали их родственники.
Александр ходил по самолетной стоянке, от самолета к самолету, интересуясь состоянием каждого бомбардировщика, – еще в январе его все-таки назначили заместителем командира полка, – и теперь он ответственен за все. 11 мая полк принимал заключительные удары по фашистам в Севастополе, сопротивление было неимоверное, и многие самолеты вернулись буквально изрешеченные осколками зенитных снарядов. На ремонт уйдет не менее трех суток.
Он заканчивал обход стоянки, когда дежурный по аэродрому передал ему приказ командира полка явиться в штаб.
«Не иначе пришло распоряжение ускорить перебазирование», – с неудовольствием подумал Александр.
Штаб располагался в школе, потеснив нескольких педагогов: в классах разместились оперативный отдел, фотолаборатория, секретная библиотека; кабинет командира полка (если это можно назвать кабинетом) приютился в учительской, отгородившись от преподавателей шкафами, что стало объектом безобидных шуток и острот в кругу летчиков.
Шагая к штабу, Александр обдумывал, как убедить полковника Шошкина (его, как и Александра, повысили в звании), человека не очень твердого по характеру, безропотно выполнявшего все распоряжения высшего начальства, отсрочить перебазирование. Хотя боевые действия на фронтах требовали сосредоточения всех сил на Белорусском направлении. С твердым намерением отстаивать свою точку зрения он и постучал в дверь кабинета.
– Войдите, – отозвался хрипловатым голосом Шошкин.
Александр открыл дверь и… остановился, остолбеневший и онемевший, увидев рядом с полковником Ирину в новенькой солдатской форме, здорово похудевшую, с бледноватым, но по-прежнему прекрасным лицом. И Ирина смотрела на него удивленными, широко открытыми глазами. Немая сцена длилась несколько секунд. Наконец-то бросились друг другу в объятия, прильнули друг к другу и, целуя в губы, щеки, в лоб, не стыдились слез, которые невольно катились из глаз.
– Вот видишь, какой подарок я тебе приготовил, – весело сказал Шошкин, поднимаясь к ним из-за стола. – И вздохнул по-молодецки: – Где моя молодость! Готовь, мой боевой заместитель, магарыч к вечеру, и прошу с невестой ко мне на квартиру. Не на чердаке же праздновать такую встречу!
Александр действительно поселился со своим штурманом Иваном Кубраком у одинокой старушки, жившей в ветхой, маленькой хатенке; но поскольку было уже тепло, летчик и штурман перебрались на чердак, где четырнадцатилетний внучек Федя накосил для коровы бабушки сена. Оно так чудодейственно пахло, так успокаивало, что авиаторы засыпали, едва коснувшись принесенных сюда подушки и одеяла…
Ирина! Не мечталось о таком и во сне не снилось! Его детство, молодость, прошлое и настоящее. Его радость и печаль, светоч жизни и губительное пламя. Если узнает Гандыбин об этой встрече, а он теперь генерал милиции, Александра не спасет ни высокая должность, ни звание Героя, которое недавно присвоено за боевые действия. Гандыбин докопается до всего – и до обвинения отца в якобы имевшихся связях с немецкой разведкой, и до подделки документов для поступления в летную школу. Только за последнее могут лишить всех заслуг… Но… прочь невеселые мысли! К нему приехала Любимая! Единственный оставшийся родной и самый дорогой ему человек.
Они вышли на улицу, Александр осмотрел ее с ног до головы. Спросил озабоченно:
– Как себя чувствуешь?
– Хорошо себя чувствую. Что, сильно изменилась?
– Есть немного. Но такая же красивая. Нет, стала еще прекраснее и желаннее.
– А как твоя спина? Все еще с корсетом?
Она помнила о его ранении. Милая Иришка! Чего стоит эта болячка по сравнению с той, которую он перенес в тридцать седьмом, в сорок втором, когда погибла Рита! Да и сколько было других, не менее опасных душевных травм. А поясница… Напоминает только при непогоде да иногда по ночам, когда снятся кошмары. Он обнял Ирину и поцеловал, не обращая внимания на проходивших мимо солдат. Ответил успокаивающе:
– Заросло как на собаке. Но корсет ношу еще. Для страховки.
Из штурманской комнаты вышел Иван Кубрак и с широко открытыми глазами направился к ним.
– Вот это командир! – воскликнул с веселым укором. – Я боевое сочинение готовлю, а он… Мы и в небе не встречали таких ангелов.
– Знакомься, – прервал его хвалебную тираду Александр. – Ирина – друг моего детства. А это – мой штурман…
– Князь Серебряный? – блеснула Ирина познаниями, вспомнив, как Александр с восторгом рассказывал о своем штурмане в Москве.
– Увы, – вздохнул Александр. – Это – Иван Кубрак. Князя Серебряного уже нет.
– Перевели в другую часть?
– Если бы. Погиб. И не в небе от истребителей или зенитных снарядов, а на земле, в нелепой и невероятной ситуации. Прибыл к нам с инструкторской работы капитан Федосов. Человек новый и чем-то сразу вызвавший у командира и оперуполномоченного недоверие. Не чем-то, а возвращением от линии фронта пешком, без самолета и без экипажа. Сбили, мол, приказал экипажу прыгать и выпрыгнул сам. Но вернулся один. Бывает такое. Дали другой экипаж И во втором полете повторилось то же самое. Проверили. Нашли сгоревший бомбардировщик недалеко от линии фронта. И членов экипажа в нем. Федосов уверял, что команду давал. Несколько раз. Почему не покинули самолет, не знает. Вот тогда и назначили к нему штурманом Князя Серебряного, уже отличившегося при разоблачении шпионской резидентуры в Краснодаре и отпрыска в нашем полку. Федосов вернулся из третьего полета тоже один. Вроде бы та же история. А через три дня явился и Серебряный. Первым его вопросом был: «Где Федосов?» – «В землянке», – ответили ему. Серебряный выхватил пистолет и туда. А навстречу – Федосов, уже слышавший вопрос и выстреливший первым, чтобы скрыть истину. Но не удалось, в конце концов признался, что страшно боялся обстрела и как только у линии фронта начинали бить зенитки, выпрыгивал из самолета. Экипаж, разумеется, не предупреждал. В последнем полете Серебряный, видимо, догадался, что самолет падает без пилота, дал команду по СПУ стрелкам покинуть машину и выпрыгнул сам. Вот такая история.
– Грустная история, – посочувствовала Ирина. – Были и у нас в отряде подлецы, и конец их такой же.
– Хватит о грустном, – взбодрился Александр и повернулся к Кубраку. – Давай, Ваня, к начпроду или к барыгам и достань хорошей выпивки и закуски, вечером идем к Шошкину в гости. А пока я поведу свою гостью в столовую – надо же накормить ее. Видишь, какая худющая…
– Кто же в гости ходит со своими харчами? – не согласился штурман. – У нас на Кубани…
– Это у вас на Кубани, давно было и неправда. Теперь другие времена и другие порядки. Достань во что бы то ни стало.
В столовой шефповар принял просьбу заместителя командира полка накормить девушку самым вкусным как приказ и выставил на стол макароны с мясом, кусок сала, творог, варенье.
– Спасибо, – поблагодарил Александр. – Ты не только отличный повар, ты и добрый, замечательный человек. Девушка такое и до войны, наверное, не едала…
После завтрака Александр повел Ирину на свой постоялый двор.
Старушка, хозяйка хатенки, увидев постояльца с красивой девушкой, всплеснула руками:
– Ах, какая пара! Когда-то и я была такой. – Она вытерла концом косынки глаза. – Только-то любовь моя считанные дни длилась. Война. Сел на коня мой суженый и сгинул где-то. До сих пор сердце по нем сохнет… Чем же вас угостить? Может, огурцы подросли. Пойду, посмотрю. Да и в погребке яблочки моченые сохранились. Блюла, блюла…
– Ничего не надо, – успокоил ее Александр. – Мы сейчас отдохнем, а потом в гости к командиру пойдем. Так что не беспокойтесь.
Старуха почмокала губами, то ли одобряя, то ли осуждая, отправилась по своим делам.
Александр повел Ирину к сараю. Предупредил:
– Не удивляйся. Но там такой аромат!
Ирина промолчала. Когда забрались на сеновал и она упала на разостланное одеяло, сказала с восторгом:
– Мечтала спать на перине, а здесь оказалось еще лучше. Такое волшебное благоухание! – Обняла его за шею и потянула к себе. Стала целовать в губы, щеки, в шею. – Какая я счастливая! Если бы ты знал, сколько я передумала и как люблю тебя.
Он отвечал на ее поцелуи, помогая раздеться…
Вечером у командира они вчетвером: Александр, Ирина, Шошкин и Кубрак – выпили две бутылки водки и бутылку вина, изрядно захмелевшие – добро полеты не предстояли, – проговорили до часу ночи. Расходились, как самые близкие родственники.
– Завтра можешь на службу не являться, – сказал полковник на прощание Александру.
– Отлично, – комментировал уже без него Александр. – В Ростов смотаемся, подарок тебе подберу.
– Не получится, – возразила Ирина. – Утром я уезжаю в Москву. Уже сутки просрочила предписание явиться в разведуправление, разыскивая тебя и добираясь до твоего аэродрома.
– Ничего, там тоже понимают, какие ныне дороги. – И вдруг понял, что там ее ожидает: – Новое задание?
– Наверное. Я же и немецким владею.
Он стиснул ее в объятиях.
– И где же мне тебя искать?
– В Москве. После войны, если удастся выжить…
Эпилог
Известие о победе и окончании войны Ирина встретила в Польше, где чуть менее года находилась среди польских партизан и подпольщиков. Не самые лучшие месяцы ее жизни. Она еще больше похудела, и желудок стал побаливать, чего бы она ни съела. Надо было срочно обращаться к врачам, что она и намеревалась сделать. И хоть ей не хотелось, а пришлось возвращаться в свою квартиру, где жил ее фиктивный супруг генерал Гандыбин: квартиру отца, после извещения о его гибели, отдали инвалиду-фронтовику. Еще в прошлом году, когда она приехала из Новочеркасска и появилась в своей квартире, поняла, что она не пустует. В холодильнике имелись довольно дефицитные в то время продовольственные припасы: колбаса, ветчина, рыбные консервы, филе осетрины и семги; бутылка дорогого коньяка. А в спальне – женские вещи. Значит, не один живет. Тем лучше, легче будет получить развод.
Она отдыхала после дороги, оказавшейся намного труднее и длительнее, чем рассчитывала. В разведуправление решила пойти утром следующего дня.
Вечером заявился Гандыбин, в генеральской форме, начищенный, наглаженный и под градусом – она от двери почувствовала коньячный перегар.
Он остановился в прихожей, удивленный и растерянный.
– Ты? – спросил после длительного молчания, словно увидел перед собой привидение.
– Не ожидал?
– Не ожидал, – признался он. – Узнал, что тебя выбросили к польским партизанам, но что ты останешься живой… Месяц прошел после войны, а о тебе ни слуху ни духу.
– Мы же еще в прошлый раз договорились о наших взаимоотношениях, – напомнила Ирина. – Теперь я буду здесь жить. Ты – большой начальник, и, думаю, проблем с жильем у тебя не будет.
– У тебя уже есть кто-то?
– Как и у тебя. Правда, у тебя по следам в квартире их не одна. А у меня один.
– Кто он?
– Летчик, Герой Советского Союза. Но главное не это – замечательный человек, добрый, порядочный.
– Ну а мы, – Гандыбин ткнул себя пальцем в грудь, – легавые, как называют нас урки и им подобные, – непорядочные, недобрые. Что ж, каждому свое. Но насчет квартиры не обольщайся, пока буду жить здесь. И тебе советую с разводом не спешить.
Квартира состояла из трех комнат, и Ирина ушла в самую меньшую и подальше от спальни. Днем она немного прикорнула, и теперь не спалось. Многое передумала, решила любыми путями добиваться развода. Бывший муж пытался в прошлом году взять ее силой и отступил лишь после того, когда она сочинила, что больна серьезной, опасной болезнью. Она и по виду была похожа на больную. Понятно, что приехала в Москву лечиться…
Встала рано утром и, не завтракая, отправилась в военный госпиталь Бурденко. Там работал знакомый полковника Душника, из разведуправления, который направил ее в разведшколу и с которым она созвонилась накануне, и тот посоветовал, куда и к кому ей обратиться.
Столица уже проснулась: стучали по стыкам рельсов трамваи, гудели машины и троллейбусы, в разные стороны спешили пешеходы. На фасадах домов, на витринах еще висели яркие плакаты и красочные панно о победе, радуя глаз и поднимая настроение. Ирина зашла в военторговское кафе и заказала чашку кофе с булочкой. Утолив голод, продолжила путь.
Рекомендованный Лушником врач, терапевт Шевцова, приняла ее приветливо и, расспросив о симптомах болезни, направила в гастроскопическую. Пройдя обследование и сдав анализы крови, Ирина отправилась домой, закупила по пути необходимое продовольствие. Она радовалась: врач сказал, что ничего страшного, боли от грубой пищи, коры, жестких трав и их корней. Выписал какие-то таблетки, рекомендовал диетическую пищу и отвары из ромашки и золототысячника.
Она торопилась домой. И не только из-за желания быстрее приготовить лекарства, где-то подспудно ее беспокоила мысль, что Гандыбин будет рыться в ее вещах, где хранится газета с портретом Александра и описанием его боевого вылета, в котором он потопил немецкий торпедный катер. Правда, она успокаивала себя: Гандыбин вырос до генерала и, наверное, не опустится до того, чтобы лазить по чужим вещам. Да и еще при ней он стал собираться в командировку.
К ее удивлению, Гандыбин находился в квартире, а на тумбочке лежала газета с портретом Александра.
– Ну и что твоя «опасная» болезнь? – со злой ехидцей спросил генерал, едва она вошла в комнату.
– Тебе-то какая забота? Твоей помощи не попрошу.
– Врешь ты все, сука. Темнила от меня. Узнал я твоего героя. Вспомнил, где видел эту рожу. Фамилию сменил, сынок врага народа. Ну, погоди, вернусь из командировки, развяжу этот клубочек. Не таких доводилось раскручивать.
У Ирины даже внутри все похолодело. Если Гандыбин откроет, кто такой Туманов, худо, очень худо будет Александру. Что же сделать, как ему помочь? Она готова была убить, прикончить этого мерзавца. У нее остался наградной дамский пистолет. Но убить человека… Она и в немцев стреляла с расстояния, когда жизни угрожала опасность… Пусть катит пока в свою командировку, может, она придумает что-то другое. В первую очередь сообщит о грозящей опасности Александру…
* * *
Гандыбин очень сожалел, что приходится уезжать в командировку, когда в руки попался такой ошеломляющий материал: сын врага народа сменил фамилию и пробрался в наши Вооруженные силы, в ВВС, стал полковником, Героем Советского Союза. Разумеется, с чьей-то помощью. Целый клубок вражеских агентов! Вот это будет дело! Но не поехать в Минск, где его будет ждать начальник, сам заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант милиции Сурепкин, он никак не мог. Начальник возвращается из Германии, куда был направлен сразу после Дня Победы, для ведения какого-то серьезного дела. С собой Гандыбин взял капитана Сережкина, покладистого и услужливого милиционера, исполняющего должность адъютанта.
До Минска из Москвы при хорошем движении ехать не более десяти часов. Война научила наших железнодорожников строго придерживаться графика. Поезд отходил в 17.30. Значит, при любых непредвиденных задержках утром они будут в Минске.
Гандыбин не ошибся: в шесть утра на вокзале их встретил адъютант Сурепкина полковник Рыбкин и повел не в город, а по путям в отдаленный тупичок, где стояло около десятка товарных вагонов с одним прицепленным пассажирским; вдоль состава расхаживал часовой с автоматом. Вагоны не наши, немецкие. В пассажирском находился заместитель министра, ожидая Гандыбина. По-приятельски пожал руки прибывших, пригласил в купе, где уже был накрыт стол, с коньяком, дорогими закусками.
– Располагайтесь. Не завтракали еще? Подкрепляйтесь и отдыхайте. Отправят нас только вечером. Состав с секретной дорогостоящей аппаратурой. Потому и вызвал вас. В Москве, как мне доложили, до сих пор орудует банда «Черной кошки». Что о ней можете доложить?
– Ничего нового, – пожал плечами Гандыбин. – Разрабатываем варианты. Думаю, в скором времени покончим с ней.
– Ну-ну. – Генерал-лейтенант открыл бутылку коньяка, наполнил рюмки.
– За победу. В Берлине мы хорошо отметили. – Выпили. Прибывшие и капитан Сережкин предпочитали слушать начальника, молча закусывали. – Никаких изменений, пока я отсутствовал, в ведомстве не произошло?
– Все тихо и спокойно, – ответил Гандыбин. – Надо прийти в себя после Победы. А работы, конечно, непочатый край. Проблема не только с бандой «Черной кошки». Засланных врагов осталось после войны – пруд пруди. – Но о Пименове-Туманове умолчал – лично займется этим делом…
Специальный поезд из столицы Белоруссии, как и обещал Сурепкин, отправился в 17.30. Гандыбин со своим адъютантом разместились в соседнем купе. Другие купе, как случайно установил Гандыбин, тоже пустовали. Точнее, не имели пассажиров, – были заполнены «секретной аппаратурой»: бытовой техникой, радиоприемниками, стиральными машинами, пылесосами, всевозможными фарфоровыми статуэтками, коробками с посудой, носильными вещами. Победители пересылали родственникам подарки…
В пути сопроводителей «дорогой техники» никто не беспокоил. В городах, на узловых станциях долго не задерживали, и состав катил в советскую столицу без всяких задержек и приключений.
С вечера компания снова отмечала День Победы, изрядно зарядилась коньяком и крепко уснула. Гандыбин проснулся от настойчивого стука в дверь вагона. Светало. Их вагон стоял как раз напротив вокзала. В свете от плафона Гандыбин прочитал: «Вязьма». Совсем близко Москва! Кого же принесло в такую рань в их специальный поезд, сугубо конфиденциальный вагон? Что-то, может, срочное, важное?
Начальника решил не будить. Поднялся и вышел в тамбур. Глянул в стекло. Около двери стояли полковник, майор и лейтенант.
Гандыбин открыл дверь. Спросил строго:
– В чем дело?
– Полковник КГБ Шустров, – представился полковник. – Нам срочно приказано прибыть в Москву. Но ближайших пассажирских поездов нет, и нам дежурный порекомендовал ваш. Разрешите? – полковник уже готов был подняться на ступеньки.
– Но, – неуверенно возразил Гандыбин, прикрывая дверь. – Не положено. Не пассажирский вагон.
– Да вы что, не понимаете?! – возмутился полковник. – Срочное задание! Сейчас же откройте дверь!
Гандыбин, наоборот, захлопнул и закрыл замок.
– Сейчас доложу старшему.
Сурепкин долго протирал глаза, никак не соображая, чего от него хотят. Гандыбин повторил настойчивость полковника.
– Полковник КГБ, говоришь? – переспросил Сурепкин.
– Так точно. Ему, видите ли, дежурный по вокзалу рекомендовал. Говорит, по срочному делу вызывают в столицу.
Сурепкин почесал затылок.
– Пусти. Хрен с ним, не помешает, – принял решение генерал-лейтенант. – Определи им место в купе у туалета, там, кажется, пусто.
– Есть!
Гандыбин на всякий случай поверх спортивного костюма, в котором спал, накинул генеральский мундир и пошел открывать дверь.
У кагэбэшников, кроме портфелей, никаких вещей не было, они ловко и быстро вскочили на подножки и молча прошмыгнули мимо генерала, не обратив внимания ни на его погоны, ни на начальнический вид.
– В последнее купе, – сказал им вдогонку Гандыбин и тут только подумал, что надо было бы проверить документы. Теперь было как-то неловко останавливать их. Махнул рукой – кагэбэшники, лучше с ними не связываться. Закрыл дверь и ушел на свое место. Сосед его издавал громкие рулады, ничего не слыша и во сне не предвидя, какие события развернутся вскоре…
Гандыбин начал было дремать, когда услышал, как открывается дверь купе. Он удивился – на всякий случай он закрыл ее на запор. Как же так? В проеме стоял майор, тот самый коллега полковника КГБ, держа в руках пистолет, направленный на него.
– Тихо! – сказал негромко, но властно. За его спиной, увидел Гандыбин, лейтенант тащил к двери радиоприемник. Понял: ограбление. Не раздумывая, сунул руку под подушки, где лежал ТТ. Но выстрелить не успел – майор опередил.
Гандыбин не сразу потерял сознание. Он видел и слышал, как майор связывал капитана Сережкина, его адъютанта, и обещал оставить в живых, если тот будет «паинькой», как заходили потом полковник и лейтенант, согласовывали, какие вещи брать. «Черная кошка», – только теперь запоздало догадался Гандыбин. Как он просчитался! И Пименов-Туманов останется безнаказанным. Он явственно появился в воображении, на своем самолете, подхватил Гандыбина и понес его в черную бесконечную бездну.
* * *
Ирине удалось связаться по телефону с Александром (полк, которым он теперь командовал, базировался в Новозыбкове) и намеками объяснить, что Гандыбин узнал в нем «сына врага народа» и намерен после командировки – в настоящее время уехал в Минск – предпринять разоблачающие действия.
– Хорошо, – сказал Александр. – Я завтра постараюсь быть в Москве.
– Может, мне обратиться к Меньшикову, Омельченко, они в столице, приглашены на Парад Победы, и все им рассказать?
– Не надо. Я сам все расскажу Василию Сталину. Мы познакомились, когда я получал звезду Героя. Разговорились и выяснили, что участвовали вместе не в одном воздушном бою.
– В таком случае жду. Позвони, когда приедешь…
Василий Сталин – это тот, кто поможет восстановить Александру его безупречную фамилию и справедливость, размышляла Ирина. Вот тогда не сдобровать самому Гандыбину. Василий, несомненно, доложит отцу, а Сталин и не таких за клевету ставил к стенке. Ежов вон каким монстром был, а не посчитались ни с его высоким положением, ни с прежними заслугами. И все-таки на душе было тревожно. Неопределенность всегда ее волновала, а тут судьба любимого. Без Александра она не представляла себе дальнейшую жизнь.
Разные мысли кружили ей голову, и чтобы успокоиться, она взялась за уборку квартиры. Телефонный звонок прервал ее занятие.
– Ирина Абдулловна Гандыбина, супруга Аркадия Семеновича? – спросил незнакомый мужской голос. Она растерялась и не знала, что ответить. Она уже не считала себя его супругой. Но не объяснять же незнакомому человеку.
– Да, – наконец неуверенно ответила она.
– Знаю, что вы мужественная женщина, и все-таки советую взять себя в руки. – Помолчал. – Я должен сообщить вам печальное известие, ваш супруг генерал Гандыбин погиб. Надо будет подъехать в госпиталь Бурденко, в морг, и опознать… тело.
Такое и во сне ей не снилось. Она чуть не воскликнула от радости: «Есть Бог на свете!»
– Хорошо, – поспешила она ответить. – Подъеду. – И опомнившись, что слово «хорошо» не к месту, положила трубку. Невольно глянула в окно. На улице светило яркое июньское солнце. Гомонили воробьи, а на подоконнике ворковали голубь и голубка, предвещая ей скорое свидание с любимым и безоблачную, счастливую жизнь.
Она поехала в госпиталь. Чтобы самой убедиться, что нет больше тирана Гандыбина. И, увидев его холеную физиономию, – пуля попала в грудь, в самое сердце, – снова невольно порадовалась. К ней подошел капитан в милицейской форме, представился:
– Капитан Сережкин. Бывший адъютант Аркадия Семеновича. Мы вместе ездили в командировку. На обратном пути, в Вязьме, на нас напала банда «Черная кошка». Меня и генерала Сурепкина только избили. Не знаю, за что пощадили. Может, за то, что не успели выхватить оружие.
Ирине снова в голову пришла народная поговорка – «Есть правда на земле, а на небе Бог!»
Она ожидала, что генерал Сурепкин, начальник и, видимо, друг Аркадия, захочет с ней поговорить. Но на другой день, приехав в госпиталь Бурденко на процедуры, услышала еще одно потрясающее известие: генерал Сурепкин застрелился. Беспробудно пил в госпитале, а потом пустил себе пулю в лоб. То ли не выдержал своего ротозейства, то ли жадность погубила – такое богатство проворонил! Ирина и к этой нелепой гибели отнеслась без сочувствия – у каждого свой рок.
Сноски
1
ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение связью.
(обратно)2
ШКАС – авиационный пулемет 7,62 мм.
(обратно)3
Блистер – остекленная кабина стрелка.
(обратно)





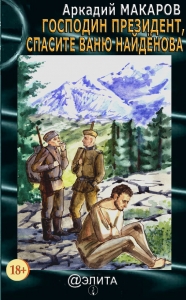




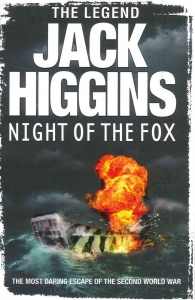

Комментарии к книге «Правый пеленг», Иван Васильевич Черных
Всего 0 комментариев