Михаил Алексеев ХОРОШИЕ МОИ ЛЮДИ… Документальные новеллы
КАЛМЫКОВКА
«В ознаменование нашего пребывания в деревне Калмыковка,
Кировоградской области, 2-й Украинский фронт.
25 января 1944 г. Ан. Дубицкий»Прежде чем поведать читателям, что означает сей эпиграф, я хотел бы сообщить нижеследующее.
Совсем недавно вышла моя небольшая книжка «Автобиография моего блокнота». Весьма скромная по размеру, непритязательная по содержанию, для меня она чрезвычайно дорога, потому что в ней документально зафиксирована часть пережитого и, увы, уже неповторимого. В предисловии я, между прочим, писал:
«У всякого уважающего себя и свое ремесло журналиста всегда при себе должен быть блокнот. Иные именуют эту измочаленную до полусмерти книжицу громко: „Моя творческая лаборатория“. Первую половину войны я не был журналистом и потому не нуждался в такой „лаборатории“. Необходимость в ней появилась лишь в июле сорок третьего года, когда совершенно неожиданно из артиллерийской батареи меня направили в „дивизионку“— крошечную газетку с воинственно внушительным названием „Советский богатырь“.
В ту пору я был моложе ровно на двадцать лет. Об этом думается с вполне понятной грустинкой, но что поделаешь! В данном случае имеется в виду совсем иное: очевидно, у двадцатитрехлетнего человека одно восприятие событий, у сорокатрехлетнего — совершенно другое. К тому же тогда ты видел только то, что видел, и видел все так, как было. Теперь же приходится вспоминать. А память, как известно, особа хоть и цепкая, все же не настолько надежная, чтобы мы могли довериться ей вполне.
Вот почему, принимаясь за эту книжку, я несколько дней потратил на то, чтобы разыскать блокнот, сослуживший мне добрую службу в работе над романом „Солдаты“.
Записи в блокноте, естественно, короткие. Немногое могли бы рассказать они стороннему человеку, которому бы вздумалось полистать блокнот. Но для автора эти торопливо, впопыхах брошенные два-три слова и есть тот самый толчок, который заставляет бешено работать вашу память и воскрешать тот или иной эпизод в полном и неповторимом его объеме».
Блокнот этот соорудил и подарил мне ответственный секретарь «Советского богатыря» Андрей Дубицкий, ныне здравствующий журналист из Целинограда, человек на редкость язвительный и на редкость же принципиальный и честный, — впрочем, о нем я достаточно подробно рассказал в документальной повести «Дивизионка». Дубицкий не случайно избрал деревню Калмыковку, чтобы подарить мне такое сокровище, каким является для журналиста блокнот. Именно в Калмыковке произошло событие, потрясшее «хозяйство имени первопечатника Ивана Федорова», как в шутку мы прозвали свою редакцию.
Разместились мы там, как обычно, в одном дворе. Печатная машина — в полуторке, а мы сами — в избе, вместе с ее хозяевами. У хозяев было два сына: старшему лет пятнадцать, младшему — десять. Младший— любимец матери и отца.
Однажды под вечер я возвращался из штаба армии, везя на подводе рулон бумаги. Повстречался с легковой машиной, ехавшей из Калмыковки. Увидел в ней начальника политотдела, прислонившегося головой к шоферу. «Уж не пьян ли полковник?» — мелькнула недобрая мысль. Однако вскоре все разъяснилось. Оказывается, на Калмыковку немцы совершили массированный налет и основательно разбомбили ее. Начподив был сильно контужен, и теперь его повезли в армейский госпиталь.
Пострадало и наше обычно веселое хозяйство. Хата сгорела. Хозяева ходили по двору как неприкаянные. Младший сын ревел. Старший молча, как делал все свои дела, отбирал среди обгоревших стропил которые покрепче и складывал их в одном месте. Только тихо и сердито посапывал.
Потом он оставил свои дела и совершенно неожиданно для всех нас спросил, обращаясь к Дубицкому, которого успел полюбить:
— А газета выйдет?
— Не выйдет, — ответил Андрей.
— Чому ж вона не выйдет?
— Разбило осколком печатную машину.
Никогда прежде я не видел, чтобы лицо хлопчика так мрачнело.
— А как же… як же… зараз? — растерянно пробормотал он.
— Попробуем починить, — сказал Андрей неуверенно.
Решили командировать меня в армейскую артмастерскую, что находилась в только что освобожденном нами Кировограде.
Иван — так звали старшего хлопца — попросил:
— Возьмите и меня с собою.
Снабдили его бумагой, из которой следовало, что он наш сотрудник, и мы отправились.
Ехал я в мастерскую с большим сомнением: до нашей ли машины будет артиллерийским мастерам, когда так много поврежденных орудий, автоматов и пулеметов? Но я ошибся. К приятному моему удивлению, два самых лучших мастера, не дожидаясь указания начальников, отложили все свои дела и двое суток кряду, без смены и почти без отдыха, мудровали над старой «американкой». Иван помогал им, так ни разу и не прикорнув за эти двое суток.
А на третий день, когда вновь вышел в свет наш «Богатырь», Иван схватил несколько свежих номеров и обежал с ними всю Калмыковку.
Андрей же Дубицкий, счастливый настолько, что не шпынял нас своими ядовитыми словесами, меня, видно, в знак особого расположения, одарил блокнотом с надписью, взятой в эпиграф этой заметки.
Почему вспомнился мне этот эпизод ныне, спустя так много времени? Вероятно, были ведь и другие, более яркие и более важные эпизоды?..
Конечно, были. Но то, как трудились артиллерийские мастера, восстанавливая нашу печатную машину, и как волновался далекий от журналистики украинский паренек в ожидании свежего газетного листа, показалось мне исполненным большого смысла.
Вот, собственно, и все.
ЛИСА
Ее поднял из пожухлого бурьяна августовским летом 1942 года непривычный гром — сухой, без радующей слух и обоняние свежести, пахнувший прямо в ноздри нестерпимо вонючим дыханием, вызвавший у земли лихорадочную дрожь. Лиса, хитрая и осмотрительная при всех превратностях звериной своей судьбы, на этот раз подскочила и понеслась куда глаза глядят, лишь бы оказаться подальше от этого грома, от этой вони, в одно мгновение уничтожившей все другие запахи степи: и горько-полынный, и душно-горьковатый от засохшего осота, и терпкий — от чебреца, и сладостно-грустный — от повянувшего бессмертника, и кислый, манящий — от притаившейся где-то поблизости куропатки или же стрепета. Облинявшая за лето, жутко некрасивая, с голым длинным хвостом, только на конце сохранившим клок спутанной репейником шерсти, она скакала и скакала, пока не оказалась на вспаханном под пары поле, где и увидели ее солдаты, отходившие от Абганерово к Сталинграду. Казалось бы, им не до лисы. Измотанные до последней степени страшными боями, потерявшие в этих боях очень многих своих товарищей, обстреливаемые буквально со всех сторон, они все вдруг радостно заорали:
— Лиса! Лиса!
И залюлюкали, и затикали, хохоча и хлопая в ладоши, как это всегда бывает с людьми, когда в поле их зрения попадет зверь и когда в отношении этого зверя у людей нет недобрых намерений. Один из бойцов, впрочем, встал вдруг на колено, изловчился, вскинул винтовку и начал было целиться в лису, но на него закричали, заматерились — и теперь уж не беззлобно, а с какой-то яростью, сердито, свирепо:
— Отставить, Колупаев!
Колупаев приподнялся, конфузливо и виновато оглядываясь. А лиса, подстегнутая и этими криками, и разорвавшимся поблизости снарядом, наддала, а вскоре и вовсе скрылась в балке, каких так много в донских степях.
Месяцем позже, пробираясь по-пластунски на свою огневую позицию, выбранную им на «ничьей земле», снайпер Колупаев увидал лису. Она была убита недавно — еще не совсем остыла кровь на кончике длинного, высунутого языка, еще не совсем погас свет в дремущем прижмуре ее глаз.
Колупаев трое суток кряду оставался на своем тайном огневище. В нем с какой-то новою силой пробудилась охотничья страсть. Только охотился он теперь не на зверя.
Впрочем, тот, в кого он посылал пулю за пулей, был страшнее зверя…
СТАРЫЙ СНИМОК
На снимке, справа — я, капитан Алексеев, а слева— мой товарищ, капитан Борис Зильберов. Сфотографировал нас кто-то — убей, не могу теперь вспомнить, кто был тот фотограф — в один из апрельских дней 1945 года в Словакии, на берегу реки Морава.
Фоторепортера не помню, а вот что с нами приключилось в тот день, мог бы припомнить во всех подробностях, во всех, как говорится, деталях.
На той же фотографии видна колонна нашей боевой техники. Она направляется к парому. Было это утром. На правом берегу Моравы шел бой. А к вечеру того же дня было вот что… Но тут мне придется взять одну страничку из моего романа «Солдаты» и воспроизвести ее — надеюсь, мне простят такую вольность: цитата придется впрок.
«Ванин, воспользовавшись попутной машиной, мчался обратно к реке, навстречу двигавшимся вперед нашим войскам. Разведчик вез в штаб армии пакет. Его спутниками были два корреспондента армейской газеты, с которыми он познакомился еще во время пребывания в госпитале. На трофейной „татре“ они спешили в редакцию, чтобы оперативно поместить в газете материал о подвиге солдат Фетисова. Семен не знал, что в пакете, который он вез, находились наградные листы на всю роту во главе с ее командиром — младшим лейтенантом Владимиром Фетисовым.
Однако переправиться на левый берег было не так-то легко. Паром перевозил в первую очередь раненых и поврежденную технику. Лица журналистов вытянулись. Корреспонденты хотели было обратиться к начальнику переправы, но Сенька отсоветовал делать это, уверяя, что такая попытка наверняка кончится провалом. Хитрость разведчика спасла положение. Ванин быстро сориентировался в обстановке. В его голове немедленно созрел план: переправить журналистов под видом тяжелораненых. Изложив свой замысел, он получил согласие действовать. Журналисты легли в кузове „пикапа“. Ванин накрыл их шинелями, валявшимися на дне кузова, и приказал тихонько стонать, а если станут проверять — стонать как можно жалобнее… Сам он забрался в кабину, дал газ и тронулся к парому вслед за санитарной машиной.
Перед самым паромом его задержал сапер.
— Кого везешь?
— Не видишь, раненых, — грубовато ответил Семен.
— Чернов, проверь! — крикнул кому-то сапер. — Может, врет он…
Ванину стало тоскливо: этак могут и по шапке надавать…
Однако в кузове, как по команде, раздались дружные стоны, выражавшие крайнее страдание. Высокий солдат в маскхалате, должно быть, Чернов, махнул рукой:
— Раненые.
И „пикап“ Семена проскочил на паром.
План удался. За это корреспонденты угостили разведчика доброй чаркой коньяка после того, как он отнес пакет в штаб. Расстались они друзьями».
Теперь остается лишь добавить, что теми журналистами были мы, корреспонденты армейской газеты «За Родину» Борис Зильберов и Михаил Алексеев. В приведенном выше эпизоде поступок их мало походил на героический, но зато о настоящих героях того памятного дня было рассказано вовремя и рассказано не кем-нибудь другим, а ими. А ведь это было уже на самых ближних подступах к Победе.
ОТГОНИ ОТ СЕБЯ БОЛЬ И СОСТРАДАНИЕ
На первой странице моего объемистого блокнота, предназначенного для чехословацких заметок, написано: «По возможности побывать в городах Микулов, Косова Гора, Лученец, Нитра, в селах Камендин и Модры Камень — отыскать могилу Воронцова и Ходжаева».
Так написано. Ну, а ежели говорить начистоту, я, в сущности, тут определил главную цель моего путешествия в Чехословакию. Любезное приглашение побывать в гостях у сотрудников журнала «Кветы» оказалось великолепным для того поводом. Некогда пройдя дорогою войны и, по счастью, оставшись живым и невредимым, ты непременно захочешь пройти по той же дороге и в дни мира. Желание это посетит тебя тотчас же после долгожданной победы и не покинет до конца дней твоих. Оно может исполниться и не исполниться, но надеяться на такое путешествие, с нетерпением великим ждать его изо дня в день, из года в год ты будешь всю жизнь.
Ждал и я. Ждал очень долго — без малого два десятка лет.
Мои гостеприимные хозяева быстро внесли необходимые поправки в первоначальный маршрут, так что я смог побывать почти во всех городах и селениях, упомянутых мною выше. Скажу наперед, что побывал я и во многих других местах этой милой, славной страны и в свое время более подробно расскажу о своих впечатлениях. Сейчас же речь пойдет лишь о нескольких эпизодах, так или иначе связанных с окончившейся двадцать лет назад войной.
Микулов
«Старинный город стоит почти на самой границе Чехословакии с Австрией. Древний замок возвышается над ним, бросая на землю, на деревья мрачные зубчатые тени. Ветер жутко свистит в бойницах его башен.
Перебив ночью сонных немецких часовых, наши солдаты пробрались в замок. Теперь ребята осматривали это сооружение.
В зале, где в давние времена один завоеватель подписывал акт о капитуляции своего противника, бойцы задержались.
— А капитуляция была безоговорочной? — полюбопытствовал Ванин, обращаясь к Акиму.
— Тогда, кажется, и слова такого не было, — ответил Аким.
Между тем Ванин развалился на железной ржавой кровати, на которой, как свидетельствует мемориальная дощечка, почивал завоеватель, и с подчеркнутой развязностью задымил сигаретой.
— Аким, я похож на Бонапарта? — спросил он.
Аким промолчал. Он вспомнил про Наташу и загрустил…
Ванин, очевидно, поняв состояние друга, оставил его в покое, обратился к Никите, перечитывавшему уже, кажется, в десятый раз письмо отца. Толстые губы Пилюгина шевелились. На обожженном ветром лице солдата была скупая, робкая улыбка.
— Никита, удели мне внимание, оставь письмо-то.
— Что? — не понял Никита и заморгал глазами.
— Похож я на Наполеона, как ты думаешь?
— Хорошо, что не похож…
Из города поднялся в замок Пинчук. Он забрался на башню и водрузил там свой неизменный флаг, уже порванный в нескольких местах и полинявший.
— Хай усе бачуть, що мы идэмо!
Семен присел, разулся и, свесив ноги, стал нежно гладить их руками.
— Ну ж и потопали вы, друзья мои самоходные! Нет на вас ни одного нетронутого местечка. Ничего!.. Коли надо будет, еще столько прошагаем!.. Куда хочешь дотопаем, хоть на край света! — Зеленые глаза его вдруг потеплели, голос дрогнул. — Дойдем».
Так писал я о взятии микуловского замка в одной из своих военных книг. Мне и самому довелось вместе с разведчиками нашей дивизии вступать в него не то апрельской, не то майской ночью 1945 года. А перед тем замок этот, который был одновременно и крепостью, несколько раз штурмовал один из наших батальонов, но безуспешно. Многие советские солдаты пали на его подступах, у его древних стен. Пали всего лишь за несколько дней до Победы…
И вот спустя двадцать лет вместе с сотрудницей чехословацкого журнала «Кветы» Любишей Секеровой я вновь подымаюсь по узкой каменной лестнице в замок. Два десятка лет не прибавили ему старости. Замок словно бы помолодел. Разрушенные и полуразрушенные стены и башни его восстановлены, заново оштукатурены и даже побелены. Отовсюду слышатся девичьи голоса: тут теперь женская не то школа, не то мастерская. По длинному гулкому коридору бежала светловолосая и светлоглазая девчушка лет этак семнадцати. Моя спутница остановила ее и попросила провести нас по замку. Та охотно согласилась. Когда осмотр был окончен, девушка подвела нас к большой схеме, висевшей во всю стену, от пола до потолка. Отлучившись на минуту, она принесла лесенку и длинную указку, похожую на бильярдный кий.
— Это мы сами нарисовали, — не без гордости сообщила девушка.
Оказалось, что тут был изображен момент взятия замка советскими бойцами. Мы молчали, а наш юный стратег, как заправский военачальник в штабе какого-нибудь воинского соединения, с редкостным знанием предмета и тогдашней обстановки начала во всех подробностях рассказывать нам о событии двадцатилетней давности. Вот отсюда, говорила девушка, советские солдаты пошли на первый штурм. Отсюда стреляли немецкие пулеметчики и артиллеристы. А вот по этим лестницам ночью пробрались русские разведчики… От возбуждения она раскраснелась, светлые волосы растрепались, рассыпались по лицу, она то и дело отбрасывала их рукой и все говорила и говорила о том, как взята была крепость…
Мы поблагодарили и распрощались. Я уже направился к выходу, а Любиша Секерова немного задержалась. Оглянувшись, я увидел, что они о чем-то шепчутся. А в следующее мгновение девушка, красная от смущения, со счастливыми слезинками на светлых ресницах, стремительно подбежала ко мне, чмокнула в щеку и с такою же стремительностью побежала прочь от меня по длинному коридору, оглашая его своим звонким голосом.
Она только сейчас узнала, что рассказывала о подробностях боя одному из его участников. Глядя на ее маленькую, быстро удаляющуюся фигурку, я подумал в ту минуту: «Если б не было у меня на земле других волнующих встреч, то ради одной этой стоило бы приехать в страну, навеки ставшую родной и близкой».
Камендин — Каменин
Может быть, более всего мне хотелось побывать в этом селе. Часами мы склонялись над картой Чехословакии, отыскивая его. Я говорю «Камендин», а хозяева решительно утверждают, что нет такого в их стране. Я называю реку Грон, к которой прижалось памятное многим моим однополчанам селение, шарю пальцем по тонкой синей линии, но Камендина не нахожу, и на меня уже смотрят недоверчиво: не перепутал ли? Но погодите ж, а это что, Каменин? Это же словацкое название Камендина! Мы радостно хохочем, а уже через час в дороге, в сердце моем сызнова поселяется тревога: а вдруг не то? От Братиславы до Каменина сотни верст — не ближний свет.
О сомнениях своих, однако, помалкиваю: что будет, то и будет.
Но вот еще издали узнаю очертания большого села, острой занозой засевшего в памяти моих фронтовых побратимов — тех, разумеется, кто остался живым после трагедии, разыгравшейся в районе доселе неведомого населенного пункта. Здесь сложили свои головы командир моего полка полковник Ходжаев, зам полит подполковник Воронцов и много других солдат и офицеров нашей дивизии; многие дошли сюда из-под самого Сталинграда, многим было присвоено звание Героя Советского Союза за Сталинград, за Курскую дугу, за Днепр, за Днестр, за Прут, за Тиссу, но никому за Грон, хотя после Волги и Днепра тут были, пожалуй, самые тяжкие для дивизии бои.
72-я гвардейская дивизия форсировала Грон с ходу, заняла село Камендин и в пяти-шести километрах за ним освободила оборону. Было это в конце декабря 1944 года, а в конце января 1945-го гитлеровцы, стремясь спасти Будапешт, обрушили на нас огромные бронетанковые силы. Две недели шли кровопролитнейшие бои, такие, каких уже давно не видывали гвардейцы. Может быть, их осталось бы в живых больше, отойди они во время боев за Грон на исходные свои рубежи. Но к тому времени гвардейцы уже отвыкли отступать… Их окопы, артиллерийские и минометные позиции, пулеметные ячейки, воронки от бомб и снарядов оказались для них одновременно и крепостью и могилой.
Двадцать лет минуло, а стены многих домов, точно оспой, исковырены осколками. Ищу дом, где помещался наш штаб. Вот и примета — церковь, против которой стоял тот дом, точно против церкви. Примеряюсь, оглядываюсь — пусто против церкви.
— Сгорел, — подсказывает кто-то по-русски.
Вздрагиваю от знакомого голоса.
— Мартин, ты?
— Я, товарищ капытен!
Он стоит рядом со мной и плачет. Я еще креплюсь, но что-то заслонило дыхание. Вот он, наш милый Мартин, наш толмач, наш переводчик, воевавший вместе с нами под аккомпанемент орудийного грома: «Броня крепка, и танки наши быстры».
Я и теперь не знаю, где, когда и при каких обстоятельствах Мартин Рак, в ту пору молодой солдат, по доброй воле своей оставивший службу в хортистской армии, обучился русскому языку, но это был единственный житель Каменина, который помогал нам в общении с местным населением. Сейчас он член кооператива, немного постарел, но глаза его не утратили прежней живости.
Не улеглось еще наше волнение, как Мартин, а вслед за ним Янкуш Радован (во время боев ему было 17 лет), по должности нечто вроде председателя сельского Совета, высыпали на мою голову кучу цифр, будто бы я для того только и приехал, чтобы узнать, что в Каменине нынче проживает 1900 человек, что кооператив создан в 1958 году и что в кооперативе этом 1700 гектаров пахотной земли, что в 1961 году построили школу-девятилетку на 500 учеников, а также хлебопекарню и 150 новых жилых домов, что в кооперативе теперь на фермах 1200 свиней и 690 голов рогатого скота, а после войны, точнее, в сорок пятом году, оставалось всего-навсего 5 коров. А потом столовая для престарелых, опять же детский сад…
Не за цифрами я ехал. Это правда. Но отчего же и они так волнуют? Ответ я нашел немного позже, в Братиславе, в словах, высеченных на граните памятника павшим советским воинам:
«Ты, который приходишь сюда, отгони от себя боль и сострадание; пусть капли слез твоих не стучат о могилу. За гордость человека, за счастье людей живущих, за твое ясное лицо мы приняли смерть».
Потом мы поехали за Грон, на высокую гору. Отсюда далеко видны поля, которые когда-то были одним сплошным полем кровавой сечи. Расположились на самом лобном месте; из бункеров, служивших нам в ту далекую пору блиндажами, старики принесли густое вино цвета крови — той самой крови, которой так щедро была окроплена земля, где теперь раскинулись виноградники. С горы я показал дерево над самой рекой, возле которого когда-то вошел в ледяную воду, чтобы переправиться на другой берег.
Мартин поправил меня:
— Не у этого, а вон у того дерева вы переправлялись.
Я вспомнил, что первым человеком, которого я встретил в Каменине, был и тогда не кто иной, как Мартин.
Благословенна память друга!
Косова гора
Не знаю почему, но именно я повысил в звании это крохотное селеньице, окрестив его городом. На решительное заявление Иржи Лукаша, Любиши Секеровой и других сотрудников журнала «Кветы», что в Чехословакии нет и никогда не было такого города, я с не меньшей решительностью стоял на своем: есть! В доказательство приводил тот несомненный факт, что не только сам участвовал в освобождении этого города, но и встретил в нем 9 мая — первый день Победы. Мы сменили много карт, отыскивая мой город, и только на одной из них в районе Прибрам обнаружили точечку, столь крошечную по величине, что простым глазом ее не вдруг и увидишь — надобно было вооружаться увеличительным стеклом. И вот рядом с этой-то точечкой такими же малюсенькими буковками было начертано: Косова Гора.
Это совсем недалеко от Праги. Меньше часа езды на автомобиле. Въехали сразу на площадь, которая в сорок пятом казалась мне чрезвычайно просторной, а сейчас до того малой, что и площадью-то ее нельзя назвать без риска погрешить против истины. По форме она все та же, только появились высокие деревья, которых прежде не было, — выросли за минувшие годы.
И опять встречи. Вот Милош Блажен, школьный учитель, в доме которого 9 мая 1945 года мы остановились на постой; вот учительница Блажена Весела, за двадцать лет она постарела, стала совсем-совсем седой, а глаза счастливые, блестят так же, как тогда, в те далекие дни, когда по вечерам она читала нам по-русски стихи Владимира Маяковского; а вот и дом с высоким забором, мимо которого каждое утро я шел на службу.
Меня, кажется, и тут узнали. Старушка подходит вплотную и, показывая мне на высокий забор у своего подворья, о чем-то хочет спросить. Я долго не могу понять, о чем она. Наконец переводчик помогает.
Старушка спрашивает, помню ли я ее петуха, который каждое утро взлетал на забор и, встряхивая крыльями, горланил на всю Косову Гору.
Я вспомнил. Это был петух-красавец. Черный, обсыпанный серебром и златом, огромный, он всякий раз вызывал мое восхищение. Я останавливался у забора и долго любовался этим добрым молодцем. Хозяйка — она не была тогда еще старухой — видела это и радовалась за своего петуха.
Тогда мне не приходило в голову, отчего это я так любуюсь, в сущности-то, обыкновенным петухом. Вот теперь только, кажется, можно найти тому объяснение. Вероятно, на протяжении всей долгой войны можно было бы не раз услышать пение петухов, но почему-то и сейчас не могу вспомнить, что я когда-нибудь обращал на это внимание. Петуха в Косовой Горе я услышал в первый день мира, и это радостно поразило меня, как и все, что нас тогда окружало.
Не потому ли и крохотная деревушка по имени Косова Гора показалась мне в ту пору большим городом: в счастье человек склонен к преувеличениям, как, впрочем, и в горе своем.
Но то было преувеличение от огромного счастья.
До свидания, Косова Гора, мы еще с тобой увидимся непременно.
До свидания, милая страна, в которой двадцать лет назад я был на двадцать лет моложе…
До свидания…
КТО ОН?
I
История, которую я собираюсь поведать, продолжалась ровно десять лет, а началась у истоков пятидесятых годов в Москве, в один, как говаривали в старину, прекрасный солнечный день. Я мог бы употребить такое выражение и без иронического оттенка, долженствующего указать на литературный штамп. Для старшего лейтенанта Андрея Платинова тот день был действительно и прекрасным и солнечным. Если вам после долгих и многих лет ожиданий посчастливилось однажды получить ордер на отдельную двухкомнатную квартиру в совершенно удивительном районе столицы, вы легко поймете его.
Почти весь день ушел у Андрея на хлопоты до того понятные, что на их описание не стоит тратить и слов. Приятные, скажем прямо, хлопоты, такие, какие бывают, может быть, еще у жениха и невесты в канун свадьбы. Или, лучше сказать, у плотника, когда он сделает последний удар топором и увидит, что вещь удалась на славу, и когда от доброго усердия все жилы и все мускулы в твоем теле натягиваются струной и поют. Тут не хочешь, а улыбнешься, не хочешь, а вымолвишь со сладостным придыханием: «Экая благодать!»
Как только все было расставлено по своим местам, жена ушла к незнакомым еще соседям, неделей раньше справившим новоселье, чтобы получить у них сведения первейшей необходимости. Ее интересовал, конечно, продовольственный магазин, затем прачечная, химчистка, аптека, ателье, ну и прочее. Оказалось, что все это близко. Жена довольна. Соседи, как заключила жена за время своего десятиминутного знакомства, — люди ангельского характера. Чего ж еще желать! Теперь Андрей мог подумать и о себе. В первую очередь захотелось побриться. Приготовил было безопаску, но рука дрожала: сказывалось физическое перенапряжение. И он отправился на поиски парикмахерской — великолепный предлог совершить прогулку по новому району города.
Была середина апреля. Река только что вскрылась и несла на себе тяжкие глыбины льдин. Они с шумом протискивались меж каменных берегов, сердито урчали, теснясь и наползая одна на другую в более узких местах под мостом. На многих дрейфовали разные вещи, как-то: порванная труба от пылесоса, обломок лыжи, оконная рама от какого-то старого московского дома, прекратившего свое земное существование на радость таких же вот, как Андрей. На одной льдине, особенно бойкой и шустрой, лихо мчался вниз по реке плюшевый мишка с оторванным правым ухом; по соседству с ним, и из того же материала сотворенная, беспечно примостилась собачонка, лишенная хвоста и обеих задних ног, хвост, впрочем, лежал тут же, неподалеку, на льдине. Были мореплаватели и живые. На одном из ледяных плотов суетилась черно-белая кошка, отчаянно мяукала, прося помощи; по берегам, по сю и ту сторону реки, бежали мальчишки, кричали, очевидно подавая кошке разумные советы, которым она не внимала. На другом сидела ворона и терзала что-то, нимало не опасаясь за свое ближайшее будущее: угрюмой этой вещунье ничто не мешало вспорхнуть, когда ей заблагорассудится. Так же хорошо чувствовала себя тихая парочка, умостившаяся на крохотной льдинке, вертевшейся волчком среди громадин, готовых растереть ее в порошок, — парочкой этой были утка и селезень, прилетевшие на реку с искусственных водоемов при зоопарке и теперь направлявшиеся бог весть в какие края, может быть, к большим озерам, где родились их вольные предки. Садились на плывущие льдины и чайки, но они были непоседы, то и дело снимались и кружились над кипевшим водоворотом с резким, гортанным криком, от которого почему-то даже в городе, среди многолюдья, тебе делается зябко и одиноко, хочется поскорее куда-то бежать, пожаловаться кому-то на что-то неясное, но остро саднящее.
Во всяком случае, Андрею более уже не хотелось стоять у набережной, и он поспешил вверх по узкой улочке, выходящей на большую, широкую улицу, начинающуюся у Крымского моста. Там-то и отыскалась парикмахерская. В маленькой прихожей в два-три квадратных метра старичок-гардеробщик, тоже маленький, помог Андрею снять шинель, улыбнулся при этом дружески, хорошо как-то улыбнулся, и неожиданно спросил:
— Как ваш сынок?
Вопрос застал Андрея врасплох и задан был с таким трогательным участием и с такою добротой, что Андрей на какую-то долю минуты растерялся. Ему бы сказать милому старичку, что тот ошибся, что у него, Андрея, нет и никогда не было сына, что вообще нет детей, и все бы обошлось как надо: вежливый гардеробщик, сославшись на слабеющую к старости память, извинился бы, и Андрей, в свою очередь, охотно извинил бы его. И делу конец. И все бы пошло своим чередом, и не было бы истории, о которой упомянуто в начале нашего повествования. Но Андрей не сделал того естественного, что надо было бы сделать. Потому ли, что не хотелось разочаровывать старика, вводить его в смущение, или потому, что в тот день вообще надо было всем людям говорить только приятное, только то, что им хотелось бы слышать, — в общем, не знаю почему, но на вопрос старика Андрей так же вежливо ответил:
— Благодарю вас, дедушка. Сынок растет. Осенью в школу.
— Ну и слава богу. В первый, стало быть, класс?
— В первый, — подтвердил Андрей и только сейчас почувствовал, что уши начинают гореть, а глаза наполняются теплой влагой. «Да что же это такое? Зачем я лгу?» — подумал он в ужасе, не зная, как выпутаться из западни, которую сам же для себя и расставил.
Старик между тем продолжал:
— В какую ж думаете определить? Я бы советовал в пятьсот тринадцатую. Учителя, вишь, больно хороши.
— Да вот и мы хотели…
Однажды солгавши, Андрей продолжал лгать и далее, нетерпеливо поглядывая на мастера, который ранее других освободится и примется за него. Теперь Андрей уже боялся, что старик в конце концов назовет его чьим-то чужим именем, и Андрею ничего не оставалось бы, как присвоить это имя себе. К счастью, кресло освободилось, и наш клиент скорехонько угнездился в нем, все еще испытывая легкое раскаяние, как испытывает его человек, совершивший хоть и небольшой, но все же грех. «На одевание, — думал он, — уйдет не более полминуты, а за полминуты не разговоришься. А ежели он опять заговорит, то непременно скажу… скажу, ежели он даже и не заговорит… скажу, что он ошибается, что нету у меня никакого сына». Бритье окончилось скорее, чем хотелось Андрею. Старик со своей располагающей, предупредительной и предобродушной улыбкой остановил его у выхода и, прежде чем подать шинель, большой, слегка замасленной щеткой начал тщательно смахивать разные пылинки да волосинки с кителя Андрея и, разумеется, делал это не молча.
— Зовут-то как вашего сынка?
— Ванюшкой, — почему-то немедленно ответил Андрей, забыв о принятом решении сказать старику правду.
— Иван, стало быть? Славное имя…
Старик внезапно осекся, тяжелая щетка вырвалась из его рук и громко стукнулась об пол деревянной своей частью. Старик нагнулся, чтобы поднять ее, а когда разогнулся, Андрей не узнал его лица. Морщинистое и прежде, теперь оно сморщилось еще больше, странно изменившись, и по этим морщинам, особенно частым у глаз, точно по желобкам из невидимого родничка, во все стороны покатились, теряясь где-то в густых зарослях седой бороды, торопливые слезы. Пряча их от Андрея, старик подал шинель с фуражкой и отвернулся.
Андрей вышел, решив про себя, что больше никогда не придет в эту парикмахерскую, а будет бриться дома или уходить куда-нибудь подальше, на другую улицу.
II
Сдержанный в отношениях к жене, в тот день Андрей был необычайно ласков с Анной Антиповной. Таким он бывал всякий раз, когда малость провинится перед ней. Сейчас вина его — и это он хорошо чувствовал — была большей, словно бы он изменил ей. Вот бы взять, да и сказать тому старому чудаку, что никакого Ванюшки у них с Анной Антиповной нет. Однако не сказал. Теперь терзайся, прячь глаза, хитри…
Брился Андрей через день, и через день пошел не куда-нибудь еще, а в ту самую парикмахерскую. В этот раз он твердо решил снять неприятный груз со своей души. Денек был теплый, и дверь в парикмахерской была раскрыта настежь. Старичок стоял на улице и улыбался всякому, кто оказывал малейшее намерение заглянуть в его заведение. Андрея он встретил как старого знакомого. Засветился весь и поздоровался прежде, чем Андрей подошел к нему. Вешая фуражку, дедушка сообщил как нечто очень важное теперь для них обоих:
— Вчера в ЦУМе видал хорошенькое пальтецо. Прямо на вашего Ванюшку. И не особенно дорого. Ежели вам неколи, я сам схожу и куплю. Работаю я через день. Завтра слободный. Делов у меня все равно никаких нету. Так что могу…
— Зачем же, дедушка? Не беспокойтесь, пожалуйста. Послезавтра я сам схожу туда.
— Нет уж, вы там ничего без меня не найдете. Пойдемте вместе. И не послезавтра, а завтра. Федосей Осипович не любит откладывать такие дела, — сказал он с очевидной целью сообщить Андрею свое имя и тем самым сделать на пути их знакомства еще один шаг. Андрею ничего не оставалось, как согласиться с Федосеем Осиповичем, а заодно таким же, непрямым способом, назвать и себя.
С этой минуты их было уже трое: Федосей Осипович, Андрей и Ванюшка. На следующий день, в шестом часу вечера, старик и новый его знакомый отправились в ЦУМ. На Крымской площади спустились в метро, а на Пушкинской улице вышли из него. Мимо Большого театра — к магазину. Расстояние тут совсем малое. Три-четыре минуты, ну, может, пять, учитывая московскую толкотню, — и вот он, ЦУМ. Федосей Осипович успел, однако ж, заметить, что на месте, где еще несколько дней назад орудовал своими щетками старый айсор-чистильщик, появился книжный киоск, на углу Кузнецкого моста и Петровки достраивается новое кафе, и еще и еще что-то там приметил Федосей Осипович. Пальто, которое они купили за пять сотенных, тоже было новшество. Месяц назад не было «ни такого фасону, ни такого материалу».
Распрощавшись со стариком и поблагодарив его, Андрей сел на такси и помчался прямо к своему приятелю, у которого был сын Санька. К счастью, пальтецо парнишке очень показалось.
III
Теперь Андрей уже и сам понимал, что странная эта игра зашла слишком далеко, чтобы можно было остановить ее. С помощью Федосея Осиповича он раздобыл все учебники для первого класса, старик позаботился о тетрадках и о карандашах, и о пенале, и о непроливной чернильнице, чтобы Ванюшка не мог испачкать форменного костюмчика, тоже приобретенного не без содействия Федосея Осиповича. Учебники, тетрадки, пенал, карандаши, портфель и форменку пришлось сбыть тому же Саньке.
Федосей Осипович уже несколько раз приглашал Андрея к себе в гости. «Хорошо бы вместе с супругой и сынком», — добавлял он к своему приглашению, но Андрей под разными предлогами отказывался. То у Ванюшки грипп, то он, Андрей, занят, то школьное родительское собрание, то собрание на службе, то еще чего-нибудь. Между тем Андрею очень хотелось побывать у старика и поглядеть, как он живет-может. И все-таки Андрей отказывался. Он не отказался и не придумывал бы разные причины своих отказов, но понимал, что в таком случае ему и самому пришлось бы пригласить старика к себе в гости. А это означало конец всей истории, конец Ванюшки, в которого Андрей начинал уже верить, точнее, не верить, а для него стал уже необходим, потребен этот сладкий обман. Он мог бы, конечно, предупредить жену, рассказав ей всю историю, но, во-первых, она могла бы обидеться, в душе-то она давно считает, что не дала мужу того, чего он ждал от нее более всего на свете, то есть детей, и от этого сама потихоньку страдала. Андрей все видел, все понимал и теперь не хотел, чтобы она страдала еще больше; во-вторых же, и это самое главное, он не хотел вовлекать в эту мистификацию еще и жену.
IV
Ванюшка между тем рос. Пошел он и в первый, и во второй, и в пятый, и в шестой, и в седьмой класс. Андрей Платанов — теперь он был уже майором, — приходя в парикмахерскую, делал для Федосея Осиповича подробнейшие отчеты о поведении Ванюшки, о его отметках, обо всех его детских радостях и печалях. По случаю принятия Ванюшки в пионеры у Андрея и Федосея Осиповича было даже маленькое тайное пиршество — они выпили по бокалу шампанского в гастрономе напротив парикмахерской. Охмелев, старик опять звал к себе в гости, просил привести завтра же Ванюшку к нему, чтобы он, Федосей Осипович, мог самолично убедиться, что с Ванюшкой все в порядке. Пришлось опять выкручиваться, а старик морщился, и по морщинам его, как тогда, в первый день их знакомства, катились и прятались в бороде слезы.
Ванюшка рос. Росла и Москва. Однажды Федосей Осипович с величайшей торжественностью объявил Андрею, что на Лубянке — раньше это слово он произносил с совсем иной интонацией — открыт «Детский мир», преогромнейший универсальный магазин исключительно для детей. На следующий день — он был воскресным — они отправились в этот самый «Мир» и прошлялись там до закрытия магазина. Для Ванюшки — фактически же для Саньки — были приобретены великолепные штуки: лыжи с необыкновенным креплением и большой набор под названием «Конструктор», а также готовальня. Вырос спортивный массив в Лужниках. В летнюю пору по набережной, звонко цокая об асфальт, скакали милицейские эскадроны — это на тот случай, ежели болельщические страсти окажутся несамоуправляемыми. Все чаще и с каким-то особым оттенком стало произноситься слово «Черемушки», появились и другие слова, вроде: «микрорайон», «воздушный лайнер», «фестиваль». На какое-то время все эти громкие слова были начисто заглушены тонюсеньким писком, долетевшим откуда-то с немыслимых высот. Миллионы людей, набожных и безбожников, в трогательном единении воздели очи к небесам, чтобы хоть на одну минуту увидеть маленький золотистый шарик, о котором Федосей Осипович сказал:
— Это не шар там, а мысля человеческая витает!
V
Весной и небольшие-то события кажутся важными до чрезвычайности. А тут — Гагарин. О его полете Андрей узнал в одиннадцать часов дня, а вечеров собирался пойти в парикмахерскую и послушать, что думает по поводу полета Федосей Осипович. Люди часто стараются проверить свои впечатления впечатлениями других и как бы заново пережить уже пережитое. К тому же Федосей Осипович умел встречать любое событие как-то по-своему, по-особому. Увидел старика у своего дома, на Фрунзенской набережной. Он неловко улыбнулся, стараясь и не находя возможности спрятать большую коробку, перевязанную крест-накрест голубой лентой. Андрей все понял и почувствовал, как по всему телу пробежала дрожь, а к глазам подступило что-то горячее. Ведь Федосей Осипович ждет. Ванюшку ждет с подарком. Разведал адрес, старый, и вот теперь караулит. Мальчишки все пришли из школы, а какой из них Ванюшка?
— Зачем… как вы тут, Федосей Осипыч?
— Да праздник-то какой! Разве ж усидишь дома! Вот Ванюшке твоему «Спутника» принес. В новом магазине, на Комсомольском проспекте, нашел. «Космосом» зовут тот магазин. Дома, что ли, Ванюшка-то?
— Да нет еще, дедушка.
— Можа, обождем маненько, а?
— Да к бабушке его мать повезла. Завтра только будут, — сказал Андрей и покраснел.
— Ну так передай ему вот это.
— Спасибо. Передам. Может, отметим?
— Отчего ж не отметить? — грустно сказал Федосей Осипович. — Пойдем, Андрюша, пока не закрыли.
И они отправились в большой гастроном, куда стали захаживать все чаще и чаще, потому как все больше и больше причин находилось у них для такого захаживания: у Ванюшки дела шли хорошо, дневник выглядел как нельзя лучше, одна только тройка, да и та случайная, да и та по второстепенному предмету. Зато по физике и химии отлично. Дневник этот завел Андрей специально, чтобы радовать им Федосея Осиповича. Для того чтобы все выглядело натурально, правдиво, он изредка вписывал в него посредственные оценки, не делал Ванюшку круглым отличником — в это не мог бы поверить даже Федосей Осипович, что-то отличники в последние годы сильно поредели. Были причины и другого характера. Справила новоселье и старенькая парикмахерская, где служил Федосей Осипович, Андрея уже несколько раз в течение этих лет повышали в должности. А тут спутники, а тут Гагарин — мало ли еще каких больших дел сделано в последние годы! Невозможно все же утверждать, не рискуя погрешить против истины, что поводом для посещения погребка были только события радостные и торжественные. Один раз в году, а именно 17 сентября, они шли туда неизменно по инициативе Федосея Осиповича по какому-то печальному для старика поводу. По какому, Федосей Осипович не уточнял, а Андрей почему-то не решался расспросить, что же такое случилось в жизни Федосея Осиповича 17 сентября. Умер ли кто из близких, обидел ли кто так, что и во веки веков не забудешь, жизнь ли круто переломилась на том рубеже — не расспрашивал, а Федосей Осипович молчал. Когда наполнялись бокалы, он первым подымал один из них неуверенной рукой и, осторожно коснувшись им Андреева бокала, печально, тихо и загадочно возглашал:
— Ну да бог с ними. Выпьем, Андрюша.
Молча выпивали, молча уходили по домам.
Были горькие минуты не только у них, но и у страны и у всех добрых и честных людей других стран. Федосей Осипович узнавал о них прежде, потому как маленькая коробочка, притулившаяся под самым потолком гардеробной, не выключалась ни на минуту и сообщала все новости — радостные и печальные. Федосей Осипович знал по имени и по голосу всех дикторов Всесоюзного радио и по тону этого голоса заранее определял, какою будет новость — плохой ли, хорошей. С Юрием Левитаном у Федосея Осиповича как бы сами собой установились дружеские отношения. Нередко старик в мыслях своих приятельски разговаривал с ним: «Что-то ты, Юрий, нонче не того, не в духе будто. Голосу твоему не хватает чегой-то. Можа, простуда?» Юрий Левитан доводил до сведения Федосея Осиповича, как правило, события чрезвычайной важности и потому пользовался особым благорасположением старика. «Человек государственного ума, ежели доверили такое дело!» — думал он про знаменитого диктора. «Советский человек в космосе!» — на весь свет возгласил о Гагарине Левитан, а у Федосея Осиповича захолонуло под ложечкой, и он до сей поры, как только вспомнит про тот час, испытывает сызнова радостную дрожь во всем теле.
Диктору не раз приходилось сообщать Федосею Осиповичу о событиях вовсе уж не радостных. В далекой Африке какие-то злыдни убили Патриса Лумумбу. «Как же это можно, как могли допустить?!»— в страшном гневе говорил Андрею старик. А тот, чтобы хоть чуточку успокоить друга, сказал ему, что Ванюшка просит взять маленького Патриса, одного из сыновей погибшего. Мысль эта принадлежала Анне Антиповне, но Андрей приписал ее Ванюшке, чему был до крайности рад Федосей Осипович. Он дал Андрею много разумных советов относительно того, как и к кому надо обращаться с этакими делами. «Лучше и вернее всего в Мирный Совет, там свяжутся по радио или еще как с кем надо, похлопочут, и у Ванюшки будет приемный брат. Это уж точно!» Не откладывая дела в долгий ящик, они в тот же день сочинили длиннейшее письмо и около месяца находились в состоянии напряженного ожидания. Из Комитета солидарности со странами Азии и Африки, куда было переслано их письмо, пришел наконец ответ грустного для них содержания. Ценим, мол, ваши интернациональные чувства, дорогие товарищи, но мать Патриса хочет растить своего сына на родной ему, африканской земле, чтобы он жил среди своего народа и был таким же мужественным его защитником, каким был отец. «Так, видно, надо, Андрюша», — рассудил все понимающий Федосей Осипович.
VI
Временами Андрей испытывал мучительное угрызение совести. Как там ни говори, а ложь есть ложь, рано или поздно, но за нее придется держать ответ. Были дни, когда он ходил как побитый, глаз не смел поднять на жену. Сознание того, что втайне изменил ей, нафантазировал какого-то Ванюшку, с годами обострялось, становясь невыносимым. Много раз он подходил к парикмахерской с железной внутренней установкой рассеять этот туман, отбросить прочь призрачную завесу, но, не прошагав и десяти шагов от своего дома, понимал, что не сможет сделать этого. Достаточно было хоть на одну минуту представить, как встретил бы его признание Федосей Осипович, чтобы тотчас же отказаться от вроде бы и благого намерения. И сладкая ложь продолжалась. Продолжалась бы она бог весть сколько еще, не случись беды.
Андрея послали в командировку на полтора месяца. Он предупредил Федосея Осиповича, что уезжает в Сибирь… он сказал не на полтора, а на два месяца, для чего-то прибавив пятнадцать дней. Федосей Осипович грустно поморщился, вздохнул как-то по-детски судорожно.
— Коли надо, что ж, поезжай, Андрюша. Не простудись, сынок… Холода там, вишь, страшенные. Ну, а каковы дела у Ванюшки?
— Спасибо. Хорошо. Осенью — в десятый класс.
— Ишь ты? В десятый?! Времечко-то как бежит.
— Бежит, Федосей Осипович.
Они обнялись и расцеловались на прощание.
Вернувшись из поездки, Андрей первым долгом побежал в парикмахерскую. Только далеко от Москвы, в командировке, он по-настоящему понял, кем для него стал Федосей Осипович…
В прихожей, у гардеробной, стоял другой человек, еще не старый, с одной рукой. Андрей никогда его не видел, но он и не приходил в парикмахерскую, когда там не было Федосея Осиповича. Брился и стригся только в дни его дежурств. Значит, решил Андрей, сегодня не его время. Приду завтра. Но и назавтра Федосея Осиповича не оказалось на привычном месте. Не оказалось его и на третий и на четвертый день. И теперь уж Андрей, схваченный за сердце недобрым предчувствием, решил спросить у однорукого, а где ж его напарник, почему не приходит, не рассчитали ли за какую-нибудь промашку.
— Нет, не рассчитали… Помер Федосей Осипович, в одночасье помер. Стоял вот тут, ничего, бодрый, даже шутил. А потом как-то тихо присел на пол, прислонился к стене, глядь — он уже не дышит… А что с вами, гражданин? Он что, отец ваш?
Но Андрей был уже на улице.
Лишь на пятый день после приезда, узнав адрес у заведующего парикмахерской, отправился на квартиру Федосея Осиповича. Отыскал на Плющихе деревянный домик, один из тех, что покорно и безропотно ждут своей очереди на слом. В единственном подъезде первая дверь направо вела в комнатушку Федосея Осиповича. Ключ был у соседей. Андрей объяснил им, кто он и почему пришел. Открыли. Из старенького репродуктора, притулившегося в углу, по соседству с Николой-угодником, слышался голос Левитана — сообщались последние известия. Железная кровать стояла прямо у двери, какой-то старый зеленый сундучок, перехваченный со всех сторон ржавыми железными ремнями, кастрюля, закопченная на плите в голландке, посудная полка с двумя тарелками и одной деревянной ложкой, малость выщербленной. Вот и вся Федосеева утварь. На стене — единственная фотография в самодельной раме. Молодая женщина в темном платке, широколикая и большеглазая, со строго поджатыми губами. На руках у нее дитя. Должно быть, фотографию часто снимали со стены, потому как рама была сильно и свежо захватана.
— Он что же, коренной был москвич? — спросил Андрей.
— Да нет. В войну приехал. Откуда-то из-под Брянска. Больше мы ничего не знаем о нем. Старик не любил, когда его расспрашивали.
Андрей поблагодарил соседей и вышел, захватив зачем-то фотографию. От Плющихи спустился к набережной. Было ветрено, в левую щеку сыпал косой холодный дождик, капли его попадали за воротник. Над рекой носилась чайка, оглашая окрестность пронзительным, режущим по сердцу криком.
ТАМАНЦЫ
Передо мною — трое: танкист, пулеметчик и стрелок. Они называют себя Таманцами. И по тому, как они произносят это слово, догадываюсь, что писать его надо непременно с большой буквы, не иначе.
Таманцы!
А ведь никто из этих троих не служил в дивизии в ту грозную пору, когда пришла к ней немеркнущая слава. Тем не менее всякий раз, когда при них называют имя Таманской Краснознаменной ордена Суворова имени М. И. Калинина дивизии, горделивое чувство вспыхивает в груди, светится в их глазах, готовое выплеснуться наружу в скупых, но полных мужественной любви словах. И это понятно: они, эти трое, так же, как и сотни их теперешних сослуживцев, приняли боевую эстафету от ветеранов и теперь достойно несут в своих умелых руках с тем, чтобы в свое время передать ее новому поколению воинов, которые придут им на смену и с таким же гордым правом назовут себя Таманцами.
Я долго смотрю в их лица, и кажется мне, что я где-то уже видел этих солдат — под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре или под Веной. До чего ж они похожи своей осанкой, всей своей подобранностью и этими исполненными решимости лицами на своих старших товарищей, коим выпало на долю штурмовать вражеские рубежи в кровопролитнейших сражениях!
Давайте же познакомимся с ними.
Танкист
— Моя фамилия Паршин. Зовут — Николай Иванович. Родился в 1925 году в селе Костин-Отделец, Воронежской области. Отец, Иван Федорович Паршин, погиб на Днепре, старший брат, Василий, — инвалид Великой Отечественной войны. Я в армии с 1943 года. С 1947 года — сверхсрочник. Четырнадцать лет служу механиком-водителем танка. Вот, пожалуй, о себе и все…
Он умолкает, задумавшись. Темные глаза его еще больше потемнели, под острыми скулами шевельнулись желваки.
О чем вспомнил старшина Паршин?
— Может быть, о том, как дважды выпрыгивал из горящего танка? Или о том, как водил свою грозную машину в глубокий неприятельский тыл на разведку, за что и получил высокую награду — орден Славы III степени?
На его груди кроме ордена Славы есть еще одна награда, которой он гордится не меньше, чем наградой боевой, — нагрудный знак «Мастер вождения». Это — высший класс механика-водителя танка. Годы напряженного труда, неутомимой учебы — вот что скрывается за маленьким знаком, который едва заметен на просторной груди танкиста.
Кто из москвичей не любовался безукоризненно четким строем танковых колонн, в праздничные дни проходивших по Красной площади! Одиннадцать раз механик-водитель Николай Паршин вел свою машину мимо Мавзолея, мимо древних кремлевских стен, провожаемый восторженными взорами десятков тысяч людей, собравшихся на Красной площади. Но только немногие знают, каких усилий стоит это танкисту, особенно, конечно, механику-водителю. Сколько бессонных ночей проведет он, прежде чем восхитить нас своим высоким мастерством! Но парад есть все же парад. Куда труднее приходится танкисту на полях тактических учений…
Это было в сентябре прошлого года. Подразделение, в котором служит старшина Паршин, получило приказ о наступлении. Нужно было преодолеть не только сопротивление «противника», но и сто сорок километров пути при полном бездорожье — через леса, топи, многочисленные болота. При этом нельзя было открывать люки — члены экипажа большую часть времени находились в противогазах: учитывалось, что бой идет с применением оружия массового уничтожения, когда, нужно было думать и о противохимической защите, и о дегазации оружия, и о маскировке, и особенно конечно, и прежде всего — о стремительном движении вперед, и только вперед.
— Более суток непрерывно вел я свою машину, — рассказывает Паршин. — Внутри танка — жара нестерпимая, люки открывать нельзя. А мы, то-есть командир подразделения (мой танк одновременно является и танком командира подразделения), я, командир танка сержант Михаил Спицын, наводчик орудия рядовой Николай Кургузов (отличный, между прочим, стрелок — от него ни одна цель не укроется!), все мы в противогазах. А тут еще — качка, танк ведь подпрыгивает на ухабах, проваливается в разные ямы… Не скрою, порой казалось, что не выдержим, в глазах рябило, руки дрожали, пот лил ручьями, обмундирование было мокрое… Но остановиться нельзя было, приказ — вперед!.. Вот тут все мы по-настоящему поняли, почему наш командир Герой Советского Союза капитан Виктор Козлов так упорно налегает на физическую подготовку танкистов… Скажу вам честно, вот я не, раз был в настоящем бою во время войны, но такого напряжения мне еще ни разу не доводилось испытать, как вот на этих учениях. И все-таки мы выдержали — выдержали все и очень гордимся этим… Вы спрашиваете, что нам помогло? Я уже говорил о физической закалке. Она нас здорово выручила. Но это не все. Помогло нам еще чувство ответственности. Сам я член партии, остальные — комсомольцы…
Старшина смущенно умолк: видно, ему мало приходится рассказывать о себе. Человек огромного практического опыта, он привык показывать, а не рассказывать. Сейчас он очень волнуется:
— Вот посылают меня на Всеармейский слет отличников. Можно бы выступить там — ведь опыт у меня действительно есть: четырнадцать лет провел за рычагами танка, срок не малый! — да вот беда, не умею я говорить. Просто не знаю, о чем. На занятиях все получается как бы само собой, руки автоматически делают нужные движения, ты даже и не думаешь как. А тут нужно рассказать словами… Правда, иногда разговоришься, особенно когда вспомнишь бои с фашистами, фронтовых товарищей. Тут у меня есть очень хороший собеседник — командир наш. Ведь на финской войне он сам был сержантом, командиром танка. Там ему и дали звание Героя. Сам товарищ Жданов вручал Золотую Звезду… Выпадет свободный час, соберем вокруг себя молодых танкистов да и рассказываем им, как было на фронте. Этак-то часто бывает. Любят ребята наши беседы — сидят не шелохнувшись, ловят каждое слово… Да это ведь все в своем кругу, а тут на Всеармейском слете, сколько там народу-то будет! — восклицает Паршин, но вдруг говорит — А может, еще и выступлю..
Пулеметчик
У коренастого этого парня умные, спокойные глаза. Гимнастерка нарядная от различных знаков и значков — это знаки воинской доблести, проявленной сержантом Николаем Марьиным не на войне, а на учебном поле, в классе, на стрельбище, в физкультурном городке. Бывший слесарь из города Куйбышева, он в короткий срок стал отличным пулеметчиком. Один за другим появились на его груди знаки «Отличный пулеметчик».
«Вот кто будет моей сменой!» — подумал о нем бывший командир отделения младший сержант Мизернов и с той минуты стал все пристальнее приглядываться к этому неутомимому и добросовестному юноше. С не меньшим вниманием присматривался к Марьину и командир роты старший лейтенант Говоров: у него, оказывается, были свои планы…
Вскоре действительно Марьин был назначен командиром отделения, а немного позже — командиром пулеметного взвода.
Своим отделенным — сержанту Кравченко и младшему сержанту Примак — Марьин сказал коротко:
— Взвод наш должен быть лучшим в батальоне. Ясно?
— Ясно!
Для начала весь взвод стал комсомольским.
— Ну, а теперь-то мы просто обязаны быть первыми! — сказал своим солдатам сержант Марьин, а сам с тревогой глянул на рядового Ломаева.
Тот стоял бледный, потупив взор. Он совсем еще недавно перенес операцию и, очевидно, побаивался, что подведет товарищей, подведет весь пулеметный взвод. Занятия, стрельбы часто проходят ночью, после длительных и трудных маршей — хватит ли у нею сил?..
— Ничего, Ломаев, не горюй. Все будет хорошо. Вот увидите! — тихо говорит ему Марьин, и от его слов, от его ободряющей улыбки на душе молодого солдата делается покойней, взгляд его светлеет. И он отвечает так же тихо и взволнованно:
— Спасибо, товарищ сержант.
Теперь их можно было чаще видеть вдвоем — то в учебном классе, то в поле, на тренировке. Особенно трудно давалась Ломаеву стрельба из пулемета с помощью ночных приборов и осветительных ракет — да и вообще-то ведь это очень трудное дело! А вот сейчас Ломаев стреляет уже хорошо, а придет время — будет стрелять и отлично. Не ладилось у него и со строевой подготовкой, а поглядите сейчас — молодец молодцом шагает он в ротном строю. И все только потому, что вовремя заметили его слабости командир взвода, отделенный командир, солдаты-однополчане. Боевая нерушимая дружба — вот что прежде всего характеризует взвод сержанта Марьина.
Проходили дни, недели, месяцы. Слава о замечательных пулеметчиках росла, ширилась, она уже вышла за пределы дивизии. И вдруг в роту старшего лейтенанта Говорова пришла добрая весть: весь взвод сержанта Марьина награжден Грамотой ЦК ВЛКСМ, а сам Марьин за образцовое воспитание и обучение своих солдат получил денежное вознаграждение лично от командира полка.
— Как же вы этого добились? Расскажите подробнее. Ведь нелегко было?
— Нелегко. Это верно. — Марьин на минуту задумывается. — Вы приходите на наш слет. Может быть, я там смогу рассказать о наших делах подробнее. Между прочим, и у нас была одна большая неудача…
— А какая же?
— Да вот по гимнастике мы заняли первое место в батальоне. А по многоборью пол-очка не хватило, чтоб занять первое место в полку. Пришлось довольствоваться вторым… Скоро, впрочем, будет многоборье между взводами. Вот тогда постараемся взять свое!..
Передо мною он один, командир взвода. А мне почему-то хочется увидеть всех его подчиненных, этих славных пулеметчиков-таманцев. Они рисуются моему мысленному взору здоровыми, крепкими, с загорелыми лицами, обязательно белозубыми. И мне радостно, что у моей Отчизны есть такие славные солдаты. Мне хочется крепко-крепко пожать руку сержанта Марьина и от всего сердца сказать ему: «Спасибо, сержант!»
Что я в конце концов и делаю.
Стрелок
Стриженая круглая голова склонилась над книгой. Припухлые губы юноши шевелятся. Толстым пальцем он водит по строчкам — что-то читает по слогам. Рядом стоит сержант Михаил Мансуров, высокий, стройный, светловолосый, с большими голубыми глазами, с очень простым, открытым лицом. Ободряя молодого солдата, он говорит, положив руку на его плечо:
— Смелее, смелее, Панков! Как же это ты, дружище, грамотешке-то не научился, а?
— Так случилось уж, товарищ сержант…
— Знаю. Ну, беда поправимая. Вот возьми-ка почитай это. — И Мансуров подает солдату новую какую-то книгу с крупными буквами.
…Слушая Мансурова, не веришь, что этот вдумчивый, взвешивающий каждое свое слово, хорошо начитанный парень имеет всего четырехклассное образование, что свой нагрудный знак «Отличный стрелок» он получил уже в первый год службы в армии, что уже через полтора года он становится командиром отделения, и притом отличным командиром!
Так же как и сержант Марьин, Мансуров в свое время окончил ремесленное училище и стал столяром 4-го разряда. Очевидно, там, среди старых кадровых рабочих, он приобрел весьма ценное качество — любовь к труду, к непрерывному совершенствованию своего мастерства. О первых днях своей службы Мансуров говорит так:
— Не скрою, мне было завидно, когда на собраниях и вообще всюду в нашей роте называли имена отличников. Их ставили в пример всем. Думалось, а я-то что же, неужели не смогу?.. Был у нас в отделении сержант Горохов — отличник. И вообще очень отзывчивый человек. Вот к нему-то я и стал приглядываться, а потом набрался смелости и прямо попросил его помогать мне. Он, конечно, сразу же согласился. Ну и дело пошло! Целую зиму тренировался я владеть карабином, а потом и автоматом. Большую помощь оказывал мне и секретарь комсомольской организации сержант Звонков — парень грамотный, толковый и неутомимый. Через десять месяцев меня как отличника отпустили на побывку домой. А потом несколько раз фотографировали; мое фото не сходило с Доски отличников… Неудобно так говорить о себе — вроде как бы хвастаюсь… Вот вы спрашиваете, как я добился своих успехов. А секрета тут, вообще-то, говоря, никакого и нет. Главное — это дисциплинированность. Будешь исполнительным и внимательным — обязательно добьешься больших успехов… Ну, сейчас, правда, мне потруднее — не за себя одного отвечаю, а и за подчиненных. Много, к примеру сказать, пришлось нам потрудиться с Панковым — ни читать, ни писать не умел человек. А сейчас и читает, и пишет. Правда, не очень бойко, но все ж… Сейчас и он у нас выбивается в отличники. Прямо скажу, радостно служить, когда страна так заботится о тебе!
Танкист, пулеметчик, стрелок…
Великолепная доля — быть защитником социалистического Отечества. Надо гордиться этой долей и быть достойным ее.


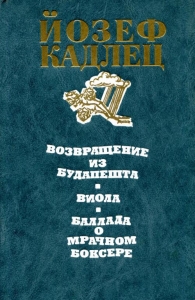



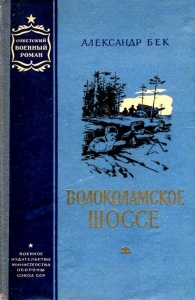






Комментарии к книге «Хорошие мои люди…», Михаил Николаевич Алексеев
Всего 0 комментариев