Повести
ЧЕЛОВЕК И ЭПОХА В ТВОРЧЕСТВЕ ЙОЗЕФА КАДЛЕЦА
Живая связь с современностью — самая характерная черта всех созданных Й. Кадлецем книг, а их уже более десяти, и вышли они в основном в 1970-е годы.
Йозеф Кадлец родился 21 октября 1919 года в предместье города Пльзень. Еще подростком он начал работать на шкодовских предприятиях, во время войны был отправлен на работы в Германию, в Дессау. По возвращении, после войны, Кадлец стал журналистом, позже — редактором, возглавлял периодические издания. Отец Й. Кадлеца, каменщик по профессии и страстный любитель книг, умер рано, но память о нем, собранная им библиотека во многом повлияли на формирование писателя. «В первую мировую войну, — рассказывал Кадлец, — отец был в русском плену и жил долгое время в Саратове на Волге. Сохранился не только его дневник той поры, но и много книг». Это были произведения классиков чешской литературы и русская библиотечка на чешском языке — романы Гончарова, Тургенева. Интерес школьника к русской литературе оказался устойчивым: познакомившись позже с творчеством Горького и других советских писателей, он стал переводчиком — в переводе Кадлеца вышли книги Тургенева, Горького, Шолохова, Лидина, Василевской. Особо стоит отметить глубокое и постоянное влияние Горького на формирование чешского писателя. Устойчивый интерес Й. Кадлеца к основоположнику социалистического реализма в советской литературе проявился и в работе «Максим Горький в Чехословакии. Страница биографии» (1951). После Второго съезда советских писателей в 1954 году Йозеф Кадлец писал Марии Майеровой о животворной силе горьковской традиции: «Речь идет о влиянии, которое помогало нашим писателям… найти свое место в литературе и овладеть методом социалистического реализма, горьковским художественным методом, о влиянии, которое помогало определить направление и задачи нашей прогрессивной литературы… Именно в этом смысле и следует понимать проблему влияния, ибо влияние — это отнюдь не механически понятое сходство тематики или стиля».
Правильность этих наблюдений подтвердила и собственная художественная практика чешского писателя.
Психологическая проза Кадлеца, созданная в горьковской традиции, отражает духовный мир, чаяния и надежды его поколения. Это стало основным принципом прозаика. Летом 1981 года мне довелось обстоятельно побеседовать с писателем о современной литературе, расспросить о его замыслах и творческих поисках.
«Литература, — сказал он тогда, — должна отражать жизненный опыт нашего поколения, накопленный с детства и в драматических столкновениях с буржуазной действительностью, и в антифашистской борьбе военных лет, да и после 1945 года, когда строительство социализма в освобожденной от гитлеровских захватчиков стране было связано со многими трудностями. Наша обязанность — адресовать молодежи книги, помогающие разобраться в нынешней международной обстановке. Мы должны вооружить наших младших современников опытом борьбы за мир».
Этот девиз писатель реализует в своей художественной практике. Его привлекает тема формирования духовного мира нашего современника, процесс становления и развития личности в конкретных социально-политических условиях. «Меня всегда будет интересовать, как эпоха, в которую мы живем, отражается в частных судьбах и каков вклад людей — собственно, каждого из нас — в дела своего времени», — утверждает Й. Кадлец. Эпоха и присущие ей противоречия действительно определяют индивидуальные судьбы героев писателя. При этом нельзя не учитывать, что жизненные истории большинства персонажей написаны в романтическом ключе. Отсюда доверительная, исповедальная манера повествования, которая придает особый колорит психологической прозе.
Сочетание эпичности и лиризма особенно характерно для трилогии «Вчерашние знакомые», посвященной судьбам сверстников писателя. Уже в первом романе — «Мир, открытый случайностям» (1971) — лиризм сочетается с документальностью изображения жизни страны в конце 30-х годов, в период кризиса буржуазной Чехословакии. Прозаик умеет создать у читателя ощущение соучастия, приобщает его к действию: повествование ведется от первого лица, строится как исповедь мальчишки-скитальца из городского предместья, который никак не может найти постоянную работу. Трудности закалили его, а встреченные им на жизненном пути хорошие люди помогли обрести уверенность в себе. Кончается роман символической сценой возвращения домой, пробуждением к новой жизни.
Следующий роман трилогии — «Мир, полный надежд» (1973) — продолжил тему возмужания молодого человека, хотя ни сюжет, ни персонажи не связаны с предыдущим романом. Действие происходит в первые месяцы после освобождения Чехословакии от фашистских оккупантов. Главный герой — юноша, вернувшийся на родину после принудительных работ в гитлеровской Германии.
По-разному сложились судьбы четверых друзей, остро чувствуют они неприязнь мещан и приспособленцев вроде хозяина виллы, где живут на птичьих правах, или бывшего однокашника Ондржея. Но вскоре герой-рассказчик встретил близких ему по духу людей: его друзьями стали рабочие типографии, редактор, коммунист-подпольщик — мужественный человек, побывавший в годы войны в Советском Союзе. Так нашел свой жизненный путь главный герой второго романа. И снова символична заключительная сцена, запечатлевшая февральские дни 1948 года, когда решалась судьба народно-демократической Чехословакии: герой романа на Вацлавской площади среди трудящихся Праги, приветствующих коммунистов.
В последнем произведении трилогии — «Двойной свет» (1976) — противопоставлены образы двух людей: молодого коммуниста и социал-демократа, преданного своими партийными боссами. Символично название романа. Один из героев, кинорежиссер, объясняет, почему во время съемки «юпитеры» высвечивают актера с двух сторон: «В двойном освещении каждый образ пластичнее. На первый план выступают невидимые прежде грани и контуры». Есть и другой смысл в этом названии: «Каждый человек излучает свой собственный свет… Один пылает, а другой лишь тлеет. Тлеют обычно те, кто занят в жизни только собой». Мера «излученного света», отданного окружающим тепла определяет духовное богатство персонажей трилогии, их общественную позицию.
Стоит отметить, что во всех трех романах не названы имена главных героев, от лица которых ведется повествование, тем самым, на наш взгляд, как бы подчеркнута общность их жизненных историй с судьбами многих людей, с судьбами страны. Й. Кадлец придает большое значение документальности современной литературы, считает, что пережитое автором — самый ценный материал для его творчества. Автобиографичность присуща не только трилогии Кадлеца. Автобиографический материал, несомненно, нашел место и в его произведениях малого жанра — в трех повестях, предложенных читателю этой книги.
«Возвращение из Будапешта» (1975) затрагивает острейший ныне вопрос об активной нравственной позиции человека нового общества. В повести речь идет не просто о смене руководителей, или несложившихся служебных отношениях. Писатель противопоставляет главного героя, инженера Бендла, нечестному, наглому Нейтеку. Пафос произведения направлен против мещанина, попирающего нравственные устои социалистического общества, и против равнодушия, а порой и пассивности честных людей. Может быть, на первый взгляд конфликт покажется частным, не затрагивающим принципиальных вопросов. В отсутствие Бендла, находившегося в служебной командировке в Венгрии, Нейтек оклеветал и директора, и Бендла. Но хотя Бендл не пострадал, ему, как способному работнику, предложено перейти в вышестоящую организацию, он не может смириться с тем, что должен отдать руководство своим отделом нечистоплотному карьеристу и профану. Тут-то и потребовались незаурядная выдержка и смелость, позволившие герою, хотя и с большим трудом, преодолеть психологический барьер ради интересов дела и справедливости.
Кульминация повести раскрыта глубоко психологически: автор стягивает здесь все сюжетные линии и одновременно решает главный нравственный конфликт. Бендл вернулся из Будапешта окрыленным: чарующая атмосфера города, девушка, которой он увлекся, словно бы вооружили его радостным ощущением бытия, столь необходимым для борьбы с циничным Нейтеком. Не переживи Бендл в Будапеште душевного подъема, едва ли отважился бы он публично и резко заявить о несостоятельности Нейтека как специалиста, вступить с ним в борьбу и разоблачить его.
В этом небольшом произведении несколько вставных «историй», и для каждой найден свой повествовательный ключ. Колоритен образ престарелой тетушки Лауры, с которой встречается герой в Будапеште; сатирически, часто с сарказмом рассказывает автор «биографию» приспособленца и ханжи Нейтека; интересно, психологически тонко выписан эпизодический образ нового директора, очень важный, однако, для решения основного конфликта. Повесть «Возвращение из Будапешта» — произведение лирическое и общественно значимое. Заключительная фраза — «завтра будет прекрасный день» — словно создает возможность продолжения, оставляет сюжет открытым, сулит добрую перспективу.
Две другие повести, «Виола» и «Баллада о мрачном боксере», рассказывают о жестоких временах фашизма, о жизни простых чешских тружеников, оказавших сопротивление оккупационным властям. Эта тема в литературе последних лет обрела новое звучание в связи с оживлением в ряде стран неофашизма, с настоятельной необходимостью раскрыть молодежи истоки мужества и высоких нравственных принципов поколения, пережившего войну. Старейший чешский писатель Йозеф Рыбак сказал на Третьем съезде чешских писателей в 1982 году: «Полезно рассказать молодым людям о застенках гестапо на Панкраце, о концлагерях, о том, как без суда и следствия уничтожались целые семьи, женщины, старики и дети… Это большая тема нашей литературы. Она особенно важна для молодежи, которая не познала ужасов оккупации и должна убедиться, что все, само собой разумеющееся сегодня, достигнуто ценой потоков крови тысяч и тысяч жертв».
«Виола», в подзаголовке которой стоит: «История, почти забытая», напоминает о том, как простые люди, не щадя жизни своей и даже своих детей, вступали в борьбу с фашизмом. Таким был отец Виолы, трактирщик по прозвищу Зубодер. Раскрыв его подпольную деятельность, фашисты окружили дом и, не сумев сломить сопротивления его защитников, подожгли… Повествование ведется от лица влюбленного в Виолу юноши, очевидца трагедии. Его первое чувство не погасло со временем. Рассказывая о Виоле много лет спустя, воскрешая в памяти образ возлюбленной, далекий и поэтичный, Ян создает почти легенду. Балладность, романтичность повествования действительно вызывает ассоциации со старинным преданием, а загадочность героини не только соответствует избранной писателем форме, но объясняется и тем, что Виола, как выяснилось, была осторожной и мужественной подпольщицей. Лирическая тональность повествования то и дело сменяется суровым звучанием драматических сцен: арест подпольщика-коммуниста Хадимы, допрос в гестапо самого Яна, гибель Виолы. Таинственно-романтическое и трагическое сливаются здесь в единый балладный строй, усиливающий героическое звучание произведения.
В «Балладе о мрачном боксере» действие происходит вскоре после захвата власти гитлеровцами в расчлененной Чехословакии. Кое-кто из чехов еще стремится сохранить видимость прежней жизни: одни развлекаются; другие стараются приспособиться, считая, что оккупация — явление временное. Атмосферу бесполезной и бестолковой суеты, беспокойства читатель ощущает чрезвычайно остро, ибо события передаются через восприятие молодого человека, переведенного из провинции на работу в Прагу. Дядюшка Людвика, обыватель и делец, формулирует кредо таких, как он: живем сегодняшним днем, сегодня мы еще на свете, а завтра — хоть потоп. Но не все разделяют «философию» прожигателя жизни, спекулянта, который тоже по-своему приспосабливается к обстановке. Окружающие не одобряют ни его позиции, ни поведения барышни Коциановой, что водит дружбу с немецкими офицерами. Однако сами пассивны, предпочитают не вмешиваться. Среди этих растерянных, беспомощных людей выделяется боксер Эда, друг Людвика. Но и он не знает, что предпринять, как противодействовать захватчикам. Одно ему ясно — так жить нельзя. Пока что он действует в одиночку: поджидает пьяных немецких офицеров у трактира и бьет наверняка — мощным ударом в переносицу. Лишь бы доказать себе и другим, рассуждает Эда, что не пал духом, не утратил надежды. О неуловимом и бесстрашном боксере ходят легенды. И хотя судьба его, казалось бы, предрешена, автор не завершает его историю: Эда исчез, но он мог и не погибнуть, а уйти к партизанам. Убеждения его таковы, что читатель уверен: Эда на пути к активному сопротивлению. Незавершенность сюжета, перевод его в легендарный план соответствует балладной форме повествования.
Рассказывая о своих произведениях, Й. Кадлец упомянул, что «Боксера» он решился писать только через десять лет после возникновения замысла. «Я пишу, — сказал он, — не только когда найду ситуации и характеры, но и когда вживусь в ритмический строй, почувствую музыку произведения. Это придает мне уверенность, я ощущаю фундамент. Вот тогда я и могу писать».
Сейчас писателя волнуют идеи интернационализма, отношение к немецкому народу и к тем, кто пытается возродить фашизм. Столь масштабные политические и нравственно-этические темы он опять попытался воплотить в малом жанре. Такова новая повесть Кадлеца, «Карловарская пастораль» (1982), временные рамки которой — двадцать один день — срок пребывания героя в санатории. Описание его встреч с людьми, съехавшимися из разных стран, позволяет автору сквозь призму конкретных человеческих судеб увидеть современный мир.
Так психологическая проза Йозефа Кадлеца охватывает все более широкий круг жизненных явлений.
Р. Кузнецова
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БУДАПЕШТА
…то, что не сбывается никогда
и лишь блестит так просто,
словно в зарослях вода.
Витезслав НЕЗВАЛNÁVRAT Z BUDAPEŠTI
Praha, 1975
Перевод Т. Аксель и Ю. Шкариной
Редактор Т. Горбачева
© Josef Kadlec, 1975
© Перевод на русский язык «Иностранная литература», 1980
1
Утреннее заседание кончилось раньше, чем он предполагал, и в его распоряжении оказалась вся вторая половина дня и даже целый вечер — можно было побродить по улицам и насладиться дразнящей атмосферой незнакомого города.
Нельзя сказать, что Будапешта он не знал совсем, ему случалось уже бывать здесь, но всегда недолго — день-два, и самое большее, что он успевал, — это пройти по улице Ваци, заскочить в магазины, на ходу полюбоваться набережной Дуная или островом Маргит, посидеть немного в каком-нибудь старомодном кафе или в знаменитой кондитерской на площади Вёрёшмарти.
Хотя о Будапеште он знал немного, город давно очаровал его, казался близким, приветливым, иногда — чересчур нарядным, слишком уж тщательно следящим за своей внешностью.
Он любил эти широкие зеленые бульвары, уютные кафе со столиками, расставленными на тротуарах, архитектуру конца века, яркие фасады домов и нетерпеливое движение — бесконечный людской поток, целый день перетекающий с места на место, с одного берега Дуная на другой.
После утреннего заседания его хотели отвезти на машине в гостиницу, но он решительно отказался, заявив, что с удовольствием пройдется пешком, ведь тут недалеко, дорогу он помнит, да и день великолепный.
И теперь он брел по многолюдным улицам, то и дело замедляя шаг, оглядываясь или бездумно рассматривая витрины, хотя и не собирался ничего покупать. Или вдруг замирал на краю тротуара у перекрестка, его завораживало стремительное уличное движение — нескончаемая лавина машин, трамваи, поток прохожих, — то, как все это мелькало у него перед глазами, будто цветной широкоэкранный фильм.
Казалось, и сам город тоже двигается, плавно, едва заметно — это колебался раскаленный жарким солнцем воздух. Ряды домов словно отступали в стороны и неожиданно опять возвращались на свои места, окна вытягивались в длинные стеклянные полосы и тоже волнообразно изгибались, как бы отражая звуки шагов. А там, вдали, где улицы пересекались, пестрое движение усиливалось: люди, машины, трамваи толкали друг друга в страшной спешке и суматохе. Ослепительный натиск солнца на какое-то мгновение остановил этот стремительный водоворот, он как бы замер, прежде чем опять, судорожно вздрогнув, разбежаться в стороны и слиться с живыми струями соседних улиц.
Он шел, и город любезно раскрывал перед ним бесконечные новые виды, манил все дальше и дальше, в глубь изящных ансамблей, выставляя напоказ своеобразную, привлекающую своей новизной красоту.
За каждым углом он обнаруживал оригинальной планировки жилые массивы, зеленые скверы, маленькие площади, церкви необычной архитектуры, роскошные особняки, уютные кафе, магазины, рестораны и на первый взгляд не слишком занятные, но для этого города весьма характерные закоулки.
Он чуть не заблудился — запутался в схожих боковых улочках и переулках — и не сразу понял, в каком направлении надо идти, чтобы попасть на главный проспект.
Между высокими домами вдруг увидел тихий, ничем не примечательный скверик с купами каштанов, густые кроны которых бросали тень на скамейки возле чахлого, затоптанного газона.
Все скамейки были заняты. В стороне, в дальнем углу сквера, в песочнице на детской площадке весело щебетали дети.
Почувствовав внезапную усталость от яркого солнца и шумных улиц, он с наслаждением опустился на свободное место в тени.
Люди вокруг разговаривали, а он не разбирал ни слова, по жестикуляции стараясь хотя бы догадаться, о чем идет речь, но и это ему не удавалось.
Рядом с ним сел мужчина средних лет, с головы до ног одетый в черное, даже шляпа у него была черная, носовым платком он вытер пот с лица, но шляпу так и не снял. Потом вынул из портфеля бутерброды с салом и стал есть, с хрустом закусывая их зеленым перцем, да еще умудрялся при этом сопя читать газету, разложенную на коленях.
Напротив в глубокой тени играли в карты пожилые мужчины в рубашках да брюках с подтяжками, очевидно, пенсионеры. Они громко спорили, вокруг них сгрудились многочисленные болельщики и тоже что-то кричали друг другу.
Откуда-то со стороны Дуная порывами налетал сухой горячий ветер, он не освежал, а лишь увеличивал усталость.
По дорожке мимо скамейки проходили люди, наверное, возвращались с работы, откуда-нибудь с недалекой фабрики, и оставляли за собой обрывки слов.
Сосед по скамейке доел хлеб, догрыз перец и теперь сидел неподвижно, шляпы он так и не снял, газета лежала у него на коленях; но вот он начал клевать носом, голова то и дело падала на грудь, он резко вздрагивал, выпрямлялся, но вскоре все начиналось сначала.
— Арпад, Арпад! — настойчиво звал пронзительный женский голос около детской площадки. Но никто не откликался, и женщина кричала до хрипоты. Было два часа дня, по-видимому, она звала сына обедать.
Он встал, отряхнул с костюма пыль и двинулся дальше. Шел наугад, выбирая тенистые улочки, лишь бы укрыться от палящих солнечных лучей.
И вдруг оказался на главном проспекте, прямо напротив старой гостиницы, где остановился. Подождав, пока загорится зеленый огонек, перешел дорогу и наконец скрылся от солнечного зноя в полутьме вестибюля, даже днем освещенного хрустальными люстрами.
Когда он попросил ключи от своего номера, прилизанный портье на минутку оторвался от каких-то бумаг и ответил по-немецки:
— Простите, вы инженер Бендл?
— Да, это я.
— Для вас здесь записка, — строго произнес портье и вместе с ключом подал ему вчетверо сложенный листок из блокнота.
Записка была написана по-чешски, круглыми, словно разбегающимися во все стороны буквами. Почерк был маловыразительный, скорее всего женский. В записке лаконично сообщалось:
«Зайду за вами в 19.30, есть два билета в оперу. А.»
Ему сразу припомнилось утреннее заседание, как он беспомощно стоял, нелепо улыбаясь, — никто из его торговых партнеров не говорил по-чешски, а он в свою очередь не владел венгерским. Обменявшись несколькими любезными фразами по-немецки, все опять растерянно заулыбались. Он ждал, что же будет дальше, но ничего не происходило, все молчали, переминаясь с ноги на ногу, и улыбки застывали на губах. Но вот появилась хрупкая, небольшого роста энергичная девушка с коротко подстриженными светлыми волосами и необычайно ясными большими глазами на ничем, казалось бы, не примечательном лице.
Он обратил внимание только на эти глаза, сияющие глаза, устремленные на него.
— Извините, пожалуйста, за опоздание, — сказала она на точном, заученном по учебнику чешском языке, слишком твердо произнося слова. — Я далеко живу… на самой окраине…
Своим приходом она словно вдохнула во всех желание опять улыбаться. Напряжение, которое заметно нарастало под масками улыбок, тут же исчезло, все оживились и решили, не теряя больше времени, как можно быстрее приступить к переговорам.
И сам он тоже сразу почувствовал себя увереннее, теперь ему было на кого опереться, на чью помощь рассчитывать. Карие глаза были здесь, рядом, они следили за движениями его губ, смотрели все время внимательно и беспокойно, чтобы понять и осмыслить поток его слов.
На переговорах она сидела справа возле него, положив перед собой раскрытую школьную тетрадь и блестящую шариковую ручку, но за все это время ничего не записала; переводила уверенно, быстро и, очевидно, достаточно точно на свой родной язык, о чем можно было судить по ответам венгерских партнеров.
Председатель комиссии Домокош говорил о выгодности сотрудничества, о том, как успешно с самых первых шагов развиваются их отношения, которые сегодня уже являются необходимостью для обеих сторон, чему немало способствовали личные деловые контакты.
В ответ Бендл отметил, что и чешская сторона считает взаимные связи очень важными, ценит их, при планировании поставок на ближайшие годы основывается на уже достигнутых результатах, потому что опыт последних лет подтвердил потребность в дальнейшем расширении торговых связей; этому немало способствуют добрые, дружеские отношения обоих государств и, разумеется, личные контакты, в данном случае нельзя не отметить исключительную роль председателя комиссии товарища Домокоша в развитии успешного сотрудничества.
Затем пришла очередь цифрам, анализам, планам.
Он говорил спокойно и умело; произнеся несколько слов, останавливался, и тогда звучал приятный мелодичный голос переводчицы.
За все это время он не успел рассмотреть ее: был слишком сосредоточен на ходе переговоров. Но чувствовал ее присутствие, вдыхал тонкий сладковатый запах духов, видел нежный девичий профиль и короткие волосы над высоким лбом, беспокойное движение руки на фоне темного стола. Неожиданно его взгляд соскользнул вниз, и он увидел ноги в черных лакированных туфлях с золотыми пряжками, длинные, стройные и, бесспорно, красивые. Наверняка она об этом знает, раз так смело, без всякого стеснения сидит, положив ногу на ногу.
Как только заседание кончилось, а продолжение было перенесено на следующий день, его со всех сторон окружили люди. Перебивая друг друга, обращались к нему на ломаном немецком, явно чувствуя облегчение от того, что на сегодня официальная часть закончена. Сразу возникло множество вопросов и желание дать друг другу полезные советы, исчезла та скованность, которая мешала утром, перед началом заседания.
Ему хотелось как можно скорее поблагодарить переводчицу за успешное начало переговоров, сказать ей, как он рад, что она и дальше будет помогать, работе комиссии. Но он напрасно оглядывал длинный конференц-зал, очевидно, она незаметно удалилась, как только председательствующий закрыл заседание. Школьная тетрадь и серебряная шариковая ручка исчезли, так же как и их владелица.
Он вспомнил, что сразу же, как пришла, еще до начала переговоров, она между прочим сказала, что позвонит ему или оставит в гостинице записку, но он тогда не обратил на это внимания и ни о чем не спросил. Он не предполагал, да и не мог предполагать, что она готова посвятить ему и часть своего свободного времени.
Они шли вместе по широкой улице, но на таком расстоянии, что если один из них уступал дорогу встречному пешеходу, то другой уже с трудом отыскивал его в густом потоке людей.
Разноцветные неоновые огни искрились на фоне вечернего неба.
— Положение казалось уже критическим, но тут появились вы, — улыбаясь, сказал Бендл и красочно обрисовал, какое у всех было настроение перед ее приходом.
— Не может быть… — Она сделала вид, что удивлена. — Конечно, я опоздала.
— Вы появились в тот самый момент, когда больше всего были нужны, — старался польстить ей Бендл. — И были просто восхитительны!
Она рассказывала ему о себе: как изучала чешский язык в Карловом университете, в каком районе жила в Праге, в какие библиотеки, театры, танцевальные залы ходила. Иногда она просто изумляла его неожиданными вопросами о каких-то незначительных подробностях, вроде того, как сейчас выглядит Мальтезианская площадь и не бывал ли он последнее время в кабачке «У Шутеров». И все это как бы мимоходом, среди густой толпы, которая поминутно то уносила ее, то возвращала обратно.
Он и не заметил, как они очутились перед театром.
Вход окутывала пелена света, фонари утопали в жемчужной мгле сумерек. Одна за другой подъезжали машины, со всех сторон спешили зрители, боясь опоздать к началу спектакля, а театр радушно раскрывал свои двери.
Опера была веселая, местами просто озорная, с полусказочным сюжетом. Актеры в национальных костюмах исполняли неизменный чардаш. Картина следовала за картиной, декорации менялись на глазах у зрителей, и все шло ритмично, согласованно, рождая душевное спокойствие, как в приятном сне.
В зале не было ни одного свободного места, а прямо посреди действия иногда раздавались аплодисменты и взрывы смеха.
В антракте все прогуливались в просторном фойе, большая часть публики была в вечерних туалетах: у мужчин белые воротнички и неизменные черные бабочки, у женщин нарядные прически, словно в этот вечер они, как всегда, были в парадном виде и в наилучшем настроении.
Только его спутница в своем будничном, чуть ли не школьном платьице, с наспех причесанными короткими волосами выглядела на этом фоне несколько бедно и скромно.
Он осторожно рассматривал ее. Она казалась спокойной, уверенной в себе, ему нравился гордый выпуклый лоб, живые блестящие глаза, правильные тонкие черты небольшого лица. Восхищала манера держаться — как подобает искушенному гиду, иногда, правда, чересчур профессионально сдержанная, но, к счастью, поминутно приходившая в противоречие с молодой пылкостью.
Он старался быть внимательным, давал понять, как рад, что она рядом с ним. Повел ее в буфет, предложил выпить чашечку кофе, они сели за низкий столик и, оказавшись друг против друга, невольно оба заулыбались.
Нащупав в кармане сложенный листок, он рассеянно повертел его и наконец припомнил:
— Вы подписались весьма загадочно… Что означает это ваше «А.»?
Она сразу догадалась, о чем речь, лукаво усмехнулась и, как бы извиняясь, ответила:
— Это я по привычке… Меня зовут А́нико.
— Странное имя! По-чешски, наверное, Анна? Или Анежка… Или Андела?
— Да нет, — засмеялась она. — Наверно, скорее всего Анна. Но Анико — это просто Анико…
Антракт был короткий, по крайней мере им так показалось.
Сидели они на балконе и следили сверху за цветными конусами света, в которых двигались по сцене актеры. Когда содержание оперы было недостаточно понятно, Анико шепотом объясняла. Но, разумеется, когда это было на самом деле необходимо. И в густом полумраке зала он встречал взгляд сияющих глаз, наклонялся и слушал, что она шептала, и сияние глаз обжигало его, ведь она была так близко…
Между тем на залитой красным светом сцене, словно в отблеске зарева, Янош Хари беззаботно распевал о том, какой прекрасной может стать жизнь, если только человек сам того захочет, сколько всюду веселья и забав, сколько радости и любви. Янош Хари смеялся и веселился, пел и танцевал, высоко подпрыгивая, его мягкие сапожки мелькали по сцене. Своим настроением он заразил и зрительный зал, все смеялись вместе с ним, восторженно аплодировали и, будь возможность, наверное, танцевали бы вместе с ним, а может, и запели бы… Наконец его бодрый, сильный голос отзвучал, взлетел под самый купол и рассеялся там. Оркестранты внизу уже складывали свои инструменты, сцену медленно закрывал золотисто-желтый занавес, зажглись огни. Но зрители продолжали бушевать. Янош Хари в форме простого солдата низко кланялся перед опущенным занавесом.
— Я вам очень признателен, — несколько сдержанно поблагодарил Бендл, когда после окончания спектакля они вышли из театра. — Действительно было чудесно.
— Да? — отозвалась Анико. — А я-то боялась, что вам не понравится.
— Странного вы были обо мне мнения…
— Я вас совсем не знала.
— А теперь знаете?
— Немножко знаю.
— Мне так неловко, я отнял у вас массу времени, — продолжал он. — Собственно говоря, сегодня весь день и весь вечер вы посвятили мне.
— Ну что вы, ничего особенного. Я очень рада, что вы довольны.
— Но ведь у вас свои интересы… свои знакомые…
— Конечно. Только это вовсе не значит, что я не могу пойти в театр.
— Вы бы наверняка нашли и более приятные развлечения…
— Это не развлечение, это работа.
— Ах, вот оно что, — сказал Бендл.
Какое-то время они шли молча.
На улице было все так же оживленно, как и до начала спектакля. Только неона, казалось, стало больше: вывески и указатели светили отовсюду и лезли прямо в глаза.
— Здесь вы перейдете улицу, а направо, совсем рядом, ваша гостиница, — вдруг остановившись, сказала она и подала ему руку. — А мне на трамвай.
— Я подожду вместе с вами.
— Зачем, не стоит…
— Мне все равно некуда спешить.
Напротив, на другой стороне улицы, светились широкие окна большого кафе, оттуда доносилась приглушенная музыка, видны были посетители у стойки бара. Временами музыка вырывалась из дверей и тут же тонула в уличном шуме.
— Жаль, что вы спешите, — как-то неуверенно проговорил он.
— Почему?
— Да-так… Можно было бы посидеть в кафе.
— В другой раз, — просто ответила она. — Наверняка такая возможность еще представится.
И вскочила в дребезжащий трамвай, который сразу же тронулся. Бендл еще увидел ее на площадке вагона, и ему показалось, что она помахала рукой.
Он сидел в кафе гостиницы за круглым столиком на двоих, пил лимонный сок, в котором плавали маленькие кусочки льда, и скучал. Спать не хотелось, усталости он не чувствовал — поболтать бы, да не с кем. В переполненном зале с обитыми плюшем креслами и диванчиками, с большими зеркалами на стенах каждый развлекался на свой вкус — в компании или вдвоем.
Стоило ему повнимательнее вглядеться в кого-нибудь из посетителей, как тут же начинало казаться, что все они — актеры на сцене и каждый старается как можно лучше сыграть порученную ему роль. Даже освещение было по-театральному приглушенным.
Большинство мужчин с напомаженными волосами, у всех черные брови, тонкие усики, выбритые до синевы гладкие лица, белоснежные воротнички и манжеты. Женщины нежные, романтичные, с печальными улыбками, утомленные бессонными ночами, оставившими у них под глазами темно-серые тени.
От нечего делать он принялся разглядывать, какая из этих женщин могла бы ему понравиться, но ничего достойного внимания для себя не находил. Все они напоминали ему отблески ночных огней на Дунае, что тускнеют под утро, исчезая с ранним рассветом.
А может, это казалось только, потому, что он не понимал их речи, то струившейся ручейком, то вдруг стремительно обрушивавшейся водопадом, то звучавшей как шум ночной улицы, ворвавшийся в открытые окна, — ведь он воспринимал лишь выразительные жесты, ничего другого, кроме этих жестов, самоуверенных, прочно усвоенных, говорящих о превосходстве, искушенности в жизни. Ему казалось, что все они заняты только собой, любуются своим умением удобно развалиться в кресле и каждое слово сопровождать движением руки, бровей, рта, наклоном головы или умиленным взглядом. А он сидел здесь между ними одинокий, неуверенный, разглядывая людей, пока не убедился, что все они спокойно проводят вечер и никого абсолютно не волнует его присутствие. Он был для них всего лишь посетитель, в силу каких-то обстоятельств обосновавшийся за этим столиком.
Так и сидел он над стаканом лимонного сока за столиком на двоих, опустив глаза. И вдруг понял, что в этом жизнерадостном красочном городе, где на каждом шагу открываются тысячи возможностей для развлечений, все они не для него. При его характере, взглядах, возрасте, положении, да и финансах, он был предоставлен самому себе, мог рассчитывать только на свое собственное общество или вот так, как сейчас, наблюдать, сидя за своим уединенным столиком.
Все эти люди существовали где-то за пределами его досягаемости, словно за стеклянной стеной.
Допив лимонный сок, он расплатился и собрался уходить.
Человек в полосатой рубашке и зеленом, как трава, галстуке привлек его внимание: он сидел в другом конце зала и был тоже один; вероятно, он кого-то ждал, потому что настораживался при любом движении в зале, смотрел в сторону дверей и тут же опять разочарованно откидывался в кресле.
Может быть, он тоже ждет, сам не зная кого…
Неожиданно Бендлу вспомнилась хрупкая переводчица, ее маленькое улыбающееся лицо, выпуклый лоб и ярко сияющие глаза. Анико, она сказала, ее зовут Анико… Имя звучало экзотично, будто по-японски, и доносилось как бы издалека, с другого берега.
Впрочем, она милая и красивая и совсем иная, чем он предполагал, чем можно было ожидать.
Снова он мысленно услышал ее веселые слова, сказанные мимоходом, как бы невзначай, о чем-то второстепенном: «В другой раз. Наверняка такая возможность еще представится».
И тут же его безжалостно кольнуло острие вопроса: а что, если и вправду представится?
Он собирался еще перед сном позвонить домой, хотел узнать, что нового, как там жена, родные. Но когда пришел в гостиницу, показалось, что уже слишком поздно и он только зря разбудит жену, даже испугает. Ведь ничего особенного не произошло, можно спокойно отложить разговор на завтра.
Ночью его номер выглядел еще более тесным и убогим, чем днем. Кровать, ночной столик, шкаф, два стула и умывальник — вся мебель бесцветная, безликая, казенная.
Внимание привлекла лишь репродукция какого-то желтого пейзажа — широкая венгерская степь под жгучим палящим солнцем, а на косогоре домик с низкой соломенной крышей и высокий колодезный журавль.
Откуда же он знал этот полумертвый край? Ведь пейзаж показался ему давно знакомым, примелькавшимся, может, он видел его на иллюстрациях в книгах или во сне… да, скорее всего, в часто повторяющемся одном и том же сне. У каждого человека есть свой излюбленный пейзаж, только ему одному близкий, исхоженный вдоль и поперек край его сновидений.
Тесный неуютный номер с затхлым воздухом, с занавесками, пропахшими табачным дымом, — на всем, казалось, лежит тонкий слой пыли и отовсюду поднимается едкий запах дезинфекции или мастики. А больше всего раздражал молочно-белый шар, затерянный у самого потолка, тусклый свет едва достигал резного бордюра старого шкафа, и комната была погружена в полумрак.
Погасив белый шар на потолке, он зажег ночник, настежь открыл скрипящие створки окна, и тогда из узкого темного переулка, словно из погреба, в комнату ворвались звуки цыганского оркестра, пение, смех, шум и едкий чад из кабачка в полуподвале.
Он с раздражением закрыл окно, улегся в постель, погасил ночник и, размышляя в темноте, стал ждать, когда же его одолеет сон.
В общем-то, думал он, этого маленького номера ему совершенно достаточно на те несколько дней, которые он проживет в Будапеште. Через день-другой он, может быть, и привыкнет, научится жить здесь в одиночестве…
Сон все не приходил. Ему казалось, что шум всего города собирается в этом узком переулке, проникает в окно его номера, чтобы не дать покоя ни на минуту. Тогда он спрятал голову под подушку и сразу уснул.
Он видел перед собой пожелтевшие травы широкой южной степи, которая выступила из убогой рамы и, разливая кругом грязноватую желтизну, затопила всю тесную комнатку.
Его обдавал сухой жаркий воздух и дурманящий запах горьковатой полыни; желтая удушливая пыль забиралась в уши, в нос, в глаза, во рту пересохло, и его одолевала усталость от прожитого дня.
По оврагам убегала вдаль извилистая дорога, она то исчезала в высоком сухом ковыле, то снова появлялась впереди, на пологом склоне. А там, за зеленым пригорком, блестела синяя гладь озера, по краям поросшего высоким камышом, — освежающая синь среди дневного зноя.
И весь этот край, горы, степь, а главное, озеро казались неправдоподобными, нереальными, как бы по ошибке попавшими в раму картины, произвольно объединенными горячечной фантазией. Что это — мечта, игра воображения или просто сон?..
Над степью в прозрачном воздухе летят птицы, диковинные большие птицы, скорей всего соколы, широко распластав могучие крылья, они легко парят в свободном просторе, поднимаются ввысь в редеющей пелене солнечной желтизны…
Внезапно солнце осветило стену, яркий лучик упал золотой лентой на закрытые глаза.
В тесный гостиничный номер ворвался новый день.
2
Еще перед отъездом из Праги Бендл представлял, как распорядится в Будапеште своим свободным временем, куда пойдет, кого навестит, кому позвонит.
Но с утра до вечера он был занят и каждый день откладывал эти визиты на неопределенное время.
Совещания, заседания, консультации, плановые комиссии, подготовка материалов и документов, посещение выставок образцов, экскурсии на заводы, осмотр новых производственных линий, деловые и товарищеские встречи, а потом то обед, то ужин, то просто чашка кофе с новыми друзьями.
И совсем мало времени оставалось для себя.
В первую же свободную минуту он решил позвонить тете Лауре, так как дома его настойчиво просили об этом.
Ему не очень улыбалась встреча с этой бог весть какой дальней родственницей, ведь он ее никогда не видел и знал о ней только из разных семейных легенд, в которых она, как добрая фея, все сразу улаживала или, наоборот, переворачивала вверх дном. Он слышал о тете столько удивительного и противоречивого, что не мог составить о ней сколько-нибудь определенного представления, но это его мало беспокоило, он просто должен выполнить поручение своей семьи — позвонить ей по телефону и передать приветы. Он встретится с ней раз-другой где-нибудь по пути, извинится, что очень спешит, и вручит маленький подарок.
И, конечно, больше времени тратить на тетю Лауру он не собирается. Зачем?
Утром он встал сравнительно рано, принял душ, надел чистую рубашку и почувствовал себя совсем бодрым, хотя и спал ночью довольно скверно. Начинался погожий солнечный день, над крышами синело безоблачное небо, и со дна узкого переулка уже с раннего утра подступала к окну изнурительная жара.
В ресторан он пришел первым. Его встретил метрдотель в выутюженном костюме, словно манекен, механически поклонился и пожелал доброго утра. Бендл с аппетитом завтракал в залитом солнцем зале и наблюдал, как постепенно подходят люди, группами или в одиночку, большей частью иностранцы. Метрдотель всех встречал поклоном, солнечные полосы лежали на белых скатертях.
Банк находился неподалеку, и Бендл с удовольствием прошелся, пока на улицах было нешумно. В половине восьмого он уже стоял перед входом и улыбался тому, что у банка такое длинное и трудно произносимое название. Он несколько раз безуспешно пробовал прочитать его по слогам, но останавливался на середине или в лучшем случае на двух третях слова. Скопление согласных в бесконечном названии просто застревало на языке, и он никак не мог с ними справиться.
Чеки ему оплатили сразу, ждать не пришлось. Девушка за стеклянной перегородкой так мило улыбнулась, что он чуть было не пригласил ее прогуляться по набережной Дуная или посидеть на бархатном диванчике в полутьме какой-нибудь старинной кондитерской.
Когда он вернулся в гостиницу, оставалось еще немного свободного времени. Бендл подошел к телефону и набрал номер тети Лауры.
Нетерпеливо слушал, как на другом конце провода долго звонил телефон. Собрался уж было нажать на рычаг, как вдруг кто-то поднял трубку и, по-видимому детский, невнятный голос сказал:
— Ало.
Бендл попытался объяснить по-немецки, что хотел бы поговорить с госпожой Лаурой, и голос неуверенно произнес:
— Ein Moment. — И опять наступила тишина. Через минуту тот же голос сказал почти шепотом:
— Sie schläft noch[1].
Бендл посмотрел на часы — было ровно половина девятого, он поблагодарил и сказал, что позвонит позднее. И уже представил себе, как расскажет своим, что тетя Лаура спала или ее не было дома, просто не удалось ее застать. И никаких церемоний и напрасной потери времени в обществе тети.
В полдень он зашел после заседания в гостиницу, чтобы оставить бумаги, принять душ и немного отдохнуть. Портье безупречно вежливым, но безразличным тоном сказал, что в холле его ждет дама.
Уж не Анико ли это? Но такое предположение было явно неправдоподобным: что ей здесь делать, в эту пору? Он искал ее глазами в кожаных креслах просторного холла, взволнованный возможностью встретиться с ней помимо запланированных ежедневных заседаний, но напрасно он волновался, Анико здесь не было, не было даже никого хоть сколько-нибудь на нее похожего.
В холле сидели несколько человек: семейная пара, готовая к отъезду, двое длинноволосых молодых людей, группа шумных иностранцев, видимо немцев, и совсем в стороне, спиной к дверям, пожилая женщина в соломенной шляпе, украшенной букетиком бархатных цветов, какие носили когда-то наши прабабушки. Перед ней на столике стояла чашка кофе и лежала развернутая газета.
Не иначе это тетя Лаура, подумал Бендл, подошел к ней и некоторое время стоял молча, так как она была поглощена статьей, впрочем, нет, не статьей, а скорей всего кроссвордом; да, определенно, она с большим увлечением решала кроссворд, упрямо морщила лоб и в рассеянности грызла кончик карандаша.
— Добрый день, — сказал он по-чешски, довольно громко.
Она подняла голову, из-под полей широкой соломенной шляпы сквозь очки посмотрела на него невинными светло-голубыми глазами на чуть загорелом, веснушчатом круглом лице и сказала без особого интереса:
— Ах, это вы… Я вас жду. Присядьте, пожалуйста, на минутку, сейчас я закончу, один момент… — И снова углубилась в кроссворд, как азартный игрок перед самым концом партии.
— Я должна была это отгадать, — сказала она, после того как вписала в свободные квадратики нужное слово. — Извините, пожалуйста. — Говорила она медленно, осторожно подбирая слова, явно боясь что-нибудь спутать, она долго, очевидно, не говорила по-чешски, и понадобилось несколько минут, пока она снова обрела уверенность.
Это была приятная женщина, унаследовавшая от своих предков широкое славянское лицо, наверняка и во всем остальном она была типичной славянкой. В светлом летнем костюме с белым бантом, завязанным у ворота, она выглядела лет на шестьдесят или немного больше. Да нет, это была просто моложавая дама неопределенного возраста.
— Покажитесь-ка… — Она долго вглядывалась в его лицо сквозь очки. — Я ведь вас почти не знаю.
— Конечно, мы ведь никогда не виделись, — сказал он, — вас я тоже знаю только по рассказам.
— Я жду здесь уже целый час, — сказала тетя деловым тоном. — Что же, пойдем пообедаем?
— У меня совсем мало времени…
— Но пообедать-то вы все равно должны, — проговорила она строгим, не допускающим возражений голосом. — Идемте сразу, чтобы не терять времени.
Когда тетя поднялась с кресла, она оказалась выше, чем можно было предполагать, и в своей широкополой шляпе выглядела солидной респектабельной дамой. Опираясь на палку, но не прихрамывая, она довольно проворно двинулась к выходу.
Только на улице перед гостиницей остановилась.
— Так куда же мы пойдем? — спросила она.
— Не знаю, вы здесь ориентируетесь лучше меня.
— Ты уже пил кофе? — ни с того ни с сего перешла она на «ты».
— Пил, а что?
— Прежде всего надо выпить кофе, — заявила она и направилась к угловому дому, из открытых дверей которого на всю улицу разносился запах кофе.
Он удивился — ведь она только что пила кофе в гостинице, — но ничего не сказал и послушно шел за ней, надеясь, что в кафе-эспрессо они долго не задержатся.
Но где там! Тетя ловко протиснулась между людьми, стоящими около автомата, удобно уселась за столиком у окна, прислонила палку к стулу позади себя и решительно сказала:
— Закажи кофе. И коньяку… ты, конечно, пьешь коньяк?
Оставалось только подчиниться.
Он принес два кофе и два коньяка и сел напротив нее.
Тетя вынула из сумочки помятую пачку сигарет и протянула ему:
— Бери.
— Я, тетя, курю только по праздникам…
— Вот сегодня у тебя и праздник. Разве нет? — спросила она весело и с удовольствием, словно в подтверждение своих слов, выпила глоток коньяка. — Праздник; потому что мы встретились. — И снова засмеялась, смех ее напоминал удушливый кашель.
За окном был виден шумный перекресток, один поток пешеходов спешил перейти с солнечной стороны в тень, другой наоборот — из тени на солнце, по освободившейся дороге проплывали бесчисленные машины.
Тетя купила «Фечке», самые дешевые и самые крепкие венгерские сигареты, какие только были ему известны, из-за них, очевидно, она так осипла и смеялась, как завсегдатай пивного бара.
— Вы много курите? — спросил Бендл, чтобы поддержать разговор.
— Да нет, две пачки в день, не больше, — ответила она с достоинством и допила свой коньяк. — Видишь, я же тебе сказала, что не задержимся.
Не успел он потушить сигарету в пепельнице и допить коньяк, а тетя со своей неизменной палкой уже выходила через стеклянные двери на шумную улицу. Догнал он ее уже в толпе, она направлялась в сторону набережной.
— Я должен передать вам привет от жены и от всей нашей семьи, — вспомнил он.
— Я знаю, — тетя оставалась невозмутимой, — потом все расскажешь… теперь идем обедать.
— Куда?
— В лучшую столовую самообслуживания.
К счастью, столовая была недалеко, через одну улицу, и он не без удовольствия отметил, что о существовании этой уютной на вид столовой до сих пор не знал, хотя, конечно, несколько раз проходил мимо.
— Тетя, но здесь уйма народу, — встревожился он. — Сейчас, в полдень, наверное, самое обеденное время.
— Ничего. Здесь всегда быстро обслуживают. Ты и не заметишь, как подойдем.
Они стали в очередь: первым делом у кассы, за талоном, в который раздатчица впишет количество взятых блюд, а они при выходе предъявят его в ту же кассу и оплатят. Потом — за подносами и, наконец, — к стойке у раздачи, где очередь двигалась особенно медленно. Там они ждали, переминаясь с ноги на ногу, довольно долго.
— А что возьмем? — спросил он.
— Что? Это зависит от того, какой будет выбор… Или от того, что попадется на глаза.
Чем ближе они подходили к цели, тем становилось все более душно. Он заметил, как у тети из-под соломенной шляпы по лицу стекают тонкие струйки пота.
Повара в белых высоких колпаках ловко делили кушанья на порции, раскладывали их на тарелки. От кастрюль, больших противней и сковород поднимался пар, смесь разных запахов валила из кухни, как из волшебного котла.
— Ну, что возьмем? — присмирев, спросила тетя, когда было уже совсем близко.
— Откуда же мне знать, мне в основном пить хочется… — Он надеялся, что тетя сама выберет для него какое-нибудь блюдо, ведь она-то знакома с венгерской кухней.
Когда подошла их очередь и повар с тарелкой в руке вопросительно, посмотрел на них, тетя вдруг брезгливо сморщила нос и, к великому удивлению своего спутника, сказала:
— Знаешь что… мне здесь не нравится. Идем в другое место.
Что было делать, тетя сказала — ее слово закон.
Они пробирались к выходу, со всех сторон на них раздраженно ворчали, но тетя, снисходительно улыбаясь, палкой прокладывала себе дорогу, пока не дошла до кассы, и они, отдав пустой талон, с облегчением вырвались на улицу.
И вдруг оба рассмеялись, как школьники, только что улизнувшие от учителя.
Тетя взяла его под руку, и они пошли в сторону набережной Дуная, смеясь и хихикая, даже не зная над чем.
По всей вероятности, им было весело оттого, что у обоих от голода урчало в желудке, или оттого, что стоял такой прекрасный день и Дунай светился голубизной под мостом Эржебет, а сквозь железные конструкции арочного моста сиял ослепительный небосвод.
Куда же было теперь идти, как не в прославленный «Матяш пинце»[2], самый известный будапештский ресторан, куда следует зайти каждому, кто хоть ненадолго попадает в этот приветливый город.
В палисаднике на теневой стороне улицы, недалеко от главного входа, они увидели покрытые белыми скатертями столики и уже больше не раздумывали.
Тетя торопливо перелистала несколько страниц меню, официант, почтительно склонившись, ждал. Затем что-то сказала ему по-венгерски, всего несколько слов, он старательно записал ее заказ в блокнот и исчез. Другой официант, ничего не спрашивая, поставил перед каждым из них на круглую бумажную тарелочку огромный бокал пенящегося пива, такого аппетитного, что они оба не удержались и тут же с удовольствием его попробовали.
— А что вы заказали? — После большого глотка освежающего пива он снова ощутил ужасный голод.
— Не беспокойся, — ответила тетя, поднося салфетку с губам, — разумеется, самое дешевое, что у них тут есть.
И оба снова так расхохотались, что сидящие за другими столиками и порхающие вокруг официанты в белых передниках с удивлением посмотрели на них.
Смеялась тетя заразительно и сразу казалась моложе, морщинки вокруг рта исчезли, а глаза сияли и влажнели от набегавших слез.
— Ты ведь знаешь… в ресторане «люкс» и самое дешевое должно быть на уровне, — сквозь смех говорила она. — В столовой нечем было дышать, а здесь по крайней мере на свежем воздухе… дыши сколько угодно… — В подтверждение своих слов она глубоко вздохнула и откинулась на спинку кресла.
Ветер приносил с берегов Дуная раскаленный полуденный воздух.
— Удивительно хорошо вы говорите по-чешски, — сказал Бендл, — и как только вы его за это время не забыли!
— Как же я могла забыть, — сказала тетя и посерьезнела. — Я ведь прожила там лучшие годы своей жизни.
— Конечно, но если нет разговорной практики, язык обычно забывается…
— Иногда я покупаю у нас в табачной лавочке «Руде право» и прочитываю целиком. И кроссворд решаю.
— Любите кроссворды?
— Да, это моя слабость… вечерами, когда дома уже тишина и все спят, я сажусь в кресло и решаю кроссворды. Если б ты знал, сколько разных безделушек я выиграла… А сколько книжек! У меня их целая библиотека набралась уже.
Официант принес заказ. На красивых тарелках с синими узорами было какое-то необычное кушанье без соуса и без гарнира, напоминавшее наструганную, добела вываренную морковь, заправленную мукой и загустевшую; загадочное блюдо желтоватого цвета, которое трудно было как-то назвать или с чем-то сравнить. Подали и корзиночку с аппетитным свежим хлебом, который еще раньше понравился Бендлу, во время завтрака в гостинице.
Тетя сразу же принялась за еду, он последовал ее примеру. Кушанье оказалось вкусным, вкуснее даже, чем он ожидал. В загустевших овощах они обнаружили куски прекрасного говяжьего мяса, сочного и мягкого, они заедали его белым хлебом и запивали пивом.
Тетя закончила еду раньше, чем он, и вытерла салфеткой рот, вид у нее был в высшей степени довольный.
— Ну как, понравилось?
— Очень, — еще с полным ртом ответил он, — но как это блюдо называется?
— Вот уж не скажу, — засмеялась она своим заразительным смехом. — Настолько чешским я не владею. По-немецки это Kürbis… Kürbischen[3]. А что это такое, посмотри в словаре.
Он не знал, что такое «Kürbis», но это было не важно, обед ему понравился, чего же еще беспокоиться?
— А кстати, как тебя зовут? — удивила его тетя вопросом. — Я ведь даже не знаю, как к тебе обращаться.
— Меня? Йозеф, просто Йозеф.
— М-м… Такое скучное имя. Лучше бы тебя назвали Робертом или Рихардом.
— Меня оно вполне устраивает… Я к нему как-то привык.
— У нас дома всех Йозефов называли Пепи. Буду тебя звать Пепи.
Он случайно взглянул на часы, и настроение у него сразу испортилось, он занервничал. Так заболтался с тетей Лаурой, что совсем забыл о своих служебных обязанностях, уже давно надо быть на пути к одному из заводов-изготовителей, да разве теперь туда поспеешь?
— Я должен идти, — сказал он виновато, — опаздываю уже на свидание.
— Ну, ну, ведь ты же на свидании со мной. Тебе этого мало? Или то свидание интересней? — И она снова без всякого повода рассмеялась. — Ведь тебе же никогда не приходилось обедать в таком уютном месте?
Надо было признаться, что тетя права.
— Вне всякого сомнения, тетя, но…
— Я тебе кое-что скажу, мой милый. У меня в жизни один принцип, которого я до сих пор придерживалась. Такое мудрое и простое правило: не делай сегодня того, что можешь спокойно сделать завтра… Понимаешь, Пепи? Иначе у тебя вообще не останется времени на то немногое, что называется жизнью.
Она еще улыбалась, но глаза уже становились серьезными.
— Хм, может, это и хорошо, — возразил он неуверенно, нельзя сказать, что ему эта точка зрения не понравилась. — Но это же противоречит тому, что нам внушали с детства.
— Я тебе ничего не навязываю, а только делюсь своим опытом. — Тетя сделала вид, что немного обижена. — Если надо, беги, а я никуда не спешу… Мне здесь нравится, так что я еще немного посижу. Всякая спешка вредит здоровью.
Он позвал официанта, оплатил счет, заказал тете кофе, чтобы не оставлять ее за пустым столиком, и распрощался.
— Так я же не успел передать вам подарок из Праги, — вспомнил он, — оставил в гостинице…
— Ничего, ведь мы еще непременно увидимся.
К счастью, напротив главного входа как раз остановилось такси, он заметил его издали и поднял руку. Машина развернулась и через минуту подъехала к нему. Может быть, он еще успеет вовремя.
Бендл назвал адрес, и машина тронулась. Он увидел, как тетя Лаура сидит, выпрямившись, в палисаднике за столиком, среди красных бегоний, в своей широкополой соломенной шляпе, курит сигарету, выпуская в горячий воздух небольшие струйки дыма, и словно повторяет: «Всякая спешка вредит здоровью».
3
Наконец-то он собрался позвонить домой, в Прагу. Соединили сразу, без промедлений, слышно было превосходно, словно он говорил с кем-то из соседней комнаты.
Жена была рада, что он дал о себе знать. Дома все в порядке, особых новостей нет, вот разве что вчера кто-то звонил с его работы, не может вспомнить, кто именно, какое-то странное имя, да, вот уже вспомнила: Нейтек, Нейдек или что-то в этом роде. Он спросил, когда, мол, вернется муж, будто не мог узнать об этом у себя в учреждении. Она ему сказала все, что ей было известно, то есть что не раньше чем через неделю, но ведь они могут, если это необходимо, в любое время связаться с гостиницей…
Поскольку Нейтек звонил ему домой, да еще вечером, после рабочего дня, эта новость не давала Бендлу покоя, он никак не мог избавиться от неприятных мыслей и уснуть.
После нескольких дней, прожитых в Будапеште, он как-то отвык от обычной суматохи в объединении и не мог сообразить, что именно заставило Нейтека звонить к нему домой. Ведь всем должно быть ясно, что он вернется, как только на переговорах обе стороны достигнут определенных результатов, для чего понадобится несколько дней. Это было понятно каждому, кто имел хоть какое-то представление о сути переговоров.
И почему звонил именно Нейтек? С какой стати он вмешивается в чужие дела? Почему он вообще сует свой нос? Он ведь не имеет и не может иметь никакого отношения к служебной командировке Бендла. Пусть бы он лучше занимался собственными делами и не превышал своих полномочий!
Когда Бендл вспоминал его породистое, но какое-то помятое лицо и сонный, покорный, беззащитный взгляд голубых, как незабудки, глаз, он понимал, что этот тип сидит у него в печенках, что он просто терпеть его не может, ненавидит. Последнее время он избегал встреч с Нейтеком, ему были противны эти сладкие и пустопорожние разговорчики обо всем и ни о чем.
Ненависть зашла так далеко, что Бендл начал упрекать себя в том, что несправедлив к Нейтеку, зря осуждает его, может, даже завидует его личному обаянию. Вообще, уговаривал он себя, надо быть более снисходительным, более терпимым, а не так вот сразу, без всякой причины, ощетиниться и возненавидеть человека.
Они были знакомы уже лет пятнадцать, а то и больше и кое-что знали друг о друге.
Поэтому он воспринял как иронию судьбы, когда примерно год назад их директор, который, разумеется, не мог ничего знать, привел нового сотрудника — Нейтека — и представил его Бендлу.
Оба слегка смутились, подали друг другу руки, но не решились произнести ни слова. Только через несколько минут, когда пришел еще кто-то, Нейтек собрался с духом и обратился к Бендлу:
— Потом загляни ко мне, поговорим…
— Так вы знакомы? — удивился директор.
— Немного, — ухмыльнулся Нейтек и добавил чуть ли не таинственно: — У нас ведь одна специальность…
И когда на следующий день они неожиданно столкнулись в коридоре, Нейтек произнес в своей вкрадчиво-льстивой манере:
— Я же пришел сюда работать, потому что ты здесь и, значит, есть на кого опереться…
Само собой разумеется, это были пустые слова — он ведь всегда старался завоевать чью-нибудь благосклонность, приспособиться к обстоятельствам, втереться, примазаться — и врал, даже не краснея.
Крепко держа его за руку чуть выше локтя, Нейтек прошел с ним по коридору несколько шагов и настойчиво прошептал ему на ухо:
— А что здесь за женщины? Ты ведь разбираешься в этом.
— Я? — удивился Бендл. — Я — вряд ли… если тебя это так интересует, женщины здесь как и везде, одни более красивы, другие менее…
— Это само собой, — лукаво и вкрадчиво перебил Нейтек, — но меня интересуешь ты, как они к тебе относятся?
— Об этом ты можешь сам их спросить. — Бендл спокойно оборвал его попытку перейти на дружеский, доверительный тон.
Он вдруг вспомнил, как однажды, еще много лет назад, встретил Нейтека на Вацлавской площади и почти не узнал его: он был плохо одет, весь какой-то помятый, неопрятный, в расстегнутом пиджаке — погода, правда, стояла теплая, — а «пивное» брюшко нависало над поясом. Он как-то совсем опустился и одряхлел за то время, что они не виделись.
— Что с тобой? — сочувственно спросил Бендл. — Выглядишь таким усталым… ты не болен?
— С чего ты взял, я чувствую себя отлично, лучше, чем когда-либо.
Только позднее от кого-то Бендл узнал, что именно в это время у Нейтека произошла размолвка в семье, будто бы даже от него ушла жена, и он запил.
Впрочем, выпить он любил всегда.
Если говорить о женщинах — он пользовался незаслуженно большим успехом. То ли на них производила впечатление благородная седина на висках, то ли кроткий взгляд поразительно голубых глаз, то ли он умел вскружить голову своей вкрадчивой болтовней…
О нем рассказывали много занятных историй, порой выдуманных, порой нет, будто он заводил интрижки то с одной, то с другой, а где-то на международной ярмарке обольстил жену одного крупного деятеля. Злые языки обо всем этом с удовольствием судачили, но никто его нисколько не осуждал.
Даже за тот случай в архиве.
Возможно, это было просто стечение обстоятельств, но тогда, более десяти лет назад, Бендлу впервые стало ясно, кто такой Нейтек и что скрывается за его добродушной внешностью и изысканно вежливыми манерами.
Волею судеб оба они оказались сотрудниками экспортной организации; разумеется, каждый работал на своем участке, но они постоянно сталкивались и знали друг о друге все.
Там же, в архиве, служила одна бледная, малокровная девица, ничем не привлекательная, так, ничего особенного. Только глаза у нее были сияющие, зелено-голубые, и она всегда так пристально смотрела на людей, словно ждала спасенья от чего-то.
Все любили ее за внимательное отношение, за желание всегда пойти навстречу, помочь людям, за ее мягкий и ласковый характер, а больше всего, по-видимому, за то, что без нее было не обойтись — она постоянно разыскивала кому-нибудь тот или иной протокол, приложения, примечания, которые были упущены или потеряны. В архиве она поддерживала образцовый порядок, скрупулезно вела записи о затребованных документах, без расписки не выдавала ни одной бумажки. Никому.
За исключением Нейтека.
Все знали, что время от времени он заходит к ней, прислоняется к шаткой конторке и ведет долгие, какие умеет только он, бесконечные, разговоры. Это, по-видимому, ей нравилось, по крайней мере она охотно слушала его и искренне вместе с ним смеялась.
Никто не предполагал, да и не мог предположить, что между ними возникнут близкие отношения, что она к нему неравнодушна, но она вдруг при всех начала им восхищаться, сама искала с ним встречи.
Он ходил к ней до тех пор, пока все это не кончилось попыткой самоубийства. Она будто бы проглотила несколько пачек снотворного и в тяжелом состоянии была отправлена в больницу. В архив она больше не вернулась.
В списке выданных документов не хватало около двенадцати бумаг, большей частью с грифом «секретно», которые она, очевидно, выдала Нейтеку — все были твердо уверены, что именно ему, — и без расписки, под честное слово.
Он, видно, куда-то их засунул и потерял, ведь ни для кого не секрет, что он лентяй, работает медленно, ничем себя не обременяет, ни над чем не ломает голову…
А девушка, может быть, из-за несчастной любви, а может, из-за пропавших документов или из-за всего этого вместе чуть не лишила себя жизни.
В какой мере Нейтек был за это в ответе, какова была его вина, одному богу известно… Все осталось по-прежнему, словно этого происшествия и не было, словно ничего не случилось. Нейтек при любых обстоятельствах умел сохранить хорошее настроение. Как и раньше, он улыбался людям, прикидывался милым, задушевным человеком, со всеми был в добрых отношениях.
Об этой истории знали все, но никто не придавал ей большого значения, ведь у каждого есть на совести какой-нибудь грешок, какое же мы имеем право упрекать других.
Бендл давно уже чувствовал, что их разделяет что-то невысказанное, оно и настораживает и восстанавливает его против Нейтека. Когда бы они ни встретились, в нем просыпалось непонятное внутреннее беспокойство, сперва едва заметное, трудно объяснимое, может быть, и ни на чем не основанное, но постепенно выраставшее до непомерных размеров.
Напрасно Бендл старался вспомнить, когда и при каких обстоятельствах возникла между ними эта натянутость, случалось ли им поссориться или сказать друг другу обидное слово. Но ничего такого не приходило на память.
За все время знакомства — а знакомы они были немало лет — ничего заслуживающего внимания, ничего особенного не произошло.
Ведь сразу, при первой же встрече — он уже и не помнил, когда и где это было, — Нейтек и его покорил своей учтивой, деликатной манерой вести себя, умением слушать и понимать собеседника. Все его ценили, восхищались им, с удовольствием проводили с ним время. И когда Нейтек говорил, все молчали, никто не отваживался помешать, перебить его.
Отношение к нему окружающих имело, по-видимому, влияние и на Бендла, и первое время он тоже подпал под его обаяние и восхищался им.
Бендлу вспомнилось, как в те годы, когда они еще только познакомились, Нейтек с увлечением рассказывал невероятные истории, в которых он сам обычно играл главную, по меньшей мере героическую роль, в то время как остальные выглядели недоучками, подхалимами, тупицами. Особенно он любил рассказывать явно неправдоподобную историю о том, как однажды в сочельник спас жизнь своему приятелю, когда они решили сократить путь и пройти через железнодорожный туннель, но в середине туннеля их настиг поезд — они-то думали, что он уже давно прошел. Туннель был якобы узким, рядом с колеей тянулась только тропинка и канавка с водой, и когда поезд приблизился, у приятеля от шума и рева гудка сдали нервы, он вдруг в панике побежал по колее, спотыкаясь о шпалы и щебень, — а огни паровоза уже освещали ему спину. Нейтек бросился вдогонку, схватил его за руку, и они плюхнулись в воду, в канавку, а в этот момент с оглушительным грохотом над ними промчался поезд.
Эту историю Нейтек с каждым разом приукрашивал, и, слушая ее в третий-четвертый раз, Бендл не мог не заметить некоторых несоответствий; рассказывал Нейтек всегда одинаково эмоционально, только добавлял новые подробности, изменял их и варьировал в зависимости от настроения.
— Вчера ты рассказывал иначе, — отважился однажды заметить Бендл. — Вчера это происходило у Железной Руды, сегодня у Кашперских гор…
— Это же один район, — засмеялись слушатели, — совсем рядом!
Может быть, именно потому, что он поддел Нейтека в присутствии других сослуживцев, тот обозлился:
— Видно, ты вчера эту подробность пропустил мимо ушей! — И на мгновение исчезла его приветливая улыбка, лицо стало хмурым, а светлые глаза, всегда добрые и участливо-внимательные, сузились, в них промелькнула искра ненависти.
Скорее всего, этого никто даже не заметил, потому что разговор продолжался и настроение ни у кого не испортилось. И Бендл мог об этом эпизоде спокойно забыть, ведь ничего особенного не произошло. Но бог весть почему в памяти у него надолго сохранилась эта подробность.
Ничего другого, кроме этой мгновенной искорки озлобления в короткой перепалке, ему не припоминалось. Ничего заслуживающего внимания за эти годы в их отношениях не произошло, ничего настораживающего и ничего успокаивающего; они поддерживали знакомство, часто виделись, даже пытались, вероятно, понять друг друга, но не сближаясь, не проявляя особого интереса.
Конечно же, в их отношениях был элемент зависти, настороженной зависти одного к успехам и к продвижению по службе другого. Но самое неприятное — их считали друзьями, всем казалось, что они великолепно понимают один другого, раз вместе сидят за кружкой пива, играют в карты…
Прошло несколько лет, Бендл совсем потерял его из виду, ничего о нем не знал, ничего не слышал.
И вдруг Нейтек свалился как снег на голову, неожиданно перешел к ним в объединение и сразу же приобрел славу перспективного работника, способного бог весть на какой взлет. Теперь это был седой, элегантный, светский человек с приятной улыбкой, только его круглое «пивное» брюшко не мог скрыть даже безукоризненно сшитый костюм…
Но сейчас уже поздняя ночь, зачем же ломать себе голову над вопросом, почему звонил именно Нейтек, бог с ним, пусть живет как может.
К счастью, он далеко, чуть ли не за пятьсот километров отсюда, и это гарантия того, что в ближайшие дни они не встретятся.
Все время, что Бендл провел в Будапеште, он мало и плохо спал, ночи были короткие, шумные. Внизу, в подвале, далеко за полночь шумел винный погребок, а с раннего утра громыхала улица, и в узком ущелье под окнами эхом разносился каждый звук.
Иногда ему казалось, что он вместе со своей постелью очутился посреди мостовой и на расстоянии вытянутой руки дребезжат трамваи, свистят покрышки машин. Или что весь город, с обоих берегов, ворвался в его тесный номер — и Буда, и Пешт, и гора Геллерт, и Крепостная гора с Рыбацким бастионом, где вчера после обеда они были с Анико.
Они ездили туда на машине в перерыве между двумя заседаниями, чтобы хоть немножко подышать воздухом, посмотреть сверху на Дунай, на город.
Далеко была видна широкая голубая лента могучей реки, изящные дуги мостов, остров Маргит, утопающий в густой зелени, устремленные ввысь готические линии парламента с позолоченным куполом, отражающим во все стороны солнечные лучи, совсем новая, по-современному строгая гостиница «Интерконтиненталь», весь четко распланированный город с широким кольцом бульваров, а вдали «Варошлигет» — необозримый парк с зоологическим садом, выставками, аттракционами, простирающийся вплоть до скрытого в дымке тумана Народного стадиона.
Мосты легко и плавно изгибались над рекой, особенно понравились ему мост Маргит и Цепной мост, под ними проплывали маленькие, точно игрушечные, пароходики. По реке пробегала рябь, вода искрилась в легком прибое, дома на набережной отражались в ней, казалось, они наклоняются, изменяют свою форму, разбегаются в стороны, и весь город, насколько хватал глаз, тоже как будто накренялся вперед и, колеблясь, уплывал в ослепительную даль, а потом возвращался, и удлиненные отражения башен, бульваров и парков задумчиво покачивались на глади реки.
«После обеда поднимаюсь на бельведер, сажусь там на скамейку и смотрю на Дунай», — как будто снова услышал он низкий голос тети Лауры, когда за обедом в «Матяш пинце» она рассказывала, как обычно проводит свой день, чтобы он не прошел напрасно.
Только теперь Бендл понял, почему тетя, не жалея сил, подымается наверх, опираясь на палку, и глядит оттуда на свой город и свою реку, которые стали ей так дороги, что без них, по ее словам, жизнь потеряла бы всякий смысл.
Анико стояла рядом, совсем близко от него, и мелодичным голосом рассказывала историю возникновения Будапешта.
— Судя но археологическим изысканиям, — немного торжественно, как опытный гид, декламировала она, — это один из старейших городов мира. Он возник почти две тысячи лет назад, когда римские легионеры добрались даже сюда, на место теперешнего Будапешта. В то время, в начале нашего летосчисления, здесь было заложено большое военное укрепление, а потом на запад от него разросся многолюдный город.
Он представил себе голую холмистую равнину вдоль реки и надвигающееся издали войско римлян, как они здесь, может быть, даже на том самом месте, где он стоит теперь с Анико, расположились лагерем. Сколько их погибло в пути, сколько утонуло во время переправы в половодье, сколько жизней стоила эта дальняя дорога! А на противоположном берегу, где сегодня раскинулся Пешт, постепенно начал расти большой город с шумными базарными площадями и тенистыми улочками…
Мимо них, громко разговаривая, к Королевскому дворцу прошла группа иностранных туристов, но Анико увлеченно продолжала свой рассказ.
— Буда и Пешт постепенно превратились в большие города, а в пятнадцатом веке они уже стали крупными и широко известными торговыми и экономическими центрами.
Между тем у самого горизонта небосвод затянуло вуалью из перистых облаков, и на этом белесом фоне очертания города выступили острее, отчетливее. Казалось, город сжался, сгрудился, стянул к Дунаю все свои дома, парки, улицы и площади.
— В этом году[4] исполняется сто лет, — продолжала неутомимая Анико, — со дня объединения Пешта, Буды и Обуды, а также острова Маргит в единый город Будапешт. За это время облик его сильно изменился, особенно в последние десятилетия. После войны он был полностью восстановлен, выросли целые кварталы, и теперь это большой современный город.
Она умолкла, словно у нее перехватило дыхание, но тут же заговорила снова:
— Вам бы надо приехать сюда осенью, лучше всего в сентябре, как раз когда будут большие торжества…
— Я бы рад, — сказал он. — Но, к сожалению, это от меня не зависит.
И подумал, как было бы хорошо прийти на этот холм поздно вечером или ночью, конечно, вместе с Анико, прогуляться, посмотреть на ночной Будапешт, на реку, отражающую тысячи огней, на освещенные мосты, на колеблющиеся в воде отражения домов и башен, которые сливаются с темной синевой ночи.
Кто знает, может, это когда-нибудь и произойдет…
Надо бы куда-нибудь пригласить Анико, поужинать или потанцевать, вообще проявить к ней внимание, провести с ней хоть один вечер или два, больше времени у него все равно не найдется.
Анико наверняка ему не откажет, она не из тех, кто ломается, в крайнем случае признается откровенно, что занята или что ее это по какой-то причине не устраивает, но в любом случае она воспримет его приглашение естественно.
Вспомнил, как Анико вела себя в разных ситуациях все эти дни, какой была внимательной, дружелюбной, приветливой…
Правда, порой она вдруг становилась рассеянной, уходила в свои мысли, в мир собственных мечтаний и образов, неведомых ему. На мгновение она «отключалась», словно исчезала, но тут же приходила в себя и, тряхнув головой, смотрела на него мягким, извиняющимся взглядом.
Сколько ей лет? Наверно, она тоже не так уж молода, если пять лет назад окончила университет. Не меньше двадцати семи, а может, и чуть побольше…
У нее красивый выпуклый лоб, маленькое лицо с умными живыми глазами, и зрачки то чуть заметные, то огромные, в зависимости от настроения.
Обычно Анико старательно поддерживала разговор, иногда ей это удавалось, иногда нет, и тогда она пользовалась банальными, привычными штампами. Но это пустяки, на это никто не обращал внимания, все сглаживала ее детская, наивная улыбка.
Ведь именно Анико создала такую приятную для него атмосферу в Будапеште, в ней была причина прелести этих дней. Если он переоценивает ее роль в спокойном и успешном течении переговоров, то любой может подтвердить, что всюду, где она появлялась, воцарялось душевное спокойствие, лица присутствующих светлели, и она невольно становилась центром внимания. Но если он ожидает от нее чего-то большего, если питает в глубине души какие-то надежды, то определенно это его ошибка, ослепление, ожидание чуда.
«Жизнь иногда подобна плохому роману», — сказал однажды Нейтек во время какой-то вечеринки в объединении, уже сильно подвыпивший, глядя на него отсутствующим взглядом приторно ласковых глаз.
Это изречение он явно не сам придумал, вероятно, где-то от кого-то слышал и с удовольствием повторял, но звучало оно довольно остроумно и что-то в нем было. Жизнь иногда, хочешь не хочешь, похожа на роман, но часто бывает намного интереснее и удивительнее, чем самый лучший из них.
Хотя бы такой персонаж, как этот Нейтек. Вдруг он ни с того ни с сего всплывал в памяти и бесцеремонно занимал все мысли, беспокоил и надоедал, от него никак не удавалось отделаться. Возникал он в такие моменты, когда меньше всего Бендл думал о нем, — чтобы опять напомнить о себе, о вчерашнем дне, навязчиво пытаясь испортить сегодняшний.
И сейчас вот опять откуда-то из глубины памяти вынырнуло воспоминание о том, как Нейтек стоял перед ним и настойчиво, с невинно-слащавой улыбкой спрашивал:
— Слушай, Бендл, по всей видимости, ты знаешь о нашем объединении куда больше, чем другие… Я удивляюсь, почему ты не заглядываешь в будущее… Почему ты не заботишься о дальнейшей своей карьере?
— Зачем? — удивился тогда Бендл. — У меня и так работы выше головы, и забот тоже. Зачем еще взваливать новые? А должность меня вполне устраивает. Стараюсь свои обязанности выполнять как можно лучше.
— Подожди, ты меня не понял. Я думаю о нашем старике, о том, что он того и гляди уйдет на пенсию… Ты бы мог занять его место…
— Я? Что это тебе взбрело в голову! Нет, меня это совсем не волнует. Тут другие этим интересуются.
Только позже до Бендла дошло, что одним из претендентов, а может быть, самым главным, был как раз сам Нейтек. Поэтому он и задавал наводящие вопросы, поэтому так осторожно прощупывал его…
Вдруг показалось, что пошел дождь, затих уличный шум, город приготовился ко сну.
Да нет, никакого дождя нет, это машины поливают тротуары, мостовые и зеленый газон посреди улицы.
Освежающие веера воды как будто смывают не только пыль, но и всю усталость прожитого дня, приносят хоть некоторое облегчение.
Утром Бендл чуть не проспал.
Когда спустился к завтраку, торопясь на совещание, портье передал ему телеграмму и сказал, что не хотели будить его ночью. Бендл прямо в вестибюле с волнением несколько раз подряд прочитал:
УСКОРЬ ПЕРЕГОВОРЫ СВЯЗИ НОВОЙ СИТУАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕНИИ = НЕЙТЕК
4
Председатель комиссии Домокош устроил обед в честь своего партнера из Праги.
Обед, можно сказать, был прощальный, потому что сам Домокош в тот же день уезжал на переговоры в Софию и потому что в течение двух, самое большее трех дней комиссия должна была уже представить итоги переговоров.
На обеде присутствовали: гость, хозяин, его заместитель Шимон, который должен вести заключительную стадию переговоров в отсутствие Домокоша, представитель министерства внешней торговли и, разумеется, незаменимая Анико. Как обычно, единственная женщина.
Домокош всех их усадил в служебную машину и отвез сразу же после заседания в клуб журналистов. В заранее заказанном кабинете их ждал накрытый стол, украшенный цветами. Здесь все было в народном стиле: вдоль стен стояли витрины с вышивками, над ними висели разрисованные керамические фигурки и тарелки.
Сразу же, после первой рюмки, установилась непринужденная атмосфера, у всех было хорошее настроение. Первым слово взял хозяин, который все время поддерживал беседу на должном уровне. Он рассказывал о своих поездках в Словакию и Чехию, о посещении Праги, шутил, смеялся, пытался даже говорить по-чешски и совсем сносно вдруг запел народную словацкую песню.
Они знали друг друга уже несколько лет, но вначале знакомство это было, как говорится, шапочным. Год назад они провели первые совместные переговоры, где обсуждался один из вариантов сотрудничества, который потом был принят за основу долгосрочного соглашения.
Домокош был старше Бендла и, конечно, опытнее. Седой элегантный человек лет шестидесяти, всегда изысканно учтивый, он совсем не изменился с тех пор, как они в последний раз, год назад, встречались в Праге, так же доброжелательно относился к Бендлу и старался быть полезным ему. Казалось, они только вчера расстались.
— Мы хотели после окончания переговоров отвезти вас на Балатон, — сказал Домокош, — хоть ненадолго, хоть на прогулку: подышать воздухом, выкупаться, проветрить немного голову, освежиться. Но, как видите, к сожалению, ничего не получается, вы так спешите домой…
Он говорил быстро, разумеется, по-венгерски, Анико на одном дыхании переводила.
— Я-то не спешу, — совершенно искренне ответил Бендл. — Это у нас там спешат. С удовольствием побыл бы здесь еще.
Домокош, довольный, усмехнулся.
— Вижу, Будапешт вам понравился.
— Да. Это один из немногих городов, где я бы хотел жить…
— А где еще?
— В Праге, Ленинграде, Париже, Будапеште — в них что-то есть общее.
Сказав это, он понял, что мысль не завершена, и, прежде чем перейти к другой теме, повернулся к Анико и попросил:
— Скажите им, пожалуйста, что город для меня — это не только дома, улицы и переулки, а и люди… Если есть кому позвонить, с кем встретиться, если знаешь, где лучше всего пообедать, выпить чашку кофе, в каком табачном ларьке купить билеты на трамвай или метро, — тебе уютно в городе…
— Думаю, в Будапеште вы все это уже знаете, — подхватил Домокош.
— Да, кое-что в этом городе я уже знаю.
— Как я в Праге, — продолжал Домокош. — Прага для меня тоже город, где я бы мог жить…
— А я там пять лет была так счастлива, — поддержала его Анико.
Обед был великолепный, подавали большей частью национальные венгерские блюда. Хозяева и гость выпили не одну рюмку доброго вина и под конец — по чашечке кофе.
Домокош со своим заместителем должны были вернуться на работу, к четырем часам они заказали машину и предложили подвезти Бендла в гостиницу.
Но тот отказался, сказав, что хочет пройтись, ведь этот район города он почти не знает, да и свободный остаток дня ему очень кстати, надо же купить сувениры домашним. Анико решила пойти с ним, хотя бы на часок. Поможет ему сориентироваться в магазинах, а потом где-нибудь по пути сядет в трамвай и поедет домой.
На прощанье они с Домокошем крепко пожали друг другу руки.
Как только Бендл и Анико проводили машину, Анико, стоя в тени низкого кирпичного забора, заговорщически прошептала ему на ухо, словно подбивала на что-то запретное:
— А не заглянуть ли нам хоть ненадолго в Видам-парк?[5]
— Гениальная идея, — одобрил он. — Как это вам пришло в голову?
— Очень просто, — рассмеялась она. — Парк же совсем близко, в двух шагах…
Хотя парк оказался несколько дальше, чем она сказала, но шли они быстро и через несколько минут, перейдя площадь Героев со знаменитым Памятником Тысячелетию, уже попали в густую тень старого парка.
Они шли по дорожкам, усыпанным песком, мимо живописных маленьких озер с белыми лебедями, мимо деревянных павильонов и детских площадок.
Настроение было превосходным — после отличного обеда, а может быть, и от выпитого вина; они чувствовали себя беззаботно-счастливыми, город остался позади, и ради этого дня и этих минут можно было забыть обо всех обязанностях.
— Без вас я бы наверняка здесь заблудился, — сказал он шутливо, взял ее под руку и притянул к себе поближе. Анико подчинилась, пошла совсем рядом, и они чуть не споткнулись на совершенно ровной дороге.
— Давайте заблудимся, — сказала она таинственным приглушенным голосом, точно так же, как недавно предложила ему посмотреть парк.
Заблудиться, правда, было негде, перед ними неожиданно вырос деревянный городок, пестрый хоровод луна-парка: качели, тиры, карусели, автодромы, бесчисленные киоски и павильоны. Всюду в тесных проходах двигался поток людей: девушки, солдаты, мамаши с колясками, студенты, иностранные туристы и главное — дети, больше всего здесь было детей.
И над всей этой толпой разносилась из невидимых репродукторов смесь хриплых голосов и танцевальной музыки. Бендл и Анико смешались с толпой, увлеченные красочным зрелищем, беспокойный людской поток нес их от одного аттракциона к другому. Теперь уже, казалось, было совершенно оправданным, что он сжимал ее руку выше локтя и поминутно привлекал ее к себе, особенно когда они застревали в толчее.
— Народу — как в Праге на день святого Матея, а то и больше, — одобрительно сказал Бендл.
— Или когда со Стромовки народ идет в парк Юлиуса Фучика, — добавила Анико.
Они случайно остановились перед «лохнесским чудищем» — пресловутой каруселью, которая с изобретательностью вытрясает из людей душу. Зазывала услужливо пригласил их подняться по ступенькам наверх, и они, не сопротивляясь, пошли.
— Не знаю, не знаю, что с нами будет после такого сытного обеда, — забеспокоился Бендл.
Но они выдержали эту бешеную езду и остались в полном здравии, тряслись только колени и все плыло перед глазами, когда они неуверенно ступили на твердую почву, которая тоже показалась им шаткой, словно бы кренилась то в одну, то в другую сторону.
Прошли они и по лабиринту и вволю там насмеялись, глядя на свои фигуры, искаженные кривыми зеркалами. Тесно прижавшись друг к другу, катались в зеленом автомобильчике на автодроме, за рулем сидела сначала она, потом он, не обошлось и без столкновений с другими водителями, наконец оба сошлись на том, что зеленый цвет машины, которую они выбрали, конечно же, цвет надежды.
— Если хотите, можно еще прокатиться на американских горах, — предложил он.
— Нет уж, благодарю, у меня и без того голова кружится, — ответила Анико. В шумном потоке людей он все время чувствовал ее присутствие, каждое ее случайное прикосновение и слегка поддерживал ее, пока они пробирались по этому фантастическому городку развлечений.
Наконец они остановились у тира. Стали по очереди стрелять в подпрыгивавшие над фонтанчиком цветные мячики, в музыкальные шкатулки, в жестяных барабанщиков, иногда попадали — иногда нет и смеялись при этом, советовались, проверяли свое умение сосредоточиться и спорили, у кого из них точнее прицел.
Он выиграл несколько роз из вощеной бумаги и плюшевую собачку с кивающей головой и все это подарил ей.
Анико несла свои трофеи в объятиях, шла, словно танцуя, впереди него и совсем неожиданно завернула на тихую тропинку, ведущую в парк. Он шел за ней как зачарованный и чувствовал себя по-мальчишески счастливым и взволнованным, нисколько не сомневаясь, что и она испытывает те же чувства.
Она что-то крикнула ему, но доносившиеся из ближних павильонов шум, гул и голоса заглушили ее слова.
От Анико глаз не оторвешь, с алыми розами в руках она и сама порозовела, посвежела… Вот она остановилась, ждет его.
— Буду вас называть Розмондой, — сказал он с нескрываемым восторгом. — Знаете, наверное, это стихотворение Аполлинера?
— Нет, не знаю, — призналась она. — Вы помните наизусть? Прочтите!
Бендл не заставил себя просить и немного торжественно прочел ей строфу из стихотворения, которое так ему нравилось:
Я Розмондой назвал свою грезу чьи уста словно розы цвели и потом я ушел и ни разу на бескрайних дорогах Земли я не встретил прекрасную Розу[6].— Великолепные стихи, — вздохнув, сказала Анико.
В аллеях парка зажегся тусклый свет фонарей, издали казалось, что это лампионы, висящие по бокам темно-зеленой арки. Только теперь стало видно, что сыплет мелкий густой дождь.
Они медленно шли по песчаной дорожке и не обращали внимания на дождь. Беззаботное, легкомысленное настроение после выпитого вина, катанья на карусели и стрельбы в тире исчезло. Оба без всякой причины вдруг посерьезнели, притихли, песок мягко поскрипывал под ногами, все глуше и глуше доносился до них шум луна-парка.
— Скажите, что вы обо мне думаете? — удивил он Анико неожиданным вопросом.
Она ответила не сразу, тихо шла рядом, тыльной стороной руки вытирая капли дождя на лице.
— Не знаю… ничего определенного, — сказала она спокойно, совсем серьезным тоном. — По всей вероятности, вы идеальный человек. Такой прямой, ровный…
— Не думал я, что вы обо мне столь высокого мнения.
— Такое впечатление, что вам можно верить, на вас можно положиться. Наверное, вы хороший спутник жизни.
— Вы просто льстите мне. Может быть, вам только так кажется?
— Ничего подобного, — сказала она уверенно. — Я уже немного разбираюсь в людях.
Очевидно, ей трудно было идти по мокрому песку, она ступала неуверенно, и он опять, слегка поддерживая за руку, осторожно повел ее. Анико доверчиво прильнула к нему.
— Вы же вся промокнете! — Он выбирал дорогу то под деревьями, то под навесами уже закрытых павильонов.
— Вы тоже промокнете, — засмеялась она. — А теперь ваша очередь откровенно сказать, что вы обо мне думаете. Все начистоту.
— Это совсем просто: вас ведь все любят, на вас нельзя обижаться или сердиться.
— Нет, это не так.
— Вы ведь легко шагаете по жизни? Правда?
— Да нет…
— И вы хорошо знаете, что вам надо, идете прямо к намеченной цели. И не признаете компромиссов.
— Это уже звучит лучше. Словно гадание по руке.
— А вот ваша личная жизнь мне не совсем ясна.
— У меня нет тайн… обычная жизнь, как говорится, все нормально. Есть у меня и друзья, и поклонники… жизнь как жизнь. Ничего особенного.
— Кажется, я зря спросил…
— Пожалуй, — сказала она с едва заметным раздражением.
— Извините.
— Да не за что… я понимаю, вам хотелось об этом узнать.
Дождь усиливался, деревья промокли и больше не могли укрыть их, но впереди уже виднелась улица и сквер, а за ними станция подземной дороги.
Они бежали под ливнем, увязая в песке аллейки, капли дождя ласково касались их лиц, волос, попадали за шиворот, стекали по рукам. В свете фонарей было видно, что озеро покрылось крупной рябью.
Вдруг Анико остановилась и нерешительно оглянулась. Пока бежали, она растеряла розы. Цветы валялись на песке, едва заметные в темноте.
— Да зачем они нужны! — махнул рукой Бендл.
— Нужны, — заупрямилась она.
И не обращая внимания на дождь, пошла собирать свои восковые розы. Ему ничего другого не оставалось, как тоже вернуться и помочь ей.
Они ехали сказочной подземной дорогой, прозванной «музеем на колесах». Со станции «Варошлигет» на «Площадь Вёрёшмарти». С одной конечной станции на другую. Маленькие, до смешного маленькие вагончики, с деревянными скамейками вдоль стен, с великолепными медными поручнями, с отделкой резного дерева, шумно и весело громыхая, неслись вперед, раскачивались и подпрыгивали под аккомпанемент скрипа дерева, дребезжания стекол, гудения рельсов, а может быть — чего уж никак нельзя было проверить, — и потрескивания ободьев на колесах. Эта первая подземка в Европе с почти четырехкилометровой трассой честно служит, на радость пассажирам, семьдесят пять лет.
А между тем, сказала Анико, Будапешт уже строит современное метро с комфортабельными вагонами, оборудованными по последнему слову техники.
Вагончик был переполнен. Людей набилось в два раза больше, чем полагается, и он весело подпрыгивал на ровной как стрела линии, словно радуясь, что в подземелье сухо и уютно, хотя там, наверху, идет проливной дождь.
Все это было похоже на сон: старинные вагончики, слабый свет запотевших ламп и люди, похожие на призраки, в промокшей, прилипшей к телу одежде. Бендл и Анико стояли мокрые, прижатые друг к другу, облокотившись о медные поручни вагона, глаза у них блестели, они не замечали, что душно, что нельзя пошевелиться, встать поудобнее или откинуть со лба волосы, с которых капает, они даже не сопротивлялись мерному покачиванию вагона.
Анико одной рукой держалась за Бендла, другой прижимала к груди сумочку, восковые розы и промокшую плюшевую собачку, которая все время, в такт движению вагончика, трогательно покачивала головой, особенно когда поезд тормозил у станции.
Анико была усталая, притихшая, погруженная в свои мысли и заботы, о которых он ничего не мог знать. Бендлу хотелось ее ободрить, рассеять, найти для нее теплые слова, но ничего не приходило в голову.
— Вы словно Принцесса папоротников, — наконец сказал он. — Знаете эту сказку?
— Нет, не знаю.
— Сказка об одной прекрасной лесной фее. Она питалась ягодами ежевики, играла с косулями и зайцами, была целомудренна и ничего не знала о людях и их жизни, пока однажды не нашла в лесу раненого старого солдата, возвращавшегося домой с турецкой войны… и вылечила его лесными травами…
Казалось, она совсем не слушает, мысли ее витают где-то далеко, взгляд какой-то отсутствующий, но вдруг она, словно очнувшись, спросила:
— И вы этот солдат?
— Нет, это всего лишь сказка, — защищался он.
— Да и я не Принцесса папоротников.
— Жаль! Вы так на нее похожи…
Остановки следовали часто, одна за другой, на станциях скопилось довольно много народу, очевидно, все хотели укрыться здесь от дождя, но с первой станции поезд шел уже переполненным. Люди стояли на перроне в ожидании следующего состава с веселыми вагончиками.
— Когда я был в Будапеште год назад, — вспомнил Бендл, — один мой приятель, долго удивлялся, почему здесь в метро все станции с одинаковым названием. Мы его спросили, откуда он это взял, и он объяснил, что сам читал названия на остановках, там везде написано «Bejárat» и «Kijárat».
Анико так расхохоталась, что у нее даже слезы потекли, а глаза стали большими, сияющими и необыкновенно красивыми.
— Это же значит «вход» и «выход», — сказала Анико в перерыве между приступами смеха.
— По-чешски буквально — «приход» и «уход».
— Да, но мой перевод тоже правильный.
— Конечно, — кивнул он, — ваш даже более точный.
Вот и конечная станция. Пассажиры высыпали из вагонов, поднялись по лестнице и оказались на вечерней улице, где сквозь дождь мерцали фонари, сияли витрины и разноцветный неон.
Они сидели в кафе гостиницы и не спеша пили кофе с коньяком, ели мороженое. Анико уже немного привела себя в порядок, уложила на лоб скромную волну каштановых волос, что ей было очень к лицу, и снова повеселела — смеялась, шутила. Им было хорошо, он заметил перемену в ее настроении и оттого, что она приободрилась, сам он чувствовал себя превосходно, как после освежающей загородной прогулки, а не после ливня с пронизывающим ветром. Случайно они заняли тот же столик на двоих, за которым Бендл, мрачный и одинокий, скучал в первый вечер своего приезда в Будапешт, и он подумал: сегодняшний день — его успех, победа, ведь на такое он даже не надеялся…
— Так вот, — продолжал он начатый разговор, — если вы поедете в командировку, скажем, в Прагу, то через некоторое время у вас вдруг появится чувство независимости и свободы, потому что все повседневные привычные заботы останутся дома… Понимаете?
— Кажется.
— И это вполне естественно: человек, хоть на время меняя обстановку, сферу своей деятельности, раскрепощается. Короче говоря, «чемодан» со своими заботами мы всегда оставляем дома.
Анико рассмеялась, сравнение показалось ей забавным.
— Значит, вот сейчас вы в Будапеште, а в Праге у вас уйма нерешенных проблем.
— Не знаю, действительно ли уйма, но в чем-то вы правы, я вынужден был оставить незаконченные дела.
Она перестала смеяться, только глаза еще улыбались.
— А они вас не преследуют?
— Иногда. В зависимости от того, насколько я им это разрешаю. Или насколько время позволяет думать о них.
— А оно позволяет?
— Нет, разве что ночью, когда не спится… А потом еще играет роль расстояние. Иногда оно само сглаживает острые углы.
— Из этого следует, что человеку надо как можно больше разъезжать. И всюду оставлять после себя «чемоданы» нерешенных проблем.
— Возможно. Но у каждого где-то есть своя пристань, свой дом. И там мы решаем всякие проблемы, а если иногда сбегаем от них, то все равно потом возвращаемся.
— Вы, наверное, очень уравновешенный человек, раз так хладнокровно рассуждаете об этом.
— Думаете? Не уверен, скорее нет. Чем человек старше, тем больше у него накапливается нерешенных проблем.
— Не очень-то веселый разговор у нас получается.
— Знаю. Но не стоит закрывать на это глаза.
Он толком не знал, зачем заговорил с ней об этом, ведь он совершенно бессмысленно, да еще так неловко вредил сам себе и наверняка ставил под угрозу то малое, что на время завоевал.
— Хотела бы я когда-нибудь встретиться с вами в Праге, — сказала она неожиданно. — Вы показали бы мне свои любимые ресторанчики, или мы с вами посидели бы, например, в «Славии», а за окном виднелась бы Влтава с Карловым мостом.
— Почему бы и нет! Это вполне осуществимо…
До сих пор он не замечал, что они отражаются в большом зеркале на противоположной стене — сидят друг против друга за низким столиком кафе и, наклонив головы, беседуют, а в зеркале видно каждое их движение, каждый, даже незначительный жест.
И вместо того, чтобы любоваться своей молодой собеседницей, он вдруг взглянул на себя и замер пораженный, не веря собственным глазам, что это он и что он такой…
Анико поймала его взгляд и тоже начала пристально вглядываться в зеркало. И это было для него тем более тягостно, что на фоне ее молодого, нежного и гладкого лица с большими глазами его лицо казалось бледным, старым и усталым. И тогда Бендл осознал, насколько он стар рядом с ней. Насколько он ей не пара.
— Вам нехорошо? — спросила она сочувственно. — Вы так побледнели…
— Ничего, сейчас пройдет, — не сразу ответил он.
— Мне уже все равно пора домой, — вдруг вспомнила она.
До этого момента они совсем не думали о времени. Сидели, болтали и никуда не спешили. Ни он, ни она до сих пор не задумывались над тем, где и когда закончат этот вечер, куда он их приведет. Им ведь казалось, что они начали понимать друг друга, что постепенно исчезают те преграды, которые стояли между ними. И вдруг он сам все испортил, стал раздражительным, не сумел справиться с плохим настроением, поддержать разговор.
— Надеюсь, я ничем не обидела вас?
— Нет-нет, вы тут совершенно ни при чем.
— Так кто же?
— Никто. Это моя вина, со мной такое иногда случается…
Не стоило больше ее задерживать. Его дурное настроение передалось и Анико, она торопливо стала собирать свои вещи, разложенные на диванчике.
Бендл проводил ее до остановки.
— Вы еще не рассказали, чем кончилась сказка о Принцессе папоротников, — попыталась она еще раз отвлечь его.
— Разве? — удивился он. — Хотите знать? Осталось совсем немного. Солдат очень полюбил Принцессу, называл ее Андулкой и заботился о ней, как о родной дочери. Потом в лесу появился прекрасный принц со своей свитой, влюбился с первого взгляда в Андулку и увез ее.
— А как же солдат?
— Уж и не знаю… я забыл.
Ночью трамваи ходят редко, Бендл и Анико долго стояли на остановке, он слегка поддерживал ее под руку, она зябко ежилась, прижимая к груди свои измятые розы.
— Странный вы человек! — сказала она.
— Возможно, — ответил он. Ему нечего было сказать в свое оправдание.
Когда подошел трамвай, он на прощанье поцеловал ей руку.
И вернулся по затихшим ночным улицам в гостиницу, в свой тесный и не слишком уютный номер.
5
Бендлу нравился город во время дождя.
Когда он утром встал и приоткрыл окно, дождь еще шел, на улицах поблескивали лужи, и кругом было тихо и чисто.
Все ароматы города, казалось, наполнили воздух, стали резче, определеннее, но над всеми преобладал какой-то незнакомый, диковинный горьковатый запах кожи, может быть, это был запах сморщенной и с годами изношенной кожи самого города…
А не идет ли и в Праге дождь? — подумал он.
Еще до завтрака он решил, что сразу же после обеда, как только закончит свои дела, уедет домой.
Что касается служебной миссии, то можно со спокойной совестью считать ее выполненной, его участие в комиссии засвидетельствовано в заключительном документе, и он уже теперь может доложить о результатах своей работы.
А вот дома бог весть что происходит, судя по телеграмме, присланной Нейтеком. И почему ее отправил именно Нейтек, какое он имеет к этому всему отношение… это уже само по себе не предвещает ничего доброго.
Бендл вдруг забеспокоился, захотелось поскорее узнать, что же там происходит, как все это может отразиться на его работе в объединении, на его судьбе. Человек никогда не знает, что может случиться…
Его неудержимо потянуло домой, захотелось увидеть жену, семью, друзей, Прагу. Ему уже не сиделось в Будапеште.
Сразу после завтрака позвонил Шимону и сообщил, что сегодня днем решил уехать, так как, по его мнению, теперь уже комиссия может обойтись и без него. Поскольку он получил из своего объединения телеграмму с приказом ускорить работу, ему ничего не остается, как подчиниться. О формулировке протокола уже договорились, осталось лишь начисто перепечатать его и потом послать в Прагу. А в основном ход переговоров отражен в примечаниях, он покажет их шефу и представит необходимую информацию.
Шимон был удивлен и никак не мог понять, откуда такая спешка, ничего, мол, не случится, если Бендл уедет завтра или послезавтра, один день ничего не решает. Наконец все-таки примирился, заверив, что обязательно придет попрощаться, нет-нет, долго его не задержит, но должен же он Бендлу перед отъездом хотя бы пожать руку. Придет около двух.
Потом Бендл позвонил тете Лауре. Та, разумеется, еще спала, как же иначе, зачем ей вставать так рано, если все время льет дождь. Ведь известно, шум дождя убаюкивает и утром спится особенно хорошо.
Позвонил он и в диспетчерскую гостиницы, попросил передать в гараж, что через час он хочет забрать свою машину, да, ту сероватую «эмбечку»[7] с пражским номером, после двенадцати он уезжает домой, счет оплатит наличными.
И начал упаковывать вещи.
А как же Анико? — вспомнил он. Разумеется, надо позвонить ей, предупредить о своем внезапном отъезде, попробовать объяснить, почему он так спешит. У него нет причины что-то скрывать от нее.
В бюро путешествий, где она работала, ему строго ответили, что Анико сегодня здесь нет. Она занята. Срочная работа, звоните завтра.
Завтра? Завтра он уже будет весело шагать по Праге.
А не идет ли и в Праге дождь?
Бендл вернулся из гаража и застал в холле гостиницы тетю Лауру. Он узнал ее издали, хотя на ней была совсем обыкновенная фетровая шляпка, похожая на каску, а не та, соломенная, с букетиком бархатных цветов, лицо ее на этот раз выглядело еще круглее, еще добродушнее.
— Я уже целый час тебя жду, — упрекнула она его с нарочитой строгостью. — И вчера вечером тоже сюда приходила, но не дождалась.
— Я сегодня уезжаю. Времени в обрез…
— Ты опять раздражен, — сказала тетя с укором. — Если все начнут так дергаться, весь свет превратится в cvokhaus[8]. Этого ты добиваешься?! Будто бог весть как важно, поедешь ты сегодня или завтра. Садись, отложи все спокойно на завтра и закажи кофе с коньяком. Чувствуешь, какое сегодня с самого утра низкое атмосферное давление?
Он послушно заказал кофе и коньяк и уселся в кресло напротив нее.
— Вы правы, тетя, — признался он, — час, другой — большого значения не имеет.
Тетя закурила свою любимую «Фечке» и внимательно посмотрела на него сероватыми, словно выцветшими глазами.
— Что ты делал все это время, пока мы с тобой не виделись?
— Бегал, тетя, бегал с места на место… сплошная беготня.
— Ну и ну, этот твой образ жизни мне как-то не по душе.
— Понимаю, — сказал он подавленно, — но я иначе не умею и не могу.
— А что, если тебе сменить профессию? Приискать, пока еще не поздно, что-нибудь спокойнее? Что-нибудь вроде должности лесничего или библиотекаря? Что ты на это скажешь? Иначе в один прекрасный день, из-за этой гонки, будет у тебя инфаркт…
— Поздно, тетя, в моем возрасте не меняют профессию.
— В каком это ты таком возрасте? И что же тогда говорить тем, кому скоро стукнет восемьдесят? Никому об этом ни слова, но мне уже в нынешнем году исполнится восемьдесят… Вот это да! А ты совсем еще молодой человек, понимаешь? Молодой, надо только собраться с силами, не сутулиться и немножко поухаживать за девушками.
И засмеялась так заразительно, что и он не удержался от смеха.
— Этого я не могу себе позволить, тетя, ведь я же все-таки женат, у меня семья.
— Знаю, знаю, — закивала тетя. — Раз ты так считаешь, дело твое. — Тетя докурила, допила кофе и коньяк и спросила прямо: — Что же хорошего ты купил своим, если уж так много о них думаешь?
— Еще ничего… — признался он. — Я как раз собирался посмотреть что-нибудь в магазинах.
Тетя сразу оживилась, встала с кресла, взяла зонтик и направилась к выходу.
— Так идем, — приказала она, — все, что надо, купим на рынке.
— У меня здесь машина. Можно подъехать.
— Вот еще, — засмеялась она. — На трамвае быстрей.
По дороге она говорила о том, как важно, чтобы дома, когда приходишь вечером усталый после работы, был покой, чтобы можно было забыть обо всех дневных хлопотах, отдохнуть в кругу семьи и окунуться в ее заботы.
— Но ведь вы живете одна? — прервал он ее неуместным вопросом. — задумался в этот момент о чем-то другом и брякнул первое, что пришло в голову.
— Во-первых, я не живу одна, понятно? — сказала тетя, слегка повысив голос. — У меня везде знакомые и друзья, куда бы я ни пришла, всюду. И соседей много, если что-нибудь понадобится, они с удовольствием помогут. Только вот все время грохают дверьми… И это меня раздражает…
Какая же она обидчивая, улыбнувшись, подумал Бендл.
— Я просто хотел узнать, как вы проводите время вечерами.
— Спокойно, — сказала она. — Всегда спокойно… Заварю себе чаю, усядусь поудобнее в кресло, вытяну ноги, курю и решаю кроссворды или слушаю музыку… по радио. У меня есть и пластинки. Чего еще надо?
— И никогда вам не бывает скучно?
— Нет, никогда. Видишь ли, если человек привыкнет сам к себе, научится выносить свое обременительное присутствие, то потом уже никогда не скучает и ему не бывает грустно…
Рынок оказался огромным сводчатым залом, похожим на ангар или гараж для пожарных машин. Всюду магазинчики, палатки, киоски, маленькие и большие, государственные, кооперативные и частные, с прекрасными товарами: фрукты и овощи, мясо и копчености — в общем, все что душе угодно. Яблоки такие, что глядишь на них, и сердце радуется — отборные, блестящие, а редиска так отмыта, будто, и в земле-то никогда не росла; всюду невероятная чистота, и все ее поддерживают.
По рынку можно бродить с утра до вечера — найдется на что посмотреть, чем полюбоваться. Тетя знала, куда идти, что и где купить, она обежала несколько магазинчиков, пока Бендл стоял поодаль, поговорила с продавцами на своем торопливом венгерском, и за считанные минуты сумка оказалась наполненной покупками.
— Все это возьмешь домой, — сказала она. — Пойдем теперь туда, вон к той палатке, перекусим что-нибудь, и я подсчитаю, сколько ты мне должен.
Пока им жарили аппетитные домашнего копчения сосиски и наливали по кружке белого вина, тетя записала прямо на газете все, что потратила.
Усевшись за шаткий деревянный столик, они с удовольствием принялись за еду. Сосиски оказались на редкость вкусные, таких он еще никогда не пробовал, настроение было чудесное — наверно, молодое вино успело ударить в голову.
— А та колбаса наверху в сумке, — сказала тетя, когда доела сосиски, — в подарок от меня, я ее не засчитала, она для твоей жены.
— Зачем вы потратились, тетя?
— А как же? Ты ведь мне тоже привез подарок, а почему же мне нельзя? И скажи дома: живется мне хорошо, все у меня есть, пенсия приличная. Да я еще иногда и подрабатываю на своем предприятии… Надо иметь кое-что и на праздники, понимаешь? Вообще передай, что я живу лучше всех.
Ему вдруг захотелось сказать что-то приятное.
— Тетя, вы замечательный человек!
— Ты тоже не самый плохой собутыльник, — засмеялась она. — Мы могли бы взять еще по кружечке… да, здесь курить нельзя! А это не для меня.
И как только переступила порог рынка, жадно закурила.
На улице опять шел густой дождь, тетя открыла свой большой сине-голубой зонт, и они оба укрылись под его сводом. Он нес сумку с покупками и зонт, тетя держала его под руку, курила сигарету и шагала легко и весело.
— Давай споем, — предложила она.
— Ради бога не нужно, — 'Испугался он, — я не очень-то умею петь… только мурлыкаю…
— Ну и мурлыкай, мне все равно, — рассмеялась тетя, — знаешь вот эту? — И бодро затянула хриплым голосом:
Пойдем-ка, де́вица, в поход, Тебе там с нами повезет!Он робко начал ей вторить:
И звезды золотые падать будут с неба, Одну из них ты подарила мне бы…Так шли они, распевая под проливным дождем, к трамвайной остановке. Затягивали немного ритм, смаковали, но это никому не мешало, а им двоим и подавно.
Около двух часов дня все было уже упаковано и готово к отъезду. Он ждал Шимона в холле гостиницы и был совершенно спокоен, даже не спешил — смирился с тем, что в Прагу ему до вечера не добраться. Переночует где-нибудь по дороге, утром встанет пораньше и как раз вовремя приедет на работу.
Ровно в два часа Шимон появился в стеклянных вращающихся дверях гостиницы с огромной коробкой под мышкой. А за ним вошла улыбающаяся Анико — хотя ее-то он совсем не ждал. Оба нахлынули на Бендла как половодье и сразу же начали извиняться, что где-то задержались — где именно, он недослышал, да это было и не важно, — и что привезли ему на намять небольшой подарок. И тут же отдали ему объемистую коробку.
— Чтобы вы почаще вспоминали Будапешт.
Они заняли столик в холле. Шимон сразу же заказал кофе и коньяк.
— Нет, извините, но коньяк я пить не стану, — воспротивился Бендл. — Я за рулем.
— Не хотите — не надо, я не заставляю… воля ваша.
Пока не принесли кофе, все молчали. Вдруг оказалось, что говорить и не о чем, все как будто уже сказано, все оговорено.
— Денек вы выбрали не самый удачный для такой дальней дороги, — начал Шимон.
— Ничего, дождик не помеха.
— Хотите еще сегодня успеть в Прагу? — спросила Анико своим приятным, мелодичным голосом, который он за эти дни полюбил и слушал с удовольствием.
— Возможно. Или где-нибудь по дороге переночую, а дальше поеду уже утром, — ответил он с напускным спокойствием. — Там посмотрю.
— Эх! Поехать бы сейчас с вами… — сказала она едва слышно и задорно добавила:
— Разумеется, если вы не возражаете.
— Не только не возражаю, даже наоборот…
Шимон, конечно, по-чешски не понимал, поэтому в те короткие паузы, когда Анико не переводила его слова, она могла сказать хоть что-то от себя.
— Вы рады, что едете домой? — спросил Шимон.
— А как же, я уже соскучился…
— Но в Будапеште вам ведь тоже было неплохо? — вмешалась Анико.
— Нет, конечно, нет…
— Хорошо бы вам в ближайшее время приехать снова, — предложил Шимон. — Желательно, чтобы вы и подписывали договор.
— Я бы с радостью… но это не зависит от меня.
Как только Шимон на минутку отлучился позвонить по телефону, Анико доверчиво наклонилась и нежно положила Бендлу руку на плечо.
— Не грустите…
Он взглянул в ее широко раскрытые веселые глаза.
— Извините меня за вчерашний вечер, — сказал он, — я был невыносим.
— Не выдумывайте, вечер был прекрасный… с чего это вы взяли? Мне, во всяком случае, понравилось. Вот только в самом конце вечера вы… как-то сникли. Но это ерунда…
— Именно за это извините меня. Да и свободного времени у вас много отнял. Отрывал вас от ваших друзей…
— Вы уже это однажды говорили. — Она стала серьезнее, но еще улыбалась. — Что-то подобное я уже слышала. Так вот, пожалуйста, не повторяйтесь, хорошо?
Шимон вернулся.
Они посидели еще немного, обменялись любезностями, поблагодарили друг друга за сотрудничество и выразили надежду, что скоро увидятся.
Потом Шимон и Анико проводили Бендла до машины, положили в багажник огромную коробку, и Шимон крепко пожал ему руку.
Анико посмотрела на него нежными, повлажневшими глазами, поднялась на цыпочки и чмокнула в щеку.
Бендл машинально сел за руль, включил зажигание, медленно, привычным движением выжал сцепление, переключил скорость и поехал. Он сразу оказался в густом потоке машин на главной улице и, прежде чем дали зеленый свет, успел оглянуться и рассеянно махнуть им рукой.
Они стояли рядом под дождем и натянуто улыбались. Казалось, они случайно встретились и тут же разойдутся. Мимо них двигался поток людей в мокрой одежде, цветные зонтики плыли над тротуарами.
Серая «эмбечка» уезжала дождливым днем в длинной веренице машин, «дворники» сновали по ветровому стеклу.
Неужели и в Праге дождь? — снова пришло ему в голову.
6
Самые неприятные дни лета — холодные.
Когда уже привыкнешь к теплу и даже к жаре, к духоте по ночам, вдруг ни с того ни с сего повеет откуда-то холодом, и станет зябко, как поздней осенью.
Всю ночь, пока он ехал к границе, лил дождь, с полей и лугов несло сыростью, густой туман поднимался на пути. Когда лента шоссе спускалась в низину, туман редел и постепенно рассеивался.
Деревни и городки, через которые он проезжал, напитались влагой от проливных дождей, тракторы пятнали асфальт рыжей грязью с полей, изредка встречавшиеся люди были в непромокаемых плащах или под зонтиками — выходить из дому в промозглую слякоть мало кому хотелось.
И на государственной границе таможенники в тяжелых от дождя брезентовых накидках осматривали машины бегло. Они даже не улыбались, как обычно, должно быть, тоже подумывали о тепле под крышей или о чашке горячего кофе. Почему-то их внимание привлекла большая коробка, которую принес перед отъездом Шимон. Но Бендл и сам не знал, что в ней. Пришлось выйти из машины и под дождем надорвать упаковку. Кофеварка. Большая, красивая кофеварка, сразу на всю семью. Таможенник махнул рукой и шлепнул печать на декларацию.
Когда он подъезжал к Братиславе, дождь кончился, низко над землей висела большая черная туча, а кругом все блестело — мокрый асфальт, крыши, листья. И откуда-то, будто из недр далеких северных гор, тянуло холодом.
Ехал он медленно, не торопясь, ведь у него масса времени.
В Братиславе всюду на улицах было полно луж, и машины разбрызгивали по сторонам фонтаны воды. Сначала он хотел ненадолго остановиться, выпить где-нибудь кофе, позвонить знакомым, но это его только задержало бы. Он решил засветло добраться до Брно и там немного отдохнуть, а главное — как следует поужинать: после того, как они с тетей съели на рынке по порции копченых сосисок, у него во рту не было и маковой росинки. А если почувствует усталость, там и заночует. Спокойно проведет вечер, пораньше ляжет спать и наконец выспится.
Но ни в одной гостинице Брно не нашлось свободного номера, а в пасмурный день темнело быстро.
Город казался ему переполненным людьми, было много иностранцев, здесь, наверное, проходила какая-то международная конференция или спортивная встреча. В конце концов он был даже рад, когда выбрался из оживленного центра с пестротой неоновых ламп и людской толчеей на городскую окраину.
Ему посоветовали проехать еще несколько километров по автостраде до мотеля, и на первом же перекрестке он свернул на своей «эмбечке» к выезду из города.
И снова перед ним была лента асфальта. Необозримые просторы полей и лугов по обеим сторонам шоссе, ивняк вдоль ручья уже сливались со сгущающимися сумерками.
Дорога шла через затихшие деревни, на их маленьких площадях раскачивались фонари, дома стояли погруженные в полумрак, окна еще не светились.
В наступивших сумерках ему отчетливо виделись залитые солнцем улицы Будапешта, гладь мерно текущего зелено-голубого Дуная, его набережные, где под вечер собирается молодежь, уютные маленькие кафе с яркими разноцветными зонтами над столиками, скверы, полные цветов, оживленный перекресток перед гостиницей, нескончаемые потоки машин, свежевыкрашенные фасады домов, в верхних этажах которых отражалось солнце, из-за чего весь город казался почти нереальным, напоминая театральную декорацию.
Там он провел несколько безрассудно-счастливых дней, полных светлой радости. Конечно, он будет всегда их помнить и мысленно возвращаться к ним, так же как возвращаешься в те места, где что-то открыл для себя и в себе самом…
Пейзаж становился блеклым, вечер окутывал все серой холодной пеленой. Тусклый желтый свет фар длинной вереницы машин беспокойно блуждал по шоссе.
Если продолжить путь, после полуночи можно добраться до цели, но он уже чувствовал усталость, да и не считал себя таким хорошим водителем, чтобы ехать ночью. Поэтому он даже обрадовался, когда за крутым поворотом вдруг показалась освещенная терраса мотеля — яркие огни на фоне темного лесного массива.
Судя по числу машин на стоянке, мотель был почти пуст. Номер, в котором его поселили, был хорошо проветрен, обставлен современно, узкий балкон и окно выходили в лес.
Он умылся, привел себя в порядок и пошел ужинать.
В ресторане было два зала: в первом, с баром, полутьма и свечи на столиках, а во втором — столы, покрытые белыми скатертями, и обычное электрическое освещение.
Он остался в первом зале, наверное, потому, что ему был приятен полумрак, он с детства любил трепетный свет свечей.
Миловидная официантка в короткой юбке, обтягивавшей крутые бедра, проплывала между столиками на длинных, как у аиста, ногах, провожаемая взглядами мужчин.
Он заказал ужин и пиво, за эти несколько дней он соскучился по хорошему пльзеньскому пиву. Сразу же зажег обе свечи, стоявшие на его столике, и стал смотреть, как они разгораются, потрескивают и отбрасывают тени.
Сумерки за окном становились все гуще, небо темнело. Внизу, за террасой с пустыми деревянными столиками, виднелась блестящая полоса автострады. Свет мчащихся машин скользил по лугу, по живой изгороди у мотеля и исчезал в молодой поросли у леса.
Одна из свечей горела плохо, короткий фитиль утопал в расплавившемся воске. Бендл развлекался, пытаясь поднять фитилек обгорелой спичкой, поддержать угасающее пламя.
Официантка принесла только бутылку пива и столовый прибор; устало улыбнулась и, уходя, сказала через плечо:
— Еще немного терпения.
Он налил себе пива в стакан и с удовольствием выпил, почувствовав вдруг, как сильно устал. Не дождавшись, пока будет готова отбивная, выпил всю бутылку. Заказал еще одну. А почему бы и нет, после пива хорошо спится.
Кто-то за его спиной включил музыкальный автомат и набросал туда столько монеток, что автомат играл одну песенку за другой.
«Розы, смотри, расцветают…» — нежно выводила певица, а за одним из столиков женский голос тихонько ей подпевал.
К мотелю подходили машины, свет фар на мгновение освещал зал, было слышно, как они огибают здание, чтобы занять место на стоянке позади него. Ресторан постепенно заполнялся.
В тусклом свете горящих свечей Бендл вряд ли узнал бы вошедшего, наверно, и тот прошел бы мимо, но Бендл услышал несколько слов, сказанных им кому-то из спутников. Они прошли через первый зал, где все места уже были заняты, и в нерешительности остановились у входа во второй, обеденный.
Это был не кто иной, как Виктор.
Бендл окликнул его, Виктор обернулся, а остальные прошли в ярко освещенный зал.
— Какими судьбами? Вот сюрприз!
Сразу все выяснилось: Виктор со своими сослуживцами едет в Братиславу, где завтра утром переговоры. Путь далекий, они остановились передохнуть и поужинать.
Бендл предложил ему поужинать вместе. Со своими попутчиками он еще наговорится в машине, по дороге в Братиславу.
К Виктору он испытывал давнюю привязанность, считал его способным, опытным работником, не раз восхищался его дальновидностью в сложных торговых переговорах. Ценил искренность и упорство, с которыми тот иногда отстаивал свое мнение. Его вовсе не раздражала медлительность Виктора — постоянная мишень для насмешек сослуживцев. Сколько Бендл его знал, он всегда был человеком объективным, умел смотреть на вещи без предвзятости.
Едва Виктор сел за столик и пламя свечей осветило его добродушное лицо, казавшееся теперь смуглым, Бендл засыпал его вопросами.
Ему не терпелось узнать, что нового на работе, что там, собственно, происходит. Виктор смущенно улыбался, но ответил, как ни странно, спокойно, без тени волнения:
— В общем, ничего. По крайней мере я ничего не знаю. Ты наверняка знаешь столько же, сколько и я…
— Что там, сидя за границей, можно было узнать!
— Будто бы что-то готовится, — сказал Виктор, с аппетитом принимаясь за еду. — Идут разговоры…
— Какие разговоры? О чем?
Он смотрел, как в руках Виктора в трепещущем свете свечей поблескивают нож и вилка.
— Да так, — тянул Виктор, с трудом разрезая непрожаренное мясо. — Видно, что-то будет….
— А что? Ты не знаешь ничего более определенного?
Виктор отложил прибор и тщательно вытер рот салфеткой.
— Послушай, — сказал он спокойно, — у меня своя работа, и за меня ее все равно никто не сделает… Только я думаю, раз уж мы об этом заговорили, любые перемены у нас в объединении были бы к лучшему. Пошли бы на пользу…
— А может, и нет.
— Я по крайней мере так считаю. Если ты имеешь в виду шефа… Ты, в конце концов, можешь думать о нем что угодно, только надо быть объективным. Шеф человек пожилой, пенсионный возраст. Вряд ли он может дать нашему объединению то, что необходимо. Самое большее, что он может, не портить того, что срабатывает само собой, по инерции. А сейчас этого уже, черт возьми, мало…
— Ты не слышал случайно ничего обо мне?
— О Тебе? Ничего… Нет, подожди, что-то все-таки было… Кто-то против тебя что-то имел. Но я уже не помню, кто. Да ну, ничего серьезного.
— Вспомни, пожалуйста, это для меня очень важно.
В дверях Виктора уже ждали оба его спутника. Автомат заиграл еще одну избитую мелодию. Виктор вдруг задумался, что-то припоминая.
— Это не имело отношения к Будапешту? — попытался Бендл помочь ему, но Виктор отрицательно покачал головой.
Они попрощались. Виктор пошел к выходу, но вдруг обернулся и сказал:
— Вспомнил! Это Нейтек, он у нас недавно, но ты его наверняка знаешь… Явно какая-нибудь ерунда… Ну, всего!
В окно Бендлу было видно, как все трое, оживленно беседуя, прошли по освещенной террасе и сели в машину. Машина выехала на ровную полосу автострады и исчезла.
Бендл решил, что перед сном хорошо бы немного пройтись, подышать свежим вечерним воздухом и отвлечься. Он рассчитался с услужливой официанткой и спустился на террасу.
Было холодно, холоднее, чем он предполагал, а может, так казалось потому, что он вышел из уютного, теплого помещения.
Привычно взглянул на небо, чуть более светлое, чем верхушки деревьев, — в широких прогалинах между облаками мерцали звезды. Погода улучшилась, но особых надежд на потепление пока не было.
Бендл пошел по краю глубокого кювета, заросшего травой. Идти было опасно — ослепляли фары встречных машин.
Он свернул на узкую дорогу, ведущую через еловый лесок, здесь было тихо и пусто, холодный ветер доносил аромат напоенных влагой лугов.
Как только лес кончился, сумерки рассеялись, воздух стал прозрачнее.
Перед ним открылась аллея фруктовых деревьев, белыми пятнами выделялись столбы, откуда-то издали слабо доносился собачий лай.
Прибавив шагу, Бендл пошел навстречу порывистому, все усиливающемуся ветру.
Даже по тому немногому, что рассказал Виктор — хоть и не хотел особенно распространяться, — было ясно, что в объединении предстоят перемены. И эта телеграмма от Нейтека, да и сам Нейтек…
Нейтек в этой истории играл, несомненно, важную, если не главную, роль. Сумел воспользоваться его отсутствием и направить удар против него, в этом не было никаких сомнений. Но зачем он все это делал? Во имя чего? Может, это сулило ему какую-то выгоду? Или, может, он защищал себя и бил без разбору куда попало?
Разумеется, всегда не прав тот, кто отсутствует: он не может вовремя себя защитить…
Аллея пошла под уклон, из-за деревьев появился указатель с названием деревни, а за ним, на склоне долины, и сама деревня.
Зажглись фонари и осветили густую зелень в садах, белые каменные домики с цветами на подоконниках, кирпичную стену в строительных лесах, большой хозяйственный двор с тракторами и прицепами и темные длинные постройки без окон, по-видимому амбары.
Хотя вечер был довольно прохладный, на лавочке перед магазином самообслуживания сидели несколько девушек, прижавшись друг к другу. Одна из них играла на гитаре и слабеньким голоском напевала:
Розы, смотри, расцветают. Розы цветут для тебя…Когда он приблизился, они замолкли и смотрели на него, пока он не прошел мимо. Потом вдруг громко засмеялись, должно быть в ответ на чью-то реплику.
Деревня была меньше, чем представлялось сначала: пройдя совсем немного, Бендл оказался на ее краю, В гараже около последнего домика, освещенном большой подвесной лампой, стояла машина с открытым капотом.
Женский голос из дома поторапливал:
— Ну все? Ужин на столе!
— Сейчас… Надо же закончить…
Бендл медленно пошел назад. Девушек у магазина уже не было, лавочка опустела. Люди, наверно, садились ужинать — в домиках загорались лампочки. В некоторых окнах светились голубоватые экраны телевизоров.
Неплохо живут, подумал Бендл, у них есть, собственно, все, что нужно… а кроме того, покой и чистый воздух… Здесь люди живут более здоровой жизнью, чем мы, горожане.
Вслед ему из всех дворов по обе стороны улицы исступленно лаяли собаки.
Небо над головой прояснилось, без туч оно казалось выше, холоднее, было полно ярких мерцающих звезд.
Он снова и снова думал о том, что может ждать его по возвращении, но многое оставалось неясным.
Утро вечера мудренее, наконец сказал он себе.
7
Вечерняя прогулка по полям пошла ему на пользу, он вернулся в мотель, в свой уютный номер, мечтая лишь о сне, о крепком спокойном сне. Вот только эти кровати в отелях — до чего же они надоели за годы бесконечных командировок!
Но здесь кровать оказалась сносная, почти новая, с жестким матрасом, постельное белье пахло свежестью, а может, стиральным порошком, и ему захотелось поскорее лечь.
Он зажег лампу на ночном столике, лег, раскрыл книгу, решил немного почитать перед сном, пока не одолеет усталость.
Книга была интересная, но довольно сложная, в нее еще вникнуть надо. С трудом сосредоточившись, он начал читать:
«Живая материя состоит из большого количества элементов или подсистем. У каждой из них свое управление и свои функции, у каждой свой вход и выход…»
Вспомнил, как они с Анико, насквозь промокшие, спустились в метро и ехали в смешном, словно игрушечном, вагоне, где медные ручки и поручни были начищены до блеска, а на каждой станции мелькали надписи: «Bejárat» — «Kijárat». Анико переводила: «вход» и «выход». Он сказал, что буквально «приход» и «уход», но Анико настаивала на своем, и она, конечно, права, ее перевод точнее…
«Всякая энергия, всякая информация имеет свой вход и выход. В промежутке между входом и выходом происходит ее преобразование, обработка и накопление…»
Попытался представить себе, какой обработке подвергается информация между входом и выходом. Но в голову ничего не приходило, вспоминался все тот же разболтанный, переполненный вагончик метро, где они с Анико стояли стиснутые, прижатые друг к другу, в мокрой, прилипшей к телу одежде.
Анико продрогла, но задорно улыбалась, и казалось, вот-вот скажет: «А что, если это возможно?»
Он заставил себя сосредоточиться и продолжал читать:
«Любая информация исключает неуверенность…»
Неуверенность, не-уве-рен-ность… выстукивают колеса вагончика по гладкому металлу рельсов.
Неизвестно, что будет впереди, какие неожиданные трудности, чего он еще добьется…
И снова, как тогда в кафе отеля, в зеркале отражается его бледное, усталое лицо рядом с молодым и цветущим лицом Анико… Увидит ли он еще когда-нибудь Будапешт?..
Да, неуверенность во всем: в том, что будет завтра, послезавтра, — неуверенность в своем будущем.
Точно такое же ощущение бывает, когда едешь холмистым краем в знойный солнечный день, от земли поднимаются потоки прозрачного колеблющегося воздуха, и до самого горизонта все кажется зыбким… а позади только реальное прошлое…
Командировка в Будапешт тоже уже прошлое, нечего бояться воспоминаний о ней.
Завтра…
Что будет завтра?
Утро вечера мудренее.
Он уснул над раскрытой книгой, даже не погасив лампочку.
Где-то звонко рассмеялась женщина, смех, все ближе, ближе… и вдруг оборвался. С грохотом захлопнулась дверь, снова раздался тот же звонкий смех, и все замолкло.
Внизу под террасой кто-то тщетно пытался завести машину, мотор захлебывался, фыркал, потом поперхнулся, несколько раз громко чихнул и заглох.
Теперь стали слышны голоса и пение — внизу в баре надрывался музыкальный автомат, звучали избитые мелодии.
Он внезапно проснулся, сощурился от света лампочки и не сразу понял, где он и откуда этот шум. Со злостью погасил свет, повернулся на бок и снова попытался заснуть.
По автостраде один за другим проезжали тяжелые грузовики с прицепами, шины со свистом скользили по асфальту, как по стеклу, тормоза скрипели, а прицепы, пронзительно взвизгивая, едва не вставали на дыбы. От автомобильного грохота, как от ветра, дребезжали стекла.
И он понял, что уже ночь. Движение затихло, и водители грузовиков-гигантов спокойно отправились в путь: ночь. — лучшее время для дальних рейсов.
Неуверенность, не-уве-рен-ность… все еще звучит в ушах стук колес по звонкому металлу рельсов, а шины грузовиков, со свистом скользящие по шоссе, вторят ему тоном выше, протяжно и жалобно, словно стонут.
Анико в светлом платье бежит по набережной, она свежа, прозрачна и легка, как стрекоза, и смешно выбрасывает в стороны ноги, у нее веселое, по-детски озорное лицо… Анико издали что-то кричит, но ничего не понять, слышен только легкий плеск набегающих на камни волн.
Он нетерпеливо ждет, не спускает с нее глаз, тянется к ней, пытается поймать, удержать ее…
Над рекой в голубоватом утреннем тумане вырисовывается четкий контур заново отстроенного моста Эржебет. Маленький пароходик, попыхивая, подходит к пристани и долго причаливает; его ждет толпа людей, все рвутся за город, на прогулку…
Пароходик гудит жалобно и протяжно, словно зовет на помощь. Потом медленно выплывает на середину реки и опять спокойно рассекает плещущие волны.
Анико куда-то исчезла, ее нет, она уже не бежит по пустынной набережной…
Какого, собственно, цвета Дунай?
Голубой? Желтый? Серый?
А может, его цвет меняется каждую минуту в зависимости от солнца, погоды, времени дня?
Чаще всего Дунай голубовато-серый.
Еще вчера он был уверен в своем завтрашнем дне, в светлом и спокойном будущем, в том, что жизнь его так и будет гладкой, размеренной, без всяких опасных поворотов. Это благополучие, которое приходит со зрелостью: небольшие радости и скромные успехи на работе, постепенное продвижение по службе, периодические премии, доброжелательное отношение сослуживцев и уютный дом, где он, окруженный заботой жены, отдыхает, возвращаясь из заграничных командировок, после большого нервного напряжения, бесконечных переговоров и совещаний.
Годы летят: не успеешь оглянуться, и пора уже думать о пенсии, о том, что делать на старости лет, куда себя деть, чем жить…
А он, как и в молодости, все еще ждал от жизни бог весть чего, ему не терпелось дождаться завтрашнего дня, который неожиданно принесет новые радости и надежды.
Правда, порой одолевала усталость, сказывалась постоянная спешка и бесконечная смена впечатлений минувших лет.
Только в последнее время он вдруг начал сознавать, что все далеко не так безоблачно, как казалось, может произойти что-то непредвиденное, обстоятельства могут сложиться иначе, и у него появятся такие трудности, которые осложнят его жизнь, и придется принимать серьезное решение…
Помнится, в ранней юности он мечтал стать музыкантом, играть в оркестре.
Родители внушали ему, что скрипка — его призвание, и он усердно занимался у чудаковатого дирижера местного духового оркестра. А тот не переставал твердить, что при желании он добьется большого успеха, и всюду, где только можно, объявлял, что мальчик очень одарен, у него незаурядные способности.
Однако талант по-настоящему развивается только в сочетании с усердием, настойчивостью, методичностью, а это встречается довольно редко. Способности у него оказались средними, их бы развивать и совершенствовать, а ему не хватало настойчивости и увлеченности. Так что радужные надежды на музыкальную карьеру не сбылись, мечты рассеялись сами по себе и постепенно забылись.
Говорят, что способности есть у каждого второго, только мало кому удается раскрыть их. Но без способностей ни в каком деле не обойтись, ведь талантливый человек всегда берет от жизни больше других, и творческая отдача у него в любом деле больше. И так везде: и в физическом, и в умственном труде, даже в торговле.
Когда-то родители мечтали, что он будет играть в оркестре — там у музыканта надежное будущее. В оркестре всегда спокойнее: если ты вдруг растеряешься, остальные тебя не бросят, поддержат, помогут вовремя вступить. В оркестре каждый растет, совершенствуется и добивается мастерства…
И вот теперь ему казалось, что надо было все-таки стать музыкантом и попытаться сыграть самую трудную партию. Он бы с ней наверняка справился… в хорошем оркестре он бы с этой партией справился…
Сон никак не приходил, несколько раз он уже почти засыпал, но достаточно было самого незначительного шороха или порыва ветра за окном — и смутный рой мыслей возвращался снова.
…Однажды он со своими друзьями был на пригородном стадионе, где проводились мотогонки, гонщики мчались по ровной дороге с бешеной скоростью — интересное, захватывающее зрелище. Но самое удивительное, что, даже перелетев через руль на полном ходу, они тут же поднимались и мчались дальше, как будто ничего не случилось. Тот, что шел первым, почти перед самым финишем не удержал руль и вылетел на обочину, несколько раз на виду у всех перевернулся через голову, но тут же вскочил, сел на мотоцикл, догнал лидеров и едва не завоевал первое место.
Как это им удается? — удивился Бендл. Надо знать, как падать, пояснили ему. Самое главное — уметь падать.
Да, надо прежде всего научиться падать, падать так, чтобы не переломать себе кости, не свернуть шею. Кто умеет падать, тот преодолеет любое препятствие, того не пугают непредвиденные трудности, не страшит завтрашний день.
В любой ситуации существует множество решений, два из них наиболее вероятны, выбирать надо то, которое труднее, которое неприятнее. Да, неприятнее. Чтобы потом не было ненужных разочарований. А преодолеть препятствие — это и значит чего-то добиться… Скажем, сыграть с оркестром самую сложную партию…
Наконец он совсем успокоился. Напряжения прошедшего дня как не бывало, все тревоги показались пустыми, надуманными. Он словно освободился от непонятной тяжести и был рад, что все осталось так, как было.
Что бы обо всем этом сказала тетя Лаура? Упрекнула бы в том, что он вдруг испугался за свое благополучие, привычный уклад жизни и свое будущее…
Тетя Лаура, какая же она оптимистка, до чего любит жизнь, умеет радоваться каждой мелочи, каждой минуте счастья.
Мне нравится заводить новые знакомства, говорит она, интересоваться людьми, принимать участие в их судьбе, вглядываться в них, как в незнакомые бескрайние просторы. Чего мне еще надо? Куда ни приду, везде у меня друзья. Самое интересное в жизни — люди. Что у них на душе, что в них хорошего, что их занимает. Такие ли они на самом деле, как кажутся…
Тетя Лаура открывает сине-голубой зонтик, такой большой, что он заслоняет все свинцовое небо, и под ним становится тепло и уютно, как дома, хочется петь.
Надо не только воспринимать и накапливать информацию, но и уметь жить…
Синий зонтик над головой наполняется ветром, раскачивается и медленно поднимается, тетя идет рядом и напевает прокуренным голосом:
…и звезды золотые падать будут с неба…Синее небо с мерцающими звездами качнулось, наклонилось и стало медленно падать вниз, застилая глаза тонкой вуалью и навевая сон.
Едва слышно стучит по стеклу дождь.
По мокрому шоссе свистят покрышки огромных колес, грузовики один за другим, сохраняя дистанцию, уносятся вдаль.
8
К полудню он добрался до Праги. На знакомой улочке поставил машину и, заперев ее, медленно пошел назад, к высокому серому зданию, ставшему за эти годы его вторым домом.
Переходя улицу, он обратил внимание на то, что снаружи объединение выглядит безжизненно: все окна закрыты, только наверху, в кабинете директора, за распахнутой створкой колышется прозрачная штора.
Внешнее впечатление обманчиво, успокоил он себя. В этом доме жизнь бьет ключом. Ведутся переговоры, дребезжат телефоны, у людей сдают нервы, и никто не хочет, да и не может заниматься делами других…
В главном вестибюле на него пахнуло знакомым острым запахом — то ли горелой резины, то ли натертого линолеума, а скорее всего какого-то дезинфицирующего средства.
Вахтер взглянул на него и широко улыбнулся, ослепительно сверкнув искусственной челюстью.
— Давненько вас не видно, пан Бендл!
— Я был в командировке. Только что приехал — и прямо сюда.
— Далеко ли?
— Да нет… В Будапеште.
Он вошел в лифт и нажал кнопку третьего этажа.
И вдруг на какое-то мгновение ему стало плохо — сжалось сердце, закружилась голова… Видно, устал за долгую дорогу.
Лифт резко дернулся и остановился. Бендл вышел, тщательно закрыл дверки и сразу насторожился: в знакомой атмосфере, в которой он работал изо дня в день, что-то изменилось…
В коридоре было непривычно тихо и безлюдно. Он прислушался.
За стеклянными дверями то там, то здесь раздавались приглушенные голоса, слышалось постукивание пишущих машинок, где-то в конце коридора безнадежно звонил телефон…
Он зашел в секретариат взять почту, но из пяти машинисток застал здесь только одну, пани Соучкову, которую все неизвестно почему звали Аделой.
Адела поливала какие-то пестрые цветы в ящичках за окном, скорее всего бальзамин, они хорошо росли, ведь окна секретариата выходили на солнечную сторону.
Увидев его, она обернулась, держа в руках чайничек, и посмотрела с участием.
— Наконец-то вы здесь. Вас все искали.
— Искали? Зачем?
— Да так… — проговорила она неопределенно. — Постоянно вас кто-то спрашивал.
— А где все? Куда все подевались?
Она поставила чайничек на пол около стола, вышла ему навстречу и тихо, доверительно сказала:
— Все на совещании в конференц-зале. Приехал кто-то из министерства…
— А, черт, — вырвалось у него. — Вы не знаете, о чем совещание?
— Не могу сказать, — ответила она с досадой, хотя, возможно, что-то и знала. — Хотите кофе?
— Нет, спасибо. Может быть, я должен туда зайти…
— Не знаю, стоит ли. Им пора бы уже закончить. Совещание началось в девять.
Он посмотрел на часы. Было без четверти двенадцать.
— А кто, собственно, меня искал?
— Многие… Больше всего о вас спрашивал Нейтек, ведь вы его знаете…
Он молча кивнул, взял почту и отправился к себе.
Когда он вошел в кабинет, где работал уже долгие годы, и огляделся, все ли здесь по-прежнему, то снова вдруг почувствовал слабость, как в лифте. Должно быть, оттого, что здесь душно, давно не проветривали. Он открыл окно настежь, и вместе с теплой струей воздуха ворвался грохот улицы, заглушивший голоса в коридоре. Видимо, совещание кончилось, люди выходили из конференц-зала и громко разговаривали, но из-за уличного шума ничего нельзя было разобрать.
Следовало бы выйти и поздороваться. Но как они его встретят? Может быть, именно они его в чем-то обвиняли? Кто знает, что о нем тут наговорили в его отсутствие… Сам он вряд ли сможет себя защитить, ведь он понятия не имеет, что произошло, какие слухи о нем распустили. Не может же он выйти в коридор и сказать: «Это неправда!» — если не знает, о чем речь.
С каким удовольствием он встречался с сослуживцами прежде, когда возвращался из командировок! А теперь вот не может себя заставить. Он сидел за столом, превозмогая усталость, и рассеянно просматривал накопившуюся за время его отсутствия почту.
Телефон на столе резко зазвонил.
Звонила Адела. Товарищ Нейтек просит зайти.
Все в нем взбунтовалось. Какого черта Нейтек зовет его к себе? Если хочет что-то сказать, может прийти сам. Нейтек ему не начальник, работает в другом отделе, занят главным образом перекладыванием бумажек и уж никак не может приказывать ему.
Вот сейчас позвонит Аделе и скажет, чтобы она передала Нейтеку: если хочет поговорить, пусть соблаговолит зайти сам.
Но он этого не сделал — не хотел обострять отношения. Да и любопытно, что же все-таки стряслось, пока его здесь не было. Что надо от него Нейтеку?
Бендл не торопясь взял из шкафа мыло и полотенце и пошел в туалет привести себя в порядок. Тщательно вымыл руки, лицо, а причесывался так, будто готовился к очень важной встрече.
Увидев в зеркале свое побледневшее, осунувшееся, измученное лицо, он снова почувствовал дурноту. Пусть подождет, подумал он, освежаясь холодной водой. Наверняка собирается преподнести очередную гадость…
Нейтек тем и отличается, что умеет с особенным удовольствием сообщать людям всякие пакости. Иногда его новости заведомо лживы, они становятся еще более мерзостными от того, что глубоко уязвленная жертва теряет самообладание или сразу сникает. А он не может скрыть своего злорадства.
— Слушай, Бендл, — сказал он недавно, когда они случайно шли вместе по узкому коридору к лифту, — говорят, у тебя шашни с Аделой. Будто вас кто-то видел…
— Глупости. Кто мог это сказать?
— Я так слышал, — улыбнулся Нейтек. — Будь осторожен. Представь, если дойдет до жены, что ты связался с секретаршей…
Разумеется, глупость. Совершеннейшая глупость. Адела уже немолода, живет одна, где-то снимает комнату, наверное, раньше была хорошенькой, но молодость, увы, прошла, и она потеряла надежду выйти замуж. В общем, приятная, скромная, даже немного забитая. Ему жалко ее, и он, возможно, разговаривает с ней дружески, участливо, не больше. И смотрит на нее более приветливо, чем другие.
— Тоже хорош — связался с секретаршей, — ухмылялся Нейтек.
Неприятно и унизительно.
Бендл мог бы на все махнуть рукой и не расстраиваться, если бы не знал, что Нейтек с удовольствием будет разносить этот вздор по всему объединению.
Очевидно, за подобными выпадами он скрывает собственные слабости — прежде всего комплекс неполноценности, который неизбежно должен был у него возникнуть из-за безалаберности в сочетании с завистливостью.
Как все люди, которые не доверяют себе, Нейтек не смеет открыто признать, что совершил оплошность, дал маху, ошибся. Спорит с пеной у рта, лавирует и выкручивается, а если не получается, он становится землисто-серым, еще больше ожесточается, крушит всех и вся без разбору. Взгляд его голубых глаз делается стальным. «Бендл будет говорить, что я манкирую своими обязанностями, — голос его срывается от злости и временами переходит в полное ненависти шипение. — Пусть при всех открыто скажет, может быть, я не выполнил свои обязанности? Тогда где и когда конкретно?.. Пусть он сам подумает о том, кто из нас не проявил должной принципиальности. Кто из нас, неважно, какой пост он занимает, нарушал в ряде случаев установленные сроки»…
Невыносимая демагогия.
Он умеет ловко выйти сухим из воды, обелить себя и сразу ринуться в наступление. Сделав вид, что не понимает критических замечаний, адресованных ему, и только ему, мгновенно парирует, направляя их острие на своего противника — на кого же еще, как не на противника…
Когда Бендл вернулся в свой кабинет, чтобы положить мыло и полотенце, на столе трезвонил телефон, но, пока он подошел, звонки прекратились.
В коридоре он встретил нескольких знакомых, они собрались в столовую, на обед. На ходу поздоровались, и один из них, как только прошел мимо, сказал коллеге:
— Смотри-ка, Бендл уже вернулся…
Он постучался в-кабинет Нейтека, и оттуда сразу же послышался глухой голос:
— Да…
Нейтек, видимо, ждал его. Мгновенно встал из-за стола, вышел навстречу. С преувеличенным усердием потряс ему руку.
— Ну, как съездил? Как все прошло?
— В общем, неплохо, — ответил Бендл. — Пришлось попотеть. Все не так просто, как думают у нас в главном управлении…
Нейтек уже успел расположиться за столом, и его гладкое, лоснящееся лицо, как обычно, растянулось в широкой бодрой улыбке, он будто таял от радости, что видит Бендла. А тот тем временем присел на стул, как случайный посетитель.
Кабинет у Нейтека был тесный — второй стол вряд ли бы здесь уместился — и намного темнее, чем помещения на другой стороне коридора. Единственное окно выходило во двор. К тому же и мебель здесь поставили темную, всюду разбросаны кипы газет, журналов, проспектов и бог знает что еще…
— Жаль, тебя не было, — сказал без какого-либо вступления Нейтек, руки его беспокойно скользили по краю полированного стола. — Здесь вершились такие дела!
— Не может быть, — удивился Бендл. — Вдруг, так неожиданно…
— Вдруг… неожиданно… — досадливо повторил Нейтек. — Как будто ты не знал, что все в подвешенном состоянии. Вопрос только времени — когда и как все это произойдет.
— Если я правильно тебя понял, все уже решено.
— Более или менее.
— А что я мог бы во всем этом изменить?
Нейтек, беспокойно поигрывая карандашом, механически вычерчивал каракули в блокноте.
— Я хотел бы с тобой поговорить до того, как ты пойдешь к шефу… — с явным усилием проговорил он.
— Но я не иду к шефу. Сегодня я к нему не собираюсь.
— А ты бы должен пойти к нему.
Он глянул на Нейтека и понял, что тот нервничает. Неожиданно им овладело чувство отвращения, и это отвращение росло, становилось нестерпимым.
— А зачем я должен идти к нему? Скажи, черт возьми, зачем? — невольно повысил голос Бендл.
— Я не компетентен обсуждать с тобой столь важные мероприятия, — ответил Нейтек уклончиво. — Лучше всего будет, если ты пойдешь к шефу сам… Пока он еще здесь.
— Как это понимать — «пока он еще здесь»?
— Так, как я сказал. Ты понял правильно.
Нейтек придвинулся к нему ближе, немного успокоился — самая трудная часть разговора была позади. Но вдруг встал, выпрямился. Из полурасстегнутого пиджака смешно выпирало круглое «пивное» брюшко. Он стоял и, казалось, ждал, когда его гость тоже поднимется, чтобы закончить разговор.
— А телеграмма, что ты мне послал в Будапешт? — спросил Бендл, волнуясь. — Зачем ты ее отправил?
— Я хотел, чтобы ты приехал. Ты мне был нужен здесь.
— Не понимаю, — сказал Бендл и медленно, нехотя встал. — Именно ты по мне соскучился?..
Они стояли друг против друга, их разделял темный письменный стол, заваленный бумагами.
Значит, так оно и есть. Предположения подтвердились. Во всех этих странных и для него пока не совсем понятных событиях главным действующим лицом был Нейтек. Очевидно, за всем происходящим стоял он и пытался манипулировать людьми, передвигая их, как шахматные фигуры.
— Ты мне был нужен здесь, — повторил Нейтек еще раз, и нетерпение отразилось на его лице, будто он тратит время попусту. — Я тебе давно вбивал в голову, что вот-вот освободится место директора. Этот момент настал.
Бендл не сдержался и коротко, нервно рассмеялся.
— Ну а при чем тут я? Могу тебя заверить…
— Мне все же жаль, что не получилось, — пробурчал Нейтек, опустив голову. — Ты был наверняка самым лучшим кандидатом.
— Тебе нечего жалеть! Я бы вообще этого не добивался. Насколько я знаю, ты бы первым выступил против меня.
— Хочешь верь, хочешь нет, но я настаивал на твоей кандидатуре. Защищал тебя как мог…
— Напрасно.
Не имело смысла продолжать разговор. Нейтек явно знал больше, чем говорил, или по крайней мере делал вид, будто знает кое-что еще о перестановках, проходивших в последние дни.
— И это все, что ты хотел мне сказать?
— В сущности, да… Пока все, — пробурчал Нейтек себе под нос. — Если бы ты хотел… или если тебе будет что-то неясно… когда поговоришь со стариком, зайди ко мне, и я с радостью тебе все объясню.
Нейтек оперся обеими руками на свой письменный стол, где царил хаос, его голубые глаза увлажнились и смотрели куда-то поверх Бендла, а на губах играла таинственная, почти плутовская усмешка.
В секретариате перед кабинетом директора, где всегда толпятся люди, ожидающие приема или начала совещания, сейчас было пусто. Вероятно, из-за обеденного перерыва.
Секретарша директора — красивая и услужливая, бесспорно идеальная, потому что не только вела себя безупречно и прекрасно одевалась, но и знала цену словам: никогда не говорила больше, чем нужно, — переключила телефон, и на селекторе загорелась желтая лампочка.
— Как поживаете, Оленька? — спросил Бендл.
— Я? Что я, как вы? — ответила она. — Так долго не давали знать о себе…
— Надеюсь, вам было известно, где я?
— Мне — да, а другие делали вид, что не знают, — мило улыбнулась она. — Присядьте, шеф как раз Говорит с главным управлением.
— Может, мне зайти попозже?
— Нет-нет. Наверняка он захочет вас видеть.
— Я слышал, шеф уходит…
— Кто вам это сказал?
— Нейтек.
— Этот все знает раньше других!
Лампочка на селекторе погасла.
— Вот видите, совсем недолго, — сказала она. — Можете войти…
Этот кабинет всегда сковывал его своими непривычными размерами и длинным полированным столом для заседаний, в конце которого располагался сам директор. Здесь он председательствовал на совещаниях, произносил свои программные речи, руководил огромной многосторонней деятельностью объединения.
Когда Бендл вошел, прозрачная занавеска на приоткрытом окне кабинета заколыхалась.
С улицы сюда доходил грохот трамваев и грузовых машин, и директор, возможно, не сразу заметил, что кто-то вошел. Склонившись над столом, он был чем-то занят.
Только приблизившись к нему по мягкому ковру, Бендл увидел, что директор чистит яблоко: красная кожура аккуратной ровной ленточкой изгибалась и ложилась на лист бумаги.
Директор поднял голову, Бендл увидел его лицо, узкое, с крутым лбом и светлыми запавшими глазами.
— А, Бендл! — спокойно сказал он. — Садись, я тебя ждал…
Бендл сел на ближайший стул и стал смотреть, как директор искусно чистит мятое яблоко.
Стол был пуст: ни одного документа, никаких заметок: лишь посередине лежал лист бумаги с огрызками и яблочной кожурой.
— Когда ты приехал? — спросил директор, не отвлекаясь от своего занятия.
— Только что, прямо сюда.
— Я слышал, у тебя все прошло успешно…
— Думаю, да. Я привез с собой все материалы. Было бы хорошо, если бы вы их прочли и передали на рассмотрение, чтобы можно было подписать контракт…
Директор не проявил к его словам большого интереса, во всяком случае, восторга он не выражал.
— Здесь ходили слухи, что у тебя там какая-то женщина… По крайней мере, кто-то здесь это распространял. Или это сплетня?
— Конечно, сплетня. С нами работала переводчица из комиссии.
— А как Будапешт? Вот это город, а?
— Будапешт прекрасен, — ответил он с плохо скрываемым нетерпением. — Но меня интересует, что здесь… что здесь происходит?
Директор дочистил яблоко, вытер нож бумагой и положил его рядом с кожурой. Затем осторожно отодвинул листок с кожурой на край стола, видимо, для того, чтобы не мешал ему при серьезном разговоре.
— Все то, что у нас происходит и вокруг чего столько лишних разговоров, — это вполне обычное дело, — сказал он решительным и слегка повышенным тоном, подняв наконец глаза на своего собеседника. — Обычное потому, что каждый год, как ты знаешь, к нам присылают сверху контрольную комиссию, а на этот раз при проверке обнаружены некоторые несоответствия… Разумеется, ничего страшного, но для того, чтобы вмешаться, было достаточно.
Сказав это, он сразу же снова опустил глаза.
Он выглядел как никогда бледным, усталым, а может, даже и больным, За то время, что они не виделись, он сильно изменился, постарел и производил впечатление человека, который мало и плохо спит и все время ждет, не свалится ли на него еще какая-нибудь неприятность.
— Впрочем, — продолжал директор своим грустным, погасшим голосом, — тебя все это непосредственно не касается.
— Как так? — возразил Бендл чуть ли не возмущенно. — Меня это должно касаться, пока я работаю здесь.
— Ну хорошо… Если хочешь, пусть так, — сказал директор совсем спокойно. — Это касается всех. Но не лично тебя.
— Почему?
— По крайней мере наверху, насколько мне известно, против тебя ничего не имеют. А когда вопрос обсуждался на парткоме, говорили также и о тебе…
— В какой связи?
— Обсуждались кандидатуры моих возможных преемников. О тебе говорили очень хорошо, все признают твои заслуги. Только Нейтек, когда увидел, что твою кандидатуру принимают всерьез, начал говорить о том, что у тебя как у специалиста есть, конечно, все данные, но ты недостаточно принципиально и критически относишься к людям… и прочее. Не знаю, что было между вами, но я думаю, он испугался, что ты можешь занять мое место.
Директор несколько минут молчал, может быть, припоминал другие подробности заседания парткома, а потом сказал:
— В конце концов, кто знает, не задумал ли он занять мое место сам… Это не исключено.
— А вы? Что же будет с вами?
— Со мной? Ничего особенного, — сказал он усталым голосом, словно разговор уже утомил его. — Уйду на пенсию, для каждого когда-то настает такой момент.
— И все это произошло за четырнадцать дней, пока меня здесь не было?
— Что ты! За день-два, не больше.
Зазвонил телефон. Директор вздрогнул и сразу снял трубку. Несколько минут он слушал тараторивший женский голос, должно быть, это Оленька что-то ему передавала, но он не дал ей закончить, прервал на полуслове, сдержанно добавив:
— Пусть обратится к моему заместителю. — И повесил трубку.
— А кто должен прийти на ваше место? Надеюсь, не Нейтек?
Слабая улыбка мелькнула на губах директора и сразу исчезла.
— Нет, не Нейтек. Не бойся, — сказал он успокоительно. — В конце концов решили, что придет новый человек из главного управления. Его фамилия Кокш или Кокеш… ты его, наверное, знаешь.
— Что-то не припомню.
— Одновременно, было принято решение, — продолжал директор, колеблясь, — что ты пойдешь на его место. Понимаешь? На место старшего референта в главное управление… Смена караула, ясно? Завтра зайди к генеральному.
— Я? Почему именно я?
— Да, ты. Будешь работать в главном управлении. Собственно говоря, это повышение. — На лице директора снова появилась едва заметная улыбка.
— А Нейтек?
— Нейтек должен пойти на твое место.
— Черт побери!..
Бендл хотел было рассказать о Нейтеке, о его вероломстве, беспринципности и ничтожности, но осекся. Зачем надоедать своими жалобами и догадками добряку директору, который собрался на заслуженный отдых. Да и сам он чувствовал себя страшно уставшим, снова накатила странная слабость. Он стал прощаться, поблагодарил за беседу и зачем-то добавил:
— Вы меня не очень обрадовали.
— Знаю, — сказал директор. — Такие дела не могут радовать. Ничего, не вешай голову. Что ни делается, все к лучшему.
Уходил он с ощущением, что разговор велся в спешке и не было возможности прийти к определенному решению.
Да, разговор получился не таким, какого он хотел.
Понял он и то, что это, наверное, последний его визит к директору, а он успел сказать далеко не все, что хотел сказать.
Бендлу было его очень жаль.
Расставаться всегда тяжело, а ведь они проработали вместе немало лет, пережили вместе много хорошего и плохого, сделали кое-что полезное…
Их отношения выходили за рамки чисто служебных отношений, он довольно часто советовался со своим старшим, более опытным другом, и тот понимал его, поддерживал или, наоборот, подтрунивал, если требования его были непомерны.
Бендлу навсегда запомнится седая голова директора, опущенные глаза, прячущиеся от чужого взгляда. И этот разложенный на столе листок бумаги с огрызками яблок и свернувшейся в колечки кожурой.
В голове у Бендла шумело, откуда-то доносился деланно спокойный голос директора: а что тебе, тебя это не так уж и касается. Ты, собственно, получил повышение…
— Вам плохо? — спросила Оленька, когда он вышел в секретариат. — У вас такой вид…
— Ничего, пройдет, — улыбнулся он. — Устал после долгой дороги.
Он вышел в коридор, где опять было шумно — сотрудники возвращались из столовой на первом этаже.
Бендл шел навстречу потоку, здоровался, но видел все как в тумане.
Да, надо пойти к Нейтеку! Ведь Нейтек сам предлагал зайти, если не все будет ясно.
Нейтека в столовой не было, не пошел он и выпить пива в ресторан напротив, куда обычно ходил. Он сидел, склонившись над ворохом бумаг, и, когда Бендл без стука вошел, поднял на него изумленное лицо.
— Ну что?
— Я пришел тебя поблагодарить, — сказал Бендл непривычно твердым голосом. — За твою заботу о моей персоне, за твои хлопоты.
Обрюзгшее лицо Нейтека задрожало, покраснело, что-то в нем дрогнуло.
— Я знал, что все обернется против меня, — сказал он. — И почему это люди во всем винят одного меня?..
Очевидно, эту истину он усвоил давно, а теперь только мрачно и чуть ли не с обидой повторял ее. — Должно быть, потому, что я со всеми откровенен…
Ты-то уж наверняка, подумал Бендл, пристально глядя на него.
— Тебе везет больше, чем ты того стоишь. Другой на моем месте набил бы тебе морду!
— Ты… ты должен был бы меня понять.
Но Бендл, повернувшись к нему спиной, поспешил уйти из этого темного, заваленного бумагами кабинета, где всегда царил на редкость неприятный, затхлый дух.
Выйдя в коридор, затихший после обеденного перерыва, он сильно хлопнул дверью.
9
В кабинете директора на сверкающей поверхности стола для заседаний стояли вазы с цветами, подносы с бутербродами и рюмки, такие неожиданные в строгой официальной обстановке, где для торжеств подобного рода, как правило, не хватает времени.
На этот раз во главе стола сидел сам генеральный директор, по одну его руку бывший директор объединения, по другую — будущий, а уж потом — заместители директора, заведующие отделами… Одним словом, весь цвет руководства.
Бендл сидел на своем обычном месте, спиной к окну, и палящие лучи солнца не мешали ему спокойно наблюдать за всем происходящим, как оно было задумано по программе.
Но, будто нарочно, против него уселся Нейтек, удобно развалился и тупо, с застывшей улыбкой — о чем бы ни заходила речь — услужливо кивал.
Это действовало Бендлу на нервы. Он старался смотреть на генерального — как тот жмурится и смешно морщит нос, произнося речь в честь бывшего директора. Спрятаться оратору было некуда, солнце било ему прямо-в лицо.
Он говорил о заслугах бывшего директора, о его достойной подражания трудоспособности, о его неиссякаемой энергии, об огромном опыте, накопленном за годы работы в объединении, о его по-мужски прямом характере, о доброжелательном отношении к людям…
Говорил и все время щурился, в щелочках глаз блестели слезы — может, от солнца, а может, и от волнения. Он часто повторялся и почти каждую фразу заканчивал заверением:
— …поэтому он всегда будет для нас примером.
Нейтек, сидевший напротив, усердно кивал.
Генеральный директор продолжал говорить о выдающихся способностях бывшего руководителя объединения, о его умении почувствовать, где нужно закрутить гайки, где нужно сразу обрубить концы, о его искусстве расставить людей и обеспечить своевременное выполнение сложнейших задач и планов.
— …поэтому он всегда будет для нас примером.
Нейтек сидел уже вполоборота к генеральному и ревностно кивал, глядя ему в рот.
А тот не скупился на похвалы, распространялся о доброте, терпимости, искреннем и дружелюбном отношении бывшего директора к людям, о его житейской мудрости. Говорил, не жалея слов.
Бендл слушал и не слышал, он думал о своем доме, о том, как его встретила жена — обняла его и припала к груди.
— Ты даже не представляешь, как я рада, что ты вернулся…
Она не отходила от него, держала за руку, нежно гладила по волосам, преданно смотрела на него своими большими глазами и нетерпеливо спрашивала:
— Как Будапешт? Как Дунай? Как прошли переговоры?
Но он отвечал односложно, чувствуя страшную усталость после такого трудного дня. Слишком много было впечатлений, нужно в них разобраться и все продумать.
— А как на работе? Что там нового? — спрашивала она, не спуская с него глаз. — Что надо было Нейтеку? Зачем он тебя искал? Зачем звонил? — И вдруг замолчала.
Любящая жена, она почувствовала, что ему не до разговоров, лучше потом, когда он немного придет в себя.
— У нас готовятся большие перемены… — выдавил он.
— А тебя они коснутся? — не удержалась она.
— Очевидно. Посмотрим…
Она пыталась его отвлечь, рассказывала, перескакивая с одного на другое, что делала в его отсутствие, как ей его не хватало. Днем, на работе, еще как-то можно было выдержать, а по вечерам становилось невыносимо.
Даже ужин, который она приготовила к его приезду, показался ему не очень вкусным: проглотил несколько кусочков и отодвинул тарелку.
— Ты не болен? — спросила она обеспокоенно.
— Да нет… Просто после такого пути как-то не по себе, всего ломает… Да и ночью я плохо спал…
— Может, у тебя неприятности в объединений?
— И это тоже. Меня в какой-то степени все это тоже коснулось. Я не ожидал, что все произойдет так скоро…
— А для тебя это будет лучше или хуже?
— Я не знаю, — признался он наконец в том, что его сильнее всего угнетало.
Больше к этому не возвращались.
Он подсел к телевизору и рассеянно смотрел какую-то пьесу, не зная даже, о чем она, почему ее герои с ума сходят от ревности. Следил за движениями актеров, не воспринимая смысла.
— Я боялась за тебя, — услышал он издали голос жены.
— Почему?
— Ведь ты все время среди чужих людей… один…
— Но это же не чужие люди!
Он извинился, сказав, что чувствует себя неважно, и довольно рано лег спать. В полудреме ему показалось, что он лежит в своем маленьком длинном будапештском номере, а снизу, с первого этажа, доносится заунывная мелодия цыганского оркестра и убаюкивает его.
В утомленном сознании возникла знакомая картина — венгерская степь, залитая солнцем, зеленая трава, словно промытая дождем, и чистое, безоблачное, прозрачное голубое небо. Подгоняемый легким ветерком, летает белый пух — то ли от одуванчиков, то ли от пырея, — летает и кружится в прогретом солнцем воздухе, собираясь густыми хлопьями, и падает, словно снег, с бездонного неба…
Чувство усталости не проходило. Казалось, оно сдавливает горло, спутывает ноги, мешает двигаться. Надо избавиться от него, собраться с духом, обрести силы, чтобы суметь защитить себя от обвинений и закулисных интриг. Не может же он молча смотреть на все это, соглашаться со всем, что бы кому ни вздумалось делать за его спиной…
Раздались аплодисменты, это сидевшие за длинным столом давали понять, что они со всем согласны, а генеральный директор, которому солнце все еще било прямо в лицо, передавал бывшему директору подарок главного управления — объемистый сверток, несколько раз перевязанный серебряной ленточкой, и букет красных гвоздик.
Хлопали долго, Бендл тоже присоединился, а Нейтек усердствовал больше всех, пока аплодисменты не начали мало-помалу стихать и не прекратились.
Бывший директор стоял около генерального — казалось, он немного взволнован. Когда он благодарил за добрые слова и подарки, его голос был спокойным. Говорил он кратко и по существу: он желает всем, а прежде всего — новому директору и его сослуживцам, успешно продолжать начатое дело и удачи во всем.
Нейтек, сидевший напротив, кивал головой, как китайский болванчик, будто слова бывшего директора адресованы ему одному.
Бендл решил не смотреть на него, отвернулся немного в сторону, но все же было видно, как Нейтек ерзает и, устремив взгляд на директора, жадно ловит каждое его слово.
Оленька принесла высокую стеклянную вазу, и букет гвоздик стоял теперь перед бывшим директором, а сам он тем временем опустился на стул и как-то съежился, будто хотел стать совсем незаметным. Он снова был похож на того человека, которого Бендл застал здесь, вернувшись из командировки.
Неожиданно кто-то напротив поднялся, с грохотом отодвинув стул.
— Я хотел бы присоединиться к тому, что здесь уже сказано… что так метко определил наш генеральный директор… — услышал он взволнованный голос Нейтека. — В первую очередь я хотел бы отметить стремление… — на какое-то мгновение Нейтек заколебался, не зная, как лучше назвать бывшего директора, — …усилия нашего прежнего руководителя, — нашелся он, — направленные на то, чтобы у нас не доходило дело до конфликтов, чтобы все, что только возможно, сглаживалось и разрешалось спокойно, по-хорошему. Он никогда не прислушивался к разным сплетням и огульным обвинениям — их ведь всегда хватало… Я хотел бы от всех нас выразить ему нашу глубочайшую благодарность.
И это говорил тот, кто никогда не мог вспомнить имени директора, а за глаза высмеивал его, распространял о нем нелепые слухи и каждый раз не забывал заметить, что старому человеку уже пора на заслуженный отдых.
Все в объединении знали, что недавно перед самым обеденным перерывом Нейтек долго ждал в коридоре, когда директор пойдет на обед, и как бы случайно пошел вместе с ним в столовую, чтобы сослуживцы увидели, как хорошо к нему относится директор: даже за обедом обсуждает с ним служебные дела, одним словом, они в прекрасных отношениях. И Нейтек, если захочет, в любой момент может замолвить за кого-нибудь словечко или наоборот…
Бендл почувствовал, что в нем зреет протест. Он порывисто встал и сквозь туман, застлавший все вокруг, оглядел собравшихся. Прямо перед ним сидел Нейтек — расплывчатая, дрожащая масса.
Будто издалека он услышал свой неуверенный голос:
— Я не могу согласиться с предыдущим оратором…
Несколько мгновений он преодолевал свое возмущение, пришлось глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться.
— Извините, — продолжил он. — Я уважаю нашего директора, но не мог бы назвать наше отношение к нему безропотным почтением, ни в коем случае! Напротив, мы были искренни и откровенны с ним, наше отношение к нему было таким, какое должно быть всегда между сослуживцами и людьми вообще. Наш директор ни от кого никогда не скрывал, как обстоят дела. Со всеми говорил откровенно, оставляя без внимания подобострастные улыбки и елейные речи. Насколько мне известно, он не пытался сглаживать острые углы и при этом решал все дела в объединении по-человечески и с пониманием…
За столом послышался шум, началось какое-то странное беспокойство, люди задвигались, начали переговариваться. Он увидел Нейтека: тот ерзал на своем стуле, недовольно качая головой, может быть, хотел что-то возразить.
— Я не хотел бы спорить… — сказал Нейтек поникшим голосом. — Ведь я, собственно, говорил то же самое.
— То же, да не совсем, — продолжал Бендл. — Все зависит от искренности, и важно, чтобы слова не расходились с чувствами и поступками…
Шум стих, казалось, все внимательно слушают.
Наверное, в этот момент он должен был закончить, сесть и больше не выступать, так как сказал все, что хотел сказать. Но после небольшой паузы, ободренный тем, что его внимательно слушали, он продолжил:
— Разрешите мне, пользуясь случаем, высказать свое удивление… — Казалось, он задыхается, слова душили его. — Возможно, я недостаточно информирован… — заторопился он, — но если в связи с переменами в руководстве объединения я должен уйти с того места, которое занимал почти пятнадцать лет и чего-то достиг, на другую работу… то я считаю это по меньшей мере недоразумением… маневром, необходимым лишь для того, чтобы освободить это место для кого-то другого.
И, уже едва превозмогая возмущение, он закончил срывающимся голосом:
— Извините, что я об этом заговорил… Должно быть, момент не очень подходящий…
Едва заметная участливая улыбка появилась на губах генерального директора, но он молчал, решив, видимо, высказать свое мнение позднее.
Прошло несколько минут, пока сгладилась неловкость от выступления Бендла, внесшего диссонанс в торжественное мероприятие. Потом стали выступать другие ораторы и предлагать тосты за здоровье уходящего на пенсию директора. Бендл их не слышал, в голове у него шумело, он ругал себя за то, что вовремя не остановился.
Нейтек, сидевший напротив, делал вид, что обижен, но все же жалеет Бендла. Он оживился, когда вновь взял слово генеральный директор и заговорил уже о новом, только что назначенном директоре, представляя его собравшимся сотрудникам.
Нейтек восторженно смотрел на выступавшего, стремясь показать, как искренне одобряет он каждое его слово.
И Бендлу невольно вспомнился недавний спор с Нейтеком — внезапная ссора, подобная грому, разразившемуся средь ясного неба: вдруг набежали тучи, хлынул дождь — и ты промок до нитки.
На одном из совещаний руководства Бендл несколько опрометчиво, но достаточно рационально предложил ликвидировать отдел Нейтека как лишний, изживший себя. Было бы лучше, сказал он, постепенно передать его функции разным отделам, чтобы сами референты в своих же интересах и более квалифицированно занимались подбором необходимой информации по регионам. Нейтек вскипел:
— Бендл с большим удовольствием все бы ликвидировал, лишь бы добиться своего… Я усматриваю в этом выпад с его стороны против меня как руководителя отдела!
Тогда в объединении как раз проводили частичную реорганизацию, но предложение Бендла, хотя и интересное, показалось слишком радикальным и не прошло. Каждый лишь кивал головой в знак согласия, но никому не хотелось встать на сторону Бендла более решительно. Возможно, пугались яростного сопротивления Нейтека, никто не хотел с ним связываться, он давно уже был известен как весьма опасный противник.
С тех пор прошло почти полгода, но только теперь Бендл понял, что именно тогда стала явной их вражда. Она росла постепенно, незаметно, и уже ничто не могло ее сгладить. Подумалось: раз Нейтек идет на повышение, теперь, возможно, будет наконец ликвидирован его совершенно ненужный отдел…
— Именно за эти качества руководящего работника, — говорил тем временем генеральный директор, — я могу с чистой совестью рекомендовать вам нового директора товарища Кокеша. Я желаю всем вам больших успехов в совместной работе, добрых, хороших отношений и взаимопонимания.
Раздались тосты, звон бокалов, а глаза всех присутствующих устремились на нового директора.
Он был довольно симпатичный, немного нескладный, а может, просто смущен, буйная Шевелюра и глаза слегка навыкате, прикрытые густыми черными бровями. Когда он встал, то неожиданно оказался сухопарым верзилой и возвышался, как мачта, над низким столом, слегка покачиваясь во время выступления и то и дело приглаживая седоватые волосы большими руками.
Он сказал несколько самых обычных в таких случаях слов: прежде всего он должен познакомиться с новым для него делом, с людьми и поэтому просит коллег на некоторое время набраться терпения, а он в свою, очередь позаботится о том, чтобы их совместная работа на благо социалистической отчизны шла успешно, и постарается стать достойным продолжателем своего предшественника.
Снова раздались аплодисменты, громче всех, конечно, хлопал Нейтек.
Бендл старался не смотреть в его сторону, к чему волноваться из-за какого-то Нейтека.
К горлу подступила дурнота, он обливался потом. Люди, сидевшие вокруг стола, вдруг побелели, словно на негативе, и сразу же потемнели, он увидел черные контуры их голов. Все закачалось у него перед глазами, на негативах проявились черно-белые пятна, наклонились и понеслись, все быстрее и быстрее по кругу, будто кто-то ловко крутил рулетку.
Казалось, движение захватывает его, уносит с собой. Он судорожно схватился за стол.
— Что с вами, Бендл? — услышал он голос соседа.
— Извините, — выдавил он с трудом.
Пот тек у него по лицу, все труднее и труднее было дышать. Сердце сильно билось, и казалось, вот-вот остановится. Против своей воли он начал медленно и как-то странно клониться вперед, едва не ударился лицом о стол и вдруг почувствовал, что уже не владеет собой, сползает на пол.
Кто-то вскрикнул, подбежал к нему, белые лица, как будто призраки, склонились над ним, о чем-то спрашивали, но он не слышал. Он погружался в удивительную пустоту и тишь. В последний проблеск сознания он успел увидеть, что нещадно палившее солнце уже скрылось, кабинет директора погрузился в полумрак, наступила ночь.
Бендл очнулся в секретариате, на диване для посетителей, ожидающих приема у директора. Он лежал вытянувшись, кто-то расстегнул ему воротничок, положил на сердце холодный компресс, снял с него ботинки. Он чувствовал себя совершенно беспомощным.
Издали, как во сне, доносились отзвуки приглушенных голосов, они то приближались, то удалялись, а рядом, в кабинете директора, наверно, чествование еще продолжалось, нет, скорее уже заканчивалось: были слышны шаги, хлопанье дверей, обрывки непонятных фраз.
Около него, как тень, двигалась Оленька, прикладывала ему на лоб холод, успокаивающе приговаривала:
— Отдохните… Вам станет лучше… Сейчас придет доктор.
— Мне уже хорошо, — сказал он с трудом. — Вы не могли бы открыть окно? Очень душно.
— Оно же открыто… — услышал он ее удивленный голос.
И снова он шел по раскаленному солнцем Будапешту, шел без цели, не торопясь, чтобы полюбоваться городом, посмотреть на те места, которых еще не видел. О Будапеште он знал совсем мало, все кругом казалось ему удивительно красивым — и дома, и улицы, и машины, и люди. Яркий солнечный свет и резкость красок делали все это похожим на рекламную открытку.
Он шел, невольно держа руку на груди, в том месте, где сердце, и оно то замирало, то колотилось сильнее и сильнее, временами казалось, что от такого напряжения оно разорвется. Но ему было хорошо, удивительно хорошо, легко и весело, хотелось даже петь, и он чуть было не запел в ритм своему шагу:
Пойдем-ка, девица, в поход…Его видения прервал доктор, высокий, солидный, в белом незастегнутом халате; круглое лицо с детскими невинными глазами заботливо склонялось над Бендлом, он чувствовал дыхание, запах табака. Мягкие руки бережно прикасались к нему, и он следил за каждым их движением, особенно за подготовкой небольшого черного аппарата, напоминающего кинокамеру. Когда три металлические ножки прикоснулись к его груди, он почувствовал холод. Врач сосредоточенно, морща свой гладкий лоб, смотрел в камеру, может быть, в видоискатель или в кадровое окно. Это, вероятно, был кардиограф, с помощью которого следят за деятельностью сердца. Все это продолжалось долго, по крайней мере так ему показалось.
— Ничего страшного, — приветливо улыбнулся доктор, осторожно снимая камеру с его груди. — Как вы себя чувствуете?
— Терпимо… Только вот сознание потерял почему-то…
— Вы, наверное, переутомились, — сказал врач. — Но скоро вам станет лучше.
— А что же это было?
— Это называют неврозом сердца. Вам надо изменить образ жизни.
Доктор, ничего не знающий о нем, советует ему изменить образ жизни! — поразился Бендл.
— Немного полежите, успокойтесь и попробуйте подняться. Несколько дней побудете дома, а потом зайдете в поликлинику.
Врач ушел. Бендл закрыл глаза, и опять все начало куда-то проваливаться.
Когда он пришел в себя, все помещение, где он лежал, снова было залито солнцем. Он был один, Оленька куда-то исчезла, вокруг царила удивительная тишина.
Дверь приоткрылась, и из кабинета выглянул новый директор. Несколько минут он смотрел на Бендла, стоя в дверях, затем спросил:
— Ну как? Получше?
— Лучше, — приободрился Бендл. — Я должен просить у вас извинения за то, что испортил вам торжественное вступление в должность…
Директор засмеялся:
— Мы очень опасались за вас. Больше всех беспокоился Нейтек.
— Это похоже на него.
— Вы его не любите?
— Нет, не люблю.
Бендл медленно поднялся, спустил ноги на пол и стал нашаривать ботинки, чтобы обуться.
— Вы должны полежать, — убеждал его директор. — Потом мы отвезем вас домой.
Он принес себе стул и сел рядом.
— Вы поволновались, правда? У вас довольно слабые нервы… а дела надо решать спокойно.
— Я знаю, но не всегда бываешь в форме.
— Когда вам станет лучше, приходите ко мне, все спокойно обсудим…
Дверь в кабинет директора была приоткрыта, и там без конца звонил телефон.
— Поправляйтесь скорее. Нам надо вместе закончить с Будапештом.
— Непременно, — оживился Бендл. — Я бы с удовольствием.
— Вы поедете туда на подписание соглашения.
— Я? На это я и не рассчитывал.
— От главного управления, — добавил, улыбаясь, директор.
10
Бендл лежал дома, в своей комнате, и снова воскрешал в памяти, как все это произошло. Уже третий день он был освобожден от работы, хотя и чувствовал себя неплохо. Выполнял все предписания врача: большую часть дня лежал, старался не волноваться и не принимать ничего близко к сердцу.
Жена очень опасалась за него, и ему приходилось успокаивать ее, убеждать, что у него ничего серьезного, небольшое отклонение от нормы, все скоро пройдет.
— Ты знаешь, сколько сейчас инфарктов? — говорила она. — И у людей еще сравнительно нестарых…
— Знаю, — улыбался он. — К счастью, это с инфарктом не имеет ничего общего.
— Говорят, бывают какие-то скрытые инфаркты, о них вначале и не догадываешься… — настаивала она. Ее страхи едва не передались и ему, а своей чрезмерной заботливостью она вносила тревогу в эти довольно спокойные дни.
— Лучше всего, если бы ты перешел на менее ответственную работу, пусть с меньшим окладом, но чтобы у тебя не было ежедневно таких перегрузок и нервного напряжения… а мы бы в чем-то себя ограничили.
В самом деле, дети более или менее обеспечены: сын уже почти два года в армии, дочь в прошлом году вышла замуж за ветеринара из районного центра и живет неплохо, так что они одни, а запросы их не так уж велики. Бендл понимал, что теперь он единственное существо, о котором она может вот так по-женски самоотверженно заботиться, он стал для нее еще дороже.
— Ты готова сделать из меня инвалида, — смеялся он, — лишь бы я был все время дома и ты могла ухаживать за мной.
— А иначе я тебя совсем не вижу, — сетовала она. — Тебя ведь никогда нет дома. Или ты где-нибудь в командировке…
— Такова уж моя жизнь, — пытался он объяснить. — Лично я и не представляю ее другой. Здесь я работаю немало лет, в чем-то уже разбираюсь, меня это интересует и приносит мне те маленькие радости, которые человеку необходимы…
— Но и огорчения, — вставила она.
— Одно с другим связано. Это нельзя изменить. Да и я не могу уже измениться, я такой, какой есть…
Он снова читал ту книгу, которую брал с собой в Будапешт. Там он в нее ни разу не заглянул, только на пути домой, в мотеле, с трудом прочел несколько страниц. Теперь он опять за нее взялся.
«Если стрессовые ситуации повторяются снова и снова и успешно преодолеваются, реакция постепенно ослабевает. Это основа тренировки…»
А вот и вывод:
«Следовательно, стресс, как монета, имеет две стороны. Прежде всего, позитивная ценность. Если стресс не слишком интенсивен, то он приводит к адаптации и, собственно, заставляет организм больше сопротивляться. Можно даже сказать, что это предпосылка активной жизни. Неразрешимый стресс, напротив, требует столько психической энергии, что выбивает из колеи, и защитная система рушится».
— Выбивает из колеи, — повторил он. — Но это не мой случай…
Он снова обдумал ситуацию, которая сложилась в объединении и так озадачила его, и теперь не увидел в ней ничего неразрешимого. Напротив. Все эти нашумевшие события становились и для него «предпосылкой активной жизни». Ведь не может же он поддаваться накопившейся усталости или настроениям, он обязан трезво, объективно оценить обстановку, выработать свое отношение, свою оборонительную позицию.
Он должен спокойно поговорить с новым директором, изложить ему свою точку зрения. Наверняка ему можно сказать все откровенно, он и сам давал это понять.
Но как показать новому директору, что представляет собой Нейтек, что скрывается за его деланным рвением, как показать, что он, в сущности, из тех людей, которые при всех обстоятельствах плетутся в хвосте, а на серьезное дело не способны?
Как быть с такими людьми, которые прикидываются обиженными, пострадавшими, будто бы им не были даны те же возможности, что и другим, а в глубине души лелеют надежду, что им удастся без особых усилий и труда добиться своего за счет других?
Вечером он уже сидел в кресле и смотрел телевизор. Сначала хронику, а потом фильм о Грузии. Когда диктор с очаровательной улыбкой объявила эстрадный концерт, он быстро поднялся и выключил телевизор.
И вдруг вспомнил, что нужно было бы написать несколько слов в Будапешт, тете Лауре.
В письменном столе он нашел красочную открытку с видом ночной Праги, на ней были изображены празднично освещенные Градчаны, Карлов мост, Лорета и Малостранская площадь. Несколько минут он с интересом рассматривал открытку, стараясь представить себе, какое впечатление она произведет на тетю Лауру: ведь та говорила, что любит Прагу, как свою родную мать…
Он писал не раздумывая, почти не подыскивая слов:
«Привет Вам из Вашей любимой Праги. Я уже заранее испытываю огромное удовольствие, когда представляю себе, как в следующий раз приеду в Будапешт и мы вместе пойдем в «Матяш пинце» и закажем себе самое дорогое блюдо, какое там только будет, и к нему по кружке пенистого пива, и еще Вашу «Фечке», которую невозможно курить…»
Он остановился, представив тетю Лауру, ее широкую добродушную улыбку и хриплый голос, повторявший: «Всякая спешка вредит моему здоровью».
«Вы были совершенно правы. Сразу же по возвращении домой я разболелся — начало пошаливать сердце. Это, наверное, от постоянной спешки».
Вошла жена, приготовив ему еду на завтра — ведь утром она уйдет на работу.
— Почему ты выключил телевизор? — удивилась она. — Такая хорошая программа…
«Жена Вам тоже шлет привет», —
добавил он в конце открытки и подписался.
Перед сном он снова погрузился в чтение книги, все еще лежавшей на тумбочке у постели, книги, которая кое-что ему подсказала и придала веры в собственные силы.
Ему понравилась мысль о возможности предупреждать стрессы при помощи защитных тренировок, вырабатывать психический иммунитет. А может быть, как гонщикам, которых он видел много лет назад, — прежде всего нужно научиться падать?..
Бендл прочел: «Для состояния нервной системы существенное значение имеет прием, обработка, накопление и выдача информации… ее вход и выход», — и улыбнулся, твердо уверенный, что на следующий день закроет больничный лист и выйдет на работу.
Он чувствовал себя здоровым.
Новый директор, видимо, много курил: пепельница перед ним была полна окурков, а все остальные, аккуратно расставленные по центру длинного стола, сияли чистотой.
— Послушайте, меня не интересует, что было вчера, до того, как я сюда пришел. На это я уже не смогу повлиять, — медленно, взвешивая каждое слово, сказал директор. — Меня интересует сегодняшний день, то, что мы имеем на сегодня, то, что нужно будет организовать завтра, послезавтра. Вы меня понимаете? — И сдержанно засмеялся.
Не оставалось ничего другого, как согласиться.
— А если у вас с Нейтеком и были какие-то конфликты, то они в настоящий момент не имеют значения. Больше всего меня интересует, как каждый из вас способен выполнять поставленные перед вами задачи и на кого из вас можно положиться…
— Я эту работу делаю пятнадцать лет, — успел вставить Бендл.
— Знаю, — продолжал директор, — но и вам известно, что иногда полезно ввести в организм немножко свежей крови.
— Но Нейтек — это ведь не свежая кровь!
Директор закурил и, щурясь от дыма, продолжал гнуть свою линию:
— Послушайте, не я выдумал эти перестановки, хотя у меня такое впечатление, что в них что-то есть… а у вас из всех самая высокая квалификация, так что вам и работать в главном управлении.
— Да Нейтек не справится!
— Почему вы так считаете?
— Потому что я знаком с ним много лет и знаю его.
Директор задумался, наморщил лоб, старательно погасил окурок о край пепельницы.
— Будет лучше, если мы позовем Нейтека, — сказал он решительно. Поднялся, открыл дверь в секретариат, попросил Оленьку пригласить Нейтека и снова сел напротив Бендла. — Будет интересно послушать также и его мнение.
— Пожалуйста, — сказал Бендл абсолютно спокойно. — Боюсь, этот разговор будет не слишком приятным.
— В мою задачу входят не только приятные разговоры…
Послышался стук в дверь, вошел Нейтек, как всегда улыбающийся, сияющий, в хорошем настроении, явно ожидающий хороших вестей. Увидел Бендла, и улыбка сошла с его лица.
— Садитесь, — предложил ему директор. — Мы здесь с Бендлом обсуждаем будущее его отдела. Как вам, видимо, известно, вы должны будете взять на себя руководство этим отделом…
— Я знаю, — сказал Нейтек.
И больше ни слова. Он уставился в стол перед собой и, всегда такой словоохотливый, красноречивый, сидел молча, опустив глаза.
Они сидели втроем на самом конце длинного стола для заседаний и молчали.
Казалось, что и директор потерял дар речи. Но вот он закурил следующую сигарету и спросил прямо:
— А что вы думаете по этому поводу? Выскажите свое мнение.
Нейтек выглядел так, будто только что пробудился ото сна, его голубые глаза умильно глядели из-под тяжелых век — казалось, он не понимает вопроса.
— Я? Почему я? Я нахожусь на службе, я человек дисциплинированный, и мне нечего об этом сказать. Я это принял как любое другое новое задание…
— Подождите, — нетерпеливо прервал директор, — я хочу знать, каково ваше мнение о работе отдела. Что вы о нем знаете и как собираетесь руководить им?
— Разумеется, у меня есть опыт, накопленный на другом участке, — мямлил Нейтек. — Что же касается моего мнения о работе отдела, то оно явно отрицательное. Я бы не хотел распространяться об этом в присутствии Бендла…
— А вы не стесняйтесь, — сказал директор.
Нейтек сидел неподвижно и в упор смотрел перед собой, на полированную поверхность стола. Возможно, он думал о том, как бы поточнее охарактеризовать работу отдела, или же вообще решил воздержаться от высказывания своих суждений.
Бендл внимательно вглядывался в его обмякшее, бесформенное лицо: глаза были прикрыты, как у слепого, и казалось, настроение его непрестанно меняется, отражая то одобрение, то отказ от чего-то, или же вдруг в мягких складках лица все неожиданно соединялось, и оно становилось непроницаемым, каким-то неопределенным, чуть ли не загадочным.
— Так что? — торопил его с ответом директор.
— Я думаю, что работа отдела могла бы быть более активной… можно было бы с большим опережением устанавливать контакты…
— Что за чушь! — не сдержался Бендл. — Это же нелепость. Разве можно ручаться за перевыполнение международных контактов?
— А вы смогли бы это осуществить, если бы мы вам поручили руководство отделом? — спросил директор.
— Беру на себя смелость сказать, что да, — заявил Нейтек, не смущаясь.
— Вот как! — засмеялся директор и повернулся к Бендлу: — Ваш преемник — энергичный и целеустремленный человек…
— Пустые разговоры, — сказал Бендл строго. — Он же не имеет ни малейшего представления о работе отдела.
— Будет лучше всего, — неожиданно решил директор, — если мы сначала поручим вам разработать краткие предложения по улучшению работы отдела. В чем вы видите его слабые места и как бы вы действовали, будучи его руководителем…
Пока директор говорил, лицо Нейтека сначала прояснилось, а потом все больше и больше мрачнело, исчезло обычное приветливое и любезное выражение, было видно, что он ничего не понимает. Должно быть, он представлял себе этот разговор совсем иначе.
— …И тогда мы решим, доверим ли мы вам этот участок, очень важный для работы объединения, — закончил директор.
Нейтек покраснел.
— Это, по всей вероятности, уже было решено…
— Было или не было — сейчас не имеет значения, — возразил директор спокойно. — Все важные перестановки кадров я намерен проводить сам.
Нейтек осекся и уже не смог скрыть своего мрачного настроения. Директор встал, давая им обоим понять, что разговор окончен.
— Я, наверное, откажусь, — пробормотал Нейтек, вставая. — В таких условиях не имеет смысла добиваться…
— Как хотите, — ответил директор. Высокий и худой, он смотрел сверху вниз на маленького грузного Нейтека. — Все будет зависеть только от вас.
Нейтек невольно попятился, но тут же овладел собой.
— Боюсь, вы превышаете свои полномочия… Вы забываете, что это было решено в главном управлении.
Оттого ли, что он говорил приглушенным голосом, или из-за злобы, которую не смог скрыть, последние слова прозвучали как угроза.
— Это моя забота, — холодно оборвал его директор. — Предоставьте это решать мне.
С опущенной головой, забыв даже попрощаться, Нейтек вышел.
— А вы, Бендл, — в голосе директора послышалось волнение, — вы пока что будете руководить своим отделом. И одновременно будете готовиться к заключению контракта в Будапеште.
— Что это значит — «пока что»?
Директор засмеялся:
— Так говорят. Это означает примерно следующее: пока не будет принято окончательное решение… — И подал руку.
Вечером Бендл и Виктор шли по центральному проспекту, пробираясь сквозь людской муравейник. В пиджаках, в галстуках, они выглядели здесь несколько странно, ведь все женщины были в легких коротких платьях, мужчины — в рубашках с открытым воротом и в полотняных брюках, будто с работы направлялись прямо в бассейн.
В конце рабочего дня Виктор зашел к нему и спросил, как его дела, ведь они долго не виделись, ходили всякие слухи…
— А что?
— Говорят, будто ты от нас уходишь. И что у тебя чуть было не началось нервное расстройство…
— Ни то и ни другое, — засмеялся он. — Немного прихворнул. Но ничего серьезного. Все позади. — И тут же сам признался: — Сегодня у меня с новым директором был разговор по душам.
— Ну и как?
— Мне директор понравился.
— По-моему, я его знаю, — вспоминал Виктор. — Несколько раз мы с ним вместе вели переговоры, кажется, он был с нами и в Варшаве.
— Сначала мы говорили вдвоем, а когда разговор перешел на Нейтека, он и его пригласил.
— А, черт! — огорченно воскликнул Виктор.
— Это как раз самое интересное. У Нейтека был жалкий вид. И в конце концов он пошел на попятную.
— В этом я не уверен.
— Я тоже…
— Видно, твоего места для него мало.
— И это возможно.
— Скользкий человек, — сказал Виктор решительно. — По крайней мере, судя по тому немногому, что я о нем знаю.
Мимо прошла группа людей в ярких рубашках навыпуск — должно быть, немцы; они остановились у перехода и ждали, пока загорится зеленый свет, что-то громко обсуждая и глядя в сторону Национального театра.
— И до чего вы договорились? — спросил Виктор.
— Наверное, все останется как прежде…
— А Нейтек?
— Тоже. Я должен буду снова поехать в Будапешт.
— И ты согласился?!
— Я туда поеду, очевидно, уже от главного управления. — Бендл употребил выражение директора, чтобы придать своей информации больший вес.
— Да, чуть не забыл! У тех ребят, с кем я ездил в Братиславу, тоже печальный опыт общения с Нейтеком.
— Я о нем и сам достаточно знаю, — отмахнулся Бендл, ему надоело говорить о Нейтеке.
Но Виктор считал, что должен рассказать все.
— Они говорили, что отправить старика на пенсию помог Нейтек. Его отдел систематически выходил за рамки бюджета, было утеряно несколько документов, он делал заказы под честное слово… И в конце концов свалил всю ответственность на старика, а тот не сумел себя защитить.
— Не может быть! — изумился Бендл. — Это невероятно…
Он вспомнил свой последний разговор с бывшим директором, его седую голову, склоненную над письменным столом, и горькие слова: «Знаешь, это разные вещи, уходишь ли ты на пенсию по возрасту или потому, что допустил ошибки… Ты даже не представляешь себе, что это такое — уходить с чувством вины»…
Они дошли до трамвайной остановки у Национального театра, и Виктор начал прощаться.
— Нам в разные стороны.
— Я пройдусь пешком, — сказал Бендл. — Хочу немного полюбоваться Прагой.
— Вот увидишь, — уверенно сказал Виктор, — эти изменения к лучшему.
— Надеюсь.
Они простились, Виктор сел в трамвай, идущий к Смихову, и помахал рукой.
Бендл перешел улицу и остановился на набережной, глядя, как кормят чаек — красивые белые птицы стремительно пролетали над парапетом, на мгновение застывая в воздухе рядом с людьми.
Река сверкала и переливалась в последних лучах солнца, садившегося где-то за Петршином, закатный свет ложился на зелень парков, крыши домов, купола башен.
Градчаны, величественные, возвышающиеся над волнистым морем крыш, напоминали большой темный корабль, плывущий против течения…
Все уладится, войдет в свою колею, повторял он про себя, бредя по набережной в сторону Карловых бань.
Как всегда, восхищенно смотрел он на реку, на Карлов мост, панораму домов на Малой Стране — вот тонкая Мостецкая башня, а там на фоне Страговских садов выделяется купол Микулашской церкви, позолоченный лучами заходящего солнца.
По набережной шли люди — и в одиночку, и небольшими группами, большей частью иностранные туристы, они щелкали фотоаппаратами и задумчиво смотрели на завораживающую картину предвечерней Праги.
Бендл попытался представить, какое впечатление производит на иностранцев эта красота, берет ли их за живое. Наверняка она поразит их, запомнится, но никогда не вызовет у них такого волнения, как у человека, который здесь родился и связан с Прагой всю жизнь.
Он стоял на заполненном туристами мостике Новотного и смотрел на неподвижную темную воду, которая, попав в плотину, начинала шуметь и пениться и стремительно неслась куда-то, любовался Сововой мельницей, зеленью старых деревьев у Кампы, и сердце его билось сильнее. Я всегда с удовольствием буду возвращаться сюда, думал он. Уходить не хотелось, и он долго стоял у перил, а группы туристов сменяли одна другую.
Серая дымка, что тянулась от Славянского острова, медленно сгущалась над Влтавой, сливалась с опускающимися сумерками. Где-то вдали легко скользила по водной глади лодка, плавно поднимаясь и опускаясь под мягким туманным покровом.
Вспомнился Будапешт, залитый солнцем, его широкие бульвары и дома, красивые, как театральные декорации…
И он снова мысленно шел с Анико по берегу Дуная, ветер развевал их волосы, покрывал рябью желтовато-серую гладь реки, и Анико вспоминала о Праге, с волнением говорила обо всем, что там полюбила, вспоминала и мостик Новотного, и Карлов мост, и этот неповторимый вид на Влтаву…
Когда Анико приедет в Прагу, они пройдут по всем этим местам, открывая для себя непознанную, загадочную красоту города, обязательно постоят и здесь, над рекой.
Может, он тогда будет вспоминать Будапешт, называть то, что ему так полюбилось, а Анико будет над ним смеяться и непременно скажет: «Зато вы живете в Праге!»
Он не торопясь прошел по Манесову мосту в Кларов, теперь оставалось выйти под Хотковым шоссе прямо на Шпейхар, а оттуда рукой подать до дома.
Все уладится, войдет в свою колею, повторил он уже в который раз. Да, так оно и будет. А Нейтек?
Зачем ломать над этим голову? Рано или поздно они должны столкнуться, этого не избежать. Тем более если оба останутся в объединении и ежедневно будут встречаться.
Надо остерегаться Нейтека, ведь именно он помог отправить директора на пенсию.
«В отношениях, между людьми невозможно избежать конфликтов, — слышался ему вразумляющий голос директора, — но ведь работа и коллектив не должны от этого страдать».
И он опять увидел директора за пустым столом перед горкой яблочной кожуры…
Хотя солнце уже зашло, внизу, на деревянных мостках купальни за парапетом набережной, стояли загорелые люди в плавках. Видимо, в этот душный вечер им не хотелось уходить от освежающей прохлады реки.
Опять вспомнилась мечта об оркестре, где каждый старается играть свою партию так хорошо, как только может, и всех объединяет стремление приблизить человека к человеку, ведь один ты можешь очень мало — собственно, почти ничего. Он хотел играть в оркестре всю жизнь и изо дня в день шлифовать свое мастерство, вносить свою лепту в общее дело и готовиться к серьезным выступлениям, на которых музыканты показали бы друг другу и всем остальным, на что они способны…
Градчаны, словно корабль, неожиданно быстро приблизились с левой стороны, теперь они казались еще величественнее, еще выше в мягком, жемчужно-голубом свете наступившего вечера.
…А тетя Лаура будет смеяться и глухим, хриплым от сигарет голосом повторять одну из своих излюбленных житейских мудростей:
«Никогда не бывает так хорошо, чтобы не могло быть еще лучше».
И оба они будут смеяться по любому поводу — достаточно одному начать, и смеху не будет конца.
Хорошо жить на свете, когда есть тетя Лаура.
Мягкие очертания города медленно исчезали, сливаясь с серым речным туманом, сумерки тихо опускались на Прагу.
Завтра будет прекрасный день.
ВИОЛА
Мгновение, замри сейчас,
Вся жизнь, замри сейчас.
Увижу все, как в первый раз
И как в последний раз.
Франтишек ГРУБИНVIOLA
Praha, 1978
Перевод Т. Мироновой
Редактор Л. Новогрудская
© Josef Kadlec, 1978
© Перевод на русский язык «Новый мир», 1979
1
Окраина нашего города выглядела в те времена заброшенной и неприглядной: редкие домишки вдоль шоссе, несколько сколоченных из чего попало развалюх, рядом жались друг к другу буйно заросшие грядки крохотных огородиков, все в сорняках строительные площадки, наметки будущих улиц, уходящие в поля, — все это напоминало растрепанный край грубого холста.
По одну сторону улицы, где мы тогда жили, стояло несколько одноэтажных домишек, по другую, к темной полоске леса у горизонта тянулись отлогими склонами поля и луга. От нашего дома в поле убегала глинистая проселочная дорога, во время дождей она превращалась в сплошное грязное месиво, а то и в мутный поток, несущий избыток воды с поля прямо на улицу. Когда-то эта дорога связывала город со старым стекольным заводом у леса, но в начале тридцатых годов завод закрыли из-за недостатка работы, и с тех пор дорогой почти никто не пользовался, только местные крестьяне ездили по ней в поле; дорога не очищалась, зарастала сорняками, покрывалась рытвинами и ухабами.
Еще немного, и дорога, вероятно, слилась бы с полем, от нее осталась бы лишь росшая по обочинам полоса колючего терна и шиповника, где гнездились стайки певчих птиц. Но вот в тысяча девятьсот сорок первом году произошло событие, доставившее много хлопот жителям нашего предместья.
В один прекрасный весенний день на дороге появились двое черноволосых мужчин с лопатами. Они рьяно принялись заравнивать ухабы, засыпать выбоины камнями, скопившимися на межах — их туда по весне складывали крестьяне, обрабатывая свои поля.
Предместье с удивлением следило за действиями незнакомцев: никто в толк не мог взять, зачем они это делают и кому понадобилось расчищать никому не нужную дорогу. Поговаривали, будто городские власти выделили какую-то сумму на ремонтные работы, вот они и подрядили тех двоих на временную работу, только почему пригласили чужаков, да еще такого угрюмого вида, лучше б дали подработать местным. Пошли слухи, что вот-вот снова откроют и стеклодувку, передавали, что кто-то видел, как эти двое поднимают забор вокруг завода и штукатурят облупившиеся стены бывшей конторы.
Как-то раз, когда чужаки стали засыпать колею неподалеку от нашей улицы щебенкой, которую возили на тачке, наш сосед, прозванный Хромым из-за того, что он немного прихрамывал на правую ногу, не совладав о обуревающим его любопытством, проковылял к ним и спросил напрямик, что тут происходит и кто поручил им эту работу.
Они ответили ему, что ничего особенного не происходит и что никто им этой работы не поручал, а просто они арендовали старую стеклодувку у леса и, так как дорога эта ведет именно туда, им первым делом теперь надо привести в порядок дорогу.
Объяснение вполне разумное и вроде бы не дававшее никаких оснований для беспокойства, если б любопытный Хромой не узнал в одном из чужаков своего бывшего однокашника, который жил когда-то в нашем предместье. Он слыл скандалистом и забиякой, был груб и жесток, числились за ним и стычки с полицией. Поговаривали, что он даже сидел в тюрьме за драки.
Тогда все называли его не иначе как Зубодер; собственно, у нас в предместье его только так и звали; возможно, его настоящее имя уже забылось. И теперь, когда Хромой признал его, наши перепугались, решив, что такое соседство ничего хорошего не сулит. Зубодером его прозвали потому, что он носил в кармашке жилета свинцовый кастет, который в драках надевал на пальцы левой руки, и точным ударом мог лишить противника нескольких передних зубов разом.
С этих пор все жители нашей улицы с опаской следили за тем, что происходит на старой стеклодувке.
Некоторое время не происходило ровно ничего. Лишь по расчищенной теперь дороге несколько раз проехала повозка, тяжело груженная то досками, то кирпичами, то старой рухлядью. В повозку была впряжена тощая кляча, на козлах сидел один из тех чужаков.
А женщины нашего предместья стали иногда встречать в магазине незнакомую женщину, увядшую, замученную, сгорбленную, как видно, от тяжелой работы; она молча покупала продукты, а потом тащилась с полными сумками по проселочной дороге к заводу.
Должно быть, она жила там. Похоже, что они уже освоились на новом месте.
И вот в один прекрасный день случилось то, что, по-видимому, и должно было случиться.
В трактир «На уголке», что напротив небольшого сахароваренного завода, каждый вечер сходились завсегдатаи и засиживались там за пивом и каргами допоздна, пока хозяин Пенкава не желал им «спокойной ночи».
Раза два и я заходил туда с друзьями — посидеть и поболтать; у нас тогда только начали пробиваться усы, но нам хотелось хоть чем-то походить на взрослых. Да, собственно, нам больше некуда было идти: трактир «На уголке» был единственным местом во всей округе, где кипела жизнь.
По воле случая мы в тот вечер сидели там, прихлебывая пиво, когда из сгущающихся сумерек в освещенный пивной зал вошли те двое чужаков, сумрачные, как надвигающаяся ночь.
Они остановились у порога, огляделись, потом решительно пересекли зал и сели за свободный столик в углу.
Зал притих, все с опаской следили за вошедшими, правда, тут же опомнились и продолжали играть в карты и разговаривать так, будто ничего не случилось.
Никто из нас не знал, кто из них Зубодер. Они были похожи как две капли воды: черноволосые, с лохматыми сросшимися бровями над темными, мрачно сверкающими глазами. Один, правда, казался постарше — он был более худощав, сильнее сутулился, у него серебрились виски.
Они заказали ром и пиво; сидели молча, смотрели прямо перед собой, будто не замечали окружающих, и вид у них был такой — воды не замутят.
Словом, все шло своим чередом. Казалось, они, идучи мимо, заглянули сюда отдохнуть после трудового дня. Так они появились в трактире впервые.
Вскоре никто из присутствующих уже не обращал на них внимания, гости шумели, распалившиеся картежники громко выражали свои восторги и огорчения. Напротив тех двоих сидел Хромой со своей компанией; они играли в «дурака» на медяки, но страсти у них бушевали: они вскакивали со стульев, размахивали руками, шумели. Было смешно смотреть, в какой азарт впадали степенные папаши. Видно, это помогало им забыть повседневные заботы, освободиться от гнетущих мыслей.
Трактирщик Пенкава в замызганном фартуке сновал между столами. Стоило гостю опорожнить кружку, как он тотчас же приносил полную, с большой шапкой пены. Он пекся о завсегдатаях с такой подчеркнутой обходительностью, словно это доставляло ему особое удовольствие. Что тут удивительного, ведь завсегдатаи оставляли здесь значительную часть своего заработка; нередко в день получки они с работы первым делом шли к Пенкаве — расплатиться с накопившимися долгами, а домой несли то немногое, что оставалось.
Казалось, те двое тихо-мирно выпьют свое пиво и уйдут восвояси, когда один из них, тот, что постарше, вдруг встал, быстро пересек зал и подошел к столику, за которым резались в карты.
Хромой, который с явным удовольствием сгребал свой выигрыш, вдруг услышал за спиной громкий хрипловатый голос, прозвучавший на весь зал:
— Разве так играют? Это же игра для первоклашек, чтобы считать не разучились…
Хромой сделал вид, что не слышит, и продолжал сдавать карты.
— Кто из вас играет в ферблан? — продолжал черноволосый. — Пошли сыграем партийку.
Молчание. Игру он предложил самую азартную.
Хромой сначала сдал карты, потом проверил, не переложил ли кому лишнюю, торжественно открыл козыря, Ловко выложил на него колоду и лишь тогда мимоходом бросил через плечо:
— Играть-то мы играем. Но с тобой играть не хотим.
Черноволосый сгорбился еще больше, он так съежился, будто у него подкосились колени: такого ответа он не ожидал.
— Почему? — удивился он. — Что ты имеешь против меня?
— Ничего, — с ледяным спокойствием ответил Хромой. — Просто потому, что ты Зубодер.
Зубодер растерялся, но не выглядел оскорбленным: между сросшимися бровями пролегла морщина, похожая на незаживший шрам.
— Смотрите-ка, — пробормотал он как бы про себя. — Ну и дела. Вы, значит, не считаете, что нам всем надо держаться заодно…
Не знаю, что он хотел этим сказать. Может быть, то, что во время оккупации, когда фашисты угрожали каждому смертью или концлагерем, всем нам следовало бы держаться заодно. Если он это хотел сказать, он был прав; возможно, у него был за плечами опыт, которого у нас не было.
— Вот мы и держимся заодно, — отрезал один из игроков и ударил картой по столу. — А ты к нам не лезь.
— Что я такого сказал, — спокойно оправдывался Зубодер, но голос его от волнения дрогнул. — Предложил вам сыграть партийку…
— Вот и играй с братом, — отрезали ему.
Похоже было, что Зубодер благоразумно уступил и уйдет восвояси. Но тут поднялся его брат и нетвердым шагом — видно, успел хватить лишку — направился к нам, остановился около Хромого, склонился над столом и, брызгая ему в лицо слюной, произнес:
— Сидишь тут, умника из себя строишь и на людей кидаешься, а вот рассказать тебе, что пришлось пережить нам, наделал бы в штаны со страху…
— Если перепил, сядь и помолчи, — все так же сдержанно ответил Хромой.
— Брось! — настаивал Зубодер. — Что сними, с дураками, говорить?
Они не торопясь направились в свой угол — шли как два черных ворона, случайно прибившихся к человеческому жилью, — люди спугнули их и прогнали прочь.
Тут дорогу братьям преградил трактирщик Пенкава с пенистыми кружками пива в руках; легонько отстранив братьев, он тихо, но четко произнес:
— Успокойтесь, господа! Мы не хотим скандала. У нас здесь приличный трактир.
Эти слова задели более молодого и воинственного, и он рванулся к трактирщику, но старший удержал его, и ему пришлось ограничиться руганью:
— А ты, старик, нас не учи! У нас свое, у тебя свое… Если мы захотим, так пустим тебя с твоим трактиром по миру!
Слова его прозвучали угрожающе, и всем показалось, что угроза была не пустой.
Игроки оторвались от карт и уставились на братьев, стоявших в проходе между столами. Ссориться они вроде бы не собирались, но вид у них был воинственный — черт знает что еще выкинут.
— Что ты этим хочешь сказать? — закричал Пенкава.
Младший пьяно улыбнулся, отбросил непослушные волосы со лба и сказал с вызовом:
— А то, что мы скоро открываем трактир и народ повалит к нам… — Помолчал немного и ехидно добавил: — И вы все тоже! — Он обвел рукой сидящих в зале. — Прибежите как миленькие! Рот разинете, какой у нас будет трактир!
Сказав это, братья удалились в свой угол. Возможно, что и в трактир они явились только затем, чтобы объявить всем эту новость.
Бросили вороны свой дерзкий вызов — и убрались восвояси. Напряжение в зале, грозившее взрывом, спало, и ничто, казалось, уже не предвещало больше никакой опасности.
Вернувшись к своему столу, братья сели и молча выпили еще по кружке. Потом подозвали трактирщика и расплатились.
— Заходите к нам! Будем рады вас видеть! — сказал на прощание старший, и они исчезли в непроглядной тьме.
Я представлял себе, как они бредут в темноте ночи по неровной дороге к старому, еще недавно заброшенному стеклозаводу на опушке.
Две темные, тени, еще более черные, чем сама ночь.
А через месяц в один из жарких летних дней на повороте проселочной дороги, как раз против нашего дома, появилась доска с видной издалека надписью «Трактир у стеклодувки» и стрелкой, указывающей на опушку леса.
2
Это был не трактир, а скорее пивная для любителей загородных прогулок, потому что неподалеку от стеклодувки в лесу был пруд, к которому летом стекались толпы горожан. Тропинка к этому пруду шла мимо завода, и любители купания охотно заглядывали в гостеприимный трактир на опушке.
Говорили, что вечерами там бывало весело: посетители сидели перед домом за простыми, сбитыми из досок столами; лихо играл гармонист; гости пели хором так громко, что в тихие вечера пение доносилось даже на нашу улицу. Иногда мы узнавали мелодию, реже — слова.
Из нас, жителей предместья, никто туда и носа не казал, все словно сговорились, что будут обходить это место за версту. Как и прежде, мы сходились поговорить и перекинуться в картишки у Пенкавы — словом, хранили верность трактиру «На уголке».
Больше всего взбудоражила нас весть о том, что гостей в новом трактире обслуживают две девушки, видимо дочери арендаторов, — красивые и веселые, они очень обхаживают посетителей, особенно тех, которые не скупятся.
Слухи эти вызвали у нас в предместье самые невероятные разговоры, одни подтверждали, другие опровергали сказанное; все это крайне раздражало тех, кто с неприязнью встретил новых арендаторов и не одобрял подобных новшеств. Ходили и вовсе неправдоподобные слухи, будто по ночам девушки садятся к посетителям на колени, ласкают богатых гостей; словом, там что ни день, то оргии.
Трудно сказать, где тут была правда, а где ложь, скорее всего, это были просто досужие выдумки или даже наговоры, ведь чего только не напридумывает человек, лишь бы излить свою ненависть, а под конец так заврется, что сам поверит в свои измышления.
Мне и моим товарищам уже давно не терпелось хотя бы через забор заглянуть, посмотреть, что же происходит по вечерам в «Трактире у стеклодувки». Но мы сдерживали свое любопытство, не желая изменять зароку, данному жителями предместья: на стеклозавод — ни ногой.
Стояло душное, жаркое лето. После работы мы с моим другом Ярославом частенько отправлялись на пруд. Шли мы туда по узеньким межам среди хлебов, обходя завод стороной. А то ездили туда на велосипеде. Сначала по пыльному шоссе, потом по бездорожью, по выступающим корням, по ухабам спускались к зеленой дамбе пруда.
Мы работали с Ярославом вместе на одной фабрике в другом конце города. Я выписывал наряды на сверхурочные работы в бухгалтерии, он затачивал сверла и фрезы в инструментальном цехе. Мы вместе ходили на работу и с работы, иногда по вечерам отправлялись в городской кинотеатр или в трактир «На уголке» — словом, проводили вместе почти все свободное время и во всем доверяли друг другу.
Однажды под вечер — духота стояла как перед грозой — я пошел на пруд один, Ярослав работал в вечернюю смену. Я немного задержался дома — помог матери прибраться, просмотрел книжки, которые принес из библиотеки, так что мама сама поторопила меня идти на пруд, пока не стемнело.
На блестящей поверхности пруда уже лежали тени высоких сосен, росших на его песчаных берегах. Я миновал дамбу и направился к своему любимому месту — на поросшую травой лесную полянку, затененную ветвями черной бузины.
Берег уже опустел, только внизу у дамбы оставалась компания ребят, они бренчали на гитаре и потихоньку пели, но вскоре ушли и они.
Я испытывал блаженство оттого, что я совершенно здесь один, что эта дышащая вечерней свежестью природа — темно-синие воды пруда, стройные стволы сосен, шумящих своими кронами, — все это для меня, и только для меня.
Я сидел на поляне и наслаждался окружающим спокойствием и тишиной, когда вдруг послышался мне тихий шелест, словно кто-то, легко ступая по траве, прошел где-то неподалеку. Вода подернулась рябью, от берега побежали большие круги, и кто-то, беззвучно вынырнув, поплыл на середину пруда.
Я мигом сбросил одежду, прыгнул в воду и поплыл следом. Меня обуяло любопытство, хотелось во что бы то ни стало узнать, кто скрывался за густой стеной кустарника рядом.
Незнакомый пловец оказался женщиной. Ее белая купальная шапочка то и дело выглядывала из воды.
Незнакомка плыла к острову. Я устремился за ней. Она заметила меня и поплыла быстрее, стараясь уйти от преследования. Я почти догнал ее: казалось, протяни только руку — и я коснусь ее. Но в эту самую минуту она прибавила скорость и стала быстро удаляться от меня. Неожиданно она перевернулась на спину и обожгла меня глазами: я понял, что она сердится.
— Ты чего за мной увязался?
— Можно подумать, что этот пруд твой, — защищался я.
Мы вышли на берег доросшего лесом островка. Из песка торчали размытые волнами причудливо переплетенные корни деревьев.
Когда она вышла из воды, я заметил, что она высокая, стройная, с длинными ногами, худощавая. Мокрый купальник так плотно облегал ее, что она казалась голой.
Запыхавшись от быстрого плавания, мы сели поодаль друг от друга на обнаженные корни деревьев, погрузив ноги в теплый влажный песок.
Я смотрел на нее чуть сбоку, у нее были тонкие, правильные черты лица: прямой носик, красиво очерченные чуть полноватые губы, но прежде всего обращали на себя внимание большие темные глаза, которые казались особенно огромными потому, что волосы ее были спрятаны под купальной шапочкой, и это делало лицо меньше.
— Я хожу сюда каждый вечер, но вас здесь никогда не видел, — попытался завязать разговор я.
Она молчала, водила по песку красивой ногой, пересыпала его с ноги на ногу, белые песчинки прилипали к ее смуглой коже.
Вскоре она повернулась и обратила свой взгляд на меня, я не разглядел тогда цвета ее глаз, они показались мне зелеными, даже темно-зелеными, может быть, в них отражалась зелень деревьев, а может быть, цвет их менялся.
— Я тебя не знаю, — мягко сказала она без тени раздражения. — Да и не могу знать — я здесь первый раз…
— Давай познакомимся, — предложил я. — Меня зовут Ян.
Я встал и направился к ней по песку.
Она тут же вскочила, стремглав бросилась в воду и, прежде чем я успел опомниться, уже была на середине пруда.
Я кинулся в воду, поплыл вдогонку, что оказалось вовсе не легко, но она великодушно подождала меня, и мы поплыли рядом.
— Меня зовут Виола, — раздался среди всплесков воды ее голос, и глаза приветливо засветились.
— Откуда ты? — допытывался я. — Где живешь?
Она прибавила скорости, так что я опять едва не отстал, потом перевернулась на спину — над водой виднелось лишь ее лицо, стройное тело почти целиком скрывала вода, казалось, оно закрыто прозрачным покрывалом. Когда я догнал ее, она строптиво заявила:
— Этого я тебе не скажу.
Выходя из воды, она запуталась в прибрежных водорослях и чуть не упала. Я вовремя подхватил ее, помог выпутаться; так, держась за руки, мы вскарабкались по крутому берегу к месту, где лежали ее вещи.
Какое-то мгновение мы стояли друг против друга. Она была почти одного роста со мной, но казалась худенькой и хрупкой. Она была так близко в этом купальнике, который ничего не скрывал, что стоило протянуть руку — и я прижал бы ее к себе, обнял бы; какое имеет значение, что мы оба насквозь мокрые, если вокруг нас нет никого, если мы одни в лесу в этот чудесный вечер; у меня закружилась голова.
— Сколько тебе лет? — спросила она.
— Девятнадцать. Скоро будет двадцать.
— Где работаешь? — поинтересовалась она.
— В бухгалтерии. Помощником бухгалтера, — неохотно отвечал я.
— Ты что ж, собираешься стать чинушей?
— Может быть.
Я все еще сжимал ее руку, она не отнимала ее, казалось, что так и должно быть и по-другому быть не может.
— Подожди! — вдруг сказала она строгим голосом и, высвободив руку, отступила назад и стянула с головы белую резиновую шапочку.
Чудесные, блестящие как золото волосы упали ей на плечи, и я не смог скрыть своего восторга; она вся преобразилась, предстала предо мной принцессой Златовлаской, самой красивой на свете; ее волосы светились в сгущающихся сумерках мягким золотистым светом; тут я разглядел, что глаза у нее ярко-зеленые, мшисто-зеленые, как бездонная глубь горного озера.
— Что ты так на меня уставился? — спросила она не слишком любезно. — Не видал, что ли, рыжих девчонок?
— Какая ты красивая! — выдохнул я. — А волосы какие!
— Да брось ты! — засмеялась она, глядя мне в глаза. — Все так говорят, когда им что-нибудь от меня надо…
— Мне от тебя ничего не надо, — обиделся я. — Я только сказал, что ты красивая.
Она погладила меня мокрой рукой по щеке, словно успокаивала ребенка.
— А теперь отойди в сторонку, — попросила она. — Мне нужно переодеться.
Я отошел.
— И не оглядывайся! — крикнула она мне вслед.
Я пробрался через кусты к полянке, где оставил свои вещи. Конечно, я оглянулся, и не один раз, но в переплетениях ветвей мелькнули лишь ее спина, узкие плечи и округлые бедра, больше я ничего не разглядел; ее тело светилось в вечерних сумерках и словно звало меня: вернись!
Я снял плавки, поспешно натянул на мокрое тело брюки и рубашку, выжал воду из плавок и стал ждать. Ждать пришлось долго. Я даже подумал: уж не обманула ли она — сама ушла, а меня оставила тут.
Но вдруг она вынырнула из темной гущи ветвей и остановилась передо мной одетая и причесанная, в легком цветастом платье, удивительно оттенявшем ее загорелую кожу и золотистые волосы. От нее исходил аромат, легкий, едва ощутимый сладковатый аромат, напоминающий запах меда или луга после дождя.
Когда мы шли по дамбе, пруд уже почти сливался с темной стеной леса, выделялась лишь белая песчаная полоса берега, островок терялся в сумеречной дали.
— Я рад, что встретил тебя, — сказал я.
— Ну и что? — досадливо ответила моя спутница.
Она шла рядом легкой и пружинистой походкой, ноги в белых теннисных тапочках ловко обходили камни, вынесенные на дорогу весенним паводком.
— Я подумал, может, мы тут еще когда встретимся, — сказал я ей.
— Зачем тебе это надо?
— Мне всегда хотелось иметь такую девушку, как ты, — не сробел я.
— Из этого ничего не получится, — отозвалась она чуть погодя. — У меня нет времени для таких знакомств.
Меня заинтриговал ее ответ, сразу захотелось спросить почему; я не отступался и продолжал докучать ей вопросами. Но чем дальше, тем больше она замыкалась в себе, войдя в роль загадочной незнакомки, явившейся мне в один прекрасный летний вечер в облике сказочной красавицы Златовласки.
— Слишком много ты хочешь знать, — упрекнула она меня.
— Я ведь ответил на все твои вопросы.
— Но я просто хотела знать, кто ты.
— А теперь расскажи мне о себе.
— Ты слишком любопытный, — отрезала она.
Мы приближались к опушке леса; на светлом горизонте выделялось длинное каменное строение бывшего стеклозавода. Я полагал, что мы минуем его, спустимся по склону к городу и я провожу ее до конечной остановки трамвая. Но вдруг она сказала:
— Я не хочу, чтобы нас видели вместе.
В «Трактире у стеклодувки» играла гармошка, нестройное пение нарушало тишину сумрачного леса.
Она подошла ко мне, взяла за руку и шепнула:
— Поцелуй меня.
В одной руке я держал мокрые плавки и поэтому не смог ее обнять. Обхватив Виолу другой рукой, я крепко прижал ее к себе, она покорно положила голову мне на грудь, и я как во сне прильнул к ее мягким губам.
— Ты не умеешь целоваться. — отстранилась она. — Давай я сама тебя поцелую.
Ее влажные губы припали к моим губам долгим поцелуем. Под ногами закачалась земля, закружились где-то в вышине деревья. И снова меня одурманил аромат меда.
— В следующее наше свидание я научу тебя, как надо целоваться, — сказала она. — А теперь пусти, мне пора…
— Когда мы увидимся?
Она вырвалась из моих объятий.
— Скоро, — пообещала она. — Раньше, чем ты думаешь.
Я стоял на темной опушке, пьяный от ее поцелуя.
На поля спустилась темнота, густой туман пеленой покрыл землю; тихая летняя ночь окутала город, едва различимый вдали.
Я смотрел, как она идет по песчаной тропинке к стекольному заводу, как мелькает ее светлое платье на темном фоне забора, но вот она остановилась и исчезла.
Мне послышалось, как со скрипом захлопнулась за ней калитка.
3
Хотя погода сразу же испортилась, шел бесконечный дождь, дул порывистый северный ветер, я каждый вечер ходил на пруд, ждал свою Златовласку. Но она не появлялась. Напрасно прохаживался я по дамбе, заглядывая в те места, где мы бродили вместе; видно, она и думать забыла о своем обещании встретиться со мной.
Поверхность пруда рябили мелкие волны, ветер шумел в кронах сосен, шелестел ветвями кустов; песчаные берега пустовали, в такую погоду купальщики обходили пруд стороной.
А я ждал и ждал Златовласку. В мечтах я представлял, как было бы хорошо здесь: и пруд, и все рощи, ложбины и поляны принадлежали бы нам, и ничего, что так похолодало, — вдвоем нам было бы тепло.
Домой я возвращался мрачный и ко всему равнодушный: мне опостылели книги, я ни на чем не мог сосредоточиться. Мама озабоченно спрашивала, уж не заболел ли я, сетовала, что я осунулся, притих и побледнел. Но болен я не был, просто меня угнетала тоска, давили несбыточные желания.
Чем дальше, тем сильнее мучили они меня. Я мысленно повторял себе, что сказал бы Златовласке, о чем бы спросил, представлял себе, как взял бы ее за руку, как притянул бы к себе, как смотрел бы ей в глаза, пытаясь разгадать, что таится в их зеленых глубинах.
Наступило воскресенье, дождливое, ветреное воскресенье, и я не знал, куда девать себя.
Воскресные дни проходили в нашем предместье скучно: особых развлечений у нас не было. Мы с товарищами шатались по улицам, стояли на углах, заигрывали со встречными девушками, вышучивали сверстников, у которых уже были свои девушки. Что удивительного, если мы шатались гурьбой по всему предместью, приставали к прохожим, дурачились, громко хохотали, — нам хотелось веселиться, веселиться во что бы то ни стало.
Когда Ярослав свистнул под моим окном, мне не хотелось никуда идти; лучше посидеть дома, побыть одному, чем болтаться по воскресным улицам. Но Ярослав не отступал: он ходил у меня под окнами и свистел до тех пор, пока я не высунулся наконец сказать ему, что я заболел — пускай идет гулять на улицу без меня.
— Да брось ты, — не захотел он слушать моих объяснений. — Еще чего вздумал — валяться дома. Я купил билеты на футбол. Схватка будет что надо… Наши играют с северянами.
Это означало, что на нашем футбольном поле состоится захватывающий матч между командами южного и северного предместий. Матч между этими командами всегда носил острый характер и нередко заканчивался рукопашной, в которую включались даже зрители.
Идти на матч мне, скажем прямо, не хотелось, но Ярослав посмотрел на меня с такой обидой, что я не устоял, взял дождевик, и мы вместе поспешили на футбол.
Футбольное поле нашего клуба располагалось на пустыре между сахароваренным заводом и кварталом старых жилых домов. Со стороны улицы оно было огорожено забором, сзади оградой служили густые заросли терновника, шиповника, боярышника и бог знает еще каких кустов; за ними поднималась железнодорожная насыпь, по которой сновали маневровые паровозы, тянувшие за собой бесконечные цепи товарных вагонов.
Когда мы пришли, около поля толпилось множество народу, больше всего людей скопилось у входа, нам едва удалось протиснуться туда, где можно было хоть что-то видеть. Приблизительно за метр от поля поставили наспех сколоченные из длинных шестов ограждения, чтобы зрители не мешали игрокам. Во время матча болельщики бесцеремонно окликали игроков; то бранили их, то давали им мудрые советы, а то и швыряли в них бумажными стаканчиками от пива, продававшегося у входа в деревянном киоске. Короче, зрители развлекались с куда большим азартом, чем футболисты гоняли мяч.
Не переставая шел густой мелкий дождь; игроки в застиранных, выцветших рубашках вмиг вымокли — заляпанные с головы до пят грязью, они походили на пугала. Игра с самого начала взяла быстрый темп, каждая из сторон хотела показать, на что она способна, схватка шла ожесточенная. Добиваясь преимущества любой ценой, игроки были готовы уничтожить противника на месте; болельщики чувствовали это и громко поддерживали свою команду; я вместе со всеми переживал волнующие минуты матча.
Среди запыхавшихся игроков носился плешивый судья в черной майке и трусах и яростно свистел, но никто не обращал на него ни малейшего внимания.
Ярослав болел за наш клуб, он злился и нервничал, когда у наших игроков что-нибудь шло не так, он свистел, скандировал вместе с другими болельщиками «судью на мыло!» с такой силой, что у меня закладывало уши.
Забрызганные грязью игроки бешено носились по полю, сбивали друг друга с ног, дрались, их форма была такая грязная, что с трудом можно было угадать, кто из какого клуба.
И как же мы ликовали, когда за минуту до конца матча нашим удалось наконец забить мяч в ворота противника! Это был единственный гол за весь матч, который судья поначалу не хотел засчитывать, но под напором разъяренных зрителей в конце концов уступил. Тут уж зрители не выдержали: сбив шаткие ограждения, они бросились на поле — в такой неразберихе продолжать игру было невозможно; судейский свисток возвестил об окончании игры, и с трудом завоеванная победа осталась за нами.
Между тем дождь перестал, выглянуло солнце, но для лета день, оставался на редкость холодным.
Зрители расходились по домам, болельщики нашего клуба были в восторге от острых воскресных переживаний. Меня в отличие от моего друга Ярослава игра нисколько не волновала, рядом с ним я, занятый своими невеселыми мыслями, выглядел безучастным наблюдателем.
В толпе, сгрудившейся у узкого выхода с поля, нас заметили наши ребята, они протиснулись к нам и с вызовом предложили:
— А не отметить ли нам победу в «Трактире у стеклодувки»?
— Там? — удивился Ярослав.
— А почему бы и нет? Это ведь тоже в нашем предместье, — ответили ребята. — И потом, там всегда весело.
Я оживился, хотя мне все еще не верилось, что наше предместье примирилось с «Трактиром у стеклодувки», признало его, хотя это действительно было так. Все будто давно сговорились и теперь без лишних слов гурьбой направились туда отпраздновать победу.
— Пошли и мы, — предложил я Ярославу. — По крайней мере сами убедимся, правду ли болтают…
И так, беспорядочной толпой, мы двинулись с футбольного поля сначала по нашей улице, потом по проселочной дороге к лесу; казалось, мы идем на штурм крепости.
К нам присоединилось довольно много людей, так что я стал даже опасаться, поместимся ли мы там все. День был прохладный, перед трактиром никого не было, дощатые столы, мокрые от дождя, поблескивали в лучах солнца. Поскольку мы одеты были тепло, по погоде, то с ходу двинулись к столам, расселись по мокрым скамьям и заняли все до последнего места.
Вскоре к нам вышел Зубодер, по крайней мере мне показалось, что это он, так как он сильно изменился с тех пор, что я видел его в трактире «На уголке». Вид у него был солидный, сытый: круглое, «пивное» брюшко торчало из-под короткой жилетки, в углу рта — виргинская сигара. И походил он скорее на хозяина карусели или бродячего цирка, чем на владельца загородного трактира. Любезно улыбаясь и учтиво кланяясь, он говорил:
— Приветствую вас, господа! Мы рады гостям…
Он понял, что наше предместье пришло заключить с ним перемирие, и был сама любезность и услужливость; быстро переходя от стола к столу, он принимал заказы, и вот уже зазвенели кружки и послышался веселый многоголосый гомон — совсем как в трактире «На уголке». Бедный трактирщик Пенкава! Вот бы удивился он, узнав, как вероломно изменили ему его постоянные клиенты, как легко нарушили свой зарок.
Когда Зубодер всех обслужил, появился второй, с гармоникой; он принес с собой табурет, подсел к нам и заиграл. Да, скажу я вам, гармонист он был хоть куда! Играл то бодро и энергично, а порой до того трогательно и печально, что слезы подступали к глазам, и вот уже снова наяривал так, что дух захватывало. Хриплые, надорванные голоса нарушили тишину заброшенного завода и доносились до нашей улицы:
Выпей, братец, выпей, Ведь это не вода, Может быть, не встретимся Больше никогда.В дверях промелькнула женская фигура и тут же скрылась: верно, женщина высунулась поглядеть, что делается за столами, а увидев столько новых гостей, ушла причесаться или там приодеться, чтобы показаться в наилучшем виде. Когда она снова появилась, я понял, что это не моя Златовласка; она была немного старше, полнее, с черными как смоль волосами, высокая, стройная.
Когда она, собирая кружки и тарелки, шла между столами, тесно сидящие на лавках мужчины жадно оглядывали ее фигуру в голубом свитере и шерстяной юбке, а кое-кто даже нахально тянул к ней руки, но она ловко уклонялась, как бы вообще не замечая их приставаний.
— Эмча, — кричал ей Зубодер. — Еще три порции гуляша! И два рома в конец стола!
Эмча поспевала всюду, она обслуживала нетерпеливых гостей, подпевала им и, конечно же, оживляла мужскую компанию.
— Вот это да! — с видом знатока произнес Ярослав. — Ты только посмотри, какая походка…
Она на минуту задержалась около нас и с улыбкой спросила:
— Чего желают юные господа? Что вам дать, чтобы согреться?
— Ром, — произнес я уверенно. — Два рома!
Она приняла заказ и поспешила к дому.
— С ума ты сошел? — набросился на меня Ярослав. — С каких это пор, интересно, ты потребляешь ром?
— Не бойся, плачу я, — успокоил я его.
Я дождался, когда она принесет нам ром, и тотчас же огорошил ее вопросом:
— Скажите, у вас случайно нет сестры?
— Случайно есть, — улыбнулась она. — Вы ее знаете?
— А нельзя ли с ней поговорить?
Эмча удивленно посмотрела на меня, будто не поняла моего простого вопроса.
— Нет, нельзя, — наконец строго ответила она. — Сестра больна.
— Передайте ей, что здесь Ян, — с трудом выдавил я из себя. — Она меня знает.
— Скажи пожалуйста! — удивился Ярослав. — Откуда у тебя такие знакомства?
Я промолчал.
Не успел я допить свой ром, как Эмча снова подошла к нам, доверительно склонилась ко мне и прошептала:
— Я все передала. Она шлет вам привет, говорит, чтобы вы снова пришли сюда. — И спросила: — Принести еще рома?
— Нет, спасибо, больше не надо, — отказался я. — Сколько с меня?
Остальные тоже расплачивались и собирались уходить, дело шло к вечеру, сильно похолодало. Только несколько подгулявших гостей еще пели под гармонику, но и они вскоре перешли в дом — неприветливое каменное строение, где его владельцы оборудовали небольшой зал для гостей.
Мы с Ярославом возвращались домой по проселочной дороге.
— Ты не говорил мне, что знаком с сестрой Эмчи, — начал Ярослав. — Она что, красивая, как и эта? — спросил он.
— Я встретил ее однажды вечером у пруда. Я там купался, и мы вместе плавали до островка, — признался я. — Красивая она? По-моему, красивая. Такая худенькая, светловолосая…
— Везет же тебе, — позавидовал Ярослав. — Купаться вечером с такой девушкой…
— А может быть, ничего этого и не было, — сказал я печально. — Что, если все это я выдумал…
Он недоуменно взглянул на меня.
— Тогда почему же ты просил передать ей, что ты здесь? Или это была шутка?
— Вот именно, — ответил я. — Может быть, это была вовсе не сестра ее. Может быть, это совсем другая девушка.
Но в душе я был уверен, что это она.
4
С неделю я выдерживал характер и не выходил из дому.
Я старался забыть и о трактире, и о встрече с золотоволосой феей у пруда.
Однажды вечером к нам заглянул наш сосед — Хромой.
— А ваш сын ходит в соседний трактир. Тоже клюнул на тамошних девушек…
— Мы зашли туда с футбола, — защищался я, — чтобы всем скопом отпраздновать победу…
— Это я знаю, — согласно кивнул Хромой. — Но знаю и то, что Зубодер умеет потрафлять людям…
Мать молчала, глядя на меня с упреком.
Хромой бесцеремонно уселся за кухонный стол, вытащил самокрутку, закурил и, хотя никто его ни о чем не спрашивал, завел разговор о Зубодере.
— Чудной он человек, — сказал он. — Сам черт в нем не разберется…
Хромой рассказал нам, как они вместе с Зубодером ходили в школу, каким уважением среди ребят тот пользовался, как одни его боялись, а другие восхищались, потому что он умел драться лучше всех, мог побить кого угодно, ни перед кем не отступал. Улица воспитала его по своим законам, и жизнь заставила надеяться только на себя, на свою силу. Окончив школу. Зубодер выучился на нашей фабрике ремеслу жестянщика…
Видно, в молодости довелось им пережить вместе и хорошее, и плохое, как часто случается в жизни.
— Если судить трезво, так он был парень хоть куда и товарищ хороший. Только уж очень мрачный…
Рассказ Хромого нас заинтересовал, мы подсели к нему поближе, стали молча слушать.
— Его зовут Рейсек, Штепан Рейсек, — повествовал нам Хромой. — Зубодером его прозвали после драки в Народном доме. Не помню точно, из-за чего она началась, скорее всего из-за девушки: драки всегда начинаются из-за девушек. Ни с того ни с сего кто-то что-то брякнул — и пошло-поехало. Как сейчас вижу: он стоит у сцены, на которой наяривает деревенский духовой оркестр, и колошматит своих противников почем зря. Никто не мог с ним сладить, не было ему равного. И теперь, когда прошло уже столько лет, помнятся мне его угрюмые глаза, да и весь он был какой-то мрачный. Как сейчас вижу: вот он стоит в углу зала, пригнулся, вид настороженный — тоска берет на него смотреть. Да, так вот, на чем я остановился… Потом началась настоящая свалка, все местные задиры набросились на него, он отчаянно отбивался, лупил направо и налево, но, судя по всему, в переплет он попал незавидный. Духовой оркестр продолжал играть, но никто не танцевал: женщины с визгом разбежались, потом появились двое полицейских, они пытались взять его. Зубодер прикрикнул на них — они на него с дубинками, тут он вытащил кастет и проложил себе путь. Троих или четверых так долбанул, что до смерти помнить будут. Один из них был полицейский… Тогда Зубодеру удалось удрать, но потом его все равно взяли и бросили в тюрьму; он там хлебнул будь здоров. А после тюрьмы к нам в предместье уже не вернулся.
— Верно, сильно его обидели, раз он так дрался? — спросил я.
— Почем я знаю, — ответил Хромой. — Может, так дело было, а может, и не так. После стольких-то лет как рассудишь…
Он курил одну сигарету за другой, продымил всю кухню. И словно бы чувствовал потребность выговориться. Среди наших только он один был знаком с Зубодером с детства, поэтому и знал о нем то, чего не знал никто другой.
— Потом он вроде бы жил где-то в Моравии, там его, кажется, опять арестовали, но не из-за драки, а на этот раз за участие в забастовке. По натуре он, видать, бунтовщик, не мог жить спокойно. Есть люди, которые предпочитают держаться подальше от неприятностей, а есть и такие, как Зубодер, которым до всего дело.
В нашей кухоньке было так накурено, что мама встала и открыла окно.
— Ходили слухи, что Зубодер женился в Моравии, получил за женой в приданое дом и небольшое поле, что у него родились две дочери. Наверно, он мог бы и сейчас жить там в благополучии: земли для этого хватало. Но тогда бы это был уже не Зубодер — ему никогда на месте не сиделось. Вот он продал все и переселился с семьей под Литомержицами. На деньги, вырученные от продажи дома, открыл лавочку с закусочной или, вернее сказать, пивной. Парень он оборотистый, работящий, так что скоро стал на ноги и зажил вполне прилично.
— А откуда вы все это знаете? — не слишком вежливо перебил его я.
— Так получилось, что знаю, — ответил он с досадой. — Помни, парень, ничего в жизни не утаишь. Один человек одну весть принесет, другой — другую, а сложишь вместе — и перед тобой вся картина целиком. В конце концов все всегда выходит наружу!
Казалось, долгий рассказ утомил Хромого, голос его звучал уже не так бодро, как вначале.
— Почему же он не остался в Литомержицах, если ему там было хорошо? Почему вернулся сюда? — спросила мама.
— Там кругом жили немцы, — ответил Хромой. — Так что, когда пришли нацисты, надо было выбирать: либо объявить себя немцем, либо бросить все и спасаться. Поскольку все его знали, то, не спрашивая ни о чем, нацисты разграбили его пивную, а потом подожгли, так что остались от нее одни обгоревшие стены.
— Вот напасть-то свалилась на человека, — вздохнула мама.
— Но и он в долгу не остался: расквасил нескольким скотам морды кастетом.
— И поделом, — заметил я.
— В последнюю минуту ему удалось удрать, но семья лишилась всего, вот и приехали они сюда, к его брату; у того было накоплено немного деньжат. А потом… что было потом, вы сами знаете: они арендовали стеклодувку у леса. Разрешение вроде бы получил его брат, а Зубодер числится у него подручным рабочим. Само собой, они так все оформили из опасения, если вдруг всплывут его дела в пограничье.
— Все, что вы нам рассказали, — опять прервал я его, — совсем не говорит о том, что он плохой человек.
— А я ничего такого и не говорил, — чуть не набросился на меня Хромой. — Я только сказал, что человек он чудной и что людям с ним неладно, потому что больно он смурной.
— Как не быть смурным при такой-то жизни, — сказала мама.
— Тогда почему же вы отказались играть с ним в карты? — неожиданно вспомнил я.
— А так, не хотел, и все тут, — отрезал Хромой. — Уж больно он заносился. И вдобавок еще всех облапошил бы…
— Ладно, какой есть, такой есть, а ты к нему ни ногой, — наказала мне мама.
Хромой все еще сидел за столом, будто и не собирался уходить. Мама предложила ему кофе с молоком, но он отказался, пробурчав, что пьет только пиво. Чувствовалось, что ему хочется еще что-то сказать, но похоже было, что я мешаю. Потом он постучал по своему портсигару, беспокойно заерзал, поднялся и, не попрощавшись, ушел.
В кухне остался едкий запах его табака.
И снова пришел воскресный день, только на этот раз теплый, ясный; сверкало яркое солнце; намокшие хлеба на полях наливались, зеленый лес на горизонте звал к себе. Купаться и думать было нечего — вода в пруду прогреется не раньше чем дня через два-три. Мы с Ярославом бродили по лесу, по дамбе, гуляли по берегу пруда, отдыхали и делились мыслями. Когда я спрашивал себя, почему подружился с Ярославом, мне вспоминался один морозный воскресный день, когда еще мальчишками мы съезжали по замерзшему стоку в заброшенную каменоломню. После нескольких дней оттепели опять ударили сильные морозы, и сток, по которому спустили воду из пруда, покрылся ледяными буграми и колдобинами. Раньше мы беспрепятственно съезжали с горки, на луг, теперь же смельчаков относило в березняк. Поэтому поломанных санок, синяков, ссадин и царапин было не счесть.
Упорнее всех оказался Ярослав; ему, видно, не терпелось доказать, что он хладнокровнее и искуснее нас. Два или три раза его попытки оканчивались плачевно: бугристый ледяной сток неизменно отбрасывал сани в березовую рощу, он полз наверх весь в ссадинах, волоча за собой поломанные санки. Но не отступался. Прерывисто дыша, он предложил мне:
— Поехали вдвоем. Санки станут тяжелее. Давай попробуем вместе.
Я колебался. Его упорство казалось мне бессмысленным и сумасбродным. Но когда я увидел, как сильно хочется ему добиться успеха, то поборол страх и согласился.
— Вдвоем мы скатимся еще быстрее, — попытался я поколебать его решимость.
— На это я и рассчитываю, — широко улыбнулся он. — Промелькнем как молния. Только огненная полоса останется.
Мы уселись на маленькие узкие санки, тесно прижавшись друг к другу. Ярослав впереди, я за ним, оба откинулись назад. Ярослав лег, вытянул ноги, я уперся ногами в полозья. И тут я струсил. Хотел было уже слезть с санок, но Ярослав повернулся ко мне и крикнул:
— Не робей! Съедем нормально!
Нас легонько подтолкнули, и вот мы, уже преодолев пологую часть горки, стали набирать скорость. Санки мчались вниз, то и дело подскакивая и жестко приземляясь. Преодолели один бугор, за ним другой, вверх — вниз, скачок — и новая опасность. Нас было отбросило в густой березняк, но Ярослав вовремя выровнял санки, ловко направил их по крутому косогору в сторону от берез. Мы помчались стрелой и мимо низкого молодняка слетели прямо на заснеженный луг; последний бугор, подскок — и мы посреди луга в снежном сугробе, который нагребли своими же санками. Наверху, на горе, радостно кричат мальчишки, они прыгают и восторженно машут нам руками; их победоносное «ура» разносится над заснеженным лесом и замирает над замерзшим прудом.
— Вот видишь, — радостно сказал Ярослав; мы все еще не могли прийти в себя и продолжали сидеть на санках. — Я ж говорил тебе — съедем нормально.
С тех пор мы очень подружились и всегда и всюду ходили вместе. Я ценил его выдержку и упорство; он был мне предан и часто советовался со мной как со старшим и более опытным. Дружба наша крепла, в ней черпали мы уверенность, столь необходимую в мрачные дни протектората.
Мы с Ярославом бесцельно бродили по лесу и коротали время в разговорах.
— Мне бы не хотелось, чтобы моя девушка была из нашего предместья, — сказал он мне. — Все девчонки тут кулемы.
— Ты не прав, — возражал ему я. — Ты их мало знаешь. Может, они стесняются нас.
— А мне бы хотелось, чтобы все мне завидовали, когда я иду по нашей улице со своей девчонкой, говорили: «И где это Ярда такую красотку отхватил?» — и чтобы во все глаза на нее смотрели…
— Ну и что, может, так и будет.
— Сейчас на это особых надежд нет, — трезво рассудил он. — А кончится война — заработаю денег, куплю мотоцикл… Вот увидишь тогда, какую я себе красавицу сыщу.
— Одного мотоцикла для этого мало, — пытался я разубедить его.
Он усмехнулся:
— Сразу видно, что ты не знаешь жизни. На мотоцикл каждая клюнет… Пахнет на нее бензином — и, считай, она твоя…
— И что проку, если она будет с тобой только из-за мотоцикла?
Он и тут нашелся:
— Потом привыкнет ко мне и полюбит.
Я очень желал, чтобы у него скорее появились и мотоцикл и девушка. Но пока это были одни надежды — и ничего больше, так как все, что Ярда зарабатывал на фабрике, он отдавал в семью: у него было много братьев и сестер, в основном моложе его.
Мы дошли до опушки, яркие лучи закатного солнца слепили глаза. Неподалеку темнели каменные строения стекольного завода; почти черные на закате, они выглядели фантастическим нагромождением низких, старых, ни для чего не пригодных стен.
— А как твоя красотка со стеклодувки? — спросил Ярослав.
— Не знаю, — ответил я. — Я с тех пор ее не видел.
— Давай заглянем туда. — предложил он.
— Что-то не хочется, — отказался я.
Было еще рано, мы долго слонялись по предместью, пока не натолкнулись на ребят, которые тоже не знали, куда себя деть.
Пошли бродить вместе. Мы торчали на углах, следили за всем, что происходит на улице, заигрывали с девушками и вышучивали взрослых.
Я уже собирался было идти домой, как вдруг один из ребят высмотрел новую жертву — девушку, которая, не подозревая ни о чем, шла нам навстречу.
— Эта нам еще не попадалась, — оживились они. — Посмотрим, что за птичка.
Я не обратил внимания на их слова, распрощался и пошел восвояси, как вдруг услышал за спиной:
— Девушка, вы что-то обронили! Смотрите не потеряйте!
Я обернулся и остолбенел. Это была Виола.
— А ну бросьте! — закричат я. — Чур, эту девушку не трогать!
Я вмешался вовремя, потому что ребята уже настроились на свой обычный лад.
— Как я рад, что снова вижу тебя, — сказал я, даже не поздоровавшись.
Виола была смущена и никак не могла взять в толк, что парням от нее нужно. Я объяснил, что это все дурацкие шутки, бояться их нечего.
— Ничего удивительного нет, — успокаивал я ее, — просто они давно не встречали такой красотки.
Виола была нарядно одета — в темном костюме, в туфельках на высоких каблуках. Осанка у нее была гордая, со мной она вела себя сдержанно, и похоже было, что не узнала меня.
Парни какое-то время шли за нами по пятам, выжидали, что будет дальше, но, ничего не дождавшись, стали вызывающе гоготать.
Чтобы отвязаться от них, мы свернули на соседнюю улочку.
— Я искал тебя, — сказал я. — В воскресенье мы были у вас. Мне очень хотелось снова тебя увидеть…
— Правда? — ласково улыбнулась она. — Ты не обманываешь?
— Зачем мне притворяться? Ты даже не знаешь, как часто я думаю о тебе.
— Я не стою того, чтобы обо мне думать, — ответила она. — Я ничего не ценю, все мне трын-трава. По крайней мере моя мама так говорит.
— Думаю, она ошибается.
— Не знаю. Возможно, она и права. Я, наверное, и впрямь легкомысленная…
Я чувствовал спиной устремленные на меня взгляды приятелей. Обернувшись, я увидел, что они стоят на перекрестке, машут мне руками и делают какие-то непонятные знаки.
— Что ты делаешь дома? — спросил я у Виолы. — Тоже обслуживаешь гостей?
— Нет, этим занимается Эмча, и она вполне обходится без помощников. А я закончила торговое училище, так что веду учет и делаю заказы.
— Вот здорово! Значит, мы с тобой коллеги!
— Осенью мне придется устраиваться на работу. Так решили наши… Трактир много барыша не приносит. Летом как-то сводим концы с концами, а зимой дела идут и вовсе плохо… А мы еще не расплатились с долгами…
— В кого ты? Ведь твоя сестра темная?..
— Я пошла в маму. Сестра в отца, а я в маму, — ответила Виола.
Мы вышли вдоль заборов в поле и медленно побрели среди высоких хлебов, я — впереди, она — за мной, по узкой, заросшей травой меже. Иногда я останавливался и поддерживал ее. На высоких каблуках ей было трудно идти по бугристой меже.
Раз она оступилась, я подхватил ее и, залюбовавшись, не сразу выпустил.
— Ты обещала научить меня целоваться, — отважился я напомнить ей.
Она высвободилась из моих объятий, отошла от меня на несколько шагов и сказала:
— Сегодня не могу. У меня на губе лихорадка. Это после простуды. Ты же знаешь, что я была больна… А такие лихорадки заразны. И ты можешь заболеть…
Я заметил, что около ее рта пролегли какие-то тени, придав ее лицу грустное выражение.
Мы медленно шагали вперед. Стена высоких хлебов отгораживала нас от прочего мира.
Теперь она шла впереди, а я уныло плелся за ней, не сводя с нее глаз: красивая, гибкая, она легко перешагивала через бугры и рытвины.
— Никогда больше не води меня сюда, — сердито выговорила она мне. — Здесь можно запросто подвернуть ногу.
К счастью, вскоре мы вышли на проселочную дорогу, неровную, но все же не такую узкую.
Смеркалось. Над прогретыми солнцем полями разносился аромат зреющих хлебов.
От стекольного завода неслось пьяное пение, громкие звуки гармоники, какие-то выкрики. Звуки эти неприятно нарушали тишину раннего вечера.
— Дальше меня не провожай, — сказала она, хотя до трактира было еще далеко.
— Почему? Я дойду с тобой до дома. Ты что, боишься, что кто-нибудь нас увидит?
— Мама следит за мной. Ей не хочется, чтобы я по вечерам ходила с парнями…
— Чего ты боишься? Я ведь тебя не съем, — сказал я ласково.
Не прошли мы и нескольких шагов, как она снова остановилась, приблизилась ко мне и прижалась головой к моему плечу; я, конечно же, сразу растаял и обнял ее за плечи.
— Не сердись, — сказала она. — У меня сегодня плохое настроение…
— Да я и не сержусь, — ответил я.
— Посмотри, у меня действительно лихорадка. — И она дотронулась пальцем до красной точечки на губе. — Иначе я сама поцеловала бы тебя. — Она погладила меня по щеке. — Спокойной ночи. Если будет тепло, встретимся вечером на пруду. Не забывай меня! — уходя, сказала она и пошла в вечерних сумерках навстречу пьяным крикам.
5
Через несколько дней нашу округу облетела весть, которой вначале никто не поверил, она переходила из дома в дом, вселяя в людей тревогу и страх. Стало известно, что в трактир «На уголке» явились двое в штатском, они объяснялись на ломаном чешском языке, перевернули все вверх дном, перерыли погреб и чердак, а потом арестовали трактирщика Пенкаву. И все из-за того, что в трактире якобы собирались антиправительственные элементы, велись враждебные разговоры, подстрекающие против рейха и протектората…
Весть эта, к сожалению, вскоре подтвердилась и быстро обросла многочисленными подробностями.
Одни утверждали, что среди завсегдатаев трактира нашелся доносчик, а значит, над каждым из нас, точнее, над всеми жителями предместья, нависло ужасное подозрение. Тяжкое это было время: верить никому нельзя, любой доброжелательный собеседник в трактире мог обернуться последним подлецом. От подобных мыслей мороз подирал по коже. Жители предместья терялись в догадках, кто же из завсегдатаев мог стать доносчиком, но так ни на ком и не остановились. У каждого находился свой защитник, и в конце концов все оказывались вне подозрений.
Возникло и второе предположение, значительно более тревожное и на первый взгляд не лишенное оснований. Кто-то распустил слух, сам не подозревая, что он разнесется так быстро: донести, мол, мог только Зубодер или его брат. Кто-то припомнил, как эти двое, заглянув по весне в трактир «На уголке», пригрозили трактирщику Пенкаве, что он продержится недолго, что все будут ходить только к ним — в «Трактир у стеклодувки». И что вот теперь они и расправились с конкурентом, переманили его посетителей к себе. Как ни странно, но этому слуху поверили, и он распространился молниеносно, как чума: услышав его, каждый передавал этот слух следующему как доподлинную правду.
Я этой версии не верил и пытался опровергать ее где только можно. Говорил, что семье Зубодера самой пришлось покинуть пограничье, что ее тоже, по-видимому, преследуют, но слова мои встречали с недоверием, мне тут же напоминали о темном прошлом Зубодера и с возмущением доказывали, что Зубодер и его брат — люди мстительные и злые.
С догадкой этой жители нашего предместья настолько сжились, что в конце концов все стали обходить трактир Зубодера за версту.
Лето стояло жаркое, на пруд из города тянулись люди, которые понятия не имели о наших здешних событиях; они с удовольствием наведывались в «Трактир у стеклодувки», чтобы утолить жажду. Без них заведение бы пустовало, и арендаторам рано или поздно пришлось бы его закрыть. Но пока там, как и прежде, каждый вечер весело играла гармоника, и пьяное пение доносилось даже до нашей улицы.
В бухгалтерии на фабрике, где я работал, старшим бухгалтером служил Хадима — человек прямой и веселый, которого все уважали и с которым любили перекинуться словечком. Хотя ему шел пятидесятый год, он все еще ходил в холостяках. Сам про себя Хадима говорил, что ему просто не хватало времени жениться, так что он уже свыкся со своей горькой судьбой бобыля.
Мы, правда, знали, что у него есть зазноба — портниха из нашего предместья, привлекательная женщина, разведенная; она потихоньку шила на дому платья нашим дамам к разным датам, а то и перешивала по моде старую одежду. Хадима был с ней знаком давно и вроде бы любил всерьез. Он ездил к ней на мотоцикле, иногда прихватывал с работы домой и меня. Так мы с ним и подружились. Казалось, все шло к тому, что в скором времени Хадима переселится к портнихе — у нее был вполне приличный домик, — и тогда они сыграют свадьбу. Поговаривали, что частенько он остается у нее на ночь, так что дело было явно на мази. Все у нас этому искренне радовались, потому что любили Хадиму. Но он все медлил и ни на что не решался.
Однажды я спросил его напрямик.
— Не хотелось бы мне калечить ее жизнь, — ответил он. — Нынче такое время, что никто не знает, что будет завтра…
— Но ведь сейчас у всех так, — возразил я.
— Конечно, — согласился он. — Только обо мне много народу знает, что я коммунист.
— А я вот не знаю, — признался я.
— У тебя еще молоко на губах не обсохло, — сказал он и по-отцовски погладил меня по волосам. — Вот ты и не знаешь.
Заметив, что его слова задели меня, он попытался загладить их:
— Я мечтал, чтобы у меня был такой сын, как ты.
— Еще не поздно… Только надо поторопиться, — увещевал я его.
— Поздно, — проговорил он печально. — Сейчас для меня уже все поздно.
Иногда в перерыв он подходил ко мне, присаживался на краешек стола, жевал бутерброд, вынув его из бумаги, расспрашивал о людях предместья или мы вместе принимались мечтать о лучшей жизни.
— С меня пример не бери, — внушал он мне. — Я всю жизнь просидел в бухгалтерии. А ты гляди выше, ставь перед собой высокие цели…
— Да я ведь и сам не знаю, чего хочу, — признавался я.
— Конечно, сейчас добиться чего-нибудь трудно, не то время… Сейчас люди только о том и думают, как бы не выделиться, остаться в тени, как бы спокойнее пережить войну. Но кончится война, все пойдет по-другому, появится столько возможностей…
Он был твердо убежден, что настанет конец этому жестокому и темному времени, придет конец немецкому владычеству — и тогда все мы вздохнем свободно.
— Не все до этого доживут. Потребуется немало жертв. Хотелось бы мне дожить до конца войны, да вряд ли…
Я уверял его, что у него столько же шансов дожить до конца войны, как и у любого из нас.
— Не утешай меня, дружище, — возражал он. — Я знаю, о чем говорю. И вижу немножко дальше, чем ты…
Однажды он подошел ко мне и спросил:
— Что делается в «Трактире у стеклодувки»? Ты бываешь там? Ведь от тебя он рукой подать.
— Да нет, не бываю. Был всего один раз, когда мы возвращались с футбола…
— Зубодера знаешь? Слышал о нем что-нибудь?
— Я о нем всякое слышал, — ответил я. — Но знаю его мало.
— Почему у вас в предместье обходят его стороной? — поинтересовался он.
Я рассказал ему все, что знал: и о том, как Зубодер с братом впервые появились в трактире «На уголке», какие странные разговоры они там вели, и о том, как немцы арестовали трактирщика Пенкаву, не умолчал и о том, что наши люди толкуют: мол, это дело рук Зубодера.
— Глупости, — оборвал меня Хадима. — Зубодер — правильный мужик. Я за него головой ручаюсь.
Когда в тот день он повез меня после работы на мотоцикле домой, он не свернул, как обычно, на конечной остановке трамвая, а покатил, по узкой тропинке к лесу.
— Вы куда? — пытался я перекричать тарахтение мотоцикла.
— На стеклодувку, — повернул он ко мне голову. — Потом отвезу тебя домой.
Он остановил мотоцикл на опушке, прислонил его к дереву и предложил мне:
— Хочешь, подожди меня здесь… а то пошли вместе. Я сюда ненадолго.
— Я лучше подожду.
Мне не хотелось идти в трактир: вдруг я встречу там Златовласку, еще подумает, что я бегаю за ней; я был уверен, что вечером она и так придет на пруд. Да и Зубодера видеть мне не хотелось: не знаю почему, но он все еще вызывал во мне смешанные чувства, причем скорее неприятные, так что я предпочитал держаться от него подальше.
Трактир казался пустым, он переживал период затишья и вообще производил грустное впечатление. Хадима действительно задержался там ненадолго. Минут через пять-десять он вышел каким-то боковым выходом, о котором я даже не подозревал, обогнул низкий молодняк и вернулся ко мне.
Он завел мотоцикл, и мы поехали, но не проселочной дорогой, что было бы естественно, а лесом, по буграм да корням, к нашему шоссе.
— Вытрясу из тебя всю душу! — кричал он мне, повернувшись вполоборота, в то время как я подскакивал на заднем сиденье.
Он высадил меня прямо перед домом, а сам поехал к своей портнихе, скрывшись в облаке поднявшейся пыли.
Я стал каждый вечер ходить к пруду, иногда купался, иногда просто бродил по плотине. Но даже Ярославу я ни словом об этом не обмолвился из боязни, как бы он не попросил взять его с собой.
Сколько раз прошел я от пруда до опушки, с надеждой глядя на стекольный завод! Мне то и дело встречались парочки — они целовались, обнимались; вечера, казалось, были созданы для любви. Я же остался один, сколько ни ходил и ни ждал — все напрасно.
В субботу вечером, уже не в силах совладать с собой, я вдруг решился и пошел прямо к трактиру.
За деревянными столами перед домом сидела уйма народу. К счастью, никого из гостей я не знал. Я уселся с краешку за последний стол, где как раз пустовало одно место. Каждый развлекался как хотел. Образовывались компании, велись разговоры, какие обычно ведутся за кружкой дива.
Даже гармоники не было слышно, никто не пел, и обстановка была устало-спокойная, почти сонная. Только за одним столом у старой акации шумно веселились трое. Возможно, это были мясники или грузчики, они уже изрядно выпили, но не хотели угомониться. Люди, сидевшие по соседству, не обращали на них никакого внимания, лишая их возможности вступить в перепалку, чего, судя по всему, так жаждала эта троица.
Вдруг откуда ни возьмись в зале появилась Виола. Снуя между столами, она разносила пиво, а троице принесла водку. Она была в белом халате, отчего напоминала скорее сестру милосердия, чем официантку; пышные золотые волосы были собраны в тугой узел, вид у нее был необычайно строгий, почти чопорный. Тем не менее, когда она подошла к пьяной троице, один из них беззастенчиво шлепнул ее, так что она даже ойкнула, но ничего не сказала, да и кто бы за нее заступился!
Вскоре она заметила меня. Подошла ко мне, лицо ее горело, зеленые глаза смотрели грустно, смущенно. Не выпуская из рук поднос с пустыми кружками, она быстро сказала:
— Сегодня вечером я не смогу уйти. Я должна заменить Эмчу, она уехала к своему жениху.
Тут в дверях появился Зубодер в своей обычной короткой жилетке и с неизменной виргинской сигарой в углу рта. Его сиплый голос сразу перекрыл голоса гостей.
— Вендула! — крикнул он. — Иди на кухню!
Слова его, по всей вероятности, относились к моей Златовласке, потому что она с пустыми кружками побежала на зов, ее белый халат развевался на ходу, обнажая худенькие босые ноги.
«Значит, она не Виола, а Вендула, — невольно отметил я, но это открытие ничуть меня не огорчило. — Что ж, Вендулка — вполне хорошее имя».
Вскоре она принесла мне кружку пенистого пива и, виновато улыбнувшись, проговорила:
— Вот, приходится помогать.
Я видел, как она занята, поэтому не спускал с нее ревнивого взгляда. Но вдруг я почувствовал приступ ярости. Когда Виола прошла мимо той троицы, один из них снова шлепнул ее пониже спины, будто это было в порядке вещей. Второй схватил за руку, притянул к себе, скаля при этом зубы, словно собирался ее укусить. А Зубодер стоял в дверях, смотрел на них и даже бровью не повел, только перебросил наполовину выкуренную сигару из одного угла рта в другой.
Когда тот негодяй в третий раз шлепнул Виолу, я, уже не владея собой, вскочил, подошел к нему вплотную и резко, чуть запинаясь от волнения, сказал:
— Вам, господин, следовало бы учтивее обращаться с дамой! Вы что, не умеете себя вести?
Слова мои неожиданно для меня прозвучали напыщенно, и со стороны это, конечно, выглядело смешно.
— Это с какой дамой? Покажите мне, пожалуйста, даму! — прыснул он. — И этот сопляк еще меня учит!
Он медленно поднялся из-за стола и потянулся ко мне своей могучей лапищей. Возможно, ему неловко было стоять между скамейкой и столом, а возможно, он был уже изрядно пьян, но только, замахнувшись на меня, он не удержался на ногах, закачался и повалился наземь прямо к моим ногам.
Если бы Зубодер не подоспел вовремя, его дружки избили бы меня до полусмерти.
Один из них так двинул меня по голове, что у меня еще долго шумело в ушах. Словно издалека донесся до меня сиплый голос Зубодера.
— Успокойтесь, господа! Дышите глубже! Сейчас нельзя допускать никаких заварушек! — увещевал он. И затем, по-видимому обращаясь ко мне, сказал: — Вы тоже хороши… Приходите сюда в первый раз, берете одну кружку пива и еще скандалите!
В этот момент мне все было нипочем, я решительно направился на кухню к Виоле, хотя и чувствовал, что присутствующие с любопытством следят за мной.
Я вошел в дом, прошел по узкому коридору до распивочной, где над столами тускло горела желтая керосиновая лампа. Здесь сидели всего несколько посетителей, а у стойки брат Зубодера наливал пиво, в заранее расставленные кружки. Я почувствовал на себе удивленные взгляды, но, не обращая на них внимания, вошел в соседнюю кухоньку, где мелькнул белый халат Виолы.
К счастью, кроме нее, там никого не было, стоя у стола, она в тусклом свете висящей под потолком керосиновой лампы разливала по стопкам водку, сильно отдающую сивухой. Тут было жарко, на плите что-то варилось, сильно пахло кореньями.
Заметив мой приход, Виола было смешалась, но тут же пришла в себя и, схватив меня за руку, стала выговаривать:
— Зачем ты это сделал? Не надо было обращать на него внимания.
— Это еще почему? — удивился я. — Разве я могу позволить, чтобы тебя оскорбляли!
Она грустно улыбнулась.
— Не переживай, — утешала она меня, — я и сама могу за себя постоять.
— Вендула! — послышался из распивочной требовательный голос Зубодера.
Я опасался, что Зубодер придет на кухню и выгонит меня, но он либо остался в распивочной, либо вышел к гостям на улицу, только больше его не было слышно.
— Завтра вернется Эмча, — прошептала Виола. — Так что завтра я приду к тебе. Жди меня вечером у леса.
Выходя из кухни с подносом, уставленным стопками с водкой, она поцеловала меня в щеку и поспешила к нетерпеливым гостям.
Когда я вышел из дома, Зубодер стоял на крыльце, наверное поджидал меня.
— Ты откуда? — спросил он меня И тут же сам себе ответил: — Вроде из предместья.
Я кивнул.
— Слышал, какие там у вас распускают обо мне сплетни? Будто на совести у меня бедняга Пенкава.
— Да, слышал.
— Так вот, передай своим, что они спятили, — сказал он, отчеканивая каждое слово. — И добавь еще, что такой болтовней они себе же вредят.
— Вы им как бельмо на глазу, — осторожно добавил я.
— Мне на это плевать, — спокойно ответил он и стряхнул на землю пепел с сигары. — Только как бы самим об этом не пожалеть.
— Прощайте, — сказал я и пошел проселочной дорогой домой.
Он не ответил.
6
Я не мог дождаться вечера. День, как назло, тянулся медленно, работы у нас почти не было, все мы только делали вид, что трудимся, раскладывали по столам бумаги и томились, ожидая конца рабочего дня.
Я надеялся, что сегодня Хадима предложит подвезти меня на мотоцикле, но он уже несколько дней не подходил ко мне. Однажды я столкнулся с ним в коридоре и спросил напрямик, что случилось. Он сделал вид, будто не понимает, и ответил вопросом:
— А что может случиться? Ничего.
А на вопрос, не поедет ли он к нам в предместье, Хадима ответил неопределенно:
— Пока нет. Как-то не получается. — И заторопился.
Верно, ему не хотелось продолжать разговор, вот он и сделал вид, будто торопится по важному делу.
Под вечер я поспешил на опушку леса, спрятался там за деревьями и из своего укрытия наблюдал за каждым, кто выходил с территории стеклозавода и сворачивал к развалившемуся забору. Таких было немного. В основном выходящие из трактира сворачивали на проселочную дорогу. К пруду никто не шел, да и от пруда тоже.
От нечего делать я следил за шаловливыми белками — рыженькие подвижные зверьки ловко перепрыгивали с ветки на ветку, камнем падали вниз и снова взлетали наверх, — как вдруг заметил, что к трактиру, натужно пыхтя, приближается мотоцикл, его оглушительный треск разносился по всему полю; миновав стекольный завод, он остановился у леса, грохот смолк.
От мотоцикла отделились две фигуры и черным ходом прошли в дом. Бродя по опушке, я подошел к дереву, вдруг почувствовав резкий запах разогретого бензина, и увидел там мотоцикл Хадимы, который я узнал по царапине на баке и погнутому заднему номеру. Ну и хитрец Хадима! Значит, с Зубодером он заодно, вот почему он никогда не говорит о нем плохо, защищает от всех и смеется над сплетнями, которые распускают о Зубодере в нашем предместье.
Я вспомнил, как однажды, когда я к слову спросил его, что он думает о Зубодере, на мой вопрос, заданный из праздного любопытства, он ответил:
— Не понимаю, почему я должен ему не верить… Все, что мне о нем известно, говорит в его пользу…
— А вы давно его знаете?
— Да нет, — признался он. — Но не в этом дело.
Вскоре из трактира вышел Хадима с незнакомым мне человеком — я едва успел скрыться в густых зарослях овражка. Они сели на мотоцикл и покатили по каменистой дороге к пруду. Еще с минуту слышался тарахтящий звук мотора, потом они скрылись в темной глубине леса.
Я решил, что мне так никого и не дождаться. Не оглядываясь, побрел я по опушке леса. Но тут меня словно что-то толкнуло — я обернулся. По дороге, ведущей от стеклозавода в сторону леса, двигалась светлая фигурка. Несомненно, это была Виола.
Я стремглав бросился к ней. И вот уже, тяжело дыша, я стоял перед Виолой.
Она сделала вид, что удивилась моему неожиданному появлению, не могла понять, отчего я так запыхался, куда и почему так спешу, если впереди у нас целый вечер.
Мы шли по окутанному сумерками лесу, пробирались между ветвями деревьев и сквозь заросли кустарников, пересекали неглубокие овражки, и наконец перед нами заблестела неподвижная гладь пруда.
— Знаешь, я и сегодня с трудом вырвалась, — сказала она. — Хоть Эмча и вернулась, настроение у нее скверное. Она просила меня снова заменить ее, и я едва вырвалась…
— Это из-за меня?
— Из-за кого же еще? Никого другого у меня нет.
— Правда нет? — радостно спросил я. — У меня тоже нет никого, кроме тебя…
Мы взялись за руки, нам вдруг показалось, что мы знаем и любим друг друга с незапамятных времен.
— Я сказала Эмче, что иду на свидание с тобой, — призналась Виола. — Она тебя вспомнила и отпустила меня. Кстати, она еще ничего не знает про то, как ты защитил меня от хулиганов…
Мы уже подходили к дамбе, когда из осинника на другом берегу вдруг вынырнул мотоцикл с двумя ездоками и направился прямо к нам. Чтобы нас не заметили, я повел Виолу по тропке над самым прудом, хотя она была почти непрохожей. Когда мы подошли к водостоку, мотоцикл протарахтел где-то вверху над нами. Хотя уже стемнело, он ехал с выключенной фарой, а миновав дамбу, скрылся в непроглядном лесу.
По краям водостока, по которому стекала из пруда вода, росла высокая сочная трава, какая растет только вблизи воды или на кладбище. Мы выбрали укромное местечко под низкими вербами, устроились на траве и молча смотрели как вода толчками выбрасывается из пруда в водосток.
— Мне нравится здесь! — воскликнула Виола, вслушиваясь в шум воды. — Можно подумать, что мы у водопада…
Мы лежали на траве рядом, держась за руки. Вокруг нас медленно сгущалась тьма, природа готовилась к теплой летней ночи. Небо оставалось еще светлым, казалось, тьма идет от деревьев и от спокойной глади пруда.
За дамбой без устали квакали лягушки, настала их пора.
— Как я люблю смотреть на парусные лодки, — мечтательно сказала Виола. — Когда лодки скользят по воде, кажется, будто они плывут в воздухе… Хотела бы я быть богатой, чтобы купить парусник и поплыть на нем по морю…
— Может, выйдешь замуж за богатого, — засмеялся я.
— Я бы хотела путешествовать, — продолжала она, словно бы не слушая. — Увидеть далекие страны, большие чужие города и, главное, людей. Люди интересуют меня больше всего на свете.
— Это все хорошо, — протянул я. — Но только надо, чтобы кончилась война и мир стал другим — без войн и без немцев…
— Да, они не люди, — сказала Виола. — Ты даже представить себе не можешь, какие это звери. Когда мы жили в пограничье, они каждую ночь горланили у нас под окнами и били стекла. Однажды подожгли нашу крышу…
— Я слышал, что вам пришлось оттуда бежать.
— Мы все там бросили. Ушли в чем были. Хорошо, что дядя Карел нас принял… Он вдовец, одинокий. Вот он и взял нас к себе. У него золотое сердце…
— Карел — это тот, что играет на гармонике? — переспросил я, вспомнив его свирепое лицо и густые сросшиеся брови над темными глазами.
— Представь себе, — продолжала она, — когда мы поселились здесь, он начал с того, что смастерил скворечники. Развесил их по всем деревьям. Весной скворцы поселились у нас, и теперь их видимо-невидимо. Говорят, они приносят счастье… Дядя Карел хороший человек, я люблю его.
— А меня ты любишь? — не удержался тут я и задал мучительный для меня вопрос.
Повернувшись, она стала щекотать меня длинным стебельком травы. Я притворно увертывался и закрывал лицо ладонями.
— Ты не поверишь, — сказала она вдруг посерьезневшим голосом, — но признаюсь тебе, хотя мы и мало знаем друг друга, я тебя полюбила.
— И я давно влюблен в тебя, — признался я. — Хотя почти ничего о тебе не знаю.
Она обняла меня за шею, притянула к себе и стала покрывать поцелуями мои щеки, лоб, виски; она трепетно целовала меня и прижималась ко мне всем телом.
— Ты мой, — возбужденно шептала она. — Может быть, это и к лучшему, что мы не знаем друг друга…
— Почему? — недоумевал я.
— Зато у нас все впереди.
Теперь я целовал ее, нетерпеливо, теряя власть над собой, покрывал поцелуями лоб, щеки, губы, шею Виолы.
Меж тем вокруг нас сгущалась темнота и на бледном, небе засеребрились в вышине первые звезды.
— Если упадет звезда — исполнится мое желание, — мечтательно сказала Виола.
Вода то с тихим журчанием, то гулкими толчками выбрасывалась через водосток.
А внизу, у дамбы, под прикрытием старых ветвистых верб, в тишине ночи, забыв обо всем на свете, мы лежали, сжимая друг друга в объятиях, словно после долгих мучительных поисков наконец обрели друг друга.
Я склонялся над ней и смотрел ей в глаза, в изменчивые зеленоватые глаза, которые в полутьме казались бездонными, и пытался угадать, что же таится в их глубине. Она счастливо улыбалась и с веселыми огоньками в глазах уступала моим робким ласкам. Но вдруг веселые огоньки гасли, и она безучастно и равнодушно принимала неуклюжие проявления моей страсти.
— Будь со мной, — просил я ее. — Не уходи от меня…
— Но ведь я и так с тобой, — возражала она.
И тут же, словно желая вознаградить, кидалась меня целовать, прижималась ко мне.
Вдруг неуверенной рукой она стала расстегивать кофточку на груди. Я онемел, так она поразила меня, но она держалась очень естественно, без малейшей тени стыда.
Покорно, преданно лежала она, ее большие блестящие глаза внимательно следили за мной. Обнаженная грудь светилась в темноте.
— Поцелуй меня сюда, — попросила она ласково и показала пальцем на нежную ложбинку между грудями. — И не смотри на меня так странно!
Я наклонился и нежно приник к ней губами.
Вода журчала по камням, шумел над нами лес, земля мягко колыхалась.
Казалось, светлое небо с мерцающими звездами медленно опускается и смотрит на нас сквозь густые ветви деревьев.
— Виола, — шептал я словно в бреду.
Воспользовавшись ее покорностью, я совсем потерял голову и был очень неловок в пылу страсти. Она мягко сдерживала мое нетерпение и умело управляла им.
Когда я опомнился, она лежала передо мной в высокой траве, прикрыв глаза так, словно засыпает или предается сладостным мечтам.
Вдруг, будто чего-то испугавшись, она стыдливо прикрыла грудь руками. Я попытался отстранить их, но она крепко, почти судорожно сжимала пальцы. Я кинулся их целовать и целовал до тех пор, пока они не разжались сами собой.
И опять Виола показалась мне какой-то далекой, отсутствующей; я подумал, что она мечтает о чем-то, известном лишь ей одной и поэтому так улыбается.
— Ты моя, — шептал я ей. — Теперь ты будешь принадлежать только мне.
Она открыла глаза и молча посмотрела на меня, как бы взвешивая мои слова.
— Что ты на меня так смотришь? — спросил я.
— Сумасшедший, — ответила она. — Ты даже не можешь себе представить, как мне радостно смотреть на тебя.
Мы возвращались домой темным лесом.
Я помогал ей вскарабкаться по узкой извилистой тропинке, поддерживал ее, когда мы шли вдоль дамбы. Тьма стояла непроглядная, и тусклая гладь пруда, от которого поднимался туман, сливалась с окружающим лесом.
— Я бы не хотела, — запыхавшись, сказала она, когда мы вышли на берег пруда, — чтобы ты думал обо мне плохо…
— Я? Почему ты так говоришь? — недоумевал я.
— Да так. Мы ведь слишком мало знаем друг друга.
— Зато у нас все впереди, — напомнил я ей ее слова.
— Возможно, — чуть погодя отозвалась она. — По крайней мере надо верить, что так и будет…
Когда мы вышли на опушку, впереди показалось темное здание стекольного завода.
— Обещай мне, — сказала она странно глухим, неуверенным голосом. — Обещай не забыть меня, если что случится.
Вместо ответа я обнял ее, и мы долго и страстно целовались. Потом она вырвалась и кинулась по песчаной лесной дороге к своему мрачному дому.
В небе над полем сверкали мириады звезд.
7
Теперь мое время принадлежало Виоле. Иногда мне приходилось так долго ждать ее, что, когда она появлялась на дороге, у меня начинало колотиться сердце. Иногда я часами бродил по опушке леса — и все понапрасну. Но и в те вечера, когда ей не удавалось уйти из дому, когда ей нужно было заменять сестру, я был вместе с ней. В то время я жил только ради нее, думал только о ней, не видел никого, кроме нее, и трепетал в ожидании новой встречи.
Я знал: ее сжигает тот же огонь, что и меня, знал, она готова на все, чтобы быть со мной.
Это были чудесные, счастливые вечера, яркие и прекрасные, в мрачные, страшные дни протектората, которые нам пришлось пережить.
Возможно, мы слишком отдались во власть своей неуемной любви, своих желаний и эгоистичных стремлений, но для нас тогда в целом мире ничего важнее не было.
Да и могло ли быть иначе, ведь молодость требует полноты любви и идет к своей цели невзирая ни на что, вопреки всему и всем.
— Знаешь, а я на год старше тебя, — как-то сказала Виола.
— Ну и что? Какая разница?
— Нет, это нехорошо.
— А мне все равно, хорошо это или плохо. Я знаю только одно: если бы не было тебя, мне бы не для чего было жить…
— А как же ты раньше жил?
— Раньше — жил, а теперь бы не мог. Теперь все изменилось. И сам я изменился. Благодаря тебе…
— Брось, — смеялась она. — Ты меня переоцениваешь. Я самая обыкновенная девушка…
— Ты — моя Виола.
— И зовут меня не Виола. Я всегда мечтала о красивом имени. Вот и выдумала, что меня зовут Виола, А мое настоящее имя — Вендулка.
— Для меня ты навсегда останешься Виолой. Я всю жизнь мечтал о такой девушке, как ты, и теперь моя мечта сбылась…
Иногда она была удивительно рассеянной. Тогда мне казалось, что я ей надоел и что моя преданность, моя пылкая влюбленность ей в тягость.
В такие минуты над верхней губой ее пролегала морщинка, отчего лицо становилось не таким приветливым, как всегда, и Виола уже не казалась мне такой красивой, мимолетная угрюмость заметно портила ее.
— Я такая же, как и все, — защищалась она, когда однажды я упрекнул ее за это. — Если на меня временами и находит, это не имеет никакого отношения к нашей любви…
— Я плохо разбираюсь в женских настроениях, — сказал я.
— Опыта тебе не хватает.
— Просто я боюсь за нашу любовь.
— Ты должен принимать меня такой, какая я есть на самом деле, а не феей из сказки.
— Я хочу, чтобы ты была лучше всех, — упорствовал я.
Но мне ничего другого не оставалось, как мириться с находившими на нее временами безразличием, замкнутостью и даже скрытностью, хотя мне это давалось трудно. Но это проходило, и Виола опять превращалась в нежную, веселую выдумщицу; порой же она казалась мне умудренной и опытной, словно знала о жизни намного больше, чем я.
Вот какой была моя Виола.
— Сколько людей любили друг друга так же, как мы, — говорила она.
— И сколько влюбленных будет после нас, — добавлял я.
Мы вместе бродили по лесу в поисках укромных местечек, сидели на берегу, обнимались и целовались, занятые лишь своей любовью.
Иногда, если на пруду никого не было, мы купались нагишом, шалили, как дети, плавали наперегонки на островок и обратно, поддразнивали друг друга и были счастливы тем, что мы вместе и что вечер принадлежит нам. А потом наставали безмерно счастливые минуты любви.
— Какой ты ненасытный, — упрекала она, для виду отталкивая меня.
Потом мы отдыхали в высокой траве, смотрели в темнеющее небо, пока высоко над нашими головами не зажигались первые звезды.
— А ведь если б не случайность, я мог бы и не познакомиться с тобой, — сказал я, и щемящая тоска сжала мне сердце.
— Ну и что? — беспечно ответила она. — Тогда я познакомилась бы с кем-нибудь другим и теперь ласкала бы его…
— Бесчувственная! — сердился я. — Разве ты не видишь, что я тебя обожаю.
— Ты мой единственный, — уверяла она, прижимаясь ко мне.
— Я б не удивился, узнав, что ты крутишь с кем-нибудь из тех, что ходят в ваш трактир, — вспылил я в приступе ревности.
Она засмеялась:
— Да отец за такое мигом бы выставил меня из дому!
Она не давала мне ни малейшего повода для ревности, но настроение у меня все же испортилось.
Однажды вечером мы снова увидели мотоцикл Хадимы, он проехал над нами по дамбе с выключенными фарами, хотя уже стемнело. На мотоцикле сидели двое: позади кто-то в светлой одежде, возможно женщина, но на расстоянии это было трудно определить.
— Наверное, Хадима поехал со своей подружкой в лес, — решила Златовласка. — Не думай, что только мы сюда ходим. Тут много мест, прямо-таки созданных для влюбленных…
В последнее время Хадима держался от меня на расстоянии, он явно избегал меня и почти не разговаривал, но вдруг во время перерыва сам подошел, присел на краешек моего стола, и откусывая от завернутого в бумагу ломтя хлеба, сказал:
— Как-то вечером я видел тебя в лесу… Ты был не один…
— Зато вас что-то совсем не видно, — с ходу срезал я его.
Мне было неприятно, что нашелся свидетель моих вечерних прогулок.
Хадима наклонился и зашептал мне на ухо так, чтобы никто не слышал.
— Мне сейчас приходится держать ухо востро, — доверительно сообщил он мне. — Седлачек снова начинает проявлять ко мне интерес. Наверное, следит за мной. Ты же знаешь Седлачека. От него хорошего не жди. К счастью, его сегодня здесь нет, вот я и решил заскочить к тебе. Мне бы не хотелось, чтобы он видел нас вместе…
Разумеется, мне было прекрасно известно, что представляет собой Седлачек, знал я и то, что у него с Хадимой какие-то счеты, хотя оба делали вид, что они в наилучших отношениях. Но порой между ними случались стычки, и они честили друг друга почем зря; отношения от этого лучше не становились, что замечали все, и я в том числе. Приблизительно с год назад Седлачек вдруг вспомнил, что у него предки из Судет, и, к всеобщему удивлению, стал подписываться на немецкий лад — Седлатшек. После чего несколько раз появлялся в коричневой рубашке.
— Если хочешь, — сказал на прощание Хадима, — я отвезу тебя сегодня домой.
Хадима поджидал меня у главных ворот фабрики. Он стоял с мотоциклом у тротуара среди густого потока людей, уходящих после утренней смены, и махал мне рукой. Я сел сзади него, мы прокладывали себе дорогу в толпе, направляющейся к трамваю или к расположенной неподалеку железнодорожной станции.
Хадима умело управлял мотоциклом, подскакивающим на неровной дороге, ветер раздувал его редкие выгоревшие волосы, я крепко прижимался к его потертой кожаной куртке. С Хадимой я чувствовал себя в безопасности. Я твердо верил, что никогда не ошибусь в нем, что, окажись я в трудном положении, он всегда мне поможет.
Он подъехал к проселочной дороге, убегавшей к стеклозаводу, остановился, спустил ноги на землю и, не сходя с мотоцикла, приглушил мотор. Достал из нагрудного кармана кожаной куртки завернутый в газету рулон, протянул мне и попросил:
— Оставь это у себя… на случай, если со мной что-нибудь приключится. Не бойся… Тут выписки из книг, которые я делал лет эдак двадцать. Если захочешь, прочти как-нибудь, тебе будет интересно.
Я взял рулончик и в нерешительности сжал его.
— Хорошенько припрячь, — добавил Хадима.
Он нажал на газ, но на песчаной обочине дороги притормозил, обернулся ко мне и крикнул:
— Вендулка — прекрасная девушка! Не слушай никого. Цени то, что она тебя любит.
Мне, конечно же, не понравилось, что он знает о наших отношениях, но было приятно, что он так хорошо говорит о Виоле.
Ничего больше не сказав, он помчался по шоссе к городу — видно, решил посетить свою подругу, которая жила в домике, до крыши заросшем диким виноградом.
Труднее всего мне было переносить послеобеденные часы в воскресенье: Златовласке приходилось помогать на кухне или допоздна обслуживать гостей, пока из-за дощатых столиков под старой акацией не вставал последний посетитель.
Как-то после обеда у меня под окнами раздался свист Ярослава, и я с ребятами отправился бродить по улицам; как всегда, мы не знали, чем заняться, и дурачились как могли. Вечерами от скуки ребята били из рогаток уличные фонари или вывертывали лампочки стоп-сигнала у машин, а шоферам потом приходилось из-за этого платить штраф. Все это делалось не со зла, а от избытка энергии, которую некуда было деть.
Ребята и раньше не очень-то дружили со мной, один только Ярослав признавал своим, остальные же считали чужаком и не забывали время от времени мне об этом напоминать. А с тех пор, как парни увидели меня с Виолой, мне все чаще приходилось сносить их плоские и грубые издевки. Я презрительно отшучивался, спокойно отражал их грубые нападки, которые рождала зависть или безысходная скука.
Трактир «На уголке» закрыли, о трактирщике Пенкаве никто ничего не знал, пересказывали самые разные версии его ареста. Когда я проходил мимо старого трактира, сердце мое сжималось от предчувствия, что Пенкава уже никогда не вернется.
Наши по-прежнему обегали «Трактир у стеклодувки», по вечерам они, как правило, сидели дома, а в хорошую погоду шли в привокзальный буфет, где и выпивали свою норму пива.
Но вот по предместью разнесся слух, что в бывшем складском помещении при стеклозаводе оборудовали вполне приличный кегельбан. Землю утрамбовали и залили цементом, и получилась гладкая, как наковальня, площадка; огородили место для игры и рядом с дорожкой сделали наклонный деревянный желоб, чтобы шары скатывались назад. Известие это заинтересовало и старых, и молодых; молодым особенно не терпелось сыграть в кегли, в результате все, не устояв перед соблазном, ринулись в «Трактир у стеклодувки».
В воскресенье после обеда отправилась туда и наша компания. В этот раз я охотно к ним присоединился. Я надеялся увидеть Виолу, а если даже не увидеть, то хотя бы побыть где-то неподалеку от нее.
Кегельбан помещался за основным зданием, в бывшем складе, полуразвалившемся помещении без окон, одну из стен которого наполовину снесли, чтобы можно было следить за игрой. Хотя ярко светило солнце, там стоял сумрак, а от пола тянуло сыростью и плесенью.
Под высокими соснами стояли деревянные скамейки, на них сидели те, кто наблюдал за игрой. В ногах у них на сыпучем белом песке, усеянном сосновыми иголками, цветными бусинками и пуговками — остатками продукции бывшего стеклозавода, стояли кружки с пивом.
Кегельбан обслуживал мальчик лет десяти, грязный и заросший; он стоял в конце деревянной дорожки, подхватывал шары и возвращал их по желобу нетерпеливым игрокам. Он получал за каждую игру и вдобавок еще чаевые за то, что ставил кегли.
Временами появлялась Эмча, усталая и озабоченная. Она бодрилась, приветливо улыбалась гостям, приносила им кружки с пенистым пивом и уносила пустые. Иногда она на минуту задерживалась около мальчика и нежно гладила его по волосам.
Вначале она не обратила на меня внимания, очевидно просто не заметила, но, когда одним ударом я сбил девять кеглей и все кинулись меня поздравлять, она остановила на мне взгляд своих ярко-голубых глаз и быстро проговорила:
— Это вы? Давненько вас не было видно. Передать что-нибудь сестре?
— Нет, спасибо, — отказался я. — А впрочем, скажите, что я передаю ей привет…
Ничего лучшего я не придумал.
— Обязательно передам, — ответила она и добавила: — Сегодня мы крутимся как белки в колесе… Такого нашествия у нас никогда еще не было.
Мы закончили игру и остались смотреть, как играют другие, более степенные и выдержанные игроки. Играли они хорошо, пожалуй даже лучше, чем мы, и кто-то из нашей группы предложил устроить состязание — старики против молодых.
Перед трактиром, как обычно, играла гармоника, пели песни, было полным-полно народу; люди сидели на земле, располагались под деревьями поблизости от кегельбана и сами ходили за пивом в распивочную, потому что Эмча при всем желании повсюду не поспевала.
Гостей перед трактиром обслуживал сам Зубодер, он разносил пиво и еду и сразу же получал деньги, чтобы гости не ушли, не расплатившись.
Дядя Карел вынес на крыльцо табурет, гармоника в его руках играла не переставая. Одна песня следовала за другой, попурри прерывали восторженные возгласы слушателей. Стоило Карелу начать новую песню, как к нему несмело присоединялись те, кто сидел поближе, потом песню подхватывали другие, и так она неслась от стола к столу, набирая силу, а там к поющим присоединялись и гости, сидящие за домом, и даже игроки машинально подпевали:
Наша песенка чешская, Она честная, честная…Наконец запела и наша компания, никто не остался безучастным — пение захватило всех. Казалось, хоровое пение помогает нам понять, что все мы друг с другом связаны, что все мы — одна большая семья. И родина у нас одна.
— Почему ты с нами не поешь? — набросились на меня.
— Я бы только испортил песню, — защищался я. — Вы же знаете, что петь я не умею. Я мурлычу про себя…
И все же мне казалось, что наша компания подпевает просто из озорства, без того глубокого чувства, с каким пели песню другие.
Вдруг я увидел Виолу, она обходила людей, расположившихся прямо на траве, на ней был свободный белый халат, медно-золотые волосы блестели в лучах солнца. Она шла к нам, обводя глазами людей, и явно кого-то искала: меня, решил я.
Я встал ей навстречу, окликнул, и вот мы рядом. Мы сразу забыли обо всем, о людях, нас окружавших, — их любопытные взгляды нас не трогали.
— Виола, — сказал я.
— Я не знала, что ты придешь. Я хочу тебе сказать — не жди меня сегодня вечером, — сообщила она мне погрустневшим голосом. — Сам видишь, что тут делается… Я не могу оставить Эмчу одну…
Мы стояли друг против друга. Не сводя с меня глаз, она непроизвольно потянулась рукой к моему плечу.
— Жаль, — вздохнул я. — Я так надеялся…
— Я тоже, — призналась она и нежно провела рукой по моей щеке.
Она не замечала, что мы привлекаем всеобщее внимание, что парни из нашего предместья не спускают с нас глаз. Она выглядела печальной, вид у нее был более усталый, чем у Эмчи, казалось, она вот-вот расплачется, и мне захотелось прижать ее к себе, утешить, развеселить.
— Что-нибудь случилось? — спросил я.
Она смотрела на меня влажными изменчиво зелеными глазами и молчала.
— Почему ты такая печальная? — допытывался я.
— Да так, — неопределенно ответила она. — То одно, то другое… А то и все вместе навалится…
— Когда я тебя снова увижу?
— Скоро. Даже скорее, чем ты думаешь, — улыбнулась она и снова погладила меня по щеке. — Я так тебя люблю, — сказала она чуть погодя.
— Я тебя тоже, — уверял я, — очень люблю.
— До свиданья, — попрощалась она и пошла к дому, пробираясь между рассевшимися на земле; белый халат ее развевался на ветру.
Парни из нашей компании выпили немало кружек пива, добавили к ним по нескольку стопок рома и к этому времени уже изрядно набрались. Поэтому, едва Виола отошла, они засыпали меня вопросами и мерзкими намеками:
— Когда же будет помолвка? Хочешь заполучить в приданое стеклозавод? А она-то, видно, здорово втрескалась в тебя!
На обратном пути они без конца приставали ко мне, я стал мишенью их дурацких шуток, наконец-то они могли вдоволь потешиться надо мной.
Я ничего не отвечал им, мне даже не хотелось отругиваться, я шел погруженный в свои невеселые мысли.
Ярослав пытался было заступиться за меня, но они скоро заставили его замолчать.
Когда мы вышли на шоссе, я, ни с кем не попрощавшись, повернул к дому. Мне не хотелось шататься по улицам и участвовать в их мальчишеских забавах. Весь вечер я просидел дома, рассеянно перелистывая тетрадь, которую мне доверил Хадима.
Утром мне рассказали, что на почерневшей бревенчатой стене пожарного сарая, вклинившегося между футбольным полем и сахароваренным заводом, кто-то вывел белой краской видную издалека надпись: «Гитлер — осел».
На другой день, когда я возвращался с работы, у нашего дома меня поджидал полицейский и сразу же отвел в участок. Там пришлось долго ждать. Я сидел один в комнате ожидания, живот мой сводило от голода: с самого утра я ничего не ел. Потом меня вызвали в соседнее помещение; там два неизвестных человека в штатском с ходу огорошили меня вопросом, где я был в воскресенье вечером и что знаю о надписи на пожарном сарае. Я ответил, что сидел дома и что о надписи ничего не знаю. Мне явно не поверили; у них, сказали они, есть доказательства — в тот день я был в «Трактире у стеклодувки». Им даже известно с кем.
— Да, в трактире я был. Мы играли в кегли. В этом, по-моему, нет ничего преступного.
Когда я это сказал, один из них медленно поднялся и молча ударил меня ребром ладони по лицу.
Потом передо мной положили лист бумаги и карандаш и строго потребовали, чтобы я тотчас же написал имена тех, кто был при этом происшествии и кто вывел эту надпись.
— Пиши! — кричали они.
Я растерянно смотрел на карандаш и бумагу, боясь к ним притронуться, и упорно повторял, что ничего не знаю. Тогда они снова взялись за меня, дали несколько таких затрещин, что я почувствовал, как у меня раскалывается голова.
В голове у меня гудело, от горечи и обиды на глазах выступили слезы, но я стиснул зубы и пересилил себя.
Поскольку я ничего нового не сказал и повторял одно и то же, они били меня до тех пор, пока я не потерял сознание. Им, видно, доставляло удовольствие избивать беззащитного человека.
Наконец они поняли, что я действительно ничего не знаю, и отпустили домой.
— Смотри больше не попадайся, — пригрозили они мне на прощание.
И хотя мать напугали и мое распухшее лицо, и кровавый синяк под глазом, она была счастлива, что я вернулся.
Возможно, она лучше меня понимала, к чему это могло привести.
8
В середине августа, когда крестьяне собирали с полей первый урожай, в нашем предместье отмечался храмовой праздник Успения пресвятой богородицы и устраивалось гулянье. Во всех домах пекли пироги, готовили угощение; несмотря на скромные военные пайки, всякий исхитрялся как мог, лишь бы чего-нибудь достать; резали гусей, уток, кур и, разумеется, кроликов, которых откармливали специально к этому празднику.
На площади перед старым храмом в стиле барокко, что возле кладбища, за одну ночь выросло несколько ярмарочных палаток, там торговали пряниками в форме сердца, халвой и другими сладостями, построили тир, качели и ярко раскрашенную карусель с оркестрионом.
В воскресенье поутру на площадь стал стекаться народ.
Моя мать надела свое лучшее платье и попросила меня пойти в церковь вместе с ней. За весь год она ни разу не была в церкви и, так же как и я, не вспоминала о боге, но в этот праздник считала своей обязанностью ее посетить.
Накануне прошел сильный дождь, но утром тучи рассеялись, воздух был прозрачен и свеж, ясное голубое небо сияло над серыми улицами города.
Мы шли в толпе людей, стекавшихся к храму отовсюду; их темные одежды казались мне этим солнечным утром траурными.
То и дело попадались знакомые; перебрасывались с нами несколькими словами, иногда останавливались на минутку-другую, мама расспрашивала, как они живут, что делают; говорили о свадьбах, похоронах, болезнях; я стоял рядом, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
Перед церковью на размякшей от дождя дороге блестели большие лужи; мы обходили их по поросшей травой обочине, чтобы не испачкать начищенные до блеска ботинки. Неподалеку от церкви встретили Хромого, он увязался за нами.
— У Зубодера, — с ходу начал он, — какие-то неприятности. Позавчера двое из тайной полиции заходили в муниципалитет, расспрашивали о нем.
У Хромого, видно, в муниципалитете был знакомый, от которого он все и узнавал, а потом передавал остальным «по секрету».
Так как мы шли гуськом, я, к сожалению, услышал лишь кое-что.
На площади перед храмом уже было много народу; люди в темных одеждах собирались группами, здоровались, оживленно переговаривались. Настроение у всех было праздничное, спокойное.
Хромой не отходил от матери, он возбужденно рассказывал ей о надписи на пожарном сарае, о том, что будто бы начато следствие, что нескольких парней уже вызвали на допрос, но установить, кто злоумышленник, пока не удалось.
— Благодарите бога, что ваш сын к этому не причастен, — говорил он. — Но его дружки точно замешаны в этом деле. Голову на отсечение даю! А за такие глупые шутки другим расплачиваться приходится. Как бы и нам из-за них не пострадать.
Женщины быстро смыли надпись на пожарном сарае, но краска успела впитаться, и слова «Гитлер — осел» снять полностью с потемневших бревен не удалось. Тогда какой-то мудрец придумал выход: забить часть надписи досками. Осталось только слово «осел». Впрочем, все знали, о ком шла речь.
Площадь скоро опустела: все отправились в церковь. Мать с Хромым успели занять места на скамьях впереди, а я застрял у входа, где толпилось столько народу, что не пройти. Оттуда я наблюдал за службой: сначала перед ярко освещенным алтарем с подчеркнутой важностью сновали два министранта, потом священник в праздничном облачении торжественно служил мессу.
В унылом, полутемном помещении церкви было прохладно, летнее солнце, проникавшее через узкие высокие витражи, освещало старинные, изрядно облупившиеся фрески купола.
Священник у алтаря бормотал по-латыни молитву, в тишине ее непонятные слова гулко отдавались под сводами храма.
Только теперь я заметил, что на последней скамейке неподалеку от меня сидит Зубодер с братом, две черные косматые головы смиренно склонились. Рядом с ними светилась рыжеволосая голова Виолы. Она, видно, почувствовала мой взгляд, повернулась, глаза ее сверкнули, она сделала знак, давая мне понять, что видит меня и что мы встретимся, едва закончится служба.
Я не видел ее с прошлого воскресенья, когда мы с ребятами играли в кегли в «Трактире у стеклодувки», хотя каждый вечер приходил в лес на условленное место.
Я не понимал, что произошло, почему она ни разу не пришла. Какие только мысли не лезли в голову, временами мне казалось, что над нами нависла угроза, временами — что она просто изменила мне. Но тут же я принимался защищать ее, уверял себя, что ей помешали прийти серьезные причины.
У меня не хватило терпения дождаться конца службы, я вышел на солнце и остановился на ступеньках храма, площадь перед которым пустовала. Только продавцы расставляли товары в ожидании покупателей, которые вот-вот ринутся сюда. В больших лужах отражалось светло-голубое небо.
Грустное пение и печальные звуки органа действовали умиротворяюще; на нас, грешных, нисходила благодать, дарящая надежду.
За спиной скрипнула дверь, послышались тихие робкие шаги, и чьи-то руки нежно коснулись моего плеча. Я догадался, что это Виола.
Мы молча стояли рядом, она — ступенькой выше меня, щурясь от яркого солнца; за нами величаво гудел орган. Казалось, в эту минуту весь мир был у наших ног…
— Всю эту неделю я ужасно скучала по тебе, — сказала она виновато. — Но мне нельзя было отлучиться из дома. Мама заболела.
Я страшно мучился все эти дни, воображение подсказывало мне невесть что, но ее объяснение меня вполне удовлетворило, особенно когда она добавила, что мама, очевидно, просто переутомилась и если она несколько дней полежит, то вскоре станет на ноги.
Я почувствовал облегчение, да и как могло быть иначе — я вижу ее, мы снова вместе.
— Давай уйдем, пока никого здесь нет, — предложила Виола.
Мы взялись за руки и, огибая лужи, пошли к тиру. За тиром была тропинка, которая вела на кладбище.
За низкой каменной стеной вздымались кресты и мраморные надгробья, поросшие мхом, обветшавшие, потемневшие. Большинство могил на кладбище заросло травой, словно живые давно забыли своих мертвых, а может быть, просто не осталось никого из тех, кто мог бы позаботиться о них. Только около стены был насыпан свежий холмик, прикрытый увядшими венками с траурными лентами.
Здесь было тихо, спокойно, безлюдно, только из церкви доносились заунывные песнопения да глухо звучал орган.
Мы прохаживались по расчищенной центральной аллее кладбища и читали на памятниках имена усопших — в основном тут хоронили жителей нашего предместья. Здесь, за каменной стеной, ограждающей их от жизни, от городского шума, от человеческих страстей, закончилась их земная жизнь, здесь, под простыми крестами и памятниками, покоились останки ушедших вкупе с их мечтами и надеждами.
Мы остановились у могилы, где погребены мои предки — дедушка, бабушка, дядя и отец, умерший десять лет назад. Я смутно помнил его высокую сгорбленную фигуру и добрые, все понимающие глаза. Я рассказал о нем Виоле. Она внимательно выслушала меня, погрустнела — огорчилась вместе со мной его столь раннему уходу из жизни.
— Все наши похоронены не здесь, — сказала она мне. — Мамины родные похоронены в Моравии, в той деревне, где я родилась…
Потом мы сидели на ступеньках покойницкой, подставив лица солнцу, и вслушивались в нарастающий шум — служба закончилась, и прихожане повалили на площадь.
— Хочешь, я расскажу тебе о наших? — предложила Виола.
Я кивнул.
Она интересно рассказывала о родной деревеньке, о церквушке, куда стекались странствующие богомольцы, о бабушке и дедушке, до изнеможения работавших на небольшом клочке земли, чтобы скопить деньги и купить лошадь, на которой дедушка стал ездить на заработки. Рассказала, что Эмча в восемнадцать лет выскочила замуж, а уже через год разошлась: ее муж оказался прощелыгой, только и знал, что хлестать водку, и, верно, пропил бы все, не собери он однажды свои пожитки и не уберись восвояси, так что она даже обрадовалась…
— Мальчик, которого в воскресенье ты видел у кегельбана, — сын Эмчи. Он рос у тети, а теперь поживет у нас, пока Эмча снова не выйдет замуж. За ней всерьез ухаживает один кондитер. Нашим он нравится. Отец говорит, только сначала нам надо стать на ноги и расплатиться с долгами…
Я слушал, положив голову ей на плечо, и чувствовал себя прекрасно. Мы забыли, что находимся на кладбище и что сзади нас покойницкая, где, возможно, кто-то уже ждет своего погребения.
Когда на центральной аллее показались люди — многие заходили из церкви на кладбище навестить могилы своих близких, — мы спрятались за покойницкой и стали там целоваться.
— А мне нравится целоваться на кладбище, — сказала Виола с вызовом.
— Верно, — поддакнул я. — Для такой любви, как наша, все места хороши.
— И церковь?
— Церковь хороша только для тех, кто женится, — ответил я.
— Вчера под утро мне снилось, что я выхожу замуж, — вспомнила она. — Я была в свадебном платье с фатой, в волосах — розы; все подходили, поздравляли меня, желали мне счастья, и я всех целовала. Правда, говорят, что сны про свадьбу не к добру.
— А за кого ты выходила замуж? — спросил я.
— Не помню, — засмеялась она. — Скорее всего, за тебя.
Слабый ветерок шелестел в длинных, склоняющихся до земли ветвях старых плакучих ив.
— Наши будут искать меня, — вдруг вспомнила она. — Наверное, они уже пошли домой.
Мы вернулись в толпу людей, снующих между палатками, но ни родных Виолы, ни моей матери там не нашли. Только парни из нашей компании то и дело выныривали из толпы, подмигивали мне, с постным видом ухмылялись.
У тира народу было немного, мы подошли, я нерешительно взял в руки духовое ружье. Потом все же решился, прицелился и с ходу попал в жестяную фигурку. Лотом еще — и снова удача. Я сам не ожидал, что так метко стреляю.
Виола стояла рядом и с восторгом смотрела на меня.
А я уже стрелял во все подряд — в шарики, подпрыгивающие на тонкой струйке фонтана, в шарманки, которые вдруг начинали издавать скрипучие звуки, в кузнецов и барабанщиков, в деревянные скрепки, зажимавшие бумажные розы, попадешь в скрепку — роза раскроется; стрелял бы и дальше, если бы за моей спиной не появился Хромой.
— Стреляешь ты метко, — ехидно сказал он. — Но мать оставлять не след. Она обыскалась тебя.
— Куда она пошла? — повернулся я к нему.
— Не знаю, — пробормотал он. — Еще недавно была здесь.
За нашими спинами шумела толпа и оглушительно играл оркестрион, людей тут не прибавилось, они толпились вокруг палаток, не обращая внимания на лужи.
Не знаю, заметил ли Хромой, что в тире со мной была девушка, мне-то казалось, что он давно наблюдал за нами и выжидал случай, чтобы подойти ко мне и отравить мою радость.
Я подмигнул Виоле, мы оставили тир, протиснулись через толпу и вышли в поле. Минуя предместье, мы пробрались по загуменью через кусты и крапиву и окольным путем вышли на шоссе. Оттуда было рукой подать до леса.
— А я и не знала, что ты умеешь так стрелять, — похвалила меня Виола. — Где научился?
— Чепуха, — хвастливо ответил я. — Стрелять по мишени в тире — штука несложная.
— А по людям? — бесстрастно спросила она. — Ты мог бы выстрелить в человека? Скажем, в немца?
Я ответил не сразу. Слишком неожиданным был для меня ее вопрос.
— Об этом я не задумывался, — чистосердечно признался я. — На военной службе я не был…
— Хорошо, а если бы понадобилось? Хватило бы у тебя силы воли? — не отступалась она.
— Наверное, хватило бы, — ответил я, подумав.
И тут я вспомнил, как однажды, когда мы со стесненным сердцем прочитали в газете сообщение о казни наших людей, Хадима, сжав зубы, сказал:
— Насилие всегда вызывает сопротивление. Не горюйте, час отмщения настанет.
— Но не можем же мы бороться с ними голыми руками, — возразил я.
Хадима грустно улыбнулся и загадочно произнес:
— Есть люди, которые позаботятся об этом. И их немало.
— Но ведь тут нужны гранаты, ружья…
Хадима отечески похлопал меня по плечу и снисходительно сказал:
— Ты молодой и многого еще не знаешь.
Мы шли с Виолой по опушке леса. Под нашими ногами похрустывали сухие ветки, сквозь густую листву пробивалось яркое солнце, мир казался радостным, полным очарования. И все же вопрос Виолы не выходил у меня из головы. Я рассказал ей, как меня допрашивали в полицейском участке, как били.
— Тебе еще повезло, что отпустили, — сказала она участливо.
— Да, — кивнул я. — Все могло кончиться хуже. Я много думал о матери и о тебе. Что, если бы я не вернулся?
— Послушай, а если бы нашлись люди, у которых есть оружие, ты пошел бы с ними? — спросила она меня.
— Я никогда не слышал о таких людях, — неуверенно проговорил я. — Да и на что они могут рассчитывать, на что надеяться?
Был прекрасный ясный день, солнце по-летнему щедро согревало людей и землю, лес, пруд — и разговор наш казался странным, даже бессмысленным.
— А все-таки… Пошел бы ты с ними? — настаивала Виола.
— Да, — все же решительно ответил я. — Без колебаний.
Она схватила меня за руку и так крепко, почти по-мужски сжала ее, что мне стало больно.
— Я рада, что ты оказался именно таким, каким я себе представляла, — сказала она. — Я рада, что ты не трус…
Мы долго стояли за густой порослью молодняка, не в силах расстаться — отсюда до трактира было рукой подать.
Она обхватила меня за шею и страстно поцеловала.
В ее изумрудно-зеленых глазах сверкали искры, она прильнула ко мне всем телом и зашептала прямо в ухо:
— Жди меня вечером. Такой день, как сегодня, создан для любви.
9
Разумеется, Хромой тут же разнес по всему предместью и моей матери рассказал, что во время храмового праздника я был с девушкой со стеклодувки и что потом видели, как мы обнимались у пруда. И вот вся наша улица уже знала, что у меня амуры с дочкой Зубодера и что я каждый вечер поджидаю ее у трактира, а потом мы ходим миловаться в лес.
Я, конечно, рассердился на Хромого, но ничего ему не сказал, а просто старался его избегать, а если случалось встретиться, то с вызовом отворачивался.
Он же, напротив, стал заходить к нам все чаще и постоянно наговаривал на меня матери, так что бедняжка совсем потеряла голову и глаза у нее вечно были на мокром месте. Мать попрекала меня, что я не слушаю ее, говорила, что я позорю наш дом. Вспоминала, какой порядочный человек был отец, плакалась: мол, будь он жив, он бы не потерпел, чтобы я бегал за шлюхой, которая обслуживает пьяниц.
— Ты же ничего не знаешь о ней и не хочешь знать, — упрекал я мать.
Я не раз пытался переубедить ее, рассказывал о том, какая хорошая девушка Вендула и как она помогает отцу вести всю бухгалтерию, говорил, что осенью она пойдет на работу и что я не понимаю, почему бы мне не дружить с ней. Но мать ничего и слышать не хотела, считала, что я несу вздор, что влюбленного человека ничего не стоит обмануть, что меня обвели вокруг пальца, что особы легкого поведения крутят сегодня с одним, завтра с другим, а я, мол, еще неопытный, зеленый и ни в чем не разбираюсь. Со слезами на глазах она говорила, что не допустит, чтобы я взял такую жену, она, мол, никогда не сможет признать ее.
Я весь кипел от негодования, но сдержался и ответил, что пока еще речи о женитьбе нет, хотя в будущем это не исключено, а сегодня ясно только одно: я люблю эту девушку и даже ради матери не откажусь от нее.
Мама расплакалась, слезы текли по ее морщинистым щекам. Но когда я под вечер снова поспешил в лес, она не сказала ни слова.
Через день после этой ссоры мы молча ужинали на кухне. В открытое окно заглянул Хромой.
— Вы дома? — спросил он. — Что же у вас так тихо?
Я, не поднимая головы от тарелки, продолжал есть.
— Хочу тебя спросить, — коварно начат он, — что слышно на стекольном заводе? Говорят, жену Зубодера увезли в больницу.
Я промолчал, хотя знал об этом от Виолы.
Мать подошла к окну, и они стали о чем-то переговариваться. Я воспользовался случаем и незаметно удрал.
Когда я вышел на крыльцо, Хромой снова начал ехидничать:
— Что поделывает твоя рыжая зазноба? Когда будет ваша помолвка?
Тут уж я вышел из себя.
— Заботьтесь-ка лучше о своих кроликах, — сказал я раздраженно, — и не суйте нос в дела, которые вас не касаются!
Я рванул на шоссе, а вслед мне понеслось насмешливое пение:
Рыжую, рыжую Я люблю сильнее всех…Этой песенкой обычно дразнили меня мои ребята, но, чтобы наш достопочтенный сосед мог позволить себе такое ребячество, я не мог и представить. Видно, невтерпеж ему было выказать свою ненависть к обитателям стеклодувки.
Я спешил к лесу и всю дорогу пытался побороть в себе неприязнь к болтливому соседу. Странный он был человек: добряк из добряков, он вечно вызывался помогать людям, охотно давал советы, если кто-то оказывался в трудном положении, и в то же время ядовитым языком своим мог отравить жизнь каждому, а уж коль невзлюбит кого, ни перед чем не останавливался.
К моей матери он всегда относился особо почтительно, часто заходил, услужливо предлагал, не нужно ли сделать чего, нет-нет да и помогал ей по хозяйству, доставал топливо на зиму, а иногда раздобывал кое-что из еды в добавление к скудному протекторатскому пайку. Я знал, что он когда-то ухаживал за матерью и потом, когда она овдовела, усердно добивался ее расположения, но мать, хоть и относилась к нему дружелюбно и, возможно, на свой манер его любила, не хотела и слышать о совместной жизни с ним.
Собственно, его фамилия была Урбанек, но об этом забыли, никто не звал его иначе как Хромым, хотя ему это и не нравилось. Даже моя мать по привычке называла его только так. Он работал бочаром на местном пивоваренном заводе, не один десяток лет сбивал пивные бочки обручами и смолил их; год назад он бросил работу, ушел на пенсию. От прежней профессии у него осталась неуемная любовь к пиву.
В последние годы он относился к матери почтительнее, короче говоря, вел себя уже только как старый, верный друг. Когда он день-два не появлялся, мать начинала беспокоиться:
— Что такое приключилось с Хромым? Он так давно у нас не был.
Действительно, мы успели привыкнуть, что он вечно сидит на скамеечке перед нашим домом, курит свои едкие самокрутки, кашляет и с интересом наблюдает за всем, что происходит на шоссе. Нередко он бормотал что-то непонятное себе под нос или сварливо бранился, а в запале плевался на шероховатые камни у порога.
— Надумаешь жениться, — говорил он мне, когда бывал в добром расположении духа, — отдам тебе свою комнатушку.
— А где же вы тогда будете жить? — спрашивал я его.
— Да я уж к тому времени помру.
К счастью, он был здоров как бык, этот любитель пива.
Временами я совсем не переносил его разглагольствования, а он к тому же в последнее время усвоил привычку меня поучать и разговаривал со мной тоном знатока, что было мне еще более противно, чем его глупые насмешки. Он вполне справедливо считал меня главным виновником того, что моя мать отвергла его ухаживания, и не мог этого простить. Но больше всего мне не нравилось, что он чем дальше, тем больше связывал меня с арендаторами стеклодувки.
В этот раз Виола сама ждала меня.
Я еще издалека увидел ее — она стояла под высокой сосной и высматривала меня. Едва я показался, она бросилась мне навстречу, кинулась в мои объятия и расплакалась.
— С мамой плохо, — всхлипывая, сказала она. — Завтра операция. Этого она боялась больше всего. Когда ее увозили в больницу, она без конца повторяла: лучше я умру дома, только бы не идти под нож, никуда не поеду, может быть, и так обойдется… Она не верит докторам… Ей с ними всегда не везло. А теперь ее жизнь зависит от них…
— Ты должна надеяться, что все закончится благополучно, — пытался утешить ее я. — Возможно, операция ей поможет. Чаще бывает именно так…
Недалеко от нас послышался шум, казалось, кто-то стремительно продирается сквозь ельник, слышен был хруст ломающихся веток, в сгущающихся сумерках мы увидели, как темная сгорбленная фигура ведет мотоцикл к стекольному заводу.
С минуту мы стояли как вкопанные, я держал Виолу за талию, она опустила голову мне на плечо, затаив дыхание, мы следили за незнакомцем, который стоял, прислонясь к мотоциклу, и явно кого-то поджидал. Потом с черного хода вышли двое с каким-то грузом — это был ящик или чемодан, груз казался довольно тяжелым, видно было, что им нелегко его тащить. Ящик прикрепили к заднему сиденью мотоцикла, чтобы он не свалился во время езды. В две-три минуты они покончили с погрузкой, один из них тут же сел на мотоцикл и, не включая мотора, покатил по пологой лесной тропинке вниз, к дамбе пруда, второй пешком направился за ним, а третий — это был, несомненно, сам Зубодер — тотчас же вернулся черным ходом назад.
— Пошли отсюда, — сказала мне Виола, видно сообразив, что мы невольно оказались свидетелями чего-то не предназначавшегося для наших глаз.
— Судя по мотоциклу, это Хадима, — сказал я.
Она ничего не ответила, словно не слышала меня.
В этот вечер нам обоим было плохо. Виола горевала о матери, я не мог забыть домашнюю ссору и колкости Хромого. Я не стал рассказывать об этом Виоле, она и так была огорчена.
Но ее горе и волнение еще больше притягивали меня к ней. Сначала она отнеслась к моим ласкам безучастно, затем стала, как и прежде, отвечать на мои поцелуи, сперва робко, потом все более страстно, и наконец мы оба забыли обо всем на свете в сумасшедших объятиях.
Вдруг она снова расплакалась и сквозь рыдания жалобно попросила:
— Не покидай меня. Ты мне очень нужен. Без тебя…
От слез ее зеленые глаза приобрели какой-то новый, удивительный оттенок.
— Ты даже представить себе не можешь, — шептала она взволнованно, — как я благодарна тебе за то, что ты меня любишь.
Она гладила меня ладонью по лицу, по волосам, преданно смотрела на меня полными слез глазами.
Я никогда не видел Виолу такой взволнованной, смиренной, трогательно жалкой. Раньше, если на ее лице и мелькала грусть, она быстро перемогала себя, начинала оживленно и громко смеяться. Она всегда охотнее веселилась, чем грустила..
Когда мы возвращались домой, она иногда вытирала набегавшие на глаза слезы, но больше не всхлипывала, а с решительным видом шла рядом и, как бы извиняясь, повторяла:
— Все, больше не буду плакать. Ни слезинки не пророню.
Обычно поутру мы собирались в тесном душном помещении бухгалтерии и разговаривали, перебивая друг друга, обменивались новостями — делать нам по-прежнему было нечего. Я, как правило, больше слушал, чем говорил, меня слишком занимали собственные мысли, связанные с Виолой, мечты о нашем будущем счастье.
Но, услышав, что речь идет о саботажах на железной дороге, о прерванной телеграфной связи, о попытке свести с рельсов поезд с боеприпасами, я насторожился. Кто-то сказал, что из вагонов было похищено оружие, поэтому ночью арестовали нескольких железнодорожников. Причем двоих — из нашего предместья.
Вдруг дверь бухгалтерии отворилась, и в нее просунулась прилизанная голова Седлатшека. Раньше он к нам и носа не показывал, считая нас недостойной себе компанией. Видно, он уже давно стоял за дверью и подслушивал.
Разговор оборвался на полуслове, от страха все застыли на своих местах. Выглядело это в высшей степени подозрительно, словно нас застали за каким-то недозволенным делом.
Глазками-буравчиками, спрятанными за толстыми стеклами очков, Седлатшек оглядел всю комнату, каждого в отдельности, и язвительно сказал по-чешски:
— Видно, у вас много свободного времени? Надо проверить, насколько каждый из вас загружен!
Он сделал было шаг в комнату, но остался стоять в раскрытых дверях, отчего сквозняк ворошил бумаги, разложенные на столах.
Вдруг, выпрямившись по-военному, хоть он ходил в штатском, Седлатшек злобно заорал дрожащим голосом, на этот раз по-немецки:
— Кто из вас видел Хадиму? Куда он мог подеваться?
— Сегодня его здесь не было, — ответили мы ему по-чешски.
Он окинул всех ненавидящим взглядом и повернулся на каблуках. Сквозняк захлопнул за ним дверь.
Все разошлись по своим местам, и в комнате вмиг воцарилась непривычно настороженная тишина, но тут же в коридоре снова, раздался пронзительный голос Седлатшека, разносившийся по всему зданию, однако что он говорил — разобрать было невозможно.
Потом раздался крик — кричали разом несколько человек, — послышался топот на лестнице, стук дверей и какие-то приказы по-немецки.
Мы толпой бросились к двери, один за другим выглядывали в коридор, но коридор был уже пуст, только внизу на лестнице еще раздавались голоса, и топот.
Из всех дверей нашего этажа высовывались испуганные лица. Соседи из комнаты рядом сообщили нам:
— Хадиму арестовали! Седлатшек привез гестаповцев!
Я подбежал к окну, выходящему во двор. Половина двора находилась в тени. Солнце ярко освещало здание напротив. Из нашего подъезда вышли четверо. Впереди Седлатшек, за ним, между двумя незнакомыми мужчинами в штатском, — Хадима. Если бы я не знал, что случилось, я мог бы подумать, что они идут в соседний цех по служебным делам. Трое шли обычным спокойным шагом. И только Седлатшек суетился, то забегал вперед, то отставал, размахивал руками и что-то выкрикивал.
Когда они миновали теневую часть двора, Хадима на мгновение остановился на границе тени и света, обернулся и помахал нам рукой. Словно почувствовал, что все мы сгрудились у окон, и решил попрощаться с нами.
Мужчина, шедший сбоку, грубо схватил Хадиму за руку и потащил за собой так стремительно, что тот чуть не упал.
В узком проходе неподалеку от фабричных ворот стояла низкая черная машина. Мы видели, как сначала в нее сел Хадима, потом те двое, все это время Седлатшек стоял навытяжку, вскинув вперед правую руку. Черная машина медленно двинулась к фабричным воротам.
Горькие слезы бессилия выступили у меня на глазах.
В моей памяти навсегда запечатлелась сгорбленная фигура бухгалтера Хадимы, когда он остановился на контрастной полосе, отделяющей темную часть двора от ярко освещенной, и махнул нам на прощание рукой.
В сумерки я снова пошел в лес, хотя и знал, что Виола сегодня не придет.
Мне хотелось видеть ее, потому что только она, она одна, могла утешить меня и помочь побороть нарастающий страх.
Я стоял на опушке, ветви высоких сосен сочувственно шумели у меня над головой, а над ними на бледно-сером небе мерцали первые робкие звезды.
Прогретый за день лес дышал теплом. Где-то вблизи протяжно кричала сова, над полем пролетела большая черная птица, захлопав крыльями, она скрылась в густом молодняке за шоссе. И снова наступила тишина, удивительная, умиротворяющая тишина.
Я смотрел вниз на город, окутанный сизой дымкой, он представлялся мне скопищем темных человеческих жилищ, казалось, будто его жители живут в полном мраке. Только из неразличимых во тьме труб нашей фабрики поднимался белесый дым, полосами стлавшийся над крышами города.
Я вышел из леса и пошел по жнивью. Остановился на минуту, и еще раз оглянулся.
Небо за стекольным заводом было неестественно красным, словно где-то вдалеке разгорался пожар.
10
До сих пор я жил как во сне, витал мыслями в облаках и невольно оберегал себя от ужасов, с которыми чем дальше, тем больше сталкивала меня жизнь.
История с бухгалтером Хадимой глубоко потрясла меня; ведь до того времени я жил только своей любовью, не видел никого и ничего вокруг себя, кроме Виолы. Я не мог поверить, что человек, которого я привык видеть ежедневно, с которым любил переброситься парой слов, к которому чувствовал симпатию и доверие, вдруг не придет больше на работу, исчезнет, пропадет, как в воду канет. Он уж больше не будет возвращаться домой на мотоцикле, не будет поджидать меня у фабричных ворот после смены, не будет ночевать в нашем предместье в домике своей портнихи, стены которого были увиты диким виноградом. Больше я не увижу его тихим вечером около стекольного завода.
Я не только ощущал отсутствие Хадимы, ведь он был мне и опорой, и советчиком, но его арест словно бы обнажил болезненную рану, которая никак не залечивалась. Меня обуревала тоска, неутолимая тоска, которая гложет человека, когда он бессилен против жестокой несправедливости.
На работе вдруг перестали о нем говорить: боялись вспоминать его неожиданный арест, не хотели показать свой страх. Никто не осмеливался прикоснуться к трагическим событиям последних дней, казалось, люди хотели как можно скорее о них забыть. Все сторонились Седлатшека, он теперь держал в страхе всю фабрику. И когда я заводил речь о Хадиме, гадая, что с ним теперь, люди в ответ боязливо опускали глаза и лишь неопределенно пожимали плечами.
Тут я обратился к записям, которые он просил меня спрятать. Уже тогда он предчувствовал свой скорый арест, потому что Седлатшек вынюхивал его.
Я пролистал их несколько раз. Там были выписки из прочитанных книг, высказывания знаменитых людей, прилежно перенесенные красивым бухгалтерским почерком на белые в клеточку странички школьной тетради.
Вначале выбор их показался мне странным, поспешным и подчас случайным. Потом я понял, что он выписывал для себя то, что служило подтверждением или развитием его взгляда на жизнь.
Больше всего меня привлекла первая цитата, усердно выведенная крупными каллиграфическими буквами:
«Я представляю себе человечество как гигантскую армию рабочих, возводящих великолепный храм Правды. Я живу и работаю вместе с ними. Мое тело, рабочий механизм, исчезнет, распылится, но результаты моего труда останутся. Мне дорого сознание того, что я, незаметный, безымянный труженик, помогал созидать великолепное здание Правды, которое возводится человечеством с древнейших времен. И каждый камень, заложенный мной в это здание, — бессмертен».
Под цитатой стояла подпись — Клемент Готвальд.
Я смутно припоминал, кто такой Готвальд, кажется, от Хадимы я о нем и слышал, знал, что сейчас он живет в Москве, откуда руководит борьбой против оккупантов. Поэтому я здорово перепугался. Без долгих размышлений я хорошенько завернул тетрадь, обмотал ее паклей, засунул в щель между бревнами на чердаке, а сверху еще зашпаклевал.
Но меня неотступно преследовала фраза, стоявшая в тетради последней:
«Жизнь за жизнь, кровь за кровь!»
К этим словам, под которыми не значилось имени автора, Хадима, по-видимому, относился особенно серьезно. Ими он руководствовался в мрачные годы оккупации, хотел внести свою лепту в победу над фашизмом.
Запали мне в память и другие слова, написанные карандашом на обложке тетради:
«Наше будущее зависит от того, как мы будем действовать».
Я вспоминал тихий проникновенный голос Хадимы, его горькую усмешку. Если до ареста Хадимы в его жизни я многого не понимал, то теперь у меня словно открылись глаза; сейчас он стал мне гораздо ближе, чем раньше.
Я возвращался с работы домой в странном состоянии: в голове шумело, звонкие удары колоколов, доносившиеся издалека, гулко отдавались в ушах, перед глазами все прыгало, казалось расплывчатым, неясным. И улица, по которой я шел, вдруг стала покатой, так что временами я сам казался себе пьяным, неуверенно пробирающимся домой. Возможно, виной тому было палящее солнце, возможно, усталость, вдобавок я почти не спал последнее время — словом, чувствовал я себя хуже некуда.
По дороге я встречал знакомых, но узнавал их с трудом. Поздоровавшись, я брел дальше по обочине шоссе. Меня обгоняли рабочие на велосипедах, они тоже возвращались с работы; от их звонков я метался из стороны в сторону.
Я мечтал скорее попасть домой, прилечь отдохнуть, скинуть усталость, избавиться от неприятного шума в голове.
Подходя к дому, я увидел мать, стоявшую в тени у крылечка. Прикрыв ладонью глаза от солнца, она высматривала меня.
— Ты что так поздно? — спросила она, даже не поздоровавшись. — А тебя ждет гостья.
— Какая гостья? — удивился я.
— Иди сам посмотри,---лукаво улыбнулась она.
Я бросился в прихожую, где даже в самые жаркие дни было прохладно, и, запыхавшись, влетел в кухню. За столом сидела Виола — руки на коленях, склоненная голова, темно-золотые волосы светятся в полумраке кухни.
За окном я заметил Хромого, отбивающего косу под яблоней, вероятно, он собирался косить траву для своих прожорливых кроликов.
— Какими судьбами? — спросил я.
— Я гуляла по шоссе, поджидая тебя, — объяснила она, — а твоя мама увидела меня и позвала в дом, сказала: нехорошо ходить по такому солнцепеку.
Я опустился на стул, изумленно глядя на нее.
— У тебя славная мама, — сказала она. — Так хорошо меня приняла. Мы с ней немножко поговорили…
— О чем?
— О тебе. О чем же еще нам говорить? — улыбнулась Виола. — Она беспокоится, говорит, что ты в последнее время плохо выглядишь. Наверное, считает, что я в этом виновата.
Я махнул рукой.
— Действительно я чувствую себя неважно, — признался я, — но ты тут ни при чем. Никто тут не виноват.
В прихожей послышались шаги матери: она обметала ступеньки, ведущие на чердак. Видно, умышленно оставила нас одних. Хромой по-прежнему отбивал косу под яблоней.
— Почему ты пришла? — спросил я. — Что-нибудь случилось?
— Нет. Ничего особенного, — ответила она. — Просто хотела тебя видеть. Соскучилась.
— Как дома? — спросил я.
— Сегодня мы привезли маму из больницы. Ей стало лучше, и я так рада.
Осторожно, словно с опаской, она стала гладить мою руку.
— Ты не сердись на меня, — продолжала она; ее голос доносился откуда-то издалека, вдобавок его все время заглушал звон далеких колоколов. — Какое-то время мы не сможем видеться. Мне придется побыть с мамой, пока дело не пойдет на поправку. Ведь наши должны обслуживать гостей.
— Извини, — проговорил я почти беззвучно. — Мне как-то не по себе.
Я встал, налил воды в таз, опустил в него голову и покрутил головой в воде, пока не почувствовал приятную освежающую прохладу.
— Погуляешь пока без меня, — сказала она задумчиво.
— Не хочу, — сопротивлялся я, хотя и понимал, что это напрасно. — Я хочу всегда быть с тобой.
— Пойми же, — умоляла она. — Мне так хочется, чтобы мама поскорее поправилась…
— Понимаю, — ответил я грустно.
— Да и тебе, кстати, неплохо побыть одному, успокоишься и отдохнешь.
Я опустил голову и замолчал.
— Как только ей станет лучше, я снова приду к тебе, — утешала она меня. — Ведь я теперь могу заходить к вам…
Она встала, обошла вокруг меня, нежно провела рукой по моим мокрым волосам.
— А теперь мне пора идти, — сказала она.
Она постояла у свадебной фотографии моих родителей, висящей над диваном в овальной позолоченной рамке, и неожиданно весело сказала:
— Хотелось бы мне, чтобы и у меня была такая фотография, когда я выйду замуж…
Я остался сидеть на стуле, не в силах встать. Я видел, как Виола нерешительно направилась к двери, повернула ручку, еще раз оглянулась, улыбнулась мне, потом беззвучно закрыла за собой дверь.
Слышал, как она разговаривала с мамой в прихожей. Усилием воли я заставил себя подняться и выйти на крыльцо.
Вся залитая солнцем, Виола шла по проселочной дороге к дому, стоящему у темной полосы леса.
Когда я вошел в комнату, Хромой просунулся в окно и насмешливо сказал:
— Ну и дела! Выходит, свадьба-то на мази!
— Оставьте меня в покое! — бросил я раздраженно, рухнул на диван и с облегчением зарылся разгоряченной головой в подушку.
Я уснул, и мне приснилось, что жена Зубодера умерла.
Снова у нас на кухне сидела Виола, вся в слезах, и рассказывала, как она ненадолго отошла от мамы, а когда вернулась, та больше не открыла глаз.
Моя мать сидела вместе с нами за кухонным столом, грустно покачивала поседевшей головой и участливо говорила:
— Наверное, она даже не поняла, что пришел ее последний час. Лучшей нет смерти, чем заснуть и не знать, что заснул навеки…
За открытым окном под яблоней Хромой снова отбивал косу. Откуда-то издалека доносились нежные, проникновенные звуки органа и благостная мелодия мессы.
Было жарко, я весь вспотел, ноги, спина мучительно ныли, голова раскалывалась — я, верно, заболевал.
Мне представлялось, что я стою на крыльце нашего дома, смотрю в сторону леса и вижу, как по неровной проселочной дороге трясется повозка. Вначале ее еле видно, но потом я различил лошадей с черными султанами и черный катафалк, который на ухабах шатало из стороны в сторону.
При выезде на шоссе кучер остановил непослушных лошадей, бьющих копытами по грязной земле, поправил сбрую, похлопал по их потным спинам и вновь дернул вожжи.
За катафалком шли люди в черном: Зубодер с братом, две девушки, десятилетний мальчик, который вертелся у них под ногами, и незнакомый мужчина, довольно молодой, наверное тот кондитер, что собирался жениться на старшей дочери. Ни минуты не колеблясь, я пошел по шоссе за похоронной процессией. Мы шли, сопровождаемые любопытными взглядами жителей нашего предместья.
Когда мы приблизились к кладбищу, вдруг навстречу нам вышел человек, еще издали показавшийся мне знакомым. Это был Хадима. Да и кто еще это мог быть! Он поравнялся с нами и молча присоединился к нашей процессии.
В том месте, где дорога пошла в гору и лошади замедлили шаг, Хадима сжал мне руку повыше локтя и сказал:
— Не вешай голову! В смерти нет ничего страшного. Она естественное следствие жизни…
Так мы поднимались бок о бок по длинному склону холма, меся размокшую дорожную грязь.
— Наши тела умрут, распылятся, — говорил Хадима тихим, проникновенным голосом. — Но наши дела лягут в основу нашей великой стройки, нашей общей борьбы, они останутся жить после нас, они — бессмертны.
И снова загудели колокола. Их волнующий звон усиливался и заставлял забыть о нашей печали. Лишь равномерный стук молотка нарушил наше скорбно-торжественное настроение: это Хромой, как и раньше, отбивал косу под яблоней.
Я открыл глаза. В кухне стало сумрачно, день за окном клонился к вечеру.
У стола, где днем ждала меня Виола, теперь сидела мама. Она отдыхала и смотрела в окно. За окном Хромой увозил на тачке скошенную траву.
Хотя мама и не глядела на меня, она сразу же заметила, что я проснулся.
— Ты так крепко спал, что мне не хотелось тебя будить, — сказала она. — Ведь ты сегодня даже не обедал.
— Мне не хочется есть, — сказал я. — Только пить. Жажда страшная.
Мать принесла из погреба кувшин холодного молока, и я осушил его с наслаждением.
Виола пришла через два дня.
Было уже довольно поздно, и мать собиралась спать, как вдруг в окно легонько постучали и в надвигающихся сумерках блеснули золотые волосы. Я мигом выскочил из дому.
— Я соскучилась без тебя, — прошептала Виола. — Хотелось тебя повидать хотя бы на минуту…
Мы сразу пошли к лесу.
Был необыкновенно светлый вечер; круглый диск луны низко висел над землей, заливая ее серебристым сиянием. Тишина стояла удивительная, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха, казалось, все застыло в мертвенно-бледном, голубовато-серебристом свете.
— Я попросила Эмчу посидеть около мамы, — произнесла Виола, — сказала ей, что мне нужно к тебе…
Тихий, словно зачарованный лес был полон таинственных теней, при луне эти знакомые места выглядели иначе, совершенно непривычно. Мне казалось, будто мы не одни, будто за каждым деревом притаился кто-то, будто в каждом темном уголке нас поджидает опасность.
Мы вышли на дамбу, поверхность пруда отливала ровным металлическим блеском. И тут тоже была тишина, поразительная тишина, словно и пруд и лес давно погрузились в сон, и лишь хруст камешков или сухих веточек у нас под ногами нарушал их священный покой.
— Наверное, в полночь здесь будут танцевать русалки, — пошутила Виола. — Сегодня у них праздничное освещение.
Луна сквозь густые ветви деревьев следила, как мы шли к нашему месту, закрытому со всех сторон развесистыми вербами, как опустились на высокую траву.
В лунном свете Виола сама казалась русалкой. Я страстно целовал ее губы, шею, грудь. Она пылко прижималась ко мне. Ни один листочек не шелохнулся, ни малейшего дуновения не чувствовалось в окружающем нас воздухе. Только вода, вытекающая из пруда через водосток, журчала неподалеку.
— Я сойду от тебя с ума, — благодарно шептал я ей.
— Давай, — смеялась она. — Для девушки лестно свести возлюбленного с ума…
Вдруг из темной глубины леса раздался такой резкий, пронзительный не то крик, не то стон, что мы испугались. Со всех сторон послышались голоса, крики, лай собак.
Казалось, это ожили лесные тени.
Вначале я решил переждать, пока шум не затихнет. Но страшные звуки волной накатывали на нас, словно мы попали в окружение. Поскорее одевшись, мы поднялись крутой тропинкой на дамбу.
И там увидели их.
В своих серо-зеленых формах они казались в лунном свете призраками. Ожившими тенями этой серебристой светлой ночи. А вдруг все это время они прятались за деревьями? Вначале они показались нам до ужаса нереальными: неужели все это только плод нашего испуганного воображения? Но вскоре стало ясно, что они как нельзя более реальны. Они выползали отовсюду: из лощины, из укрытий, из-за косогора, из оврага, с песчаного берега.
Немецкие солдаты с собаками.
Стало ясно: они прочесывают лес и стягиваются к пруду.
Увидев нас, они зло закричали по-немецки:
— Вон! Сюда нельзя!
Мы кинулись бежать не разбирая дороги.
За нашими спинами в лесу, освещенном мертвенно-бледным светом луны, яростно лаяли собаки, гулко раздавались отрывистые военные команды.
11
Спать в ту ночь мне почти не пришлось. Я то и дело просыпался, в окно ярко светила луна, засыпая, я снова страстно обнимал во сне Виолу, ласкал ее и целовал, а потом вдруг ощущал странную тревогу, словно мне предстояло сдавать важный экзамен, а сил нет. Потом мне снилось, что я убегаю от преследователей и вот я уже в безопасности, как вдруг ноги мои увязли в трясине, я отчаянно пытаюсь вырваться, но не могу сдвинуться с места…
Уснул я только под утро, милосердный сон успокоил мои взбудораженные нервы, а когда над моей головой пронзительно затрещал будильник, я не сразу проснулся.
Еще не было пяти часов утра — я всегда так вставал, в это время, как правило, в предместье было тихо, лишь велосипедисты, направляющиеся из соседних деревень в город на работу, проезжали мимо нашего дома. Сегодня же по шоссе шли тяжелые грузовики, от которых звенели в окнах стекла; одна машина следовала за другой, вероятно, это была военная колонна.
Хромой уже встал. Я слышал, как он покашливает на крыльце. Мама тоже встала, она чем-то шуршала у входных дверей, громко вздыхала и слезно молила бога, что делала только в самые трудные моменты жизни.
Я вскочил и, еще толком не проснувшись, выбежал на крыльцо.
И тут я увидел картину, которая привела меня в ужас.
Военные машины, набитые вооруженными до зубов солдатами в серо-зеленой форме и касках, сворачивали с шоссе в поле и направлялись к лесу.
— Что происходит? — испуганно спросил я.
— Учения, наверное, — ответил Хромой. — Иначе с чего бы они так рано поднялись…
Мама стояла около, платок ее был наспех завязан под подбородком. Изумленно следила она за машинами, едущими по неровному рыхлому полю. Машины шли медленно, тяжело, на буграх и колдобинах их подкидывало, казалось, они вот-вот остановятся, но они упорно ползли в глубь скошенного поля.
Затем появился зеленый мотоцикл с коляской, в нем сидели два офицера; мотоцикл, подскакивая, летел по полевой дороге, обгоняя конвой. Возглавив колонну, офицеры дали команду, и машины разъехались. Одна направилась по песчаной дороге, ведущей к пруду, остальные, по-видимому в соответствии с планом, начали окружать стекольный завод с поля.
— Господи боже, — причитала мать, — смилуйся над нами!
Отовсюду сбегались люди, в испуге спрашивали, что происходит, но никто ничего не знал. И так, издалека, предместье с тревогой следило за разыгрывающейся драмой, главную роль в которой опять играл таинственно притихший стекольный завод.
Прибежал и Ярослав, поднялся на наше крыльцо, внимательно посмотрел на поле, лес и с ходу все объяснил:
— Немцы окружают стекольный завод!
— С чего бы это? — Я не хотел соглашаться с ним. — Зачем это им надо?
— Откуда мне знать, — не отступался он. — Может, там склад оружия или база партизан…
— Глупости, — раздраженно отверг я его соображения. — Надеюсь, ты не думаешь, что Зубодер…
— Зубодер способен на все, — вмешался Хромой. — Я всегда говорил, что он мужик решительный. Ведь он уже схлестнулся с нацистами в пограничье. Никого и ничего он не боится…
— Хватит вам умничать, — не слишком деликатно оборвал я их. — Всё вы всегда знаете лучше других. А Зубодер у вас с самого начала в печенках сидит…
— Это у меня-то? — удивился Хромой. — Я всегда Зубодера признавал. И защищал его от наговоров…
— Пошли на работу, — спохватился Ярослав. — Мы и так опаздываем.
— Сейчас? На работу? — усмехнулся я. — И не подумаю!
Между тем машины подошли к стекольному заводу на расстояние выстрела и остановились в ожидании приказа.
Наступила неожиданная тишина. Бледные, с горящими от волнения глазами люди напряженно замерли.
Казалось, Хромой и в самом деле прав, наверное, немцы и впрямь проводят учения. И все эти маневры с машинами, разворачивающимися строем, — всего-навсего военные учения. Словом, скоро офицеры прикажут солдатам убраться назад в казармы, поскольку те уже доказали свою боеготовность.
Но, увы, эти предположения оказались ошибочными.
Вдруг на машине, что была ближе к лесу, что-то сверкнуло, и раздался сухой короткий треск. Мы были слишком далеко от места действия, чтобы точно видеть, куда стреляли и что произошло потом. Сухой короткий треск последовал и с других машин. Сначала это были разрозненные выстрелы, но вот они слились в канонаду.
Издалека все это еще напоминало учения, а то и просто детскую игру, и даже обрывочные хлопки выстрелов казались какими-то нереальными в это спокойное прохладное утро, пришедшее на смену ясной лунной ночи.
Совершенно неожиданно я увидел, и очень ясно, на крыше стекольного завода несколько последовавших друг за другом вспышек, по-видимому, все они были направлены в одно место, потому что грузовик, стоявший совсем рядом с заводом, вдруг тронулся, покинув свое место в шеренге машин.
К тут прямо от леса со стороны разрушенной каменной стены раздалась резкая торопливая пулеметная очередь.
Мама громко молилась:
— …Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим…
На минуту снова воцарилась тишина. Обе стороны молчали, словно выжидали, кто начнет перестрелку.
В этот момент из ложбины вынырнул мотоцикл с коляской и остановился перед колонной. Едва он оказался на открытом месте, как с крыши завода его расстреляли прямым попаданием. Мы услышали короткий глухой взрыв — в простреленном баке вспыхнул бензин.
Затаив дыхание следили мы, как мотоцикл вспыхнул ярким пламенем и как две фигуры, спрыгнув с него, пригибаясь, побежали к машинам.
— Пора на работу, — глухо повторил Ярослав.
— Оставь меня, — оттолкнул я его. — Неужели не видишь, что здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть…
— Все равно мы им не поможем, — сказал Ярослав. — Немцев голыми руками не возьмешь!
— Вот гады! — ругался Хромой, следя за действиями солдат.
— На заводе, наверное, много оружия, — сказал я вслух. — Вот бы пробраться туда через лес…
— Нет, нет! — закричала мать. — Никуда я тебя не пущу!
Но тут снова раздалась стрельба, и мы с Ярославом кинулись через скошенное поле в лес.
Колкая стерня до крови раздирала мои босые ноги, но я не чувствовал боли. Я думал только об одном — как бы проскочить через лес, подобраться через кустарник к забору, перелезть сбоку через него, проникнуть на стекольный завод — на помощь осажденным, на помощь Виоле.
Ярослав что есть мочи несся за мной по жнивью.
Когда мы подбежали к лесу, солдаты, заметив нас, всадили несколько пуль прямо нам под ноги.
— Назад! Назад! — злобно орали они.
Мы все же добежали до леса, на секунду остановились перевести дыхание, а затем залегли за могучими корнями деревьев.
И тут вспаханное поле словно вздыбилось, и заходило ходуном, заслонив горизонт; и по полю, будто по воде, поплыли серые военные машины; как корабли к острову, двинулись они к стекольному заводу. Вдали на горизонте за полями чернела узкая полоса леса, расстояние между островом и кораблями все уменьшалось; от нас же они все больше удалялись. Все закружилось у нас перед глазами: лес, поле, завод, машины слились в серо-черную полосу грязи. Казалось, темная низкая туча на мгновение заслонила и небо, и застывшее на горизонте солнце.
Со всех машин одновременно подняли пальбу. Вдребезги разлетелась черепица на крыше дома, падали на землю ветки старой акации, скошенные градом пуль. С машины у леса метнули зажигательную бомбу, и из всех окон завода повалил густой дым. Белый дым столбом подымался к небу — казалось, весь завод полыхает.
Пули били по крыше, стенам, деревьям. Они срезали ветки сосен, кромсали кусты жасмина, росшего за старым низким забором. Разлетались в щепу и скворечники, сколоченные по весне дядюшкой Карелом в надежде, что поселенцы-скворцы принесут своим хозяевам счастье.
Не успели мы опомниться, как снова наступила тишина и машины неподвижно застыли в поле, словно отдыхая после тяжелой работы.
Стекольный завод горел: занялись огнем стены, тлели деревянные стропила. Но никто не пытался потушить пожар, никто не спешил на помощь.
Я бросился по лесу к заводу, как вдруг дорогу мне преградили двое в сером, они свирепо толкали меня прикладами.
— Назад! Назад! — с бешеной злобой орали они.
Дальше мне не позволили сделать юг шагу.
Да, помочь осажденным я никак не мог.
Языки пламени, вздымаясь над крышей, лизали кроны старых сосен, ветки вспыхивали, как смоляные факелы.
А в небе стаей кружились взволнованные птицы, наверное скворцы, неожиданно лишившиеся своих жилищ.
Я с силой прижался к грубому, с потрескавшейся корой стволу, слезы горечи и ярости текли по моим ободранным щекам.
Всполошенные птицы взмывали вверх и с пронзительными криками улетали в лес, опускались на кроны сосен и снова летели к стеклозаводу, мечась в напрасных поисках.
Домой я не вернулся. Так и пошел босиком прямо на работу. Всю дорогу Ярослав молчал, хмуро шагал рядом и лишь иногда, когда я зашибал окровавленные ноги о каменистую мостовую, крепко сжимал мою руку повыше локтя, как бы поддерживая меня.
В проходной нас отметили как опоздавших.
Ярослав довел меня до бухгалтерии. Все взгляды устремились на меня. Я машинально дошел до своего места, сел и уронил голову на стол.
Все утро я просидел так.
Когда ко мне подходили и спрашивали, что случилось и не надо ли помочь, я нетерпеливо отмахивался.
— Оставьте меня в покое! — говорил я.
К полудню к нам в комнату заявился Седлатшек. Возможно, он просто хотел проверить, все ли на своих местах, но, увидев, что я никак не реагирую на его приход и по-прежнему не поднимаю головы от стола, он ехидно и не без намека сказал мне по-чешски:
— Все как я и предполагал!
— Он плохо себя чувствует, — пытались защитить меня коллеги.
Тут взгляд Седлатшека упал на мои ноги, которые я прятал под стулом.
— Вы только посмотрите, — пробормотал он за моей спиной. — Он ходит на работу босой… словно пастух!
— У него больные ноги, — снова попытались защитить меня.
— Знаю я эти больные ноги, — ухмыльнулся он. — Трудовые лагеря его вылечат. По возрасту он для них подходит. Мы его в два счета оформим! Не беспокойтесь!
И хлопнул дверью.
С работы, я кинулся в лес.
Стекольный завод все еще горел, тлели обгоревшие балки, бревна, ветви деревьев, едкий запах гари стоял по всей округе.
Хотя день был до прозрачности ясный — в чистом небе ни облачка, — но мне все виделось в тумане, как в кошмарном сне. Когда я подходил к заводу, передо мной неожиданно вырос военный патруль. Вначале он тоже показался мне призрачным, но, увы, он был страшной действительностью, и от этого у меня разрывалось сердце. Кровь бросилась мне в голову, я чувствовал ее солоноватый привкус во рту…
Там, где дорога уходила в лес, прохаживался еще один немецкий солдат, по-видимому, их здесь было полным-полно. Они охраняли стекольный завод, разбитый стекольный завод принадлежал отныне им…
Я не сводил глаз с трактира. Калитка была сорвана с петель. В проеме виднелись длинные столы, за которыми еще вчера сидели любители пива, а сегодня весь двор был завален ветвями, словно тут пронесся ураган. Без крыши дом казался более низким, приземистым, еще более мрачным, чем обычно. Окна с выбитыми стеклами усиливали впечатление заброшенности, черные от копоти стены сгоревшего дома казались надгробьем над погибшим насильственной смертью стекольным заводом.
Трудно было представить, что еще вчера здесь беззаботно пели песни, дядюшка Карел забористо играл на гармонике, а Зубодер курил перед домом виргинскую сигару… Сейчас на пыльной дороге валялась изрешеченная пулями доска с надписью «Трактир у стеклодувки».
Не находя себе места бродил я по лесу, дошел до дамбы, сбежал к водостоку и там рухнул в высокую траву под старыми развесистыми вербами.
Я лежал, зарывшись лицом в траву, вдыхал запах тмина и чего-то сладковатого, напоминающего запах пчелиного меда. В первую минуту я даже не вспомнил, откуда мне знаком этот запах.
И тут перед моими глазами предстал тот летний вечер, когда я впервые увидел Виолу на фоне темно-синего пруда и тускнеющих красок погружающегося в сумрак леса. Я снова вспомнил, как она стояла передо мной в мокром, прилипшем к телу купальнике и вдруг стянула с головы резиновую шапочку…
Я видел, как она — в белом халатике, золотые волосы стянуты узлом — пробирается ко мне мимо раскинувшихся на траве людей, как бросается в мои объятия со слезами на глазах…
И вот мы вместе лежим в высокой траве, а ночь опускается на лес и черной пеленой окутывает пруд… Потом Виола лежит на моем плече и машинально застегивает пуговки кофточки на груди, глаза ее устремлены в небо, увидев падающую звезду, она молитвенно шепчет: «Лети, моя звездочка, лети…»
Может быть, лучше было бы умереть. Не думать, не видеть, не слышать. Не существовать.
Или биться головой о землю до тех пор, пока не выбьешь все раздирающие сердце воспоминания.
Я не мог здесь оставаться. Как безумный бегал я по лесу, громко и безнадежно выкрикивал имя Виолы.
Лесистые склоны, безучастные воды пруда отзывались глухим эхом.
«Теперь ты все равно не сможешь быть один, даже если захочешь», — доносился до меня издалека ее приглушенный голос.
Минутами мне казалось, что она здесь, рядом, что мы снова ходим вместе рука в руке, не отрываясь смотрим друг на друга как зачарованные.
И тут я понимал, что к прошлому нет возврата, что война не возвращает своих жертв.
12
В сорок пятом году, через три месяца после окончания войны, я поехал в родной город получить в Национальном комитете необходимые документы и характеристику. К тому времени я переселился в Прагу, работал там в страховой конторе, и передо мной открывались самые широкие перспективы. Я не мог оставаться в родном городе: там каждый уголок напоминал мне о трагических событиях, происшедших четыре года назад.
И вот в июле в одну из суббот я неожиданно появился дома. Мама встретила меня со слезами на глазах, не знала, как и приветить. Ее интересовало все, самые малейшие подробности моей жизни: что я делаю вечерами, и особенно воскресными, раз уж никак не удосужусь приехать к ней. Она не хотела поверить, что я могу жить вдалеке от нее, без ее опеки, без ее материнской ласки.
Она жаловалась на здоровье, сказала, что в последнее время частенько болеет — вероятно, дает себя знать возраст, по ночам ей не спится, потому и днем голова тяжелая.
— Что-то мне все нездоровится, — сказала она. — Наверное, лучше уже не будет. Только хуже.
На крыльце послышались шаркающие шаги, кашель Хромого. Услышав в кухне голоса, он заглянул в окно.
— А-а, гость из Праги! — удивился он. — Хорошо, что вспомнил отчий дом, а то ведь и вовсе забудешь, откуда ты родом!
— Я привез вам две пачки табаку, — ответил я ему вместо приветствия.
В последнее время он пристрастился к трубке, усаживался поудобнее на скамеечке перед домом, брал длинную трубку с фарфоровой головкой, набивал ее, не сразу разжигая, затягивался, сплевывая во все стороны коричневую слюну.
Я протянул ему табак, он, довольный, пробормотал:
— То-то же! Теперь я буду лучше думать о тебе.
Он вошел в дом, без приглашения присел к столу и молча смотрел, как я доедаю угощение, которым на радостях потчевала меня мать.
— Хорошо, когда есть аппетит, — рассуждал он. — А знаешь, зайди-ка ты в трактир «На уголке». Там тебе будут рады…
— Да, пожалуй, сходи, — добавила мать, которая, хоть и сетовала, что сын не живет дома, гордилась тем, что он работает в Праге.
— А что, трактирщик Пенкава не вернулся? — спросил я.
— Да где там! — ответил сосед, опуская седую голову. — Никто не знает, что с ним сталось. Одно время в предместье слух прошел, что с ним вышла ошибка. Немцам будто бы донесли, что в трактире на нашей окраине творится что-то подозрительное, а так как они не знали про другой трактир, то и прикрыли этот, «На уголке». Речь-то шла о «Трактире у стеклодувки». Только бедняге Пенкаве все равно обратного пути не было…
— А что говорят о стеклозаводе? — нетерпеливо спросил я.
— Да поговаривали, что там, в лесу, немцы нашли припрятанное оружие. Чуть не целый склад…
— Ну а о Зубодере что толкуют?
— Никто из них не уцелел, — удрученно проговорил Хромой, скорбно опустив углы губ.
…Вечером я сидел в трактире «На уголке». Гостей обслуживал теперь новый трактирщик, здесь, как и раньше, собиралась вся округа. Хромой со своими партнерами резался в карты.
— А вот и пражанин, — приветствовали меня, когда я вошел в трактир. — Ему в Праге живется весело, что наша еда — хлеб да вода…
— Хорошо, где нас нет, — напомнил им я.
— Зато трактиры там на каждом углу, — не унимались они.
Пришел Ярослав. Он искренне обрадовался, по-дружески крепко пожал мне руку. Мы сели, выпили по кружке пива, но разговор как-то не клеился: у каждого была своя жизнь.
— Я слышал, тебе в наследство достался мотоцикл, — вдруг сказал Ярослав.
— Мне? Ты не шутишь?
Только теперь я вспомнил, как после ареста Хадимы к моей матери зашла та портниха, к которой он ездил, и сказала, что Хадима просил ее, если с ним что случится, передать мотоцикл мне: мол, у меня он будет в надежных руках.
— Откуда ты это знаешь? — спросил я у Ярослава.
— Да я как-то зашел к ней, сказал, хочу, мол, купить мотоцикл, — признался Ярослав. — А она ни в какую и слышать ничего не хочет, говорит, мотоцикл твой: Хадима просил ее перед смертью отдать его тебе…
— Перед смертью?
— Она сказала, что немцы его казнили.
И я вспомнил Хадиму, его горькую и гордую улыбку, услышал его глухой голос: «Все равно рано или поздно они меня схватят».
Мне представилась сцена на фабричном дворе, когда его уводили и когда он вдруг остановился на границе света и тени…
— Я попрошу, чтобы она отдала тебе этот мотоцикл, — сказал я Ярославу и был счастлив, увидев, как он обрадовался.
В воскресенье я проснулся поздно. Мать куда-то ушла, вероятно за провизией. На столе стоял завтрак, на плите — еще горячий кофе.
Небо был закрыто тучами, моросил частый дождик. Я подыскал в прихожей старый дождевик и пошел по мокрой проселочной дороге к стекольному заводу.
В поле, несмотря на дождь, я почувствовал себя хорошо: по моему лицу бежали капли дождя, но я не обращал на них внимания — я глубоко вдыхал чистый, влажный воздух, напоенный ароматом скошенных лугов и зреющих хлебов.
Вскоре передо мной возникли мрачные развалины стекольного завода. Невыносимая грусть сдавила мне сердце, слезы навернулись на глаза.
Забор обвалился, калитки не было, стены почернели, только пострадавшие от пожара деревья за четыре года заметно разрослись, они тянули свои зеленые ветви, словно бы пытаясь прикрыть угрюмые руины.
Я вышел со двора, приблизился к дому и в нерешительности остановился. Из обгоревших деревянных столов и скамеек были выломаны доски — видно, ими уже никто не пользовался.
Медленно брел я по сырому песку, усыпанному сосновыми иголками, хотел было заглянуть и внутрь дома, как вдруг сверху раздался неприветливый голос:
— Что вам здесь надо?
Подняв голову, я увидел двоих мужчин в синих рубашках. Они делали обрешетку новой крыши.
— Да вот зашел посмотреть, — ответил я в растерянности. — Когда-то здесь был трактир….
— Это когда еще было, — сказал один из них. — Теперь мы здесь хозяева.
— Идите своей дорогой, — забеспокоился другой. — Не то не ровен час вам что-нибудь свалится на голову.
Я вышел на тропинку и направился к лесу. За моей спиной раздался перестук молотков, сопровождавший меня все время, пока я бродил по мокрому лесу.
Я не мог не спуститься с насыпи к месту, бывшему свидетелем нашей с Виолой любви. Дикое, заброшенное, почти неприступное, оно заросло со всех сторон буйной бирючиной.
И трава там была высокая, густая, необыкновенно сочная, какая растет только вблизи воды или кладбища…
А вода, как всегда, выбрасывалась могучими толчками из водостока.
На следующий день я пошел в Национальный комитет. Там толпился народ. В отдел, где принимались заявления от желающих получить характеристики, стояла длинная очередь, так что мне не осталось ничего другого, как стать в нее.
Очередь шла быстро, и я не успел оглянуться, как оказался перед барьером, за которым сотрудница отдела прочитывала заполненные подателями бланки и при необходимости просила дополнить их нужными сведениями. Когда она машинально сказала «Следующий!» и подняла на меня глаза, я на мгновение онемел. Мне показалось, что все это происходит во сне: коротко подстриженная женщина за барьером была не кто иная, как Эмча. Эмча со стекольного завода!
И она тотчас узнала меня.
— Значит, это вы? — сказала она. — Я уже справлялась о вас. Мне сказали, что вы живете в Праге…
— Вы живы? — уставился я на нее.
— Как видите, — ответила она.
— А Виола? — спросил я с надеждой.
— Вендулка? — удивилась она и, помолчав, тихо и горько произнесла: — Никто из наших не уцелел.
Она перевела взгляд на мой бланк и быстро пробежала его глазами.
— Все в порядке, — коротко сказала она.
— Не могли бы мы с вами встретиться и поговорить? — спросил я, когда следующий уже занял мое место.
— Конечно, — ответила она. — Лучше всего в обеденный перерыв… перед входом в наше здание.
Я не мог дождаться, когда часы на башне пробьют полдень. Бесцельно бродил я по улицам, останавливался перед витринами магазинов, заходил на рынок, смотрел на человеческий муравейник, но ничто меня не занимало.
В моей памяти оживал во всех подробностях тот солнечный летний день во время оккупации. Я снова видел немецкие военные машины, ползущие по полю к лесу, слышал короткие хлопки выстрелов, видел охваченную пламенем крышу стекольного завода, почерневшие от пожара стены, обломанные деревья, стаи испуганных птиц в голубом небе…
Я долго переминался с ноги на ногу, поджидая Эмчу у входа. Наконец она пришла.
— Извините, но никак не получилось раньше, — сказала она.
— Расскажите, как это произошло, — торопил я ее.
Мы шли посередине площади, освещенные ярким полуденным солнцем, суетливые голуби путались у нас под ногами, мешая идти.
— В то утро меня не было дома, — объясняла она мне. — Накануне вечером я уехала в Бероун, ну а потом скрывалась до конца войны у добрых людей.
— Так что вы даже не знаете, что там было?
— Нет, не знаю. И, вероятно, никогда не узнаю, хотя и догадываюсь, что там случилось…
Мы дошли узкой улочкой до небольшого сквера и заметили свободную скамеечку в тени каштана.
— Сядем, — предложила она. — Так нам удобнее будет поговорить.
— О чем же вы догадываетесь?
— Люди мне рассказывали, как фашисты окружили стекольный завод и обстреляли его со всех сторон…
— Я видел это собственными глазами. Я побежал на помощь вашим, но опоздал…
— Наши защищались, пока их всех не перестреляли. Временами я упрекаю себя, что меня тогда с ними не было.
— Они убили бы и вас, — сказал я.
— Но там я потеряла сына… и самых близких мне людей.
— У вас был жених, — вспомнил вдруг я.
— Теперь это мой муж, — сказала она и грустно улыбнулась.
Я смотрел на ее исхудавшее лицо, на котором ласково светились большие светло-голубые глаза.
— Вы ничуть не изменились, — спохватившись, вежливо сказал я. — Вы точь-в-точь такая же, как прежде.
— Правда? А у меня такое чувство, что я постарела на несколько десятков лет. Пережитое не проходит бесследно.
В профиль Эмча удивительно походила на Виолу: такой же прямой гордый лоб, ровный нос и полные, пожалуй даже слишком полные, губы.
— А о Виоле, о том, что с ней стало, вы не знаете ничего? — упрямо повторял я мучивший меня вопрос.
— Как бы я хотела что-нибудь о ней знать! Я уверена, что Вендулка помогала отцу. У нас на чердаке стоял пулемет. Они наверняка стреляли вместе.
Я представил себе, как Виола вместе с Зубодером до последнего дыхания защищает свой дом…
— А как вы? Все еще не женились? — перевела она разговор, когда я проводил ее в Национальный комитет.
Я покачал головой.
— Ничего, вы еще найдете ту, настоящую… — грустно заметила она.
— Настоящая была Виола, — перебил я ее. — Не могу ее забыть…
Перед зданием Национального комитета мы с Эмчей наспех попрощались. Она крепко пожала мне руку и пожелала счастья.
Жизнь вокруг нас шла своим чередом.
БАЛЛАДА О МРАЧНОМ БОКСЕРЕ
Я бы узнал, чем держится
без клея
Живая повесть
на обрывках дней.
Борис ПАСТЕРНАКBALADA O SMUTNÉM BOXEROVI
Praha, 1981
Перевод Т. Мироновой
Редактор А. Смирнова
© Josef Kadlec, 1981
1
Далеко не всем, кто мечтает пережить нечто необычное, судьба предоставляет такую возможность. К Людвику она была благосклонна: его будущее, как это порой бывает, предопределило счастливое стечение обстоятельств, случай, на который он в глубине души давно уповал.
Тот день запечатлелся в его памяти озаренным ярким светом и неизъяснимой радостью, почти нереальным, словно все происходило под увеличительным стеклом или в ослепительном сиянии театральных прожекторов.
Его спокойная, размеренная жизнь — как, собственно говоря, и у большинства жителей любого провинциального городка — неожиданно изменилась, и он оказался на новой, доселе неизвестной дороге, о которой никто не мог сказать, куда она ведет.
До последней минуты не было ясно, попадет ли он в список переведенных на работу в Прагу, причем на неопределенное время. Сколько там они пробудут, зависело от особых обстоятельств, предугадать которые тогда, в первые месяцы протектората, не представлялось возможным.
Вначале имя Людвика не значилось ни в каких списках, он не попал в число избранников, с которыми уже побеседовали в отделе кадров об условиях поездки. Это были в основном люди неженатые, независимые ни от чего и ни от кого, но если среди кандидатов оказывались семейные, то предприятие не скупилось, предоставляя им на все время работы в Праге довольно высокую прибавку к зарплате.
За несколько дней до отъезда коллега Людвика, его сверстник и приятель, отказался ехать, так как собирался жениться и, конечно, не мог сразу после свадьбы оставить молодую жену, которая к тому же ждала ребенка. Кроме того, у него обнаружилась болезнь желудка — он это подтвердил медицинскими справками, — и питаться ему было необходимо не в столовых, а дома.
Людвик жениться не собирался, у него даже не было никого на примете, и в свои неполных двадцать два года он твердо решил: сначала досыта насладится свободой, а уж потом посвятит оставшуюся жизнь какой-то одной женщине.
Услышав, что его приятель остается дома, Людвик тотчас же побежал к начальнику отдела кадров, ворвался в кабинет и сбивчиво, торопливо принялся говорить, что он, Людвик, самый подходящий кандидат на освобождающееся место. Начальник слушал нетерпеливо, вначале лишь пожимал плечами, дескать, это зависит не от него, а от руководства, но в конце концов сказал, чтоб Людвик заглянул к нему завтра утром. Однако ни словом не обмолвился насчет того, поддержит его кандидатуру или нет. Вопрос остался открытым, особых шансов на успех не было, и Людвик, удрученный, вернулся на свое рабочее место.
Но не прошло и часа, как его позвали к телефону. Приятный, мелодичный женский голос попросил его тотчас зайти в отдел кадров и заполнить необходимые анкеты, так как он включен в группу отъезжающих в Прагу.
Голова у него закружилась от счастья, слезы застлали глаза, дрожащей рукой он повесил трубку и, сияя улыбкой, огляделся. Гордо прошествовал он по цеху, который теперь уже не был неприязненным и мрачным, пасмурный день показался светлым, ясным, будущее рисовалось в самых радужных красках, и каждого встречного он готов был обнять и расцеловать.
В отделе кадров ему сказали, что уже несколько человек отказались от поездки, так что его возьмут наверняка, можно собираться в путь. Позже, когда все бумаги были оформлены и начальник поинтересовался его семейным положением, Людвик окончательно убедился, что исполнение желаний не за горами. Казалось, теперь уже ничто не разрушит его планы, не воспрепятствует осуществлению его мечты.
В конце рабочего дня к нему подошел начальник цеха и как-то сухо проговорил:
— Ну что, собираешь чемодан? Сейчас мне позвонили из заводоуправления. У тебя все в порядке.
— Правда? — Он изобразил удивление, хотя нисколько не сомневался, что все в порядке.
— Ты же сам напросился, — пробурчал начальник с упреком. — Оставался бы лучше с нами и жил бы спокойно…
— Хлеб везде достается нелегко, — ответил Людвик, но начальник уже не слышал, он резко повернулся и зашагал в свой застекленный кабинет в конце цеха.
Вечером за ужином вся семья собралась за столом и каждый делился тем, как у него прошел день: сестренка Людвика, на десять лет моложе его, рассказала, какие отметки получила в школе, мама — кого из знакомых встретила в магазине, дедушка — на сколько обыграл в карты своих безденежных партнеров. Людвик же, хоть и сгорал от нетерпения, дал всем спокойно высказаться и только потом сообщил, как о чем-то незначительном — правда, голос его предательски дрожал, хотя он и пытался это скрыть, — что ему предложили поехать работать в Прагу и что он согласился. Так что будет где проявить свои способности и сделать неплохую карьеру.
Он заметил, с каким изумлением все смотрели на него, словно не верили ушам своим, и, непонятно почему, не восприняли его решение как серьезное и окончательное.
После недолгого молчания заговорила мама — тихо, еле слышно, голос ее срывался:
— Не знаю, что тебе еще нужно. Здесь у тебя есть все. А среди чужих людей будет тяжело. Заскучаешь по дому…
— Не надо было соглашаться, — прервал ее дедушка. — Теперь лучше всего быть дома… и ни во что не впутываться.
— Я каждое воскресенье буду приезжать домой, — успокаивал их Людвик. — Поездом всего каких-нибудь три часа.
Но сестренка Ганичка сквозь слезы с упреком возразила:
— Ты бросаешь нас! Бросаешь, когда всюду немцы?
После ужина он ушел в трактир, где обычно просиживал с друзьями за кружкой пива.
В тот вечер Людвик всех угощал. Настроение у него было прекрасное, с лица не сходила счастливая улыбка, в душе он уже прощался со старой жизнью, нудной и однообразной.
Так заканчивалась первая глава его биографии.
Поезд мчался вперед, разрезая местность на две части, оставляя по бокам луга и поля, сплошные стены леса, молодые посадки и пасеки, а потом опять открывались просторы, пробегали маленькие города, вокзальчики, на коротких остановках одни пассажиры выходили, другие садились.
Попутчики коротали время за разговорами. Людвик скучал и слушал тех, кто, так же как и он, ехал работать в новое, незнакомое место. Никто не ведал, что их ждет впереди. Некоторые бывали в Праге, правда только наездами, а значит, о настоящей жизни большого многолюдного города истинного понятия не имели. Все сходились на одном: при таком обилии народа одиночке придется трудно, много сил потребуется ему, чтобы не затеряться и как-то проявить себя. Делились своими познаниями, где что находится, какой кабачок лучше, а кто-то вспоминал, где и с кем напился, в каком ресторане много ласковых девушек, которых можно купить на час или на всю ночь. Потом пошли непристойные разговоры о женщинах, сальные анекдоты. Рассказывали, перебивая друг друга, под дружный гогот всей компании.
Только один человек не принимал участия в разговоре, он задумчиво сидел у мутного от грязи окна. Людвику показалось, что он видел его раньше, но никак не мог вспомнить где. Он наверняка работал на их заводе, только, видно, в другом цехе. Парень неотрывно глядел на проносящиеся мимо лесистые холмы и бесконечные ноля. Он был бледен, густые волосы гладко причесаны на прямой пробор, за темными ресницами блестели глаза, острый подбородок зарос черной щетиной. На удивление широкий приплюснутый нос на продолговатом лице не вязался со всем его строгим обликом и портил первое впечатление. Он, несомненно, был тут самым старшим, наверно лет тридцати, а может, и больше.
Держался он спокойно и лишь изредка посмеивался, да и то словно вынужденно, чтобы соседи по купе не подумали, что он задается, хотя явно не прислушивался к их болтовне. Он был погружен в свои размышления. Время от времени он молча кивал, будто соглашаясь, а потом снова отворачивался к окну и смотрел на низенькие убогие домишки вдоль железной дороги.
Поезд затормозил и остановился у станции.
В это время кто-то рассказывал старый, бородатый анекдот о неверной жене. Все дружно гоготали.
Однако парень у окна опять не смеялся.
— Эда, может, ты знаешь анекдот получше? — обиделся рассказчик.
— Да нет, — после небольшой паузы ответил тот. — Слушать-то я их слушаю, но быстро забываю. Хотя вот такой случай… Всякое может с человеком произойти… — Слабая улыбка промелькнула у него на лице. Но что он хотел рассказать, так и осталось неизвестно.
Здесь все, по-видимому, давно знали Эду. Людвику же он показался странным, непонятным и своей спокойной сдержанностью и удивительной задумчивостью словно притягивал его.
— Даже не побрился перед дорогой! — донимали его.
— Не успел. До утра прощался, — искренне признался он, будто в этом не было ничего особенного. — А потом не хватило времени.
— Что ж, всю ночь в трактире просидел? Или в баре? Или у какой-нибудь дамочки?
— У невесты.
— Никак жениться собрался?
— Почему бы и нет? Пора уж. Только сначала надо кое-какие дела привести в порядок…
Снова заговорили о Праге, кто где намерен жить, у кого в столице есть знакомые или родственники. Некоторые уже заранее подумали о жилье и договорились о частной квартире.
Когда спросили Эду, где собирается жить, он равнодушно бросил:
— Там видно будет.
— У меня тоже жилья нет! — вдруг испугался Людвик. — Я думал, в Праге нам что-нибудь предложат…
— Тебе предложат выспаться в тюрьме, — заметил кто-то, и все опять рассмеялись.
— Что-нибудь придумаем, — успокоил Людвика Эда. — Не ломай себе голову заранее.
Людвик с благодарностью посмотрел на него и улыбнулся, прочтя в его живых глазах полное понимание.
И тут сразу вспомнил, где видел Эду. Он работал в соседнем инструментальном цехе и иногда заходил к ним, и тогда все приветствовали его как старого знакомого. Одни восхищались им, другие завидовали — когда-то он успешно выступал за их клуб. И хотя боксерские перчатки давно уже висели на гвоздике, до сих пор Эда еще грелся в лучах своей былой славы.
— Это тот, что дрался с Некольным, — говорили парни, провожая его взглядом.
О чемпионе Эде Гоудеке многие вспоминали с восторгом, рассказывали удивительные истории о том, как мужественно и с каким мастерством дрался Эда с очень сильными и опытными боксерами и побеждал.
А завистники — и такие были — наговаривали на него: мол, из-за этого бокса у Эды что-то перевернулось в мозгах, иногда у него ум за разум заходит и тогда он говорит бог весть что и ведет себя как лунатик. Правда это или досужие вымыслы, Людвик не знал.
Поезд замедлил ход, подползая к перрону закопченного Смиховского вокзала, стоящего в окружении одноэтажных серых домишек. В грязных окнах отражалось полуденное солнце.
Когда они уезжали из дому, никто не провожал их, а здесь, в Праге, никто не встречал. Они стояли на перроне со своим нехитрым багажом и гадали, что делать дальше.
Вокруг что-то громыхало, сновали люди, спешили куда-то, кричали, издали доносились звонки трамваев, гудки машин — город сразу затягивал их в свой водоворот.
Они вышли на многолюдную улицу, держась поближе друг к другу, чтобы не потеряться в сплошном человеческом потоке, совсем как парни, приехавшие из глухой деревни в город попытать счастья.
Впереди всех, конечно, шагал Эда, он хорошо знал Смиховский район и объяснял попутчикам, на какой трамвай сесть и до какой остановки доехать. Хуже всех чувствовал себя Людвик. Он в Праге был всего один раз, и эту поездку помнил смутно. Теперь же огромный город его подавлял, казалось, что он вряд ли когда-нибудь освоится на этих улицах, и он беспокойно оглядывался на попутчиков, боясь потеряться. Но те с самых первых минут в городе были внимательны к нему, хотя у каждого хватало своих забот, и Людвик был благодарен им.
Перво-наперво все вместе зашли в отдел кадров Смиховского завода. Служащий встретил их равнодушно, даже не ответил на приветствие, лишь забрал бумаги о переводе на новую работу и мимоходом заметил, что сегодня они свободны, а завтра в восемь утра им следует явиться, к месту работы — на Водичкову улицу. На этом все и кончилось.
И вот они снова стояли на улице и гадали, что же делать дальше. Тесной группкой двинулись к трамвайной остановке и уже оттуда разбрелись кто куда.
Людвик как клещ вцепился в Эду — один он потерялся бы в лабиринте улиц и бесконечном людском потоке. Поэтому вслед за Эдой он влез и в трамвай.
Эда был невозмутим и словно не замечал шедшего за ним по пятам Людвика. Пока ехали в трамвае, Эда не проронил ни слова и даже на вопросы не отвечал. И лишь когда вагон, громыхая, катил по мосту над величаво несущей свои воды Влтавой, он обернулся и сказал:
— Посмотри, вот это — Национальный театр.
Сказал спокойно, ровным голосом, как кондуктор, объявляющий очередную остановку. Зато Людвик был в восторге, он вертел головой туда-сюда, боясь что-то пропустить и радуясь встрече с известными улицами и знаменитыми памятниками, о которых много слышал или читал.
Они вышли на Вацлавской площади. Эда крепко ухватил Людвика за локоть. На площади творилось что-то невообразимое: потоки людей растекались во все стороны, посередине мчались дзинькающие трамваи, по мощенной камнем мостовой тянулся беспрерывный поток машин, а между ними сновали пешеходы. Казалось, всюду царил хаос, и это вызывало усталость и уныние.
Широко открытыми глазами смотрел Людвик на это столпотворение, с жадным любопытством прочитывал вывески на магазинах, гостиницах, ресторанах, кинотеатрах, кафе и дансингах. Сердце его замирало при мысли, что отныне это и его мир, здесь он будет жить, работать, а по вечерам отдыхать, прогуливаться, может один, может и с какой-нибудь хорошенькой девушкой, и строить планы на следующий вечер. Именно с этими вечерами были связаны его мечты и самые смелые надежды: не раз он представлял себе, как неожиданно появится в светских салонах и очарует всех, или видел себя этаким интеллектуалом, который все свободное время проводит в театрах и в кино, бродит по музеям и выставочным залам столицы.
Но пока Людвик и Эда стояли со своими скромными пожитками на пятачке для пешеходов посреди Вацлавской площади и не знали, где будут спать эту ночь.
— Не плохо бы поесть, — вспомнил Людвик, он завтракал рано утром, еще дома, и теперь чувствовал, что у него подвело от голода живот.
Эда кивнул и ринулся между проезжающими машинами; Людвик поспешил за ним. Добравшись до угла Водичковой улицы, Эда так же стремительно стал пробираться сквозь толпу. Людвик едва поспевал за ним, в широкой арке его оттеснили, и он догнал Эду лишь у ларька, где продавали горячие картофельные оладьи. Эда уже держал несколько штук в промасленной бумаге и с жадностью уплетал их. Людвик тоже купил две оладьи и, став рядом с Эдой, набросился на них. В ногах у обоих стояли сумки, вокруг сновали люди, а из пассажа напротив неслась песня:
Дарина, поздно, не зови! Нам не вернуть былой любви…[9]От оладий у них залоснились подбородки, они вытирали лица тыльной стороной ладони и дружелюбно улыбались друг другу.
— Давай еще по одной! — Эда вернулся к ларьку и принес оладьи себе и Людвику.
Потом они зашли в пивную, взяли по кружке пива. Людвик был доволен; вокруг шумела беспокойная Прага и угощала их оладьями и пивом, сулила всевозможные развлечения.
— Почему у тебя так мало вещей? — спросил Людвик, когда они снова вышли на улицу.
Действительно, в небольшой сумке Эды могли поместиться лишь несколько рубашек, пара белья, свитер, тапочки и бритвенный прибор.
— А зачем? — удивился тот. — Мне они ни к чему. По воскресеньям я буду ездить домой.
— Для этого надо много денег, — заметил Людвик. — Билет на поезд стоит дорого…
И опять они влились в людской поток. Временами Людвик терял Эду из виду, но тот останавливался и ждал его. Вот и теперь он стоял возле какого-то дома и читал таблички у входа, недовольно качая головой.
— Хоть бы бумажку повесили!
— Какую бумажку? — не понял Людвик.
— Вот здесь, в этом здании, мы будем работать. Третий подъезд.
Они вошли под арку, отыскали третий подъезд, темный, без освещения. Лифт не работал, и нигде никакого указателя, никакого объявления.
— Ладно, — проговорил Эда. — Завтра разберемся. А теперь пошли искать жилье.
— Здесь? Да ведь тут, в центре, одни учреждения… — удивился Людвик. — Может, лучше на окраине? Едва ли здесь мы что-нибудь найдем.
Но Эда уже торопливо шагал вперед и на ходу через плечо говорил:
— Главное — установить, где твой опорный пункт. Наш опорный пункт здесь, значит, и жилье надо подыскать где-то поблизости.
Людвик не возражал, хотя решение Эды казалось ему поспешным и непродуманным, он не верил в то, что их поиски увенчаются успехом. А времени оставалось мало — смеркалось, кое-где в витринах уже зажигали свет, вокруг варьете Драгоньовского разливался ярко-голубой неон.
Путь им преградили строительные леса — ремонтировался фасад дома. Надо было переходить на другую сторону улицы.
— Подожди! — вдруг остановился Эда.
На двери старого многоквартирного дома висело объявление, и оба взволнованно прочитали вслух:
— Сдается комната на четвертом этаже. Пани Шинделаржова.
— Вот видишь! — воскликнул Эда. — Ну что, прав я или нет?
— Если и окажется что-то подходящее, то наверняка для одного… — засомневался Людвик.
Но Эда уже взбегал по крутой лестнице.
— Может, Она возьмет обоих. Потеснимся.
Пани Шинделаржова оказалась седой, сморщенной, худенькой старушкой в очках без оправы, в грязном фартуке, руки у нее были в муке — видно, готовила ужин.
— У меня свободна одна комната, а вас двое!
— Может, у вас найдется еще кровать? — с надеждой спросил Эда.
Хозяйка пригласила их посмотреть комнату, на ходу описывая ее достоинства и недостатки.
— Комната проходная, иногда квартиранты, живущие в смежных комнатах, возвращаются поздно ночью и вынуждены беспокоить своих соседей…. — говорила она не переставая, а между тем умудрилась узнать, кто они, откуда, чем занимаются, но когда услышала, что служащие и будут работать в доме напротив, больше ни о чем не стала спрашивать.
Комната оказалась действительно неудобной. Единственное окно выходило в глубокий колодец двора, возле окна стояла кровать, рядом старый шкаф, посередине большой обеденный стол. И три двери: одна в коридор, еще две — в комнаты других жильцов.
— Здесь живет пан инженер Дашек. Порядочный и очень симпатичный человек. Каждое воскресенье ездит домой в Остраву, — тараторила хозяйка. — А тут пан Пенка, банковский служащий, весьма любезный человек… Там, у окна, можно поставить раскладушку, — неожиданно добавила она.
Не дожидаясь приглашения, Эда уселся за стол и вытянул свои длинные ноги.
— Меня это устраивает, — сказал он. — Ваша цена?
— Если вы станете жить вдвоем, то будет дешевле, — сладко улыбнулась старуха. — Жилье и завтрак — пятьдесят крон в неделю с каждого. Сами понимаете, квартира в центре, я плачу за нее большие деньги.
— Согласен, — не раздумывая заявил Эда, хотя цена была довольна высока.
Когда поставили еще и раскладушку, задвинув огромный стол, то пройти по комнате стало почти невозможно.
— Если нам тут не понравится, подыщем что-нибудь получше, — рассудительно заметил Эда, едва хозяйка ушла и они остались одни.
Главное — у них была теперь крыша над головой. Утром достаточно перейти улицу, и они на работе. Когда улеглись и погасили свет, Людвик сказал:
— Если б не ты, ночевать бы мне сегодня на вокзале или на скамейке в парке!
Но Эда молча повернулся на другой бок и сразу же заснул.
Ночью Людвик проснулся оттого, что кто-то громко хлопнул дверью и стал на ощупь пробираться в соседнюю комнату. Второй жилец пришел еще позднее и даже включил свет, но, заметив, что в проходной комнате спят, тут же погасил. В темноте он не раз натыкался на стол, разыскивая свою дверь.
За темным окном еще долго шумела Прага.
2
Над городом нависли тучи, шел мелкий, беспрестанный дождь. Очертания домов стали мягкими, расплывчатыми, краски потускнели, словно размытые дождевыми потоками. Вся улица колыхалась под черными зонтами, пешеходы двигались медленнее, чем всегда, будто сбились с ритма. Машины и трамваи веером разбрызгивали лужи.
Эда неосторожно шел по краю тротуара, и промчавшийся мимо пикап обдал его грязью. Особенно пострадали почти новые брюки. Эда выругался и попытался стереть грязь носовым платком, но пятна расползлись и стали еще заметнее. Таким он и явился к новому месту работы..
Они поднимались по лестнице все выше и выше, но не видели ни одной таблички, ни одного объявления. Наконец в мансарде, в большой пустой комнате, они нашли двоих служащих, один представился как начальник будущего проектного бюро.
— Мы, собственно, существуем со вчерашнего дня, — объяснил он. — Сегодня сюда завезут столы и чертежные доски, а с завтрашнего дня начнется работа. Вот еще должны подойти люди…
Затем стал искать в бумагах их имена, похваливая, что, невзирая на плохую погоду, они пришли первыми, и наконец кивнул Людвику:
— Относительно вас все в порядке. А что касается пана Гоудека, то он не наш. Тут, вероятно, какая-то замена.
Эда насупился. Вид у него был воинственный, голова чуть опущена, на лбу две упрямые складки, в глазах зловещий блеск — ни дать ни взять упрямый баран, готовый броситься на обидчика. И брюки грязные — как у задиры, побывавшего в переделке.
— Вы окончили промышленное училище? — спросил начальник Эду.
— Да, — нехотя пробормотал тот. — Ну и что?
— Ваш отдел на Харватовой улице, — довольно спокойно пояснил начальник. — Зайдите туда, это отсюда недалеко. — И подробно объяснил, как туда добраться.
Эда слушал рассеянно, с тем же грозным видом, только теперь он побледнел, было заметно, как подергивается от волнения нижняя губа.
Тут он сорвался. Он набросился на начальника, хотя тот был ни в чем не виноват и держался вполне корректно.
— Чего вы меня выпроваживаете? — кричал Эда. — Зачем выдумываете? Мне сказали, что я буду работать тут, а теперь, оказывается, нет! Ничего не скажешь — психушка! Помещение не готово, и вы даже не знаете, кто где будет работать. Гоняете людей, как вам бог на душу положит. Лучше бы я сидел дома и никуда не ездил. И все было бы в порядке!
Голос Эды срывался до визга. Подошедшие сотрудники, пораженные, застыли в дверях, слушая крик, эхом разносившийся в пустом помещении.
Начальник, как ни странно, не обиделся, только в недоумении смотрел на Эду, будто старался определить, можно ли с ним вообще разговаривать.
— Не знаете, что это с ним? — обратился он к Людвику. — Ведь каждому ясно, что в комнату больше десяти столов не войдет. Народу здесь и так набьется, что сельди в бочку.
— Не беспокойтесь. Все уладится…
— Ты видел когда-нибудь такое свинство? — не унимался Эда. — Один не знает, что творит другой. Неужели раньше нельзя было договориться между собой?..
Людвик отвел его к окну. Начальника обступили вновь прибывшие. Эда в отчаянии сжал губы и весь дрожал, словно превозмогая накопившуюся злобу.
Они смотрели, как беспрерывный дождь поливает крыши, как тонкими струйками стекает вода по оконному стеклу, как барабанит по жестяным сливам.
Эда остыл так же быстро, как и загорелся. Он горько улыбнулся и сказал:
— Кажется, я переборщил. За себя просто не ручаюсь. Иногда никак не могу сдержаться…
И, не попрощавшись, быстро вышел. Без плаща, без зонтика, в заляпанных грязью брюках.
Время тянулось необыкновенно долго, тоскливо, так бывает всегда, когда нет определенной цели, когда ничто не занимает человека, когда он просто-напросто бьет баклуши. Кроме того, в комнате не было ни одного стула, так что Людвик с самого утра слонялся из угла в угол, перебрасываясь словами с сотрудниками.
Явились уже все, с кем предстояло работать. Многих он знал, они были с одного завода, с двоими познакомился только теперь. Их так же, как и его, откомандировали сюда на работу из Градца Кралова. Собралась довольно пестрая компания, в основном молодые люди, самым старшим было не более тридцати — тридцати пяти лет. Как ни странно, оказалась тут и женщина. Ни красивой, ни привлекательной ее, пожалуй, назвать было нельзя — самая заурядная блондинка с шестимесячной завивкой. Но поскольку она была одна, то от нечего делать мужчины подтрунивали над ней, отпускали всякие шуточки, намекали, что при таком изобилии поклонников она обязательно найдет свое счастье, и предсказывали, что она, несомненно, будет украшением всего проектного бюро.
Людвик обрадовался, когда в полдень наконец-то привезли столы, стулья, чертежные доски, а затем и папки для бумаг; он охотно таскал мебель по крутой лестнице и вместе с другими расставлял ее, был рад, что наконец может хоть чем-то заняться, размять затекшие мышцы.
На улице все еще лил дождь, и мебель в дороге намокла — со столов и с чертежных досок на паркет стекала вода.
Не перестал дождь и к вечеру, когда Людвик возвращался домой. Он зашел в магазин, купил себе кое-что поесть и торопливо зашагал под узкими навесами крыш, чтобы не намокнуть. Скорее бы повидать Эду, узнать, как он устроился, как прошел его первый рабочий день.
Но их холостяцкое жилье было пусто. У окна рядом стояли две застланные кровати, и к ним словно прилепился огромный обеденный стол. По всему было видно, что Эда еще не приходил. Да и вся квартира словно вымерла, словно в ней вообще никто не жил. И лишь дождь нудно постукивал в окно да шумел в глубине каменного двора-колодца.
Людвик развернул свой сверток и быстро съел все, что купил к ужину. Но что делать дальше? Вдруг странная тишина нарушилась. Кто-то отпер дверь, стряхнул капли дождя с зонтика, быстрыми легкими шагами прошел мимо их комнаты, и опять воцарилась тишина. Оставаться в тихой, мрачной комнате не хотелось, и он, надев свой поношенный плащ, вышел из дому.
Вечерняя улица, поливаемая дождем, показалась ему волшебно красивой. Светящиеся витрины магазинов, разноцветная реклама, свет фонарей словно растворялись в сыром воздухе и застывали яркими отблесками на унылых стенах домов. И эту красоту дополняли желтые фары машин, освещенные вагоны трамваев с пестро одетыми пассажирами, яркие афиши кинотеатров.
Людвик брел по улице, словно очарованный странник. Он не мог налюбоваться чарующей игрой огней в косых струях дождя.
Он зашел в пивную, где вчера они были с Эдой, взял кружку пива и прямо у стойки с жадностью выпил. Народу было мало, лишь несколько оборванных пьяниц, не внушающих особого доверия. И впрямь, один из них подошел к Людвику и сказал нахально:
— Дружище, дай нам на пиво.
Не проронив ни слова, Людвик поставил на залитую пивом стойку пустую кружку и вышел.
Напротив, в пассаже, его внимание привлекла группа людей у кинотеатра. Он тоже купил билет и прошел в зрительный зал. Демонстрировалась не очень-то веселая комедия, и он то засыпал, то просыпался. Словом, рассказать, о чем был фильм, он, пожалуй, не сумел бы.
Когда он вышел из кино, дождь уже перестал, но было сыро и прохладно, по-прежнему горела разноцветная реклама, ослепительно сияли витрины магазинов, отгонявшие ночную тьму, — весь этот светящийся калейдоскоп удерживал на расстоянии мрак ночи, не допуская, чтобы он завладел всем.
Напрасно Людвик надеялся, что Эда уже дома. Квартира пребывала в состоянии абсолютного покоя. Дождь кончился, и с улицы уже не доносилось никакого шума. Тишина, непривычная, напряженная, угнетала его.
Людвик пробовал читать, но глаза слипались, его клонило ко сну.
«Если Эда и дальше будет вести себя так, ничего хорошего из нашей совместной жизни не получится», — подумал он, ложась в кровать. И тут же сон сморил его.
Ночью Людвик не раз просыпался от шума — кто-то из квартирантов пробирался через их комнату в свою. Он на мгновение пробуждался и снова крепко засыпал.
Когда утром Людвик, сонно щурясь, оглядел комнату, погруженную в бледный полумрак начинающегося дня, то увидел за столом Эду — он собирался пришить пуговицу к пиджаку. Эда тщетно пытался продеть нить в игольное ушко. От напряжения пот выступил у него на лбу, руки слегка дрожали, но непослушные пальцы никак не могли справиться с иголкой и ниткой. Эда сердился и потихоньку ругался.
— Дай-ка я, — предложил Людвик, встал с кровати и тотчас продел нитку в иголку.
Эда стал пришивать пуговицу, но как-то неумело и неуклюже, тут требовались терпение и выдержка, а ему это было несвойственно.
Хозяйка принесла завтрак — горячий чай и хлеб с салом, вежливо улыбнулась и тут же ушла, словно у нее не было ни минуты времени, чтобы поболтать с ними.
Вдруг за спиной у Эды тихонько скрипнула дверь, и появился, невысокий полный мужчина, светловолосый, лохматый, с полотенцем на шее, в расстегнутой пижаме, открывавшей могучий живот, нести который ему явно было нелегко.
— Простите, — извинился он. — Я не знал… Так неудобно… но я вынужден нарушить ваше спокойствие. Эта квартира… — Тут он спохватился и представился: — Моя фамилия Дашек. Инженер Дашек. Я ваш сосед.
Он подал каждому мягкую, как губка, руку и, улыбаясь, проговорил:
— Теперь мы будем видеться ежедневно.
И проследовал в тот конец коридора, где находилась ванная комната. Дверь с шумом закрылась за ним.
— Живой человечек на французской рекламе «Мишелин», — пренебрежительно проронил Эда.
— В каком часу ты вчера вернулся? — спросил Людвик, ему уже давно хотелось это узнать.
Тот, пожав плечами, пробормотал:
— Не знаю.
— Сегодня придешь опять поздно?
— Что я заранее могу тебе сказать? — ответил Эда вопросом на вопрос и осторожно отхлебнул горячего чаю. — Если хочешь, пойдем куда-нибудь вместе.
Людвик охотно согласился. И они договорились, что сразу же после работы встретятся дома, а потом отправятся в город.
Людвик спросил, как было на работе, Эда сморщил нос:
— Нормально. Но нас там как собак нерезаных.
Сосед возвратился из ванной, аккуратно причесанный, розовый после бритья, его толстые щеки блестели.
— Хорошо бы установить расписание, — предложил он. — Нас теперь так много, что не будет хватать времени, чтобы привести себя в порядок. Я был в ванной не более пяти минут, а кто-то уже постучался…
— Это не мы, — сказал Людвик.
Попозже Людвик тоже пошел в ванную, но она оказалась занятой. Он стоял у двери и ждал. А за дверью шумела вода: кто-то мылся. Это была определенно не хозяйка. Возможно, пан Пенка, но тот должен был бы пройти через их комнату. В конце коридора была еще одна дверь, неплотно закрытая, таинственная. По всей вероятности, там жил еще кто-то, о ком Людвик ничего не знал.
Вода перестала течь, но никто не выходил. Стучать Людвик не решался. Тем не менее он уже нервничал, потому что боялся опоздать на работу.
За дверью раздалось пение, сиплый женский голос прочувствованно выводил:
Молодая, вдовая, Вышла б замуж снова я, Лишь бы муж не старый был Да как следует любил…«Конечно, это не пани Шинделаржова, — подумал Людвик. — Кто же это поет?»
Тут дверь отворилась, и он увидел миловидную молодую женщину в длинном до пят цветастом халате, темноволосую, с большими искрящимися глазами, густо нарумяненную, мелкими шажками она засеменила к приоткрытой двери.
— Добрый день, — любезно поприветствовал ее Людвик.
Она ответила ему тихим, приглушенным голосом, бросив на него мимолетный взгляд, и скрылась за таинственной дверью. В ванной комнате остался сильный и приятный запах духов и косметики.
Людвик торопился рассказать Эде о таинственной незнакомке, но тот уже ушел: ему до работы было немного дальше, чем Людвику.
В пивной было полным-полно посетителей, много было и в прилегающем к ней садике, несмотря на то, что после вчерашнего дождя было довольно прохладно. Они с трудом нашли свободное место. Это Эда надумал пойти в пивную «У Флеков». По дороге они купили кое-что перекусить и теперь сидели в конце длинного стола, поедали прямо с разложенного листа бумаги еще теплый мясной рулет и запивали его черным пивом.
— Я никогда здесь не был, — признался Людвик. — Да мне и в голову бы не пришло пойти сюда.
Эда никак не мог утолить жажду: пока Людвик тянул одну кружку пива, Эда выпил уже три. Поскольку он так ничего и не рассказал Людвику о том, что с ним было вчера, а на все вопросы его отвечал молчанием, то вчерашний день Эды так и остался для Людвика тайной.
Говорили они мало, в основном рассказывал Людвик: о службе, о том, что сегодня они уже завелись на полную катушку, но Эду это мало интересовало. Потом Людвик вспомнил о незнакомке, с которой столкнулся утром у ванной, но и это не произвело на Эду ни малейшего впечатления. Сидели они рядом, а мыслями были далеко друг от друга и не могли найти общей темы. Эда выглядел каким-то странным, или, может быть, после вчерашнего ему ни о чем не хотелось говорить. И вообще с ним трудно было найти общий язык, ко всему он относился безучастно, о себе говорить не любил. Человеку, мало с ним знакомому, было нелегко его понять. Возможно, за его молчаливостью скрывалась осторожность, или, может, он просто ждал удобного случая, нужного момента, который взволновал бы его сердце, и тогда бы хлынул поток красноречия?
— Говорят, ты боксировал с Некольным? — попытался Людвик снова завязать разговор, и эта тема показалась ему самой подходящей.
Эда мрачно махнул рукой.
— Что было, то прошло. Теперь уж об этом никто не помнит.
— Я слышал, это были такие поединки, что даже самые спокойные зрители вскакивали со своих мест…
— Об этом ты спроси тех, кто там был, — отрезал Эда. — Я помню только то, что меня тогда здорово обсчитали…
— Но в конечном итоге у вас была ничья?
— Это специально так подстроили. Франта Некольный уже тогда был на удочке у профессионалов. Он не мог позволить себе проиграть…
Между тем их соседи по столу входили в азарт. Официант подносил им все новые и новые кружки пива. Кружки занимали всю середину стола и быстро опустошались.
Возможно, Эда в конце концов и разговорился бы, рассказал бы что-нибудь из своей жизни, но тут от шумной компании отделился парень и подошел вплотную к Эде.
— Я тебя откуда-то знаю. Случайно, не сидели мы вместе в тюрьме?
Его приятели вдруг загоготали, рассмеялись и те, кто сидел неподалеку. Но Эда не шелохнулся, лишь окинул его взглядом и спокойно сказал:
— Вы ошиблись. Вас я никогда в жизни не видел и в тюрьме, к счастью, не сидел.
— Чего не было, то может быть, — расходился парень. — Нынче никуда так легко не попадешь, как в тюрьму. Причем не обязательно знать, как попал и за что…
— Ну что ж, пора платить, — обратился Эда к Людвику и допил пиво, не обращая ни малейшего внимания на парня, стоявшего рядом.
Дело пахло дракой. Достаточно было Эде сказать одно неосторожное слово, сверкнула бы искра и вспыхнул огонь, тем более что дружков у парня было хоть отбавляй. Или, скажем, Эда мог бы встать и отстранить его рукой. Кто знает, чем бы это кончилось. К счастью, все обошлось, Эда держался так, будто ничего не замечал, ничего не слышал и не имел ни малейшего желания драться.
Между тем официант принес еще поднос пива. Парень, поняв, что острый, напряженный момент миновал, спокойно сел на свое место, взял две кружки с пенящимся пивом и в знак примирения предложил:
— Выпьете с нами? Здо́рово, когда люди вот так встречаются. Ведь мы же чехи, а?!
Людвик подумал, что Эда наверняка откажется, но Эда, как ни странно, поднялся, охотно принял кружку и чокнулся со всеми. Раздался звон кружек. Людвику ничего не оставалось, как присоединиться.
Говорили все сразу, кто о чем, — так обычно бывает, когда за одним столом собрались подвыпившие люди, пиво всем ударило в голову. И Эда тоже хоть и изредка, но встревал в разговор. А у Людвика слипались глаза, его клонило в сон.
Парни затянули песню. Пели вразнобой, заунывно, безрадостно, словно с тоски; запевал один, а остальные подтягивали. Песня, жалобная и безотрадная, словно сливалась с холодным сумраком наступающего вечера и с черным пивом в больших кружках.
Вот куплю я коня вороного И служить во солдаты пойду…Гости постепенно покидали пивную «У Флеков», столы пустели, в саду становилось мрачно, холодно, неуютно. Официант просил, чтобы гости поскорее расплачивались, а тем, кто не хотел уходить, предлагал перейти в пивной зал.
Ничего не оставалось, как перейти в освещенный пивной зап. Но там было битком набито народу — накурено, шумно.
— Я пошел домой, — сказал Людвик. Не хотелось больше ни пить, ни сидеть в переполненной пивной.
— А меня домой не тянет, что там делать? — проворчал Эда.
— Как хочешь, — решительно сказал Людвик. — Оставайся, раз тебе тут нравится…
— Нет уж, вместе пришли, вместе и уйдем, — неожиданно согласился Эда.
И они направились домой по полутемным тихим улочкам, слабо освещенным желтым светом убогих витрин и газовых фонарей.
— Что это были за парни? — поинтересовался Людвик.
— Откуда я знаю. Никогда в жизни я их не видел. В пивных люди легко знакомятся. Когда выпьешь — море по колено.
Людвику показалось, что сейчас Эда словоохотливее, чем раньше, поэтому он снова решил попробовать выведать у него хоть что-нибудь.
— Почему ты не хочешь ничего рассказать мне о Некольном? Да и о себе тоже…
— Ты ведь тоже о себе не рассказываешь, — возразил Эда. — Зачем кому-то забивать голову…
— У меня в жизни ничего особенного не было, — не отступал Людвик. — Не то что у тебя.
Они шли по узкому тротуару, совсем рядом, задевая один другого плечом. Навстречу им шли прохожие, на углу стояла ярко накрашенная девушка, поджидающая клиента.
— Это как вот с такими, — задумчиво кивнул на нее Эда. — Они тоже набираются опыта, живут своей собственной жизнью, а рассказать потом нечего.
— Ну, иные любят вспоминать…
— Значит, я не из тех.
И лишь когда они вышли на освещенный перекресток, Эда вдруг разговорился, возможно потому, что Людвик больше не приставал к нему.
— Мы, собственно, ровесники с Некольным. Франта, пожалуй, на год старше, — начал Эда, опустив глаза. — Тогда он был еще любителем. С тех пор прошло больше десяти лет. Я был в форме. Мне не было равных. Я выступал за наш клуб, а Франта — за Боксерский клуб на Смихове. Может быть, ты видел его на фотографиях. Франта на всех рингах мира в красной майке с белыми буквами «БКС» на груди…
Они вышли на освещенную Водичкову улицу, в вечерние часы она была многолюдной и шумной.
— Должна была состояться встреча наших клубов, ну и наш поединок с Франтой, мы оба выступали во втором полусреднем весе. Франту тогда прозвали «чешская молотилка», мурашки по коже пробегали у всех, кто знал, с какой быстротой колошматят противника его кулаки…
Они остановились у дома в лесах, где на четвертом этаже снимали комнату.
— Если бы я посвятил себя боксу, как Франта, то не снимал бы теперь койку в этом доме, — произнес Эда как-то мрачно. Казалось, желание продолжать задушевную беседу у него пропало.
— Но все-таки что же случилось? — не унимался Людвик. — Ведь встреча закончилась вничью?
— Выигрывал по всем параметрам я, — сказал Эда, когда они уже поднимались по лестнице к себе в квартиру. — Но заинтересованные люди сделали свое дело — и судьи в конце концов подстроили ничью. Фифти-фифти. Весь зал аж взвыл — рев, свист, шум…
И он опять замолк, теперь уж окончательно, возможно, потому, что сказал, с его точки зрения, больше, чем нужно, а может быть, не хотел вдаваться в подробности. Людвику ясно было одно: если бы Эда не был столь замкнутым и скрытным, он о многом мог бы поведать. А тот, кто делится с кем-либо самым сокровенным, облегчает душу и испытывает приятное чувство общения с тем, кто с интересом внимает ему.
Как Людвику хотелось бы, чтобы он понял это!
У инженера Дашека в тот вечер было необыкновенно шумно.
Когда Людвик и Эда вошли в комнату и включили свет, им бросилось в глаза, что у стола нет стульев. Их, видно, забрал сосед для своих гостей. Кроме того, из-за закрытой двери доносились довольно громкие голоса, щелканье карт, возгласы, смех.
Было уже поздно, и Людвик сразу же стал готовиться ко сну. Эда немного помедлил, но потом тоже постелил себе.
— Не знаю, удастся ли заснуть при таком шуме, — проговорил Эда. — Если такое будет повторяться, придется подыскать другую квартиру.
Дверь распахнулась, и из прокуренной комнаты, как из густого тумана, к ним вывалился молодой плешивый мужчина в полосатом костюме и, даже не извинившись, пробежал к двери, вероятно торопясь в туалет. Но вдруг замер на полушаге и воскликнул:
— Привет, Эда! Я не знал, что ты тут живешь.
— Это мой коллега Ремеш. — Эда представил его Людвику. — Работает вместе со мной на Харватовой улице. Он тоже наш, из инструментального цеха.
— Не желаешь с нами сгонять партийку? — предложил Ремеш Эде. — Нам не хватает одного. Ты играешь в дурака?
Эда задумался. Ему, видно, очень хотелось спать. Он и в прошлую ночь не выспался.
— Подумай, — сказал Ремеш, — я сейчас вернусь.
Было слышно, как в соседней комнате открыли окно, чтобы проветрить помещение. Игроки ждали, когда подойдет партнер.
— Пожалуй, попробую, может, в картах повезет, — спокойно проговорил Эда и предложил Людвику: — Пошли вместе. Посмотришь, а то и сам сыграешь.
Итак, вместе с Ремешем они пошли к Дашеку. Тот приветствовал их с подчеркнутой любезностью и тотчас же предложил им по рюмочке сливовицы.
— За встречу. — Он моментально опрокинул рюмку. — Вкусна, а? Своя, домашняя, шестидесятиградусная…
Комната была очень узкой, окно выходило во двор. Два кожаных кресла, круглый столик, торшер, освещавший только столик; в полутемной части комнаты — диван, служивший кроватью, старый шкаф и низко подвешенная полочка с книгами и журналами.
Дашек и Ремеш удобно развалились в креслах, третий игрок, темноволосый, остриженный под ежика мужчина с низким морщинистым лбом, даже не потрудившийся представиться, сидел на стуле, взятом из проходной комнаты. Другие стулья служили им в качестве подставок для сигарет, пепельниц, рюмок, тарелок с колбасой и огурцами, так как на столе все это не помещалось, к тому же на нем играли в карты. По всему было видно, что они собираются тут не впервые и что каждая вещь у них уже имеет свое определенное место.
Эда сел, достал из кармана горстку монет, положил на кон, и игра началась. Вначале ему не везло. Едва сдадут карты, как он, заглянув в свои, сразу же откладывал их в сторону и говорил, что ему нечем играть. Тогда он, как и Людвик, сидел и смотрел. Но потом вдруг воспрянул духом, потому что дело пошло на лад. Ясно было: играть он умеет. Но и остальные партнеры были опытными игроками, они играли азартно, сосредоточенно. И тут уж игра пошла вовсю — кто кого…
Людвик не разбирался во всех тонкостях игры и судил о ходе ее только но тому, какой у кого был выигрыш.
— Не желаешь сразиться с нами? — спросил Эда у заскучавшего Людвика.
Он как раз сдавал карты, и на столе лежало довольно много денег.
Хотя Людвику не очень хотелось играть, он не отказался. Но Эда проиграл, и деньги Людвика разделили между собой остальные картежники.
— Не повезло тебе, — горько усмехнулся Эда.
Эде и дальше не везло. Выигрывал Ремеш. Но счастье картежника преходяще. Оно улыбалось то одному, то другому, не согревая никого радостью полной победы.
Людвик не выдержал и потихоньку вышел из комнаты. Хотя все заметили его исчезновение, и прежде всего Эда, но никто ничего не сказал: они втянулись в игру, их только она и занимала.
Людвик улегся на кровать, но он долго еще слышал приглушенные голоса, хлопанье картами по столу, возгласы. Наконец мглистая вуаль сна прикрыла его. Однако сон был беспокойным, тревожным: довольно часто открывалась то одна, то другая дверь, то у кого-либо под воздействием выпитой сливовицы прорезался голос. Любой, даже слабый звук гулко отдавался в ночной тишине.
Утром Людвик и Эда сидели за столом и завтракали — пили горячий чай и ели хлеб с салом. Эда осунулся, лицо серое, уставшее, глаза сонные. Еще бы, он уже вторую ночь недосыпал.
— Ну как, выиграл? — поинтересовался Людвик.
— Нет, — пробормотал он. — Всякое было, и выигрывал, и проигрывал. В общем, фифти-фифти. Но я должен был выиграть…
— Стоило из-за этого не спать целую ночь?
— Не стоило. Только разве можно было все предвидеть заранее?
3
Человек, приехавший в большой город из провинции, волей-неволей оказывается песчинкой в пустыне или каплей в безбрежном океане. И если бы даже он изо всех сил противился, все равно вынужден был бы подчиниться иным порядкам, нежели те, к которым привык, другим правилам игры, нежели те, какие сам себе представлял. Не легко привыкать ему к булыжной мостовой, к воздуху, пропитанному тяжелыми испарениями, к толпам людей, снующих вокруг него и преграждающих путь. Человек задыхается, мучается, тоскует о вольных просторах, о лесной тишине, о спокойствии вдали от шумной толпы. Но город безжалостен, бесчувствен, он заставляет человека приспосабливаться к нему, подчиняться его воле.
Людвик был счастлив, когда в свободные минуты бесцельно бродил по улицам, глазел на витрины без намерения что-либо купить, стоял перед рекламными плакатами и фотографиями у кинотеатров или просто смотрел на пеструю толпу. В то же время город пугал его тем, что обезличивал человека и пренебрегал им. С этим ему не раз пришлось столкнуться, и Людвик начинал понимать, что скрывается за блестящей показной внешностью города, и тогда в душу к нему закрадывался страх.
В воскресенье все квартиранты разъехались по домам и Людвик остался один-одинешенек. Тогда и пришла ему в голову мысль посетить своего дальнего родственника, двоюродного дядю, о котором много слышал, но которого почти не знал. Он видел его несколько раз, когда тот случайно появлялся у них дома. Дядя держал себя как вельможа, был красиво одет, непременно в белой рубашке с галстуком, завязанным, как на картинке, и весь благоухал. Любил похвастаться, что зарабатывает уйму денег, что все может купить и что собирается построить блок современных гаражей, которые будет сдавать внаем, но это, правда, тогда, когда сам разбогатеет.
— Хвастается, а у самого голая задница, — ехидно замечал дедушка и посмеивался в усы. — На словах города строит, а на деле ничего не стоит.
Людвик и не стал бы искать дядю, но перед отъездом в Прагу мама попросила его, чтобы он обязательно навестил его: он бы что-нибудь ему посоветовал, потому что дядя — человек в Праге известный, он все знает и всюду как дома, у него есть влиятельные знакомые и он может Людвику во многом помочь.
Дядя жил в Голешовицком районе, в ветхом многоквартирном доме с обвалившейся штукатуркой; вход в дом был со двора, маленького, неуютного, где на веревках болталось белье и стояла вездесущая перекладина для выбивания ковров и одежды. По старым, стертым ступенькам Людвик поднялся на третий этаж и там на одной двери обнаружил медную табличку с выгравированной фамилией — «Властимил Лишка».
— Милы нет дома, — сказала ему небольшого роста женщина с печальным лицом, одетая во фланелевый синий тренировочный костюм, ссутулившаяся и словно сломанная в пояснице.
Она разговаривала с Людвиком через плечо, потому что возилась у плиты. В кастрюле что-то кипело, и по кухне распространялся соблазнительный запах жареного лука, очевидно, готовился воскресный обед. Около нее крутилось трое маленьких детей, самому старшему было не больше десяти лет, грязные, перепачканные — они, по-видимому, только что пришли со двора. Волосы у всех были светлые, и один удивительно походил на другого, только роста были разного. Поставить бы их рядом — и они как одинаковые ступеньки.
Женщина не предложила Людвику пройти, и он стоял, переминаясь с ноги на ногу, в дверях и ждал, когда она вновь обратит на него внимание.
Он смотрел на измученную женщину и вдруг вспомнил, как однажды дядя, шумный и красноречивый, взял его под руку, отвел в сторону и многообещающе произнес:
— Когда приедешь в Прагу, я познакомлю тебя с такими девочками, какие тебе и во сне не снились…
«Если они такие же, как его несчастная жена, то упаси меня боже», — подумал Людвик.
— Что вы еще хотите? — спросила наконец женщина. — Я же сказала вам, что его нет дома. Он заключает торговые сделки…
— Но ведь сегодня воскресенье, — усомнился Людвик.
— Это неважно. Если вам нужно сообщить ему что-то срочное, то пойдите в кафе «У Тлапака». Там он встречается с заказчиками…
— Я его родственник, — представился Людвик. — Меня зовут Людвик Краль.
Она повернулась к нему, вытерла руки о выцветшие, с пузырями на коленях спортивные брюки, минуту с любопытством смотрела на Людвика, потом подошла ближе и протянула влажную руку.
— Рада познакомиться с вами, — проговорила она приветливо. — Мила рассказывал о вас. Ведь иногда он к вам заезжает. А я, с тремя детьми на шее, никуда не могу отлучиться…
Людвик сказал, что сейчас он живет в Праге, что хотел бы оставить свой адрес на случай, если дядя вдруг окажется поблизости, что мама просила его зайти к ним и передать привет.
Женщина предложила ему сесть, сказала, что будет рада, если он останется с ними пообедать, но надо немного подождать, потому что она только что поставила все на плиту, да это и не удивительно, дел столько, что голова идет кругом. Но Людвик пообещал прийти как-нибудь в следующий раз, когда дядя будет дома, и стал прощаться.
— Дома его трудно застать, он приходит только ночевать, — произнесла она с обидой в голосе. — А иногда и вообще не приходит. Он постоянно в запарке. Ведь вы знаете, как сегодня трудно заниматься торговыми сделками…
Когда он был уже за дверью, она крикнула ему вслед:
— Зайдите в кафе «У Тлапака». Это как раз по пути. Мила будет рад вас видеть.
Дети, во время их разговора державшиеся тихо и с опаской, вдруг оживились, принялись толкаться, началась потасовка, крик, и вдруг кто-то запищал, а затем громко с надрывом расплакался.
Людвик слышал этот плач, спускаясь по стертым ступенькам вниз, во двор.
В кафе «У Тлапака» посетителей было немного, кое-где сидели два-три человека, так что заведение фактически пустовало: все порядочные люди отправились домой, где их ждал воскресный обед.
Людвик несколько раз прошелся по длинному просторному залу, но дядю нигде не заметил. Тогда он набрался смелости и обратился к метрдотелю, который от нечего делать стоял в стороне и с наслаждением курил.
— Да, пан Лишка здесь, — ответил он услужливо. — Он вон там, за перегородкой, в отдельном кабинете…
Они сидели там, скрывшись от посторонних глаз. Дядя был, как всегда, нарядно одет, в белой рубашке с красиво завязанным галстуком, с золотыми запонками в манжетах. А по бокам его — две дамочки: крашеная блондинка, с круглым, будто фарфоровым личиком, и рыжеволосая, с большим носом, глубоко посаженными глазами, худая, почти тощая, с плоской грудью и тонкими оголенными руками.
Дядя удивленно глянул на Людвика, словно вспоминая, откуда он его знает. Весь вид его выражал недовольство: кто это посмел нарушить их уединение.
— Да ведь это Людвик! — воскликнул он наконец. — Откуда ты взялся, мой мальчик?
— Я был у вас дома, и ваша жена мне сказала…
— Да ты садись, — прервал его дядя.
Людвик сел на край диванчика рядом с рыжеволосой женщиной и еще больше смутился.
— Извините, что я помешал… Я не знал, что вы тут не одни, — с трудом выдавил он.
Дядя громко рассмеялся, обе дамочки тоже хихикнули.
— Какое там помешал, — бодро ответил он. — Помешать ты нам не можешь, ведь мы в кафе, а не в постели.
Все снова весело рассмеялись, и дядя представил Людвику своих спутниц.
Крашеную блондинку звали Дашей, а тощенькую соседку Людвика — Машей.
Дядя опять рассмеялся безо всякой причины: видно, с утра он уже так набрался, что, кроме как смехом, ни на что не мог реагировать. Он шаловливо обнял обеих партнерш и прижал к себе. Они приникли к нему, будто курицы, укрывшиеся под крыльями петуха.
— Я теперь живу в Праге, — заговорил Людвик, хотя никто ни о чем его не спрашивал.
— Мы тоже, — рассмеялся дядя. — В Праге нам хорошо, верно? Нигде на свете человек не чувствует такого блаженства, как в Праге.
Соседка Людвика взглянула на свои маленькие часики и глубоким, грудным голосом произнесла:
— Мне пора идти. У меня дневной спектакль.
— Маша танцует в балете, — пояснил Людвику дядя. — Может быть, как-нибудь устроит тебе контрамарку в эту их оперетку, и ты посмотришь, что она вытворяет. Я очень тебе советую пойти полюбоваться, порхает она как пушинка.
Помолчав немного, он добавил:
— А в общем, обе девушки жаждут любви и любовных приключений. Ты парень симпатичный, так что держи ухо востро, иначе обведут тебя вокруг пальца, потеряешь девственность и даже не заметишь, с которой…
— Властик, как тебе не стыдно, — остановила его блондинка, — говоришь такое молодому человеку…
Метрдотель с учтивым поклоном обратился к Людвику, желает ли он что-либо заказать.
— Конечно! — ответил за него дядя. — Принесите ему коньяк… и нам тоже.
— Нет, нет, спасибо, — отказался Людвик. — Я ухожу.
— Выпьешь коньяк, тогда пойдешь, — шумно заспорил дядя. — И я тебе очень советую: проводи Машу до театра. Когда тебе еще выпадет такое счастье — пройтись по улице со звездой…
Официант тут же принес четыре рюмочки коньяку и расставил их перед каждым гостем.
— Нет, я больше не буду пить, — запротестовала Маша. — А то еще свалюсь со сцены.
— Вот это было бы представление! — расхохотался дядя. — Самая лучшая реклама, в следующий раз билеты раскупили бы мигом!
Он поднял рюмку и со всеми чокнулся.
— Без всяких препирательств, ладно? — предложил он.
Людвик с самого утра ничего не ел, он надеялся перекусить по пути в какой-нибудь закусочной, но из этого ничего не вышло. Кроме, того, он еще не привык пить. Сейчас он чувствовал, как алкоголь разливается по телу, согревает.
Его соседка лишь пригубила и поставила рюмку на стол. А Людвик выпил до дна.
— Молодец, — похвалил его дядя. — Это мне нравится. А теперь бегите, бегите, чтобы не опоздать. Мы с Дашенькой еще посидим, у нас есть о чем поговорить.
Людвик поднялся и чуть не упал; к счастью, спутница вовремя поддержала его под локоть. И получилось, что из кафе вышли они вместе, хотя и не стремились к этому.
Они даже не оглянулись, когда за спиной услышали, как дядя грубовато бросил им вслед:
— Подходящая пара. Искали, искали друг друга и наконец нашли…
И хрипло рассмеялся.
В воскресенье после обеда люди в больших городах либо устраиваются отдыхать, либо выходят на прогулку. Поскольку день был солнечный, дома редко кто засиживался, и повсюду — в парках, по набережной — бродил разный люд, родители с детьми, матери катили колясочки, кое-где маячили влюбленные, все выглядело празднично, люди надевали на себя самое лучшее, что было у них, чтобы не ударить лицом в грязь…
В это праздничное людское море влился и Людвик со своей новой знакомой. Она крепко держала его под руку и плыла рядом с ним такой легкой и мягкой походкой, словно не касалась неровной мостовой.
И Людвику от всего этого было легко и приятно, и он ступал весело и беззаботно. Ему казалось, что они плывут по волнам, связанные друг с другом как потерпевшие кораблекрушение или как люди, прожившие всю жизнь в одиночестве и вдруг на короткое время сведенные счастливой судьбой. Кроме того, Людвик гордился тем, что его спутница — настоящая звезда, звезда оперетты, которую, наверное, все встречные прохожие узнают и, миновав, оглядываются и, конечно, завидуют Людвику. Неважно, что она не блистала красотой, что была чересчур маленькая и хрупкая по сравнению с ним, что при ходьбе манерно покачивала бедрами, и нос ее был великоват, но зато как плавно она двигалась, словно в танце, как судорожно вцепилась в его руку, будто искала в нем опору.
Они шли молча, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Самое главное было то, что они вместе и оба чувствовали, как близки друг другу, радовались чудесному воскресному дню и этой прекрасной случайной прогулке.
Они остановились у театра. Дошли, как им показалось, на удивление быстро. Только теперь она отпустила его руку, только теперь их взгляды встретились.
— Это было очень мило с вашей стороны, — сказала она.
— Жаль, что у нас так мало времени, — ответил он.
Ее лицо уже не казалось ему таким некрасивым, как тогда, в кафе. Даже орлиный нос не вызывал в нем протеста, он уже привык к нему, нос показался ему по-своему оригинальным, придающим особое очарование ее маленькому личику.
— Если вы не против, я подожду, пока закончится спектакль, — предложил он.
— Но это будет ночью. Сегодня воскресенье, и у нас два представления.
Он сказал, что придет, придет ночью или в какое угодно время, только чтобы снова увидеть ее.
На прощание она, встав на цыпочки, чмокнула, его в щеку, хотя кругом были люди. И затем своей плавной танцующей походкой направилась по залитому солнцем тротуару и скрылась в дверях театра.
Людвик стоял не шелохнувшись, в голове у него шумело, он чувствовал легкое опьянение, а желудок между тем сводило от голода.
При вечернем освещении люди выглядят иначе, чем при дневном свете, они кажутся похожими, их трудно различить, тени искажают черты лица, выражение, даже внешний облик.
Если бы она не подошла к Людвику сама, он не узнал бы ее в мутном свете уличных фонарей.
Моросил мелкий дождик. У них не было зонтика, и в ожидании трамвая они укрылись в нише дома. Стояли совсем рядом, так что она невольно прижималась к нему. Неожиданная близость придавала ему смелости, и, преодолев нерешительность, он обнял ее за плечи. Она с благодарностью приникла к нему.
Потом они поднялись на площадку переполненного трамвая. Пассажиры подталкивали их друг к другу, так что теперь они стояли как влюбленные. Его волновало то, что он мог ее обнять, вдыхать аромат ее волос и чувствовать малейшие движения ее худенького тела, которое с удивительной естественностью прильнуло к нему. И хотя площадка уже освободилась, они так и стояли, тесно прижавшись, словно были одним телом и не стремились оторваться один от другого.
Дождь усилился. Он поливал их разгоряченные головы, когда они неслись от трамвайной остановки к дому, где она жила. Запыхавшись, добежали они до цели, и она снова упала в его объятия, мокрая от дождя, уставшая, обессиленная. В холодной тьме под лестницей они долго и страстно целовались, она обнимала его за шею, крепко прижималась к нему.
— Кажется, я в тебя влюбилась, — шептала она. — Может быть, так нехорошо, прямо с первого раза…
Людвик держался скорее робко, он не был уверен в искренности ее признания, но от поцелуев у него кружилась голова, и он волей-неволей начинал верить в неподдельность ее чувств.
— Доброй ночи, — наконец проговорил он. — Мне пора идти. Уже поздно.
Она взяла его за руку и повела за собой вверх по лестнице, высоко, скорее всего в мансарду, так как освещенная часть лестничной клетки кончилась и они пробирались во тьме, но ее горячая рука уверенно довела его до уютной комнатки, из окна которой были видны мокрые крыши домов.
Он смотрел на город, светящийся тысячами огней, то расплывающихся, то сливающихся воедино в падающих каплях дождя. Не успел он оглядеться, а она уже сбросила платье и нагишом стала мыться у умывальника губкой с мылом, стремясь побыстрее снять с себя пот двух воскресных представлений.
Людвик неотрывно следил за каждым ее движением, смотрел на руки, на худое тело с едва заметной грудью, на длинные стройные ноги. Ее тело отражалось в зеркале и странно светилось в полутьме.
Он уже не мог владеть собой, подошел к ней, поднял на руки и стал гладить и целовать ее, она не противилась и только вздрагивала от его прикосновений. Наконец она нежно отстранилась и прошептала:
— Имей немножечко терпения, Дай мне привести себя в порядок.
Он смотрел, как она быстро причесала перед зеркалом влажные волосы, достала из шкафа халат и прикрыла им свою наготу. Потом подошла к нему, свежая и прекрасная, несказанно прекрасная, сама расстегнула его пиджак, затем пуговку на рубашке, развязав галстук, и, улыбнувшись, спросила:
— Ну, чего ты ждешь? У нас ведь мало времени. Каждую минуту может вернуться Даша.
Еще когда они вошли в комнату, он увидел две кровати, но ему и в голову не пришло, что здесь кто-то еще живет, все мысли его были поглощены новой знакомой.
Они легли, Маша наклонила абажур лампочки, чтобы свет не бил им в глаза. Но тут дверь открылась, и на пороге появилась Даша.
Она спросила раздраженно:
— Кто тут у тебя?
Не получив ответа, она без стеснения подошла к Машиной кровати.
— А, это тот, что был «У Тлапака», — пренебрежительно проронила она и утратила к ним всякий интерес.
Больше Даша уже не обращала на них никакого внимания. Она разделась и принялась мыться, потихоньку насвистывая, а они затаились, скованные стыдом.
Людвик делал вид, что спит и не видит, что происходит в комнате. Ему было страшно неловко, впору прямо сейчас одеться и убежать. Но Маша все так же жарко прижималась к нему и не отпускала.
4
Нет ничего более легкого, как подчиниться бегу времени, не бунтовать против него, покорно принимая все, что приносит с собой каждый новый день. И Людвик не ломал себе голову, он воспринимал все как само собой разумеющееся, как постоянно меняющиеся проявления его новой жизни. Ни на минуту он не задумывался над тем, что в этой жизни нужно, а что не нужно. Просто все, что происходило с ним в эти дни, он считал знамением судьбы, все, и хорошее и плохое, казалось ему чем-то удивительным, потому что приносило ему, еще зеленому юноше, познание и житейский опыт.
Это относилось и к его неожиданному знакомству с Машей.
Вначале он надеялся, что их столь многообещающие отношения продолжатся, однако ближайшие дни оказались заняты таким количеством неотложных дел, что мечты так и остались мечтами. Или, скажем, воспоминание о той ночи, что он провел с Машей: хотя он и носил его в себе, не раз возвращаясь к нему в своих мыслях и оберегая его, тем не менее оно постепенно отдалялось, теряло свою притягательную силу, а оживить его было нечем. Больше того, он подсознательно избегал встречи с обеими обитательницами мансарды, ему не хотелось снова пережить жгучий стыд, как в ту дождливую ночь, который заглушил в нем все другие чувства.
Он любил свою работу и делал ее охотно, а тут неожиданно представилась возможность подработать сверхурочно. Конструкторский отдел на Харватовой улице выпускал все больше и больше проектов для каких-то иностранных заказчиков, а проектное бюро занималось рабочим проектированием отдельных деталей — болтов, шайб, пружин, клапанов и т. п. Говорили, что речь идет о спецзаказе, но никто ничего определенного не знал. Поскольку такой объем работы невозможно было выполнить только за рабочее время, дирекция разрешила желающим работать сверхурочно, за что многие ухватились, чтоб подзаработать. Разумеется, и Людвик позарился, на сверхурочные: его финансовые дела были не блестящи, деньги приходилось искать глубоко в кармане.
Однако эта работа поглощала все свободное время, все вечера, лишая возможности ходить в театр и кино, он должен был на неопределенное время расстаться со своими мечтами о шумной «светской» жизни, которая манила его. С утра до позднего вечера за чертежной доской — для этого требовалось немало сил, и деньги, заработанные в поте лица, были в прямом смысле слова трудовыми.
Он приходил домой усталый, измученный, потеряв интерес ко всему на свете.
Поэтому о том, чтобы пойти к Маше или подождать ее вечером у театра, не могло быть и речи. Ни о чем определенном они не договорились, его ночной уход был равносилен побегу, они не обменялись ни словом и на прощание лишь молча поцеловались. Всю дорогу под дождем он прошел пешком, потому что трамваи уже не ходили. Вдобавок он еще долго и бестолково бродил по спящему городу, с трудом ориентируясь на слабо освещенных улицах. Поэтому он обрадовался, увидев нить фонарей Вацлавской площади; по ней расхаживали накрашенные девицы, предлагающие до утра земные радости, но он словно не видел никого, торопливо шагая к своему дому.
С Эдой они теперь виделись только по утрам. Вставали оба поздно, умывались, в спешке одевались, на ходу заглатывали еду и бежали на работу.
Пользоваться ванной по-прежнему было затруднительно: в утренние часы она постоянно была занята, пятеро жильцов, в их числе еще и женщина, которая ни с кем не считалась, не выражали желания договориться, составить график очередности, как это предлагал пан Дашек.
А тот в начале седьмого бежал в распахнутой пижаме в коридор, чтобы занять очередь в ванную, стоял и ругался, что вечно должен ждать.
Однажды утром его спросили, кто та женщина, которая живет в отдельной комнате, на что он, криво усмехнувшись, пробормотал:
— Барышня Коцианова. Вот именно, барышня Коцианова. По профессии она массажистка и кто-то еще. Вам бы следовало с ней познакомиться, такие связи никогда не мешают…
Но для знакомства с барышней Коциановой тоже не было времени. По утрам в длинном до пят халате она проскальзывала по коридору, оставляя за собой сильный запах духов.
Больше не удавалось ни посидеть с инженером Дашеком, ни встретиться с банковским служащим Пенкой, которого видели лишь по утрам, да и то мельком, потому что он вставал позже всех, а ночью, как мышь, неслышно пробирался через их комнату, ни даже с Эдой. Утром — суетливый, поспешный уход на работу, а по вечерам, вернувшись домой, Людвик чувствовал такую усталость, что ему хотелось только лечь и уснуть.
Вечерами Эды чаще всего дома не было, хотя он не работал сверхурочно, значит, бродил где-то, приходил поздно, спал все меньше и меньше, словно постепенно отвыкая ото сна.
Однажды за завтраком Людвик спросил Эду, где он пропадает, почему приходит так поздно; тот бросил коротко:
— А что мне тут делать одному? Торчать в четырех стенах?
Так они и жили — вместе, но каждый сам по себе, каждый шел своим путем, и их и без того странные отношения становились все более странными и непонятными, будто они поворачивались друг к другу спиной и чем дальше, тем больше отдалялись.
Иногда человеку не удается избежать неприятностей, хотя он всячески стремится к этому. И он наталкивается на непонимание, неприязнь, недоброжелательность. Быть может, это случилось потому, что начальник устал, перенервничал либо просто был в плохом настроении, но все упреки за несвоевременную сдачу работы посыпались на Людвика. Он обвинил Людвика в том, что тот нарушает график работ, придумывает разные отговорки и трудности, вместо того чтобы делать свое дело. А между тем Людвик трудился с энтузиазмом, и работа у него спорилась, он не слонялся без дела, не бил баклуши и не увлекался пустопорожней болтовней, как другие. И поэтому упрек начальника был как гром среди ясного неба. Людвику начинало казаться, что начальник почему-то придирается к нему, наверное, недолюбливает и потому не желает видеть, какой он прилежный. Что толку лезть из кожи вон, когда этого не хотят замечать!
Людвик задержался еще на час, чтобы утром в присутствии всех сдать начальнику законченную часть своей работы.
Домой шел уставший и раздосадованный. Он очень опасался, что у Дашека опять собралась компания картежников, что его ждет бессонная ночь, а так хотелось хорошенько отдохнуть, выспаться.
К своему удивлению, он застал дома Эду. Тот сидел за столом, подперев руками подбородок, и тупо глядел в пустоту.
— Невероятно, ты дома! — воскликнул Людвик.
— Чего тут удивительного, — пробормотал Эда. — Просто у меня болит голова.
— У меня тоже. — Людвик вдруг тоже почувствовал головную боль. — Заработался. Целый день сижу в помещении и даже не знаю, что творится на улице.
— А в «Деннице» сегодня последний день, — произнес Эда без всякой связи с предыдущим.
— Что? Где это?
— Ты как был, так и остался неотесанным деревенским парнем, — ответил Эда без злобы. — Знай, что «Денница» — это вполне приличный бар. Там бывает немноголюдно, поэтому я туда и хожу.
Людвик подошел к столу и, боясь, как бы Эда снова не умолк, спросил:
— Что тебя там еще привлекает?
— Ничего особенного, — ответил тот. — Посижу, поговорю с барменшей. Вполне приличная девочка…
— Ты же говорил, что у тебя дома невеста, — не унимался Людвик.
— Это правда, — согласился Эда. — Но кому плохо от того, что я поболтаю с девчонкой?
— О чем?
— Да ни о чем. Например, о бессмертии майских жуков, — улыбнулся Эда, — или о коварстве жизни…
Людвик не представлял, как Эда с кем-то беседует. Возможно, он действовал на собеседников по-другому, ему, неразговорчивому, замкнутому, они охотно поверяли свои тайны. Иногда людям достаточно того, что их кто-то внимательно слушает.
— Представляешь, Ремеш, что играл тут в карты, привез жену, — проговорил Эда задумчиво. — Он теперь снимает отдельную комнату…
— Почему ты мне об этом говоришь?
— Возможно, я тоже женюсь. Привезу жену, и будем жить с ней вместе. По крайней мере вечерами стану сидеть дома.
Людвик никак не мог понять, почему он заговорил вдруг об этом.
— Я без женщины не могу, — сказал Эда с неожиданной грустью.
— Что же будет со мной? — испугался Людвик.
— Что будет? Останешься здесь, вся комната будет твоей. А я найду что-нибудь получше, в более удобном квартале…
Людвик готовился ко сну. Эда все еще сидел за столом и глазел в пустоту.
Ночь была короткой, куда короче бесконечного дня. Людвик моментально уснул, словно нырнул в сон, но спал беспокойно, снилось что-то страшное, и он то и дело просыпался.
Людвику показалось, что кто-то в поздний час крадучись проходит через их комнату. Он всмотрелся в темноту заспанными глазами и увидел тень, а потом ясно ощутил: кто-то пристально смотрит на него. Он даже испугался, когда увидел прямо перед собой Эду.
— Что такое? — почти крикнул он.
— Ничего особенного. Просто не могу уснуть.
— Ты и так мало бываешь ночью дома, да еще и не спишь, — выдавил сонный Людвик. — Хочешь, дам снотворное?
— Для сна я порошки не пью, — отказался Эда. — Еще тогда, когда я боксировал с Некольным, после одного матча меня увезли в больницу. Несколько дней я пролежал там с сотрясением мозга. С тех пор периодически появляются боли, затем на какое-то время отпускают, а потом все сначала. Иногда головная боль бывает до того страшной, что хоть выбрасывайся из окна. Надо жениться, чтобы было кому заботиться обо мне…
Его словно прорвало. Он желал говорить и говорил, чтобы заглушить боль. Только Людвик, увы, был плохим слушателем, страшно тянуло спать, хотя он и заставлял себя бодрствовать. Сон так и обволакивал его; будто издалека слышал он взволнованный и баюкающий голос Эды:
— В последнее время люди раздражают меня, мне кажется, что все они похожи на муравьев. Обрати внимание, какие все неловкие, несносные, они постоянно что-то изображают, притворяются… Каждый старается забраться повыше и при этом подставить ножку другому. Что у меня с ними общего? Какое мне дело до них? Почему я должен жить в этом муравейнике?
Людвик, поддерживая голову рукой и опираясь на локоть, чтобы не заснуть, пытался вникнуть в его удивительно пространную речь, хотя и в такой неудобной позе было довольно трудно бороться со сном.
— Или, скажем, вот эта старуха, хозяйка квартиры. Она, верно, чертовски богата, раз владела такой квартирой. В этой комнате, где мы живем, господа только ели; каждый член семьи имел, вероятно, свою комнату, а здесь они собирались вместе и мудрствовали. А теперь эта старуха не стыдится паразитировать на нас, берет огромные деньги только за кровать, сосет нашу кровь, чтобы самой жить. Понимаешь это? Мы, собственно, жертвы ее и единственное спасение. Без нас она не могла бы так умильно улыбаться, высохла бы и загнулась от чахотки. Она существует за наш счет. Мы содержим ее, но она баба-яга, которая ненавидит нас и держит только из нужды. Она дает нам хлеб с салом и вываренный чай, а за это требует золото. И нашу кровь. Поверь мне, она пьет нашу кровь. Как-нибудь ночью старуха выколет нам глаза или задушит нас. Разве ты не видишь, что она ведьма, неужели не замечаешь, как зловеще сверкают ее выпученные глаза?
Людвик не был согласен с ним, но сон отбил у него всякую охоту спорить.
Эда поднялся с кровати, настежь распахнул окно, уселся на подоконник и без какой-либо связи с предыдущим стал развивать другую, не менее любопытную мысль:
— А ты пробовал когда-нибудь стереть людей из своей памяти? Будто их никогда не было ни в прошлом, ни в настоящем. Мне это удалось, и в этом нет ничего невозможного, только надо против них очень ожесточиться. Иногда они снова появляются, главным образом во сне, и просят, чтобы ты смилостивился и разрешил им существовать. Но я, как осел, упрусь, и все тут. Если захочу, так они сразу же исчезнут из моей жизни: скажу «хватит!» — и этот человек словно никогда не рождался на свет…
Через открытое окно в комнату проникал ночной холод. Людвик натянул одеяло, до подбородка, мучительно хотелось спать, но Эда и не собирался заканчивать свой монолог. Отдельные мысли его казались разумными и серьезными, но потом вдруг он поражал своего слушателя неожиданными откровениями:
— Или, скажем, идешь и покупаешь себе колбасу. А что в этой колбасе, не знаешь. Может быть, в нее прокрутили твою бабушку. Ты ешь и ешь, колбаса по вкусу нравится тебе, а потом вдруг становится плохо…
Людвика это рассмешило, но он испугался, не обидит ли такая реакция его мрачного собеседника. Он казался ему крайне взволнованным, словно бы не в себе, и в то же время растроганным, достойным сожаления. Никогда Людвик не замечал у него такого удивительного душевного состояния.
— Прости, что я так много говорю, — извинился тот. — Но мне, когда я так отвлекаюсь, становится легче. И голова уже не трещит…
— Ты лучше бы лег и попытался уснуть, — посоветовал Людвик.
— Или возьми, к примеру, нашего соседа, — тянул Эда свое. — Ты видел, какой он толстый? А знаешь отчего? Потому что жрет сырую печень. Но что это за печень, он не знает. Может, ее взяли у покойничка?
— Прекрати болтовню и закрой окно, — не выдержал Людвик. — Дай мне поспать.
Но Эда словно не слышал.
— Собственно, все мы питаемся мертвечиной. Купишь мясо у мясника и несешь домой. А что несешь? Кусок трупа. Я знаю, что это коровье или другое мясо, но вдумайся: вместо того, чтобы дохлую корову везти в морг, ее везут к мяснику. Человек, собственно, такая тварь, которая питается дохлятиной. Ест да похваливает, да еще облизывается, а, после еды с наслаждением рыгает.
Наконец Эда закрыл окно и опять поудобнее уселся на кровати.
Людвик притворился спящим.
— Или, скажем, женщины. Когда я боксировал, в первом ряду всегда сидела такая расфуфыренная блондинка со светло-голубыми глазами. Когда я наносил удар, она вскрикивала так противно, словно этот удар получала сама. Она всюду бегала за мной, не давала покоя. Казалось, она была готова броситься мне на шею прямо на ринге, на глазах у зрителей, и делать бог знает что… Может быть, ей тоже хотелось пить мою кровь.
Людвик приоткрыл глаза и заметил, что за окном уже светает, что первые, утренние лучи уже проникли в комнату. Он натянул одеяло на голову и задремал.
Уходил он на работу еще более утомленным, чем был накануне вечером.
Злополучное событие нарушило спокойное течение жизни проектного бюро. Однажды утром к ним вошли двое в штатском и арестовали одного сотрудника — Кнотека из Градца Кралова, человека скромного и ничем не примечательного, он всегда держался в стороне и менее всего мог вызвать подозрение. Его без лишних слов попросили показать удостоверение и, когда он это сделал, спокойно предложили следовать за ними. Его арест, разумеется, вызвал самые различные толки: одни говорили, что он связан с нелегальной группой, другие — что он работал в тайной типографии и тому подобное, но все это были выдумки, плоды досужих умов.
Шел тысяча девятьсот тридцать девятый год. С начала немецкой оккупации Чехословакии и создания протектората «Чехия и Моравия» прошло всего лишь несколько месяцев. Всем было известно, что гестапо усердствовало, оно разматывало клубок за клубком, и аресты чешских граждан стали его повседневной работой. Но человек не осознает грозящей опасности, пока она представляется ему далекой, пока не приблизится к нему на расстояние шага, пока он не ощутит ее смертоносного дыхания.
Людвик невольно вспомнил, как однажды Эда принес домой газету и вслух прочитал имена тех, кто был казнен накануне.
— Я не могу больше так жить! — в отчаянии крикнул он, затем яростно скомкал газеты и швырнул на пол. — Ведь эти люди никому не сделали ничего плохого, они хотели, так же как и мы, по-человечески жить, и за это их казнят. Есть совесть у людей? Всюду беззаконие, насилие! В городе коричневая чума, она несет всем нам ужас и беду. А мы должны жить и делать вид, что все в полном порядке: ходить на работу, сидеть за пивом, каждое утро вовремя вставать, бриться, улыбаться как ни в чем не бывало…
— Надо же как-то жить, — робко возразил Людвик.
— А мне надоело жить на коленях! — кричал Эда. — Гнуть спину, прятаться, словно это не наша земля, словно она нам не принадлежит…
Когда Людвик рассказал ему, что у них в бюро арестовали Кнотека, Эда только пожал плечами и с грустью промолвил:
— Это может случиться с каждым из нас. На кого укажет черный перст смерти, тот выбывает из игры…
Однажды вечером, когда Людвик, как обычно, после сверхурочной работы вернулся домой, к нему приковыляла старуха хозяйка и с лукавой усмешкой сообщила:
— Вас хотел видеть пан Лишка, но ждать он не мог. Так я дала ему ваш рабочий телефон, и он обещал завтра вам позвонить. Еще просил передать привет…
Вести личные переговоры по телефону запрещалось; единственный телефонный аппарат стоял у начальника, и тот берег его только для служебных целей. И все же он подозвал Людвика к аппарату — может, потому, что был обеденный перерыв, а может, потому, что все еще были потрясены арестом Кнотека и начальник за эти дни смягчился, уже не держался с людьми так высокомерно и сухо, как раньше.
— Что с тобой? — услышал Людвик звонкий голос дяди. — Я думал, ты встречаешься с Машей, а она говорит, что ничего о тебе не знает. Сейчас мы сидим «У Тлапака». Было бы прекрасно, если бы ты забежал сюда ненадолго…
— Я не могу, — заикаясь ответил Людвик. — Не могу уйти с работы…
— Вот уж удивляюсь, — возразил дядя. — Я бы с такой службы давно сбежал. Сейчас большой спрос на рабочую силу…
— Я знаю, — нетерпеливо бросил Людвик: он ждал, когда же дядя наконец положит трубку.
— Послушай, — заговорил дядя уже по существу. — Завтра мы едем в Сенограбы. Если хочешь, присоединяйся к нам…
— Я бы рад, — облегченно вздохнул Людвик. — Только я поздно кончаю работу.
— Это неважно. Вечером встретишь Машу у театра, и вы приедете вместе. Маша знает, каким поездом ехать, где выходить, куда идти. Договорились?
— Договорились.
Он и в самом деле охотно принял приглашение: поездка за город, пусть хоть на день, оживила бы его скучную, однообразную жизнь. Да и поедет он не один, а с Машей, которая относится к нему с нескрываемой нежностью. С ней будет приятно. Главное, теперь не придется идти в ее маленькую комнатку в мансарде, где вдоль стен, разделенные узким проходом, стоят две кровати.
Людвик мысленно уже готовился к поездке, он думал, как и что надо сделать, как отпроситься у начальника пораньше, иначе он опоздает к концу представления, воображал, как они побегут с Машей на поезд, в общем, он мечтал…
Но мечтам этим не суждено было сбыться.
Вечером он нашел на столе письмо от мамы. Она упрекала его за то, что он давно не приезжал домой, сообщала, что дедушка тяжело болен и что, если Людвик не приедет в это воскресенье, она никогда не простит ему.
Вместо поездки с Машей в Сенограбы Людвик ехал в субботу домой.
5
Из-за напряженной сверхурочной работы Людвик постоянно недосыпал. Он мечтал о покое, о прогулках на свежем воздухе. Какой прок от того, что завелись у него деньги, что заработок удвоился, если с утра до поздней ночи он томился за чертежной доской в закрытом помещении, будто в клетке. И никаких новых знакомств, новых встреч, он общался только со своими коллегами, людьми не такими уж интересными, поглощенными своими заботами, измотанными чрезмерной работой. И только беседы с Эдой были для него отдушиной, хотя тот редко приходил домой. Эда стал его единственным другом, пусть и не очень надежным и близким, скорее странным.
Ночной поезд из Праги тащился в непроглядной тьме, вагоны громыхали и подскакивали на стыках рельс.
В эти поздние часы было мало пассажиров. Женщина, расположившаяся напротив Людвика, закуталась и пальто и уснула, не обращая внимания на тряску.
Людвик тоже попытался уснуть, но из этого ничего не получалось: в голове, как кадры из кинофильмов, прокручивались различные эпизоды его жизни.
Вот дядя развалился на диване, обитом темно-бордовым шелком, в отдельном кабинете кафе «У Тлапака», по бокам его сидят молоденькие женщины, они склонили головки ему на плечи; та, у которой волосы светлые, как солома, именуется Дашей, а темно-рыжая — Машей; дядя смеется, сотрясаясь всем телом; он счастлив и, как истинный торговец, нахваливает свой товар: «Приедешь в Прагу, я покажу тебе таких девочек, каких ты в жизни не видал».
Закопченная кухня в многоквартирном доме в Голешовицах; у плиты маленькая, сгорбленная женщина в спортивных фланелевых брюках, ее окружили давно не стриженные дети, они тянут ее в разные стороны и зовут поиграть с ними в «мельничное колесо», она сердито отгоняет их, бьет по рукам и, всхлипывая, причитает: «Из-за вас я никуда шагу ступить не могу!»
Обед варится на плите, кухня наполнена запахом горелого жира, из кастрюль подымается пар, он, как белое облако, стоит под потолком; посередине кухни сгорбленная женщина играет с детьми: все держатся за руки, водят хоровод и весело кричат: «Колесо у нас сломалось и тотчас распалось!» При этом ребята валятся один на другого на грязный пол.
Поезд остановился у освещенного перрона, на котором не было ни души, и через минуту тронулся, погружаясь во тьму, словно в черную воду.
Маша, голая, пахнущая мылом, ходит по комнате; ее тело тускло поблескивает в полутьме; за ее спиной прячется желтый свет настольной лампы с опущенным абажуром, чтобы не бил в глаза; Маша подбегает к Людвику и прижимает его голову к полудетским грудям, она жаждет его поцелуев, его объятий; Людвик колеблется, но потом не выдерживает… И тут дверь с шумом раскрывается и появляются дядя с Дашей; они громко смеются и со злорадством кричат: «А, это тот, что был «У Тлапака». Пусть он выходит из игры!»
Потом оба лежат на железной кровати под одеялом; Маша страстно, всем телом прижимается к Людвику, она гладит его, неустанно ласкает, затем они сливаются в едином объятии, будто с давних времен принадлежали друг другу; на столе все так же светит желтая лампа, она несколько сдерживает пылкое проявление их чувств; с кровати напротив за ними молча наблюдают Даша с дядей, они сидят рядом и чего-то ждут. Маша нежно шепчет Людвику в ухо: «Останься, не уходи, не покидай меня».
Людвик то засыпал, то просыпался, то дремал, убаюканный шумом колес. Иногда в купе заглядывал свет фонарей со станций, а затем поезд вновь поглощала ночная тьма.
Вот проходная комната, где живут Людвик и Эда. Людвик лежит на кровати, глаза его слипаются ото сна, Эда сидит на подоконнике открытого окна и надоедливо насвистывает какую-то песенку, Людвик знает ее, но никак не может вспомнить; наконец Эда закрывает окно, и сразу прекращается и свист и шум ночного города; Эда в задумчивости обходит огромный обеденный стол и несколько раз повторяет одно и то же: «Все люди — это живые трупы, правда, кто в меньшей степени, а кто в большей, в зависимости от того, у кого какое желание жить…»
Два неприметных человека в штатском ведут Кнотека по узкому проходу между чертежными досками. Он выглядит как всегда, будто случившееся его не касается, и только во взгляде какое-то беспокойство; когда он оказывается рядом с Людвиком, тот видит расширенные зрачки и чистые светящиеся глаза, словно омытые слезами, а в них затаился страх перед всем, что ждет его.
Эда читает газету, длинный список имен, имена звучат монотонно, как в реквиеме, когда оплакивают умершего…
Кадр за кадром сменялись воспоминания и внезапно обрывались, затем — пустая неотснятая пленка, пока ее не покрыла вуаль сна.
Поезд сбавил ход, за окном летели искры от паровоза, казалось, с большим трудом движется он в ночной тьме. Вскоре поезд подошел к перрону вокзала родного города Людвика.
Людвик шагал по привокзальной улице, по тихим спящим переулкам. Тот одноэтажный домик с чердачным окошком под черепичной крышей, со светлой штукатуркой и темными наличниками навсегда остался родным и дорогим его сердцу домом, ибо тут он родился и прожил лучшие свои годы.
Нигде так хорошо не спится, как дома. Хотя Людвик и лег поздно, он тем не менее взял реванш за все свое недосыпание. И спал до обеда в обстановке полного спокойствия и тишины.
Утром мать не стала его будить, пусть сынок хорошенько выспится, на цыпочках прошла мимо и неслышно закрыла за собой дверь.
А после обеда пришлось подробно отвечать на многие вопросы: как он живет, где устроился, нравится ли ему работа, что за друзья у него, как он проводит свободное время. И Людвик охотно рассказывал об Эде, о хозяйке квартиры, о своих соседях, о работе в проектном бюро и о дяде, которого искал дома, в Голешовицах, а нашел в кафе.
— Я всегда говорил, что он подонок, а он к тому же еще и бабник, — заметил дедушка. — У меня на таких негодяев нюх…
Хотя дедушка чувствовал себя неважно, порой заходился от тяжелого кашля, похудел за то время, пока Людвик его не видел, но сохранил житейскую мудрость и ненасытность в еде. И курил, как улан, хотя курение ему явно вредило.
— Разве он послушается, — жаловалась мама. — Я ему говорю, да мои слова как об стенку горох. Вот уже неделю он не выходит на улицу. Доктор сказал, что он на ногах перенес воспаление легких.
Ганичка подсела к Людвику и с горечью проговорила:
— Какой ты противный мальчишка, уехал и пропал. И не вспомнил о нас. Тебе не стыдно?
Людвик ссылался на разные обстоятельства: надо было устроиться с жильем, привыкнуть к новой жизни, сейчас много сверхурочной работы, он занят до позднего вечера, — но никто из домашних эти его доводы не воспринимал всерьез.
— И все же у тебя только один дом, — молвила мама. — Уважай его, пока он у тебя есть…
Больше сидеть за столом он уже не мог; внезапно все показалось бедным, тесным, незначительным. Он решил пойти развеяться в трактир, где надеялся встретить своих старых друзей.
Но днем в воскресенье трактир был полупустой. Он застал только Вашека, тот сам с собой играл в бильярд, разыгрывал самые трудные варианты и весь отдавался игре. На Людвика он никак не среагировал, будто виделись они ежедневно. На вопрос приятеля, где остальные, он коротко бросил через плечо, что все ушли на стадион, там сегодня спортивный праздник. Людвик еще немного постоял, посмотрел, как искусно владеет Вашек техникой игры, как мастерски подкатывает он блестящие цветные шары и затем спокойно кладет их в лузы.
Людвик направился на стадион. Казалось, вся жизнь города сосредоточилась в одном-единственном месте — там, где проходили спортивные состязания.
У бортика столпились люди. Людвик с трудом протиснулся поближе к стадиону, чтобы посмотреть на велосипедистов, стремительно проносившихся по беговой дорожке перед ним. Их сопровождали крики болельщиков. Чем больше кругов они преодолевали, тем меньше кричали зрители, и в конце концов слышались только свистящие звуки колес да шумное дыхание обливающихся потом спортсменов. Когда один оторвался от своих соперников, стадион снова пришел в движение, но тут случилась беда: на повороте велогонщик упал и погнул колесо. Тогда он спокойно взвалил велосипед на плечи и пошел к финишу пешком, обгоняемый весело смеющимися товарищами. Весь стадион зашумел, зааплодировал.
Наконец Людвик заметил своих друзей. Они сидели на сколоченных для такого случая скамейках возле маленькой, тоже наспех сколоченной трибуны.
После велосипедистов на стадион вышли женщины, одетые в облегающие оранжевые спортивные костюмы, и стали демонстрировать упражнения со скакалками. Но зрители оценивали не столько номера, сколько внешние данные спортсменок, подсмеивались над неуклюжестью, излишней полнотой некоторых, отпускали грубоватые шутки.
Друзья Людвика без особой радости приветствовали его, потеснились, чтобы и он мог сесть, и продолжали с неослабевающим интересом следить за тем, что происходило на поле.
Когда женщины в оранжевых костюмах бодрым шагом покидали стадион, зрители шумно проводили их аплодисментами и свистом.
— Знаешь того парня с приплюснутым носом, что сидит с блондинкой в первом ряду? — спросил Людвика его сосед.
— Еще бы! — оживился Людвик. — Это же Эда, мы вместе с ним снимаем комнату…
— Ух, когда-то он здорово боксировал с Некольным…
— Я говорю тебе, что мы вместе живем, вместе снимаем комнату, — с гордостью повторил Людвик.
Словно почувствовав их взгляды, Эда повернулся и, увидев Людвика, дружески махнул ему рукой. Людвик ответил тем же.
Людвика очень заинтересовала подруга Эды, его невеста; конечно же, это была она, та, о которой он так часто говорил и на которой собирался жениться. В перерыв Эда и его девушка поднялись, он взял ее под руку, и они стали неторопливо продвигаться в толпе зрителей. И за какие-то минуты Людвик успел разглядеть избранницу Эды и вынужден был признать, что она не только хороша собой, но просто очаровательна.
Уезжая вечером в Прагу, Людвик искренне радовался. Он снова испытывал то чувство, что домашняя обстановка стесняет его, что она ограничивает его свободу, что здесь не могут претвориться в жизнь его надежды.
Вагон был битком набит, люди теснились во всех проходах. Поезд шел медленно, колеса постукивали, нарушая покой окрестных полей. Смеркалось.
Людвик стоял у окна, опершись плечом о стенку, в ногах — небольшой чемоданчик, мать положила туда чистое белье и кое-что из еды. Отсутствующим взглядом смотрел он на убегающие темные просторы.
Этим поездом должен был бы ехать и Эда, это самый удобный вечерний поезд. Еще на перроне Людвик высматривал его, но так и не нашел. Наверное, и вправду он проводит вечер в объятиях своей возлюбленной блондинки, никак не может с ней расстаться, но она стоит того, чтобы из-за нее не выспаться. Ведь Эда и в Праге часто не спит…
Рядом с Людвиком стояла миловидная девушка, почти такого же роста, как и он. Темноволосая, со светло-голубыми глазами, загорелая, она выглядела необыкновенно свежей, словно возвращалась откуда-то с гор. Несколько раз их взгляды случайно встретились, и оба улыбнулись друг другу.
— Едете в Прагу? — поинтересовался он.
— Куда же еще? Все, кто едет в этом поезде, приезжали на воскресенье домой, а теперь возвращаются…
Когда поезд остановился на какой-то станции, девушка достала из сумочки сигарету и закурила. В полутемном вагоне огонек от спички на мгновение осветил ее смуглое, с правильными чертами лицо.
— Зачем вы курите? — спросил Людвик почти с упреком.
— Даже не знаю, — призналась она. — Просто так, от нечего делать. Чтобы дорогу скоротать.
Как опытный курильщик, она с наслаждением затянулась и выпустила дым на темное окно с грязными полосами, оставшимися после вчерашнего дождя.
— Давайте лучше поговорим, — неожиданно для себя предложил Людвик. — Время скорее пройдет.
— О чем?
— Например, о вас. Что ждет вас в Праге?
— Ничего особенного. Комната, которую я снимаю, завтра утром юридическая контора, где я работаю стенотиписткой, и, кроме того, очень строгий шеф…
— А что-нибудь повеселее? — не отставал Людвик. — Ведь у вас должны быть какие-то радости, что-нибудь для сердца, для души…
С минуту помолчав, она задумчиво проговорила:
— Да нет. Иногда театр, иногда кино, а то пойду на концерт. Больше, пожалуй, ничего. Бывает, попадается хорошая книжка…
— Это не так уж мало, — признался Людвик.
— А еще люблю играть в карты, — улыбнулась она. — Особенно в подкидного дурака.
Поезд мчался в непроглядной тьме, останавливаясь лишь на больших станциях. Действительно, время шло быстрей, когда было о чем говорить, и Людвик делал все, чтобы источник разговора не иссяк. Он рассказывал о себе, о том, что в Праге живет недавно, говорил, как он привыкает к жизни большого города, как мало остается у него свободного времени, потому что работать приходится до ночи, о том, что в родном городе у него были друзья, а здесь нет никого и он один как перст, что его сосед по комнате — человек странный, не очень общительный, дома бывает мало, так что он, Людвик, один-одинешенек — таков его печальный удел.
Он и сам не понимал, отчего это вдруг так разоткровенничался, но ему было приятно, что она внимательно слушала его. Сама она сказала, что тоже живет довольно замкнуто и у нее нет настоящих друзей, хотя поклонников хоть отбавляй, но ее не интересуют ни случайные и кратковременные знакомства, ни любовь на одну ночь, что у нее есть свои представления о жизни, что таких людей, кому она могла бы открыть сердце, в ее окружении нет. Она говорила, что в большом городе человек всегда ограничен определенным кругом людей и выйти за его пределы, оказаться вне его влияния бывает очень трудно.
Двоих случайно встретившихся людей потянуло друг к другу — один у другого невольно искал понимания, и это сближало их, связывало незримыми узами, хотя они ничего не знали друг о друге, разве то немногое, что успели рассказать о себе в пути. И в то же время оба чувствовали, что это, возможно, начало чего-то, что обоим смутно видится в туманной мгле, и что от них самих зависит, продолжатся ли их беседы в будущем.
Звали ее Индра. На пустой коробочке от сигарет она написала ему номер телефона, по-видимому, той конторы, где работала, и попросила позвонить, когда он сочтет возможным.
6
И снова затхлый воздух проходной комнаты с двумя кроватями и огромным обеденным столом, покрытым темной вязаной скатертью. Вокруг стола дюжина стульев, оставшихся от тех времен, когда в этой просторной комнате собиралась вся семья, а сейчас они лишь заполняли пустое пространство и напоминали театральный реквизит.
Во всем доме господствовала ничем не нарушаемая тишина, особенно ощутимая в полночь, когда все шумы, голоса, скрипы дверей замирают и слышно только размеренное тиканье часов да иногда собственное дыхание, собственное робкое присутствие в этой гробовой тишине.
Людвик открыл окно — проветрить помещение; едва уловимый ветерок принес с собой отдаленный шум города, в эту пору удивительно спокойного, словно не было в нем лихорадочной повседневной суеты.
Он уже собрался лечь спать, когда в прихожей раздались нетерпеливые звонки. Никого из квартирантов дома не было. Инженер Дашек возвращался в понедельник утром, пан Пенка бродил бог знает где, а хозяйка давно спала. Людвик, натянув брюки, направился к двери взглянуть, кто это в сей поздний час беспокоит людей.
За дверью стояла барышня Коцианова. Она суетливо копалась в своей сумочке, перебирала носовые платочки, перчатки, щипчики и, даже не взглянув на Людвика, вслух выражала свою досаду.
— Куда запропастились эти ключи?.. Если бы знать, где их посеяла… Как не повезет, так уже во всем… Еще эти идиотские ключи…
Хотя она была довольно нарядно одета, будто возвращалась с танцевального вечера, все на ней было весьма неряшливо: волосы взлохмачены, бантик сбился, что-то не застегнуто, что-то не завязано, глаза осоловелые, и на расстоянии ощущался сладковатый запах вина.
Вступив в прихожую, она набросилась на Людвика:
— Чего так на меня уставился? Не видел, что ли, нализавшуюся бабу?
Не проронив ни слова, Людвик пошел в свою комнату.
— Подожди, — остановила она его. — Это ты тот новый квартирант, что ходит спать, как курица на насест? Нам надо бы с тобой познакомиться, или ты не хочешь? Зайди ко мне на чашку кофе.
— Спасибо, уже поздно, — ответил Людвик, — да и кофе я на ночь не пью…
— Тогда можно выпить чего-нибудь другого, — не отпускала она его. — И не кривляйся, как изнеженная барышня. Ты же мужчина, верно? И не отказывайся, если женщина тебя приглашает. А мне необходимо с кем-нибудь поговорить…
— О чем?
— Сейчас увидим, — ответила она, крепко сжав его руку повыше локтя, и с силой потащила к своей комнате. — Еще неизвестно, можно ли с тобой вообще о чем-нибудь разговаривать.
Когда в темной комнате, пропахшей знакомым запахом духов, она зажгла свет, Людвику бросился в глаза удивительный беспорядок: все было раскидано, повсюду валялись предметы ее туалета — на дверце шкафа, на окне, на постели, на спинках стульев, болтались разноцветные яркие платья вместе с плечиками в полумраке неуютной комнаты. Она сразу же принялась наводить порядок: платья засовывала в шкаф как попало, некоторые сваливались с плечиков, но она не обращала на это внимания, лишь бы поскорее убрать их с глаз долой.
— Ну вот, — проговорила она, когда швырнула в шкаф последнее платье. — Теперь вроде порядок.
— Ради меня не следовало бы этого делать, — хрипло проговорил Людвик. — Мне все равно…
— Садись, — предложила она. — Я только оденусь по-домашнему.
Она сняла туфли нога о ногу — они так и остались посреди комнаты, — потом сбросила с себя темно-синий пиджачок и осталась в светлой блузке. С натугой расстегнула бюстгальтер, с некоторыми затруднениями извлекла его из-под блузки и, держа в руке, похвасталась:
— Красивый бюстгальтер, а? Только маловат, давит, поэтому стараешься поскорее избавиться от этого панциря…
И она развязно рассмеялась.
Людвик сидел в кресле немного смущенный. Он смотрел на нее и пытался угадать, зачем она позвала его к себе. Она не казалась ему такой уж пьяной, хотя и трезвой ее не назовешь.
— Меня зовут Лили, — сказала она и протянула Людвику руку. — Можешь иногда по вечерам заходить ко мне… если я буду дома…
— Я работаю сверхурочно. Прихожу поздно…
Она снова рассмеялась.
— И у меня тоже сверхурочная работа. Возвращаюсь ночью. Даже в воскресенье, как сегодня…
— А чем вы занимаетесь? — заинтересовался Людвик.
— Всем, что нужно. Я и воспитательница, и санитарка, и собеседница, а то и сестра милосердия. Могу быть всем, кем захотят меня видеть…
— И это все за деньги?
— Просто так даже кура лапой не двинет, — как-то неприятно засмеялась она. — А я довольно дорогая помощница…
Коцианова подошла к низенькой полочке, взяла уже початую бутылку ликера и разлила по рюмкам. Потом села напротив Людвика. Расстегнутая блузка распахнулась так, что открылись округлые полные груди. Она и не пыталась их закрыть, явно проверяя, какое впечатление это произведет на соседа. Людвик невольно опустил глаза, его так и тянуло взглянуть на ее грудь.
Она заметила его смущение, но вместо того, чтобы застегнуть пуговки, обеими руками еще шире распахнула блузку, совсем оголив свое пышное богатство.
— Ведь правда, у меня красивая грудь, а? Такой ты в жизни не видел. Это, пожалуй, самое красивое, что есть у меня. Любой мужчина с ума сойдет…
Людвик оторопело молчал.
— Ты знай это, дорогой, — продолжала она совершенно трезвым и серьезным голосом. — И не думай, что я какая-нибудь потаскуха. Мужчин я выбираю по своему вкусу. И если с кем-нибудь из них вступаю в отношения, так уж знаю, почему это делаю…
Лили заставила Людвика отпить ликеру.
— А если говорить о нас с тобой, — продолжала она, — так ты, как мужчина, меня не волнуешь. С тобой можно просто так посидеть, поболтать. Но кто меня волнует, так это твой сосед, твой друг. Он и впрямь парень что надо, на расстоянии меня притягивает. Это мой тип, хотя глаза у него какие-то невменяемые. С ним я без всяких раздумий легла бы в постель, хоть сейчас.
— Он в скором времени думает жениться…
— Ты думаешь, это для меня помеха? — хрипло рассмеялась она и закашлялась. — И вообще, кому это может помешать? Мне — нет, я за него замуж не собираюсь… Я тебе только говорю, что с удовольствием провела бы с ним ночь.
— Я непременно передам ему, — сказал Людвик и поднялся, чтобы уйти.
— Ты уже уходишь? — удивилась она. — Даже не допил ликер?
— Мне рано вставать, — оправдывался он.
— Как хочешь. Задерживать не буду, — распрощалась она, не вставая с кресла. — Не забудь передать привет своему другу…
Людвик лег спать, и тут же перед ним возникла расстегнутая блузка и обнаженные, мраморно-белые груди с розовыми сосками, и он услышал хрипло-вкрадчивый голос Лили: «Ведь правда, у меня красивая грудь, а? Такой ты в жизни не видел…»
Невольно он вспомнил о Маше, о том, что еще вчера они могли бы поехать в Сенограбы, а там они насладились бы любовью либо на лоне природы, либо в гостинице. Маша не стала бы ломаться и не заставила бы себя просить… Маша ни в чем не отказала бы ему.
И еще перед глазами появилась темноволосая девушка, с которой он сегодня познакомился в поезде; он ясно увидел ее миловидное смуглое лицо с голубыми глазами, вспомнил, как стояли они в тесном вагоне, почти касаясь друг друга, припомнил и тот откровенный разговор обо всем и ни о чем, когда они почувствовали взаимное влечение… Из всех женщин, с которыми Людвик познакомился в последнее время, именно эта была самой интересной, самой волнующей, ибо таила в себе что-то непонятное и многообещающее…
Через три дня вернулся Эда.
Когда Людвик после работы пришел домой, в их комнате на стуле лежала Эдина дорожная сумка и разные мелкие вещички, свидетельствовавшие о его появлении. Но самого Эды дома не оказалось. Вероятно, он ушел в пивную либо сидел в своем любимом баре «Денница».
Они увиделись лишь за завтраком. Эда держался так, будто они расстались только вчера. Он с аппетитом поедал хлеб с салом и делал вид, что все в полном порядке.
— Что-нибудь случилось, что тебя так долго не было? — полюбопытствовал Людвик.
— Что может случиться? — удивился Эда. — Ничего особенного. Немножко приболел. У меня даже справка есть от врача. Всякое может случиться с человеком.
— Как это… приболел? — не понимал Людвик. — В воскресенье мы встретились на стадионе, и ты был здоров…
— Знаешь, ты похуже ревизора. Разве я не мог заболеть вечером? Именно вечером и начался страшный шум в голове… потом рвота. Оттого я и не попал на поезд…
Людвиг изучающе смотрел на Эду. Немного осунулся, бледен, щеки и подбородок заросли черной щетиной, а глаза беспокойно и лихорадочно блестят.
— Ничего, побреюсь, — пробормотал тот, заметив взгляд Людвика.
— А где ты был вчера? — не унимался Людвик. — Приходишь домой и даже минуты не посидишь, моментально исчезаешь куда-то…
— Где я мог быть? Конечно же, в «Деннице». Это мой любимый бар. И я соскучился по нему…
Людвик торопливо рассказал Эде о барышне Коциановой, об их коротком разговоре в поздний час. Не забыл он и того, что привлекательная соседка просила передать Эде привет и сказать, что она хотела бы познакомиться с ним поближе…
Но Эда не проявил ни малейшего интереса.
— Поверь, этих женщин я знаю. Много повидал их на своем веку. Когда боксировал, они мне шагу ступить не давали. Гонялись за мной так, что я прятался от них. У всех одно желание — завлечь в свои сети. Только мне этого не нужно.
— У нее изумительная грудь. Такую не часто увидишь, — поделился с ним Людвик.
— Теперь меня это не волнует. В женщинах меня привлекает нечто совсем иное, понимаешь, совсем иное: не физическая красота, а чувство, настоящее человеческое чувство…
— А твоя невеста ведь тоже красивая.
— Красивая. И не только красивая, но бесконечно милая, чуткая, внимательная. Она настолько заботлива и тактична, что даже не знаешь, как отблагодарить ее за доброту…
Людвик не понимал, к чему клонит Эда, но на уточнение уже не хватало времени. Оба торопились на работу. И без того из-за их беседы Эда не успел даже побриться.
Вечером Людвик пытался читать, но никак не мог сосредоточиться, и рассеянные, отрывочные мысли его витали неизвестно где. Сначала он просто ждал Эду, прислушивался к звукам, доносившимся из прихожей, как открывалась и закрывалась дверь, как кто-то проходил по коридору, но наконец воцарилась тишина.
Вдруг без стука открылась дверь и вошел инженер Дашек. Видно было, что он устал, дышит тяжело и шумно; вероятно, не работал лифт, и ему пришлось подниматься на четвертый этаж пешком. В руке пузатый портфель, похоже, очень тяжелый, потому что он поспешил поставить его на ближайший стул и сразу же с облегчением вздохнул.
— Как поживаете, сосед? — Дашек растянул в улыбке свои мясистые губы. — Совсем вас не встречаю, да и друга вашего…
— Да так, вертимся как белки в колесе, — неопределенно объяснил Людвик. — Утром и днем — работа, а вечером уже ни до чего.
— Что правда, то правда, — согласился инженер. — За последние дни я тоже ничего не успеваю.
Он продолжал стоять у того стула, на который водрузил свой увесистый портфель, и не собирался уходить, розовые щеки его ритмично раздувались, он все еще не мог отдышаться.
— Я хотел сообщить вам, сосед, что завтра у меня собирается небольшая компания, — наконец выдавил он из себя, и стала ясна причина его столь долгой задержки в этой комнате. — Разумеется, я приглашаю вас… вас и вашего друга. Ко мне придут мои друзья.
— Я не возражаю, — без особого энтузиазма согласился Людвик. Он представил себе, что это будет за ночь, когда через их комнату без конца будут сновать люди, хлопать дверью. — Только знаете, после работы хотелось бы отдохнуть спокойно…
— Ну-ну-ну! — удивился Дашек. — Рассуждаете, как старый больной пенсионер. Вы же молодой человек, который может гулять все ночи напролет…
— Вот и гуляйте, — чуть слышно пробормотал Людвик.
— Сразу видно, что вы провинциал, — съязвил инженер. — Вы должны понимать, что находитесь в столице, а здесь жизнь продолжается и ночью. Поймите, наша жизнь такая короткая…
— Я не могу привыкнуть.
— Бросьте, — усмехнулся инженер и взял свой пузатый портфель. — Пора бы понять, что бесполезно искать покой в этом беспокойном мире. Все недолговечно, все преходяще. Надо жить, пока живется.
И пошел в свою комнату.
Людвик не стал спорить. Он знал одно: завтра наверняка его ждет бессонная ночь. Он к этому уже, пожалуй, привык.
— Если вы не против, я взял бы у вас несколько стульев, — добавил инженер Дашек, прежде чем закрыть дверь.
— Пожалуйста, — недовольно проронил Людвик.
Ему больше не хотелось ждать Эду. Лучше сейчас же лечь спать, чтобы выспаться хоть сегодня. В соседней комнате еще долго расхаживал инженер Дашек, передвигая мебель, — вероятно, готовился к завтрашнему приему.
Людвик спал беспокойно. Его часто будили неприятные сны. Вот он ходит по улицам своего города и слышит, как его называют чужаком, предателем за то, что в трудное время он покинул свою семью. Или снилось, что сидит он в каменном подвале с окном, забранным решеткой, за окном человек — черный человек на фоне яркого света смотрит сверху вниз, не спуская с него глаз.
Людвик проснулся от тихого скрипа двери. Наконец-то появился Эда. Он, не зажигая света, разделся в темноте. Затем в пижаме спокойно уселся за стол и застыл в неподвижности.
— Ты можешь себе представить, — внезапно заговорил он, обращаясь к Людвику, словно знал, что тот не спит, — даже в «Денницу» заходят эсэсовцы, Конечно же, в штатском, но я-то их знаю, у меня на них нюх…
В полудремоте Людвик слышал его тихий голос.
— Расползлись повсюду как клопы, — сердито продолжал Эда. — Натыкаешься на них на каждом шагу. Каким надо быть толстокожим, чтобы жить рядом с ними, сидеть бок о бок, притворяться, что не замечаешь их, что они тебе не противны. А между тем тебя рвет от них, иной раз так и хочется съездить по морде. Но увы, человек не волен делать, что ему хочется, он должен держать себя в руках, уметь владеть собой, сжимать кулаки в карманах. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы вести себя так, как надо… Но стискиваю зубы и выгибаю спину…
— Иди-ка лучше спать, — со вздохом проговорил Людвик.
— Разве я могу уснуть? Сколько мыслей, аж голова трещит, все в ней кипит, как в котле… Разве можно заснуть с такой головой?
Послышался слабый вздох, затем стон, как от боли. У Людвика мурашки побежали по коже. Потом послышались глухие, гулкие удары, будто Эда бился головой о стол.
Людвик испугался, вскочил и зажег свет.
На него глядело изможденное лицо с бессмысленно вытаращенными глазами. Казалось, они видят не Людвика, а только то, что представляется разгоряченному воображению Эды.
Людвик взял его под руку и стал уговаривать:
— Ладно, брось ты! Зачем попусту расстраиваться? Ложись лучше. Успокоишься и, может быть, даже заснешь.
Эда не противился, он был послушен, как провинившийся ребенок, позволил довести себя до кровати, сел на край, но ложиться не захотел.
— Оставь меня, — сказал он. — Еще немножко посижу, а потом попробую заснуть и все забыть.
Людвик выключил свет, завернулся в одеяло и тут же уснул. Однако и во сне ему казалось, что Эда все еще сидит на кровати и неподвижно глядит в пустоту.
Когда Людвик проснулся, Эда уже завтракал. Он сидел гладко выбритый и, казалось, в добром настроении, будто бы ночью не произошло ничего особенного, будто у него и не было припадка, будто он не говорил ничего странного и не бился головой о стол. Только выглядел он уставшим и без конца зевал, словно ему не хватало воздуха.
— Тебе получше? — поинтересовался Людвик.
— Чего ты все заботишься обо мне? — отрезал он. — Ничего со мной не случится. Не беспокойся, не умру…
Людвик рассказал ему об инженере Дашеке, как тот пригласил их обоих в гости, так что выспаться сегодня им не удастся.
— А что он отмечает? — спросил Эда без особого интереса.
— Не знаю. Скорее всего, день рождения.
Эда уже оделся и направился к двери.
— Ага, — сказал он уходя, — если у нашего рекламного человечка в самом деле день рождения, то надо подарить ему насос, чтобы иногда поддувать ему пузо или толстые щеки.
И уже в дверях скорчил гримасу.
7
Хотя Людвику и не хотелось признаться, но порой он сожалел, что уехал из дому. Там, в родном городе, его жизнь имела какой-то смысл, какую-то цель, хотя и не особенно ясную. Там Людвик находился в привычной обстановке, со своими близкими, там у него были знакомые, друзья, с которыми его объединяли общие интересы, В большом городе он чувствовал себя покинутым, одиноким, предоставленным самому себе; работа с утра до позднего вечера не приносила удовлетворения, как и приработок за сверхурочные. Он уезжал из дому не для того, чтобы ради мизерной добавки к зарплате отказаться от столичных радостей.
Возможно, все это представлялось бы ему не таким мрачным, будь рядом близкий человек, друг, с которым можно поделиться пережитым, вместе пойти куда-нибудь немного развлечься, о чем-то поговорить. Эда не мог быть таким другом, он вел странную, независимую жизнь, окружающие люди, в том числе и Людвик, его не интересовали. Может, он просто не считал Людвика равным себе, но ясно было одно: в дружбе с ним Эда не нуждался. Казалось, он погружен в себя и не желает входить в доверительные отношения ни с кем. Своей болезненной замкнутостью Эда словно бы специально отпугивал от себя людей.
Работы в проектном бюро не прибавилось. Вначале думали, что чертежники с Водичковой улицы не сумеют своевременно передать конструкторскому отделению на Харватовой все детальные разработки проектов — так их было много, но потом вдруг пронесся слух, что заграничный заказ, над которым все так горячо трудились, в основном выполнен и отослан заказчику. И вот нежданно-негаданно выяснилось, что делать чертежникам нечего. Новых задач перед ними не ставили. И все поняли, что слухи были не пустые, когда начальник бюро объявил, что сверхурочных больше не будет и со следующей недели устанавливается обычный восьмичасовой рабочий день.
Начальник куда-то бегал, потом его куда-то вызывали, несомненно, он обсуждал в дирекции дальнейшую судьбу проектного бюро. Чертежники нервничали, высказывали друг другу свои опасения: если их переведут куда-нибудь за город в какой-нибудь филиал предприятия или если уволят, то придется искать работу. Едва начальник исчезал из бюро, все кидались к телефону и звонили по личным делам или даже подыскивали себе новое место.
И Людвик воспользовался случаем и позвонил знакомой из юридической конторы. Он просто решил попытать счастья: может быть, именно она и есть та девушка, которую он ищет, которая поймет его и разумом и сердцем, возможно, она тоже одинока, вечерами ей не с кем поговорить, не с кем пойти в кино, в театр. Уже несколько дней он вынашивал мысль о том, что надо бы позвонить ей, напомнить о себе, пока прошло еще не так много времени, пока еще не рассеялось приятное впечатление от их милого разговора в поезде.
Он набрал номер и услышал ответ. Людвик сразу же узнал ее приветливый голос.
— Я нашел в кармане коробочку от ваших сигарет, — сказал он.
— Слишком долго вы ее искали. За это время я бросила курить, — ответила она.
— Я все ждал удобного случая.
— Случая не ждут, случаем пользуются, — усмехнулась она.
У нее явно было желание поговорить. Людвику показалось, что сотрудники прислушиваются к их беседе, поэтому он искренне признался:
— У нас на всех один телефон, и мы можем звонить лишь в отсутствие начальника…
— Мне жаль вас. А я без телефона как без рук…
— В воскресенье вы поедете домой? — спросил он напрямик.
— В это — нет. Только через неделю…
— Что, если мы встретимся в воскресенье и вместе пойдем куда-нибудь.
Она ответила не сразу.
— С удовольствием. Но воскресенье для меня всегда противный день…
— Вдвоем, надеюсь, он не покажется нам таким уж скверным.
— Все будет зависеть от вас, насколько вам удастся развеять печаль моего сердца…
— Вам грустно? — не понял он.
— Иногда даже чересчур. Самой противно.
И они договорились встретиться в воскресенье, в три часа, у Национального театра.
После этого короткого разговора Людвик воспрянул духом, все виделось ему в ином свете, в более мягких тонах. Он уже не переживал из-за работы, ему казалось неважным, будет она или нет на следующей неделе, он уже не боялся предстоящей вечеринки у пана Дашека, где собираются пить, кричать, хлопать дверьми. Даже Эда не казался ему таким уж несносным, погруженным в свои мрачные мысли, просто он был таким, каким был, — странным. Все отступило на второй план, а на первом плане он увидел себя и Индру: они будут бродить по улицам, рассказывать о себе, делиться своими мечтаниями, которые свяжут их в будущем.
Людвик многого ждал от этой встречи: он вырвется из своих бесцветных пражских будней и заживет наконец содержательной жизнью.
Все ему казалось достижимым, стоило лишь самому захотеть твердо идти к намеченной цели, искать и находить для себя в этом угрюмом, безжалостном мире хотя бы частицу согревающего тепла.
Он был убежден, что на все это у него есть неотъемлемое право, что его надежды осуществятся.
Вечеринка у инженера Дашека не удалась. Было скучно и нудно, как это бывает на плохом спектакле. Весь вечер лил дождь, а при такой погоде, как известно, на людей нападает тоска. Из-за проливного дождя все явились врозь, со значительным опозданием; инженер Дашек уже беспокоился, куда это все запропастились и придут ли вообще. Но гости пришли, вымокшие, запыхавшиеся, каждый придумал какое-то оправдание. Маленькая комната инженера наконец заполнилась. Раскрытые мокрые зонтики гости расставили в проходной комнате вокруг обеденного стола, и потом в полутьме на них кто-нибудь обязательно натыкался.
Пан Пенка, седовласый франт в пенсне с толстыми стеклами, произнес короткую речь. От имени всех присутствующих он поздравил юбиляра, своего соседа по квартире, и пожелал ему счастья, здоровья, долгих лет жизни и тому подобное.
Растроганная хозяйка преподнесла инженеру красную герань в горшочке, потом один за другим к нему подходили гости, пожимали руку и выражали всевозможные пожелания. Дарили в основном бутылки или какую-нибудь мелочь, барышня Коцианова безо всяких церемоний поцеловала его в толстые губы. И Эда, к удивлению Людвика, преподнес Дашеку бутылку, завернутую в тонкую бумагу; сделал он это торжественно и при этом произнес:
— Это вам от нас обоих!
За столом было тесно; Людвик устроился рядом с Эдой, но тот не выдержал долгого сидения на одном месте, поднялся из-за стола, походил по комнате и стал, прислонившись к шкафу.
Выпили по рюмочке домашней сливовицы, закусили копченым салом с перцем, но вместо того, чтобы прийти в бодрое и веселое расположение духа, опять скисли, хотя на столе стояло много самых разных бутылок.
Инженер радушно потчевал гостей, открывал бутылку за бутылкой, чтобы каждый наливал себе то, что ему по вкусу, но пить никому не хотелось. Только Эда не отказывался, он опрокинул уже третью рюмку хмельного; Людвик даже испугался, как бы Эда не запьянел.
Но ничего такого не произошло. Гости сидели молча, словно воды в рот набрав, и позевывали. Тягостная тишина охватила всех, разве что барышня Коцианова изредка хрипло посмеивалась. Хозяйка быстро и незаметно удалилась, чтобы своим видом не омрачать и без того тоскливого настроения собравшихся.
Один лишь Дашек был всем доволен, он удобно развалился в кресле, заполнив все его сиденье, он твердил, что рад тому, что пришли все и этим доставили ему огромное удовольствие, ведь он отмечает свой день рождения в кругу друзей, а сегодня очень важно, чтобы человек не чувствовал себя одиноким.
Между тем Эда уже беседовал с барышней Коциановой — они сидели на диванчике, куда свет почти, не падал. Несомненно, барышня Коцианова воспользовалась моментом, чтобы расставить свои сети.
Но их беседу прервал пан Пенка, благообразный и солидный банковский служащий; он остановился перед ними и вызывающе обратился к барышне Коциановой:
— Несомненно, вам, мадам, уже говорили, что у вас обольстительные ноги.
Она рассеянно улыбнулась и самоуверенно ответила:
— И не только ноги, пан Пенка, но и кое-что еще…
В гостях у Дашека был Ремеш с женой, тот самый, что снимал комнату с отдельным входом, куда привез из провинции свою жену с завитыми кудрями, чтобы не скучать, чтобы она его вечерами ждала. И именно этому так завидовал Эда.
Были тут и те картежники, что заходили к пану инженеру скоротать ночь за игрой. И один из них робко предложил:
— А не сгонять ли нам партийку?
Но инженер Дашек отклонил это предложение, которое, возможно, внесло бы немного оживления в унылый вечер, он сказал, что этого делать не следует, потому что все гости одновременно не могут заняться игрой. Он всячески веселил своих друзей вульгарными анекдотами, но гости лишь вежливо улыбались и почти не слушали, потому что давно их знали.
Потом Ремеш вдруг вспомнил, что Эда бывший боксер, он сообщил это гостям, й взоры всех обратились на него.
— Расскажи-ка нам, как ты боксировал с Некольным, — попросили его.
Такая просьба застала Эду врасплох. Во-первых, он не любил об этом говорить; во-вторых, заниматься воспоминаниями сейчас у него охоты не было, ибо это отвлекало его от общения с барышней Коциановой.
— Были и другие, которые мне давали по мозгам. Оттого они у меня до сих пор не на месте…
— Правда, говорят, что в азарте боксеры могут и убить? — не унимались гости.
— Еще бы! — с неохотой ответил Эда. — Такие случаи бывали. Да вот совсем недавно на Зимнем стадионе один калмык боковым ударом сломал немцу челюсть, да так, что та въехала в висок. Через три дня немец дал дуба.
— А что бывает с тем боксером, который убил или изуродовал своего соперника? — поинтересовались гости.
— Что может быть? — переспросил Эда. — Если он не нанесет удара, то получит его сам. Если ты не нокаутируешь противника, он нокаутирует тебя…
Однако и этот разговор не изменил общей настроенности вечера. Зато внимание всех теперь сосредоточилось на Эде.
И Эда, как ни странно, то ли под действием выпитого, то ли оттого, что взоры всех обратились к нему, неожиданно разговорился. Возможно, это произошло и потому, что он хотел произвести впечатление на барышню Коцианову.
— Как-то один парень из Пардубиц так впаял мне в лоб, у меня аж искры из глаз посыпались, и я чуть не оказался в нокауте. А он все колотил меня, словно спятил. Тогда уж и я рассвирепел и вмазал ему в лоб, причем старался бить в одно место. Но он вроде бы и не чувствовал ничего, наскакивал на меня и норовил ударить в затылок. Потом мне удалось крепко дать ему по носу… и он уже не встал.
Эда так увлекся, что чуть было не начал демонстрировать свои удары. Людвик не мог припомнить, чтобы он когда-либо с такой охотой рассказывал о своей карьере боксера.
— Порой град ударов настолько выбьет из тебя сознание, что сам не знаешь, жив ты или нет, — продолжал Эда.
— Это оставляет последствия? — довольно бестактно поинтересовался Ремеш.
— Последствия? Какие последствия? — не понял Эда. — Во время встречи с Некольным я получил сотрясение мозга. То состояние, которое у меня было тогда, время от времени повторяется. Оно наступает, когда его меньше всего ждешь. Иногда, мне кажется, влияет и погода, — признался он. — А иногда бывают у меня какие-то невероятные видения…
— Какие видения?
Эда не заставил себя долго упрашивать, он откровенно заговорил о том, что его мучило. Возможно, этим он хотел показать себя компанейским парнем.
— А вот, к примеру, такие. Иду я как-то по улице, гляжу на людей и замечаю одного мужчину, который спокойно шествует впереди. И вдруг я вижу, что он одноногий и с трудом передвигается по тротуару на костылях. А на самом-то деле он идет нормально, и ноги у него в порядке. Или вот еще: слежу за человеком, у которого нет головы, но тем не менее он пытается перейти улицу, и машина его сбивает. На самом же деле нормальный человек безо всяких проблем переходит улицу. Иногда мной овладевает такое чувство, будто заранее знаю, что́ с тем или иным человеком рано или поздно случится.
Все с удивлением слушали Эду.
— Или встречается хорошенькая девушка, красиво одетая, вся надушенная, кокетливая, она так стреляет глазками, что ни один парень не пройдет мимо, не оглянувшись, а я вдруг вижу под ее элегантной шляпкой вместо головы голый белый череп с пустыми глазницами. Тогда даже у меня самого мороз пробегает по коже…
— Мы вам тоже такими кажемся? — спрашивали его.
— Нет, такие видения бывают не всегда. Они появляются при определенных условиях, — объяснял Эда. — А на врагов, изменников и предателей у меня особый нюх. Я их распознаю моментально. Неважно, в штатской они или в военной форме. Если, к примеру, попадается мне офицер с военным крестом, я вижу на его груди вместо креста сквозное ранение с запекшейся кровью по краям…
Хуже всего сейчас чувствовал себя юбиляр, он сердился на Эду — тот явно стал центром всеобщего внимания, в то время как все должно было крутиться вокруг него, пана Дашека. Он снова принялся угощать, сетовал: мол, никто ничего не пьет, а хорошие напитки теперь раздобыть нелегко. С трудом извлек он свое массивное тело из мягкого кресла и сразу заполнил собой все свободное пространство комнаты.
К Людвику подошел пан Пенка и доверительно шепнул ему на ухо:
— Разве ваш друг не знает, что эта Коцианова путается с офицерами?
— С какими офицерами? — недоуменно спросил Людвик.
— Подумайте, может, сами догадаетесь, — скорчил гримасу Пенка и отвернулся от него.
Людвик следил, как он разговаривает с юбиляром, любезный, прилизанный, лукавый, и думал, что́ он за человек. Дома бывает редко, а когда приходит, то незаметно проникает в свою комнату, и никто не знает, тут ли он. Говорят, есть у него богатая дамочка, которая требует, чтобы он на ней женился, у нее он проводит вечера, а то и ночи, но свято оберегает свою независимость.
Всем становилось ясно, что из этого вечера не удастся выбить ни искорки веселья, и потому гости постепенно расходились. Первым ушел Ремеш со своей провинциальной женушкой, за ним остальные.
Наконец остались только свои — жильцы этой квартиры, но и они быстро разбрелись по своим углам: ушел пан Пенка, за ним барышня Коцианова, потом Эда; с хозяином остался, как ни странно, Людвик.
— Полюбуйтесь, какие люди неблагодарные, — недовольно проговорил Дашек. — Хозяин в лепешку расшибается, бегает по магазинам, чтобы сделать гостям приятное, а они это нисколько не ценят. Им лишь бы поскорее уйти домой, забраться под одеяло и дать храпака…
— Да, столько всякого вина, — с восторгом промолвил Людвик, глядя на батарею бутылок на столе, — но бывает так, что человеку не хочется пить…
— Со мной такого не бывает, — сказал Дашек, налил себе рюмку, выпил и в знак удовольствия причмокнул языком.
Дождь и ветер хлестали в окно, капли стучали по жестяному сливу.
— Выпейте-ка рюмочку на сон грядущий, — предложил Людвику юбиляр.
Людвик не противился.
— Вы, провинциалы, удивительные люди, — мудрствовал Дашек. — Всюду и во всем вы ищете стабильность, словно она возможна в современном мире. В нашей жизни все шатко, все неустойчиво и нет опоры…
Людвик улучил подходящий момент, пожелал хозяину доброй ночи и пошел спать.
Дашек один сидел за столом, уставленным бутылками, за частоколом которых терялась скромненькая герань.
Эда куда-то исчез. Его кровать осталась нетронутой. Может быть, он направился в свой любимый бар «Денница», а может, его завлекла в свою пропитанную запахом косметики комнату девица Коцианова.
Наконец настало воскресенье, и можно было вволю поспать.
За окном занимался бледный день, дождя уже не было, изредка из-за туч проглядывало своенравное солнце.
Едва проснувшись, Людвик сразу же подумал о том, что сегодня у него свидание с хорошенькой стенотиписткой из юридической конторы. Это было событие, и довольно значительное. Возможно, он слишком многого ожидал от этого свидания, а такое не всегда приводит к добру: чем больше человек на что-то надеется, тем сильнее потом разочарование.
Засунув голову под подушку, крепким, беспробудным сном спал Эда — хоть из пушки пали, не услышит. Людвик никогда еще не видел, чтобы он так крепко спал. Пришел он под утро, уже светало, тихо разделся, лег и мгновенно заснул. И ничего не мешало ему, хотя дом уже наполнился всевозможными звуками: голосами жильцов, скрипом и хлопаньем дверей.
В это воскресенье Эда впервые не поехал домой. Уж близился полдень, а он все еще спал.
Людвик потихоньку одевался, то и дело взглядывая на часы: до трех оставалось еще много времени, можно было бы пойти куда-нибудь с Эдой, но будить его не хотелось. В конце концов он решил уйти один.
На улице было по-воскресному тихо, тротуары и мостовые омыты вчерашним ливнем, кое-где поблескивали лужицы. Прохожих попадалось немного — все уже сидели по домам за праздничным обедом. Людвик зашел в закусочную-автомат на углу, позавтракал быстро и без аппетита — очень уж волновался перед свиданием.
Потом прошелся по набережной, любуясь рекой, чайками, пока не наступило три часа.
В назначенное время он стоял перед входом в Национальный театр и вглядывался в толпу. Улицу уже заполняла празднично одетая толпа горожан, вышедших после обеда прогуляться на свежем воздухе.
Он с трудом заметил Индру в движущейся массе людей. И, пожалуй, не узнал бы ее, настолько изменилась она после их первой встречи — Людвик не ожидал увидеть ее такой элегантной, — не подойди Индра к нему сама. Рукой она придерживала шляпу с широкими полями.
— Ждете давно? — спросила она.
— С тех пор, как мы познакомились в поезде, — набрался смелости Людвик.
— До последней минуты не знала, смогу ли прийти.
— Но ведь вы мне обещали, — сказал он.
— Обещать можно всякое.
Пройтись по улицам она не пожелала, сказала, что слишком ветренно. Согласилась ненадолго заглянуть в кафе напротив.
Он заказал ей, что она попросила, — вазочку мороженого, а себе — фруктовый сок с содовой; деньги у него теперь водились, экономить было незачем.
Людвик попытался выяснить, что же угрожало их встрече, почему она сомневалась, сумеет ли прийти, но она лишь отмахнулась.
— Забудьте об этом, — небрежно бросила она. — Я здесь, и это главное. Расскажите мне лучше о себе.
Он не знал, с чего начать, но тут вспомнил вчерашний вечер, рассказал и о том, как остался с Дашеком и слушал его разглагольствования о провинциалах, которые неустанно ищут стабильность в этом беспокойном мире и никак не могут ее обрести…
— Пожалуй, он прав, — сказала его собеседница. — Я тоже иногда поддаюсь такому старомодному суждению, что мир вечный и неизменный. Только в наше сумасбродное время нет ничего устойчивого, все временно, все мнимо, поэтому надо жить не задумываясь. День прошел — и ладно.
— Значит, отказаться от своих планов на будущее?
— Этого я не говорю. Но, видимо, сохраняет силу только то, что человек сможет взять от жизни, урвет для себя и у него никто уже не сумеет отобрать. А откладывать это на завтра-послезавтра смешно и недальновидно…
— Тогда, в поезде, вы говорили иначе.
— Почему иначе? Я думаю, всякий может мечтать, иметь свои представления о жизни и не отступать от них. Но ради этого мы не должны отказываться от того, что дает нам день насущный.
— Не понимаю, что вы имеете в виду…
— Например, я не вижу смысла сидеть все вечера дома и терпеливо ждать, когда за мной придет принц. Жизнь-то проходит мимо, что ей до меня.
— Разумеется, — согласился Людвик, — однако жить только ради себя, себя одной — бессмысленно. Потому я так ждал вас…
— Какой вы хороший… — озарила она его растроганным взглядом печальных глаз.
Покопавшись в сумочке, она, к удивлению Людвика, достала коробку сигарет и нервно закурила.
— Вы сказали, что не курите.
— Это было вчера. А сегодня мне хочется курить. Отметить нашу встречу.
Она жадно затягивалась, как заядлая курильщица, которой долго не давали курить.
Людвик молча смотрел на нее. Он думал, что Индра совсем не похожа на провинциалку, уже давно приспособилась к жизни большого города, в то время как сам он все еще недотепа, деревенщина и просто не подходит ей. Да разве смеет он добиваться ее расположения!
К счастью, она не заметила его сомнений, она курила и от дыма щурила глаза; казалось, что она женщина с опытом, знающая о жизни многое.
— Может, пойдем в кино? — спросила она, загасив сигарету.
Оба чувствовали себя неловко, не знали, о чем говорить, и ее предложение показалось ему прекрасным выходом из трудного положения. Она выбрала фильм с интригующим названием — «Девственность». В кассе им продали последние билеты.
Свет в зале погас, на экране сменялись кадры, повествующие о трогательной несчастной любви молоденькой судомойки и чахоточного журналиста. Они были бедны, и, чтобы получить деньги на лечение любимого человека, после длительных и мучительных колебаний девушка решила пойти на содержание к престарелому советнику. Но между тем здоровье журналиста все ухудшается, он умирает, и умирает чистая любовь, дождь, как слезы, капает на крыши старых пражских домов…
Когда они вышли из кинотеатра, Людвик заметил, что его спутница осторожно вытирает платочком заплаканные глаза. Девушка была взволнована, не могла ни о чем говорить. Он не нарушал этого ее состояния, и они шли куда глаза глядят.
Незаметно он взял ее под руку. Они шагали медленно, совсем рядом, изредка останавливаясь перед освещенными витринами и без всякого интереса осматривая выставленные товары. Он не видел ее лица, его закрывали широкие поля шляпы, но понял, что она уже успокоилась.
— Простите, — виновато сказала она. — Мне не хочется говорить.
— Ну что ж, помолчим вместе, — ответил он тихо.
Людвика охватило новое, никогда ранее не испытанное чувство. Он был не один, они шли вдвоем, и ему нисколько не мешало, что спутница его молчит, что она до сих пор переживает волнующую историю чужой любви. Он тоже ощущал волнение, но не от фильма, а оттого, что рядом о ним идет такая привлекательная, элегантная девушка. Многие ему позавидовали бы.
Теперь он видел все вокруг в ином свете, смотрел на мир другими глазами. Ему хотелось, чтобы улицы были бесконечно длинными и тесными, чтобы они шли долго, тесно прижавшись друг к другу. Сам себе он представлялся героем фильма, который в конце концов нашел свою любовь и должен безотлагательно принять решение.
— Мне хочется есть и пить, — сказала вдруг Индра, и это прозвучало просто и естественно.
Они остановились возле кафе-автомата, в такое время почти пустого.
Они зашли. Это было кафе без официантов, без обслуживания. Достаточно опустить несколько крон в автомат с бутербродами, как в застекленной витрине поворачивалось какое-то хитрое устройство и выдавало на салфеточке нечто удивительно вкусное. Они взяли по три бутерброда и с жадностью накинулись на них. Когда все было съедено, они рассмеялись и признались друг другу, что были страшно голодны.
Тут они заметили другой автомат, с помощью которого можно было получить стакан вина. Они решили попробовать малагу. Автомат выдал им точно отмеренную порцию коричневатого напитка, который, судя по вкусу, был разбавлен водой, но это их не огорчило, потому что после бутербродов страшно хотелось пить. На три бутерброда — три порции малаги. Последний, третий стаканчик они пили за счастливый случай, который свел их, и за все то хорошее, что ждет впереди.
Тем временем в кафе гурьбой ввалились подростки — парнишки и девочки. Они шумели, галдели, смеялись, вталкивая монеты в автомат с вином.
Людвик и Индра вышли на улицу и смешались с прохожими; машинально взялись за руки, и это показалось им вполне естественным. Индра повеселела.
Она рассказала, как приехала два года назад в Прагу, как получила место в юридической конторе; дома у нее не было никаких перспектив, разве что работать в конторе фарфорового завода, а затем выйти замуж, рожать детей, разводить кроликов, сажать капусту — все, что делали ее школьные подружки, мечтавшие поскорее обзавестись мужем и хозяйством. У нее были свои представления о будущем. Она мечтала обосноваться в большом городе, узнать новую жизнь, ходить в театры и на концерты — словом, вести культурный образ жизни. А что дома? Кинотеатр, где несколько раз за сеанс рвалась пленка. Но и сейчас она не может сказать, что всем довольна. Жизнь в большом городе имеет свои светлые и теневые стороны, причем теневые преобладают, зачастую не знаешь, как выбраться на свет. В подробности она вдаваться не стала, и даже когда Людвик спросил ее о «тенях», она в ответ лишь улыбнулась и свела к тому, что это, скорее, ее ошибка, она приехала сюда наивная и доверчивая, ожидала слишком многого, но потом многое поняла и начала приспосабливаться. Но к чему она начала приспосабливаться, она тоже не сказала. Правда, как-то вскользь обронила, что серьезно подумывала вернуться домой, но пока не может решиться, потому что ничего не привыкла делать сгоряча.
Они дошли до Вацлавской площади, в вечернее время переполненной людьми, словно все горожане стеклись сюда на свидания, концерты, в театры и кино, а может быть, просто пройтись по широким тротуарам в надежде здесь встретить того, кого они давным-давно искали.
На перекрестке Людвик вдруг увидел в толпе пана инженера Дашека, который чинно вышагивал, важно неся свой объемистый живот и держа под руку маленькую хрупкую женщину. Он что-то настойчиво внушал ей. Людвик помахал ему, но Дашек не заметил, вероятно, он так был занят своей собеседницей, что не воспринимал окружающее.
Из кафе напротив, на втором этаже, неслась танцевальная музыка, призывные мелодии вылетали из открытого окна, смешивались с неумолкающим шумом города и распадались на отдельные пассажи. Порой отчетливо прорывался тоскливый голос певца, исполняющего любимую молодежью песню:
Я с подружкою. А дождь идет, идет, Голова от дум расколется вот-вот. Серый дождь размыл дороги и пути, Что мне делать, как мне быть, куда идти?Людвика осенило: а не пойти ли им потанцевать. Индра согласилась. Шляпу на сей раз она оставила в гардеробе и долго прихорашивалась перед зеркалом.
Звучало танго, они влились в танцевальный круг и закружились в полутемном зале, упоенные музыкой. Он крепко обнял ее за талию, она прильнула к нему, а при заключительных тактах мелодии положила голову ему на плечо. Так они и стояли посередине зала и ждали, когда музыканты заиграют новую мелодию. Остальные пары так же ждали, как и они.
Людвик вдруг почувствовал на себе чей-то упорный взгляд, он повернулся и увидел ехидно улыбающегося дядюшку. Тот стоял совсем близко, обнимая свою партнершу, конечно же Дашу, кто же еще мог быть с ним!
— Я думал, ты избегаешь нас, — сквозь зубы процедил дядя через плечо своей партнерши. — А ты, оказывается, просто врун.
К счастью, оркестр заиграл быструю польку, пары оживленно задвигались, и дядино лицо исчезло.
— Кто это? — спросила Индра.
— Мой дальний родственник, — нехотя признался Людвик. — Торгует дефицитным товаром. Себя считает фабрикантом…
Людвику была неприятна эта неожиданная встреча с дядей, было перед ним немного совестно, и теперь его присутствие здесь нарушало интимную атмосферу вечера. Напрасно он стремился незаметно улизнуть от дяди.
Как и следовало ожидать, дядя с Дашей подхватили их у танцевальной площадки и, не слушая никаких объяснений, потащили в свой кабинет. Дядя тут же заказал коньяк для всех. После взаимных представлений — дядя высоко оценил достоинства новой знакомой Людвика и до небес расхвалил свою мило улыбающуюся партнершу — он без обиняков спросил Людвика:
— Так что с тобой? Давай признавайся!
Людвик безо всяких уверток объяснил: он не поехал с ними в Сенограбы, так как получил письмо от матери, в котором она просила его незамедлительно приехать домой — тяжело заболел дедушка. Все произошло столь внезапно, что он не смог сообщить об этом дяде и извиниться. На обратном пути в Прагу в поезде он познакомился с Индрой, и это для него самое важное событие. Сегодня они впервые встретились и случайно зашли сюда. Он, конечно, не предполагал, что встретит тут дядю.
— Как же ты не знаешь, что в этом кафе я бываю чаще, чем дома? — хихикнул дядя.
Откровенное признание Людвика полностью удовлетворило его, и он перенес свое внимание на Индру. Он шутил с ней и умильно улыбался.
Даша, воспользовавшись этим, наклонилась к Людвику, обдав его запахом духов, смешанным с запахом пота, и доверительно зашептала ему на ухо:
— Сюда придет Маша. Сразу же после спектакля. Но вас это уже, наверное, не интересует?
Людвик неопределенно пожал плечами.
Дядя снова предложил выпить коньяку, он вошел в раж, все твердил, что сегодня очень весело, что вот-вот появится Маша, при этом он многозначительно посмеивался. Потом опять танцевали, а когда собирались вместе, дядя говорил, что никто не знает, что ждет их завтра, что надо жить сегодняшним днем, сегодня мы — на этом свете, а завтра может случиться всемирный потоп.
— Главное в том, чтобы человек всюду чувствовал себя как дома, чтобы он не сторонился людей, — бодро философствовал он и вдруг без всякого перехода спросил Людвика:
— Ты чего такой? Чего надулся?
— Да нет. Только я… Нам надо уже уходить.
— Почему? — удивилась Индра. — Спешить нам некуда. Мне тут нравится.
А дяде только этого и надо было. Он принялся посмеиваться над Людвиком, что он, мол, шляпа, что не умеет гулять и веселиться, что вечно глядит букой, поглощен своими маленькими заботами.
Людвик и не пытался защищаться, покорившись судьбе, он сидел молча. Однако его взорвало то, что расфуфыренный дядя пригласил на танец Индру. Людвик ревниво следил, как они танцевали, как дядя крепко прижимал ее к себе, держал в объятиях, а Индра с любопытством на него поглядывала.
Ему ничего не оставалось, как предложить потанцевать Даше, та с благодарностью приняла его приглашение, их подхватил вихрь стремительного вальса, так что у Людвика даже голова закружилась. Мелькали белые воротнички мужчин и завитые волосы раскрасневшихся женщин. Даша прижималась к нему полной грудью и всем своим телом, горячо дышала ему в шею. Он не мог дождаться, когда избавится от ее объятий.
— Что мне передать Маше? — спросила она, когда смолк оркестр.
Людвик глазами выискивал дядю, но нигде не видел его потасканного лица с зализанной седеющей головой. Похоже, они ушли с танцевальной площадки.
— Ничего, — ответил он раздраженно. — Тогда я не мог поехать с ней в Сенограбы…
— Теперь у вас, по-видимому, более серьезные причины? Или нет? — не отставала она.
— Вероятно.
— Маша вас любила, — гнула она свое. — Она мне по секрету сказала, что после того… она так надеялась…
Людвик молчал. Он был убежден, что все это пустая болтовня, что Маша и сама не воспринимала серьезно их случайное знакомство, у нее было и без того много поклонников, никто ей не был нужен, и тем более он, Людвик.
— Я болела за вас, — продолжала Даша. Голос ее прерывался: они танцевали быстрый танец. — Мне было приятно, что она вас полюбила…
И снова перед Людвиком мелькали белые воротнички и причудливые женские прически. Ему стало нестерпимо жарко, трудно было дышать, голова закружилась, в глазах зарябило. И партнерша его устала, она повисла на его плече, но музыка гремела, набирая темп. Людвик, не выдержав, внезапно остановился посреди зала. Хорошо еще, Даша держала его, не то он упал бы на радость всем.
— Извините, — проговорил он.
В кабинете дяди и Индры не было.
— Для меня лично это тоже было хорошо, — призналась Даша, — чтобы Властик не приставал без конца к Маше. Понимаете? Ведь он не может спать с нами обеими. По крайней мере я не желаю этого…
Он слушал ее, но воспринимал ее голос словно издалека, и, хотя полностью осознавал потрясающий смысл того, что она говорила, это его нисколько не трогало, тем более не трогали ее мучения. Он в самом деле чувствовал себя плохо, он опустился на скрипучий диванчик и невольно расстегнул пуговицу на рубашке.
— Только, пожалуйста, ничего не говорите Властику, — взволнованно попросила Даша. Она все еще тяжело дышала, и ее могучая грудь вздымалась высоко.
Наконец из табачного смрада выплыли дядя с Индрой, оба веселые, улыбающиеся, дядя был здорово захмелевшим, Индра — оживленная и раскрасневшаяся; они на удивленье быстро сблизились. И именно это угнетало Людвика, он ревновал Индру, ему не нравилось ее естественное поведение в этой отвратительной обстановке.
Как только дядя уселся за стол, а Индра закурила сигарету, Людвику стало не по себе, он то и дело поглядывал на часы и про себя прикидывал, когда Маша освободится и появится тут. Он должен что-то придумать, чтобы не встретиться с ней. Но как это сделать, если дядя снова заказал коньяк, а Индре, видно, все это нравилось.
— Мне пора идти, — повторил Людвик, но никто его не слушал, просто не верили, что он об этом думает всерьез.
— Ну и иди, никто тебя не держит, — бросил наконец раздраженно дядя. — Сидишь тут как мокрая курица — не говоришь, не пьешь, даже посмеяться не можешь, скажи, что с тобой?
— Мне нехорошо, — проговорил Людвик смиренно. — Надо выйти на свежий воздух…
Индра загасила в пепельнице недокуренную сигарету, явно намереваясь уйти вместе с ним.
Людвик видел все как сквозь туман, размазанным: морщинистое лицо дяди, подбородком упирающееся в белый воротничок, казалось еще более морщинистым, светлая Дашина головка на фоне потертой обивки странно кивала в знак согласия, а удивленные светло-голубые глаза Индры укоряюще следили за ним. И музыка теперь звучала глухо, словно на зал набросили толстое грубошерстное одеяло, оно все заглушало, отодвигало на задний план неутомимые пары, тихо плывущие на фоне широкого темного окна, которое, казалось, было открыто настежь, и танцующие возносились над Вацлавской площадью, над головами прогуливающихся прохожих.
— Я всегда предполагал, что у тебя деревенская косточка, как у твоего деда, — зашипел дядя. — Но оказывается, ты просто слабак, дерьмо, самое обыкновенное дерьмо…
На лестнице Людвик заметил, что идет один, без Индры.
Он вернулся в кафе и увидел Индру — гардеробщик подавал ей шляпу. Она не надела ее, а понесла в руке.
— Я рад, что вы меня не покинули, — с признательностью сказал Людвик, когда они вышли наконец на свежий воздух.
— Я и не думала, что вы такой… — Она оборвала фразу. — А ваш дядя просто прелесть…
Не имело смысла омрачать ее приятное впечатление. Они снова шли молча, то обгоняя, то пропуская прохожих, пока не свернули на боковую улочку. И опять будто случайно она коснулась его руки и сжала его холодные пальцы в своей ладони.
— Для меня так важен был сегодняшний вечер, — искренне признался Людвик, — и чуть все не лопнуло…
— Почему? — удивилась его спутница. — Это был вполне приятный вечер. Жаль только, что вы заупрямились и нам пришлось быстро уйти…
На мосту они остановились полюбоваться могучим силуэтом Градчан на фоне темного неба. В спокойных, черных водах реки, отражались огни, а по берегам возвышались темные силуэты домов и остроконечных башен.
— И все равно я рад, что могу жить в Праге, — взволнованно проговорил Людвик, — рад, что мы сейчас вместе.
Она прижалась к нему и положила голову на его плечо. И опять он почувствовал легкое головокружение, словно исполнилось все то, чего он давно ждал, словно все то, о чем он втайне мечтал, было теперь совсем близко. Он склонился над ней и поцеловал в губы. Поцелуй был легкий, несмелый — краткое прикосновение к губам. А она, видно, только того и ждала, чтобы он сделал этот первый шаг, чтобы потом ей целовать его, целовать без стеснения, не обращая внимания на проходящих мимо людей. И ветер с реки не мешал ей; он лишь тихонько развевал ее волосы.
Людвику казалось, что именно сейчас он открывает неведомые до сих пор красоты Праги.
8
Невозможно предвидеть, какие сюрпризы преподнесет человеку жизнь. То, чего меньше всего ожидаешь, что кажется невероятным, вдруг свершается. Как назло. Как издевка над ограниченными представлениями о жизни.
Людвик проводил Индру до ее дома. Они еще долго стояли на улице и целовались. Едва захлопнулась за ней дверь, как Людвик помчался к трамвайной остановке. Он надеялся, что дома будет один, Эда наверняка придет поздно, и он, Людвик, сможет помечтать и вспомнить все, чем был наполнен его сегодняшний день, особенно те приятные, незабываемые, неповторимые минуты, те прикосновения, поцелуи, слова, он будет восстанавливать в памяти все то, что так сблизило их.
Индра — замечательная девушка, и в этом не может быть сомнения, хотя он еще не очень хорошо знает ее; правда, она немного эксцентрична, иногда ее поведение трудно объяснить, возможно, она человек настроения, но какая женщина без капризов. Главное, из кафе она ушла вместе с ним, хотя и не знала, отчего Людвик так торопился. А потом поцелуи на мосту, над темной рекой с отражающимися в ней огнями, поцелуи, захватывающие дыхание, пьянящие, сулящие счастье.
Людвик уже из прихожей заметил под своей дверью тонкую полоску света. Значит, Эда был дома. Людвик быстро вошел в комнату, но увидел сидящую за столом постороннюю женщину, лицо которой показалось ему знакомым, но он не мог вспомнить, где видел ее. Бледная блондинка с длинными волосами и испуганными светлыми глазами выглядела измученной, подавленной. Она сидела опершись локтями о стол, перед ней стояла открытая сумочка.
— Я жду Эду, — сказала она глухим сдавленным голосом. — Ваша хозяйка была настолько любезна, что пустила меня сюда…
Людвик глянул на часы: было без малого одиннадцать.
— Я не знаю, где Эда, — сказал он смущенно. — До обеда он спал, а куда ушел потом, не знаю…
— Он обещал приехать домой, — шептала блондинка, и голос ее дрожал, того и гляди расплачется, — а сам не приехал. Вот я и кинулась сюда. Сегодня должна была быть наша помолвка…
И тут все стало ясно. Людвик сразу же вспомнил, что видел ее вместе с Эдой на стадионе, следил, как они шли под руку и даже издалека приглянулась ему ее красивая, стройная фигура. Теперь она показалась ему совсем другой: невидная, осунувшаяся, расстроенная, потерявшая блеск и прелесть молодости. Неудивительно, что ее постигла такая беда.
— В последнее время Эду словно подменили, — жаловалась она. — Не знаю, что с ним происходит. Часто я вообще не понимаю его. То он сердится на меня. А между тем я боюсь за него. Ведь он действительно серьезно болен.
Людвик был уверен, что Эда, скорее всего, в «Деннице». Но как узнать, где находится этот бар! Эда, хотя и частенько упоминал о нем, никогда не говорил, где он располагается.
— Пойду поищу его, — предложил Людвик свои услуги гостье. — Может, где-нибудь и найду…
Она вскочила, схватила свои вещи, выражая готовность пойти вместе с ним.
— Прошу вас, не надо, — сказал Людвик твердо. — Я не знаю, где он. Просто обойду сейчас кафе и бары, куда он обычно заглядывает. А вы подождите здесь…
Слезы выступили у нее на глазах, руки ее дрожали, когда она клала сумочку на стол.
— Но в полночь я должна быть на вокзале, — проговорила она, всхлипывая. — К последнему поезду. Утром мне на работу.
— Я вернусь очень скоро, — успокаивал ее Людвик. — Не бойтесь, на поезд вы успеете…
Ясно было, нельзя терять ни минуты.
На улице Людвик спрашивал прохожих, где находится бар «Денница». Одни пожимали плечами, другие ругали его, говоря, что бары в такое время ищут только пьянчуги. Он не знал, куда идти, чтобы понапрасну не терять время, которого и так оставалось мало.
Сломя голову побежал он к Карловой площади. И снова расспрашивал прохожих, но безрезультатно, пока один мужчина вместо ответа не показал ему пальцем на красную лампочку над дверью углового дома, что напротив. Ничего более, лишь красная лампочка указывала на вход в полутемное подземелье, где скрывался от мира таинственный бар «Денница».
Несколько стертых ступенек винтовой лестницы вели к небольшому продолговатому полутемному залу. Людвик невольно остановился на пороге и, вглядевшись, нашел в красноватом полумраке стойку, четыре стола в специальных углублениях и черный рояль, из которого пожилой длинноволосый пианист, покачивая в такт седой головой, извлекал душещипательные мелодии.
Посетителей было мало, в основном мужчины, и только за одним столом он, к своему удивлению, увидел барышню Коцианову; она оживленно болтала с двумя мужчинами, была явно навеселе, то и дело надрывно смеялась, и смех ее, сопровождаемый нежными звуками рояля, игриво разносился по всему залу. Так вот где барышня Коцианова проводит свои вечера, вот они, ее загадочные сверхурочные часы, вот где работает она сестрой милосердия!..
Эда сидел за стойкой на высоком стуле, широкой спиной и мощным затылком к залу; черная голова его была чуть наклонена, будто он над чем-то глубоко задумался; он, видно, ничего не воспринимал, возможно не слышал ни смеха, ни звуков рояля. У стойки временами мелькала стройная черноволосая девушка в плотно облегающем черном свитере, изредка на ходу она переговаривалась с Эдой или просто улыбалась ему; казалось, что Эда сидит тут только ради того, чтобы поймать случайно оброненные ею слова или ее вежливую улыбку.
Людвик положил руку на плечо Эды, но тот мгновенно сбросил ее, будто испугался чего-то. Однако, увидев Людвика, приветствовал его кивком головы и предложил сесть рядом с ним.
— Пошли, каждая минута дорога, — выпалил Людвик. — Расплатись, и скорее домой. Там тебя ждет твоя невеста…
— Кто? Ева? — Эда словно пробудился ото сна. — Что она еще придумала? Приехать в Прагу!.. Вот дура!
— Она хотела идти сейчас вместе со мной. Но я сказал ей, чтобы она подождала, что я приведу тебя…
— Вот и пусть ждет, — презрительно махнул рукой Эда и недовольно пробормотал: — А у меня нет желания, сейчас встречаться с ней.
— Но она не может уехать, не повидав тебя. В полночь уходит последний поезд…
Музыка затихла, и в зале воцарилась удивительная тишина, даже барышня Коцианова не смеялась, и Людвик понял, что он говорил чересчур громко.
В отчаянии взглянул он на часы. Не было смысла спорить с Эдой: он заартачился, упирался как осел, говорил, что Еву не приглашал, что не хочет ее видеть, что она ему надоела и пусть спокойно отправляется восвояси. Все это он произнес ровным голосом, без огорчения, по всей видимости так, как еще совсем недавно отделывался от многочисленных поклонниц.
— Что же я ей скажу? — спросил Людвик. — Как объясню?.. Она такая расстроенная, все время плачет. Я же не знаю, что между вами произошло…
— Ничего особенного, — отрезал Эда мрачно. — Скажи что хочешь. Придумай что-нибудь.
Но Людвик ничего не мог придумать. И правду не отважился сказать. Он вернулся домой запыхавшись и ничего лучшего не нашел, как просто сказать ей, что отыскать Эду не удалось.
— Он, наверное, обиделся на меня, — проговорила она, глотая слезы. — Это не я, а наши хотели, чтобы у нас была помолвка…
— Нам надо торопиться на вокзал, — напомнил ей Людвик, — иначе опоздаем на поезд, а ночевать вам здесь негде…
Она не возражала, медленно поднялась и нехотя взяла свои вещи…
К счастью, не успели они подойти к остановке, как появился трамвай, который довез их прямо до вокзала. Времени оставалось в обрез.
По дороге Ева немного успокоилась, уже не плакала, но лицо ее было странно застывшим, глаза опущены, словно она стыдилась чего-то.
Они поспешили на перрон. Поезд уже стоял, готовый к отправке. Проводник ходил от вагона к вагону, захлопывая двери.
К нужному вагону они подбежали в последний момент, когда состав заскрипел и тронулся.
Он смотрел на ее бледное лицо в рамке длинных волос цвета соломы. Она открыла окно и крикнула:
— Передайте Эде, что я люблю его… Только его одного…
Она кричала что-то еще, но из-за шипения паровоза, гулко разносившегося по крытому перрону, слова разобрать было невозможно.
Людвик помахал на прощание рукой. Ему было жаль ее: перед глазами стояло заплаканное лицо Евы. Жаль было и того, что прервалась их с Эдой любовь, с которой тот еще совсем недавно связывал большие надежды.
Наконец Людвик добрался до кровати и лег; в его утомленном мозгу прокручивались события прошедшего дня: свидание с Индрой, разговор с дядей, печаль невесты Эды, унылая атмосфера бара «Денница». Но постепенно все образы и картины расплывались — сон брал свое.
Однако громкий стук в дверь разбудил его. Разумеется, стучал кто-то посторонний, соседи их, возвращаясь ночью, привыкли без шума пробираться через проходную комнату.
Поскольку Людвик не отозвался, дверь тихо отворилась, и в комнату кто-то заглянул. На фоне желтого света, падавшего из коридора, Людвик различил силуэт барышни Коциановой. Даже глядя на нее против света, он увидел, что она напугана.
— Вы спите? — спросила она осипшим голосом. — Мне надо с вами поговорить.
— А до утра нельзя подождать?
— Нет, нельзя, — отрезала она и дрожащим голосом слезно стала просить: — Оденьтесь, прошу вас, пойдемте на минутку ко мне. Случилось ужасное…
Людвику не оставалось ничего, как быстро натянуть брюки и пойти в ее комнату. Делал он это неохотно, глаза слипались, в мозгу роились воспоминания о том, как они прощались с Индрой. Не выполнить настойчивой просьбы Лили он не мог, хотя и негодовал: что этой женщине надо? Зачем вмешивается она в его жизнь? Ведь сама же сказала, что он ее не интересует.
И вот опять среди ночи он сидел в ее комнате, в которой царил все тот же беспорядок: всюду разбросаны платья, белье, мелкие вещички. Сама Коцианова — в той же полурасстегнутой блузке, посреди комнаты — туфли; она нервно теребила короткие волосы и беспокойно сновала по комнате. И что самое удивительное — была в очках с толстой оправой и выглядела в них как-то странно, отчужденно.
— Случилось страшное дело, — заговорила она взволнованно, едва владея собой. — С Эдой, понимаете, с Эдой…
Речь ее прервалась, она захлебывалась собственными словами. Чтобы прийти в себя, она села напротив Людвика, с отсутствующим взглядом гладила вышитую скатерть.
— Я была со своими знакомыми в «Деннице». Потом туда пришел Эда…
— Знаю, — прервал ее Людвиг. — Я туда забегал.
Возможно, она не слышала его слов или просто не принимала их во внимание.
— Мы понемногу пили, как это бывает. Эда сидел у стойки один и переговаривался с барменшей. В полночь мы поднялись и пошли. Эда сидел у стойки и делал вид, что не замечает нас. Мы собирались еще зайти к Эрнсту, он жил поблизости за углом, но тут нас догнал Эда… Не знаю, спьяну или просто от ревности, не говоря ни слова, трахнул Эрнста по лицу. Да так сильно, что бедный Эрнст сразу потерял сознание.
Людвик слушал, затаив дыхание.
— Их было двое. А что второй? — спросил он.
— Тот схватился за пистолет и, наверное, тут же пристрелил бы Эду… Вы знаете, немцы позволяют себе все что угодно. И никогда им ничего за это не бывает: мол, в порядке самообороны — и баста… Эда взглянул на него и в тот самый момент, когда он уже вытягивал пистолет из заднего кармана, крепко ударил его по носу. Руки Эды сразу же стали красными от крови, он вытер их платком и куда-то исчез…
— Боже мой! — в страхе воскликнул Людвик.
— Нас обступили люди. Как раз в это время проезжал патруль. Все убежали, и я тоже.
— Вы думаете, Эду будут искать?
— Едва ли. Никто его не знает, — сказала она и расплакалась. — Как жаль, что это произошло. Я и думать не могла, что он все примет так близко к сердцу. Он рассердился на меня за то, что я сидела с этими немцами… получилось это случайно, я туда обычно не хожу…
— У вас с Эдой что-нибудь было? — спросил ее Людвик напрямик.
— Это вас не касается, — резко ответила она. — И дело не в том. Я боюсь, что Эда не придет домой. Он может опасаться, что я на него донесу…
— А вы не донесете, нет? — допытывался Людвик.
— Вот о чем я и хотела с вами поговорить.
Она сняла очки и протерла стекла фланелевой тряпочкой. Только сейчас Людвик обратил внимание на ее глаза — ввалившиеся, усталые и испуганные.
— Если Эда вдруг позвонит или как-то объявится, то прошу вас, скажите, что ему нечего бояться, я никогда не выдам его…
— А что у вас общего с немцами? — не унимался Эда.
— Ничего. Что у меня с ними может быть? — притворно удивилась она. — Просто привыкаю к их присутствию, как мы привыкаем к дурному воздуху. Ведь это естественная жизненная необходимость. Разве не так?
Она подошла к кровати и легла не раздеваясь. Растрепанные волосы закрывали белую подушку.
— Я должна была обо всем рассказать, — проговорила она совсем тихо, — чтобы вы знали, как все было. Теперь уходите, я до смерти устала.
В эту ночь Людвик не уснул. До рассвета прислушивался он к шорохам в доме, к скрипу дверей. Он ждал Эду. Он снова и снова обдумывал случившееся, но так и не знал, что ему делать, где и как встретиться с Эдой, где тот скрывается, придет ли он на работу. Что, собственно, произошло с Эдой? Если вдуматься, то сейчас он в руках Коциановой, а это страшно. Отдать Эду на милость такому человеку, как Лили Коцианова! Ведь если она что-то вобьет себе в голову, ее ничто не остановит — пойдет к этим своим друзьям и донесет на Эду. Ей поверят, даже если она солжет, даже если у Эды будет алиби.
Все остальное отступило на задний план, на первом плане оставался страх за Эду. Бесполезно было бегать по улицам и высматривать среди спешащих пешеходов его сутуловатую фигуру. Столь же бесполезно было искать его в кафе, ресторанах и даже в баре «Денница». Несомненно, Эда где-то укрылся от людей и от всего мира.
К утру Людвик вспомнил недавний разговор с Эдой, который, на первый взгляд, был вроде бы незначительным, но он свидетельствовал о его душевном состоянии в последние дни.
«Тебе следовало быть благоразумным», — наставлял его Людвик.
«Оставь меня в покое с этими твоими наставлениями, — сердился Эда. — Почему именно я должен быть благоразумным, а не другие? Весь мир теперь — сплошной сумасшедший дом, и все люди чокнутые…»
«Надо принимать все так, как оно есть, — старался Людвик охладить пыл Эды. — И не каждого нужно ругать и говорить, что именно он во всем виноват…»
«А разве не виноват? Разве мы не виноваты в том, что эти сверхчеловеки хозяйничают у нас? Я знаю один способ, как расправляться с ними: давать при встрече по зубам. Причем так, чтобы с катушек долой. Всем известно, что, если кому-нибудь врежешь хорошенько по морде, с него сразу же слетает спесь, и он чувствует себя маленьким, обгаженным, весь трясется от страха. Поэтому я считаю, что самый верный способ — влепить каждому по основательной затрещине…»
«Это способ, каким они сами пользуются», — напомнил ему Людвик.
«А почему бы нам не бить врага его же оружием? — стоял на своем Эда. — Пусть они знают, что мы не олухи какие-то… что и мы можем бороться».
«Попробуй сделай это — тут же на месте пристрелят».
«Ну и что? — сказал Эда, подпирая рукой больную голову. — И все равно стоит кой-кому съездить по рылу так, чтобы он в штаны наложил…»
Невозможно было втолковать Эде отказаться от этой навязчивой идеи, переубедить его. И теперь, по всей вероятности, от отчаянных заявлений он перешел к прямым действиям: избил Эрнста и другого эсэсовца, хотя оба были в штатском. И, несомненно, он пошел на такой шаг не из-за барышни Коциановой, как она самонадеянно думает…
Первым, кто из квартирантов уже поутру поинтересовался Эдой, был пан инженер Дашек. Когда он возвращался из ванной, то задержал взгляд на неразобранной кровати Эды и обронил вопрос, который насторожил Людвика:
— Куда подевался ваш друг? Опять дома не ночевал? Или попал в беду?
Возможно, он знал, что за день до этого Эду ждала невеста, может, прослышал еще кой о чем, а может, просто справился о соседе.
— Да нет. Он заболел и уехал лечиться домой, — соврал Людвик.
— А вас я вчера видел с симпатичной женщиной, — бросил вскользь Дашек.
— Что тут удивительного?
— Собственно, ничего, — ухмыльнулся Дашек и исчез в своей комнате.
В этот день в проектном бюро работы не было: начальник с утра куда-то ушел и долго не возвращался.
Все беспокойно расхаживали по комнате, переговаривались, их угнетали разные предположения, что с ними будет. Только Людвик молча сидел у чертежной доски и не участвовал ни в каких обсуждениях, просто глядел в окно, на однообразные крыши под мрачным небом.
Днем начался дождь; крупные капли сливались и текли по оконному стеклу многочисленными струйками. Людвик мучительно раздумывал об Эде, где он, что с ним; еще вчера тот спокойно спал до обеда, не думая ни о чем плохом, а за одну ночь все неожиданно скверно обернулось. Он теперь, по-видимому, потеряет и работу, и жилье в Праге, и невесту и не сможет свободно общаться с людьми, посещать свой любимый бар «Денница».
Людвик надумал позвонить по телефону на Харватову улицу; из предосторожности он не представился и просто попросил к телефону Эду Гоудека. Девичий голос сообщил ему, что пана Гоудека нет, он болен. «Порядок, Эда, значит, болен, пусть он будет для всех больным», — подумал Людвик.
Наконец пришел начальник. Он пригласил всех сотрудников к себе и сообщил, что их проектное бюро не будет расформировано, но какое-то время возможны небольшие затруднения в связи с недостатком рабочих заказов, поэтому в дальнейшем не исключено сокращение штатов. Конечно, это неприятно, но никаких гарантий он дать не может.
Чувство неуверенности охватило всех, поскольку каждый боялся, что он может быть одним из тех, кому предложат оставить работу.
Итак, ничего другого не оставалось, как неподвижно сидеть у чертежной доски, смотреть через запотевшее окно на улицу и тоскливо воспринимать беспросветно дождливый день. Несомненно, в одном Эда был прав: все в жизни непостоянно, крайне изменчиво, и если порой случится так, а это редко когда бывает, что человек добудет для себя капельку радости, ее неминуемо тотчас же поглотит уйма неприятностей, после которых и жить не хочется. Людвик подумал, что многие люди притворяются, лишь делают вид, что безразличны ко всему, легкомысленны, безответственны, а на самом деле просто не знают, как им быть; их рассуждения о том, что надо жить одним днем, ловить момент, — пустые разговоры. И тем более неприятным вырисовывался Людвику дядя, не вылезающий из кафе и ресторанов, человек, который спит то с Дашей, то с Машей, с циничной ухмылкой смотрит на мир, презирает людей, думает только о себе, о своем ничтожном благополучии. Таков и инженер Дашек, он посмеивается над деревенскими жителями, над провинциалами, как будто сам он, житель Остравы, не мужик, не провинциал: чего стоит его поступь, походка, когда он несет перед собой огромное брюхо и думает только о том, что бы ему повкуснее поесть да покрепче попить. И Индра тоже хороша: она все хочет вывернуть наизнанку, хочет жить иначе, чем жила до сих пор, ее привлекает веселое общество, танцы, поэтому завтрашний день ее не волнует. А барышня Коцианова, эта прошедшая сквозь огонь и воду «сестра милосердия», призналась, что ее волнует только то, как бы приспособиться дышать дурным воздухом. Все они будто рыбки в аквариуме: их немножко подкормят — и они уже весело трепыхаются, выставляя напоказ свою яркую окраску.
И только Эда — одинокий бегун, который, вероятно, сам не знает, чего хочет, которому не к чему приложить свою силу, одно он осознает точно: в этом мире нельзя жить по-человечески, поэтому он кулаками сводит счеты, наносит удары куда попало, лишь бы доказать себе и окружающим, что он не поддался чувству безнадежности и не утонул в нем, что он держится на поверхности.
В конце рабочего дня Людвику позвонил Ремеш — знакомый Эды и его коллега по службе. Он сказал, что делает это по просьбе Эды, тот позвонил ему, но, к сожалению, в телефонной трубке все время что-то трещало, и голос Эды доносился словно из подземелья, поэтому он плохо понял, но все же ему показалось, что Эда, по-видимому, не в своем уме, он говорил какими-то намеками, просил его, Ремеша, сообщить начальству, что он не придет на службу, и передать Людвику, чтобы тот завтра вечером после десяти часов заглянул в бар «Денница».
Значит, Эда существует, он отозвался, позвонил, заявил о себе, дал понять, что еще не вышел из этой удивительной игры. Но его просьба — крайне легкомысленна, в высшей степени опасна; зачем появляться в баре «Денница», где все его знают, возможно, Эда и сам не понимает, как он рискует.
9
Бывает и так: человеку необходимо научиться не замечать отрицательных явлений жизни, сосредоточиться лишь на том, что дает ему хотя бы малейшую надежду на лучшее, что может послужить опорой в трудную минуту. Для Людвика такой опорой было его увлечение Индрой, он наивно верил, что в ней он не разочаруется, что те часы, что они проведут вместе, будут для них обоих светлой радостью, хотя человеческие радости, как известно, бывают обычно не столь уж велики и долговечны.
Хотя Людвик постоянно думал об Эде, о его просьбе прийти в бар «Денница» и ломал себе голову, зачем это ему надо, его главные думы были об Индре, с которой, по случайному стечению обстоятельств, договорился о свидании на тот же день, только в пять часов вечера. Он обязан организовать все так, чтобы их свидание закончилось пораньше и чтобы Индра ни в коем случае не заметила никакой спешки с его стороны — в десять он в любом случае должен освободиться и пойти к Эде. Ему казалось все это легко осуществимым.
Индра явилась на свидание с небольшим опозданием, на сей раз без шляпки, хотя дул пронизывающий ветер и все предвещало дождь. Она сказала, что с трудом вырвалась, что шеф все время подбрасывал новую работу. Она невольно хмурилась, и на лбу у нее появилась морщинка, портившая ее красивое лицо.
Бродить по улицам в такую погоду было не очень-то приятно, и они решили пойти в кино — куда же еще, как не в кино! Они шли к кинотеатру, взявшись за руки, получилось это совершенно естественно, словно они не расставались с самого воскресенья.
И в кинотеатре они держались за руки, а когда погас свет, Индра прижалась к нему и поцеловала в щеку. Зрителей было мало, и они не столько смотрели фильм, сколько беззастенчиво целовались. Индра была удивительно ласковой, изобретательной, неутомимой; она жадно принимала и возвращала каждое, даже самое незначительное проявление нежности. Итак, фильм они почти не видели, разве что отдельные эпизоды. Зато как важна была для них возможность предаться друг другу, проявить свою любовь и внимание.
Фильм закончился, и вспыхнувший яркий свет вернул их к действительности, они на минуту протрезвели, пришли в себя и, опечаленные, вышли из уютного помещения на холодную улицу.
— Давай купим билеты на следующий сеанс? — предложил Людвик.
Она с улыбкой отвергла его взбалмошное предложение, и он невольно согласился с ней, когда увидел длиннющую очередь у кассы и понял, что в переполненном людьми зале у них не будет желаемой свободы.
Взявшись под руку, они медленно шагали по улице, но далеко не ушли — бросили якорь в ближайшем кафе. Однако найти место им удалось не сразу, все столики были заняты, а им хотелось побыть в уединении. Наконец они отыскали столик, за которым сидела пожилая женщина. Она безучастно зевала, но между тем следила за ними настороженным взглядом.
Индра не обращала на нее ни малейшего внимания. Поскольку диванчик был маленький, она села, прижавшись к Людвику, и положила голову ему на плечо. Так они и сидели обнявшись, как до этого в кино. Порой обменивались короткими поцелуями, вызывая недовольство некоторых посетителей.
К кофе, что принес официант, они даже не притронулись; сидели занятые собою, даже говорить им не хотелось, потому что та баба-яга, что сидела напротив, услышала бы каждое слово. Да им не нужно было слов, они свободно обходились и без них.
— Такой счастливой я давно не была, — не утерпела и призналась Индра.
— И я тоже, — заверил ее Людвик. — Я никогда не был таким счастливым.
Так они сидели долго, не замечая ни времени, ни людей; не заметили даже, что пожилая женщина давно ушла. Теперь у них оказалось все, чего они желали: кофе, столик на двоих, полупустое кафе и полная народу улица за окном. Холодный, равнодушный, красивый город стал домом для их неожиданно вспыхнувшей любви.
Если бы Людвик случайно не поглядел на настенные часы, то они продолжали бы так сидеть и дальше.
— Мне надо идти! — неожиданно испуганно проговорил Людвик.
— Почему? Куда? Ты все время куда-то торопишься! Разве ты не рад, что мы вместе? Почему не расскажешь мне, что у тебя?
— Ничего особенного, — ответил он непринужденно. — Просто мне нужно кое-куда зайти…
— Если ничего особенного, то там подождут. — вполне резонно ответила она. — Или пойдем вместе…
— Нет, нет… — испугался он. — Все равно нам надо уходить. Не можем же мы тут оставаться, если кафе скоро закрывается.
— Почему не можем? — не понимала она.
Наконец он убедил Индру. Они расплатились и вышли из кафе. На улице Индру охватила дрожь — то ли от холода, то ли от молчаливого несогласия.
Людвик крепко обнял ее за плечи, чтобы согреть, а она покорно прижалась к нему; то и дело они останавливались и страстно целовались. И именно Индра, его Индра, снова и снова искушала и соблазняла его, она настойчиво требовала любви; ее не отпугивала сдержанность и выжидательное благоразумие Людвика. Он и сам испытал непознанное ранее чувство, когда оно — главное и все зависит только от него, а все остальное — несущественно, второстепенно, ничтожно, все другое может подождать.
— Здесь, в этом доме, я живу, — сказал он, когда они подошли к старому дому в лесах на Водичковой улице.
— Зайдем к тебе хотя бы на минутку? — настойчиво просила она. — Немного согреемся и уйдем…
— К сожалению, нельзя, — грустно ответил Людвик. — Я живу в проходной комнате.
— Ты не представляешь, как я хочу быть сегодня с тобой, — искренне призналась она.
— Я тоже, — ответил он как-то рассеянно.
Он уговорил ее сесть в трамвай, на улице, мол, холодно, и она, чего доброго, простудится. В трамвае она опять прижималась к нему и смотрела на него преданным взглядом светлых искрящихся глаз.
Часы у Национального театра показывали половину одиннадцатого.
Он проводил ее до дома, и здесь опять все повторилось — страстные поцелуи, жаркие объятия. И снова Людвика охватило чувство, что все остальное маловажно, ничтожно, незначительно, ничто не может превзойти по своему значению эти жадные, голодные поцелуи, ничто другое не имеет цены, только ради них и может жить человек…
— А к тебе нельзя пойти? — спросил он.
Все отступило в сторону, он мечтал только о том, чтобы провести эту ночь со своей Индрой, со своей любимой Индрой.
— Нет, нельзя, — ответила она с грустью в голосе. — Я живу не одна.
Часы на соборе святого Вацлава, находящемся поблизости, размеренными ударами отбивали одиннадцать.
Как Людвик ни торопился, ему понадобилось по крайней мере полчаса, чтоб добраться до бара «Денница».
Хотя день был обычный, гости заполнили зал до отказа. Было шумно, накурено, в красноватом освещении бар напоминал таинственное логово, где собрались темные элементы большого города.
Людвик сразу же заметил Эду. Тот сидел с краю стойки, на сей раз повернувшись ко входу, чтобы видеть каждого, кто спускался в бар. Он казался необыкновенно спокойным и уверенным.
— Прости, что опоздал, — извинился Людвик. — Так получилось, раньше не смог.
Эда промолчал, только пристально посмотрел на него недоверчивым взглядом, словно проверяя правдивость его слов.
— Садись, — предложил он наконец.
Но садиться было некуда, все табуреты были заняты.
Людвику пришлось стоять около Эды на свободном углу стойки.
Эда жестом подозвал барменшу, бледную худенькую девушку с темными кругами под глазами, и в восторженных словах представил ее Людвику:
— Это Кларочка, моя большая любовь. Если бы не она, мне незачем было бы жить…
Девушка слабо улыбнулась и спросила Людвика, что он будет пить. Коньяк, потому что ничего другого не пришло ему в голову: он рассматривал полудетское лицо девушки, во взглядах которой пряталась преждевременная зрелость и усталость.
— Тебе опасно сюда приходить, — с упреком сказал он Эде, когда барменша отошла. — Напрасно рискуешь.
— А если мне некуда больше податься, — ответил Эда с грустью. — Клара — мое единственное спасение…
Людвик увидел теперь, что Эда небритый, опустившийся, черная щетина на щеках сделала его старше, казалось, он похудел.
— Барышня Коцианова просила передать, что тебе нечего бояться. Она уверяла, что не выдаст тебя. Так что ты можешь вернуться домой…
— Ни одному слову этой девицы я не верю, — выпалил Эда. — Все ночи напролет она путается с немецким офицерьем и, разумеется, выбирает кого позначительней…
— Она рассказала мне, как ты врезал им по морде…
Эда ухмыльнулся. И хотя он казался спокойным, тем не менее было видно, что им овладевало беспокойство.
— Все это заговор, заговор против людей, — бормотал он невразумительно. Он снова впадал в какое-то неистовство. — Все сговорились против меня, потому что этот мир — не мой мир…
Его прервала барменша, она наклонилась к его уху и доверительно шепнула:
— Эда, тебе пора уходить.
— Сейчас, — согласился он. — Только договорюсь с Людвиком.
В углу, рядом с ними, заиграл пианист; его седовласая голова то и дело высовывалась над черным роялем, и веселые звуки музыки смешивались с гулом переполненного зала.
— Принеси мои вещи: бритву, пижаму, пару рубашек, все это мне необходимо. Сейчас я живу у одного артиста, отличный мужик, коммунист… Он тоже ждет, что вот-вот за ним придут. Мне бы не хотелось завалить его…
— Если подождешь, я сейчас же принесу твои вещи, — предложил Людвик.
— Нет, не сейчас. Ты пришел поздно, а мне пора уходить… Будет лучше, если ты завтра вечером оставишь сумку у Клары. Она все сделает, позаботится как надо…
Вдруг музыка резко прервалась, хотя последний аккорд еще звучал в притихшем зале.
В дверях появился военный патруль — их было трое. Они словно выросли на черном фоне ночи и на мгновение задержались в дверях. Три потусторонние серые тени двигались в красноватом освещении зала.
Барменша Клара испуганно вскрикнула.
Офицер с вооруженным солдатом прошли на середину зала, еще один солдат стал у двери, чтобы никто не вышел из помещения.
— Господа, прошу оставаться на своих местах, — приказал офицер на ломаном чешском языке отвратительно резким голосом.
Несомненно, они искали кого-то, и вот эта тройка проверяла ночные заведения.
— Отойди, они ищут меня! — прошипел Эда, но отойти было уже нельзя.
Сам Эда продолжал неподвижно сидеть на своем табурете, настороженно выжидая, что будет дальше.
Офицер переходил от столика к столику, требуя документы; он брезгливо брал их руками в кожаных перчатках и изучающим взглядом определял, соответствует ли это лицо фотографии на документе. К женщинам он не проявлял ни малейшего интереса. Обойдя все столики, офицер обратил свой настороженный взгляд на гостей за стойкой бара.
Посетители замерли в страшном напряжении. Тишина стояла такая, что слышно было, как поскрипывают до блеска начищенные офицерские сапоги.
Эда держался непринужденно: он сидел, облокотившись на стойку, охватив голову ладонями, и потихоньку что-то бормотал, возможно убеждал себя не поддаваться панике. Собственно, чего ему волноваться, если он не знает, кого они ищут и зачем нагрянули сюда. Да и Людвик считал, что данная ситуация не обязательно должна быть опасной. Ведь Коцианова ясно сказала, что об Эде никто ничего не знает, а она сама его не выдаст.
Между тем офицер приблизился к Эде, а тот словно не замечал его. Тогда разъяренный офицер хлопнул его по плечу и злобно гаркнул:
— Ваши документы!
Эда медленно, будто неохотно повернулся и вместо того, чтобы протянуть документы, изо всех сил ударил офицера промеж глаз. Все присутствующие оцепенели. Офицер закачался и тотчас же упал бы, если бы его не подхватил солдат. Но Эда был уже на ногах; яростно колотил он и офицера и солдата, которые скорчились от боли. Третий, что стоял в дверях с автоматом на боевом взводе, стрелять не решался: боялся попасть в своих, он только дико орал.
Вдруг в зале погас свет. От неожиданности солдат у двери нажал на курок, и раздались выстрелы, гулко разнесшиеся по залу, на полке за стойкой посыпалось битое стекло.
Кто-то схватил Людвика за рукав и потянул в темноту. Это Эда тащил его к двери бара, выходящей во двор. Солдат зажег карманный фонарик, и конусовидный луч его освещал одно испуганное лицо за другим, пока не замер на двух лежащих на полу фигурах.
Тем временем Эда и Людвик пробежали двором к воротам, но они оказались запертыми. И тут, на свое счастье, они услышали, что с улицы отпирают замок, видно, какой-то жилец возвращался домой. Они чуть не сбили его с ног, когда открылась калитка. Людвик в спешке пробормотал «Простите!», и оба пустились наутек но пустому переулку. Вслед им посыпались проклятия возмущенного человека, которого они так напугали.
Они бежали что было сил. Миновали темные, безлюдные улочки, изредка встречались одинокие прохожие, которые ничего особенного не находили в том, что кто-то в полночь бежит по улице — если на то есть свои причины.
Остановились они лишь на набережной. Весь город спал, нигде ни души, и темные воды Влтавы словно застыли в своем непрерывном движении. И все вокруг казалось застывшим, неподвижным, окаменевшим.
Только они двое, загнанные, изможденные беглецы, стояли на мосту, опершись на парапет, и с трудом переводили дух. Людвик чувствовал, как сильно бьется сердце, будто стремясь вырваться из груди. А Эда вдруг громко, от души рассмеялся, словно никакой опасности не было, и смех его нарушил тишину полночного города.
Людвик весь дрожал как в лихорадке, сердце бешено колотилось, все смешалось в голове — и страх, и радость, и опасения за будущее. А Эда неудержимо смеялся, будто это вовсе и не они убегали от неотвратимой беды.
— Ты чего, спятил? — бросил раздраженно Людвик.
— Ну и ловко же мы улизнули! — гоготал Эда. — Прямо у них из-под носа…
От Национального театра к ним приближалась слабо освещенная машина. Из осторожности они спустились по ступенькам к реке и стояли там у самой воды. И вблизи казалось, что темное зеркало речной воды застыло в неподвижности.
— Пора расходиться, — сказал Эда уже серьезно. — В разные стороны.
— Пошли домой, на нашу квартиру, — уговаривал его Людвик. — Никто о тебе ничего не знает. Даже имени твоего не знают. Ты для них неизвестный преступник…
— Все равно они меня поймают, — прервал его Эда. — Рано или поздно прихлопнут. Пойдут по моему следу…
— Тогда уезжай из Праги, — посоветовал Людвик.
— Наверное, так и сделаю, — грустно согласился Эда. — Еще несколько дней пробуду здесь и… Не забудь передать Кларочке мои вещи. А если хочешь что-нибудь сделать для меня, то подыщи мне временное пристанище хотя бы на ночь. Но чтобы об этом никто не знал. Мне бы не хотелось подводить артиста, у которого я сейчас живу. Он сам, бедняга, считает дни и часы…
На этом они разошлись, разошлись в разные стороны. Они все более и более отдалялись друг от друга, затихал звук их шагов, потом и вовсе смолк.
И тут Людвиком овладело недоброе предчувствие, что он видит Эду в последний раз, что их пути безвозвратно разошлись.
Так как сотрудники проектного бюро и на следующий день оказались без работы, Людвик решился попросить начальника дозволить ему отлучиться на час по своим личным делам. Тот, как ни странно, выразил по этому поводу неудовольствие, помялся, сказав, что если он так будет всех отпускать, то у него разбежится все бюро. Но потом отпустил. Людвик отправился в кафе «У Тлапака», так как был уверен, что найдет там дядю. И не ошибся.
Дядя, как обычно, важно восседал в отдельном кабинете, на столе стояли недопитые рюмки коньяку, он, видно, проворачивал свои темные дела, заключал сделки.
Приход Людвика его не обрадовал, но тем не менее он предложил ему сесть и подождать минутку.
Минутка затянулась почти на час. Дядя договаривался со своим заказчиком, каким-то перекупщиком из деревни, по крайней мере он так выглядел, о купле-продаже товаров, которые тот должен был сейчас забрать на вокзале. Только они никак не могли договориться о том, какой товар заказчик возьмет, а какой нет, но дядя упорно стоял на своем: во имя доброго почина он обязан взять товар целиком.
— Нет, так не пойдет, — отчаянно защищался раскрасневшийся перекупщик и при этом нервно грыз ноготь на толстом указательном пальце. — Половина товара меня устраивает, а половина — «нагрузка», никто его не купит, только напрасно проваляется…
— Ну, вы и хитрец, — не уступал дядя. — Хотите слизнуть сливочки, а снятое лакать мне, хотя прекрасно знаете, что товар — высший сорт, такого теперь нигде не достанете…
Так они спорили, рядились и ни на чем сойтись не могли. Наконец заказчик понемногу стал уступать, он сказал, что из непродажного ассортимента возьмет небольшую часть, чтобы и дяде доставить удовольствие. Но дядя и тут уперся.
— А что мне с этим товаром прикажете делать? — ощетинился он. — Торговать тоже нужно уметь, чтобы вместе с необходимым и качественным товаром покупатели брали и то, что мы даем им «в нагрузку»…
В эти часы кафе пустовало, кое-где за чашечкой кофе сидели одинокие посетители, старший официант от нечего делать зевал у двери, ведущей в кухню.
Вдруг в дверях пустого зала появилась Маша и пружинистой походкой направилась в их сторону. Сначала Людвик смутился, а потом обрадовался ей. Собственно, у него не было причин избегать ее.
Она подсела к Людвику на диванчик, а те двое принялись играть в джокер.
— Я с репетиции, — объяснила Маша свое появление здесь. — Забежала выпить чашечку кофе. А вы?
Он неопределенно пожал плечами.
— Даша мне говорила, что вы тогда не смогли поехать с нами в Сенограбы, — щебетала она, — и что теперь у вас есть очень хорошенькая девушка…
Маша показалась Людвику оживленной, веселой, будто судьба преподносила ей одни лишь радости. Она расстегнула жакет, под ним виднелась цветастая блузка с глубоким вырезом. Длинные ногти ярко накрашены.
— Мне жаль, что с тех пор я не видела вас, — тихо проговорила она с упреком. — Ведь вы могли бы, как-нибудь вечером подождать меня у театра…
Он оправдывался: был очень занят сверхурочной работой, кроме того, ездил домой, больше ни на что времени не хватало.
— Ладно уж, я вас прощаю, — улыбнулась она.
— Насколько мне помнится, вы уже были «на ты», — включился в их разговор дядя.
Дяде удалось наконец уломать свою жертву — оба ударили по рукам; дядя получил пачку банкнот и написал расписку. Заказчик поспешил на вокзал, чтобы поскорее получить товар, а дядя, сияющий и оживленный, остался в кафе. Несомненно, сделка удалась.
— Я ненадолго убежал с работы, — напомнил Людвик о себе дяде, который не выражал ни малейшего желания выслушать племянника, узнать, зачем тот пришел.
— Ну, что у тебя на сердце? — бодро спросил дядя.
— Мне бы наедине…
— От Маши у меня нет никаких тайн, — заявил дядя, — но если тебе так надо, то пожалуйста…
Они вышли в коридор. Людвик огляделся, нет ли кого поблизости, и потом обратился к дяде с просьбой.
— Не знаете ли вы, где можно найти временное жилье… для человека, который не должен появляться на улице белым днем. Это может быть все что угодно… Хотя бы переночевать несколько ночей.
— Ты что, ненормальный? — таращился на него дядя. — Хочешь, чтобы я угодил за решетку? На такую удочку, дружок, я не попадусь… Обратись по другому адресу, — отрезал он и направился в кабинет.
Людвик, удрученный, поплелся за ним. Лучше бы ему уйти, просить об этом сейчас бессмысленно. Дядя — человек осторожный. Но Людвик не хотел отступать, он сел и стал терпеливо ждать; дядя с Машей беседовали, будто не замечая его. Потом Маша выпила кофе и поднялась, чтобы уйти. Дядя не удерживал ее и на прощанье кивнул головой.
— Я тоже пойду, — сказал Людвик. — Мне надо на работу.
— Да идите вы оба к черту! — пробормотал дядя. — Нет, ты еще подожди, — остановил он Людвика.
Маша ушла, а дядя, к великому удивлению Людвика, предложил:
— Я помогу, если уж тебе так надо. Есть один сарай. Там навалено всякого барахла, но переспать в нем можно. Однако услуга за услугу. Ты иногда будешь помогать мне при приеме товаров… один-два раза в неделю… главным образом по вечерам. Если согласен, приходи завтра за ключом. Договорились?
Людвик, наверное, согласился бы и с худшими условиями, лишь бы помочь Эде. И потому сейчас он выглядел счастливым покупателем, совершившим удачную покупку. Поблагодарив дядю, он ушел.
У входа в кафе его ждала Маша.
— Я не хотела, чтобы твой дядя видел, что мы вместе, — сказала она, повисая у него на руке и заговорщически, доверительно продолжала: — Даши сегодня весь день не будет дома. До вечера комната в нашем распоряжении. Если хочешь…
Но Людвик отказался от ее предложения: он ведь отпросился у своего начальника на один час, а сам проторчал у дяди около двух часов. Маша не обиделась. На углу Водичковой улицы они распрощались. На переходе улицы она оглянулась и махнула ему рукой.
Вечером Людвик собрал Эдины вещи и аккуратно сложил все в сумку. Сунул туда и фотографию печальной невесты Эды, обнаруженную в ящике шкафа.
Было около десяти часов, когда Людвик направился к бару «Денница», чтобы передать сумку Кларе. Уже издали он заметил, что красная лампочка над входом почему-то не горела. Когда он подошел к самому дому, то с ужасом обнаружил, что бар «Денница» закрыт и двери заколочены толстыми свежеструганными досками.
10
Крутится непрерывно колесо фортуны и к кому-то повернется удачей, довольно часто к тому, кто меньше всего этого ждет. Но каждый все-таки надеется — в разной степени, конечно, в зависимости от того, чего он ждет от судьбы, но решающим фактором всегда будет его личная доля участия в жизни, то, что он сам предоставит жизни, что своего он сумеет в нее вложить.
Поезд мчался в черной ночи, и из пыхтящего локомотива вылетал рой искр. Они проносились вдоль пыльных окон вагонов как огненный дождь, на мгновенье пронзая непроглядную тьму, чтобы тотчас же в ней исчезнуть.
Людвик не любил разъезжать, ездил словно по принуждению, но в Праге на следующий день его все равно ничто не удерживало, потому что Индра уехала утренним поездом в свой маленький городок. Они договорились, что на обратном пути она помашет ему из окна вагона, чтобы остаток дороги провести вместе, как недавно, когда по счастливой случайности они познакомились.
Сначала Людвик собирался выехать сразу же пополудни, но задержался: после работы он еще пытался что-либо разузнать об Эде, но, конечно, безрезультатно. Единственно, что ему удалось, так это разными окольными путями заполучить адрес Клары, но она уехала в деревню, и никто не знал куда. Ее соседи держались с ним недоверчиво: дескать, ничего не знают, она и так дома бывала мало, они ее почти не видели; хотя Людвик уверял, что он ее дальний родственник, они, видимо, ему не поверили. Поэтому он не настаивал, чтобы не казаться еще более подозрительным.
О загадочном актере, у которого Эда в последнее время ночевал, он так ничего и не узнал. Скорее всего, Эда познакомился с ним где-нибудь в кабачке. Но актеров в Праге — сотни, может, тысячи, и искать безымянного было бессмысленно.
Итак, единственная надежда была на то, что Эда вернулся к покинутой им невесте. Вероятнее всего, Эда уехал из Праги, по крайней мере он так говорил Людвику, и не исключено, что уехал он именно в родной город. А если туда, то обязательно дал знать о себе невесте, которая одна могла позаботиться о нем.
Может, Эда скрылся вместе с Кларой? И это не исключено. Но как узнаешь, куда они отбыли и где находятся сейчас?
Итак, прежде всего нужно было встретиться со светловолосой невестой Эды, поболтаться в родном городе, поразведать, не ходят ли об Эде какие слухи…
За день до отъезда Людвик зашел к дяде, как всегда в кафе «У Тлапака», чтобы поблагодарить за услугу, сказать, что ключ от сарая ему уже не нужен, так как тот, кого он хотел на пару дней укрыть, куда-то запропал.
— Тем лучше, — возрадовался дядя, — хоть хлопот у тебя нет. Но все же любопытно узнать, для кого это ты так старался?
— Его имя вам ничего не скажет. Это мой сосед по комнате. Бывший боксер.
— Бокс — мое хобби! — хвастал дядя. — О боксе я знаю все, не пропускаю ни одного матча. И боксеров всех знаю как облупленных. Скольким из них я помогал встать на ноги!.. Поддерживал их, когда они были не в форме.
— Этот когда-то боксировал с Некольным. Правда, матч закончился вничью, — поймался Людвик на его болтливость. — Да только после этой встречи у него в голове что-то перевернулось.
Дядя, к счастью, такого боксера не помнил.
— Ты обещал мне помочь при разгрузке товаров, — добивался дядя своего. — Не думай, это не бесплатно.
— Посмотрим, — ответил Людвик неопределенно, он был доволен, что дяде ничем не обязан.
В полночь поезд остановился у знакомого перрона, и Людвик направился по спящему городу домой. Его, разумеется, не ждали, ведь до последнего момента он и сам не знал, поедет ли. Постучал, как обычно, в окно кухни, где спала мама, тут же зажегся свет, и мама открыла ему дверь. Встретила она Людвика с распростертыми объятиями.
Потом они с ней сидели за кухонным столом, Людвик проглатывал все, чем потчевала его мама из своих скромных запасов. Спал он долго и крепко — дома всегда хорошо спится. Разгорался прозрачно-солнечный сентябрьский день.
Сначала Людвик намеревался разыскать родителей Эды, но потом передумал: что, если они ничего не знают о сыне и он их понапрасну разволнует. Так что решил разыскать Еву. Она жила на другом конце города в одноэтажном домике на отшибе, возле дома небольшой садик.
Ева, к счастью, была дома. Она вышла в сад, и они стояли между клумбами отцветших настурций, зеленые листья которых жались друг к другу после легкого ночного морозца. На ней был цветастый платок, наскоро наброшенный на светлые, как солома, волосы, глаза блестели от слез.
Нет, она ничего не знает об Эде, целую неделю после своей поездки в Прагу она не получала от него никаких вестей. И слезы снова полились по ее бледным щекам.
Но, немного оправившись, Ева засыпала Людвика вопросами: не случилось ли с Эдой чего плохого, почему он сегодня не приехал домой, знает ли он, что она была в Праге, и что он на это сказал.
— С ним невозможно разговаривать, — остановил ее Людвик. — Думаю, когда поправится, он обязательно приедет.
Когда он уже закрывал за собой скрипящую калитку, она крикнула ему из-за изгороди, что есть у Эды задушевный друг — его бывший тренер Кинтера, Людвик может повидаться с ним. Тот целые дни просиживает в трактире у вокзала, вот и расскажет все, что знает. Под конец она поблагодарила Людвика, что он помнит Эду.
В привокзальном трактире до полудня было почти пусто, несколько гостей сидели у засыпанной углем печи, уголь слабо разгорался, но зато дымил вовсю и наполнял помещение удушающим чадом.
— Мы сегодня впервые затопили, — сказал трактирщик, как бы оправдываясь.
Тренер Кинтера, лысый здоровяк в черном свалявшемся свитере, по просьбе Людвика нехотя покинул свою компанию.
Они сели в стороне от болтливых любителей пива, видимо завсегдатаев. Трактирщик включил радио на полную мощность, и полились ритмичные хриплые звуки марша. А от печи под ноги гостям тянуло чадом…
— Я хотел бы поговорить с вами об Эде, — начал Людвик. — Мы вместе снимаем комнату в Праге, и у меня с ним появились проблемы…
— О, с Эдой всегда были проблемы. Этот другим уже не будет, — прервал его тренер каким-то странным блеющим голосом. — Что вы думаете? Когда он еще работал на ринге, проблем куда как хватало… Иногда трудно было убедить его, чтобы он не позволил побить себя каким-нибудь аутсайдерам и чтобы себя показал…
— Но для меня важно не то, что было, а что с ним сейчас, — пытался Людвик прервать поток его красноречия. — Я беспокоюсь о нем…
— Но только без этого, голубчик, вы всего не поймете. Вы должны знать, что Эда из тех борцов, что боксируют против своей воли. Эда не только не любил бокс, он испытывал к нему отвращение. Но у Эды был талант, понимаете, прирожденный талант. И он должен был рано или поздно проявиться. Если уж кто-то музыкант или артист, то это обязательно когда-нибудь выйдет наружу. Если в человеке заложен талант, то он непременно даст о себе знать.
Людвик заказал для них обоих пиво и ром.
— В конце концов Эду можно было уговорить, и он, стиснув зубы, принимался за дело. Тренировался до одури, только чтобы побороть в себе чувство неполноценности. Это тоже была для него проблема — комплексы, понимаете, обыкновенные человеческие комплексы… А иногда дело доходило до того, что он боялся нанести удар, скорее позволял себя засыпать ударами, отступал и только отражал атаки, просто боялся, что если ударит сам в полную силу, то убьет противника… И вот что здорово: это был борец, измотать которого практически было невозможно. Стойкий, каких мало…
— Эда ушел на прошлой неделе из дому, — снова попытался Людвик дать нужное направление разговору. — Не знаете, где бы он мог быть?
— И такое он проделывал, — утвердительно закивал бывший тренер. — У нас он тоже раза два пропадал. Однажды перед важнейшим матчем вдруг исчез, и никто не знал куда. Успокойтесь, объявится…
— Но за день до этого он набил морду двум нацистам. Я сам это видел.
Тренер вдруг удивленно смолк и сглотнул слюну, словно именно сейчас понял, о чем идет речь, и стал скрести большущей рукой лысину.
— Я так и думал, что это он. Позавчера здесь, в бюро по найму, кто-то избил германского уполномоченного, и того увезли в больницу. Он пробрался к нему в бюро, хотя повсюду была охрана, и долбанул его так, что тот даже не пикнул. И улизнул через окно. Никто не мог бы проделать это так ювелирно, только наш чемпион… Вы правы, это был он. И если это был Эда, то наверняка улизнул. И все шито-крыто!
Людвик, не допив пиво, стал прощаться. Теперь кое-что прояснилось.
— Эда на собственной шкуре понял главное, что в боксе и в жизни надо уметь драться. И не дать побить себя. И теперь, скорее всего, он решил сражаться. Знаете, по-своему, но иначе он не умеет…
Всю вторую половину дня Людвик просидел дома, ему никуда не хотелось идти, даже в трактир к друзьям. После разговора со старым тренером он уже понимал Эду и его странное поведение. Эда попросту боролся с противником одному ему известным способом.
— Какой-то парень добрался до местного бюро по найму и всем надавал по зубам, — прибавил дедушка, рассказывая после обеда Людвику о важнейших событиях последних дней. — Не был ли это случайно твой чемпион, с которым ты в Праге снимаешь комнату? По крайней мере некоторые говорят, что это он.
— Откуда я знаю, — ответил Людвик уклончиво.
Потом он, сидя у окна в кухне и глядя на луга, освещенные последними отблесками солнца, вспомнил, как недавно ночью Эда пришел из «Денницы» в приподнятом настроении, разбудил Людвика, чтобы сообщить ему нечто важное:
«Представь, я нашел ключ ко всему. Все в моей голове вдруг прояснилось. Я понимаю сегодняшнюю жизнь, понимаю и людей. Все могу себе объяснить. И это здорово…»
Вечером Людвик ждал в толпе нетерпеливых пассажиров прихода поезда, который запаздывал. Он радовался предстоящей встрече с Индрой, не мог дождаться, когда она помашет ему из окошка, как обещала. И велико было его разочарование, когда поезд наконец пыхтя приполз и все бросились к вагонам, чтоб захватить место, а Людвик беспомощно бегал по перрону и напрасно заглядывал в грязные окна. Он так и не увидел долгожданной Индры.
В последний момент он вскочил в поезд, несколько раз прошел по всему составу, заглядывал в закрытые купе, вглядывался в лица пассажиров, однако Индру так и не нашел. Что-то случилось, что-то непредвиденное, неожиданное, что явилось причиной того, что она не поехала вечерним поездом в Прагу.
Он снова стоял в проходе, опершись о стену старого вагона, на этот раз один, совсем один, и чувствовал себя обманутым, обойденным судьбой, которая, будто нарочно, безжалостно преподносила ему одни огорчения.
Дорога была печальной, длинной, казалось, она была бесконечна. Поезд медленно тащился к Праге, и его опоздание все увеличивалось. Вагоны не отапливались, было холодно, Людвик весь закоченел.
Он живо представлял себе, как они с Индрой, прижавшись друг к другу, поедут в переполненном поезде, как вместе будут обсуждать свои предстоящие свидания. И вдруг он остался «с носом», потерял надежду на будущие встречи, на совместные прогулки.
И к этому еще примешивалась странная грусть оттого, что вечером он не найдет Эду в их проходной комнате, не увидит больше знакомых вещей и Эда уже не разбудит его среди ночи, придя из «Денницы».
Людвик смотрел в окно на темные скошенные и убранные поля и луга, вдали чернел лес, а над всем этим — холодный ночной небосклон. Там, где-то в этом неприветном просторе, он пытался разглядеть Эду, которому негде обогреться и негде голову приклонить; блуждает он одиноко, сторонится людей, от всех бежит…
До отчаяния грустно было при мысли о неизвестной судьбе Эды, о его уделе одинокого скитальца. Он ринулся в неравный бой, на свой страх и риск, в бой, который он все равно проиграет, потому что ему не на что и не на кого опереться и заступиться за него некому. Тут уж не возьмет верх мудрость старого тренера, жизнь никого не щадит, и человеку ничего не остается, как только драться, чтобы самому не быть побитым. Эда не выйдет победителем, он заранее осужден на поражение. Гложущая тоска и бессилие сжимали его сердце словно в тисках. Единственной виной Эды было то, что он по-своему воспротивился новому порядку, не пожелал мириться с ним.
Поезд, постукивая на стыках рельсов, подходил к вокзалу. Полночь. Перроны пустынны, словно с них все смели, но тут же их мгновенно заполнил людской поток прибывших пассажиров.
Людвик вместе с толпой шаг за шагом поднимался по лестнице, сверху кто-то махал ему. Он присмотрелся повнимательнее и, к своему немалому удивлению, увидел Индру. Он не поверил глазам своим, но это, без всякого сомнения, была Индра.
Он подошел к ней и, бросив на землю свой скромный багаж, порывисто обнял. Она разрыдалась. Людвик простодушно полагал, что она плачет от радости, оттого, что наконец они встретились и снова вместе. Он еще сжимал Индру в объятиях, когда она коротко объяснила ему:
— Я пришла проститься с тобой. Завтра уезжаю домой.
— Почему? Что случилось? Почему вдруг так сразу? — вырвалось у него в сердцах.
Заплаканная, она казалась ему несказанно красивой. И это сообщение страшно огорчило его. Он чуть было не закричал на нее:.
— Ты не должна думать об этом всерьез!
Она ни слова не проронила почти до Вацлавской площади. Лишь один раз они остановились. Она обняла его и нежно поцеловала. И снова расплакалась.
— Если бы мы могли пойти к тебе, — жалобно проговорила она. Я хотела бы с тобой проститься как положено, как следует…
— Ты прекрасно знаешь, что это невозможно, — ответил он твердо, — что нам некуда вместе пойти. Разве что в гостиницу…
— Нет-нет, вот уж это определенно нет. Это было бы еще хуже и еще печальнее…
Они шли вниз по Вацлавской площади, в эти часы уже безлюдной, правда, кое-где попадались еще запоздалые пешеходы или девицы, предлагающие себя на остаток ночи. У ночного ресторана компания подвыпивших мужчин нестройно затянула песню, но их протяжное завывание вскоре оборвалось.
— Не сердись на меня, — просила она его. — У меня не было другого выхода. Я нужна дома. Поэтому я приехала еще днем и собрала вещи. Утром зайду на службу, верну ключи, а после обеда уезжаю…
— А что случилось? Почему так срочно? Что ты будешь делать дома?
— Как все. Буду работать на фарфоровом заводе. А там выйду замуж, скорее всего, сразу же выйду замуж…
Людвик не сказал ни слова. Все это было так неожиданно и страшно, как удар из засады.
Дул пронизывающий ветер. Они сели в трамвай и поехали в сторону Смихова — в последний раз Людвик провожал ее домой. Всю дорогу он думал о том, что теперь уже не встретит ее на пражских улицах, что они не пойдут вместе в кино, не будут сидеть, обнявшись, в кафе и целоваться.
У дома они распрощались. Она еще раз нежно поцеловала его и снова попросила, чтобы он простил ее, она сказала, что уже тогда, познакомившись с ним, она сомневалась и колебалась, стоит ли ей оставаться в Праге, и тут вдруг за короткое время все само собой разрешилось. К тому же она перестала надеяться, что в Праге ей представится случай…
Больше Индра ничего не сказала, только тихонько всхлипывала и старалась подавить в себе плач, как бы стыдясь его.
Людвик уже ни о чем ее не расспрашивал. С этой неожиданной переменой в своей жизни он больше ни на что хорошее не надеялся.
Если начало пражской жизни казалось Людвику стремительным и суетным, насыщенным событиями, то сейчас его дни своим серым однообразием походили на длительную трудноизлечимую болезнь. Внешне все как будто вошло в свою колею, некуда было идти, некуда было спешить. Людвик ни с кем встреч не искал, и никто не искал встреч с ним. Он жил своей одинокой, пустой жизнью.
В комнате теперь он проживал один. Эда не появился, не прислал о себе никакой весточки. В старом шкафу по-прежнему стояла сумка с его вещами и с фотографией его светловолосой невесты. Людвик подумывал о том, что ему следовало бы сумку кому-нибудь отдать, может быть, родителям Эды, может быть, Еве, но пока ни на что не решился.
Квартирная хозяйка, разумеется, поспешила потребовать квартплату за обоих, Людвик не стал с ней спорить.
Иногда об Эде расспрашивал инженер Дашек, но Людвик отвечал уклончиво.
— Этот ваш приятель долго болеет, — допытывался он. — Вернется ли вообще?
— Не знаю, — пожимал плечами Людвик. — У него это серьезно. Постоянный шум в голове. Врачи не знают, что с ним делать. Может быть, он насовсем останется дома.
— Я тоже собираюсь вскорости сбежать отсюда, — доверительно поделился с ним Дашек. — Может, вы займете мою комнату. Там удобнее. И вы смогли бы туда водить девиц. А так вам и девушку пригласить некуда.
Вечерами он с удовольствием завязывал с Людвиком разговор о деревенских жителях, провинциалах, которые сидели у него в печенках, против них он постоянно что-то измышлял.
— Вот вы обратите внимание на то, — втолковывал ему он, — что разная там деревенщина все время надеется выбиться в люди. Вот, например, вы — всячески хотите отличиться, обогнать всех, лишь бы доказать, что вы ровня горожанам, ничуть не хуже их, что и вы не лишены предприимчивости. Вы делаете все, что возможно, лишь бы вас заметили…
— А разве вы родом не из деревни? Ведь вы тоже ездили каждое воскресенье домой, в провинцию…
— Острава — это не деревня, мой мальчик, — оскорбился Дашек. — Меня никогда не считали деревенщиной…
— И все-таки… В конце концов, мы все выходцы из деревни.
Ремеш тоже спрашивал об Эде, хотя Людвик рассчитывал узнать что-нибудь от него — может быть, Эда звонил или сообщил что-нибудь на работу. К сожалению, Ремеш тоже ничего не знал.
— Вычеркнули его из списка сотрудников, — сказал он несколько дней спустя Людвику. — Из-за систематической неявки на службу. И подали рапорт в бюро по найму. Иначе нельзя. Бедняга Эда, теперь у него из-за этого будут неприятности…
«Если бы дело было только в этом, — подумал Людвик, — то можно было бы хоть что-либо исправить. Но теперь едва ли вернешь все на прежнее место».
Однажды поздно вечером, возвращаясь из кино, Людвик столкнулся в прихожей с барышней Коциановой. Она опять была неопрятно одета, растрепана, блузка расстегнута, грудь полуобнажена. Не считаясь с тем, что была ночь и весь дом спал, она во весь голос распевала:
Постой, еще минуты вспомнишь эти, Оплачешь их, пожив на белом свете! Все, что цвело в твоем прекрасном сне, Уйдет, подобно нынешней весне…— Сегодня не жди от меня поцелуя, — проговорила она. — Сегодня мне на все плевать.
Людвик холодно посмотрел на нее и направился к своей двери.
— Ну и натворил же дел этот ваш Эда, — сказала она ему вслед, Людвик замер. — Мало было ему того, что он избил моих покровителей. Говорят, он появляется в разных местах и нападает на людей, которые и знать ничего не знают.
— Я об этом ничего не слышал, — заявил Людвик. — Все равно он у вас на совести, только у вас!
— Но-но!.. Это ты хорошо придумал, миленький. Такие небылицы можешь рассказывать разве что детишкам. Ничего общего не имела с этим человеком и иметь не хочу!..
— Вот как? — насмешливо заметил Людвик. — Раньше вы рассуждали по-другому. Как знать, не вы ли на него наклепали…
Она вроде притихла, погрустнела.
— Ни единого слова я не сказала, — ответила она обиженно. — Я бы никогда Эде не навредила. Зарубите это себе на носу. Скорее помогла бы…
— Обойдется и без вашей помощи, — резко бросил Людвик.
— Я слышала, что в этом баре случилась какая-то заварушка, и его из-за этого закрыли. Не был ли в ней случайно замешан ваш Эда?
Но Людвик уже ушел в комнату и захлопнул за собой дверь, услышав напоследок, как в передней девица Коцианова хриплым голосом распевает:
Все, что цвело в твоем прекрасном сне, Уйдет, подобно нынешней весне, — Постой, еще минуты вспомнишь эти…Однажды, придя с работы, где все, казалось, успокоилось и вернулось на прежнюю колею, Людвик нашел на столе письмо от Индры. Маленький розовый конверт с четко выписанным адресом вначале сильно взволновал его, вновь разбередил еще не зажившую рану, но потом он, не распечатывая, отложил письмо в сторону.
И лишь спустя несколько дней, когда тоска одиночества вновь сжала сердце, он с трепетом раскрыл его.
Письмо было строгим и сдержанным, оно напоминало служебное сообщение из юридической конторы. Видимо, между строками его сокрыта тайна, но Людвик не старался ее разгадать. Индра сообщала, как она счастлива дома у родителей, что все заботы, которые одолевали ее в Праге, остались далеко-далеко позади, что она служит в конторе на фарфоровом заводе и с нетерпением ждет весны. Она приглашала Людвика, если надумает, заехать к ней, писала, что с удовольствием повидала бы его… Письмо заканчивалось просьбой — не поминать ее лихом.
Он сел и немедленно написал ответ. Он писал, что с некоторого времени старается воспринимать события такими, какие они есть, что иногда он понимает смысл их со значительным запозданием, а иногда и вообще не понимает. Но не в этом дело… Ему кажется, нет нужды повторять то, что им обоим принесло одно разочарование. Ему не хотелось бы снова испытать его…
Людвиг вспомнил, как в тот вечер, когда они долго бродили по улицам и без конца целовались, теряя почву под ногами, она вдруг ни с того ни с сего и без всякой связи сказала:
«Все равно это не имеет смысла».
«Что не имеет смысла?»
«Все».
Тогда он не понял, что она под этим подразумевала, но до сих пор он ощущал колкие шипы этого многозначительного «все».
Или, как тогда в кафе, когда они, казалось, были так близки друг другу, вдруг без стеснения выдала свои сокровенные думы, которые, по-видимому, более всего волновали ее.
«Девушке в моих годах пора выходить замуж. Найти себе жениха и устроить свою жизнь. Не может же она бесконечно ждать того, кто серьезно заинтересуется ею».
«А я?» — спросил недоумевающе Людвик.
«Это вряд ли что-нибудь решило бы, — улыбнулась она снисходительно. — На ближайшее время у тебя хватит своих забот».
Однако назавтра он письмо не отправил, подумал, что, быть может, потом напишет ей, но уже в ином духе и о чем-либо другом. Кроме того, он не мог отказаться от мысли когда-нибудь заехать к ней.
Может быть, она за это время выйдет замуж, наверняка выйдет, скорее всего, она уже нашла себе желанного жениха «с положением».
Когда бы Людвик ни шел по улицам, он не мог не думать о том, что вот-вот в движущейся толпе пешеходов наткнется на сутуловатую фигуру Эды, что снова заметит его бодрый пружинящий шаг, так отличающийся от усталой походки большинства людей. Он все еще надеялся, что Эда нежданно-негаданно вынырнет из их скопища, весело улыбнется Людвику своей открытой мальчишеской улыбкой и скажет как ни в чем не бывало:
— Не зайти ли нам на кружку пива в «Черный пивовар»? Там пиво покрепче…
Но только Эда не появлялся ни на улице и ни в каком другом месте, не давал о себе знать, исчез, как сквозь землю провалился!
Когда Людвик снова поехал на воскресенье домой, он не удержался и опять разыскал отставного тренера Кинтеру в трактире у вокзала. Кинтера был пьян, он спутал Людвика с кем-то, даже побранил, но быстро смягчился, когда Людвик щедро угостил его.
— У кого есть деньги, от смерти тоже не уйдет, — пьяно насмехался Кинтера. — Нынче умереть проще простого…
— А что с Эдой? Не слышали чего о нем?
— За Эду не беспокойся, этот знает все ходы и выходы. Он справится сам, — говорил он как-то загадочно, будто на что-то намекая. — Всегда, с любым своим соперником он знал, как поступить…
— А где он сейчас? Не знаете?
— За каждым из нас влачится тяжкое бремя судьбы, — ответил он Людвику с высоты своих жизненных понятий. — Нельзя, парень, упрощать жизнь, иначе из нее живым не выкарабкаешься. — И хрипло рассмеялся.
Кинтера здорово перебрал, поговорить с ним толком было невозможно; один раз, когда на какой-то момент сознание его прояснилось, он без всякой связи заметил:
— То, что было в Эде накоплено, все равно вырвалось наружу… Когда-нибудь это должно было взять верх… Эда просто не мог в этом задрипанном мире жить смиренно… Понимаешь? Он должен был защищаться. И он защищался, как умел…
От обильного возлияния у Кинтеры вздулись вены на висках, глаза осоловели.
— Загляни как-нибудь, — пригласил он Людвика небрежно, — может, поведаю тебе еще кое-что…
Кинтера, без сомнения, был прав. Каждый человек, накопивший какие-то знания, опыт, умение, непременно выплеснет их, применит, может быть, даже помимо своей воли. Если кто-то поет хорошо, ему непременно захочется блеснуть своим искусством перед другими или показать, что он здорово играет на трубе, танцует, сражается в шахматы, карты, боксирует или делает прыжки, каждый надеется вызвать восхищение, овации. То, что он когда-то освоил, чем владеет, живет в нем и с ним, становится неотъемлемой его частью.
Если в человеке заложено геройство, оно обязательно когда-нибудь даст себя знать. Этот человек не подведет в критический момент, не поддастся панике, чувству безнадежности. Наоборот, постарается правильно оценить обстановку, проявив при этом отвагу и хладнокровие.
Уж если в нем заложено доброе, он волей-неволей поделится им, сломит эгоизм в себе и в окружающих, порадует кого-то сердечным рукопожатием, бескорыстной помощью, пойдет даже на самопожертвование.
Все положительное, что в человеке накоплено, все лучшие качества, что таятся в нем, — все это неисчерпаемое человеческое богатство не пропадает даром, оно не растрачивается впустую, оно не может прозвучать как безответное эхо.
В последнее время Людвик плохо спал. То и дело просыпался, напряженно прислушивался к различным звукам в тихом доме — к скрипу дверей, к подозрительному шороху или отдаленному шуму, — словно верил, что Эда, как обычно, около полуночи вернется из «Денницы» и бесцеремонно разбудит его, чтобы поделиться своими впечатлениями и мыслями.
«Неужели ты не понимаешь, что в теперешней обстановке человек не может проявить свою волю? Всех нас прижали к стенке, как кроликов. Они не только сожрали и разграбили все, что было возможно, но еще хотят лишить нас совести…»
Людвик в полусне слышал его тяжелое дыхание, однако глаз не открывал, чтоб всмотреться в густой полумрак, чтобы определить, сидит ли Эда, как прежде, за столом, положив голову на ладони, словно не в силах выдержать тяжести своих мыслей.
«Я просто не могу жить вот так, согнувшись, — говорил он, и его голос глухо разносился в тишине комнаты и терялся где-то в бесконечной дали. — Меня всегда учили, что нужно стоять к противнику лицом, не уклоняться, не отступать, идти в лобовую атаку, на удар отвечать ударом».
В баре «Денницы» светятся тусклые красные лампы, и все помещение выглядит как темная пещера — призрачно, нереально, и лица людей, случайных путников, которые собрались здесь, скрыты в полутенях, так что их невозможно различить.
«Не видели вы здесь Эду?» — спрашивает Людвик хорошенькую барменшу, но, кажется, она не понимает его простого вопроса, смотрит на него изумленными, полными страха глазами, страха перед всем, что произойдет, что еще за этим последует.
«Ведь Эда — это вы!» — цедит она сквозь сомкнутые губы и осторожно озирается, не слышит ли ее кто-нибудь.
Людвик сидит у стойки, сбоку от него барабанит по клавишам расстроенного рояля пьяный пианист, уже не имеет значения, что он играет, как играет, пока не закончит свое сумасшедшее тремоло и его седовласая голова неожиданно не ударится о поднятую крышку рояля.
«Ты ведь замкнулся в своем мирке и не видишь и не слышишь ничего вокруг», — говорит Эда где-то совсем близко — верно, сидит у стола и рассеянно всматривается в непроглядный мрак перед собой.
Но вот в красноватый сумрак «Денницы» спускается по лестнице военный патруль: трое, может, и больше, разве различишь их в этом мраке, подобно огромной волне надвигаются они прямо на Людвика, напряженную тишину нарушает лишь резкое поскрипывание начищенных сапог. Офицер кладет руку на плечо Людвика, что-то хочет сказать, как вдруг у стойки бара в отчаянном страхе вскрикивает Клара.
Людвик уже больше не ждет, он абсолютно уверен, что он сам и есть тот бывший боксер, который свел с Некольным все раунды вничью, он чувствует сдерживаемую силу в бицепсах и непроизвольно, с неожиданной легкостью, как бы повторяя привычное движение, резким выпадом правой руки бьет офицера в переносицу, ощущая силу собственного удара кулаком по его черепной кости, видит, как противник теряет сознание и падает на землю.
Вдруг гаснет свет, в черной тьме дрожат немые тени, раздается шальной выстрел, звон стекла и снова крики ужаса. Все бросаются к выходу, но Людвик бежит по незнакомой лестнице во двор за кем-то, кто показывает ему дорогу. Этот кто-то — женщина, светловолосая, с распущенными длинными волосами, вместе они бегут к набережной, их преследует патруль, а из-за угла навстречу выныривает черный автомобиль. Скрыться некуда, можно лишь, затаив дыхание, прижаться к дверям дома и изображать влюбленных, которые никак не могут расстаться, целуются без конца, их тела сплелись в объятии. Шаги патруля удаляются, автомобиль, трясясь, проезжает мимо но направлению к главной улице, и тут в свете его мигающих фар Людвик обнаруживает, что он сжимает в объятиях печальную невесту Эды…
Они с Евой в его проходной комнате, куда же им деваться, ведь Еве негде спать; она уже лежит в черной комбинации в постели Эды, море светлых волос раскинулось по белой подушке; она все время всхлипывает, ее душат едва сдерживаемые рыдания, Людвик берет Еву за руку и успокаивает, уговаривает: «Не плачьте. Этим вы ничего не поправите. Эда наверняка появится, как только все уляжется и станет на свои места».
Среди ночи из комнаты Дашека выходит подвыпивший дядя и за ним кучка разгулявшихся собутыльников, Маша и Даша, а также пан Пенка, вдребезги пьяный пан Пенка; он в полутьме теряет очки и, ничего не соображая, натыкается на стол, да так, что все вокруг сотрясается. И с ними девица Коцианова, вездесущая девица Коцианова, она садится на спинку кровати Людвика, разувается, расстегивает свою шелковую блузку, рукой освобождает из тесного бюстгальтера пышную грудь, но тут появляется дядя, он хватает Лили за руку и грубо тащит куда-то, пока она не вырывается и не убегает. Какое-то время они гоняются друг за другом вокруг стола, мелькают перед глазами Людвика… Но это уже не девица Коцианова, а наверняка Индра, предательница Индра, на которую Людвик возлагал все свои надежды, но которая покинула его, когда более всего была нужна.
Все уже держатся за руки и водят хоровод, танцуют вокруг стола, кружатся. С ними кружится вся проходная комната, ее тесное пространство раздувается, растет в стремительном полете, потом она постепенно отделяется, поднимается в воздух, парит над спящим городом. Здесь все — и пан Пенка, и квартирная хозяйка, и инженер Дашек; здесь с ними, разумеется, и Эда, мечтатель и боксер Эда; робкая, простодушная улыбка блуждает на его устах. Но вдруг он покидает остальных, хватаясь за голову, за свою нестерпимо больную голову…
Прошло время, и об Эде стали рассказывать истории одна невероятнее другой. Зачастую они были плодом человеческой фантазии, взвинченной до предела в те беспокойные, мрачные годы протектората, рождались всевозможные догадки и необоснованные утверждения. То и дело кто-нибудь приносил удивительную новость, которая разносилась стремительно, как лавина, что-де наш чемпион появился там-то или там-то и верным нокаутом наказал преследователей, вызвав страшный переполох, и, прежде чем противник опомнился, исчез, как сквозь землю провалился. Где бы ни грозила опасность простому человеку — будь то на улице, на вокзале, в трактире, в трамвае или в учреждении, — как гром среди ясного неба возникал Эда и без долгих проволочек точным ударом разряжал обстановку. Он поражал всех смелостью, спокойным расчетом, стал грозой и карающей десницей для всех, кто совершал несправедливые, подлые поступки.
Поползли всевозможные слухи, и достоверные, и недостоверные. Люди черпали в них бодрость, надежду и поддержку в эти тревожные дни.
Доходили до Людвика и более правдоподобные известия, на первый взгляд довольно противоречивые и потому нередко опровергавшие друг друга.
Говорили, что Эда закончил свою жизнь в сумасшедшем доме, что у него совсем затуманилось сознание, а его загадочная болезнь осложнилась настолько, что он уже ничего не видел и не слышал, отказывался от еды, утратив всякий интерес к жизни. В конечном итоге совсем помешался.
Говорили, что его видел кто-то из знакомых, навестил его в больнице для душевнобольных, и хотя обычно к нему никого не пускали, на сей раз сделали исключение, но Эда находился в состоянии тупого безразличия, все пятился назад, потряхивая головой, и шептал: «…на кого слово падет, тот из круга вон».
Потом появилось еще одно печальное известие, будто неподалеку от Праги, в заснеженном лесу, нашли повесившегося человека, личность которого опознать не удалось. Поговаривали, что это был Эда, не кто иной, как Эда, который долго скрывался и в состоянии отчаяния и безысходности наложил на себя руки.
Но передавалась из уст в уста и благая весть, обнадеживающая и, пожалуй, более достоверная: чемпион ушел к партизанам, живет с ними в лесах, откуда время от времени вместе с ними нападает на поезда с оружием, направляющиеся на фронт, взрывает железнодорожные пути, освобождает заключенных. Эда якобы стал командиром партизан, душой всего отряда.
Некоторые презрительно утверждали, что это все — глупые россказни, досужие выдумки.
Однако Людвик был убежден, что именно эти слухи правдивы, что Эда наверняка ушел к партизанам и вместе с ними борется с оккупантами.
Он неколебимо верил, что все было именно так, а иначе быть не могло.
Еще Людвик верил твердо, что война в скором времени кончится и что он дождется ее конца.
Но иногда им овладевало странное чувство, будто история с Эдой произошла в каком-то далеком прошлом, а может быть, и вовсе не происходила…
Примечания
1
Она еще спит (нем.).
(обратно)2
Подвал Матяша (венг.).
(обратно)3
Тыква… тыквочка (нем.).
(обратно)4
Действие повести происходит в 1973 г. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)5
Парк развлечений (венг.).
(обратно)6
Перевод М. Ваксмахера.
(обратно)7
Автомашина марки «шкода».
(обратно)8
Сумасшедший дом (искаж. нем.).
(обратно)9
Здесь и далее стихи даны в переводе В. Корчагина.
(обратно)



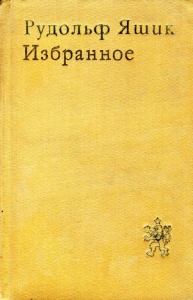
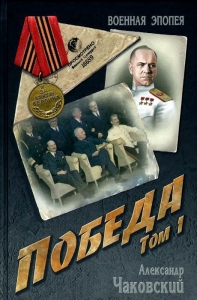



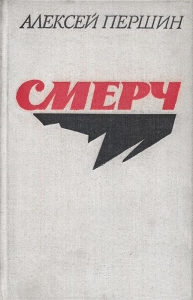
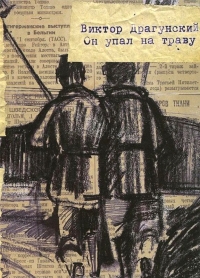
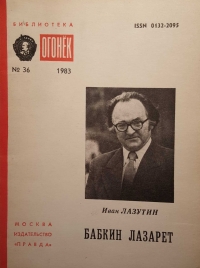

Комментарии к книге «Повести», Йозеф Кадлец
Всего 0 комментариев