Артем Сергеев Четыре рассказа
От редакции: генерал-лейтенант артиллерии Артём Фёдорович Сергеев — сын большевика "старой гвардии" товарища Артема. Его приемный отец — Иосиф Виссарионович Сталин. И Артем, и его друг Василий Сталин с детства знали, что будут военными.
Артём Фёдорович прошел всю войну, начав её лейтенантом, командиром артиллерийской батареи, закончив подполковником, командиром артиллерийской бригады. Он помнит своих солдат по имени, кто из какого города, кто какими наградами отмечен, кто как погиб. После войны встречался с оставшимися в живых, переписывался, был в курсе их служебных и личных дел, пытался в случае необходимости принять в них посильное участие. Он написал немало рассказов о войне, о её буднях, о подвигах тех, кто воевал рядом. Четыре рассказа из новой книги Артёма Сергеева мы публикуем в журнале «МОЛОКО».
Подвиг неизвестного солдата
В начале 1944 года, в Белоруссии, в районе города Рогачев, линия фронта проходила по Днепру. Наши войска были на низком и покатом правом берегу. На левом берегу, очень высоком и обрывистом, был противник. Там построила свою оборону 31 немецкая пехотная дивизия.
Решено было форсировать Днепр и сломить вражескую оборону в самом неожиданном для немцев месте: там, где берег наиболее высок и обрывист, там, где оборона противника казалась наиболее неприступной. Этот неудобный для боев участок наши войска обороняли малыми силами на широком фронте. «Полтора Ивана на 100 метров фронта» — шутили офицеры оперативного отдела, подсчитывая войсковые плотности.
Противник на участке намеченного прорыва был спокоен. Против себя он почти не видел наших сил, тем более группировки, которая могла бы нанести внезапный удар. Тайна и внезапность должны были решить, по крайней мере, половину дела. Как известно, сохранить в тайне готовящуюся операцию и начать ее совершенно неожиданно для противника есть одно из высших и трудных достижений военного искусства. Еще великий Суворов говорил: «Удивить — победить!»
Не составлялось никаких письменных документов. Все задачи ставились устно и лишь ограниченному кругу лиц. Тщательно и скрытно готовились войска к штурму.
22 февраля 1944 года, когда чуть забрезжил рассвет, в воздух взлетела красная ракета, за ней еще несколько красных ракет. Ухнул первый орудийный выстрел. С края до края, то там, то там глухие раскаты. И вдруг все загудело, заухало, над головой зашумели, зашуршали и завизжали снаряды. Звонко, гулко, глухо, отрывисто и раскатисто били пушки, гаубицы, минометы. Через несколько секунд, как бы боясь опоздать, схватились и затрещали пулеметы, автоматы, винтовки.
Один, другой, третий всплеск пламени, дым, летящие комья-разрывы порвали землю за Днепром. Еще, еще, еще, и вот уже весь противоположный берег превратился в сплошную колышущуюся стену дыма, у основания которой каждое мгновенье возникали огненные всплески и серые смерчи. Все летело кверху, разрушалось, падало, гремело. Земля сотрясалась, а воздух приобрел какую-то ощутимую упругость и колебался…
Вот она, артиллерийская подготовка. В воздух полетели зеленые ракеты. Взревело и раскатилось — урааа!!! Сквозь дым, под грохот и треск под перекатывающееся… АААА!!!…. сорвалась лавина людей и, увлекаемая единым яростным порывом, кинулась вперед по льду через Днепр.
Немецкая 31 пехотная дивизия была сбита с правого высокого берега. Её части в беспорядке отступали на Запад, к Рогачеву, пытаясь зацепиться за каждый населенный пункт, за каждую тыловую позицию.
Передовые подразделения наших войск, пробившись через Днепр отдельными боевыми группами, смело врезались в гущу противника, отчаянно били его, разрезали на мелкие части его оборону, заходили в тыл, создавали неразбериху, сеяли панику, сокрушая способность врага к сопротивлению. Надо было добить 31 дивизию, захватить город Рогачев и форсировать находящуюся за ним реку Друть раньше, чем немцы сумеют подтянуть резервы и создать перевес в силах. Роты стрелков-пехотинцев бежали вперед через Днепр. Они катили за собой и несли на плечах минометы, пулеметы и патронные ящики. Артиллеристы перевезли свои легкие пушки по надледной переправе, которую в ночь перед атакой построили саперы- прямо к противнику.
Впереди отвесный берег высотой с шестиэтажный дом. Для видавшей виды пехоты эта крепость не была преградой. Солдаты как муравьи облепили склон и быстро полезли вверх. Но для артиллеристов это было тяжелым испытанием. Наверх надо закатить пушки, а они весят больше тонны. В бою для успеха дорога каждая минута, а саперам для сооружения въезда на гору потребуется не менее двух-трех часов.
Но вот уже с отвесного берега командир батареи распорядился бросить конец длинного троса, и первая пушка медленно потянулась вверх. А сверху: «Раз-два, взяли, а ну еще, еще силъней нажим, ребята». За трос потянули вместе с артиллеристами десятка три подбежавших пехотинцев. Среди солдат нашлись бывалые лесорубы, сплавщики, строители, они помогали командирам. И через 30–40 минут наверх подняты орудия двух батарей. Но автомобили-тягачи поднять было нельзя. Надо ждать, пока саперы подготовят въезд.
Какие-то солдаты подскакали к берегу на тяжелых немецких лошадях, подобрав постромки и ремни сбруи. Это пехотинцы снова пришли на помощь «братцам-артиллеристам», попавшим в затруднительное положение:
— Эй, артиллеристы, принимай тягачи с овсяным карбюратором. Глядите, аварию не совершите. Вожжи — не баранка. Да не мешкай, не мешкай, бог войны.
В несколько минут соорудили упряжки, и две батареи артиллеристов вышли вперед на помощь атакующей пехоте. Замыкающим выехало орудие старшего сержанта Юлдаша Азимова. Ему досталась всего одна лошадь. Среди своих солдат он один был специалистом в конном деле, потому он сам смастерил упряжку, сел верхом и с гиком и свистом настегивал свою единственную лошадь. Остальные солдаты его орудия бежали рядом, то и дело подталкивая застревающую пушку. Несмотря на все усилия Юлдаша и его солдат, пушка двигалась очень медленно и заметно отстала от батареи. Ее даже обгоняли бегущие вперед солдаты-пехотинцы, а один верзила-автоматчик с веснушками на рыжеватом лице, в прожженном на боку ватнике, крикнул на ходу выбивавшемуся из сил Азимову: «Эй, артиллерия! Сейчас тебя наш кашевар обгонять будет, попросись на буксир за кухней. А то к делу не поспеешь». У Юлдаша от злости лицо перекосилось, он готов был спрыгнуть с лошади и поколотить насмешника или хотя бы изругать, на чем свет стоит, однако лишь крикнул на него: «Шайтан!»- и стал еще громче гикать и покрикивать на свою лошадь.
Вдруг слева впереди послышались звонкие выстрелы танковых пушек, свист снарядов в направлении, куда ушли батареи, резкие хлопки разрывов, эхом разносившиеся по лесу. Минут через пятнадцать впереди увидели несколько бродивших лошадей. Одна из них, с оборванными постромками, прихрамывая, пробежала мимо орудия. Она громко ржала. На боку у нее была кровь. Солдат охватило волнение. «Наших побили», — жестко сказал Юлдаш.
Солдаты сильней навалились на пушку. Они зацепили ее ремнями как лямками, а Юлдаш нещадно хлестал лошадь, заставив ее бежать рысью. Тревога за своих и предчувствие того, что случилось несчастье, прибавило сил. Пушка быстрее покатилась вперед.
Выехали на опушку леса. Все напряжённо смотрели вперед, у каждого сжалось сердце. Там лежали шесть искореженных пушек, а рядом с ними ползали несколько человек. Как будто сил еще прибавилось. В пару минут подскакали к ужасному месту.
На спине, раскинув руки, с открытым ртом лежал старший офицер батареи старший лейтенант Гусак. Из уголка рта у него текла темная кровь. В нескольких шагах от него, обхватив руками лафет перевернутой пушки, лежал наводчик Амуртазов, еще и еще боевые друзья, с которыми всего полчаса как расстались, часа не прошло, как делали упряжки, два часа назад переправлялись через Днепр. Неделю, месяц, год назад… Много еще где вместе были и что делали… Вместе дрались. Одним жили.
К Азимову подбежал воспитанник батареи четырнадцатилетний Ваня. Он утирал капавшие с носа кровь и слезы:
— Мы только из леса… Хотели быстрее вперед, а из-за кустов с дороги совсем рядом, метров с двухсот, пять танков двумя залпами сбили пушки, а потом начали расстреливать, добивать. Кто вскочит, его из пушки или из пулемета. Товарища старшего лейтенанта сразу. Он только крикнул «Танки слева! К бою!». Я рядом с ним был. Он на меня: «Ваня, в канаву!» И все. Я к нему, а на нем кровь шипит». Ваня не выдержал и заплакал навзрыд, обхватив Азимова руками повыше пояса. — Дядя Юлдаш, ой, что случилось.
В несколько минут перевязали раненых, поймали еще двух лошадей, запрягли их цугом и, что было сил, помчались вперед со сжимающей сердце болью и жаждой мести.
Впереди и справа в лесу слышались хлопки выстрелов. Дорога, по которой шла вперед орудийная упряжка, проходила по опушке леса. Юлдаш внимательно смотрел вперед и по сторонам. Вдруг он вздрогнул, откинулся назад в седле, резко протер глаза. Метрах в четырехстах слева на дороге гуськом стояли пять немецких танков. Первый из них горел. Остальные, с виду совершенно целые, стояли неподвижно.
Юлдаш в момент пришел в себя и громко скомандовал:
— Танки слева. К бою! — и сделал резкий заряд лошадьми направо. — Расцепляй! Бондаренко, отведи лошадей! По левому танку — бронебойным! Наводить в центр борта! Огонь! — Снаряд ударил по верхней части танка и рикошетировал. — Наводи ниже. Огонь! — Из борта танка посыпались сверкающие брызги искр… — Наводи в следующий! — удовлетворенно и уже не так торопливо скомандовал Юлдаш наводчику Петренко и показал рукой на четвертый танк. Петренко буквально влез глазом в окуляр панорамы, немного повернул маховики наведения, ударил правым локтем по спусковой ручке.
Снова огненные брызги из борта танка. Минуты не прошло. Лишь один танк успел сделать выстрел. Заряжающий Семенов отшатнулся в сторону, выронил снаряд, схватился за бок, поморщился, потом выпрямился, крепко ругнулся, схватил упавший снаряд, дослал в патронник. Орудие вздрогнуло, и от последнего танка полетели огненные брызги.
Из двух танков сильными струями пошел темно-серый дым. Он заклубился. Раздался глухой взрыв. Один танк заволокло черным дымом. Из дыма вырвались тонкие языки красного пламени. Вверх полетели какие-то черные куски. В танке взорвался боезапас.
Пара выстрелов, и взорвался еще один танк. У третьего танка открылся верхний люк. Оттуда показалась голова в черном берете. Удар осколочно-фугасной гранатой захлопнул люк вместе с головой. Еще минута, может быть две, и все кончено. Горят четыре вражеских танка.
…Но кто расправился с пятым танком? Пушек впереди еще не было. Да и вообще, почти никого из наших там еще не было. Кто же прошел туда? Кто с винтовкой, ручной гранатой или с бутылкой горючей жидкости пошел на пять стальных танков? На пять немецких пушек и десять пулеметов. Один на двадцать врагов, одетых в броню.
Оставив с орудием и лошадьми наводчика и еще двух человек, Азимов с остальными солдатами по снегу и лужам, перепрыгивая через борозды и увязая в грязи, побежал к танкам, четыре из которых, шипя и хлопая, выпускали клубы серого дыма, вызывая приятную гордость. Из пятого танка тоненько струился дымок.
— Товарищ старший сержант, кто же его? — спросил высокий солдат, белокурый латыш Шнефелс.
— А вот, смотрите, — ответил Азимов. — У этого танка порвана одна гусеница, под ней мелкая воронка, будто кто-то землю ногтями ободрал во все стороны, а в середине, видите, маленькая ямка с растреснутыми краями, величиной с кулак. Ясно, что это ручная граната.
— Но почему танк сгорел? — рассуждал вслух замковой Зайцев.
— Сейчас разберемся.
— Во, смотрите, — показал Шнефелс рукой сверху на броню танка. Там лежали подплавленные осколки разбитой бутылки.
— А вот еще под танком стекляшки, — сказал Зайцев и полез головой между гусениц.
Азимов махнул рукой, чтобы все молчали:
— Смотрите. Теперь ясно, он гранатой сорвал гусеницу, а потом зажег его бутылкой горючей смеси «КС».
Рядом с танком лежали три убитых танкиста в черных куртках с изображением черепа и костей на воротниках. У двух куртки немного обгорели, значит, выпрыгивали уже из горящего танка, и по ним сразу стреляли (потому что лежали у самого танка). Впереди, метрах в десяти от танка, в грязи на дороге еще один убитый в черной куртке. Видно, с ним кто-то долго боролся. Порванная одежда на нем вся в грязи, вокруг грязь примята и забрызгана кровью, лицо его исцарапано, щека прокушена.
К артиллеристам подошел старик, живший в метрах трехстах, на хуторе близ деревни Вищин:
— Здравствуйте родимые! Ну вот, наконец, и свои пожаловали. А ты, никак, киргизец будешь? — обратился старик к Азимову, признав в нем начальника.
— Нет, папаша, я узбек.
— Все одно, родом-то ты из Туркестана будешь. Я ить при царе Микалашке беспутном у вас семь годов прослужил. Плохо тогда вашему брату было.
— Теперь, папаша, не узнал бы. Все по-другому.
— Оно и видно. Раньше вас начальники и за людей по-настоящему не признавали. А теперь сам в начальниках ходишь. Якши, джигит, — сказал старик.
— Якши, аксакал, — ответил Азимов с почтением.
— Что, удивляетесь? — старик многозначительно кивнул в сторону танков.
— Ты что, папаша, видел? — спросил Азимов.
— А как же, видел, — утвердительно кивнул старик. — Стреляли они, не доехав до нас с версту, вон по тому лесу, — показал дед в сторону, где погибли батареи. — Как подъехали эти танки ближе, подбежал по канаве наш солдат, лег на дороге в колею и в грязь зарылся. Ждал. Как подошел первый к нему танк совсем близко, он его бомбой взорвал, да так, что тот огнем загорелся. Германцы стали сверху выпрыгивать. Троих застрелил, да, видать, больше винтовка не была заряжена. С четвертым схватился в рукопашную, вот с этим, что поодаль. Долго они с ним катались перед танком, но тут наш парень деревенский Андрюха канавой подполз, да немца колом по голове.
— А где солдат-то этот? — спросил Азимов.
— Да бог его знает. Как порешили последнего, так канавой обратно ушел.
— Звать-то его как, не знаешь?
— Да где же мне знать!
— А хоть какой он был?
— Как какой? Как все наши. Солдатик как солдатик, неприметный на вид. Шинель на нем серая, а сердце у него русское. — Видно, мысль какая-то мелькнула у старика. Встряхнулся он, выпрямился и с волнением сказал. — С первого взгляда видно, что тот солдат — Орел, а ударом — Сокол. Сразу смекнул, что на гати ихним танкам не разъехаться и в бок не сползти: болото — утопнут. Ударил по первому и поминай, как звали. Службу свою солдатскую справил и пошел. Эй, Андрюха, поди сюда! — крикнул дед показавшемуся невдалеке пареньку лет шестнадцати.
Парень подбежал.
— Как хоть, парень, солдата того завали?
— Где мне знать?
— Как, где знать?
— А он не сказывал. Как немец-то вытянулся, мы с ним по канаве- и к дому. Он спереди, я за ним. За дом как зашли, он мне и сказал: «Век тебя, парень, помнить буду». Вытянул из шапки звездочку, дал мне и ушел. Вот она, эта звездочка, смотрите, — сказал парень, вынув из-за пазухи кожушка желтоватую жестяную звездочку, вырезанную, очевидно, из консервной банки. — А росту он обыкновенного, — добавил парень.
— Эх, так и не узнали того солдата, — сказал с сожалением Юлдаш. — Ну, хоть запишу фамилию парня с именем и отчеством и откуда он. Командиру доложу. Ведь парень в нашем деле тоже геройство проявил, можно сказать, почти в тылу врага.
— Дяденька, а мне с вами можно? — с восхищением глядя на солдата, взволнованно, со слезами на глазах спросил парень. — У меня сегодня немцы маму в хате спалили, а отец в Красной Армии с 41 года воюет. Возьмите, я вам, что хотите делать буду.
— Ну, что же, Андрей, видно, здорово ты немцев не любишь, коли палкой бьешь. Хоть год твой, наверное, для призыва не подошел, все равно иди ко мне в орудийный расчет. У нас не заскучаешь и без дела сидеть не будешь.
— Ох, товарищ командир, я им из пушки и за маму, и за хату, и за все село… Только возьмите.
Через несколько минут орудие на рысях покатилось вперед. Не прошло и получаса, как Юлдаш увидел эти танки, четыре из которых были еще целыми, грозными… Но сколько сделано и пережито было за эти минуты.
Прошло еще немного времени. Орудие вступило в бой, било по огневым точкам, по домам, дзотам, по пехоте противника. Да мало ли целей в бою!
Через два дня был взят город Рогачев, и за рекой Друть образован плацдарм, а еще через пару дней вечером были построены все люди полка, свободные от боевой работы.
Был зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении полка орденом Красного Знамени и Приказ Верховного Главнокомандующего о присвоении полку наименования «Рогачевский».
Вручались первые награды за форсирование Днепра, за захват и расширение плацдарма, за освобождение города Рогачев. Начальник штаба зачитывал приказы, командир полка вручал награды:
— …Старший сержант Азимов Юлдаш — орденом Красного Знамени, — читал начальник штаба. — За то, что со своим орудием одним из первых форсировал Днепр, за то, что уничтожил четыре вражеских танка, за то, что…
— Орденом Отечественной войны I степени — младший сержант Петренко — наводчик орудия.
— Орденом Славы III степени — рядовой Семенов — заряжающий орудия. За то, что будучи раненым, не ушел с поля боя и обеспечил выполнение боевой задачи.
Орденом Красной Звезды были посмертно награждены погибшие солдаты орудийного расчета Азимова.
Сердце Юлдаша от волнения усиленно билось, в ногах приятно покалывало. Он взял обеими руками протянутый ему орден, который блестел золотом и красной эмалью, прижал его к губам, потом посмотрел на командира полка, быстро сунул орден за пазуху ватника и опять обеими руками схватил протянутую ему руку, прижал ее к своей груди, поклонился, не выпуская руки, и громко сказал: «Служу Советскому Союзу». Юлдаш был счастлив. Теперь он один из самых славных узбеков. А как его, Юлдаша, встретят дома, после войны… Но вдруг Юлдаш вспомнил, что среди них нет того солдата.
— Товарищ командир, — сказал Азимов, — узнай пожалуйста, где тот солдат, что первый танк сжег. Это он все сделал, он танки остановил. Пусть ему самая большая награда будет. Мы ведь как на полигоне по неподвижным мишеням стреляли, а он с ними один открыто. Скажи, пусть наградят, а то я ему свой орден отдам. Все мы отдадим.
— Его нет, — ответил командир.
— Нет? Эх, солдат, солдат, — вздохнул Азимов. — Тогда скажи, пожалуйста, где могила. Я на могилу свой орден положу.
Командир печально посмотрел на Юлдаша:
— Его нигде не могут найти. Командующий армией приказал: оповестить наступавшие войска и найти этого солдата, но его не нашли.
Юлдаш опустил голову, повернулся и понуро пошел на место. Он хорошо понимал, что значит: четыре дня не могут найти солдата. Этого солдата не нашли и потом. Никто не знает, как его фамилия. Он, видимо, погиб, совершая свой солдатский подвиг. И этого также не видели те, кто мог бы отметить его золотой наградой, поставить на могиле гранитный монумент, обессмертить в песнях его имя.
Он сам поставил себе памятник — пять разбитых фашистских танков. И оставил в сердцах очевидцев пример беззаветно-геройской солдатской службы.
Художник Зубов и кое-что о фронтовых санитарах
В начале января 1942 года под Москвой, где-то между Боровском и Вереёй, у нас происходила небольшая перегруппировка войск. То ли внутри дивизии, то ли в масштабе армии. Где было тогда знать об этом лейтенанту — командиру 76-мм артиллерийской батареи?
Когда вышли из боя и маневрировали по фронту в 10–15 километрах от переднего края, у меня появилась возможность зайти в медсанбат дивизии проведать раненых из нашего полка и особенно хотелось навестить тех, что из батареи, которой я командовал.
К санитарным палаткам, развернутым на лесной поляне, по ухабистым снежным дорогам все время подвозили раненых: на грузовых машинах, на санях-розвальнях, а многие раненые полегче, группами и в одиночку, подходили пешком.
Нерадостное это было зрелище. Вот они, издержки войны, результаты боя — избитые, разорванные или убитые люди. Пожалуй, только здесь, и именно здесь, в полевом госпитале, понятие «бой» отождествляется с «бойней».
В открытом бою другое дело. Там основу действий и возможности составляют живые и здоровые люди, а убитые или раненые лишь сокращают количество бойцов. Раненые и убитые лежат на поле боя по одиночке. С ними занимаются находящиеся вблизи товарищи или санитары. Тут же нет никакого боя, никакого энтузиазма, а только кровь, мучения, разорванные одежды и смерть. Смерть, колеблющаяся около лежащих растерзанных людей. Она приближается к лежащему. От некоторых ее отгоняют врачи, некоторых она берет мертвой хваткой и не выпускает.
В больших палатках стоят походные операционные столы. На них раненые. Они ложатся сами или их кладут санитары. С блестящим инструментом, с окровавленными кусками ваты и бинтами стоят врачи и медсестры. Стоят, склонившись, разговаривают резко, но вполголоса. Вскрикивают от боли или стонут оперируемые, резко звенит брошенный в миску использованный инструмент.
Здесь очищают, режут и сшивают раненное человеческое тело. То, что совсем испорчено и уже вообще не годится — отрезают, и тогда слышится вызывающий ужасное чувство шмякающий удар мяса, падающего на металл, или более гулкий и звонкий удар брошенной кости.
Но здесь тоже, как и на поле боя, идет напряженная борьба с противником. Тут восстанавливают нарушенные врагом жизнь, здоровье и боеспособность людей. Здесь возвращают в строй солдат, а, значит, сокращают наши потери и боевые успехи, достигнутые противником.
Врачи работают почти без сна. Санитары в старых, испачканных кровью ватниках и таких же штанах, с грязными заскорузлыми и тоже перепачканными засохшей кровью руками, день и ночь, без устали и без смены, подносят носилки, ставят на землю, покрытую еловым лапником, снимают с них человека, раздевают, открывая нужное место, поднимают со стола «обработанного», кладут на носилки, затем кладут на стол того, которого принесли, затем уносят измученного ранами и операцией, заново перебинтованного человека, того, кому уже оказана квалифицированная, но не всегда достаточная (по условиям войны) медицинская помощь. Отнесли, принесли, раздели, одели, укрыли, подняли, положили. А потом медсанбат свернули, собрали и перевезли на новое место, на новом месте разгрузили, разобрали имущество и развернули медсанбат вновь. А потом медсанбат бомбили, и надо было разнести подальше раненых, а еще раньше были в окружении, а когда вышли — напала окруженная, скитавшаяся по лесам группа противника. Все это было. Только для сна и отдыха обычно времени не было.
В бою бывает затишье, а раненый — больной человек затихает лишь тогда, когда уснет либо умрет. Коль умрет, хоронить надо, могилу все равно санитарам копать надо. Каково ее в мерзлоте ломами выдалбливать. А коли раненый уснет, другой в это время поспевает. Вот так и жили труженики — госпитальные санитары: всегда усталые, не всегда бритые, не всегда чистые, всегда недоспавшие, никем не примеченные и не награжденные незаметные мученики войны.
Жизнь бойца, того, что на переднем крае, разнообразна. Бывает сыт, бывает голоден. Иногда бьется с врагом двое, трое суток, до изнеможения; иногда спит 20 часов подряд; иногда в холоде, иногда в тепле. Он чувствует напряжение боя и радость успеха, иногда гонится за противником, всаживая ему штык между лопаток, а иногда сам убегает, петляя, как заяц.
Полмесяца, месяц повоевал, а там либо совсем в «земотдел», …?… так то уже не чувствуется, либо на излечение, значит в «здравотдел», — так говорили в те времена.
Первые дни после ранения обычно трудно бывает: и тяжело, и больно, и как-то сумеют тебя, куда нужно доставить, а затем эвакуируют в госпиталь, — в тыл. Через неделю легче становится. Белье чистое, белые простыни, миловидные девочки-санитарки и «сестренки».
Вообще-то солдату-бойцу, конечно тоже нелегко, но жизнь его разнообразна. А вот санитару до отупения, до одурения серо, тягостно и однообразно. И все-то они, солдаты-санитары, внешне какие-то однообразные. В серых шинелях или ватниках, зимой в валенках, летом в ботинках с обмотками, немолодые, небритые. Обычно невысокого роста, а может и не все невысокие, и лица у всех какие-то невыразительные, глаза тусклые, не то, что у пехотного разведчика или пулеметчика. У тех в глазах огонь. И все они, санитары, неторопливые, походка плавная.
И не приметил бы, и не отличил бы я, наверное, в этом медсанбате санитара, несшего тяжелые носилки, если бы у него, такого же серого, невысокого, неторопливого и безликого, как и все они, не торчала бы из кармана пачка бумаги, на согнутом листе которой был виден маленький уголок карандашного рисунка.
Когда санитар поставил на землю свои носилки и на минуту остановился, я спросил у него про этот рисунок:
— Солдат, что это у тебя в кармане?
Санитар немного смутился и был явно недоволен, будто его уличили в чем-то недопустимом.
— Так, ничего, — нехотя ответил он.
— Как ничего. Это же бумага. Покажи! — попросил я.
— Да нечего смотреть. Так себе бумага, вот и все.
— А на бумаге-то нарисовано, — настаивал я.
— Ну, я же говорю бумага, как бумага.
— Нет, ты мне не бумагу, а что нарисовано покажи.
— Да ничего не нарисовано. Так, солдат один нарисовал, — сказал санитар, вынимая сероватую форматную бумагу, которую достал, очевидно, в штабе у машинистки.
Посмотрев на протянутую бумагу, я не удержался и сразу сказал:
— Да это же отличный рисунок.
А санитар нехотя буркнул:
— Ну, еще и отличный.
— Это ты сам рисовал?
— Ну, сам.
— Это же настоящий портрет.
— Ну, портрет.
— А у тебя еще что-нибудь есть?
— Ну, есть кое-что, очень неохотно сказал санитар.
Я потянул у него из кармана свернутую пачку:
— Да покажи же.
Не дожидаясь, показа, я сам стал перебирать пачку бумаги, один угол которой санитар крепко схватил рукой. В пачке была еще пара портретов, а потом рисунок: раненый, лежащий на носилках. Как это было здорово нарисовано! На грязных носилках, покрытый шинелью лежал перебинтованный человек. На лице его страдание и спокойная покорность.
— И это все ты рисовал?
— Ну, я.
— Да ты же настоящий художник.
— Ну, был художником раньше.
— А ты много рисуешь?
Солдат, увидев интерес и некоторое понимание своей работы, стал понемногу оживляться, казалось, у него начинает оттаивать душа:
— Да, я был раньше художником, но ведь тут рисовать нельзя. Красок нет, пастелей тоже, бумаги мало. Приличных карандашей пару достал трофейных. А вот носилки так натаскаешься — пальцы дрожат, карандаш в руке не держится. Но каждую свободную минуту рисую.
— А ты хочешь все время рисовать? Только рисовать.
— Да мало ли кто, что хочет, — с глубоким вздохом сказал санитар. — Ведь сейчас война. Так что свои желания приходится оставить до поры, когда война кончится. Вот тогда и буду все время рисовать и только рисовать.
— Э, милый мой, когда война кончится, тогда по памяти рисовать придется. А тут натура. Как тебе сказать: натуральная война, какая есть. Такую со всеми ее подробностями по памяти не повторишь. Не то будет. Да и тем тогда много новых будет: о победе, о строительстве, о восстановлении. За войну много всего переломают. Восстанавливать не меньше, чем после гражданской войны придется, а потом и другие страны тоже рисовать надо будет. Там ведь тоже советскую власть устанавливать придется. А. вот о том, как первые дни воевали, как первую зиму мерзли, хоть и не забудем, да ты потом рисовать постесняешься или скажут тебе: «Не то!». А тут документ будет подлинный, со всей спецификой сегодняшнего дня, без прикрас и без фальши. Знаешь, ведь бывает, пишут роман или повесть после войны, но в общем-то это обобщение, на разном уровне мастерства, на который автор способен, а ведь есть летописец-современник. Он дневник пишет. Документирует. Широко не обобщая, а лишь то, что видит. Без этих документов, хоть они и корявыми будут, ни историк, ни литератор ничего не сделают. Да и память, сам понимаешь, на войне сохраняется, пока жив человек. А после него вместо памяти одна надпись на дощечке. А тут уж, что бы ни случилось, документ остается. Ты не подумай, что я тебя хороню, но ведь война: ты здесь сам больше меня видишь, как бывает. Так что откладывать карандаш на завтра, пожалуй, и нельзя.
Оказывается, не все санитары одинаковые. Вернее, люди, которые становятся санитарами, разные. Пока носил он носилки, был такой, как остальные. А как заговорил о рисунках, о своей профессии, так будто другой человек стал появляться. Глаза заблестели, лицо стало живым, выразительным, жесты стали более резкими. Как будто человек сбросил с себя неподвижную безжизненную маску и стал самим собой, со всеми своими особенностями, талантами и недостатками.
— А что, на самом деле можно все время рисовать? — спросил солдат, хотя и неуверенно, но уже совсем другим голосом, в котором пропало былое безразличие, равнодушие и медлительность. — А где это можно сделать? — стал допытываться он.
— Иди ко мне в батарею, — уверенно и убежденно сказал я. — У нас, конечно, дело неспокойное, но рисовать будешь все время, пока не надоест.
— Ну, что Вы, да разве мне рисовать когда-нибудь надоест?
— Ну, коли не надоест, то пока немцы самого тебя прижмут. А как от них отстреляешься, опять рисовать будешь. Сюжетов и натуры для рисунков тебе хватит. Вот только комфорта маловато. На снегу да на снегу. Хоть сейчас и зима, а мы по неделям ни дома, ни блиндажа, ни тепла не имеем. Ну и пуль у нас летает в достатке, снаряды рвутся, мины. Иногда нас бомбят, когда мы к себе на огневые позиции ходим. А вот на переднем крае, на наблюдательном пункте, там только мины и пули. Бомбить туда немец не решается, — своих заденет. Мы ведь от них поблизости. Между нами и ими никого посторонних нет. Только земли со снегом немного. А вообще, если хочешь иметь должность художника-солдата, иди ко мне. Но, если за голову свою сильно опасаешься, то лучше сиди здесь.
— Товарищ командир, — вдруг, как бы спохватившись, сказал санитар, — мы с вами о таких делах говорим, а ведь еще не познакомились. Я вас по званию даже не знаю, и сам еще не представился. Разговор у нас получился случайный.
Совсем преобразился солдат, и я почувствовал в этом санитаре, который первоначально был так похож на всех остальных, человека незаурядного, умудренного жизненным опытом и мастерством, почувствовал его определенное превосходство над собой и невольно перешел на «Вы».
Назвав себя, я продолжал:
— А насчет того, что разговор наш случайный, Вы не правы. — Солдат сразу почувствовал переход на «Вы» и, очевидно, понял причину. Лицо его еще более оживилось и мне показалось, что слушать он стал с еще большим вниманием, интересом и, пожалуй, даже с некоторым удивлением. — Вы художник, — продолжал я, — и это все равно кто-то должен, был заметить. Первые месяцы всех брали солдатами, некогда было разбираться, а сейчас порядок, как видите, наводится на фронте. Вот уже скоро два месяца, как раком назад не ходим. По-людски вперед от Москвы пошли. Уже и оглядеться по сторонам можно. Не я, так другой бы увидел, что носилки каждый носить может, у кого сила в руках да ногах есть, а вот запечатлеть войну, оставить память о ней людям, тут не сила, — тонкость нужна и талант. Сюда каждого не поставишь. Большим начальникам Вы пока со своими рисунками на глаза не попались и когда попадетесь — не знаю. Я предлагаю Вам свои посильные услуги: время и сюжеты. Насчет условий, не взыщите. Больше того, что есть предложить не могу.
— Ну, а звать Вас как? — наконец спросил я его.
— Зубов, красноармеец Зубов.
— Художник Зубов, — поправил я.
— Ну пусть будет так. Художник Зубов. Даже сказать, простите, приятно «художник Зубов». Да, я художник, — и сказал он слово «художник» с особой глубиной, чувством и проникновением в смысл этого слова. Так говорят, видимо, о своей профессии, о цели и смысле своей жизни.
— А откуда Вы? — спросил я.
— Из Курска, — ответил Зубов.
— И работали там?
— Да, и работал и жил всю жизнь в Курске. Был там председателем Союза.
— Союза художников?
— Да, областного. — Не без гордости уточнил Зубов.
— Вот оно что. А Вы говорите «разговор у нас случайный». Случайно лишь то, что до меня этого разговора с Вами не вели. Подумать только, руководитель художников целой области. Так Вы не только за себя отвечаете, а еще и за то, что курские художники за войну создадут. Да, а вот я Вам даже блиндаж под мастерскую обещать не могу. Он у меня самого редко бывает.
— Ну что вы, что вы, — Зубов будто стал успокаивать меня. — О какой мастерской может быть речь. То, что Вы мне уже предлагаете, мне кажется даже больше возможного. Я художник не только по названию. В живописи, в рисунке моя жизнь. Я благодарен Вам бесконечно, что Вы заметили и поняли меня. Но я не знаю, возможно ли все, что Вы говорите. Боюсь, для меня это только мечта. Ведь военная служба и дисциплина. У меня есть мое место в строю. Я должен на нем стоять.
— Ей богу, то место, где Вы стоите сейчас, — убеждал я Зубова, — это не Ваше место. У меня тоже не совсем то место, где бы Вам надо быть, но оно все же будет ближе к Вашему настоящему месту. А, между прочим, то что нас окружает ежедневно, специально придя на этюд, не найдешь. Ну как это можно назвать: пожалуй, жизнь на переднем крае войны.
— Это замечательно, — говорил Зубов, — но ведь это будет дезертирство, если я уйду отсюда без приказа. А отпустить меня отсюда не отпустят. Ведь я боец-санитар медсанбата.
— Не беда, — решил я вслух, — дезертируют с фронта в тыл, чтобы шкуру свою спасать, чтобы уклоняться от боя и опасности. Дезертиров в тылу ловят, судят и по обстоятельствам либо расстреливают, либо отправляют на передний край, то есть обратно вперед. А если дезертируют вперед, в пекло, а не назад, это уже не дезертирство, а в худшем случае сочтут за недисциплинированность. Для вида, может, пожурят, а в душе — похвалят. А впереди и не найдут. У нас ведь контролеров не бывает. Есть лишний человек на батарее и слава богу. Хуже, когда нет, стрелять некому. А так бывает. Я сам в ноябре из госпиталя вышел, — продолжал я. — Мне направление в кадрах дали в Среднюю Азию, в училище, курсовым командиром. Я попробовал отказаться. На меня накричали. Мол, лейтенант, мал еще рассуждать, куда тебе ехать. Пригрозили. Увидел я, что разговаривать с ними напрасно, взял предписание в тыл, а поехал в свой полек. Доложил командиру полка. Он сказал, чтобы бумагу эту я употребил по своему усмотрению, и на другой день послал принимать батарею, комбата там убило. И вот уже месяц, как снова командую. Пусть кто-нибудь попробует меня теперь назад вытащить. Да и пробовать не будут. Такая глупость никому в голову не придет.
— Товарищ лейтенант, если будет все, как Вы говорите, я на все согласен. И, поверьте, лучшего для себя даже желать не могу.
— Нет, все как я говорил, так и будет. Что-то будет хуже, а что-то будет лучше. Могу лишь гарантировать, что фрицев мы добьем через годик, через два, а может и через три; могу гарантировать, что сюжетов будет через край, а рисовать будет Вашей главной обязанностью. А кроме того, надеюсь, что сотрудничество наше будет длительным, т. к. я ни в земельное, ни в здравоохранительной ведомство не собираюсь, думаю, и Вам туда тоже не к спеху.
— Ну а как же действительно мне к Вам перейти? — стал уже серьезно, по-деловому спрашивать Зубов.
— А вот так, — ответил я, — пойдем, да и все. Ушли и поминай, как звали. Ведь сами понимаете, здесь Вам рисовать трудно, а пользы, как от художника, от Вас больше, нежели от того, что носилки носить. Конечно, если бы попросить, все приличнее было бы, законно. Но ведь как они отпустят? У командира медсанбата таких прав нет. Да и потом, кто свое отдаст? Все больше люди порядочные любят к рукам прибирать, а не разбазаривать.
— Ну ладно, допустим, уйду. А как же раненые? Кто их носить будет?
— Ничего. Другого санитара найдут. Придержат легкораненого или выздоравливающего, вот и все. В медсанбате это делать умеют. Сами знаете.
— Это все так, понятно, — интересовался Зубов. — А как же меня числить в медсанбате будут?
— Ничего. Несколько дней пройдет и спишут.
— То есть как спишут?
— Да так. Война многое списывает. Еще не такое списывает. Обман, конечно. Да не наша в этом вина. Ведь мы это не против общего дела делаем, а на пользу. Хотя метод, конечно, незаконный. А если хотите, я, пожалуй, сам через несколько дней приду в медсанбат и скажу. — Но тут я подумал, что придти-то уже вновь не смогу. Ведь не каждый же день перегруппировка, да еще в районе, где этот медсанбат стоит. Надо же воевать, а с НП не уйдешь. — Хотя как придти-то сюда вновь? — продолжал я. — Ладно, с кем-нибудь из раненых, или когда раненых повезут, передам, что видели Вас живым и здоровым, и, что воюете Вы теперь на переднем крае, и чтобы искать Вас не пытались, все равно не найдут, и что не дезертир Вы, конечно, а Вас просто забрали в другую часть. Вот так. Это, пожалуй, будет самое лучшее. Домой письмо, на всякий случай, сразу напишите, что переведен в другую часть, чтобы дома не пугались, если получат извещение, что пропал без вести.
— Господи, — со вздохом покачал головой Зубов, — чего только не отдашь за свое родное дело, чего только не сделаешь. — И добавил совершенно решительно: — Если берете, — я готов.
— А вещи, рисунки? — поинтересовался я.
— Сейчас, сейчас, — заторопился Зубов, — через пять минут принесу.
— Итак, договорились, — сказал я Зубову. — Я сейчас проведаю своих ребят и через полчаса ровно около этой палатки.
— Хорошо, хорошо. Ровно через полчаса я буду ждать, — и с глубоким волнением и поспешностью Зубов повернулся и ушел.
Да, как он не был похож теперь на того безликого, серого солдата-санитара, которого я увидел минут 20 назад. Теперь Зубов был уже совершенно своеобразным человеком, художником, полным вдохновения, бесконечной привязанности и любви к своему делу.
Какое разнообразие людей, какие яркие индивидуальности скрывает под собой и, в определенном смысле, нивелирует наша суконная, серая солдатская шинель. Каждому надо знать, что под грубой суконной шинелью солдата надо видеть не просто единицу «рядового состава», а Человека.
Я разыскал своих раненых солдат, спросил у врачей об их здоровье, попросил у «сестренок», чтобы лучше ухаживали. Поговорил с ранеными, мы пошутили о нашем солдатском житье-бытье. Я пожелал быстрее поправляться и возвращаться в полк, спросил, что передать товарищам, о чем написать домой. Минут через 40, вместе с Зубовым и поджидавшими меня разведчиком и радистом мы двинулись в путь догонять ушедшую вперед батарею. На батарее никто не удивился новому солдату. В его появлении не было нечего необычного. Старшина поставил его на довольствие. Писарь записал его в отделение разведки.
Если бы кто хотел узнать, нет ли в батарее лишнего разведчика, — поди проверь. Вместе все разведчики редко бывают, а там, где они ходят, посторонние не бывают, и, увы, почти каждый день список разведчиков, к сожалению, приходится исправлять.
На второй день пребывания в батарее Зубов начал рисовать.
Мне кажется, в нашем народе к человеку с мольбертом относятся с особым чувством, в котором сочетается уважение, благодарность и даже восхищение. Ведь он передает людям красоту и суровость природы, тайны людской души, скрытые мысли и еще многое такое, что без художника человеку было бы совсем недоступно.
А что же говорить о человеке, который усевшись прямо на снегу, на подстеленный еловый лапник, подогнув ноги и положив на них фанерку с прикнопленным листком бумаги, озябшими грязными пальцами оставляет для нас образы людей и события войны.
Что и говорить, когда солдаты увидели рядом с собой, в 300 метрах от противника, новенького солдата — рисующего художника, у них захватывало дух, и выступали слезы умиления, восхищения и благодарности. Выступали на глазах тяжелые солдатские слезы.
Начал Зубов с портретов.
А что такое портрет на войне? Фотограф далеко, а смерть близко и совсем неизвестно, с кем из них раньше придется встретиться. Уйдет солдат в вечность и никто уже, ни близкие, ни родные никогда не узнают, каким он был, как выглядел, когда в самый тяжелый для Родины час закрывал ее своей сыновьей грудью, когда, не боясь смерти, он скромно, без лозунгов и громких фраз, молча, с автоматом в руках ушел в бессмертие. Слава художнику, если он сумел нам оставить лицо еще одного нашего скромного незаметного героя. Оно, это изображенное на бумаге лицо, как-то утешит родных в их неутешном горе. Оно донесет до детей и внуков, до нового молодого поколения образ того, кому они обязаны жизнью и свободой, кому они должны быть бесконечно благодарны, чьей преданности они должны подражать.
А если солдат останется жив, как приятно ему будет и сразу после войны и, может быть, уже седым стариком увидеть себя в неповторимое время самой смертельной опасности.
Как увидели солдаты, что портреты у Зубова получаются не просто «похожие», а настоящие, нарисованные рукой мастера, сразу окружили его удивительной заботой и вниманием, которые могут оказать только все уже испытавшие, простреленные, не раз промоченные и промороженные боевые солдаты.
Командиру не пришлось говорить, — солдаты сами освободили Зубова, от всех работ и даже от некоторых забот о самом себе. В знак благодарности и внимания ему старались дать лучший кусок и делились всем, чем возможно.
А Зубов все рисовал и рисовал. Он рисовал портреты солдат, пепелища деревень, убитых фашистов, стреляющие по врагу орудия, разведчиков, которые ищут врага, связиста, прокладывающего линию связи, ездового, подвозящего патроны, солдатского повара, «батьку»-старшину и то, как на глазах умирали товарищи, и их последнее пристанище с холмиком и табличкой наверху.
Он, не скупясь, раздавал свои рисунки солдатам, а те, у кого дома не были оккупированы врагом, посылали их своим семьям.
А Зубов все рисовал. Рисовал каждый день, каждый час, каждый момент, когда была возможность остановиться, присесть, вынуть из папки бумагу, приколоть ее кнопками к фанерке, и рисовать.
Разведчики добыли Зубову большую сумку, плотную форматную бумагу, множество карандашей — и черных, и цветных, вырезали хороший фанерный планшетик, чтобы прикреплять к нему бумагу при рисовании. Кроме обычных обязанностей, у солдат сама собой появилась забота — достать что-нибудь полезное для Зубова. На фоне обычной суровой необходимости это была приятная забота, разнообразящая и размягчающая тяжелую, суровую солдатскую жизнь.
«Солдатский вестник» — это никем не писаная, мигом распространяющаяся информация, разнесла молву о появившемся художнике по всей батарее. Затем Зубова узнали в других батареях; оттуда тоже стали приносить все, что могли. Так появился у Зубова ватман, появилась отличная акварель, которая, кстати, зимой на морозе была непригодна, появились даже пастели, цветная тушь и еще всего столько, что сумка Зубова уже не могла вместить. Тогда в одной из грузовых машин стали возить большой чемодан, который постепенно набили дополна.
Популярность Зубова росла изо дня в день. Его трудолюбию и вдохновению не было границ. Уже во всей батарее, кажется, не было ни одного солдата без Зубовского рисунка. Солдатские семьи получали портреты оторванных от дома мужчин. Рисунки Зубова вышли за пределы нашей батареи. Он оставлял их в освобожденных селах, отдавал солдатам из других батарей, а часть из них, время от времени складывал в свой большой чемодан.
Через месяц, во второй половине февраля, я был ранен, а, вернувшись в мае из госпиталя, с большим огорчением узнал, что Зубов погиб. Мне рассказали, как это случилось.
Кипучая деятельность Зубова все возрастала. Он был переведен в штаб дивизиона, где условия для его творчества были безусловно лучше, чем в батарее. У него стало еще больше возможностей для работы.
Но вот, в первых числах мая 1942 года в блиндаж штаба дивизиона ударил 210-миллиметровый вражеский снаряд. Там, где находились люди, где был Зубов, где был командир дивизиона и там, где находился чемодан с рисунками, осталась большая многометровая воронка и больше… ничего.
Так погиб художник Отечественной войны. Пусть не такого могучего таланта, как Верещагин, пусть не такого мастерства, но ей богу, не меньшего вдохновения, патриотизма и мужества. И кто его знает, сколь большого художника-солдата мы потеряли.
Ефрейтор Галета
Ефрейтор Галета. Я знал его в Сталинграде. Разведчик взвода полковой разведки. Он выполнял по совместительству обязанности ординарца, заместителя командира полка по политической части. Украинец. Чернявый с маленькими усиками на красивом лице, всегда улыбающийся. Неутомимый весельчак, рассказчик. Глаза чуть прищурены. Красивый хороший парень. Он относился к числу заметных людей в полку. Товарищи любили его. Его фамилия часто была на языке полкового начальства. И неизменно по хорошему поводу.
28 января 1943 года, то есть в последний или предпоследний день сопротивления основной Сталинградской группировки (группировка на тракторном заводе дралась до 2-го февраля), мы поехали на крытой полуторке по трофеи. Это была «серьезная» операция, не барахольство. Составили две группы. Одну возглавлял командир полка — подполковник Чикалов, с ним был я. Другую — начальник тыла — капитан Нимон(?) Кириченко.
Надо было обеспечить полк маневром. Полевой артиллерийский полк оказался на стационаре, он не имел маневренности, был неподвижен. Почти не было автомашин, не хватало тягачей, не было никакого ремонтного оборудования, никакого штабного инвентаря.
В июле, при отходе к Сталинграду несколько орудий подтащили на подбитых танках, несколько орудий взяли на заводе «Баррикады», натики — маленькие быстроходные трактора СТЗ-НАТИ-5 взяли на тракторном, и больше в полку ничего не было. Не было санитарного, тылового, административного, штабного и интендантского имущества, а то, что было пришло в полную ветхость и не годилось.
Мы могли стоять на Волге и драться насмерть, но наступать нет. Надеяться на централизованное снабжение было трудно. Ведь был январь 1943 года, а не 44-й или 45-й год. Поэтому командир полка уделял «трофеям» такое большое значение. Это был вопрос дальнейшей боеспособности и даже судьбы полка.
Ездили несколько часов. Набрали много ценного: инструмент, приборы, телефонные аппараты, кабель, коммутаторы, катушки связи со шпулями, пишущие машинки, бумагу, карандаши, копирку, разные канцелярские принадлежности, радиостанцию, артиллерийские геодезические приборы: буссоли, стереотрубы, теодолиты, мерные ленты; медицинское имущество, медикаменты. Все это грузили на машины и отправляли в полковой тыл.
Нашли много исправных автомашин, грузовики «Оппель-Блиц», Майбахи, Хеншели, тягачи «Молли», «Штейеры», «Шкоды», нашли целую походную автомастерскую в трех больших автобусах. Оставили людей, вызвали тягачи, чтобы отбуксировать.
Въехали в селенье Гумрак. Авиагородок. Огромное летное поле, разрушенные аэродромные сооружения. Командир полка, подполковник Чикалов, стоит на подножке полуторки, я иногда вижу его через боковое окошечко фанерной будки крытой полуторки. Вдоль бортов лавочки, сидим на них. По правому борту Галета, потом я, Женя Ганнушкин, старший лейтенант Сергей Лиханкин — начальник штаба первого дивизиона, против нас трое летчиков из корректировочной авиаэскадрильи. Они обязательно захотели посмотреть, как выглядит поле боя на «сухопутье». Не видели они еще такого.
Мы часто видели их в воздухе, восхищались. Идет на своем ИЛ-2-К — корректировщики, как утюг по небу, не шелохнется, с курса не сойдет. Туда-назад, туда-назад, а сам весь, как в хлопьях ваты, в разрывах зениток, да еще Эрликоны малокалиберные трассами, как иголками в него. Идет, иногда лишь подпрыгивает от близких разрывов. Взрывной волной бросает. И так, пока не выполнит задание на корректировку, фотографирование или визуальную разведку. А вечером докладывают: еще один самолет на ремонте, повредили зенитками. Или сегодня летчик привез убитого штурмана: из Эрликона убили. И так почти каждый день.
А сегодня они с нами. Сидят притихшие, боязливо озираются. На земле они впервой. Но двое из них и в последний раз. Перед отъездом сфотографировались, они не хотели, говорили:
— У нас не принято перед заданием фотографироваться. Плохая примета.
Мы смеялись:
— Так то перед вашим заданием, а у нас каждый день стрельба и двадцать четыре часа подряд. Не поймешь, где «перед» заданием, а где «после него». Будешь суеверным, за всю войну карточки не останется.
Все же уговорились сфотографироваться. Вернее, не уговорили, а пока уговаривали, солдат наш, Мелехов — москвич, — успел щелкнуть ФЕДом. Я дал ему свой аппарат, которым было сделано так много фронтовых снимков. Интересно, что на этом аппарате стояла дата выпуска — 22 июня 1941 года (не на корпусе, конечно, а в приложенном к аппарату формуляре). И хорошо, что сфотографировали.
На следующий день, то есть на завтра, двое из трех летчиков, что ехали с нами, были сбиты зениткой. Они упали на территорию окруженной группировки. После ее ликвидации нашелся лишь разбитый, сгоревший самолет. Летчиков не нашли, погибли ребята. Хоть фотография осталась. Стоят около наших блиндажей, один голову повесил, будто чувствовал, что последние сутки остались.
Едем, бросает на ухабах, покачиваемся, перебрасываемся словами, шутим. С каждым близким выстрелом или разрывом летчики ежатся, мы над ними подтруниваем, они оправдываются. Вдруг, резкий хлопок — выстрел, прямо оттуда, где только стоял на подножке командир полка. Я сразу повернул голову, с правой стороны передней стенки кузова, на уровне груди выходила пыль и образовалась маленькая пулевая дырочка. «Как неосторожно выстрелил Чикалов», — было моей первой мыслью. В этот момент Галета медленно повернулся ко мне, посмотрел как-то странно, толкнул назад обеими руками, потом еще сильнее и сильнее и стал выталкивать сидение. Это странно.
Машина ехала очень медленно. Невдалеке раздалось еще несколько выстрелов, Галета отстал от меня и на четвереньках, по набросанным в машине трофеям, полез назад к выходу. Машина едва ползла. Галета на четвереньках остановился около открытой задней дверцы машины. Показалось, что его тошнит. Он несколько раз напрягся, изо рта полетели красные куски и полилась кровь. Легкие. Все ясно. Разрывная пуля. Это она дала хлопок выстрела, пробивая фанеру переднего борта. Не командир полка, а в него был сделан этот выстрел. Машина подпрыгнула. Галета перевернулся вниз головой в снег. Вытянулся на снегу, поднял голову. Изо рта у него снова пошла кровь с кусками легких.
Машина встала. Все выскочили, справа спереди из разрушенных помещений авиагородка слышались выстрелы. Пули впивались в кузов машины, падали вокруг нас в снег. Надо немедленно уходить из этой ловушки, иначе будет худо.
Попытались всунуть Галету обратно в машину, но ее задняя часть оказалась высоко приподнятой, а валявшееся за дверью имущество нам не давало этого сделать. Несколько раз пытались, но Галета отяжелел, обмяк, а голову зря слишком высокого поднимать не следует и торопиться надо. В общем, кое-как вложили. Просто впихнули. Стали сами в машину прыгать, а наши летчики забились под машину в снег, зарываются все глубже под колеса. Стали звать их, не идут, стали их оттуда вытаскивать — отбиваются. Стали ногами пинать — пули-то не ждут. Потащили их за ноги, оторвали от земли, а уж мату на них было пущено- уйма. Загнали их в машину, сами на ходу впрыгнули и, получив еще несколько пробоин в машине, благополучно выбрались из западни.
Галета вскоре затих. Умер. Выстрелы прекратились. Мы накинулись на летчиков:
— Ах, вы соколы, … Из-за вас, чуть всех не перестреляли, что это вы выдумали под машину залезть?
А они виновато оправдываются:
— Да ведь страшно очень. Мы ведь на земле в первый раз. Она проклятая свистит, аж душу наизнанку выворачивает.
— А как же вы в воздухе такие храбрые? Как в кромешном аду летите. Нам за вас страшно на земле делается.
— Так там же не слышно, а когда увидишь, он уже пролетел или взорвался. Поздно пугаться. Не опасно уже.
— Что правда, то правда. У каждого свое. Мы на земле ориентируемся по звуку выстрела и по полету. Ориентируемся на них. Прячемся в землю или бросаемся на нее, когда нужно, но боимся снарядов, идущих молчком — с большой скоростью. Лётчики же в воздухе ничего не слышат: ни выстрелов, ни полетов, только разрыв видят и то, если он спереди или сверху. Потому и боятся шума. По себе скажу: я однажды полетел с этими ребятами на корректировку. Как пошли вокруг разрывы, белые шапочки так и заплясали и, казалось, что каждая прямо к тебе, так столько страху натерпелся, что спрятался вместе с головой за фанерные борта кабины и не то, что корректировать или смотреть, что делается у противника, не знал, как меня до аэродрома довезли. Выскочил из самолета, едва отдышался. И только спросил: сколько времени летали. Будто своих часов не было, чтоб посмотреть. Каждому свое, кто к чему привык.
Приехали в наш волжский «Шанхай». Тело Галеты передали разведчикам, чтобы они привели его в порядок и выдолбили могилу, а сами пошли в штабной блиндаж — щель, уходящую глубоко на 50–60 метров в крутой Волжский берег. Стали отогреваться, выпили водки, закусили. Кто-то завел патефон, я подсказал, какую пластинку поставить следующей, а юный 17 — летний Женя Ганушкин, который не был в боях еще и двух полных недель, на глазах которого еще никого не убили, не видевший еще ни одной смерти, с ужасом сказал мне:
— Как ты можешь слушать патефон? Ведь три часа назад был человек, которого мы видели ежедневно живым, жизнерадостным, а сейчас его нет, он убит и лежит почти рядом с нами, а ты слушаешь музыку и смеешься с другими, будто его и не было. Как это можно?
— Дорогой Женя, — ответил я ему, — сейчас объяснять тебе я не стану, ты не поймешь, продолжим этот разговор через две недели.
А через две или три недели в бою, перепачканный кровью, среди трупов и раненых, Женя сам напомнил мне этот разговор:
— Теперь я тебя понимаю, я сам стал такой. Ведь если каждого убитого в этой ужасной войне почтить хотя бы одной минутой молчания, то моя старая бабушка не доживет до того дня, когда снова сможет сыграть мне мою любимую «Лунную сонату».
На Днепре
Ко мне на квартиру зашёл как-то сотрудник музея Советской Армии, чтобы посмотреть фотографии и записи, оставшиеся после войны. Мы сняли со шкафа старый чемодан, сильно пострадавший ещё в те давние военные годы, и стали рассматривать его содержимое. Среди множества бумаг, уже пожелтевших и слегка покрытых пылью, нам попались три рисунка. Это были боевые карикатуры, мастерски сделанные на случайных кусках шершавой форматной бумаги.
— Что это? — спросил товарищ из музея. Мне сразу вспомнился январский день 1944 года. 18-е число.
Тогда, во время ожесточённого огневого боя, к нам заехал и почти с натуры зарисовал события, в которых оказался непосредственным участником, художник Баженов Александр Владимирович. Это был тот самый Баженов, чьи весёлые карикатуры иллюстрировали «Крокодил» и другие юмористические журналы. В то время он был военным корреспондентом и имел воинское звание старший лейтенант.
— Наверное, это был героический день? — спросил товарищ из музея.
— Нет, обычные будни войны. Мы не наступали и не отступали, а просто, как тогда было принято говорить, «стояли в обороне».
Была, так называемая оперативная пауза с декабря 1943 года по февраль 1944 год.
В середине января 1944 года в днепровских плавнях, на бугорке сидел на наблюдательном пункте артиллерийский разведчик ефрейтор Поляков. Он внимательно наблюдал за противоположным берегом. Сквозь окуляры стереотрубы вдали был виден город Жлобин, железнодорожный мост через Днепр, депо. Левее города — поле, изрезанное траншеями, заснеженные стога неубранного сена, проволочные заграждения, полусожжённые деревни и… фашисты, которые точками маячили в траншеях, иногда, пугливо оглядываясь, в одиночку или по двое — трое ходили в отдалении, проезжали на лошади или автомашине. Это были уже не те гитлеровские молодчики, что пришли сюда к осени 1941 года — самоуверенные, надменные. Они тогда не прятались в траншеях, не маскировались — лезли напролом, как голодное непуганое зверьё. Теперь, уже не раз битые, они стали осторожнее, хитрее. Их оборона была спрятана под землю. Но острый глаз бывалого разведчика находил их повсюду.
Долго наблюдал Поляков за одним из домов. Внешне он ничем не выделялся. Около него, казалось, не было ничего подозрительного. Часами, глядя в стереотрубу на движение конных, пеших и мотоциклистов, Поляков убедился, что двигались либо в сторону этого дома, либо от него. Поделился своими выводами с Женей Ганнушкиным[1]-вычислителем, и с радистом Нитченко[2]. Понаблюдав некоторое время и согласившись с выводами Полякова, доложили командиру взвода лейтенанту Клименко.
Подумали сообща, посоветовались. Установили особое наблюдение, а через день, когда сомнений больше не было, записали в журнал разведки: «Немецкий штаб». Не укрылась от зоркого глаза разведчика и вражеская пушка, замаскированная под стожок сена. Бугор над оврагом, в стороне от штаба, и пушка, показались разведчикам подозрительными. Там из-под земли, едва различаясь в стереотрубу, белела рогулька. Поляков навёл перекрестие прибора, позвал Нитченко:
— Посмотри-ка, «Снайпер», что там за чёрные точки?
— Это, что на концах рогульки белой?
— Они самые.
Нитченко минут 10, не отрываясь, внимательно глядел в окуляры, потом посмотрел на свою стереотрубу, аккуратно забинтованную для маскировки под белый снег, подумал немного и сказал:
— Видно, стереотруба ихняя, и как наша тоже, тоже обмотанная, а может выкрашенная в белый цвет, — и привлёк Ганнушкина к трубе. — Гляди, Женя, ихний наблюдательный пункт. Артиллерист, должно быть, сидит и на нас смотрит.
— Свой свояка увидел издалека, — заметил Женя, но, посмотрев, внимательно, возразил:
— Вряд ли он нас видит. Мы хорошо замаскированы. Они, пожалуй, пока ещё не могут предположить, что мы так далеко пролезли.
За трубу сел лейтенант Клименко, он смотрел несколько часов подряд. Нашёл ещё одну стереотрубу и белую палочку разведывательного перископа. Подводя итог своим наблюдениям, сказал разведчикам, что здесь, судя по числу труб, по крайней мере, два НП, но, исходя из наличия перископов, ещё что-то есть. Надо разобраться, как группируются наблюдательные приборы.
— Товарищ лейтенант, — сказал Поляков, — а может, не будем волынку тянуть, прикончим их? Ведь и так ясно. Всё как на ладони высмотрели. Теперь только огоньку, и «фриц капут».
К огорчению солдат лейтенант ответил:
— Нет, ребята, самим нельзя. Тут, может быть, целое осиное гнездо.
Дело будет серьёзное. Надо командира звать. Да, кроме того, стоим в обороне, нельзя огневую маскировку нарушать.
Лейтенант по телефону доложил, что совсем недалеко над Днепром обнаружено два наблюдательных пункта, поодаль от них пушка на прямой наводке, а в деревне — штаб. Все цели хорошие, стоящие, достоверные. Надо бы ликвидировать. Командир поддержал желание разведчиков. Однако сосредоточить огонь многих орудий с основных огневых позиций — означало раскрыть противнику позиционный район и группировку наших батарей. Поэтому было решено вывезти на передовую одно тяжёлое 152 миллиметровое орудие и в огневом поединке разгромить вражеских артиллеристов и разрушить штаб.
Вместе с командиром орудия, сержантом Мотко, командир приехал на НП. Разведчики показали обнаруженные цели. Развернули карту. Стали сличать её с местностью. Слева и дальше вражеской пушки — высотка, справа, метрах в 150- разрушенный домик, сзади — колодец с журавлём. На карте эта высота обозначена отметкой: 78,3, отдельный домик нанесён точкой, колодец тоже есть. Вражескую пушку точно нанесли на артиллерийскую карту. Вслед за пушкой так же надёжно «привязали» наблюдательные пункты и штаб.1
Женя Ганнушкин стал рассчитывать данные для стрельбы, а командир с Мотко и двумя разведчиками уползли назад выбирать огневую позицию для орудия. В километре от НП, за бугром, нашли лесную полянку. Здесь было решено поставить орудие. Мотко внимательно обошёл полянку. Расчертил на снегу орудийный окоп, сделал необходимые измерения и отправился за орудием. Прошло несколько часов. Орудие вывели на позицию. Кипит работа. Огневики роют глубокий окоп — котлован для орудия. По краям котлована глубокие щели для укрытия от обстрела и погребки для снарядов. Длинный и тощий Щербань, тракторный механик, копает укрытие для трактора и деловито руководит своим единственным подчинённым — маленьким, кругленьким трактористом Орешкиным. Снарядного Тургалиева Мотко послал вырубить на дальней сосне белый крест — точку наводки орудия, а сам по- хозяйски осматривал, как готовится место, на котором предстоит вести огневой бой. Всё должно быть предусмотрено: чтобы окоп был просторный, но не слишком большой, чтобы людям было удобно, чтобы свои снаряды не подорвались от вражеского обстрела и ещё многое, что необходимо учесть в бою.
— Товарищ сержант, хватит глубины? — спросил высокий солдат — зарядный Петрошин.
— Ещё на штык. Так, чтобы можно было работать во весь рост и оскол. (В артиллерии нанесение точки на карту или планшет и определение ее координат называется топографической привязкой ки не доставали.) — Вот и меряй. Ты длиннее всех — как укроешься за брустверы с головой, так и хватит.
— А вдруг Щербань придёт помогать стрелять, так что же, для него специально ещё полметра выкапывать? — крикнул заряжающий Тузов. Он был широк, но невысок ростом. Баякодов ответил раньше командира:
— Я ему одному в дне яму выкопаю по колено, туда его опустим.
— Да он, как юла, в ямке не усидит; — не обращаясь ни к кому, а так, между делом, ответил на это старый солдат, участник первой мировой войны, покровительственно ворчливый Герасим Петров.
— Тогда, дядя Герасим, пусть он на колени становится, — не унимался Баякодов.
Так, перемежая тяжёлый труд командами и весёлыми шутками, закончили работу. На огневой позиции всё готово. Орудие поставили в окоп. Длинными кольями закрепили толстые подсошниковые брусья. Перекрыли щели — убежище и погребок для снарядов. От трактора сверху одна труба осталась. Даже кухню закопали для сохранности.
Петров вышел из окопа, обошёл его со всех сторон, осмотрел придирчивым взглядом, поворчал на Баякодова и Тузова, за то, что края котлована плохо зачистили:
— Небось, в прошлую германскую войну «феерверкер» показал бы за такую работу.
Те, в свою очередь огрызнулись:
— На то ты и дед, чтобы ворчать. Небось, с первой до второй войны только и делал, что ворчать учился.
Телефонисты протянули линию. Радисты включились в связь. Топографы закончили свою работу. Мотко взял большую латунную гильзу, выдернул за тесьму просаленный пробковый пыж, вложил градусник в распечатанный заряд. Заметив это, Щербань крикнул:
— Товарищ сержант! Чи дитына твоя занедужала? Скильки градусов во на моё?
— А ты что доктор, температуру спрашивать? — пошутил Мотко.
— Та ни, я то не доктор, а ридный брат моего батьки до войны у ликарни працював. Вин там грубы топив.
— Грубы топил, говоришь, в ликарне? Тогда гляди. Минус 6 градусов, — и велел телефонисту доложить об этом на НП. Орудие готово к бою.
В это время на НП вычислители подсчитывали поправки в дальности и направлении стрельбы, вызванные температурой, ветром, атмосферным давлением и особенностями орудия. Командир определял порядок боя.
…Если начать со штаба, то пока будем пристреливаться, немцы разбегутся из домика по траншеям, а притаившаяся пушка обнаружит наш НП и разобьёт его прямой наводкой. Значит, нужно начинать с пушки. В штабе, конечно, будут обеспокоены, что в 500 метрах рвутся тяжёлые снаряды, зато точным переносом огня от пушки штаб можно быстро уничтожить, не дав разбежаться его обитателям. Пока будем стрелять по пушке и штабу, наблюдательные пункты противника приложат все силы, чтобы нас отыскать, и наверняка полностью себя обнаружат. Тогда придёт и их очередь.
— К бою!
Телефонисты повторяют слова командира на ОП. Мотко командует своим солдатам, каким снарядом и зарядом заряжать, какую поставить установку взрывателя, в каком направлении, на какую дальность навести орудие. Чёткие команды; доклады о выполнении; стук открываемого орудийного замка; загнали снаряд, гулко ударил досильник, звякнула гильза. Закрыт замок. Огонь!
Наводчик с коротким вытяжным шнуром в руке, резко подался назад. Блеснуло пламя. Орудие как бы осело, ухнуло, из-под него полетела тёмная пыль. Шумно зашипел уходящий вперёд снаряд.
Первый разрыв — недолёт.
Второй — перелёт.
Третий — совсем рядом.
Разрыв — и колесо вражеской пушки подлетело выше её ствола, перевернулось в воздухе, развалилось и несколькими кусками упало на землю. По традиции русских артиллеристов, подлетающее кверху колесо разбитого орудия не только определяет поражение, но является символом артиллерийской победы.
Едва рассеялся дым у разбитой пушки, а разрыв уже у вражеского штаба. В это время справа начала стрелять прямой наводкой наша лёгкая полковая пушка — «полковушка», как её называют в артиллерии. Шапочки её маленьких разрывов появлялись в перекрестках немецких траншей, там, где предполагались пулемётные точки, около подозрительных, покрытых снегом, стогов сена и куч. Эти частые маленькие разрывы, как злые собачонки, стали кусать немецкую позицию. Простым глазом видно, как по траншее противника, прочь от разбитой пушки, раскачиваясь в такт, удаляются в тыл две головы. Разведчик Поляков замечает излюбленной артиллерийской поговоркой: «Порядок в артиллерии», — и добавляет: «Покойничков уносят».
Несколько пристрелочных снарядов по штабу — и в стереотрубу видно, как стремительная точка ворвалась в крышу дома. Из окон, дверей, из-под крыши рванулся темно серый дым и, медленно переворачиваясь, полетели вверх несколько брёвен и разбитых досок. Дом окутался серым дымом. Затем кверху пошла чёрная струйка, вот она всё больше и выше, у её основания показались тёмно-серые клубы и среди них красные языки. Ещё три снаряда разметали остатки дома.
— Стой! — скомандовал командир огневикам. — Записать цель № 2 — штаб.
Передавая это на орудие, телефонист, московский парень Лёва Заяц, от себя добавил:
— Обращаю внимание, записать параграфом «за упокой».
Услышав это, Щербань, не отходивший от орудия, торжественно объявил:
— Ще одного капута зробылы.
Выполняя команду, Мотко записал установки орудия, при которых были попадания, на случай, если цель оживёт или вблизи неё что-нибудь покажется.
Наша соседка, маленькая полковая пушка, всё стреляла — звонко и отрывисто. Как и следовало ожидать, с началом боя рогулька стереотрубы, торчавшая из-за бугра, зашевелилась, немного поболталась и остановилась в новом положении. Немецкий артиллерист заметил пушку. Там где торчала палочка — перископ, показались попарно чёрные точки — глаза стереотрубы. Всего четыре трубы. Они шевелились, искали цель.
— На «полковушку» нацеливаются и нас ищут, — сказал Поляков. — Догадались, что мы где-нибудь поблизости сидим.
Вывод ясен: четыре стереотрубы, четыре наблюдательных пункта вражеских артиллеристов. Очевидно, три — командиров батарей, четвёртый — командира дивизиона. Против одного нашего орудия будет действовать целый дивизион.
— Ну, Заяц — сказал радист Нитченко телефонисту — кажется, дело будет, и связь твоя, наверное, полетит. Придётся мне в бой вступать, выручать твоё проводное несовершенство.
— Сиди уж, — «Я вас вижу, но не слышу», — подразнил Заяц радиста.
В подтверждение вывода о стереотрубах, после нескольких пристрелочных выстрелов, девять 105 миллиметровых снарядов легли около маленькой пушки. Ударили три батареи немецкого дивизиона. Однако после первых же разрывов «полковушку» закатили в глубокую щель, так, называемый, «карман», где она была почти неуязвима.
— По наблюдательному пункту, — скомандовал командир, — взрыватель фугасный, — и после подачи нового угломера и прицела, — «Огонь!». Снаряд весом почти в полцентнера, шумно рассекая воздух, пролетел над головой и ударился недалеко от вражеского НП, подняв столб комьев и снега.
Третий снаряд лёг в нескольких метрах от стереотрубы. В это время справа от нас разорвался снаряд. Слева сзади ещё три разрыва. Это немецкие артиллеристы обнаружили наш НП, засекли его и начали пристрелку. Судя по первым разрывам, они пристреливались методом, так называемого, сопряжённого наблюдения, засекая разрывы сразу с двух НП, и вычерчивая на бумаге графическую схему своей стрельбы. Мы же вели стрельбу глазомерным способом, отличающимся малой затратой времени, но требующим большого навыка и искусства в стрельбе. Командир внимательно наблюдал свои разрывы, быстро высчитывал корректуры и подавал команды. Лейтенант Клименко, всё время помогавший командиру, между делом заметил:
— Немец-то против вас шпаргалкой пользуется, по бумажке стреляет.
Командир буркнул:
— Хрен с ним, пусть потешится. Я ему сейчас на глазок голову оторву.
Конечно, сказано было немного больше, но все слова, подкрепляющие эту мысль, сейчас опускаются по цензурным соображениям.
Труба немца окуталась красным дымом.
— А, чёрт, кирпичом обстроился, ну, погоди же у меня, сейчас до твоих печёнок доберусь. Огонь!
Чёрная точка упала на немецкий НП, не подняв при этом обычного чёрного или красного облака. Вверх полетели камни, кирпичи, немного красной пыли. Чуть сзади и слева из-под земли в сторону тонкой струёй вырвался чёрный дым. Поляков тут же сообщил:
— Дом испорчен, товарищ командир, и двери настежь.
Наш снаряд, разорвавшийся внутри блиндажа, вышиб дверь, и в образовавшуюся брешь вырвался дым. Сверху из пролома в перекрытии, куда влетел снаряд, показалось чёрное кольцо дыма и, медленно покачиваясь, поплыло в воздухе.
Телефонист на огневой сообщил Мотко:
— Командир говорит: молодцы ребята, точно бьёте. Первый НП готов, осталось три. Особо хвалит наводчика.
Неугомонный Щербань не удержался и тут же прокомментировал:
— О це, хлопцы, наш командир вже своего собрата по оружию зныщил.
А Мотко на него:
— Ты, Щербань, как Синявский на футболе.
— Точно, як на хвутболи, — ответил тот, — тильки тут мяч трохи потяжелийше. За пивгодыны трёх фрицев вже так зашиблы, що бильше не встануть.
Из-за Днепра снова послышались далёкие отрывистые выстрелы. Привычное ухо сразу определяет 105 миллиметровую гаубицу «1-Н-18». С пронзительным свистом прилетели снаряды, со страшным грохотом разорвались слева вблизи от нас. Новые и новые выстрелы. Снаряды девяти орудий бушевали вокруг. Взрывом завалило выход. Блиндаж дрожал, гудел, сыпался песок. Каждый близкий разрыв вызывал содрогание вокруг и будто чем-то тяжёлым бил по голове. Вражеский снаряд угодил в угол блиндажа и обвалил стену. А в это время наши снаряды громили второй НП. Они поодиночке, не спеша, шли к врагу. Красная пыль чёрная струя дыма сзади — и снова в небо, покачиваясь, выплыло чёрное кольцо.
Когда наводчик записывал мелом на орудийном щите «Цель № 4 НП», не унимающийся Щербань пояснил:
— Це наша команда, ще один гол забила.
В это время к орудию подъехал «ЗИС-5». Из кабины вылез водитель Риза Фахрутдинов, подбежал к арттехнику Кириченко и доложил:
— Снаряды привёз, товарищ старший лейтенант, и вон ещё художника. — Показал он на пассажира, вылезавшего из машины.
Маленький Орешкин заметил солдатам:
— Смотрите, офицера какого-то не нашего на снарядах привезли. Приписной, из запаса, наверное.
— А почему ты знаешь, что из запаса? — Спросил Турдалиев.
— А потому, что лет ему уже под сорок будет и не такой он складный, как наши кадровые, что военные школы кончали. Выправка не та!
Приехавший направился к Кириченко, намереваясь, что-то спросить. Но в это время невдалеке стали рваться снаряды. Кириченко, крикнув свободных людей, побежал к машине. Командовать «Разгружай!» не пришлось. Каждый понимал, что надо делать. Быстро открыли борта машины. По двое стали брать тяжёлые снарядные ящики. Приехавший перекинул через плечо свой небольшой деревянный, плоский чемоданчик, вернулся назад к машине и вместе с кем-то подбежавшим, стал носить снаряды к орудию. Огневики доложили на НП, что подвезли боеприпасы, их разгружают, а, кроме того, были разрывы справа и сзади, но далеко- метрах в 250–300. Однако разрывы приближались к орудию. Осколки с визгом и шуршанием стали пролетать над головой, впиваясь в деревья, отсекая ветки. Вражеские звукометристы засекли наше орудие по звуку его выстрелов.
Чем ближе рвались снаряды, тем быстрее работали люди. От близкого разрыва, офицер, носивший ящики вместе с приехавшим, споткнулся, уронил ящик и упал; художник — на него, ударившись о ящик. Несколько мгновений они оба лежали неподвижно, соображая, очевидно, в чём причина падения, потом вместе вскочили, подняли ящик и донесли к орудию. Увидев, что левый рукав шинели рассечён осколком, художник поморщился, пощупал руку и, убедившись, что она цела, снова побежал к машине за своим незнакомым напарником. Перед ними двое солдат сгружали последний ящик. При взгляде на них сразу вспоминались кинокомики Пат и Паташон: один длинный, тощий, стягивал с машины ящик и клал его одним концом на плечо другому — маленькому, кругленькому. Глядя со стороны, нельзя было не улыбнуться. Это были неразлучные трактористы — Щербань и Орешкин. Увидев, что снарядов больше нет, офицеры посмотрели друг на друга. Один из них оказался врачом. Он взял приехавшего за руку и быстро отвёл в ровик. Как только спрыгнули вниз, прибывший сказал:
— Извините, не представился: Баженов Александр Владимирович, художник, корреспондент фронтовой газеты. Как видите, старший лейтенант. В прошлом до войны сотрудничал в Московском «Крокодиле».
— Жеребченко Пётр Григорьевич, полковой врач, как видите, капитан медслужбы, — ответил в тон Баженову его случайный знакомый, — в прошлом биолог из Сталине
— Значит врач. Вот- показал Баженов на рассечённый рукав, — чуть вашим пациентом не стал.
— Что ж бывает, бывает. В нашем деле на войне всё бывает. У человека руки золотые, чудеса ими творить может, а его железом, да по этим самым рукам…
— Я, собственно говоря, вашего командира ищу, — перебил эту невесёлую мысль Баженов. — Мне в редакции рекомендовали с ним познакомиться. Был в штабе полка, там сказали, он где-то на НП. Советовали подождать, но подвернулась попутная машина.
Жеребченко сказал, что до НП километр, не более.
Объяснил, как туда добраться, по каким тропинкам и ходам сообщения. Баженов поблагодарил и добавил:
— Если можно, передайте командиру обо мне по телефону, может ли он принять? — Снял шапку-ушанку, отогнул налобник, размотал нитку, намотанную вокруг воткнутой иголки, как мог, зачинил рукав шинели. Подал Жеребченко руку, поблагодарил, сказал, что рад познакомится и, не дождавшись ответа по телефону, выбрался из ровика. Не обращая внимания на рвущиеся снаряды, внимательно осмотрел огневую позицию и, не спеша, пошёл в сторону наблюдательного пункта.
На наблюдательном пункте без конца слышатся далёкие выстрелы. Снова чуть появляющийся шипящий свист. Он бурно надвигается и, превратившись в звенящий гул, кончается тяжёлыми ударами со страшным треском и едким запахом взрывчатки. Плотный клубящийся дым окутал пункт. Он резал глаза, вызывал сильный кашель, а, главное застилал поле зрения и мешал корректировать огонь.
Понеся серьёзные потери и видя малую эффективность стрельбы по нашему НП, немцы значительно усилили огневое напряжение. При этом огонь одной батареи они перенесли на орудие Мотко, а по наблюдательному пункту повели комбинированный огонь двух батарей осколочно-фугасными и дымовыми снарядами.
— Товарищ командир, — сказал Заяц, — с огневой передают «Какой-то художник приехал, старший лейтенант. Просит его принять».
— Что? Принять? Где принять? Здесь? Чёрт их носит. Нашли место для аудиенций, непоседы. Руки им поотрывает, кто потом будет про войну картины писать? Нет! Не могу, скажи им — приёмная не в порядке.
Лёва с некоторыми сокращениями и комментариями, но очень добросовестно и деликатно передал всё это на огневую. В проходе кто-то ахнул. Ранило солдата-миномётчика, который подошёл посмотреть на работу артиллеристов. Пока его перевязывали, никогда не унывающий Заяц совершенно серьёзно заметил ему:
— У нас в Москве одному любопытному в театре нос прищемили, правда, я при этом не был, а тут война не то, что прищемить, оторвать могут вместе с головой.
…Днепр — 3. Днепр — 3.
Огневая позиция не отвечала. Перебило провод. Заяц кошкой прыгнул наверх, где бушевали разрывы. Через несколько минут связь снова работала.
— Ну, вот, — сказал Нитченко, запыхавшийся, выпачканный землёй, Заяц. — Говоришь «несовершенство». Ты, небось, и кнопок своих нажать не успел, а телефон готов.
Нитченко действительно успел лишь сказать: «Днепр-3, Днепр-3, как слышите?»
— Ну ладно, — снисходительно сказал Нитченко, — моя рация ещё своё слово скажет. А где твоя шапка?
Пока Заяц соединял разбитый снарядом провод, близким взрывом с него сбило шапку. Он её так и не нашёл. Ещё огневой налёт. Опять перебита телефонная связь. И снова Заяц кошкой выпрыгнул из окопа. Перешли на радио.
— Товарищ командир! — обратился кто-то из разведчиков, — там офицера присыпало, что к нам шёл.
— Ну, а что с ним, жив?
— Да, ничего, отряхивается. Сейчас подойдёт
В проходе НП показалась фигура Баженова. Он на ходу вытряхивал и выплёвывал сыпавшийся у него со всех сторон песок. На поясе у него висел пистолет, а на ремешке через плечо — плоский деревянный чемоданчик, по которому командир сразу определил: «Так и есть- художник прорвался».
Протиснувшись в пункт, Баженов, облегчённо вздохнул, не замедлив, протянул руку командиру и представился.
Командир ему:
— Очень рад видеть Вас в добром здравии и с руками, и с ногами. Рассказывайте, зачем Вас принесло в такое время.
— Я, видите ли, хотел с Вами посоветоваться насчёт сюжетов для зарисовок. Но, простите, пока сюда добирался, сюжетов через край. Там, где орудие стоит, такой колорит… чёрно-бело-зелёного цвета. А как стали снаряды вокруг орудия рваться, кто-то из солдат написал на орудийном щите мелом, что мол «фриц — не попадёшь». Ну и народ! И под снарядами юмора не теряют! А как работают под огнём! С любого портрет пиши в галерею Героев Отечественной войны. Обязательно нарисую, как они работали. Да, вот ещё. Тут метрах в двадцати от Вас несколько пехотинцев. Я
с ними посидел. Говорят, Вам за такую работу вечером свои сто граммов в награду принесут, довольны стрельбой.
Командир продолжал корректировать огонь:
— Ладно, товарищ Баженов, потом поговорим подробнее. Пока смотрите на очередные сюжеты, да не высовывайтесь, а то ещё добавите красного к этому, как Вы сказали, чёрно-бело-зелёному.
Неуклюже, головой вниз и вперёд руками, в окоп ввалился Заяц. Лицо его было в грязи и снегу. Необычно качая головой, он взял телефонную трубку, хотел что-то сказать, но не смог, трубка дрожала в руках. Он был контужен.
— Ну, полежи, мой храбрый Заяц, а я поработаю, на двух инструментах,сказал Нитченко, сбросил ватник и уложил Зайца у своих ног. Ещё несколько раз рвалась связь, её так же самоотверженно чинил прибежавший по линии связист Терчоков, кабардинец по национальности.
— А, дитя Терека, на заячье место, — встретил его Нитченко.
— Огонь! Огонь! — и через просвет в дыму, окутавшем нас, видно, как в небе поплыло ещё одно чёрное кольцо. Вторая батарея немцев перенесла свой огонь с НП на орудие. Теперь количество немецких разрывов около нашего НП уменьшилось втрое, но было ещё в три раза большим, чем наших у немцев.
— Как дела, огневики? — запросил командир.
— Жарко, — ответили оттуда.
Мотко передаёт короткие команды огневикам. А вокруг бушует огненный смерч, земля гудит, дым и гарь, летят комья мёрзлой земли, шипят летящие осколки, бруствер орудийного окопа разбит в нескольких местах, но люди, как будто этого не замечали.
Вдруг орудие замолчало.
— Днепр — 3, Днепр — 3, в чём дело, почему нет огня?
Через несколько минут «Днепр — 3» ответил:
— Всё в порядке.
— А что случилось?
Докладывал техник Кириченко:
— Орудие немножко поцарапало, связи перебило, замкового ранило.
Орудие снова вело огонь. Вокруг глубоко окопанного орудия бушевали снаряды. Они рвались далеко и совсем близко, впереди ствола и на бруствере орудийного окопа, забрасывая орудийный расчёт землёй. Осколком снаряда у трактора пробило конец трубы. Один снаряд попал в дерево, что стояло рядом с орудием. Блеснуло яркое пламя, раздался оглушительный треск, орудие заволокло чёрным дымом.
Первым вскочил на ноги Турделиев, на нём был разорван ватник.
— Встать! — крикнул Кириченко, и сам вскочил на ноги. Лицо у него было немного ободрано, из носа текла кровь. От разрыва загорелись валявшиеся пучки пороха, загорелись заряды. Кириченко снова закричал:
— Выбрасывай, туши!
У солдата Петрова по лицу и ватнику текла кровь, они с Турделиевым и Тузовым выбрасывали горящие заряды. Им помогал доктор Жеребченко. На Турделиеве загорелась одежда, установщик Прохоренко обжёг о раскалённую гильзу руки и действовал ногами. Щербань с Орешкиным выбрасывали горящие снарядные ящики. Один Кириченко командовал и показывал жестами, что нужно делать, почти не сходя с места. В несколько минут пожар ликвидировали, на Турделиеве затушили одежду и, еле стоявший на ногах Петров, держась за станину, снова открывал и закрывал замок орудия.
Тузов размахнулся, чтобы вложить снаряд в канал ствола, но, чуть не ударив взрывателем о казённик, резко отдёрнулся. Петров не открыл орудийный замок и повалился на землю, перевернувшись через станину.
— Дядя Герасим, что ты? — крикнул Орешкин. Но Петров не ответил, он потерял сознание. Подскочил Щербань и открыл замок, Жеребченко стал перевязывать Петрова, а маленький Орешкин, помогая ему, приговаривал:
— Ах, дядя Герасим, дядя Герасим, как же тебя крепко угораздило.
Огонь по нашему НП заметно ослаб. Видно, фашистский офицер уцелевшего ещё наблюдательного пункта сбежал, боясь разделить участь трёх своих коллег, и его орудия без корректуры, вслепую, били на старых установках.
Дым вокруг нас рассеялся. Ещё три-четыре снаряда — и четвёртое кольцо чёрного дыма завершило победой этот артиллерийский бой. Противник замолчал. Прошла минута, другая… Командир что-то быстро записывал, затем встал, потянулся, на лице и во всех его движениях чувствовалась усталость. Поляков высыпал из-за ворота песок. Терчоков вытряхивал из сапога откуда-то взявшуюся солому и щепки. Нитченко тянул Зайца за руки, сгибал ноги, ощупывал.
— Всё в порядке, Заяц, завтра снова будешь Львом.
За весь день он первый раз сказал Лёве Зайцу приятное. Тот улыбнулся во весь рот и медленно встал.
— С-с-смотри, ч-ч-чернота… будто п-п-пеплом посыпали вокруг. — Заяц сильно заикался. Он смотрел с изумлением вокруг, где ещё два часа назад всё было аккуратно присыпано снегом, и будто не прыгал он вверх чинить связь, когда разметало в пыль этот чистый белый снег, и десятки снарядов долбили мёрзлую землю, рушили траншею и расщепляли брёвна покрытия.
На орудие после очередного «Стой!» не последовало команд по новым целям. Мотко потянулся, медленно переступил с ноги на ногу, подошёл к Петрову. Тот что-то пробормотал, пытаясь поднять голову, но не смог. Жеребченко велел его не трогать. Ранение опасное.
— Щербань, гляди, небо-то какое сегодня синее.
— А, ты що ж, его ще не бачив сегодня, ти, може и мене у перший раз бачишь.
— Ты, жердь заборная, глаза намозолил, а небо сегодня не видел. И нечего смеяться, — с наигранной обидой сказал Орешкин.
Да, видимо три часа напряжённого боя никто не замечал ни неба, ни огромного морального и физического напряжения, ни того, как быстро всё менялось вокруг. А вот теперь и небо показалось, особенно синим и лёгким, и во рту вдруг захрустела земля, и тело стало тяжёлым, неподатливым. Терчоков передавал слова командира на огневую.
— Петрова за то, что тяжело раненым не вышел из боя и дрался до последних сил, представляю к ордену Славы, командира орудия, орудийный расчёт и трактористов награждаю медалями. Полякова и Терчокова награждаю медалью «За боевые заслуги», Храброго Зайца — «За отвагу».
Нитченко схватил Зайца и расцеловал:
— Ты же первый заяц, который отхватил львиную долю.
Заяц засиял:
— Вот видишь, а ты смеялся, что я только быстрый, как лев, а храбрый, как заяц. Выходит наоборот.
На огневой, услышав телефониста, верный себе Щербань «подытожил» результат боя. Во весь голос он объявил:
— Внимание, внимание. Счёт только что закончившегося матча, — 6:0 в пользу советской гвардии. Наиболее отличившихся игроков капитан команды наградил медалями.
Командир поговорил немного с разведчиками, сказал Зайцу, чтобы то ехал с ним до санчасти, забрав вычислителя, попрощался и поехал на огневую. Вокруг орудия весь снег был чёрным, земля изрыта, в воронках, деревья были посечены, а бруствер орудийного окопа почти весь разбросан. Кругом валялись горелые ящики из-под снарядов, пустые гильзы. На правой станине орудия кровь, левая пробита в трёх местах, две пробоины в щите, крышка ступицы левого колеса сбита, погнута стрелка прицела.
— Мать честная, что за беспорядок? Где окоп, где бруствер, где маскировка? — пошутил командир.
— Молодцы, здорово фрицев покрошили.
Щербань сразу пролез вперёд и заявил:
— Так точно. 6:0 в нашу пользу. Не с теми они связались. Вот пусть на себя и пеняют.
Тузов возразил:
— Осталось ли кому пенять?
— А, чёрт сними, если и не осталось, — закончил командир этот разговор.
— Мотко, уведите орудие на основную огневую позицию. Кириченко, вызовите полковых мастеров. Завтра к вечеру приведите орудие в порядок.
Командир сел в машину и поехал в штаб, где его уже ждала куча бумаг, приказов, всяких «срочных», «неотложных» боевых и хозяйственных дел. Боевой день продолжался. По дороге заехал в медсанбат к Петрову. Ему уже сделали новую повязку и оказали необходимую медицинскую помощь.
— Ну, как дела, Герасим Семёнович?
— Дела хорошо, только в голове уж очень шум стоит, — ответил Петров глухим очень тихим голосом.
— Спасибо, Герасим Семёнович, за службу, за пример солдатам. Будешь награждён орденом Славы. К нему лента положена полосатая, как раньше к Георгиевскому кресту.
Чуть вздрогнув и немного вытянувшись на постели, Петров тихо, но чётко и внятно произнёс:
— Рад стараться, Советскому Союзу…
Крепко в нём засела тяжёлая и мужественная солдатская служба и, будучи почти в забытьи, он ответил на поздравление вместе и старым солдатским и нашим красноармейским ответом.
— А у меня теперь две ленты таких будет. Я кавалером был, в 1916 году Георгия получил. Картечью немецкую кавалерию отбивали…
Видимо силы оставили его, он снова впал в забытье. Врач сказал, что на выздоровление трудно надеяться. Вечером адъютант — старшина Сазонов — привёз на орудие трёхлитровую бутыль, где на этикетке, нарисованной Женей Ганнушкиным, на фоне разбитого блиндажа было написано: «За отличную стрельбу от командира». А кроме этого, Турделиеву — новый ватник, Тузову — варежки, Нитченко — шапку. Солдаты подняли тост за сегодняшнюю победу, за здоровье дяди Герасима, за командира, поговорили о войне, вспомнили прошлые бои, похлопали друг друга по груди, где должны засверкать новые награды. Турделиев посмотрел на свой новый ватник и сказал:
— Мотко, давай ответ командиру писать.
На белой бумаге, которую приклеили на опустевшую бутыль, написали: «Наш уважаемый командир, мы за Родину, за Сталина и против Гитлера готовы в огонь и в воду и самый Берлин. Мы выполним любое ваше задание». Все подписались. Вечером в штабе, когда собрались на ужин, Александр Владимирович Баженов, из многих зарисовок сделанных днём подарил три карикатуры в память о разбитой пушке, уничтоженном штабе и разгромленных наблюдательных пунктах. К рисункам тут же был придуман текст, с которым оказались вполне согласны и «авторы» изображённых «сюжетов», и автор самих рисунков. Так закончился этот артиллерийский бой, который происходил 17 января 1944 года в 10–12 километрах юго-восточнее города Жлобин, в один из дней, когда в оперативной сводке Советского информбюро было написано о том, что на фронте изменений не произошло. Велась редкая артиллерийская перестрелка.
14.8.59 г.
Примечания
1
Евгений Александрович Ганнушкин, внук крупнейшего советского врача-психиатра, Петра Борисовича Ганнушкина, умершего в 1935 году и внучатый племянник известного белорусского хирурга и патриота Глумова, убитого фашистами 1943 году. В период описываемых событий Женя Ганнушкин был 18-летним ефрейтором. Впоследствии- известный художник-полиграфист.
(обратно)2
Сержант Нитченко был замечательным радистом. При самом напряжённом радиообмене он безошибочно находил и связывался с любой нужной радиостанцией. Ещё в период сталинградских боёв военная газета назвала его «Снайпер эфира». С тех пор солдаты звали его «Снайпером». Погиб в 1944 году.
(обратно)

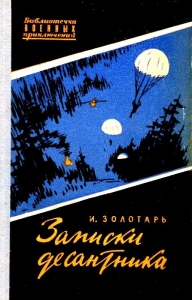





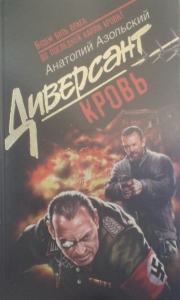




Комментарии к книге «Четыре рассказа», Артём Фёдорович Сергеев
Всего 0 комментариев