В. КЛИПЕЛЬ МЕДВЕЖИЙ ВАЛ
Участнице сражения за Витебск, гвардии лейтенанту Марии Иосифовне — жене и другу — посвящаю
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Более двух лет стонет Белоруссия под ярмом жестокого врага.
Забурьянели непаханые поля. Обезлюдели деревни. Не порадует глаз приветливо вьющийся над хатой дымок, не пахнет навстречу ароматом свежеиспеченного ржаного каравая.
Где ты, свет электрических огней?
Где вы, звонкие задушевные песни? Иль не грустит больше по милому девичье сердце?
Молчит деревня. Черны проемы окон, и только кое-где боязливо мелькнет робкий свет лучины. Тоскуют по родине песельницы, угнанные в неметчину, в рабство. Горе и печаль живут под каждой крышей, где есть человек, в разбитых башмаках пылят по широким большакам, бредут узкими стежками.
Дым пожарищ застилает ясные звезды; птицы с печальными криками разлетаются от своих гнездовий в поисках земли, еще не пропитавшейся запахом гари.
Два года, долгие, как вечность, отбросили цветущий край к нищете и бесправию. Дико людям впрягаться в соху после того как по этой земле много лет ходили тракторы и комбайны.
Тому, кто дышал воздухом свободы, неволя страшнее смерти, и глаза народа налиты ненавистью. Настороженная мина, перебитый рельс, пуля партизана на лесной дороге встречают врага.
Долга черная ночь, но близится рассвет. В глухой тьме зарницами близкой освободительной грозы полыхают орудийные выстрелы наступающей Советской Армии.
В сентябре тысяча девятьсот сорок третьего года, после долгих боев, войска Калининского и Западного фронтов прорвали фашистскую оборону под Духовщиной и Ярцевом и освободили разрушенный Смоленск.
Танковые части пробивались по большакам к Витебску, проселками и просто без дорог шла пехота. Усталые пехотинцы неохотно уступали дорогу легковой машине и, только увидев за стеклом фуражку с круглым генеральским знаком — «Начальство какое-то!», — сторонились более поспешно, не проявляя ни особенного любопытства, ни желания выровнять строй. Артиллеристы, те и вовсе не обращали внимания на сигналы шофера, и он, рывками вывернув машину с наезженной колеи, стал полем обгонять медленно ползущую батарею полковых орудий.
Генерал не остановил машину, никого не «разнес» за невнимательность. Раскачиваясь, он сидел, закрыв глаза, и делал вид, что дремлет. Когда машину стало бросать на ухабах, он скупо обронил шоферу:
— Не можешь полегче...
— Так разве я виноват, товарищ командующий! Сигналишь-сигналишь, а они будто глухие...
— Ну-ну... Ты думаешь, им легче?
Генерал Березин возвращался с совещания, которое командующий фронтом накоротке провел с командующими армий. Это была своеобразная коллективная оценка обстановки своих и противника сил, черновая наметка действий на ближайшее время. Ничего нового, неожиданного он там не услышал. Информируя о положении в своей армии, Березин подчеркнул, что хотя у него и продолжают действовать танковая группа и прежнее количество стрелковых соединений, но возможности армии весьма ограниченны из-за больших потерь; из-за плохого состояния дорог сложилось к тому же тяжелое положение со снабжением войск. Он высказался за то, чтобы дать частям передышку.
— Как это ни болезненно, но я должен признаться, что инициатива уходит из наших рук, и не мы диктуем, а противник сам стал выбирать время для отхода на новые рубежи. Это уже планомерный отход. Наступление в таких условиях сулит лишь незначительные успехи, но расплачиваться за них придется неоправданно высокой ценой...
Видя, как хмурится командующий, как он раздраженно постукивает по столу карандашом, Березин понял, что говорит не то, что тому хотелось бы услышать, но иначе поступить не мог. Ответственность обязывала не только доложить о фактах, но и сделать выводы. Несколько лет командуя армией, он не желал принимать во внимание иных мотивов, кроме интересов дела.
— Ни о каком прекращении активных наступательных действий не может быть и речи, — резко сказал командующий фронтом.
Он только что прилетел из Москвы, где в Ставке ему пришлось выслушать много горьких истин по поводу того, что, имея такие силы, фронт не провел ни одной операции, которая увенчалась бы окружением и полным разгромом противника. Фронт попросту выталкивал врага лобовыми атаками, расплачиваясь за свои победы громадными потерями. В Ставке были недовольны, и теперь только освобождение новых районов, только взятие Витебска могли в какой-то мере поддержать его пошатнувшийся авторитет. А тут разговор об отказе от наступления...
— Не к лицу командующему руководствоваться личными чувствами и разводить жалость. У нас армия, а не богоугодное заведение... — Почувствовав, что перехватывает, командующий фронтом взял себя в руки и заговорил более спокойно, обращаясь уже не к одному Березину, а ко всем: — Пока наступают другие фронты, мы обязаны наступать. Интересы государства требуют быстрейшего освобождения Витебска, и мы его возьмем, чего бы это нам ни стоило. Не кажется ли вам, что вы переоцениваете значение потерь? А это ведет к утрате чувства перспективы. Да, у нас есть потери. Значит, надо думать о мобилизации неиспользованных возможностей...
По дороге шла дивизия, выведенная в резерв. Шинели на солдатах были мятые, грязные, лица небритые, угрюмо-сосредоточенные. С начала Курского сражения бои на всех фронтах идут без передышки и наступление идет к своему естественному концу.
На перекрестке, в стороне от общего потока, стояла легковая машина. Березин подъехал к перекрестку. К машине подошел офицер оперативного отдела и доложил:
— По приказанию начальника штаба прибыл проводить вас до нового командного пункта!
— Садитесь, показывайте дорогу! — сказал Березин и указал на место позади себя.
Дом, отведенный для Березина, стоял в деревне особняком, был просторен и чист внутри. Повсюду уже были расставлены привычные Березину вещи, и он, войдя, почувствовал, что наконец-то попал домой, и облегченно вздохнул. Повесив шинель, он прошелся по комнате и остановился у зеркала. Машинально пригладил густые волнистые волосы, зачесанные назад, и приблизил лицо к стеклу.
«Сивею, — с горечью отметил он, поправляя когда-то темные, а сейчас вперемежку с серебром пряди. — Бежит время!» Да, время неумолимо делало свое дело, раздало его в плечах, в талии, запрятало внимательные, изучающие глаза под широкие, в палец, мохнатые брови. Время с размаху, не заботясь о красоте, рассекло лицо глубокими морщинами. Но за некоторой грубоватостью облика угадывались большая физическая и душевная сила, непреклонная воля и трезвый ум, умеющий направить все эти качества к одной ясной цели.
Березин был скуп на слова, жесты, не любил позы. Вся его деятельность состояла в том, чтобы организовать тысячи других людей, сплотить их в монолитную, послушную его воле силу. Борьба с фашизмом требовала такого единства и сплочения.
Необходимые для этого качества не были врожденными, не пришли к нему готовыми, он развил их, воспитал в себе требовательностью, более суровой, чем он предъявлял к другим. Без этого внутреннего самоусовершенствования он не мыслил движения вперед. Куда, к чему? К большим чинам, власти или материальному благоденствию? Профессионал-военный, он двадцать лет готовился к защите Родины и теперь стремился к результатам, которые, он чувствовал, ему по плечу.
Жизнь — ходьба в гору. Остановки нет; люди, идущие позади, не дадут передышки: либо подтолкнут вперед, либо скажут — «Отойди!», если устал, если дыхание кончилось.
Пошевелив плечами, он хотел было размяться, но вошел адъютант, доложил:
— Начальник штаба!
— Зови! — сказал Березин и пошел к столу.
Начальник штаба генерал-майор Семенов поздоровался и, не ожидая вопросов, принялся докладывать о положении в войсках.
Суть дела он излагал четко, лаконично, встречную мысль Березина схватывал с полуслова и брал на заметку. Вопросов не задавал, считал нетактичным спрашивать. Командующий сам информирует, о чем нужно, иначе какая может быть работа без доверия, без посвящения в планы на будущее?
Семенов был кадровый военный и начал войну начальником оперативного отдела армии. Осенью 1941 года, когда немецкие войска перешли в наступление на Москву, под удар танковых клиньев попала армия, в которой он служил. Управление войсками рушилось, части теряли связь со штабом и между собой. В обстановке растерянности, когда многие заботились об одном — выйти из-под удара, он сумел собрать отбившиеся разрозненные части и вывести их за линию фронта.
В 1942 году его назначили начальником штаба к Березину. Они сработались. О любви, дружбе речи не шло, были доверие и уважение. Им казалось: будет лучше, если объединяющей их силой будет не дружба, а служба. Березин предоставил ему право быть в своем штабе полным хозяином. Но Семенов отлично знал, что каждый его неверный шаг будет тотчас известен Борезину: он сам держал своих подчиненных под неослабным контролем, не надеясь на начальников отделов.
Он был одних лет с Березиным, в меру широкоплеч, опрятен, до блеска выбрит; белесые редкие волосы, зачесанные от виска поперек темени, никогда не сбивались в беспорядочные пряди. Внешность его была безупречна, но от высокого розового лба, прямого, утолщенного у переносицы носа, упрямо сжатых в ниточку губ веяло холодом. Под пронизывающим взглядом его небольших серых глаз люди чувствовали себя раздетыми новобранцами в неуютном кабинете врача призывного пункта.
Правда, обвинить его в нелюдимости или черствости было нельзя: он откликался на нужды подчиненных, был весельчаком в компании и примерным семьянином. Но служба не оставляла ему почти ни минуты свободного времени; который год он жил вдали от семьи. Так постепенно складывался его характер — человека действия, немного суховатого из-за необходимости экономить время, замкнутого, чтобы не сболтнуть того, что принадлежит службе. Даже мыслил он своеобразно, облекая мысли в стремительные ясные фразы.
— Наши соображения не приняты во внимание, — сказал Березин, когда был окончен разбор бумаг. — Командующий высказал опасение, что, переоценивая значение потерь, мы рискуем утерять чувство перспективы...
— Отдать в бесцельных стычках инициативу противнику и нанести армии непоправимый моральный ущерб!..
— Об этом я говорил, — живо продолжал Березин, — но приказ фронта — наступать! Надо подумать, как лучше его выполнить, и не допустить, чтобы наши опасения сбылись. В полосе армии — Лиозно и Витебск. Поэтому, я считаю, главные усилия надо направить по основным магистралям. На остальных участках — активность огня и незамедлительное преследование, как только обнаружится отход противника. На каждом промежуточном рубеже тратить силы попусту всем — нет расчета. Как только придет приказ фронта и станут ясны наши разграничительные линии — составьте проект приказа. Второе: мне надо знать, где противник думает осесть основательно, чтобы тоже подготовиться. Организуйте переброску двух-трех надежных разведгрупп в тыл противника, пусть прощупают... Если надо, договоритесь с фронтом о десанте...
Семенов отрицательно качнул головой:
— Не разрешат.
— Вам знать лучше, — не стал настаивать Березин. — Главное — сделать это как можно быстрей.
— Группы для этой цели готовились...
— Вот и хорошо. Дайте им «добро».
В дивизии Дыбачевского шифровку приняли ночью. Час был поздний, но, поскольку генерал еще не спал, ее без промедления принесли ему. Сначала он хотел переслать документ начальнику штаба, так как организация разведки входила в его обязанности, но фраза — «Командующий придает важное значение выполнению этой задачи» — заставила его изменить решение.
Он взял трубку телефона, буркнул нетерпеливое — «Поживей эн-ша!» — и стал ждать, когда ему ответят.
— Ты еще никого не подобрал в «хозяйство Полякова»? — спросил он тоном человека, сознающего, что его собеседник в курсе дела. — Некого, говоришь? А резерв?.. Бери личные дела и ко мне. Тут «письмо» по твоей части.
Надо же было произойти такому, что группа, с которой столько возились, обучали, тренировали, вдруг потеряла своего командира: ранен во время рекогносцировки. Главное — некого назначить взамен. Будь задача менее сложной — назначай любого из сержантов разведроты, и дело с концом, но тут... Что греха таить: выпускники курсов младших лейтенантов — вчерашние сержанты — могут вести людей в бой, но топографии почти не знают, не очень-то ориентируются на местности, а без этого в разведке мало проку...
Вот почему, когда пришел начальник штаба, Дыбачевский сунул ему под нос шифровку — «Читай!», — а сам стал перелистывать личные дела офицеров, находившихся в резерве. О тех, кто не воевал, нечего было и думать — сразу их в сторону; кто был ранен на других участках фронта, а сейчас попал в его дивизию, тоже отбрасывал: кто его знает, что они за люди? Хороших в своих полках ждут, да они и сами обычно стараются в старую часть попасть, а не прибиваться куда попало.
— Может, взять кого из полка для такого дела? — предложил начальник штаба.
— Там и так кисло, хоть самому в строй становись, — мрачно отозвался Дыбачевский. — А вот!..
— А-а, Крутов! Так он же командир роты...
— Разве не подходящ?
— Пожалуй, ничего, только Черняков узнает — такую бучу поднимет. И так уже раза три звонил, чтобы, как прибудет, сразу в полк отправляли...
— Ну, в дивизии пока что я хозяин. Обождет! — отрезал Дыбачевский. Чтобы выполнить приказ, в котором заинтересован командующий, он готов был поставить во главе группы комбата, а не то что командира роты. — Вызывай!
Старший лейтенант Крутов был ранен во время штурма оборонительной полосы. По-хорошему можно было еще недельку-другую побыть в госпитале — с выпиской не торопили, но он побаивался, как бы дивизию не перебросили на другой участок фронта, тогда ищи-свищи... К тому же наступление было в разгаре и офицерскую палату набили «по завязку».
В дивизии не спешили рассылать их по полкам. Видно, приберегали до того времени, когда накопится побольше, чтобы придать их возвращению в части видимость пополнения. Крутов был уверен, что получит направление в полк, а там — рота. И вдруг среди ночи его вызывает генерал. Крутов заволновался: неспроста!
Дыбачевский сидел в комнате один. Принял он Крутова радушно, подал руку, предложил стул.
Крутов видел, что вызван не для пустых разговоров. Время позднее, давно уже спать пора, но генерал сидит, а ведь он тоже человек. Его так и подмывало ответить на душевность душевностью, сказать: «Товарищ генерал, бросьте волынку, говорите прямо, зачем я вам нужен?» Но он побаивался. Краем уха слышал, что полагаться на генеральскую любезность не следует, в любой момент может вспылить, «поставить на место». Генерал нахмурил брови:
— Вот у меня лежит характеристика на одного офицера... Тактически грамотный, смелый, партии преданный... Как, по-вашему, могу я довериться командиру полка и поручить этому офицеру важное дело?
— А как же! Командир полка пишет, не кто-нибудь!
— Тогда представьте себя на моем месте: я, генерал, доверился этой характеристике, а офицер оказался не на высоте, не выполнил приказа. С кого спросить?
— Приказ есть приказ, и его обязаны выполнять. Ну, за рекомендацию тоже спрос, пишешь — знай на кого. Так я считаю, товарищ генерал!
— Тогда к делу. Намерен, поручить вам очень важную задачу. Результатами интересуется командарм. Если вы так же строги окажетесь к себе, как к другим, — задача вам по плечу. Вам даже легче, чем другим, вы фронтовик, знаете топографию, к лесу не привыкать. Я ведь тоже знаю, что за штука — лес. В Сибири жил, в некотором роде земляком вам прихожусь...
И Крутову было предложено возглавить разведывательную группу, перейти линию фронта и обширным лесным массивом, прилегающим к Акатовскому озеру, выйти в тыл немцам, чтобы там разведать, где они готовят оборонительные рубежи.
— Народ подобран хороший, местность — сам видишь, лучшей не придумаешь для такого дела, — генерал развернул карту.
Щемящий холодок перекинулся из груди в окончательно еще не зажившее плечо Крутова, и там заныло тупо, неприятно.
В разведку! Какой желанной казалась ему сейчас рота!
Он смотрел на карту, а в голове, помимо воли, билась мысль: «А может быть, это еще не окончательно, есть еще время отказаться?» Но нет, это только так водится, что генерал спрашивает согласия — хочешь иди, нет — отказывайся. Все уже десять раз обдумано и решено.
Дыбачевский испытующе наблюдал, а Крутов думал и все не мог решиться. Испытав на собственной шкуре, что за штука война, он теперь опасался того, о чем когда-то, будучи помоложе, мечтал с такой страстью. В разведке придется все решать быстро, без колебаний, а спросить «прав — не прав» будет не у кого. На передовой, что ни случись, — за плечами рота, люди, с которыми ешь и пьешь из одного котелка, греешься у одного костра, живешь бок о бок в одном окопе. А тут? Будто сквозняком потянуло по голому телу. Он выдавил никчемные осторожные слова:
— А справлюсь ли?
Генерал пожал плечами, ответил холодно:
— Свободных людей нет, пришлось вас из резерва брать. — И повторил свое: — Вам легче, чем другим: фронтовик, коммунист...
Отказываться теперь значило показать себя трусом. И Крутов отлично понимал это.
— Ну, так как? — спросил генерал и нетерпеливо побарабанил пальцами по столу: некогда, мол!
На нетерпение генерала Крутов не обратил внимания: не грех и подумать. Но поскольку все было решено, ответил по-деловому, вопросом:
— Когда прикажете приступить к выполнению задачи?
— Утром примете группу, днем вместе посмотрим, что и как, а вечером «сабантуй» — и в путь! — Генерал был доволен, что окончилась самая неприятная часть разговора.
Непоколебима сила воинской дисциплины, велика генеральская власть, без лишних слов может он поднять в атаку полк, а вот когда надо с глазу на глаз безапелляционно заявить человеку: «Умри, но сделай!», — генерал каждый раз испытывал неловкость. Может быть, потому, что сам к этому был не готов. Как там ни говори, а самая справедливая характеристика лежит у каждого на дне души.
Удовлетворенный тем, что все уладилось, он тиснул Крутову руку на прощанье:
— Идите, отдыхайте. А там — в путь!
Глава вторая
Черной стеной, как покинутая людьми старая крепость, молчаливый и задумчивый стоял осенний лес. Озаренное светом далеких пожаров, всей грудью лежало на его острых зубцах пламенеющее багряное небо. Перед самым лесом, за небольшой полоской поля, находилась деревня. Крыши ее домов и высокие ветлы глыбами врезались в охваченное заревом небо.
Группа разведчиков вышла из лесной чащи.
Задетая чьим-то плечом, с шорохом скользнула упругая ветка по заскорузлому от сырости ватнику.
— Деревня! — Крутов остановился, глянул на компас. Когда холодная голубая искра перестала метаться, сказал уверенно: — Бель-Карташевская.
Разведчики некоторое время наблюдали за селением. Тишина. Ни одного огонька в окнах невысоких, приземистых домишек. Крутов решил подойти к самой крайней избе: она стояла на отшибе.
Неслышно ступая след в след, как молодые звери за матерым вожаком, разведчики подошли к избе и, держа оружие наготове, вновь осмотрелись. Тихо, одним пальцем, Крутов постучал в окно.
В избе зашаркали чьи-то ноги, к стеклу приникло обеспокоенное старческое лицо.
— Эй, отец, выдь на минутку, — приглушенно сказал Крутов.
— А вы кто?
— Свои, отец, не бойся!
— Свои ноне все больше по лесам... Что надо?
— Поговорить!..
— Вон через три хаты от меня староста живет, к нему и ступайте. А нам не велено...
— Ладно, отец, хватит. Открывай!
Разведчики слышали, как скрипели в избе половицы, как загремело упавшее ведро; наконец стукнула в сенцах щеколда. В накинутом на плече кожушке показался старик.
Пятеро с автоматами прошли следом за хозяином, двое остались возле дома.
— Здравствуй, отец. Что так сурово гостей принимаешь?
— Какие ноне гости: что ни есть поедят, да еще и хозяина из дому взашей вытурят...
— Мы не из таких.
— А из каких? Случаем, не из власовцев?
— Товарищ командир, разрешите курить? — обратился к Крутову один из разведчиков.
— Можете...
Чиркнула спичка, и от огонька, прикрытого загрубелыми ладонями, трепетный свет упал на небритое, явно русское лицо, на зеленый полевой погон, выглянувший из-под сползшего с плеч маскхалата, на рубиновую звездочку на пилотке.
От крепкой затяжки вспыхнула газетная самокрутка, осветила других. Глянул старик, а на них такие же звездочки. Знакомый запах солдатской рубленой махорки ударил в ноздри.
— Господи! — ахнул старик. — В самом деле свои. Да садитесь же, ради бога, на лавочку. Тут она, у стены... — Суетясь по избе, он не знал, за что схватиться. Кинулся к печке: — Может, угольки на загнетке не остыли, лучинку бы запалить. С дороги голодные, так у меня прошлогоднего сальца на шкварку было да хлеба скибка. Он хоть и с листочком, а все же хлебец...
— Присядь лучше. Скажи, один живешь или постояльцы какие бывают?
— Один, сынок, один. Была старуха, да господь прибрал. Зимой похоронил, отвез на саночках. Двух дочек годувал, а к старости остался, как перст. Воды подать некому, если свалюсь. У старшей своя семья, давно улетела, а меньшенькую в Германию увезли... Так, может, чего ни есть соберу вам перекусить?
— Не беспокойся, отец.
— Какое это беспокойство? Не полицаи, не власовцы какие-нибудь, что на горло наступят, — дай, да и все тут... Насолили, чтоб им ни дна ни покрышки. Ох и заждался вас народ, заждался... Ведь до войны молились, можно сказать, на Красную Армию, думали, как за каменной стеной живем с ней. Как говорится, чужой земли не хотим, но и своей ни клока, ни пяди... А вот, поди ж ты, вломился немец. Тут и пошатнулась наша вера...
— Война. Всякое бывает!
— Так разве я не понимаю? Только глядишь иной раз на полицая, власовца и думаешь: «Какая же мать тебя кормила, что стал ты изменщиком своему народу?»
— Это уж, батя, у кого какая совесть.
— В совести главное, в совести! Ты умри, а не смей поднять руку против родной земли. Теперь из них многие видят — не туда пошли, а назад дорога заказана, рыльце-то в пуху!
— Что в народе слышно?
— Какой сейчас народ: стар да мал. Недавно всех, кто на ногах держится, на работы угнали. Был у меня оттуда человек, сказывал, в Стасьево и Великое Село народу нагнали тьму-тьмущую. Окопы по погуркам роют, колючкой землю опутывают. Он-то сам по плотницкой части, так его на блиндажи, бункеры по-ихнему, поставили. Работа тяжелая, харч никудышный, а уйти нельзя — немцы над ними каких-то черномазых поставили, стерегут, и строгости страшные.
— Товарищ командир, кто бы это такие?
— Должно быть, итальянцы. Здесь где-то их саперный батальон болтается. Как вояки они уже оскандалились, а для такого дела годятся.
— Большие силы он под Витебск поставил. Хвастались, будто дальше — ни шагу, там и зимовать будут, — сказал старик.
— Ну, это еще бабушка надвое сказала, — заметил Крутов. Развернув карту, он стал делать на ней пометки, а молоденький боец светил ему, прикрывая карманный фонарик полой ватника. Остальные закурили, повели неторопливый разговор.
— А что, батя, в вашей деревне много немца стоит?
— Да кто ж их считал, будь они неладны! — ответил старик. — На заходе солнца прошла пеших рота, орудиев штук десять протащили... Прибегали старухи, сказывали, будто за большаком их порасставили. Спрашивали, что делать, если за деревню бой будет? А я за порог только и то по нужде выхожу...
— Да тебя хоть сегодня в разведку!
— Был конь, был... Всю германскую вашим ремеслом занимался, Георгия имел...
— А от дочки как, ни слуху ни духу?
— Есть писулька, — не сразу отозвался старик.
— Как там нашим живется, что пишет?
— Известно, чужбина. Горько им там мыкаться! — Он поднялся с лавки, на ощупь пошарил за божницей и подал небольшой листок.
— Письмецо бы прочесть, товарищ командир, — попросили разведчики. — Из самой Германии прислано.
— Почему бы не прочесть, — сказал Крутов и взял письмо: — «Здравствуйте, дорогие мои родители!..»
— Она еще не знает, что матери нет в живых, — вставил старик и вздохнул.
— «От вас ни весточки, не знаю, что и думать. Милая мамочка, завезли нас за тридевять земель, аж под город Кенигсберг. Работаем мы у одного барона в его имении Кугген. Имением правит управляющий, а сам барон Гольвитцер, говорят, важный генерал, и мы его в глаза не видели.
День-деньской мытарим мы в поле, и ни в дождь, ни в жару нет нам светлой недели. Только и время наше — ночка темная, когда загонят нас в барский хлев под замок. Ясный месяц и тот на нас сквозь решетку глядит. Собрали нас семьдесят человек из разных мест: из Чернигова, Вязьмы, Петергофа. Много среди нас студенток и десятиклассниц. Если б вы знали, как мы тоскуем!.. Мы теперь словно тучки небесные, вечные странницы, не можем приплыть к своей Родине».
Старик судорожно всхлипнул и отошел к печке.
— «Милая мама! Слезы выступают, едва задумаешься. Помнишь, как я мечтала стать доктором? Где они теперь, наши мечты? Злой ветер, словно пыль подорожную, развеял их по чужой стороне. Живем мы — не довелись никому, как горох при дороге: кто идет, тот и щиплет, тот и в грязь топчет, да еще и плакать не велит. Только в своем сарае — тюрьме ненавистной — и наплачемся, на судьбу нашу несчастную пожалуемся. Разве к такой жизни вы меня годували?
Передаю это письмо с добрым человеком, которому выпало счастье повидать еще родимую сторонку. Несчетно раз целую ваши рученьки...»
Щелкнул фонарик и погас. В избе стало темно и тихо. И вдруг прорвалось, заговорили все сразу:
— Вот как он наших!..
— Изводят русских людей!..
— А писали раньше — Германия культурная страна!..
Крутов поднялся:
— Будь здоров, отец! Доберемся до этого Гольвитцера, спросим с него и за твою дочку.
Разведчики оставили избу и гуськом подались к лесу. Ушли — будто растаяли. Над еле приметным на темной росистой траве следом курился холодный туман. Лес, напитавшийся влагой, из черного стал седым. Из-за смутной туманной кромки выглядывал покрасневший месяц, острый, как конец клинка, поднятого для удара.
Под грохот «сабантуя», устроенного Дыбачевским, разведчики миновали немецких пулеметчиков и проникли в лес, лежавший за спиной врага. При переходе за линию фронта Крутов не сплоховал; разведчики признали в нем не новичка и положились на него. По неловким, но искренним знакам внимания, предупредительности он догадался, что они оценили его опыт.
Разведчики несколько дней пробыли в глубоком тылу врага. Каждый мало-мальски подходящий рубеж, где гитлеровцы могли обосноваться, создать укрепления, был осмотрен. Переходы совершались ночью, но Крутов безошибочно выводил группу в намеченное место. Однако цель, ради которой их послали, не давалась им в руки. После долгих раздумий Крутов решил рискнуть, зайти в одну-другую деревню. Пусть там стоят немцы, но ведь там есть и свои люди, русские, они должны помочь. В Бель-Карташевской разведчики напали на «след». Теперь только бы не попасть впросак, выйти к Стасьево, узнать — правду ли говорил старик.
Перед глазами Крутова маячила сутуловатая спина Мазура, самого пожилого бойца группы. Шел Мазур вразвалку, согнувшись, грузно. Но идти за ним было хорошо, не надо было ни выбирать дорогу, ни вглядываться, ни выставлять перед собой локоть, чтобы не хлестнула по глазам ветка. Ступай след в след, лишь бы в ногу. Последнему идти всегда легче, можно идти и отдыхать. Но почему так тревожно?..
Загремел котелок. Это передний зацепился за валежину, упал. Тотчас раздалось ироническое замечание:
— Команды «ложись» не было!
Упавший ругнулся:
— Чтоб тебя разорвало, всю штанину располосовал!
— Не спи на ходу!
Все скучились.
— Товарищ командир, куда дальше держать?
Крутов расстегнул планшетку, буркнул: «Григорьев, посвети!» — и стал высчитывать азимут. Дело это несложное, но сегодня ему было не по себе...
Чмокнула у кого-то в сапоге вода: наверное, пошевелил пальцами. Сорвалась с дерева и гулко шлепнулась росная капля на широкий лист... До чего ж тихо в осеннем лесу! Бывает тишина звенящая, успокаивающая; это была настороженная. Крутов пошел впереди, не сказав никому ни слова. Шли долго.
Жутко идти темным враждебным лесом. Нервы напряжены, задень — зазвенят. Скоро должна быть дорога. Ночью не только звуки, но и запахи говорят в полный голос. И дорога дала о себе знать; но не запахом бензина, разогретого асфальта или резины. Нет. Крутов уловил мирный, знакомый с детства конский запах: «Наверное, вечером проехали на лошадях». Перескочив через дорогу, все пошли скорым солдатским шагом: до рассвета надо одолеть еще километров пять пути. Вскоре попалась не то просека, не то тропа, щелью расколовшая лесную чащу. Пошли по ней. Совершенно внезапно раздался собачий вой. Взметнулся до высокой жалобной ноты и затих совсем рядом.
Крутов как шел, так и замер на одной ноге.
Мазур наставил к ушам ладони. Тишина. Жгучая, враждебная тишина, которая каждый миг может оборваться пулеметной очередью, взрывами гранат. По прогалку метнулась какая-то тень. Собака.
— Посмотрим?
Разведчики вскинули автоматы, неслышно двинулись вперед. Перед ними лежала бугристая темная земля. Будто прошлись по ней с плугом, кое-как, оставив беспорядочные пласты, вместе с белесой глиной вывернутые из глубины. И тотчас все стало ясно: побитые! Весь прогалок был завален трупами, и собака выла над хозяином. Кто-то, более смелый, наклонился:
— Гражданские... Товарищ командир, это же мирных жителей здесь положили!
Не сговариваясь, стали отступать от этого страшного места. Только оставив за спиной порядочное расстояние, когда немного схлынуло напряжение, стали на привал в глухой чаще. Крутов приказал варить чай. Под большой черной елью разложили маленький — из осторожности — костер.
— Наконец-то хоть душенька оттает, — сказал Мазур и протянул к огню заскорузлые темные руки.
Крутов достал из мешка плащ-палатку и, кинув ее под бок, тоже примостился поближе к теплу. Тяжкая усталость навалилась на плечи. Сказывалось нервное напряжение, тревоги, изматывавшие хуже физических лишений. И тех и других было достаточно. Уже несколько дней шли без горячей пищи, спали в сырой одежде, где попало, не высыпаясь по-настоящему. Никто не жаловался, но Крутов видел, как осунулись у бойцов лица.
До сих пор они все время чувствовали за спиной дыхание передовой. Сейчас предстояло оторваться от линии фронта на десятки километров, сделать бросок до Стасьево, почти под Витебск.
Веселые живительные язычки пламени, голодно облизнув сухие ветки, пробегают по черным котелкам и стремительно свиваются над ними в тугие рыжие косички. К еловым лапам уносится россыпь золотых блуждающих звездочек. Огонь притягивает взоры причудливым непостоянством, изменчивостью своих очертаний. Крутов смотрит на него, и мысли его приобретают неясность, расплывчатость, всякий раз ускользая, как дым из горсти, лишь только он пытается втиснуть их в привычные слова и образы.
— Зачем человек живет? — Это Григорьев. Нахохлившись, как большая усталая птица, он смотрит на огонь и спрашивает: — Как, по-вашему, товарищ командир?
Крутов пожал плечами:
— Думаешь, если я ношу три звездочки, так все знаю. Спроси Мазура, он больше нас с тобой пожил на свете.
— Известно, живешь... — Неохотно поддержал разговор Мазур. — Куда денешься. Вот свернем Гитлеру шею, по домам подадимся, кто хлеб растить, кто что... Работать, одним словом...
— Это я знаю, — перебил Григорьев. — А вообще?
— Ну, вообще — это другое дело... — Мазур задумался. — Раньше как говорили — родился, значит живи, неси свой крест. Человеком будь — в этом главное...
В котелках полным голосом заговорила вода; Мазур обрадовался, что это избавляет его от трудного разговора, и стал быстро снимать их с огня.
— Давай, ребята, ставь кружки, чаевать будем. Сало, сухари есть, какую еще жизнь надо!
Потом на земле, выстланной сухими иглами, разведчики улеглись.
Крутов лежал с открытыми глазами. Сквозь частые хвойные ветки кое-где проглядывали бледные латки неба; зарождавшийся рассвет уже гасил на нем мелкие звезды. Небо было обыкновенное, мирное, и не оно, не заботы гнали желанный сон.
«Зачем человек живет?» — Григорьев любил задавать вопросы подобного рода, и не всегда можно было найти на них ответы точные, ясные и простые. И вот теперь вопрос солдата вновь и вновь оживал в размышлениях Крутова. Впрочем, может быть, и не он вызвал эти раздумья, а письмо девушки, безвинно побитые люди, оказавшиеся на его пути. Только едва ли.
Память, помимо желания, гнала перед его мысленным взором одну за другой картины жизни, обрывки разговоров, какие-то едва знакомые лица, чтобы он тотчас разобрался во всем. А зачем? В чем разбираться? Все так ясно: защита Родины — священный долг каждого... Войны справедливые и несправедливые, Как все просто! Разве ему напоминать об этом, если он сам с первых дней на фронте, коммунист... Ему, видевшему на родной земле страшные следы, оставляемые фашизмом, гибель своих товарищей и столько крови? Ему, разумом понимавшему цели войны и необходимость жертв от каждого?..
«Жертв? И меня в жертву?» — это уже спрашивала Иринка, смотревшая на него снизу вверх большущими, как бы ждавшими чуда глазами. Снег крупными хлопьями падал на ее белый пуховый берет, разгоряченное, потемневшее от морозного румянца лицо. В ее глазах — искорки звезд... Такой она всегда встает в памяти. Он облизнул холодные губы. Видение было такое ясное, что он даже ощутил вкус давних поцелуев и аромат ее волос... Как иногда бывает больно вспоминать. В сорок втором году Иринка случайно, или она об этом просила, попала на участок фронта, где был и Крутов. Только он находился на передовой, а она — в отдельном батальоне связи, радисткой. Встречи не состоялось: немцы перешли в наступление, потом окружение... Такой же чужой лес, голод, смердящие по ночам трупы... Немцы в деревнях и на дорогах, везде, где можно достать кусок хлеба... Крутов не блуждал бесцельно, а шел туда, где служила Иринка, чтобы узнать ее судьбу. И узнал... Разгромленные машины с рациями, тряпье, бумаги и фотографические карточки, втоптанные в землю, рассказали ему обо всем. Он даже нашел свое письмо к ней. И это было все... Потом, когда кошмар окружения остался позади, были запросы и стереотипные ответы: «Упомянутой вами части в списках не числится».
Хрустнула ветка под ногой часового, подошедшего разбудить своего сменного. Крутов повернулся, поплотней натянул на уши пилотку...
...Беспокойно стрекотала сорока. Крутов открыл глаза, долю секунды соображал, где находится, и резво вскочил на ноги. Крепкий сон вернул ему утраченную было бодрость. Солнце стояло уже высоко, от ночной сырости осталась только роса в тени. Боец, недавно сменившийся с поста, еще спал, а Мазур сидел невдалеке и старательно протирал автомат. На разостланной перед ним телогрейке поблескивала грудка золотистых патронов.
— Много спать — добра не видать!
— Куда мне его — добро? — отозвался Крутов. — Где остальные?
— Отошли оглядеться.
За несколько дней у Мазура отросла колючая и густая борода. Смуглый от природы, он теперь почернел еще сильнее. Невозмутимый, он никогда и ни с кем не ввязывался в споры и только иногда позволял себе короткую реплику. К войне солдат относился, как к суровому свершившемуся факту, разведку не любил и не скрывал своей неприязни к этому беспокойному занятию. В группу его назначили за необыкновенную силу, которая, считали, могла пригодиться. Крутову нравились его трезвые рассуждения и деловая сметка. В речах и поступках Мазур порою бывал грубоват, но никто не обижался, все понимали, что это у него от простоты душевной, а не от циничного взгляда на жизнь.
Подошли разведчики.
— Что видели хорошего?
— Здесь рядом высотка небольшая, оттуда все здорово видно, — сказал Григорьев — чернявый паренек с мечтательными карими глазами. Григорьев был еще человеком без биографии, поскольку в армию пришел совсем недавно, и если попал в разведку, так потому, что, окончив десятый класс, понимал немного по-немецки. Считали, что у него все впереди: будут вокруг хорошие люди, так и он хорошо проявит себя.
— Красота какая вокруг, товарищ командир, — с улыбкой, осветившей юношески свежее лицо, сказал Григорьев. Крутов, и сам неравнодушный к таким понятиям, как красота, на этот раз отнесся к сообщению солдата несколько иронически:
— Деревня где-нибудь горит или еще что?
— Не-е, какая деревня... Кругом лес, вблизи желтый, а где далеко — синий-пресиний, без конца и краю...
Мазур хлопнул себя по ляжкам:
— Дите! Да разве командиру это интересно?
— Дорога просматривается, которая с Бель-Карташевской идет, — ответил за Григорьева другой боец. — Мы наблюдали, но пока на ней — никого.
Крутов достал карту, и разведчики мигом сгрудились вокруг него.
— Пойдем на Стасьево, — сказал он. — Посмотрим, что там готовит немец. Времени у нас в обрез, поэтому будем идти и днем и ночью, где лесами, где проселками. Опасно, но ничего не поделаешь. А оттуда...
— Назад?
— Да. К своим!
— Скорей бы, — сказал Мазур. — Надоело по кустам мотаться. — Он подумал и, вздохнув, высказал то, что больше всего его занимало: — Как-то там дома без нас? Может, письма уже поприходили...
Задумчивые, величавые, поникнув ветвями под тяжестью раззолоченной листвы, стояли на пригорке березы. Среди пламеневших осинников островками поднимались заросли глухих темных ельников, выставивших в голубое небо острые пики верхушек. А вдали, насколько хватал глаз, раскинулось сырое урочище с редкими сосенками-недоростками. Там болота, мхи, топи. Они расстилались необъятные, сливаясь с небом в мареве сияющего осеннего дня.
«Левитановские места. — Крутов вздохнул: — Вот бы где побыть недельку-две с красками». Безмятежность. Но он не верит ей. За каждым кустом их может подстеречь здесь вражеская пуля. Он долго обшаривал лес глазами, но в окулярах бинокля — только желтая листва да мохнатые еловые лапы. Над небольшим просматриваемым участком дороги поднялось облачко пыли. Оно двигалось. Бойцы вглядывались и строили догадки.
— Жителей гонят, — сказал Крутов и опустил бинокль. — Среди взрослых — дети. Эх!..
Разведчики стали спускаться с пригорка. Всколыхнулась за ними потревоженная листва и замерла.
Глава третья
Реки образуются из слабых ручейков, снежные обвалы от сорвавшегося с кручи комка снега, большие дела от заботы о рядовом солдате. Сливаясь с заботами о других, они перерастают в крупные неотложные вопросы о снаряжении и продовольствии, боеприпасах и горючем, транспорте и дорогах, санитарном обслуживании и пополнении, о поддержании бодрого духа и веры в победу у всей этой массы людей, поставленных под ружье и вверенных Березину.
Как всегда, самая напряженная работа пришлась на ночное время. Березин лег спать поздно, и когда зазвонил будильник, им же самим поставленный на шесть часов, он долго не понимал, почему и откуда такой назойливый звон. Он рывком сбросил с себя одеяло и, стараясь не смотреть на примятую подушку, вышел в рабочую комнату.
— Доброе утро!
— Здравия желаю, товарищ генерал!
— Что нового? — спросил Березин у дежурного офицера.
Офицер был готов к этому вопросу и стал неторопливо докладывать обстановку в соединениях. Эта короткая информация, как и всякий другой шаг, была предусмотрена укладом военной жизни, и для нее существовала лаконичная, внешне безыскусственная, но точная и проверенная опытом форма.
— ...Противник активности не проявлял... — выслушав несколько стандартных примелькавшихся фраз, Березин схватил существо донесения. Остальное было неважно. Мысли его сразу переключились на другое, хотя он и продолжал слушать.
— Результаты разведки?
— Пленных взять не удалось, товарищ генерал, но у Дыбачевского группа разведчиков вернулась из-за линии фронта. Начальник разведки еще не мог сообщить подробностей.
Поблагодарив офицера, Березин взялся за телефон:
— Что у вас? — спросил он Дыбачевского. — А, это та самая группа, понимаю... Так вот, разведчика немедленно ко мне. Дайте ему свою машину.
— Будет исполнено, товарищ командующий.
— Группа явилась очень кстати, — одобрительно сказал Березин. — Как вы считаете, офицер толковый?
— В моей дивизии, — Дыбачевский сделал нажим на эти слова, — нет плохих офицеров, товарищ командующий!
— Ну-ну, надеюсь... Может быть, следует кое-кого представить к наградам?
— Я только что хотел просить вас об этом.
— Тогда займитесь этим вопросом.
— Слушаюсь!..
Оставив телефон, Березин не мог освободиться от размышлений о Дыбачевском. Он знал его уже давно и все-таки не сумел разобраться в его характере: «Честолюбив... Хлебом не корми, дай отличиться... Вроде решительный, волевой, ничего плохого не скажешь, а звон не тот... Не тот — определенно...»
— Балуй! — донесся до него с улицы сердитый окрик. Березин взглянул на часы: подходило время прогулки. Он оделся и вышел на крыльцо. Широкоплечий, подтянутый боец держал в поводу лошадей — свою и командующего, — взнузданных и оседланных. Вороной жеребец нетерпеливо бил копытом землю и, выгибая шею, косился злым фиолетовым глазом.
— Что, Барон, застоялся? — Березин взялся было за холку, но жеребец, оскалившись, метнул узкую змеиную голову по направлению к руке. Боец вовремя дернул его за повод:
— Балуй!
Березин рассмеялся. Ему нравились дикость и непокорность лошади. Это куда лучше, чем если бы она была ручной и ласковой. За эту борьбу с непокорным нравом животного Березин и любил верховую езду. Она всегда вселяла в него бодрость и радостное ощущение силы, так необходимые ему в его напряженной работе. Поэтому и держал при себе лошадей, хотя прямой нужды в них не было: для поездки в войска имелись машины.
Во время прогулки он опять вернулся к мысли о Дыбачевском. Пришли на память прежние с ним встречи, разговоры. Анализируя, думал:
«Напускной любезности много, а сам скрытный какой-то. Присмотреться надо».
Минута в минуту Березин вошел в столовую. По установившейся традиции завтракали все в одно время, но обедали и ужинали, когда кому позволяла служба.
Официантка Тоня, заставив поднос закусками, стала разносить их по столам. У нее были проворные, мягкие, излучавшие розовый свет, оголенные по локоть руки. Год назад она работала в столовой штаба танковой бригады, потом была переведена сюда, в штаб армии. Она была красива: высокая, с налитой крепкой грудью и тяжелым узлом светло-русых волос на затылке. Березину нравилась ее опрятность, цельность характера, красота молодости. Его внимание служило ей защитой от поклонников.
— А знаете, — обратился Березин к начальнику штаба, сидевшему по соседству, — у Дыбачевского вернулась сегодня та группа!
— Мне доложили, — кивнул Семенов, обгладывая баранью косточку. — Только неизвестно, с чем вернулась.
— Я вызвал его к себе, узнаем.
— Дыбачевскому повезло. Теперь начнет «бомбить» рапортами о награждении.
— Кое-кого не грех и наградить!
— Ну, он не дурак, действует по принципу: награждай больше подчиненных, не обойдут и тебя.
— Признаться, кое в чем я его не понимаю, — сказал Березин.
— Дайте ему дело! — вмешался командующий артиллерией. — Все неясное сразу проявится в действии. Уверяю вас!
— Придется подумать, — ответил Березин.
Крутов перешел линию фронта ночью, не потеряв ни одного человека. Редкая удача. При стабильной обороне разведчики не перебрались бы столь легко, но немцы отступали и мало заботились о прикрытии небольших разрывав в своих боевых порядках.
Дыбачевский очень обрадовался их появлению и немедленно вызвал Крутова к себе. Тут его и застал звонок Березина.
— Ну, вот что, — похлопав Крутова по плечу, сказал он, — поедешь в армию. Сам вызывает!
— Слушаюсь!
— Доложи, как положено. Самое трудное выполнил, на ерунде не оскандалься. Не то смотри у меня!.. — то ли в шутку, то ли всерьез пригрозил генерал.
Легковая машина, прыгая на ухабах, помчала Крутова в штаб армии. Утомленный, невыспавшийся, он сразу закрыл глаза и откинулся на сиденье. Одолевала дремота. Явь и сон путались в голове. Ворвалась беспокойная мысль: «Как держать себя с начальством? Не кто-нибудь — командующий!.. Вдруг он ждет чего-то такого, о чем я даже не подозреваю? Дыбачевский — командир дивизии — и то: «Смотри у меня!..» А тут генерал-лейтенант, — может быть, завтрашний командующий фронтом. Да и переодеться не успел — так и отправился в халате с мочалками, да и тот весь в дырах... Полазить неделю по трущобам, где каждый сучок просит клочок, — не шутка!»
Крутов по-настоящему разволновался, когда стал подниматься на крыльцо за адъютантам командующего. Как на грех оступился, и размокший сапог ощерился. Адьютант открыл дверь и пригласил: «Сюда!»
Шагнув за порог, Крутов лихо бросил руку к пилотке и — хоть поприветствовать по-человечески — прищелкнул каблуками:
— Старший лейтенант Крутов!
Однако ему сегодня не везло. Четкого щелчка не получилось: сапоги хлюпнулись, как лягушка в болото.
Березин, сидя за столом, разглядывал его с нескрываемым любопытством.
«Ну, сейчас скомандует «кругом марш», чтобы не появлялся в таком виде, — с тоской подумал Крутов, чувствуя, как жар из груди перекинулся в лицо, загорелись уши. — Смотрит. Ну что ж, пожалуйста...»
В юности Крутов был высоким и нескладным парнем, но за время службы в армии возмужал, плечи стали пошире. Черный чуб, как ни зачесывай, всегда непокорно сползал на лоб. Несмотря на возраст — двадцать пятый на исходе, — не было в лице выражения воли, суровости; чаще оно бывало задумчивым, добрым. Многих война ожесточила, ломала, но он оказался из прочного материала, живучим, как тальник под ветром — гнулся до земли, но всегда выпрямлялся. Как был, так и оставался человеком мягкосердечным, податливым на ласковое слово.
Березин смотрел, оценивал по-своему: флегматичный, нахрапистости мало, по глазам — не глуп...
— Вернулись благополучно?
— Так точно, товарищ генерал!
— Подходите, присаживайтесь!
У Крутова немного отлегло от сердца. К тому же Березин уткнулся в какую-то бумажку. Воспользовавшись этим, Крутов в свою очередь тоже стал рассматривать генерала. Успел заметить, что у него внимательные строгие глаза и лицо суровое, властное.
Не успел Крутов решить, хорошо это или плохо, а глаза схватили другую деталь: побрит, свеж, китель просторный, с полевыми погонами и подворотничок — белым шнурочком. «Порядок любит. Хорошо!.. Интересно, сам пришивает или нет? Едва ли, самому не успеть!»
— Ну, кажется, освоились, — сказал Березин, — Тогда побеседуем. Что вам представляется самым главным из того, что увидели и услышали в тылу?
Крутов подумал, ответил:
— Противник не собирается отступать дальше Стасьево.
Березин удивленно вскинул темные брови: «Ого, в суждениях-то ты смел!» — и спросил:
— Вы так думаете? Почему именно Стасьево, а не Лиозно является этим крайним пунктом? Как ни говорите, а Лиозно — крупный поселок, железнодорожная станция, позиция, удобная для обороны...
— На рубеже перед Лиозно им не удержаться: окопы мелкие, в иных местах по колено, и не сплошные. А в районе Стасьево укрепления строятся солидные, с проволокой, блиндажами, даже эскарпы есть. Это раз. Второе — население угоняют за рубеж — в Лучиновку. Третье — укрепления уже заняты их войсками. Людно там, вот что главное.
— Укажите на карте, где вы побывали.
— Разрешите на своей?
Крутов раскрыл планшетку и извлек оттуда изрядно потертую на сгибах карту. На ней он отмечал ежедневно маршрут группы, наносил все интересное, что видел своими глазами; то, о чем слышал, сопровождал пометкой «Н» — по данным населения.
Смелое заключение еще ни в чем не убедило Березина, но когда он внимательно просмотрел отметки на карте, маршрут группы, то признал вывод правильным. Небольшие отдельные факты, собранные Крутовым, подкрепили то, о чем Березин лишь смутно догадывался, и внесли ясность в общую обстановку.
«Придется приберегать силы для схватки за основной рубеж, зря не распыляться. А на Лиозно — дивизию, подкреплю ее артиллерией, гвардейскими минометами, чтобы одним ударом сразу... Иначе противник может осесть раньше времени, а укрепленный рубеж оставит про запас, тогда мороки хватишь... Главное, уже теперь можно ставить тылы на место. Это сразу облегчит всю работу. А из Лиозно вышибем, не дадим ему там передышки...»
Заложив руки за спину, командующий прошелся по комнате раз-другой. В голове складывалось решение, мелькали фамилии, лица командиров, возглавлявших самые различные соединения и части.
— Пригласите ко мне начальника штаба! — крикнул он в соседнюю комнату. Крутов вскочил, считая, что разговор с ним окончен, но Березин махнул рукой; — Сиди — понадобишься! — и усмехнулся: — Может, генералом станешь — пригодится.
Через несколько минут вошел генерал, острым взглядом окинул Крутова, — глаза такие, кажется, насквозь сверлят, — и подсел к столу напротив Березина.
— Товарищ Семенов, — сказал командующий, — надо уточнить наш план...
Вероятно, потому что присутствовал третий, хоть и свой офицер, но посторонний, Березин говорил намеками, не называя соединений, лишь изредка фамилию. Однако для Семенова неясности не было, он кивал головой, что-то записывал, иногда высказывал свои соображения, но о чем, Крутов — убей — не мог понять. Одно дошло до него: крепко сработались, если понимают друг друга с полуслова.
— Как подготовите приказ, сразу на подпись.
Беседа с Семеновым была самой длинной. После него пошли другие начальники — генералы, полковники. У каждого свое дело, свои вопросы. Здесь, впервые в жизни, довелось Крутову увидеть настоящий стиль напряженной точной работы. Ни одного лишнего слова, только о деле, без всяких «кажется», «значит» да «я думаю»... И привычка у всех стоящая: первым долгом докладывают, что сделано, а уж потом с вопросами. Что Березин прикажет — тотчас в блокнот для памяти. С чем бы ни обращались, ни одному он не сказал: «С этим завтра или потом...» Отказать — так сразу, разрешить — тут же, а то и по-своему переиначит, но обязательно решит. Все это быстро, спокойно, не повышая голоса, и — главное — уверенно, без всяких колебаний.
«Вот это я понимаю, умеет ценить время», — подумал Крутов и совсем по-иному взглянул на Березина. Теперь он уважал его не только как генерала, но и как мастера за красивую и точную работу.
«Эх, если бы все мы такими были. Может, и война по-другому обернулась. Не под Витебском, а где-нибудь на немецкой земле уже воевали бы». Однако чувствовал: так распоряжаться не каждому дано; нужно иметь богатую память, дело знать до мелочей, а главное — людей понимать...
— Товарищ разведчик! — Не заметил Крутов, как, задумавшись, облокотился на спинку стула, опустил голову на руку и задремал. — Товарищ разведчик, побеседуем!
Крутов вскочил, руки по швам. Неудобно, он один на один с Березиным в кабинете.
— Простите, товарищ генерал, еще не отдыхал...
— Ничего, подсаживайтесь поближе! — с этими словами он достал из стола коробку папирос, подвинул: — Курите! — и когда Крутов отрицательно мотнул головой, усмехнулся: — Долго проживете...
После первой затяжки он струей выпустил дым изо рта и, откинувшись на стуле, вздохнул с облегчением, будто скинул с плеч тяжелую ношу. На какое-то мгновение Крутов встретился с ним взглядом и в самой глубине его глаз увидел, что только усилием воли он заставляет себя быть бодрым, внимательным, а на самом деле — усталый, такой же, как и все, человек, только требовательный к себе до беспощадности.
На этот раз Березин интересовался всеми подробностями похода: что видели, о чем говорили, думали в эти дни? Крутов так и не решил, зачем это ему нужно. Может быть, хотел на полчасика отвлечься от своих забот. Когда вышло время, поблагодарил его Березин за службу и, окликнув адъютанта, приказал:
— Разведчика накормить и организовать ему машину до дивизии! — Раздумывая, постоял минуту, потом строго сказал: — Передайте нашему начальнику АХО, чтобы выдал ему все новое. Об исполнении немедленно доложить!
Всю обратную дорогу в дивизию Крутов переживал эту встречу. Простота в обращении, сила воли, ум Березина произвели на него сильное впечатление.
«Хотел курить и два часа терпел, пока не кончил дела, — думал он. — Строг что к другим, то и к себе».
Дыбачевский встретил его вопросом:
— Доложил?
— Все в порядке, товарищ генерал! — бодро ответил Крутов. — Благодарность, и вот — экипирован.
— С такой ерундой не следовало бы лезть к командующему, — нахмурил брови генерал. — Могли бы и мы в дивизии одеть...
— Что вы, я и не заикался. Сам!
— Тогда другое дело. Его воля... Не думай, хорошую службу и я ценить умею. Куда ты хотел бы?
— В свой полк, товарищ генерал!
Дыбачевский взял телефонную трубку и вызвал командира полка:
— Черняков! Здравствуй! Ну, как, нашел себе помначштаба? Нет? Так я пришлю, благодарить будешь. Кого? Потерпи, придет — доложит! — добродушно захохотав, он положил трубку.
В свой полк! Как хорошо вернуться в свой полк после долгой отлучки. Это можно сравнить только с возвращением под кровлю родительского дома. Жадным взором отыскиваешь прежние, с детства знакомые места и с грустью видишь печальный след времени.
Так и в свой полк. Пусть там, при возвращении домой, — годы отлучки, а здесь — месяцы, но жизнь на войне не идет, а бешено мчится, как горная река по каменьям, в брызгах и кипучей толчее волн. Ты, конечно, знаешь, что, пока лежал в госпитале, полк был в боях и, следовательно, потерял много славных людей. Сколько раз тоскливо сожмется сердце! И в то же время все рады твоему возвращению.
Крутову сказали, в какой деревне находится его часть, а как отыскать штаб — его ли учить? Бросая по сторонам жадные, полные любопытства взоры, он шел деревенской улицей, привычно кидая руку к пилотке при встречах. К проводу, подвешенному на шесты, присоединились другие и, свернув в сторону, целым пучком скрылись через чердачное окошечко под крышу дома. Там узел связи, значит, где-то рядом. Для командира полка всегда отводят маленький, но опрятный домик. Спрашивать не хотелось.
— Товарищ командир! — окликнули Крутова. Если бы он услышал этот голос и слова на шумной площади, так и то узнал бы только по произношению одного слова — «командыр».
— Товарищ командир, живы! — из-за калитки смотрел щуплый боец — казах, с проседью в черных волосах и морщинистым, но здорового цвета загорелым лицом. От сдерживаемой радости лучились щелки маленьких глаз и вздрагивали жиденькие, опущенные книзу усы.
— Бушанов?! — удивленно воскликнул Крутов. — Дорогой Бушаныч! — они крепко обнялись. — Как ты здесь очутился?
По пути к командиру полка Бушанов успел рассказать, что он прихворнул и его из роты перевели в штаб связным, что в роте осталось мало народу, но если командир пойдет опять на роту, то и он вернется к нему. У крыльца они остановились.
— Сегодня баню топим, приходите мыться, — сказал Бушанов.
— А парок будет?
— О, жаркий баня, джяксы баня! — заверил Бушанов и, прищелкнув языком, сладко зажмурился.
Трудно унять радость, валом накатываются тысячи вопросов. Но впрочем... Уставом определена форма обращения на все случаи, — будь ты безразличен к встрече, идешь ли на нее с неохотой или с пылким волнением. Все равно.
— Товарищ полковник, старший лейтенант Крутов прибыл в полк для прохождения дальнейшей службы!
Черняков с озабоченным лицом стоял у стола и перебирал стопку газет. Молча выслушав рапорт, он грузными шагами пересек горницу и с чувством, крепко потряс руку Крутову.
— Я вас уже давно жду. Разве ранение оказалось опасней, чем здесь предполагали? — Он с ласковой осторожностью потрогал плечо: — Болит?
— Кости целы, а мясо наросло!
— Почему же вас держали так долго?
— Так я же был в разведке! Разве вам не говорили?
— Вот как! — удивился Черняков. Обняв за плечи, он подвел Крутова к столу, будто мимоходом сдвинул лежавшие на карте газеты. — Интересно, где побывали, что видели?
Пришлось Крутову повторить все, что в свое время рассказывал генералам.
— Любопытная штука, товарищ полковник. Где-то в Восточной Пруссии наши люди кровавыми слезами плачут в имении барона Гольвитцера, а на фронте мы сражаемся с войсками генерала от инфантерии Гольвитцера. Оказывается, одно и то же лицо. Странное совпадение?
— Ничуть! Я даже не удивлюсь, если мы с ним в конце концов встретимся.
— Ради этого стоило бы пожить!
— Не просто пожить, но бороться, чтобы приблизить эту встречу. А мы еще так плохо, вразвалку воюем и дорого расплачиваемся за свою неорганизованность. Одной храбрости сейчас мало, нужно умение, и я ищу, думаю, как сделать, чтобы лучше получалось. Это о вас мне говорил генерал? Очень хорошо! Теперь как помначштаба вы должны мне помогать, Крутов. У вас молодые зоркие глаза, быстрый ум, чуткое сердце, склонность к анализу. А мне уже порой не хватает огонька и смелости, чтобы идти наперекор некоторым вредным, но установившимся взглядам...
Он в раздумье повертел поданное Крутовым направление и отложил бумажку в сторону.
— Значит, считайте себя на должности. Я распоряжусь насчет приказа.
— Спасибо. Плохо, что я не знаю, с чего начинать, а «перемирие» может кончиться...
— Как, перемирие? — полковник захохотал. — Нет, брат, это заслуженный отдых. Война — чертовски трудная работа, и порой надо давать людям денек-два, чтобы соскоблить грязь и безмятежно уснуть. Перемирие!..
Глава четвертая
— «Новая должность. А с чего начинать?» — задумавшись, Крутов медленно шел улицей.
Из переулка показался офицер. Прижимая к боку белый сверток, он куда-то бежал.
— Малышко!
— Крутов? Сколько лет, сколько зим!.. Где пропадал? Куда? — нимало не заботясь о том, успеет ли получить ответы, спрашивал офицер Крутова, подстраиваясь под его шаг.
— К вам назначили, в штаб...
— К нам? Кем? Тогда со мной, живо!
Не слушая возражений, он потащил Крутова за собой.
— Погоди, я еще обязанностей не узнал...
— Ерунда, узнаешь! Не боги горшки обжигают...
Старший лейтенант Малышко служил офицером разведки полка, и Крутов познакомился с ним давно, в бытность свою командиром роты. Маленький, верткий, он не знал уныния, и любой с ним разговор невольно сбивался на шутливые реплики. Не признавая внешней серьезности, он и к разведке относился со смешком, будто к легкому и пустяковому делу, и даже чуть-чуть бравировал этим. На круглом курносом лице всегда сияла улыбка, и задорный белый чубчик торчал из-под пилотки, сдвинутой на самый затылок. На измятых полевых погонах не хватало звездочек и виднелась темная полоса от ремня автомата. Поверх брюк были надеты широкие маскировочные штаны, заправленные в кирзовые сапоги.
Из оврага, к которому они шли, поднимался дым. Там, под широкими купами побуревших ив, у небольшой запруды топилась баня, какую нередко можно встретить по русским деревням от Смоленщины до Дальнего Востока, — неказистая, приземистая, с маленьким в одно стеклышко оконцем. Земляная крыша буйно заросла лебедой и полынью. В полуотворенную дверь тянул сизый дым, пошевеливая на бревнах густые хлопья давней сажи.
Возле баньки хлопотал Бушанов. Лицо его блестело от пота, глаза слезились: только что выбрасывал едко чадившие головни. Увидев офицеров, он затараторил:
— Ай, баня, джяксы! Мыться станешь — сало побежит!
С этими словами он схватил ведро воды и, размахнувшись, плеснул на очаг. От камней шибануло паром, пеплом, банным духом. Сбросив одежду у порога, офицеры, опасливо поеживаясь, юркнули в черную пасть баньки. На груде пышущих жаром булыжников стоял чан с горячей водой. Под ним еще курились угли. Баня топилась по-черному, поэтому все прокоптилось и потемнело.
Хороша деревенская банька! Поддав пару, Крутов забрался на полок повыше и стал работать веником, охая от нестерпимо жаркого, колеблемого при взмахах воздуха. Пот, смешиваясь с плавающим в воздухе пеплом, побежал по телу темными струйками. Эх, если бы в березовый, душистый веничек да догадались ввязать для запаху пучок полыни или какой другой травки! Но и так ничего, здорово!
— Сеня, будь другом, поддай еще!
— Смотри, расклеишься, тогда тебя и по чертежам, соберешь!
— Не горюй, чудак! Такое счастье раз в год бывает, неужто упускать!
— Тогда держись! — от ведра воды, выплеснутого на камни, пар и пепел взвились столбом, ударились в низкий потолок, настежь распахнули дверь. Малышко, притаившийся было на полу, стремглав вылетел за порог.
...«Перемирие» закончилось внезапно. Вечером прибежал связной:
— К полковнику! Вызывает!
Крутов пошел к Чернякову. За несколько часов облик избы изменился, в ней ничего не осталось «домашнего». В углу, возле порога, сидели телефонисты с аппаратами, а у приземистой русской печки попискивала рация. Радист, сосредоточенно уставясь на обшарканные кирпичи на припечке, работал ключом «на слух». Да и сам Черняков был уже не тот — в кителе, подтянутый, деловой. Он сидел спиной к окну, и скупой вечерний свет серебрил его седые виски. У стола, не облокачиваясь, сидел майор Еремеев в ватнике, с одутловатым и дряблым лицом. Глубокие морщины падали от крыльев широкого носа к унылым складкам в уголках рта. В армию он был взят из запаса, имел за плечами большой жизненный опыт и в полку командовал батальоном. Он не терпел смакования внешних признаков воинской дисциплины, но высоко ценил ее основное существо — подчинение твердому уставному порядку, сознательное отношение к выполнению своего долга.
— Если я дал задачу, — не раз говорил он, — я должен быть уверен, что она по силам человеку и будет хорошо выполнена. А как ее выполнить — дело другое. У каждого своя голова на плечах, пусть думает.
Казалось, он чувствовал себя распорядителем работ: каждого старался поставить с учетом прежней профессии, привычек, характера на такое место, где быстрее бы раскрывались его способности. Не всегда это удавалось сделать, но когда удавалось, — люди удивительно хорошо показывали себя. «Гражданка» проявлялась у него во всем и в первую очередь — в обращении. «Товарищи бойцы» были для него только в строю, а вне его — Петры Иванычи, Семенычи; провинившегося он не ставил «вертикально». чтобы лучше «снять стружку», а напирал на гражданскую сознательность, на совесть, что не мешало ему вгонять в пот какого-нибудь Тимофея Васильевича.
Сознавая, что военная служба для него вынужденное и временное занятие, он не стремился выслуживаться, обойти кого-нибудь, добиться каких-то особых преимуществ для себя.
— Все равно после войны мне в армии не быть, — говаривал он частенько.
Он добросовестно и заботливо относился к людям. Практическая сметка помогала расчетливо и по-хозяйски командовать батальоном. Черняков всегда был уверен, что кто-кто, а Еремеев не пошлет людей в бой не осмотревшись. Конечно, принято считать, что на войне храбрость и умение вовремя рискнуть — ценные качества командира, но только случай для проявления таких качеств выпадает очень редко, зато бережливость и осмотрительность требуются на каждом шагу.
Еремеев держал на коленях записную книжку с зажатым в ней карандашом и свернутую в гармошку карту.
Крутов доложил о своем приходе.
— Подходите ближе, — пригласил его Черняков. — Я вызвал вас по такому вопросу: дивизия Безуглова начала наступление на Лиозно. Мы должны сменить один из ее полков, чтобы она могла уплотнить свои боевые порядки. Этот полк ведет бой за Кулятино. Майор Еремеев ведет туда свой батальон, и вы пойдете с ним. К моему приходу уточните обстановку у соседей. Если понадобится, займитесь там кое-какими формальностями смены, но об этом скажет начальник штаба...
Становилось темно. Связисты зажгли лампу и поставили на стол. Черняков одобрительно кивнул головой, убавил фитиль — лампа стала коптить. Большие тени заколыхались по стенам. Скрипнув, распахнулась дверь, и в горницу вошел заместитель командира полка по политической части Кожевников — подполковник, человек лет сорока на вид.
— А-а, вот и комиссар, — сказал Черняков. — Генерал приказал в девять выступать.
Кожевников молча кивнул головой: «Хорошо», — и поздоровался с офицерами, задержав взгляд на Крутове.
— Будет помощником начальника штаба, — обронил Черняков. — Пойдет с Еремеевым.
Кожевников придвинул табуретку к столу и сел. Неторопливо снял пилотку, пригладил блестящие, как вороново крыло, волосы. Иронически снисходительная улыбка скользнула по лицу и затаилась в уголках губ.
Потомок забайкальских казаков, он унаследовал по материнской линии бесстрастный характер, лицо с бурятскими чертами — скуластое, с раскосыми глазами, а по отцовской — высокую, ладную, крепкую фигуру. Ремни полевого снаряжения охватывали его атлетические плечи. На гимнастерке поблескивали два ордена и золотистая ленточка — знак тяжелого ранения.
— У вас что-нибудь есть к офицерам? — спросил его Черняков. — У меня — все!
— Я бы попросил вас, товарищи офицеры, — сказал Кожевников, — чтобы вы довели до бойцов сегодняшнюю сводку Совинформбюро. Во-вторых, обратите их внимание на то, что мы первыми в дивизии вступаем в Белоруссию. На этой вот речушке, — он отыскал ее на карте и показал, — кончается Смоленская и начинается Витебская область. Расскажите, как ждет Белоруссия своих освободителей. Конечно, ночь не особенно благоприятная пора для партийной работы, но кто знает, будет ли для этого время днем...
... Батальон уже вытягивался из деревни, когда начальник штаба наконец отпустил Крутова. Осенние сумерки очень коротки, и едва солнце скрылось, как небо стало гаснуть и вскоре потемнело. Только над самым горизонтом пробивались зарева далеких пожаров. Тяжелой поступью, с шорохом, темной бесформенной массой ползла по дороге пехота. Крутов обогнал ротные колонны и пристроился к майору Еремееву, шедшему во главе батальона.
— Чертовски темная ночь, — пожаловался комбат. — Можно людей растерять!
— Не заснут — отдыхали...
— А я, брат, ждал тебя обратно на роту, — помолчав, сказал Еремеев. — Не везет мне на командиров. Назначил взводного — ранило, даже не успел к нему приглядеться. А теперь прислали из резерва, так себе — ни рыба ни мясо...
— Я хотел...
— Хотел, а не вернулся.
— Назначили, — ответил Крутов. — По мне, где ни служить, все равно на передовой...
— Э-э, не говори! В штабе не то что в роте. Как ни крути, а все подальше и на глазах у начальства. — Еремеев был настроен иронически, но Крутов не обратил на это внимания.
— Еще не знаю, как получится. Я легкой жизни не ищу...
Когда батальон подошел к месту назначения, начало светать. В сумерках вставали по сторонам силуэты кустов. На небольших пригорках догорали деревенские избы и сараи.
— Кулятино, что ли? — спросил Еремеев и полез в планшетку за картой.
— Оно самое. Белоруссия!
Чад плотной пеленой, будто одеялом, застилал низину. На пожарищах потрескивали головни, языки пламени лениво долизывали столбы и обрушившиеся стропила, смрадно дымилось слежалое сено, курился назем. На уцелевшей изгороди захлопал крыльями петух, дурным охрипшим голосом заорал «кукареку». Это было столь неожиданно и дико, что офицеры вздрогнули. Потом кто-то засмеялся и сказал:
— Куры целы, фриц торопился!
— Видать, припекло!..
Ни одна живая душа не встретила батальон, и Еремеев забеспокоился:
— Что-то я не вижу, кого мне здесь сменять.
— Ничего удивительного, наступают, ушли вперед. Поищем. А вот и Малышко идет, наверное, знает!
— В километре отсюда ведет бой за Мальково другая часть, а нужный нам полк должен быть левее, — сказал Малышко и махнул рукой в направлении Лиозно, откуда доносилась глухая частая стрельба. — Здесь я все обегал — нет. Придется там искать.
— Ну, бегать с батальоном я не буду, — возразил Еремеев.
— А я пойду. Надо присмотреть наблюдательный пункт, а то Черняков приедет — устроит мне «сабантуй»...
— Я с тобой! — решил Крутов.
— Найдете «соседа», сразу сообщайте, куда выходить, — попросил их Еремеев. — А я тем временем пощупаю, что тут впереди меня делается.
Крутов вслед за разведчиками поспешно спустился в низину. Под ногами чавкала грязь. На гати были следы людей и повозок.
— Наши прошли, — сказал Малышко и поднял с земли патрон от русской трехлинейки.
Повстречавшийся боец сообщил, что видел невдалеке командира дивизии генерала Безуглова с офицерами. На первой же возвышенности Крутов увидел бойцов, роющих окопы, и качающийся прут антенны. У рации с картой в руке сидел генерал, в кожанке с полевыми погонами и в фуражке с красным околышем. Суровое, словно наспех вылепленное лицо генерала было хмуро. Резкие складки лежали меж бровей и по сторонам упрямо сжатого рта. Крутов обратился к генералу.
— Где вы пропадали до сих пор? — загремел командир дивизии. — Мои дерутся уже у Лиозно, а я вынужден держать полк Томина в стороне, ожидая вас. Вы смотрите, вот мои уже где!
Постукивая пальцем по карте, он показал Крутову обстановку. Красные полукружья наступающих частей, стремясь охватить Лиозно, упирались в большак.
— Товарищ генерал, вас вызывают, — подал ему наушники радист.
— Что, ты уже на большаке? Перехватили? — зычным, как труба, голосом спрашивал кого-то генерал.
«Ну и голосище же у него», — с удивлением подумал Крутов и переглянулся с Малышко.
— Давай, давай, нажимай южнее! Я тебя сейчас подкреплю. Смелей действуй! Что тебе «сосед», плюнь на него! Твое дело — вперед! Понял? — приказывал генерал без обычных в разговоре по рации «Как поняли? Прием!» — Ну-ка, моего начальника артиллерии!
— Товарищ полковник, к генералу!
— Полковника к генералу! — с готовностью подхватило несколько голосов.
Неподалеку из щели вылез полковник и рысцой затрусил к «хозяину».
— Левый полк оседлал большак у Лиозно, жмет противника к железной дороге. Подбрось туда пару батарей на прямую. Пусть идут следом и чтоб с большака ни шагу! — приказал ему Безуглов. — Да стань ты по-человечески, не тянись! Скажи, что твои делают?
— Запрашиваю, — уклонился от ответа полковник.
— Значит, не знаешь. Иди! — досадливо махнул рукой Безуглов. Он не мог быть без движения и тут же ткнул под бок телефониста: — Ну-ка, Томина! — Едва взяв трубку, он сразу заговорил о деле: — Эй, Томин, это я! Как твои, не подвигаются? Что, с кем говоришь? А вот я сейчас приду, узнаешь сразу... Узнал? То-то! Ты почему не организовал встречу «соседа»? Приказывал?.. А кто за тебя проверять должен, я? Так накажи кого следует! А теперь слушай: посылаю к тебе «соседа», заканчивай побыстрей с ними «работу» и выходи на Боровню.
— Ему же надо на Городок, — подсказал генералу майор-оперативник, прислушивавшийся к разговору.
— Что ему делать в Городке? Из Боровни он двинет на Черноручье!
— Но это в чужой полосе. Смотрите!
— Что ты мне тычешь в нос эту бумажку? — отстранил карту генерал. — Раз я впереди, тут я царь и бог и мне не до антимоний. Всякие разграничительные линии для тех, кто сзади, чтоб не толпились... Понял? А я воюю, и если пошло на левом фланге, давай сюда все!
Офицер связи повел Крутова и Малышко в полк Томина.
— Эй, офицер! — закричал вдогонку генерал. — Будешь вести свой батальон, веди с умом. В Мальково и на двести один — противник!
— Благодарю вас, учту, — ответил Крутов.
— Ты что, уже генералам благодарности раздаешь? Есть, а не благодарю!
— Есть! — щелкнув каблуками, ответил Крутов. Ему понравился энергичный горластый командир дивизии. — Видно, не цацкается со своими? — спросил он офицера связи.
— Ого, дает жизни. Не заржавеешь!
— С чудаковатинкой генерал!
— Не без этого, — горячо заговорил офицер связи о своем генерале. — Бойцы любят его. А почему? Да потому, что на войне и так тяжело, иной раз хоть волком вой, а если еще начальство такое, что не пошутит, ни участливого слова не найдет, то и шевельнется порой думка: а считают ли меня за человека, или я только активный штык? Каждый хороший генерал должен быть с чудаковатинкой!
— Значит, умный генерал, хорошо знающий военное дело, но без чудачества — не является хорошим? — весело осведомился Крутов у своего спутника.
Офицер связи пожал плечами, обиженно покосился на улыбку Крутова и заговорил убежденно:
— Узкий специалист — не больше. Пусть работает в штабе. Если он не может или не хочет найти для нашего брата теплого словечка, когда нам трудно, так он не совсем и умный.
Крутов покачал головой. Впрочем, спорить было некогда: они подходили к расположению Томина.
Подполковник Томин — довольно моложавый на вид, с худощавым интеллигентным лицом и близоруко прищуренными глазами — встретил офицеров запросто, как давно знакомых.
— Заходите ко мне в щель, а то тут иногда постреливают, — пригласил он их.
В самом деле, кустарники, окружавшие наблюдательный пункт, иссеченные пулями и осколками, не представляли надежного укрытия.
— Видно, недалеко? — кивнул в сторону противника Крутов.
— Полюбопытствуйте, — предложил Томин, уступая им место у стереотрубы. — Близок, будь он неладен!
К тому времени, как офицеры вернулись в батальон, туда подъехал на лошади Черняков.
— Ведите, показывайте! — приказал он им.
Отдав поводья ординарцу, он пошел за ними на возвышенность. Вдали раскинулась деревня Мальково; к ее южной окраине примыкала березовая роща. Среди домов взметывались клубки дыма, и тяжелый гул, забивая клокотание пулеметов, докатывался до офицеров.
— Соседи воюют! — сказал Крутов. — Как раз перед самой рощей лежат.
Черняков поморщился и, резко обернувшись к Еремееву, упрекнул:
— Видите, что сменяемая часть ушла вперед, чего было сидеть и ждать? Надо было идти следом, искать!
Еремеев пожал плечами.
— Как теперь туда поведете батальон? — продолжал Черняков. — Место совершенно открытое... Не представляю...
Справа, развернувшись цепью, вышло стрелковое подразделение.
— Чьи это? — спросил Черняков.
— Нашей дивизии — Коротухина!
Из-за Мальково донесся отдаленный грохот батарей, воздух засвистел, застонал, и вблизи цепи выросли черные султаны разрывов. Бойцы залегли, а потом стали бегом возвращаться в рощу.
При одной мысли попасть под такой огонь Крутов поежился и зябко повел плечами. Еремееву тоже было не по себе.
— Выводите! — сердито приказал Черняков и, хотя офицеры ни словом не возразили, повторил гневно: — Выводите! Не могу же я отменить наступление, если оно уже началось. Не вправе! Вы это понимаете?
— Вот дела, Павел Иванович! — тяжело вздохнул Еремеев, когда остался наедине с Крутовым. — Ну куда тут сунешься с батальоном, когда ни кусточка, ни ровочка. Все как на ладони, а приказ... Мы привыкли: устал — жалко, ногу натер — жалко, а когда по башке осколком стукнет, тогда как?
...Вскоре из Кулятино, в обход открытого поля, болотом пошла цепочка людей. Заговорила вражеская батарея. Было страшно за идущих, когда снаряды взметывали фонтаны грязи поблизости от них. Но движение продолжалось.
Передние уже исчезли в кустарниках по другую сторону болота, когда в Кулятино появилось несколько всадников. Впереди, на вороном коне, ехал Дыбачевский. Он сидел в седле ловко, как влитый, приосанившись, и беспокоил жеребца шпорой. Тот горячился, по-лебединому выгибал шею и часто перебирал тонкими ногами в забрызганных грязью белых «чулках».
— Вот не вовремя поднесло, — тоскливо сказал Еремеев. Он одернул телогрейку, выбившуюся из-под ремня, и пошел докладывать.
— Что за крестный ход в Курской губернии? — иронически воскликнул Дыбачевский.
— Вывожу батальон на исходное! — громко отрапортовал Еремеев.
Уставив руки в бока и чуть откинувшись в седле, Дыбачевский расхохотался:
— Ох, этот Черняков! Ручаюсь, что завтра получу докладную о новых боевых порядках!
Вторя генералу, расхохотались и его спутники. Особенно заразительно залился смехом краснощекий подполковник, сидевший на резвой каурой лошадке. Крутов неприязненно взглянул на него: «Гогочет, ровно гусь на проталине, а чего?»
— Коротухин, а где твои? — обернулся генерал к подполковнику. Тот сразу, будто поперхнулся смехом, умолк и, выдвинувшись чуть вперед, бойко ответил:
— Наступают! Только что доложили.
— Веди, посмотрим, — распорядился генерал и, не взглянув больше на Еремеева, все еще стоявшего вытянувшись, спрыгнул с лошади.
К полудню все подразделения сменяемого полка вышли из боя, и Томин зашел проститься к Чернякову.
— Счастливо вам воевать! — сказал он. — Наши уже в Лиозно, очистили половину города. Вы тут не засиживайтесь, нажимайте, тогда и там веселей пойдет.
— Сейчас подойдет еще один мой батальон и я атакую, — заверил его Черняков.
Однако Дыбачевский не дал согласия на атаку.
— Пусть подтянется все хозяйство Коротухина, тогда ударим одновременно!
— Но противник вот-вот отойдет!
— Никуда он не денется, — самоуверенно сказал генерал. — Жди, когда прикажу!
Над Лиозно поднялись в небо темные столбы дыма, взметнулись языки пламени. Донеслись протяжный скрип, вой, а потом и тяжкие бомбовые удары реактивных метательных снарядов «М-40».
— У Безуглова, — прислушавшись, сказал Крутов. — По нему бьют...
— Товарищ полковник! — закричал наблюдатель.— Противник отходит!
Черняков проворно подскочил к стереотрубе, глянул и, крикнув: «Хозяина!», — схватился за телефонную трубку.
— У меня отходят!
Дыбачевский долго молчал, наконец произнес:
— Начинай!
Стрелковые роты, преследуя отступающего противника, вскоре скрылись из поля зрения, и Черняков свернул свой командный пункт. Полк выходил на одну линию с наступающей дивизией Безуглова. На большаке Лиозно — Сураж Черняков остановился, чтобы информировать генерала.
— Одиннадцатого! — приказал он радисту.
Дыбачевский был недоволен:
— Чего же ты копаешься? На словах закоперщик, а как до дела, так пусть другие впереди? Ведь Коротухин уже давно на большаке сидит. Давно сидит... Сейчас докладывал. Как поняли? Прием!..
— Понял вас, понял... Не знаю, когда он успел, ему было дальше, чем мне. Прием!..
— Я тоже не знаю, — насмешливо сказал Дыбачевский. — Вероятно, кроме желания бить врага, надо еще уметь это делать. Уметь... Поняли?
Черняков был озадачен и расстроен. Разговор по радио слушает вся дивизия, чтобы быть в «курсе». Это в порядке вещей.
Сумрачный, он отошел от рации, и то, что увидел, поразило его, как громом. У обочины дороги среди кустов лежали чьи-то разведчики. Над рацией у них еще торчал прут антенны.
— Откуда? — все еще не веря себе, спросил Черняков. Офицер встал и, застегивая планшетку с картой, доложил:
— Пешая разведка Коротухина!
— Возмутительно! — Черняков крутнулся на каблуках и побежал к своему радисту.
— Товарищ одиннадцатый! — закричал он, когда генерал отозвался. — Вас нагло обманывают. Рядом со мной пять «мальчиков» Коротухина влезли в чужую полосу, а докладывают вам, что на большаке все «хозяйство». Как это назвать? Прием! — Черняков тяжело дышал.
— Понял вас хорошо. Мне, кто бы ни вышел, все равно, — ответил генерал. — Разберитесь сами. Не теряйте из виду противника...
Черняков долго не мог успокоиться, крупными шагами мерил обочину дороги взад-вперед. Он был не на шутку обижен: его люди были сегодня первыми, а Коротухин обманом забрал у них эту заслугу.
Глава пятая
Противнику удалось удержаться перед Витебском на рубеже реки Ольша Армия Березина, прошедшая с боями около трехсот километров и уже потерявшая значительную часть людского состава, попыталась сбить его с этого рубежа, но не смогла и тоже перешла к обороне. Следовало подтянуть тылы армии, привести в порядок дороги — пути подвоза боеприпасов и снаряжения. Отступающий враг сжег за собой все, не оставил ни одного целого здания, моста, вагона; даже рельсы и те были перебиты на стыках, а шпалы переломаны путеразрушителями и годились лишь на дрова. Зона разрушения простиралась на сотни километров.
Когда наступление прекратилось, оказалось, что дел непочатый край, и тем, кто находится в тылу, и тем, кто стоял на линии огня. Работали все, начиная от рядового бойца, что день сидел в холодном сыром окопе, а ночью поднимался строить блиндаж, до генерала, которого видели то в одном, то в другом полку.
Вечером, возвратясь на командный пункт, Крутов увидел врытые в откос оврага новые блиндажи вместо нор, накрытых плащ-палатками. Землю устилала свежая щепа, воздух был напоен ароматом смолы, сочившейся из еловых ошкуренных бревен. Кое-где уже топились печки и дым широкими голубоватыми полосами тянулся кверху.
Перед блиндажами лежало кучами имущество, не внесенное еще в новое жилье. Тут были вещевые мешки, ящики с бумагами, котелки, закопченные на кострах за время наступления, шинели, скинутые с плеч во время работы, и невесть откуда появившийся хлам, что в наступлении только мешает, а в обороне является необходимостью, — вроде железной заржавевшей печки или безногой скамейки, которым предстояло еще послужить.
Крутов растерянно остановился среди этой строительной неразберихи.
— Товарищ командир, сюда!
В дверях крайнего блиндажа, улыбаясь, стоял Бушанов и махал ему рукой. «Значит, есть где отдохнуть!»
В блиндаже, вдоль стен, были устроены нары из тонких осиновых жердочек. В правом углу, у входа, стояла на высоких ножках железная печурка, с зарумянившимся от жары боком. Дрова в ней весело гудели и потрескивали, от земли поднимался пар и мелким бисером оседал на единственном оконце.
Но отдохнуть не удалось. С бумагами под мышкой появился писарь штаба — сержант Зайков, подтянутый, стройный. «Есть же на свете счастливцы, которых любая одежда красит, — подумал Крутов, приглядываясь, как плотно облегает фигуру сержанта стираная-перестираная гимнастерка, еще досыхающая на плечах. — Успел уже и подворотничок пришить. Аккуратист!»
— Товарищ старший лейтенант, — обратился Зайков, — уточните схему боевых порядков, а то ее уже пора отправлять.
— Показывай, — предложил Крутов, зажигая на столе залитую стеарином круглую картонную плошку с плоским фитильком. — Что тебе неясно?
Схема была испещрена черными квадратиками, зубчиками, треугольниками, означающими построенные блиндажи, окопы, наблюдательные пункты. Красные, плавно изгибающиеся скобки указывали положение рот и взводов в обороне. Все правильно. Не хватало только боевого охранения, выдвинутого на днях к деревне Конашково.
Это охранение было самым опасным и ненадежным участком обороны полка. Путь к нему пролегал вначале по скату высоты, а затем — по глубокому болоту. На кромке сухой земли, у самой вражеской проволоки и зацепился взвод стрелков. От своих он был отрезан открытым, простреливаемым пространством. Только ночью, когда плотная темнота или туман опускались на землю, к боевому охранению, крадучись, шли связные, бойцы с термосами, неся товарищам запоздалый, охолодавший обед. В светлое время пройти туда было невозможно.
За взводом, поддерживая его огнем, день и ночь следили артиллеристы и минометчики. Некоторая часть излишне осторожных командиров порой не докладывала своим начальникам о сомнительных участках, потому что всякое оставление позиций расценивалось как ЧП и сулило всяческие неприятности. Крутов видел в этом лишь проявление шаблонного, чиновничьего подхода к приказу Главнокомандующего, так как считал, что нет такой позиции в первой линии обороны, которую нельзя было бы захватить, пусть временно, внезапным ударом. Так стоит ли страховать себя от неожиданностей, нарушая правдивость информации? О таком ненадежном участке обороны в полку и шла теперь речь.
— Охранение показывать?
— А как же...
Крутов почему-то был уверен, что Черняков не станет умалчивать об охранении, как бы ненадежно оно ни было. По чьему приказу и для какой цели было выдвинуто охранение в таком опасном и неудобном месте, сам он пока не знал, но надеялся, что со временем все объяснится.
— Блиндажи там есть? — спросил Зайков, уже успевший вывести красную дужку охранения и нацеливавшийся нарисовать квадратик.
— Нет, нет, не надо, — торопливо убрал от него схему Крутов. — Там еще ничего нет, кроме окопа!
Захлопнув папку с документами, он собрался нести их на подпись начальнику штаба. Зайков мялся и не уходил.
— Ну, говори, чего хочешь?
— Товарищ старший лейтенант, я хотел...
— Что, опять надумал в артиллерию переходить?
— Нет, не переходить, а временно... Пострелять — и назад!
— У нас сейчас работы много, — нерешительно проговорил Крутов — В другое время я бы не возражал...
— Мне всего на полдня, а если что надо, так я и ночью успею сделать, — заверил Зайков.
...Появился сержант Зайков в полку летом сорок второго года. Разведчики ходили за линию фронта и вывели оттуда большую группу бойцов и офицеров, искавших выхода из окружения, в которое они попали в районе города Белого. В числе этих людей был и Зайков. Молодой, неокрепший, только недавно надевший шинель, он выглядел таким истощенным и измученным, что Черняков сразу проникся к нему участием и решил, что парню надо прежде окрепнуть, а уж тогда и на передовую.
С неделю Зайков отлеживался в санитарной роте, а потом пришел к полковнику.
— Я артиллерист, — заявил он. — Прошу направить меня по назначению!
Однако Черняков, успевший навести о нем необходимые справки, имел другие виды. В полку не хватало толкового писаря, который знал бы топографию и мог бы работать с картами и оперативными документами. И вообще не в интересах полка было отправлять на сборный пункт артиллериста — бойца топовычислительного взвода, когда в любое время такой человек мог потребоваться в свою полковую батарею.
Так и остался Зайков при штабе. С тех пор он окреп, возмужал, набрался сил. Живой, любознательный, он все схватывал с полуслова и быстро вошел в курс штабной работы. Но страстью, которая в нем никогда не остывала, оставалась артиллерия.
Получив разрешение, Зайков побежал в свой блиндаж, а Крутов подался к начальнику штаба. Однако у того сидели представители дивизии, и боевое донесение на подпись к командиру полка пришлось нести самому.
Блиндаж командира полка саперы отделали с особым «шиком», выложили стенки из колотых и отесанных лесин, а не из кругляка, бревна на потолке ошкурили, настлали пол.
Крутов подал командиру полка на просмотр схему и донесение.
— Я сообщаю о боевом охранении, — доложил он.
— Правильно, — кивнул Черняков, рассматривая схему. — Надо вам туда наведаться!
— Слушаюсь!
— Только когда пойдете, не заходите к комбату, а прямо туда. Я бы хотел, чтобы на ваше мнение никто не повлиял. Мне это важно.
— Но я не знаю, ради какой цели выдвинуто это охранение? Наверное, не для активной обороны?
— А если и так? — глаза Чернякова блеснули, и весь он подался вперед.
— Разрешите быть откровенным, товарищ полковник. Я бы сказал, что держать там людей бессмысленно. Мы сегодня за этим охранением часа два наблюдали, — тихо продолжал Крутов. — Инициатива огня у противника, он контролирует каждое движение наших бойцов, и смешно думать, что, находясь в таком невыгодном положении, два ручных пулемета могут соревноваться с десятками немецких. Я просто не могу этому поверить. Видимо, все дело в том, что мне не полагается знать истинных мотивов, побудивших вас выдвинуть это охранение. Сумею ли я поэтому обратить внимание именно на то, что вас интересует?
— Слушай же, Крутов, — живо отозвался Черняков, — очень хорошо, что ты говоришь мне об этом прямо, но посмотри вот сюда! — Он достал и развернул карту: — Видишь?
От Витебска, словно от камня, брошенного в стоячую воду, в сторону фронта концентрическими кругами расходились пояса укреплений. Отдельные рубежи соединялись между собой отсечными позициями, проложенными севернее и южнее большака Лиозно — Витебск.
Через Белоруссию шли кратчайшие дороги на Москву. Но те же дороги оказывались кратчайшими путями и для наших войск в Восточной Пруссии. Вот почему гитлеровское командование создало на территории Белоруссии мощную группировку из отборных гитлеровских дивизий, численностью до миллиона солдат и офицеров.
На территории белорусского выступа (к северу и югу от него к этому времени Советская Армия прошла далеко на запад) гитлеровцы создали три мощные оборонительные полосы. Первая — наиболее развитая — опиралась на города Витебск, Оршу, Могилев, Рогачев, Жлобин. Густая сеть полевых инженерных сооружений в сочетании с городскими каменными постройками и радиально расходящимися дорогами, по которым противник мог быстро перебрасывать свои резервы в любой сектор обороны, превращала эти города в своеобразные крепости-бастионы. Один из участков этой оборонительной полосы фашисты окрестили «Медвежьим валом».
На карте, развернутой Черняковым, были нанесены оборонительные рубежи перед Витебском. Карта только что получена из разведывательного отдела армии. Это копия с документа, захваченного у врага, дополненная данными авиаразведки, а может, и теми крупицами сведений, которые собрал Крутов.
Чем больше старший лейтенант всматривался в кольца рубежей, тем ясней ему становилось, что за преграду создали гитлеровцы.
— Стена, — выдохнул он.
Кожевников, молча листавший газету, сказал:
— Ничего не поделаешь, будем перешагивать! Никто за нас этого не сделает, и ждать не приходится; надо подтачивать, чтобы потом, когда нажмем посильнее, — рухнула сразу...
— Видишь? — повторил Черняков. — Говорят, где тонко, там и рвется, а тут везде крепко... Но, ничего... Вы правы, вслепую действовать нельзя. Будете в охранении, поинтересуйтесь людьми, не упали ли они духом, как они себя чувствуют, чем необходимо им помочь в первую очередь. В общем, осмотрите все по-хозяйски. Как говорится: «Свой глаз алмаз...» Заметьте, какова глубина окопов, можно ли там укрыть роту нашего состава и как ее подвести к охранению. Нам предложено провести разведку боем, и я думаю, что охранение подойдет для этой цели. Теперь вы знаете мотивы и, я полагаю, увидите все, что нужно. Опыт у вас есть. Ясно?
— Ясно, товарищ полковник! — Крутов помедлил с уходом и сказал: — Я отпустил Зайкова на батарею.
— Разве я возражаю, если это для пользы, — ответил Черняков. — Кстати, — обернулся он к Кожевникову, — вы собирались завтра на наблюдательный пункт. Проверьте, как он будет стрелять.
— Можно, — согласился Кожевников. — Я говорил с Зайковым, он хотя и молод, но деловит и с огоньком. Было бы лучше представить ему месяц стажировки в батарее, а не отпускать туда от случая к случаю. Если он во время этой практики покажет, что умеет работать с людьми, следует аттестовать его на офицера. Все мы были молодыми, нам помогали, должны помогать и мы...
Крутов собрал свои бумаги и спросил:
— В охранении побывать сегодня?
— Чем раньше, тем лучше!
Крутов попрощался и медленно побрел к своему блиндажу. «Подтачивать»... — Крутов тряхнул головой, поморщился. Что-то претило ему в этом слове, какая-то ошибка. «Ладно, — махнул он рукой, — поживем — разберемся!»
До выхода в боевое охранение Крутов успел немного отдохнуть. Проснулся сам. Будто кто-то его толкнул. Он встал, потянулся, сделал несколько энергичных взмахов.
У стола, подперев голову рукой, сидел оперативный дежурный. Большая черная тень колыхалась на стене, усиливаясь, когда коптилка вдруг вспыхивала более ярким пламенем.
— Чего ты так рано? — спросил дежурный.
— Надо сходить в батальон.
— В такую рань... Бр-р!
Ночь. Темень. Холодные звезды щедро рассыпаны по небесному пологу. Со стороны болота тянет сыростью и прохладой. Фыркают у коновязи лошади. На переднем крае лениво переговариваются пулеметы; всполохи ракет сонно приподнимают трепетные светлые крылья. Повар комендантского взвода растапливал походную кухню.
«Два часа», — подумал Крутов и прибавил шагу. До переднего края дорога была знакома. В траншеях народу находилось маловато, и он долго шел, никого не встречая.
Вдруг перед ним выросла темная фигура бойца. Тихо, но внушительно приказали. «Стой! Пропуск».
Крутов вздрогнул от неожиданности, но ответил.
— Вам куда надо, товарищ старший лейтенант, к комбату?
— Как ты меня узнал? В такой-то темноте?
— Узнал... Я вас еще издали услышал, а когда подходили, так и без пропуска вижу, что свой офицер. Не так давно вы к нам с комбатом заглядывали. Росток у вас приметный...
— Рискованно подпускаете, — заметил Крутов.
Боец, снова заняв свой пост у накрытого плащ-палаткой пулемета, пожал плечами:
— Почему? Наоборот. Если бы вместо вас, к примеру, немец, — а я его за двадцать метров окликнул, что он сделал бы? Либо улизнул в темноте, если он тут по случайности, или под меня гранату подбросил. Ну, а когда мы вплотную и я его вижу первый, тут уж мой верх. Война кое-чему научила...
— Да у вас целая философия на этот счет! — воскликнул Крутов. — Не хватает только учеников.
— Есть и ученики. В нише сын лежит, отдыхает. Тоже пулеметчик. Семейный расчет Кудри. Может, слышали? Специально в военкомат просьбу из батальона писали, чтобы в один расчет. Так вы не к комбату?
— Нет, в охранение...
— Тогда вам налево. Не задерживайтесь только, а то рассветает — не пройдете. Вот уж там рисковое место, действительно...
— Как-нибудь. Счастливо!
Крутов зашел к командиру роты за связным. Каково было его удивление, когда он увидел в дверях бывшего разведчика Мазура. Только он был теперь не в халате, а в короткой, с чужого плеча, шинелишке. Мазур осклабился:
— К нам, товарищ командир?
— Э, да вы уже знакомы, — удивился командир роты, но на всякий случай предупредил Мазура: — Будешь вести офицера в охранение — береги. С тебя спрошу, в случае чего...
— Чего там... знаю!
Мазур вел уверенно, видно, ходил в охранение не раз. Траншея становилась мельче, мельче и совсем окончилась. Пришлось идти верхом по какому-то огороду. Крутов ухватил рукой кустик — оказался горох.
— Не собьешься? — спросил он, разжевывая твердые, потерявшие сочность горошины.
— Бывал не раз, — неторопливо ответил Мазур. — Ногами дорогу чую. Сейчас ложок будет, а там — по болоту. Как водой пойдем, так вы дюже не хлюпайте, а то раз услыхал, с полчаса заставил лежать. До нитки вымокли...
Сырой до весомости воздух обозначил начало болота. Зачавкала под ногами грязь, потом забулькало. Ногу потянуло в какое-то топкое место; холодная вода хлынула через верх голенища.
— Ух, черт!..
— Глыбко тут, — отозвался Мазур.
Ноги сразу стали тяжелые, словно к ним привязали гири, зато ступать можно было куда придется, все равно сапоги полны воды.
Мазур замедлил шаг и, идя вровень с Крутовым, зашептал:
— Сейчас дойдем, только бы не заслышали. Где-то здесь канавка, по ней прямо под проволоку — и в окоп... Скажи ты, как темно, прямо хоть глаз коли...
Вблизи раздался хлопок выстрела, и, оставляя искристый след, взвилась ракета. Сразу стали видны окопы на бугре, а за ними полуразрушенный длинный колхозный сарай с пожухлой и такой же серой, как стены, крышей, пробитой во многих местах минами.
«Какой он большой! Совсем не такой, как с эн-пэ казалось», — непроизвольно отметил про себя Крутов, припадая к самой воде и стараясь слиться с редкими осоковыми кочками.
— Бегом! — ухватил его за рукав Мазур и, не отпуская, повлек за собой куда-то вперед, туда, откуда взлетела ракета.
Навстречу им ударил пулемет, причем стреляли так близко, что видно было, как билось пламя на конце ствола. Пули, взвизгивая и хлестко щелкая, буровили болотную жижу. Задыхаясь от волнения, спотыкаясь, Крутов бежал навстречу выстрелам, чтобы укрыться в окопе.
— Прыгай сюда! — послышался чей-то голос. При свете новой ракеты он увидел, как между березовыми кольями, густо опутанными колючей проволокой, приподнялся человек.
— Крепко он взял вас в оборот, — сиплым голосом пробасил он, пригибая Крутова к земле, чтобы не зацепился за проволоку. — Да пригнись же, что, у тебя голова лишняя?
Остервенело застрочили немецкие пулеметы. Охранение молчало, будто вымершее. Крутов немного отдышался и, когда стрельба затихла, спросил:
— Где тут ваше начальство находится?
— А пойдете по окопчику — не минете. Только головы над бровкой не высовывайте, а то срежет. У нас тут это запросто...
— Ладно, не каркай! — оборвал его Мазур. — Стреляные, сами понимаем, что к чему...
Командир взвода полулежал на пустых патронных ящиках в нише, вырытой в стенке траншеи. Его протянутые ноги упирались в противоположную стену, загораживая проход.
— Кто там ко мне? — спросил он охриплым простуженным голосом, приподнимаясь со своего места. — Лейтенант Заболотный!..
— Из штаба. Крутов!
— А-а, товарищ старший лейтенант! — крепко пожимая Крутову руку, сказал Заболотный. — Пришли навестить свою многострадальную роту. А я вас сразу не признал было. Рад, честное слово!
— Так и живете? — указал Крутов на нору, в которой сидел лейтенант.
Заболотный махнул рукой:
— Погано живем, обсушиться негде. От грязи да сырости болеть начали, а тут еще он пристрелялся, из миномета гвоздить начал. Сидишь день и ночь, скорчившись, да ждешь, когда по башке хлопнет. Связь протянули, а «нитки» в воде и слышимости нет. Даже обидно, ни с кем не переговоришь. Совсем отрезанный ломоть. Да чего там толковать, идемте, сами все увидите!
— Идем, Заболотный в болоте! — пошутил Крутов, хотя ему с первого шага очень не понравилось это охранение. Прежде всего — никудышный подход. На таком подходе из-за чистой случайности могут положить всю роту раньше, чем она доберется до исходного положения. Сам окоп тоже не представляет надежного укрытия — мелок, обваливается, бруствера почти нет, ни пяди сухого места. Вдобавок немцы, сидящие значительно выше, наверняка днем просматривают большую часть окопа. Введи сюда роту ночью — днем ее обнаружат, что тогда? Нет, тут надо прежде подумать!
Заболотный шел согнувшись, вплотную прижимаясь к борту окопа. Каской он скребнул о нависшую колючую проволоку, и тотчас резанула пулеметная очередь. Крутов вздрогнул, и сердце, помимо воли, тревожно замерло. Уж очень близко стреляли!
— Проклятый!.. Днем пулемет готовит к ночной стрельбе, — сказал лейтенант и, обождав немного, снова двинулся дальше, еще теснее прижимаясь к стенке. Крутов следовал его примеру.
Возле поворота свисала чья-то шинель. Видно было, что ее хозяин лежит сверху, за бруствером.
— Вчера днем... И опытный боец был, а забылся, приподнялся и... наповал! Снайпер у них завелся, что ли, — объяснил лейтенант.
Окоп был извилистый и почти весь находился под проволочным заграждением противника. Бойцы укрывались в нишах и просто в траншее, там, где удалось перебросить через нее три-четыре чурки для защиты. Наблюдатели сидели в открытых ячейках, выдвинутых вперед. Ночью никто не спал. Крутову стало ясно — выводить сюда роту нельзя.
«Ну, хорошо, сюда нельзя, а куда можно? Выходит, что боевое охранение держать здесь незачем?»
— Не слышно, долго еще думают нас здесь мариновать? — спросил Заболотный. — Не собираются отвести?
— Об этом не может быть и речи. Уже в дивизию сообщили, что держим...
— Тогда нечего долго раздумывать...
— Ты о чем?
— Мы тут одно дело задумали, — заговорил Заболотный. — Я все ждал, что нас отсюда уберут, а раз сидеть, так лучше наверху, чем здесь, в грязи. Посуди сам. Удастся — всему полку выгодно.
И Заболотный развил свой план. Днем, когда почти все гитлеровцы спят, можно внезапно вскочить в их траншею и, перебив их, оседлать высоту. Это кажется невероятным, но немцы этого не ждут, и потому должно выйти. Там, на высоте, имеются глубокие окопы, крепкие блиндажи, оттуда вьется порой заманчивый дымок, там можно обсушиться, согреться. Только бы удалось захватить, а уж держали бы, как в Сталинграде. Главное, до ночи продержаться, а там подошло бы подкрепление... План был смел и сулил полный успех.
— Думаю, что полковник согласится на такое дело, — сказал Крутов. — Это как раз то, что он собирается делать.
Но Заболотного такая поддержка почему-то не обрадовала.
— Начинать надо сегодня, — решительно сказал он. — Сегодня! Упускать момент нельзя. Завтра ночью они могут заминировать бруствер или еще какую пакость придумать... Людей зря погубишь!
Крутову стало не по себе: лейтенант был прав, но как решить этот вопрос без ведома командира полка? Получить ответ удастся не раньше завтрашней ночи, а вдруг тогда возможность, такая великолепная, ускользнет? И так и эдак плохо! Придешь к Чернякову докладывать, а он скажет: «Эх, ты! Я на тебя надеялся, как на офицера, а ты... На такое простое дело не решился самостоятельно, струсил, что ли?»
Легче тогда сквозь землю провалиться. В конце концов офицер не только вправе, но и обязан принимать самостоятельные решения.
— Вот что, — сказал Крутов лейтенанту. — Разрешить тебе действовать я не имею права, на то у тебя есть свое начальство. Но если ты решил — действуй. По-моему, должно получиться. Поэтому давай лапу и... контакт, как говорят летчики...
— Есть контакт! — радостно ответил Заболотный. — Да, а ты-то как, останешься или уйдешь?
— Я в этой роте больше твоего служил, неужто брошу своих людей! Командиру полка записку отправлю.
Крутов кратко изложил план действий и просил Чернякова о поддержке взвода огнем и людьми, как только это станет возможным. Он не спрашивал у него ни совета, ни разрешения, так как сам понимал, что ставит его перед свершившимся фактом. Как только рассветет, никакой связной сюда больше не доберется.
Мазур уже беспокоился: удастся ли выйти из охранения незамеченным, и поэтому сунул побыстрей записку в карман гимнастерки и спросил:
— Вертаться?
— Да, браток, двигай. Поклон там нашим!
— Счастливо вам, товарищ командир! — Мазур отправился в обратный путь.
Глава шестая
Медленно, с оглядкой, как в неприютную избу, входил новый день в боевое охранение. Отпугивая туманный рассвет, предостерегающе тарахтели вражеские пулеметы, и тогда голодно, жадно цивкали пули. В окоп, на головы людей, сыпались щепки и березовая кора, срываемая с кольев. В окопах стояла настороженная тишина. Заболотный, прижавшись плечом к теплому боку Крутова, вздохнул:
— Начало есть, и на попятки не ходят, но, кажется, нам сегодня достанется...
— Надо было не затевать! А назвался груздем — молчи, не думай.
— Легко сказать — не думай, а как? Разве мне все равно, убьют сегодня или завтра? Мы считаем, что поведем взвод, а если вдуматься, может, среди них Кулибины, Циолковские...
— Слушай, брось!
— Ну чего ты? Я смерти не боюсь. Просто охота поговорить в такой час...
Вместе с наступлением дня перед Крутовым всплыла вся неприглядность жизни в боевом охранении. На бойцах — густой слой глины. Тяжело обвисали намокшие полы шинелей, из-под касок глядели уставшие, небритые лица, с воспаленными от недосыпания и грязи глазами. Ожидание тревожило всех. Каждому мнился благополучный исход, но кому-то предстояло вытянуть и печальный жребий.
Заболотный поднялся и пошел по окопу предупредить людей, чтобы подготовили оружие и по возможности отдохнули. Вернулся посуровевший, с признаками тревоги на лице.
— Не пора еще? — спросил его Крутов, когда солнце поднялось к зениту, направив теплые лучи и в узкий окоп на продрогших за ночь людей.
— Нет еще. Пусть немцы пообедают, улягутся, тогда и нагрянем. Легче будет до ночи продержаться.
Чем меньше оставалось времени до начала, тем острее переживал эти минуты Крутов. В голову лезли невеселые мысли, и была среди них главная: «Двадцать пять, а еще совсем не довелось жить. Все время на переднем крае, все время трудности и лишения. А может, в этой вечной борьбе и есть главный смысл жизни?»
Дыбачевский ссутулился и прильнул глазами к стереотрубе, стараясь рассмотреть передний край обороны противника. Километра на полтора раскинулась вдоль дороги деревня Конашково с пустующими домами, амбарчиками, сараями. По самой кромке огородов, упиравшихся в болото, разрезая небольшие холмики, тянулась неприятельская траншея. Ржавые мотки колючей проволоки густо оплетали заграждения перед окопами. Чуть правее Конашково — другая деревня — Стасьево с серой церковью, обветшалой и облезлой, окруженной оббитыми и покалеченными голыми деревьями. Галки и воронье носятся над продырявленными куполами, черными хлопьями оседая на макушки деревьев и вновь взвиваясь в небо, когда прокатывается гром орудийного выстрела.
Противник молчит, будто нет живого человека на переднем крае. В глубине его обороны — у Староселья — показалась гуськом идущая пятерка солдат — и это все. Они прошли полем и скрылись в овраге, которых достаточно за рекой Ольша.
— Почему я его не вижу? — нетерпеливо спросил генерал офицера.
— Разрешите, я вам наведу трубу прямо на окоп, в котором они сидят.
— Наводи, — буркнул Дыбачевский и отодвинулся в сторону, давая возможность офицеру подойти к трубе.
— Это и есть охранение? — недоверчиво протянул он, когда увидел наконец то, что так долго отыскивал. — Там нет никого, хотя... Вижу, вижу, голова в каске, еще одна... — Подкручивая винты стереотрубы, чтобы добиться резкости, он продолжал недовольно говорить: — Всегда у него какой-нибудь заскок. Не может без этого жить. Додуматься же, загнать людей под немецкую проволоку... Лишь бы пооригинальничать, а ты отвечай...
Неожиданно из окопа, только что казавшегося пустым, стали выскакивать бойцы. Передний взмахнул рукой — бросил гранату — и все они устремились в неприятельскую траншею.
Дыбачевский обеими руками вцепился в стереотрубу. Бойцы вскакивали в окопы противника.
— Здорово, средь бела дня! — выдохнул он, чрезвычайно заинтересованный тем, что ему довелось увидеть. Не оборачиваясь, протянул руку к телефону: — Чернякова! Ты чего же не предупреждаешь меня, твои воюют, уже захватили окопы у сарая, а ты ни гу-гу?
Телефонная трубка что-то запищала в ответ. Лицо генерала наливалось гневным румянцем.
— Вы мне можете толком доложить, или я за вас должен знать, что творится в вашем полку? Разберитесь немедленно! — Он сердито бросил трубку. — Вот, довоевались! Командир полка не знает, что у него бойцы наступают. Они в окопах у немцев, а он себе прохлаждается в блиндаже — чаи распивает. Ему, видите ли, ничего не доложили!..
Черняков только приехал с тактических занятий резервного батальона, когда ему позвонил Дыбачевский. Распоряжений на разведку боем он не давал, и сообщение генерала явилось для него полной неожиданностью. Он сразу позвонил Еремееву. Тот сообщил, что, действительно, бой начался, но наши ли ворвались в неприятельский окоп или наоборот, пока неизвестно.
— Безобразие! — крикнул Черняков и, на ходу пристегивая сумку, выскочил из блиндажа.
— Наши захватили окоп! — подбежал к нему начальник штаба. — Только что звонили с эн-пэ!
— Кто разрешил? — крикнул Черняков. — Нельзя на полчаса оставить полк! Проверьте, все ли на местах... Комбаты, артиллеристы!
Лошадь, к счастью, была еще не расседлана, и Черняков помчался на наблюдательный пункт. Бой кипел уже вовсю.
— Пока держатся, — успокоил Чернякова Кожевников. Над траншеей, захваченной бойцами, взвились две яркие красные звездочки. Направление — длинный сарай. Не погасли первые ракеты, как туда же полетели еще.
— Огня просят, — сказал капитан Кравченко, командир полковой минометной батареи, длиннорукий, приземистый, с кавалерийской походкой офицер.
— Вижу: к длинному сараю накапливается противник, — коротко доложил по телефону Еремеев.
— Кравченко, дать по ним налет, — распорядился Черняков.
Пристрелочные мины легли хорошо, и батарея перешла на беглый огонь. Облако желтой пыли, поднятое разрывами тяжелых мин, заволокло сарай и лощину.
В ответ противник подверг артиллерийскому обстрелу окопы, занятые бойцами охранения. Клубы сизого дыма заволокли передний край. Наблюдать стало невозможно.
Нервы Чернякова были напряжены. Вести бой, к которому не готов, — нелегкая задача. К тому же столь непредвиденный оборот дела путал все его планы. Запас боеприпасов, накопленный им за несколько дней обороны для проведения хорошо организованной разведки боем, растрачивался, как он думал, впустую. Он был почти уверен, что бойцы будут выбиты из траншей и большая их часть поляжет в этой неравной схватке. Немцы могли беспрепятственно наращивать силы контратакующих подразделений, а он не имел возможности до ночи даже вынести раненых, которые, без сомнения, уже были.
— Вы сегодня видели Крутова? — спросил он Кожевникова.
Тот отрицательно покачал головой.
— Старший лейтенант ушел ночью и еще не возвращался, — сказал Зайков, крутившийся возле Кожевникова.
«Значит, Крутов там, — подумал Черняков. — Раз он с ними, дело не так уж безнадежно. Будем бороться». Правда, теперь к беспокойству за исход боя примешивалась тревога за человека, к которому как-то лежало сердце с давних пор.
День клонился к концу. Красноватый солнечный диск медленно опускался в рыжую пелену пыли и дыма, поднятую артиллерийской пальбой. Выстрелы орудий и минометов чередовались с разрывами мин и снарядов, и солнце, словно напуганное, спешило скрыться за высокие султаны вздыбленной земли.
Близкие удары сотрясали землю, и комья глины с шорохом скатывались с бруствера на дно траншеи. Мелкая сухая пыль носилась в воздухе, ровным белесым слоем оседала на волосах, одежде, снаряжении.
Стиснув зубы, Черняков стоял в траншее, не замечая опасности, далекий от страха за свою жизнь. Все его мысли были там, где несколько человек еще держались во вражеском окопе. «Зачем они это сделали? Кто их посылал? Продержатся ли они до вечера?» — в который раз спрашивал он сам себя. Только вечером они могут получить поддержку, а противник не прекращал нажима. Неужели еще два десятка жизней сгорят в огне войны, и почему? Может быть, он чего-то не предусмотрел? Сознание какой-то вины перед этими людьми мучило Чернякова.
Тысяча человек под его началом. Они могут не знать его, поступать не так, как надо, совершать ошибки, а спрос с него. Почему не научил? Почему недосмотрел, почему не удержал горячую голову от необдуманного поступка всей полнотой своей власти? Почему не направил всю энергию громадного коллектива, состоящего из самых различных людей, в одну точку? Да мало ли этих «почему»?
Артиллерийская перестрелка продолжалась. С кем-то бранился по телефону Кравченко, требуя почти невозможного: чтобы мины на огневую были доставлены лётом, а не по земле на обычных повозках...
Начало смеркаться... Над окопами первой линии поднимались каски бойцов: резервная рота ждала темноты, чтобы сразу прийти на помощь товарищам.
В это время раздался грохот артиллерийского налета. Противник стремится покончить дело до темноты. В дыму разрывов потонули окопы боевого охранения. Надо быть бессмертным, чтобы уцелеть в таком огне. Ни одна ракета ясной звездочкой не поднялась оттуда. Значит, им уже не надо ни огня, ни подкреплений...
Когда осела земля и стал редеть дым, обрисовались опасливо приближающиеся к высоте вражеские солдаты. Кожевников опустил бинокль и стал протирать окуляры. Зубы стиснуты так, будто на плечи навалили ему непосильный груз.
— Кажется, все...
— Ну нет! — запальчиво крикнул Черняков. — Еще не все! — Он схватил телефонную трубку: — Генерала!
Лихорадочно блестевшие глаза говорили: он принял какое-то отчаянное решение.
— Только один залп! Один залп по окопам — и высота будет за нами, — просил он.
— Минутку, — ответил Дыбачевский, и через несколько долгих-предолгих минут, нужных ему для разговора со своими офицерами, последовала резкая команда: — Готовьсь!
Кто-то, невидимый, протяжными рывками разматывал чудовищно большие катушки. Небо зашумело и зашелестело над головами, будто тысячи незримых птиц неслись над землей, и от взмахов их бесчисленных крыльев свистел и стонал воздух. Над задымленной притихшей высотой, где только что мелькали темные каски вражеских солдат, стали лопаться черные клубы дыма, вывертывая наизнанку пышущую огнем и искрами сердцевину. Землю тяжело встряхнуло, и воздух раскололся от страшного грохота.
За первым залпом «катюш» последовал второй. Черный туман закрыл высоту. Вскинутые силой взрыва, показывались на мгновенье и вновь утопали в дыму обрывки проволочных заграждений, хворостяная оплетка траншей, комья земли и какие-то лохмотья. Черняков приник головой к холодной стенке окопа и зажмурил глаза. Уцелел ли кто? Нет, на это не осталось никаких надежд. На лице отразилась гримаса мучительно острой боли, и он стиснул пальцами виски.
...Поздно ночью в блиндаж Дыбачевского вошел майор — начальник оперативного отделения.
— Садись! — кивнул ему на стул генерал. — Пиши... — Он задумался, потер пальцами лоб и, размеренно шагая по блиндажу, стал диктовать: — «Ввиду чрезвычайно удобно сложившихся обстоятельств разведка боем проведена сегодня силами одного стрелкового взвода при поддержке полковой артиллерии и гвардейских минометов. В итоге захвачена важная высота. Полностью выявлена система огня противника. Захваченный пленный подтвердил... подтвердил...» А, черт! — Дыбачевский смачно выругался и, не найдя подходящего слова, махнул рукой. — Словом, части противника в прежнем составе. Допишешь тут сам. Да не забудь указать — высота прочно удерживается нами, и все меры для закрепления приняты. Подробности какие надо — у Чернякова. Кстати, там есть уцелевшие! Узнай — кто? Понял? Действуй!
Майор козырнул, подхватил свои бумаги и ушел, а Дыбачевский принялся медленно расстегивать китель. Он чувствовал, что здорово устал.
— Эй, там, ужинать! — крикнул он.
Как назло, пуговица закрутилась в петле и не хотела расстегиваться, он рванул ее, и она упала на пол. Дыбачевский с сердцем поддел ее носком и нервно заходил по блиндажу. Если вдуматься, как было не нервничать: в его дивизии творилось что-то невероятное... Чтобы понять состояние Дыбачевского, надо было знать его жизнь. В армию он пришел по очередному призыву, имея достаточный жизненный опыт. Годы нэпа научили его многому. Он узнал, что такое поиски заработка, случайный труд ради куска хлеба, очереди на биржах труда. Пришел срок действительной службы. Грамотный, разбитной, Дыбачевский сразу же выделился среди молодых красноармейцев, в массе своей взятых из деревни. Его зачислили в полковую школу. Это было уже повышение. Он видел, что, если стараться, могут оставить на сверхсрочную службу и даже послать учиться.
Действительно, он еще не дослужил срочной службы, а его направили в военную школу, и он понял, что его жизнь накрепко связана с армией. Он не ставил вначале перед собой ясно сформулированной цели. Служил, как и другие, не больше. Но вот он все чаще и чаще стал подумывать о том, чтобы занять более видное положение, выбиться в люди. Для этого следовало больше учиться, быстрее пройти начальные ступеньки, пока молод, пока сила, пока ясная память, задор... Он стал набирать темпы: с курсов на должность, с должности опять на новые курсы. У других были срывы, неудачи, а из-за чего? Из-за лености, из-за того, что ввязывались не в свои дела, колебались, попустительствовали слабостям подчиненных.
Дыбачевский не был лишен способностей, рвения к службе, деловой хватки — тех качеств, которые требовались командиру, и думал об академии. И академия пришла. А когда грянул июнь сорок первого года, когда началась война, — он был уже заместителем командира дивизии.
Командир дивизии, под началом которого служил Дыбачевский, не был плохим человеком. Но неотмобилизованная дивизия, вдобавок застигнутая врасплох, сжатая тисками двух вражеских колонн, стремившихся сомкнуться в ее тылах, угодила почти в окружение. Дивизия отступала болотами, лесами, теряя личный состав и вооружение. Материальную часть пришлось бросить. Комдив выбивался из сил, пытаясь сохранить остатки соединения, но обстоятельства оказались выше его возможностей. Дыбачевский на месте комдива вообще не стал бы заботиться о сохранении матчасти, а попытался бы налегке выбраться из-под угрозы окружения. Но он помалкивал о своих соображениях. Командира дивизии сняли, а Дыбачевского, который задним числом смог обрисовать картину происшедшего в выгодном для себя свете, назначили командиром новой дивизии, формировавшейся в тылу. Вскоре он получил звание генерала. Дыбачевский воспринял это как заслуженное, постарался быстро и начисто забыть все обстоятельства своего назначения на более высокий пост. Достигнув желаемого, он почувствовал — надо соблюдать осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Иначе можно потерять все...
И вдруг в дивизии наступают, не спросясь его. Кому это нужно? Зачем?
— Надо же докатиться, — возмущался он Черняковым, — не знать, что делается в своем полку! Получил полк, так держись за него! Какого рожна еще надо? Не может человек командовать без затей, вечно у него и только у него какие-то эксцессы. Можно, конечно, за этот случай проучить его как следует, но... затронь, — по всей армии разнесется... Докладывать-то по команде придется, от этого никуда не уйдешь. А там кто знает Чернякова? Скажут — у Дыбачевского непорядок. Попробуй заткни всем рты. Лучше пока помалкивать, но все до случая, до случая!..
Шила в мешке не утаить, и слух о том, что у Чернякова бойцы сами атаковали противника, а командир полка не знал об этом, быстро распространился по дивизии. Трудно равнодушно пройти мимо подобного случая и не дать ему своей оценки. Особенно близко затронул он командиров частей, несущих всю полноту ответственности за действия своих подчиненных.
Вместе с другими командирами, вызванными внезапно к Дыбачевскому и ожидавшими полного сбора, за длинным столом, накрытым красной сатиновой скатеркой, сидел подполковник Коротухин. Он успел побывать у генерала, прозондировать его мнение на этот счет и поэтому рассуждал больше всех. Ему возражали. И вспыхнувший было спор оборвался лишь с приходом Чернякова и Кожевникова. Поздоровавшись с вошедшими, Коротухин, будто невзначай, поинтересовался:
— Ваши, говорят, наступали?
— Да, взяли высотку!
— А почему не всю деревню? Не захотели?
— Время не пришло, — ответил Черняков, почувствовав за этими вопросами какой-то подвох.
— Вы просто недооцениваете своих сил, — явно насмехался Коротухин. — Ведь у вас полк наступает даже без команды, а стоило вам сказать: «Вперед!», — я даже не представляю, что вы натворили бы...
— Ну, знаете ли... — вспыхнул Черняков, еле сдержав готовую сорваться с языка грубость. — Не вам меня судить!..
Вошел Дыбачевский и пригласил всех занять места за столом.
— Прежде всего, спрячьте карты и блокноты, — проговорил он глухим усталым голосом человека, еще не спавшего, несмотря на поздний час. — Я не намерен вас долго задерживать. Скажу коротко — скоро будем наступать! Где, когда, какими силами, все узнаете в свое время. Сегодня нас должны сменить в обороне другие части. Нам предстоит организованно провести смену и скрытно выходить в новый район. — Он встал из-за стола. — Все ясно, товарищи? Вопросов нет?
Офицеры стали подниматься.
— Минутку, — генерал сделал жест, требуя внимания. — Никаких телефонных запросов и расспросов. Все переговоры с глазу на глаз со мной или начальником штаба.
Кожевникова пригласил к себе заместитель командира дивизии по политчасти.
— Подождите меня минут пять. Видимо, обычный инструктаж, — попросил он Чернякова.
Однако вернулся он не через пять минут, а через полчаса и притом с покрасневшим лицом.
— Простите, задержался, — сказал он, пряча возбужденно поблескивающие глаза.
Вставал серый рассвет. По сторонам возникали остатки палисадников, груды кирпича, странно высокие и несуразные посреди поля печные трубы — жалкие остатки сгоревшей деревни Уны, мимо которых возвращались в полк всадники.
— Неприятный разговор вышел у меня с Коротухиным, — неожиданно вырвалось у Чернякова.
— Ему не следовало вести его в таком тоне, — поддержал его Кожевников.
— Разговор сам по себе пустяк. Меня до сих пор тревожит ошибка Крутова Формально мы должны отдать его под суд за самовольство.
— Я не сторонник скоропалительных решений, — живо отозвался Кожевников. — Пусть сначала он поправится, выслушаем его, а тогда и посмотрим, что с ним делать. Такие вопросы нельзя решать заочно. Ведь у него были какие-то соображения. А тут — вынь да положь решение. В конце концов кто лучше знает наших людей — партийная организация полка или политотдел дивизии?
Видимо, он все еще был под впечатлением недавнего разговора и продолжал его по инерции. Черняков так его и понял.
— Что, снова поднимался вопрос об атаке?
— Пришлось многое выслушать, — усмехнулся Кожевников. — Досталось: «Почему коммунист нарушил дисциплину, а парторганизация молчит и до сих пор не осудила его проступок?..» Было сказано много верного, но, спрашивается, кого осуждать, если человек одной ногой стоит еще на том свете?!
— Да... — задумчиво протянул Черняков. — Надо, положа руку на сердце, сознаться: с боевым охранением мы прошляпили, поздно хватились. Поделом сейчас и бьют, вперед наука... Ну, а насчет Крутова, должно быть, надо еще подумать. Нельзя всю вину валить на стрелочника...
Глава седьмая
В сумерки подразделения полка вышли из окопов и побатальонно отправились в новый район сосредоточения.
Командир дивизии расщедрился и разрешил потратить день для устройства на новом месте. Черняков хотел было остановить полк на опушке рощи, но офицеры доложили, что неподалеку, в глубине леса, есть старый пионерский лагерь. Правда, он заброшен с лета сорок первого года, но там можно неплохо устроиться: вода рядом, а гнезда, где когда-то стояли палатки, годятся для землянок, стоит лишь устроить над ними двухскатные крыши.
Пока одни сооружали землянки, другие разметали старые дорожки. Бойцы работали с видимым удовольствием: руки соскучились по мирной работе!
Полк разместился, как в доброе прошлое время, — в лагерях: каждое подразделение на своем, строго определенном месте. Особые заботы распространялись на материальную часть: артиллерию, пулеметы, минометы. Их чистили до блеска, перетирали, смазывали, производили мелкий ремонт, подкрашивали.
Вечером Черняков и Кожевников пошли осматривать, кто как устроился. Командир полка медленно шел вдоль линии землянок, зорко посматривая по сторонам.
— Батарея, смирно!
Дежурный подскочил с рапортом.
— Вольно, вольно, — поспешно ответил Черняков, хотя в душе и был доволен, что люди знают службу.
На площадке перед землянками, где разместились стрелковые роты, толпился народ, кто-то отплясывал в кругу товарищей. Черняков многозначительно переглянулся с Кожевниковым, и оба ускорили шаги. На войне не часто увидишь пляшущего бойца. Из крайней землянки выбрался Еремеев, обрадованно взглянул на Чернякова, отрапортовал:
— Справляем новоселье, товарищ полковник!
— Вольно, вольно, продолжайте! — ответил Черняков, направляясь к бойцам.
Гармонист, тихо перебирая лады, вопросительно смотрел на начальство.
— Что же вы, играйте, да повеселее. Может, и я спляшу, — сказал Черняков с ободряющей улыбкой.
— А ну, «барыню»! — приказал низенький, плотный стрелок. В ожидании музыки он поводил плечами и притопывал ногой. Круг сомкнулся теснее, кто-то стал хлопать в ладоши. Гармонь пошла вперебор выговаривать старые-престарые слова:
— Ах ты, барыня, барыня-сударыня!..
Низенький стрелок степенно прошелся по кругу и вдруг стремительно начал выстукивать в лад гармони коваными солдатскими каблуками. Только пыль из-под ног.
— Пехота, не подкачай!
— Эй, «сальники» размотаешь!..
А гармонист знает дело, поддает жару. Плясун уморился, топнул каблуком, носком покачал: перепляши, мол!
Не вытерпела душа у пожилого бойца, хлопнул пилоткой об землю:
— Раздайся, море!..
— Ай да батя! Тряхни стариной!
— Шире круг, шире круг! — потребовали задние, как это бывает, когда выходит человек уважаемый.
«Ну и Кудря!» — покачал головой Черняков, удивляясь коленцам, которые выкидывал старый солдат. А тот подкрутил усы и, не переставая плясать, задорно воскликнул:
— Товарищ полковник! Мою ридну Украину освобождают, да не сплясать? Поддержите по такому случаю!
«Пойдет или не пойдет?» — переглянулись бойцы. Поломался Черняков для приличия, а потом развел руками:
— Куда денешься? — вздохнул да и пошел притопывать и прихлопывать, даже вприсядку попытался пройтись перед Кудрей, да не здорово вышло — годы не те, тяжеловат стал...
Выручила команда, пронесшаяся по линейке:
— Строиться на вечернюю поверку!
Бойцы, сбежавшиеся на гармонь чуть ли не со всего полка, бросились в строй, каждый к своему подразделению.
— Хорошо бы вам поговорить сейчас с народом, — предложил Кожевников. Черняков согласно кивнул и пошел к строю.
— Мы вот славно устроились сегодня, поработали, поплясали, а завтра — учиться! — заговорил он, когда подразделения сомкнулись вокруг него. — Все мы делаем одно общее дело — освобождаем от врага родную землю. Враг еще силен, но близится время, когда мы сломаем хребет фашистскому зверю. Партия наша и правительство поставили перед нами большую задачу — научиться хорошо владеть оружием, стать мастерами ведения боя. А для мастера владеть оружием — это еще половина дела. Вторая половина, более трудная, — взаимодействие в бою. Как это надо понимать?
Бойцы слушали внимательно, и Черняков почувствовал, что его речь принимает характер непринужденности, что суть его слов понятна каждому.
— Взаимная выручка, поддержка на каждом шагу, совместные усилия стрелков, пулеметчиков, артиллеристов при выполнении общей задачи сделают наши роты и полк сильными. Наука взаимодействия особенная: знать — нетрудно, а уметь, — Черняков покачал головой, — тут надо попотеть, тут надо не бояться...
Начались горячие дни учебы, такие, что и пяти минут свободных не выкроить. Только ученье! Ученье с утра до позднего вечера, с подъемами по тревоге и неожиданными «атаками» в ночные часы. Уставшие за день бойцы и офицеры поднимались с трудом, кое-кто ворчал, жалея недосмотренный до конца сон, но Черняков требовал своего:
— Не все время только днем, придется воевать и ночью. Темнота храброму бойцу не помеха!
Газеты были полны сообщениями с южных фронтов. Со дня на день ждали освобождения Киева. Где три человека, там и разговор:
— Ну, что взято? Какие города освободили?
Как-то Черняков, придя в землянку перекусить, не обнаружил газет на столе.
— Только вчера целая стопа лежала. Кто взял?
— Приходили из батальона, попросили... — пожал плечами Кожевников. — Что поделаешь?
— Может быть, прикажешь и мне на твои политбеседы ходить?
В голосе командира полка прозвучали сердитые нотки.
— Зачем так ставить вопрос. Литературы достаточно!.. — успокоил его заместитель и вытащил из сумки пару уже зачитанных газет.
— То-то... — Черняков уткнулся в газетную страницу и забыл про еду.
— Надо бы в третьей роте партийную группу создать, — отвлек его от чтения Кожевников.
— Отцепись, комиссар, дай хоть пообедать!
— Ты же не обедаешь...
— Ну, газету читаю, это все равно. Надо — создавай! На то ты и зам...
— В отделе вещевого снабжения два коммуниста, значит, одного в рогу?
— Кого же ты оттуда возьмешь? — оторвался от газеты Черняков — Начальник нестроевой...
— А кладовщик?
— Ну, это ты брось!.. Он там все добро наперечет знает. Поставь другого, такую путаницу разведет — не опомнишься. Тут иные привыкли — тыловики, тыловики, они, мол, только водку пить, а попробуй в современной войне без них!
— Так разве я что говорю... Поставим туда Кудрю, он мужик хозяйственный, быстро разберется. К тому же и по справедливости будет — человеку за пятьдесят, хватит ему в окопе торчать...
— Это Кудрю туда? А где ты возьмешь другого такого пулеметчика? Ты знаешь, пока он на посту, я за оборону спокоен! — Черняков даже газету отбросил: — А ну, давай сюда твои списки, посмотрим!
Не думал, а пришлось заниматься, перетасовывать партийный состав тыловых подразделений и кое-кого переводить в роты. Конечно, придет пополнение, но все равно надо, чтобы закваска оставалась, чтобы дух полка не выветрился.
Кожевников удовлетворенно вздохнул, поднялся:
— Ну, я пойду распоряжусь, чтобы за кинопередвижкой послали, а то еще перехватят по дороге.
— А обедать?
— Потом. Буду в батальоне — перекушу, заодно проверю, как приготовили. За свежими овощами посылал. Кстати, поговори с комбатом Глухаревым.
— Что такое?
— Нельзя же так нос вешать. Ходит угрюмый, молчит, прямо тоску на весь батальон нагоняет.
— Потерять семью нелегко. Горе у человека...
— Так у кого его сейчас нет?
— Нет уж, уволь, комиссар. Предоставь это времени. Время, всему время... Оно излечит. Ты лучше сам подскажи людям в батальоне, объясни, они поймут, поддержат человека. В этом вопросе нельзя так, с кондачка...
Неожиданно в полк приехал Дыбачевский. Черняков поспешил ему навстречу. Генерал пожелал обойти и осмотреть все расположение части. Вышагивая по утоптанным дорожкам, он задавал короткие вопросы о состоянии полка.
— Молодцы, устроились, — похвалил он Чернякова. — Пойдем посмотрим, как занимаются.
Над пожелтевшими сухими травами, покрывшими давно не паханное поле, взвивались ракеты — бледные и трепещущие в свете дня. На полигоне находился батальон Еремеева, Шло сближение с «противником». Стрелковые роты двигались короткими, быстрыми перебежками к рубежу «атаки».
— Ну, что скажешь, комбат? — важно спросил Дыбачевский. Еремеев вопросительно взглянул на Чернякова: говорить или нет? Но тот некстати отвернулся куда-то в сторону, и Еремеев, хотя и не любил выставлять себя перед начальством, решил попросить совета:
— Обычно наше исходное положение — траншея, которую мы занимаем задолго до начала боя. Она же является и рубежом атаки. Стоит ли сейчас учить бойцов перебежкам, накапливанию, когда на деле мы требуем от них безостановочного броска прямо от траншей до окопов противника?.. Мне кажется, что сейчас, когда на учебу у нас считанные дни, необходимо сделать упор именно на отработку этого броска, откинув все остальное...
Дыбачевский слушал, не перебивая, и легкая усмешка бродила у него по лицу. Трудно было сказать, нравится ему мысль Еремеева или нет.
Комбат умолк, а генерал все еще не спешил с ответом. Черняков ободряюще улыбнулся Еремееву: дескать, молодец, хвалю! Но вот брови генерала сурово сдвинулись, он повернулся к Чернякову:
— Я смотрю, в твоем полку кого ни возьми, каждый метит в Дельбрюки. Один поднимает людей в атаку, не считаясь с тем, что есть командир полка, другой — уставы поправлять взялся... Не слишком ли много воли? Позвольте же и мне высказать свое мнение. — Тут он наконец взглянул на Еремеева и повысил голос: — У нас есть устав. Боевой устав пехоты. По уставу есть исходное положение, есть рубеж атаки, и будьте любезны не мудрить!
Чернякову стало не по себе. Пользуясь тем, что генерал стал наблюдать за ходом занятий, он тронул за рукав комбата и шепнул:
— Зайди вечерком, потолкуем!
Тот молча кивнул головой в знак согласия. На лице у него были недоумение, растерянность: сам нарвался на выговор, да и командира полка под нотацию подвел.
Дыбачевский обернулся к ним и, протянув руку в сторону поля, спросил:
— Что они делают, ведут огонь?
— Так точно! — ответил Еремеев, вытягиваясь.
Генерал раздраженно хлопнул хлыстом по начищенному голенищу. Изящные никелированные шпоры отозвались тонким, как зудение комара, звоном.
— По-моему, они просто жгут зря патроны. Вы же не имеете возможности проверить результат стрельбы атакующих. Прикажите немедленно отрыть окопы и поставить мишени в виде надбрустверных щитков.
— Не успели еще изготовить, товарищ генерал, — виновато сказал Еремеев.
— Надо успевать, — холодно ответил генерал.
Черняков досадовал на себя: можно было бы не допустить этого промаха. Не предусмотрели штабники, забыли, а он закрутился...
Покидая учебное поле, Дыбачевский наставлял Чернякова и Еремеева, молча следовавших за ним:
— Поменьше мудрите, побольше требуйте. Наступали мы еще мало, на главном направлении не были, и неудачного опыта у нас больше, чем удачного. Мы еще не доросли до пересмотра уставных положений...
Черняков не согласился и позволил себе возразить:
— Наступали мы еще мало, это правда, но до нас доходит опыт южных фронтов. Я думаю, что сейчас, когда у нас времени в обрез, мы должны обучать только самому главному, отбросив все второстепенное.
— Что же, по-вашему, главное?
— Безостановочный бросок в атаку и в бой в глубине обороны противника.
— На чужом опыте далеко не уедешь!..
— Это не чужой опыт, а опыт Красной Армии...
— Не имею времени спорить с вами, — Дыбачевский взглянул на часы. — Сегодня пришлю к вам роту танков. Приготовьте окопы поглубже, и пусть вся пехота будет обкатана танками, чтобы никакой танкобоязни у меня не было. — Он переждал минуту, будто собираясь с мыслями, и нахмурился: — Да, вот что... — тут он строго взглянул на Чернякова. — Учтите на будущее: таких происшествий, как тогда с высотой у Конашково, я у себя в дивизии больше не потерплю. Не по-тер-плю! Поняли?
Черняков вспыхнул, но нашел в себе силы сдержаться и промолчал.
Дыбачевскому подвели лошадь. Он легко сел в седло и холодно распрощался с командирами. Провожая взглядом приосанившегося в седле генерала, Черняков вздохнул. Только теперь ему стало ясно, зачем приезжал Дыбачевский.
Мимо задумавшегося Чернякова возвращались на обед подразделения. Искрились на солнце кончики штыков. Песню, сдержанно выводимую запевалой, подхватил строй, и она взвилась до самых верхушек сосен и еще выше, в синее бездонное небо.
«Молодцы, хорошо поют», — глядя на строй, подумал Черняков. Ему пришло на ум, что им куда тяжелее, чем ему, а вот они не вешают головы. И что такое замаскированный выговор? Булавочный укол. Ничто по сравнению с ударами, которые наносит жизнь...
И он уже иными глазами взглянул на поле, лес, на лазоревое небо, по которому проплывали в неведомые дали пухлые облачка. Ветерок шевелил плотные кроны деревьев, и высокие сосны, казалось, перешептывались между собой о чем-то таинственном, полном глубокого смысла, что не всегда и не всякому доступно для понимания. Черняков улыбнулся и зашагал в такт удалявшейся песне...
— Вот что, Федор Иванович, — сказал он Кожевникову, когда вернулся с полигона, — ты проследи, чтобы кругом был порядок, а я съезжу в госпиталь.
В одноконную двуколку бросили охапку соломы, и Черняков расположился на ней со всеми удобствами. Ездовой дернул вожжой, причмокнул, и лошадь затрусила в сторону большака.
Езды было километров пятнадцать. Повозка легко колыхалась на ухабах. Под эту мягкую качку можно было ехать, закрыв глаза, и Черняков так и сделал. Лучи осеннего солнца приятно ласкали лицо и руки, навевали дремоту, и тогда начинало казаться, что нет ни войны, ни раненых, к которым надо ехать, ни тряской дороги, а что плывет себе человек по синь-океану и небольшие волны поднимают и опускают лодчонку: вверх — вниз, вверх — вниз...
Прохладный ветерок, перескочив через борт повозки, прошуршал в соломе, одним дуновением прогнал дремотные видения и донес тяжелый артиллерийский вздох передовой. И сразу в голову полезли невеселые мысли о войне, о поступках людей, в которых они сами порой не могут разобраться, а он должен думать за них и, крохами выбирая все хорошее и плохое, что ими сделано, взвешивать — куда перетянет... Взвешивать применительно к собственной совести, к тому, как он сам понимает закон, долг гражданина, офицера, члена партии.
«Эх, Крутов, Крутов, — вздохнул Черняков, — натворил ты дел. Не задумываясь, отдал бы тебя под суд, кабы ты схитрил, остался в стороне. Но как поступить, когда видишь: свою жизнь молодую не пожалел, не от пуль, а под пули полез? Вот и рассуди!»
Он вспомнил про недавний разговор, состоявшийся у них с Кожевниковым по поводу Крутова. Он тогда хотел проверить, прав ли он как командир в своем решении, не берет ли в нем верх чувство симпатии к Крутову?
— Я против отдачи его под суд, — сказал тогда Кожевников. — Наша полковая партийная организация достаточно сильна, чтобы ошибку Крутова довести и до его сознания и предостеречь других. Но тут и другой вопрос: война только разгорелась, и наступает время, когда мы должны не только предоставлять, но и требовать от офицеров максимума инициативы. И дело Крутова — хороший повод для такого разговора.
Черняков шумно повернулся в повозке.
— Проснулись? — спросил ездовой. — Прибываем. Деревня.
Черняков приподнялся. На обочине дороги стояла фанерная указка с надписью «ППГ...» Между домами виднелись большие санитарные палатки, которые развертывались под операционные, процедурные, перевязочные, санпропускники, кухню, аптеку — сложное хозяйство полевого передвижного госпиталя.
Двуколка въехала в деревню. На Чернякова пахнуло запахами лекарств. В домах размещались палаты, и через окна виднелись двухъярусные нары, больные и раненые, которые провожали повозку любопытными взглядами. Между домами и палатками ходили выздоравливающие в байковых халатах, наброшенных поверх белья, и в солдатских незашнурованных ботинках на босу ногу.
«Умеют же подбирать самые мышастые тона, — подумал Черняков. — От одного вида таких халатов в тоску впасть можно».
Он уже поглядывал по сторонам: где бы остановиться, чтобы начать поиски Крутова, когда из дома напротив вынесли носилки. На них ногами вперед, накрытый простыней с головой, лежал, видимо, покойник. Ездовой придержал лошадь, давая им дорогу.
— Товарищи, на минутку! — обратился было к ним Черняков. Идущий позади замедлил шаг, но передний повернул голову и сердито через плечо прикрикнул:
— Ну, чего ты? Не можешь ногу взять, что ли!..
При этом он исподлобья и так сердито взглянул на Чернякова, что ему стало не по себе и отпала всякая охота спрашивать. Второй санитар сразу взял ногу, и оба они, ссутулив по-стариковски покатые от напряжения плечи, торопливо зашагали в сторону сарая, одиноко стоявшего на отшибе.
Ездовой долго смотрел им вслед, потом понял что-то свое, беспомощно нагнул голову и тыльной стороной ладони мазнул себя по щеке.
— Понужай! Чего ты?
Боец шумно шмыгнул носом, понукнул лошадь и изменившимся голосом ответил:
— Сын у меня... на Третьем Украинском... Вот так же помер недавно... раненый...
Но Черняков и без того уже все понял и досадовал на себя за неуместный вопрос. Ему захотелось побыстрей найти Крутова. Он велел остановиться у дома, возле которого стояла санитарная машина. Здесь оказался дежурный по госпиталю — майор медицинской службы, с желтыми от йода руками. На вопрос о Крутове он позвал девушку в белом халате и приказал ей провести полковника в офицерскую палату. Чернякову вынесли белый халат. Он покорно напялил его на свои широкие плечи и, едва втиснув руки в коротенькие узкие рукава, переступил порог палаты.
В нос ему ударило стойким запахом незаживающих ран и карболовки. У него даже немного закружилась голова, и он остановился.
Изба была плотно заставлена раскладными деревянными кроватями. Прямо перед носом Чернякова свешивалась с блока веревка с привязанными для оттяжки кирпичами. Раненый, ногу которого оттягивал этот груз, лежал почти без признаков жизни, с бледным, как воск, лицом, какие порой бывают на плохо раскрашенных муляжах. Черняков заметил бисеринки пота у него на лбу да пульсирование жилки на шее.
Дальше, по всей избе, от стены до стены, лежали и сидели раненые, забинтованные и с неуклюжими гипсовыми повязками...
Черняков воевал уже давно. Под его началом было много людей, и он уверенно распоряжался их жизнями. Ежедневно ему приносили на подпись строевые записки — донесения о личном составе, и всякий раз он обдумывал цифры о числе раненых только с точки зрения того, как это отразится на боеспособности полка. Далеко не всегда за цифрами потерь он видел тех людей, с которыми он только вчера шутил и разговаривал, которых сам вел в бой. Эта мысль привела его в некоторую растерянность. Озираясь, он не знал, куда ступить, кого спросить о Крутове. Не успел он как следует оглядеть обитателей палаты, как к нему, взмахнув полами халата, с ближней койки метнулась высокая фигура.
— Товарищ полковник!.. — растерянно вымолвил Крутов.
После первого волнения, вызванного встречей, они присели возле двери. Черняков чувствовал себя не в своей тарелке.
— Может быть, выйдем? — кивнул головой Черняков. И уже за порогом, когда вышли, добавил: — Ну и дух! Аж голова кругом...
Они уселись на широкую лавочку, помолчали.
— Ну, расскажи... — сказал Черняков.
— Когда я пришел туда, — сдерживая волнение, начал Крутов, — вижу, люди живут в неимоверно тяжелых условиях. Роту ввести нельзя, а тут у людей созрело решение. Инициатива Заболотного мне показалась смелой, честной, хорошей, ее надо было поддержать, а ожидать вашего распоряжения — значило отложить дело на день-два. Кто мог сказать, что произойдет за это время? Я решил не препятствовать, помочь. Об этом и в уставе сказано: «Приняв решение, командир обязан без колебаний довести его до конца. Может, это не дословно, но смысл точный. И потом, вы же сами намечали проводить в районе боевого охранения разведку боем...
Черняков, чиркнув по земле прутиком, перебил:
— Учти на будущее: нельзя поддаваться первому впечатлению. Разве я или комбат не знали, что в боевом охранении тяжело? Знали! Ты думаешь, партия не знает, как тяжело нашим людям, оставшимся по ту сторону фронта? Знает! Но ведь нам не дают приказа атаковать противника неподготовленными. Им, — Черняков махнул рукой в сторону запада, — им разве теперь легче? Тем, кто остался на этой высоте? Ты сам знаешь, что половина взвода полегла там, а остальные развезены по госпиталям. Вот вы с Заболотным решились на бой, чтобы улучшить положение людей. Подумай, добились вы своей конечной цели, пустив взвод на впятеро, вдесятеро сильнейшего противника?
Крутов побледнел.
— Мы там фашистов не считали, — проговорил он глухо. — Нам хотелось сделать как лучше... И я не думал, что так может получиться.
Хлопнула дверь. Из палаты вышли два офицера. Один опирался на костыль, а у второго обе руки были в гипсе.
Закурив и бросив на Чернякова любопытные взгляды, они не спеша подались по деревне.
— Так вот, — продолжал Черняков. — Ты говорил о решении, принятом командиром. Да, его надо твердо проводить, но желание — одно, а решение — другое. Чтобы его принять, надо все взвесить, обдумать, а не наобум... Ты даже не учел, а смогут ли поддержать ваши действия и как это сделать.
— Я послал Мазура...
— А ты знаешь, что его подобрали лишь вечером раненого? Хорошо еще, что сигналы ракетой настолько понятны, что можно было поддержать вас артиллерией. Не будь этого, навряд ли мы с тобой вот так бы разговаривали...
Упреки тяжким грузом падали на душу Крутова. Разве он сам не передумал многого за эти дни? К чему сейчас столько слов, ведь что произошло, то уже непоправимо. С трудом овладев собой, он сказал:
— Я готов ответить за все, что сделано. Вижу, как опрометчиво поступил. Скажу больше — мне больно, очень больно. Чего же еще хотите от меня? Нужно — судите.
— Дело не в том, чтобы судить, — до Чернякова прекрасно дошла вся горечь услышанного признания. — Дело не в том... Важно, чтобы ты правильно понял, в чем твоя ошибка. Если каждый начнет поступать по своему усмотрению, а не по приказу, то вся наша организованность полетит. А в чем сила армии, как не в ней?
Видя, что Крутов слишком потрясен и дальнейший разговор ни к чему, Черняков сказал:
— Хватит об этом... Поправляйся. Через недельку-полторы ты мне будешь очень нужен. Понял?
— Нужен вам, в полку? — Крутов с такой откровенной радостью посмотрел на него, что Черняков понял, как тяжело переживал его офицер все случившееся. Он еще не верил возможности возвращения в родную часть.
— Конечно, в полк, — пожал плечами Черняков. — А куда же еще? Кто же будет брать Витебск, как не мы?
Крутов был необычайно взволнован, глаза блестели:
— Если бы мог, вот так... вынуть душу, чтобы вы увидели... Вы бы мне поверили — я думал, как лучше для полка... Для Родины, а не просто... Вы можете поверить?
— Я никогда в этом не сомневался. Иначе у нас был бы совсем иной разговор, — сказал Черняков и, вздохнув, поднялся: — Ну, бывай. Мы все ждем тебя. Кстати, чуть не забыл.
Он расстегнул разбухшую сумку и достал завернутый в газету пакет.
— От меня и Федора Ивановича. Мы ведь теперь в тылу и с литературой не бедствуем...
Проводив Чернякова, у которого были еще какие-то дела к начальнику госпиталя, Крутов вернулся в палату. Теперь, когда самый мучительный вопрос был разрешен, когда он знал, что вернется в полк, жизнь снова стала улыбаться ему. Он тихонько поглаживал корешки книг, казавшихся ему неоценимым подарком.
— Что это за полковник был у тебя? Родственник, что ли?
— Нет. Просто командир полка!
— А за что он тебя прорабатывал? — не унимались любознательные дружки.
— Так, за одно дело, — сказал Крутов, но рассказывать ничего не стал. И не потому, что боялся их осуждения, а просто многое надо было еще додумать самому...
Глава восьмая
По шоссе, занимая его во всю ширину, двигались войска в сторону передовой. Части выходили на исходное положение для наступления. Рощи, перелески, шоссе, по которому текли войска, растворялись в сыром промозглом тумане. От этого казалось, что дороге нет ни начала, ни конца, что сколько ни двигайся, никогда не достигнешь цели.
Шорох ног, одежды, заскорузлых от сырости плащ-палаток, скрип и перестук повозок сливались в неясный глухой шум, в котором терялись отдельные человеческие голоса.
Полк Чернякова все еще оставался в роще, а сам он с группой своих офицеров в повозке ехал к переднему краю. Когда повозка вырывалась вперед, он с интересом осматривал тех, кого обгонял. И хотя это были не его люди, а другие, те, что будут драться справа и слева от него, он с тем большим вниманием всматривался в них, стараясь определить их боевое умение и боевой дух.
Вот повозка поравнялась с прекрасно обмундированным взводом автоматчиков. Над ними покачивалось знамя, одетое в зеленоватый брезентовый чехол. Бойцы шли твердым четким шагом, сосредоточенно глядя перед собой. «Ветераны, — решил Черняков. — Эти уже изведали не один бой».
Впереди автоматчиков — разведчики в ватных телогрейках, туго перехваченных ремнем. У каждого из них за поясом по две-три гранаты, по запасному диску автомата, по ножу; маскировочные халаты, вытертые на коленях, достаточно говорят об их профессии. В шинелях со следами окопной глины и подпалинами от костров, проходила пехота — стрелки, пулеметчики, расчеты батальонных минометов. Грудастые крепкие лошадки, запряженные попарно, легко катили маленькие противотанковые пушки. Бойцы с карабинами за плечами шагали рядом с орудиями. Черняков невольно обратил внимание на их выправку и опрятную одежду. Сразу видно, крепкая рука у командира!
Плотный подполковник в бекеше, уперев кулаки в бока, стоял на шоссе и, когда батарея проходила мимо, зычно закричал:
— Батар-рея! Не растягиваться!
Черняков вспомнил, что на одном из совещаний видел этого подполковника. «Кажется, Нагорный. Значит, гвардия будет соседом в наступлении. Хорошо!»
До переднего края было недалеко. Уже где-то здесь надо свернуть в сторону, чтобы попасть на наблюдательный пункт командира дивизии. Сбоку дороги шла шестовка с целым пуком подвешенных проводов. Разделившись, большая часть их отклонилась в сторону небольшой высоты, от самого подножия и до вершины изрезанной глубокими просторными траншеями. На самом верху, как шляпка боровика, возвышался большой блиндаж, обложенный дерном. Рядом с ним из-под земли пробивалось целое семейство подобных же «грибков» поменьше и величиной и количеством рядов накатника.
В траншеях людно. Оставив своих офицеров, Черняков по ступенькам спустился на трехметровую глубину в блиндаж командира дивизии. Дыбачевский встретил его так, словно они только что расстались. Кивком головы ответив на приветствие, он отмахнулся от рапорта:
— Ладно, сейчас не до этого...
Генерал торопился. Вся его беседа с Черняковым прошла накоротке, в пределах беглой информации о боевом приказе.
— Ты все же во втором эшелоне, — успокоил он Чернякова. — С тобой я всегда успею все уточнить. Пройди вперед, осмотри местность, встретишься там с командирами первого эшелона прорыва, тогда тебе ясней будет, как да что...
Ближе к переднему краю всюду сновали люди. Ими были полны все рощицы, овражки, они рыли щели, оборудовали огневые позиции, укладывали подвозимые боеприпасы, наводили маскировку. Повсюду в тумане раздавались команды, разносился стук топоров и визг пил, у самых огневых фыркали машины, где-то глухо урчали танки.
Находившийся в первой линии окопов блиндаж командира батальона был битком набит офицерами, связными, телефонистами. Комбат встал навстречу Чернякову, коротко доложил и тут же схватился за телефон:
— Ну, что у вас там? «Лапти»? Никакой смены. Разве вы не знали, что они пойдут? Теперь поздно переносить «самовары» на новое место. Никаких переходов! Поняли?
Для нового человека весь этот разговор показался бы бессмыслицей, бредом, но для офицеров, привыкших к фронтовому «клеру», все было понятно. Танки — «лапти» стали вблизи минометной роты — «самоваров», и командиру вздумалось менять огневую позицию.
На каждом участке фронта «клер» имел свои оттенки и жил, несмотря на то, что его поносили, запрещали, за него наказывали. Шифровали в армии, корпусе, дивизии, а дальше — в полку, батальоне все же господствовал «клер» — бич, с которым тщетно боролись всякие переговорные таблицы и кодированные карты. Только позывные как-то уживались с ним по соседству. Черняков крутыми мерами старался выжить «клер» в своем полку, допуская его в крайних случаях, в разгар боя, когда обстановка меняется поминутно. Но здесь, задолго до наступления, когда надо было буквально лишать всех дара речи, от такой свободы в телефонных переговорах его покоробило. Он сухо попросил комбата познакомить его с обстановкой.
Комбат пожал плечами и направился к выходу.
— Прошу за мной!
В окопе он остановился, молча показал рукой вперед. В двухстах метрах виднелись проволочные заграждения и обильно изрытая окопами высота. Над самым ее гребнем легкими туманными силуэтами вырисовывалось несколько крыш деревенских построек. На карте это место значилось как деревня Зоолище. Вправо, в глубину, за небольшой седловиной, должна была находиться деревня Кожемякино, влево от Зоолища — Шарики, сейчас невидимые из-за тумана.
Блиндажей у противника не было видно, а только окопы, колючка на кольях и в виде спиралей Бруно, укрепленных рогатками. Все пространство за гребнем не просматривались вообще. От напряжения у Чернякова на глаза накатывались слезы.
— Черт побери, — пробормотал он, опуская бинокль. — Увиденного слишком мало, чтобы с успехом наступать!
— Впереди проволока и мины, — внес разъяснение комбат, — Пленных нет, а наблюдением пока не представилось возможности уточнить что-либо. Туман. А мы здесь совсем недавно.
Малышко — офицер разведки полка, оказавшийся рядом с Черняковым, сказал:
— Начальник разведки говорит, что здесь стоит немецкая сто девяносто седьмая дивизия. Кадровая, отступает от Москвы. Командовал ею полковник Рихтер.
— Рихтер? Я где-то встречал эту фамилию. Что вам про него говорили? — спросил Черняков.
— Это он в сорок первом году приказал казнить Зою Космодемьянскую. Другой известности еще не приобрел...
Из объяснений с командиром дивизии на наблюдательном пункте Черняков знал, что прорыв оборонительной полосы будет совершен на узком участке фронта — Зоолище—Шарики, в нескольких километрах севернее шоссе Лиозно—Витебск. Для прорыва поставлены две дивизии с танковой бригадой. Гвардейцы пока находятся во втором эшелоне. Им предстоит развить прорыв в общем направлении на Витебск Его полку надлежит вступить в бой позднее, чтобы уплотнить боевые порядки дивизии и наращивать темп наступления.
Офицеры долго разглядывали передний край противника. Немцы не показывались, будто их вовсе не было на позициях Черняков решил на всякий случай обойти передний край в полосе наступления да заодно присмотреть себе удобное местечко для наблюдения.
— С вашего разрешения, я пройду по окопам, — сказал он комбату.
Однако и личный осмотр переднего края не принес Чернякову удовлетворения. За все время, пока он находился в окопах, со стороны противника ни одна каска не показалась над бруствером не раздался ни один выстрел, ни одна батарея не всколыхнула своим громом настороженной тишины. О чем это говорит? О превосходстве в силах, о разгаданном замысле или еще о чем, чего нельзя сейчас даже и предусмотреть?
С чувством досады возвращался он в рощу, в свой полк. Эта досада в какой-то мере распространялась на многих: на генерала, не уделившего, как казалось Чернякову, должного ему внимания, на комбата, столь неосторожно болтающего по телефону, на артиллеристов, успевших запланировать переносы огня по рубежам, которых не видели на местности, а только предполагали по карте...
В подготовке к наступлению ему чудилась недостаточность рвения, заботы. Он возмущался ответом Коротухина, который, выслушав Дыбачевского, с готовностью подтвердил: «Ясно, товарищ генерал!», когда ничего ясного не было.
Возвращались они все вместе. Повозка тарахтела по мерзлой дороге, двигаясь утомительно медленно и усиливая и без того гнетущее настроение. Сидевший за самой спиной Чернякова комбат Усанин потихоньку трунил над медлительным Глухаревым, обещая ему в Витебске шикарную квартиру, когда он войдет туда с батальоном.
— Перестаньте болтать! — не выдержав, бросил Черняков.
Офицеры с удивлением посмотрели на него и замолчали. Ему стало неловко за никчемную резкость, и он, насупившись еще более, всю дорогу ехал, не оборачиваясь, мрачный, как туча. Приехав в полк, он вошел в землянку и, что случалось с ним крайне редко, не раздеваясь, повалился на нары.
— Праздник будем встречать в наступлении, — сказал Кожевников — Победой!
— Поживем — увидим, — ответил Черняков. — Мне многое не нравится. Прости, я сейчас очень устал. Немного погодя я ознакомлю тебя с нашей задачей.
Кожевников вышел из землянки. Однако, когда он возвратился, Черняков не спал, а, склонившись над картой, делал на ней пометки.
— Боевой приказ получили. Читай, — сказал он, подавая Кожевникову вскрытый пакет с надломленными сургучными печатями.
Полк Чернякова вышел на исходное положение, правда, не в окопы, занятые двумя другими полками дивизии, а чуть позади. Все ровное место вокруг было заставлено артиллерией, и батальоны разместились в глубоком овраге. Черняков был этим даже доволен — пехота будет в большей безопасности, если противник вздумает вести ответный огонь по артиллерийским позициям.
Ночь перед наступлением прошла в хлопотах. Батальоны зарывались в землю по откосу оврага. Минометы и полковая артиллерия должны были участвовать в общей артиллерийской подготовке вместе с частями первого эшелона и стояли на огневых.
Черняков еще затемно вышел на свой наблюдательный пункт — в глубокую щель с нишами. Рядом поместились телефонисты, так, чтобы не мешать ему и в то же время быть у него под рукой. В наступлении он всегда предпочитал щель блиндажу. Блиндаж, как бы его ни маскировали, привлекал внимание противника, являлся целью, а щель ничем не отличалась от обычного окопа, и из нее было удобней руководить боем.
Занимался поздний сырой рассвет, подходило время начинать, и Черняков нетерпеливо взглядывал на часы. В окопах не было заметно какого-либо движения; кустарники, сплошь заставленные артиллерией, тоже хранили тишину.
— Ну, как там, товарищ «хозяин»? — спросил по телефону Усанин.
— Что как, что как? Кто бы и спрашивал, а наше дело помалкивать! — ответил Черняков, хорошо зная, что в это время к трубке приникли и Еремеев и командиры батарей. Только Глухарев, наверное, сидит в своей норе, полузакрыв глаза, и ни до чего-то ему нет дела.
Не выдержав неизвестности, Черняков пошел к Дыбачевскому, чтобы быть «в курсе», если наметятся какие-нибудь изменения в обстановке.
Генерал, поставив ногу на табурет, разговаривал по телефону:
— Ну, что вам?.. Сказал — неизвестно, значит, неизвестно!
Он с сердцем положил трубку и, взглянув на вошедшего Чернякова, принялся закуривать папиросу.
— Вот народ... Как без понятия, — произнес он. — Звонят и звонят. Ты тоже не вытерпел...
В блиндаж быстро вошел адьютант генерала и испуганно доложил:
— Приехал командующий!
Дыбачевский поспешно поправил на себе снаряжение, зачем-то тронул папаху и уже в дверях, вспомнив, что у него в зубах папироса, с досадой выплюнул ее.
По ходу сообщения шел Березин. Дыбачевский вскинул руку к папахе — тонким звоном отозвались шпоры.
— Товарищ командующий! Части готовы к выполнению боевой задачи. Докладывает генерал-майор Дыбачевский!
Березин остановился и чуть склонил голову, как бы прислушиваясь к рапорту.
— Здравствуйте, товарищи! — радушно поздоровался он со всеми офицерами, которые к этому моменту находились поблизости от него. — С праздником вас!..
В блиндаже Дыбачевский пожаловался:
— Туман не расходится, никакой видимости!
— Нет худа без добра. Зато авиация не будет нас беспокоить. Как прошла ночь?
— Спокойно. Проходы в минных полях сделаны. Противник ничем себя не выявил. Будем ждать, пока туман разойдется?
— Нет, — ответил Березин. — Танкисты проходы знают?
— Проходы обозначены!
В блиндаже стало совсем тесно, когда вошел член Военного совета армии Бойченко. Он был под стать командующему, с круглым гладко выбритым и веселым лицом, на котором приятно сочеталось украинское лукавство с умом. Едва переступив порог, он сказал:
— По случаю такой погоды да такого праздника — горилки бы стопку да гопака. Верховный Главнокомандующий поздравляет нас с праздником, товарищи!
— Уже есть праздничный приказ? — спросил Березин.
— Ну, как же может быть без приказа? И приказ и доклад — вот они! — Бойченко осторожно достал свернутый в трубочку газетный лист — оттиск щеткой с только что набранной полосы. Пока влажный лист с пятнами типографской краски на полях шел по рукам, Бойченко спросил:
— Начинаем?
— Пока нет, — ответил Березин. — Сегодня сумеем ознакомить бойцов с докладом и приказом?
— Ознакомим. Сейчас начнут передачу агитмашины, а после обеда уже будут газеты. Особенное внимание — на гвардию. Необходимые распоряжения на этот счет отданы. Весь политотдел сейчас в войсках.
Бойченко говорил с мягким, еле приметным акцентом, спокойно, без жестикуляции, словно каким-нибудь резким жестом мог нарушить плавное течение своих мыслей.
Дверь блиндажа распахнулась, и на пороге встал офицер шифровального отдела.
— Разрешите обратиться, товарищ командующий! — громко произнес он, не видя того среди большой группы людей.
— Сюда. Пропустите его, товарищи! — сказал Березин.
Сведя к переносью густые брови, он торопливо взглянул на шифровку. Там стояло всего два слова: «Ч» — десять. Семенов»
— Наконец-то! — выдохнул Березин и размашисто поставил свою подпись под текстом.
Армия готова была начать прорыв в назначенный день и час, но в полночь командующий фронтом вдруг передал: «Ч» — особым распоряжением». Это означало, что действия откладывались. Чем это вызвано, пока было неизвестно. Только сейчас начальник штаба сообщил, что «Ч» — сигнал к наступлению — получен.
— Атака в десять! — громко сказал Березин. — Желаю вам удачи, товарищи!
— Значит, в десять! — приподнято сказал Дыбачевский, как только начальство покинуло его блиндаж.
— В десять! — повторили командиры полков.
— В десять! — донеслось до командиров рот и батарей.
Черняков поспешил на свой наблюдательный пункт. На передовой было по-прежнему необычайно тихо.
И вдруг в разных местах в небо взвились красные ракеты. Лес, кустарники, обратные скаты пригорков, вся полоса земли от первой траншеи и до двух километров в глубину, превращенная в огневую позицию многих артиллерийских и минометных батарей, огласилась звонкими голосами команд. Команды шли с передовой, дублировались десятками телефонистов и достигали наивысшей ноты у орудий, когда какой-нибудь лейтенант, весь побагровев от охвативших его чувств, выкрикивал:
— По фашистским захватчикам... огонь!
— Огонь!
— Огонь!
Страшный грохот покрыл все. Задрожала и всколыхнулась земля. Не стало отдельных выстрелов, команд — они утонули в реве сотен орудийных глоток, выбрасывавших металл, дым и огонь на оборону врага. Словно вспарывая гигантские холстины, с воем и огнем взвивались и уносились ввысь хвостатые реактивные снаряды.
Из кустарников, сбрасывая с себя сосновые ветки и мягко покачиваясь на ходу, выползли танки. Только пехота ждала еще своего сигнала. Огонь достиг наивысшего напряжения, и красные ракеты, рассыпаясь над передовой ярко-пунцовыми гроздьями, повисли в воздухе.
Над брустверами окопов поднялись сотни людей в серых шинелях — пехота. Атака... Люди уже не идут, а бегут, прижимая к себе взятые наперевес винтовки.
— А-а-а! — разнесся над полем боевой клич.
Взбивая еще не застывшее как следует болото, рвались на врага, обгоняя пехоту, роты танков. Где-то ожило противотанковое орудие врага, сработала предательская мина, мимо которой прополз ночью сапер, не услышав тревожного гудения миноискателя, и вот, размотав за собой поблескивающие ленты гусениц, стал один подбитый танк, загорелся объятый черным дымом другой...
Бой набирал силу.
Глава девятая
По дороге к передовой, обдавая обочины дымом и пылью, мчались доверху нагруженные машины. Они везли снаряды и мины, теплое обмундирование и продукты, снаряжение и горючее — все, что составляет предметы боевого потребления в обороне и наступлении. И ни одна из них даже не замедлила хода, сколько бы ни сигналил Крутов.
Прав был регулировщик на контрольно-пропускном пункте, советуя ожидать на месте, пока не найдется менее заполненный грузом автомобиль. Но разве можно было послушаться, когда каждая минута ожидания казалась вечностью.
«В полк, в полк, в полк!» — радостно напевая, Крутов быстро шагал вперед. Вещей у него не было: сухой паек, полученный в госпитале на одни сутки, разместился в полевой сумке и по карманам шинели. Несколько километров он проскочил, сам не заметив как, но потом почувствовал усталость.
«Эге, ноги отвыкли ходить, — сказал он себе. — Придется подкрепиться!»
Присмотрев удобное местечко за кюветом дороги, он уселся на небольшой валун и достал свой паек.
По сторонам не было ничего примечательного: унылые, заросшие бурьяном поля, поникшие жухлые травы и кое-где небольшие голые рощицы. Может быть, при ярком солнечном свете природа еще и блеснула бы своей осенней красой, но сейчас, в тумане, все казалось однообразно серым и скучным, сырость охватывала лицо, руки, постепенно забиралась под шинель.
Крутов поежился. На какой-то момент его внимание привлекла одинокая ворона, летевшая лениво взмахивая крыльями, над полем Крутов не любил этих птиц. Он не верил в приметы, но ворона всегда вызывала у него представление о чем-то тоскливом, сыром, мрачном. «Разве стукнуть от нечего делать? — вдруг пришла в голову озорная мысль — Я и стрелять-то, наверное, разучился!» Оставив сухари, он привычным движением потянулся к кобуре, нащупал холодную рукоятку пистолета и, не глядя, взвел курок. «Не попаду, наверное. Так только, напугаю...»
Он медленно поднял руку, взял упреждение и плавно нажал на спусковой крючок. Ворона комком упала на землю.
— Зачем же вы птичку убили? — вдруг совсем рядом раздался женский голос.
Крутов резко обернулся. Покачивая головой, на него с укором смотрел сержант в шапке-ушанке с большой красной звездочкой.
«Девчонка, — мелькнуло в голове Крутова. — Откуда она взялась?» Светлый чуб выбивался из-под шапки и свисал на лоб девушки-сержанта. Аккуратно пригнанная шинель ладно охватывала ее фигуру. Вот только кирзовые сапоги были не по ней, с короткими и широкими голенищами. Захваченный на мальчишеском поступке, Крутов покраснел. И дело было не только в этом глупом выстреле. Он всегда чувствовал себя неловко в женском обществе. Почему, он и сам объяснить не мог, но замолкал и становился не самим собой.
Однажды, в смоленских болотах, в бою под Свитами, ему пришлось увидеть медицинскую сестру — молодую интересную девушку в ватнике и сапожках, с сумкой через плечо. Несмотря на артиллерийский обстрел, она с завидным спокойствием ходила по болоту, перевязывала раненых и вела себя так, словно была застрахована от смерти.
Когда очередной снаряд со свистом ухнулся в болото и взметнул фонтан мокрой земли рядом с Крутовым, он инстинктивно ткнулся головой в кочки. Медсестра направилась было к нему, но, убедившись, что он не ранен, отвернулась и пошла вдоль цепи залегших бойцов. Ему тогда даже стыдно стало своего малодушия.
Вечером, выйдя из боя, Крутов увидел ее еще раз. Она стояла возле дерева и старалась травой оттереть грязь со своих сапожек.
Если бы она обернулась к нему, если бы заговорила с ним о чем-нибудь... Но она устало терла свои сапожки и ни на кого не обращала внимания.
Это была храбрая и славная девушка, но у него не хватило духу ни заговорить с ней, ни завязать знакомство. Он просто постоял около и скрылся.
Он не склонен был к коротким увлечениям, не хотел преступать законы верности. Ведь на его небосклоне тогда сияла звезда — Иринка... «А теперь?..»
Все это пронеслось в голове Крутова в одно мгновенье, и, вероятно, он выглядел немного обалдевшим, так как девушка-сержант рассмеялась и спросила:
— Я вас напугала?
В ее глазах прыгал любопытный бесенок, как когда-то, в день первого знакомства, в глазах его Иринки.
— Вам жалко ворону? Почему же вы не сказали этого минутой раньше? — вопросом на вопрос ответил Крутов, чувствуя, как к нему возвращается то хорошее настроение, с каким он покинул госпиталь.
— А я думала, вы промахнетесь! — призналась она.
— Какое единство мыслей! Представьте, я тоже так думал. Вот даже сухари не дожевал... Может, хотите? — Он великодушно вытянул из кармана шинели аппетитно подрумянившуюся горбушку.
— Спасибо... У меня есть свой паек, сама могу вас угостить.
— Вот и чудесно, а я боялся, что мне своего не хватит, — пошутил Крутов. Ему не хотелось, чтобы она ушла, и он всеми силами старался продлить разговор. — Уж очень вы неожиданно подошли. Как это я не заметил вас раньше? — говорил он, помогая девушке снять вещевой мешок.
— Вы были так увлечены вороной, — рассмеялась она, — что могли не заметить колонну машин, а не только меня! — Разговаривая, она достала банку консервов, хлеб и еще что-то, завернутое в бумагу.
— Раскройте! — сказала она, подавая ему консервы.
— Вы говорите мне так, словно наперед знаете, что у меня есть нож.
— Раз человек метко стреляет...
— А человека зовут Павлом, — вставил Крутов.
Она метнула на него любопытный взгляд и, чуть усмехнувшись, продолжала:
— Значит, он любит оружие, а если так, он обязан иметь при себе нож.
— Смотрите, какая убийственная логика!
Крутов сдвинул ее и свой паек в одно место.
— Давайте дружно навалимся и съедим все. Хорошо?
— Ладно, — просто, без церемоний согласилась девушка.
Вскоре пустая банка полетела в кювет. После нескоро съеденного обеда обоим захотелось пить.
— Собирайтесь, — сказал Крутов, — где-нибудь найдем чистый ручеек.
Девушка быстро переложила поплотней содержимое своего мешка, и Крутов с удивлением увидел все ее небогатое имущество, шелковое платье, туфельки, кусок стальной отполированной пластинки, служившей зеркалом (из танка, — догадался Крутов), полотенце, сапожную щетку, сверток бумаг и другую мелочь. Ни у одного бойца такого не увидишь.
— Платье для танцев?
— Нет, — вздохнула девушка и ласково погладила шелковую текучую ткань. — Для памяти. Это мое самое любимое платье. В нем я танцевала в день окончания школы, в нем я буду танцевать в День Победы.
— Хорошо, кто дождется этого дня, — задумчиво сказал Крутов В этот миг перед ним так ясно встала судьба его Иринки «Тоже мечтала, думала, ждала...»
— Ничего, довоюемся, — решительно заявила девушка и, поднявшись, забросила мешок за плечи. — Идемте, что ли. А то и часть свою не найдешь!
Дорогой завязался непринужденный разговор, и они не заметили, как прошли несколько километров. Машины обгоняли их, обдавали запахом перегоревшего бензина, а они шли да шли, лишь чуть-чуть принимая вправо. Девушка охотно рассказывала о себе, о школе, парке, театрах, улицах родного Свердловска, загородных прогулках. Крутов легко представлял все это в своем воображении. Он сам прожил несколько лет в Свердловске и очень любил этот город.
Ее дорога в жизни была ясна и по-солдатски сурова, как и у многих девушек в годы войны. Сразу после окончания школы Лена Лукашева пошла учиться на краткосрочные курсы медицинских сестер. Летом сорок второго года она была уже на фронте. Некоторое время служила в санитарной роте, присматривалась к новой для нее фронтовой жизни, оценивала свои силы. Потом попросила назначения в разведывательный взвод — там нужен был санинструктор. Если бы раньше ей кто сказал, что она способна вынести из боя раненого мужчину, она бы не поверила. Оказалось — способна!
Жизнь разведчиков полна опасностей, и редко кому удается долгое время оставаться невредимым. Лена тоже не миновала этой участи и уже покидала из-за ранения полк...
— А сейчас откуда? — спросил Крутов.
— Мы идем с вами одной дорогой, — ответила она.
— Ранена во второй раз? — удивился он.
Лена кивнула головой. Крутов недоверчиво посмотрел на нее, и она перехватила этот взгляд.
— Не верите?
— Верю, что вы санинструктор, потому что у вас на погонах змея, но... насчет разведки сомневаюсь. Как-то вам не по комплекции такая профессия, — откровенно признался он.
Тогда она молча расстегнула шинель. На груди блестели ярко начищенная медаль «За отвагу» и орден Красного Знамени. На правой стороне уже были пришиты две красные ленточки. Крутов знал им цену. Можно не верить словам, но нельзя сомневаться в этих ленточках — отметках ранений.
— Простите, я не хотел вас обидеть, — проговорил Крутов. «Вот так девушка», — с удивлением подумал он.
— А вы? — спросила она. — Что же вы не расскажете о себе?
— Я-то не очень удачлив, — ответил он. — Вероятно, и в госпиталь попал по глупости. Ждал штрафной роты, но, кажется, обойдется...
Он откровенно рассказал ей обо всем. Лена слушала его с явным сочувствием.
— Вам бы следовало поработать в санитарной роте, — сделала она неожиданный для него вывод.
— Что вы! Я боюсь крови... — признался Крутов.
— Вот и хорошо. Наслушались бы криков, стонов, нанюхались бы крови до тошноты, так больше берегли бы и себя и людей.
Идти им было по пути. Она шла в часть, стоявшую неподалеку от рощи, где находился полк Чернякова. Свернув с большака на проселочную дорогу, они пошли через поле. Когда проходили ухабистым местом, Крутов взял ее под руку:
— Разрешите?
Взглянув внимательно, она задержала на нем пытливый серьезный взгляд.
— Вам, — она помедлила с ответом, не сводя с него глаз, — разрешаю.
Он крепче прижал ее руку к себе и, испытывая неизъяснимое волнениие от ее близости, чуть склонившись к ней, спросил:
— Значит, только мне такая милость?
— Только вам!
— Почему? — стараясь заглянуть в ее лицо, продолжал допытываться он.
— Так... — пряча глаза и зябко поеживаясь, неопределенно ответила она. — Пойдемте быстрей, мне холодно.
Вскоре им пришло время идти разными дорогами. Они остановились, помолчали. Сказать хотелось многое, а времени было только-только попрощаться, и они стояли молча. Он держал ее маленькие пальчики в своих больших руках, грел их, даже сжимал их очень крепко, и она не отнимала рук, хотя порой, наверное, ей бывало больно.
— Вы же поломаете мне руки, — смеясь, говорила она. — Кому нужна будет калека?
— Мне!
— Это вы только сейчас так говорите!
Шутливое выражение сбежало с его лица.
— Скажите, я могу рассчитывать на откровенность? — спросил он, понимая, что молчанием и шутками ему не закрепить этого знакомства.
— Я и так с вами откровенна, как ни с кем!
— Может быть, это покажется вам смешным... но... но вы... свободны?
— Я не понимаю вас, — она потупилась, ковырнула носком сапога землю.
— Ну, как это объяснить... Вы любите кого-нибудь?
— Зачем это вам?
— Странный вопрос! — Он пожал плечами. — Стал бы я спрашивать, если бы это не было для меня так важно.
— Нет, — покачала она головой. — Я любила, но это было давно — в школе...
— А вы могли бы когда-нибудь... полюбить такого, как я?
— Я вам пока ничего не скажу, — ответила она, стараясь высвободить свои пальцы. — С этим не шутят!
— Разве я шучу! — Крутов вздохнул и отпустил ее руки. Раскрыв полевую сумку, он достал блокнот и записал ее адрес — номер полевой почты.
— Я могу ждать ответа?
— Да, — тихо произнесла она.
— И вы ответите на мой вопрос?
— Со временем, может быть...
Поправив на плечах вещевой мешок, она подала ему руку:
— Счастливого пути вам!
— До свиданья! — ответил он крепким пожатием. — Берегите себя, не рискуйте зря.
— И вы тоже, ладно? Обещайте мне! — Лена смотрела на него ясными и немного грустными глазами. — Хороших людей гибнет так много...
Крутов долго смотрел ей вслед, потом пошел своей дорогой, все время оборачиваясь в ее сторону. Раза два и она оглянулась и даже помахала ему рукой. Но вот она скрылась за пригорком, и сразу вокруг помрачнело, даже туман словно еще более сгустился и стал тяжелее. Дорожка, вильнув, спряталась во мгле, но Крутов знал — недалеко роща, землянки и жаркий огонек в камельке. И он прибавил шагу.
Подразделений полка в роще уже не было, они ушли на исходное положение. Переночевав в землянке тыловиков, Крутов чуть свет пошел на передовую отыскивать свой полк. В штаб он пришел, когда грянула артиллерийская подготовка. Тут было не до разговоров, и начальник штаба приказал ему идти на наблюдательный пункт к Чернякову.
— Ну что ж, располагайся! — сказал полковник Крутову, словно тот вовсе и не отлучался из полка.
Располагайся! В этом слове — большой смысл. Это значит — садись к телефонам и узнавай обстановку, проверяй, на месте ли командиры батальонов, будь начеку. Все это Крутову знакомо, близко и не потребовало ни расспросов, ни разъяснений. Бой ушел куда-то вперед, и сейчас важнее слушать, чем наблюдать, тем более в такую погоду.
Черняков, нахмурившись, не отнимал трубки от уха. Хотя его полк во втором эшелоне, но он имел возможность слышать все, о чем докладывали генералу другие командиры полков, так как находился на одной с ними линии связи.
Дыбачевский не стеснялся в выражениях, видимо нервничал:
— Вот сволочь, как кроет! Прямо по своим траншеям. Что он их, заранее пристрелял, что ли? — говорил он то ли сам с собой, то ли с офицерами, находившимися с ним рядом. И вдруг четко, громко, в трубку: — Коротухин! Коротухин, ты что там делаешь? Как у тебя? Доложи!..
— Заняли первую траншею. Продвигаемся...
— Ты уже который раз говоришь мне об этом, а сам ни с места. Какого черта целый час топчетесь в этой траншее?
— Огонь мешает, — глухо и уныло ответил Коротухин. — Пулеметы режут, и не видно откуда...
— Так давите их своей артиллерией! — закричал генерал. — Затвердил, как дятел: «Огонь, огонь!..» Вперед, я говорю. Вперед!
К полудню части сообщили, что ими заняты деревни Зоолище и Шарики, находившиеся за второй линией траншей. Потом последовали частые телефонные подстегивания:
— Продвигайтесь, продвигайтесь! Выкатывайте орудия на прямую наводку, и вперед! — охрипшим, усталым голосом приказывал Дыбачевский.
— Противник оказывает сильное сопротивление...
— У вас же артиллерия! — повышал голос генерал. — Что-о... я за вас должен командовать? Подымайте людей, и вперед!
Из донесений было ясно, что продвижению мешают огневые точки противника, но где они и сколько их? Окутавший землю туман скрывал вражеские позиции. Черняков почувствовал, что сейчас придет пора действовать его полку, и не ошибся.
— Давай, включайся! — сердито сказал ему по телефону Дыбачевский, словно это Черняков был виновен в том, что из генеральского блиндажа не видно поля боя. — Действуй, как договорились!
Это значило — двумя батальонами закрепить за собой Зоолище и Шарики, оглядеться и развивать наступление, втиснувшись на стыке между двумя полками.
Черняков взялся за другой телефон, чтобы передать приказ. Когда на дороге показалась колонна, бойцов еремеевского батальона, он подозвал Крутова:
— Проследи!
Крутов побежал к батальону, который поротно подходил к бывшей нейтральной полосе.
— А, пропавшая душа! — крепко пожимая ему руку, воскликнул Еремеев. — Вернулся-таки! Говорил, иди на роту, вот ничего бы и не случилось.
— Ничего, живы будем — не помрем. Потерплю и без роты!
Нейтральная полоса, где еще только вчера надо было пригибаться при вспышке ракеты, ползти, когда вражеский пулеметчик сыпал в темноту трассирующими пулями, изменила свое лицо. Повсюду танки и орудия проложили следы — широкие незастывшие полосы, черневшие среди жухлых трав. Не все танки прорвались через эту полоску земли. Были обгоревшие, разнесенные взрывом на куски, были завалившиеся в. воронки и ждавшие, когда их оттуда вытянут, были подорвавшиеся на минах. Под одним из таких нашел приют передовой санитарный пункт. Раненые, выделяясь свежими белыми повязками, жались к броне, ожидая отправки в санитарный батальон дивизии. У дороги кучками лежало снесенное трофейными командами немецкое и свое оружие, лопатки, коробки с пулеметными лентами.
Крутов рассмотрел сквозь туманную дымку незахороненные и сливавшиеся с землей своими серыми шинелями трупы. Сердце екнуло: «Вот, не дошли...» Радостное настроение оттого, что передний край все же прорван и наступление идет, чуточку померкло. К смерти никогда не привыкнешь.
Вся траншея противника была разворочена разрывами снарядов, но ходы сообщения и блиндажи на обратном скате высоты остались целыми. По траншее сновали с делом и без дела бойцы.
Незнакомый Крутову старший лейтенант стоял возле пулемета в широком вместительном окопе. По его указаниям пулеметчик нацеливался куда-то в туман и нажимал гашетку. В ответ из серой мглы, взвизгивая, тоже летели пули, чиркали по брустверу окопа, и тогда, поругиваясь беззлобно, все, кто находился поблизости, на некоторое время приседали в окопе.
— Не знаете, наши далеко ушли?
— По-моему, не дальше, чем я! — ответил Крутову офицер.
— Вы из первого эшелона? А что же сидите, не наступаете?
— Туман. Не видно куда. Сами видите, как он жарит, а откуда — не разберешь. Сначала хоть артиллерия работала как следует, а сейчас перестала.
— Заставьте!
— Говорят, два «бэ-ка» уже израсходовали, больше нельзя. Да и куда палить? Белый свет велик!
Чтобы наступать, надо было прежде всего избавиться от толчеи в окопах. Полк Коротухина лишь к вечеру потеснился вправо, давая самостоятельную полосу для наступления полку Чернякова.
С темнотой усилился артиллерийский огонь противника. Откуда-то из Бояры — деревни, находившейся далеко во вражеском тылу, била батарея тяжелых орудий. Методический, размеренный до минут огонь угнетающе действовал на нервы.
Крутов сидел рядом с Еремеевым в окопе.
— Долго еще будем так ждать?
— Ты же сам видишь, — нехотя отвечал Еремеев, — неизвестно, где противник, сколько. Послал разведку, а пока... — Нарастающий вой снаряда прервал разговор. Оба, втиснув головы в плечи, прижались к земле. Всколыхнув воздух, грохнулся тяжелый снаряд. Следом еще два. По окопу, как сквозняком, пронесло запахом взрывчатки. Забарабанила вскинутая взрывами земля, провизжали осколки.
— Сволочь... — отплевываясь от пыли, проговорил Еремеев. — Смотри, как пристрелялся... Батареей...
— Ну, так как, двигаем? — взялся за свое Крутов.
— Вывести людей под пулеметы не хитро...
После целого дня напряжения трудно заставить бойца оторваться от траншеи. Все тело, каждая жилка требуют отдыха хотя бы и в окопе, пусть даже и под огнем. Крутов это понимал, но он здесь для того, чтобы приказ командира полка выполнялся.
— Выведем людей вперед, противник сам покажет себя...
— Отстань. Сам знаю, что делать! — сердито ответил Еремеев.
— Хотите отсидеться? — вспылил Крутов. — Разведка так же где-нибудь боками траншею отирает, а вы? Приказ обязаны выполнять или нет?
— Видишь, соседи молчат, а мы что?.. Ночь!
Первый раз за долгую службу в полку ссорился Крутов с человеком. Он понял: комбаты чувствуют общее затишье и думают просидеть ночь спокойно. Оправдаться потом легко: не мы одни сидели — все. Рывком выбросившись из окопа, Крутов помчался к командиру полка.
— Прикипели комбаты к траншее, никак их не сдвинешь, — доложил он Чернякову. — Правда — ночь, не знаем, где противник, не видим его, но и он нас не видит. Значит, можно просочиться, незаметно напасть. Самое время для наступления, пока противник не пришел в себя, днем будет хуже...
— Ты прав, — что-то обдумывая, сказал Черняков и вызвал к телефону Еремеева.
— Что ж это вы? Я на вас надеялся...
Еремеев что-то говорил в оправдание.
— Хорошо, подождите! — Отложив одну трубку, Черняков взялся за другую. Ему ответил начальник оперативного отделения дивизии, майор.
— Разбудите генерала, я с ним посоветуюсь, — попросил его Черняков.
— Только лег, не велел будить, — сказал майор. — О чем там советоваться? Наступайте. Задача прежняя, и ее никто не отменял.
— Другие-то молчат, — возразил Черняков.
— Что вам на других смотреть, — как можно убедительнее сказал майор. — Спросится-то с каждого порознь. Вы начинайте, а я и других подшевелю!
Черняков стал разговаривать с комбатами, а Крутов снова пошел в батальон Еремеева. Комбат к этому времени перешел из траншеи в немецкий блиндаж. Горела окопная свечка в картонной плошке. Над плошкой у стола сидел телефонист и, с трудом осиливая дремоту, глухим голосом говорил:
— Цветок, Цветок, я — Пальма! Поверка.
Было душно. Бойцы вповалку спали на двухъярусных нарах, кто как сумел примоститься.
— Комбат, — громко позвал Крутов, — приказано поднимать людей!
В блиндаже завозились, на нарах стали приподниматься головы, кто-то спросонок выругался.
Вместе с холодным воздухом в блиндаж шумно ворвался Малышко с разведчиками. Они привели пленного. Молодой белобрысый немец в пенсне и натянутой на уши пилотке испуганно озирался по сторонам.
— Противника близко нет, — рассказывал Малышко, — мы с километр прошли — никого! Потом вдруг слева пулемет. Подобрались, нагрянули, двух уложили, а этого субчика прихватили... Давай, товарищ майор, двигай свое войско! — весело закончил он, довольный собой, своими разведчиками и тем, что им удалось так просто захватить «языка».
Поманив за собой Крутова в угол, он зашептал:
— Ты знаешь, что говорит этот Альберт? Они ждали нашего наступления. Вот, сволочи, подслушали... У них тут была целая команда со специальными аппаратами, а наши в открытую по телефонам шпарили. Правда, поздно, говорит, узнали. Только и успели кое-где пехоту из-под удара выдернуть. Вообще-то ку-у-льтурный тип, какой-то там университет кончил!.. Хочешь, поговори с ним, он по-русски немного кумекает...
Пленный снял пилотку и осторожно пригладил прилизанные волосы. Он старался держаться поближе к Малышко и, увидев у него в руках портсигар, попросил закурить. Пальцы его дрожали.
— Ну его к дьяволу, времени нет, — отмахнулся Крутов. — Сейчас пойдем, тут не до него... Веди его побыстрей к Чернякову, может, он еще что путное знает...
Батальон начал наступать, и комбат прошел мимо Крутова вместе со своими связистами. Наступали осторожно, ощупью. Развернув роты в боевой порядок, Еремеев двигался вместе с ними. На случайные выстрелы бойцы не отвечали. Крутов держался рядом с комбатом, но на душе было неприятно, когда пули летели откуда-то сбоку, чуть ли не сзади. Правда, с правого фланга их прикрывал батальон Усанина, но чем черт не шутит?.. Вдруг засада!
Неожиданно впереди взвилась ракета. Она еще не долетела до земли, как ударила пулеметная очередь. Кто-то вскрикнул от боли, кто-то заорал: «Ложись!»
По кювету дороги, пригибаясь, бежал боец, спрашивая на ходу комбата.
— В чем дело? — откликнулся Еремеев.
— Товарищ майор... Докладывает боец Бабенко. Там пулемет. Командир роты спрашивает, что делать.
— Что? Вас учить? — крикнул Еремеев, в негодовании поднимаясь в кювете во весь рост. — Забыли?
— Что вы, товарищ майор, — оторопел боец, сроду не видевший комбата в таком гневе. — Да мы сами, мы только спросить...
Но Еремеев, не слушая его, уже бежал по кювету к командиру роты. «Э, — подумал Крутов, — правду говорят, в тихом-то омуте чертей вдвое!» Вскочив, он помчался следом. Еремеев насел на командира роты:
— Забыли? Забыли, чему учил вас полмесяца? Пулемет! — злобно передразнил он, даже не пригнувшись, когда трассирующие пули, свистнув над головой, унеслись вдаль. — Встать, когда старший командир стоит! — снова заорал он на ротного. — Действуйте, а не разводите руками!
— Кудря! Подавить пулемет! — приказал командир роты.
— Разрешите и мне? — обратился Бабенко.
— Давай! Быстрей...
Из темноты донеслась тихая команда: «Тачкой вперед. Пошел, ребятки!» Прошуршала по мерзлой земле плащ-палатка.
Вражеский пулемет, было замолчавший, снова сыпанул пулями. В ответ гулко ударил станковый пулемет Кудри.
— Наш перекукует немецкого, — сказал боец, лежавший рядом с Крутовым. — Кудря на эти дела мастак. Он «барыню» на своем пулемете выстукивает...
«Максим» замолчал. Молчал и вражеский пулеметчик. Рванув тишину, грохнула противотанковая граната.
— Ну, что, долго они там будут копаться? — подал голос Еремеев.
Послышались шаги торопливо идущих людей. Бабенко, бросив к ногам немецкий пулемет, сказал:
— Вот, трофей. Ваше приказание исполнили.
Этой ночью еще не раз вспыхивала перестрелка, но батальон упорно продвигался вперед, пока не вышел к тому месту, которое указал на карте Черняков.
Еремеев обосновался прямо на дороге, в глубокой воронке, вырытой реактивным снарядом. На Крутова он сердился и избегал разговора. Полковые связисты, тянувшие линию за батальоном, собрались в обратный путь. Крутов присоединился к ним. Вдоль дороги отдельными группами бойцы долбили землю. Это Усанин прикрывал Еремеева от возможной контратаки во фланг.
Черняков перешел в тот самый блиндаж, который оставил Еремеев. Было шумно. Связисты перекликались со своими промежуточными контрольными постами, громко разговаривали офицеры. Коротко доложив обстановку в батальоне, Крутов присел в самом углу блиндажа.
Усталость брала свое. Постепенно он потерял нить разговоров, задремал. Он еще помнил, как ушел из блиндажа Кожевников «подтолкнуть тылы», как спрашивал по телефону Черняков Усанина про его успехи, но это уже урывками. Помнил, была мысль, как бы его не послали опять куда, и на этом все обрывалось. Крутов уснул, будто канул в воду.
Глава десятая
Вспомогательный пункт управления армии — ВПУ — размещался на небольшом удалении от линии фронта в деревне Черноручье.
Громыхание своей артиллерии доносилось сюда, как раскаты далекой грозы. В окнах тонко и жалобно звенели стекла, вздрагивая, когда сильные удары сотрясали землю. «Пушечная бригада», — отмечал про себя Березин.
Потом громыхание прекратилось. Скупые строки телеграфных лент донесли, что части ведут бой в глубине обороны противника. В двенадцать часов Березин передвинул на своей карте красные полукружья наступающих дивизий на зубчатую линию переднего края обороны противника. В два — перенес их чуть вперед — заняты деревни Зоолище и Шарики. В три — положение не изменилось. Только у Безуглова, наступавшего левее Дыбачевского, части продвинулись на два километра. Наступление затухало.
Почему? — этого Березин не мог прочесть в донесениях, узнать по телефону. Не раздумывая, он выехал в войска, чтобы своими глазами увидеть положение дел и понять, отчего исходит неясность.
Туман мешал видеть, что делалось по сторонам дорог, но Березин и без того знал, что все овраги и рощицы до отказа забиты войсками артиллерией, машинами. Это свежие части — гвардия. Ему очень важно определить — не настал ли момент для ввода их в бой? Бросить их в наступление, когда моральное состояние обороняющихся частей противника еще не надломлено, значило растратить силы понапрасну на второстепенные задачи. Опоздать — все равно, что боксеру нанести удар, когда противник уже от него закрылся.
Судя по донесениям, гвардию вводить рано. Но, если Безуглов еще продвигается, не намечается ли у него что-нибудь похожее на успех? К нему и направился Березин.
На наблюдательном пункте он застал горячую суету сборов. Майор — начальник оперативного отделения — доложил:
— Генерал ушел на наблюдательный пункт командира полка.
— Указывайте дорогу, — приказал Березин, усаживая майора в свою машину.
Безуглова они нашли в окопе, недавно отбитом у противника. Он не спеша доложил Березину, что ведет бой двумя полками, что противник сопротивляется и отступает без всякой паники.
Безуглов озабоченно сдвинул брови, припоминая, что еще необходимо доложить командующему.
— Так вот, — сказал он, — неожиданности у нас не получилось, болтаем много, когда молчать надо, а теперь из-за каждого куста приходится выковыривать пулеметчиков, своих солдат класть.
Это была суровая, неприятная правда, и Березин смолчал: он это уже знал.
— Приказал Томину спать, а как стемнеет — пущу на Бояры, — продолжал Безуглов.
— Правильно! — сказал Березин. — Главное — не дать передышки немцу. Перестраивайтесь на ходу, просачивайтесь в тыл и разворачивайтесь у него за спиной. Где надо, действуйте мелкими группами, больше шуму. К утру Бояры должны быть у вас!
— Возьму! — пробасил Безуглов.
Березин выехал в обратный путь, твердо уверенный, что для гвардии время еще не пришло. Еще он был почему-то уверен, что Безуглов обязательно возьмет Бояры. Нравились ему люди, умеющие в любой обстановке оставаться деловитыми и напористыми.
Вернувшись на ВПУ, Березин, забыв о времени, еде, отдыхе, отдался делу. Он любил целиком погружаться в работу, любил, когда становилось тесно во времени до того, что вздохнуть некогда, когда забываешь о себе, а только чувствуешь — остановись, и замрет, как птица на лету, вся сложная машина руководства боем. Обычно он умел заставлять себя сосредоточиваться, но сейчас, о чем бы ни приходилось думать, в голове неотвязно стояли Бояры. Хотелось узнать, как идут дела, но он терпеливо ждал сообщения от Безуглова, не желая дергать его телефонными разговорами. «Двинуть полк с места и то надо время, а тут взять такую деревню. Позвонит сам», — думал он, совершенно не предполагая, что события уже идут полным ходом.
В эти напряженные часы Березин как-то бессознательно не придал значения строкам донесений с наблюдательных пунктов о том, что на стороне противника замечено зарево. Мало ли что может гореть во время наступления? Он не замечал за работой хода времени, и поэтому сообщение Безуглова прозвучало для него так неожиданно. Безуглов докладывал, что взял Бояры: захвачены дивизион тяжелых орудий, пленные, трофеи. Решил снять остальные полки и двинуть по горячему следу. В заключение Безуглов попросил предупредить соседей: пускай сами побеспокоятся о флангах.
— Отлично! — воскликнул Березин. — О флангах не беспокойтесь. Утром приступим к выполнению второго этапа операции, а пока вашей дивизии придется действовать одной. Передайте отличившемуся полку мою благодарность. Что нужно дивизии? Гаубичные снаряды? Да, у меня с гаубичными тоже бедно, но для вас прикажу выделить. Немедленно распорядитесь выслать машины. В ваше распоряжение передаю полк истребительной артиллерии. Используйте его смело, на эти орудия боеприпасы не лимитированы. Пробивайтесь вперед. Королево к утру должно быть ваше!
Березин был очень доволен, что удалось захватить деревню Бояры. Если еще удастся овладеть Королевом, тогда прорыв перехлестнет за артиллерийские позиции противника и можно смело вводить в бой гвардию. Воодушевленный, он мерил скорыми шагами комнату и восклицал:
— Молодец! Честное слово — молодец! Теперь пойдет! — Под «пойдет» он разумел разворот всех действий на следующий день, поэтому надо было продумать расстановку сил всей армии. Следовало вызвать начальника штаба.
Когда Семенов вошел, Березин кивком головы пригласил его к столу.
— Обстановка в корне меняется в нашу пользу, — сказал он. — Безуглов взял Бояры...
— Зато у Дыбачевского застой! — вставил Семенов. — Получается разрыв...
— Надо подхлестнуть всех, не только его. Это важно на будущее...
Семенов достал блокнот и стал делать в нем быстрые пометки, изредка наклоняя голову в знак того, что приказание понято и разъяснений не требуется. При каждом кивке тускло взблескивала еле прикрытая светлыми волосами облысевшая макушка.
— Напишите отдельный приказ, — продолжал Березин, расхаживая по комнате. — Томина и всех отличившихся при захвате Бояры — наградить. Ночные действия пропагандировать всеми доступными средствами, вплоть до повышения отличившихся сержантов и офицеров в звании и должности. Второе: надо приблизить медсанбаты и командные пункты дивизий, полков к передовой. Кстати, не кажется ли вам, что и нам с вами было бы полезнее находиться поближе к войскам?
Семенов кивнул головой:
— Будет исполнено, товарищ командующий!
— Главное, проследите, чтобы гвардия чуть свет уже приступила к выполнению задачи, — предупредил Березин. — Я надеюсь, что к утру у нас будет Королево, а это ключевая позиция, кто ею владеет, у того большие преимущества.
Дыбачевский, разбуженный среди ночи, долго не хотел подниматься. Он не любил бодрствовать ночью. Сама природа предопределила — ночь для сна и покоя, и что за смысл будить его, когда кругом затишье? Хорошо и так, что он, генерал, уже трое суток невылазно торчит в этом погребе-блиндаже.
— Товарищ генерал, — не унимался и тряс его за плечо офицер, — срочно... Из штаба армии.
Слова о штабе заставили Дыбачевского немедленно подняться. Он аппетитно еще раз потянулся, рывком сбросил с нар ноги и сел.
— Что такое? Давай!
Офицер подал ему развернутую папку.
...Вместо решительных активных действий ночное время, — гласил полученный приказ, — когда противник измотан дневными боями, командиры дивизий частей спокойно свернули боевые действия наступлением темноты».
Дыбачевский недовольно поморщился.
«Отмечая плохие действия... — тут упоминалась и дивизия Дыбачевского, — ставлю пример ночные действия Томина тчк. Наступлением рассвета энергично продолжать выполнение задачи прежних границах».
Приказ излагался кратким телеграфным языком, минуя союзы и запятые. Он был длинный, на трех страницах, и подробно намечал задачу дня для гвардейцев и всей армии.
Настроение было испорчено надолго. «Везет же человеку, — думал Дыбачевский о Безуглове. — У всех ничего, а он взял такую деревню, как Бояры». В душе он считал себя намного способнее Безуглова, а вот поди ж ты... не везет.
— Распишитесь, товарищ генерал! — попросил офицер и подал ему в руки карандаш.
Дыбачевский сердито, будто колом, двинул карандашом поперек листа. Впав в дурное расположение духа, он накричал на своего начальника разведки, не сумевшего толком доложить обстановку, потом на командиров полков. Даже Черняков, на свой риск наступавший ночью, и тот не миновал общей участи.
— Только бы вперед, — гневно выговаривал ему по телефону Дыбачевский, — а фланги? Где противник, сколько, вы узнали?
— Я принял необходимые меры, — как можно спокойнее ответил Черняков.
— Знаю ваши меры! Вот отрежут, тогда запоете: «Товарищ генерал, выручай!..»
— Прикажете вернуться?
— Что-о? Устанавливай локтевую связь с Коротухиным!..
Вместе с рассветом в блиндаж пошли офицеры различных служб со своими запросами, нужными и ненужными бумагами. Приехал и начальник штаба дивизии. Он попросил из блиндажа офицеров и, оставшись наедине с генералом, сказал:
— Требуют характеристики на командиров полков.
— Что у них там — горит? Не могут подождать? Не знаешь, чем заниматься: то ли боем руководить, то ли бумажной волокитой...
— Срочно требуют, в армию! Я проектики набросал! — Невозмутимо постукивая, по столу карандашом, он ждал, пока Дыбачевский прочтет и подпишет уже составленные характеристики.
«Тактически грамотный и инициативный командир...» — прочтя эти слова про Чернякова, Дыбачевский фыркнул и похлопал себя по шее:
— Вот где у меня его инициатива сидит! Дай-ка сюда карандаш, я сам напишу!
«Не обладая достаточной теоретической подготовкой, увлекается решением мелких, второстепенных вопросов, в ущерб главной боевой задаче, — появились новые строки взамен зачеркнутых. — Вместо насаждения твердого единоначалия в полку придерживается в командовании ложнодемократических принципов руководства. В результате имелись случаи своеволия, проявленные со стороны младшего офицерского состава, что привело к напрасным жертвам и материальным затратам».
Дыбачевский со злорадством поставил точку, очень довольный тем, что удалось поприжать Чернякова. «Ложнодемократические принципы... С этим, брат, шутки плохи, недалеко ускачешь!»
Занимался новый день. Расплывались в сгустившемся к утру тумане низкие ракитовые кусты. Репейники по межам, опушенные инеем, казались призрачно-нежными и неуместными в этой суровой картине.
Дорога, пересекавшая передний край, вынырнув из ложбины, круто взбиралась на пригорок и пряталась в серой мгле. Где-то там батальоны. К ним медленно, катимые вручную, движутся орудия полковой батареи.
Дохнул еле уловимый ветерок, обдал холодком лицо Чернякова, вышедшего из блиндажа, шевельнул тонкие ветви ракитника и сорвал с него пушистые хлопья инея.
— Наконец-то, — облегченно сказал Черняков. — Может, разгонит, а то как в мешке...
Серая мгла колыхнулась и стала нехотя приподниматься, открывая взору окрестности. Внимание Чернякова привлекла суета на батарее.
— Крутов! — крикнул он. — Принеси мне, пожалуйста, бинокль!
Вышедший на зов офицер, подав бинокль, тоже уставился на батарею. А там происходило непонятное: артиллеристы развернули орудия на деревню, из которой только что вышли, и попрятались за щиты.
— Ничего не пойму, — бормотал Черняков, пожимая плечами. Внезапно орудия окутало дымом. Грохнул залп, другой, и каждое орудие стало бить самостоятельно, беглым огнем. Разрывы слышались рядом, буквально в двух-трех сотнях метров от наблюдательного пункта.
— С ума сошли! По своим! — воскликнул Черняков. — Медведев, Савчук, сюда! — вызвал он офицеров-артиллеристов.
Крутов вскочил было на блиндаж, чтобы лучше видеть, по какой цели бьют артиллеристы, и тут же скатился обратно.
— Товарищ полковник, они по немцам! Рядом с нами в окопах немцы!
— Как же так, там же должны быть коротухинцы? — недоумевал Черняков. — Ага, они ночью проникли на стыке полков! Вот наделали бы хлопот...
Командир артиллерийской группы поддержки капитан Медведев вдруг гаркнул во всю силу:
— Вторая батарея, к бою!..
Пока командир готовил данные, телефонист доложил:
— Вторая батарея готова.
Медведев взмахнул рукой:
— Огонь!
Позади окопов ударили гаубицы, с шепелявым шуршанием пронеслись над головами снаряды. Они разорвались в низине, где копошились гитлеровцы, пытавшиеся повернуть тяжелое противотанковое орудие на открытую со всех сторон полковую батарею.
Черняков подивился зоркости его глаз. Разглядеть среди кустарника замаскированное орудие! Он крепко потряс руку Медведеву.
Издалека подали свой голос батальоны. Бой разгорался по мере того как взорам людей открывалась земля, освобождавшаяся из-под власти тумана.
Малышко, поднявший своих разведчиков «в ружье», вскоре вернулся с двумя пленными.
— Коротухинцы раньше нас успели, им совсем близко было. Они взяли двадцать шесть, — доложил он, поблескивая глазами.
— Ни чего. Все равно в один котел! — Черняков, довольный, потер руки и, засмеявшись, махнул рукой: — Где наше не пропадало!
— Прикажете вести в дивизию? — спросил Малышко.
— Сначала сюда, посмотрим, что за птицы-фрицы!.. А впрочем, не до них, веди...
Показались домики деревни Кожемякино. По всей широкой лощине от дороги до самой деревни, в одиночку и группами поднимались из окопчиков немцы и уходили.
Черняков схватил трубку телефона и закричал:
— Еремеев, Усанин! Что же вы?.. Ведь из-под носа уходят!
— Послал автоматчиков! — ответил Еремеев. — Все будет в порядке, товарищ хозяин!..
Усанина у телефона не оказалось, он сам поднимал роты.
Накрытый шквалом артиллерийского огня, противник побежал. А когда наперерез ему двинулись цепи стрелковых рот Еремеева и Усанина, гитлеровцы повернули в Кожемякино, уже занятое подразделениями Коротухина.
Вдали одновременно запылали деревни. Начался отход противника на широком участке фронта.
Застоявшиеся на месте войска потоками хлынули вперед по дорогам и просто полем, целиной. Ух, какая отрадная сердцу картина! Запах победы, даже небольшой, пьянит и окрыляет. Стараясь не отстать от стрелковых подразделений, с грохотом проносились артиллерийские упряжки с орудиями и зарядными ящиками. Телефонисты повсюду проворно сматывали на катушки раскинутые провода. Бодрым шагом, весело проходили стрелковые роты резервного батальона. С дребезгом и лязгом катились походные кухни, распространяя вокруг запах щей, дыма и лаврового листа.
— Пошли, товарищи! — скомандовал Черняков своим офицерам и с веселым торжествующим видом зашагал по дороге на новый командный пункт. Настроение его не мог испортить даже только что состоявшийся по рации разговор с Дыбачевским. Тот вызвал его к рации во время короткого привала. Заслушав обстановку, генерал поинтересовался, много ли взято полком пленных.
— Десятка два, — ответил Черняков.
— Плохо воюете! Коротухин сумел до сотни взять в одном только Кожемякино, а вы?
— А он вам не доложил, кому этим обязан? Кто их загнал туда? — воскликнул задетый за живое Черняков. — Мои батальоны!
— Ладно, учту! — миролюбиво ответил Дыбачевский. — Преследуй немца, выходи на одну линию с Безугловым. Понял?
На какой-то момент в голове Чернякова появилась неприязненная мысль о своем соседе справа: «Ну, надо тебе пленных, возьми! Но имей же совесть сказать, при каких обстоятельствах они тобой взяты. Зачем умалять заслуги другого полка?..»
Но издали донеслось тяжелое громыхание вражеской артиллерии, и он подумал, что, может быть, за три — пять километров отсюда их ждут такие испытания, за которыми спор о пленных покажется никчемной суетой, и надо уметь отбрасывать личное честолюбие. Иначе — засосет, как болотная топь...
Черняков прислушался: бой шел за Королево. Его полк здорово отстал от дивизии Безуглова.
Глава одиннадцатая
С утра, едва проснувшись, Березин ознакомился с обстановкой. Безуглов взял Королево. Надо было подумать о том, чтобы командир дивизии не оказался в одиночестве: противник мог днем навалиться на него всеми силами. Впрочем, уже разворачивались гвардейские части, и Безуглов мог не тревожиться. Главной его задачей сейчас было — закрепиться в Королево, чтобы никакая неожиданность не могла застать врасплох.
Отдав соответствующие распоряжения, Березин вышел на крыльцо. Ординарец уже держал в поводу лошадей и бурку генерала.
Жеребец тихо заржал и настороженно потянулся к хозяину, чуткий, собранный, готовый тут же отпрянуть с быстротой спущенной пружины. Березин согнал с лица следы раздумья, от глаз к вискам побежали ласковые морщинки. Он коснулся холки лошади:
— Барон, баловник мой...
Как пронизанный током, жеребец затрепетал, заиграл мускулами, закружился на месте. Березин нащупал ногой стремя и, выбрав момент, кинул в седло грузное, но еще полное силы тело. Он пригнулся, весь устремился вперед, как птица. Крыльями распахнулись полы бурки, когда жеребец, горячась и всхрапывая, понес его деревенской улицей к темнеющему вдали лесу.
В движении — стремительном и энергичном — Березин обретал нужный для работы покой души, сбрасывал путы тревоги и сомнений.
Возвращаясь назад, он увидел Семенова. Тот, в нательной рубашке, занимался возле крыльца гимнастикой, выбрасывая в стороны руки и смешно приседая на корточки. Ординарец с кувшином в руках и полотенцем глубокомысленно следил за его движениями.
В хорошем настроении, разрумянившийся, Березин соскочил с лошади и вошел в избу. Сердце билось нетерпеливыми горячими толчками. Многое из того, что еще полчаса назад казалось трудноодолимым, сейчас было доступнее, яснее, по плечу. Резким толчком он распахнул створки окна, и прохладный воздух волной ворвался в комнату.
Березин остановился у окна, окинул взором березы, опушенные инеем, провода, седое поле... Расходившийся под дуновением ветерка туман открывал дали, так долго скрытые от глаз. Чем-то знакомым повеяло от заиндевевших рощ, от изб деревеньки, разбросанных на пригорке.
Как он мог забыть: такие же лес, холмы и белые, свечками, дымки над деревенскими домиками он уже видел. Только земля была тогда совершенно белая, и снежный наст хорошо держал лыжников, да небо было бескрайнее, голубое, и кромки сугробов сверкали, чище алмазов... Он бежал, сильно взмахивая палками, и курсанты оставались позади, не в силах вынести сумасшедшей гонки. Какое время он тогда показал — два часа с минутами! Сейчас бы и за два с половиной не пройти двадцати километров. Отяжелел, нет той легкости, что раньше.
Он улыбнулся. Воспоминания были приятные, и он не торопился с ними расставаться. Наоборот, подстегивал память, чтобы полнее представить то далекое — близкое, тянулся к нему. Иногда, хоть мысленно, хорошо почувствовать себя молодым, счастливым.
На этих лыжных прогулках он познакомился с учительницей. Что ж, она стала хорошей женой. Вот теперь все помнится: и слова песни, которую она так любила, и шелест листвы в лесу, и белизна облака, и даже место, где они впервые объяснились...
Впрочем, так ли уж молод он был в то время? Начальник одного из сибирских военных училищ, строгий на службе человек, он проходил по училищу требовательный, зоркий, даже придирчивый. Зато в походах и в выходные дни он давал волю своей кипучей энергии, бегал с курсантами наперегонки, прыгал, гонял футбол и волновался из-за каждого забитого гола. Люди старше по возрасту говорили, что, глядя на него, молодеют сами... Много воды утекло с тех пор! Время... Оно притушило все.
Березин вздохнул, прикрыл окошко и прошел к столу:
— Как-то там гвардия, идет ли?
В этот день он многого ждал от гвардии. Надо было, не полагаясь на донесения, на месте проверить, как выполняется его приказ.
— Вызовите машину! — крикнул он и стал одеваться.
...До бывшего переднего края Березин ехал с предельной скоростью, а там пришлось обгонять войска, двинувшиеся со своих мест. Все вокруг выглядело иначе, чем вчера: кусты, деревья, поля, тяжелые батареи, машины, люди приобрели свойственную им окраску, а не маячили в тумане призрачными тенями.
Не доезжая деревни Бояры, машина круто полезла в гору, и вскоре Березин увидел, что находится на одном уровне с верхушками деревьев, а потом еще выше — и взору открылись леса, перелески, далекие деревни у большака. Окраинные дома в Боярах были подожжены во время боя, и еще курились головни...
Возле отбитых у врага громадных дальнобойных орудий с длинными хищными стволами толпились любопытные бойцы. Какой-то шутник написал мелом на орудийном стволе: «Гитлер капут!» и рядом пририсовал перекошеннную морду с усиками и прямым клоком волос на лбу.
Из Бояр был прекрасный обзор во все стороны, и Березин по достоинству оценил важность, какую они представляли для армии в этой операции. Однако задерживаться здесь он не стал, так как в деревне осели штабы гвардейских дивизий, а командиров следовало искать дальше, в частях. На въезде в деревню Королево командующего встретил Безуглов. Здоровый, крепкий человек, он ничем не выказывал усталости, хотя едва ли ложился в эту ночь. Лицо его было озабочено, и только. Березин распахнул дверцу, и Безуглов на ходу вскочил в машину.
— Гони, пока не скажу! — скомандовал он шоферу и обратился к Березину: — Вот, взял с ходу, товарищ командующий, почти без боя, — кивнул он головой на деревенские домики, мимо которых мчалась машина. И усмехнулся: — Мы теперь фашисту, как собаке кость, поперек горла!
Миновав деревню, они вылезли из машины. Перед ними возвышался крутой холм. На карте это место было отмечено черным крестиком — церковь, хотя следов ее не было и в помине. Место называлось Монастырским холмом. Генералы стали подниматься на его вершину. На площадке уже рыли окопы, и Березин жестом приказал бойцам удалиться. Молчаливый и строгий командир полка Томин остановился рядом с Безугловым.
— Послал разведку на Ранино, а пока закрепляюсь, кормлю людей, — неторопливо докладывал командующему Безуглов.
Вся местность вокруг была как на ладони. Березину даже показалось, что он стоит над рельефной живой картой, сделанной искусными руками: над домиками в Боярах кое-где протянулись струйки дыма, по светлым ленточкам дорог движутся игрушечные машины, самоходные орудия. Извиваясь колючей гусеницей, ползут колонны пехоты... Вокруг Королево — глубокие овраги, заросшие темными ельниками, ольхой, а где повыше — дубом, липами и сосняком. Леса густые, не тронутые войной. К северу горели подожженные гитлеровцами деревня Поддубье и еще какие-то, которые из-за дальности трудно было определить. Темные жгуты дыма гривой поднимались до низко нависших облаков.
— В Ранино большое скопление немцев,— гудел басовито Безуглов. — Что-то затевают!..
Перед фронтом, в двух-трех километрах, за узкой полоской небольших озер, окаймленных ельником, лежали деревни Ранино-первое и Ранино-второе. Между домами передвигались машины, сновали солдаты.
— Прошляпил противник две такие позиции, как Бояры и Королево. Словом, теперь жду контратак, товарищ командующий!
Березин продолжал молча осматривать окрестности. Он устремил взгляд на юг и на юго-запад от холма. По большаку Лиозно — Витебск промчалось несколько машин в сторону города. Немцы! Большак весь еще у противника — от Стасьево, через которое проходит передний край обороны, до Великого Села, до Лучиновки. Позади вклинившихся наступающих войск еще остается большой выступ, занятый гитлеровцами.
«Почему же они там сидят, не отходят? — подумал Березин. — Мы же их вот-вот обойдем. Странно... А впрочем, это легко объяснимо: чувствуют еще себя крепко и не торопятся. Тем более, если там их никто не тревожит...»
— Закрепляйтесь как можно основательней, — обернулся он к Безуглову. — Весь артиллерийский полк, который я передал вам ночью, поставьте на прямую наводку. Свой резервный полк подтяните поближе и тоже прикажите окопаться. Эшелонируйте оборону. Контратаки будут! Вы сейчас — заслон для всей армии. Пока гвардия не развернется — должны стоять!
— Ясно, — ответил Безуглов. — Сам вижу, как дело пошло!
За глухим рокочущим голосом командира дивизии Березин не уловил состояния его души, а ему хотелось знать, как реагирует на обстановку этот внешне резкий, но на самом деле удивительно спокойный человек. Дошла ли до него вся серьезность задачи? И Березин обратился к командиру полка Томину, который, не проронив за все время ни слова, стоял рядом:
— Занимая такую позицию, как этот холм и Королево, нельзя позволить немцам даже зацепиться вблизи. Назад ни шагу, иначе обольетесь кровью, но уже не вернете того, что сдадите. Ни шагу! Понимаете?
— Понимаю! — сдержанно, но, видимо, волнуясь, ответил Томин. — Положитесь на нас, товарищ командующий.
Березин крепко пожал ему руку, и генералы стали спускаться с холма. Проезжая через деревню, Безуглов увидел приютившиеся за домом машины, которым совершенно нечего было делать вблизи передовой, и попросил остановиться.
— Счастливого пути, товарищ командующий!
Березин кивнул головой, и, пока машина набирала скорость, он слышал, как Безуглов кричал громовым голосом:
— Все эти халабуды, балаганы, которые сюда понатыкали, — в лес! Кто через десять минут не уберется отсюда, строем ко мне — и на передовую!..
Адъютант усмехнулся:
— Дает жизни своим. Башковитый мужик!
— Генерал! — поправил его Березин.
Командиры гвардейских дивизий, узнав, что Березин проехал в Королево, ждали его у перекрестка, которого он не мог миновать. Завидев их, он остановил машину.
Издали донесся грохот. Это враг обрушил первый артиллерийский шквал на Монастырский холм и Королево. Генералы молча обернулись в ту сторону. По деревне частыми грибами взошли и стали расползаться черно-сизые клубы дыма. Протяжно заскрежетала «скрипуха» — немецкая реактивная метательная установка «М-40». От гулких, как взрывы авиабомб, ударов вздрогнула земля, и из-за холма медленно поднялось тяжелое свинцово-черное клубящееся облако.
— Так вот, — сказал Березин и кивнул головой в сторону Королево, — Безуглов их там задержит. Пока они с ним будут драться, вы — вперед. Все, что разбежится по сторонам, пусть разбегается, теми мы займемся потом. Ваше дело ломиться вперед и только вперед! Помните, что все ближайшие резервы противника увязнут сейчас в бою с Безугловым и перед вами особо сильного сопротивления пока не будет. Не задерживаю вас больше, приступайте к выполнению задачи, не медля ни одной минуты. Смелее! Желаю удачи!
Березин пожал руку генералу Кожановскому — широкому в кости человеку, плотному и немного тяжеловесному, не знающему колебаний. Березин с удивлением ощутил, как его рука, будто детская, мнется в могучем пожатии Кожановского. Бабичев, маленький, розовощекий, подвижный, цепко схватил своей небольшой рукой пальцы Березина, пожал, будто клюнул, мгновенно, но крепко. При этом папаха сдвинулась у него на затылок и из-под нее показался высокий белый лоб и выбритое до блеска темя.
— Вас задержу на минуту, — сказал Березин Квашину — полному, рыжеватому генералу с красным веснушчатым лицом и белыми, как выгоревшая на солнце солома, клокастыми бровями, из-под которых смотрели пытливые зеленоватые глаза.
Взяв его под руку, он медленно пошел с ним по дороге, разговаривая вполголоса. Дивизия Квашина, как левофланговая, имела задачу — ударить в сторону, чтобы расширить прорыв Березин рассчитывал, что в случае, если противник вздумает нанести удар во фланг наступающим, Квашин вовремя разгадает этот маневр и без подсказки примет свои меры. Горловина прорыва — самое опасное и уязвимое место для армии, когда она вся устремится вперед. Надежный человек должен стоять на таком участке!
Квашину было под пятьдесят, он многое пережил, был несправедливо осужден и почти год провел в читинской тюрьме, но потом его оправдали и вернули в армию. Всей своей долголетней службой показал он преданность советской власти, и несправедливое осуждение не оттолкнуло его от партии. Березин ценил ум и осторожность Квашина, давно знал его и безгранично верил, что в решительную минуту он все поставит на карту ради победы и не остановится ни перед чем, ибо осторожность его кончалась там, где наступало время склонить успех на свою сторону...
— Как выйдете за большак, — говорил ему Березин, — сразу готовьте две линии окопов и сильный противотанковый резерв. Только тогда дальше, и то лишь двумя полками. Третий держите на большаке. Вперед разведку, разведку и еще раз разведку! Без нее ни шагу. Обо всем доносите. Помните, что малейшая ваша оплошность, и — вся наша ударная группировка окажется в мешке! Значит, я могу на вас положиться?
— Будет исполнено, товарищ командующий! — ответил Квашин.
— Желаю успеха! — подал руку на прощание Березин, и Квашин ответил равным по силе пожатием.
Гвардейские дивизии под заслоном частей Безуглова развернулись и устремились на юго-запад. В первые же часы боя они перерезали большак Лиозно — Витебск и, сметая небольшие разрозненные подразделения противника, стали веером разворачиваться в глубине фашистской обороны. Была занята на большаке деревня Лучиновка, вытянувшаяся вдоль дороги на добрых два километра. В это время полки Безуглова сдерживали яростные контратаки врага на Королево. Над землей поднялись дымные столбы, всюду горело, взрывалось, трещало, грохотало, в небе появились штурмовики и истребительная авиация.
Поступавшие телеграммы каждый час приносили все новые и новые сведения о продвижении войск, об отбитых контратаках, захваченных пленных и трофеях. Только у основания прорыва — вправо и влево от полосы, в которой был нанесен удар, — фронт оставался без движения, и там царило подозрительное затишье. Внимательно вчитываясь в телеграммы, Березин старался разгадать, что задумали гитлеровцы.
— В чем дело? — в который раз, всматриваясь в карту, спрашивал себя Березин и, не находя ответа, ерошил свои густые волнистые волосы. — Почему они не отходят?
От пометок красным карандашом и подтирок резинкой карта затерлась, покраснела. Фронт прогнулся в сторону Витебска. Вмятина, сделанная войсками, узкая у основания, дальше расширялась и вытягивалась на двадцать километров в глубину, напоминая очертанием рыбий пузырь. В центре была Лучиновка. Там были основные силы армии, десятки тысяч людей, которые по приказу шли вперед и не знали, не должны были даже думать о том, что глубокий прорыв в этой войне не раз превращался и может превратиться в опасную мышеловку, в окружение, стоит только командующему проглядеть, увлечься звучным красивым «вперед!»
Березина тревожила создавшаяся обстановка. Сознание своей личной ответственности за исход операции не давало ему покоя, хотя все шло пока хорошо. Вот только противник до сих пор медлит, не проявляет ясных намерений. Эта неясность висела над Березиным, как дамоклов меч... «Чего Гольвитцер тянет, чего выжидает?..»
В раздумье он подошел к небольшому сейфу, где хранились бумаги, достал тонкую серую папку с надписью: «Генерал от инфантерии Гольвитцер». Раскрыв ее, Березин пробежал глазами несколько строк:
«...Тысяча девятьсот шестнадцатый год — Восточный фронт в свите Гинденбурга.
...Генеральный штаб.
...Сороковой год — поход во Францию.
...Сорок первый — Восточный фронт, наступление на Москву».
Березин вздохнул: «Безукоризненная служба. Опытный волк... — Он стал перелистывать характеристику Гольвитцера, составленную разведчиками. — Ага, не столь уж он неуязвим: «Зимой сорок первого года, во время контрудара сибирских дивизий, весь пятьдесят третий армейский корпус в панике бежал, бросив позиции в районе Ефремова...» Ну, что ж, постараемся и под Витебском создать подобные же условия. Главное — спокойствие!»
Здесь же Березин натолкнулся на измятое письмо — свидетельское показание девушки, угнанной в Германию, — показание, открывающее вид и на частную деятельность Гольвитцера как помещика.
Вспомнив офицера-разведчика, доставившего это письмо из-за линии фронта, Березин усмехнулся: сделав большое, нужное дело, он стеснялся тогда своего изорванного маскхалата, разбитых сапог и краснел. Чудак!
Потом он взглянул на фотографию, подклеенную на отдельном листе. Окруженный офицерами с наглыми сытыми лицами со снимка смотрел небольшого роста сухощавый генерал. Чуть приметное высокомерное выражение застыло на его лице Гольвитцер!
Березин резко захлопнул папку «В чем же дело? Не свертывать оборону ни на север, ни на юг от прорыва — это значит надеяться ликвидировать прорыв!» Он на минуту представил себе Гольвитцера, так же, как и он, склонившегося над картой, на которой, конечно же, отмечен такой же растекающийся в сторону Витебска пузырь.
«Что бы я сделал? — постарался Березин взглянуть глазами противника на обстановку. — Проще всего и заманчивей — это ликвидировать прорыв, срезав его у основания. Возможно, и он сейчас думает о такой попытке. Вполне... Ну, что ж, Квашин предупрежден... Почему же в таком случае они медлят, не атакуют? Неужели наши не заметили передвижения его частей?»
Он снова углубился в чтение телеграмм, стараясь найти какую-нибудь мелочь, пропущенную им, деталь, которая натолкнула бы его на правильный ответ. Кроме контратак на Королево — ничего! «Видимо, ждут, когда в бой ввяжутся все наши силы, чтобы потом кинуть свой резерв и зажать нас в кулак. Судя по характеристике, от Гольвитцера можно ожидать всего. Посмотрим!»
Сняв трубку телефона, Березин пригласил Семенова. Тот вошел в комнату быстрым стремительным шагом. Его походка, выражение лица говорили: «Я занят, мне дорога каждая минута, поэтому приказывайте короче, что необходимо сделать, и я сделаю».
Березин жестом пригласил его сесть, указал на карту:
— Как вы смотрите на такое положение?
— Несколько дополню обстановку. Нашими соседями замечено движение эшелона из Витебска на станцию Крынки Возможно, это переброска сил... Я жду контратак с юга, товарищ командующий!
— Что вами предпринято? — настраиваясь на предельно сжатый деловой тон, спросил Березин.
— Приказал взять пленных, — Семенов протянул руку к карте и ткнул карандашом в рощу, которая стояла на пути движения дивизии Квашина. — Второе: посланы офицеры штаба в Бояры, — отвечая, он развернул карту полей видимости. — Наблюдение ведут ответственные офицеры...
— Вполне возможно, что самые неприятные контратаки будут предприняты именно нам во фланг, — подтвердил Березин. — Этот прием не нов, и гитлеровцы наверняка им воспользуются. Квашин начал наступление и, возможно, упредит контратаки с этого направления. Тогда мы успеем свернуть боевые порядки противника перед всем нашим фронтом обороны. На всякий случай сегодня в ночь выведите из обороны дивизию в мой резерв. На стабильном участке фронта хватит и одной дивизии. Второе: пусть Дыбачевский ускорит темп наступления и немедленно организует атаки на Ранино. Надо ослабить нажим на Безуглова.
— Дыбачевский, кажется, предпочитает наступать «уступом сзади», хотя для дивизии такого боевого порядка и не предусмотрено, — едко заметил Семенов.
— Да, он что-то осторожничает, — согласился Березин.
В комнату вошел член Военного совета Бойченко, устало опустился на стул:
— Хорошо, что вы здесь, — сказал он начальнику штаба. — Нам надо кое-что решить... Я только что из Лучиновки, попутным самолетом связи. До вас, вероятно, еще не дошли сведения о том, что там происходит?
— Контратаки?
— Да.. И какие! Вот в чем интерес! Фашисты прямо с машин прут в бой. В дело вошел их резерв. А наши рвутся вперед, — он потянулся к карте и что-то поискал глазами. — Кожановский занял Ковалево, Жирносеки, и все это только вдоль дорог, ниточкой, а не широким фронтом. Может быть, следует продумать мероприятия, чтобы это было солидней, основательнее...
— Нам пока нечего опасаться... Сдерживать наступающих, отказываться от стремительного движения вперед ради создания широкого сплошного фронта — нет смысла. Может быть, как раз этого и хочется Гольвитцеру... А контратаки пока не страшны — перемелем... Тем более, что это скорее всего маневр. Ложная демонстрация, чтобы отвлечь наше внимание. Главный контрудар будет нам во фланг. Он еще придет! — Березин положил руку на карту, закрыв район к югу от большака. — Важно, чтобы Квашин успел подготовиться как следует.
— У Кожановского недооценивают пушечную артиллерию, — сообщил Бойченко. — Доходит до смешного: по отдельному пулемету вызывают огонь гаубиц, когда рядом идут батальонные, полковые и даже дивизионные пушки. Так не наберешься им снарядов. Такая же картина с малыми минометами! Ненужный пережог снарядов, которых у нас мало...
— Да, для мелких калибров расход боеприпасов у нас неограничен, а на крупные — жесткий лимит, — вмешался Семенов.
— Хорошо, — сказал Березин. — Так и запишите в приказе: использовать все виды оружия согласно их боевому назначению.
Семенов молча наклонил голову, черкнул для памяти в блокнот и спросил:
— А как же с заявкой на крупные калибры? Не подавать?
— Фронт велик, от моря до моря, и всем нужны крупные калибры. Обойдемся тем, что у нас имеется, — предложил Бойченко.
— Согласен, — кивнул Березин. — Дальше: у нас очень благоприятная обстановка. Оборонительная полоса противника прорвана, и сейчас бы сюда корпус-два... как смотрите? Мы бы сразу положили противника на обе лопатки. Как бы там ни было, а предложить это фронту мы обязаны. Возможно, он поддержит, а так... Контратаки мы, конечно, отобьем, перемелем живую силу, но и сами выдохнемся... — он побарабанил пальцами по столу и, прищурившись, задумчиво посмотрел перед собой, словно видел в пространстве будущее. — Будете писать приказ, потребуйте самым строжайшим образом закреплять за собой достигнутое.
— Есть! — сказал Семенов. — Шифровку во фронт я подготовлю. Надо, чтобы наш успех был подхвачен.
— Хотел бы я знать, что готовят гитлеровцы? — в раздумье проговорил Березин. Эта мысль одинаково тревожила всех троих. Они не сомневались, что противник еще не сделал решительного шага, чего-то выжидает и тем сдерживает те силы армии, которые могли бы быть использованы. А пока приходится держать их в резерве на случай непредвиденного оборота дела.
Глава двенадцатая
Хорошо! Воздух напоен запахами смол, прелой листвы, горьковатого осинника. После листопада поблекшая сухая листва чуть слышно шуршит под ногами. Кажется, шел и шел бы по мягкому ковру, настланному поверх приникших трав, слушая, как шепчутся кудлатые сосны.
Даже такая по-осеннему оцепенелая и грустная, мила была сердцу Крутова природа Белоруссии. Он слушал ее едва уловимую песню без слов и немного завидовал музыкантам. Они могут услышать музыку природы, запечатлеть ее в звуках и донести их до людей.
Да, близка была сердцу Крутова Белоруссия, как только что освобожденная земля, как родина его предков. Ее грустные песни пела мать, укачивая его маленького; о ее дремучих лесах говорила она ему первые сказки. Но Крутов был дальневосточником, куда бы ни бросала его судьба, ему снились родные просторы. Что поделаешь, ласковей, ближе ему суровый край с широким Амуром и тайгой, всхолмленной, как море во время шторма, с подымающимися повсюду городами и поселками, с электрическими огнями, что вдруг негаданно засверкают из-за лохматой сопки навстречу паровозу. Там он учился, вырос, окреп. Там он узнал, что такое Родина...
— Э-гей, Крутов! — громко позвали сзади. По лесу отдалось и покатилось эхо.
— В чем дело? — отозвался он. — Иду-у!
— ...ело? У-у! — насмешливо пронеслось по лесу и замерло далеко в темной чаще.
— До полковника быстрей! — И снова вдалеке откликнулось: — ...ей!
Крутов прыжком одолел кювет и быстро пошел по дороге. Он не любил медленной ходьбы да еще с привалами, опередил идущего со связистами командира полка, и теперь его звали назад.
Черняков, опершись спиной о дерево и вытянув ноги в крепких яловых сапогах, сидел возле рации, слушал и отмечал подчеркиванием и точками пункты на своей кодированной карте. Щелкнув рычажком на рации, он сказал:
— Понял вас хорошо. Прием!
Окончив разговор, он подозвал Крутова:
— Из дивизии передают, что Безуглова здорово жмут в Королево. Нам приказано наступать на Ранино и отвлечь противника на себя. Догоняй батальоны и передай комбатам — пусть готовятся. А сам присмотри мне хорошее место для командного пункта.
Крутов пустился за батальонами, обгоняя одиночных бойцов. задержавшихся по разным причинам. Один собирал в вещевой мешок немецкие сигнальные ракеты, другому командир приказал смотать на катушку тонкий красный провод, а какому-то старшине приглянулась трофейная повозка с крепким парусиновым верхом, заполненная разным скарбом, и он оставил бойца присмотреть за ней. После каждого наступления следует период обороны, а в обороне пригодится все.
На дороге то и дело попадалось брошенное немцами имущество: попавшая одним колесом в кювет пушка, возле которой лежали убитые осколками громадные толстоногие лошади, которых не успели даже отстегнуть, противогазы, коробки с пулеметными лентами, круглые лепешки противотанковых мин...
Разбросав руки, валялся мертвый гитлеровец в распахнутом мундире: скатившаяся с головы каска лежала рядом с ним и на ней внутри можно было прочитать фамилию хозяина, выведенную химическим карандашом. Белые клоки бумаг, писем и фотографий, с оставшимися на них следами грязных ботинок, устилали дорогу.
Глаза Крутова привычно фиксировали картины фронтовой дороги, когда близкий грохот артиллерийского налета заставил его насторожиться.
— Ого, дает... — пробормотал он и припустил бегом.
Дорога, вильнув, спустилась в широкую и глубокую лощину. Среди темных ельников в упряжках стояли орудия полковой батареи, а чуть дальше, на опушке небольшой рощицы, Крутов увидел бойцов и офицеров из батальона Усанина.
Он нашел комбата, тот был встревожен.
— Не слышал, какая задача?
— Будем наступать на Ранино. Готовься, посылай разведку.
— Уже ушли, — и, кивком указав на горящее Королево, добавил: — Жарко соседу.
— Наша задача — отвлечь силы гитлеровцев на себя, — сказал Крутов.
Времени, чтобы подготовиться к наступлению, не хватало. Надо было выявить цели, а когда успеть? И Черняков ориентировал артиллеристов в основном «по деревне», в надежде, что с началом атаки на Ранино цели себя покажут. Вступать в бой с хода всегда несколько рискованно, особенно если противник стоит в обороне давно. Могут быть самые неожиданные обороты, и комбаты нервничали:
— Товарищ хозяин, мы еще не готовы!
— Что вы копаетесь? — горячился Черняков, на которого наседал Дыбачевский. — Не можем же мы тратить на подготовку боя весь день!
— Как работать, не зная, что и где?
— На то и начинаем, чтобы узнать. Я сам рядом, помогу! — Черняков рассчитывал еще на час-полтора, за это время возможно было успеть осмотреться. Однако у Безуглова создалось очень тяжелое положение, и Березин потребовал от Дыбачевского немедленных и решительных действий.
Насколько положение было серьезно, Дыбачевский понял из того, что Березин обещал наградить всех бойцов и офицеров, отличившихся в атаке, независимо от того, будет взята деревня Ранино или нет. Важна была атака сама по себе.
Втайне Дыбачевский иронизировал по поводу, как он считал, неудачи Безуглова: «Выскочил, а теперь — выручай! Так-то всякий сумеет». Самолюбие, несколько разыгравшееся после ночного приказа, было удовлетворено. К тому же сейчас, когда, по слухам, Безуглов находился на Монастырском холме, он нисколько ему не завидовал.
Когда артиллерия приступила к работе, в полк прибыл десяток танков. Это Дыбачевский, понимая, что одна пехота да еще без достаточной подготовки ничего не сделает, взял их из полка Коротухина и перебросил к Чернякову. С ними хоть будет видимость серьезного наступления.
Черняков обрадовался танкистам.
— Что же вы с опозданием? — радушно встретил он офицера-танкиста, явившегося к нему на наблюдательный пункт для взаимодействия.
— Только что получили задачу!
— Ну ничего, сейчас обо всем договоримся! — сказал Черняков и стал звонить комбатам, чтобы порадовать вестью о неожиданной поддержке. Когда танки вышли на исходный рубеж, занимаемый батальонами, в Ранино, хорошо видимом, среди немцев поднялась суматоха.
До них дошел рев танковых моторов, и они вынуждены были спешно перестраивать боевые порядки. Их артиллерия перестала громить Королево и перенесла огонь на рощу, где находились батальоны Чернякова. Стреляли даже орудия прямой наводки, которых немало находилось в Ранино. Однако это уже не могло задержать атаки. Над дымной пеленой, окутавшей лес, взвились красные ракеты. Танки вырвались на открытое пространство и, стреляя с коротких остановок, двинулись на Ранино. Стрелковые цепи, несмотря на огонь, поднялись дружно. Велико было воодушевление бойцов, поддержанных такой техникой.
Разрывами вражеских снарядов и гусеницами машин была перебита и порвана в разных местах проводная связь. Еремеев ругал на чем свет стоит и связистов, что до сих пор не могли разобраться, где концы своих и чужих порванных проводов, и танкистов, подошедших без предупреждения, и начальство, приславшее их в самый последний момент перед атакой.
— Связь, — стонал он, хватаясь за голову, — связь!.. Каким чертом передавать команды?
Ответа не было. Своя артиллерия без связи не могла помочь атакующим с закрытых позиций, а он, комбат, не мог распорядиться ротами. И тогда он выскочил из щели и, размахивая пистолетом, очертя голову бросился вслед за бойцами. Он не знал, что будет с его батальоном, с ним, но, если невозможно руководить, помочь, надо быть вместе, чтобы никто не посмел сказать: «Вот, послал нас на верную смерть, а сам отсиделся в щели...» Надо было находиться там, откуда удобнее управлять боем! Ни впереди, ни сзади, а там, где нужно для пользы дела!
Еремеев бежал вместе с бойцами и кричал: «Вперед!» Пусть грохот и выстрелы заглушали его голос, но зато люди видят, что командир с ними. Значит — все в порядке, значит — ворвутся в деревню.
Пронзая вечерний воздух тысячами игл, заблистали трассирующие пули, заткав все пространство перед деревней. Бойцы залегли, словно уперлись в невидимую колючую стену. Пулеметный огонь оторвал живое тело батальона от броневого щита, а снаряды рвали и калечили людей, искавших защиты у земли. Техника навлекла на себя такой шквал огня, в каком еще не бывал батальон Еремеева.
Заметив, что противник положил стрелковые цепи, танкисты не решились врываться в деревню. Заколесив по полю, машины ввязались в огневой бой с противником. Лишившись стремительного порыва, подвижности, танки потеряли свое преимущество, превратились в мишень на поле боя, и враг не замедлил воспользоваться этим. С визгом, скрежетом ударил противотанковый снаряд в броню. Как струя из брандспойта, на десяток метров брызнул фонтан искр. Шапка пламени, сорвав башню, взлетела над погибшей машиной.
Атака была отбита, батальоны залегли перед деревней. Первый раз в жизни Чернякова так беспорядочно, комом, начался бой. Он не подозревал, что Ранино, где накапливались силы противника для контратак на Королево, было для него орешком не по зубам, будь даже танков вдвое больше, а времени на подготовку целый день... Бой еще продолжался, артиллеристы, наладив связь, давили огневые точки, гремели орудийные выстрелы, огрызались огнем остановившиеся танки. Но стройный механизм полка, созданный для боя, работал вхолостую. Выпало одно звено из неразрывной цепи — залегла и не подавала признаков жизни пехота...
Черняков, подавленный, хмурый, молча стоял в траншее. Он-то хорошо знал, что пехоту вторично под такой огонь не поднять, а без нее, как костер без новых дров, угаснет и бой. Надо было что-то делать. Он жестом подозвал к себе Крутова.
— Пойди, — ему тяжело было говорить, — узнай, что с людьми? С комбатами? Пусть окапываются!..
Из дивизии уже несколько раз нетерпеливо запрашивали обстановку Черняков подошел к телефону, когда запрашивал «сам» — Дыбачевский.
— Ну, что у тебя, почему не докладываешь?
— Плохи дела, отбита атака. Усиление дали в самую последнюю минуту, когда я не имел времени организовать взаимодействие. Я за два дня не потерял столько, как за этот час, — пожаловался Черняков.
— Ничего, за ночь всех соберешь. Они у тебя порасползались, и только. Поговори с людьми, подбодри, возможно, повторять придется. Да не забудь, представляй всех отличившихся к наградам. Сам хозяин велел, — утешил его генерал.
— За что же представлять? — недоверчиво спросил Черняков. — Хоть бы деревню взяли — другое дело!
— Не в деревне соль. Раз говорю — значит, знаю...
Черняков собрался было положить трубку телефона, как Дыбачевский снова позвал его.
— Минутку, — сказал он. — С тобой сосед хочет поговорить.
На другом конце провода кто-то кашлянул в трубку, и незнакомый голос спросил:
— Ну скоро там? С кем говорю?
— Черняков слушает!
— Я Безуглов — сосед! Это ты наступал?
— Да, меня били, — с горькой иронией подтвердил Черняков.
— Небитым — грош цена, те не воюют. За выручку — спасибо. Долг за мной, запиши, — трубка замолчала.
Атака батальонов Чернякова на Ранино предоставила передышку полкам Безуглова в Королево, первую за долгий день.
Ночь прошла беспокойная, в беготне, в сборе подразделений, потрепанных боем. Потери были, но не такие, как ожидал Черняков. Маленькая шанцевая лопатка дала защиту тем, кто с нею дружен.
В лес подъехали кухни, засуетились старшины, забренчали котелки. Жизнь шла своим чередом.
— ...Почему не наливаешь двадцать семь?
— А сколько ты супу взял? Девятнадцать?
— Это мое дело, а ты мне выдай по сто граммов на всех, как по строевой числится...
— Строевая утром была подана, а сейчас ночь!
— Может, я за помин души хочу выпить, тебе-то что?
Крутов не дослушал, чем кончился этот разговор у кухни: он искал Еремеева. Нашел он его в широкой щели, накрытой плащ-палаткой. У коптилки, склонясь к аппарату, сидел связист и ковырялся отверткой в телефонной трубке.
Еремеев разговаривал с командиром роты, который стоял, пригнувшись, и загораживал вход. Вот он повернулся и ушел Крутов протиснулся в щель. При скудном свете он увидел на щеке Еремеева темную засохшую струйку крови и кусок бинта, высунувшегося из-под шапки.
В душе у Крутова что-то шевельнулось. «Славный ты человек, Еремеич, — хотелось ему сказать комбату. И еще хотелось обнять его за плечи по-дружески, — ведь мы товарищи, за одну стропу держимся, чтобы приблизить победу. Зачем же нам дуться друг на друга?» Но память о недавней ссоре не позволила ему этого сказать. Стараясь казаться спокойным, он спросил:
— Слышали? Завтра опять наступаем!
— Знаю, — ответил Еремеев, — уже сообщили!
Крутов достал из планшетки карту.
— Где ваши подразделения, показывайте, да пойду проверять!
Они склонились над картой, касаясь друг друга шапками.
В лучшем деревенском помещении разместился генерал Гольвитцер — командир корпуса. Массивный стол с резьбой и потемневшей от времени фурнитурой, кресло для собеседника, ряды стульев у стен. Сейф в углу. Кабинет генерала обставлен с подчеркнутой скромностью. На полу — тяжелый ковер. Офицерские сапоги выбили на нем приметную тропку к столу.
Гольвитцер любил охотиться в своем поместье: как дань этому небольшому увлечению, на стене висели небольшая, написанная в старинной манере картина, изображающая сценку охоты, и серия фотоснимков. На фотографиях — обширные поля, рощи, парк, помещичья усадьба с газонами и шаровидно подстриженными кустами. Это память об имении Кугген — родовом поместье Гольвитцера в Восточной Пруссии — образцовом хозяйстве даже для Германии. Вся обстановка кабинета, до фотографий включительно, неразлучно следует за хозяином по дорогам войны.
Привычка крепко сидела в душе Гольвитцера: даже сейчас, когда русские наступали на его участке фронта, он не желал отказать себе в небольшом предобеденном отдыхе. Под рукой у него письмо. Управляющий имением писал о ходе полевых работ. Между строк о деле, о количестве заложенных буртов со свеклой он жаловался на нехватку рабочих рук, на сырую осень, на беспокойство, которым охвачено население Кенигсберга в связи с бомбардировками города советской авиацией.
Но не само письмо взволновало Гольвитцера; оно лишь подхлестнуло его мысли, давно бившиеся в поисках ответа на самый острый вопрос — о войне, ее исходе. В связи с этим наступала пора подумать и о своей судьбе...
Несколько поколений Гольвитцеров сделали для себя войну профессией, целью жизни. Служить войне — значило обеспечить себе надежное, привилегированное положение в обществе. Поэтому все, что касалось войны, — выучка, дух войска, использование техники, тактические приемы, — Гольвитцер знал досконально, до тонкостей. Размышляя над ходом боевых действий, он не мог обнаружить изъянов, все операции планировались и проводились с полным знанием дела. И вот тут получалось нечто парадоксальное: хорошо обученная, укомплектованная, по всем правилам действующая армия начинала проигрывать войну! Уйти вовремя, избегнуть окружения — стало почитаться за такую же доблесть, как выиграть сражение. С каких это пор? Цепь позорных отступлений, отступлений даже без должного нажима, а только из опасений попасть в невыгодное положение, переименовали в эластичную оборону. Можно отдать должное Геббельсу — он умеет изворачиваться и до сих пор держит умы солдат в своих руках. Но ведь это не может продолжаться вечно. Сегодня думаю я, а завтра задумаются другие. Свойство ума таково, что он должен отыскать истину!
Вспомнились обещания фюрера: «Немцы! Я не допущу войны на два фронта! Моторы перекроют пространства России!.. Война будет молниеносной!» Теперь никто даже не заикается об этих словах. Их бы сразу приняли за оскорбление армии, чуть ли не за измену. Правда, война идет третий год, а второго фронта нет. Но зато с первых дней боев на Востоке открылся третий фронт, который совсем не был принят в расчет, — война с населением оккупированных районов. Партизанское движение дает себя знать везде, даже здесь. Чтобы охранять тылы и коммуникации корпуса, приходится держать в тылу против партизан целую дивизию!
Какой-то роковой просчет налицо. Надо смотреть на события трезво: шансов на победу нет. Разве произойдет что-либо неожиданное, — институты Геринга дадут новое эффективное оружие или дипломаты, тайно торгующиеся в Базеле с американцами, договорятся о сепаратном мире на Западе? Тогда можно будет что-то сохранить за собой на Востоке, и оборона Витебска, все эти «валы» приобретут смысл. Иначе все бесперспективно, иначе — конец!
Гольвитцер тяжело вздохнул. Прошлое прибойными волнами воспоминаний перетряхивало привычно сложившиеся взгляды, словно залежалую одежду. А начало войны было такое обнадеживающее. Кто не помнит эти годы? Эфир был до отказа забит речами Гитлера, Геббельса, Риббентропа. Толстый Геринг клялся, что ни одна бомба не упадет на Германию, ибо доктрина Дуэ о господстве в воздухе — претворена... То, над чем бился Генеральный штаб, что требовало в других войнах стольких сил от Германии, Гитлеру удавалось без особого труда. Чужие территории, страны покорно склонялись перед ним, и Гольвитцер тоже поверил в гениальность фюрера. Но потом все рухнуло. Неожиданные атаки сибиряков под Москвой, мороз, снег... Солдаты, обмотанные тряпьем, с обмороженными руками и ногами... Окоченевшие, занесенные снегом трупы и машины, догорающие по кюветам. Снег, смрад от горящей резины, кровь. Просчет Браухича? Да полно, его ли только? Недаром на совещании в армии знакомый Гольвитцеру генерал завел многозначительный разговор о необходимости спасения Германии, о выходе из тупика. Гольвитцер сразу понял: что-то зреет, есть какой-то иной смысл за этим разговором. Но какой? Об этом не спросишь напрямик, а разгадать надо, чтобы не ошибиться в нужную минуту. Да, поражение в любой другой войне представляло бы для Гольвитцера только неприятность, но в войне с Россией оно грозило полным крахом.
За дверью послышался тихий разговор. Гольвитцер бросил письмо в ящик стола и громко спросил, кто пришел.
— Полковник Шмидт!
Это был рослый здоровяк, человек на голову выше Гольвитцера, с хорошей выправкой. Держался он вызывающе, голову носил высоко и имел привычку поправлять расческой стриженные под бобрик светлые волосы, явно стараясь внешностью походить на Гиммлера. Он так же щурил нагловатые серые глаза и однажды явился даже в пенсне, но, увидев ироническую усмешку Гольвитцера, сразу излечился.
— Разве положение снова изменилось? — недоверчиво спросил Гольвитцер, поскольку без важных оснований Шмидт не посмел бы его беспокоить в час отдыха.
— Они продолжают наступление! Наши оставили несколько населенных пунктов. Дело принимает нежелательный оборот..
— Какие пункты? — Гольвитцер проворно вскочил с кресла и уставился на своего начальника штаба.
— Русские названия трудно запомнить. — Шмидт торопливо развернул бланк донесения. — Жир-но-секи, Синяки...
— Воюя в России, надо уметь запоминать их названия! — Гольвитцер подчеркнул на карте названные деревни. — Да, это для нас нежелательно! Надо принимать меры!
Увидев, что прорыв уже перехлестнул через вторую оборонительную полосу, Гольвитцер в досаде стукнул кулаком по столу:
— Вот результат беспечности Проя! Я ведь предупреждал его о готовящемся наступлении, а он умудрился отдать Бояры, Королево, загубить дивизион тяжелой артиллерии, а теперь уложил еще всю свою дивизию. Почему он не отбил Королево?
— Его неожиданно атаковали в Ранино с фланга, — заметил Шмидт.
— А почему он это допустил? Почему не принял контрмер? Вы потребовали объяснений?
— Он желает объясниться лично и прибыл сюда!
— Хорошо, я им займусь, — уже более спокойным тоном сказал Гольвитцер. Заложив руки за спину, он прошелся по кабинету — Вот что, — сказал он, — советские войска, которые вошли в прорыв, надо приковать контратаками к тем местам, где они сейчас находятся. А ночью перебросить резервную авиаполевую дивизию сюда, — он проследил карандашом путь по линии железной дороги, идущей от Витебска к фронту, и остановил острие там, где значилась станция Крынки. — Ход конем — понимаете?
— И утром одним ударом завязать русских в мешке! — понимающе кивнул Шмидт.
— Если удастся, — согласился Гольвитцер. — Противника нельзя недооценивать... Если мы допустим, что Витебск окажется под угрозой, нас не погладят по головке. Тогда прощай и ваша карьера... — Он усмехнулся и выразительно посмотрел на Шмидта. — Поэтому обеспечьте своевременность и энергичность операции!
Едва закрылась дверь за начальником штаба, как в кабинет вошел командир дивизии Прой.
— Разрешите — экселенц?
— Прошу, — голосом, не предвещающим ничего хорошего, пригласил его Гольвитцер. Он рукой указал Прою на кресло, а сам стал рыться в бумагах. — Надеюсь, — он не счел нужным взглянуть на Проя, хотя тот даже вздрогнул от тона, каким это было сказано, — надеюсь, вы не станете отрицать, что сто девяносто седьмая дивизия была одной из лучших среди имперских войск?
Прой забормотал что-то невнятное.
— Надеюсь, вы получали такие донесения: «По данным разведки, на стороне русских происходит смена частей...» — Гольвитцер нашел нужную ему папку и листал ее, вычитывая отдельные фразы. — «Замечено передвижение пехоты по дорогам к северу от шоссе... Радиоперехватом сигналов установлено перемещение и появление новых позывных... Сосредоточение пехоты в рощах... Гул танковых моторов»? Наконец, вы читали все, что удалось подслушать по телефону команде, которую я специально направил к вам. Вот ваши подписи...
— Проклятая погода... Туман... — Прою изменил голос.
— Как вы думаете, достаточно этих сигналов, чтобы принять необходимые меры и уберечь дивизию от разгрома? — Гольвитцер наконец взглянул на того, кто сидел перед ним.
— Господин генерал... — прохрипел багровый от волнения Прой.
— Ваши дела очень плохи, полковник, — продолжал Гольвитцер. — Не знаю, удастся ли мне уберечь вас от суда. Не знаю!.. Вы представляете, какое значение имеет для нас Витебск, к стенам которого вы подпустили русских? Можете судить сами, если фюрер лично нас инспектировал и посетил город, то...
Холодный пот прошиб Проя: стоило дать ход этим проклятым донесениям, сложенным в папку, как он станет козлом отпущения за все неудачи на фронте. Гольвитцер, о чем-то задумавшийся, внезапно спросил:
— Как здоровье вашего отца?
— Благодарение богу, старик еще крепок... — пробормотал озадаченный таким вопросом Прой.
— Почтенный человек старой закалки. Мы близко знали друг друга много лет, но в последние годы редко приходится встречаться. Когда-то он ворочал крупными делами, связанными с поставками для армии. Он и сейчас служит?
— Да!
— На таких людях, как он, держатся величие и сила Германии, — назидательно сказал Гольвитцер. — Вы понимаете, насколько трудно мне что-нибудь сделать для вас, Прой. А мне так не хотелось бы огорчать вашего отца, Поэтому в данный момент вам на время лучше бы уехать, скажем... У вас ведь всегда было плохо со здоровьем? Так вот, пишите рапорт о необходимости срочного лечения и поезжайте в Берлин к отцу! — проговорил Гольвитцер, поднимаясь из-за стола и складывая бумаги.
Прой вскочил, ожидая напутственных слов командира.
— Рассчитываю, что вы передадите отцу мои наилучшие пожелания. — И неожиданно: — Вы верите в предчувствия, Прой?
— Не приходилось задумываться...
— А я верю. И предчувствия мне говорят, что Германию ждут тяжелые испытания. Ваш отец всегда верно угадывал «погоду», и вы должны привезти мне информацию. Услуга за услугу, Прой. У вашего отца нет причин не доверять мне, а тем более вам, как сыну. Мы должны это знать, Прой, чтобы события, какой бы стороной ни обернулись, не застали нас врасплох. Счастливой дороги, Прой.
Прою все стало ясно. Уж он вынудит старика разоткровенничаться.
Взглянув на часы, Гольвитцер увидел, что до обеда осталось две минуты, и прошел в столовую. Повар в белом колпаке и переднике, надетом на солдатскую форму, заканчивал сервировку стола.
Гольвитцер уселся, привычно сунул салфетку за воротник мундира и, все еще находясь во власти недавних мыслей, остановил рассеянный взор на соуснике. В хитром сплетении узора стояла надпись «Париж».
«Франция... — вздохнул генерал. — Счастлив тот, кто не бывал в России... Знаешь, как в нее войти, но никогда не скажешь, как отсюда выйти! Впрочем, скоро и во Франции будет не легче...
Ночью на станцию Крынки несколько раз подходили эшелоны. Паровоз останавливался без свистков, и из набитых до отказа вагонов выгружались гренадеры резервной авиаполевой дивизии. Опустевшие вагоны перегоняли обратно к Витебску, а гренадеры плотной колонной уходили в ночь, в темноту, к шоссе Лиозно — Витебск.
На рассвете, не дождавшись, пока подойдет разгружавшийся на станции дивизион тяжелых самоходных орудий, гитлеровцы с легким пехотным вооружением пошли в наступление. Они без труда отбросили разведывательные группы гвардейцев, уже начавших прощупывать местность, вышли на опушку леса у самого большака и попали под огонь орудий прямой наводки. Все высоты перед большаком были заняты гвардейской дивизией Квашина.
Глава тринадцатая
Четверо суток в районе прорыва громыхала артиллерия. Земля дрожала как в лихорадке, и гул тяжелыми волнами катился по сторонам. В сером осеннем небе вычерчивали белые петли серебряные крестики истребителей.
По дороге на Бояры бесконечной, чередой шли машины с боеприпасами и продовольствием. Обратно они увозили пустые ящики, подбитые орудия, порожние бочки из-под горючего. Иногда двигались медленно, словно на ощупь, чтобы не встряхнуть раненых, перевозимых в полевые госпитали.
Ночами артиллерия умолкала, и только настороженно глядевшие в темноту пулеметы переговаривались беспокойно и торопливо. Взлетали ракеты, и казалось, что в этом обширном районе нет линии фронта, а все смешалось, и взойди утром солнце — люди не разберутся, где свои и где чужие. Линия фронта на какое-то время замерла в самых неожиданных положениях, как замирают два борца на ковре, в страшном напряжении сжимающие один другого. С первыми лучами солнца фронт оживал, в разных местах разгорались бои.
У Безуглова в ротах оставалось столько людей, что их можно было свести во взводы и отдать под команду сержантов. Но на фронте рота всегда остается ротой, как бессмертная единица, которая живет, пока жив полк, дивизия.
Он по-прежнему удерживает Монастырский холм и Королево, хотя для этого и пришлось устроить свой командный пункт на вершине холма, а командирам полков и батальонов перейти в окопы к бойцам. Гитлеровцы упорно контратакуют, заранее зная, что не отобьют назад Королево, поскольку не смогли этого сделать в первые дни, когда их было во много раз больше. Но идут...
Упорным контратакам подвергается не только Безуглов, но и гвардейцы дивизии Бабичева, полки Кожановского. Его дивизия глубже всех вклинилась в оборону противника, заняв Ковалево, Жирносеки, Синяки — три большие деревни, связанные одной дорогой. Три деревни — три отдельно окруженных полка, между которыми бродят по лесам автоматчики противника... Отбитые в одном месте, гитлеровцы отступают в лес и заходят с другой стороны.
Резервная авиаполевая гитлеровская дивизия всей своей мощью обрушилась на Квашина. Надежда одним ударом отрезать всю группировку наступающих, завязать их в узком длинном мешке провалилась, хотя врага поддерживали тяжелые самоходные орудия «фердинанд» и танки «тигр». Может быть, поэтому бои на высотах у шоссе отличались особым ожесточением.
С «фердинандами» дивизия Квашина впервые встретилась в сентябре, когда вела бои за Духовщину, а о «тиграх» бойцы и офицеры знали только понаслышке да по инструкции, где стрелками показывались уязвимые места новых танков противника.
Глыбастые, серые, они медленно выползали из-за пригорка и, показав башню, ворочали по сторонам длинной пушкой с огромным надульником. Сделав два-три выстрела, они меняли позицию. Видимо, «тигров» было маловато, их берегли, и они тоже использовались, как самоходные орудия, с большой осмотрительностью. И все-таки это были «тигры», и дрожь прохватывала людей, когда они видели, что грозные машины направляются к окопам.
Дивизионные пушки, стоявшие на некотором удалении за первыми траншеями, пытались вести огонь по «тиграм», но безуспешно: снаряды не пробивали броню. Может быть, сказывалась дальняя дистанция. Зато малейшее промедление грозило опасностью: и «фердинанды» и «тигры», оснащенные оптическими прицелами, стреляли метко. Приходилось с этим считаться, и после выстрела быстрее прятать орудие в укрытие.
Но однажды пронесся слух: сержант Богданов подбил «тигра» из обыкновенной батальонной «сорокапятки». В батареях рассказывали о Богданове с почтением. В те же дни в части пришла армейская газета. С первой страницы глядело на солдат неулыбчивое, суровое лицо. Это был портрет Алексея Богданова, командира орудия. «Гвардейцам не страшны фашистские тигры!» — горделиво утверждал заголовок над снимком.
В газете рассказывалось, как сержант подбил «тигра». Оказывается, все дело в том, что надо знать уязвимые места «тигра» и со снайперской меткостью всадить снаряд в нужное место. Сержант, как говорила газета, отлично изучил инструкцию о том, как бороться с «тиграми» и «Фердинандами», и умело применил свои знания. Газета, не жалея красок, расписывала мужество и отвагу Богданова. Но корреспонденту прощали все пышные красивости слога: о таком сержанте, чей опыт брала на вооружение вся армия, надо было бы написать еще красивее.
Березин, получая донесения о непрерывных контратаках на гвардейцев и Безуглова, отмечал их на своей карте и оставался внешне спокойным. Однако внутри волнами поднималась тревога. Почти все войска армии втянулись в боевые действия. Произошло то, чего он больше всего опасался.
Сосредоточенные вначале на узком участке фронта силы, подобно тарану, проломили оборону противника и устремились вперед. Но затем линия фронта с непостижимой быстротой начала удлиняться за счет флангов, которые вырастали вдвое, а то и больше против каждого пройденного вперед километра. Нельзя было, рассекая узким клином оборону врага, держать силы только на острие. Силы, вначале собранные в кулак, растекались по всей линии сопротивления. Испытывая страшное напряжение, линия фронта колеблется, образует прогибы то в одну, то в другую сторону.
Соединения армии перешли к позиционной форме борьбы без прежнего перевеса сил.
Уже не до разговоров о взятии Витебска. Важнее — удержаться на достигнутой линии, не позволить противнику разобщить наступающие части.
Березина лихорадила неясность исхода этой борьбы. Правда, у него еще оставался резерв — одна стрелковая дивизия, выведенная с обороны на пассивном участке фронта. Но что значит дивизия, если она еще не приняла пополнения после долгих летних и осенних наступлений?
Дивизия Квашина за два дня отбила семнадцать контратак. При таком нажиме в основание прорыва разве можно требовать от остальных войск движения вперед?
После колебаний, внутренней борьбы Березин решил переговорить с командующим. Разговор состоялся ночью.
— Линия обороны противника прорвана, войска армии вошли в прорыв. Противник все наличные силы бросил на локализацию наших действий, но я не вполне в этом уверен и держу небольшой резерв. Еще день-два такого балансирования, и сопротивление будет сломлено. Прорыв можно будет развивать, но необходимо усиление...
Командующий неопределенно и, как показалось Березину, нетерпеливо кашлянул и ответил:
— Вы излагали уже этот вариант.
— Да. И я снова прошу выделить нам корпус, может быть два, и Витебск будет взят!
— Вы верите в возможность глубокого прорыва?
— Верю, товарищ командующий.
— У фронта нет таких сил. Все армии наступают, и каждая решает свою задачу... К тому же мы ограничены в снабжении.
— Но у соседей нет такой благоприятной обстановки, какая у нас. Мы должны использовать успех, развить его до глубокого прорыва. Есть все возможности.
— Ваше представление о возможностях глубокого прорыва иллюзорно. Возможности существуют лишь постольку, поскольку все армии осуществляют нажим. Стоит снять силы с одного участка, как и противник перебросит свои дивизии вслед за нашими. Мы не можем рисковать. Территориальные приобретения — лишь одна сторона дела. Мы решаем задачу более сложную: пока идут решающие бои на юге, сковать противостоящие нам силы «Центра», не допустить их переброски, как можно больше перемолоть...
Березину стало ясно: рассчитывать надо только на силы своей армии, а это значит переход к затяжной и, быть может, бесперспективной борьбе. Бесперспективной до нового изменения соотношения сил, до изменения обстановки на других фронтах.
«Однако что же с наступлением? Нет смысла куда-то рваться, когда знаешь, что тебя не поддержат. Оно фактически уже остановлено, прорыв обложен, как рана опухолью, силами, которые стянул противник с безопасных участков. Ввести резерв? Нет, нельзя. Маломощный...»
Березин долго стоял у темного окна, похрустывая за спиной пальцами. В голове поднимались короткие бессвязные мысли. Думалось о разном. Он поймал себя на том, что размышляет о всей операции Западного фронта совсем не в таком безобидном плане, а с какой-то предвзятостью. Операция, по его мнению, шла не так, как положено, без смелости, с напрасной тратой людей, материалов, и недальновидность эта была не где-нибудь, а во фронте! Она так хорошо была заметна даже снизу... Неужели этого не понимают вверху, в Ставке? Или, может быть, ему мешает видеть истинное положение вещей его близость к фактам, некоторая тенденциозность в связи с личным участием в операции? Может быть, просто ему дороже свое субъективное мнение? И все-таки его не покидало чувство собственной правоты. Ведь бывает же, говорят, у художников, ученых, людей творческого склада ума, что интуиция позволяет им забегать вперед, не обманывает их. А разве он, оперируя не отвлеченными понятиями, а десятками тысяч людей, не является творческой личностью? Разве он имеет дело с готовыми выводами и первый год войны похож на третий, а сегодняшний день повторится завтра?
Утром Березин поднялся с тяжелой головой. Позвонил оперативному дежурному, нет ли новостей? Нет! Ночь прошла спокойно, противник активности не проявлял. Березин глухим голосом поблагодарил его и положил трубку телефона. Перед завтраком к командующему зашел чем-то озабоченный Бойченко, подсел к столу. Березин ждал, что он скажет.
— Ну, довоевались...
— Что случилось? — поднял на него глаза Березин.
— Как что? Сегодня ночью машины с боеприпасами не пробились к гвардейцам, из медсанбата не забраны раненые. Ни туда ни сюда! Обстреливают автоматчики, и никто толком не может объяснить, сколько их, где?..
Березин нахмурился, побарабанил пальцами по столу, но промолчал.
— Надо расчистить дорогу, иначе тылы отрезаны от своих частей, части от снабжения...
— Подразделений с передовой снимать нельзя, — как бы для себя сказал Березин и решительно поднялся: — Я поеду туда, разберусь!..
Оказалось, немецкие автоматчики ночью проникли через линию фронта и взяли под огонь дорогу в самом узком месте вблизи деревни Бояры. Вовремя обнаруженная опасность сразу же была ликвидирована, хотя и пришлось для этого снять с ближайших батарей с полсотни артиллеристов.
Кожановский доложил о тяжелом положении своих полков в Жирносеках и Синяках.
— По сути, оба полка ведут бой в окружении. Большие потери, затруднено снабжение, связь...
— Из Синяков полк отвести, соединиться в Жирносеках и не допускать разобщенности, — приказал Березин.
Когда исчезла перспектива — дальнейшая цель операции, — рисковать не следовало.
Двенадцатого ноября наступило затишье. Обе стороны осматривались, считали людей. Тринадцатого в Лучиновку вошла резервная дивизия Березина и начались усиленные поиски «языков».
Четырнадцатого в тылу у противника, по всему фронту южнее большака, запылали деревни. Гитлеровцы отказались от попыток ликвидировать прорыв, сжигали все, что могло гореть, и отводили свои войска на новый рубеж обороны, выравнивая линию фронта.
Еще несколько дней, постепенно затухая, шли бои. Армия тоже перешла к обороне, чтобы набраться сил для новых боев. Снова окопы, проволока, мины, ночные вылазки разведчиков.
С легкой руки командующего вся эта операция стала именоваться «Лучиновским пузырем».
В ясный день с артиллерийских наблюдательных пунктов можно было видеть Витебск, все еще занятый оккупантами...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Враг засел перед Витебском на новом оборонительном рубеже. Он отгородился надолбами, рвами, проволочными заграждениями. Каждый метр земли перед проволокой был пристрелян, все рассчитано, занумеровано, записано.
Перешли к обороне и войска армии. Через неделю войска успели зарыться в землю, источили ее ходами сообщения, построили блиндажи, крытые наблюдательные пункты, поставили проволочные заграждения и минные поля. Коробки с толом чуть прикрыли дерном в расчете на скорый снег. Шло глухое соревнование с противником в искусстве маскировки, в строительстве более надежных убежищ, в прикрытии подступов к переднему краю огнем из всех видов оружия. Артиллерийские группы поддержки пехоты планировали десятки огней — сосредоточенных, заградительных, дальнего нападения...
Сотни глаз напряженно следили за врагом. Прошел немец, проехала повозка, загорелось где-то строение — все отмечали в своих журналах разведчики-наблюдатели. Выстрелило вражеское орудие, прошил темноту трассирующими пулями пулеметчик, показались в утренние часы дымки над блиндажами — все заносили на схемы, засекали, включали в сводку. Все эти мелочи, как ручьи, сливались в широкий поток, шли в дивизию, корпус, армию...
Оборона. Стена против стены...
С каждым днем все трудней наблюдение за противником. Он тоже успел глубоко зарыться в землю. А знать надо не только то, что он делал сегодня, но и то, что собирается делать завтра. Это закон войны — видеть врага, знать о нем, самому оставаясь невидимым.
Для тех, кто в резерве, период обороны — учеба; для тех, кто на передовой, — тяжелый, до мозолей, труд; для разведчиков — страда, постоянные стычки с врагом, где неумелый может погибнуть, не увидев неприятеля в глаза, где люди, совершив подвиг, читают назавтра в газетах, что у них на участке происходила ружейно-пулеметная перестрелка...
Труднее всего на фронте пехоте. Это она мерзнет в окопах, засыпаемых снегом, она всматривается в темноту ночи, она до кровавых мозолей натирает ладони, отрывая окопы, в которых можно было бы обороняться, а потом подумает о блиндаже в один-два наката. Это к ней позже, чем к другим, приносят дивизионную газету, к ней опасней всего добираться, потому что она на передовой. Лишь через месяц-два окончатся первоочередные работы, и пехота вздохнет свободней, а пока ночью бойцы и сержанты цепочкой выходят на рытье окопов.
До противника рукой подать, и, когда с его стороны взлетает ракета, все приседают и замирают на месте. Гаснет ракета — и снова все принимаются за дело. Пулеметные очереди, выпускаемые наугад, то и дело чиркают по земле, и пули то гаснут в ней, то с треском взлетают к звездам. Бывает, пуля зацепит бойца, и он повалится со стоном. Еще злее работают оставшиеся, вбивая кирку и ломы в мерзлый грунт, метр за метром вгрызаясь в землю.
Раньше с большой неохотой и опаской рыли окопы вблизи противника, зная, что там будет опаснее и труднее обороняться. А сейчас? Сейчас сами подбираются как можно ближе к проволочным заграждениям врага, потому что знают — не он будет наступать, а мы!
Значит, наши жизни будут сохранены на укороченных дистанциях во время атаки.
...Крутов не очень полагался на донесения о ходе оборонительных работ, которые шли из подразделений, и решил начать проверку с участка Глухарева. Ему почему-то казалось, что у Глухарева дела должны идти хуже, чем у других комбатов. Глухарев был молчалив, на вопросы Крутова односложно отвечал «да», «нет», а то подсовывал сводку и тыкал пальцем в нужную графу, будто трудно было повернуть языком.
«Бирюк, — думал Крутов о Глухареве. — Слова не вытащишь. Интересно, за что его только уважает Черняков?»
Но придраться к комбату было не за что: в ротах работа шла полным ходом, без суеты. Видимо, люди понимали его без лишних слов. Вообще в его батальоне царили сдержанность и деловитость. Зато в блиндаже Усанина слышался возбужденный разговор, смех, визг напильника, хватающий за зубы.
Сидевший у самой лампы боец старательно точил лопату, двое других, чуть поодаль, ножами выстругивали новые черенки. Незнакомый Крутову старшина оканчивал цикл — насаживал новые лопаты на черенки.
Усанин, увидев Крутова, стал рассказывать:
— Ты знаешь, как я инструмент отвоевал? Приезжаю на склад к Коновалову и прошу его как человека: «Дай десяток лопат, сам был строевым командиром, понимаешь — оборона». — «Нет, — говорит, — лопат». А я вижу, неправда, потому что глаза от меня воротит. «Ну на нет и суда нет», — отвечаю я, а сам в склад. Прихожу к кладовщику, так, мол, и так, нужно мне кое-что из снаряжения. Пошли по складу. Я будто котелками интересуюсь, а сам высматриваю, нет ли где в закоулках чего мне надо. Смотрю — лежат, и сверху на них палатка наброшена. Тут я прямо вскипел: ах ты, думаю, махинации строить начинаешь, забыл, как сам когда-то в окопах сидел, землю рыл!.. Ну, ты мой характер знаешь. Беру Коновалова за жабры. «Почему не даешь инструмент?» Он туда-сюда, Черняков, мол, не велел, а тут как раз Кожевников подвернулся: «В чем дело, товарищи офицеры?» Я, конечно, к нему. «Где, говорю, у этого офицера партийная совесть? Люди для дела обороны мерзлую землю зубами грызут, а у него в заначке лопаты лежат мертвым грузом». Тот сразу: «Веди, показывай!» Вот смеху-то было, когда Коновалов перед ним завилял: «Да я только получил, да я думал сначала их насадить, да я, да я!..» Проработали мы его там здорово! — засмеялся Усанин. — Завтра сам на передовую инструмент повезет...
Крутов знал Усанина: любит прихвастнуть!
— А случаем не спрашивал, сколько старого за тобой числится? — поинтересовался он.
— Мало ли что старый! — пожал плечами Усанин. — Что я его — на своем горбу таскать за собой буду? Кое-что есть, конечно, не все бросили, а теперь еще новый вырвал. Инструмент есть — живем, быстро управимся с окопами. Ночью всех тыловиков, связистов в роту на самый ответственный участок, а днем пусть на себя работают. Им не то что стрелкам, которые на виду у фрицев...
— Готово, — сказал старшина, насадив на черенок последнюю лопату. — Куда их прикажете?
— Давай во вторую роту! — распорядился Усанин и кивнул Крутову: — Пойдем?
После освещенного блиндажа ночь показалась темной до черноты. Пришлось идти на ощупь.
— Ты говоришь: инструмент, — продолжал Усанин. — Никуда он не денется. Будет время — привезем и тот, что бросили!
— Поздно, дорогой товарищ, хватился! — сказал Крутов. — Глухарев уже все собрал на старой обороне. Сам сказал.
— Уже?! — воскликнул Усанин. — Ну, после него посылать не стоит. Он все к рукам приберет.
— Чудной он какой-то. Молчит.
— Это он переживает, — отозвался Усанин. — Думал, что жена с пацаном на оккупированной территории остались, все ждал, когда город освободят, а теперь и ждать нечего. Город освободили. Выяснил, семья эвакуировалась в сорок втором. Вот теперь какая история — ни там ни здесь, ни слуху ни духу!..
— Вот оно что, — проговорил Крутов, сожалея, что плохо думал о товарище. — Как ни говори, семья!..
Усанин неожиданно вспылил:
— А что семья? Погоревал и будет! Ни черта ты в этих делах не разбираешься. Начитался всякой галиматьи, и мозги набекрень! Это только в романах хорошо охи да вздохи разводить, а нам, брат, некогда. Драться надо, да и пожить успеть хоть немного! Кому он что докажет своей меланхолией? Жизнь наша такая, что некогда во всякие чувства играть! Я, конечно, понимаю — трудно, человек к человеку привыкает, а ты все равно не поддавайся, держись! Потерял жену, так мало на свете хороших женщин?
— Время нужно, чтобы забыть, и то...
— Время! А с людьми в это время кто работать будет? Нет, брат, жить проще надо!
Сколько раз уже Крутов слышал это «жить проще», а как «проще»? Разве сможет он забыть Иринку? И все же было бы страшно, если бы горе не забывалось. К счастью, всему свое время.
Когда офицеры пришли во вторую роту, старшина был уже там и раздавал бойцам лопаты. Командир роты, узнав Усанина, подошел к нему.
— Кирок бы, ломов, — сказал он.
— Может быть, завтра достанем, а пока обходитесь тем, что есть. Ставьте людей на блиндажи, — приказал Усанин.
— Завтра в ваш батальон должны лесу привезти, — сказал Крутов. — Командир полка при мне распоряжение давал.
— Вот видите, — заметил Усанин. — Кругом о нас забота. Действуйте, готовьте котлованы.
Пройдя по фронту батальона, Крутов предложил комбату:
— У Глухарева район обороны трудный. Вы присмотрите у себя местечко для пулемета, чтобы резал перед его окопами фланкирующим. Из-за обратного ската или так...
— Ладно, — согласился Усанин, — мы ведь с ним друзья. Только пусть и обо мне побеспокоятся. У меня в обороте тоже не густо пулеметов.
— Будет сделано, — заверил его Крутов и, попрощавшись, пошел в роты Еремеева, до которых было метров полтораста.
«Ну вот, работа организована», — думал он, а в голове неотступно стояло: «Жить проще». Да, Усанин не прав, но в его словах было что-то такое, что отвечало мыслям Крутова. Разве не казалась непереносимой боль разлуки с Иринкой, когда узнал, что ее нет? Но прошло время, смертная тоска ослабила свою хватку. А сейчас даже появилась Лена...
Впереди послышались голоса людей. Это оказались бойцы из пятой роты. С ними был и комбат, проверявший работу.
— Не спишь, полуночник? — засмеялся Еремеев, крепко тиская руку Крутова.
— Пришел посмотреть да вас послушать, как вы будете петь ту же песню, что и остальные. Как у вас работа, товарищ майор?
— Работа, сам видишь, кипит. Сегодня всех на рытье поставил. Вот только не хватает...
— Лопат, кирок и еще ломов... — подсказал Крутов.
— Ломов бы не худо, нужный это инструмент. А не хватает мне, уважаемый Павел Иванович, толу!
— Толу? Зачем толу?
— Вот видишь, песня-то, оказывается, не та. Значит, терпи, пока сам не скажу, — сказал Еремеев и заговорил о том, как лучше организовать систему огня, чтобы добиться большей плотности. Ряды батальона после наступления поредели, а район обороны дан на полную уставную норму да еще приказано роту держать в резерве.
— Пройдемте посмотрим, — предложил Крутов.
— Погоди, успеем, — ответил Еремеев и повел его в сторону от окопов. Возле небольшого блиндажа они остановились.
— Чудак ты человек, — сказал Еремеев. — День и ночь по окопам шастаешь. Тебя в штабе и с довольствия, наверное, уже сняли?
Крутов пожал плечами.
— Заниматься только бумагами нельзя. Донесения и Зайков напишет не хуже меня. Сейчас главное здесь. Судьба обороны решается в окопах. Вот и толкусь: где помогу, где разъясню, а где и подтолкну. Штаб для того и создан, чтобы помогать командиру. Деревню Шарики небось не забыл? — засмеялся Крутов.
— У-у, я на тебя тогда здорово обозлился. Думаю, какого черта не в свое дело суется! А тут еще Черняков: «Я на вас надеялся!..» Вообще-то законное, справедливое дело. Не подтолкни нас тогда, так до утра и просидели бы... А все чертово самолюбие! Откуда оно только берется? Вроде бы и возраст такой, что пора бы поумнеть, так нет, прорывается, — признался Еремеев.
Говорил он об этом спокойно, как о деле, давно прошедшем, и как человек, оценивший его по справедливости.
— Со стороны глядя, все мы немного чудаки. Тогда, в Ранино, вы за батальоном побежали, думаете, не странно?
— Ну, иначе я тогда не мог!
— То-то и оно! Какие мы ни грешники по мелочам, а про основное не забываем. Все мы одно дело делаем, и хоть спорим между собой по разным вопросам, а все равно воз везем...
— До коммунизма далеко еще тащить...
— Война здорово нас отбросит, но ничего, мы не избалованы — дотащим...
На передовой что-то взорвалось и вдруг загрохотало так, что земля затряслась.
— Налет? — насторожился Крутов. — Надо узнать, что такое!
Мимо ног, шарахнувшись, промчался перепуганный заяц. Еремеев проводил его веселым взглядом.
— Сейчас до немецких окопов добежит со страху, еще сдуру на мину напорется, — сказал он.
— Пойдем узнаем, что такое? — настаивал Крутов.
— Не беспокойся, это мои работают, — успокоил его Еремеев. — Взрывным способом! Я ведь раньше и строителем был, по карьерам мотался. Приходилось породу рвать, чтобы потом экскаватором грузить. Ну, вот опыт и пригодился. Толу немцы в нашу землю насовали достаточно, только подбирай. Надо же его использовать...
Над передним краем взвились ракеты, заговорили вражеские пулеметы.
— Ишь, забеспокоился, — усмехнулся Еремеев. — Еще из минометов жарить начнет...
Однако минометы молчали, и офицеры, постояв немного, пошли к окопам. Бойцы, укрывшиеся было на время, уже приступили к работе.
— Так, пожалуй, дело быстрей пойдет, — сказал Крутов.
— Еще бы! Что иначе с этой мерзлотой делать, да еще без ломов? Костры на ней разводить? А так я спокоен — через три дня у меня все роты соединятся между собой по фронту окопом полного профиля.
— Придется и в другие батальоны об этом сказать.
— А где они толу возьмут?
— Где вы, там и они...
— Ну, мы... — Еремеев засмеялся. — Мы — другое дело! Мои ребята из-под носа у немцев целое минное поле стащили. Они поставили, а мы сняли. Ловкость рук...
В блиндаж, где жили офицеры штаба полка, Крутов возвратился во втором часу ночи. Там горел еще свет, слышался громкий разговор. Среди своих офицеров Крутов увидел гостя — капитана из отдела кадров дивизии.
— Наконец-то явился, — сказал Малышко. — Товарищ капитан, позвольте представить еще одного нашего офицера!
Раздевшись в своем углу, Крутов подошел к столу.
— Мы с вами знакомы. Если помните...
— Еще бы! — протягивая руку, сказал капитан. — У меня память на людей хорошая.
Прерванный разговор возобновился. Речь шла о Москве. Оказывается, капитан только на днях оттуда. Крутов почти не знал Москвы и поэтому, прислушиваясь к разговору. порой с интересом взглядывал на собеседников: как можно удивляться тому, что в каких-то переулках что-то изменилось, исчезло, приняло иной вид. Каждый город меняется и будет меняться. Впрочем, если бы речь шла о Хабаровске, в котором Крутов жил, тут бы и он не утерпел, порасспросил бы... Настроившись на воспоминания, он машинально ел суп из котелка.
Малышко толкнул его в бок и шепнул:
— Завтра генерал приедет, награды выдавать будет!
— Кто говорил?
— Хм, чудак! А капитан зачем здесь, как думаешь?
Гость достал портсигар, протянул офицерам:
— Угощайтесь, товарищи! Московские...
Повертев папиросу, капитан быстрыми ловкими движениями размял ее и потянулся к лампе прикурить.
— Знаете, — улыбаясь, сказал он, выпуская колечко дыма и любуясь им, — я в Москве не был года полтора. Совсем не то, что было в начале войны. Народ по-другому смотрит, понимаете! Уверенно смотрит. Уже поговаривают не об освобождении какого-то города, а о полном изгнании врага за пределы нашей страны.
— Пора!
— В новом году, — продолжал капитан, — надо ждать больших изменений. В Москве сейчас всяких иностранных миссий полным-полно. Погода у нас делается, вот и сидят, держат нос по ветру, боятся, как бы не прозевать, успеть до шапочного разбора...
— А что о нас слышно? Перед Витебском долго еще топтаться будем?
— Вероятно, пока не возьмем, — усмехнулся капитан. — Видимо, и нам войск подкинут. Ну и, как говорится, надо полнее использовать свои возможности. — Он взглянул на часы: — Ого, засиделись! Не пора ли, товарищи, на боковую?
Время и в самом деле было позднее. Потеснившись, офицеры освободили для капитана место на общих нарах. Он положил сумку под голову, завернулся в шинель и почти тотчас захрапел
Глава вторая
Крутов проснулся раньше, чем предполагал. Вскочив, он огляделся. Капитан из штаба дивизии еще спал. В маленькое оконце брезжил тусклый рассвет.
Сбросив нательную рубаху, Крутов вышел размяться и умыться. Потом засел с Зайковым за донесение в штаб дивизии о ходе оборонительных работ. Пришел Бушанов и передал:
— Начальник приказал будить всех и чтобы никто никуда не расходился. В десять часов приедет генерал!
— Раз приказали — буди, — сказал Крутов, продолжая работу.
Вдруг генералу вздумается спросить: а как у вас с организацией батальонных районов обороны? Конечно, Черняков сразу скажет: «Крутов, схемы!» А на схемах еще не нанесены вчерашние работы.
Зайков усердно вычерчивал окопы, ячейки, ходы сообщения, а Крутов поправлял — здесь добавить, здесь перенести. Время за работой шло незаметно, и было полной неожиданностью услышать, как тот же Бушанов доложил скороговоркой:
— Товарищи офицеры, командир полка вызывает!
Крутов пошел в блиндаж командира полка. Там уже собрались все командиры батальонов, рот, батарей. Две мощные лампы-«молнии» из крупных снарядных гильз освещали блиндаж. За столом в окружении полкового начальства сидел Дыбачевский. Перед ним высилась стопка белых коробочек. На красной скатерти весело поблескивали новенькие ордена и медали. Позади стола, за спинами старших офицеров, капитан из отдела кадров перебирал какие-то бумаги.
Знакомая обстановка... При одном воспоминании кровь бросилась Крутову в лицо... Это было недавно, как только перешли к обороне. Коммунистов собрали для разбора персонального дела. Первым выступил Кожевников, он начал издалека: победы Красной Армии на фронтах Отечественной войны в корне изменили внешнеполитическую обстановку, здание фашистского блока трещит по всем швам... Огромны наши задачи. Справедливы и прекрасны наши цели. И вот на этом фоне перед нами нетерпимый проступок коммуниста... Короче — положил Крутова на лопатки по всем правилам, живого места на нем не оставил.
Потом Еремеев: разве можно положиться на офицера, когда ему сам Черняков потакает, поблажку дает. Крутов привык на нп рядом с командиром полка сидеть, про субординацию забывать стал, своевольничает... Вместо того чтобы запретить взводу авантюрные действия, сам туда же полез. Он и еще чего-нибудь натворит, если коммунист Черняков не будет более требователен к нему...
Что греха таить, критикуя, не церемонились с Крутовым. Это уж потом, когда до голосования дошло, по-иному взглянули — в корень!
Что Крутов тогда пережил — не доведись никому.
Потом выступил Черняков, и тут, кажется, произошел какой-то перелом.
— В том, что разбираем персональное дело, — сказал он, — есть доля моей вины. Я считал, что на Крутова можно положиться в серьезных вопросах. Мне хотелось бы только напомнить, что, когда я посылал Крутова в охранение, у меня уже лежал приказ на разведку боем. Высоту мы так или иначе должны были брать, и трудно сказать, когда было бы больше жертв: когда высоту атаковало охранение или когда мы стали бы ее брать ротой, как намечалось?.. Вина Крутова в том, что мы скомкали такое важное дело, и это просто случайность, что высоту мы все-таки удержали. — И Черняков повернул дело другой стороной: — Разбирая проступок Крутова, давайте посмотрим, как у нас в полку с инициативой офицеров. Война чем дальше, тем больше требует от каждого офицера самостоятельности, быстрых решений в бою и энергии. А как у нас получилось во время наступления? Смотрели друг на друга да на начальников. Не беспокоят — тем лучше!.. Быть инициативному нелегко — будут и промахи, как у Крутова, если офицер примет решение, не продумав всей глубины задачи. Но расправляться за это с такими офицерами с плеча не следует. Учить надо на ошибке одного — всех!.
Крутов вздохнул: «Ну, что было, то прошло. Подправили, поддержали — спасибо!»
...По знаку генерала капитан из отдела кадров стал читать приказ о присвоении очередных званий офицерам полка. Когда называли фамилию, имя, отчество, Черняков отыскивал глазами того, кого это касалось, и взглядом, кивком головы поздравлял.
— ...звание капитана — Крутову Павлу Ивановичу!
При этих словах Дыбачевский поднял голову и окинул Крутова серьезным взором.
Потом началось вручение орденов. Награжденных было много. Когда вызвали Крутова, он покраснел и стал неловко протискиваться к столу. Дыбачевский вертел в руках рубиново-красную звездочку.
— Хотел дать тебе за разведку в тылу врага что-нибудь поважней, — с покровительственной улыбкой сказал он, — да вижу, не дорос, еще своевольничаешь... Твое счастье — высоту удержали, а то б я тебе всыпал... Дельбрюки... — он усмехнулся.
— Тогда некому было бы и всыпать, товарищ генерал, — ответил Крутов.
— Ладно, на будущее учти... Служи, старайся. За плохое в армии бьют, за хорошее награждают, поэтому — получай. Поздравляю! — генерал передал орден и пожал Крутову руку.
Немного оправившись от волнения, Крутов нашел глазами Малышко. Тот тоже был награжден, но стоял, о чем-то задумавшись. Лицо без улыбки выглядело по-стариковски усталым.
«Что такое? — удивился Крутов, редко видевший друга таким. — Неужели у него что случилось?»
Черняков о чем-то тихо переговорил с генералом и поднялся, требуя тишины и внимания.
— Товарищи! — сказал он взволнованно. — У нас сегодня редкий и очень хороший день. Мне приятно и радостно видеть, как растут молодые офицеры, набираются сил и знаний, расправляют крылья. Недалеко новые бои. К нам уже прибывают люди. Позвольте мне представить вам двух новых товарищей! Разрешите, товарищ генерал?
Дыбачевский кивнул головой, и по знаку Чернякова вперед вышли два офицера.
— Лейтенант Бесхлебный! — отрапортовал один.
Был он невысокий ростом, худощавый, белобрысый и имел самый обычный, заурядный вид фронтового офицера. Пристальный взгляд и плотно сжатые тонкие губы выдавали в нем характер настойчивый, без ненужной мягкости. На гимнастерке у него пришиты две ленточки — знаки ранений, а под ними орден Красной Звезды.
Бесхлебный встретился взглядом с Крутовым и еле приметно кивнул ему головой: в госпитале они лежали в одной палате. Участник сталинградских боев, Бесхлебный любил инициативных, справедливых начальников и поэтому, наслушавшись отзывов Крутова, добился назначения в полк Чернякова.
— Лейтенант Владимиров! — представился другой офицер, коренастый, живой, порывистый, с румянцем на полных щеках. Улыбка играла у него на губах, глаза смеялись. Видно было, что он и без церемонии представления быстро бы перезнакомился со всеми.
— Я воевал еще мало, но думаю, что успею наверстать с вашей помощью!
Офицеры рассмеялись, а Черняков сказал:
— Они — товарищи и просятся в одну роту. Хорошая дружба на войне не мешает. У Еремеева как раз одна из рот без офицеров, вот мы и направим их туда. Будем надеяться, что они полюбят наш полк! — Он обратился к генералу: — Вы будете говорить, товарищ генерал?
Дыбачевский не спеша поднялся, обвел глазами людей, и все смолкли. Говорил он о том, что недалеко новые бои, что надо учиться воевать так, чтобы заслужить благодарность Верховного Главнокомандующего и чтобы дивизия получила почетное звание «Витебской».
Крутов и Малышко покинули блиндаж командира полка первыми и сразу же свернули с дорожки в лес. Под ногами похрустывал схваченный легким морозцем снежок, не успевший растаять в лесной чаще.
— Ты чего это, будто не в своей тарелке? — спросил Крутов. — Сам не свой!
— Понимаешь, серьезное задание. Могу я тебя, как товарища, просить об одной услуге?
— О любой, лишь бы в моих силах! — горячо ответил Крутов. — И вообще, к чему такое предисловие?
— Организую разведку на Тишково. «Язык» нужен до зарезу. Я сам иду с группой захвата...
— Ну, это ты брось! Ты же не рядовой разведчик, а ПНШ, и полковник этого тебе не разрешит. Дыбачевский и так смотрит на него косо, а случись что с тобой, это же скандал на всю армию. Ты об этом думал?
— Думал. Все улажено. Полковник не разрешал, но генерал сказал: «Ничего, пусть сам идет! «Язык» должен быть...» Все должно получиться. Нужно только организовать огневую поддержку группе и отвлечь внимание противника от того участка, где мы намерены действовать. Тогда все будет в порядке!
— Говори, что я должен сделать?
— Возьми на себя организацию поддержки. Ты изучил передний край и хорошо знаешь, что надо делать. И потом... не уходи из траншеи, пока я не вернусь. Идет? Я буду спокойнее себя чувствовать, если буду знать, что ты за мной смотришь...
В блиндаже друзья набросили на себя маскхалаты, чтобы пойти к месту предполагаемого поиска и там обо всем договориться практически.
— Э-гей, дружки! К восьми вечера быть здесь! — предупредил их дежурный офицер.
— Ладно, — ответил Крутов. — К восьми вернемся!
Однако они задержались. Воспользовавшись сумерками, Крутов предложил осмотреть весь путь почти до самых проволочных заграждений противника. Не долго думая, они вылезли из окопа и ползком спустились в лощину. Подход был удобный до самого противотанкового минного поля. Оно не должно было помешать поиску.
Возвращались они в штаб полка усталые, но очень довольные. Малышко шутил, то и дело подталкивал Крутова плечом и вел себя как мальчишка. Крутов тоже не оставался в долгу.
Дежурный встретил их грозным окликом:
— Эй, «именинники», где вас черти носили до сих пор? Быстрей к столу!
Малышко проголодался и хотел сразу подсесть к закускам, но на него закричали:
— Куда с мочалками? Погоди...
«Мочалками» именовали маскхалаты. Пришлось по случаю торжества переодеваться.
Кроме своих штабных офицеров за столом сидели капитан из отдела кадров и командир минометной батареи Кравченко — веселый и голосистый человек.
Кто-то немало потрудился над организацией ужина: вместо котелков на столе стояла обычная посуда, и, если считать по-фронтовому, было что выпить и закусить.
Кравченко — добровольный тамада — поднялся со стаканом в руке и, тряхнув чубатой головой, гаркнул:
— Поднимем, товарищи, этот тост за удачу нашим друзьям-товарищам, какая кому необходима!
— За удачу! — поднялись остальные и потянулись через стол чокаться с Крутовым и Малышко.
Друзья переглянулись. Неизвестно, о какой удаче говорил Кравченко. Может быть, он подразумевал награды? А они желали себе удачи только в одном, — чтобы поиск прошел благополучно. И потому, что никто не знал того, что знали они вдвоем, товарищи заговорщицки подмигнули друг другу:
— За удачу!
На короткое время установилась тишина. Слышно было, как постукивали вилки и ложки, кто-то, аппетитно чмокнув произнес:
— Эх, мала наркомовская норма. Повторить бы...
В ответ только засмеялись.
За столом заговорили кто о чем. Минометчик Кравченко, не найдя собеседников по нраву, встал со своего места и втиснулся между Крутовым и Малышко.
— Эх друзья мои, ползунки-человеки, — обнял он их за плечи. — Люблю я вас больше всех. У меня братан был, ростом с тебя, Павло, рубака-кавалерист. Про Доватора слышали? Так вот, с ним в рейды ходил. Погиб!.. — стиснув зубы, он хватил кулаком по столу так, что посуда подпрыгнула. — Не успокоюсь, — гневно, с затаенной болью воскликнул он, — пока все гитлеровское племя на распыл не пустим. Думаете, я кто? Бахвал? Я — артиллерист! Ты не знаешь, и никто не знает, а я скажу тебе, Крутов, не я, — слопали бы тебя фрицы на той высоте. Черняков мне командует: «Огонь!», а сам забыл, что у меня всего с полсотни мин на батарее. Где взять? А я взял, потому что у меня везде дружки. Только сказал «выручайте», сразу три подводы мин из соседнего полка на огневую пригнали... А ты знаешь мою стрельбу, у меня вторая мина уже лупит прямым попаданием. Вот пусть Малышко скажет, он видел, не даст соврать.
Слушая откровения Кравченко, Крутов был взволнован. Сколько людей болело за исход начатого им дела, за него, за бойцов, стоявших рядом с ним! Что-то большое и теплое подкатывалось у него к горлу, и он в порыве благодарности пожал руку Кравченко. Малышко тоже слушал и смотрел на минометчика поблескивающими глазами.
— Кое-кто говорит: Кравченко храбрец, ему сам черт не брат. А почему я иду без оглядки? Что у меня — две жизни в запасе? Как бы не так! У меня два глаза, но я знаю: за мной еще в двадцать два глаза мои товарищи смотрят. С ними не пропадешь. Поодиночке мы кто?
Он схватил кусок хлебного мякиша и, раскрошив в сильных пальцах, бросил на стол:
— Вот — кустари! А вместе — сила! Я за всех, все за меня. Понял?
В разгар ужина вошел дежурный по штабу, веером развернул несколько писем.
— Почта прибыла. Пляши!
Крутов подскочил, выхватил у него из рук свое письмо: «Лена ответила!» — и, как был, без шапки, выскочил за дверь, в темноту.
— Ответила, ответила, — твердил он, не зная еще, что она написала ему, и переживая тревожные минуты. А вокруг была тихая холодная ночь. Мерцали щедро рассыпанные по небу звезды. Запоздалая луна зацепилась за верхушку сосны и стояла, как пойманная на кукан рыбка. Далеко, где-то в районе станции Лиозно, били зенитки, и в небо плыли цепочки светлячков. Дремал, не шелохнувшись, темный лес.
Крутов прислонился к сосне, достал из кармана зажигалку и при ее трепетном свете вскрыл письмо. Читать было трудно, но он не спешил. «Недавно получила ваше письмо и только что собралась ответить...» Лена почти не писала о себе. Лишь в конце, наспех набросанные строки совсем другого тона. «Сегодня все пришли с задания, отдыхаем. Обычно ребята собираются у блиндажа, играют на баяне, поют, но сегодня не до того, потеряли лучшего разведчика. Не могу себе этого представить: еще вечером он смеялся, шутил, и вот его нет. Хочется не думать об этом, но я не могу ничего с собой поделать. Кажется, еще немного, и я расплачусь, разревусь. Простите, Павел, меня за малодушие. Мне хотелось бы увидеться с вами, поговорить. Вы, наверное, высмеяли бы меня, и это было бы правильно. Однако только теперь я начинаю понимать, что за несчастье война... Пишите хоть вы мне почаще, а то в голову лезут такие мысли, что даже говорить о них страшно. Не знаю, может быть, это лишь глупости, и вам нет до них никакого дела...»
— Милая Лена, — прошептал Крутов. Самые теплые чувства волной нахлынули на него.
Скрипнула дверь блиндажа, узкая полоса света рассекла тьму и пропала.
— Павел, где ты?
Крутов обнял Малышко за плечи:
— Сеня, дорогой мой, друг!
— Ты чего сбежал?
— Я не мог. Ты понимаешь, Сеня, она тоже разведчица, славная девушка...
Они долго, не замечая холода, говорили о том, можно ли полюбить с одной встречи, сильно навсегда, и о многом, о чем в другое время даже не подумали бы. И это было понятно: через сутки один из них должен положить на чашу весов свою жизнь ради победы, а другой — доказать, что верность друга — это не просто слово...
Они говорили еще долго, и, когда вошли в блиндаж, там было тихо и неуютно. Ушел Кравченко, улеглись спать остальные, и только один из офицеров еще сидел за неубранным столом, склонившись чубом на руку.
Заслышав скрип двери, он поднял голову, посмотрел на вошедших и сказал:
— Черти-именинники, сбежали! Я для них старался, картошку жарил... Давайте хоть посуду уберем.
Глава третья
В легкой вечерней дымке угасало солнце. Его последние лучи скользнули над землей, коснулись верхушек сосен в роще, блеснули яркими огоньками на уцелевших стеклах в Ранино, окрасили в пурпурный цвет пучки перистых облаков. Стайка трассирующих пуль пронизала погрузившуюся в сумерки лощину. Бледной звездочкой на светлом еще небе зажглась и, описав дугу, угасла первая ракета. На землю опускалась ночь.
Одетые в темно-пятнистые халаты, разведчики поднялись на пригорок и мягко, пружинисто ступая, скрылись в траншее. Их уже ждали. Нетерпеливо поглядывая, ходил по траншее Крутов, повторял необходимые распоряжения командиру минометной роты Еремеев.
— У тебя все в порядке? — спросил Крутов, когда к нему подошел Малышко. — Здесь все готово!
Он счел излишним рассказывать ему, что произведена перестановка пулеметов; что в первую траншею сели артиллеристы-корректировщики; что с грехом пополам, после долгих разговоров, он уломал врача выйти в батальон на случай, если потребуется срочная помощь или переливание крови; что Еремеев, предоставив врачу свой блиндаж, перешел в роту; что он, Крутов, пользуясь старой дружбой, договорился с командиром дивизиона Медведевым о поддержке и тот не пожалеет снарядов и даст огонька как следует, чтобы прикрыть отход разведчиков...
Минометы и пулеметы уже начали вести беспокоящий огонь по траншеям противника на соседних участках. Казалось, не оставалось такой мелочи, которую не предусмотрел бы Крутов.
В ожидании команды разведчики примостились в траншее на корточках и закурили. Среди них Крутов увидел Григорьева, ходившего с ним осенью на задание в тыл врага, и кивнул ему головой. Большинство разведчиков было набрано из бойцов нового пополнения, и каковы они будут в деле, он не знал, хотя в разведку отбирали на добровольных началах, и народ должен быть хороший. На вид все были крепкие, здоровые парни. Они молча курили, пряча огоньки самокруток в рукава халатов. Все было ясно, все решено, и гадать «выйдет — не выйдет» не полагалось. Может, поэтому разговор не клеился.
— Холодно, аж трясет... — поеживаясь, сказал один.
— Эка новость, трясет! Всегда трясет. А летом не трясет разве? Нервы, браток! — ответил сосед. — Я знал одного, так он, как на задание...
— Хватит! — грубо оборвал его третий, видимо командир отделения, хотя погоны у него, как и у других, были скрыты под маскхалатом.
Разведчики замолчали, уткнули лица поглубже в рукава и, делая глубокие затяжки, стали докуривать цигарки.
— Значит, с огнем все будет в порядке? — еще раз спросил Крутова Малышко. — Сигналы помнишь?
— Все помню, Сеня, сам буду смотреть!
Малышко обернулся к разведчикам и тихо скомандовал:
— Кончай курить! — И несколько выждав: — Вперед!
Пока бойцы выходили из траншеи, он, крепко стискивая руки Крутова, сказал:
— Ну, бывай, Павло! Если что... знаешь мой адрес...
— Удачи, Сеня. Жду тебя!
Малышко, словно борясь с кем-то другим, не желавшим отпускать его из уютной и безопасной траншеи, резко оттолкнул руки Крутова и кошкой, ловкий и гибкий, перемахнул за бруствер траншеи. Пригнувшись, он сбежал по скату высоты в лощину и скрылся в темноте.
Еремеев потоптался в окопе, прислушался и посмотрел вперед. Там было тихо и пока спокойно...
— Пойдем, Павел Иванович, в блиндаж, покурим. Все равно часа полтора ждать еще. Пока доползут, оглядятся... — Он махнул рукой. — Пойдем!
— Вы идите, а я побуду здесь. Не могу! — отозвался Крутов.
— Дружка проводил, вот и сосет, — посочувствовал Еремеев. — Чертова война, сколько ни воюй, а все никак не привыкнешь. Так я пойду, покурю.
Крутов, привалясь грудью к стенке окопа, долго стоял не шевелясь. Стоял и думал: «У Малышко мать и невеста в заводском поселке недалеко от Свердловска. Говорят, материнское сердце чувствует беду на расстоянии. Что она сейчас, думает о своем сыне или нет? Возможно! Все же — мать!.. Не так просто. Случись что, выплачет все глаза... А невеста? Тоже поплачет, погорюет, посетует на свою судьбу...» Сам не заметив, он стал думать о том, что уже полтора года, как не стало его Иринки. Если бы оставалась хоть малая надежда на то, что она вернется, он ждал бы ее еще год, два, до самого конца войны и даже больше! Но если надежды нет и ждать некого?
Усилием воли он попытался направить мысли по старому руслу, чтобы представить себе мать Малышко, но ничего не получилось. Он мог быть ему верным другом, но думать все-таки о своем, пережитом...
Перед глазами стояла своя мать. Она откуда-то издалека смотрела на него печальными глазами. Сколько лет, как он из дому? Семь. Семь лет, как она проводила его на учебу в Свердловск, совсем не предполагая, что проводила сразу на две войны. Ему вздумалось учиться на художника, и отец — старый рабочий — не стал возражать: у молодежи своя дорога; за то и воевали они — отцы, отстаивая советскую власть! Бежали годы учебы, бежали и события. Зашевелились на границе враги. Хасан, Халхин-Гол. Потом освобождение братьев-украинцев и белорусов. Вместе с тысячами молодых людей и он ушел служить в армию, не окончив своей учебы. Он сразу решил, куда ему определиться. «В стрелки!» — сказал он в военкомате и без сожаления подставил свой чуб под машинку парикмахера. Только об одном он печалился, — не было матери на вокзале, когда будущих солдат под залихватские переборы гармошки, плач, громкие напутствия провожающих повезли в далекую Сибирь. Вот тут впервые до боли защемила ему сердце тоска, и он в отчаянии забился на нижние нары, завернулся с головой в пальто, чтобы не думать, не заплакать.
Итак, Сибирь! Кто-то ехал от дома, а он, наоборот, приближался к своей родине — Дальнему Востоку. Но до дому он не доехал. На полпути, в Красноярске, им пришлось выгружаться. Не успел он как следует оглядеться в новой обстановке, еще форма топорщилась на нем, как их часть круто замесили приписным составом — солидными дядьками-сибиряками — и отправили на финский фронт. Однако к фронту не довезли. В Пскове их эшелон разгрузили, и вот тут-то они узнали, что значит солдатская наука. С утра до позднего вечера их заставляли ползать, перебегать, стрелять, метать гранаты, варить суп в котелках, за полчаса ставить палатки на снегу и тут же затапливать железные складные печки.
Зима в тот год была суровая, снежная. На фронт они попали к концу кампании, когда командование нашло, что часть сколочена, обучена и может действовать в условиях сурового финского фронта. Первая кровь товарищей на снегу, первый опыт войны..
После Финляндии служба казалась уже легкой, потому что он окреп, закалился. Для него не составляло труда в нужную минуту подставить спину под неразобранный пулемет «максим» и перенести его за сотню метров; выдолбить в плотной сухой земле окоп; час-другой повертеть в руках винтовку, отрабатывая прием «отбив штыком — вниз направо». На марше он посмеивался над молодыми, нередко выбегавшими из строя из-за того, что у них сползали неумело накрученные обмотки.
В то время он и познакомился с Иринкой. У них все уже было решено, и дело стояло только из-за каких-то четырех месяцев до его демобилизации.
Где та выходная форма, которую он берег, чтобы ехать в ней домой? Пришла война, на этот раз еще более суровая, затяжная. И где ее конец?
Из дому писали мало, но аккуратно. Обычно это были каракули отца. Он еще до войны ушел на пенсию, но, когда люди пошли на фронт, не утерпел, снова спустился в котельную и заменил механика, призванного в армию. Мать тоже бодрилась, хлопотала по хозяйству. Да и как иначе? Скудного пайка, выдаваемого на карточки, не хватало, и надо было держать огород, птицу... Как-то Крутов написал, что ведь он посылает им свои деньги!.. Отец ответил: «За это, сынок, спасибо, только на них ничего не купишь. Вот мать у нас молодец, поработала лучше всех в подсобном хозяйстве и обеспечила нас картофелем...»
Тишина только изредка нарушалась немецким пулеметом, наугад постреливающим перед собой, да гулкими ответными очередями «максима». Крутову казалось, что он уже целую вечность торчит в окопе, а о разведчиках ни слуху ни духу... «Наверное, ползут, — подумал он. — Не так просто!» Он знал, как это делается. Чуть приподнявшись на носках, надо переносить тело вперед и вперед, так, чтобы не шуршала трава. У заграждения дорога дается разведчику с ножницами. Он подползает под заграждение и режет проволоку, свившуюся в спираль Бруно или напутанную вокруг рогаток. До боли стиснешь зубы, ожидая, когда, еле дзинькнув, распадется под ножницами одна, другая проволока... Их, нависших над головой, — десяток... Недаром резку проволоки поручают самым опытным и умелым бойцам. От них зависит жизнь остальных.
— Почему же все-таки так долго? — вслух спросил он. Несколько раз он прошел до блиндажа, где, тихо беседуя, ждали офицеры и связисты. Внезапно глухой взрыв гранаты донесся до него. Крутов насторожился, впился глазами в темноту. Коротко, торопливо затыркали автоматные очереди: тр-р, тр-р, тр-р!
— Еремеев, началось! — крикнул он.
Офицеры выскакивали из блиндажа. Противник, обеспокоенный стрельбой, открыл из пулеметов предупредительный огонь трассирующими, заткав паутиной косоприцельного огня подступы к своему переднему краю. Разведчики сигналов не подавали.
— Даем огонь... Они, видимо, не хотят ракетой показывать немцам место, где находятся, — сказал Еремеев, поднимая над головой ракетницу.
Крутов кивнул головой. Белая осветительная ракета вертикально взвилась в небо, на какое-то мгновение остановилась в воздухе и стала падать обратно. Сразу ожил передний край. Громко и гулко заговорили «максимы», застучали минометы, дружным залпом ударила по вражеским окопам полковая батарея.
В это время там, где находились разведчики, взметнулся и растаял в темноте красноватый клубок огня. Взрыв, а вслед за ним темноту раздвинули вспышки многочисленных ракет. Мертвенно-бледный свет озарил передний край обороны противника.
— Черт возьми, что же там происходит? — воскликнул Крутов. Еремеев только пожал в ответ плечами.
Вскоре послышались голоса, оклик: «Кто идет?» — и в траншею спрыгнули разведчики, оставив за бруствером лежащих на плащ-палатках двоих, не то своих товарищей, не то пленных. Еле переводя дух, разведчик сказал:
— ...Ворвались в траншею... Ранены оба!
— Кто оба? Быстрей! — чуя недоброе, торопил Крутов.
— Наш сержант и фриц!..
— А где же Малышко, что с ним?
— Шел последним... Должен быть! — Разведчик даже оглянулся, не веря тому, что командира может не быть с ними.
Но его не было. «Так вот оно... Крутов до боли закусил губу.
— Как вы смели бросить своего командира?
Еремеев положил ему руку на плечо:
— Спокойно, не горячись. Сейчас разберемся, дай людям отдышаться.
Что-то невнятное забормотал немец и пошевелился, силясь привстать. Рядом с ним лежал раненый сержант, тот самый, что так недавно оборвал разговор разведчиков в траншее. Он дышал с хрипом. Повернув голову, сержант увидел своих и попросил со стоном:
— Братцы, не могу... Добейте меня, что ли...
— Несите его в санпункт. Быстрей!
Стрелки подхватили раненого на руки и скрылись в темноте.
— Предупредите, пожалуйста, врача, чтобы готовился, — попросил Крутов одного из офицеров. — Да скажите, что еще не все.
Разведчики стояли, привалясь к стенке траншеи.
— Григорьев, как же так? Где Малышко? — снова подступил к ним Крутов.
Григорьев глотнул воздух, словно ему перехватило дыхание, и ответил совсем не то, о чем его спросили:
— Товарищ капитан, как бы пленный не кончился, допросить бы его.
Он был прав, прежде следовало подумать о деле, ради которого гибли люди. Ведь Крутов когда-то сам ему об этом говорил. Крутов наклонился над немцем, потряс его за плечо:
— Дойч! Регимент?
Тот приоткрыл глаза, увидел над собой нахмуренное лицо и пробормотал:
— Вассер...
— Воды! — передал Крутов. — У кого есть с собой вода? — Ему протянули флягу, и он приложил ее к губам раненого. Сделав несколько глотков, пленный снова закрыл глаза, но Крутов громко повторил вопрос. Гитлеровец, не открывая глаз, что-то отчетливо произнес, и Крутов уловил в произношении знакомое со школьной скамьи звучание чисел. Ухватив произношение фразы, он тут же в темноте записал ее.
«Завтра разберемся. Запись на всякий случай сохраню», — решил он про себя, в который раз страшно досадуя, что ленился в школе учить немецкий язык, считая его ненужным и нудным.
В это время немец забормотал что-то быстро и несвязно.
— Что он говорит? — спросил Еремеев.
— Он бредит, — громко сказал Григорьев. — Дом вспоминает, зовет Марту...
— Григорьев, ты же понимаешь, — спохватился Крутов, — спроси, нет ли на фронте новых частей?
Пленный, несмотря на старания Григорьева, ни на один вопрос не ответил. Похоже было, что он и в самом деле был без сознания Крутов приказал нести его к врачу.
— А теперь, — потребовал он от разведчиков, — расскажите толком, где вы оставили Малышко?
— С нами не пришел еще один наш.
— Значит, нет уже двоих?
— Выходит. Они шли последними...
Они коротко рассказали, как им удалось незаметно подползти к проволочному заграждению, прорезать проход и проникнуть в траншею. Группа захвата бросилась на часового. Тот выхватил гранату, вырвал из нее чеку, но бросить не успел. Его руку перехватил сержант. Граната, из-за которой они боролись, взорвалась. Малышко приказал хватать обоих раненых и уходить. Тут из блиндажа выскочили гитлеровцы, но по ним дали очередь из автомата...
— Все выскочили за проволоку?
— Честное слово, все, сам видел, — клялся Григорьев. — Фашисты еще не разобрались, в чем дело, и огня не открывали.
— И Малышко выскочил?
— Все выскочили. Когда мы бежали, позади нас что-то взорвалось. Наверное, обстрел начался, и мы только здесь увидели, что нас недостает...
«Это не обстрел, это мина. Неужели они подорвались? — подумал Крутов. — Значит, они остались там!..»
Еремеев неодобрительно вздохнул:
— Командир ваш, может быть, погиб, а вы, значит, и не оглянулись. Вот это «орлы»!
— Нас шестеро, а на руках — двое раненых. Тоже нелегко, — оправдывались разведчики.
— Все равно, так не делают.
— Так мы же их не бросили. Пойдем искать — и найдем!
— Конечно, отыщем! — подхватили остальные и, воспрянув духом, стали было выскакивать из траншеи. Еремеев задержал их.
— Подождите, а то еще на засаду напоретесь. Сейчас огоньку дадим. Может, фашисты вылезли проход заделывать или своего искать, так укроются на время. Как, минометчик, сумеешь дать с гарантией, что недолетов не будет?
— Сколько угодно, — ответил офицер-минометчик. — У меня эти окопы пристреляны.
С быстрым гаснущим стоном пронеслись мины и стали рваться, разбрасывая искры в том месте, где происходил поиск.
Из полка позвонил вначале начальник штаба, потом Кожевников, тут же передавший трубку Чернякову, и все говорили об одном: «Найти!»
А Черняков добавил:
— Оставить Малышко — это неслыханный позор для полка. Не уходить, пока не найдут.
Зайков, узнав про такое дело, примчался на передовую и, как тень, ходил за Крутовым. Поиски тянулись долго. Черняков несколько раз звонил в роту, справлялся, не вернулись ли разведчики. Он тревожился и не ложился спать. Телефонисты приникли к трубкам, прислушивались к разговорам на линии. Полк не спал.
Но вот раздались осторожные шаги, тихий разговор — и перед окопами показались разведчики: они кого-то несли на плащ-палатке.
— Нашли? — нетерпеливо спросил их Крутов.
— Один вот только... — разведчики опустили свою ношу, и он увидел погибшего. Лица нельзя было разобрать в темноте.
— Кто же это? — с тревогой спросил он, склоняясь над убитым, чтобы лучше его распознать.
— Разведчик это, товарищ капитан... Малышко нет! — ответили ему.
— Нет? — глухо от подступившего гнева спросил Крутов. — Так вовсе и нет? Может быть, он и не ходил с вами в поиск?
— Все обыскали. Нет! — хмуро отвечали разведчики. Стояли они усталые, озлобленные неудачей, решительно уверенные в том, что дальнейшие поиски ни к чему хорошему не приведут.
— Что ж, бросить поиски?.. — Крутову стоило невероятных усилий сдерживать себя.
— Подумайте сами, товарищ капитан, — заговорил разведчик. — Немцы наверняка сейчас своего ищут, проход заделывать будут. Тут погибнуть — раз плюнуть!..
В разведке потерять человека нехитро, но оставить даже погибшего на поругание врагу значит подорвать доверие людей в сплоченность своего коллектива, дать повод к сомнениям, а не оставят ли и его у противника в следующий раз, если и он падет от пули или осколка? Вера в нерушимость товарищеской спайки цементирует небольшой боевой коллектив, превращает его в грозную силу. Если разведка потеряла своего человека убитым или раненым и не нашла его, чтобы оказать помощь или похоронить с почестями, такую разведку лучше всего расформировать, как расформировывается полк, потерявший свою святыню — знамя. Все равно из этого коллектива уже не будет проку; червь сомнений начнет подтачивать дух коллективизма, и разведчикам будет не под силу рискованное задание.
Вот они стоят потупившись, шесть молодых, здоровых бойцов. Им можно приказать, и они пойдут еще и еще раз, будут ходить до утра, но что толку? Они потеряли веру в спасение своего командира, а человек, потерявший веру, уже не воин. Слишком хорошо это было известно Крутову, и тем горше было примириться с мыслью, что Малышко погиб...
«Он знал, на что идет, предчувствие не обмануло его. А я еще уверял его, что все будет в порядке», — подумал Крутов, вспоминая вчерашний разговор. Надо действовать самому, иначе все их разговоры о дружбе и верности превращались в болтовню, в лицемерие, в обман. Действовать, а не терять время. Действовать, иначе стыд, презрение к самому себе не позволят ему смотреть людям в глаза. Подлость можно скрыть от людей, но не от своей совести.
Разведчики молчали угрюмо: они считали дело оконченным. Он читал в их душе мысль, которую они не смели высказать ему, но которая угадывалась в упрямо обращенных к земле взорах: «Приказать легко, а попробовал бы сам...»
— Что ж, поищу сам! — с сердцем проговорил Крутов.
Выхватив из кобуры пистолет, он с размаху сунул его за пазуху и, не сказав больше ни слова, выпрыгнул из окопа. Ушел один, гордо, зло.
Зайков опомнился первым и побежал догонять его. Еще один человек — Григорьев — отделился от разведчиков. Вдвоем они присоединились к Крутову.
— Товарищ капитан, чего же вы один?
Григорьеву дорога была знакома, и, когда до проволочных заграждений осталось недалеко, он пошел первым. Поползли. Впереди смутно выделялись березовые колья.
— Вот, — прошептал Григорьев. — Мина!
В земле была небольшая воронка от противотанковой мины. Крутов ощупал ее всю руками и нашел кусок уцелевшей от обшивки доски. Запах сгоревшего тола еще не успел развеяться в воздухе. Мины в деревянных коробках.. То они рвутся только под большой тяжестью, то достаточно легкого толчка, чтобы чека сорвалась со своего места... «И надо же было случиться, что они наткнулись именно на такую!» — подумал он.
— Здесь мы нашли убитого, — шептал Григорьев. — Кругом мины, осторожнее надо.
Оставив Зайкова наблюдать, Крутов и Григорьев метр за метром ощупывали землю вокруг, осторожно минуя чуть примаскированные дерном мины, уложенные с расчетом, что снег прикроет их, а вьюги заровняют поверхность снежного поля.
— Нет? — спросили они друг друга, когда первый круг был замкнут. — Еще разок, чуть подальше возьмем!
И снова поползли, осторожно вслушиваясь в шорохи. Гитлеровцы заделывали проход: то что-нибудь стукнет, то зазвенит проволока, накидываемая на колья, то вырвется приглушенный кашель.
На траве лежал иней. Намокшие пальцы коченели, становились бесчувственными. Тогда Крутов дыханием отогревал руки, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Может, поднимется знакомая фигура в халате? «Прости, Павел, я пошутил, остался, — скажет он. — Хотел узнать, крепко ли слово друга, придешь ли на выручку».
«Искать! — сам себе приказывал Крутов. — Не может быть, чтобы он погиб. С ним что-то другое. Не может человек пропасть бесследно! Должна найтись хоть мелочь, по которой можно будет узнать его судьбу».
Григорьев утомился. Он ползал с самого вечера, и у него уже нестерпимо болели колени, натертые о мерзлую землю.
— Давайте немного отдохнем, — попросил он при очередной встрече около Зайкова.
— Побудь здесь, а я поищу один, — тихо сказал Крутов.
«Друг, Сеня, где ты? — думал он. — Что стряслось с тобой?» Ему нестерпимо жаль было товарища. Пусть убитого, но только бы найти его, знать, что он не попал к врагу. Большего он сейчас не желал. Он не мог себе представить, как вернется назад с пустыми руками. «Мы же говорили...» — скажут разведчики. Неужели надо согласиться с ними и прекратить поиски?.. Извинить их, простить им потерю командира?.. «Ну, нет, — упрямо твердил Крутов, — этому не бывать!»
Он почувствовал, как отступает усталость и весь он наполняется дикой необузданной силой. В таком состоянии человек не знает своих возможностей. Он снова пополз. Время, которого он не замечал, шло своим чередом. Опустила хвост Большая Медведица, и над дальним темным лесом узеньким серпом всплыл поздний месяц; уже гитлеровцы закончили свою работу на переднем крае и нет-нет да и прострачивали из пулемета лощину. По всему чувствовался близкий рассвет...
А Крутов полз, отдаляясь все дальше и дальше от места взрыва, ощупывая сотую, тысячную кочку, бугорок, ямку. Прополз десять, двадцать, полсотни метров... Какой-то шорох раздался сбоку, и сразу жизнь властно заявила о своих правах Крутов прилег, выхватил пистолет, насторожился. Прямо на него кто-то полз. «Гитлеровцы, — мелькнула догадка, и он затаился, как зверь, готовый зубами драться за свою жизнь. — Сколько их?» Впереди тоже затихло.
«Сейчас, сейчас», — считал секунды Крутов, ожидая нападения и до боли стискивая рукоятку пистолета.
Раздался тихий, мучительный стон. Крутов обомлел. Он ожидал чего угодно, только не этого. Дрожь пронизала его.
— Сеня, — чуть слышно позвал он. — Сеня, ты?
Ползущий на него человек поднял голову, и тогда Крутов, ахнув, не помня себя, бросился к нему, прижал, не давая вымолвить слова.
— Сеня, что с тобой? Откуда ты?
— Я уж думал, пропал, — сказал Малышко, слабо пожимая руку Крутову.
— Ничего, ничего, — утешал его Крутов, обнимая за плечи. Одежда липла к рукам, и он забеспокоился: — Ты ранен?
— Не знаю. Болит все...
Зайков и Григорьев, заслышав шорохи и тяжелое дыхание двоих, поспешили навстречу.
— Живы? А мы вас, товарищ командир, искали, искали, думали, и не найдем. Как же вы потерялись?
— Григорьев? — узнал его по голосу Малышко. — Спасибо, что искал... Что со мной? Очнулся — лежу и не помню где. Один! В глазах резь, и не открываются — заплыли. Опамятовался немного, отполз в сторону, боялся, чтобы немцы не захватили. Шорохи слышал, а окликнуть побоялся, — вдруг враги! Наугад, на выстрелы к своим полз.
Подхватив отяжелевшего Малышко, Крутов поднялся и в рост пошел к своему переднему краю. Душа его ликовала.
Разведчики, обеспокоенные долгим отсутствием Крутова, в третий раз за ночь покинули свои окопы. Совесть не позволила им оставаться в бездействии, когда кто-то другой отыскивал их командира. Невдалеке от того места, где велись поиски, они залегли, готовые в нужную минуту прийти на помощь.
— Товарищ капитан, вы? — встретили они Крутова. — Нашли? Где же он был?
У Крутова не было к ним обидных слов. На душе отлегло, и ему даже было немного неудобно за то, что погорячился, не поговорил с ними как следует, а то бы, пожалуй, Малышко удалось найти гораздо раньше. «Сразу надо было с ними идти, не ждать. А то получилось, что вроде себя выставить захотел: вот, мол, какой хороший! А в сущности — дурак, и все получилось страшно глупо. Не умею еще находить тропку к сердцу людей!» — подумал он с досадой.
— Сам нашелся, — ответил он. — Помогли бы нести!
— Вы на нас сердца не держите, товарищ командир, — сказали ему разведчики, принимая на руки Малышко. — Нам тоже нелегко.
— О чем речь? Нашли, и ладно!
Когда Малышко был внесен в блиндаж и Крутов взглянул на него при свете лампы, он ужаснулся. Все лицо было черно от копоти, а халат порван и окровавлен.
Врач долго возился с ним. Из-за коленкоровой занавески доносились то стоны, то тихие, но отрывистые, как команды, слова врача.
Крутов терпеливо ждал, сидя возле жарко топившейся печи. Сон и усталость одолевали его, и голова то и дело падала на грудь. Тогда он брал кочережку и начинал помешивать в печке угли. Наконец врач вышел из-за занавески. На лбу у него посверкивало круглое зеркальце о маленьким отверстием посередине. Он вытащил из кармана папиросы и жадно закурил.
— Ну как? — тревожно спросил Крутов, поднимаясь со своего места и уступая его врачу.
— Ничего, бывает хуже... Вот у сержанта, например...
— А зрение?
— Глаза целы. В общем, можешь считать, что твоему другу повезло. — И вдруг сердито сказал: — Не понимаю я вашей тактики!
— Какой?
— Да хотя бы с разведкой!.. Каждую ночь под проволокой у немца лазит столько людей, а зачем? Взяли одного пленного, и тот по дороге помер, а сколько своих погубили... И каждую ночь, и самых лучших причем!..
— Но ведь надо вести разведку!
— Надо! А вы уверены, что именно так надо, а не иначе? Если только сосчитать, сколько на это тратим силы по всему фронту, так ведь можно прорыв делать...
Крутов пожал плечами:
— Как-то не приходилось задумываться...
Поблагодарив врача, он пожелал Малышко скорейшего выздоровления и вышел из блиндажа. В полк идти было далеко, к тому же брезжил рассвет. Крутов постоял, подумал и вошел в соседний блиндаж. У коптилки сидел один телефонист, остальные вповалку спали на нарах. Крутов, не говоря ни слова, втиснулся между ними, сунул под голову планшет, надвинул шапку на глаза и мгновенно уснул.
Глава четвертая
В тот день, когда Черняков представил их офицерам полка, лейтенанты Бесхлебный и Владимиров, прихватив свои вещевые мешки, пошли в батальон вместе с комбатом.
Дорогой речь зашла о роте, в которую они получили назначение — один ее командиром, другой — командиром взвода.
— Роты у нас малочисленные, — неторопливо говорил Еремеев. — Ваша — четвертая — тоже. Двадцать семь человек. Народ хороший. В основном — пожилой, серьезный. Сейчас война, и я от человека требую прежде всего, чтобы он был предан делу, за которое мы боремся, и умел владеть оружием. К примеру, есть в роте два бойца — Кудри, старший и младший, отец и сын. Как я могу потребовать от старшего, чтобы он в пятьдесят лет был таким же строевиком, как сын? Зачем это мне сейчас?.. Я знаю одно: в трудную минуту на старшего можно положиться, как на самого себя. Возьмите других, Мазура, например: не боец — золото! В тыл к фашистам ходил, разведчик был отменный. Смелый, исполнительный боец и, я бы сказал, практического складу человек. Конечно, не молод, в годах, потому и из разведки ушел. Недавно ранен был, еще как следует не поправился, а вернулся в полк. Бабенко — тот совсем другой человек. Хитрый, черт, с подковыркой, но молодец! Руки у него умные, все умеют. Если что с оружием случится, так вы никуда не ходите, а прямо вызывайте его, он исправит.. Рабочий человек, одним словом, с металлом дружит. В общем, познакомитесь со всеми. Рота сейчас в резерве, поэтому времени у вас на это хватит...
Вечером, когда солдаты вернулись с оборонительных работ, Бесхлебный приказал построить роту. С переднего края глухо доносилась перестрелка. Старшина подал команду «Смирно!» и четким строевым шагом пошел к Бесхлебному с рапортом.
Лейтенант поздоровался с бойцами. Те ответили вразброд, но он сделал вид, что иначе и быть не могло.
— Я назначен к вам командиром роты. Будем вместе учиться воевать, а для начала давайте познакомимся.
Он обошел строй, интересуясь отдельными подробностями биографий бойцов. Затем достал из кармана вчетверо свернутую бумажку и стал читать сводку Совинформбюро, принятую в дивизии по радио.
Бойцы прослушали сообщение с большим вниманием.
— Вопросы есть? — спросил Бесхлебный.
Бойцы переглянулись, но никто не поднял руки, не произнес ни слова.
— Значит, все ясно?
— Ясно, конечно, — ответил Кудря, пожилой боец с рыжеватыми, коротко подстриженными усами, пожалуй, старше всех в роте по годам. — Вы бы, товарищ лейтенант, лучше узнали, как там насчет теплых портянок? В других-то ротах уже выдали!
— Чего ты, Кудря, беспокоишься? — не вытерпел старшина. — Сказано — будут, значит, будут. Жди и не лезь к командиру.
— Погодите, — остановил его Бесхлебный. — Правофланговый, ко мне!
Правофланговый — крепкий жилистый боец с темными широкими бровями, в короткой шинели, не достававшей ему до колен, неловко вышел из строя и подошел к Бесхлебному.
— Мазур, — пробормотал он, и в горле у него что-то сорвалось (не привык человек докладывать начальникам), — по вашему приказанию...
Оттого, что пришлось стоять перед строем лицом к лицу с незнакомым командиром, ему было неловко, сквозь черноту небритых скул проступил румянец. Пальцы рук беспокойно шевелились.
— Распахните шинель, — скомандовал Бесхлебный, — покажите нательную рубашку... Повернитесь! Снимите шапку! Старшина, записывайте: бойцу Мазуру обменить шинель по росту, подстричь волосы, побриться, выстирать гимнастерку и научить его докладывать начальникам.
Это было что-то необычное для бойцов, и они молча ждали, что будет дальше.
— Боец Мазур, в строй, следующий ко мне! — продолжал Бесхлебный.
Старшина едва успевал записывать, что кому обменить на новое, починить, почистить, чему кого научить.
Бойцы были удивлены. Куда проще было самому сказать: «Вы, Грицай, пришейте хлястик, а вы ботинки налощите так, чтобы блестели ярче генеральского сапога...»
— Порядок знает, не в свои дела не вмешивается, — шепнул один боец другому.
Первое знакомство с ротой состоялось. Бесхлебный чувствовал: бойцы отнеслись к нему с недоверием. Он-то распорядился хорошо, а вот выдадут ли на складе все, что он заказал? «Надо будет — до командира дивизии дойду, а своего добьюсь!» — твердо решил он.
Вся рота размещалась в двух просторных блиндажах с накатником в один ряд бревен. До переднего края не более одного километра, но здесь уже был тыл батальона, и люди старались устроиться по возможности удобней.
Чтобы быстрей и ближе сойтись с людьми, Бесхлебный решил устроиться с бойцами. Бойцы ужинали. В печке весело потрескивали дрова, и было по-домашнему тепло и приятно. Отсвет пламени играл на темных стенах, на лицах солдат. Бесхлебный, не снимая с плеча мешка, остановился, не зная где ему расположиться.
— Сюда, товарищ лейтенант, — сказал Кудря-отец. — Ну-ка, мил человек, подвинься, — подтолкнул он соседа. — Не видишь, командиру сесть надо!
— Темновато тут у вас, — сказал Бесхлебный, присаживаясь.
— Это с непривычки так кажется, а мимо уха ложку никто не пронесет. Кстати, может, вы еще не ужинали? Тогда давайте котелок, сынишка сбегает...
— А что ж, дело, — ответил Бесхлебный, доставая из мешка котелок и кружку. — Пускай сбегает, перекушу.
Ночью в блиндаже было жарко и даже душно. Кто-то во сне кашлял, словно бухал кулаком в пустую бочку, кто-то поднимался среди ночи курить и сидел возле печки, пошевеливая в ней головешки... Под боком у Бесхлебного оказались еловые ветки, было жестковато, но он спал как убитый. Не больно много времени надо, чтобы снова привыкнуть к быту передовой.
Утром старшина уехал на склад, а Владимиров увел роту на окопные работы, чтобы дооборудовать батальонный узел обороны. Бесхлебный остался один. Он решил составить план боевой подготовки и заглянуть в наставления. В это время к блиндажу кто-то подъехал верхом, заговорил с дневальным. Дверь отворилась, и вошел Кожевников.
— Ну, как вы тут устроились?
— Еще только устраиваюсь, товарищ подполковник, — ответил Бесхлебный, — присматриваюсь.
Он рассказал, с чего начал свою работу в роте, как его встретили, как прошел осмотр. Не утаил, что отнеслись к нему с холодком, недоверчиво.
— Правильно начали, — сказал Кожевников. — А насчет холодка — не обижайтесь. Авторитет сверху не дается, его приходится зарабатывать собственным горбом. Сумеете твердо держаться взятого курса — будет и авторитет. Не думайте, что только вы к бойцам присматриваетесь. Они к вам еще больше приглядываются. Вы сейчас с ними бок о бок живете, это хорошо, но остерегайтесь крайностей — и панибратства и отчуждения. И то и другое роняет престиж офицера, а вам он будет нужен, когда придется вести людей в бой. Старайтесь сколотить роту, как боевую единицу. Главное для этого — доверие бойцов друг к другу, бойцов — к своим командирам, уверенность офицеров в своих бойцах, боевая дружба...
— С завтрашнего дня роту начну учить...
— Учить и сколачивать не одно и то же, — заметил Кожевников. — Со временем вы это поймете...
Бесхлебный высказал опасение, как бы начальник снабжения не отказал в обмене вещей.
— Я поговорю с Коноваловым, он сделает, что возможно. Но я приехал к вам не за этим, — сказал Кожевников. — В роте надо создать партийную группу. База для пополнения партийных рядов у вас есть. Мы недавно наградили за храбрость шесть человек из вашей роты... Присмотритесь к ним, побеседуйте, а тогда поговорим более подробно на эту тему. Я еще парторга полка пришлю к вам, он поможет.
К полудню приехал старшина с ворохом ботинок, шинелей, белья. Как только рота пришла с работы, он стал по одному вызывать бойцов к себе в блиндаж. Мазур вышел от старшины в исправной длинной шинели, с улыбкой, которую хотел, но не мог скрыть.
— Вот теперь ты, как солдат, — сказал Кудря-отец, бесцеремонно поворачивая и осматривая его со всех сторон. — Ладная одежонка, на человека стал похож. Побрился бы по такому случаю, а то, как головешка, черный до самых глаз...
— Ладно, обскребусь, — бормотал Мазур. — Это командиру спасибо. Сразу видно — человек, спроть нашего старого — ку-уды!
— «Спроть», — отозвался с усмешкой Кудря-сын. — Таких и слов-то нету.
Мазур огрызнулся:
— Не учи ученого... В жизни еще никакого понятия, а к словам цепляется, как репей к собачьему хвосту!..
Кудря-сын фыркнул было, но тут вмешался Бабенко:
— А, пожалуй, тебе опять придется шинель менять.
— Это еще почему?
— Очень просто, по уставу для пехоты положено, чтобы от земли до полы было сорок пять сантиметров. Хочешь, пойдем командира спросим да сразу и подрежем ее?
— Еще чего захотел... Так тебе командир и разрешит казенную одежу портить, — сказал Мазур. Однако, побаиваясь, что шинель и в самом деле могут подрезать, он скинул ее с плеч и, бережно свернув, положил в изголовье.
— Правильно, от греха подальше, — усмехнулся Кудря-отец.
После обеда всей ротой пошли в батальонную баню, выстроенную в глубине рощи, возле ручейка. Баня была жаркая, добрая, и люди выходили из нее разомлевшие, красные, утирая пот. В расположение роты брели медленно, поодиночке.
Мазур наломал молодого ельника, окрутил какой-то бечевкой зеленый лапник и пришел позже всех.
— Ну-ка, товарищ командир, посторонитесь, — сказал он, протискиваясь в дверь со своей ношей. — Будем вашу постель перестилать. Свежий ельничек, во какой пахучий да мягкий, сразу по всему блиндажу дух пойдет легкий.
Бесхлебному стало неудобно, что этот пожилой человек ухаживает за ним, как за малым ребенком.
— Ну, зачем было беспокоиться, товарищ Мазур...
Мазур только знающе ухмыльнулся в ответ.
Поздно вечером, когда Бесхлебный заканчивал у коптилки свои записи-конспекты к занятиям, подсел Кудря, поджав под себя босые ноги. Долго гладил усы и наконец спросил:
— Разрешите обратиться, товарищ командир?
— Говорите!
— Правда, что вы под Сталинградом участвовали?
— Пришлось гам побывать, только недолго. Ранили тяжело. Там люди долго не задерживались. А что?
— Так, к разговору пришлось, — ответил Кудря и вернулся на свое место на лежанку.
Проходили дни, внешне похожие один на другой. По утрам дневальный по роте, как в колокол, бил железякой о подвешенную снарядную гильзу и будил всех. Подъем, завтрак, занятия тактикой и огневой подготовкой... Обед, снова занятия тактикой до ужина... Ужинали, когда становилось совсем темно. И с каждым днем все лучше и лучше узнавал Бесхлебный людей своей роты.
Почему-то изменился Мазур: ходил, опустив голову, и все валилось у него из рук. Ночью он о чем-то шептался с Кудрей-отцом. До Бесхлебного долетали обрывки фраз, но смысл их был неясен. «Ладно, сам скажет, в чем дело», — подумал он.
Бабенко с утра начал охать и с жалобной миной пошел к старшине отпрашиваться в санчасть к врачу. Старшина отказал, и Бабенко, сбиваясь с ноги, поплелся в хвосте роты на занятия, всеми силами стараясь показать, как это ему тяжело. В поле он обратился к командиру роты:
— Товарищ лейтенант, вы спросите у меня, что положено знать, и отпустите к врачу на полдня.
— Заболел?
— Что-то мутит... — Бабенко покрутил рукой по груди и животу и состроил такую страдальческую гримасу, что в строю не удержались, прыснули.
— Ну, что ж, — сказал Бесхлебный, — правильно ответите — отпущу. Вот, представьте себе, вы — командир отделения...
Он дал ему небольшую вводную для решения тактической задачи, и Бабенко толково, не путаясь, отдал приказ на атаку высоты отделением.
— Правильно, ничего не скажешь, — должен был отметить Бесхлебный. — Остается практический урок. Рукопашный бой знаете?
— Маленько.
— Тогда — к бою!
Легким скачком на месте Бабенко стал в позицию, пружинисто покачиваясь на ногах. Живот и грудь убраны, плечо подалось вперед, жало штыка, как искорка, поблескивает на уровне глаз.
Бесхлебный взял в руки длинную палку, скомандовал себе: «Длинным — коли!» — и сделал выпад.
Штык, качнувшись вправо, кажется, лишь чуть коснулся палки, а она отскочила в сторону, и снова жало хищно поблескивает перед глазами. Боец преобразился. Куда делись его медлительные, вразвалочку движения. Глаза заиграли, каждый прием был быстр, неуловим, полон силы. Палка, пущенная в колено, была отбита таким великолепным ударом «вниз направо», что разлетелась, перебитая штыком надвое. Лейтенанту сразу стало ясно, что Бабенко чувствует себя отлично. Зачем же он просится в санчасть?
— Не следовало бы вас отпускать, — сказал он, — но слово — закон.
— Справку приносить?
— Какая там справка! — Бесхлебный махнул рукой. — Идите, куда требуется, но в другой раз без притворства. Да смотрите, без фокусов там!..
Бабенко вернулся вечером с двумя светильниками в руках.
— Сам делал, — объяснил он товарищам. — Знаете, соскучился по работе, а тут, думаю, без света сидим. Часа два с ними провозился. У меня в боепитании земляк служит, у него всякого инструмента хватает... Смотри! — и он показывал, как убавлять и прибавлять фитиль без помощи иглы.
В роте создали партийную группу из трех членов партии и одного кандидата. Командира взвода Владимирова выбрали парторгом. Теперь у него прибавилось забот: кроме обычных занятий он стал проводить информации.
Красная Армия наступала, и что ни день в освобожденных районах обнаруживались страшные следы фашистской расправы с населением. Там — сожгли, там — расстреляли, там — повесили, уморили в лагерях — сотни, тысячи советских граждан. Обо всем этом сообщали газеты, и нельзя было пройти мимо. Мрачнели лица бойцов: учтем! Отплатим! Радостные вести шли из освобожденных районов страны, и лица солдат прояснялись: «Налаживается дело!»
Вечером после ужина бойцы занимались своими делами: кто чинил одежду, кто чистил оружие. Кудря-старший, мурлыкая себе под нос немудреный мотивчик, мастерил подобие стола. Пулеметчикам положено иметь топорик, а он, кроме этого, обзавелся рубаночком, ножовкой, подпилочками и другим инструментишком и держал это все при себе в небольшой сумке на правах оружия. Если что потребуется сделать, — все под рукой.
Старшина на каком-то пепелище нашел полуразвалившийся стол и привез его в роту. Вот Кудря и взялся пилить и рубить, укорачивать и подгонять его к размерам блиндажа. Конечно, склеить бы ножки, тогда другое дело, а так... шатаются, проклятые, хоть и забил он в царги приличные ржавые гвозди. Но Кудря не унывал:
— Кабы не клин да не мох, так и плотник давно бы сдох, — шутил он, прибивая крышку к стенке. — Навечно, чтобы не колыхнулся!
Бесхлебному легко и приятно. Он сидел и ждал, когда Кудря закончит остружку крышки, чтобы подсесть к столу, а не писать на коленях, как раньше. В лицо струится тепло от печки, сквозь приоткрывшуюся дверку пробивается свет пламени. Связной принес из штаба батальона несколько писем. Все сгрудились около него. Счастливцы поспешно выхватывали свои треугольнички, и Бесхлебный мог, не глядя в лица, только по рукам узнать всех, кому достались письма. Мазур, схватив письмо, скрылся в темном углу. Наконец-то ему пришло!
— Слышь, дай-ка фонарик на минутку! — донесся его голос.
Кудря-молодой тоже получил письмо, но отец равнодушен к посланиям, которые получает сын, и, посмеиваясь, спросил:
— Ну, что пишут твои девчонки?
— Ничего!
— То-то и я смотрю — ничего. Только бумагу зря переводите!
Столик готов. Кудря еще раз огладил его рукой, на ощупь проверяя, не торчит ли где неправильно забитый гвоздь.
— Глаз — барин, а уж если рукой пройдешься, все заусеницы почувствуешь, — пояснил он, устанавливая на стол светильник.
Белая крышка стола кажется каким-то чужеродным пятном в блиндаже, где все прокурилось, прокоптилось и приобрело темно-коричневый оттенок.
Бойцы стали укладываться на отдых, а Бесхлебный подсел к столу поработать. За дверьми холодно: по стеклу единственного оконца мороз начал рисовать причудливые перья загадочной серебристой птицы. Ночь.
С нар поднялся Мазур и стал осторожно пробираться к печке, стараясь не разбудить спящих товарищей.
— Товарищ командир, разрешите обратиться? — шепотом спросил он.
— Говори!
— Понимаете, товарищ командир, — Мазур положил на стол измятый листок письма: — дома-то у меня плохо. Второе письмо получаю — жена слегла, а дети малые, зима... Вот почитайте.
В письме на полстраницы шли поклоны от родных и знакомых, и только после этого какая-то соседка от имени жены сообщала мужу о бедственном положении семьи.
— Чем же я могу помочь тебе?
— Товарищ командир, письмишко бы на сельсовет: так, мол, и так, нельзя ли помочь семье бойца дровишками и чем возможно. Не посчитайте за труд, черкните, век благодарить буду!
— Чудак, стоило ходить, мучиться, от товарищей таиться, — с укором сказал Бесхлебный. — Давно бы уже написали куда следует.
— Так разве у меня одного беда? Думал, перемелется, обойдется!
Бесхлебному не впервые писать для солдат такие письма. Они, пожалуй, даже стандартны: «Командование части просит оказать всемерную поддержку семье бойца, оказавшейся в тяжелом положении...» Но Мазур следил за его рукой с благоговением, затаив дыхание.
— Нет такого права у нас, чтобы забыть о человеке, бросить его в тяжелую минуту, — успокаивал Бесхлебный бойца. — Сельсовету за всеми не досмотреть, так ведь жена не в лесу живет, соседи-колхозники всегда помогут. Сосед — это, брат, великое дело! Вот завтра отнесем письмо в штаб, там подпишут, — полковник немного поавторитетней будет, чем лейтенант, — и пойдет оно к тебе на родину... У вас как, хороши места? Я-то из Сибири, недалеко от Омска жил. Хорошо у нас! Березнички веселенькие, а уж поля... Здесь не видел таких, тут все лоскутки, клинушки, кусочки какие-то... Простору мало.
Он еще долго толковал с солдатом.
Днем в роту пришел Еремеев.
Бесхлебный скомандовал «Смирно!» и отдал рапорт.
— Здравствуйте, товарищи! — обычным голосом произнес комбат, В ответ рота гаркнула, как один человек:
— Здра... жла... товарищ майор!
Еремеев удивленно покачал головой, усмехнулся:
— Ах, черт побери, здорово! А если бы вас с полгодика поучить?.. Вот что, товарищи, — строго обратился он к бойцам, — вижу, вы не теряли даром времени, и это хорошо. Завтра перед нами встают новые задачи. Но что бы там ни было, держитесь крепким коллективом, строго слушайтесь своих командиров, добивайтесь победы над врагом.
Рота выслушала сообщение комбата, не шелохнувшись: люди стояли твердо, боец к бойцу, с посуровевшими лицами. Бесхлебный с радостью ощутил, что он теперь накрепко связан с ними, что они дороги ему, как родные братья, и с ними он готов идти на любое задание.
Глава пятая
Войска Первого Прибалтийского фронта перешли в наступление. Им удалось вбить широкий клин в основание белорусского выступа, и теперь они стремительно шли от Невеля на юг, в сторону Витебска. Вместе с этим сообщением, распространившимся по армейским каналам связи, ходили слухи о тысячах взятых в плен гитлеровцев. Гром событий, развернувшихся там, докатился и до войск, стоявших под Витебском. Армии Березина было приказано нанести фронтальный удар в направлении города и овладеть им. Однако сил было мало, это каждому было ясно, и поэтому в приказе следовало уточнение: «Наступление вести со всей решительностью, чтобы сковать силы противника».
...Черняков сидел у стереотрубы, два «глаза» которой смотрели через узкую прорезь в бревенчатой стене. Полковник — в который уже раз! — разглядывал неприятельскую оборону. Армия начала бой: шла артиллерийская подготовка. Тяжелый гул пальбы рокотом отдаленной грозы докатывался до наблюдательного пункта, перекрывая расстояние в пятнадцать километров. Черняков, прислушиваясь к канонаде, вспоминал о последних двух днях. Полк был поспешно снят со своего участка и переброшен сюда, за большак, где сменил находившихся в обороне гвардейцев.
Участок полка начинался от идущего из Лиозно на Витебск шоссе. Нехоженое, покрытое ровным слоем снега, оно светлой полосой убегало в темную рощу, мимо небольших домиков, приютившихся у опушки. Мощные рогатки, густо опутанные колючей проволокой, перекрывали дорогу перед окопами противника.
Черняков повернул стереотрубу. В окулярах мелькнули домики, высоты с пологими склонами, парковая роща на холме в Поречках. На деревьях шапками держались галочьи и вороньи гнезда. Еще левее в глубь неприятельской обороны уходила заболоченная лощина. Ни окопов, ни блиндажей на ней не было, лишь одно проволочное заграждение из спирали Бруно и рогаток. Пересекая равнину, заграждение уходило к гряде невысоких холмов, густо заросших сосняком и ельником. Против холмов начинался участок, где действовал сосед — полк из дивизии Безуглова.
Черняков устал сидеть и спустился от стереотрубы на пол. В белом полушубке и ватных брюках он казался неуклюжей обыкновенного. Немного размявшись, полковник шутя подтолкнул в плечо первого подвернувшегося под руку офицера:
— Ну-ка, выскочи, послушай, гремит ли еще справа?
Сев на освободившееся место, он вздохнул:
— Стареть, что ли, начинаю? Устаю.
Вернувшийся офицер сообщил, что артиллерийская подготовка, по-видимому, закончилась, начались большие пожары. Вероятно, противник при отходе поджигает деревни.
— Что-то нам скажут в дивизии? — Черняков взялся за телефонную трубку. — Заняты Яськово, Хотеенки, Белыновичи... — дублировал он вслух, а офицеры отыскивали и отмечали на карте названные пункты. Достал свою карту и Черняков, подчеркнул красным карандашом занятые деревни, раздумчиво сказал: — Так мы можем и Витебск взять, если от Невеля еще поднажмут да выйдут в тыл всей витебской группировке. Дороги на Полоцк перерезать — зашевелился бы фронт...
Ночью дивизионная разведка захватила пленного. Черняков не утерпел, поинтересовался:
— Ну, как там, есть что-нибудь интересное?
— Кое-что есть, — ответил начальник разведки. — Присылайте нарочного.
В тот же день связной полка принес Чернякову пакет из разведывательного отделения дивизии с грифом «секретно». К письму начальника разведки была приложена запись показаний пленного. Пленный сообщил, что во время ноябрьского отступления командиры полков поссорились из-за того, что один, не предупредив другого, отвел свою часть. Полк, к которому принадлежал пленный, еле-еле избежал окружения и потерял тогда всю тяжелую артиллерию. Кроме того, пленный показал, что стык полков приходится на заболоченную лощину и прикрывается отдельно стоящей в глубине ротой.
Черняков прикинул по карте: рота могла находиться только на высотках, где когда-то стояла деревня Ковшири. Как раз против его полка.
— Прекрасно, — сказал Черняков. — Над этим следовало бы подумать!
В голове его зрел заманчивый план.
Когда на наблюдательный пункт заглянул Кожевников, полковник повел его в окопы, чтобы там переговорить наедине.
— Видишь изрытую высотку? Это Ковшири, — сказал он. — Как ты думаешь, если мы пошлем туда роту? Ночью это вполне возможно.
— Рискованно! Туда она может пройти, а назад? Закроют ей выход.
— Выходить назад ей будет незачем. Мы пошлем вслед за ней батальон, а возможно, двинем и полком, только сначала распахнем «ворота» как следует.
— Но может произойти и такое, что полка будет недостаточно. Шутка ли, забраться в глубину на несколько километров! Попробуй там удержись! А что, есть приказ?
— Нет... Просто сам прикидываю, — сознался Черняков. — А вообще-то жаль... Такая ситуация: стык полков и командиры в ссоре... — Черняков сожалеюще вздохнул. — Ладно. Наше дело пока смотреть.
— Я понимаю вас, сидеть сложа руки, когда рядом бьются, — не к лицу, но что говорить, коль нет приказа! — Кожевников развел руками.
Ночью Черняков долго не ложился спать, сидел, подсчитывал, составлял план разведки боем силами одного батальона. Он надеялся, что Дыбачевский заинтересуется и передаст его на рассмотрение командующему.
Утро выдалось морозное, немного туманное: сыпался сухой, мелкий снежок. Деревья, оттаявшие во время оттепели, будто стеклом покрылись ледяной корочкой.
До самого штаба дивизии Черняков ехал шагом, только изредка понукая лошадь.
Врезанные в откос оврага штабные блиндажи были хорошо замаскированы. Чернякова сразу же проводили к генералу. В блиндаже было жарко натоплено, чисто, на полу лежала ковровая дорожка. Черняков разделся в приемной и постучал. Генерал откликнулся. Он стоял у стола в белой сорочке, заправленной в высокие брюки. Пестрые шелковые подтяжки плотно охватывали его крепкие плечи. Высокий покатый лоб был усеян мелкими бисеринками пота.
Китель, небрежно кинутый на спинку стула, свисал до самого пола. Чуть-чуть отливали на свету зеленые, шитые шелком полевые погоны с большой белой рельефной звездой. Карта-двухсотка занимала весь стол. Дыбачевский вертел в пальцах синий карандаш: видно, только что работал над картой. Тут же лежал раскрытый блокнот.
Линия фронта была обведена, и громадная вмятина в обороне противника севернее города Витебска нависла над ним, как налитый водой пузырь. На том месте, где обозначался город, рядом с пепельницей стоял стакан с недопитым еще горячим чаем.
Дыбачевский был в хорошем настроении: увидев Чернякова, он сделал два шага навстречу, сразу перекрыв чуть не трехметровое расстояние от стола до порога, и крепко потряс ему руку, показывая, что, поскольку он в домашней обстановке, можно обойтись без формальностей.
— Легок на помине! — воскликнул он. — А я только что думал: уж не послать ли за тобой? Ну садись, гостем будешь! — Он жестом указал Чернякову на стул.
— Я не в гости, товарищ генерал, — улыбнулся Черняков, присаживаясь. — Есть кое-какие соображения...
— Постой, постой, — перебил генерал. — Задачу, сам знаешь, какую получили: «В случае отхода — незамедлительно преследовать». Даже «сковать огнем» не упомянули. А какое там преследование, когда противник сидит и носом не ведет?
— Спокойно сидит, — согласился Черняков. — Сам он никуда и не пойдет, — вышибать надо.
— А здесь-то, видал? — генерал показал на карту. — Красивое положение у соседей может получиться. Кстати, воюют славно: взяли двадцать тысяч пленных за один день и генерала, всю гитлеровскую группировку по лесам разогнали. Хотел бы я там быть! — Он подсел к столу, кликнул адъютанта и распорядился подать чай.
— Тут такая интересная обстановка, что удача прямо сама в руки плывет, — начал было Черняков.
— Подожди, — прервал его генерал. — Давай сначала чайком побалуемся, а потом и о деле. Погодка-то промозглая, замерз поди...
— Не откажусь, — согласился Черняков, надеясь, что за непринужденным разговором ему скорее удастся заинтересовать генерала своим планом.
— Ну, давай, по законной — наркомовской, — поднял стакан генерал.
Черняков чокнулся.
Чаевали не спеша. Разговор вертелся вокруг пустяков. Но положение на участке армии глубоко интересовало обоих. Вот почему, когда Черняков в третий или в четвертый раз заговорил о своем предложении, генерал отодвинул стакан в сторону:
— Ну что ж, к делу так к делу. — И спросил неожиданно: — Вам не надоело в полку?
— Служба не спрашивает нашего желания. Куда кого поставили, там и приходится выполнять свой долг, — не спеша ответил Черняков.
— Давайте говорить прямо, — предложил Дыбачевский и подался туловищем к столу.
— Я вас слушаю, товарищ генерал!
— Не считаете ли вы, что вам, с таким опытом войны и руководящей работы, пора подниматься выше? Если вы дадите согласие, я добьюсь вашего назначения на должность заместителя. Мне одному просто беда, никуда не могу отлучиться, а для вас это будет переходная ступень к самостоятельному командованию дивизией. Что вы на это скажете? — Он ждал ответа, следя испытующим взором за тем впечатлением, которое произвел на Чернякова.
Перспектива служить непосредственно под началом Дыбачевского совсем не устраивала Чернякова. Он достаточно знал характер генерала и догадывался, чем вызвано его предложение. Дыбачевскому хотелось держать Чернякова «при себе», загрузить его всякими незначительными, мелкими делами, чтобы тот отныне не вносил в жизнь дивизии тот беспокойный, новаторский дух, который так не нравился генералу.
И, понимая все это, Черняков, пытаясь говорить как можно равнодушнее, ответил:
— Я ведь уже в годах, товарищ генерал. Иной раз придешь в блиндаж, так и другой заботы нет, как скорее бы до нар добраться. К тому же ответственность и так большая, а тут еще прибавится. Нет уж, увольте, товарищ генерал!
«Ишь, хитрец!» — подумал Дыбачевский.
— Конечно, дело это такое, что не горит. Можно кого и помоложе найти, — вслух сказал он. — Время терпит, подумаете, потом скажете.
Дыбачевский, словно вспомнил что-то необходимое, озабоченно сдвинул брови. Он встал, набросил на плечи китель и начал неторопливо застегиваться на все пуговицы.
Поскольку перед Черняковым находился уже не скучающий в час отдыха генерал, а прежний Дыбачевский, одетый по форме, полковник встал тоже и уже официально спросил:
— Разрешите изложить вам суть моего дела?
— Говори, послушаю, — ответил генерал. — Да гы чего встал — садись!
Черняков рассказал о показаниях пленного, о ссоре двух гитлеровских полковников, о том, как можно полно использовать эту ссору, чтобы наказать обоих Дыбачевский расхохотался:
— Здорово! Как это я не подумал об этом!
Черняков обрадовался: наконец-то генерал заинтересовался! Но, оказывается, Дыбачевского привлекла лишь анекдотичность ситуации. Черняков достал из папки карту, записки и с жаром стал доказывать, какой счастливый козырь плывет в руки дивизии. Но генерал снова стал холоден.
— Чего ж ты хочешь от меня?
— Мне думается, что такие обстоятельства можно использовать, товарищ генерал...
Дыбачевский задумался. Казалось, он все свое внимание сосредоточил на руках, забыв о первопричине размышления. Черняков ждал. Наконец генерал поднял голову:
— Попробую передать твои соображения командующему, хотя и не уверен, что из этого что-либо получится. В моей власти разрешить действия в пределах разведки боем одной стрелковой ротой. А ты замахнулся на такое, что и дивизией не управиться. Между прочим, я считаю, что в твоем плане основная задача ляжет в дальнейшем на соседа слева. А наша дивизия уже имеет боевую задачу... Не так ли?
Чернякову жаль было расставаться с тем, что приняло в душе осязаемые, зримые формы.
— Разрешите мне доложить свои соображения командующему?
— Погоди, — сказал Дыбачевский и взялся за телефон. — Вызовите Безуглова!
Ему ответили. Дыбачевский вкратце спросил, не сможет ли он — Безуглов — рассмотреть один вариант.
— Вот что, — сказал генерал, окончив телефонный разговор. — Завтра Безуглов приедет ко мне в десять утра. Посоветуюсь. Может, он согласится взять дело на себя, ведь это больше его коснется, чем нас... Ну... — Дыбачевский протянул руку и встал, давая понять, что разговор исчерпан
Глава шестая
Войска Первого Прибалтийского фронта вышли к магистрали Витебск — Полоцк в районе Старого Села северо-западнее города, создав серьезную угрозу для Третьей танковой армии противника, в которую входил и 53-й армейский корпус Гольвитцера.
На острие вбитого клина шли ожесточенные тяжелые бои. Нажимом с востока надо было не допустить переброски сил противника с неатакованных участков фронта, и Западный фронт тоже начал наступление юго-восточнее Витебска. Главный удар теперь наносил сосед Березина, а ему предлагалось все силы с правого крыла, где наступление было остановлено на линии пунктов Руба, Бибиничи, Загоряне, перебросить налево, для взаимодействия с соседом.
В такой беспокойный, тревожный период, когда еще неясно было, где и как наносить новый удар, какими силами, Березин получил записку Безуглова.
Развивая более смело мысль Чернякова, он предлагал превратить разведку боем в прорыв оборонительной полосы противника с тем, чтобы сколько возможно приблизить позиции армии к стенам Витебска.
Это предложение совпадало с новой задачей армии, и Березин живо им заинтересовался. Он сразу приказал своему штабу разработать план боя.
Если учесть, что армия неделю назад прорывала фронт противника и не успела пополнить запасы боеприпасов, можно было понять, насколько кстати пришлось предложение Чернякова.
В тот же день в войска были разосланы приказы. Дыбачевский, увидев, что действовать ему предстоит лишь одним полком, был вполне удовлетворен этим и поспешил позвонить Чернякову.
— Приезжай, тут на тебя «письмо» пришло! — передал он ему по телефону.
Ночь выдалась темная. Завывал и свистел ветер в близком бору, и многоголосый шум деревьев глушил все другие звуки. Клочья сброшенных еще с осени немецких листовок птицами проносились над землей, яростно трепетали, зацепившись за колючую проволоку. Небо нависло тяжелое, темное, словно готовое слиться с землей, растворить в своем мраке чуть заметную светлую полосу снежного поля.
В такую погоду немцы могли ожидать чего угодно, только не наступления. И тем более они не ждали внезапного нападения роты Бесхлебного на опорный пункт Ковшири, находившийся в глубине обороны.
Бой, которого Черняков так добивался, начался с большим, чем он предполагал, размахом. В проделанный ротою Еремеева проход, в «огневой мешок», за который немцы меньше всего беспокоились, вошли остальные роты Еремеева и батальон от дивизии Безуглова.
Внезапным ударом, возникнув из тьмы, как привидения, они распахнули «ворота» и вправо и влево. Передний край обороны противника был взломан почти на три километра по фронту. Начало хорошее, а дальше? Не будь жалкой нити телефонного провода, рота Бесхлебного была бы отрезанным ломтем, брошенным в самую пасть зверя. С рассветом противник перешел в контратаки. Черняков перегруппировал силы: в окопы, захваченные ночью, он ввел батальон Усанина, а Еремеева послал на соединение с Бесхлебным. Но что было возможно ночью, стало невозможно днем. Роты залегли на заснеженном болоте.
Черняков поднялся к стереотрубе. Сердито раскачивались оголенные сучья искалеченного в недавних боях леса, и завывания ветра доносились сквозь амбразуру.
— Что там сообщает Еремеев? — спросил он у Крутова.
— Пока ничего нового, товарищ полковник.
— Запроси как следует, не стоит же он на месте?
— Говорит, что огонь мешает, из Поречек пулеметы бьют.
— Что у него — нечем их подавить? Поречки... — Внезапно ему пришла в голову новая мысль: «Если нельзя подавить пулеметы, так можно закрыться от них дымовой завесой. Бесприцельный огонь будет не так уж страшен...
— Начальника артиллерии! — крикнул Черняков.
Полковая батарея ударила дымовыми снарядами по высотам вокруг Поречек. Вычертив в небе белый след, они взметнули на земле клубы сизого дыма. Ветер подхватил эти клубки, рванул, размотал от них длинные шлейфы, сразу закрывшие и деревню и высоты, на которых сидел противник.
Черняков схватил телефонную трубку, закричал:
— Еремеев, вперед! Ты меня слышишь? Вперед! Я буду прикрывать!
Стрелковые цепи поднялись и снова двинулись к высоте, на которой вела бой рота Бесхлебного.
Неожиданно на пути пехоты стеной встал лес тяжелых разрывов. Пехота залегла.
— Вот сволочь. — Черняков от досады так стиснул зубы, что по лицу разлились красные пятна. — Заградительный огонь!
В блиндаж вошел командир приданного гаубичного дивизиона капитан Медведев, тот самый, что поддерживал полк в ноябрьских боях. Его наблюдательный пункт находился в траншеях неподалеку.
— Будем давить? — обратился он к Чернякову.
— А сумеем?
— Снарядов маловато... Может случиться, что прижмет посильнее, тогда нечем будет даже поддержать...
— Что будет — еще неизвестно, а пока надо выручать.
— Дивизион против дивизиона... Малоперспективное дело!
— Все равно. Другого выхода нет!
Артиллерии, находившейся в распоряжении полка, не положено вести контрбатарейную борьбу, ее для этого попросту недостаточно, но и оставить свою пехоту без поддержки Черняков не мог. Вот разве обратиться за помощью к командующему артиллерией дивизии?.. Черняков размышлял: помогут там или нет? Слева, нарастая, докатился гул артогня. Работала своя артиллерия, но явно не медведевского дивизиона. Минутой позже Чернякова подозвали к телефону и все разъяснилось.
— Там твои залегли, — сказал ему Безуглов, — так я решил помочь огоньком.
— Как я вам благодарен! — с искренним волнением вырвалось у Чернякова. — А я только что хотел просить своих об этом...
— Ничего, дело общее, не стоит считаться в мелочах, — пророкотал Безуглов. — Считай — квиты за Королево. Давай, поднимай там своих, чего им залеживаться!
— Вот человек! — восхищенно проговорил Черняков, возвращая трубку Крутову. Вдруг тот досадливо чертыхнулся, стиснув зубы.
— Что произошло? — тревожно спросил Черняков.
— Еремеева зашибло.
— Как? Чем?..
— Говорят, снаряд близко разорвался...
Черняков болезненно свел брови: потерять такого комбата!
— Крутов!
Тот взглянул на полковника и, кажется, понял все без слов.
— Идти? — он кивнул в сторону передовой.
— Да, надо помочь. — Черняков был рад, что ничего не надо объяснять. — Только будь осторожен. Да возьми с собой минометчика, скажи, что я приказал! — крикнул ему вслед Черняков.
Поднявшись снова к стереотрубе, он увидел, что Крутов, размахивая руками, скорым шагом шел к передовой. Рядом с ним шагал широкоплечий приземистый командир минометной батареи Кравченко.
Едва стало светать, Бесхлебный приподнялся над бруствером окопа, чтобы полнее представить себе характер обороны. По восточному склону высоты, занятой ротой, полукольцом окопы и проволочные заграждения. Ходы сообщений от окопов ответвлялись в глубину, смыкались за вершиной и могли быть приспособлены для круговой обороны.
Большая часть бойцов уже работала там, оборудуя позиции.
Бесхлебный прислушался. С оставшегося далеко позади переднего края доносилась перестрелка, — там все еще шел бой, и ждать обещанного подкрепления пока не приходилось. Бесхлебный вздохнул, сжал кулаки до хруста в пальцах: «Раз надо, будем держаться столько, сколько необходимо. Надо!..» Где-то вблизи за ближними холмами гулко ухнули орудия. Сердце неприятно сжалось. Снаряды, шипя как рассерженные гуси, прошелестели над окопами и унеслись в сторону передовой. Однако следующие пришлись на высоту.
Бесхлебный сообщил Чернякову, что на роту готовится контратака, и снова вышел в траншею.
Опираясь на винтовку, навстречу ковылял, волоча ногу, первый раненый. Он мотнул головой назад:
— Немцы... Нажимают, проклятые!
— Отобьем!.. Давай в блиндаж, там тебя перевяжут. Если в силах, снаряжай диски.
Лощиной перебегали гитлеровцы. Из окопов открыли беспорядочный винтовочный огонь. Бесхлебный видел, что бойцы нервничают и с такого расстояния зря ведут огонь.
— Спокойно, не торопиться! — закричал он.
Рядом кто-то вскрикнул, но Бесхлебный не оглянулся. Прислонившись плечом к окопу, он старался вернее поймать на мушку бегущего гитлеровца. В руках короткими толчками забился автомат. Гитлеровец опрокинулся на снег. Только тогда Бесхлебный обернулся и увидел кровавое пятно, расходившееся под убитым рядом бойцом. Холодом пробрало по всему телу...
...Сколько времени прошло? То оно мчится испуганной сибирской козой, то ползет улиткой, томительно долго отсчитывая секунды. Час прошел или пять?
Бесхлебный взглянул на небо. Оно было такое же серое, хмурое, как и тогда, когда гитлеровцы в первый раз пошли в атаку. По-прежнему ветер гнал полем поземку, заметая трупы убитых. Хотелось пить.
Рота разбилась на отдельные группы. Людей было мало, и бойцы жались друг к другу. Дело уже дважды доходило до гранат.
Поддерживая гитлеровцев, по окопам било самоходное орудие. Снаряд шел со страшным визгом и, ударившись, вспарывал глубокую канаву, разворачивая смерзшуюся корку земли.
Черняков передал по телефону:
— Держитесь во что бы то ни стало! Сейчас вам поможем...
Бесхлебному стало ясно, что если удастся удержаться на высоте, так только объединившись всем вместе. Для этого надо было пробиться к Кудре и Бабенко. Мешкать было нельзя — немцы вскочили в траншею.
Подав команду, лейтенант первый ринулся по окопу, почему-то уверенный, что все, кто жив, последуют за ним.
...В ближнем бою никто не знает, что будет через мгновенье. Выстрелы и брань, грохот взрыва и свист осколков. Негде маневрировать, узкий окоп не дает развернуться, не дает встать рядом с тобой твоему товарищу. Увидев перед собой врага, знаешь одно: не мешкай!
До Кудри недалеко, но между ним и Бесхлебным были враги. Умолк пулемет. Лишь одиночные выстрелы говорили, что пулеметчик жив, что он продолжает отбиваться. А отбивался Кудря-старший. В тот момент, когда раздался зловещий, мгновенно нарастающий свист мины, он успел крикнуть «Ложись!» и упал на землю. Оглушительным взрывом опрокинуло пулемет, посекло осколками тело сына.
Кудря, старый солдат, перевидавший столько смертей на своем веку, едва очнувшись от потрясения, растерялся. Он не знал, что ему делать: звать ли кого на помощь или самому перевязывать раны сына.
— Сыночек, родной, — тряс он сына за плечи, стараясь пробудить его к жизни, увидеть его взгляд, дыханием отогреть коченеющие пальцы. Но не хотели раскрываться запавшие глаза, не размыкались для дыхания слипшиеся посинелые губы...
Горе нестерпимой болью сдавило старому Кудре грудь. Он глухо застонал.
Кудря сразу осунулся и постарел. Хотел сложить руки сына на груди, как положено отправлять в последний путь у русских людей, но близкий топот заставил его отпрянуть и схватиться за винтовку сына.
С выкриками бежали по траншее гитлеровцы. Ярость огнем полыхнула в груди Кудри и кинула его на противников. С невероятной силой он ткнул штыком набежавшего гитлеровца: слезы крупными горошинами выкатились из молодых голубых глаз, но это были слезы врага, и они не произвели на Кудрю никакого впечатления. Он даже злорадно усмехнулся, и винтовка в его жилистых, привычных к топору руках обратилась против следующего.
...Но, крадучись, бесшумно подобрались к нему гитлеровцы, вскинули свои черные автоматы, и, прошитый сухой очередью пуль, надломивших старое тело, охнул и опустился наземь солдат. Винтовка вывалилась из ослабевших рук
...Бесхлебный пробился к Кудре через трупы гитлеровцев. Вместе с ним прорвались Владимиров, Мазур да два легкораненых бойца. Рядом с разбитым пулеметом лежали отец и сын. Владимиров склонился над ними, осмотрел.
— Кудря, Кудря! — потряс он его за плечо, но ни один мускул не дрогнул на лице старика. Только свежа еще была кровь на шинели, еще не приняло смертного оттенка лицо. Владимиров прислонился ухом к его груди. То ли показалось ему, то ли уловило чуткое ухо слабое биение сердца, но только он выпрямился и радостно сказал: «Жив!..»
— К блиндажу! — скомандовал Бесхлебный, и, подхватив Кудрю-старшего и оставшиеся нерасстрелянные пулеметные ленты, они бросились туда, где должна была еще держаться группа Бабенко.
На самой вершине холма Бесхлебный выглянул над бруствером окопа. Через лощину, уже не пригибаясь, шли гитлеровцы.
— Где же помощь?
Он приподнялся повыше, чтобы посмотреть в сторону своего переднего края и тех растворенных «ворот», которыми должна подойти помощь. Болотистая равнина, словно крупной оспой, была побита воронками от разрывов. По ней, перебегая и падая, двигалась цепью пехота.
Сердце радостно вздрогнуло: «Идут, родные! Не забыли!»
Глава седьмая
Положение у роты Бесхлебного создалось очень тяжелое. Бойцы с тревогой посматривали на своего командира: ведь он их сюда привел, он должен знать, как им уберечь себя Бесхлебный ловил на себе быстрые, тревожные взгляды.
Но что он мог им предложить? Пути назад не было. Не было потому, что — выйди они из окопов — враги перестреляют их на открытом месте...
Бесхлебный не уклонялся от опасности, стараясь личным примером приободрить бойцов. Как ни зорко он следил за полетом вражеских гранат, чтобы вовремя прильнуть к земле, а не уследил, откуда упало черное круглое яйцо. Лишь когда оно глухо стукнулось о мерзлый бруствер и скатилось к его ногам, Бесхлебный увидел гранату. Не раздумывая, он поддел ее ногой, но она лишь скользнула вдоль широкого обледенелого носка и, чуть откатившись, завертелась на месте. Мысль о том, что надо отшвырнуть от себя этот кусок черной смерти, молнией мелькнула в голове, но он понял — не успеть. И такое отчаяние отразилось на его лице, что Мазур, вывернувшийся из-за поворота, в одно мгновение, раньше, чем подумал, понял все. Солдат сделал прямо-таки невероятный прыжок, всей тяжестью тела сбил Бесхлебного с ног и, не удержавшись, сам тяжело упал на него.
В тот же миг оглушительно рванула граната, и мелкие осколки в клочья изорвали шинель на спине Мазура, ту самую, новую, которой он так радовался...
Боец пошевелил могучими плечами, приподнялся и потряс Бесхлебного за плечо.
— Товарищ командир, а товарищ командир...
По бледному лицу лейтенанта медленно растекались желтые пятна.
— Товарищ командир! — дико закричал Мазур и, подхватив его, как ребенка, на руки, кинулся с ним в блиндаж.
— Командира убили! — вскрикнул первый, кто их увидел, и эта весть была последней каплей, залившей теплившийся у всех огонек надежды.
— Стой! — рванул Мазура за плечо Владимиров. — Стой!
— Пропало все, товарищ лейтенант.
Остановить, поддержать то, что рушилось, было свыше человеческих сил. Владимиров, почерневший от копоти, с пятнами своей и чужой крови на шинели, яростно выбранился и, сверкнув белками глаз, высунулся над окопом, чтобы посмотреть в сторону своей обороны. Совсем близко, перебегая и падая, двигались цепи батальона. Уже можно было различить лица.
— Сюда-а! Быстрей! — что есть силы закричал он и, сорвав ушанку, закрутил ею над головой. — Сю-у-да, братцы-ы!..
А позади уже гомонили немцы, и Владимиров кинулся в блиндаж, где находилось последнее прибежище. Гитлеровцы, укрывшись в окопе, закричали в несколько голосов:
— Русс Иван, плен!.. Капут!..
— Как бы не так, держи! — Владимиров выкинул в окоп гранату.
От взрывов ответных гранат сорвалась с одной петли дверь. Дым и пыль заполнили блиндаж так, что стало трудно дышать. Владимиров ждал, что гитлеровцы кинутся на приступ, и приготовился к последней схватке.
И тут, нарастая, послышалось родное, многоголосое «Ур-ра-а!»
Захлопали беспорядочные выстрелы, раздался топот ног.
— Живем! — радостно закричал Мазур, когда понял, что гитлеровцы бросились наутек. — Товарищ лейтенант, жи-ве-ом!
— Сдурел человек, а чего? — проговорил Бабенко, осторожно выглядывая за дверь.
— Ну, что? — спросил его Владимиров. — Что видать?
— Пока ничего. Смотрю, как бы своих предупредить, а то вгорячах не разберутся, дадут гранатой. Жалуйся потом...
По склону высоты взбегали стрелковые цепи еремеевского батальона.
Вечерело. Покрасневшее над холмами небо постепенно гасло. Раненые, снесенные в блиндаж, ждали отправки. Свет от картонной плошки выхватывал из темноты лица, руки, белые повязки. Причудливые, несуразно большие тени метались по стенам.
Вскоре у блиндажа раздался собачий лай. Фельдшер из санитарной роты полка доложил:
— Товарищ майор, прибыли две упряжки. Кого прикажете везти?
— Ну что ж, товарищ Бесхлебный, в путь, — произнес Еремеев, еще не совсем оправившийся от контузии. — И ты, Мазур, — тоже!.. Поправитесь, — сразу ко мне назад!
— Не знаю, как удастся, товарищ майор, — ответил Бесхлебный. — Дышать не могу.
— Это Мазур вас гак?
— Сам не помню, как получилось, — глухим голосом оправдывался Мазур. — Вижу, командир с жизнью уже прощается, а граната еще вертится, шипит... Ну, я и прыгнул. Как получилось, что я его чуть не до смерти зашиб — ума не приложу.
— Ничего, Мазур, обойдется. Ну, что ж, поезжайте, товарищи! — попрощался с ними Еремеев.
— До встречи, товарищ майор!
Бесхлебного подвели к первой упряжке. Крутов помог добраться Мазуру, — как ни говори, старые знакомые! Собаки нетерпеливо взвизгивали и путались в постромках, пока раненые укладывались на носилках, поставленных на обычные лыжи.
Проводив их, Еремеев вздохнул, сказал Крутову:
— Такая-то жизнь наша, Павел Иванович! Не успеешь с людьми свыкнуться, как глядишь, нет их Кудрю жалко. Хороший он человек и большой мастер своего дела. Другого такого пулеметчика мне уже не видать.. Довезли бы его только благополучно, уж больно он безнадежен. Шутка ли, четыре дырки в нем просверлили.. Побольше бы таких людей, как он. Это человек — кормилец, на таких, как он, земля держится. А Мазур! Смотри, медведь медведем, а сумел и его Бесхлебный расшевелить.
— Мазура я всегда считал надежным человеком!
— Что ни говори, а мне все-таки везет, хороший у меня народ подбирается, — проговорил Еремеев и задумался.
Безмолвие переднего края, тревожные всполохи осветительных ракет над неприятельскими окопами действовали удручающе.
— Эх, и надоела мне эта война, Павел Иванович! Только и знаешь, что хороших людей хоронить да по госпиталям отправлять. Ведь каждый раз сердце в груди переворачивается, как приказ получаешь: кого-то я теперь не досчитаюсь, кого первого на смерть пошлю? И что странно, выбираешь как раз тех, кого больше всего любишь, кому больше всего доверяешь. Тяжело, брат...
— Что поделаешь... Кому не тяжело? Черняков, как услышал, что тебя зашибло, — побелел весь...
Оба примолкли. Безрадостная тишина ночи объединяла их крепче всяких слов.
— Пойду я, однако, — сказал Крутов. Еремеев не отозвался, и Крутов устало побрел на наблюдательный пункт. Хотелось упасть, где идешь, лишь бы сомкнуть глаза, забыться, уснуть, на минутку отвлечься от гнетущих мыслей. Навстречу, громыхая, ехала батальонная кухня.
— До наших далеко? — спросил повар.
— Прямо, — махнул рукой Крутов, — уже близко!
На наблюдательный пункт командира полка попасть ему так и не пришлось. Встретившийся на пути связист сказал, что Черняков ушел в штаб, а линию приказал снимать. Не раздумывая, Крутов пошел в штаб.
По дороге, параллельной фронту, сплошным потоком двигались войска: артиллерия, машины, обозы, стрелковые части. Колонна шла за колонной, и Крутову пришлось постоять, прежде чем представился случай перескочить через дорогу. Он не решился спрашивать, что это за части, откуда, так как все двигались в молчании, без огней.
Откуда ему было знать, что командующий армией в предельно короткий срок — в одну ночь — производил рокировку войск по фронту, перебрасывая гвардейские части с правого крыла на левый, где у Безуглова наметился прорыв. Внезапность перемены направления восполняла в какой-то мере недостаток сил.
Едва Крутов переступил порог, как сразу почувствовал — получен новый боевой приказ. Начальник штаба диктовал приказание писарю, Зайков торопливо «поднимал» карту командира полка и наносил на нее обстановку.
— Ага, пришел! — кивнул головой в ответ на приветствие начальник штаба. — Ознакомься с приказом да пойдешь проверять. Батальоны уже выходят на исходное...
— Я только что оттуда! — сказал Крутов.
— Все равно, больше посылать некого. Отдохни с полчасика да готовься...
Зайков, оторвавшись на минутку от карты, шепнул на ухо:
— Товарищ капитан, Малышко вернулся!
— Что ты? Когда? — обрадовался Крутов.
— На него не надейся, он у нас сегодня еще гость, — по-своему поняв радость Крутова, сказал начальник штаба. — Пусть малость освоится, а тогда и его запряжем...
Крутов кинулся в жилой офицерский блиндаж. Малышко почти не изменился, был только чуточку бледнее да почище, чем обычно. Он сидел у стола один и молча поправлял иглой фитиль самодельной окопной «молнии».
— Сеня, здорово!
Малышко вздрогнул и бросился навстречу, широко расставляя руки.
— Павел, а ведь я ждал тебя, о тебе думал! — Они крепко расцеловались и так, не выпуская рук друг друга, присели на лавку у стола.
— Ну, как здоровье? — нетерпеливо спросил Крутов.
— Порядок, Павел, полный порядок! Спасибо, дружище, что не бросил меня тогда... Я ведь даже не в состоянии был поблагодарить тебя... Нет, нет. Павел, — оборвал он попытку Крутова замять разговор на эту тему, — ты для меня сейчас больше, чем брат, чем... В общем, вот моя лапа, и верь слову, я для тебя сделаю все, чего, может быть, не сделаю даже для себя.
Он с чувством потряс еще раз Крутова за руку.
— Ну, вот и хорошо... и будет об этом, — тихо отозвался растроганный Крутов. — А у нас вот опять... — Он махнул рукой.
— Ничего, Павел, — бодро проговорил Малышко. — Будем брать и не такие высоты, как сегодня.
Крутову очень хотелось поговорить, но времени было в обрез.
— Прости, Сеня, побегу!
— Подожди, я тебе еще самого главного не сказал. Угадай, кого я видел?
— Непосильная задача. Кого?
— Лену! — испытующе глядя на друга, сказал Малышко. — Помнишь, о ней ты мне говорил в тот вечер?
— Неужели? Где? Да рассказывай же, не тяни! — затормошил его Крутов.
— Где? В нашей дивизии, конечно. Да и ты ее еще увидишь, если...
— Чего если?
— Если на новогодний концерт пойдешь...
— Какой концерт?
— Ладно, потом расскажу. Впрочем, что я тебе говорю, ты и сам все, наверное, знаешь. А может, забыл уже о ней?
— Сеня, чертушко! — закружил его Крутов по блиндажу. — В том-то и дело, что ничего не знаю. Уже давно ни одного письма. А ты говоришь...
— То-то, скажи спасибо, что я ей от тебя приветов кучу передал.
— Милый дружище, какой же ты умница! Сейчас я бегу, а завтра ты мне все-все расскажешь!
У Чернякова находился командир батальона Усанин. Они вели тихий разговор. Увидев Крутова, полковник подозвал его к себе:
— Вы очень устали, капитан?
— Нет.
— Я знаю, что это неправда, но, поскольку вы держитесь на ногах и здоровы, рад вам поверить. Придется вам еще немного сегодня потрудиться. Я поставил Усанину задачу занять Поречки, Дрюково. Удар противнику во фланг, понимаете? Вы пойдете с Усаниным и будете обо всем меня информировать. Обо всем, что сочтете важным! Усанин будет выполнять главную задачу полка. Вы должны проследить, чтобы все началось своевременно. Возможно, начальник штаба поручит вам еще что-нибудь, вы зайдите к нему. Я частенько заставляю вас выполнять более широкий круг обязанностей, но иначе не могу — у меня нет заместителя.
Гитлеровцы не ожидали ночного наступления, и батальон Усанина без потерь занял высоты перед деревней Поречки. Немцы бежали из окопов к большаку. Преследуя противника, батальон занял парковую рощу в Поречках и стал там закрепляться. Внизу, в лощине, лежала деревня Дрюково.
Утром гитлеровцы сделали попытку вернуть утерянные позиции. Бой с самого начала принял ожесточенный характер. По большаку, со стороны Витебска, к противнику подходили крытые машины, подвозившие какую-то резервную часть.
Видя, что дело принимает очень серьезный оборот, Черняков приказал Крутову подыскать наблюдательный пункт с хорошим обзором местности. Крутов остановил свой выбор на высоте, захваченной ротой Бесхлебного. Все батальоны полка стояли теперь фронтом на север, под прямым углом к старой линии обороны.
Черняков понимал, что устойчивость полка при серьезных контратаках врага может быть обеспечена только с помощью артиллерии, поэтому пришел на нп с командирами своих батарей и приданного дивизиона.
Гитлеровцы едва начали понимать, чем грозит им этот небольшой, лишь слегка наметившийся прорыв, когда из-за фланга дивизии Безуглова вступила в бой гвардия, столь неожиданно переместившаяся с правого крыла армии на левый. В действие вступила тяжелая артиллерия противника, которой давно не было слышно. Батареи 210-миллиметровых орудий били издалека, из-под самого Витебска. Холм в Поречках, где засел батальон Усанина, был весь в дыму. Тяжелые снаряды вспарывали мерзлую землю, с корнем вырывали большие деревья. Блиндажи сразу завалились от сотрясения, окопы позасыпало. Бойцы батальона, скатившиеся под таким огнем с вершины холма, укрылись за крутыми обратными скатами в наспех вырытых окопчиках.
Едва отгрохотали батареи, как гитлеровцы устремились к холму. В небо взлетали красные ракеты: батальон просил помощи. Теперь заговорила вся артиллерия Чернякова Атака гитлеровской резервной части была отбита.
Из батальона с чьим-то автоматом на НП пришел Кожевников в разорванной, осыпанной землей шинели.
— Жуткий огонь! Он там все перемешал с землей. Единственное спасение на этом пятачке — сразу за обратные скаты. Бойцы так и приноровились.
Прислонив автомат к стенке окопа, он вызвал к телефону командира санитарной роты полка.
— Немедленно организовать эвакуацию раненых от Усанина Они там не должны накапливаться. Что? Помощь оказывается? А я веду речь об эва-ку-а-ции! Вечером? Ни в коем случае! Пройдут. Лощина не простреливается!
— Федор Иванович, полюбуйся, — протянул ему Черняков свой бинокль.
На большаке, в том месте, где недавно разгружалась резервная гитлеровская часть, к машинам ковыляли раненые. Они лезли в кузовы, туда же наспех вталкивали носилки с тяжелоранеными.
— Ты видишь, мы им тоже пустили юшку из носу, — сказал Черняков.
Вслед за новым налетом гитлеровских батарей снова зашевелилась пехота противника. Опять красные ракеты прочертили небо и утонули в дымной пелене, медленно сползающей с холма.
— Атакуют, проклятые! — стиснул зубы Черняков. — Огня!
Загрохотали полковые орудия, вызвав на себя шквал вражеских снарядов. Султаны разрывов вырастали и перед окопом, где находился Черняков, и позади. Свист и шелест снарядов в воздухе. Тяжелые удары разрывов. Хлесткая пальба дивизионных пушек, поставленных на прямую наводку. На вершине холма перебегали бойцы батальона.
— Кажется, отобьют, — сказал Черняков и, облегченно вздохнув, взялся за телефон: — Усанин, ну как у тебя? Тяжело? Держись! Чем могу, помогаю!
Настал вечер. Неузнаваем холм. Весь изрытый снарядами, он стал ниже. Которая это за день атака? Едва ли кто их считал. Не до этого! Тяжело вздохнув, полковник взялся за телефон:
— Усанин, жив?.. Ну что ж, ничего не поделаешь: забирай раненых и отходи сюда в окопы, а я пока попридержу немца!
Поднялись и утонули в дыму ракеты, на этот раз вражеские: сигнал к атаке. Неистовствует артиллерия.
Первый батальон оставил холм в Поречках.
В последние дни декабря у Чернякова установилось затишье. Далеко за его спиной гвардия билась за деревню Синяки, а у него лишь изредка громыхнет вражеское орудие, и все.
Молчал враг, молчал и Черняков, рассматривая холмы и рощи, окопы и проволоку перед своим ослабевшим малочисленным полком.
Глава восьмая
Выпал свежий мягкий снежок. Ни одно дыхание ветра не коснулось пушистых шапок, лежавших на ветвях елей, на кустарниках; даже на самых тонких былинках каким-то чудом удерживались рыхлые комочки снега.
Лес, одевшийся в сверкающие на солнце кружевные одежды, спокойно засыпал, изредка вздрагивая и роняя с ветвей белые крохи. Россыпью алмазных искр переливались роскошные шубы елей и узорчатые снежные арки, переброшенные с одного дерева на другое. Еще ничьей самой искусной кисти не удалось передать великолепия, с каким природа украшает иногда землю. Старый год во всей красе передавал свои владения новому.
В этот день Черняков получил приглашение от Дыбачевского явиться на встречу Нового года в штаб дивизии с десятком — двумя своих офицеров. Предстоит концерт художественной самодеятельности — об этом рассказал Крутову Малышко.
В штаб дивизии офицеры шли строем. Командовал свой штабной офицер, налегая на звучную букву «р» — «пр-р-рямо!» Впереди, шагом, ехали в кошевке Черняков и Кожевников.
Предстоящая встреча с Леной не выходила у Крутова из головы. «Давненько не видел, — думал он, — изменилась, наверное, — не узнать», — и счастливая улыбка блуждала у него на губах; забываясь, он прибавлял шагу.
Сосед, шагавший с ним в одной шеренге, подталкивал его плечом, а то и просто осаживал за рукав и возмущался:
— Ну куда ты летишь? — И на ухо тихо: — Между нами... Ты влюблен?
— Ага, в кашу с блинами!
— Черт! Вот увидишь, тебе не повезет. Женщины не любят скромников вроде тебя, поверь. Что от тебя толку, когда ты даже другу не хочешь ни в чем признаться?
— Заткнись!.. — беззлобно обрывал его Крутов.
— Попомнишь мое слово...
— Р-р-азговор-рчики! — гаркнул офицер, да так, что лошадь Чернякова с перепугу прянула в сторону и едва не вывернулась из оглобель. В строю засмеялись, и кто-то сказал: «Ого, голосок!»
— Пр-р-рекратить!..
— Послушай, — придерживая лошадь, сказал голосистому офицеру Черняков, — если мы доживем до мирных дней, обязательно возьму тебя в свои заместители. Будешь командовать на плацу, на строевых занятиях.
...Около штаба дивизии, между рослых ветвистых елей, была раскинута большая медсанбатовская палатка. Позади нее стояла маленькая — для артистов.
В сопровождении командиров полков и дивизионного начальства со стороны штаба показался Дыбачевский. Он шел неторопливо и важно, как, по его мнению, подобало в такой торжественный день. В отдалении зататакал движок, и яркий электрический свет озарил палатку.
Дыбачевский громко поздоровался и пригласил всех занимать места. С шумом и смехом офицеры повалили в палатку и стали рассаживаться за накрытые столы.
Гул одобрения и аплодисменты покрыли голос конферансье, объявившего начало программы. На небольшое возвышение в конце палатки вышел хоровой коллектив. Первой зазвучала песня, самая популярная в стране во время войны:
...Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, Священная война...Суровая мелодия хватала за сердце, звала к подвигу...
Крутову тревожно, он взбудоражен, будто в предвидении чего-то необычайного. Песня-птица подхватила его на свои широкие могучие крылья. Но чьи глаза, как звезды в ночи, зовут и манят его к себе?
Лена! Ее взгляд устремлен поверх столов, заставленных посудой, она не видит перед собой никого из тех, кто смотрит на нее, она вся поглощена только песней. Но это лишь кажется, а на самом деле она изредка, украдкой окидывает взором палатку. Вдруг лицо ее зарделось, она встретилась взглядом с ним и опустила глаза. Девушка долго не поднимала их вновь, пока не справилась со смущением. Только тогда снова посмотрела на него.
«Здравствуй, радость моя! Как я ждал этой минуты...»
«Молчи и слушай! Разве ты не видишь, что я пою только для тебя?» — переговаривались они одними глазами, и никому не понять было их безмолвных речей.
«Я пришел сюда единственно, чтобы видеть тебя!»
«Знаю. Но не надо говорить об этом!»
Хор покинул помост. Генерал взглянул на часы и медленно поднялся из-за стола, высокий и широкоплечий.
— С наступающим Новым годом, товарищи! Именно, с наступающим!
Гулкие залпы батарей потрясли воздух. Крутову видно, как в полосе света, падавшего через раскрытую прорезь палаточного окна, долго сыпался с ветвей потревоженный серебристый сверкающий снег. В небе — легкие всполохи ракет, которые сейчас повисли над передовой, в десятке километров отсюда.
Гомон разговоров стоял вокруг. Пар от дыхания белым облаком скопился вверху палатки. Было морозно, но никто не ощущал холода.
— Сеня, если бы ты мог...
— Говори. Или я не друг?
— Я должен увидеть ее! Ты понимаешь?..
Улыбка скользнула по губам Кожевникова, когда он заметил, что Крутов сунул своему другу записку и тот сразу встал из-за стола.
От этих наблюдений его отвлек голос Чернякова:
— Федор Иванович, не пора ли домой? Как думаешь?
— Пора, — согласился Кожевников.
Посидев еще немного, Черняков извинился перед генералом за ранний уход, попрощался и стал протискиваться к выходу. За ним пошел Кожевников. Мельком взглянув в сторону Крутова, он увидел, что место за столом опустело.
— Офицеров возьмем?
— Пускай еще повеселятся! Не часто бывают такие праздники. Тем более, генерал все равно скоро «отбой» скомандует, — ответил Черняков.
Они вышли из палатки. Стояла ясная ночь. При свете луны, казалось, можно было читать. Легкая кошевка стояла на месте. Кожевников подтянул подпругу, взнуздал лошадь и, обождав, пока усядется Черняков, тронул вожжи. Застоявшаяся лошадь сразу пошла рысью, звонко поекивая на бегу. Санки полетели, оставляя еле приметный в лунном свете блестящий следок.
— Много бы я отдал, чтобы встретить Новый год в своей семье, — тихо промолвил Кожевников.
— Да, конечно, — задумчиво подтвердил Черняков. Оба замолчали. Слишком погружены были каждый в свое, далекое, такое, что и объяснить другому трудно, а порой и невозможно.
Они одновременно увидели впереди на дороге двух человек, и в одном из них, высоком, несколько нескладном, Кожевников сразу узнал Крутова. Кто был рядом с ним — он догадался.
— Парочка, — улыбнулся Черняков.
Это было столь необычно в обстановке близкого фронта, что он заинтересовался, кто бы это такие?
— Садитесь, подвезем! — предложил Кожевников, когда санки поравнялись с Крутовым и его спутницей, и придержал лошадь.
— Спасибо, товарищ, подполковник, нам и пешком успеется, — глуховатым от смущения голосом ответил Крутов.
— Вы? — удивился Черняков, наконец узнав Крутова. — Вот не ожидал!
Крутов пробормотал в ответ что-то невнятное.
— Что же вы нас не знакомите со своей лесной нимфой?
— Виноват, товарищ полковник. Прошу!.. — Крутов легонько подтолкнул свою спутницу.
— Лена Лукашова! — смутясь, представилась девушка.
— Где служите? — пытливо рассматривая ее и не выпуская руки, спросил Черняков.
— В полковой разведке!
— Нехорошо, не женская это профессия! И давно?
— С сорок второго года. Я санинструктор!
— Все равно, я бы этого не допустил, тем более сейчас. Впрочем, оставим разговор! Садитесь!
— Почему?
— Товарищ полковник, нам не по пути, ведь нам возвращаться, — взмолился Крутов.
— Я это знаю, — ответил Черняков и потеснился, давая рядом с собой место девушке. — А вы, Крутов, садитесь с Федором Иванычем!
Санки быстро домчались до штаба полка.
— Сегодня большой праздник, — сказал Черняков. — и я привык отмечать его в кругу близких людей, по-домашнему. Но семья далеко, а здесь — кто мне ближе? — грустные нотки скользнули в его голосе. — Я уже стар и не люблю менять своих привычек. Приглашаю вас на чашку чаю.
В блиндаже он усадил Лену за стол, поближе к свету.
— Вот теперь я ручаюсь, что узнаю вас при следующей встрече, — сказал он.
Вошел повар, накрыл на стол. Черняков достал из чемодана бутылку портвейна. Налив рюмки, он поднялся:
— Позвольте по старинке провозгласить: с Новым годом, с новым счастьем! Только послушайте меня: не теряйте головы. Война не кончится завтра, она еще потребует больших жертв... Но не об этом я хотел бы сказать в такой день, а о том, чтобы вы сумели пронести свое счастье по трудной военной дороге. Сберегайте его для будущей мирной жизни!
Все чокнулись и выпили. Черняков был внимательным, душевным человеком, Кожевников не отставал от него, и некоторая принужденность быстро покинула Лену и Крутова. Полчаса пролетели, как одна минута.
— Как я вам благодарна, — говорила Лена, прощаясь. — Мне просто неудобно, что мы причинили вам столько хлопот...
— Вот она, самонадеянная молодость, — засмеялся Черняков. — Послушать, так мы отмечали Новый год лишь ради них. А знать того не хотят, что мы в одинаковом положении: они вступают в жизнь, мы — перевалили через ее лучшую половину. И то и другое в равной мере заслуживает внимания. Так, Федор Иванович?
Кожевников пыхнул трубкой и спрятался за клубом дыма.
Через полчаса те же санки мчали Лену в ее полк, только правил теперь лошадью Крутов.
Над темным лесом нависло небо, сплошь усеянное чистыми, крупными звездами. Придерживая лошадь, Крутов обернулся к девушке:
— Лена, помните, вы обещали ответить на мой вопрос?
— Зачем вы спрашиваете?
— Ответьте только: да или нет?
— Да, — смеясь, ответила она. — Вас это устраивает?
Хмельной от счастья, он вскочил на ноги и взмахнул, закрутил вожжами над головой. Лошадь бешено рванулась вперед. Легкие санки летели, взрывая пушистый снег, морозный воздух запел в ушах, ударил, обжигая, в лицо. Засыпаемая фонтанами искрящегося снега, Лена вжалась в угол саней, ухватилась за сиденье. Крутов, крепко держась на ногах, обернулся к ней, увидел смеющееся лицо, волосы, выбившиеся из-под шапочки и побелевшие от снега, и воскликнул.
— Лена, ведь хорошо, а?
Когда в овраге мелькнули огоньки землянок, Крутов сдержал лошадь Лена выскочила из санок и, подавая ему руку, тихо сказала:
— Это самая счастливая моя ночь, самая прекрасная... Неужели все это правда, а не сон? — Она, робко заглянув ему в глаза, спросила: — Павлик, вы не забудете меня? Никогда-никогда?
— Никогда!
— Ни за что?
— Ни за что! — повторил он.
Тогда она внезапно крепко обняла его и поцеловала теплыми мягкими губами.
— Вот... за все! — еле переводя дух, вымолвила она и, резко выскользнув из его объятий, отбежала на несколько шагов. — Вам пора возвращаться! — сказала она строго.
— Лена.
— До свиданья! Слышите?
— До встречи! — он понял, что спорить бесполезно.
Она побежала по тропинке к своей землянке, а он еще долго истуканом стоял на месте и смотрел ей вслед. Он не в состоянии был думать, рассуждать. Как удивительно хорошо быть в плену такого чувства! К нему пришло счастье. Пришло впервые...
«Почему впервые? — неожиданно спросил он себя. — Разве Иринка не доставляла тебе такой же окрыляющей радости, как Лена? Почему же такая нечестность?»
Глубоко задумавшись, Крутов медленно поехал в полк.
Глава девятая
Березин зашел в блиндаж разведывательного отдела, чтобы посмотреть на захваченного ночью «языка». Он увидел за столом офицера-переводчика, начальника отдела и пленного, который, сгорбившись, сидел против них на скамье. На гитлеровце была пятнистая, серо-зеленая куртка с капюшоном, которую зимой носили, вывернув для маскировки белой подкладкой наружу.
— Встать! — скомандовал начальник отдела, и пленный послушно вскочил.
Березин присел к столу, прочел записанные при допросе показания. Пленный солдат принадлежал к сто девяносто седьмой дивизии, которую после ноябрьских боев свели в отдельную боевую группу из трех батальонов.
— Кто командует группой? — спросил Березин.
Пленный вопросительно уставился на переводчика и, когда тот сказал, о чем его спрашивают, с готовностью ответил:
— Полковник Прой!
— Там же был Рихтер?
— Он улизнул с восточного фронта во Францию, — пояснил начальник разведывательного отдела. — Боится суда. Рихтер попал в списки военных преступников, а на западе таким безопаснее.
— Что думают немецкие солдаты о перспективах войны?
Пленный охотно заговорил. Переводчик едва успевал за ним:
— Он говорит, что за укреплениями Медвежьего вала можно сидеть годы, что русским лучше отказаться от мысли овладеть им, потому что во главе немецких войск стоят опытные генералы под общей командой Гольвитцера. Об отступлении никто и не помышляет. Все войска Витебской группы принесли недавно Гитлеру отдельную присягу, как войска укрепленного района, имеющего особое значение...
— Особое значение, — усмехнулся Березин. — По-прежнему Москва не дает ему покоя. Гитлер спит и во сне ее видит, а наш участок фронта самый близкий к Москве, вот и получил особое значение... Выходит, что разговора об отступлении из Витебска не слышно?
— Витебск вы не возьмете! — заученно зачастил пленный. — Город защищают гренадеры. Все ваши атаки захлебнутся, как и те, которые вы уже предпринимали. Мы поклялись фюреру стоять до последнего человека!
— Однако вы все-таки предпочли сдаться, чем умереть за Гитлера. Жизнь показалась дороже. Где же логика? — спросил очень спокойно, не повышая тона, Березин на хорошем немецком языке.
— Верно, я сдался, но другие будут защищать Витебск. Это говорят все! Скоро немецкая армия получит новое секретное оружие.
— Поживем — увидим, — сказал Березин.
Упрямство пленного долго не выходило из головы командующего. Значит, есть еще немало немцев, склонных верить, что поражения их войск — результат случайностей, а не политический провал всех замыслов. Для них все еще прочность фронта, прочность вала не вызывает сомнений! Моральное состояние противника — серьезный фактор, и с ним приходилось считаться.
После допроса пленного он долго сидел, задумавшись, у себя, размышляя над событиями последних дней. По отдельным перемещениям, слухам, намекам, собственным и чужим предположениям он понимал, что скоро должны развернуться крупные наступательные операции на северном и южном участках советско-германского фронта. И, конечно же, его армия тоже не останется в стороне. Вероятнее всего, ее задачей будет — сковывать силы противника. Это значит — армии опять спланируют фронтальные удары, и повторится то, что не раз уже бывало. Вместо удара сжатым кулаком будет удар растопыренными пальцами.
Березин вздохнул. Витебск — вот что привлекало его. Надо тысячу раз все пересмотреть и обдумать, чтобы изыскать внутренние резервы, использовать все возможности для решительного удара по Медвежьему валу. Боевой дух войск, их богатый боевой опыт, растущее мастерство командиров — это главное. Но не менее важны и материальные средства, все то, что зовется в армии необходимым для жизни и для боя...
Ночью, когда все дневные дела были окончены, у него состоялся разговор с Бойченко.
— Да, — подтвердил Бойченко. — Вероятно, нам опять придется действовать на вспомогательном направлении и, конечно, ни о каких пополнениях не придется помышлять.
— Вот нам и надо подумать, как лучше использовать то, что есть в наших руках! — воскликнул Березин.
После долгого молчания Бойченко произнес:
— Но даже у нас, на вспомогательном направлении, должны быть созданы резервы, должно быть направление главного удара. И тогда, только тогда — бить! Но для этого нужна смелость, смелость и смелость! В крайнем случае — хотя бы подхватывать успех там, где он наметится...
— Не исключено, что успех определится именно в нашей армии, — согласился Березин. — Только...
Он вспомнил последние события: удачно начатая разведка боем у Безуглова и Чернякова переросла в большое наступление. Почему? Была быстро подхвачена! Рокировка войск — перемещение гвардии с правого крыла на левое — была совершена за одну ночь, в самом стремительном темпе. Войска вклинились в оборону противника даже без организации артиллерийской подготовки. Пока элемент внезапности не был исчерпан, удалось захватить несколько населенных пунктов, и продвижение задержалось лишь у Синяков Несколько дней вокруг деревни гремели такие бои, словно она представляла собой ключ к Витебску. Березин специально ездил смотреть, что собой представляет опорный пункт, у которого противнику удалось приостановить наступление. Оказалось, деревня стоит на чрезвычайно выгодном для обороны рубеже. В любую сторону от нее простиралась открытая местность — поля. Березин понял: если удастся взять Синяки и хотя бы частично развить успех — гитлеровцы отойдут на другой рубеж по всему фронту, если нет — никакого продвижения нельзя ждать ни справа, ни слева от Синяков. Не случайно Кожановский, взявший по соседству деревню Васьково, доносил: огонь из Синяков такой, что днем нельзя ступить шагу...
Березин побывал на командном пункте Кожановского и там, не сдержавшись, наговорил ему резкостей:
— Вам Синяки не дают ходу? А когда вы их оставили в ноябре, они вам тоже мешали?
— У меня тогда создалось тяжелое положение, и я докладывал вам об этом. Синяки были оставлены с вашего разрешения, — мягко напомнил Кожановский.
— Я мог на это согласиться потому, что не видел их. Но ведь вы-то были рядом! Куда смотрели? Оставить такой великолепный рубеж, такую командную высоту, тем более в новой оборонительной полосе!
— Недоучел, товарищ командующий!
— Так вот, чтобы в следующий раз учитывали, я вам и поручу брать Синяки! — сказал Березин и, едва кивнув головой на прощанье, уехал.
На следующий день Синяки были взяты. Ну, а дальше?.. На дальнейшее не хватило сил, и фронт опять замер на месяц.
— Помните, — начал опять Березин, взглянув на члена Военного совета, — в ноябре мы просили у фронта резервы? Нам сказали, что другие армии выполняют такие же задачи. В результате ни мы, ни другие не довели дело до конца. А жаль, ведь какое выгодное положение было, когда мы влезли в этот Лучиновский пузырь! Уж его-то можно было раздуть как следует, — в голосе Березина прозвучало искреннее сожаление. — Но, знаете, всему есть предел, и выше своих полномочий не прыгнешь...
— Вот в этом-то вы не правы, — живо возразил Бойченко. — Непременная черта советского человека — способность видеть дальше чисто служебного горизонта, в нем сильно развито чувство государственности. Если мы с вами не добились того, что считали нужным, правильным, значит, не полностью использовали свои возможности, права, мало этого желали. Дальше командующего фронтом мы не пошли, а ведь есть ЦК! Думаю, сейчас, когда промахи нам стали ясны, следует довести их до сведения Центрального Комитета партии. Ну, а насчет наших собственных резервов, кому, как не нам самим, их искать!
— Да, надо искать, — подтвердил Березин. — Взять ту же артиллерию. Как мы ее используем, как организуем взаимодействие с пехотой, особенно в низовых звеньях: стрелковая рота — батарея, взвод — орудие? Пока плохо! Если использовать нашу наличную артиллерию с закрытых позиций, то нам попросту не хватит снарядов, да и по времени не уложиться в установившиеся сроки артподготовки. Думаю — следует поставить всю дивизионную артиллерию на прямую наводку. Тогда все цели на переднем крае будут попросту сметены огнем. Сложнее будет вести бой в глубине. Придется так построить боевой порядок, чтобы командир роты сам мог решать огневую задачу. Дадим ему в руки целый оркестр наших ударных инструментов, и пусть он, как дирижер, управляет ими. Это будет ансамбль, огневой ансамбль! — добавил Березин с воодушевлением, радуясь, что нашел подходящие слова для полного выражения своих мыслей.
Он стал подробно развивать свои соображения по организации огневых групп в частях прорыва, насыщенных всеми видами вооружения — от станкового пулемета до дивизионной гаубицы.
— Что касается войск — будем учить. Поначалу проверим организацию боя на батальонных учениях, а потом начнем подготовку всей массы войск.
Приказ об организации огневых групп пришел в гвардию, когда там вступил в должность новый командир корпуса — генерал Безуглов. За его плечами был большой боевой путь. В 1941 году, командуя воздушно-десантным соединением, он встретил войну вблизи границы. Массовое отступление с боями, окружения, арьергардные бои... Десантники отбивались от своих подразделений, вливались в создаваемые по всей Белоруссии партизанские отряды, и соединение фактически перестало существовать, оно словно растаяло на длинном пути от границ к Подмосковью. Летом сорок первого года выход из окружения разрозненными группами был делом не редким, но к Безуглову подошли строже — у него были отборные войска, хотя опыта, как их правильнее всего применять, в армии не было. Он долго оставался без должности и лишь осенью получил назначение на вновь сформированную из московского ополчения дивизию. С нею и пришлось ему осваивать опыт войны...
Свежий, бодрый, с поблескивающей бритой головой, Безуглов сидел за небольшим столом-раскладушкой и выслушивал утренний доклад начальника штаба корпуса. На столе лежала аккуратно сложенная стопка документов. Генерал взял один из них, мельком взглянул в убористый, отпечатанный на машинке текст.
— «Инструкция по организации управления в бою и сигналы взаимодействия», — прочел он вслух. — Откуда? Ага, из штаба армии от начальника связи. Очень важно для огневых групп! Посмотрим, что здесь хорошего.
Прочитывая, он отчеркивал карандашом строки, привлекавшие его внимание, иногда одобрительно кивал головой.
— А как у нас с ракетами, достаточно? — спросил он, когда дошел до средств связи, рекомендуемых для управления огневыми группами и взводами.
Начальник штаба порылся в папке и достал справку о наличии ракет Безуглов тут же распределил их по дивизиям, сказал, чтобы зря не жгли, и снова углубился в чтение.
С неослабевающим вниманием он прочел всю инструкцию до конца и обратился к полковнику:
— Вот что — сигналы рожками и свистками пусть остаются, но учить в основном на ракетах и флажках. Все остальное мало пригодно. Тут такой гром грянет — собственного голоса не услышишь, а не то что свистки... Давай ближе к делу!
— Данные об организации огневых групп, — подал ему нужную справку начальник штаба.
— Так... Квашин организовал девятнадцать групп. Многовато. Надробил. Кожановский и Бабичев — по восемь. Сколько же это будет стволов?
Безуглов начал в уме подсчитывать, сколько орудий и минометов вошло в состав огневых групп, прикинул, сколько придется на километр фронта, когда боевой порядок корпуса будет построен для прорыва.
— Сто два ствола на километр только на прямую наводку. Как думаешь, прорвем оборону? — обратился он к полковнику с вопросом.
— Такой высокой плотности у нас еще никогда не бывало. Должны!
Размышляя, Безуглов постукивал по столу карандашом.
— Должны-то должны, только чтоб чехарда не получилась. Посмотрю сам, разберусь! — решительно сказал он и стал собираться в Лучиновку на первое батальонное учение.
По сигналу атаки большое поле — полигон — огласилось дружным треском автоматных очередей, разрывами мин. Хоть и на учениях, а войска стреляли боевыми. Только орудия били холостыми зарядами. Пехота шла хорошо. Вспыхивали, как красные молнии, взмахи флажков, чертили небо ракеты.
В поле было многолюдно. Прямо по целине, увязая в снегу, артиллеристы вручную катили орудия. Снег, влажный, тяжелый, оседал до самой земли, комьями прилипал к колесам и сапогам. Расчеты с трудом поспевали за стрелковыми цепями, так как, подкатив орудия, надо было подносить еще и боеприпасы. В большинстве же расчетов не хватало людей.
— Много орудий сопровождения. По одному дивизиону надо оставить в руках командиров дивизий для маневра огнем, — предложил Безуглов командующему.
— Ничего, так они больше пользы принесут пехоте, — нехотя ответил Березин, которому жаль было ослаблять огневые группы. — Собрать их в батареи всегда успеете!
— Но артиллеристы могут не справиться с тяжелыми гаубицами, отстать от пехоты.
— Пусть пехота помогает. Доведите до ее сознания, что без орудий и она не сможет продвинуться. Я считаю, что сопротивление противника будет возрастать по мере нашего продвижения вперед. Поэтому работа орудиям будет все время.
— А чем мы будем давить огонь батарей? — спросил Квашин, до сих пор молча прислушивавшийся к разговору, — А он будет!
— Сведите полковые минометы в дивизион, и для вас хватит. Всю тяжесть контрбатарейной борьбы возьмет на себя армейская пушечная бригада, — сказал Березин.
— Хорошо, — согласились генералы, — только чтобы у каждого из нас были от нее офицеры-корректировщики.
— Ну, об этом мы еще договоримся. Скажите лучше, как смотрят офицеры на огневые группы? — поинтересовался Березин.
— Командиры взводов и рот довольны, что с ними идет столько орудий, а артиллеристы — нет.
— Почему?
— Во-первых, сопровождение пехоты колесами — дело трудное, и, во-вторых, многие из артиллеристов остались не у дел. Ведь отдельные батареи, особенно гаубичные, разойдутся поорудийно среди огневых групп.
— Пусть такие командиры батарей следят за работой своих орудий, а некоторым поручите командование группами, — предложил Березин.
— Придется так и сделать. Людей вот маловато.
— Да, да, — подтвердил Березин, — где надо, заставьте и артиллериста пулеметами покомандовать, в том беды не будет. На своей шкуре узнает, каково пехоте, в будущем охотней помогать будет. Дело это новое, а новое сразу без шероховатостей не бывает. А насчет пополнения — что ж, поищем. Может, понемногу дадим.
Возвратясь с учения, Березин первым делом вызвал к себе Семенова и приказал пополнить гвардейские части за счет обычных стрелковых дивизий, которые не будут участвовать в прорыве.
Это распоряжение коснулось и полка Чернякова. Несмотря на его жалобы командиру дивизии, офицеры из отдела укомплектования прошли по подразделениям и взяли лучших бойцов и сержантов. Такое было впервые: перед наступлением — и вдруг, вместо пополнения, отдавать своих людей!
— Как же я буду воевать? — возражал Черняков и отступал перед неумолимым: «Приказ Березина!»
— Общипали, — огорченно сказал он, когда большая команда ушла из полка.
— Ничего не поделаешь, нужда, — успокаивал его Кожевников.
— Так сказали бы: дай сто человек, я бы выбрал и дал, а зачем так?
— Нечего греха таить, сам ты этих людей в другие дивизии не отдал бы, а сказал бы: «На тебе, боже, что мне не особенно гоже!» — И Кожевников рассмеялся.
— А ты хотел бы, чтобы я сам отдал всех лучших? Тебе смешно, а тут вот-вот гром грянет... Сам в атаку пойдешь, тогда запоешь по-другому!
Продолжая бурчать, Черняков схватил с вешалки шинель, надернул ее на себя так, что она затрещала по швам, надвинул на лоб папаху.
— Пойдем, — все еще сердясь, сказал он Кожевникову. — Затыкать щели надо... — И добавил досадливо: — Хоть себя ощипывай.
— В природе такое явление наблюдается, — невозмутимо произнес Кожевников. — На севере есть гагары, так они выщипывают пух со своей груди.
— Поди ты со своими гагарами!..
Особенно опустошены были разведка полка, батареи, в меньшей степени — стрелковые роты.
Черняков зашел в штаб, чтобы взять строевую записку о численности личного состава, и уже собирался ехать в подразделения тыла, когда к нему подошел Зайков.
— Разрешите обратиться по личному вопросу? — лихо козырнул он полковнику.
— Говори, — остановился Черняков.
— Товарищ полковник, — Зайков покраснел и от волнения сразу потерял вид лихого служаки. — В батарее место освободилось, отпустите?
— Какое место?
— Во взводе управления старшего сержанта взяли, и комбат говорил, что согласен принять меня на его место. Разрешите?
Черняков весь был во власти одной думы и теперь с некоторым удивлением продолжал смотреть на стройного черноглазого юношу, не понимая, что тот от него хочет.
«А ведь люди там нужны, — была первая мысль, которая пришла ему в голову. — Где угодно, а надо найти туда людей, чтобы батарея не молчала. Но справится ли там Зайков? Молодой, еще слабый. К тому же на передовой ему не просто жить — командовать людьми придется. А это не то что писать донесения...»
— Разрешите? — нарушил затянувшееся молчание Зайков.
Черняков положил ему на плечо тяжелую, сильную руку, спросил, усмехнувшись:
— А справишься?..
Зайков даже покраснел:
— Товарищ полковник, да я... честное комсомольское!
— Ну, ладно. Тонкое, говорят, хоть и гнется, да не так скоро ломится. Разрешаю. Воюй и учись. Потребуется мой совет, моя помощь, приходи в любое время, не стесняйся! — Черняков крепко пожал ему руку и вдруг спохватился: — Да, а Крутов как, ты с ним говорил?
— Он себе другого писаря подберет. Найдутся такие, что сюда с полным удовольствием. Как ни говорите, в штаб — не на передовую!
— И то верно! — засмеялся Черняков. — Желаю успеха!
Зайков бросился собираться на батарею, боясь, как бы командир полка не передумал.
— Вот и есть начало! — усмехнулся Кожевников, молча наблюдавший за всей этой сценой. — Так и пойдет!
Вечером, утомленный, но довольный проделанной работой, Черняков возвращался из тыловых подразделений в штаб полка. С трудом, но все же удалось выбрать и в хозяйственных мастерских и разных службах кое-кого из рядовых и сержантов и послать их в батареи и батальоны. Если бы еще с недельку продержалось затишье, они бы стали неотличимыми от остальной массы бойцов строевых подразделений.
Лошадь трусила легкой рысью, Оттаявшая за день дорога стала подмерзать. Тонкий и хрупкий ледок покрыл лужицы, похрустывал и шуршал под полозьями. Светом далекого пожара пробивалось меж деревьев солнце, небо было светлое, чистое, и только над головой тянулась гряда легких, высоких облаков, ставших совсем золотыми в лучах уходящего солнца.
Чувствуя, что полковнику приятно побыть в тиши вечернего леса, ездовой только по привычке помахивал вожжой, не собираясь погонять лошадь.
Сколько красоты в природе, а человек вечно вынужден куда-то торопиться, вертеться в кругу привычных забот, ничего не замечая вокруг. Вот он, Черняков, уже на склоне лет, а не помнит, когда ему доводилось видеть такой красивый закат. А закаты были, только некогда было ему любоваться ими...
Без всякой связи с закатом в голову пришло последнее письмо жены: «Юрик утерял хлебные карточки и талоны в столовую. Теперь вся надежда на козу, без нее пришлось бы совсем голодно, а конец месяца еще не скоро...
«Голодно!» Даже странно слышать такие слова. Раньше жена никогда не жаловалась. Эх, Саша, Саша, стареешь и ты, видно!.. Впрочем, должно быть, действительно голодно, иначе бы не сообщала. Вот и Юрка осенью как-то писал: «Ты, папа, города не узнаешь, по всем газонам растет одна картошка, даже привокзальная площадь занята под огороды, и оставлены только узкие проезды...» Не от добра эти козы и такие огороды. Сколько людей бьется в нужде, в последнем куске себе отказывая ради победы!
Правда, его семье все же легче, чем другим, потому что он каждый месяц отправляет почти все деньги домой по аттестату. Вот на что их хватает, — он как-то не узнавал. Во всяком случае, можно прикупить немного хлеба к тем двумстам пятидесяти граммам, что выдают по карточкам на иждивенцев. Ах, да, карточки утеряны!..
Ну, что ж, туго не им одним, всем достается! В другой раз не будут терять карточек! Но ведь Саша и не жалуется, а просто пишет: «Хоть бы скорей вы заканчивали эту войну». Это уже по-деловому, об этом надо подумать...
Тихий, ласковый вечер не располагал к мыслям о войне. Помимо воли в голове рисовались мечты о мирной жизни, простом человеческом счастье, для которого, в сущности, так мало надо: работу, чтобы кормить семью, может быть, — домик да маленький клочок земли, на котором можно было бы отвести душу, успокоиться, когда устанешь или почему-либо станет муторно... «Вот кончится война, вновь придет спокойная работа, станем жить где-нибудь в районном городке, где нет шума, где пыль и гарь не заслоняют чудесной красоты зорь и закатов, где можно, взяв в руки палочку, пройтись по притихшей улочке, среди тополей, палисадников, по мягкой зеленой травке. Поработать бы еще годиков пять, пока дети крепко встанут на ноги...
Нет, не надо отдаваться таким мечтам. Они усыпляют ум, размягчают сердце. Не будет тебе спокойной работы, потому что позади остались печные трубы и землянки на месте деревень, руины вместо городов. Придется строить все заново, много, быстро. Будет нехватка рабочих рук, материалов, будет много больших забот, а у тебя беспокойное сердце, и ты не умеешь смотреть на работу со стороны...
Думай лучше, думай, полковник, о том, что скоро новое наступление, которое не продлится долго, но, возможно, унесет много жизней и ряды полка вновь поредеют, а оборону держать все равно придется; думай о том, что в батальонах люди в поношенной обуви, а на носу весенняя слякоть. Погонит с полей вешние воды, затопит окопы, и люди станут, выбиваясь из сил, черпать и черпать грязь сотнями и тысячами ведер. Измученным работой, им негде будет отдохнуть и обсушиться, потому что и в блиндажах поплывет со стен сырость. Ночами надо будет удвоить, утроить количество разведгрупп, посылаемых за передний край, так как у утомленных людей падет бдительность... Думай об этом, полковник!
Уже сейчас надо вместе с Кожевниковым основательно пересмотреть план политической работы в полку, так как придет весна, дохнет теплым ветерком и разбудит в людях щемящую тоску по семье, по полям, что оставлены на слабые женские руки, по мирной жизни, которая еще неизвестно когда придет. Это очень трудное время — весна. Много, много забот на тебе, командир полка, и не пришло еще время любоваться закатами!
Черняков вздохнул и, встряхнув головой, расправил плечи.
— Ты что, уснул? — крикнул он ездовому.
— Малость задумался, товарищ полковник! — вздрогнул тот от неожиданности и, поднявшись на сиденье, взмахнул вожжами, гикнул. Лошадь рванулась по дороге, засыпая санки комками смерзшегося снега.
Вдруг впереди послышались совершенно неожиданные звуки. Черняков насторожился, прислушался. Спереди, из-за поворота дороги, постепенно нарастая, неслись звуки гармошки.
— Душевно играет... — промолвил ездовой и высунулся из санок на сторону, чтобы увидеть, в чем дело.
Навстречу шла группа людей, занимая дорогу во всю ширину. Черняков велел придержать лошадь.
— Да это же наши разведчики, — узнав их по халатам, сказал ездовой. — И куда это такой компанией настроились?
— Вы куда? — спросил их Черняков.
— Друзей провожаем, товарищ полковник, — обступая санки, отвечали бойцы.
Он сразу узнал Григорьева и еще одного разведчика, фамилии которого не помнил, но знал в лицо. Утром они ушли с командой, набранной из подразделений полка.
— Что же вы так: ушли, пришли, опять уходите? — поинтересовался Черняков.
— Мы в гвардию попали, товарищ полковник... Стоим недалеко, вот и зашли проститься к своим, а то, говорят, скоро начнется, так больше, может, и не увидимся.
Разговаривая, Григорьев приблизился, и Черняков сразу угадал: проводы не обошлись без выпивки. «Как они ухитряются доставать? — подивился он. — Сам приказывал никому до боя вина не выдавать, а гляди-ка, нашли».
— А гармонист? — спросил он.
Боец лихо перебросил гармонь на левую руку, козырнул и ответил:
— Гвардии ефрейтор Раевский из гвардейской разведроты!
— Мой новый товарищ, — добавил Григорьев.
«Так их, оказывается, к Кожановскому определили», — сразу понял Черняков.
— Смотрите, — обратился он к провожаемым, — чести своего полка не роняйте. Пехота царица и хозяйка полей. Наш полк боевой, у него хорошая репутация, и мне будет просто жаль, если скажут, что бойцы нашего полка вели себя в бою недостойно. Я был доволен вашей службой в полку, и если вы, не уронив чести, после боя явитесь ко мне, я буду вам рад, как желанным гостям. Вот уж тогда поиграем да и спляшем на радостях. Счастливо служить на новом месте!
Разведчики стояли, провожая взглядами командира полка, пока санки не скрылись за поворотом дороги.
— Справедливый человек этот полковник, — тихо сказал Григорьев. — Его в полку, наверное, все любят!
Он посмотрел на убегающий след санок, вздохнул, на мгновенье грусть защемила ему сердце:
— Прощай, мой полк, хотел бы я еще в тебе побыть...
— Григорьев, пошли! — окликнули его товарищи.
Глава десятая
Армия Березина сосредоточила силы для нового удара. План его был очень простой. Гвардейский корпус, собранный в узкой полосе, должен был словно тараном пробить брешь в обороне врага и, придерживаясь большака Коопти—Васюты, как оси наступления, прорваться к Витебску. Решение строилось в согласии с общим фронтовым планом наступления, в котором главная роль была отведена соседней с Березиным армии, действовавшей левее. Вся артиллерия полков и дивизий была предназначена для сопровождения пехоты колесами, а для удобства управления сведена в огневые группы. Несомненно, теперь все цели на переднем крае противника будут подавлены и уничтожены и стрелковые цепи получат открытую дорогу в глубину обороны.
Разглядывая схему неприятельской обороны, испещренную синими значками пулеметов, орудий, батарей, Березин поинтересовался: не оживут ли они в момент атаки пехоты, как бывало не раз?
— За это могу поручиться, — ответил командующий артиллерией. — Все, что есть на переднем крае, будет буквально сметено. У нас приходится несколько орудий прямой наводки на одну цель. Около десяти. Это небывалая плотность.
Однако Березин не обольщал себя радужными надеждами. В конце концов сотни живых гитлеровцев в траншеях — это тоже цели, только не учтенные на этой схеме. Спору нет, огонь прижмет их к земле, но при малейшей задержке наступающих они окажут сопротивление. Вот тогда и должны будут сыграть свою роль гибкие огневые группы. Забота о защите пехоты от огня противника в глубине обороны являлась для него главной целью во всех размышлениях и перед этой новой операцией.
В ночь на третье февраля артиллерия заняла позиции на переднем крае. Боеприпасы были уже поднесены заранее и разложены по нишам.
Пехота размещалась в окопах. Приглушенный шум, тихий говор сотен людей, готовящихся к бою, стояли над передним краем. Больше всего забот было у связистов и артиллеристов. Пехота знала, что ее дело впереди, и пока старалась по возможности отдохнуть, хоть и находилась в узких окопах, нишах, стрелковых и пулеметных ячейках.
Противник изредка выбрасывал ракету, давал на всякий случай пулеметную очередь. Бойцы не обращали внимания на это, каждый занимался своим делом: кто разговаривал с товарищем, кто доделывал окоп, а кто просто посвистывал носом. Плотные плащ-палатки не пропускали ветра, и под ними, несмотря на мороз, можно было ненадолго вздремнуть.
Вместе с выходом пехоты все командиры полков заняли свои места на наблюдательных пунктах. Только старшие начальники еще оставались в своих штабах, и дежурные офицеры нет-нет да позванивали оттуда, проверяя, все ли в порядке и не заподозрил ли чего противник.
Утром, едва посветлело небо, в окопы возвратились продрогшие разведчики: на этот раз они не ловили «языков», а вели предупредительную разведку на случай появления разведчиков противника.
Когда стало еще светлее, над окопами рассыпались гроздья красных ракет. Грохот первых выстрелов потряс землю, всколыхнул свежий морозный воздух, разметал тишину зимнего утра. Шквал огня обрушился на неприятельские позиции, страшными ударами разметал рогатки, накатник блиндажей, вихрем осколков вымел из траншей все живое...
Пятнадцать минут. Шквал не утих, а, наоборот, нарастает с каждой минутой. Сотни молний сверкают в грязно-желтом от дыма воздухе.
Полчаса. Земля содрогается от гула, а ему нет конца. Тяжелый черный вал дыма, клубясь, поднялся над гитлеровской обороной в небо и, тихо колеблемый слабым ветром, поплыл в сторону Витебска.
Сорок пять минут. В клокочущий гул орудий мощно вторгается скрежет и вой гвардейских минометов. Земля крупно вздрагивает, черный лес разрывов встает над Скиндеровкой...
Оглохли от хлестких выстрелов артиллеристы, но лишь еще яростнее трудятся у своих орудий, черные, вспотевшие, среди огня и дыма, среди блеска молний.
Новый залп гвардейских минометов обрушился на траншеи противника, в небо взвились зеленые, мерцающие холодным светом ракеты, и из окопов по всему переднему краю на протяжении двух километров поднялась многочисленная пехота. Наступала минута атаки. Тысячи людей цепью пошли снежным полем за разрывами снарядов и мин, за бушующим артиллерийским валом, расчищавшим перед стрелковыми подразделениями дорогу через ненавистный рубеж. Вслед за стрелками тронулись в путь со своих позиций и орудия огневых групп. Они будут теперь молчать, пока не появятся цели на поле боя, пока пехота не столкнется с противником. В борьбу с ожившими вражескими батареями вступила пушечно-артиллерийская бригада Березина.
Черной землей, взбитой тысячами мин и снарядов, обозначился бывший рубеж фашистской обороны. Бойцы без выстрелов заняли две первые линии неприятельских окопов и, не задерживаясь в них, спустились в глубокий овраг, проходивший параллельно фронту. За пехотой, ушедшей вперед, потянулись связисты, повозки с боеприпасами, отставшие от нее орудия прямой наводки...
Командиры дивизий сообщили Безуглову, что пехота движется, не встречая сопротивления. Противник, бросая убитых и раненых, бежит перед нею.
Однако вслед за первыми радостными сообщениями пришли тревожные вести:
— Артиллерия топчется перед оврагом. Дороги через него нет! Что делать?
— Пехоте продолжать наступление, пушки и гаубицы перебросить через овраг как угодно, хоть на руках! — приказал Безуглов Квашину и остальным командирам дивизий — Идите и сами обеспечьте переброску!
Положение создалось серьезное, угрожающее.
Пехота одна шла в наступление, лишившись своей главной ударной силы, своего щита — артиллерии. Сотни орудий всех систем спустились в овраг, сбились в глубоком метровом снегу, нанесенном сюда зимними ветрами. Расчеты грудью налегали на снег, приминали его к земле, разгребали ногами и руками в стороны и с неимоверными усилиями подталкивали пушки, пробиваясь на другую сторону. А впереди, на высоком крутом подъеме, нависал сугроб со сверкающей ломаной кромкой.
На единственной пешеходной дороге через овраг, которой пользовались гитлеровцы, впритык одно к одному стояли десятки орудий всех систем. В невероятной толкучке суетились, надрывая глотки, офицеры и рядовые, мешая друг другу. Среди серых шапок мелькала папаха с красным генеральским верхом.
Это Квашин, бросив все, примчался сюда, чтобы своей твердой рукой навести порядок. Запыхавшийся, красный, потный, он пробился на высокий противоположный берег оврага. Здесь уже было положено начало организованной переправе. Облепив пушку со всех сторон, расчеты подхватывали очередное орудие и с криком: «Давай, давай, пошло!» — навалясь, бегом вкатывали его по крутому склону. К Квашину подскочил командир артиллерийского полка и доложил:
— Товарищ генерал, семь орудий уже переправлено!..
— Ты что мне здесь творишь? — разъяренный, потрясая кулаками, закричал на него Квашин. — Ты думаешь до вечера вытаскивать по орудию? Я же предупреждал! Где тросы, тягачи? Немедленно!.. Бегом!..
— Слушаюсь, товарищ генерал, — бормотал офицер. — Слушаюсь.
Под горячую руку Квашин мог разнести, разбранить кого угодно. Он бы еще ярился, да с того берега в овраг на полной скорости спустился тягач на гусеничном ходу и, врезавшись в снег, пошел целиной, пробивая новую дорогу. Квашин махнул рукой подполковнику: «Организуй дело!», и тот побежал, придерживая на ходу сумку.
Пока велась долгая и трудная переправа орудий, пришли сообщения, что батальоны заняли Скиндеровку, Горелыши и Бондари, за которыми столкнулись с пехотой гитлеровцев, задержанной у артиллерийских позиций эсэсовской командой. Был полдень. Узнав об этом, Квашин поручил переброску орудий своему командующему артиллерией, а сам помчался на новый наблюдательный пункт в Скиндеровку. То, что он увидел оттуда, превышало все его опасения. Его бойцы залегли по огородам, за плетнями на окраине сгоревшей деревни, а вся инициатива огня, от которого содрогалась земля, находилась у противника. Разрывы снарядов тяжелой артиллерии, мин и мощные, как при бомбежке, удары «скрипух» остановили наступающих.
Черные клубы дыма взвивались над Бондарями все чаще и чаще, канонада нарастала с каждой минутой.
— Что у соседей? — словно от этого зависела вся его судьба, с тревогой спросил Квашин своего офицера-оперативника.
— Залегли в Горелышах и перед Заболотинкой!..
— Ч-черт! — выругался Квашин.
Пора было докладывать обстановку. Сказать прямо, что пехота лежит под жестоким обстрелом и ее сейчас не поднять, значило навлечь на себя упреки и несправедливые выговоры. Он взял трубку телефона и стал перечислять Безуглову, откуда и сколько бьет батарей, какой огонь в Бондарях, откуда стреляют пулеметы противника...
Безуглов долго слушал его, не перебивая, а затем, теряя терпение, резко спросил:
— Что с пехотой, где она?
— Ведет огневой бой с противником, — увильнул Квашин от прямого и неприятного ответа.
— Знаю я эти «огневые бои», — сердито проговорил Безуглов. — Подтягивай свои «колеса» и атакуй!
— Есть, — облегченно вздохнул Квашин и вытер рукавом вспотевший лоб. — Буду атаковать!
Он был доволен, что Безуглов не кричал, не требовал неприятных признаний, а сразу понял обстановку в Бондарях. Березин, получив сообщение Безуглова о том, что гвардейский корпус остановлен перед артиллерийскими позициями противника, почувствовал угрозу всему наступлению. Вся продуманная им до мелочей система взаимодействия с огневыми группами рушилась из-за оврага, вставшего на пути орудий. Не смог добиться предварительной авиаразведки местности! Впрочем, раздумывать по поводу того, чего уже нельзя исправить, было некогда, надо спасать положение. Пока порыв войск не иссяк, а гитлеровцы не засели как следует, любыми мерами нужно поднять бойцов в атаку. Тотчас же он начал переговоры с командирами дивизий. Квашину, как и остальным, он приказал:
— Не ожидайте, пока подтянется вся артиллерия, а немедленно, с тем, что есть, под личную ответственность поднимайте людей в атаку. Под личную ответственность! — подчеркнул он.
— Слушаюсь, товарищ командующий. Будет исполнено, — ответил Квашин.
Если Березин разговаривал с Квашиным довольно спокойным тоном, то последний повторил его приказ в совершенно иной форме. Он учинил целый разнос командирам полков, взвинтил им нервы и закончил тем, что приказал им лично поднимать полки в атаку. Дальше приказ шел до низшего звена в различных выражениях, в зависимости от темперамента командира, но имел одно непременное условие: лично поднять людей в атаку!
В этот день Черняков находился на наблюдательном пункте. Он нервничал. Причины были: нельзя видеть, что делается у наступающих, а информации не поступало. Он считал, что ему, непосредственно охраняющему фланг гвардии, следует знать, что происходит у наступающих.
На попытки добиться толковой информации начальник штаба дивизии ответил:
— Могу вас заверить, что никто не ответит на ваши вопросы. Гвардейцам сейчас не до нас, у них своих забот по горло!
— Так что же, я должен сидеть, ничего не зная? — вскипел Черняков.
— Как вам угодно, — сухо ответил начальник штаба. — Попробуйте получить информацию сами — узнаете!..
Черняков возмущенно бросил трубку телефона и, посапывая, стал ходить по блиндажу. «А почему и не попробовать?»
— Вызовите соседа, — приказал он телефонисту.
С готовностью схватив сразу две трубки, покрикивая на невидимых связистов, работавших на коммутаторе, тот с завидной быстротой вызвал Нагорного.
— Товарищ Нагорный! — закричал Черняков, заранее предполагая плохую слышимость. Но ответный голос был четок и близок, и Черняков сразу заговорил спокойно: — Я ничего не могу добиться от своего верха, а мне хотелось бы знать, как идут ваши дела. Чтобы не отрывать вас от обязанностей, позвольте прислать к вам своего офицера? Пусть он находится при вас, а там он и сам доложит мне все, что необходимо. Вы не возражаете? Не обременит, говорите? Вот и отлично все уладилось! Как у вас работа? Хорошо? В случае нужды моя скромная соседская помощь к вашим услугам!
Закончив разговор, Черняков присел на дощатые нары, накрытые плащ-палаткой, и придвинул к себе карбидный фонарь. Из горелки упругой струйкой выбивалось яркое пламя.
— Вызовите мне Крутова, — приказал он адъютанту. Тот козырнул и выскочил за дверь, а Черняков принялся вышагивать по блиндажу. Три шага вперед, три назад. Почему перед гвардией все затихло? Что там? Замечательный успех или опять что-нибудь непредвиденное встало перед армией? До каких пор будем биться под Витебском? На других фронтах мощные удары следуют один за другим, скоро подойдут к государственной границе, а здесь? Здесь наступаем день, два, неделю, оглянемся — и видим окопы, из которых вышли...
Крутов вошел, остановился у входа, почти касаясь головой накатника. На свежих бревнах, разогретых теплом маленькой печки, выступили бисеринки смолы.
— По вашему приказанию!..
— Пойди к Нагорному, — сказал Черняков, останавливаясь. — Будешь все время с ним, прислушивайся и приглядывайся ко всему, чтобы я знал обстановку не хуже, чем в своем полку. Понял? Тут пока обойдутся без тебя. Но помни, ночью, возможно, придется и нам крепко нажать, чтобы выровнять свой фронт с гвардией. О наступлении днем с нашими силами нечего и думать, а ночью вполне возможно...
Чтобы побыстрее пройти на командный пункт Нагорного, Крутов пошел не по дороге, а полем, придерживаясь проложенной линии связи. Колючая проволока, наброшенная на колья и шесты и заменявшая в обороне второстепенные линии, которые в случае быстрого перехода не жаль было и бросить, привела его на полковой узел связи Нагорного. Целый пучок проводов протянулся от него в сторону передовой. Не расспрашивая, Крутов повернул вслед за проводами.
На переднем крае, откуда поднялась пехота, было нарыто бесчисленное множество окопов, щелей, пулеметных гнезд, валялись пустые ящики и стреляные орудийные гильзы разных калибров, оставленные поспешно снимавшимися и ушедшими вперед войсками.
«Как это гитлеровцы ничего не заметили? — удивился Крутов. — Столько у них под самым носом нарыли, наставили орудий, а они прохлопали. Значит, маскировочка была что надо!»
Невдалеке чернела полоса земли, на которую обрушился первый шквал огня наступающих. Провода привели Крутова к оврагу, в котором артиллеристы бились еще над переправой орудий, а оттуда и на командный пункт Нагорного.
Подполковника он нашел возле наскоро оборудованного наблюдательного пункта. Толстый, с рябоватым лицом, Нагорный чем-то отдаленно напоминал Чернякова, только черты лица у него были грубее, без того мягкого выражения, которое так располагало людей к Чернякову. Он стоял, широко расставив ноги, обутые в простые яловые сапоги. Его фигуру облегала зеленоватая бекеша, причем так плотно, что казалось, будто сукно растягивается на нем при вдохах, как резина, и, натянутое до предела, вот-вот разойдется по швам. Как ни странно, смотрел он не в сторону передовой, а назад. Лицо его было озабоченно.
Вместе с Крутовым подошел еще один офицер и подал командиру полка какие-то бумаги. Подполковник недовольно отмахнулся от них.
— Где там артиллерия? — сурово спросил он. — Не видели?
— Торопился, не приметил, — сконфузился офицер.
— С безделицей торопитесь, а дело без внимания. Беда с вами, — проговорил подполковник, легко и быстро поворачиваясь в сторону Крутова.
— Офицер связи от Чернякова, — доложил Крутов, видя, что на него уставились колючие, цепкие глаза подполковника.
— Знаю, — буркнул Нагорный, — звонил Черняков!
Ни о чем больше не спрашивая, он снова уставился в белые, испещренные ударами мин и снарядов холмы, не обращая больше внимания ни на своего офицера, ни на Крутова.
«Беспокоит положение с переправой орудий, — догадался Крутов. — Разве сказать, что видел?»
— Ваша артиллерия еще в овраге, — не выдержал он. — Там переправой руководит высокий полковник со светлыми усиками.
Нагорный, не меняя своего положения, а только чуть скосив глаза, заинтересовался.
— Командующий артиллерией дивизии, — подсказал он.
— ... и среднего роста рыжеватый генерал...
— Квашин, — опять подсказал подполковник.
— ...десятка полтора орудий уже выкачены из оврага и находятся в пути. Впереди всех два полковых орудия.
— Расчеты усатые? — живо спросил Нагорный.
— Усатые, как один!
— Мои!
— На пути глубокий снег в лощинах, могут застрять еще раз.
— Мои орлы нигде не застрянут. Это же гвардия! — гордо сказал Нагорный.
— Дай бог, — усмехнулся Крутов и, желая уязвить загордившегося подполковника, добавил: — Только раньше, чем часика через два, они к вам все равно не доберутся.
— Ты, я вижу, глазастый парень, — весь подобрев, сказал Нагорный. — Но с обстановкой я тебя все равно знакомить не буду. Ты и сам увидишь все, что надо, а телефоном пользуйся в любое время.
— Спасибо, я постараюсь не мешать вам!
— Так вот, — обратился к своему офицеру Нагорный, — капитану нет никакого дела до наших орудий, но он видел все, что нужно. Наблюдательность военного человека. Вот и тебе нужно так же ко всему присматриваться, во все вникать.
— Учту, — пробормотал смущенный офицер.
— Для того и говорю. Твоя служба вся еще впереди, — сказал Нагорный и, опять удивительно легко повернувшись, прошел в блиндаж.
Крутов последовал за ним.
В блиндаже он осмотрелся. За небольшим столиком сидел Нагорный; против него, согнувшись у рации, настраивался на волну радист. Здесь же было полно офицеров, телефонистов, занятых каждый своим делом. Крутов прислушался к разговорам. Положение наступающих было тяжелое. Батальоны, оказавшись без поддержки, залегли в Бондарях по огородам. Разрывы тяжелых снарядов сотрясали блиндаж, и мелкий песок сыпался через накатник. Воспользовавшись тем, что Нагорный вышел, Крутов попросил телефониста соединить его с Черняковым.
— У него Савчук отстал, — сказал он, подразумевая под Савчуком, пушкарем-сослуживцем, артиллерию. Черняков понял намек.
— Смотри, от Нагорного ни на шаг, докладывай мне обо всем почаще, — сказал он Крутову.
Командир гвардейского полка приказал своим офицерам следовать за ним в Бондари, к батальонам, так как в Скиндеровку уже вышел Квашин. В Бондарях для Нагорного был найден большой блиндаж, оставленный немцами. В нем и разместился весь командный пункт Нагорного.
Остро встал вопрос: как поднять полк в атаку?
— Я говорил, не надо всю артиллерию сводить в огневые группы, — сказал майор-артиллерист. — Теперь у меня ничего нет!
— Задним умом мы все сильны. «Говорил, говорил», — передразнил его Нагорный. — Что-то я не помню, когда вы мне об этом докладывали. Враг засел в роще, надо атаковать, а с чем? Вот вопрос!
Он всей пятерней яростно поскреб затылок, сдвинув шапку на самые глаза.
— Квашин! — телефонист сунул трубку в руки Нагорному.
Разговор был большой и, видимо, неприятный для подполковника, так как, несмотря на молчание, лицо его приняло гневное выражение, а глаза засверкали из-под нахмуренных темных бровей. Люди в блиндаже притихли, насторожились.
— Под личную ответственность? — вдруг вскричал он. — Так дайте мне в руки мою артиллерию!..
Он еще что-то слушал, пытался возражать, потом в сердцах произнес:
— Хорошо, я атакую! Посмотрим, что из этого получится!
Он так бухнул трубкой телефона по столу, что казалось удивительным, почему она не разлетелась вдребезги.
Телефонист, проверяя слышимость, принялся свирепо продувать микрофон.
— Приказано немедленно атаковать! — сказал Нагорный и стал передавать команду в батальоны. Видимо, командиры батальонов восприняли приказ несколько недоверчиво. Нагорный вдруг рассердился и заорал: — Да, да, да, лично поднимайте людей в атаку! — Он отер разгоряченное лицо и уже спокойно приказал: — Капитан, идите сюда!
Офицеры посмотрели друг на друга, недоумевая, кого подзывает подполковник.
— Вы, офицер связи!
Крутов подошел.
— Где ваши батареи, можете указать точно? — спросил его Нагорный и подвинул ему карту.
— Могу. Вот минометная, — Крутов поставил карандашом точку, — вот полковая семидесяти шести, а здесь — позиции поддерживающего гаубичного дивизиона.
— Значит, достанут! Вы золотой человек, капитан, — благодарно произнес Нагорный. — Ну-ка, вызывайте Чернякова! Товарищ полковник, — заговорил он, когда к телефону подошел Черняков. — Ради дружбы и общего дела окажите помощь своими большими «трубами». Небольшой налет, — он посмотрел на часы, — минут через двадцать. Я прикажу немедленно возместить вам расход «огурцов». Сейчас же отправляю подводы. Можно? Вот и спасибо. Как и куда, мои артиллеристы с твоими сами столкуются.
Гвардия поднялась в атаку. Раздался треск выстрелов батальонных минометов, шипели и стонали летевшие со стороны полка Чернякова тяжелые мины. Роща окуталась рыжим дымом разрывов... Но тотчас с ревом и свистом встала перед атакующими стена заградительного огня противника. Закипел пулеметный огонь. Бросок пехоты захлебнулся в самом начале. Падали убитые и раненые, живые, отыскивая защиту от пуль и осколков, залегали в воронках. На почерневшем поле уже не видно было бегущих в атаку бойцов, но артиллерийский огонь противника продолжал бушевать с прежней яростью. Даже привычный к обстрелам Крутов ежился, когда весь блиндаж встряхивал падавший близко снаряд. Связисты выбегали сращивать перебитые провода, и грохот врывался через раскрытую настежь дверь.
Нагорный разговаривал с командирами батальонов, не отрываясь от телефона даже тогда, когда накатник встряхивало. Выяснилась неприглядная картина. Батальоны понесли большие потери в офицерском составе. Нагорный доложил обстановку Квашину.
— Атака отбита. У меня «хозяйствами» командуют адъютанты. Без артиллерии не смогу противника выбить из рощи!
Квашин рассвирепел:
— Вы не знаете, что делается в вашем полку! Разве так поднимают людей? Я лично наблюдал, как проводилась атака, — без настойчивости, неорганизованно, а вы засели в своем блиндаже, вместо того чтобы возглавить... Поднимайте полк в атаку!
Генерал бросил трубку.
Лицо Нагорного побледнело от незаслуженной обиды. Черные косматые брови сошлись над переносьем.
— Поднять полк в атаку лично? Что ж — подниму!
Сурово окинув взглядом своих офицеров, он встал, надвинул шапку на лоб и сказал:
— Передайте в батальоны, пусть готовятся повторить атаку. Я сам поведу полк!
Не говоря больше ни слова, он твердым стремительным шагом вышел из блиндажа. Молча, торопливо хлопнув дверью, выскочил за ним адъютант.
«Куда же это они?» — подумал Крутов. Он уже хотел отворить дверь, но замешкался и тут услышал, как снаружи кто-то незнакомый негромко, но властно говорил:
— ...без артиллерии равносильно самоубийству. Вы просто не отдаете себе отчета, что собираетесь делать...
— Я не трус, товарищ генерал, — глухо произнес кто-то другой, и Крутов узнал голос Нагорного.
— Вы непринципиально к этому относитесь. Вы — командир полка и хотите повести за собой сотни. Но людей в бой ведет надежда и вера в победу! А здесь?!
— Я иначе не могу.
Крутову стало неудобно, что он невольно подслушивал чужой разговор, и он решительно толкнул дверь. Круглолицый, плотный генерал бросил на него быстрый взгляд и, желая закончить разговор, повысил голос:
— Нет, можете! Обязаны суметь иначе, надо только думать не о себе, а прежде всего о выполнении боевой задачи. Идемте!
Твердым шагом он прошел мимо посторонившегося Крутова в блиндаж. За ним молча, с угрюмым выражением лица, проследовал Нагорный Крутов тоже вернулся на свое место.
Генерал прошел к столу с телефонами, стряхнул с папахи песок и спросил Нагорного:
— Чем вы располагаете?
Нагорный доложил: артиллерия на подходе.
— Вас в первой атаке кто-то поддерживал?
— Сосед!
— Вызовите его, — приказал генерал телефонисту и взял трубку. — Черняков? С вами говорит Бойченко! Знаете такого? Ну вот и добре. По сигналу повторите работу всеми своими трубами и поддерживающими. Расход — половина боекомплекта. Поняли? В деталях договоритесь между собой сами. Дыбачевский? Передайте ему, что это мое распоряжение, этого будет достаточно. Готовьтесь!
«Так вот какой Бойченко!» — думал Крутов, с любопытством разглядывая члена Военного совета, о котором много слышал до этого. А Бойченко, обернувшись к Нагорному и прихлопывая ладонью по столу, раздельно сказал:
— Роща должна быть взята во что бы то ни стало! Ясно?
— Ясно, товарищ генерал!
— Если необходимо, возьмите с собой знамя!
Нагорный гордо вскинул голову и распрямил плечи:
— Не нужно. Еще не время его развертывать. Гвардия и без знамени поднимется в атаку и вышибет гитлеровцев из рощи! Разрешите начинать.
— Готовьтесь!
Вбежал артиллерист и доложил, что прибыло пять орудий.
— Ставьте на прямую наводку, пусть готовятся поддержать атаку, — распорядился Нагорный. — Товарищи офицеры, всем в подразделения.
Он быстро перечислил, кому в какой батальон идти, чтобы личным примером воодушевить бойцов. Офицеры вставали со своих мест.
Нагорный взглянул на Крутова и, когда тот поспешно вскочил, ожидая, что ему будет поручение, отвел глаза в сторону: офицер из чужого полка.
— Пошли, товарищи! — скомандовал подполковник, и все стали выходить из блиндажа, надевая на ходу каски. Радисты поднялись тоже, но Нагорный от них отмахнулся:
— Оставайтесь. Когда займем рощу, сразу туда!
Блиндаж опустел. Крутову стало тревожно, неловко, тоскливо. Он был здесь как чужой, не у дела. А ему не хотелось быть лишним, хотелось включиться в общую работу, чтобы Нагорный, который пришелся ему по душе, не отводил от него взгляда, как от человека, которому ничего нельзя приказать. Минутное раздумье кончилось тем, что Крутов выбежал вслед за Нагорным.
Он не сразу догнал подполковника. Нагорный шагал быстро, с какой-то злой и отчаянной решимостью, не обращая внимания на артиллерийский обстрел. Адъютант едва поспевал за ним, не имея времени даже прильнуть к земле, когда с воем летел снаряд.
Командный пункт батальона, куда пришел Нагорный, размещался в подполье сгоревшего дома на окраине деревни. Печка с отшибленной трубой уродливо возвышалась над землей. На грудах обвалившихся кирпичей, засыпанные красноватой пылью, жались к завалинкам телефонисты и адъютант батальона. Окровавленные бинты и тряпье свидетельствовали о том, что здесь побывали раненые. В дальнем углу из-под пыльной плащ-палатки торчали чьи-то ноги с поблескивающими подковками на каблуках легких хромовых сапог. По неловкой позе, в которой лежал человек, Крутов сразу определил — мертвый.
Нагорный взялся за телефон и переговорил с остальными своими батальонами. Заместителю он передал, что за ними наблюдает Бойченко и нужно не осрамиться. Сообщение о том, что командир полка лично пойдет в атаку, обошло полк, залегший по вспаханному снарядами полю.
Нагорный поднялся на завалинку осмотреться, чтобы определить, где удобней пройти до рощи, которую надлежало взять.
Подходило время атаки. Выскочил из подвала и перебежал в роту адъютант батальона. Подполковник взглянул на часы.
— Что они копаются? — сказал он, имея в виду артиллеристов, но в это время гулко ударили пушки, часто, как кузнецы по наковальне, застучали батальонные минометы. Казалось удивительным, что расчеты справляются с такой частотой выстрелов.
В воздухе звонко заголосили снаряды, летящие издалека, от полка Чернякова. Роща сразу окуталась дымом, вверх взлетали отбитые сучья, комья мерзлой земли. Разрывы тяжелых мин, дружно ложившихся по опушке, вздымали рыжий песок.
— Теперь пора! — сказал подполковник и легко выскочил из укрытия.
По всему полю из окопчиков, воронок поднимались бойцы и офицеры его полка.
— Гвардия, вперед! — кричал он зычным голосом, призывно взмахивая рукой, хотя вой, визг снарядов и гром разрывов заглушали его голос.
Крупная фигура Нагорного хорошо была видна отовсюду. Он шел прямо, смело, несмотря на огонь, бушевавший вокруг, не прячась, не перебегая. Шел, как раньше, еще в первую германскую, на его памяти водил их в атаку ротный командир.
Среди грохота нельзя было разобрать, кто же стреляет больше — свои или противник? Только когда снаряд или мина с внезапно возникающим свистом рвались вблизи, угадывалось: противник отбивается, ставит заградительный огонь.
— Вперед! За мной! — оборачиваясь, призывал Нагорный. Лицо его багровело от напряжения, но, согретое внутренним волнением, приобретало что-то орлиное. Крутов с трудом удерживал себя от желания встать рядом, плечо к плечу с Нагорным, и, если понадобится, сгореть с ним в бушующем огне боя.
Подхватив оставленный кем-то карабин, Крутов бросками кидался от воронки к воронке. Изредка стреляя, он перебегал, падал, словом, двигался по полю боя с оглядкой, разумно, как когда-то сам учил наступать бойцов. Командир полка вел полк в атаку, а он был здесь залетным человеком, никто его здесь не знал, и ему незачем было выставлять себя напоказ. Он любовался Нагорным и в то же время в душе не одобрял его за то, что он сейчас так демонстративно рискует жизнью. Однако, довелись до него, и он сам поступил бы только так, не иначе. Это была крайняя мера, которая могла еще спасти положение в дивизии Квашина.
Вот Нагорный выхватил пистолет и, еще раз призывно взмахнув рукой, бегом устремился вперед. До рощи — считанные полторы сотни метров. Бегут в атаку гвардейцы. Наверное, у них, как и у Крутова, одна мысль: только бы скорее преодолеть это проклятое поле. Сердце колотится, готовое выскочить из груди. Скорей, скорей! Крутов мчится, не разбирая дороги, лишь бы только вперед, и вдруг, зацепившись о что-то, кувырком летит на землю. Тут же с хрястом, одна за другой, разорвались мины. Втянув голову в плечи, он прижался к земле. Кажется, цел. Сейчас перевести дух и одним махом догнать Нагорного. Потирая ушибленное колено, он приподнял голову и не увидел знакомой фигуры.
Дымилась земля, оголенная от снега ударом мин. Возле воронки неподвижно лежали двое — один в зеленоватой бекеше» другой в телогрейке.
Крутов подскочил к ним. Тело адъютанта изрешечено осколками. Нагорный застонал и попытался приподняться, но снова бессильно уронил голову. В рваных дырах бекеши начинала кровяниться вата.
— Вы можете двигаться? — спросил Крутов, припадая к Нагорному вплотную.
— Черт возьми... Боюсь, что нет... Совсем отшибло ноги, — ответил, не открывая глаз, подполковник.
— Ноги целы, в спину ранены, — сказал Крутов. — Метрах в пяти воронка, попытаемся туда.
Он изо всей силы потянул за собой сразу отяжелевшего Нагорного Если бы подполковник не упирался руками, слегка приподнимаясь. Крутову не удалось бы дотянуть его до укрытия.
Налет своей артиллерии кончился. Только сейчас видно, насколько плотная стена разрывов поставлена противником «Ура!» — донеслось издали. Нагорный силился приподняться, посмотреть.
— Гвардия... сынки.. Смотрите же у меня!
Голова бессильно опустилась, добрая улыбка сменилась гримасой боли и неожиданного гнева.
— Черт бы вас побрал! Куда вы меня затащили? Я ничего отсюда не вижу! — ругал он Крутова. — Что вы торчите, как пень? Встаньте, посмотрите, где они?.. В роще?
Крутов встал посмотрел вперед.
— Успокойтесь, товарищ подполковник, они уже в роще!
— Ну, вот... — сказал Нагорный, и силы, перегоревшие в нечеловеческом напряжении нервов, покинули его. Он лежал неподвижный, безучастный, раскинув могучие руки и закрыв сразу ввалившиеся глаза.
В воронку, где укрылись Крутов и Нагорный, спрыгнул незнакомый лейтенант.
— Тяжело ранен? — спросил он у Крутова, указывая на командира полка.
— По-видимому, тяжело! Надо было бы перевязать, да нечем.
— Сейчас, — пообещал лейтенант и метнулся из воронки. Через несколько минут он привел за собой еще двух бойцов.
Уложив Нагорного на плащ-палатку, они вчетвером подхватили его и бегом понесли к подполью, из которого вышли. Те три-четыре сотни метров, что отделяли их от командного пункта, удалось миновать благополучно. Здесь Нагорного усадили и перевязали. Воспользовавшись тем, что каждый занялся своими делами, Крутов подсел к Нагорному:
— Как вы себя чувствуете?
— Вообще скверно, но скажите, чего вы здесь толчетесь?
Крутов пожал плечами:
— А что же, надо было прятаться в блиндаже?
— Странный вы человек, — покачал головой Нагорный. — Хотя... — Не договорив, он с интересом взглянул на Крутова.
— А вот скажите, — обратился Крутов, — неужели не было иного выхода, как только самому идти в атаку? Тут... — Крутов повертел пальцами, подыскивая подходящее слово, чтобы не обидеть человека, — тут я чего-то недопонимаю.
— Для меня — не было! — ответил Нагорный, и брови его сурово надвинулись на глаза, как тогда, когда он шел поднимать полк. — К черту!.. Не время говорить... — Он сделал нетерпеливое движение, хотел повернуться и со стоном закусил губу: — До чего же больно!.. Хоть бы скорее там...
Вскоре пришли санитары. Крутов пошел рядом с покачивающимися носилками. Роща была взята, но противник все еще обстреливал Бондари — вернее, место, где когда-то стояла деревня. Частые разрывы ложились порой близко, но теперь, когда Крутов шел назад, а не вперед, они не производили того впечатления, что раньше, и он лишь невольно ускорял шаги. Наверное, и санитары чувствовали облегчение, покидая поле боя. С красными от натуги лицами они тоже спешили и даже ни разу не остановились перевести дух, пока не донесли Нагорного до санитарной машины.
Крутов попрощался с Нагорным.
— Пойду в свой полк, — сказал он. — Здесь обстановка сегодня больше не изменится. Желаю вам скорейшего выздоровления!
Нагорному было трудно говорить, и он только кивнул головой на прощанье.
С необъяснимой тяжестью возвращался Крутов в полк. Судьба столкнула его с Нагорным всего на полдня, а тот успел завладеть его думами и сердцем, стал ему близок и понятен. Ему было жаль этого прямодушного, немного грубоватого, удивительно честного воина. Сколько еще встретится ему по военной дороге таких, что не уйдут из памяти до конца жизни?
Навстречу, по проторенным дорогам, артиллеристы катили пушки к передовой. Гаубицы были снова сведены побатарейно и, угрожающе уставив жерла в небо, стояли на закрытых огневых позициях среди поля. Некоторые уже вели огонь. Бойцы хлопотали возле орудий, рыли щели, разгружали с машин ящики со снарядами. Связисты разматывали катушки с проводами, ставили шестовку.
Наступление продолжалось, но что-то изменилось, а что — еще было неизвестно, да Крутов и не стремился это узнать. Он чувствовал себя опустошенным, ему все теперь казалось маловажным, и он даже завидовал раненым, которые хотя бы на госпитальной койке увидят покой...
Глава одиннадцатая
Ясный февральский день подходил к концу. От ослепительно сверкавшего снега резало глаза. Потянул ветерок. Своим холодным дыханием он сразу сковал разомлевшие было дороги, заледенил отпотевшие за день кустарники, растянул по небу длинные белесоватые полосы высоких перистых облаков. Словно за дымчатым стеклом опускалось к горизонту бледное солнце, сразу ставшее далеким и холодным. По мере того как оно прижималось к земле, по бокам его все отчетливее обозначались два радужных сгустка. Ветер дул из «гнилого угла».
Гвардейская разведывательная рота отдыхала вблизи наблюдательного пункта командира дивизии, расположившись в небольших блиндажиках и просто в нишах и закоулках окопов.
Днем, когда шел ожесточенный бой, рота в нем не участвовала. Первых пленных привели полковые разведчики и бойцы из стрелковых подразделений. Командир роты с завистью посматривал на «счастливчиков», приводивших пленных. Он несколько раз обращался к начальнику разведки дивизии с просьбой дать задание и его бойцам, но тот не желал и слушать.
— Подожди, всему свое время.
Кожановский весь день простоял в открытом окопе, не выпуская из рук бинокля и телефонной трубки. В общем наступлении войск на Витебск ему достался очень трудный участок. От деревни Горелыши на юг, до самой насыпи железной дороги и дальше, тянулась широкая лощина с редкими кустарниками, и все, что делалось на этом большом снежном поле, до одинокой кирпичной будки на месте станции Заболотинка, было хорошо видно.
Взять станцию днем не удалось. Над кустарниками, где накапливалась пехота, то и дело рваной завесой поднимался дым артиллерийских разрывов. Сильный огонь вражеских пулеметов прижимал людей к земле. Сближаться с противником в таком неудачном месте было почти невозможно.
Может быть, станцией и удалось бы овладеть с ходу, да артиллерия отстала от пехоты в глубоком, оставшемся теперь уже позади овраге. Снова поставить орудия на прямую наводку можно было только ночью.
— Ночь, ночь!.. — Кожановский гневно нахлобучил папаху и приказал вызвать к нему командира разведывательной роты.
— Подготовьте роту к действиям. Ночью пойдете на Заболотинку!
Командир роты хотел о чем-то спросить, но генерал махнул рукой:
— Иди, иди, готовь пока людей! Задачу разъясню потом.
Кожановский решил взять станцию внезапным ночным ударом, силами одной разведывательной роты. Он шел на это, нарушая инструкцию об использовании разведчиков, так как был решительно уверен, что если не овладеет Заболотинкой ночью, то завтра она испортит ему все дело. Кто знает, что тогда получится дальше с наступлением? С такими мыслями, голодный, продрогший и раздраженный неудачами дня, генерал отослал командира разведроты.
Разведчик Григорьев, которому, как и многим другим, не хватило места в блиндаже, укрылся в нише и, тесно прижавшись к своему новому другу Раевскому, спал под одной с ним плащ-палаткой, подложив под голову автомат и вещевой мешок с нехитрым имуществом.
Возможно оттого, что палатка, окутывавшая их головы, не давала доступа свежему воздуху, ему приснился странный сон. Откуда-то, будто из темноты, выплыло светлое пятно. Расширяясь, оно приобрело очертания лица Чернякова и вот уже смотрит на него большими глазами: «Чести своего полка не роняйте...»
Потом какие-то вообще нелепые видения, которые прекратились только тогда, когда кто-то настойчиво стал трясти его за плечо.
— Вставай, — услышал он голос Раевского. — Ужин принесли, а тебя не добудишься. Мычишь только...
Откинув палатку, Григорьев увидел над собой потемневшее небо, услышал шелест ветра, холодные порывы которого долетали даже до дна глубокого окопа. Где-то вдали, чуть слышно, тарахтели пулеметы. Как долго он спал!
Быстро вскочив на ноги, он со стоном опустился на землю.
— Что с тобой? — участливо спросил Раевский.
— Ног не чую!
— Отлежал?
— Ага, совсем как чужие... — Григорьев засмеялся, с трудом двигая непослушными, словно налитыми свинцом, онемевшими ногами. — Будто деревянные! И мурашки...
Зябко поеживаясь, Григорьев прихватил свое оружие, вещевой мешок и по темной траншее пошел к блиндажу, где старшина выдавал ужин.
— На двоих, — протянул котелок Раевский.
— С кем, с новичком? — спросил, вглядываясь, старшина.
— С Григорьевым!
Доедая густой, еще теплый суп-лапшу с мясными консервами, Григорьев спросил:
— Не знаешь, куда пойдем?
— На Заболотинку!
— За «языком», должно быть?
— «Языков» и до нас привели достаточно. Станцию брать! Всей ротой пойдем...
— Здорово!
— Что здорово? Станцией, что ли, интересуешься?
— А разве плохо, что станцию брать? Тем более — ротой... Вместе веселей, чем порознь, группами.
— Чудак! Станцию целый день не могли взять дивизией... Не подступишься к ней!
— Так мы же разведчики, ночью пойдем, втихаря...
— Могут и ночью наклепать!
— Вполне, — согласился Григорьев. Немного погодя он снова возобновил разговор: — А ночка для такого дела расчудесная. Лучше трудно придумать.
— Да уж генерал знает, когда нас лучше в дело посылать! — И Раевский, испытывая своего нового друга, с которым познакомился несколько дней назад и которого еще хорошо не знал, неожиданно спросил: — Не страшно?
— Не знаю... А тебе?
— Ты не знаешь, а мне не положено страшиться!
Тронув гимнастерку, он ощутил, как под рукой к сердцу прижалась твердая корочка партийного билета.
— Я кандидат партии, — как бы невзначай, но с гордостью сказал Раевский. — Еще месяца два, и буду переходить в члены!
— О! — произнес Григорьев, выражая этим и свое уважение к заслугам еще такого молодого товарища, и согласие с тем, что человеку с партийным билетом не должно быть страшно.
— А ты?
— Комсомолец.
— Ну, это — рядом с партией. Сходишь с нами несколько раз, тогда тоже вступишь. У нас — только не трусь! Сам замкомдива рекомендацию даст.
— А командир дивизии рекомендации не дает? Вот было бы да!
— Не знаю, не просили! — ответил Раевский. — Но мне кажется, если совершить подвиг, то и он даст. А так — больно он знает. У него таких, как мы, — тысячи!
Подали сигнал сбора.
Командир взвода Шеркалов, только что окончивший ускоренные армейские курсы младших лейтенантов, ожидал, когда сойдутся все бойцы. Он ничем не отличался от тысяч других молодых людей, таких же круглолицых, курносых, с веснушками и без веснушек, не прошедших суровой жизненной школы, которая накладывает отпечаток на лицо, характер и позволяет судить о качестве человека. Он присматривался ко всем и всему, старался держаться серьезно, степенно, подражая старшему начальству, и был твердо уверен, что найдет свое место в жизни.
Собравшиеся к блиндажу разведчики ждали, что скажет им командир взвода, не торопившийся с разъяснением задачи.
Поддерживая левой рукой блокнот и фонарик, бросавший бледный скуповатый свет, он что-то записывал, прислонясь к косяку блиндажа. Наконец поднял голову и оглядел собравшийся взвод.
— Слушайте боевую задачу! — громко произнес он и снова зачем-то заглянул в блокнот. — Перед нами противник, предположительно подразделение гренадерского полка, занимает оборону на станции Заболотинка...
Приказ он отдавал такой, что за него впору было получить отличную отметку на занятиях по тактике на курсах младших лейтенантов. Не забыл упомянуть и про ориентиры, «которые есть, но временно не видны».
Григорьев толкнул локтем товарища, шепнул:
— Он же, наверное, не воевал еще. Как же поведет нас?
— Ничего, научится, — успокоил его Раевский. — Что нас, за ручку водить надо? Наши сержанты на разведке собаку съели, маху не дадут. А командир роты? О!.. Ты еще его не знаешь!
Приказ занял много времени, и бойцы, какими-то неведомыми путями уже успевшие узнать задачу роты в целом, беспокойно переминались с ноги на ногу, ожидая, когда кончит говорить командир и можно будет сдавать вещевые мешки и документы на хранение да проверить исправность оружия.
Подбежавший связной передал приказ командира роты: «Немедленно выступать!» Шеркалов, недовольный тем, что его перебили, когда он еще не кончил разъяснение задачи, все же скомандовал взводу: «Марш!»
— А мешки? — посыпались вопросы. — Документы?
— Приказано сегодня все держать при себе, — начал объяснять он, — так как...
Но тут раздались короткие очереди: «тр-трр» — кто-то опробовал свой автомат. Вслед за ним другой, третий... Разведчики так всегда выходили на задания.
«Порядка нет, — подумал Шеркалов, приученный на курсах видеть согласованные движения людских масс, скованных дисциплиной строя. — Ничего, я их приучу!» Впервые идя на ответственное задание, он недовольно думал: «Как может взвод с такой строевой дисциплиной успешно справиться с боевой задачей?» Однако немного погодя он понял, что никакого беспорядка в роте нет. Бойцы, как гуси за вожаком, тянулись за своими сержантами. У него отлегло от сердца. Откуда ему было знать, что у разведчиков уже вступили в силу суровые, неумолимые законы, продиктованные их нелегкой профессией.
Шагая рядом с Григорьевым и считая его хоть и не новичком, но непроверенным парнем, Раевский решил про себя взять его под опеку.
— От меня не отставай, — наказывал он ему. — Все время следи, чтобы справа свои были. Как поползем, так ногами об землю не бухай, живот подбирай, чтобы не особенно шуршало, а то снег сегодня подмерз, звонкий стал...
— Знаю, — ответил Григорьев, — ползал не раз!
— Знать-то вы все знаете, а как под носом у фрица окажешься, так все и перезабудешь!
— Не беспокойся, бывал!
— А самое главное, — не унимался Раевский, — как только командир сигнал подаст, — ворон не лови, а вскакивай и скорее в окоп! Фашист все по тем целит, кто еще по верху бежит. Того, кто в окоп вскочить успеет, он не видит...
Вместе с шорохами ветра из темноты доносились неясные разговоры, стук, изредка лязгнет где-нибудь железо. Подразделения, наступавшие днем, теперь под покровом ночи получали обед, боеприпасы; на разведчиков никто не обратил внимания. Идут и идут, у каждого свои дела!..
Когда командиры остановились уточнить положение противника и разведчики полегли на снег, к ним подошли оказавшиеся поблизости бойцы, чтобы закурить чужого табачку, поскольку свой не был еще получен.
— Что, прижучил вас немец здорово? — отсыпая махорки на добрую завертку, спрашивали бойцов разведчики.
— Ничего, — ничуть не обидевшись, отвечали те, — завтра опять долбанем его порядком. «Колеса» поотстали немного, вот и заминка, а так бы...
Подали команду «вперед». Все свое, родное, близкое осталось позади. Даже земля, по которой теперь шли разведчики, была уже как бы не совсем своя, называлась «нейтральной полосой» и могла таить на каждом шагу множество опасностей.
Поползли.
Тихонько, по-охотничьи подбиралась к Заболотинке гвардейская разведрота. Шорохи одежды скрадывались шелестом ветра. Разведчики в своих замызганных, замаранных глиной и копотью халатах сливались с потемневшим снегом.
«Как просто, — думал Григорьев, — живот подбирай, ногами не бухай, знай себе ползи вперед... А тут одежда стягивает тело, руки устали от подтягивания, шея занемела, и дыхание рвется с каким-то хрипом... А еще надо всматриваться и вслушиваться. — Он покосился на Раевского. — Ползет, хоть бы что! Неужели я хуже его? Ага, прилег! «Настоящий разведчик не должен снег хватать, а то потом хрипеть и чихать будет». Меня учил, а сам?»
У него даже уверенности прибавилось, когда увидел, что хотя он и новичок в роте, но не отстает от опытных разведчиков.
«Брать Заболотинку! Значит, назад не пойдем, недаром и мешки нам оставили. Хорошо! Хорошо бы сразу взять ее, чтобы о роте заговорили в дивизии и сам «хозяин» пришел поздравить нас с подвигом... Воображение рисовало замечательную картину: генерал выдаст ордена самым храбрым. Среди них будет Григорьев.
— Откуда ты? — поднимет он на Григорьева глаза. — Что-то я тебя раньше не видел.
— Я пришел к вам из стрелкового полка Чернякова, — ответит Григорьев.
— Как же, как же, — скажет генерал, — очень хорошо знаю полковника Чернякова. Уважаемый командир, и люди у него стоящие.
А когда орден будет зажат в левой руке, Григорьев перед всеми людьми роты скажет что-нибудь простое и ясное о своей любви к Родине.
Перед ним встали воспоминания детства, родной дом, скамеечка у калитки с нависшими через забор ветками березы, где всегда отдыхала мать после работы, играя с ним, еще совсем маленьким мальчиком. Потом, когда он подрос, понятия о Родине стали шире, сюда присоединились школа, и пионерский отряд, и увлекательные рассказы о вождях революции и легендарных полководцах гражданской войны.
Перелеты Чкалова, бои на далеких сопках у Хасана постепенно оформили в нем представление о границах громадного государства, населенного такими же, как все близкие Григорьеву, простыми людьми. Потом окончание десятилетки и война...
Он хорошо помнит, как тогда впервые почувствовал нечто новое. Это было внезапно и сильно вспыхнувшее понимание своей ответственности за судьбу Родины, за целостность государства, в котором он живет, за ту власть и порядки, без которых немыслимо его существование, неосуществимы его уже четко оформившиеся взгляды на будущую жизнь. Он понял: любить Родину — значит защищать ее от врагов. Так пришла его настоящая любовь к Отчизне.
С одним только не мирилось его сознание — с возможностью умереть. Видя смерть многих, он не мог представить себя несуществующим. Это шло вразрез с его понятиями о жизни, о будущем. Он верил, что останется жив, а когда все же являлись мысли о том, что его могут убить, старался отогнать их.
Внезапно раздавшийся выстрел заставил Григорьева вздрогнуть, оборвал его думы.
Следом за выстрелом взвилась ракета, и при ее ослепительном свете стали видны застывшие на мгновенье разведчики, почерневший бруствер неприятельского окопа, такой близкий, что Григорьев даже удивился, как это им удалось так незаметно подползти.
Ракета, помигав в воздухе, описала большую дугу и упала далеко позади разведчиков. Ударившись о заснеженную твердую землю, она вспыхнула в последний раз ярким пламенем, и ночь взмахнула своим непроглядно-черным крылом, скрыв под ним и людей, и снежное поле, и близкий бруствер окопа.
«Сейчас начнется!» — успел подумать Григорьев, напрягаясь перед командой, которой не могло не быть. Считанные секунды, отделявшие момент падения осветительной ракеты от вспышки сигнальной — красной, показались вечностью. Если первая заставила разведчиков замереть, вторая звала вперед, туда, где уже всполошились гитлеровцы.
Мгновенно вскочив на ноги, Григорьев хотел закричать: «За Родину!», но подумал, что в роте, где он новичок, может быть, не принято кричать в ночных атаках, и смолчал. «Лучше быстрей добегу до окопа», — решил он, отыскивая взглядом Раевского, поднявшегося справа.
Захлопали беспорядочные выстрелы, грохнула и рассыпалась искрами чья-то граната, что-то кричали в окопах гитлеровцы; перекрывая их крики, раздались русские команды и стрекот автоматов. Звуки смешались, стали неотделимы один от другого, слились в нарастающий шум ночного боя.
Чтобы вскочить в траншею, надо было сделать еще сколько прыжков. В этот момент над бруствером показался высокий гитлеровец в каске и что-то поставил на землю. Раздался металлический щелчок.
«Пулемет», — весь похолодев, подумал Григорьев, продолжая по инерции нестись навстречу выросшей перед ним опасности.
Выстрелы пулемета были оглушающе резки и сильны, будто стреляли возле самого уха, и самое главное, не в него, Григорьева, а вдоль окопа. «Эх, гад, он же скосит всю роту», — ужаснулся он, поняв намерение гитлеровца кинжальным огнем отбить атаку.
На мгновение ему представилось, что он видит и командира роты, и Шеркалова, и всех славных ребят, с которыми успел уже подружиться, убитыми перед этой траншеей. Он не мог допустить этого! Бросать гранату было поздно, она могла поразить своих. Григорьев хотел очередью срезать пулеметчика, но в этот момент что-то сильно и хлестко ударило его по автомату. Нажав спусковой крючок, он не почувствовал в руках привычной дрожи от выстрелов, и тогда решение пришло само собой.
Размахнувшись изо всей силы, славно городошной битой, он запустил автоматом в пулемет и услышал, как лязгнуло железо о железо, и выстрелов не стало. В тот же миг он прыгнул на плечи гитлеровца, сбил его с ног и уже нащупал пальцами колючее горло, когда сильная жгучая боль пронизала все его тело. А кругом раздавались выстрелы, шум борьбы и чьи-то крики: «Сюда, за мной!» Григорьеву почудился голос Раевского. Хотелось сказать: «Видишь, я не отстал и не хуже других, но почему ты медлишь и не поможешь мне встать?» И ему даже показалось, что он так и сказал, а на самом деле еле слышно пошевелил губами
...Бой затих так же внезапно, как начался. Станция Заболотинка была взята. На смену разведывательной роте в окопы входили стрелковые подразделения. Наступление продолжалось. Разведчики, сделав свое дело, уходили обратно на командный пункт генерала Кожановского. Позади всех, спотыкаясь, шел Раевский. Он шел один, некого было наставлять, не за кем было смотреть «в оба». Слезы, горячие и соленые, застилали ему глаза, скатывались по щекам, мешали видеть дорогу.
Раевский шел сзади, чтобы никто, кроме темной ночи, не видел его слабости. Пусть будут звезды свидетелями: за каждую слезинку враг еще расплатится жизнью...
— Подтянись! — донеслась до него команда.
Раевский встряхнул на плечах мешок, отер рукавом халата глаза и ускорил шаги.
Командир роты доложил про обстоятельства боя, и Кожановский в волнении заходил по блиндажу... Бойцы роты были обязаны жизнью малоизвестному пареньку, неделю назад появившемуся в дивизии. Да полно, только ли роты? А если бы Заболотинку пришлось брать днем, снова?
Один за другим входили в блиндаж те, кто знал Григорьева. Но что они могли сказать? Да, был скромный боец... Пришел из стрелкового полка... Каков в бою, до этого никто не знал.... Родственники? Говорил, что есть мать... Только Раевский знал товарища чуть больше, но и он мало что мог прибавить к этому...
Кожановский прошел к столу, развернул документы Григорьева. Комсомольский билет получен еще в «гражданке». Копеечные взносы — человек еще не работал на производстве. Между корочкой билета и дерматиновой оберткой лежала какая-то вчетверо сложенная бумажка. Он развернул ее, поднес к огню, чтобы лучше разобрать слова, на сгибах затертые от времени.
Старая листовка. Обращение Военного совета армии к бойцам, сержантам и офицерам: «Товарищи! Знайте, что за враг перед нами! Пусть письмо этой безвестной белорусской девушки зажжет в вас великий огонь ненависти к подлым врагам!»
Кожановский прочел письмо-жалобу девушки, попавшей в рабство в неметчину, и ему показалось, что он обнаружил еще один источник тех сил, что вели бойца на подвиг.
Утром в армию был направлен пакет с документами Григорьева и ходатайством о посмертном присвоении ему звания Героя Советского Союза как бойцу, повторившему подвиг Матросова.
Час был поздний.
Когда захлопнулась дверь за последним из посетителей, начальник штаба армии генерал Семенов достал из ящика бумаги, придвинул к себе настольную лампу и стал читать
«...В результате бесед с генералами и офицерами, главным образом с теми, кто принимал участие в проведении артиллерийского наступления в первый день прорыва и кто имеет за плечами большой опыт войны, мы берем на себя смелость суммировать данные, касающиеся организации огневых групп на поле боя...
...Первый день боя показал, что успех в начале наступления явился результатом значительного превышения потребного количества орудий прямой наводки на одну цель...
Семенов легким взмахом платка отер лысеющую голову, что всегда было признаком возросшего внимания к читаемому документу, и подивился резкости и прямолинейности изложения.
«Полное распыление артиллерии поорудийно среди наступающих стрелковых цепей лишило командиров полков и дивизий возможности влиять на ход боя, а сама артиллерия потеряла возможность маневра в бою траекториями, а не колесами...
...Задержка орудий при переправе через овраг — случайность, но она всегда сопутствует тем действиям, которые спланированы без учета конкретного театра боевых действий, без должно организованной глубокой разведки».
Это уже было упреком ему, так как он возглавляет работу штаба, и Семенов поморщился, подумал немного, а затем жирно подчеркнул карандашом весь абзац.
Докладная записка была написана мелким почерком, была очень длинная, так как излагала многочисленные факты, которыми авторы записки подкрепляли свои выводы... А выводы были беспощадно убедительными...
Семенов задумался, глядя в темное пространство поверх абажура настольной лампы. Анализируя последние распоряжения Березина, он вдруг почувствовал, что в самом деле в его действиях не было на этот раз присущей ему напористой последовательности. Видимо, и командующий армией остался недоволен действиями групп, так как на второй день наступления приказал снова поставить всю артиллерию на прямую наводку, но уже побатарейно, без деления на огневые группы, а просто массируя ее на главном направлении. Налицо был скачок от полной децентрализации управления артиллерией в первый день до жестокой централизации в последующие дни, когда руководство артиллерией взял в руки сам командующий, направляя ее работу по месту, времени, цели.
Семенов положил голову на руку так, что рука, как козырьком, закрыла от света лицо. Было над чем глубоко призадуматься! Снова миновал целый этап в боевой жизни армии, а Витебск не взят. Нельзя сказать, что успеха не было. Операция выиграна, хотя не в тех масштабах, какие планировались.
Взгляд его упал на карту, всю испещренную отметками. Как ни говори, а это уже третья карта за небольшой промежуток времени! И третья уже износилась, протерлась от поправок. Правда, там, где войска наступают в быстром темпе, карты меняются чаще, оставаясь в то же время свежими, неизношенными. А эта вся затерта, так как бои шли за каждую высоту, за каждую деревню, а что ни бой, то перегруппировка сил.
Пройдено небольшое расстояние. Но когда на каждый километр пути требуются напряженная работа мысли, воля не одного человека, а сотен и даже тысяч людей, как все это расширяет линейные меры расстояния.
Вот перед ним докладная записка. Несколько небрежно сколотых листков бумаги. Но разве это фантазия двух офицеров, не имеющих к тому же завершенного военного образования? Нет! Такие листки — сокровище, величайшая ценность Советских Вооруженных Сил! В них собран добытый кровью опыт массы людей. Придет время, и из него будет извлечено все полезное, чтобы научить войска победам малой кровью.
Да, следует признать, что организация огневых групп в этом бою не оправдала возлагаемых на них надежд. Следовательно, Березин что-то сделал не так, как требовала обстановка. Не все попытки сделать лучше сразу дают ожидаемый результат. Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении достичь победы над врагом не достиг полностью своих целей, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии. Будь он на месте Березина, он также искал бы новых приемов ведения боя, потому что тактика противника, несмотря на его пристрастие к шаблонам, меняется.
Военное искусство, как никакое другое, не терпит застывших форм, догматизма, а каждый раз, основываясь на достигнутом, требует свежей мысли, новаторства, смелого шага. Неправ тот, кто думает, что каждое движение можно предусмотреть буквой устава, инструкцией, и надеется, что стоит только знать их, держаться за них — и действия твои непогрешимы!
Может быть, Березин и ошибся в своих расчетах. Но, видя, что первый день не принес ожидаемых результатов, он стал искать другое, более правильное решение, и следующий день боя дал продвижение войскам. Сейчас уже целая дивизия находится на западном берегу Лучесы, южнее Витебска.
Форсирование Лучесы не просто преодоление по льду небольшой и неширокой речки. Это — скачок на рубеж, который противник хотел сделать непреодолимым препятствием. Кто знает, может быть, именно с этого небольшого плацдарма, где отбито столько настойчивых вражеских контратак, и начнется будущее наступление?
Дверь легонько скрипнула.
Семенов взглянул на вошедшего.
— К вам член Военного совета, — быстро доложил адъютант.
— Что же ты? Проси скорей! — сказал Семенов и встал навстречу входившему Бойченко.
— Что сообщают в последних донесениях? — спросил Бойченко, усаживаясь на предупредительно придвинутый стул.
— Ночь обещает быть спокойной, — сказал Семенов. — Противник, видимо, смирился с наличием нашего плацдарма.
— Бдительность ослаблять не следует!
— Разведка в этом районе действует активно, неожиданностей не может быть.
— Вы, кажется, посылали в войска своих офицеров-опытников? — спросил Бойченко, увидев на столе объемистую докладную записку. — Что они вам доложили?
— Пока лишь сырой материал... Пожалуйста, — протянул ему записку Семенов.
— Вы с этим согласны?
— Кое в чем приходится...
— Любопытно, — сказал Бойченко, бегло просматривая написанное. — Что же вы намерены делать с этим документом?
Семенов замялся, отыскивая наиболее осторожную формулировку.
— Говорить сейчас об исканиях правильного пути в сложившейся здесь, под Витебском, обстановке — только нанести вред армии. У нас есть еще люди, не умеющие отличить частного случая от общей закономерности истории, и они, неправильно истолковав критику, могут потерять уважение к авторитету старших начальников.
— Вы имеете в виду офицерский состав? — спросил Бойченко, отлично понимая, что речь в докладной записке идет о немаловажной ошибке командования.
— Да!
— Но таких очень мало! Наша обязанность научить офицеров правильно оценивать обстановку. И следовательно, такой документ им очень необходим и довести его надо скорее.
— Спешить с выводами не следует. Время покажет, что дала войскам эта операция.
— Офицеры горячо реагируют на результат боев, и будет этот документ или нет, толкований не избежать. Тем большая необходимость для нас дать им правильное направление, чтобы не было кривотолков. Правды не следует бояться. Она всегда учит людей.
— Но как на это посмотрит командующий? Ведь это все же его идея, он в ней был кровно заинтересован. Его престиж...
— Командующий — большой души человек, — спокойно перебил Бойченко. — Сомневаться, думать, что он некритически относится к проведенной операции, — значит, просто не уважать его.
— Все-таки неудобно...
— Разрешите мне подробней ознакомиться с этой запиской. Я думаю, что смелость, которой вам в данном случае недостает, найдется у Военного совета в целом. К тому же это наши общие ошибки. Войне ще не кинец, — произнес Бойченко.
Он не успел выйти, как адъютант снова приоткрыл дверь:
— Командующий!
В комнате появился Березин.
— Я забыл вам сказать, товарищ Семенов, напишите приказание, чтобы все командиры частей и соединений готовились к теоретической конференции по тактическим вопросам. Тема: «Наступление на сильно укрепленную оборону противника...»
Семенов записал и спросил:
— Срок?
— Чем быстрее вы ее подготовите, тем лучше. У нас накопилось много жизненно важных для нас вопросов, которые нельзя дальше решать в одиночку. Пусть люди выскажутся, поделятся опытом, потому что я тоже могу ошибиться. У вас есть что-нибудь ко мне?
— Рапорт начальника разведотдела, — сказал Семенов, — о неправильном использовании разведчиков.
— Решение подготовлено? — спросил Березин, бегло просматривая рапорт.
— Так точно: предупредить Кожановского о неполном служебном соответствии, — сказал Семенов и подал Березину другой документ — проект приказа.
Березин крупно, с нажимом вывел свою подпись и передал приказ Бойченко.
— Людей надо учить, иначе уроки забываются.
— Ну и нам, разумеется, тоже надо учиться... Самим! — И Бойченко тоже подписал приказ.
Березин остановился над картой, лежавшей на столе у Семенова. Линия фронта огибала Витебск. Почти на две трети окружность была уже проложена вокруг города, но Витебский укрепленный район еще оставался как краеугольный бастион Медвежьего вала. Гитлеровцы еще беспрепятственно питались по двум артериям — шоссейным дорогам, убегавшим в глубь Белоруссии на запад и юго-запад от Витебска.
Бойченко неслышно встал рядом с Березиным, побарабанил пальцами по столу, со вздохом сказав:
— Витебск, Витебск, скильки ще життя визьмешь ты за себе?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Весна под Витебском пришла ранняя, в неделю согнала снега с холмов и равнин. По оврагам бурлила и клокотала вода, размывала глинистые берега, отваливала землю пластами и, разжевав, гнала ее в почерневшую, разбухшую, но еще покрытую льдом Западную Двину.
Ночами легкий морозец прихватывал землю, но сил намертво сковать ручьи уже не хватало. Под напором вешних вод глухо ворочалась река, потом враз приподняла, оторвала льды от берегов и, ломая, сталкивая на поворотах, нагромождая друг на друга, помчала их к морю.
Как-то сразу, незаметно для глаза, посвежела зелень хвойных лесов, разомлели от тепла развесистые дубы и липы, опустила к земле тонкие ветви-руки с налитыми темными сережками береза. Спорили из-за гнезд грачи, и веселый гомон стоял в воздухе.
Смело, широко шагала по земле весна. Радовала каждого человека и огорчала. Огорчала заботами, враз навалившимися на бойцов. Оползали и заплывали грязью окопы. Это еще куда ни шло — без работы все равно не сидеть в обороне, но вот беда — негде отдохнуть бойцу, потому что и в блиндаже «плачут» стены, течет с потолка и такой сыростью веет — век бы не заходил в него.
На всем фронте перед Витебском установилось затишье. Много забот в это время бойцу-пехотинцу: то воду отлить, то жердочки в траншее настлать, то подкрепить стенку окопа там, где начинает сильно сползать бруствер. Тут не до стрельбы по отдельному гитлеровцу, который вдруг вылезет из окопа и пойдет куда-нибудь в тыл.
— Фриц? Провались он!..
Артиллеристы и те старались в драку не ввязываться. Из-за распутицы снаряды приходилось подтаскивать к фронту чуть ли не на руках. Изредка громыхнет где-нибудь орудие — и опять тишина. Хорошая весенняя тишина, когда радуется человек каждой набухающей почке, а вместе с радостью заползает в грудь какая-то непонятная тоска, и не знаешь сам, как от нее избавиться.
Крутов, не торопясь, шагал полем на передовую. От дороги катился несмолкаемый гул тягачей и машин.
Увязая по самые колеса, волнами разгоняя грязь, тяжело колыхались дальнобойные длинноствольные пушки, короткорылые гаубицы, противотанковые орудия разных калибров, а за ними машины с расчетами и боеприпасами, и все это шло к большаку — от соседней армии.
«Какая все-таки силища!» — невольно залюбовался Крутов. Части были незнакомые, и он, постояв минуту, отправился в батальон. Оказалось, не он один любовался. Из кустарника вышел сержант Бабенко с охапкой хвороста на плечах и остановился, поджидая Крутова.
— Не к нам ли, товарищ капитан?
— А куда же еще? Надо посмотреть, не утонули ли вы там.
— К тому идет! Комбат приказал все траншеи хворостом оплести, чтобы не заваливались. Пусть, говорит, хоть вплавь по окопу, а чтобы было где защищаться. Вода побыла и уйдет, а траншеи должны оставаться целехоньки...
— Почему сам хворост носишь? Ты же теперь начальство... Разве послать некого? — поинтересовался Крутов.
— По правде — так и некого!
Бабенко подбросил на плече вязанку и пошел рядом.
— На месте стоишь, так и не замечаешь, что за сила вокруг тебя, а как тронутся, так просто диву даешься. С неделю день и ночь шум на дороге, все идут, а конца не видно.
— Перегруппировка, наверное... — пожал плечами Крутов.
— Мы тоже так думаем, не иначе как где-нибудь немца шибануть собрались! У нас некоторые даже выходили на дорогу, интересовались, куда идут, зачем?.. Ну, известно, ничего определенного не скажут, но слух идет... — сержант понизил голос: — Только вы уж не смейтесь, потому что это вроде сказки, а в ней кое для кого быль... Говорят, что теперь и мы должны наперед выходить. Сами подумайте, на юге к границе вышли, за Ковель дерутся, на севере против нашего тоже вперед продвинулись. Один наш фронт никак ни с места. Что же, мы, выходит, хуже всех? Сколько раз начинали наступать с тех пор, как под Витебск пришли...
— С осени пять раз...
— Вот видите! А Витебск и Орша как были, так и остались под немцем. Что-то тут неладно! Посмотрел наш Главнокомандующий, посмотрел, да и послал своих маршалов. Поезжайте, мол, разузнайте, что да почему. Сели они на самолет и сюда, на наш Западный фронт, как снег на голову, и сразу к командующему: «А ну-ка, отчитайся о своих делах, расскажи, как наступал, да почему до сих пор врага не осилил?» Командующий отвечает, что, дескать, наступали несколько раз и фронт прорывали, а не можем продвинуться как следует по причине превосходства сил, которые здесь против нас Гитлер держит. Вот, мол, посмотрите наши карты, планы, поинтересуйтесь сами, да целую вязанку бумаг-то разных бух на стол...
Ну, у маршалов тоже глаз наметанный, сразу видят, где и что. Посмотрели они две-три для интересу и отложили в сторону.
«Не станем, — говорят, — время зря тратить, в бумагах рыться. Нас тоже дела ждут, и рассусоливать некогда. Только должны мы сказать, что людей тебе давали, танки давали, орудия и все прочее тоже не меньше, чем другим, а надежду ты не оправдал. Задачи войскам для начала ставишь правильно, видно, что военную науку знаешь, да не все еще постиг. Русского замаху в тебе не хватает! Ты вроде не доверяешь нашему солдату, не понимаешь, чем он дышит... За это, — говорят, — мы тебя извиняем: этому ни в одной академии не учат, нужно, чтобы это тебе папа с мамой вот сюда вложили!» — сержант похлопал себя рукой по груди.
— Здорово, — рассмеялся Крутов. — Ну и что ж дальше?
— А дальше? Сели они на самолет да в тот же день обратно улетели. Только командовать фронтом тому генералу больше не пришлось, послали его в тыл войска обучать, а на его место другого человека поставили, способного. Ходят теперь слухи, что, как только Черняховский на своем новом месте оглядится, должны мы фашиста здорово трепануть, так, чтобы из него пух и перья посыпались.
Крутов с любопытством взглянул на Бабенко. Сержант как сержант: шинелька на нем за зиму замызгалась, шапка с подпалиной, сам давненько не брит, но лицо круглое, добродушное.
— Ты, наверное, первый сказочник по деревне был?
— Куда там первый! — рассмеялся Бабенко. — Я и в деревне-то не жил. Так, за что купил, за то и продаю, разве заусеницы немного посбивал.
— Ну, как рота, собирается?
— Да как вам сказать, — пожал плечами Бабенко. — Здорово нас тогда распотрошили, так что и собирать почти некого. Конечно, командир — лейтенант Бесхлебный — вернулся, Мазур, еще два-три человека...
— О Кудре не слыхать?
— Нет, как увезли тогда в госпиталь, так ни слуху ни духу...
Комбат Еремеев находился в своем блиндаже. На Крутова с порога пахнуло сыростью.
— Как вы тут сидите? Хоть бы дверь открывали, проветривали!
Еремеев усмехнулся:
— У меня еще благодать, на стол не течет!
— Конечно, плащ-палатку подвесил, так не течет, а только каплет.
— С бумагами, брат, беда. Нигде приткнуться не могу, хоть на коленках канцелярию заводи, а вам подавай разные сводки, и никаких гвоздей... Да, знаешь, Кудря-то, оказывается, жив!
— Что ты говоришь? А мы только что про него вспоминали!
Еремеев достал из сумки письмо-треугольничек.
— Открутился от смерти. Старый-старый, а цепкий, В Омске. Поклонов всем кучу передает, говорит, жив буду, в лепешку разобьюсь, а вернусь в батальон...
— Еще бы! Тут у него сын лежит, крепкая зацепка.
— Вот за него он и хлопочет: как да где схоронен, да отмечена ли могилка? Надо будет письмо Бесхлебному передать, пусть из роты тоже напишут. А ты куда?
— Пойду по твоему «хозяйству» пройдусь.
— Иди без меня, — сказал Еремеев. — Только переобулся, не хочу второй раз ноги мочить. Что не так, скажешь...
Зазуммерил телефон, Еремеев, не торопясь, снял трубку:
— Слушаю!.. Крутов, тебя вызывают!
— Бегом к Чернякову! — коротко, без объяснений, передал начальник штаба.
Никогда еще с такой поспешностью не вызывали Крутова. Значит, что-то серьезное. Не мешкая, покинул он блиндаж и побежал обратно к штабу полка.
Перед блиндажами, в кустах, стояло несколько легковых машин. Крутов стремительно влетел к командиру полка и, не разобравшись в лицах со свету, начал докладывать:
— Товарищ полковник... — Только тут заметил у сидящих золотые погоны с крупными звездами, осекся и к ним: — Разрешите обратиться к полковнику?
Черняков сам встал ему навстречу:
— Поведешь генералов по подразделениям!
Никогда не видели окопы под Витебском столько начальства. Крутов повел двух генералов, Малышко — полковников, в тылы направились интенданты, на батареи — артиллеристы.
Генералы приказали, минуя комбата, сразу вести их в роты. Не поморщившись, следом за Крутовым, они шагнули в окопную грязь. Захлюпало под ногами, забулькало. Быстро измазались о глинистые бока окопов, но интересовались всем:
— Почему грязи много?
— Почему жердей не настлали в окопах?
— Почему пост так далеко один от другого?
Что ответишь на эти вопросы? Нет людей, не хватает рук! Бойцы с удивлением смотрели на генералов: какая нужда загнала их в окопы в такую пору? Однако не терялись, четко докладывали:
— Боец такой-то роты!..
Выскочил из блиндажика командир взвода, отрапортовал.
— Оборону держишь? — улыбался здоровый, краснощекий генерал, глядя на вытянувшегося лейтенанта, серого, затертого глиной.
— Держу! — твердо ответил лейтенант.
— Какой фронт взвода?
— Четыреста пятьдесят метров!
— Молодец! Сколько постов?
— Один. Ночью — три.
— Показывай, где живете.
Молча прошел лейтенант к блиндажу, отворил дверь:
— Прошу!
Согнувшись, протиснулись генералы в блиндаж, присели на земляные нары, застланные хвойными ветками, огляделись.
— Давай сюда людей, показывай!
— Двое на посту стоят, троих отправил за хворостом, один ушел за обедом. Больше нет никого, — перечислил лейтенант.
— Ты что, смеешься? — поднял брови генерал. — Какая это оборона без людей?
— Сколько есть, — пожал плечами лейтенант. — Все в расходе, на посту. Если прикажете собрать — соберу!
— Тут, видно, оборона на честном слове держится, — с усмешкой заметил другой генерал, уже седой. — Пожелай немцы, так и в плен заберут всех, кто остался.
Словно оправдываясь, лейтенант стал перечислять:
— Снайпера, санитара, химинструктора на переподготовку взяли? Взяли! На сборы агитаторов трех человек отпустил? Отпустил. Вот и взвод. С остальными в окопах сижу.
— Правильно, — подтвердил Крутов, — были такие распоряжения из дивизии — отправить на сборы!
Генерал продолжал расспрашивать:
— А если противник вздумает напасть?
— Не нападет. Смотрят за ним хорошо, сигналы есть, сразу огонь можно вызвать.
— А ну, пойдем, проверим!
Когда вышли из блиндажа, генерал указал на кустарники в нейтральной полосе:
— Оттуда выскочила вражеская разведка, обороняйся!
Командир взвода не раздумывал: красная ракета, описав большую дугу, ударилась о землю перед кустами. Сразу же деловито застучал станковый пулемет, а потом издали донеслись хлопки минометных выстрелов, и перед самой траншеей взбили землю несколько разрывов. Лейтенант поднял к плечу автомат:
— Мне-то огонь вести, или так поверите?
— Не надо, — махнул рукой генерал, — верим! Давай отбой тревоге!
До вечера ходили генералы по передовой. Они проявляли интерес ко всему, пробовали суп, заставили бойцов разуваться и показывать портянки, осматривали оружие, а двоим даже приказали раздеться и снять рубашки на предмет известной формы двадцать, о которой ходило по армии множество шуток.
Так же внезапно, как и приехало, начальство покинуло передовую.
Гудел, как разворошенный улей, полк. Перешептывались бойцы, посмеивались над теми, кто почему-либо растерялся, сробел перед генералами; вели меж собой разговор и офицеры, и все сходились на одном: что-то будет!
В штабе армии — атмосфера некоторого беспокойства. Два дня живет у Березина генерал-полковник Черняховский — новый командующий фронтом. В это время большая группа генералов и старших офицеров — очень ответственная комиссия — обследует состояние обороны в войсках. К концу третьего дня было назначено расширенное заседание Военного совета фронта.
В одном из самых просторных блиндажей стали собираться подъезжавшие командиры соединений и бригад.
Прошли и сели за стол, накрытый красным сатином, Березин и Бойченко. Через несколько минут вошел Черняховский.
— Прошу садиться, — тихо сказал командующий, окидывая взором десятки лиц, напряженных, выжидающих. — Расширенное заседание Военного совета фронта считаю открытым!
Первыми докладывали генералы из штаба фронта, проверявшие состояние войск.
Березин, слушая результаты обследования, непроизвольно вычерчивал карандашом виньетку, Наращивал вокруг нее узор за узором до тех пор, пока не образовалось темное пятно. С досадой отодвинул от себя листок и стал вслушиваться. Разве он сам не знает, что делается сейчас в армии? Его больше всего тревожило, как посмотрит на все происходящее под Витебском новый командующий — Черняховский? Будет ли возможность командовать армией с прежней полной уверенностью, или начнут опекать, подсказывать, вмешиваться кстати и некстати?
Взятие Витебска для Березина стало в какой-то мере вопросом чести. Командующий созданным Третьим Белорусским фронтом молод, хотя и носит погоны генерал-полковника. Он гораздо моложе, чем многие из подчиненных Березину генералов — командиров дивизий. Пока что он официально сух и сдержан, но как он дальше поведет себя?
День назад Березин открыто высказал ему свои взгляды на положение под Витебском, изложил свой план на будущее, хотел узнать мнение Черняховского, но тот прищурил темно-карие глаза, поправил волосы, густыми прядями свисавшие над упрямо сведенными бровями, и произнес:
— Рано еще говорить об этом. Другие задачи пока перед нами. Ставка ждет от нас прочной, надежной обороны!
Березин понял: время для такого разговора еще не пришло, и сейчас беспокоился. Слишком близок стал ему Витебск, он не мог равнодушно думать о том, кто будет брать город — он или другой. Речь шла не просто о том, какой армией командовать, — речь шла о доверии...
Березин вновь вслушался:
— У генерала Дыбачевского совершенно ненормальное положение с обороной. Один командир взвода держит фронт в полкилометра, а людей своих разослал за обедом, за хворостом, на различные сборы...
— У генерала Квашина на ответственные участки обороны пищу бойцам доставляют раз в день и то остывшую, потерявшую вкус...
Березин недовольно глянул на Дыбачевского, Квашина, подумал и стал делать записи в блокноте.
А Черняховский, выслушав поверяющих, вышел вперед и начал задавать вопросы:
— Какая норма раскладки продуктов у вас, товарищ Квашин? Меню на сегодня... Что, не интересовались?
— Как вы мыслите себе организацию системы заградительного огня в обороне, товарищ Дыбачевский?
— Какое количество обуви требует срочного ремонта, сколько нужно новой, товарищ начальник тыла?
— Доложите, товарищ начальник инженерной службы, как обеспечены ваши минные поля огневым прикрытием на важнейших направлениях?
Несколько своеобразный способ знакомства Черняховского с командирами дивизий и армейскими начальниками многих застал врасплох. Один за другим поднимались генералы и полковники и, не сумев твердо ответить на заданные вопросы, садились под ироническими взглядами окружающих... Кто мог подумать, что командующий фронтом станет спрашивать о мелочах? Каждый из них привез пачку бумаг и карт с самыми обстоятельными докладами по всем вопросам состояния обороны, а тут вдруг — меню на сегодня?!
Разве думал Квашин, что его спросят, сколько крупы положено бойцу и каким количеством овощей она может быть заменена? Все это шло через интенданта, а он занимался более сложными и ответственными, на его, взгляд, делами. Недоуменно пожав плечами, постоял и сел с покрасневшим лицом генерал — начальник тыла, продолжая прижимать пухлую папку с тысячью справок самого различного характера: сколько на каких складах бензина, лигроина, муки, соли, махорки, патронов, мин, снарядов.
А сколько рванья скопилось на складах? Так кому это будет интересно...
Генералам казалось, что эти вопросы случайно выпали из поля их зрения. Но совершенно иного мнения придерживался на этот счет Березин. Он сразу понял, что Черняховский умело нащупал слабые места командиров дивизий и начальников служб, и указал им на них. Знать любое дело в общих чертах нетрудно. Общие истины преподносятся в школах, академиях в готовом виде. Детали познаются и осваиваются кропотливым трудом, практикой, ежедневными заботами.
Не случайно плохо питаются бойцы в боевом охранении у Квашина: именно меню-раскладку он и не знает. Это потому, что заботы о питании бойцов он перепоручил своим снабженцам, начальнику тыла, а это ли не первейшая забота командира дивизии? Посмотрев один раз меню-раскладку, нехитро и забыть ее, порядок замены одних продуктов другими, равными по калорийности, трудно удержать в памяти, но, если командир ежедневно думает об удовлетворении потребностей бойцов и офицеров, он запомнит все нормы до грамма.
Начальнику инженерной службы трудно доложить даже на отдельном примере о прикрытии минных полей огнем стрелкового оружия потому, что все эти поля для него только овалы и прямоугольники, испещренные красными точками. Другое дело, если бы он знал о них не по схемам дивизионных инженеров, а осмотрел хотя бы некоторые из полей. Он бы увидел, что многие не прикрыты не только огнем, даже землей. Мины, уложенные зимой в расчете на снеговое покрытие, теперь стали видимы. Их пора переставить, замаскировать заново.
Начальнику тыла нехитро привезти с собой папку со справками, потому что на него работает целый штаб. К тому же гораздо легче считать новое. Новое считает даже нерадивый, а вот заботу о рваном ботинке проявит только рачительный хозяин, который дорожит народной копейкой. Он подберет эти рваные ботинки, прикинет так и эдак, а в случае нужды использует один для ремонта двух других. «Не случайно, — вспомнил Березин, — на подпись приносили завышенные заявки на снаряжение. Вернул и еще верну дважды. Заставлю организовать ремонт белья, обуви, одежды своими силами. Пока стоим в обороне, это вполне возможно...
Он не спеша записывал все необходимое, что нужно было исполнить в дальнейшем, в порядке текущей работы, чтобы не пришлось больше краснеть за своих подчиненных.
— Ну, что ж, я считаю, что наше первое знакомство состоялось, — сказал Черняховский.
По блиндажу, как порыв ветра, пронесся вздох облегчения.
Заложив одну руку за борт кителя, Черняховский другой вновь поправил волосы и обратился к генералам и офицерам:
— Под вашим началом тысячи людей, судьбу которых вверила вам страна. Вы уже не просто начальники, вы — мужи, облеченные большим и почетным доверием народа. Вникайте во все самые мельчайшие детали жизни своих частей, знайте все сами, не полагаясь на справки. Плох тот командир, который не знает меню — не знает, что будут есть сегодня бойцы. Разве зазорно нам всем интересоваться этим? О ком, как не о бойце, сержантах, офицерах, стоящих в окопах, должна быть наша неослабная повседневная забота? Они — острие меча, направленного в грудь врага, они тот щит, которым заслонен народ от вражеского нашествия. Вы должны это понимать. Благодаря успехам наших южных фронтов сложилась такая обстановка, что именно мы стоим и обороняемся на самых близких подступах к Москве. Страна ждет от нас надежной и прочной защиты, которая гарантировала бы нашу столицу от всяких случайностей. Требую от вас создания глубокой эшелонированной обороны, прочной во всех отношениях. Создавайте продуманную систему заградительного огня стрелкового оружия с высокой плотностью. Непрестанно совершенствуйте фортификацию. Пределом может быть такая насыщенность оборонительной полосы траншеями и окопами, которая позволила бы на участке одного полка ввести полностью укомплектованную дивизию, а на место дивизии — корпус.
Генералы переглянулись: речь про оборону, но даже самому недогадливому ясно, что говорится о подготовке к большому наступлению. Они удвоили внимание.
— Сближайтесь с противником везде, где позволяет местность. Единственное, что я сейчас запрещаю вам, — мелкие, бесцельные стычки, которые скорее ослабляют нас, чем приносят пользу. Мы безусловно будем улучшать наши позиции, но проводить боевые действия надо в иных, чем некоторые предполагают, масштабах. Еще один важный участок, к которому я хочу привлечь ваше внимание, — учеба. Надо смелей выводить части в резерв и настойчиво обучать их действию большими массами в тесном содружестве с другими родами войск. О порядке учений вы получите указания от вашего командующего.
Вечером, в беседе с глазу на глаз, Черняховский предложил Березину, маскируясь усиленными оборонительными работами, готовить плацдарм на левом крыле армии для будущего большого наступления.
«Значит, будет так, как я предполагал, — думал Березин. — Значит, не напрасно армия отвоевала плацдарм на Лучесе в февральских боях, не напрасен выношенный в мыслях план будущего удара!»
Березина словно подменили. Он вновь обрел инициативу, уверенность. Едва закрылась дверь за Черняховским, он стал вызывать своих генералов. Стремительно расхаживая по блиндажу, Березин диктовал предварительные распоряжения начальнику штаба, начальникам служб и отделов, и не было в эту ночь офицера штаба, которого не затронули бы в какой-то мере его распоряжения.
Глава вторая
На всем фронте перед Витебском стояло удивительное затишье, такое, что иногда не о чем было писать в боевых донесениях..
Крутов тревожился за Лену. Он нашел бы время вырваться из полка, чтобы навестить ее, но часть, в которой она служила, не стояла на месте, а кочевала с одного участка фронта на другой, и где она находится, он не знал, хотя и догадывался, что тоже не очень далеко от Витебска...
Присматриваясь, он не узнавал и самого себя. Все, чем он жил раньше, что составляло главный интерес, теперь отступало на второй план перед чувством, которого он и осознать еще толком не мог. И это называется любовь? Возможно, этого не случилось бы, будь он уверен, что Лена не изменила к нему своего отношения. Но ее письма...
Однажды совершенно неожиданно его вызвали в оперативное отделение штаба дивизии. Он приписал вызов рассеянности своего нового писаря, которому было далеко до сообразительности и опыта Зайкова, отпущенного в батарею. Наверное, не так, как следует, начертил схему обороны. Впрочем, он не был уверен в своей догадке, так как сам подписывал и проверял все документы. День выдался хороший, и Крутов решил идти пешком. Рыхлые кучевые облака плыли по чистому, словно промытому небу, плыли над полями, на которых дружно поднимались озимые, над рощами, окутанными зеленым туманом, плыли не торопясь, будто нежась в лучах солнца. На кустарниках поблескивали только что развернувшиеся еще клейкие листочки, от земли исходил тонкий аромат пробудившихся к росту трав.
— Такая прелесть, а тут сиди невылазно в сыром погребе, — вздохнул Крутов. — И когда это кончится?
Майора — начальника отделения — он не застал.
— Посидите, — предложил Крутову чертежник, сидевший у окна, где посветлее, — сейчас он придет.
В просторном блиндаже два стола, пара грубых скамеек. На стене к ошкуренным лесинам приколоты графики донесений, дежурств. Под ними на кнопках плакат с изображением женщины, прижавшей к груди ребенка; штык с фашистской свастикой, с которого еще каплет кровь, направлен в ее грудь. Как вопль, звучала броская надпись: «Воин Красной Армии, спаси!»
Крутов, не зная, чем ему заняться, придвинул чистый лист бумаги и стал рисовать, что придется: березку, хижину... Внезапно пришла мысль спросить о дивизии, в которой служила Лена. Возможно, чертежник знает? И он назвал номер соединения.
— А у вас кто там, знакомые? — поинтересовался чертежник.
— Да, приятель!
Чертежник глубокомысленно помолчал, глянул в какую-то карту:
— Была недавно недалеко от нас, а сейчас опять куда-то перешла. Надо спросить у майора.
У Крутова заныло в груди: «Опять перешла. Может, на другой фронт. Тогда и не увидишься!»
Стремительной походкой, широко и радостно улыбаясь, вошел майор, сунул свою узкую, изуродованную ранением руку Крутову, спросил:
— Приехал? Хорошо!
— Пришел! — уточнил Крутов.
— При такой погоде пройтись — одно удовольствие, — согласился майор и стал искать стакан под крохотный букетик цветов, желтых, голубеньких, которые насобирал, пока шел по оврагу.
— Товарищ майор, — обратился чертежник, — куда перешла эта дивизия?
— Зачем тебе?
— Капитан спрашивал. У него там приятель служит.
— Девушка, — смущенно сказал Крутов.
— О-о... Вы счастливец! Позвольте тогда вместо задания предложить вам приятнейшую прогулку. Вам надлежит связаться со штабом этой дивизии и на месте оформить все документы, касающиеся стыков, чтобы начальство могло, не тратя попусту времени, их подписать. Дивизия со вчерашнего дня соседка с вашим полком. А уж там вы найдете и вашу девушку.
— Это мы совместим, — обрадовался Крутов.
Майор коротко проинструктировал его, и Крутов, тепло попрощавшись, подался выполнять поручение. В тот же день, вечером, выполнив все необходимое, он нашел Лену. Санитарная рота полка располагалась в овраге.
— Здравствуйте! — сказал он, когда Лена, недоумевая, кто ее может вызывать, вышла из землянки.
— Вы? — удивилась и обрадовалась она. Стройная, похорошевшая, она показалась ему еще лучше, чем он знал ее до сих пор, хотя на ней не было ни украшений, ни красивой одежды, а всего лишь вылинявшая, много раз стиранная и латанная гимнастерка, перехваченная в талии солдатским ремнем, да такая же юбка и на ногах — кирзовые сапоги. Светлые пышные волосы, недостававшие до плеч, непослушно выбивались из-под пилотки. Когда она встала спиной к солнцу, они так и засияли.
— Вы зачем? — спросила она, справившись с первым смущением, хотя щеки еще продолжали пылать румянцем. — По какому-нибудь делу?
— Нет, только тебя видеть, Лена... — Крутов попытался взять ее за руки, но она поспешно их отдернула.
— Ой, что вы! Не надо.
— Кажется, я пришел некстати...
— Не говорите этого! — она быстро прикрыла ему рот ладошкой. — У нас такой строгий врач, а я не хочу, чтобы про меня что-нибудь говорили.
— Но как же нам быть? Мне надо с тобой поговорить...
— Подождите, я пока занята на дежурстве.
— И долго придется ждать?
— Не очень... — И, обнадежив его улыбкой, Лена весело вбежала в землянку.
Крутов поднялся на косогор и прислонился к шершавому стволу старой ивы, свесившей ветви над оврагом. Вся земля под деревом была усыпана опавшими соцветиями. Только кое-где, рядом с развернувшимися лепестками, еще висели пушистые, потерявшие атласный блеск сережки. «Ко времени ли я пришел? — размышлял он, вспоминая ее недоуменный возглас при его появлении. — Может, незваный гость...»
Ему казалось, что после поцелуя в ту памятную для него ночь он вправе был ожидать от нее более теплого приема. «Правда, с тех пор прошло несколько месяцев. Может, все уже забыто?»
Размышляя в таком духе, стоял Крутов под деревом и в нетерпении ломал в пальцах тонкую веточку. Ему хотелось с равнодушным видом смотреть в сторону, но стоило кому-нибудь хлопнуть дверью, как помимо воли глаза устремлялись на землянку: Лена? Но выходила другая девушка, и он снова отводил свой взгляд.
День клонился к концу. Раскаленный докрасна солнечный диск коснулся дальнего леса, по сумеречной земле побежали тени, последний румянец затрепетал на узких листочках, на старой, изрезанной глубокими морщинами коре дерева.
Лена вышла в новенькой гимнастерке, с еле уловимым запахом духов.
— Надоело ждать?
— Нет, только очень тяжело, — признался он. — Теперь вы свободны? Пройдемся?
— Ненадолго!
Он осторожно взял ее под руку. Сомнения, минуту назад еще мучившие его, сами собой улетучились, и он сразу успокоился. Ему хотелось честно рассказать, как стремился к ней, но он побоялся неосторожным словом нарушить возникшее между ними доверие. Много ли надо, чтобы оно пугливой птицей вспорхнуло!
Придерживаясь узкой полевой стежки, они прошли немного молча. Потом он все же набрался смелости, стал рассказывать, как тоскливо ему было без нее.
— Я тоже скучала, Павел, — призналась Лена, — а вы всегда пишете мало, скупо. Это вызывало во мне самые противоречивые мысли. А тут еще...
— Что?
— Так, разные неприятности, — нехотя ответила она. — Это вам совсем неинтересно...
Он не стал настаивать.
— Вы говорите «тоже скучала». Интересно, кто виноват?
— Не притворяйтесь, Павел, — строго предупредила она. — Вы прекрасно все знаете...
— В том-то и беда, что не знаю...
Она, словно не расслышав этих слов, продолжала:
— Сколько я пережила за эти месяцы! Мне пришлось уйти из взвода, потому что с тех пор, как мы с вами познакомились, все стали смотреть на меня какими-то другими глазами... Как это дико, ведь я ничего худого никому не сделала... Даже сегодня, уже когда вы пришли, врач вызвал меня к себе и сказал, чтобы я никуда не ходила...
— Он просто злой человек! — вырвалось у Крутова.
— Нет, он не злой, он хороший, ему можно верить, — возразила Лена. — Он мне сказал: «Сейчас война, сегодня вы здоровы, а завтра любого из вас может покалечить, зачем и кому нужны лишние страдания?»
— Все это правильно, но если я дня не могу прожить, чтобы не думать, не мечтать?.. Без вас мне совсем неинтересно жить!
— Это правда?
— Если бы я был уверен, что вы меня тоже любите...
Он взял ее за руки, чтобы посмотреть в глаза — они не солгут. Руки были шершавые, твердые от работы, с мозолями от стирки, уборки, тяжелых носилок.
— Скажите честно — вы меня любите?
Она потупилась, отвернула лицо в сторону.
— Неужели вы этого еще не видите? — Признание было вынужденное, на глазах выступили слезы. — Только не подумайте обо мне плохо, Павел...
— Я, плохо? Да я люблю вас больше своей жизни, Лена! Сейчас, когда мы ходим между жизнью и смертью... Зачем скрывать то, что есть? Я не умею кривить душой, поверь мне, Лена!
— Я верю. Но я еще так плохо знаю тебя, а хочется доверия, близости, чтобы — как к родному человеку. Война разлучила многих людей, и некоторые воспользовались этим, забыли о семье, приличии, совести...
Оба они то и дело сбивались с «вы» на «ты».
— Разве я стал бы тебя обманывать?..
Она не дала ему договорить, сжала ему руку:
— Мне бы хотелось всегда верить вам, Павел! Ошибиться на первом шагу... Это так ужасно. Что может быть хуже? Это на всю жизнь! Но я не хочу об этом даже думать. Кто честен в большом, тот не позволит себе быть подлым... Но я не даю вам сказать о себе. Говорите же! Я все должна знать!
— Знаете, Лена, говорят, будто любви с первого взгляда нет, а вот когда я увидел вас на дороге, то сразу подумал: «Она!» Потом я понял, что не ошибся, что люблю вас с каждым днем все сильней и сильней. Вы для меня теперь самая славная, самая красивая...
— Это уж слишком, — засмеялась она. — Вы преувеличиваете, а когда узнаете меня лучше...
Разговаривая, перебрасываясь шутливыми репликами, шли они по еле приметной дорожке, вытоптанной через поле, на котором густой щеткой поднимались озимые.
— Человек всю жизнь живет надеждами, — сказал Крутов. — Хозяева поля сеяли, может быть, последние зерна, и думали собрать урожай, иначе они бы вовсе не сеяли. И урожаю не дадут пропасть, его уберут. Мы стремимся сохранить свою нравственную чистоту, чтобы, пережив войну, смело смотреть людям в глаза. Надежда... Это то, что дает человеку силы...
— Без надежды было бы совсем неинтересно жить, — заметила Лена, — она, как огонек впереди, то ближе, то дальше и все манит, манит...
Впереди, на фоне светлой полоски зари, показалась какая-то темная громада. Что это? Любопытство влекло Крутова и Лену. Они стали взбираться на пригорок. Приземистая, вросшая в землю громада оказалась танком. Ствол орудия был наклонен вниз
— «Тигр», — сказал Крутов и, нащупав висевшую цепь, перешагнул через нее. — Это памятник бронебойщику Угловскому. Он остановил «тигра» гранатой, но сам погиб. Зимой об этом писали в газетах. Тут должна быть надпись...
Включив карманный фонарик, он стал обходить машину. Лена, держась за его руку, шла рядом.
На бортах было множество надписей. Одна привлекла внимание Крутова.
«...Быть может, чрез десяток лет залечатся нанесенные раны, и будет этот холм одет в чудесные тенистые дубравы».— Не очень складно, но хорошо сказано, верно? — спросил Крутов.
— Дожить бы до этих дней! — вздохнула Лена.
Странное дело, память о павших мешала им говорить о личном счастье. Казалось, это будет оскорблением памяти тех, кто отдал здесь свои жизни.
— Пора домой, уже поздно, — сказала Лена, зябко поеживаясь, и вдруг без причины расплакалась.
Он обнял ее, и они стали быстро спускаться с холма. Лишь возле самых землянок остановились.
— Вот видите, какая я странная, — смущенно сказала она. — Вы меня совсем не будете такую любить.
— Зачем ты это говоришь, Лена!
Лена доверчиво прислонилась к его плечу. Он обнял ее и стал целовать. Она не прятала от него теплых, мягких губ.
— Я сама не знаю, что со мною случилось, — сказала она. — Я не была плаксой, но это копилось давно, и вот видите...
— Теперь мы будем ждать друг друга, — сказал он.
— Обязательно! Береги себя, Павлик. Не знаю, как я теперь тебя дождусь...
Они простились. Крутов шел, ощущая привкус поцелуев на губах. На душе было радостно.
Глава третья
Май. На глазах поднимались травы, цвели пригорки белыми глазками земляники. В зазеленевших березовых перелесках куковали кукушки, отсчитывая неизвестно кому долгие годы жизни.
А фронт, как и прежде, стоял без движения, только глубже зарывался в землю, прокладывая все новые и новые ходы сообщения, окопы, опутывая колючкой подступы к переднему краю. Ничто не нарушало обычного режима. Оборона. Однако видимость застывшего фронта обманчива. Внезапные удары сотрясают порой позиции. На военном языке эти неожиданные жестокие схватки носят название разведки боем. Внешний их результат обычно невелик — улучшение позиций, захват того или иного пункта, высоты, форсирование какой-нибудь реки. Но главное — прощупывание сил противника, его способности отбиваться и нападать, то есть овладение такими данными, которых не получить никаким другим способом.
По приказу фронта армия готовилась к проведению разведки боем — овладению высотой 222,9. Позиция была ключевой, так как с этого зеленого холма, возвышавшегося среди сосновых заболоченных лесов, противник контролировал окружающую местность на много километров. Взять высоту приказали дивизии Квашина.
Увеличенный в несколько раз через стереотрубу холм казался близким и безобидным. Правда, среди озимых всходов торчали кое-где колья с ржавыми мотками проволоки, поднимались бугорки блиндажей, желтели уводившие влево, в сторону деревни Уруб, полоски ходов сообщения, виднелись рогатки и ежи, но они не нарушали внешне мирной картины природы.
Квашин находился на наблюдательном пункте — в сыром, глубоко врытом в землю погребе, под пятью бревенчатыми накатами. К стереотрубе надо было подниматься по лестнице и стоять там, касаясь спиной стены узкого колодца, тоже накрытого сверху бревнами. Через узкую прорезь проходили только окуляры прибора, и солнечные лучи, ласкавшие землю, казались далекими, как на летних пейзажах Левитана.
Командующий потребовал, чтобы наблюдательные пункты командиров дивизий и полков были сделаны солидно, гарантировали бесперебойность управления войсками и являлись надежным укрытием от артиллерийского огня противника.
Поднявшись из блиндажа на поверхность, Квашин облегченно вздохнул и разогнал складки гимнастерки под старым офицерским ремнем, к которому он привык и не желал расставаться. Но уже никакая заправка не могла скрыть нездоровую полноту — следствие пятого десятка лет беспокойной жизни.
Он взглянул на часы: около двенадцати. До начала боя три часа.
— Как там, — спросил Квашин у майора — начальника оперативного отделения, — все готово?
— Ждут, — ответил майор. — Все начеку!
— Передайте, чтобы никакого шевеления. Увижу кого — не поздоровится!
Речь шла о штурмовой роте. Укомплектованная, прекрасно вооруженная рота, — в нее влили и штрафников, чтобы они искупили свою вину в бою, — была сосредоточена в окопах боевого охранения. Роту вывели ночью в полной тишине, чтобы средь бела дня, когда бдительность противника падет, атаковать высоту.
Безмятежный покой царил над окрестностью.
В три часа дня громыхнул артиллерийский залп и сразу перерос в грозный орудийный гул. Пыльная завеса круто поднялась в небо, заслонила от наблюдения высоту.
Штурмовая рота поднялась из окопов боевого охранения. Смолкли орудия, но минометы заговорили еще чаще. Лохматые, взметывающиеся клубы разрывов вели за собой развернутую в цепь роту. Вот они охватили гребень высоты, а потом расступились вправо и влево, страхуя атакующих от возможного флангового огня противника. Высота взята.
Командир приданного роте батальонного орудия Богданов прикинул на глаз расстояние до нее: далековато! Но медлить нельзя, орудие должно быть на высоте; поплевав на руки, он ухватился за станину пушки.
— Вперед!
Податливо катилось орудие по твердому грунту, но на болоте, разделявшем позиции, расчету пришлось помаяться. За тяжелой работой пришло спокойствие. Достигнув высоты, артиллеристы перевели дух и отдышались. Вокруг них бойцы из штурмовой роты поспешно долбили малыми лопатками сухую землю, оборудуя ячейки и пулеметные площадки для обороны.
Богданову не хотелось ставить свою пушку на вершине холма, где, конечно же, будет самая свалка во время контратак, и он прижался с ней на самом фланге роты, почти у подножия. «Кажется, будет ладно», — решил он и приказал готовить огневую позицию для орудия. Рядом усердно копал окоп стрелок в пропотевшей офицерской гимнастерке, под которой крупно шевелились мускулы. По лицу грязными струйками стекал пот. Ремешок каски был расстегнут, автомат с запасными дисками и гранаты лежали поблизости, под рукой. Работа над окопом подходила у него к концу. Он приподнялся и отложил лопатку.
— Кто командует орудием? — повел он белесыми бровями и сделал суровое лицо.
— Я! — оторвался от работы Богданов, не понимая, что от него надо этому не то бойцу, не то командиру.
— Будем знакомы: в прошлом лейтенант Куликов, а теперь штрафник, прибывший для прохождения практики. Ваш сосед справа!
Выпрыгнув из окопа, он подошел и, облокотившись на орудие, вытащил кисет:
— Закуривай. Дюбек, от которого черт убег... Дружки навестили, привезли. До того света, если без пересадки, на всех хватит — не перекурить. Налетай!
Вахрушко запустил в кисет толстые пальцы и извлек табаку на добрую завертку.
— Вроде офицерский табачок у вас...
— А ты думал!.. — Куликов протянул ему курительную бумагу.
— Не привык... — мотнул головой Вахрушко. — В газетке вроде бы лучше.
Оба закурили.
— За что же это вас, вроде из танкистов и... в пехоту, на практику? — усмехнувшись, спросил Вахрушко, успев приметить, что руки у Куликова со следами въевшегося машинного масла.
— Было дело... фрицев подавил!
— Мудрено что-то: фрицев подавил и фрицев же бить послали!
— Всему свое место, говорят. Не там, где надо, придавил... Сердце не стерпело...
— Да-а... Это иное дело, — понимающе протянул Вахрушко. — Ну чего не бывает...
Богданов и другие бойцы расчета вполне согласились с этим. Война! Хитро ли споткнуться?
Куликов — молодой офицер-танкист — не был человеконенавистником. Но так уж сложились обстоятельства... В декабрьских боях его танк прорвался к окопам врага и был подбит. Пехота успела выручить Куликова, но что такое танкист без машины? Новой техники для пополнения не предвиделось, о ремонте подбитой машины нечего было и думать. Идти в пехоту? Куликов приуныл. Сутки он не покидал свою «тридцатьчетверку», даже спал под ней, вырыв окопчик под днищем. Он все на что-то надеялся: вдруг найдется другая машина.
Осматривая поврежденные танки, он наткнулся на подбитый неприятельский «тигр». Что-то толкнуло его забраться внутрь машины. Он долго пробовал все рычаги и кнопки — оборудование было значительно сложнее, чем на «Т-34». И тут его осенило: «А ведь «тигр»-то исправный!»
С лихорадочной поспешностью он стал осматривать повреждения: перебита гусеница? Ерунда! Можно исправить!
И скоро танк встал в строй. Даже в армейской газете поместили снимок: комсомолец Куликов и «тигр», на башне которого написано «За Угловского!» Сам командующий армией объявил ему благодарность за освоение трофейной техники и приказал обеспечить танк боеприпасами, чтобы на снаряды в бою не скупиться. В боях за Синяки расчет отличился, и Куликов был награжден. Соседняя армия в это время обнаружила среди леса лагерь, куда фашисты сгоняли мирное население.
— Поедешь представителем от части, — сказал ему командир бригады. — Потом расскажешь, что видел.
В бывшем концентрационном лагере, на небольшом, обнесенном колючей проволокой участке леса в районе станции Крынки, Куликов увидел занесенные снегом трупы женщин, детей, стариков. Несколько исхудалых, измученных колхозниц из числа уцелевших водили по лагерю солдат и офицеров и рассказывали им о том, что здесь происходило. Одна из них показалась Куликову знакомой.
— Вы случайно не из одной со мной деревни?
— Ой, да ведь я вас знаю! — она расплакалась.
— Что с моими стариками, где они? Да говорите же! — тряс он ее за плечо.
— Нету их... и деревни нету. Всех пожгли каратели!
У Куликова померкло в глазах от страшного горя. Сам не помнил, как добрался до машины. Скорее привычные руки, чем разум, вели машину, избегая столкновений и кюветов. И тут показалась навстречу группа пленных. Куликова затрясло: вот они, звери, такие же, как и те, что подпалили его деревню, сожгли стариков...
Руки впились в баранку. Он объехал конвойного автоматчика и с ходу врезался в заплесневело-зеленые шинели.
Даже потом он не сразу понял, что совершил преступление. На суде, выслушав приговор, он считал себя все-таки правым! Да, пленные уже не враги с оружием. Да, на них распространяются условия конвенции. Но ведь и его старики не стреляли в гитлеровцев... Условные годы заключения с отбытием в штрафной роте его не пугали: с винтовкой в руках не более опасно, чем идти в бой на танке. И там и здесь воевать...
Время притушило нестерпимую муку, оно же помогло ему понять всю глубину проступка. Тяжесть вины угнетала его, и он стал побаиваться, как бы не погибнуть, не искупив своего преступления, с позорным пятном штрафника.
...Оттого, что никто из артиллеристов не стал его расспрашивать, Куликову захотелось побыть с ними подольше. Присев на колено возле орудия, он выглянул из-за щита.
— Хитрая позиция, — усмехнулся он. — Если подпускать вплотную, эффект будет!
— Практику проходили, не впервой, — серьезно заявил Богданов.
У него на груди блестело несколько медалей и орденов.
— Ну, а если очень нажмут? — Куликов кивнул в сторону противника.
— Мы от орудия не уйдем, — тем же ровным голосом произнес Богданов, словно речь шла о том, чтобы не оставить пост дневального по казарме. — Нам бегать да маневрировать с орудием не с руки!
Куликов посмотрел в спокойные, немного суровые глаза Богданова и сказал дрогнувшим голосом:
— Считайте и меня в своем расчете на случай нужды. Я хоть и штрафник, так не навечно же! Может, завтра опять человеком стану...
Он взялся за лопату и присоединился к артиллеристам, чтобы помочь им управиться с окопами.
Гитлеровцы не дали окончить работу. Заговорили минометы, оглушительно рванулись первые мины, подняв в воздух сухую пыль. Артиллерия противника била главным образом по вершине холма, где находились блиндажи. Вскоре донесся и стрекот пулеметов.
— Может, во фланг атакуют? — высказал предположение заряжающий Вахрушко.
— Нет! — махнул рукой Богданов. — У него, заразы, тактика такая, что каждый унтер, не дожидаясь команды, обязан немедленно контратаковать наступающего. Пока что так, для видимости. Сейчас у них там по всем телефонам руготня: как так высоту отдали? Это потом, пожалуй, когда разберутся, нажмут. А пока так, беспокойство одно!
Однако стрельба не утихла, а наоборот, стала нарастать.
— Это со стороны леса, — сказал Богданов, прислушиваясь. — Сейчас по ним долбанут с закрытых...
Действительно, как и во время первого налета, но уже более глухо, забухала своя артиллерия, и разрывы стали ложиться за высотой.
По большаку со стороны Витебска к фронту проскочило несколько крытых неприятельских машин.
— Вот это к нам едут. Будет сейчас работа, — сказал Богданов, увидев пыль над большаком.
Из-за ближайшей рощи противно завизжали «скрипухи», воздух заполнился воем и скрежетом. Бойцы прижались к земле. Гигантские клубы черного дыма и земли вымахнули над высотой в небо. Разрывы мин и снарядов слились в сплошной грохот, в котором не разобрать было ни отдельного выстрела, ни рокота приближающихся самоходок.
Богданов, как и предполагал, оказался немного в стороне, к нему пореже залетали вражеские снаряды, и он первый увидел, что за самоходными орудиями идет цепью вражеская пехота. Он приподнялся, поглядел на вершину холма, где должен был находиться командир роты, но там все было в дыму и пыли. «Не видят», — не на шутку забеспокоился Богданов и решил сам, на свой риск, подавать сигнал вызова артиллерийского заградительного огня.
Выхватив из кармана ракетницу, он послал несколько сигнальных красных ракет в сторону противника. Куликов тоже высунулся из своего окопа, нахмурившись, некоторое время о чем-то раздумывал и вдруг помахал артиллеристам рукой.
— Бывайте! — прокричал он, — Пошел за искуплением!
Решительным жестом надвинув на глаза каску, он рывком выбросился из окопа и почти бегом устремился в огонь и дым боя.
Богданов поднял руку, желая ему удачи, а у самого неприятно защемило сердце, как будто это не Куликов побежал сейчас в самое пекло искать прощения вины, а он сам идет по острой грани и, колыхнись в одну сторону, будет ранен и прощен, в другую — убит и... тоже прощен, хотя и не узнает о прощении. Другого исхода быть не могло.
Но размышлять было некогда. «Выкатывай!» — подал он команду, когда увидел, что гитлеровцы подходят к высоте.
Артиллерия с обеих сторон работала с полным напряжением, и та и другая старались уничтожить пехоту. В реве орудийных глоток трудно было заметить одно маленькое орудие, а оно выполняло свое дело. Но и его достал враг. Свистнул снаряд, людей обдало горячим дыханием взрыва. Осколками сразу смело трех человек. Словно вихрь прошелся над орудием. Когда Богданов очнулся, первым его намерением было посмотреть, цела ли пушка.
— К орудию! — подал он команду, призывая живых встать на свои места.
Пехота противника прорвалась через полосу заградительного огня и стала взбираться на высоту. Казалось, все уже потеряно. Но в это время навстречу врагу, из дымной пелены выползли танки «Т-34». Они появились в самое время и помогли отразить атаку врага.
Когда наступила ночь, генерал Квашин решил, что теперь уже ничто не помешает закрепить высоту за дивизией, и сообщил в армию: высота 222,9 взята и прочно удерживается его соединением.
Из армии его донесение было передано в штаб фронта, там его ужали, включили в сводку и понесли на подпись к Черняховскому. То, что взято, отдавать не полагалось, потому что времена сорок первого года прошли безвозвратно, канули в вечность.
Квашин был доволен исходом этой небольшой операции. Захватили высоту внезапно, почти без потерь, отстояли умело, оригинально скомбинированными действиями стрелковых и специальных подразделений.
«Сейчас закрепить достигнутое, и все в порядке», — думал он, отдавая распоряжения ставить ночью перед высотой мины, малозаметные препятствия, пополнить боеприпасы и за ночь покормить людей горячей пищей.
Предвидя, что противник еще не смирился с потерей позиции, Квашин приказал танковую роту держать в готовности за скатами высоты и на всякий случай вывел один батальон из обороны в свой резерв. «Вот теперь достаточно», — решил он и, успокоившись, послал своих штабных офицеров проверить, как его приказания будут выполняться.
Ужинать пришлось ему уже поздно.
...Утро выдалось розовое, нежное, от земли поднимались легкие испарения. День занимался, как и вчера, солнечный, теплый, без единого дуновения ветерка. Однако Квашина разбудило не пение пташек, а сильный толчок разорвавшегося поблизости снаряда. Он сразу проснулся и сел, не совсем еще соображая, что происходит вокруг.
— Что случилось? — спросил он обеспокоенного офицера, прижавшегося с телефоном в самый угол блиндажа.
— Тяжелыми начал крыть по всей обороне. Налет!
Квашин только хотел посмотреть, что делается наверху, как близкие взрывы потрясли блиндаж.
— Дело, кажется, серьезное! — озабоченно сказал Квашин.
— Наблюдательный пункт нащупал, — предположил офицер.
— А, ерунда, — оборвал его Квашин и полез к стереотрубе. Своим чутким ухом он уже определил, что основная тяжесть налета приходится на высоту, а не в расположение его наблюдательного пункта. Он не ошибся. Весь холм был затянут дымом и пылью, сквозь которые иногда прорывались к небу иссиня-черные шапки разрывов тяжелых снарядов. Он хотел позвонить в штурмовую роту, но связь прервалась. «Атакуют!» — отметил про себя Квашин, увидев, как над холмом взвились сигнальные ракеты.
Вызвав к телефону командира резервного батальона, он приказал ему подготовиться к контратаке.
Позвонил Безуглов, а потом и Березин. Донесений еще не поступало, поэтому Квашин доложил им обстановку, как сам ее представлял, полагаясь на свой опыт, и попросил не ограничивать его в снарядах и минах крупного калибра.
— Ладно, — ответил Березин, — расходуй, но смотри, держи высоту. Дело чести, понимаешь? Уже во фронт сообщили, что держим!
Командующий не только сдержал свое слово в отношении боеприпасов, но и подкрепил артиллерией. Через полчаса после этого разговора к Квашину вошел запыхавшийся офицер и доложил, что прибыл с дивизионом гвардейских минометов в распоряжение генерала. Квашин тут же указал на карте рубежи возможного накапливания противника для атаки. Офицер перенес эти отметки на свой планшет, а через несколько минут связисты доложили, что подан «конец», то есть дивизион подключился в связь дивизии и готов открыть огонь по первому требованию.
Атаки гитлеровцев проводились пока небольшими силами, и рота, поддерживаемая мощным артиллерийским огнем, успешно отражала их.
Так пролетели в хлопотах, в волнении несколько часов до полудня. За это время Квашин не имел и пятиминутной передышки. Полной внезапностью был возглас вбежавшего связиста: «Воздух!» Со стороны противника на северо-восток шли десятка два «юнкерсов». Услышать их низкое прерывистое гудение мешала отчаянная артиллерийская пальба, от которой гул стоял в ушах. «Будут бомбить огневые позиции», — решил Квашин и отдал приказание артиллеристам замолчать на пять минут, чтобы не демаскировать батареи.
Массовое появление вражеской авиации на фронте перед Витебском было редким явлением. С ноября прошлого года отмечались только отдельные разведывательные полеты самолетов. И вдруг — бомбардировщики!
Квашин вышел наверх и уставился близорукими прищуренными глазами в небо. Бомбардировщики шли на большой высоте, правильным строем, и хотя вокруг них уже рвались снаряды, курса не меняли. Армейская зенитная артиллерия била издалека, на пределе и пока безуспешно. Противное предчувствие опасности защемило Квашину сердце. Он со злости плюнул и ушел вниз, в свой блиндаж, чтобы не слышать визга, не видеть падающих бомб. Ноющая боль ухватила его за сердце, и он, застонав, заскрипел зубами от бессильной ярости.
Бомбардировщики, сделав разворот над обороной, зашли со стороны солнца и с воем пикировали на высоту. Черный лес разрывов вскинулся в небо, Земля вздрогнула от мощных ударов. Казалось, само небо со стоном и воем рушится на землю и накатник вот-вот рассыплется от толчков, больше напоминающих землетрясение...
Вслед за налетом авиации последовала атака вражеской пехоты, и еще не заглох в ушах рев моторов, как с высоты, покидая ее, из глубоких воронок стали выскакивать бойцы и сбегать к подножию, скрываясь там в окопе боевого охранения.
— Сдали, — сверкнул глазами Квашин и хотел приказать резервному батальону немедленно контратаковать, пока противник не закрепился на высоте, но его потребовали к телефону.
— Что, не удержал? — услышал он голос Безуглова. — Сейчас наша очередь будет. Прикажи своим обозначить передний край, да поживей!
— Воздух! — опять доложил связист, но на этот раз гудело с другой стороны.
Квашин вышел в окоп, с жадностью и нетерпением стал вглядываться в небо. Поблескивая на солнце, шли наши бомбардировщики. Они нанесли ответный удар. На этот раз возбуждение также охватило Квашина, но оно было иного порядка. Тут была и гордость за свою авиацию, которая смогла нанести гитлеровцам более страшный урон, и радость реванша, и просто возбуждение, передавшееся от окружающих его людей, ликовавших по случаю захватывающей картины удара по врагу с воздуха.
Грозный рокот моторов заполнил все вокруг. Между черными лохматыми клубками рвавшихся в воздухе немецких зенитных снарядов, неуязвимые, сверкающие, плыли, не теряя строя, свои краснозвездные самолеты. Казалось, высота стала ниже на несколько метров, а бомбы все сыпались на нее, вздымая черную перемешавшуюся землю.
— Вот теперь — атаковать! — приказал Квашин командиру резервного батальона. Тотчас из первой линии окопов дружно поднялись бойцы. У передних, самых быстрых, замелькали припасенные для такого случая красные флажки: равнение на первых!
Когда дым развеялся, открылся гребень высоты. Квашин не узнал ее, настолько она была изуродована, вся в глубоких воронках, без всякого следа фортификации. На ней уже хозяйничали бойцы резервного батальона. Они перебегали среди воронок, закреплялись. Однако гитлеровцы не считали дело проигранным. Снова вспыхнула артиллерийская пальба, опять последовали атаки, критические моменты с томительной неизвестностью, с тревогой за судьбу столь удачно начавшегося боя.
Все это так измотало за день Квашина, что к вечеру он чувствовал себя совершенно разбитым. За весь день у него во рту не было ни крошки хлеба, ни капли воды, он сорвал голос и уже не кричал, а сипел.
К ночи бой утих. Повар, в который уже раз войдя к Квашину, увидел, что он, привалясь к стене и чуть откинув голову, всхрапывает, сидя на нарах. Одна его рука еще прижимала лежавшую на коленях карту, испещренную синими пометками.
Примерно в это же время, вырисовываясь на светлом фоне неба, с высоты осторожно спускался человек в каске, придерживая руку на свежей перевязи. Он что-то искал. Внезапно он споткнулся о бойца, притаившегося в небольшом окопчике.
— Кого тут носит? — раздался ворчливый голос.
— Свои... Ночь темная, лошадь черная, едешь, едешь, да и пощупаешь, под тобой ли она...
— Ты зубы не заговаривай, чего шумишь-то? Кто такой? — не удовлетворился ответом боец, вздремнувший было на время затишья. — Кого ищешь? — и он выдвинул из-под себя ствол автомата.
— Свой, командир роты я! — уже серьезным голосом ответил человек в каске. — Тут где-то артиллеристы стояли, хочу посмотреть, живы ли они.
— Чуток пониже спуститесь, там кто-то все постреливал. Может, знает, — посоветовал успокоившийся боец.
— А вам кого надо? — раздался голос снизу.
— Здесь где-то с сорокапяткой Богданов стоял... да разве сейчас сразу найдешь, когда будто черт кочергой все перемешал, — поспешил ответить человек, назвавший себя командиром роты. Он быстро спускался вниз.
— Тогда сюда, — позвал его тот же голос. — Пушки-то тю-тю, а Богданов — я!
— Что-то не похож, — сказал человек, вглядываясь в темное, с запавшими глазами лицо Богданова.
— Куликов! — радостно воскликнул тот. — Ну, я бы тебя тоже не сразу признал. Шутка ли, два таких дня пережить!
— Ты так и сидел здесь? — поинтересовался, присаживаясь на землю, Куликов.
— Сидел, а может, и стоял, сейчас не помню. Знаю только, пушки не стало, — тихо, с затаенной печалью сказал Богданов, — а я ни с места. Товарищи полегли, а я и после этого не ушел. Немцы бомбили — сидел, свои — тут уж не помню себя. Очнулся, смотрю: на месте!
— Неужели? — не поверил Куликов, хватая его за руку своей здоровой рукой. — А я скатывался, браток, — виновато сознался он. — Невтерпеж было.
— У тебя другое дело. Ты — пехота, а у меня техника, да и подразделение мое все лежит здесь. Стыдно перед ними — мертвыми — бегать было, вот и сидел!
Он пошевелил ногой вокруг себя, звякнули гильзы.
— Хочешь, пощупай рукой, сколько «семечек» нащелкал. Все подсумки опорожнил... Не знаешь, какой приказ сейчас, сидеть, что ли, дальше? — внезапно спросил Богданов.
— Приказали всех старых вывести, а их раз-два да и обчелся, — тихо ответил Куликов. — Я ведь еще вчера, как нашего командира убило, роту принял. Теперь уже не штрафник: объявили, что всех живых за храбрость в правах восстановят. В свою часть пойду, там у меня «тигр» остался, опять на него сяду. — Сдвинув каску на лоб, он внезапно поскреб затылок и достал кисет: — Закурить по такому случаю, что ли? Дюбек — счастливый табачок. Заворачивай, брат, на двоих!
Они закурили, подивились своему солдатскому счастью, помолчали. Богданов затянулся несколько раз, плюнул:
— Поташнивает что-то... С голодухи, должно...
Куликов, докуривая цигарку, внезапно предложил:
— Слушай, переходи ко мне на «тигра», вместе воевать будем.
— Нет, не привыкну я к вашим коробкам, — отказался Богданов.
— Жаль! А то бы я похлопотал перед своим начальством. Тогда пошли. Мы свое дело сделали! — сказал Куликов.
Богданов исчез на несколько минут. Он спустился в ближайшую воронку и, присев на корточки, осторожно приподнял плащ-палатку со своих побитых товарищей.
— Прощайте, друзья мои... — прошептал он, снимая с головы каску, и голос его задрожал. — Я ухожу дальше. Прощайте!
Вахрушко и Шегаль и весь его расчет лежали здесь, а вот он опять цел и невредим. Видно, крепко желает ему кто-то удачи. «Может, жена — Аннушка?» Он опять заботливо прикрыл их палаткой, постоял минутку и, тяжело вздохнув, надел каску.
— Пойдем, — хмуро сказал он Куликову.
— Как думаешь, отступится он от высоты? — спросил Куликов.
— Теперь все! Наша сила покрепче его оказалась. Наступать будем, бить будем. Помяни мое слово!
Гитлеровцы действительно отступились от высоты, замолчали.
Глава четвертая
Для людей, сведущих в военном деле, больше не оставалось секретом, что готовится новое наступление. Передний край в полку Чернякова во всех доступных местах приближен был к окопам противника. Первая линия окопов соединялась со второй ходами сообщений и отсечными позициями. Приходилось только удивляться — сколько земли перевернули солдатские руки!
Полковник вправе был считать, что исходное положение для наступления готовится именно в полосе его полка. В крайнем случае, в полосе дивизии. Хотя на занятиях и поддерживались разговоры оборонного характера, хотя дивизионная газета и позабыла, что, кроме обороны, в тактике существует еще и наступление, офицеры между собой толковали о другом — о наступлении. Нежданно-негаданно пришло известие о высадке союзников в Нормандии. Было время, когда вопрос о втором фронте волновал каждого, открытия его ждали с нетерпением. Потом клятвенные заверения союзников в верности взятому на себя долгу стали раздражать, ибо каждому было ясно: настоящий второй фронт — и войне скорый конец! Почему же этого не понимают союзники?
Когда газеты наконец начали сообщать о боях в Италии, о захвате отдельных высот, где продвижение вперед исчислялось даже не сотнями метров, а ярдами, Чернякову, как человеку, знающему, что такое война, стало понятно — это не второй фронт, а какой-то хитрый ход английских и американских политиков в закулисной игре.
И вот наконец высадка союзников на побережье Франции, бои за плацдарм...
— Разговор о втором фронте идет около двух лет, — говорил Черняков Кожевникову. — Почему бы им наконец и не решиться, когда всякие сомнения в нашей победе отпали? Видят, что мы и одни управимся, так пристегнулись и они... Но столько болтовни, столько пустословия, когда надо было уже давным-давно действовать!
— Для нас в войне вопрос стоит так: быть или не быть... Ребром! А им? Победят они Гитлера — хорошо, нет — немножко потеснятся за столом, а потом найдут предлог для компромиссного решения. Расплачиваться все равно придется народам, а не им. В этом гвоздь...
— Все это известно, набило уже нам оскомину. А вот скажи, где простая человеческая солидарность, совесть, честность?
— Честность... Им прямая выгода видеть нашу страну ослабленной. Выгода и честность — понятия трудносовместимые...
Черняков не сдавался:
— Ну, а народ, простые англичане, на которых падают немецкие бомбы, — уж их-то никак нельзя заподозрить в двурушничестве?
— Народ... — в раздумье сказал Кожевников. — От простых англичан это пока мало зависит.
— Да, вы, пожалуй, правы. Голоса честных людей по сравнению с воплями политических дельцов и подпевал звучат слишком слабо, — и Черняков безнадежно махнул рукой.
Кожевников задымил трубкой и задумчиво сощурил узкие глаза:
— Я вчера слышал, что мы не одиноки в своей работе. Справа и слева от нас все части роют не меньше нашего, а может, и больше, чем мы, и все считают, что готовят исходный рубеж для наступления.
— Разве на совещании об этом говорилось?
— Нет, официально — ни слова. Но ведь от живых людей всегда можно кое-что узнать частным порядком...
— Интересно! Кажется, операция задумывается гораздо хитрее, чем я предполагал.
— На этот раз противник будет сбит с толку, — сказал Кожевников, — ибо даже мы, старшие офицеры, ничего не знаем определенного, хотя и готовимся наступать.
— Нет худа без добра, — ответил Черняков. — Я предпочитаю узнать задачу за два часа до наступления, лишь бы не получилось, как в ноябре под Зоолищем...
Работы в полку велись с неослабевающим напряжением. Вечером пришли донесения о проделанной работе, и Черняков, просмотрев их, собирался дать указания комбатам, когда ему позвонил Дыбачевский:
— Завтра к семи явитесь ко мне со своими комбатами!
— Причину могу знать?
— Учеба, — ответил генерал, не вдаваясь в подробности. — «Хозяин» собирает.
Чуть свет были подняты нужные офицеры.
Крутов, которому тоже приказали собраться, пришел к блиндажу командира полка. Черняков на ходу пристегивал сумку.
— Все в сборе? — спросил он. — Шагом марш!
В штабе дивизии уже стояло наготове несколько грузовых машин. В кузовах некоторых машин на досках, положенных от борта к борту, сидели офицеры. Черняков забежал к начальнику штаба, где уже находились командиры полков. Разговор вертелся вокруг будущего наступления; говорили, что цель не ограничивается, как в прошлый раз, взятием Витебска, иначе зачем такие перемещения командного состава, не только во фронте, но и в армиях... Поскольку никто ничего определенного не знал, высказывались невероятные предположения.
— А какова тема занятий? — не утерпел Черняков.
— В основном — прорыв, — ответил начальник штаба дивизии, — а в деталях просто затрудняюсь вам сказать. Сейчас поедем, узнаем... Кстати, генерал уже собрался...
Увидев Дыбачевского, все побежали к машинам.
— В Королево! — скомандовал генерал и, захлопнув дверцу своей легковой машины, выехал вперед. Следом, расстилая пышный шлейф белесоватой пыли, помчались грузовики с офицерами. Вблизи Монастырского холма уже собрались офицеры из всех соединений армии и ведущих отделов штаба. Здесь находились и все генералы. Ждали только командующего. Подготовка большого наступления будоражила, возбужденные разговоры слышались из каждой группы; новости схватывались на лету.
Вскоре на черной легковой машине прибыли Березин и Бойченко. Офицеры поспешно построились, невысокий генерал-танкист гаркнул: «Смирно!» — и четким широким шагом пошел навстречу командующему с рапортом.
— Здравствуйте, товарищи! — громко произнес Березин и, придерживая руку у козырька фуражки, пошел вдоль строя к большой пятиметровой схеме обороны противника, которую только что укрепили на планках между двух сосен.
Офицер штаба предупредительно подал ему длинную указку. Березин попробовал ее на гибкость, как рыболов пробует удилище, и пригласил офицеров поближе. Поскольку разговор предстоял долгий, он велел рассаживаться на траве, кому как удобнее.
Строй сразу сломался, рассыпался. Перед командующим были сотни внимательных, выжидающих лиц. Сколько было передумано, прежде чем он решился собрать офицерский состав, чтобы посвятить в свои замыслы, заставить каждого устремиться к одной цели. Трудно сразу найти слова, которые бы тронули сердце каждого. Начать с общих высказываний о политическом моменте? Но это сразу втянет его в поток чужих мыслей, а он хотел говорить о своем, наболевшем, о том, что было основным в действиях армии под Витебском.
— Товарищи, мои боевые друзья! Всех нас волнуют предстоящие дела, и мы горячо жаждем победы. Поэтому прошу вас сосредоточить все внимание на выводах, которые Военный совет решил довести до вас, чтобы добиться полного согласования наших усилий. Перед вами схема одного из участков вражеской обороны от деревни Перевоз до Языково Он, как две капли воды, похож на любой другой. Вот передний край, — Березин взмахнул указкой и описал широкий полукруг, еле касаясь схемы..
Тишина стояла такая, что слышен был шелест листьев осины, лениво перебираемых слабым дыханием ветерка. Как журчание отдаленного ручейка, из-за Монастырского холма наплывала тихая, едва различимая музыка, передаваемая агитмашиной для бойцов переднего края...
— ...Он насыщен стрелковым оружием, орудиями прямой наводки. Дальше, в полосе одного километра, вы видите сеть наблюдательных пунктов, минометные батареи и орудия прямой наводки более крупного калибра. Перенесемся еще на два километра в глубь вражеской обороны. Здесь проходит линия батарей стопятимиллиметровых орудий и в шести километрах — огневые позиции тяжелой дивизионной артиллерии. За ними — рубежи, не занятые войсками, а где-то дальше — резервы противника, которые могут подойти к любому из этих рубежей и к месту боя в течение дня...
— Как думаешь, к чему клонит? — шепнул Еремеев.
— Терпение... Сам же говорил... — пожал плечами Крутов, тоже еще не понимавший, зачем им излагают то, что довольно хорошо знает каждый офицер.
— ...А теперь взгляните на другую схему, — привлек Березин внимание офицеров к другому полотнищу, на котором был вычерчен в виде кривой какой-то график. — Здесь дана кривая нарастания плотности огня противника по мере приближения к его переднему краю. Начнем движение с исходного рубежа, с восьмисот метров...
— Ближе, уже в сотне метров от немца сидим! — раздался чей-то возглас.
— Если кто сумел подготовить исходное так близко, честь и хвала ему, — сказал Березин. — Но я начну с восьмисот. На этом расстоянии противник вводит в действие все свои пулеметы, винтовки, артиллерию. Следующий рубеж — четыреста метров. Плотность огня заметно возрастает, в бой вступают вражеские автоматчики. Кривая растет. Но вот, — Березин взмахнул указкой, — мы проводим артиллерийскую подготовку, уничтожаем артиллерийские, пулеметные точки, пехоту и врываемся на его передний край. Кривая огня резко падает. Так? — обратился он к слушателям.
— Правильно! — раздались возгласы.
— Но есть одно условие... — сказал Березин.
— Надо, чтобы противник не убежал! — выкрикнул офицер позади Крутова.
— Совершенно справедливо. Надо не дать противнику уйти из-под нашего удара и, не замедляя движения, — вперед!
Крутов все внимание сосредоточил на словах командующего, а тот продолжал развивать свою мысль в строгой последовательности...
— ...На глубине в один километр плотность огня упадет еще больше, так как, помимо потери орудий и живой силы, противник лишится основной массы артиллерийских наблюдательных пунктов — своих глаз, а это нарушит работу всех его батарей. Теперь мне нетрудно сформулировать свое основное требование к войскам: стремительность! Вот главное условие нашей будущей победы...
Березин прошелся перед схемами; оставалось довести до слушателей вторую часть — условия тесного и непрерывного взаимодействия пехоты с другими родами войск.
— Основная тяжесть в будущей операции, — продолжал он, — падает на пехоту. Пехота должна быть и будет надежно прикрыта огневым и броневым щитами на весь период боя. Это второе условие, без которого немыслима наша победа. Что для этого требуется? Прежде всего — не допустить разрыва между огневым валом и атакующей пехотой. Огневой вал должен вести за собой пехоту от рубежа к рубежу...
Березин подробно изложил, как надо организовать взаимодействие пехоты с артиллерией и танками, указал время переноса огня в различные моменты боя. Потом пригласил всех к Монастырскому холму, чтобы сказанное закрепить практическим показом.
Крутов не попал на вершину холма, которая вся была занята генералами и полковниками, тесно обступившими командующего. Ему удалось прилепиться лишь на переднем склоне высотки. Укрепившись на земляном откосе, он достал из сумки бинокль, в окулярах встали знакомые по зимним боям места: Ранино, Тишково и роща, откуда наступал батальон Еремеева. Внизу перед холмом, где когда-то насмерть стояла дивизия Безуглова, теперь лежал на исходном батальон, ожидая сигнала к началу учения.
Взвилась красная ракета; торопливо застучали выстрелы минометов, ударили батареи дивизионных пушек. Мимо холма с ревом и лязгом промчалось десятка два танков и самоходных орудий. Атака.
— Обратите внимание, как движется пехота за танками, — раздался громкий голос Березина. — Такой темп требует от нее больших усилий, но мы должны привести своих солдат и сержантов к убеждению, что иначе — невозможно! В бой пойдут отдохнувшие люди...
Пехота шла действительно хорошо. Крутову видно было, как взвивались дымки гранатных разрывов над окопами «противника», как бойцы, перескочив через траншеи, бежали дальше, и вскоре автоматная стрельба стала доноситься еле-еле, а затем только отдаленное мерцание сигнальных ракет говорило о продолжающемся движении батальона. Вскоре над Ранино взвились красные искры ракет.
— Батальон форсировал озеро и овладел Ранино, — сказал Березин, — На нашем пути встретятся водные преграды, нужно учиться их преодолевать!
Возвращались с учения с шумными разговорами.
— Если так пойдет, как требует командующий, то я не завидую гитлеровцам! — сказал Еремеев.
— А как же иначе? Только так! Врагу на этот раз не улизнуть от расплаты, — убежденно отозвался Черняков.
В голове его рисовались картины грядущих боев, хотелось дожить до тех счастливых минут, когда можно будет по-настоящему шагнуть через ненавистный рубеж фашистской обороны.
А часы и минуты эти становились все ближе и ближе...
В один из последующих дней полк Чернякова выполнял странную на первый взгляд задачу. Целый батальон с полковой батареей по нескольку раз совершал переход по одному маршруту. Подразделения поднимались на холм, хорошо видимый противнику, пылили по дороге, а потом спускались вниз и, незаметно обойдя холм стороной, снова повторяли «марш». Пусть считает противник, сколько «войск» подошло к переднему краю! А тут всего-навсего один полк Чернякова как стоял, так и стоит...
В воздух поднималась «рама» — разведывательный самолет противника. Тогда «войска» разводили по кустарникам костры, дымили в небо.
На переднем крае стояла тишина.
В штабе полка тоже выпал редкий миг затишья. Телефонист, сидя возле аппаратов, порой твердил:
— Гром, Гром, я — Венера! Проверка!..
— Вызови Еремеева! — подошел к нему Крутов.
— Не могу, — ответил телефонист.
— Что же это ты? Связи нет, а сидишь и не докладываешь!
— Связь есть, товарищ капитан, только телефоном с сегодняшнего дня пользоваться запрещено всем без исключения.
Офицер-шифровальщик, лениво бренькавший на мандолине, повернулся к Крутову и сказал:
— Приказ по моей части... Желаете говорить, пройдитесь пешочком и беседуйте сколько угодно!
Крутов ничего не сказал и пошел в батальон. В зеленой листве звонко пинькали синицы, над полем разносились трели жаворонков, и легкий ветерок шевелил высокую рожь, которую скоро пора было убирать. Дело стояло за несколькими днями хорошей солнечной погоды да за жнецами...
Задумавшись, Крутов не заметил, как свернул на тропку к третьему батальону.
В прохладном полумраке блиндажа за столиком сидел Глухарев и что-то выводил цветными карандашами. Увидев Крутова, он поспешно спрятал листок.
— Здравствуйте! Я вам не помешал?
Комбат указал ему на скамейку — садись!
— Так случилось, что проходил мимо...
— Послушайте, — неожиданно сказал Глухарев. — Вы, кажется, художник?
— Когда-то немного учился... а что? — Крутов был удивлен.
— Да вот, понимаете, какая чертовщина, — Глухарев нерешительно вытащил спрятанный листок. — Надо сыну нарисовать танки, пушки — словом, все атрибуты войны, а у меня ничего не выходит. Целый час бьюсь, а толку ни на грош. У вас наверняка лучше получится...
— Значит, сын жив-здоров?
— Да, нашелся! В детдоме оказался, в Красноярске. На письмо ответил, правда не сам, а воспитательница. Сам он еще малыш, только годика через два в школу, не раньше...
Счастливо улыбаясь, Глухарев достал письмо и небольшую карточку, на которой куча малышей облепила молодую женщину с грустными, но добрыми глазами.
— Вот он, Колька мой, — указал Глухарев. — Какой парень вымахал, а? Совсем ведь кроха был, а вырос! Не узнать теперь...
Колька, пожалуй, такой же, как и остальные, но, если отец находит его особенным, почему бы с этим и не согласиться?
— Орел! — подтвердил Крутов. — Смотри, как брови свел, прямо весь в отца...
Глухарев расцвел от похвалы и тут же подсунул Крутову бумагу и карандаши.
— Так вы нарисуйте что-нибудь такое... — он неопределенно повертел пальцами. — Сделайте одолжение. А я пока насчет обеда соображу.
Он вышел из блиндажа.
Крутов взялся за карандаш. Рука, соскучившаяся по любимому занятию, жадно бегала по бумаге. Прежде всего появился танк, и не один, а целая танковая рота. Стремительные «Т-34» мчатся на врага. А самолеты над ними. На крыльях у них горят звезды: сразу видно, что это свои самолеты. На другом листке в верхнем углу появился летящий к земле «мессершмитт». Он объят пламенем, за ним стелется черный хвост дыма. Из нижнего противоположного угла бумаги по нему ведут огонь стрелки — это они и подбили самолет врага. Середина листа осталась чистая. Крутов подумал немного, потом нарисовал овальную рамочку и в ней Глухарева в профиль, такого, как всегда: в пилотке, с темной прядью волос, свисающей на лоб, и сурово сдвинутыми бровями. Нос чуть-чуть с горбинкой, щека с резкой мужественной складкой у рта...
Глухарев вошел в блиндаж, глянул из-за плеча.
— Ну, как получилось? О, здорово! Даже портрет! Неужели я такой злой? Надо было подвеселить немного, а то меня малыши бояться будут...
— Нет, не надо. Так вы больше похожи, и выражение вовсе не злое, а суровое, волевое.
— Вот не знал раньше про ваш талант! Может быть, по маленькой, за сына. А?
Он поставил на стол тарелку с закуской, налил водки в небольшие граненые стопки.
— За вашего сына! — чокнулся Крутов.
Выпили. Глухарев стал заботливо пододвигать закуску:
— Берите, кушайте! Вы не представляете, до чего я был рад, когда узнал, что он жив. У вас еще нет сына? Вот погодите, будет свой, тогда узнаете! А ведь какой молодец, растет и хоть бы что!.. Я все беспокоюсь, не обижают ли их там? Воспитательнице написал. Она, кажется, женщина душевная, должна понимать. Тоже мужа потеряла, одна! Как вы думаете, она с детьми ничего?
Крутов всмотрелся в карточку, сказал:
— Ее ребята обожают. У нее чудный характер.
— Почему вы так думаете? Вы ее знаете?
— Что же тут знать? Видите, малыши ее облепили, как мухи кусок сладкого пирога!
— Правда!.. Вот что значит глаз художника! Напишу ей обязательно. Вам налить?
— Нет, хватит...
— Ну, как знаете, неволить не буду. Говорят, в Красноярске морозы — волков морозить можно!
— Сибирь...
— Может, придется туда поехать, так не знаю, как и перенесу.
— Ерунда, приживетесь! Еще понравится. Сибирь — отличный край, ни на какой другой и менять потом не захотите!
— В самом деле? Было бы хорошо!..
Крутов вскоре отправился обратно в штаб.
«Вот, нащупывает дорогу к счастью, — думал он о Глухареве, который говорил о воспитательнице едва ли не больше, чем о сыне. — Время лечит от самых непоправимых бед». Мысли перескочили на свое, и Крутова так потянуло увидеться с Леной, что, кажется, взял и ушел бы к ней, даже без разрешения.
Непривычная пауза в делах тяготила Крутова. Обычно в штабе бывало много работы, а сейчас свободного времени хоть отбавляй Крутов взялся за какую-то книгу, присел возле блиндажа и только раскрыл ее, как кто-то заслонил свет. Изуродованная рука — всего с двумя пальцами — большим и указательным — протянулась к книге, перевернула ее обложкой кверху.
— «Полевая служба штабов», — сказал Крутов. — Какие новости принес?
Малышко перебросил пару страниц, покачал головой:
— Никак не могу заставить себя читать подобные вещи... А новости какие? Наступать будем.
— Ткнул пальцем в небо! Неужели я об этом не знаю?..
— Не на нашем участке, а к югу от Витебска. Я карты и схемы получил в разведотделе. Вот где разведчики постарались, действительно! Все цели нанесены, занумерованы, как в хорошей бухгалтерии. Чистая работа!
— Ну, там не только войсковая разведка работала, но и авиация. Чернякова видел?
— Он у Дыбачевского. Там все кипит!
— Значит, конец нашему сидению, — сказал Крутов. — Только скорей бы!
Черняков приехал с хорошими вестями. Собрав офицеров, он обвел всех повеселевшими глазами и сказал:
— Ну, товарищи, настает праздник и на нашей улице! Завтра ночью выступаем. Тихо, без шума подготовьтесь к маршу. Ничего, кроме табельного имущества, за собой не тащить. Все, что не сможете поднять, завтра же сдать на склад.
Крутов ждал этих слов, но все равно тревожно екнуло сердце: «Выступать... Значит, с Леной уже не увижусь, может, и совсем». В смятении и тревоге стоял он в блиндаже командира полка, выслушивал приказания, которые тот отдавал связистам, артиллеристам, комбатам, инженеру, записывал для памяти, — ведь придется проверять, а думал все-таки о другом.
Офицеры стали расходиться по своим подразделениям.
У Чернякова вскоре остались лишь Кожевников, начальник штаба и Крутов.
Последние распоряжения... Черняков сегодня не в полевой, а в повседневной форме. Он словно помолодел, в глазах задорный блеск.
— Друзья мои, — обратился он. — Я не знаю, придется ли нам когда еще поговорить по душам! Не знаю! Так давайте сегодня, перед лицом больших событий, поговорим не как начальники и подчиненные, а как товарищи, прожившие годы под одной крышей и перед одними опасностями. Я сегодня был у генерала, и нас вкратце ознакомили с боевой задачей. Мы вступим в бой на второй день, когда гвардия прорвет оборону противника. Дыбачевский нам сказал: «Душа из вас винтом, а вы должны обеспечить дивизии звание «Витебской»...
— Со словами он не церемонится, — усмехнулся Кожевников.
— Мне лично это тоже не понравилось. Но дело не в этом. В конце концов каждый имеет право ставить перед собой и такие цели. Пусть!.. Судя по всему, на этот раз бой предстоит очень серьезный. Нас ждут испытания, размеров и тяжести которых мы еще не можем себе представить. Я не строю иллюзий, поэтому давайте договоримся: в случае, если не станет меня, команду примете вы, Федор Иванович. Ваша очередь вторая, — сказал он начальнику штаба. — Самое главное, команду принимайте решительно, без колебаний, чтобы это не отразилось на выполнении задачи. Ведь вас не надо будет вводить в обстановку, знакомить с людьми. Каждый знает свое место, свои обязанности, но, кто бы где ни находился, думайте о судьбе полка. Речь идет не об официальной ответственности, которая целиком лежит на мне, а о другой — ответственности перед совестью, перед партией, перед народом...
— С кем будет Крутов? — спросил начальник штаба.
— Он будет со мной, на командном пункте, как и всегда. Свои штабные обязанности он знает и будет их выполнять. В отношении его у меня есть кое-какие соображения. Не век же ему киснуть в ПНШа!
«Интересно, — подумал Крутов. — Раньше и речи не было о моем перемещении». Ему нравилась его должность, позволявшая видеть действия целого полка, всегда ощущать себя прямым и активным участником боя. «А вообще-то, не все ли равно, где служить?» — И он опять вспомнил о Лене.
— О чем вы задумались, Крутов? — громко спросил Кожевников.
— Пустяки, личное... — смутился Крутов.
— Он вообще, как влюбился, странный стал, — сказал начальник штаба, не преминувший подтрунить над Крутовым.
— Товарищ полковник, позвольте обратиться к начальнику штаба? — внезапно решился Крутов и, когда Черняков кивнул головой, спросил: — Разрешите отлучиться из полка часа на три-четыре?
— Я не возражаю, — пожал плечами начальник штаба. — Только три-четыре часа — это нереально, поскольку полк, куда тебе надо, стоит далеко не рядом с нами. Как вы, товарищ полковник?
— Согласен, — сказал Черняков. — Прикажи ординарцу оседлать мою лошадь и — до часу ночи!
Крутов, зная лошадь полковника, с которой больше будет мороки, чем пользы, вежливо отказался.
— Пусть возьмет мою, — выручил начальник штаба, — моя полегче на ногу!
— Есть! — козырнул Крутов. — К часу ночи быть в полку!
— Иди, — махнул рукой Черняков, — время дорого!
Когда в блиндаже остались трое, Черняков нагнулся и достал из-под кровати бутылку красного вина, купленную им во время поездки в штаб армии в столовой военторга.
— Молодым свои радости, а нам...
— А может, оставим до Дня Победы? — усмехнулся Кожевников.
— Ко Дню Победы у меня припасена бутылочка коньяку. Я человек запасливый, — отшутился Черняков.
...В это время Крутов во весь опор мчался на резвой лошади. Кончилась проезжая дорога. Дальше надо было ехать тропами. Он сдержал коня: в темноте нехитро было задеть головой за телефонные провода, подвешенные на шестах очень низко.
К расположению санитарной роты он подъехал уже довольно поздно.
— Стой! — окликнул его часовой. — Пропуск!
Крутов ответил и, когда часовой подошел к нему, попросил:
— Вызовите Лукашеву!
— Нельзя. Уже был отбой.
После долгих уговоров часовой позвал разводящего. Либо тот не спешил, либо Лена медлила со сборами, только время истекало. До часу ночи теперь едва оставалось времени лишь на то, чтобы не спеша вернуться в полк.
— Лена, здравствуй! — радостно сказал он, когда девушка подошла к нему.
— Вы с ума сошли! Зачем приехали среди ночи? — Она явно растерялась, поправила сползавшую с плеч шинель и покосилась в сторону часового: — Что случилось?
— Мне нужно с вами поговорить...
— Это еще не причина, чтобы тревожить людей, когда все спят. Можно было приехать днем...
Она стояла рядом, гладила мягкие, вздрагивающие ноздри лошади и нарочно не обращала внимания на Крутова. «Вы слишком много о себе думаете, вызывая меня среди ночи», — говорила она всем своим видом. Крутов понимал нетактичность своего поступка, но как объяснить? Он прямо не знал, как подступиться. Достав из сумки маленький кулек с конфетами, он протянул его девушке.
— Это вам. Получил недавно вместо табака.
— Вот еще! — воскликнула Лена. — Что я, маленькая? — но конфеты взяла. Лошадь потянулась к кульку горячими губами. Лена достала несколько круглых конфеток и засмеялась, когда лошадь, щекоча ей ладонь, схватила и начала катать их во рту. — Ну, говорите, зачем приехали?
Крутов начал злиться, теряя последние шансы на душевный разговор.
— Я приехал посмотреть на вас, поговорить...
— Ну, так что? — Лена выдерживала холодный неприступный тон.
— Так, ничего... Кажется, не ко времени. Мне пора возвращаться.
— Как хотите! До свиданья, — сказала она. — Я и так задержалась с вами.
— Ах, вот как... — Крутов сердито дернул подпругу, безжалостно ее затягивая. Кинув поводья к седлу, он молча, не глядя на Лену, вскочил в седло. — Прощайте! Может, больше не увидимся вовсе...
Она уловила тревогу в его голосе, что-то необычное.
— Павел, погодите, Павел!..
Но он что есть силы хлестнул лошадь, и та вздыбилась, понесла... Какой-то внутренний голос, возможно, голос разума, а может, сердца, говорил: «Вернись, еще не поздно, вернись, дурак!» Но Крутов упрямо мотал головой: «Пусть дурак, пусть!» — и продолжал лететь, сломя голову, хотя сердце звало его назад.
Глава пятая
Ночи стояли пряные, теплые, короткие, когда едва не сходились заря с зарей. По шоссе, во всю его ширину, нескончаемым потоком двигались войска в сторону передовой. Серединой дороги с лязгом и грохотом мчались танки с надфарными затемнителями и самоходные орудия, крытые брезентом реактивные установки, грузовики с боеприпасами и снаряжением, с орудиями и минометами на прицепах.
Все, что не могло двигаться с такой скоростью, шло по обочинам. По одной — тягачи волочили длинноствольные дальнобойные орудия, разукрашенные для маскировки пятнами. Тяжело катились пушки, и казалось, укатанная гусеницами, тысячами колес дорога прогибалась под тяжестью этих гигантов войны, как гнется спина под непосильным грузом. Стук шагов, шорох одежды, говор и команды нескончаемой людской массы, вливавшейся в общий поток, цоканье копыт артиллерийских упряжек, скрежет и перестук многочисленных повозок стояли над другой обочиной.
Бесконечное движение, шум колонн, запахи бензина, керосина, дизельного топлива и конского пота создавали ту необычно приподнятую атмосферу, которая властно захватывала всякого, кому хоть раз доводилось бывать на фронтовых дорогах перед большим наступлением. Попадешь на такую дорогу, и кажется, что это сама Родина, одетая в каски и пропотевшие гимнастерки, с винтовками, пулеметами и автоматами, танками и орудиями двинулась на врага...
Над войсками беспокойно врезывается в звезды голубой луч прожектора. Вспыхнув сзади, из-за Лиозно, он обмахнет с полнеба, на мгновенье задержится на уснувшем облачке, задрожит и начнет ощупывать весь небосклон от края до края.
Этой дорогой во главе своего полка шел и Черняков. Жадными глазами провожал он танки, самоходные орудия, «катюши», обычную артиллерию. Наконец-то! Говорили, что гвардия уже на исходном положении и что сзади сосредоточены танковая армия и механизированные войска. Черняков не решался верить всему, что слышал, — мало ли что наговорят! — а сердце твердило: «Верь, верь, так и должно быть. Пора!» Враг разбит под Ленинградом и Новгородом, выиграна битва за Днепр и Правобережную Украину, освобождены Одесса и Крым, на юге Красная Армия вступила в Румынию, подошла к границам Чехословакии... Значит, взятие Витебска станет частью гигантского сражения, которое может выйти далеко за пределы Белоруссии. Недаром на воззвании Военного совета армии к бойцам и офицерам в виде эпиграфа приведены слова Верховного Главнокомандующего о том, что задача Красной Армии — в ближайшее время полностью очистить советскую землю от фашистских захватчиков, восстановить границу Советского Союза на всем протяжении от Черного до Баренцева моря...
Граница! Не он ли отступал в сорок первом году, оставляя ее позади и еще не зная, что потребуется целых три года упорной кровавой борьбы, чтобы снова приблизиться к ней.
Он всегда любил труд, создающий материальные ценности, любил заниматься воспитанием... Даже строя перед войной укрепленные районы, он доказывал другим, что это не для войны, а просто крепкие двери и засовы, без которых государству нельзя. Неудачи первых сражений потрясли его, но он нашел в себе достаточно сил и мужества, чтобы не растеряться. Еще тогда он понял, что исход войны зависит от народа, от того, как будет освоен во всех деталях военный труд, как будут изучены приемы врага с одной главной целью — превзойти его потом в мастерстве. Кто знает, может, сейчас его полк идет не только навстречу очередному, только более сложному экзамену на аттестат воинской зрелости... Может быть, за развернувшимся громадным сражением покажется близкая, воспетая в мечтах и думах ПОБЕДА.
Черняков оглянулся. В сумерках близкого рассвета плотной массой шли за ним его люди. Он был уверен, что никто из них не отстанет. Плечо в плечо с ним, тоже задумавшись, шагал Кожевников.
«Мне просто повезло, что в спутники на всю войну попался такой человек, как Федор Иванович», — думал Черняков. Они умели находить общий язык и, работая над одним делом, не мешали, а поддерживали и дополняли один другого. Человек — не сорока, перо в перо не родится. Сколько нужно было упорства, труда, умения, любви, веры в правоту своего дела, чтобы из разношерстной массы воинов сколотить устойчивые, надежные подразделения.
Неоценимую помощь в этой работе всегда оказывал Кожевников, без лишних слов направлявший усилия коллектива на выполнение боевых задач. Плоды большой партийно-воспитательной работы сказывались. Полк был активной единицей в дивизии, он был устойчив (в этом уже давно не было никакого сомнения!), учился и овладевал искусством большого наступления.
...Вблизи передовой единый могучий поток войск расходился по отдельным дорогам. Темные рощи, кустарники жадно впитывали в себя вливавшуюся массу людей и техники. Порозовело небо на востоке. Рассвет. Травы стояли седые от росы. Навстречу первым лучам солнца из-за линии фронта поднялась «рама». Фашистский летчик стал кружиться над передовой, но на дорогах было уже пусто. Звено наших истребителей пыталось сбить вражеский самолет, но тот, ловко увертываясь, ушел в свое логово.
Подозрительная тишина на фронте, непонятное передвижение пехоты вблизи передовой и внезапные чувствительные удары по отдельным пунктам обороны сбивали Гольвитцера с толку. Самая тщательная расшифровка снимков, сделанных разведывательными самолетами, ничего не прибавила. Не доверяя офицерам, Гольвитцер сам с лупой в руках терпеливо просматривал снимки, не давал покоя летчикам. И хотя разведка, как и прежде, не давала ничего конкретного, он нервничал. Какое-то подспудное чувство подсказывало, что против него готовится удар, и чем он будет внезапней, тем сильнее грянет. Гольвитцер стал частым гостем на радиостанции. Усевшись рядом с радистом, он заставлял его ловить сигналы русских станций в надежде обнаружить появление новой. Тщетно! Прекратилась перекличка даже тех, о присутствии которых он знал.
Гольвитцер стал плохо спать. Поднявшись среди ночи, он выходил на улицу и подолгу стоял, прислушиваясь, как гудят в небе невидимые глазу эскадрильи дальней бомбардировочной авиации. Времена меняются: раньше самолеты летели к Москве, теперь, он знал, они идут бомбить города Германии.
Со стороны города доносились глухие сильные взрывы. Это по его приказу саперный батальон взрывал мосты и трубы, а в узких местах и само полотно шоссейных дорог, чтобы они стали непроходимы для русских танков и артиллерии...
В городе высились стены кирпичных зданий и заводские трубы. Зачем оставлять ориентиры для русской артиллерии? И рыжая пыль облаками вздымалась над городом. Все, что уцелело от пожаров и бомбежек сорок первого года, сейчас, в сорок четвертом, планомерно, зачастую средь бела дня, взлетало на воздух. Под городские мосты через Западную Двину были заложены фугасы, чтобы в нужную минуту уничтожить и их. Саперы не знали отдыха — взрывали, минировали и снова взрывали... Свершалась предосторожность, — считал Гольвитцер, — а на самом деле — самое гнусное преступление этой войны — уничтожение всего, что невозможно удержать, лишь бы не досталось народу — хозяину.
Не раз, склонясь над картой, Гольвитцер задерживал взгляд на образовавшемся вокруг Витебска полукружии фронта и мысленно представлял, как ударами с двух направлений русские замыкают кольцо... Очень неприятная обстановка! Если выравнивание фронта допускается в других местах, то здесь это прямо-таки необходимо. Стоит отвести войска за озера Сарро и Липно, и русские сразу будут лишены преимуществ, больше того, если они что-то замышляют, им придется отложить свои намерения на несколько месяцев, нужных, чтобы оглядеться на новом месте. А что, как не отсрочка, больше всего нужна сейчас Германии?
Очень кстати пришло сообщение — в корпус выехал фельдмаршал Буш. Представлялся удобный случай довести свои соображения до сведения ставки Гитлера, и Гольвитцер решил этим воспользоваться. Вызвав начальника штаба, он приказал подготовить все необходимое для приема высокого гостя.
Генерал-фельдмаршал прилетел восемнадцатого июня. Дверца самолета открылась, и в ней встал, щурясь на свет, высокий, прямой старик в парадной форме.
Пронзительно взвыли фанфары военного оркестра, и почетный караул, составленный из отборных эсэсовцев и гренадеров, застыл тяжелыми темными шеренгами. Отсвечивали матовые, только что взятые со склада, без единой царапины, широкие металлические шлемы.
— Ваше превосходительство, господин фельдмаршал, — громко рапортовал Гольвитцер, — Витебский укрепленный район прочно удерживается войсками пятьдесят третьего армейского корпуса. — Он сделал паузу, необходимую для того, чтобы перевести дух, и уже не так громко добавил: — Кампфкомендант района — генерал от инфантерии Гольвитцер!
Буш, прилетевший в Витебск с особыми поручениями от Гитлера, привык к подобным церемониям и совершенно не придавал им цены. Вяло сунув руку Гольвитцеру, он пошел вдоль шеренг почетного караула. Его занимали дела поважнее, и он шел, уставив взгляд в землю. Перед глазами мелькали широкие носки начищенных солдатских сапог, обрамлявшие утоптанную пыльную дорожку. Подошла машина Гольвитцера. Привычным движением адъютант распахнул дверцу, генералы сели, и машина помчалась с аэродрома. Рассеянным взором Буш скользил по сторонам, не задерживая его на привычных картинах разрушения: грудах кирпича, из которых торчали покореженные металлические конструкции, жилищах без рам и дверей, с одними лишь стенами, вереницах печных труб, оставшихся на месте деревень, запущенных садиках с засохшими деревцами, под которыми поднимался бурьян...
— Если не ошибаюсь, город пуст? — спросил он, поворачиваясь к Гольвитцеру.
— Да. С прошлой осени, как только город оказался в прифронтовой полосе, мы начали выселение жителей. Население, сочувствующее партизанам и выжидающее только случая, — плохое соседство для солдат имперской армии, стоящих на передовых рубежах. Еще как-то оправданы жертвы от рук врага на фронте, но недопустимо терять солдат от рук населения. Это подрывает дух армии.
— Вы правы, — кивнул головой Буш. — У фюрера солдаты на счету, и мы обязаны их беречь. Германия сейчас наводнена чужеземцами, которых мы ввозим в больших количествах, чтобы поддержать промышленность и сельское хозяйство. Солдаты требуются и там. Надеюсь, наиболее трудоспособная часть населения призвана вами для служения Германии?
— Мною приняты меры, чтобы ни один русский не остался в пределах прифронтовой полосы. Жители сведены в специальные лагеря, а там среди них производят отбор... Такова директива оперативного управления... У меня этими вопросами всецело занимается полковник Шмидт.
— Да, генштабу пришлось пойти на разработку этой директивы, — кивнул Буш. — Кейтель не мог иначе поступить, поскольку было указание фюрера. Армия решает очень сложную задачу!..
Буш вздохнул. Он не хотел высказывать Гольвитцеру своих взглядов на обстановку, сложившуюся в ставке. С отставкой Браухича с генералитетом окончательно перестали считаться при решении общеполитических вопросов. Только советчики, исполнители. Что поделаешь...
Машина миновала поднятый шлагбаум у деревни Мишково и остановилась перед домом, занимаемым Гольвитцером. Чисто выметенный дворик был посыпан песком, заборы побелены. В сторожевых будках, сдерживаемые часовыми, бесновались серые овчарки.
— Прошу, — предложил Гольвитцер своему спутнику. — Заранее извиняюсь за скромность обстановки...
После небольшого отдыха и обеда Буш прошел в кабинет Гольвитцера, чтобы с глазу на глаз поговорить с ним о цели своего приезда. Но прежде он хотел бы выслушать Гольвитцера.
— Зимой, — начал спокойно говорить тот, — восточнее Витебска русские предприняли пять наступлений силами армии, занимающей фронт перед моей обороной. В результате мы вынуждены были оставить наше предполье и вплотную отойти к системе укреплений — основным позициям Медвежьего вала. Главным узлом нашей обороны является город. На подступах к нему мы создали несколько, обводов оборонительных рубежей, соединив их между собой отсечными позициями. На них мы сумеем сдержать любой натиск.
— Значит, поскольку ваши позиции неприступны, у вас дело обстоит благополучно, как на линии Зигфрида? — осведомился Буш. Сколько раз приходилось слышать ему подобные заверения!
— Нет, я этого не сказал, — возразил Гольвитцер, уловивший нотку иронии.
— Вот как?! — живо заинтересовался Буш. — Как же вас тогда понимать? Объясните!
— Позиции неприступны на моем участке, в этом русские имели возможность убедиться не раз. Но, рассматривая объективно создавшееся положение в целом, я считаю своим долгом указать на уязвимое место в системе нашей обороны. Вот она — ахиллесова пята! — Гольвитцер протянул руку и обвел на карте фронт к северо-западу от Витебска.
— Гм, странно... — хмыкнул Буш. — Прошу поконкретнее.
— Зимой, после прорыва со стороны Невеля, русские сильно потеснили наши войска, оборонявшиеся северо-западнее Витебска, перерезали шоссейную дорогу Витебск — Полоцк, и только исключительными усилиями мы удержались и не допустили дальнейшего развития прорыва. Фактически, хотя мы и сохраняем дорогу на Полоцк за собой, но пользоваться ею не можем из-за близости к фронту. Такое же положение с дорогой на Оршу. Я понимаю, что город, который мы укрепляем, не считаясь с трудом и затратами, является бастионом всей обороны, но сейчас этот бастион обложен с трех сторон и для нас создается угроза быть отрезанными в случае нового удара русских на этом направлении. Взгляните сами...
— Вы разве располагаете данными о готовящемся здесь наступлении?
Гольвитцер пожал плечами:
— Таких данных пока у меня нет, но я имею опыт в подобных делах и говорю к тому же: «в случае», — сделал он ударение на последнем слове. — Так вот, в случае нового удара мы можем потерять многое, если не предпринять сейчас некоторых мер...
— Что вы имеете в виду?
— Немедленно оставить Витебск!
— Оставить?! — Буш сурово, в упор посмотрел в лицо собеседнику, словно стараясь убедиться, не ослышался ли он.
— Да, оставить! — твердо повторил Гольвитцер. — Отвести войска из угрожаемого района на другой рубеж, выровнять позиции и, лишив противника преимуществ, которые он имеет при нынешнем начертании фронта, принудить его к передышке. Мною подготовлены все мероприятия по осуществлению отвода войск на рубеж реки Черногостница, озер Сарро и Липно. В частности, заканчивается разрушение всех наиболее прочных зданий города, подготовлено минирование дорог. Все, что вы здесь видите, может быть уничтожено в последний день перед отводом.
— Должен вам лишь подтвердить, что фюрер и слышать об этом не захочет... Ваши страхи сильно преувеличены, генерал!
Гольвитцер понял: его тайное стремление уйти от опасности, которая нависла над Витебской группировкой, отгадана Бушем. Однако, горделиво встав в позу оскорбленного человека, он продолжал настаивать на своем:
— Мои соображения продиктованы не страхом, а моим опытом, моим солдатским долгом перед фюрером и Германией. — Глаза его сверкали как бы в порыве возвышенных чувств. — Даже позор отступления готов я принять на себя ради будущей пользы.
— Фюрер и ставка считают, — произнес Буш, — что русские, после серии ударов, которые они провели в этом году, не имеют достаточных сил для наступления на центральную группу наших армий. Место будущих столкновений в районе Ковеля. Туда сейчас прикованы наши силы и внимание.
— Значит?..
— Значит — никаких мыслей об отходе и оставлении занимаемых ныне рубежей!.. Фюрер знает вас лично как исполнительного, примерного генерала и поручил мне передать, что полагается на ваше мужество и способности, которые не будут оставлены без внимания. Витебск для нас представляет исключительное значение. Он — одно из главнейших звеньев нашего восточного оборонительного вала.
— Воля фюрера для меня закон, — встал и склонил свою голову Гольвитцер, которому польстили слова фельдмаршала. — Город превращен мною в крепость, и скорее русские захлебнутся своей кровью, чем войдут в него. Можете заверить фюрера от моего имени, что мы будем стоять до последнего человека!
— А как ведут себя русские? — переменил тему разговора фельдмаршал. Он вовсе не намеревался передавать чьи-то дикие проекты Гитлеру, да еще об отступлении, когда с фюрером от одного лишь упоминания этого слова делаются чуть ли не припадки. За последнее время Гитлер вообще никого не стал принимать, кроме двух-трех человек из генералитета да главарей партии. К нему нельзя попасть, минуя мрачного Бормана, ненавидящего армейскую верхушку. К сожалению, он пользуется неограниченным доверием Гитлера. Бушу многое было известно, но говорить об этом рискованно, и он, в ожидании ответа, потянулся к сигарам, которые ему предусмотрительно придвинул Гольвитцер.
На мгновение он залюбовался прекрасной сигарницей, гравированной с редким искусством.
— Прекрасная работа, — сказал он, разминая сигару и всматриваясь в рисунок танцующих пастушков и пастушек, чьи фигурки были вписаны в общий узор, украшавший стенки коробки, — генерал Паулюс сумел бы оценить эту вещицу. Он был знаток в искусстве... Французская?
— Да. Сейчас трудно найти вещь, радующую глаз понимающего человека. Вы спросили, как русские?
— Да, да, — кивнул Буш.
— Перед моим фронтом у них даже гвардия и та не укомплектована до норм военного времени, а для наступления, как известно, нужен значительный перевес... Но они что-то замышляют, потому что ведут себя очень скрытно. И за последние дни предприняли три разведки боем. Нам пришлось оставить после двухдневных боев одну очень важную высоту... Когда я вызвал авиацию, у русских тоже появились бомбардировщики, хотя раньше, в течение полугода, их тут не отмечалось. Все это внушает мне большое беспокойство, и я принимаю необходимые меры. Хуже, если наступление начнется не здесь, за себя я спокоен, а у соседей. Тогда мы окажемся в окружении. Это самое неприятное...
— Какой участок у себя вы считаете наиболее опасным?
— С востока. Здесь у меня две авиаполевые дивизии. Гренадеры. На стыке с соседним корпусом группа полковника Проя. Русские всегда стремились взять город, а не идти в обход.
— Тактика русских меняется, — задумчиво сказал Буш. — Не следует полагаться на правила... Должен сообщить для вашего сведения, что обстановка для нас слагается очень неприятная. Случилось то, о чем предостерегал всегда генеральный штаб: мы вынуждены вести войну на два фронта. Высадка англичан и американцев на континент все-таки совершилась. Пока у нас там достаточно сил, чтобы локализировать десанты, но что будет в дальнейшем? Сами понимаете, мы не можем перебросить с востока на запад ни одной дивизии. Что бы ни случилось в дальнейшем, главный наш фронт — на востоке!.. Сознанием непоколебимой стойкости должен проникнуться каждый солдат и офицер. Я прибыл сюда, чтобы рассмотреть с вами и санкционировать любые мероприятия, необходимые для укрепления нашей обороны, а вовсе не для ее выпрямления. Таковы личные указания фюрера...
Фельдмаршал Буш пробыл в Витебске один день и улетел обратно.
Глава шестая
Березин, усталый и запыленный с головы до ног, возвратился из последней перед наступлением поездки в войска. На ходу стряхивая пыль с фуражки, он вошел в блиндаж и прежде всего попросил воды для умывания. Немного освежившись, прилег отдохнуть; сказывалась горячка последних дней. Рядом с изголовьем стояла этажерка с книгами. Березин взял с полочки томик Пушкина, открыл наугад.
...Мария, бедная Мария, Краса черкасских дочерей! Не знаешь ты, какого змия Ласкаешь на груди своей...Нет, читать про Мазепу ему не хотелось. Согнув книгу, он пропустил несколько листков
...И грянул бой, Полтавский бой!..«Хорошо все-таки было воевать раньше, — подумал Березин. — Сошлись, ударились, день-два — и все решено. Поражение или победа. А теперь? Вот сегодня трехлетие непрерывной изнурительной войны. Три года! А можно ли сказать, что уже все постиг? Что ни день, что ни новая операция, то и новые вопросы, хотя за плечами многолетний опыт, к услугам уставы, наставления. Взять человека — бойца. По какому справочнику определишь меру его нынешних человеческих возможностей? В начале войны он был совершенно не такой, как сейчас, а завтра будет во многом отличаться от сегодняшнего».
Березин отложил книгу. Хотелось забыть о насущных делах, чтобы потом взглянуть свежим глазом на проделанную работу. В последнюю ночь перед сражением сон не шел. Березин заново и заново переживал то, что должно наступить только завтра.
Бойцы и офицеры спали сейчас в окопах на переднем крае, коротали летнюю теплую ночь, подложив под голову грубый шинельный рукав или сумку.
Целый корпус гвардейцев введен в первую линию траншей. В окопах, на двухкилометровом пространстве, люди уже третьи сутки сидят чуть ли не плечом к плечу, но сколько Березин ни смотрел со своего наблюдательного пункта, ни одна голова не показалась над бруствером окопа. Молодцы? Конечно! Во избежание хождения введен траншейный пропуск. Но дисциплина такова, что эта мера предосторожности оказалась излишней.
Вернулся с переднего края Бойченко. Умывшись, он вышел на маленькую веранду перед блиндажом. Глубокий овраг был объят тишиной. Ни огонька.
Облокотившись на высокие перила, Бойченко долго стоял, наслаждаясь прохладой. Вся его энергия в последние дни уходила на подготовку предстоящей операции. Прямая подготовка началась двадцать дней назад, а до этого? Разве не были предшествующие бои за Витебск для армии суровой школой? Можно смело сказать: они многому научили армию. Пополняясь людьми, воевавшими в Сталинграде, на Курской дуге, под Ленинградом, на Украине, боевыми участниками сокрушительных ударов по врагу, впитывая опыт других фронтов, армия росла, качественно менялась.
Предстоящая операция — творение сотен и тысяч людей, их труд, их опыт, их безграничная жажда победы. Кто мог заставить орудийные расчеты буквально по полочкам рассортировать снаряды согласно каждой цели, занумеровать их, разложить в идеальном порядке? Кто-то один начал, сотни других немедленно подхватили. На исходе дня Березин указал артиллеристам, что неплохо бы полить водой преддульные конуса, чтобы пыль, поднятая во время стрельбы, не демаскировала батареи. Уезжая с переднего края, Бойченко сам видел, как сотни людей вышли с ведрами, котелками, банками таскать воду для поливки...
Остается каких-то пять часов до начала проверки.
— Как командующий? — спросил Бойченко часового, когда тот поравнялся с блиндажом.
— Лег отдыхать, товарищ генерал. Только что...
— А-а, ну и мне пора!
А Березин между тем ворочался на постели, тщетно призывая сон. Ему так необходимо быть к утру со свежей спокойной головой. Вместо этого о чем только не думалось!
Недавно его вызывали в Москву, и ему удалось встретиться с семьей. Радость, которую он носил, была слишком короткой. Дети повзрослели, были заняты чем-то своим и встретили его настороженно, как ему показалось, даже холодно. Возможно, он сам был в этом виноват, так как мало уделял им времени, весь отдаваясь службе. Странно, но раньше, маленьких, он их любил больше. Что это, возрастное? Он многого тогда не понял, не разобрался. Не было времени, не успел!
Ночью, слушая неторопливые сетования жены на трудную жизнь, он оставался равнодушен к ней. Разве Березин думал когда, что их любовь уйдет бесследно, что им не о чем будет говорить? Разве назовешь разговором эти жалобы на то, что дочери нужны наряды, что у других чернобурки, а у нее их нет, у других удобства, а она якобы лишена их?.. Ведь раньше они прекрасно обходились без всего этого и были счастливы. Или он просто огрубел на фронте?
Он мог задержаться в Москве на лишний день, но не пожелал, и никто из домашних об этом не сожалел, как будто так и надо. Уезжая, уносил тоскливое чувство. Потом, со временем, все это притихло, потеряло остроту и лишь сегодня, в такое неподходящее время, вдруг всплыло...
Березин встал с постели и стал расхаживать по комнате. Перед ним мелькали лица, встречи и разговоры с самыми различными людьми, с которыми сталкивала его служба. Пришли заботы, и среди них, — еще чего не хватало! — «Нужен бы хороший дождь...» — «Ах, черт, не проверил, исполнили артиллеристы мое указание или нет? Ведь метеорологическая сводка предсказывает на завтра солнечный день. Хотя бы ветер был с востока, чтобы дым и пыль от разрывов не закрыли наблюдение после первых же залпов», — подумал он и подошел к окну. За стеклом была темнота, ни одной звездочки.
Не надевая фуражки, Березин вышел за порог. По тропинке прохаживался часовой. В плащ-палатке, с автоматом на груди, он мерно шагал от блиндажа к блиндажу, взад и вперед, и его темная фигура почти сливалась с кустами, как только он отходил на несколько метров. Кое-где проглядывали звезды, но их было мало.
— Вроде облачко? — спросил Березин.
— Тучки ходят, товарищ генерал, — ответил боец, остановившись. Он не знал, чего больше надо командующему, дождя или хорошей погоды.
— Может, все же небольшой соберется, а? — выдал Березин свое тайное желание. — Как думаешь?
— Вполне возможно! Долгого ждать не приходится, а небольшой, глядишь, накрутит. Да и росы нет, вы сами попробуйте, товарищ генерал, лист-то сухой почти... Соберется, непременно соберется, — уже уверенно заявил боец.
Ему было немного жаль генерала. В такой поздний час он не спит и завтра, чуть свет, опять будет на ногах. Хотелось как-то успокоить Березина.
— Вы бы не тревожились, а ложились спать, — сказал он чуть погодя. — Я покараулю и чуть что сразу в окошечко стукну, чтобы знали... Когда его ждешь, так он как раз долго и не бывает!
— Стукни, — согласился Березин и уже повернулся уходить, когда часовой кого-то громко окликнул: «Стой! Кто идет?»
— Не видишь? — раздался спокойный голос Тони-официантки, вынырнувшей из темноты с посудой.
Она поднялась по ступенькам и с укоризной сказала:
— Что же вы про ужин забываете, товарищ генерал?
— Так, устал, наверное, не хочу. Лучше завтра пораньше, часиков в пять...
Она молча пожала плечами: «Смотрите сами» — и пошла обратно.
— Не споткнитесь, — поддержал ее Березин за мягкие, оголенные по локоть руки.
На миг пришла мысль вернуть ее. Стоило сказать одно слово... Он подавил в себе это желание и усмехнулся со скрытым сарказмом. Он не слышал, как во второй половине ночи раздался шорох и первые редкие капли упали на пыльную землю, на листву, которая ждала влаги...
Часовой поднял голову и подставил лицо теплому освежающему дождю. Он улыбнулся, постоял немного, ожидая, когда он участится, и только когда вокруг зашумело, чуть-чуть побарабанил в оконное стекло.
— В чем дело? — спросил Березин, уже забыв о своей недавней просьбе.
— Идет, товарищ генерал, да крупный такой, — сказал часовой.
— А, дождик... — вспомнил Березин. — Спасибо!
Довольный тем, что даже самое ничтожное его желание сбылось, он сразу же снова заснул.
Рано утром Березин был разбужен телефонным звонком.
— Да! — громко сказал он, поднимая трубку. — Березин!
— Вы приказывали вас разбудить...
— Хорошо. Очень хорошо!
Проделав быструю и резкую гимнастику, он сел бриться. Издалека, с юга, донесся ровный тяжелый гул. Березин прислушался, как чуть подрагивает в окне стекло, и взглянул на часы: пять! Наступление у соседей началось. «Минута в минуту. Наш черед через час!» — подумал он и, ощупав подбородок, стал старательно скрести его бритвой. Он еще умывался, когда раздался грохот артиллерийского налета. Это уже на его участке. «Чего доброго, вдруг контрподготовка?» — забеспокоился Березин. Наспех вытершись, он пошел к телефону, чтобы узнать, в чем дело, когда телефон зазвонил снова.
— Слушаю! Березин...
— Доброе утро! — сказал ему Безуглов. — Решил позвонить, чтобы зря не беспокоились. Пустое... Сосед его разбудил, вот он в порядке перестраховки и сделал налет на Шарки и рощу «Кинжал». Я приказал не отвечать...
— Правильно сделали. Я сейчас буду на своем месте, чуть что, звоните сразу туда, — сказал Березин и приказал подавать машину, чтобы ехать на наблюдательный пункт.
Утро было румяное, свежее; по низинам стлался еле приметный туман. Машина, мягко покачиваясь на ухабах, мчалась по дороге. Вместо обычного пыльного хвоста за ней оставалась прибитая дождем колея с четким отпечатком шин.
На высоте 182,9, находившейся неподалеку от деревни Шеляги, в лабиринте глубоких ходов сообщения сновали люди. Командующий прошел в свой блиндаж.
— Василия Романовича еще нет? — спросил он у дежурного офицера.
— Уже здесь, но куда-то вышел, — ответил офицер и стал докладывать обстановку.
Вошел Бойченко, поздоровался и тоже стал прислушиваться. Ничего особенного в войсках за ночь не произошло. Противник вел предупредительный огонь из пулеметов, освещал передний край ракетами. Лишь утром небольшой артналет...
В неизменности поведения противника, пожалуй, было самое отрадное. Значит, гитлеровцы не подозревали о наступлении, разумеется, пока не грянула артподготовка у соседей. Но людям, когда они охвачены тревогой, свойственно в самой простой бездеятельности усматривать глубокий смысл, видеть хитрость, и Березин стал размышлять, а нет ли угрозы в спокойствии гитлеровского командования?
— Если в течение этих остающихся минут ничего не произойдет, это будет просто невероятная удача, — сказал он. — Ведь это значит, что вся наша подготовка прошла отлично.
— Высокий подъем духа в войсках породил строжайшую дисциплину. Все логично, ничего странного, — ответил Бойченко.
В основу всей подготовки был положен приказ фронта, очень интересный по замыслу, хотя и сопряженный с большим риском. Перед фронтом армии от реки Западная Двина до деревни Языково противник имел равные армии Березина силы. Это равенство состояло не в количестве дивизий, а в общем соотношении сил, выраженном в таких единицах, как солдаты, пулеметы, орудия, танки. Уступая немного в численности артиллерии, противник зато имел больше пулеметов.
При равномерном распределении сил по всему фронту нечего было и думать о прорыве обороны. Поэтому решено было собрать ударную группировку на главном направлении за счет ослабления остальных участков фронта. Перегруппировка проходила по рассчитанному до минут плану. За три дня до наступления она была закончена. На правом крыле армии остались совсем незначительные силы. Зато на левом собрали в кулак гвардейские дивизии, танки, почти всю артиллерию. Для развития удара в сторону флангов создали армейский резерв из обычных стрелковых дивизий.
Мало было создать перевес сил в полосе удара, — следовало создать условия, чтобы даже те части, которые оставались перед численно превосходящим противником, наступали. Оказалось, что подобрать командира дивизии на второстепенное направление не менее трудно, чем для главного удара. Для этого нужен был человек не только смелый, но и способный идти на решительный шаг самостоятельно, без оглядки на соседей, начальство и, главное, без надежды на скорую помощь... Командиры гвардейских дивизий исключались, — они решали главную задачу, а среди остальных наконец остановились на кандидатуре полковника Томина, назначенного на дивизию вместо Безуглова.
Полдня — день боя, и станет ясным, правильно ли распределены силы и роли.
Вошел в блиндаж Семенов. Он был озабочен.
— Товарищ командующий, не предпринять ли нам в отношении нашего правого крыла некоторых мер предосторожности?
— Что вы имеете в виду?
— Передвинуть специальные подразделения, заградотряды поближе к переднему краю. Вдруг противник все же надумает контратаковать...
— Тогда нам придется сказать: плохие мы начальники, потому что не знаем ни своих людей, ни противника, хотя и воюем уже три года! — Березину не чуждо было опасение за свой правый, столь ослабленный участок, но он нашел в себе силы не подавать виду, что его это беспокоит. — Сорок пять наших бойцов стоят сейчас против ста пятидесяти гитлеровцев, один наш пулеметчик — против шести. Но как только люди услышат, что мы наступаем, громим противника, пусть попробуют гитлеровцы на них наступать! Сотня бойцов заменит батальон, полк.
— Может, конечно и так, — согласился Семенов, — но все-таки тревожит. Мы еще не привыкли к таким операциям.
— Будем привыкать вместе. Сегодня четвертый год войны — двадцать третье июня, и мы не имеем права быть такими, какими были вчера.
— Давайте проверим часы, — переменил тему разговора Бойченко.
— На моих без пяти минут шесть! — сказал Березин.
Поставив часы по одному времени, все вышли из блиндажа, чтобы увидеть сигнал для начала артиллерийской подготовки.
Медленно ползли стрелки часов. Вздох облегчения вырвался у всех, когда в небе над передним краем образовались черные клубки пятнадцати разрывов зенитных снарядов. Докатился гул выстрелов, и тотчас же тяжело вздрогнула земля, потрясенная мощным залпом сотен орудий и минометов.
Высоко в небе проплыли первые десятки бомбардировщиков, над самой землей с воем пронеслись штурмовики, и новый гром поднял к небу черные мощные клубы дыма, встряхнул землю могучими ударами.
Темный вал дыма поднялся грозовой тучей в ясное голубое небо и поплыл в глубину неприятельской обороны.
— Смотрите, — воскликнул Семенов, — там тоже! — Протянув руку, он указал на юг, где также занималась грозовая туча.
— Земля горит под фашистом! — возбужденно говорил Бойченко. — Не только здесь, но и в тылу! Партизаны не будут сидеть сложа руки!..
— Если бы они сковали резервную дивизию! — ответил Семенов.
— Девяносто пятую? — спросил Березин. — Будет хуже, если Гольвитцер снимет свою авиаполевую... Боюсь, что Томину нечем будет ее сковать!
Грохот настолько усилился, что разговаривать стало невозможно; Березин засмеялся, показал рукой на горло и направил бинокль в сторону переднего края.
Адъютант тронул Березина за рукав:
— Что такое?
— К телефону... Немцы бегут!
Спрыгнув в ход сообщения, Березин поспешно вошел в блиндаж. С передового наблюдательного пункта доносили, что противник, не выдержав артиллерийского обстрела, отходит в глубину своей обороны. Березин не успел подумать над этим сообщением, как его подозвали к другому телефону. Квашин встревоженно докладывал, что его люди без приказа поднялись в атаку, не ожидая конца артиллерийской подготовки...
В блиндаж чуть ли не вбежал генерал с артиллерийскими эмблемами на погонах — командующий артиллерией.
— Что они делают, что делают? — кричал он, обращаясь к Березину. — Они же попадут под свой огонь! Это же срыв всей подготовки!..
— Минутку, — властно остановил его Березин, — сейчас уточним. Квашин, — вызвал он командира дивизии, — в чем дело, почему так получилось? Стихийный порыв, говоришь? А это точно? Погоди, не спеши...
Он отложил трубку и кликнул Бойченко.
— Что-нибудь случилось? — спросил тот, появляясь в блиндаже.
— Квашин говорит, что пехота увидела, как побежали гитлеровцы, и сама, без приказа, поднялась в атаку. Он не может остановить ее, так как это какой-то стихийный порыв. Спрашивает, что ему делать?
— Его атака сорвет весь план работы, — горячился командующий артиллерией. — Впереди еще десять минут разрушения, налет. Может быть, побежали только неустойчивые. Что тогда? Огня прекращать нельзя!
Березин с силой потер лоб, Бойченко хмурился. Оба думали: все «за» и «против», так часто возникающие во время боя, молниеносно проносились в их сознании. Надо было принимать какое-то одно ответственное решение.
— Пехота зря в атаку не поднимется, — сказал Бойченко. — Это действительно бегство врага. Пока мы будем еще полчаса молотить по пустому месту, гитлеровцы остановятся на западном берегу Лучесы, сожгут мосты.
— Значит, атакуем?
— Да, так. Обстановка меняется быстрее, чем предусмотрено. Атакуем!
— Вот вам и «Ч», — заметил Березин командующему артиллерией. — Пехота сама продиктовала его вам. Переносите огонь!
— Ладно, будем надеяться на лучшее, — сказал командующий артиллерией. — По первой траншее у нас работают в основном минометы; как только пехота подойдет вплотную, огонь перенесем на следующий рубеж. Будем вести пехоту за собой!
— Вернее, она поведет вас впереди себя, — иронически поправил его Бойченко. — Приемы боя меняются на глазах.
— Но это, знаете ли, против всяких правил...
— Почему вы стремитесь их придерживаться, когда надо думать о главном?.. Артиллерия обязана проложить дорогу. Пехота считает, что с нее довольно, чего же еще?.. Да, а как у нас с гвардейскими минометами?
— Надо дать им сигнал, немедленно! — сказал Березин и взялся за телефон. На одной линии с Квашиным он услышал голос Безуглова:
— Значит, атакуем все?
— Да, — коротко ответил Березин. — Общая атака!
С обвальным грохотом ударили гвардейские минометы. Рокотали земля и небо, сливаясь воедино во вздымающейся, лохматой черной гриве, поднявшейся над фашистской обороной.
Эскадрильи самолетов волнами шли на запад.
Березин вызвал начальника штаба Семенова, сказал:
— Предупредите воздушную армию. Мы пошли, пусть держат с нами связь покрепче!
Даже без бинокля было видно, как танки, догнав пехоту, совместно с ней дружно ворвались на передний край противника. Броня машин была облеплена бойцами, которые на ходу из обычной пехоты превратились в танковый десант.
Все шло вперед в едином порыве.
Глава седьмая
На всех предварительных занятиях, была ли то учебная игра на картах или на ящике с песком, где руками армейских умельцев было воспроизведено все, что находилось на местности — от домика до отдельного окопа, — Березин указывал на захват мостов через Лучесу как на одно из важных условий наступления. Лучесу удалось форсировать зимой, но плацдарм, удерживаемый армией, оказался в стороне от полосы прорыва. Теперь, летом, если бы не удалось захватить мосты, для переправы войск потребовались бы понтоны, штурмовые мостики, лодки. Постройка переправ — дело канительное, требующее уйму времени, а в наступлении каждая минута на счету. Фотографирование с воздуха показывало, что у гитлеровцев в полосе наступления есть мосты, но захватить их нелегко, поскольку противник при отступлении всегда старается их сжечь или взорвать.
Это хорошо понимал и Кожановский. Серьезный и настойчивый, он не любил в военном деле суеты и лишних разговоров. Генерал намечал не один вариант захвата моста. Надо было придумать какой-нибудь необыкновенный ход. В конце концов мост начал превращаться в его голове в какую-то навязчивую идею.
После многих размышлений Кожановский остановился на варианте захвата моста танковым десантом из лучших автоматчиков полка. На учениях этой группе лихих бойцов уделялось особое внимание. Они знали, какая задача их ожидает, и это возвышало их в собственных глазах.
Со своего НП генерал увидел, что пехота Квашина поднимается в атаку раньше времени, и стал с нетерпением ждать общего сигнала. Началась атака, танки и самоходные орудия ринулись вперед. Безуглов позвонил и напомнил:
— Не забыл про мост? Действуй!
Первую линию вражеских окопов дивизия прямо-таки перепрыгнула, не задержавшись на ней ни на минуту. Через полчаса Кожановский узнал, что взята вторая линия траншей, что захвачены немецкие орудия прямой наводки, не сделавшие ни одного выстрела. Точность артиллерийского огня наступающих оказалась выше всяких похвал. Потом привели ошалелых от страха первых пленных.
— Никто не ждал наступления... Огонь ужасный... Все погибло, — говорили они.
Безуглов, узнав о показаниях пленных, приказал:
— Как раз то, что нам надо! Используй фактор внезапности. Пока враг не опомнился — жми!
— Мои сейчас будут на Лучесе, — сказал Кожановский. — Считаю нужным оставить наблюдательный пункт и проследить за форсированием лично.
Безуглов согласился, но поставил условие:
— Где бы ни был, каждые полчаса входи в радиосвязь. Да смотри, не проворонь моста!
Кожановский достал из сумки лист аэрофотосъемки, еще раз внимательно всмотрелся в еле заметные светлые полоски дорог и тропинок, идущих от переднего края к переправе. Хотелось лишний раз убедиться, что маршрут, которым посланы к мосту автоматчики, кратчайший. Успеют ли? Он увидел идущую к переднему краю колонну машин с переправочными средствами. Шла армейская понтонная часть, чтобы навести переправу, если мост не будет взят или окажется с малой грузоподъемностью, недостаточной для танков и тяжелой артиллерии. Кожановский воспринял это, как недоверие к себе.
«Сомневается», — подумал он о командующем, глядя на высокие колыхающиеся машины с разборными понтонами.
— Эх, десантик бы! — с тоской вырвалось у него, и в сердцах он даже ругнул авиаторов, которые готовы день-деньской кружить в воздухе, а не могут выбросить в район моста хотя бы человек двадцать—тридцать парашютистов. Он ручается, что мост был бы цел!
Но выброска десанта невозможна.
Рядом кто-то кашлянул. Кожановский обернулся и увидел лейтенанта Шеркалова. Приветствуя, тот быстро приложил руку к пилотке и оторвал ее красивым взмахом. «Товарищ генерал, у вас есть разведчики, которые кое на что годятся, — говорил он всем своим видом. — Они ждут только приказа!»
Внезапно Кожановскому на ум пришла смелая мысль. Еще не веря как следует в ее осуществление, он прикинул в голове возможные препятствия и риск.
— Каши маслом не испортишь, — промолвил он наконец. — Танковый десант от полка пусть действует сам по себе, а дивизионная группа особо. Шеркалов! — громко сказал он лейтенанту. — Давай сюда свой взвод.
Разведчики находились тут же возле наблюдательного пункта и собрались быстро. В желто-зеленых маскировочных халатах, с гранатами, в лихо сдвинутых набекрень пилотках, они старались по лицу комдива предугадать, какое задание он им поручит.
Шеркалов, уже как следует освоившийся с фронтовой обстановкой, знал, что многословность вредит репутации офицера, и отрапортовал коротко:
— Взвод готов к любому заданию!
— К любому? — переспросил Кожановский и сделал вид, что размышляет — хорошо это или плохо? — Хорошо! Есть одно заданьице, но его надо выполнить с блеском. Вам, как взводу, в котором служил Герой Советского Союза Григорьев, это по силам, но...
Шеркалов, гордившийся тем, что генерал лично ставит ему задачу, чем не могут похвалиться даже комбаты, обернулся к своим бойцам и многозначительно двинул бровями: не упускай, мол, случая, орлы!
— Не оскандалимся! Выполним! — загремели разведчики.
— Ладно, верю! Надо взять пленного, но только не где-нибудь, а с моста, и немедленно! — Эта мысль только что пришла в голову Кожановскому. Зимой ему попало за неправильное использование разведчиков при взятии станции Заболотинка, зато теперь никто ни в чем не обвинит, посылает не мост брать, а «языка». Это ли не прямая обязанность разведки?
Подошли две грузовые машины.
— Лейтенант, карту! — звенящим голосом, в котором не осталось и капли лукавства, приказал Кожановский.
Шеркалов выхватил из планшетки карту.
— Мост, вот он! Сейчас к мосту подходит танковый десант. Приказываю на полной скорости, всем взводом проскочить туда раньше десанта и захватить пленного с моста... Действуйте, да смотрите, чтобы вас не обскакали! Меня ждать на мосту!
— Есть захватить пленного с моста и ждать вас там! — козырнул Шеркалов и, обернувшись к своим бойцам, крикнул: — По машинам!
Машины рванулись вперед. Кожановский следил за ними взглядом до тех пор, пока они не скрылись из виду.
— Возможно, что и проскочат, — сказал он себе и поехал следом за ними.
Шеркалов, ухватившись за кабину, стоял на подножке первой машины и смотрел на дорогу. Сплошной светлой лентой убегала земля под колеса.
Машину ужасно швыряло, и его ребята (он вправе был называть их так, поскольку взвод сплошь состоял из молодежи), как мячики, прыгали в кузове, стараясь не вылететь за борт. В такие мгновенья Шеркалов подбадривал их:
— Полный! Жми!
— Жми! — кричали возбужденные разведчики, захваченные лихой ездой и ответственностью полученного задания.
Шарахались в стороны от машин идущие по дороге бойцы и недоуменно смотрели вслед. Показалась пехота первых цепей, танки и самоходные орудия с десантом. Разведчики с удивлением посмотрели на двигавшийся среди других машин «тигр» с надписью на башне «За Угловского!» Его снова вел лейтенант Куликов.
Шофер вопросительно посмотрел на Шеркалова.
— Давай, давай, — махнул тот рукой, — обгоняй. Полный вперед!
Танки, хотя на них и находился десант, старались не отрываться от стрелковых цепей, идущих за ними следом. Шеркалов помахал рукой бойцам, сидевшим на броне первого танка. Больше впереди не было никого из своих. Что ж, правильно! Ведь генерал приказал обогнать десант и прорваться к мосту первыми.
Шеркалов уже имел достаточный опыт и знал, — если на мосту находятся гитлеровцы, они едва ли подпустят две обычные машины с пехотой. Это ж надо быть просто дураками. Лучше выскочить к Лучесе в стороне от моста, а уж там действовать, как подскажет обстановка.
Дорога вилась среди пригорков, зелени полей и лугов. Впереди показались густые заросли лозняка. Лучеса!
— Сворачивай! — замахал Шеркалов шоферу.
У первых кустарников взвод покинул машины. Сразу же ожил бой, которого не было слышно во время езды. Гремели орудия. Пулеметная и автоматная стрельба надвигалась вместе с шумом приближающихся танков. Фашистов еще не было видно, но стрельба с их стороны тоже доносилась.
Шеркалов дал сигнал, и взвод, понимавший его с полуслова, мгновенно развернулся и принял боевой порядок. Разведчики, где бегом, где скорым шагом, двинулись к реке.
— Товарищ командир, смотрите, — показал Раевский. В стороне прихрамывая, шел гитлеровец. Был он без каски, но с винтовкой. Увидев разведчиков, он долго смотрел на них из-под ладони — мешало солнце, бившее в глаза. Наверное, он старался угадать, кого встретил — своих или русских; немцы тоже носили пятнистые маскировочные куртки и штаны, похожие на халаты разведчиков. Видимо, гитлеровцем овладело подозрение. Отступавшие не могли идти в таком порядке. Он быстро пригнулся и побежал, временами скрываясь среди высокой травы.
— Сейчас он прямо с ходу форсирует Лучесу! — засмеялся Раевский.
Густой лозняк скрыл разведчиков. Меж кустов, поблескивая, медленно струилась спокойная речка. Берега были крутые, высокие. Откуда-то неподалеку доносились беспокойные крики и чужой непонятный разговор.
— Слышите? Мост близко, — сказал Раевский. Сделав знак остальным обождать, он выдвинулся вперед, выглянул из-за кустов и тут же отпрянул. — Товарищ лейтенант, немцы отступают, через мост прут.
Глаза Шеркалова радостно сверкнули.
— Вперед! — подал он команду.
Не заботясь больше об осторожности, он бросился по частому лозняку напролом. За ним устремились остальные. Заросли кончились неожиданно. Разведчики увидели прямо перед собой залитую солнцем луговинку и целехонький мост. Его деревянный настил грохотал под ногами убегавших врагов.
Разведчики резанули по перилам моста из автоматов. Гитлеровцы, находившиеся на мосту, падали, бросая винтовки, прыгали через перила в воду. Те, что были на подходе, кинулись через реку вплавь.
— Группа захвата, вперед! — взмахнул автоматом Шеркалов.
Несколько разведчиков стремительно достигли моста и свалили замешкавшегося раненого гитлеровца, придавив его к настилу. Он смотрел безумными глазами и дрожал от страха. Захватив пленного, разведчики залегли у перил моста, перед мостом по кювету, прямо рядом с убитыми врагами, и открыли огонь. Чтобы дождаться на мосту генерала, надо было обороняться, не допустить к нему гитлеровцев.
— За Григорьева, за дружка! — закричал Раевский и, поднявшись в рост, полоснул из автомата по плывущим врагам, да сам попал на мушку вражескому пулеметчику... Он схватился за грудь и повалился ничком у перил. Булькнул и пропал под водой автомат, выпавший из его рук...
Защелкали разрывные пули, щепки полетели от перил. С того берега, не скупясь, били из пулемета, кричали на мосту гитлеровцы, попавшие между двух огней. Зло сощуривая глаза, по-деловому, сдержанно отвечали разведчики на огонь огнем. Знали: сейчас подойдет помощь. Первые танки с десантом подвалили к мосту.
— Наши!.. — закричали бойцы Шеркалова и приветственно замахали танкистам руками.
Автоматчики мигом скатились с брони, залегли у берега, и закипела, заклокотала автоматная скороговорка. Танки неторопливо, словно нащупывая хоботами орудий нужную цель, повернули башни и полыхнули огнем. Гром орудийных выстрелов прокатился над рекой, и сразу смолк пулеметчик врага. Пригибаясь, по мосту пробежали полковые автоматчики и скрылись в кустах на той стороне. Осторожно, как бы на ощупь, прошла на тот берег первая машина.
Скрипел и стонал мост под тяжестью железной громады, но выдержал, и тогда пошла вторая, третья, дробно застучала каблуками по настилу пехота, и уже не одиночки — поток войск хлынул через мост.
Стрельба ушла дальше, затерялась в густых перелесках на западном берегу Лучесы. У моста оставались только разведчики, ожидавшие генерала. Понурившись, они стояли, тесно сгрудившись; перед ними, на зеленой густой траве, лежал Раевский.
Кто-то тихо сказал: «Генерал», и все подобрались. Шеркалов скомандовал «смирно», бойцы выпрямились и застыли, а он четким шагом пошел навстречу генералу.
— Товарищ генерал, ваше приказание выполнено, пленный взят. Взвод понес потери... большую потерю, — поправился он.
— Не тяни! — нетерпеливо взглянул на него Кожановский.
— Товарищ генерал, погиб при выполнении задания Раевский!
Кожановский нахмурился, шагнул вперед и, отстранив с дороги лейтенанта, поспешно подошел к убитому. Раевский лежал вытянувшись, голубые тени залегли вокруг глаз. Пилотка с красной звездочкой лежала поверх сложенных на груди рук.
Вот он, весельчак, гармонист, лихой разведчик. Рука Кожановского медленно, невольно поднялась к козырьку фуражки. Одновременно с генералом обнажили головы разведчики, безмолвно прощаясь со своим товарищем.
— Мы просим дать нам самое ответственное задание, — голосом, звеневшим от волнения, произнес Шеркалов.
— Прощай, дорогой, — дрогнувшим голосом сказал Кожановский, хорошо знавший Раевского. — Над твоей могилой будут совершены почести, заслуженные тобой, а твои товарищи пойдут мстить за тебя... — Генерал повернулся к Шеркалову: — Готовьте взвод! Пойдете в тыл фашистам на Островно, и пусть лучшим памятником нашему товарищу, любимцу всей дивизии, будет наша скорая победа!
— Есть! — отчеканил Шеркалов. — А что делать с пленным?
Судорога передернула лицо генерала, он резко отвернулся и, направляясь к своей машине, на ходу бросил:
— Сдайте в разведотдел!
Через мост потоком шла пехота, машины, артиллерия. Над генеральской машиной закачался прут антенны: командир дивизии докладывал обстановку.
Получив донесение о захвате моста, Березин всем телом откинулся на стуле и облегченно вздохнул: «Через самый трудный рубеж — Лучесу — перешагнули!»
Рубеж был важен не только как сильно укрепленная позиция, которая могла задержать войска. Главное, радовал факт, что войска правильно восприняли основную его мысль о стремительных темпах наступления.
Сколько раз зимой дивизии теряли темп и застревали перед огневыми позициями неприятельских батарей, а затем начиналось медленное выталкивание противника, бои за каждую высоту, деревню, даже окоп... Именно — выталкивание! И ничего нельзя было поделать.
Березин не в силах был находиться наедине с охватившей его радостью, он должен был с кем-то ею поделиться и вышел из блиндажа. Гул моторов и отдаленное громыхание бомбежки накатывались волнами. Авиация работала, беспрерывно расчищая дорогу дивизиям гвардейского корпуса, обрушивая бомбовые удары на тылы, обозы, скопления войск противника, стараясь подавить его волю к сопротивлению. Штурмовики носились, едва не задевая за верхушки деревьев, и с бреющего полета обстреливали неприятельские батареи. Мимо наблюдательного пункта командующего скорым шагом шли стрелковые подразделения второго эшелона армии. Колонна вытянулась на километры. Обгоняя пехоту, мчались машины с боеприпасами и снаряжением.
Во главе одной из колонн колыхалось знамя, укутанное в зеленоватый брезентовый чехол, а рядом с ним шагал широкоплечий полковник. Березин сразу заметил его по блеснувшим погонам и солидной фигуре.
— Пригласите его ко мне! — приказал он своему офицеру.
Придерживая кобуру пистолета, тот резво побежал к командиру части, перескакивая через ходы сообщения. Полковник что-то сказал своим офицерам и торопливо направился к командующему. Тяжело дыша оттого, что ему пришлось подыматься на бугор, полковник доложил:
— Командир полка Черняков... Из дивизии Дыбачевского... По вашему приказанию!..
Березин поздоровался с ним за руку.
— Куда двигаетесь?
— Полк направляется к переправе!
— Разве иной задачи вам еще не поставили? — удивился Березин. — Переправа уже в тылу... Там останавливаться вам незачем!
— Дальнейшая задача известна: наступать из-за правого фланга Квашина, но на это должно быть особое распоряжение.
— Это другое дело! — успокоился Березин. — Где же ваш Дыбачевский?
— Следует со штабом дивизии за моим полком, — ответил Черняков и невольно повернул голову в сторону дороги. — Генерал легок на помине. Его машина обгоняет колонну...
Дыбачевский, поравнявшись с наблюдательным пунктом, вылез из машины и, почти без усилий перешагивая через ходы сообщений, подошел к Березину.
— Какие будут дальнейшие распоряжения? — осведомился он после обычного рапорта.
Ответить помешал Березину подошедший к нему офицер с бланком телеграммы в руках. Бойченко тоже заинтересовался последней информацией, подошел.
— Что там сообщает нам Безуглов? — спросил он Березина, когда тот пробежал взглядом по расшифрованной радиограмме.
— Это же чудесно! — воскликнул Березин. — Взято Замосточье. Противник бежит, организованного сопротивления нет. Боевая задача первого дня выполнена, хотя, по существу, еще прошло только полдня.
— Крупно шагает генерал! — похвалил Безуглова Бойченко.
— Так чего же нам еще ждать? Надо решать задачу второго дня — завтрашнего. Пришла пора ввести в бой дивизии второго эшелона...
Над головами с оглушительным ревом пронеслись штурмовики. Березин проводил их восхищенным взглядом.
— Ну и молодцы! Мы здесь, под Витебском, еще ведь не видели такой помощи, а?.. Прямо любо-дорого посмотреть. Не мудрено, что все рубежи летят, а скоро и вал затрещит...
— Не то что под Урдомом, — напомнил Бойченко.
Бой под Урдомом был давним делом. Армия Березина вела его весной сорок второго года. Это был первый самостоятельный бой армии. Тогда удалось отбить у противника несколько деревень. Вражеские самолеты с утра до ночи буквально висели над боевыми порядками войск, подвергая их непрерывным бомбежкам и обстрелу. Лишь после настойчивых просьб Березину на помощь были посланы несколько истребителей. Очистив на полчаса небо от «юнкерсов» и «хейнкелей», самолеты улетели, и на этом тогда закончилось взаимодействие наземных войск с авиацией.
— Дела давно минувших дней, — промолвил Березин. — Однако мы отвлеклись, товарищ Дыбачевский. Пришло время поставить вам боевую задачу. Пройдемте в мой блиндаж, а то нам здесь не дадут говорить...
Березин в блиндаже развернул карту и сказал:
— Вашей дивизии приказываю нанести быстрый удар на Добрино, хутора Рудаковские, Камары. Удар приходится вправо от основного направления армии, и мы придаем ему большое значение. Выход вашей дивизии в Камары к берегу Западной Двины будет означать полную изоляцию витебской немецко-фашистской группировки. Начало...
Офицер оперативного отдела штаба армии дословно записывал приказ командующего, чтобы оформить необходимые документы. Дыбачевский записывал и отмечал пункты на своей карте.
— Вам, а не кому-нибудь другому, досталась такая почетная задача — завершить окружение!
Дыбачевский горделиво выпрямился:
— Вашу задачу выполним, товарищ командующий!.. Дивизия окружит противника и первая войдет в Витебск...
— Ну, насчет Витебска вы рано замахнулись, и я вам пока ничего не приказываю, — ответил Березин. — Выполняйте то, что необходимо. Витебск от нас не уйдет!
Дыбачевский и Черняков откозыряли генералам и вышли из блиндажа.
У генеральской машины Чернякова ожидал Крутов. Дыбачевский приказал полковнику, как только полк перейдет железную дорогу у Замосточья, развертывать батальоны и готовиться к наступлению на Добрино.
Не задерживаясь ни минуты возле генерала, Черняков остановил чью-то машину и попросил шофера «подбросить» его и Крутова вдогонку за полком.
— Видал? — спросил он Крутова, когда они слезли с машины.
Не останавливаясь, оба офицера почти одновременно потянулись к своим планшетам, где под прозрачным целлулоидом лежали карты, развернутые на необходимых квадратах. Черняков сразу сосредоточился на размышлениях о том, как лучше расставить силы, чтобы выполнить приказ, который надо было отдать комбатам на остановке. Он смотрел на карту, чтобы полнее представить себе местность, на которой предстояло действовать.
Да, трудный театр военных действий выпал на долю армии. Куда ни ступи на запад от Витебска, от самой Лучесы до озер Сарро и Липно, на десятки и сотни квадратных километров раскинулись леса и болота. Среди непроходимых топей, среди чащоб, между озер, по узким гривкам сухой земли пролегают тонкие ниточки грунтовых дорог. К ним привязана вся техника. Мотор бессилен среди топей и болот, не пройдут там и колеса пушек, как бы ни бились кони в постромках. Значит, волей-неволей держись дорог, как бы далеко они ни уводили в обход урочищ и оврагов. Сама местность помогает здесь немцам. Узкие горловины — дефиле между озерами Добрино и Городно, Сарро и Липно, между глубокими болотами и густыми лесами, кажется, для того и созданы, чтобы здесь обороняться, а не наступать. Тут все на руку врагам...
Исподтишка наблюдая за Черняковым, угадывая смысл его раздумий, Крутов должен был признаться себе, что военное дело неизмеримо сложней, чем он считал раньше. Оно способно захватывать, покорять человека. В нем, как и в искусстве, нельзя быть ремесленником, а только мастером. Любые сведения о противнике мертвы, если их не оживить работой собственного воображения. Или техника. Это совсем не заранее заданные физические свойства моторов, металла, механизмов. Это очень переменная величина, целиком зависящая от того, кто ею распоряжается... Сложными, неуловимыми подчас путями идут размышления в голове человека. Стоило только вспомнить об искусстве, как мысли Крутова переключились на свою жизнь, на личные переживания... Как же резко иногда обстановка заставляет менять понятия. Назови ему еще год назад военное дело искусством, он и не подумал бы связывать его с живописью, которую он избрал для себя пожизненной профессией. А сейчас?.. Или с годами он по-иному взглянул на жизнь? Как ни странно, в обоих случаях он видел сейчас один источник, питающий и размышления командующего перед боем и поиски художника, — творчество!
На минуту Крутов представил себя прежним студентом-художником, попавшим сюда, на эту дорогу, с этюдником, с красками. Не скажешь, что здесь не на что взглянуть! Уж он бы постарался схватить и закрепить на холсте вон те бегущие по лугам тени от облаков и серебристые купы ракитника над Лучесой. Или вон тот окоп! Прежде всего в глаза бросается игра солнечного света на светлом песчаном бруствере, сочность теплых тонов...
Как ни заставлял себя Крутов выискивать самые выгодные экспозиции, художника в нем все время забивал военный, видевший не только оттенки красок, а умеющий тактически оценить расположение окопа для обороны, выгоду ракитника для просочившихся автоматчиков. От такого «двойного» зрения становилось даже досадно.
Раньше, в мечтах поднявшись до светлого Дня Победы, он демобилизовывался, начинал новую, необыкновенную жизнь. При одной мысли об этом душевный трепет охватывал его и в пальцах пробегала дрожь нетерпения: «Да когда же я возьмусь за карандаш, за кисть?» Теперь все казалось сложнее. Хотелось, страстно хотелось, чтобы эта война была последней, чтобы не повторялись эти гибельные для человечества катастрофы. Строят же от наводнения дамбы, от засухи — каналы, находят от эпидемий прививки. Неужели нельзя оградить народы от войн?
Но воспитание, полученное в комсомоле, партии, весь строй жизни, опыт, которого он не мог не учитывать, не позволяли обманывать себя, тешить призрачными надеждами. Как бы ни были горячи наши желания, они бессильны заглушить в нас чувство реальности. «Мы живем в сложной обстановке, — говорил себе Крутов. — Пока существует капитализм, угроза войны будет висеть над миром, и профессия военного не умрет. Наоборот, к ней будут предъявляться все более высокие требования. Будет наша страна сильной, будем мы готовы постоять за себя, — враги побоятся нападать на нас, побоятся свернуть себе шею...» Вот он — Крутов — вырос до капитана, старается стать мастером в своем деле, но его капитанское звание не только формальность, но и долг перед Родиной. Без этого невозможна другая, будущая его жизнь, в которой не обязательно он будет военным. Как прав полковник, сказавший однажды: «Раз мы в армии — все мы должны быть профессионалами, мастерами — военными. Мастерство за плечами не носят, и оно хлеба не просит... А там, как придется, — мирная жизнь так мирная, но будь готов надеть шинель — и военный высшего класса! Вот как должно быть, Крутов...»
Пылила пехота. Молча шагали Крутов и Черняков, каждый погруженный в свои думы. Еще утром здесь не было ни тропы, ни дороги, а расстилалось зеленое поле с сочной травой и редкими глазками цветов. А сейчас земля под ногами взбита гусеницами танков и самоходных орудий, укатана сотнями машин и пушек, утоптана, как дорога, тысячами пар ног. Вправо высились серые стволы орудий гитлеровской полевой артиллерии, искалеченные огненным шквалом. За Лучесой гремела и ухала артиллерия, слышалось громыхание бомбежки, до самых белых пухлых облаков взмахнулись в небо столбы дыма.
Дорога повернула к переправе. В кустах стояли прикрытые ветками машины с понтонами. Лучеса медленно несла свои воды среди густых зарослей, таких тенистых, манящих прохладой и тишиной. В болотистой рыжеватой воде барахтались бойцы, наводившие неподалеку от моста запасную переправу из понтонов. Почтенного вида старший офицер с погонами в черной окантовке, означавшей принадлежность к инженерным войскам, следил за порядком прохождения частей по мосту. Он приветливо поздоровался с Черняковым и, разгладив черные усы, спросил, как старого и доброго знакомого:
— Торопитесь? О, что за день сегодня! Все бегут как на пожар...
— Тороплюсь, — ответил Черняков, облокачиваясь на перила и с удовольствием вдыхая прохладный воздух. — Уф-ф, хорошо!
— Какое хорошо! — шутя запротестовал инженер. — Нас Кожановский без работы оставил. Мы спешили с понтонами ему переправу наводить, а он, на тебе, целехонький мост отхватил!
— Не горюйте, — засмеялся Черняков, — на нашем пути еще переправ столько, хоть отбавляй!
Кожевников издали заметил полковника.
— Немедленно вступаем в бой, — сказал ему Черняков и посмотрел, какое впечатление это на него произведет.
— Чем быстрей, тем лучше! — воскликнул Кожевников. — Мне уже всю душу вымотали: когда да когда? Другого разговора нет. Такой наступательный порыв, что просто жаль, если он перегорит напрасно.
— Командующий приказал нашей дивизии ударом на север перекрыть дороги из Витебска. Это же, черт возьми, полное окружение врага, а потом... Потом стоять и не выпускать его из кольца!
Черняков еще в пути прикинул расстановку сил. Впереди пойдет Еремеев... Как только ему удастся взять Живали, небольшую деревню на узких полосках сухой земли среди обширного болота, сразу же из-за фланга развернется другой батальон. Усанин пусть берет следующую деревню — Гряда. Оттуда по сухой гривке земли он сможет пробраться на другую сторону глубокого болота... Еремееву придется атаковать Добрино прямо через болото, хотя на карте и заштриховано оно, как непроходимое, сплошными синими линиями и посредине стоит цифра «0,6» с голубой, стоймя поставленной стрелкой. Это значит, в нормальных летних условиях глубина воды на болоте шестьдесят сантиметров плюс топкое дно.
С мягким шуршанием подкатила машина Дыбачевского. Генерал приоткрыл дверцу:
— Задачу помнишь?
— Как я могу ее забыть? — недоуменно пожал плечами и, даже чуть обидевшись, ответил Черняков.
— Ну, это к слову пришлось, — добродушно, с усмешкой, проговорил генерал. — Справа, к озеру Городно, пойдет полк Коротухина. Так вот, держи с ним связь покрепче. Как Замосточье пройдешь, — корми людей и тем временем организуй разведку... Ну, что я ученого учу, ты и сам все знаешь! Начало согласуешь со мной, чтобы у вас с Коротухиным дробь не получилась!
— Слушаюсь, — сказал Черняков. — Где вы будете?
— Пока не знаю, обстановка покажет, — ответил Дыбачевский. Когда машина уже тронулась с места, он высунулся и, обернувшись назад, крикнул: — Сообщу потом!
На станции Замосточье парил разбитый горячий паровоз, и несколько вагонов, сбившись в тесную кучу, топорщились своими покореженными ребрами, раздавленными в щепу стенками.
— Работа штурмовиков, — кивнул головой Кожевников, указывая на глубокие воронки от бомб рядом с эшелоном. — Чисто работают.
— А вагончики-то наши, русские, теплушечки, — сказал Черняков. — Кто бы думал, что придется самим свое бить? Ну, ничего, еще лучше отстроим, вот только жаль... Э, да что говорить: лес рубят — щепки летят.
Он остановился, внимательно, осмотрел местность за железной дорогой.
— Крутов! — крикнул он. — Передай комбатам, пусть заворачивают батальоны вон в тот кустарник и немедленно дают сигнал к обеду... Беги быстрей, налаживай дело!
Крутов кинулся выполнять приказание и еще слышал на бегу, как Черняков кому-то кричал:
— Где Малышко? Позовите его немедленно ко мне!..
Глава восьмая
Березин с трудом успевал следить за обстановкой, менявшейся с непостижимой быстротой: радиограммы шли, обгоняя одна другую. Надо было не только знать обстановку, но и руководить действиями войск. Прижав к уху телефонную трубку, он с удовлетворением отчеркнул на карте несколько красных полукружий. Темп наступления не только не угасал, но, наоборот, стал нарастать.
— Бывают же и на войне прекрасные минуты! — невольно вырвалось у него. — Это я не вам, — сказал он Безуглову, от которого принимал донесения. — Но, если желаете, могу повторить и для вас. Приятно отмечать обстановку на карте, когда войска наступают как положено. Ни с чем не сравнимые мгновенья... Что? Не верите?.. Ах, есть лучше! Что ж, позвольте узнать? Да, вы правы! Конечно, самому наблюдать еще приятнее, но это удовольствие не для всех. Если мне идти за вами, не выпуская вас из, поля зрения, то придется только менять командные пункты, а управлять войсками будет некогда. Одну минутку...
Березин отложил одну трубку и взялся за другую. Звонили из Фронта.
— С вами будет говорить командующий, — передал телефонист, и Березин вслед за тем услышал голос Черняховского:
— Добрый день, товарищ Березин! Я только что доложил в Ставку о ваших действиях, о том, что вы начали выполнять задачу второго дня. Там очень довольны успехами вашей армии, одержанными в первый день наступления.
— Значит, правильно воюем? — переспросил Березин.
— Да! Вы сумели организовать действия своих войск. Это облегчает выполнение всего плана операции. Не снижайте взятых вами темпов!
— Мы приложим все силы для выполнения своей задачи, — заверил Березин Черняховского.
— Хорошо, верю! Мехгруппа, которую намеревались ввести в прорыв левее вас, возможно, завтра будет введена на вашем участке. Наведите на ваших дорогах порядок. Имейте в виду, что на долю вашей армии выпадает ликвидация всей витебской группировки. Фронту в эти дни некогда будет возиться с нею. Будете говорить с войсками, передайте им благодарность Верховного Главнокомандующего! Желаю дальнейших успехов!
Березин взялся за другой телефон.
— Безуглов? Передайте всему личному составу от командира дивизии до рядового, что Верховный Главнокомандующий благодарит нас за достигнутые успехи. Теперь от нас зависит деятельность всего фронта. Ни в коем случае нельзя снижать темпов нашего наступления, чтобы не выпустить противника. Никакой передышки врагу! Надо наступать и ночью! Выдержите? Введете резерв?.. Согласен... Тех, кто наступал днем, хорошо накормите, объясните необходимость беспрерывного наступления. Бойцы и офицеры поймут. Желаю успеха!
Березин отложил трубку. С его лица еще не сошло оживление, вызванное разговором с командующим фронтом, когда новые заботы вытеснили чувство радости за успешно начатое дело. Непрерывно поступали новые сведения о продвижении частей, а вместе с ними и не совсем приятные сообщения о противнике.
Словно ощущая какую-то перемену в обстановке, поспешно вошел Бойченко. Березин сообщил ему о разговоре с командующим.
— Надо нам за ночь выполнить задачу второго дня. Каждая минута нашего промедления играет на руку врагу. Мы не должны ослаблять натиска!
— Придется обратиться со специальным воззванием к войскам от имени Военного совета и все это объяснить, — предложил Бойченко.
— Да, это очень своевременно, — согласился Березин. — Не так уж часто нам приходится это делать.
— А что, Дыбачевский, — спросил Бойченко, — хорошо идет?
— Уже взял Добрино. Там не ждали нас так скоро, находились какие-то спецподразделения, которые удалось легко опрокинуть. Рвется к большаку! — Березин остановил острие своего карандаша на неровной линии, означавшей дорогу Витебск — Мошканы. — Думаю, что скоро он перережет этот большак, и тогда у гитлеровцев останется только один выход из города — на запад!
— Сумеет ли он за ночь взять Камары, чтобы к утру перехватить и этот последний выход?
— Нет. Он дальше не пойдет!
— Почему? — удивился Бойченко. — Разве задача меняется?
— Да! Он должен оседлать дороги, ведущие на юг и юго-запад, и стоять! — Березин отчеркнул расстояние от озера Добрино до Городно и дальше до железной дороги, перекрыв красной дужкой большаки Витебск — Мошканы и Витебск — Замосточье. — Стоять не на шутку. Дело в том, что Гольвитцер, очевидно, рассчитывает нанести контрудар нам во фланг. Если его не упредить, это может здорово нам помешать. Вот донесение от Томина. Только что получено...
Бойченко хмуро пробежал глазами телеграмму с изложением показания пленного. Гитлеровцы снимали с восточного участка фронта дивизию.
— Значит, максимально завтра к полудню надо ждать контрудара? — спросил Бойченко.
— Если не раньше, — ответил Березин и пригласил к себе начальника штаба.
Семенов вошел со своей неизменной папкой для доклада, полной бумаг и карт. Втроем они обсудили и наметили мероприятия на ночь.
Томину — наступать! Собрать все силы в кулак и по большаку Поддубье — Витебск наступать на город с востока, до последней возможности задерживая уход с обороны вражеской авиаполевой дивизии. Значит, придется почти полностью оголить участок фронта к востоку от города, оставив на двадцати пяти километрах только отдельные заставы для наблюдения. Но теперь это не страшно.
Дыбачевскому — наступать, а с утра организовать на достигнутом рубеже противотанковые опорные пункты и обороняться.
Безуглову — наступать! У него в подчинении три своих и одна приданная — итого четыре дивизии. Оборона прорвана, теперь хватит и трех. Одну вывести в резерв командующего, остальным выходить, разворачиваясь веером, на Островно, Гнездиловичи, совхоз Ходцы.
В резерв — дивизию Квашина, танковую бригаду, истребительные артиллерийские полки.
— Завтра Квашин продолжит то, что задано было Дыбачевскому, — сказал Березин. Его рука легко скользнула по карте, пересекла дороги и остановилась на голубой ленточке Западной Двины у деревни Камары. — Первый контрудар примет на себя Дыбачевский.
Ночь была не для отдыха. Ночь — для самой напряженной деятельности.
Организовать разведку, пополнить боеприпасы, обеспечить наступающим к утру усиленное питание. Людям не придется спать, и для поддержания сил им надо и по сто граммов водки, и по лишнему куску мяса в виде холодной закуски в добавление к обычному завтраку, и по лишнему куску хлеба. Для одного — унесешь в кармане, для роты — нужна повозка, для десятков тысяч — десятки дополнительных машино-рейсов.
За ночь максимально подтянуть тылы соединений. Всех раненых эвакуировать в тыл и освободить медсанбаты и полевые армейские госпитали для тех, кто будет ранен завтра.
Накормить и эвакуировать пленных. Сегодня их сотни, завтра могут быть тысячи.
Это только наиглавнейшие вопросы, а в ходе исполнения возникнут еще десятки других, надо приказывать, разъяснять, проверять, руководить огромной массой людей. Нет, ночь не для отдыха, ночь — для скрытой напряженной работы, не сделав которой нечего и думать о выполнении завтрашней задачи. Ночь для наступления...
Шифровки полетели в войска. Эфир забит радиосигналами.
Ночь — короткая, летняя, полная таинственных шорохов и неясных желаний, напоенная ароматом цветущих трав, полная очарования и волнующих душу воспоминаний. Ночь — полная лязга железных гусениц, орудийной пальбы, автоматной трескотни, рокота «огородников», разорванная заревом пожаров, всполохами осветительных ракет и молниями рассекающих темноту выстрелов.
Разведчики лейтенанта Шеркалова бесшумно пробираются к Островно, зорко всматриваются во тьму, вслушиваются в каждый шорох, сторонятся врагов и наблюдают, наблюдают, наблюдают... Автоматчики Кожановского, Бабичева, Дыбачевского, щедро обстреливая все вокруг, обходят окопы врага, сеют панику, настойчиво пробиваются к указанным командирами рубежам. Медленно идет пехота, выколачивая противника оттуда, где он думал отсидеться до утра. Ее тяжелая поступь отдается говором пулеметов и грохотом гранат. Урчат машины, подтаскивая пушки и гаубицы за наступающей пехотой.
Опершись на руку так, чтобы свет от лампы не слепил глаза, склонился над картой генерал-лейтенант Березин. Он не выпускает из рук телефонной трубки. Растет перед ним на столе стопка телеграмм.
Генерал-полковник Черняховский отдает последние распоряжения своему командующему бронетанковыми и механизированными войсками. Утром, чуть свет, танки ринутся в пробитые войсками фронта бреши, захлестнут все дороги до Минска, чтобы там, соединившись с танками Первого Белорусского фронта, замкнуть в гигантское кольцо главные силы немецко-фашистских войск в Белоруссии.
Четыре фронта — Первый Прибалтийский, Первый, Второй и Третий Белорусские перешли в наступление, чтобы сообща решить одну большую задачу.
Дымят трубы Урала, Сибири. Зарево электрических огней, не угасая, стоит над Магнитогорском, Челябинском, Свердловском. Сторожевые катера, ныряя в морских волнах, стерегут границы Родины на востоке, и вахтенный матрос, утирая с лица соленые брызги, первым встречает грядущий день. Солнце встает над Приморьем и, пронизывая своими золотыми лучами туман, шествует по сибирским просторам к Москве, к фронту, раздвигает тьму над Белоруссией. Вместе с солнцем на запад движутся эшелоны снарядов, машин, продовольствия, обмундирования. Родина отдает все для фронта, для победы...
Перед утром Березин лег на два часа. С первыми лучами солнца он проснулся, долго плескался в холодной воде, потом вышел на свежий воздух немного размяться.
В десять часов утра Квашин доложил, что он вышел в назначенный ему район сосредоточения и кормит людей. Томин на запрос Березина ответил, что продвигается к окраинам города. Безуглов доложил:
— Мои разгромили обозы и тылы противника на дорогах у Песочна и Замошенья. Кожановский ведет бой за Жарки, Бабичев овладел деревней Плиссы, приданное «хозяйство» вышло в Задорожье. Задача второго дня выполнена. Разведчики Шеркалова донесли, что из Витебска на Островно идет сплошной поток фургонов, автомашин и повозок. Разведчики Бабичева побывали на западном берегу озера Сарро. Рубеж еще пуст, хотя окопов понарыто больше, чем надо. Продолжаю наступление. Еще, — Безуглов на мгновение замолчал, — еще прошу передать нашим воздушникам: пусть летчики не трогают Островно, там в концентрационный лагерь согнано несколько тысяч жителей из окрестностей Витебска.
Дыбачевский доложил, что перекрыл на горловинах обе дороги из Витебска и организует там оборону.
— Моя разведка ночью проникла до деревни Трубачи вблизи Витебска. Через деревню к моему левому флангу прошло до полка немецкой пехоты, — сказал он. — Думаю, что я скоро с ними встречусь! — в голосе его прозвучала ирония.
— Вы встретитесь со всей авиаполевой дивизией, — предупредил Березин, не разделявший его оптимизма на этот счет. — и даже не с ней одной! Томин сообщил, что противник отводит войска на городской оборонительный обвод. Это наверняка высвободит у него еще одну дивизию.
— Это для меня уже многовато!
— Вашу задачу облегчит Квашин. В семнадцать часов он ударит левее вас на Камары и замкнет кольцо. Следите за ним, установите связь, но учтите, — в голосе Березина зазвучали резкие нотки,— ни одного шагу назад! Объясните это как следует своим офицерам и бойцам и примите все меры. Противник может бросить против вас танки!
— Слушаюсь! — серьезным тоном ответил Дыбачевский. — Задачу выполним!
Дивизия Томина перешла в наступление. Она висла на плечах противника, выхватывала пленных, рвалась к городу, задерживала его на каждом шагу, навязывая бой.
Полковник Томин со своими офицерами и связистами все время в боевых порядках одного из полков. В три часа дня он был уже на окраине города у стен полуразрушенного трехэтажного здания какого-то завода. Здесь Томин поднялся на груду кирпича на месте взорванной заводской трубы. Впереди вскипала пулеметная стрельба, бушевало пламя пожаров. Из-за реки, с западной половины города, беспорядочно били немецкие пушки, они замолкали, как только налетала авиация.
К наблюдательному пункту подвели мужчину и женщину — единственных жителей города, долго прятавшихся от фашистов и каким-то чудом дождавшихся освобождения. Исхудавший до последней степени мужчина, бледный и взволнованный, мог еще говорить. Женщина, с выбившимися из-под платка седыми прядями волос, с засохшей на лице тонкой струйкой крови, смотрела на всех полубезумным взглядом и судорожно прижимала к груди старый, растрескавшийся глиняный кувшин.
— Будете с ними говорить? — спросил Томина офицер.
— К чему? Накормите их хорошенько и отведите в безопасное место! — Он отвернулся и стал протирать стекла бинокля, висевшего на груди.
Бой закипел у городского моста через Двину. Командир полка сообщил, что мост захвачен. Гитлеровцы не успели его взорвать, и команда саперов снимает с устоев взрывчатку. При захвате моста отличился Блохин.
— Пришлите его ко мне! — приказал Томин, а сам по длинным запутанным каналам связи стал добиваться разговора с Березиным, чтобы порадовать его важной новостью.
Вскоре на наблюдательный пункт пришел высокого роста сержант с покатыми плечами, в одежде, покрасневшей от кирпичной пыли. Он проверил заправку, быстрым движением одернул гимнастерку и доложил полковнику:
— Сержант Блохин по вашему приказанию явился!
— Так, значит, это вы — Блохин? — спросил Томин, пожимая ему руку. — Расскажите обо всем!
— Я получил задачу помогать переправе подразделений через Двину. Вместе с пехотой выскочил на мост, но немцы уже зажгли шнур. Я успел выхватить запалы и обезвредить толовый заряд. Мост им взорвать не удалось...
— Один вопрос, — перебил его Томин. — Вы первый заметили горение шнура?
— Нет, не первый! Пехотинцы заметили, закричали... Один даже шуганул с моста в воду... — Блохин улыбнулся. — Ну, их дело такое... — спохватившись, что может выставить товарищей в неблагоприятном свете, сказал он, — каждому свое! Они в нашем деле не особенно разбираются, а нас, саперов, обучали...
— Возможно, — согласился Томин, — но поскольку на своем посту вы храбро и мужественно сделали свое дело, вы представляетесь к званию Героя Советского Союза!
Полковник пожал сержанту руку.
— Служу Советскому Союзу! — едва овладев собой, ответил растерявшийся от неожиданности Блохин.
— Ну, до встречи, — сказал Томин, прощаясь с сержантом. — Надеюсь, еще услышу о вас! — Ему надо было спешить к своим командирским делам.
Город по обе стороны реки был окутан дымом. Вот он, но еще не взят. Еще собирает в кулак свои полки Гольвитцер, угрожая тем, кто, прорвав оборону, оказался западнее города и стоит у него на путях отхода. Он шлет против них в контратаки первые батальоны. Он еще не собирается покинуть город, не чувствует себя побежденным, не представляет себе, что петля уже крепко затягивается на шее фашистской группировки, подготавливая ей бесславный конец. Он еще не знает, что дивизия Квашина, поддержанная танковой бригадой и полками гвардейских минометов, ринулась на Камары к берегам Западной Двины. Он не знает, что навстречу ей, к северному берегу двинулись дивизии одной из армий Первого Прибалтийского фронта, чтобы перерезать последнюю дорогу из Витебска.
Слева и справа от Квашина бои. Подходят к Островно полки Кожановского, чтобы замкнуть там второе, более отдаленное кольцо. Успешно отражают первые контратаки полки Дыбачевского. Квашин знает об этом. Возбужденный, красный от волнения, весь в азарте боя, он ощущает удивительную ясность мысли, когда человек может взвешивать, обдумывать, решать в кратчайшие мгновенья. Сейчас у него только одно стремление — вперед! Что фланги? Он не боится за них, потому что сам Березин сказал: «Что делается справа и слева от вас — не ваше дело! Я сам слежу за обстановкой и беспокоюсь о вас больше, чем вы думаете. Ваше дело — Камары!»
Разведчики Квашина рыщут по перелескам и полям вправо и влево от дивизии; они сумеют вовремя предупредить его об опасности, и поэтому вперед!
— Взята деревня Байбороды, — доложил Квашин.
— Не замедлять темпа! Вперед! — говорит Березин и ставит на карте стрелу с хвостиком в виде полумесяца (он никогда не умел их рисовать красиво, хоть и очень старался).
— Взяты Вороны!
— Я доволен вами. Вперед!
— Танки прорвались в деревню Луговые и громят там транспорты противника!
— Не увлекайтесь обозами. Время дорого. Вперед!
Рокочут залпы гвардейских минометов, гремят орудийные выстрелы и справа, и слева, и уже сзади. Где сейчас линия фронта? Она видна одному Березину — полыхающая огнем и пожарами... На всем ее протяжении разгорелось сражение за Витебск, за Белоруссию. Ориентировочно знают о ней генералы. А что знает офицер, боец? Только конечную цель — цель всей войны и команду: «Вперед!»
...Тем более неясной линия фронта была для Гольвитцера. Все попытки штаба уточнить обстановку не приводили к желаемым результатам. Полковник Прой — командир сто девяносто седьмой боевой группы, когда-то дивизии, будто сквозь землю провалился вместе со своими батальонами.
— Мерзавец! Подлец! Трус! — гремел и негодовал Гольвитцер, бегая по своему кабинету. — Расстрелять мало!
Шмидт, никогда еще не видевший генерала в таком возбужденном состоянии, молча пожимал плечами, хотя порой поеживался при мысли о том, что Гольвитцеру придет в голову во всех бедах винить штаб и его, Шмидта. Он пытался порой вставить в подходящие минуты свои соображения, чтобы успокоить Гольвитцера, но только подливал масла в огонь.
— На все запросы по радио штаб группы не ответил, и мною посланы два бронетранспортера с командой эсэсовцев для уточнения положения на месте.
— К чему мне ваши уточнения? — не унимался Гольвитцер. — Дайте мне обстановку! Почему я до сих пор не знаю, куда проникли русские? Почему авиаполевая дивизия до сих пор топчется в городе и не выполнила моего приказа?
— Авиаполевая дивизия не смогла оторваться от русских. Они вместе с нею вошли в город. Восточную половину можно считать потерянной. Положение серьезное, но...
— Нет, я, кажется, не смогу сойти в могилу, пока не отдам его под суд! Негодяй!.. Второй раз такой разгром, и все на его участке. Это вы, — напустился он на Шмидта, — это вы в прошлый раз защищали его! Вы, вы!..
— Господин генерал, я только указал вам на некоторые связи фамилии Прой, — пожал плечами Шмидт. — М не кажется, Прой — это уже прожитый этап. Мы нарушили волю фюрера — оставляем город. Что прикажете предпринять? Как лицо, непосредственно подчиненное вам, я обязан доложить...
— «Волю фюрера... А разве я не говорил, что давно пора оставить город, пока не поздно? Так нет: «Место будущих столкновений в районе Ковеля...» А теперь расхлебывай!.. Вот он, Ковель! Мы досиделись до того, что попадем в положение, о котором я говорил! Разве нам до того, чтобы удерживать город? Дай бог сохранить силы!
Гольвитцер потер лицо, словно сбрасывая с себя наваждение, и резким взмахом скинул со стола на пол радиограммы и разные бумаги.
— Так можно с ума сойти... Давайте спокойно проанализируем обстановку. Что мы потеряли? — он решил взять себя наконец в руки, но ему это не удалось, потому что дверь кабинета внезапно распахнулась, адъютант громко доложил: «Полковник Прой!» — и отступил в сторону, давая проход.
Через порог тяжело переступил Прой. Мундир его был измят и измазан, лицо выглядело смертельно усталым. Он был жалок...
Прой поднес руку к фуражке и произнес:
— Группа погибла, генерал!
Гольвитцер опустил взор вниз: взгляд его упал на ноги Проя. Неизвестно, какими лесами и болотами брел полковник, но сапоги его были разбиты, из ощерившегося носка виднелись голые, грязные пальцы. Гольвитцер мгновение смотрел на него с удивлением, словно не мог прийти в себя, а затем подскочил к нему с кулаками.
— Ужасный огонь... Танки... Они все смешали с землей, — забормотал Прой.
— Мерзавец, как вы смели покинуть свою оборону? — завопил Гольвитцер. — Негодный трус! В ефрейторы!
Прой стоял перед ним с вылупленными испуганными глазами, и Гольвитцеру хотелось его уничтожить, смолоть в порошок.
Шмидт счет нужным вмешаться:
— Господин генерал, успокойтесь! Личность дворянина... Вам поставят в вину нарушение этикета...
— Этикеты! Когда русские возьмут нас за глотку, они не станут смотреть на этикеты!.. Здесь война!
Гольвитцер, опустив плечи, еле добрел до стола и обхватил голову руками. Шмидт и Прой, пока он сидел неподвижно, о чем-то шептались у порога. Немного придя в себя, Гольвитцер подозвал их к себе:
— Шмидт и вы... Прой, — офицеры послушно встали у стола. — Учтите, под суд пойдем вместе. Поэтому давайте думать, как нам выйти из создавшегося положения... Да пойдите прежде приведите себя в порядок, — сердито сказал он Прою.
Через пять минут они втроем, нависнув над картой, стали совещаться о том, как предотвратить разгром корпуса.
— Что мы потеряли? — снова обратился Гольвитцер к своим подчиненным. — Небольшую территорию и сшитую из лоскутов сто девяносто седьмую боевую группу, хотя я склонен думать, что она тоже болтается где-то по лесам, как и ее доблестный командир! — сердитый взгляд в сторону Проя. — Но зато мы еще сохраняем в целости две авиаполевые дивизии, две пехотные дивизии и полк «Копенгаген». Мы имеем семьдесят самоходных орудий. Разве перестал существовать армейский корпус только потому, что мы оставляем восточную половину Витебска?
Шмидт молча выслушал всю тираду Гольвитцера. В конце концов такое объяснение было необходимо.
— Господин генерал, нельзя ли изложить ваше решение в целом? Иначе я затрудняюсь руководить действиями подчиненных штабов, — попросил он Гольвитцера.
— Решение?.. От старого плана — отказаться! Мы потеряли время для его выполнения. А дальше... Пишите: «К утру 25 июня четвертой авиаполевой дивизии, прикрываясь заслонами, выйти из боя и сосредоточиться юго-западнее города в районе пункта Башки. Шестой авиаполевой — выйти из обороны и тоже сосредоточиться западнее города. Двести шестой — сдерживать наступление русских с востока и прикрывать отход наших главных сил на рубеж озер Сарро и Липно». Мы должны выпрямить линию фронта. Пусть мы потеряем город, но зато получим передышку! Ясно?
— Да! Вполне...
— Что нельзя будет увезти — прикажите уничтожить!
— Хайль! — полковник, щелкнув каблуками, вышел.
Перед столом стоял еще Прой. Взглянув на него, Гольвитцер сказал:
— Ваше счастье, что у вас такой отец. Иначе вам не миновать бы большой неприятности. А сейчас давайте думать, как нам... выкрутиться. Вы же знаете, что фюрер не жалует орденами командиров, бросивших свои войска. Мне кажется, что часть ваших батальонов можно еще собрать. Как вы считаете, где они могут сейчас находиться? Вы должны для них «найтись». Идите и будьте при штабе на тот случай, если мы о них что-нибудь узнаем!
Оставшись один, кампфкомендант Витебска опустил кулаки на карту и застыл в позе глубокого раздумья.
Перед утром Гольвитцер оставил свой командный пункт в деревне Мишково и переехал в Башки, где у него заранее был подготовлен запасной. О чем он думал всю ночь? О своей личной судьбе, о будущем Германии или о том, что после оставления города его ждет наказание, которого не избежать? Он был готов ко всему!
С первыми лучами солнца пришли новые неприятности. Самую серьезную принес радист его личной радиостанции, имевший к нему право доступа в любое время суток. Он хорошо знал русский язык.
— Господин генерал, — проговорил он взволнованно, и страх блеснул в его глазах. — Мы окружены!
Гольвитцер строго взглянул на него:
— Вы выбрали неудачное время для подобных шуток!
— Разве я смею шутить? Мною только что перехвачен открытый разговор русских: «Я в Гнездиловичах подал руку соседу через голубую ленточку», — доложил Бабичев. — «Хорошо, — ответил ему Безуглов, — жди моих распоряжений!» Это командиры гвардейских дивизий. Я их уже давно всех знаю по голосу и ручаюсь, что не ошибся!
Да, не зря Гольвитцер доверял своему радисту. Он точно передал содержание перехваченного разговора о событиях, решавших судьбу немецко-фашистских войск под Витебском.
Ранним утром над берегами Западной Двины раздались торжествующие возгласы гвардейцев Бабичева.
— Прибалтийцам — ура! — кричали они, салютуя своим товарищам выстрелами из автоматов.
С другого берега неслось ответное «ура». Десятки разноцветных ракет, звездочками отражаясь в спокойном течении реки, взвивались над берегами и, шипя, падали в воду, оставляя на поверхности белые клубочки дыма.
Надувная лодка отвалила от одного берега, а навстречу ей уже двигалось подобие плота из жердей разобранной изгороди. Не было, казалось, водицы вкуснее, чем теплая вода Западной Двины. Ее черпали касками и пилотками, снятыми с потных голов.
К берегу подкатила легковая машина, и маленький бритоголовый генерал распахнул дверцу. Еще прут антенны качался в воздухе, а он уже докладывал Безуглову то, о чем слышал радист Гольвитцера. Пока Бабичев стоял над береговой отмелью, всматриваясь в другой берег, Безуглов попросил к телефону командующего армией. Березин глухим голосом утомленного человека спросил, что случилось.
— Бабичев соединился с частями Первого Прибалтийского фронта. Противник окружен!
— Соединились? — радостно переспросил Березин. — Это отлично! Как реагирует противник?
— В том-то и дело, что впереди его нет, а сзади кусает нас за пятки... У меня обстановка такая: где Бабичев — вы уже знаете, дивизия Кожановского — справа от него, она уже освободила Островно и тоже подходит к Двине. У нее дело посложнее, ее все время стукают и спереди и сзади. Пришлось, наступая одним полком, двумя другими обернуться назад для обороны. Мое новое хозяйство, — так Безуглов именовал временно приданную ему дивизию, — сосредоточилось в районе Ходцы. Впереди прошли механизированные части, так что противника перед нею тоже нет и прохлаждаться ей там, по-моему, нечего!
— Значит, противник у нас только позади! — заключил Березин и приказал: — Начинайте сжимать кольцо!
— Хорошо, — сказал Безуглов, — прикажу Бабичеву повернуться и идти навстречу Кожановскому!
«Окружили», — подумал командующий, и теплое чувство благодарности к Безуглову, Бабичеву, Кожановскому наполнило его душу. Они были для него не просто генералами и соратниками, — они олицетворяли собой тысячи бойцов и офицеров их дивизий, беззаветно выполнявших задачу по разгрому врага. Когда Березин говорил: «Бабичев взял», он видел не лицо генерала, а полки гвардейцев, идущих в наступление.
Итак, две огромные руки — армии Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов — сомкнулись в крепком пожатии над берегами Западной Двины. Выполнена первая часть задачи: пробита огромная брешь на оперативный простор, в Белоруссию. В эту брешь уже хлынули танки, самоходки, тысячи машин с пехотой, боеприпасами, с горючим, с орудиями истребительных полков. Перед ними нет больше рубежей, они проходят десятки километров в день, громя лишь отдельные гарнизоны противника.
Но Березин отчетливо сознавал и другое: впереди армию ждут огромные трудности. Для ликвидации окруженной группировки в несколько десятков тысяч человек порою нужны силы значительно большие, чем для окружения. Перед ним находились четыре вражеские дивизии, не считая специальных подразделений и остатков разгромленной сто девяносто седьмой группы. Ни по численности, ни по вооружению противник еще не уступал армии, взявшей его в кольцо. Если в первый день удалось прорвать фронт, создав значительный перевес сил на участке прорыва, то теперь обстановка складывалась иначе. Тогда он, Березин, создавал кулак и таранил там, где считал нужным; теперь противник мог выбирать место для удара, где ему выгоднее. Противник собирает свои силы вместе, а дивизии армии разбросаны на громадном пространстве лесов и болот, утомлены и ослаблены боями. Окажется ли армия на высоте тех требований, которые к ней предъявлены?..
— ...Итак, русские в Гнездиловичах? — выслушав своего радиста, Гольвитцер устремил взгляд на карту. — Так вот как далеко они прорвались!
— Мы в «котле», — тихо промолвил радист. — Они называли себя по позывным, но я еще с осени их всех знаю по голосу. Это русская гвардия!
— В «котле»?.. Посмотрим! Вызывайте штаб армии, — приказал Гольвитцер радисту, — я буду говорить с командующим!
— Связи нет, — упавшим голосом доложил радист, — не отвечают. Ночью штаб армии покинул Бешенковичи, не предупредив нас.
— Хорошо. Идите! — отпустил его Гольвитцер.
Через минуту, пытаясь справиться с волнением, он шагал взад и вперед по комнате, обдумывая происшедшее... «Тем лучше. По крайней мере, ответственность за Витебск падет не на меня одного. В «котле». Окружены!.. Легко окружить, но попробуйте удержать. Если бежал штаб армии — у меня развязаны руки». Ему стало ясно: обстановка так резко изменилась, что оставление города не будет поставлено ему в вину. Он даже радовался тому, что штаб армии бежал из Бешенковичей, бросив корпус на произвол судьбы. Каждый спасал свою шкуру.
Исхода боев Гольвитцер не страшился. Он поднимет перчатку и примет вызов, брошенный ему русскими. Полагаясь на свой опыт, он считал, что благополучно выйдет из испытания, тем более что теперь никто не станет ограничивать его действия.
Поспешно вошел начальник штаба Шмидт.
— Русские в Гнездиловичах. Они радуются, словно сомкнули кольцо, — вместо приветствия сказал ему Гольвитцер.
— Как, и в Гнездиловичах тоже? Откуда? — воскликнул Шмидт.
— Почему это «тоже»? — удивился Гольвитцер.
— Мне только что доложили о прорыве русских танков в Камары, прямо на переправу нашей четвертой дивизии.
— Черт побери, это уж слишком! — вскочил Гольвитцер. — Надеюсь, они отбиты от переправы?
— Полк, застигнутый танками на переправе, — разгромлен!..
Березин встретился с Бойченко.
— Хорошая весть, Василий Романович, гитлеровцы окружены. Бабичев вышел в Гнездиловичи! — сказал ему Березин.
Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Квашин и докладывал, что дивизия выполнила задачу, вышла в Камары, к Западной Двине и там, на переправе, разгромила застигнутый немецкий полк.
— Вы понимаете, — воскликнул Березин, — двойное кольцо!.. На северном берегу Двины — прибалтийцы, на южном — дорогу перекрыла дивизия Квашина. Дорогу из города на юго-запад держит в своих руках Дыбачевский!..
— Эту весть надо быстрей довести до всех наших войск, и как можно быстрей! — сказал Бойченко. Он приоткрыл дверь в другое помещение и кликнул адъютанта. — Пишите, — начал диктовать, расхаживая по комнате, Бойченко, когда офицер уселся за стол и положил перед собой бумагу. — «К бойцам, сержантам, офицерам и генералам армии! Товарищи! Военный совет благодарит вас за отличное выполнение боевой задачи! Решена первая часть — противник окружен. Наши соседи развивают наступление в глубь Белоруссии и уже оставили нас глубоко в своем тылу для ликвидации окруженной группировки. Но впереди ждут нас тяжелые бои».
Березин, молча прислушивавшийся к Бойченко, подошел к столу, чтобы высказать то, что считал необходимым.
— «Противник будет, — голос Березина звучал уверенно, — предпринимать отчаянные попытки вырваться из окружения. Он не сложит оружия, пока мы не принудим его к этому силой, пока все его контратаки не разобьются о наше мужество и непоколебимую стойкость!»
— «Никакого благодушия! — подхватил Бойченко. — Военный совет призывает вас напрячь все силы и организованно, мужественно завершить столь успешно начатое дело — ликвидацию окруженной фашистской группировки. Пусть вашу разящую руку наполняют силой святая любовь к Родине и вера в победу. Смерть немецким захватчикам!»
Офицер протянул лист командующему. Тот пробежал глазами, поправил какое-то показавшееся ему неловким выражение и поставил свою подпись. Бойченко тоже подписал обращение и сказал:
— Я сейчас зайду к Семенову, он подпишет. Думаю, что часам к десяти утра будет несколько тысяч листовок. А пока пустим обращение через агитмашины и передадим устно всем командирам по телефону.
— Не мешало бы «порадовать» и гитлеровцев, чтобы об этом узнали рядовые, а не только их штабы, — заметил Березин.
— Сделаем, — ответил Бойченко. — Сейчас вызову переводчиков. Передадим агитмашинами!
— Ну, а если они туго соображают и будут долго раздумывать, попросим авиацию, и она поможет им прийти к необходимому решению!
Военный совет нацелил армию на уничтожение окруженных группировок: и той, что оказалась в самом Витебском районе, и той, которая была зажата между первым и вторым кольцами.
Свое решение принимал и Гольвитцер, горевший желанием одним махом прорвать опутавшую его цепь.
— Надо отдать приказ всем, — обратился он к Шмидту. — Всем, с кем имеется связь... Немедленно прорываться на юго-запад в район Ходцы. Там, прикрытые озерами, мы установим связь с другими соединениями, тогда станет ясно, что нам делать дальше. Штаб армии столь поспешно покинул Бешенковичи, что «забыл» предупредить нас об этом. Мы можем надеяться только на себя. Давайте обсудим подробности! Вызовите...
Страшный грохот потряс блиндаж. Хватая за душу, визгливо завыли сирены, оповещая о воздушном нападении. Бомбовые удары поколебали почву под ногами. Со звоном полетели на пол стекла небольшого оконца.
— Опять... — пробормотал Гольвитцер. — Прямо с утра!
— Давайте выйдем, — предложил Шмидт.
Среди черных клубящихся шапок зенитных разрывов плыли, не нарушая строя, светлые бомбардировщики. С большой высоты, не снижаясь, они сбрасывали бомбы. Целая серия бомб попала на деревню Башки, Пылали охваченные пожаром дома. Черный дым застилал землю.
— Это может помешать нам, — заметил Шмидт.
— С нами бог, — сказал Гольвитцер, — и великая Германия. Будем надеяться на лучшее!
Новая серия бомб с воем и свистом падала на деревню. Сотрясая землю, валом накатывались взрывы. Шмидт побледнел, съежился и юркнул в глубокую щель, вырытую рядом со входом в блиндаж. Гольвитцер, сохраняя достоинство на глазах подчиненных, отступил к двери. Взрывной волной его сбило с ног, обдало сухим песком и дымом. Разноцветные круги плыли перед его глазами. Он лежал и не верил себе: жив еще или нет? Никто не поднял его, не спросил, что с ним. Перед лицом смерти каждый был занят своим спасением и никому не было дела до другого. С трудом поднявшись на ноги, он медленно выбрался из блиндажа. Офицеры и солдаты разбегались из деревни, опасаясь нового налета. На улице, возле воронки, корчился смертельно раненный Прой. Побелевшими пальцами он царапал землю, но у него уже не было сил отодвинуться от страшной воронки.
Новая волна самолетов надвигалась с востока. Гольвитцер сразу ощутил прилив сил, одним прыжком очутился возле щели и спрыгнул в нее, задев каблуками Шмидта.
— Конец, — промолвил тот, прижимаясь к земле и стараясь вовсе слиться с ней.
Гольвитцер теперь знал, что вырваться из «котла», если только это удастся, будет нелегким делом...
Глава девятая
Щедрой рукой рассыпаны звезды над головой. Теплая пряная июньская ночь приоткрыла миру прелесть сияющих звезд. От земли исходит прохлада. Снять бы сейчас пропитанную потом одежду, искупаться в речке и спать где-нибудь на сеновале, завернувшись в простыню...
Но под Крутовым голая земля. Он повернулся, и каска заскрежетала о что-то железное. «Наверное, осколок», — лениво подумал он и хотел отыскать его, но рука была такой тяжелой, что ее, казалось, невозможно было поднять. Стянутое ремнями тело каждым своим мускулом, каждой жилкой просило, требовало отдыха. Он даже не помнил, когда прилег, сколько спал, но чувствовал, что еще не отдохнул...
«Кажется, часа три ночи, значит, девятый час, как я комбат».
Назначение на новую должность пришло прямо в ходе отражения вражеских контратак. Полк нес большие потери в офицерском составе. В шесть часов вечера был ранен комбат Усанин. Не успели назначить на его место другого, как выбыл и тот. Узнав об этом, Черняков с досадой плюнул и сказал:
— Второго за один час... Вот невезучий день! Что делать? Кого назначить?
Кожевников пожал плечами:
— Может, адъютанта?
— Это же совсем юнец. Нельзя! Вот если... — Черняков остановил взгляд на Крутове. — Пойдешь?
Батальон занимал оборону, одним флангом примыкая к озеру Добрино, другим — перекрывая большак Витебск — Мошканы. Фронт был невелик, но гитлеровцы уже несколько раз пытались прорваться, и их натиск порою был очень силен. Крутов немного колебался.
— Это то самое назначение, о котором вы говорили перед наступлением? — поинтересовался он.
— А что, разве плохое? — с вызовом спросил Черняков. — По крайней мере, сразу же будет опыт. Справишься с батальоном в бою, так в другое время и подавно. Ну, как?
— Пойду.
— Тогда — ни пуха ни пера! — потряс ему руку довольный Черняков. — Принимай! Я сейчас позвоню в батальон адъютанту, а там сам увидишь, с чего начинать. Главное — ни с места! Понял?
Кожевников тоже пожелал успеха.
— Станет трудно, обязательно докладывайте. Будем помогать, чем только возможно. Никакой гордости и игры, дело слишком серьезное!
Прежде чем уйти, Крутов решил увидеть Малышко. Нашел он его в окопе, рядом с наблюдательным пунктом.
— Сеня, — окликнул он его, — на минутку!
— Ты куда? — спросил Малышко.
— Поздравь: комбат, свеженький, как пирожок. Только что испекли. Давай заодно... попрощаемся!
Они крепко пожали друг другу руки.
— Ночью я к тебе наведаюсь! — крикнул ему вдогонку Малышко.
— Добро. До встречи!
Где шагом, где бегом Крутов добрался до батальона. Черняков не менял привычки, и его наблюдательный пункт был рядом с окопами. Остаток дня промелькнул так быстро, что его нечем было даже вспомнить. Только гул, грохот, выстрелы.
Вечером в батальон пришел Бушанов, принес письма. Он, как всегда, охотно рассказывал обо всем, что видел и слышал.
— Сегодня, однако, фашист пропадет!
— Как пропадет? Почему сегодня?
— Очень много танков прошло, «катюш», даже «тигра» видел. Земляк говорил, сегодня немца окружать будут. Хорошо будет! — и Бушанов даже прищелкнул языком.
Сейчас Бушанов лежал в соседней нише и всхрапывал, прижавшись щекой к теплому прикладу карабина.
Крутов поднялся на ноги. В отдалении чуть слышно журчал самолет. На мгновенье он смолк, в небе повисли ракеты, а потом донеслись тяжелые удары бомб — и снова тихое мелодичное журчание. Над городом, не угасая, стояло кровавое зарево пожаров. Выпрыгнув из окопа, Крутов пошел в левофланговую роту, шурша сапогами по мокрой от росы траве.
Утомленные бойцы спали в окопах, кто где привалился. «Хорошо, что немцы хоть окопов понарыли везде, а то пришлось бы еще в земле копаться», — подумал Крутов. Рубежи, подготовленные гитлеровцами, пригодились против них же.
Службу охранения несли исправно. Кроме того, впереди действовала своя разведка. Крутов об этом знал. Можно было спокойно возвращаться.
Начинало светать: поблекли звезды, потом стали проступать очертания кустарников, холмов.
— Вас вызывает к телефону полковник, — сказал телефонист.
Черняков, — должно быть, он только что проснулся, — тихим голосом спросил про Малышко. Две разведывательные группы с вечера ушли за передний край, но еще не вернулись.
— Как появятся, сразу позвони мне. Ты отдыхал? — внезапно спросил Черняков.
— Немного!
— Отдыхай, — посоветовал полковник. — Береги силы на день!
— Не спится что-то, — сознался Крутов. — Ходил проверять службу охранения, немного промок и дремоту разогнал.
— Ага, забеспокоился! Погоди, еще почувствуешь, что значит нести прямую ответственность за людей. Шапка Мономаха тяжеленькая, брат... — полковник рассмеялся.
На всем участке обороны стояла тишина. Лишь далеко к северу гремел бой. «Наши где-то у реки», — размышлял, прислушиваясь, Крутов.
Через некоторое время полковник позвонил опять и снова спросил о Малышко.
— Не видно, — ответил Крутов. — Где-то задерживается!
— Ну, ладно. Может, скоро объявится, — сказал Черняков, но Крутов почувствовал в его голосе тревогу.
Подъехала кухня, и старшины с солдатами понесли по ротам термосы с завтраком. Крутов успел еще раз пройти по ротам и поговорить с их командирами. Всех он их знал в лицо, поэтому, не теряя времени на знакомство, можно было сразу говорить о боеприпасах, о плане действий на день, о взаимодействии с артиллерией и минометами.
Крутову везло. Дивизия имела солидную поддержку артиллерией, и Дыбачевский весь свой полк, не дробя на дивизионы, придал Чернякову. В свою очередь Черняков не забыл про свой первый батальон. Крутов очень обрадовался, когда, возвратившись, увидел на своем командном пункте командира гаубичного дивизиона капитана Медведева.
— Как я рад! — воскликнул он, крепко пожимая руку усталому капитану.
— Вот оно в чем дело, — протянул Медведев и пыхнул трубкой, выпустив клуб дыма. — А я думаю, чего это мне Черняков все толмачит насчет молодого комбата? Ну, ставь задачу, молодой комбат!
Подошел Бушанов, что-то шепнул Крутову.
— Задача ближайшая такова, — проговорил Крутов, — пока немцы нас не беспокоят — надо перекусить, а то днем едва ли удастся.
— Пожалуй, правильно! Я тоже еще не завтракал, провозился с огневыми для гаубиц. Меня Черняков просил одну батарею подтянуть, чтобы в любой момент можно было работать прямой наводкой.
Стол был накрыт на пустом ящике из-под мин. Объемистая сковородка с картошкой и хлеб, нарезанный крупными ломтями. Не изысканно, но сытно. В самый разгар завтрака подошел телефонист: «Срочно к телефону!» Звонил Малышко из роты.
— Павел, немцы будут прорываться из окружения!
— Что? — переспросил Крутов. — Откуда знаешь, кто сказал?
— Пленного веду. Готовься, Павел, скорей!
Приказав адъютанту предупредить всех командиров рот, Крутов попросил Медведева обеспечить встречу противника с дальних подступов. Потом он позвонил Чернякову. Тот выслушал и сказал:
— Пусть в ротах держат наготове полотнища и ракеты. Возможно, на помощь придет авиация.
В окопе появился Малышко с разведчиками и пленный.
— Пленного бегом к полковнику, он ждет, — передал Крутов.
— На эн-пэ! — махнул рукой Малышко.
Разведчики тронулись бегом. Немец послушно затрусил среди них, устало мазнув пилоткой по потному лицу.
— Захватили? — поинтересовался Крутов.
— Нет, перебежчик! Первая крыса с тонущего корабля.
— Какие еще подробности, Сеня?
— Все, что знал, уже сказано. Я с вечера организовал засаду, а утром на нас наскочил этот тип. Вот уж действительно заела попа грамота, а меня немецкий язык... Только и понял: «Русс... Котел... Дойче нахаузе!..» Мол, русские сделали «котел», так гитлеровцы будут уходить домой. А по разговорнику разве побеседуешь? Это же нервы надо иметь!.. Да и когда? Мое счастье, что перебежчик хоть руками показывает, а то бы совсем беда!
Перебежчик показал, что в их части получен приказ любой ценой прорваться из города в район совхоза Ходцы. По такому случаю всем солдатам раздали на руки продукты и боеприпасы на несколько дней. Еще он сказал, что многие солдаты перешли бы вместе с ним, но боятся, что русские их будут расстреливать.
Едва успела весть о готовящемся прорыве дойти до штаба армии, как на всем протяжении от Западной Двины до озера Городно вспыхнули ожесточенные бои. Дивизии Квашина и Дыбачевского приняли на себя первый серьезный натиск всей окруженной немецко-фашистской группировки.
Черняков в связи с угрозой прорыва принял дополнительно ряд мер. Прежде всего он перенес свой командный пункт на большак, которого не мог миновать враг, до отказа поджав к передовой командиров батальонов; выслал в батальоны корректировщиков от своих батарей и подтянул за собой поближе резервный батальон Глухарева.
В батальон Крутова корректировщиком попал Зайков: загорелый, черный, как цыган, он пришел со своими связистами.
Показался противник. Стрелковые роты еще молчали, но артиллерия начала встречу с дальних подступов. Разрывы гаубичных снарядов ложились по деревне Осники, куда вошли машины противника. Гитлеровцы повыскакивали из машин и стали разбегаться по полю и кустарникам. В деревне вспыхнули пожары.
Медведев грыз костяной мундштук трубки и отдавал короткие, отрывистые команды. Он был спокоен. Крутов немного нервничал, но старался это скрыть, и хотя рассматривать по существу было нечего, он не отрывался от бинокля. Нервничал он не от страха, а оттого, что был на виду, что надо было распоряжаться и командовать, а он не привык к этому, да на глазах еще малознакомых людей.
В кустарнике, неподалеку от передовой, мелькнули темные фигуры гитлеровцев. Крутов показал на них и спросил:
— Не пора ли переключаться на пехоту?
— Пехота не уйдет, — ответил Медведев. — Пусть еще поднакопятся на исходном, а тем временем орудия поостынут! — И он скомандовал батареям «перекур».
Возле окопов батальона рванули первые вражеские мины и снаряды. На высокой ноте прошелся шестиствольный миномет и, прижимая всех к земле, в воздухе засвистели, завыли, заголосили тяжелые стопятидесятивосьмимиллиметровые мины.
— С самого начала хочет всей пятерней заехать по физиономии, — пробурчал Медведев и, едва отгрохотали тяжелые удары, подтолкнул локтем Крутова: — Давай, молодой комбат, встаем, от стрельбы в щели не отсидишься!
Как ощущается гнетущая атмосфера близкой грозы, так сейчас явилось предчувствие неотвратимо надвигающейся на батальон опасности. Выстоим ли? Что придется пережить? Какие распоряжения придется отдавать? Не сплошаю ли перед лицом смертельной опасности?.. Крутов знал одно: он будет делать все необходимое, лишь бы выполнить задачу, от которой в этот день зависит, быть может, победа всей армии.
Вместе с мыслями об ответственности за порученное дело пришла уверенность в своих силах. Пусть его боятся враги, а не он их! Он спокоен, прав, он защищает свою Родину, а над ними, как грозный призрак, подымается возмездие, и петля окружения все туже захлестывается на их горле.
Пусть не сомневается полковник, шапка Мономаха хоть и тяжела, но он не белоручка, а чернорабочий войны. Выдержит!..
Гитлеровцы сыпали снарядами и минами вразброс и по первой линии окопов и по батареям, что стояли далеко позади. Когда первый страх прошел, Крутов увидел, что от такого огня особенного ущерба нет, и сразу приободрился.
Гитлеровцев в контратаку шло много, но ему казалось, что идут они с оглядкой, без уверенности в том, что прорвутся. Медведев был прав, когда говорил, что пехота от него не уйдет. Заградительным огнем дивизиона гитлеровцы были сразу прижаты к земле.
Первая контратака была отбита, и Крутов взялся за телефон.
— Товарищ полковник, — сказал он громко, — мое хозяйство отразило первую контратаку... Поздравляете? Спасибо! — Внезапно, зажав трубку рукой, он обратился к Медведеву: — Послушай, сколько мы уничтожили врагов, как думаешь? Полковник спрашивает!
Медведев пожал плечами:
— Скажи, что бьем не считая!
Этот ответ Крутов передавать не стал, а сознался, что допустил промашку и забыл об этом. Раньше он сам обращался к комбатам с точно таким же вопросом, но только теперь почувствовал такие сведения пустой, никчемной, никому не нужной формальностью...
— Куда там, какая поспешность, — проворчал Медведев. — Еще свои ребра не пересчитали, целы или нет, а уж подавай — сколько противника!
— Требуют... Учет, — пробормотал Крутов.
— Вот пленного захватим, он сам скажет, сколько они потеряли. Это уж более верные данные, чем от нашего брата.
— Совет хорош! — сказал Крутов. — Только попробуй когда-нибудь сходить за «языком», тогда узнаешь, почем фунт гребешков...
Медведев странно усмехнулся:
— Думаешь, не ходил? Никому еще не рассказывал, тебе первому. В сорок втором стояли мы в обороне под городом Белым, и наша разведка долго не могла взять пленного. Командир дивизии и вздумал пообещать отпуск тому, кто притащит «языка». А был я в то время начальником разведки дивизиона. «Э, — думаю, — не боги горшки обжигают. Что там пехота, то ли дело мы — артиллеристы!..» Высмотрел я в стереотрубу отдельно стоящий блиндаж в боевом охранении противника, собрал группу охотников и ночью решил действовать. Главное, меня местность тогда здорово подвела, очень уж она в стереотрубу ровной казалась, без всяких там препятствий...
Разговор был прерван свистом снаряда. Крутов насторожился, но потом успокоился: «Далеко».
— Так вот, — продолжал Медведев, — проштудировал я в уставе раздел о ночном поиске, и ночью, вооруженные до зубов, вышли мы на передний край...
— Ложись! — крикнул боец в соседней ячейке, и тотчас вблизи окопов загрохотали взрывы. На этот раз был не одиночный орудийный выстрел, а сразу залп батареи.
— Какого черта он расходится? — забеспокоился Крутов и хотел было встать посмотреть, но Медведев дернул его за гимнастерку назад.
— Сиди, слушай дальше... Выпили мы для храбрости наркомовскую норму и поползли. Черт те откуда, на совершенно ровной местности, оказались овраги. Спустились в один, другой. По моим подсчетам, уже вот-вот должны быть окопы противника, а их все нет, и, как на грех, ни одного выстрела. Посылаю трех бойцов в разведку. Они возвратились и говорят: «Боевое охранение рядом!» Ну, коли так, атаковать его! Рассыпались мы в цепь, гранаты в руки и поползли. Впереди висели две-три колючки на жиденьких столбиках, мы не посчитали их за препятствие и бросились вперед, чтобы захватить противника врасплох. Тут по нам хлестнули из пулемета, но, к счастью, никого не задели, и тогда, для бодрости, я закричал: «За Родину! Ура!..»
— К нам! Ложись! — опять закричали в окопе. Дымом и осколками пронесло по траншее. Крутов уткнулся носом в пропотевшую гимнастерку Медведева. Гитлеровцы опять били по всей обороне.
— Налет, — отплевываясь от песка, попавшего в рот, сказал Крутов. — Надо подниматься!
Медведев, стряхнув с себя землю, поднялся и стал крутить винты стереотрубы.
— Зашевелились. Жди новую контратаку, да еще с самоходками. Скомандую своей батарее, чтобы приготовилась бить прямой наводкой...
Крутов стал звонить в роты, но там и без него увидели опасность еще раньше. Он счел нужным приказать:
— Предупредите пулеметчиков, чтобы не торопились. Побольше выдержки. Отсекайте пехоту, а самоходки без нее не страшны. Подпускайте их к окопам на бросок гранаты. С ними бороться легче, когда они рядом, — у них сектор обзора такой, что перед собой не видят... Слепы...
Командиры рот были на одной линии связи, кто-то на последние слова Крутова процитировал:
То-то слеп: лежишь в канаве, А на сердце маята; Вдруг как сослепу задавит, — Ведь не видит ни черта...Офицеры рассмеялись: очень уж к месту они пришлись!
— Теркин прав, — стараясь остаться серьезным, сказал Крутов. — А вам, чтобы не страдать маятой, советую припасти побольше гранат да поживей!
Крутову казалось: что-то он еще не предусмотрел. Беспокойные мысли лезли в голову. Чем все это кончится? Удастся ли выйти из этого сражения живым? Но почему это он опасается, а Медведеву все нипочем? Или это трусость?
Он украдкой взглянул на капитана. Тот, нахмурив брови, грыз мундштук трубки, перебрасывая ее с одной стороны рта на другую. Все люди смертны, все боятся, понял Крутов, но надо уметь за беспокойством о своей жизни не терять чувства ответственности за исполняемое дело. Лучше в такое время поменьше думать о себе. Ему показалось, что всю историю с поиском «языка» Медведев рассказывал не потому, что она интересна, а чтобы отвлечь его и себя от ненужных мыслей.
— Ну и захватил ты тогда пленного? — спросил Крутов, чувствуя, как необходим для них сейчас разговор.
— Черта с два! — напрягая голос, ответил Медведев. — На своих напали! Спасибо, что там лейтенант умница был, как услышал, что орем: «За Родину!», и давай нам кричать: «Куда? По своим!» Не будь его, наделали бы делов... До немцев мы еще метров четыреста не доползли. В стереотрубу одно расстояние, а своим животом мерить — другое... Много шуму было, — вздохнул он, — вовек не забыть...
Заметив что-то новое, он скомандовал телефонисту:
— Первая батарея!..
Тяжело дыша, к Крутову подошел незнакомый казах-сержант с артиллерийскими погонами и молча козырнул, ожидая, когда к нему обратятся с вопросом. Из-за его плеча выглянул Бушанов и сказал:
— Земляк мой, из «катюши» стреляет, — батыр! Его машина в кювет попала, от своих отстал, а не знает, где их теперь догонять.
Крутов объяснил ему, по какой дороге догонять своих, если они направились к Западной Двине.
— Уезжай быстрей, здесь передавая. Видишь, немец подходит!
— Мы не боимся передовой, — гордо ответил сержант, — и немцев тоже. Мы их бьем!
— Может, поможешь? — вдруг лукаво спросил Крутов, которому пришла мысль использовать огонь «катюши» для отражения назревающей контратаки.
Сержант задумался, что-то прикинул в уме.
— Нет, не могу, — сказал он. — Машина моя рядом стоит, а немец близко, можно по своим попасть. Нельзя так стрелять.
— Зачем же по своим? Выезжай прямо к окопам и прямой наводкой... Долго ли там!
— Мы так не стреляем — заявил сержант, удивляясь неосведомленности капитана относительно возможностей гвардейского миномета.
— Тогда уезжай! По твоему наставлению не предусмотрено, чтобы ты находился на переднем крае. Твой земляк Бушанов будет через несколько минут отбиваться от врага врукопашную, ему все можно, а тебе нельзя. Или ваши батыры оставляют земляков в беде?
Глаза сержанта блеснули злым обидным огнем, он круто повернулся на каблуках и, ничего не сказав, убежал. Видно, его задели эти слова за живое, но не может же он спорить со старшим...
Батальон вступил в бой. Заградительный огонь своей артиллерии придвинулся к окопам настолько, что порой трудно было распознать, где падают свои снаряды, где чужие.
Уже мелькали среди дыма гитлеровцы в темных мундирах, и можно было различить их лица и зажатое в руках оружие. Уже Медведев, отчаянно выкрикивавший команды своим батареям, сделал последний перенос, после которого можно было вести огонь только на себя. Уже связисты подготовили гранаты для боя, разложив их под руками, когда шум, непохожий ни на что, заставил всех прильнуть к земле.
Это был даже не шум, а что-то воющее, свистящее, идущее сзади через окопы вместе с волною горячего воздуха.
— Какая нелегкая их сюда занесла! — возмутился Медведев.
Неслышно поднявшись по косогору, почти к самым окопам подъехала «катюша». С направляющей рамы одна за другой скользили мины — длинные, с хвостовым оперением снаряды. Языки пламени, как молнии, резали воздух, клубы белого дыма со свистом вздымались кверху.
Крутов сразу все понял и, уже не оглядываясь, стал следить за результатом не виданной им еще стрельбы прямой наводкой из такого оружия. Последняя мина пошла кувырком, страшно воя, ударилась об землю, подскочила и разорвалась в воздухе. Когда Крутов оглянулся, машина уже удалялась к кустарникам.
— Что это у тебя делается? — тотчас же запросил Черняков.
— Бушанову земляк помог, — доложил Крутов. — В порядке взаимной выручки. Гвардеец-минометчик случайно оказался вблизи и помог. А фамилии не знаю, не спросил!
Залп «катюши» сыграл свою роль, прижал врагов к земле, но ненадолго. Крутов следил за действиями своего батальона. Сколько возможно, он помогал ротам огнем полковой батареи, целиком включившейся в работу на его батальон. Зайков торжествовал: вся батарея выполняла его команды. Медведев тоже наносил решительные короткие удары: орудия его гаубичного дивизиона не знали передышки.
Но гитлеровцы упорно наседали, и батальон таял. Меньше стало пулеметов, разбиты были два орудия, вступившие в борьбу с «пантерами». В минометной роте тоже были потери. Положение создавалось угрожающее, можно было просить Чернякова подкрепить батальон за счет резерва, но... Но это означало бы, что комбат морально сдает перед противником и теряет веру в свое подразделение. От Чернякова можно было ждать полунасмешливый инструктаж или «разнос», — в зависимости от того, под какую руку ему попадешь. Он не любил, когда подчиненные просили помощи, потому что в бою всегда держался вблизи подразделений и сам видел, кому она необходима.
Крутову не хотелось, чтобы даже за глаза о нем говорили, что он спасовал, и твердо решил помощи не просить. К тому же появились признаки, что противник выдохся.
— У меня ранен заместитель, — только и доложил он полковнику.
— Подожди, — сказал Черняков, — с тобой хочет поговорить Федор Иванович.
— Крутов, — сказал Кожевников, — мы тебе пришлем нового заместителя. Через полчаса он у тебя будет, а ты пока приготовь список на тех, кто отличился...
Надо было обойти подразделения, и Крутов пошел по окопам. Он успевал там приметить и разрушенные полузасыпанные траншеи в местах прямых попаданий снарядов, и убитых, ничком лежавших в окопах, и окровавленные повязки на многих, кто еще стоял с оружием. Возле таких он останавливался:
— Почему не ушли в санчасть? Или командир не отпустил?
— Совесть не отпустила, товарищ капитан, она построже командирского глазу.
— Это правильно... Будем за храбрость представлять к награде. Пока передышка, идите в санчасть!
Командиры рот попросили включить в список на награждение многих своих бойцов. Возвращаясь, Крутов решил просить помощи. Теперь, когда он увидел истинное положение дела, он не имел права рисковать, что бы о нем ни думали. Прежде дело, а самолюбие надо было смирить!
На наблюдательном пункте его ожидал присланный Кожевниковым офицер.
— Докладывает лейтенант Владимиров! Явился для несения службы вашим заместителем по политической части.
Гимнастерка у офицера была прорвана осколком, сам он в поту и пыли, хотя и заметно, что прежде чем явиться, старался немного привести себя в надлежащий вид.
— Вот это здорово! — воскликнул Крутов. — Как же это Еремеев вас отпустил?
— Приказали, — недовольно пожал плечами Владимиров.
— Ну как там Бесхлебный? Жив-здоров? — поинтересовался Крутов, сразу же понявший причины тайного недовольства собеседника. «Вот ведь разлучили двух друзей. Как тут радоваться? Наверно, Владимиров с ним хорошо сработался, если не хотел уходить. Ну, ничего, свыкнется!» — решил Крутов и искренне порадовался, что к нему попал именно Владимиров.
А тот, словно высказывая что-то давно решенное, неторопливо отвечал:
— Бесхлебному нездоровым быть не положено — в госпитале свое он уже отлежал. А насчет жизни — так теперь не такое время, чтобы умирать... Да и у командования найдется чем нас прикрыть, если нас прижмут!
Глава десятая
За три дня наступления советских войск в Белоруссии немецко-фашистский фронт был смят, опрокинут, раздавлен. На Витебском, Оршанском, Бобруйском и Могилевском направлениях гитлеровский оборонительный вал зиял гигантскими пробоинами. Советская армия осуществляла маневр на окружение и ликвидацию основных группировок противника.
В одном из таких «котлов» оказался пятьдесят третий армейский корпус Гольвитцера, расчлененный на два очага.
В бой с окруженными немецко-фашистскими дивизиями втягивались все соединения армии Березина. Между первым и вторым кольцами окружения лежали обширные лесные массивы, деревни, моховые болота, поля — десятки километров территории, по которой вперемежку двигались в разных направлениях штабы, обеспечивающие подразделения и тылы наступающих гвардейских дивизий. Здесь же сновали и битые и еще не битые группы противника, его транспорты и штабы, потерявшие связь со своими частями. Если одни из них шли за войсками в заданных направлениях с ясной задачей, то другие — бежали от передовой с одним намерением: быстрее уйти из-под удара подальше на запад... Ночью порой случалось, что одной дорогой шли автомашины штаба нашей дивизии, а за ними — повозки и машины какого-нибудь артиллерийского полка противника.
Постепенно выяснилась обстановка у Безуглова. Сложность ее состояла в том, что части гитлеровской четвертой дивизии и остатки сто девяносто седьмой группы пытались пробиться на Бешенковичи и, при отсутствии сплошного фронта, появлялись в самых неожиданных местах. Тогда Безуглов приказал всем штабам и специальным подразделениям занять оборону по деревням, чтобы держать под контролем все дороги.
Дивизия Бабичева по приказу Березина изменила направление и стала наступать фронтом на северо-восток, оттесняя противника в леса и болота.
Наиболее тяжелое положение сложилось у Квашина и Дыбачевского, дивизии которых встали на путях выхода гитлеровцев из внутреннего кольца окружения.
Квашин сообщил, что против него начались контратаки значительными силами. Левый фланг Дыбачевского тоже подвергся серьезному натиску.
Для Березина больше не было сомнений в том, где будут пробиваться гитлеровцы. Важно было как можно скорее противопоставить натиску противника силу, способную его отразить. Эта сила была уже на подходе, и Березин постарался успокоить Квашина:
— К вам вышла на помощь дивизия Кожановского. Дивизия, которая находилась у совхоза Ходцы, тоже двигается к вам. Пока используйте для обороны танки. Всю артиллерию поставьте на прямую наводку. Помните — ни шагу назад!
За Дыбачевского он был спокоен, так как считал, что у генерала хватит сил обеспечить устойчивость своего левого фланга.
— Главное у Квашина, — сказал он ему. — Вы должны справиться сами, без помощи. Сил у вас для этого достаточно!
В эти напряженные для армии минуты Березин был необычайно спокоен, решителен и не знал колебаний. Когда Семенов вошел к нему, он приказал нацелить авиацию на Башки, где сосредоточились основные силы противника и центр его управления.
Однако командующий слишком полагался на Дыбачевского...
Когда Черняков, опасавшийся, что против него будут в дальнейшем брошены более значительные силы, обратился за помощью, Дыбачевский с иронией ответил:
— Что, заслабило?.. Держись! Тебя целый полк артиллерии подпирает, а ты?.. — Дыбачевский редко изменял своему правилу — при каждом удобном случае показать Чернякову, что тот зависит от его воли. Но при всем этом Дыбачевский никогда не намеревался ставить свой полк — полк Чернякова — под угрозу. Кто бы им там ни командовал, а полк-то свой, одной дивизии. Случись что, спросят не с кого-нибудь, а с него — Дыбачевского!
Но в эту пору получилось так, что за суетными заботами он не уловил существа изменений, происшедших за ночь в общей обстановке, и то, что казалось Березину ясным как день, осталось вне внимания Дыбачевского. Так уж случается: то, что нам кажется совершенно очевидным, мы, именно из-за этой очевидности, часто не считаем нужным объяснить другим — поймут сами. Как бы то ни было, но Дыбачевский считал, что Черняков и сам в состоянии отбиться от всех контратак, иначе бы он ничего для него не пожалел. Сам он все еще опасался, как бы противник не вздумал двинуться на юг от Витебска вместо того, чтобы идти на юго-запад.
Дело в том, что здесь, на южном направлении, неприятелю ничто не противостояло, кроме двух полков Дыбачевского. За спиной у них ничего не осталось, кроме тылов да госпиталей, ибо все гвардейские части и армейский резерв ушли далеко на запад. Попробуй сними отсюда хоть один батальон. А вдруг именно сюда и нацелит Гольвитцер свой удар? Конечно, стойкость стойкостью, а если навалятся две дивизии (не об этом ли предупреждал сам командующий!), го придется трудно. Надеяться тогда на помощь не придется, разве что командующий снимет с охраны своего командного пункта заградотряд. Нет, так рисковать Дыбачевский не собирался. «Вот будет фокус, если немец прорвется и придет на ВПУ командующего, до которого рукой подать — в Замосточье!» — подумал он.
Об этих своих опасениях Дыбачевский говорил с Коротухиным еще вечером. Тот согласился (обоим были памятны ноябрьские бои у Квашина), что рисковать не следует.
— Нам здесь надо держать ухо востро, — сказал Коротухин. — И еще одно: так или иначе, на этот раз Витебск будет взят, и тут надо не зевать, первыми входить в него. Я уже своих на этот счет настроил.
Дыбачевский согласно кивал головой: задача задачей, но и о таких вещах забывать не следует. Наверняка будет приказ Верховного Главнокомандующего: «Город Витебск взят штурмом...» Надо, чтобы в этом приказе значилась и дивизия генерала Дыбачевского. И не где-нибудь в хвосте, а на первом месте! Главное — осторожность и никакого неоправданного риска... Правда, немцы жмут на Чернякова... «Э-э, паникует раньше времени, — пожал генерал плечами. — Ерунда! С целым полком артиллерии да при неограниченных боеприпасах можно вообще не подпустить противника к окопам. Не надо и пехоты».
Разведка донесла, что перед фронтом дивизии наблюдается усиленное движение противника. Это еще больше утвердило Дыбачевского в правильности принятого решения... Он — щит, за которым вся армия может спокойно вершить большие дела. А когда волны контратакующего врага разобьются и откатятся, ничто не помешает ему ворваться в Витебск одним из первых.
Никогда еще обстановка в армии не была столь неясной, как в этот день. Где линия фронта? Она вся разомкнулась; красные и синие пометки, стрелы, кружки, полукружья появлялись в самых неожиданных местах карты, словно в насмешку над человеком, пожелавшим разгадать их тайный смысл, сгруппировать их в каком-то определенном порядке.
И все же смысл происходящего стал ясен Березину. Противник старался уйти из окружения, и синие стрелы упрямо били и бьют в одних направлениях: на совхоз Ходцы и на Бешенковичи. А неясность обстановки исходила оттого, что синие стрелы — противник — появлялись там, где их не должно было быть, — в гуще красных пометок.
В тех случаях, когда обстановка для Березина становилась особенно непонятной, в воздух, тихо рокоча, поднимался самолет с офицером оперативного отдела. Крадучись, над самыми оврагами, рощами, едва не задевая за верхушки сосен, он летел туда, где происходили стычки с прорвавшимся или внезапно появившимся из леса противником. Уточнив на месте обстановку, офицер возвращался обратно.
Основные силы противника были надежно зажаты в районе Витебска и в лесу между Островно и Гнездиловичами. Все, что происходило за пределами этих двух очагов борьбы, решалось силами подразделений, оказавшихся на пути гитлеровцев. Полки Кожановского, выступившие на помощь Квашину, принуждены были не раз развертываться для боя во время марша. Березин наседал на Безуглова, требуя, чтобы дивизия не разменивалась на мелочи, а спешила к Квашину.
Прямо в ходе неприятельских атак дивизии Квашина пришлось спешно перегруппироваться и освободить для полков Кожановского самостоятельную полосу для обороны от реки Западная Двина до хуторов Рудаковских.
Во время отражения одной из крупных атак был захвачен в плен гитлеровский офицер. Он заявил, что готов дать важные показания. Его сразу привели к Квашину, и там он сообщил, что в семнадцать часов весь корпус будет выходить из окружения одновременно, что он офицер штаба и сам привез этот приказ в соединение.
Квашин сразу забил тревогу, требуя подкрепить его артиллерией.
— Будет артиллерия! — заверил его Березин. — Примите в свое подчинение танковую бригаду, самоходные полки, которые вас поддерживали. О необходимых распоряжениях я позабочусь. Направляю вам еще один истребительно-противотанковый полк. К вам выезжает Бойченко!
Березин тут же приказал командующему артиллерией выделить из армейского резерва и переподчинить Квашину артиллерийские и минометные части и пополнить их боеприпасами. Истребительно-противотанковый артиллерийский полк, поднимая за собой столбы пыли, тотчас же ринулся к позициям дивизии. Через некоторое время Квашин смог доложить, что артполк прибыл и что он принял со своей стороны все необходимые меры к отражению натиска противника. В чем заключались эти меры, Березин не стал добиваться: Квашин — опытный генерал, знает, что надо делать.
Неожиданно угроза прорыва возникла там, где он ее не ожидал, — у Дыбачевского. Едва запросив у него подробную обстановку, Березин сразу понял, что полк Чернякова, вынесший несколько тяжелых ударов, в случае нового сильного нажима не сможет удержаться на большаке и будет либо полностью разгромлен, либо отступит, так или иначе открыв выход противнику из окружения. О переброске сил, которую Дыбачевскому давно пора было произвести с правого фланга на левый, к озеру Добрино, нечего было и думать. Фланги были отрезаны друг от друга глубокими болотами, и маневр вдоль фронта в остающиеся считанные часы был невозможен.
— О чем вы думали? — закипая от негодования, спросил Березин. — Ведь угроза удара нам во фланг давно сменилась угрозой прорыва. Или вы считаете, что они будут прорываться на Оршу? Почему вовремя не перегруппировали свои силы?
Березин с сердцем бросил трубку, не дослушав, что ему ответит Дыбачевский. «Что делать? Вот, будь он неладен!.. — ругал он в душе командира дивизии. — И надо же мне было положиться на него. Следовало проверить, как он понимает задачу, подсказать... Ах, проклятье!» Он беспокойно заходил по блиндажу. Как выйти из положения? Единственная резервная дивизия шла от совхоза Ходцы, но подойти вовремя она не могла, хотя и находилась с утра на марше. Пехота есть пехота, и больше положенного из нее не выжмешь... А подкрепление Чернякову надо было дать до начала атаки. Вот задача!..
Решение пришло неожиданно. Правда, оно имело свои теневые стороны, и Березин решил посоветоваться с Бойченко. Он вызвал его к телефону.
— Василий Романович, — сказал он, — вопрос нашей чести: удержим и ликвидируем противника своими силами или будем просить помощи у фронта?
— Зачем просить? — вопросом на вопрос ответил Бойченко. — Я считаю, что мы справимся сами. Правда, пришлось здесь некоторых командиров поставить поближе к своей пехоте и ликвидировать настроение благодушия по поводу исхода операции. Думаю, что гвардейцы выстоят. Все без исключения политработники на передовой, в окопах. Бывает время, когда личный пример — самая лучшая агитация!
— Это все так! Но дело не только в гвардии. Не хотелось бы допускать перемещения очагов, где скопился враг; это оттянет срок их ликвидации, а у нас ненадежно в дивизии Дыбачевского. Полк Чернякова сильно потрепан боями, его надо бы уже давно подкрепить или сменить другим, свежим, а Дыбачевский вместо этого стянул все силы на правый фланг и теперь не в состоянии перегруппировать их к сроку. А у нас — ни одной подвижной единицы, которую можно было бы срочно подбросить туда.
— Что за автономия у него? — возмутился Бойченко. — Если он не понимает таких простых вещей, видимо, он потерял чувство партийности!
— Верно. Мне его поведение давно не нравится, — сознался Березин. — Но главное теперь не в нем. Как спасти положение? Есть два решения: либо завершаем операцию своими силами, но с оттяжкой срока, либо просим фронт о помощи. Каково ваше мнение?
Бойченко ответил не сразу.
— Вы меня слушаете? — спросил он после некоторой паузы. — На нас возложена задача силами армии ликвидировать окруженную группировку. Чем быстрей мы это сделаем, тем лучше. Этого требуют интересы государства. Мы и должны ими руководствоваться. Если ради этого попросим батальон мотопехоты, нас никто не посмеет упрекнуть. Итак, просите фронт.
Командующий фронтом Черняховский понял обстановку с первых же слов.
— Кто у вас там командует дивизией, генерал или...
— Моя вина, товарищ командующий! Положился на него, своевременно не проверил, — признался Березин.
— Как только дивизия выйдет из боя, отстраните его немедленно от командования и пришлите ко мне, — холодно и резко произнес Черняховский. — Разберусь... Что вам необходимо?
— Один батальон мотопехоты к семнадцати часам на дефиле Добрино — Городно. В семнадцать общая контратака с целью прорыва.
— Батальон вас явно не устроит. Мало. К семнадцати часам у вас будет первый мотоциклетный полк. Организуйте встречу. Наши дела идут успешно, подробности позднее... Счастливо!
Березин понял, что время Черняховского уплотнено до считанных секунд и каждое лишнее слово сейчас неуместно. Этим объяснялась крайняя сжатость разговора.
События на фронте развивались с необычайной быстротой, и до семнадцати часов надо было переделать массу дел. Березин с головой погрузился в заботы. Его отвлек настойчивый шум моторов. Он вышел из блиндажа. Мотоциклисты, крепкие парни в пыльных комбинезонах, в темных шлемах, с лицами, скрытыми за блестящими забралами — очками, вихрем проносились мимо блиндажа по улице Замосточья. Они бурным потоком неслись во всю ширину улицы, и хвост колонны терялся в облаке пыли. Березин долго, любуясь, смотрел им вслед.
...Новый разговор с Черняковым сильно озадачил Крутова.
— Что случилось? — спросил Медведев, увидев его взволнованное лицо.
— В семнадцать часов ожидается общая атака. Гитлеровцы все сняли с обороны и будут прорываться. Приказано стоять, как в Сталинграде. Окруженная группировка должна быть ликвидирована.
Медведев посмотрел на часы.
— До атаки три часа. Пожалуй, успею перетянуть батареи на новые огневые, чтобы всем работать с открытых, прямой наводкой. Если отобьем эту главную атаку, значит, устоим, нет — так и спрашивать будет не с кого. Так я понимаю этот вопрос!
— Как не с кого? С нас спросят, — сказал Крутов, поначалу не понявший скрытого смысла слов Медведева.
— «Мертвые сраму не имут», — процитировал тот. — Слова старые, но значение их сохраняется до наших дней. Я пошел!
— С живых или мертвых, а спрос с нас! — упрямо сказал Крутов и обратился к Владимирову: — Вы, кажется, многих здесь еще не знаете, поэтому пройдем в роты. Проверим, как они готовятся.
Получив уже один отказ в помощи, Черняков не стал обращаться к Дыбачевскому вторично, зная, что это бесполезно. Приходилось рассчитывать только на себя. Он принял срочные меры. Даже в такую критическую минуту, когда на счету в окопах был каждый человек, Черняков не допускал и мысли остаться без резерва. Батальоны Еремеева и Крутова после тяжелых боев потеряли немалую часть своего состава. Люди утомились и требовали смены или подкрепления. Пришлось срочно отводить в резерв бойцов Еремеева, а на их место выдвинуть более многочисленный батальон Глухарева. Крутов передал ему часть своих окопов и тем уплотнил боевой порядок.
Черняков знал: гитлеровцы будут стремиться прорваться по большаку. Одолей они первую линию окопов — им не миновать и его командного пункта. Надо быть готовым к встрече.
Усталый, грязный от пота и пыли, Еремеев, оказавшись в резерве, не получил отдыха. Сразу же пришлось заняться организацией круговой обороны вокруг командного пункта. Все, кто только был около Чернякова, запасались гранатами, патронами, расчищали площадки для стрельбы.
Черняков посмотрел в стереотрубу, покачал головой, вздохнул:
— Будет сегодня баня... Ты только посмотри, сколько подтягивается гитлеровцев! По дорогам пыль столбом, машины, пушки, пехота подходят целыми колоннами...
— Тем хуже для них, — зло сказал Кожевников. — Больше будет беспорядка, легче бить! — Аккуратно свернув пилотку, он положил ее в сумку и надел каску. — Советую и вам то же сделать.
— Нет уж, не стоит! Не привык я что-то к ней, — ответил Черняков.
— Позволю напомнить, — усмехнулся Кожевников, — береженого коня зверь не берет. Так я пошел в батальон Глухарева.
На командных пунктах обоих батальонов было пусто. Офицеры разошлись в роты, на батареи, и только связисты оставались на своих местах, тихо переговариваясь между собой.
Батарея полковых орудий стала на новые огневые позиции, и Зайков пристрелял несколько новых реперов перед батальоном Крутова. Так как позволяло время, он выбрал еще несколько дополнительных ориентиров на местности и подготовил данные на огонь, если и там появятся цели.
А время тянулось медленно. Нужно было сидеть в глубокой щели и ждать. Ждать того, что должно начаться в семнадцать ноль-ноль... Из щели был виден кусок синего-пресинего неба; тихо, как лебеди, проплывали по нему облака. Они уходили на запад, но на смену показывались другие. Странно, что мысли Зайкова уносились в будущее. Он представил, как после войны, увешанный орденами и медалями, возвратится домой, и вся семья — мать и темноглазая сестренка — встретят его. Потом придут друзья, и они, обнявшись, пойдут по городу. Но приедет ли он в родной Томск в отпуск или насовсем? «Надо непременно доучиться. Но где? В институте? После войны специальность инженера, конечно, будет очень нужна... Или пойти в артиллерийское училище, а потом в академию? Артиллерия очень интересное дело...» Мало ли что перед умается, когда надо сидеть и не мешать другим работать. Адъютант батальона в соседней щели кричит в телефон, бранится из-за каких-то данных, которые с него требуют, забывая о том, что он сидит на передовой в окопе.
Тяжелым шагом, не выпуская трубки из стиснутых зубов, прошел Медведев. Из-под пилотки по лицу стекали струйки пота. Он утомлен, ему жарко. Скользнув суровым взглядом по Зайкову, он приник к своей стереотрубе.
А Крутова еще нет, наверное, ходит, проверяет, как кто окопался и где. Интересный он человек. С ним есть о чем поговорить, но Зайкову как-то не хватало духу заводить дружбу со старшими по званию Зайкову кажется, что никогда ему не забыть ни капитана Крутова, ни других товарищей, ни того, как вместе искали Малышко, ни нынешнего солнечного дня с окопной тишиной и тревогой в сердце...
Он взял карандаш и торопливо стал записывать все, о чем думалось. Писал, перечеркивал, искал новые слова, больше подходившие к чувству, которое охватывало его, старался, как новобранцев в строй, поставить их по ранжиру. Никогда в жизни не пытался связать рифмой и пару строчек, а тут само пришло стихотворение...
Услышав голос Крутова, он аккуратно сложил листок и сунул в карман гимнастерки.
— Батарея перешла?
— Так точно, товарищ капитан. Огни подготовлены! — Зайков, улыбаясь, смотрел на Крутова, а тот, погруженный в какие-то размышления, оставался серьезен и даже выглядел от этого старше своих лет.
— Будем стоять, Дорофей Батькович!
В первый раз Крутов назвал Зайкова не уменьшительным, а полным именем, и тут, верный своей привычке иронизировать, вместо отчества сказал «Батькович...» Но Зайков умеет понимать шутки, не ему объяснять, в чем дело.
— Выстоим, товарищ капитан. Не впервой! Снарядов нам подбросили...
Но Крутов, насупившись, думал о своем.
— У тебя есть близкие? — внезапно спросил он.
— Есть, в Томске... Мать, сестра... — Зайков не понял, к чему такой вопрос.
— Я не про то... Девушка, понимаешь, такая, что не можешь про нее забыть... Такая есть?
— Такой нет, — сознался, краснея, Зайков. — Пока нет!
— А у меня есть — Лена! Хорошая. Мы любим друг друга, а вот взяли и поссорились... Так глупо, — с тоской промолвил Крутов. — Спроси сейчас, из-за чего, даже не скажешь... Может быть, с нею уже что-нибудь случилось..
— Разве она здесь?
— Да. Где-то поблизости... Тоже под Витебском!
— Взяли да помирились, — пожал плечами Зайков. — Если ссора из-за пустяков, не принципиальная...
— А если она не захочет мириться, тогда как?
— Ну уж, не захочет... Захочет, если любит! — авторитетно заявил Зайков, лишний раз подтверждая пословицу: чужую беду и руками разведу, а вот как до своей...
— Ты так думаешь? — переспросил Крутов и, приняв какое-то решение, достал из планшета открытку. Положив сумку на колени, он быстро написал на ней адрес и несколько слов: «Лена, я так виноват перед тобой! Не сердись на меня. Павел».
— На, возьми, — сказал он, передавая открытку Зайкову. — Если со мной что-нибудь... напиши, как знаешь, и вложи эту открытку. Хорошо? Обещаешь? Надеюсь, как на друга!..
— Обязательно. А это вам от меня, на память, — Зайков в порыве нахлынувших на него чувств достал из кармана только что написанные стихи и отдал их Крутову. Ему сразу же стало очень неловко, но назад не возьмешь. Впрочем, именно для него он и писал эти стихи. Первые и, может, последние...
— Вы только не смейтесь, — попросил он, заметив, что Крутов стал внимательно читать.
— Над чем же тут смеяться? — вполне серьезно ответил Крутов. — Стихи — это разговор сердца. Оно иногда требует, чтобы человек говорил красивыми словами... Особенными! Такие слова есть, я знаю. Они, как смычок по струнам, сразу трогают душу...
...По лесам, кустам, речным долинам, Над полями, разгоняя тень, Чрез окопы, проволоку, мины Шел на запад наш июньский день...Крутов задумчиво прищурил глаза:
— В этих словах есть что-то такое, чистое... Я вполне представляю себе картину. Это уже стих, мне он понятен. Однажды, в госпитале, я тоже начал писать стихи. Было такое настроение, что слова прямо просились на бумагу. А потом все пропало. Сколько ни бился, больше не получилось, и я бросил. Не каждый поэт, кто захочет. Даже поэт не всегда может писать... «Пока не требует поэта к священной музе Аполлон...», даже поэт остается обычным смертным. Это еще Пушкин сказал, а он понимал толк в своем деле... Нам, солдатам, если мы хорошо воевали, но плохо писали стихи, — простят. Я думаю, после войны будет особый род поэзии с грифом: «Написано в окопе. Не критиковать!..»
Взглянув на Зайкова, Крутов встряхнул головой:
— Ну, показывай свои огни!..
В семнадцать началось... Сколько б ни прожил на свете, Крутову не забыть ни этого солнечного дня, ни первых коротких толчков земли, снова разбуженной залпами батарей, ни воздуха, до отказа забитого воющими, вопящими на все лады снарядами. Десятки самоходок и тяжелая артиллерия Гольвитцера расчищали дорогу своим полкам.
Весь сжавшись, Крутов приник рядом с двумя телефонистами к самой земле, до боли стиснул виски.
— Венера, Венера, я — Орел, — твердит один из телефонистов, еле шевеля сухими побелевшими губами. — Я — Орел, Орел...
Снаряды яростно сотрясают землю, мощными ударами вгрызаются в ее нутро, рвут ее живое, трепещущее тело, взметывают над ней фантастические черные султаны-деревья. Комья земли, сметаемые взрывами с бруствера, падают сверху, барабанят по каске, сыплются на спину, вихри пыли гуляют по траншее, засыпая песком приникших к земле бойцов. Перехватывает дыхание, когда, перекрывая грохот, врывается басовитый вой тяжелого стопятидесятимиллиметрового снаряда. Все замирают.
— Венера, Венера, я — Орел, — шепчет возле самого уха телефонист, умоляя далекого товарища на другом конце провода откликнуться на зов. — Венера, я — Орел...
Не дозвавшись, он тронул за плечо напарника:
— Порыв на линии... Бери трубку, я пошел!
Крутов рукой придавил его к земле:
— Не надо, погоди...
Встать и идти сейчас — это смерть, — напрасная, преждевременная, потому что сращенный провод будет перебит еще десятки раз, прежде чем ты успеешь вернуться, отважный телефонист. Все равно сейчас все замерли на своих местах и ждут... Надо и тебе переждать.
Но сколько можно ждать! Гнев поднял Крутова, он подбежал к телефону, рванул трубку из рук телефониста.
— Работает? Вызывайте полковника!
— Что случилось? — совсем, казалось бы, рядом раздался голос Чернякова. — Что случилось, Крутов?
— Вы слышите, что творится здесь? — Крутов нажал клапан трубки, чтобы на другом конце провода могли услышать, в каком аду находится батальон. — Учтите, не с кем будет стоять, когда они пойдут. Где же ваша обещанная авиация?
— Ты напрасно волнуешься, — как можно спокойнее ответил ему Черняков. — Укрывайся получше и жди. Авиация вот-вот должна появиться. Огонь сильный, это верно. Но по мне ведь тоже бьют... Это то самое и есть, о чем мы тогда говорили. Помнишь?..
Крутову стало стыдно. Как он мог подумать, будто Черняков сидит и ничего не предпринимает, когда враг беснуется?
В дальнем продолжительном громыхании, захлебываясь, глохли вражеские батареи.
«Пошла, пошла авиация», — догадался Крутов и, пользуясь моментом, приподнялся над бруствером, чтобы окинуть взглядом все поле, перекрытое жалкой полоской окопного бруствера. Пыльное облако, постепенно редея, сползает на сторону, открывая взору пустые, будто вымершие окопы и поле, по которому движется многочисленная фашистская пехота, а за нею, на некотором удалении, — машины, машины, машины...
— К бою! — изо всех сил закричал Крутов.
Он знал, что в ротах его голоса не услышат, разве только связисты и артиллеристы, которые сидят рядом. Но все равно...
Глава одиннадцатая
Захваченный частями Квашина пленный дал верные показания. Атаку гитлеровцев, начатую точно в семнадцать часов на двух направлениях одновременно, нельзя было назвать атакой в полном смысле слова. Квашину еще не приходилось видеть подобной, хотя он на фронте с первых дней войны. Это был непрерывный, многочасовой, отчаянный натиск тридцати тысяч гитлеровцев, стремившихся вырваться из окружения. Их боевые порядки были необычны. Цепями шла пехота и все, кто мог держать в руках оружие. Следом за ними и среди них шли самоходные орудия и транспортеры, волочившие за собой полевые пушки разных систем. Метались по полю, скучивались на дорогах грузовые машины, «оппели» и легковые автомобили других марок, громадные, как дома на колесах, штабные автобусы... Опрокидывая повозки, рвались и вставали на дыбы обезумевшие лошади. Отбитые раз, гитлеровцы снова обрушивали на гвардейцев шквал огня и поднимались снова и снова, что-то горланя, чтобы подхлестнуть свою решимость. Даже раненые, они не отставали от идущих вперед, боясь быть брошенными на произвол судьбы.
Отчаянным натиском они прорвали оборону одного из полков Квашина и валом пошли в эту узкую щель. Они не искали боя с оборонявшимися подразделениями гвардейцев. Они не стремились расширить пробитую брешь. Они были одержимы одним желанием — поскорее уйти и укрыться от снарядов и мин в лесной чаще, окружавшей озеро Мошно.
Наступил самый ответственный момент сражения. Березин, узнав от Безуглова о прорыве у Квашина, был встревожен.
— Навалились в одном месте — вырвались, — сказал Безуглов, и по его голосу Березин понял, что только серьезность обстановки вынуждает его сделать такое признание.
— Кто же это допустил? У кого прорвались?
— У Нагорного... Тысяч семь ушло!
— Как же так?
— Все, что в человеческих возможностях, им было сделано. Положение восстановлено, дыру заткнули. Сейчас принимаю меры к блокированию нового очага. Поставил на ноги всех тыловиков, ветеринаров, химиков...
— Этими я займусь сам, — решил Березин. — А вы не отвлекайтесь и следите за оставшимися. Обо всем, что случилось, доложите письменно и дайте свою оценку действиям Нагорного.
— Нагорный безупречен! Я не привык захваливать своих подчиненных, но на этот раз должен сказать: храбр. Не оставил своего командного пункта и держался, как на острове — посреди потока. Благодаря этому и удалось быстро заткнуть дыру. Держался по-гвардейски!
Мотоциклетный полк должен был поспеть к Чернякову вовремя, но все еще не прибыл на место. Это заставляло думать, что его что-то задержало. Однако никаких подробностей узнать было нельзя. Генерал Дыбачевский находился в стороне от угрожаемого участка, на правом фланге дивизии и не мог сказать, что делается у Чернякова.
Дыбачевский был вне себя. Он рвал и метал, грозил связистам всеми небесными и земными карами, если они не соединят его с Черняковым, проклиная в душе ту минуту, когда ему вздумалось советоваться с Коротухиным насчет того, чтобы первыми ворваться в Витебск. «Наштурмовали, — с сарказмом издевался он над своими недавними желаниями. — Достукаться, что командующий не желает говорить с тобой и бросает трубку!..
Дыбачевский понимал, в сколь глупом и безвыходном положении он оказался. Требовалось что-то немедленно предпринять, а что — ни одна путная мысль не приходила в голову.
Начальник связи дивизии поставил на ноги весь свой батальон. Не доверяя радистам, он сам сел у рации и, с опаской поглядывая на генерала, лихорадочно искал в эфире позывные Чернякова.
— Ответили. Товарищ генерал! — воскликнул он. — Черняков у аппарата, говорите!
Дыбачевский выхватил микрофон, заорал:
— Почему порыв на линии, а ты сидишь? Докладывай, что у тебя? Прием!
— Это не порыв... — раздался глуховатый голос Чернякова. — Меня обошли самоходки, веду...
Что-то щелкнуло в наушниках, запищало. Дыбачевский нервно потер ухо:
— Черняков! Черняков! Прием!..
— Наверное, что-нибудь испортилось, — с тревогой высказал предположение начальник связи и уже потянулся к рычажкам, чтобы снова воззвать в эфир, когда в наушниках, среди шума и попискивания, снова возник голос Чернякова.
— Вынужден прер... — опять что-то сильно щелкнуло. Сколько потом начальник связи и генерал ни бились у рации, Черняков больше не откликался.
Дыбачевский вытер рукавом мокрый лоб и вдруг, скривившись, изо всех сил грохнул кулаком по столу.
...В ушах у Чернякова звенело. Он потряс головой, стряхнул с себя землю и приподнялся. Сладковатый приторный дым от разрыва снаряда застилал окоп синеватой пеленой.
— Проклятая самоходка. Заметила прут антенны, и вот, пожалуйста! — сказал радист, стоя на коленях перед только что восстановленной, а сейчас окончательно испорченной рацией. — Безнадежное дело! — и он указал на пробоину в корпусе.
Черняков ни слова не сказал в ответ...
Несколько самоходок прорвались у Глухарева, обошли командный пункт Чернякова и теперь вели огонь по окопам, стараясь проложить дорогу своей пехоте. Положение было не из завидных. Судя по тому, что гитлеровская пехота не могла пробиться за своими «пантерами», можно было догадываться, — батальон остается на своих позициях. Уже это одно обстоятельство утешало Чернякова. За командный пункт он не опасался. Вокруг в глубоких окопах сидели бойцы Еремеева, у них имелись противотанковые гранаты, и несколько прорвавшихся самоходок не могли вызвать особых опасений. Без пехоты они ничего не сделают, лишь бы впереди Крутов и Глухарев еще держались. А там будет видно...
Пригнувшись, Черняков прошел к телефонистам.
— Плохи дела, — завидев его, сказал Кожевников. — У Крутова левый фланг смяли совсем. По большаку подбираются к самым окопам. Погляди...
— Ну, еще не так плохо, — отозвался Черняков, всмотревшись. — Те, что прорвались, далеко не уйдут: там батареи Медведева задержат... А как Крутов?
— Сидит в окопе рядом с бойцами!
— Правильно сделал, — сказал Черняков, разглядывая окопы, где должен был находиться командир батальона. Внезапно он забеспокоился. — Федор Иванович, смотри. Ах, сволочи, спрыгивают в окопы!.. Смотри, смотри, еще... Ну, пойдет сейчас рукопашная!
Кожевников, глубоко надвинув на глаза каску, молчал и рассовывал по карманам гранаты, предварительно проверяя капсюли.
— Ну, Евгений Яковлевич, мой черед — пошел! Если их сейчас не выбить, они придут сюда, а тогда — пиши пропало! Малышко, давай своих орлов! — крикнул он.
— Погоди, возьмешь еще роту Бесхлебного, — остановил его Черняков и оглянулся, отыскивая кого-то глазами. — Еремеев, четвертую роту сюда. Бегом!
По окопам понеслось: «Четвертую роту к командиру полка бегом!» Разведчики в зеленых маскировочных халатах обступили Чернякова, запрудив окоп. Подбегали разгоряченные бойцы из роты Бесхлебного. Окоп быстро заполнился людьми.
«Ну что ж, человек тридцать набралось», — прикинул в уме Черняков. Больше он ничего не мог пока дать.
— Давай, Федор Иванович, пошел!
Кожевников не стал терять времени на лишние разговоры. Он коротко поставил задачу:
— Враг ворвался в окопы первого батальона. Там наши товарищи. Выбьем его оттуда. За мной!..
Он с завидной легкостью выпрыгнул из окопа, призывно взмахнул рукой и, убедившись, что люди вылезают за ним, не задерживаясь, побежал вперед. Надо было перекрыть побыстрее какие-то две сотни метров до окопов батальона. Вокруг взвизгивали пули, где-то рядом строчил пулемет, но Кожевников не хотел замечать опасности. Три года войны легли за его плечами, три года по поручению партии он воспитывал бойцов, растил и закалял в них волю к победе. А сейчас обстановка потребовала, чтобы лично он сам, коммунист Кожевников, подтвердил, как понимает свой партийный долг. Единственное, чего он в эту минуту боялся, это — не вовремя упасть...
Наклонив голову и пригибая на ходу свое большое тело, чтобы сделать его менее уязвимым для пуль, он бежал не быстро, но уверенно и расчетливо, как опытный бегун, сберегающий силы для ответственной минуты. Вот так, как сейчас, не броско, но напористо и убежденно выполнял он всю свою работу в полку. Если бы ему сказали потом, что на ходу он заботился о правильности дыхания, едва ли он поверил бы в это — просто надо было сохранить силы для бега, для рукопашной схватки, для того, чтобы руководить ближним боем. Ведь он уже не юноша...
Сзади, с боков слышалось разгоряченное дыхание бегущих рядом бойцов. Кто-то обогнал его, и Кожевников прямо перед собой увидел широкую спину в темной пропотевшей гимнастерке.
— Вперед! — кричал на бегу Бесхлебный.
С ручным пулеметом наперевес бежали Мазур, Бабенко, еще кто-то. Они кричали, подхлестывая себя и других. Обгоняя стрелков, проскочили более легкие на ногу разведчики. Кто-то споткнулся и покатился по земле, кто-то, раненый, уже ковылял обратно...
Черняков со своего наблюдательного пункта увидел, что большинство атакующих невредимыми добежали до цели и вскочили в окопы. Он облегченно вздохнул.
Гаубичные батареи, стрелявшие прямой наводкой, замолкли. Медведев сердито отбросил трубку телефона.
— Я ухожу! — крикнул он Крутову. — Пехота пропустила немцев к батареям!
Крутов не стал его удерживать: командир в самую ответственную минуту обязан быть со своим подразделением. Пора было подумать и самому о том, что делать дальше. Гитлеровцы прорвались и справа и слева, но здесь, по большаку, им не должно быть ходу. На флангах, по бездорожью, они, даже прорвавшись, окажутся лишь бродячими группами и рано или поздно не минуют плена. На большаке они протащат за собой технику: самоходки, орудия, машины с боеприпасами. Значит, останутся боевыми подразделениями, и все труды, лишения, — все, что сделала армия за последние дни, теряло свою цену, Одна освобожденная территория теперь не принесла бы радости. Уверовав в победу с полной ликвидацией окруженной группировки, трудно согласиться на меньшее.
Тяжелый бой пришелся на долю его батальона. Рвались телефонные нити, падали, не дойдя до цели, связные, не воспринятыми сгорали сигнальные ракеты... И все же он ощущал обстановку в ротах, видел ход боя, направлял огонь артиллерии.
Когда потребовалось очистить траншею от заскочивших в нее гитлеровцев, замполит Владимиров сразу понял, что делать. Вначале Крутов подумал, что за ним — еще никому не известным человеком — бойцы не пойдут. Но Владимиров нашел нужные слова, сделавшие его сразу своим:
— Коммунисты, за мной!
Насколько Крутов успел за эти сутки узнать людей, поблизости от Владимирова не было ни одного члена или кандидата партии, а пошли все, в ком не было прямой нужды на командном пункте.
Подразделения окончательно разобщены, но продолжают выполнять боевую задачу, действуют самостоятельно, как велит совесть, долг, обязанность. Что остается делать ему — командиру?
Он решил повести всех, кто был с ним на командном пункте, — свой последний резерв — в свалку боя. Может, это и есть га последняя капля, что перетянет чашу заколебавшихся весов? Их всего несколько человек — воинов Красной Армии — рядовых и командиров: Крутов, Зайков, Бушанов, телефонисты... Что ж, настоящий командир не может оказаться плохим бойцом!
Все, что он делал в эти минуты, он делал в состоянии необычайной ясности разума. Колебания, страх за жизнь остались позади. Лютая злость к врагу, не оставившему ему надежды на жизнь, счастье, обрушившему на него неслыханные испытания, ожесточила Крутова и придала тот накал, при котором нет страха...
Он помнил, что бросал гранаты, стрелял, кричал, пригибался, чтобы укрыться от пуль и осколков. Казалось — все! И тут, будто с неба, свалилась помощь — Кожевников с ротой Бесхлебного, разведчики. Они сразу расчистили окопы вблизи от противника. Подбежавший сзади Малышко облапил Крутова за плечи:
— Пашка, черт, живой!..
Крутов повернулся к нему, и они звонко стукнулись касками.
Только сейчас, когда он был почти спасен, Крутов ощутил всю меру опасности, которой он подвергался. Ноги едва не подкосились от радости, и он прислонился спиной к стенке окопа. Возвращение к жизни потрясло его так же, как недавний артиллерийский огонь, едва ли не самый ужасный из всех, что он испытал.
— Ты чего, Павка? — тряс его за плечо Малышко.
— Ничего, Сеня... Это так... — минутная слабость прошла так же, как появилась. — Ну, сегодня памятный мне денечек!..
— Куда больше, — усмехнулся Малышко. — Еще такие полдня, и от полка рожки да ножки...
Возбужденные, разгоряченные боем, подошли два друга — Бесхлебный и Владимиров.
Крутов крепко стиснул руку Бесхлебному:
— Спасибо вам, а то мы уже думали — конец!
— Что вы, товарищ капитан, теперь мы постоим, — сказал Владимиров. — Главное — еще немного отпихнуть немца, чтобы он не пробился к своим самоходкам!..
Мимо Крутова провели вереницу пленных с поднятыми руками. Они шли торопливо, пугливо озираясь, еще не уверенные в том, что их ведут в плен, а не для скорой расправы, и в их поднятых руках Крутов уловил чувство отчаянной безнадежности...
Прибытие мотоциклетного полка первым заметил Еремеев.
— Товарищ полковник! — крикнул он. — Смотрите, к нам помощь, что ли?
Над дорогой, быстро приближаясь к передовой, выше леса поднималась завеса сухой желтой пыли. Только громадная колонна машин могла поднять за собой такой хвост. Мелькнули первые машины и, круто отвернув от большака в сторону, остановились. Вслед за ними вылетели мотоциклы с бойцами в комбинезонах. Черняков еще размышлял: кто бы это такие, а полем, по направлению к командному пункту, пошла первая цепь запыленных бойцов с такими же, как у танкистов, шлемами на головах. За одной цепью разворачивалась другая.
«Только бы не помешали им самоходки», — подумал Черняков, обернувшись в сторону вражеских машин. Две машины, прорвавшиеся в тыл батальона, горели, третья, завалившись набок, молчала. Другие держались вблизи окопов, через которые прорвались, поджидая свою пехоту. Против них уже разворачивались самоходные орудия мотоциклетного полка.
Вот когда пришло время бросить Чернякову в бой свой резерв. Не ожидая, когда подойдут мотоциклисты, он приказал Еремееву поднимать людей. Все напряжение боя должно было переместиться вперед.
Черняков не допускал мысли, что его подразделения могут оказаться вне его глаз.
— Переносите связь на командный пункт первого батальона! — приказал он и, побагровев, тяжело полез из окопа. Затем, упрямо склонив голову, он пошел полем, своей землей, на новый командный пункт. Он позволил себе оглянуться. Его догоняли бойцы мотоциклетного полка, идущие в первой цепи, а над дальним лесом медленно плыл самолет из эскадрильи связи командарма.
Березин, обеспокоенный неясностью обстановки, направил к Чернякову самолет с офицером оперативного отдела. Тихоходный самолет благополучно приземлился на небольшом клочке не тронутого снарядами поля. Пока мотор с тихим рокотом работал вхолостую, офицер бегом пустился отыскивать Чернякова. На старом командном пункте он застал лишь связистов, торопливо собиравших катушки с проводами. Ни Чернякова, ни его офицеров уже не было. Мотоциклисты вместе с остатками полка перешли в контратаку, опрокинули гитлеровцев и вели бой уже где-то далеко. Где именно, связисты точно указать не могли, но офицеру достаточно было и этих данных. Он бегом кинулся обратно к самолету, чтобы быстрей доложить командующему, что опасность прорыва на этом участке фронта устранена.
Березин был доволен. Значит, устояли, не пропустили, за это направление можно больше не беспокоиться.
До позднего вечера продолжались бои. Постепенно выяснились изменения в обстановке. Все дивизии стояли на своих местах, ни одна не оставила своих позиций, но вместо двух очагов сопротивления возникло три. Третий очаг появился в районе озера Мошно.
Наступила четвертая бессонная и тревожная ночь. От совхоза Ходцы подошла резервная дивизия и обложила лесной массив, в котором укрылись прорвавшиеся гитлеровцы. Командующий принимал меры к ликвидации третьего очага.
Ночью из дивизии Квашина приехал Бойченко. Выйдя из машины, он усталым шагом прошел в свое помещение.
Березин взглянул на часы: без четверти двенадцать. «Скоро будет у меня!» — подумал он и стал ждать. В течение двух с половиной лет, ровно в двенадцать ночи, почти всегда приходил Бойченко, и они обсуждали все вопросы, требующие совместного решения. Бойченко принес с собой запах крепкого одеколона, мыла. Освеженное лицо выражало полнейшее спокойствие.
— У Квашина сегодня был очень трудный день, — сказал он, присаживаясь к столу и с удовольствием откидываясь на спинку стула. — Подобного натиска наша армия еще не знала.
— И все же не сбили, стоят, — ответил Березин.
— В наших людях неизмеримая сила сопротивления. Особенно когда они почуяли запах победы... Попытка врагов уйти из окружения сорвана. Правда, им удалось небольшим числом прорваться в лес!
— Для них же хуже. Значит, силы противника разобщены. Это уже победа! Лес плотно блокируется, и мы выпустим их оттуда только в плен. Завтра нанесем ряд одновременных концентрических ударов на Башки, покончим с основным очагом, а потом займемся остальными.
— По-моему, гитлеровцы убедились в невозможности выйти из окружения.
— Что же из того? Разве нам следует менять план своих действий?
— Нет, почему же... — Бойченко пожал плечами. — Просто надо предложить им сдаться!
— Одно другому не помешает. В случае отказа хороший удар сделает их сговорчивей на будущее. Предложить — предложим! — согласился Березин. — Значит, решено: предлагаем им капитуляцию, а в случае отказа — удар!
— Уточним время.
— Вся артиллерия будет работать прямой наводкой, надо дать ей время подготовиться к новой задаче, а немцам — подумать... Начнем в десять!
Глава двенадцатая
Ровно в десять, когда вся артиллерия армии готовилась дать первый залп по зажатым в кольцо врагам, гитлеровцы поднялись на всей территории «котла». Из окопов, рвов, ям, из-за строений поднялись тысячи вражеских солдат, но не для последнего удара, а с поднятыми руками.
Сколько глаз с любопытством и недоверием смотрели, как серая приземистая легковая машина Гольвитцера с белым флагом на радиаторе медленно проплыла по нейтральному участку дороги и приблизилась к безмолвно застывшим орудиям.
Навстречу автомобилю вышла группа советских офицеров. Двое из них сели в машину, и она, сразу набрав скорость, понеслась в Замосточье. Она обдала пылью орудийный расчет, стоявший у самой дороги возле небольшой пушки. В это короткое мгновение командир расчета Богданов успел увидеть бледное, застывшее лицо немецкого генерала в фуражке с высокой тульей, смотревшего пустым безжизненным взглядом.
Все еще не доверяя своим глазам, Богданов взглянул туда, куда обращена была его пушка. Но и там было что-то необычайное. Везде, куда хватал глаз, стояли немцы, и среди них вспархивали белые тряпки.
Буйная радость охватила его. Он сорвал с головы каску и швырнул ее кверху:
— Товарищи... Ура!
Над полями, перелесками гремело могучее тысячеголосое «ура». Летели вверх пилотки, каски бойцов, поднявшихся из-за орудийных щитов и возле минометов, у пулеметов и из окопов, из наблюдательных пунктов и танковых башен.
Невидимая, скрытая в кустах, агитмашина перекрыла голоса людей:
— Внимание! Внимание!
Шум на передовой постепенно замер, и тогда громкий голос торжественно произнес:
— Товарищи! Окруженная фашистская группировка отказалась от дальнейшего сопротивления и капитулирует. Военный совет поздравляет вас с одержанной победой!..
«Так вот она какая, победа», — ликуя, подумал Богданов, устремляясь мыслями в тот сияющий день, когда он сможет со спокойной совестью сказать: «Конец! Отвоевались!» и вернуться к истосковавшейся семье.
Окруженная Витебская группировка сложила оружие. Двадцать семь тысяч фашистских солдат и офицеров вместе со своими генералами сдались в плен. Пять немецких дивизий и специальные подразделения армейского корпуса были навсегда вычеркнуты из числа гитлеровских войск за четыре дня боев. Командир корпуса Гольвитцер вместе со своим начальником штаба Шмидтом давали показания в Замосточье. Генерал нервно мял в пальцах носовой платок.
— Я понял, — говорил он глухим голосом, а переводчик быстро повторял за ним сказанное, — что Германия идет к гибели. Ставка перестала следовать голосу разума, а целиком положилась на волю Гитлера. Поражение неизбежно. Гитлер — наказание немцам за роковую ошибку, от которой предостерегали нас наши великие старики. Нам не должно было идти на восток, Россия нам не под силу!
— Это уже не первая ваша «роковая ошибка», — сказал Березин, до сих пор молча слушавший пространные объяснения Гольвитцера.
— Да, не первая, — отозвался Гольвитцер, — но...
Березин жестом прервал его:
— Ваша роковая ошибка не в том, что вы пошли на восток вместо запада, а в том, что вы вообще стремитесь куда-нибудь вломиться... Эти ошибки кончатся только тогда, когда немцы научатся уважать мир и соседние народы.
— Вот как вы понимаете этот вопрос, — с вынужденной улыбкой сказал Гольвитцер. — Ваша мысль интересна. Мы подумаем о ней.
— Да, вам необходимо подумать о многом, — сказал Бойченко. — Но признание ошибок не снимает ответственности перед народами за преступления.
Шмидт насторожился при этих словах и резко спросил:
— Собираетесь судить всех немцев, всю Германию?
— Нет, не всех... Организаторов войны и тех, кто допускал и поощрял зверское, нечеловеческое обращение с мирным населением; кто организовывал лагеря для женщин, стариков и детей без пищи и крова над головой; тех, кто уничтожал жителей Витебска; кто жег и разрушал наши города и села... — Волнение перехватило ему горло. Усилием воли Бойченко овладел собой и тихо закончил: — Судить будем тех, кто претворял в жизнь бредовые планы Гитлера.
Шмидт опустил глаза, чтобы скрыть злобные огоньки, рвавшиеся наружу.
Березин решил окончить затянувшийся разговор. Его уже не интересовали недавние противники. Впереди были иные дела и новые противники, а эти были пройденным этапом в его жизни.
— Война не окончена, Василий Романович. Не будем терять времени, — сказал он, поднимаясь из-за стола.
Гольвитцер тоже встал.
— Позвольте выразить вам свое восхищение. Я ничего не мог противопоставить вашей тактике. Вы — мастер стремительного удара... — Высокомерие сошло с его лица, и оно обрело выражение глубоко потрясенного, уставшего и, в сущности, старого человека, для которого поздно начинать жизнь сначала. — Все, что можно потерять в жизни: веру, отечество, славу, богатство, цель жизни — я уже потерял, — сказал он. — Мне нет причин льстить вам. Я завидую вашему упорству и таланту.
За все время это были его первые откровенные слова, и Березин на мгновенье даже подивился, как горе быстро сбивает спесь и вызывает наружу все человеческое, что при других условиях скрыто глубоко под наслоениями пережитков, предрассудков, лжи...
— К сожалению, я не могу принять вашу похвалу в свой адрес. Это не моя тактика, это тактика всей Красной Армии, а я лишь скромный ученик многочисленной советской военной школы...
— Может быть, может быть, — согласился Гольвитцер, которого охватило в эти минуты неподдельное волнение. — Как я ошибся!.. Все потеряно!.. Германии больше не будет...
Пользуясь тем, что переводчик вышел, Шмидт быстро сказал Гольвитцеру:
— Не унижайтесь, генерал!
— А, бросьте эти церемонии, — отмахнулся Гольвитцер. — Я знаю, это конец всему!
Березин счел нужным вмешаться:
— Германия будет! Только новая, демократическая Германия. Строить ее будут немцы, которые быстрее отбросят прежние заблуждения, те, для которых мир будет дороже всякой войны.
— Может быть, — машинально произнес Гольвитцер.
— Я хотел бы задать вам еще один вопрос... Вам, полководцу, не стыдно было сдать в плен свой корпус?
— Как полководцу, может быть, стыдно. Но как человеку... Позвольте ответить вам по-человечески, бесхитростно. Меня будут за то благодарить женщины и дети, отцы и матери... Благодарить за то, что я сохранил жизни их близких! — ответил Гольвитцер.
— Как жаль, что к вам столь поздно пришло прозрение!
— В этом не только моя трагедия, а всего немецкого народа. Даже на гибельном пути он следует до конца...
— Кстати, — спросил Березин, — где ваше имение?
— Кугген, под Кенигсбергом!
— Спасибо. Может, придется быть в тех краях, так загляну!
Вслед за вышедшими из помещения генералами офицер вывел пленных.
Через деревню шла колонна немецких машин с ранеными. В кабинах сидели немцы-шоферы, немцы-врачи, фельдшера. Кузова были до отказа набиты почерневшими, грязными, потерявшими всякий воинский вид ефрейторами, гренадерами. За машинами двигался «тигр».
— Ну, это уж слишком, — нахмурился Березин, — в плен с «тиграми»! Еще артиллерию за собой потащат...
Но когда танк поравнялся с генералами и остановился, Березин увидел на башне надпись: «За Угловского!» Крышка люка откинулась, и оттуда показалась голова танкиста.
— Товарищ генерал, экипаж машины сопровождает пленных до эвакопункта. Докладывает лейтенант Куликов! — и танкист улыбнулся широкой, лучезарной улыбкой.
— Ну, как машина, не подводит? — спросил его Березин.
Куликов покачал головой, вздохнул:
— В бою ничего, а на длинные марши не годится. Тяжеловата, придется на свою отечественную пересаживаться, а эту бросать. Ведь впереди какие расстояния одолеть предстоит, пока фронт догоним!..
— А про вас писали, что намереваетесь на ней до Берлина дойти, — сказал Бойченко.
— Не знаю, что и делать, товарищ генерал. Чистая трагедия!..
Березин захохотал, махнул танкисту рукой: «Счастливо!»
— Вот он, бесславный конец Медвежьего вала!
Гольвитцер и Шмидт молча, исподлобья проводили взглядом «тигра» и разместились в машине. Рядом с шофером-немцем сел офицер из разведывательного отдела армии. Перед станцией Коопти, на привале, они увидели остановившуюся на отдых колонну пленных. На громадной поляне сидели тысячи немцев.
— Я вас очень прошу, — обратился Гольвитцер к офицеру-разведчику, — разрешите мне проститься с моими солдатами.
— Пожалуйста, только покороче, — офицер пожал плечами.
Машина остановилась. Пленные узнали своего бывшего генерала, но продолжали сидеть, не выражая ни любопытства, ни почтения перед старшими начальниками, которым еще так недавно повиновались. Гольвитцер встал на крыло машины.
— Солдаты!..
Пленные, сидевшие в первых рядах, отвернулись от него, задние переговаривались между собой, кое-кто смотрел неприязненно. Гольвитцер понял, что он совершенно им не нужен, да и говорить в подобной обстановке не о чем. Огорченно махнув рукой, он снова сел в автомобиль...
Березина и Бойченко ждали новые заботы, но ни командующий, ни член Военного совета не считали возможным расстаться с Витебским районом окончательно, пока не навестят своих раненых. Вырвавшись на несколько часов из круга неотложных дел, они проскочили назад и, посетив госпитали, догоняли двигавшиеся на запад соединения армии.
По обочинам дороги рос частый кустарник. Задумчиво вглядываясь в него, Березин случайно заметил качнувшуюся ветвь и голову в немецкой пилотке, быстро юркнувшую за листву.
— По лесам все-таки много осталось бродячих гитлеровцев, — прервал он молчание. — Придется еще немного задержать дивизию Томина для прочесывания.
— Что ж, правильно, — ответил Бойченко.
Машина быстро мчалась по шоссе. Впереди, взмахивая березовым посошком, шел солдат. Пыльные ботинки говорили о многих пройденных пешком километрах, а его согбенные плечи — о прожитых годах. Березин приказал шоферу остановить машину и приоткрыл дверцу:
— Куда идете?
Увидев генеральские погоны, солдат выпрямился, привычным неуловимым движением тронул сивые, прокуренные усы и приложил руку к пилотке:
— Так что, товарищ генерал, возвращаюсь из капитального ремонта в свою часть. Докладывает красноармеец Кудря! Вот мое направление, если желаете...
— Не надо! — прервал его Березин. — В какую часть? Почему один?
— К полковнику Чернякову. Может, слыхали про такого, из дивизии Дыбачевского? А отбился потому, что... — голос бойца вдруг сорвался, — потому, товарищ генерал, что сынок тут у меня недалече лежит. Захотелось на могилку взглянуть, подправить...
— Садитесь! — приказал Березин. — Дивизию полковника Чернякова вам пешком скоро не догнать.
Кудря недоверчиво взглянул на генералов. Уж не смеются ли? Хотел было спросить, почему это дивизию Чернякова, когда совсем недавно там был Дыбачевский, но, увидев распахнутую дверцу, отбросил ненужный теперь посох и полез в машину.
— Ехать так ехать, — сказал он. — Это даже лучше, чем топать пешком!
На этом их разговор и закончился. Кудря знал, что расспрашивать генералов не следует, потому что начальство это не всегда любит. А генералы молчали потому, что как ни бодрились при них раненые в госпитале, а все равно невесело смотреть на страдания своих людей. Так и ехали молча, пока шофер не притормозил машину посреди деревни, где расположился на ночевку бывший полк Чернякова.
— Павел Иванович! Товарищ капитан! — закричал с порога Зайков, увидевший, как из приостановившегося генеральского автомобиля вылезает не спеша знакомый боец. — Товарищ капитан, с командующим Кудря приехал!
Крутов выскочил из избы, чтобы встретить начальство, но машина, подняв тучу пыли, удалялась. Посреди дороги, не зная, куда идти, стоял Кудря-старший, растерянный и взволнованный.
— Ну здравствуй, отец, — подошел к нему Крутов. — Вот и встретились!
Старший по званию и старший по возрасту невольно обнялись и, не выпуская рук, долго стояли молча, не зная, что в таких случаях говорить и что делать дальше.
— Ну, отец, по-честному, уж не сбежали ли вы из госпиталя раньше времени?
— А чего там, маленько подлатали, да и ладно, — неопределенно ответил Кудря.
Они перебросились еще несколькими неизбежными в таких случаях «что» да «как». О главном, о войне не говорили, потому что знали — дойдут до Берлина, а если надо, и дальше. Дойдут, если не они, так другие, как бы ни был долог путь к миру. Дойдут, потому что иначе и быть не может, поскольку не было у них иного пути, как только к победе.
Стремительно наступали Первый Прибалтийский, Первый, Второй и Третий Белорусские фронты. Могучие Вооруженные Силы советской державы наносили очередной сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам, чтобы освободить навсегда Белоруссию, большую часть Литвы и Польши. Танковые и механизированные войска Первого и Третьего Белорусских фронтов стремились к Минску, чтобы сразу замкнуть в громадном кольце несколько фашистских армий и корпусов.
Догоняя свой ушедший вперед фронт, по дорогам Белоруссии шла армия Березина. Пылили бесчисленные колонны машин, груженных боеприпасами и снаряжением, с прицепами, орудиями, зарядными ящиками, тяжелыми минометами. Машины были до отказа забиты бравыми, загорелыми бойцами в пыльных пропотевших гимнастерках, а иногда девчатами-санитарками, связистками, если проходил медсанбат или батальон связи.
Среди общего шума, висевшего над колоннами, прорывалось пиликание гармошек и аккордеонов. Только песен не было, хотя петь пожелали бы многие. И пели бы, но из-за пыли, тучами подымавшейся за каждой машиной, нельзя было раскрыть рта.
Лена сидела среди ящиков и узлов с постелями. Впереди и сзади размеренно двигались одноконные и парные повозки, свои и трофейные, на которых ехали санитары и легкораненые, оставшиеся в строю и на время марша взятые под наблюдение полкового врача. Народ все был веселый, озорной, несмотря на бинты и порою солидный возраст. Иные ехали верхом на трофейных лошадях. Транспорта было в избытке, и начальство старалось подобрать его побольше, чтобы сохранить силу бойцов во время длинных маршей.
Санитарную часть полка обгонял, тяжело переваливаясь на ухабах, большой штабной автобус. Среди бойцов и офицеров, до отказа заполнивших машину, Лена узнала полкового экспедитора — дядю Ваню, как называли его все за солидность и пушистые усы цвета спелой ржи. Дядя Ваня на ходу что-то перебирал в своей черной кожаной сумке. Не надеясь на ноги, он добирался до места привала полка оказией.
Увидев его, Лена остро почувствовала, как ей недостает писем от Павла. Хуже всего, она не знала даже, жив он или нет. В памяти всплыли его слова: «Прощайте! Может, больше не увидимся совсем!..» Как поздно она тогда поняла их смысл!
— Дядя Ваня! — что есть силы крикнула девушка и, привстав, замахала руками, чтобы ее заметили.
Экспедитор поднял голову от сумки, отыскивая глазами того, кто мог его позвать.
— Дядя Ваня! Письма есть? — кричала она ему, стоя на повозке.
Он спохватился, не столько расслышав, сколько догадавшись, в чем дело, и, уже еле различая девушку за пыльной завесой, поднял руку, показывая два пальца.
Целых два письма, в которых она так нуждалась, уходили с автомашиной вперед!.. Леной овладело отчаяние... Ждать до самого вечера, томиться в неизвестности — это свыше ее сил. Она готова была бежать за автобусом, но потом кое-как взяла себя в руки и стала думать, о чем ей может написать Павел. Почему-то ее не покидала уверенность, что хоть одно письмо должно быть непременно от него. Какой нелепой казалась недавняя размолвка, какой глупой! Разве можно было ей так себя держать? С высоты прожитого, выстраданного она попыталась взглянуть на все их отношения с Крутовым.
Да, Павел ей понравился с самой первой встречи. Он был порой неуклюж, порой неловок, порой смешон, но всегда — и это чувствовала Лена — честен и искренен. Он не мог лгать, и это сразу расположило Лену к нему. Из легкого девичьего озорства в тот памятный первый день их знакомства она позволила ему поцеловать себя. Но только ли из озорства?.. Нет, и она поняла это, едва распростилась с ним, и часть ее сердца осталась с Павлом: это сразу заметили ее друзья-разведчики!
А потом — новогодняя ночь. Это была славная ночь, чистая, светлая, лунная, — проведенная с хорошими людьми. Но она задержалась тогда в полку Павла, явилась поздно, и ее дружеские отношения с ребятами-разведчиками после этого сменились другими, словно ее подозревали в чем-то нехорошем. Ей даже передавали какую-то грязную сплетню, в которую впутали и ее имя. Потом два солдата, которых она даже и не знала толком, подрались из-за нее. Пожилой разведчик, человек умный и опытный, посоветовал ей уйти из взвода.
— Ребята у нас славные, — говорил он. — Болтовня идет, я знаю, от кого. Но на чужой роток накидывать платок — по-всякому выходит. Еще больше болтовни не оберешься — и так бывает...
Она послушалась, подала рапорт с просьбой о переводе в санитарную роту.
Так довольно нескладно закончилась та страничка ее жизни, когда она хотела служить Родине не там, где, может быть, полагалось женщинам, а на самом опасном и трудном деле — в разведке!
Ну, перевели ее из разведки и, казалось бы, — все! Но обида оставалась: разве она в чем-нибудь виновата? Так за что же на нее так? Не лучше, если бы не было ни этих встреч, ни знакомства с Крутовым? Вот и шли от нее письма то теплые, откровенные, то колючие, как ежи...
В санитарной роте она столкнулась вплотную с человеческими страданиями.
В разведке она видела убитых, раненых и переживала за них — это было как-то объяснимо — ее товарищи. А тут, когда полк вел бои, через ее руки проходил целый поток искалеченных, истекающих кровью. Она не могла спокойно выносить вида раненых, их стонов, криков, сопровождавших каждый толчок носилок. Видеть, слышать, пережить эти дни, делать все возможное, чтобы облегчить муки людей, — казалось, у нее не хватит на это ни мужества, ни сил. Она и сама тогда не подозревала, что санитарная рота явится для нее школой, которая научит ее ценить моральные качества человека несравненно выше физических. Она поняла, что те, кто попал сюда на окровавленных носилках или, превозмогая боль, дотащился сам, — это неизбежная плата за торжество того дела, ради которого и она готова была отдать свою жизнь.
Лена много читала до войны, потом думала (после ухода от разведчиков), что книжное — это иное, чем сама жизнь, а сейчас, когда вычитанное слилось с пережитым ею самой, она поняла, что хорошие книги учили ее правильно понимать людей. Человеку дано право на настоящие чувства, и он может следовать им, если убедился, что они у него искренни, что выбор сделан правильно, потому что жизнь — одна, разбитую ни залечить, ни поправить, ибо она так и останется ущербной. Она верила: Павел — честный, искренний человек. Когда начались решающие бои за Витебск, она столько за него тревожилась, что поняла и другое — без него ей не бывать счастливой.
Поздно вечером, когда солнце клонилось к самой земле и готовилось вот-вот коснуться зубчатой кромки леса, полк остановился на привал. Санитарная рота устроилась на краю деревни у небольшого садила. Не в силах больше оставаться в неведении, Лена побежала искать экспедитора. Она нашла его среди полковых минометчиков.
— Дядя Ваня, вы говорили, что мне есть письма, — тронула она его за рукав.
— А, дочка, — заулыбался он, — не вытерпела, прибежала. Есть, конечно, есть...
Экспедитор раскрыл свою сумку с многочисленными отделениями. Одно письмо было от родных. С недоумением рассматривала она второй конверт с незнакомым почерком. «Д. Зайков» — такой фамилии она никогда не слышала. «Может, кто из раненых», — подумала она и только тут обратила внимание на то, что адрес совпадал с адресом Павла. «Значит, его нет, и кто-то из друзей сообщает об этом!» С мучительной тревогой в сердце Лена стала поспешно разрывать конверт. Открытка: «Лена, не сердись на меня...» — писал Павел. Но почему же тогда рядом чужое письмо? Значит, все-таки что-то случилось! «Уважаемая Лена! — прочитала она. — Вам покажется странным, что пишет человек, не видевший вас в глаза...»
Вновь ей стало страшно, и, словно бросаясь в воду, она стала быстро пробегать глазами с одной строки на другую. Конечно, речь шла о Павле. В письме подробно описывалось, что с ним было в дни боев... «Посылаю эту открытку в знак того, что в самую опасную минуту он думал о вас. Я рад, что вас любит такой славный человек, как Крутов...»
Она не могла поверить письму. Если он жив, то почему не написал сам? Видимо, его друг из жалости не хочет сразу огорчать ее страшной вестью. Оставляет ей маленькую надежду?..
Лена долго сидела не шевелясь. Постепенно оживала вера, что, может быть, с Павлом и в самом деле ничего не случилось. Ей даже пришло на ум, что только напряжение последних дней помешало ей понять письмо так, как оно написано.
...Она о многом передумала в этот вечер. Не знала Лена, что ее ждет в будущем, останется ли она сама жива, дождется ли своего счастья. Одно она знала твердо: за него надо бороться, надо идти вперед до тех пор, пока не наступит полная победа над врагом.
Над деревней зажглись крупные бледные звезды. Ласково, ровными столбиками тянулся к ним дым от костров. На громадной высоте с сигнальными огоньками-звездочками плыли самолеты к фронту или еще дальше — на Берлин. Рокота их моторов не было слышно из-за шума машин, идущих через деревню.
Лена встала, вытерла глаза, и надежда, искоркой тлевшая в груди, привела ее к дороге. Двигалась какая-то незнакомая часть. Вдруг она увидит Павла? В свете фар плыли орудия и повозки, устало брели бойцы. Завидев Лену, бойцы бросали в ее адрес колючие шуточки, звали с собой, но она не отвечала им и продолжала стоять. Потом пришло решение — завтра с утра ехать и отыскать его часть, где бы она ни находилась.
Лена направилась к командиру роты, чтобы получить разрешение. «В крайнем случае я ему все расскажу. Не может быть, чтобы он не отпустил», — думала она.
В расположении роты ее окликнули:
— Где ты ходишь до сих пор, Лена? К тебе кто-то приехал, а ты будто сквозь землю провалилась!
— Кто приехал?
— Это тебе лучше знать. Какой-то офицер.
Лена почти бежала. Возле палатки для раненых, поодаль, стоял приезжий. Свет от костра огненными бликами пробегал по накидке, широкими складками ниспадавшей с его плеч. Человек стоял к ней спиной, понурив голову. Заслышав шаги, он обернулся.
Лену обдало жаром, она остановилась, не в силах сделать ни одного шага.
— Павлик! — еле слышно прошептала она.
— Лена! Как я ждал тебя, ласточка моя...
Крутов, не таясь, открыто прижал ее к своей груди. Все люди стремятся к счастью. Разве посмеет кто-то смеяться над ними, осуждать их, если человек рожден, чтобы жить, работать, растить детей, наслаждаться радостями, если в этом и заключается Ее Величество Жизнь.
АВТОР О СВОЕМ РОМАНЕ
«...Мы, воины Третьего Белорусского и Первого Прибалтийского фронтов, преодолели «Медвежий вал» и 27 июня 1944 года разгромили и пленили сорокатысячную армию врага. Мы завещаем вам нашу победу». Так говорится в обращении ветеранов соединений, участвовавших в освобождении города Витебска, к молодежи 2017 года. Оно было зачитано и одобрено на общегородском митинге, в присутствии десятков тысяч жителей Витебска и съехавшихся сюда бывших фронтовиков, чтоб отпраздновать 30-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Обращение было вложено в макет снаряда из нержавеющей стали и замуровано в монумент Победы, воздвигнутый на новой площади города. Это были торжественные и незабываемые минуты.
Почему «Медвежий вал»? Я пытаюсь припомнить, где и когда мелькнуло в документах разведотдела 39-й армии это название воздвигнутой гитлеровцами под Витебском укрепленной полосы, и не могу. «Восточный вал» — да, упоминается в книгах о войне. О строительстве этого вала немцы объявили в августе 1943 года. «Медвежий вал» — скорее вымысел, с которым свыкся я сам и свыклись ветераны. Несколько сот человек подписали это обращение, и никто не усомнился, не спросил, а почему «Медвежий»? Гитлеровцы называли танки «тиграми», «пантерами», почему не могли назвать похоже и свою укрепленную полосу?!
Дело не в названии, а в самих укреплениях, а они-то были, да еще какие. С октября по июнь бились мы под Витебском, прорывая укрепленные полосы одну за другой. Девять месяцев кровавой борьбы. Этим событиям я и посвятил свой роман, стараясь максимально сохранить время и место боев, их развитие и ход, общую обстановку в полосе 39-й армии, в которой мне довелось служить. На войне тысячи людей в постоянном движении: меняются соединения, части, происходит перестановка командиров, на смену убитым и раненым приходят новые люди. А роман... Он же не терпит перенаселения героями, новыми лицами, и, даже придерживаясь канвы событий, документальности, художник вынужден производить отбор и обобщения.
Следует сказать и другое: роман написан до открытия Архива МО, и мне приходилось полагаться только на свою память. За истекшие тридцать лет многое прояснилось, и, пользуясь переизданием романа, мне кажется, не лишним будет рассказать, кто стоял за литературными героями, назвать подлинные имена.
В сентябре 1943 года, когда витала в воздухе крылатая фраза: «Вперед на запад!», 39-ю армию принял новый командующий генерал Берзарин. «Это был чудеснейший человек, самородок, — пишет о нем бывший начальник штаба армии генерал Симиновский. — Повторяю — самородок. Уважением он пользовался во всех слоях армии, исключительно...»
Николай Эрастович Берзарин известен многим дальневосточникам. В 1938 году, в боях на Хасане, он командовал 32-й стрелковой дивизией. Среднего роста, плотного сложения, густобровый, с зачесанными назад волнистыми волосами. Умный, внимательный, чуть вприщур взгляд. Чеканная, лаконичная речь. Умение владеть эмоциями. Я почти полгода прослужил при нем в штабе, но не слышал ни сам, ни от других, чтобы он позволил себе грубость в адрес подчиненного, вспышку гнева. Армия — большое и сложное хозяйство. Принимая многочисленных подчиненных, выслушивая их доклады, он не терпел только одного — многословия. Берзарин был человеком высокой культуры, и мы, офицеры, старались ему подражать. Но в первую очередь учились деловитости, штабной культуре у своего начальника Моисея Исаковича Симиновского — прекрасного организатора.
Осень 1943 года — время битвы за Днепр. Наша армия тоже вела долгие и кровавые бои, и к витебским укреплениям врага подошла ослабленной, с большой недостачей личного состава в подразделениях. Месяц с небольшим длился период обороны. Это вовсе не значило, что боев не было: каждую ночь десятки разведывательных групп прощупывали оборону противника; артиллерия вела огонь; войска завязывали скоротечные схватки за отдельные высотки и деревни.
Наступление было приурочено к годовщине Великого Октября. Намечен прорыв вражеской обороны, севернее шоссе Лиозно — Витебск, двумя дивизиями — 134-й и 158-й. Три дивизии — 17, 19, 91-я гвардейские сосредоточены для развития успеха. Утро. Туман. Все на местах, ждут сигнала. Такая тишина, словно все вымерло. В десять утра раздается гром артиллерийской подготовки. Сотни орудий и минометов ведут интенсивный беспрерывный огонь по вражеской обороне. Через час в грохочущие звуки артподготовки вплетается вой и свист реактивной артиллерии — «катюш». Пехота поднимается в атаку. Оживает вражеская оборона. 134-я стрелковая дивизия овладела двумя линиями траншей в Шариках и Зоолище. В деревнях ни одного дома, все пошло на немецкие блиндажи. Очереди трассирующих пуль секут землю, не дают ходу дальше. Туман мешает видеть цели.
158-я стрелковая дивизия тоже сначала вклинилась в немецкую оборону не глубоко, но потом, пользуясь тем же туманом, генерал Безуглый начал настойчиво поджимать свои полки: если мы не видим врага, так и он не видит нас, надо мелкими группами обходить вражеские пулеметы и уничтожать их. Ночь, темень не остановили наступающих, и к утру 158-я дивизия овладела деревнями Бояры, Королево, Еремино, перерезав большак Лиозно — Витебск в глубоком тылу у немцев. Именно успех этой дивизии послужил основанием для приказа о действиях в ночное время.
Впервые я встретился с генералом Безуглым — командиром 158-й стрелковой дивизии — в сентябре 1943 года, когда шли бои на подступах к Лиозно. Наш полк получил дневку на отдых, на приведение личного состава в порядок: помыть людей в бане, дать возможность постирать гимнастерки, почистить оружие. Естественно, что мы оказались во втором эшелоне и вечером получили приказ к утру сменить один из полков 158-й дивизии и в его полосе наступать. К утру мы вышли в указанный район, но часть, которую надлежало сменить, ушла куда-то дальше. Надлежало их найти. Я позвал с собой помощника начальника штаба полка по разведке (ПНШ-2) старшего лейтенанта Катаргина, и мы подались по какой-то гати через болото туда, где шла перестрелка. А дальше произошло все так, как это описано в моем романе.
Иван Семенович Безуглый встретил Октябрьскую революцию матросом Черноморского флота. В гражданскую — он воюет в составе дивизии Киквидзе. С тех пор он в рядах Красной Армии. Перед войной он командовал десантниками. 22 июня застало его в Москве, в отпуске. Он тут же кинулся в свои войска, находившиеся близ границы, но ему удалось найти только штаб. Лишь через полгода его назначили командиром 158-й стрелковой дивизии, сформированной из коммунистических батальонов Москвы. С этой дивизией в марте 1942 года он и вступил в бой на территории Калининской области. Неподалеку от Ржева есть деревня Холмец, там находится первая братская могила воинов этой дивизии, место паломничества ветеранов завода имени Лихачева.
Сколько я его помню, он всегда был в кожанке, с обветренным красным лицом, и только лоб под генеральской фуражкой оставался белым. Крепко сложенный, волевой, энергичный, он всегда говорил громко, словно бы отсекая одно слово от другого для большей ясности, и порой — грубовато. Он даже бравировал, по-моему, своей грубоватостью, резкостью, и этот тон превратился в черту его характера. На него за это не обижались, потому что ни для кого он не делал исключения, но главное, что за этой его грубоватостью следовала всегда большая забота о солдатах и офицерах, забота о деле, высокая справедливость. Для себя он взял правилом всегда видеть поле боя, чтобы в любую минуту помочь войскам всеми средствами, какие были в его распоряжении. От его пронзительных серых глаз не ускользала ни одна мелочь, он все замечал, тут же заставлял исправить, сделать как положено. Солдаты его любили, и в войсках про него ходила масса былей и небылиц, порой смахивавших на явные анекдоты.
В феврале 1944 года он принял командование 5-м гвардейским стрелковым корпусом и в этой должности встретил День Победы. Он любил дело и умел организовывать людей. Уже после войны, появляясь в местах, где его войска вели самые тяжелые бои, он всегда привозил с собой то отлитую на заводе мемориальную доску, чтобы увековечить память о погибших, то еще что. В подшефную школу в Бабиничах он приехал с трактором для ребят; кажется, он «выколотил» его чуть ли не в Тимирязевской академии.
В тот же день я познакомился и с командиром полка подполковником Томиным. Улыбчивый, вежливый человек. Это его полк прорвался в Еремино на большак. Была глубокая ночь; он знал, что утром гитлеровцы навалятся на него, а с ним ни одного танка. «Коробочки» дам, — радировал на его запрос Безуглый. — Высылай людей, которые знают дорогу и могут провести их к тебе». И тут к нему подошла деревенская девушка, слышавшая этот разговор, и сказала, что она знает тропу на Королево. Ночью она благополучно провела туда бойцов и вернулась в деревню на броне танка. В суматохе начавшихся контратак забыли спросить имя отважной патриотки, оказавшей столь важную услугу. Лишь спустя двадцать лет, с помощью красных следопытов, удалось установить фамилию женщины. «Проводник в красной косынке» — так 25 октября 1967 года газета «Красная звезда» назвала жительницу села Вторая Заболоть Александру Филипповну Лукьянченко, совершившую этот подвиг.
Утром 8 ноября 1944 года в прорыв вошли гвардейские дивизии. Развернувшись веером, они в первые же часы овладели населенными пунктами на витебском большаке и за ним; Лучиновкой, Ковалево, Жирносеки, Заболотье, Осиповщиной. Все это более чем в десяти—пятнадцати километрах за линией фронта, который продолжал держаться по сторонам от прорыва. «Лучиновский пузырь» — так окрестили эту операцию в штабе армии.
Даже вступая в новую операцию, гвардейские дивизии не были укомплектованы личным составом и на одну треть. Так 45-й гвардейский стрелковый полк 17-й гвардейской дивизии имел всего один неполный батальон. Подполковник Шкуренко Николай Иванович, принявший этот полк накануне наступления, через три дня был ранен: осколком снаряда от «фердинанда» его ударило касательно, обожгло грудь, забило дыхание. «Я упал на выходе из блиндажа. Замполит Брагин говорит Максимову: «Товарищ начштаба, командир убит, принимай командование полком». Я это слышу, а ни звука произнести не могу. Максимов отвечает: «Я через своего командира полка переступать не могу». Радист уже передает комдиву: «Шкуренко «черный» — то есть убит. В эту минуту я застонал. Все в блиндаже закричали «Жив!» и начали оказывать мне помощь...»
Я привожу этот бесхитростный рассказ ветерана, чтобы молодые читатели яснее осознали величие подвига наших воинов. Идет контратака на малочисленный батальон, в котором едва остается до полусотни солдат, движется десяток «тигров» и «фердинандов» и под прикрытием их огня — немецкая пехота. И тут Шкуренко, минуту назад лежавший замертво, просит дать два залпа «катюш». Безуглый отвечает начальнику штаба дивизии полковнику Караке: «Шкуренко вывернется». Но Карака настаивает: Шкуренко три дня не просил помощи, значит, сейчас она необходима! И Безуглый разрешает использовать один залп.
Для бойцов батальона это был гром среди ясного неба.
Лейтенант Иньков Юрий Павлович пишет, что, когда поют песню «Высота», у него всегда перед глазами своя высота. «...В батальоне уже все заметили, как на опушку леса выползли «фердинанды», выползли нахально и навели жерла орудий на окопы. Я приказал снять пулеметы в окоп. Воздух сотрясся от мощного залпа «фердинандов» и нескольких пушек. Взметнулась ввысь стена земли и пыли, и потом уже долго, то поднимаясь, то оседая, висела в воздухе. Снаряды рвались в разных местах на участке батальона... Вдруг один из снарядов разорвался рядом, и у меня как будто что-то лопнуло в ушах, разрывы я стал чувствовать только по содроганию земли — я не слышал.
...Атака началась: гитлеровцы быстро продвигались вперед. Слева глухо застрочил пулемет из взвода моего товарища лейтенанта Бублика, но второй у него молчал. Молчал и пулемет моего сержанта-казаха. Раздались винтовочные выстрелы и автоматные очереди, наша артиллерия сосредоточила свой огонь на «фердинандах». Немцы приближались, стреляя на ходу, но должны были залечь, многие навсегда, от выросшей прямо перед их цепью сплошной огненной стены залпа «катюш», на подмогу которых не рассчитывал никто в батальоне...»
Обстановка тех дней отражена в романе довольно верно. Однажды утром член Военного совета генерал Бойко Василий Романович зашел к Берзарину сильно озабоченный: ночью в гвардейские дивизии не смогли пробиться машины с продовольствием и боеприпасами, не эвакуированы раненые. Дорога под обстрелом немецких автоматчиков. Надо было выправить положение немедленно, и Берзарин выехал на место. Он тут же собрал разведчиков, из ближних батарей с полсотни артиллеристов и приказал им прочесать лес и уничтожить вражеских автоматчиков.
14 ноября гитлеровцы по всему фронту армии отошли на новый оборонительный рубеж.
Передышки долгой не делали: в декабре дивизии 5-го гвардейского корпуса наступают на правом крыле Армии вдоль Суражского шоссе. Когда гитлеровцам удается приостановить наступающих, гвардейцев перебрасывают на левое крыло. Бои шли тяжелые, требовавшие от воинов огромного напряжения всех сил. Шкуренко вспоминает, как он, выполнявший из-за ранения должность начальника оперативного отделения дивизии, ночью узнает: ему и командиру полка Шебелеву присвоены звания подполковников. Хотелось обрадовать и поздравить Шебелева, который в эту ночь вместе с командиром соседнего 52-го полка должен был овладеть вражеской траншеей. А в шесть часов утра узнает, что Шебелев и Валевич убиты осколками одного снаряда. Сразу два командира полка.
В эти же последние дни уходящего 1943 года, 26 декабря, вела свой последний бой четвертая рота 875-го стрелкового полка за высоту у деревни Ковшири. Я узнал об этом коллективном подвиге месяц спустя, прочитав в армейской газете «Балладу о двадцати семи» фронтового поэта Аркадия Евсеева. Двадцать семь героев были посмертно награждены орденами Отечественной войны. Десять лет спустя, работая над романом, я не мог пройти мимо этого подвига. Неважно, что мне неизвестны были все двадцать семь фамилий. Ход боя я представлял зримо, хорошо зная и местность, и события, потому что тоже был в те дни на передовой, лишь в трех—пяти километрах правее. Я не мог в романе назвать полк и его командира, подполковника Токарева Тимофея Федоровича, руководившего этим боем. В то время мне было неизвестно, к какому полку принадлежала рота Бесхлебного.
Краеведы 40-й минской школы совершили гражданский подвиг, отыскав родственников погибших воинов, чтобы вручить им награды. Думаю, что заинтересовались этим они не без помощи моего романа, иначе откуда бы появились упоминания об укреплениях «Медвежьего вала». Да и описания самого боя в газете «Красная звезда» за 19 и 20 января 1967 года очень сходны с моими и разнятся разве только фамилиями.
«Ах, зачем вы погубили всю роту Бесхлебного! — писал мне маршал Малиновский Р. Я., когда я, в большой неуверенности, отдал ему свою рукопись на суд. — Вы убиваете у молодого читателя надежду». Я не мог оставить без внимания совет человека, желавшего мне добра, и в романе Бесхлебный, Владимиров, Мазур остаются в строю полка.
Прав был маршал Малиновский: не могла погибнуть вся рота Бесхлебного, хотя на братской могиле в Воронах на плите и выгравированы имена всех двадцати семи. Следопытам удалось установить, что выполз к своим раненый Рапуков, вылечился и до 1963 года жил в Краснодарском крае. Тяжелораненых, истекающих кровью солдат Капинуса и Кобыльченко взяли в плен гитлеровцы. Капинус вскоре умер от заражения крови, а Кобыльченко пережил плен, был освобожден Советской Армией, подлечен в госпитале и жил в Полтавской области, не ведая, что награжден «посмертно». Его вызвали в Минск и в торжественной обстановке вручили орден, пролежавший двадцать три года. Ему и семье Владимирова.
В зимних боях 1943 года была добита 197-я пехотная дивизия противника, обесславившая себя казнью Зои Космодемьянской. Остатки дивизии, сведенные в 197-й фюзилирный батальон, были уничтожены в июне 1944 года. В армейской 28-й танковой бригаде служил брат Зои — Александр, об этом не раз упоминалось в печати. Месть. Правая месть за погибших владела многими.
В первых числах января 1944 года на время смолкли жестокие бои за деревню Синяки — ключевую позицию на левом крыле армии. Ею овладели воины 19-й гвардейской дивизии, об этом писал мне участник тех боев Шахов Василий Кузьмич.
В отражении вражеских контратак гвардейцам помогли танки 28-й бригады, в числе которых был один трофейный «тигр». На его башне было написано «За Угловского!» Это был танк, подбитый бронебойщиком Угловским на Суражском шоссе в декабре, воином 1-го гвардейского корпуса. Анатолию Угловскому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 году я участвовал в подготовке выставки Первого Прибалтийского фронта, и там была выписка из Указа о том, что подбитый «тигр» остается на могиле Угловского как памятник.
Но «тигру» еще предстояло повоевать. Танкисты осмотрели танк и нашли, что ему необходим малый ремонт и можно его использовать. Снарядов к нему достаточно. Они отвели его в мастерские, и на его место поставили другой, подбитый. «Тигр» воевал против, фашистов не только под Синяками, но и в дальнейших сражениях армии. В составе 28-й танковой бригады он дошел до Каунаса. Там след его я потерял. Возможно, красных следопытов этот факт заинтересует и они отыщут тех, кто состоял в экипаже трофейного танка.
Многострадальный город ждал вызволения. Надо было громить врага и далее, а ресурсы гвардейских дивизий были истощены и ждать пополнений не приходилось. Разве только за счет возвращения в строй раненых. Берзарин анализирует ход боев, ищет наиболее эффективное решение и приходит к выводу, что роль пехоты в бою возрастет, если в ее руки передать полковую и дивизионную артиллерию. В каждой из гвардейских дивизий создается по нескольку «огневых групп», начинается их обучение в поле. В состав группы входят стрелковая рота, пулеметы, противотанковые ружья, минометы и несколько орудий, до 122-х миллиметровых гаубиц включительно. Все они подчинены командиру группы — неважно, стрелок это или артиллерист, и должны следовать вместе с пехотой. По замыслу, орудия и минометы должны были надежно прикрывать пехоту от огня противника при бое в глубине обороны, когда обычно пехота лишалась поддержки. Борьба с батареями противника ложилась на плечи армейской артиллерии.
Может быть, в романе и не место для профессиональных вопросов, но я не мог их обойти, ибо каждому из фронтовиков приходилось их решать в своей практике, от их решения зависела в итоге жизнь многих. Командарм Берзарин месяц своей фронтовой жизни отдал этим огневым группам, их сколачиванию и обучению, он ежедневно бывал в войсках, выступал перед сержантским составом, перед офицерами, стараясь довести идею до каждого.
Утром третьего февраля началась мощная артподготовка. Сорок пять минут орудия прямой наводки громили передний край вражеской обороны. Залп «катюш» — и пехота 5-го гвардейского корпуса поднялась в атаку. Пехота беспрепятственно овладела двумя линиями траншей, где все было разметано огнем орудий, и пошла дальше. Артиллеристы катили орудия на руках, стараясь не отставать от стрелков. Глубокий заснеженный овраг позади второй траншеи нарушил слаженность действий: началась долгая переправа орудий, а пехота налегке, без поддержки, ушла вперед и перед артиллерийскими позициями противника попала под жестокий обстрел.
Берзарин сразу понял, где дала осечку идея огневых групп, и уже во второй половине дня гаубицы были сведены побатарейно, чтоб поддерживать пехоту огнем с закрытых позиций. В дальнейшем, в июне того же года, эта же самая задача была успешно решена с помощью самоходно-артиллерийских полков и противотанковой артиллерии на механической тяге, надежно прикрывавших пехоту с первого дня до конца операции.
В пуржливую ночь 16 февраля группа разведчиков и саперов 19-й гвардейской дивизии уничтожила полтора десятка гитлеровцев, оборонявших важную высоту, и захватила там более сотни «скрипух» — реактивных метательных снарядов М-40, снарядов большой разрушительной силы, стоявших наготове к пуску. Саперами командовал гвардии лейтенант Павел Гачегов. Пехота использовала этот успех для продвижения вперед, а Гачегову было приказано перенести все «скрипухи» на левый фланг дивизии и подготовить их к пуску по врагу.
С помощью транспортной роты и роты стрелков саперы лейтенантов Гачегова и Анисимова перевезли эти трофейные мины, установили их на переднем крае, подвели к ним провода, и утром 18 февраля, когда началась артподготовка, по команде «Пуск!» лейтенант Гачегов повернул рукоятку подрывной машины. Со страшным визгом и скрежетом снаряды, каждый в авиабомбу, обрушились на позиции врага.
Все, кто перевозил и устанавливал эти незнакомые трофейные снаряды — и транспортники, и стрелки, и саперы, — подвергались ежеминутному риску: одно попадание вражеского снаряда или мины могло вызвать из-за детонации одновременный взрыв «скрипух», стоявших плотно друг к другу, и похоронить всех. Но люди не думали о себе.
В армии широко применялись ночные внезапные нападения на противника, как правило, всегда успешные. Так разведывательная рота 91-й гвардейской дивизии выбила противника из окопов в районе станции Заболотинка. В этом бою рядовой Григорьев повторил подвиг Матросова — бросился грудью на вражеский пулемет, чтобы спасти своих товарищей. Григорьеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
В середине февраля армия овладела плацдармом на левом берегу Лучесы южнее Витебска и перерезала Оршанское шоссе.
В Витебске, превращенном гитлеровцами в крепость, по приказу Гитлера с каждого солдата была взята присяга, что он будет до последнего патрона биться на позициях, но не оставит города. А город, в результате февральского наступления, был обложен теперь и с юга; у врага оставались только шоссейные дороги на запад и юго-запад. Линия фронта охватывала город огромным полукольцом. Гитлеровцы вынуждены были пойти на частичное ее спрямление, чтобы отдалить угрозу окружения, и 6, 7 марта оставили ряд населенных пунктов перед Витебском — деревни Поддубье, Тишково, Вороны, Дрюково. Гвардейцы активно преследовали противника и вынудили его оставить ряд пунктов и высот в новой линии обороны.
В самую весеннюю распутицу в армию для проверки прибыла большая группа генералов и старших офицеров во главе с новым командующим фронта Черняховским. Вскоре в большом блиндаже штаба армии, в овраге близ Осиповщины, состоялось расширенное заседание Военного совета фронта. Проверяющие докладывали о состоянии войск в обследованных соединениях. После этого Черняховский начал знакомиться с командирами дивизий. Он дотошно вникал в мелочи, которым, казалось бы, не место на таких заседаниях: меню-раскладка для воинов, чем заменяются и в каких количествах недостающие продукты, как инженерные сооружения и минные поля прикрыты огнем, плотность огня, как питаются бойцы в окопах боевых охранений, сколько обуви и одежды нуждается в ремонте... Многих такие вопросы заставали врасплох.
Хотя речь все время шла про оборону, каждый понимал, что Черняховского интересует состояние армии, ее боеспособность для наступления.
В заключение Черняховский произнес небольшую речь, в кот рой дал указания, как совершенствовать оборону, как и чему в дальнейшем обучать войска. Я вел протокол заседания и хорошо запомнил его отточенную лаконичную речь, и она почти дословно приведена в моем романе.
В середине мая армия начала прощупывать силы противника. 158-я стрелковая дивизия провела разведку боем вблизи Лисьих Ям и отбила важную высоту. Вслед за этой разведкой 17-я гвардейская дивизия провела крупный бой за высоту 222,9 неподалеку от деревни Уруб. Две штурмовые роты ночью были введены в окопы боевого охранения, а днем, когда гитлеровцы улеглись отдыхать, на высоту обрушился короткий артиллерийский налет и штурмовые роты бросились в атаку. Противник был разгромлен, и роты начали поспешно закрепляться на высоте. За одну ночь перед позициями было выставлено свыше двух тысяч противотанковых и противопехотных мин. С утра начались вражеские контратаки большими силами. Четыре дня длился ожесточенный бой за высоту. Подполковник Я. И. Ефимов — командир 45-го стрелкового полка, рассказывал, что в критическую минуту, когда бойцы батальона дрогнули и начали было отходить, поднялась девушка-санинструктор Валя Максимова (ее любовно бойцы звали Валей-уралочкой) и с криком «За мной! Женщина впереди, а вы что?!» повела бойцов в контратаку, И противник был отбит. Валю наградили орденом Ленина.
Хотя в 1944 году я служил уже в штабе армии, мне были близки дела 17-й гвардейской дивизии, где я многих знал, потому что прослужил в ней почти три года, с 1939-го по август 1942 года. Знал я и командира дивизии Александра Петровича Квашнина — опытного, в меру осторожного, но решительного, когда приходило время действовать. Он до сего дня остается любимым командиром для ветеранов дивизии.
В дни боев за высоту он находился на наблюдательном пункте, руководя отсюда боем подразделений. В конце недели Квашнину было приказано сдать оборону этого участка другому соединению.
«Ну, думаю, — писал он мне, — хоть отосплюсь за неделю по-человечески. Уехал к себе на КП, а на наблюдательном пункте, как душа чуяла, оставил до утра своего адъютанта. В случае чего, говорю, сразу звони мне. И вот утром слышу артналет и звонок: гитлеровцы контратакуют, сосед оставил высоту!
Переговорил я с Безуглым, с Берзариным, они мне: ничего не поделаешь, придется тебе восстанавливать положение.
У меня близ переднего края находился 48-й гвардейский. Его я и двинул. Правда, артиллерия крепко обработала высоту, и через полчаса мои опять были на ней. Больше гитлеровцы не совались, только по ночам все грозили: «Ну, гвардейцы, мы еще вам покажем...» Да только показали не они нам, а мы им месяц спустя...»
Примерно за двадцать дней до решающего наступления офицеров штаба армии построили на поляне перед блиндажами. Ясный июньский день клонился к исходу, солнце щедро ласкало зелень кустарников и травы. Мы ждем, недоумевая, зачем нужно это построение. И тут показался Берзарин. Рядом с ним шел незнакомый нам генерал-лейтенант в повседневных отливавших золотом погонах, при орденах и медалях, ярко сверкавших на темном кителе, — высокий сухощавый брюнет, обликом похожий на южанина, с вертикальными мазками черных усиков.
— Товарищи офицеры, разрешите представить вам нового командующего! — голос Берзарина взволнованно дрогнул, мне даже показалось, что на глазах его блеснули слезы. Коротко поблагодарив нас за прежнюю службу, он выразил надежду, что мы будем столь же старательно исполнять обязанности и под началом нового командующего. И Берзарин поспешно ушел.
Мы остались с новым командующим генералом Людниковым. Иван Ильич Людников, герой Сталинграда, не производил каких-либо перемещений, ритм жизни не менялся, подготовка к новой операции шла полным ходом. Мне непонятна была причина перемещения командующих, я не мог объяснить ее читателю, поскольку не имел на этот счет под рукой документов, и в романе веду дело так, словно смены и не происходило. К тому же, объяснение причин увеличило бы без нужды объем романа, не добавляя чего-либо существенного. Позднее мы узнали, что Берзарин был назначен на 5-ю ударную армию и его имя упоминалось в связи с Ясско-Кишиневской операцией. Берзарин был первым комендантом Берлина И погиб во время прогулки на мотоцикле вскоре после Дня Победы. В военных мемуарах рассказывается лишь об этом последнем периоде его жизни, и я горжусь тем, что мне удалось в своем романе, хоть и поверхностно, осветить значительный восьмимесячный период его боевой деятельности.
Гвардейские дивизии, назначенные для прорыва, были выведены в ближний тыл для подготовки. Лишь генерал Квашнин командовал 17-й гвардейской с декабря 1942 года, а в 19-й и 91-й гвардейских дивизиях командиры менялись, и перед началом операции ими командовали полковники П. Н. Бибиков и В. И. Кожанов, вскоре получившие звание генералов. Полоса прорыва была намечена левее существовавшего уже плацдарма на реке Лучесе. Три дивизии готовились прорвать гитлеровскую оборону на шестикилометровом участке и затем веером разворачиваться на северо-запад, чтобы у берегов Западной Двины сомкнуться с войсками 43-й армии и замкнуть кольцо окружения вокруг Витебска. Для прорыва создавалась должная плотность огня — сто пятьдесят орудий и минометов на километр фронта. Артиллерийская подготовка планировалась на полтора часа.
Войска не просто ждали дня наступления, они вели настойчивую разведку. За примерами мне не приходилось обращаться к архивам, я многих разведчиков знал в лицо: это и мой однополчанин ПНШ-2 А. Катаргин; и командир разведроты 17-й гвардейской дивизии И. И. Горобец, имевший за войну четыре тяжелых ранения и всякий раз возвращавшийся в свою дивизию; и командир взвода разведки из 134-й стрелковой дивизии В. В. Карпов, и многие другие. Так в марте 1944 года подпольщикам Витебска удалось сфотографировать схему инженерных сооружений противника вокруг Витебска. Нужно было передать эти сведения войскам. Разведуправление фронта поручило выслать в город нашего разведчика. Выбор пал на Владимира Васильевича Карпова — в прошлом чемпиона по боксу Узбекской ССР, имевшего на своем счету десятки «языков», владевшему и немецким языком. Под «сабантуй» — гром артиллерийского налета — он благополучно пересек вражеские траншеи и в форме немецкого солдата на какой-то повозке с возницей-русским добрался до города. На явочной квартире ему вшили в петлицу воротника пленку, и вечером он отправился назад. Двадцать километров по снегу, в обход вражеских батарей и складов, вконец измотали его. И вот последняя траншея, за которой проволочные заграждения и наши. По траншее ходит часовой. Володя залег у бруствера, чтоб ударить рукояткой, пистолета часового по голове и после этого быстро преодолеть траншею и проволоку. Но он вымок и замерз, в усталой руке не оказалось должной силы, и часовой, получив удар, с криком бросился по траншее. Пришлось его пристрелить. Поднялась беспорядочная стрельба. Володя перепрыгнул траншею, достиг проволочного забора, вскочил на проволочную нить, чтобы перешагнуть на другую сторону. И тут, от удара в голову, он потерял сознание. Очнулся от каких-то толчков в бок. Это гитлеровцы подкопали снег под заграждениями и лопатами старались подтянуть его на свою сторону. Собрав все силы, Володя вскочил и во весь дух пустился к своим окопам. Гитлеровцы опешили, а когда пришли в себя и начали стрелять, он был уже в полусотне метров от них и скрывался в кустарниках. Там он снова потерял сознание и пришел в себя оттого, что его перевернули на спину, теперь уже свои разведчики. «Какой-то недобитый фриц», — услышал он. «Я свой. У меня важные сведения. Сообщите в разведотдел», — успел сказать он. Ранение в голову давало себя знать.
За этот подвиг Владимир Васильевич Карпов получил звание Героя Советского Союза.
О подвиге другого разведчика Антона Филимоновича Бондаренко, так же как и о подвиге Карпова, я узнал десятилетия спустя после войны. Бондаренко был командиром взвода разведки в 19-й гвардейской дивизии. Командир полка разрешил ему отпуск, чтобы разыскать родителей в освобожденном Киеве. Уже друзья ему собрали в мешок продукты на отпуск и подарки родным, уже надраены до блеска сапоги и пуговицы. Дело за отпускными документами. Его вызвали в штаб дивизии и вместо отпуска предложили... взять «языка». Неделю он изучал передний край противника в полосе будущего прорыва, объект поиска — пулеметное гнездо. План поиска был разработан до минут. Восемь разведчиков, как в песне, появившейся в то время, лежат в тридцати метрах от пулеметной точки. Вместо двух гитлеровцев в эту ночь возле пулемета — три. Разведчики слышат их веселый разговор, смех, это третий рассказывает, как он провел время в отпуске в Германии. Пулеметные очереди, время от времени посылаемые наугад, свистят над головой разведчиков. Поверь мне, молодой читатель, что невеселое это занятие — лежать под пулеметом, когда любая очередь может стать и последней. Разведчики волнуются, их сотрясает нервная дрожь, но сигнала все нет, словно время остановилось. Наконец несколько тяжелых снарядов падают за окопом, гитлеровцы приникают к земле, а разведчики стремительно бросаются вперед.
Один гитлеровец пытается бежать и получает удар ножом в спину, второй тяжело ранен и умирает на полпути в нейтральной полосе. И только третий жив и с охотой дает показания в штабе. А Бондаренко во время броска получает очередь пуль в ноги, и товарищи выносят его к своим.
Лишь в октябре выходит он на костылях из госпиталя и попадает в Киев, куда собрался было в июне.
За два дня до наступления гвардия занимает скрытно окопы на исходном положении. 23 июня, рано утром, раздается гром артиллерийской подготовки. Сотни орудий молотят по окопам противника. Полчаса. Гитлеровцы не выдерживают огня и бегут. Их замечает пехота, и хотя до конца подготовки еще целый час, батальон гвардии майора Федорова поднимается в атаку. Одновременно с гвардейцами 19-й дивизии поднимается батальон капитана Кутенкова из 17-й гвардейской. Это стихийный порыв бойцов, и командарм Людников дает приказ переносить артиллерийский огонь и поднимать в атаку остальных. Все понимают, что, если дать гитлеровцам даже полчаса, они взорвут за собой мосты через Лучесу и осядут в окопах на ее западном берегу.
Пехота, танки, самоходки идут в атаку. Взвод корпусной разведки под командованием гвардии лейтенанта Марии Бойко нацелен на захват одного моста. В составе разведчиков еще две девушки — Шура Петрова и Клара Архипова. Остальные — молодые ребята.
Взвод стрелков под командой комсорга батальона лейтенанта Михаила Дружинина вырывается вперед и отбивает уже подготовленный к взрыву другой мост. В дальнейшем он вместе с комбатом Федоровым все время в первой цепи наступающих, личным мужеством воодушевляет бойцов. Этот батальон первым прорывается к Западной Двине и замыкает кольцо окружения. Пехота батальонов на плащ-палатках, набитых соломой, форсирует реку Лучесу и гонит гитлеровцев к Замосточью, уничтожая их на пути.
К утру 25 июня гвардейцы 19-й выходят и с боем овладевают деревнями Гнездиловичи и Башилово, перекрывая гитлеровцам пути отхода на запад. С севера к Западной Двине выходят части 43-й армии. Кольцо вокруг витебской группировки замкнуто. Второе, ближнее к городу кольцо замыкают гвардейцы 17-й. После Замосточья командарм нацелил эту дивизию на север, чтобы она отрезала противнику пути отхода. Все четыре дня операции насыщены ожесточенными боями. Гитлеровцы стремятся прорваться из окружения, идут в атаки лавинами, не считаясь с потерями. Но и мужество советских воинов беспредельно. Даже легкораненые из медсанбата 91-й гвардейской дивизии берутся за оружие и под командой замполита подполковника Федора Ивановича Кожевникова идут истреблять гитлеровцев, прорывающихся из окружения. Я знал Федора Ивановича, воина гражданской войны. В составе пулеметной команды он отражал атаки озверелых банд Унгерна под Гусиным озером. С боями он прошел до Владивостока. С поста председателя райисполкома он был призван на Отечественную войну в качестве заместителя командира полка; через полтора года он был ранен и, вылечившись, получил назначение на должность заместителя по политчасти в медсанбат.
Лавиной озверелых гитлеровцев, прорывавшихся из окружения, был смят один из полков 19-й гвардейской дивизии. Командир полковник Скорняков Евлампий Александрович получил в бою четырнадцать ранений. Его подобрала на поле жительница села Дуброво и оказала первую помощь. Командир роты автоматчиков лейтенант Ранченков Михаил Георгиевич был тяжело ранен и притворился убитым. На него дважды наступали гитлеровцы, ходившие по полю и добивавшие раненых.
В братской могиле деревни Дуброво захоронено около пятисот воинов этого полка. Тридцать лет спустя я спрашивал уцелевших, как это произошло. Они отвечали, что в первые же минуты боя оказались без патронов: долго ли в горячке боя расстрелять диск автомата! Бились врукопашную, и уцелели единицы.
На огромной площади, не имея локтевой связи с соседом, героически сражались с врагом воины 39-й армии. Даже дивизии 84-го стрелкового корпуса, под командованием генерал-лейтенанта Е. В. Добровольского, занявшие огромную полосу фронта от Западной Двины до участка прорыва, и те наступали вдоль дорог и оттесняли гитлеровцев в город. В уличном бою сержант Блохин Федор Тимофеевич — командир саперного взвода из 158-й стрелковой дивизии — со своими бойцами уничтожил охрану городского моста в Витебске и предотвратил его взрыв, хотя гитлеровцы уже успели поджечь бикфордов шнур.
Но основной накал боев проходил западнее Витебска. 91-я гвардейская дивизия, овладев Островно, вынуждена была вести бой с гитлеровцами, обернувшись двумя полками на восток, а третьим фронтом на запад, потому что гитлеровцы выходили не только из лесов, но и переправлялись из-за реки Западной Двины, где их теснила 43-я армия Первого Прибалтийского фронта.
Небывалый героизм проявили в этих боях воины 17-й гвардейской дивизии, замкнувшие внутреннее кольцо окружения. 45-й гвардейский полк подполковника Я. И. Ефимова и 48-й — подполковника Д. А. Наталича лишь за один день отразили по полтора десятка вражеских контратак. Если полк Якова Ивановича Ефимова, поддерживаемый танками, удержался на своих позициях, то полк Даниила Андреевича Наталича буквально полег, смятый многотысячной лавиной гитлеровцев, шедших на прорыв с машинами, повозками, орудиями, танками и самоходными установками. Ранен начальник штаба майор Миненко, смертельно ранен майор Сметанин — заместитель командира полка, вставший на место убитого комбата. Когда гитлеровцы подходили к командному пункту, подполковник Наталич поднял в контратаку всех, кто находился с ним рядом. Сделав несколько шагов, он упал, раненный в ногу. Под вражеским огнем к нему подскочил ПНШ по кадрам капитан Е. Н. Бондаренко, сам раненный в руку. С помощью бойца ему удалось на плащ-палатке оттащить Наталича в безопасное место и тем спасти его, хотя при этом Наталич и получил второе ранение в эту же ногу — тяжелое. Капитан Г. С. Голик — парторг полка, исполнявший в этих боях должность заместителя по политчасти — повел уцелевших бойцов и командиров в контратаку и тут же был тяжело ранен в грудь. Его, раненого, подобрали прибывшие сюда, чтобы ликвидировать прорыв, мотоциклисты.
Утром, на пятый день сражения, гитлеровская группировка капитулировала. В плену оказались все генералы во главе с командиром 53-го армейского корпуса Гольвитцером.
За Витебскую операцию звания Героя удостоены были М. И. Дружинин, Ф. Т. Блохин, командир стрелковой роты из 17-й гвардейской дивизии лейтенант И. Т. Краснов, со своим взводом вплавь форсировавший Лучесу, а затем на броне танков громивший гитлеровцев до выхода к Западной Двине; В. С. Сметанин получил это звание посмертно.
Такова, лишь в общих чертах, фактическая сторона дела, которому посвящен мой роман «Медвежий вал». Невозможно в одной книге рассказать о массовом героизме, невозможно назвать всех.
Перед памятью тех, кто сложил свою голову в боях за Отечество, и перед живыми, прошедшими через эти сражения, я чувствую себя в большом долгу, что не сумел как должно, не успел рассказать о их подвиге. А неумолимое время уносит ветеранов и окутывает мглою забвения огневые годы.
Я назвал действительные фамилии многих героев, а что касается остальных, то пусть дотошный читатель не ищет аналог с участниками событий: имена остальных — вымышленные.




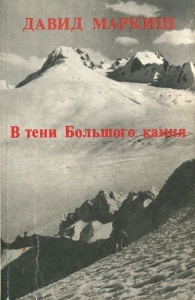


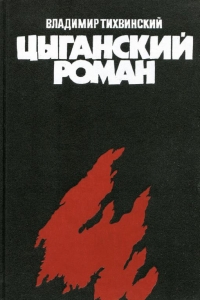

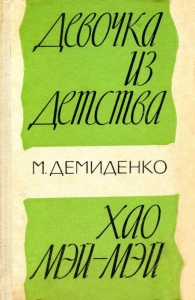


Комментарии к книге «Медвежий вал», Владимир Иванович Клипель
Всего 0 комментариев